Антология советского детектива-18. Компиляция. Книги 1-15 [Дмитрий Анатольевич Тарасенков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Олег Михайлович Шмелев, Владимир Владимирович Востоков Ошибка резидента


КНИГА ПЕРВАЯ
Часть первая
НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО…
Глава 1
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
20 апреля 1961 года в Комитете государственной безопасности было получено не совсем обычное письмо.
Бумага и продолговатый конверт заграничного производства, адрес написан так, как принято в западных странах: сначала учреждение, затем город и страна. Стиль и почерк могли принадлежать человеку, который давно начал забывать русский язык или, наоборот, недавно взялся за его изучение. Опущено письмо в Москве, но все признаки говорили за то, что его отправитель иностранец.
Содержание письма было достаточно серьезным. Неизвестный корреспондент, не ссылаясь на свои источники, писал следующее:
«С уважением, которое Вы заслуживаете, имею честь сообщить Вам одно известие. Вас прошу в его достоверность верить. Думаю, что к Вам будет отправлен южной границей опасный человек с враждебной целью. Имя - Михаил Кириллов. Выше среднего роста, густые черные брови, высокий лоб, нос тонкий, с горбинкой. Пожалуйста. Все. Ваш друг».
Генерал Иван Алексеевич Сергеев и полковник Владимир Гаврилович Марков, прочитав письмо и посоветовавшись, пришли к выводу, что автор заслуживает ответного уважения и доверия, но его сообщение все же требует дополнительной проверки.
Вскоре было получено известие, что одна из западных спецслужб готовит переброску в Советский Союз своего сотрудника, который, по-видимому, должен стать резидентом.
В разведывательной практике подобное происходит не так уж часто, резидент - не рядовой курьер. Был разработан план, первый пункт которого предусматривал встречу гостя еще в дороге, - к сожалению, в данном случае встречаемый не сможет оценить гостеприимство по достоинству, но это не беда. Другое дело, что следующие пункты плана не исключали определенного риска, однако и с этим приходилось мириться. Выражаясь изящно, игра стоила свеч.
Главная роль в предстоящей операции отводилась старшему лейтенанту госбезопасности Павлу Синицыну. Как он сам о себе говорил, «человек с высшим техническим образованием, неженатый», в недалеком прошлом, до института, служивший в пограничных войсках, Синицын поначалу засомневался: сумеет ли? Но Сергеев и Марков верили в его здравый смысл и хладнокровие и придавали немаловажное значение его врожденной способности никогда не теряться.
И вот что произошло однажды в скором поезде Сухуми - Ленинград.
В купе мягкого вагона ехали четверо: пожилая супружеская пара, мужчина средних лет и молодая женщина. Доехав до Армавира, женщина сошла, а ее место занял севший в этом городе новый пассажир. Было 10 часов вечера, никто еще не ложился. Новенький оказался общительным молодым человеком, представился, сказав, что зовут его Павел, по специальности радиотехник, живет в Москве, отпуск проводил на юге, а несколько оставшихся дней хочет посвятить Ленинграду. Он быстро сошелся и с пожилыми супругами, и с близким ему по возрасту мужчиной, которого звали Михаил. Все вместе пили чай, угощая друг друга дорожными припасами, - у кого что нашлось. А потом легли спать.
Рано утром супруги, проснувшись первыми, обнаружили, что один из двух чемоданов у них исчез. И вчерашнего нового пассажира, этого общительного Павла, тоже не было. Они разбудили Михаила. Путем трезвых умозаключений тройственный совет вывел гипотезу: чемодан и Павел не могли исчезнуть друг без друга.
Ничего ценного, кроме фотографий грудных внуков, чемодан в себе не содержал, но все же решено было заявить о свершившемся факте начальнику поезда. На большой станции, где поезд стоял пятнадцать минут, пошли в отдел милиции при вокзале. Принявший их капитан проверил паспорта супругов и их соседа по купе, а отныне свидетеля по делу Михаила Кириллова и, составив протокол происшествия, дал его подписать всем троим. Между прочим, занося в протокол приметы вора, капитан сказал: «Все ясно. Похоже, наш старый знакомый по кличке Бекас. Давно ищем». А когда Кириллов прибавил ко всему прочему и ту подробность, что «гражданин, деливший с нами хлеб и кров, выдает себя за радиотехника», капитан вынул из стола коричневую папку, поглядел в какую-то бумагу и успокоил: «Здесь он не соврал. Правда радиотехник. В прошлом, конечно». Про себя же капитан отметил, что этот Кириллов выражается слишком книжно.
Через сутки Кириллов распрощался с попутчиками и сошел на узловой станции, а супруги поехали дальше в родной Ленинград. Забегая вперед, надо заметить в скобках, что через неделю они были приятно удивлены, получив свой чемодан со всем его содержимым, и с тех пор не могут говорить о милиции без восхищения.
Глава 2 СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА
Поезд пришел в город N поздним осенним вечером. Носильщики, расталкивая на перроне встречающих, бросились к вагонам. Один из пассажиров с чемоданом в руке не спеша вышел из вагона и, отвергнув предложение носильщика, неторопливо зашагал по перрону. Вошел в вокзал, прогулялся по залам, заглянул в киоски и остановился около буфета. Здесь он слегка перекусил и только после этого направился к выходу. На стоянке такси неторопливый пассажир сел в машину. - В центр, - небрежно бросил он шоферу. Машина тронулась. Пассажир достал папиросу, закурил. Равнодушно скользил он взглядом по мелькавшим на улице освещенным витринам. Вдруг знаком руки приказал шоферу остановиться, вышел из машины, несколько минут постоял около обувного магазина. Оглядел витрину, а потом посмотрел вправо, влево. На улице было пустынно. Лишь редкие прохожие стуком каблуков нарушали тишину да время от времени шуршали шинами еще более редкие автомобили. Как бы приняв наконец решение, пассажир снова сел в такси. Не проехав и с полкилометра, он остановил машину и сказал, что хочет расплатиться. Шофер взял деньги и уехал. Пассажир остался один в полутемном переулке. Зажав в зубах папиросу, он достал из кармана спички и, прикрываясь от ветра, обернулся. Внимательный глаз и здесь ничего подозрительного не обнаружил. Пассажир направился к трамвайной остановке, на которой стояли в ожидании несколько человек. Он сел во второй вагон последним и, когда трамвай начал набирать скорость, выпрыгнул из него. Трамвай, не сбавляя хода, продолжал свой путь. Пассажир решительно свернул в переулок и, уже не задерживаясь, зашагал спокойно, фланирующей походкой. Он ходил по улицам еще минут двадцать. Наконец остановился около дома, огороженного высоким дощатым забором, еще раз осмотрелся и только после этого нажал кнопку, торчащую на доске слева от калитки. Во дворе громко залаяла собака. Через несколько минут послышались шаги, и сонный недовольный голос спросил: - Кого тут носит? - Откройте, я техник из горэнерго, - объяснил пришелец. - Чего надо? - Не бойтесь, не съем. Проверка. В вашем районе обнаруживается утечка электроэнергии… Собака все лаяла. - Приходите днем. - Ну что ж, тогда придется сходить за милиционером… Вам же хуже будет. Угроза подействовала. Хозяин дома цыкнул на пса. Калитка отворилась, ночной гость нырнул в темноту двора. Хозяин, быстро закрыв калитку, поторопился вслед за техником из горэнерго. - С проводкой у вас в порядке? - осведомился техник, входя в дом. - Не жалуюсь. - Давайте посмотрим. Поставив чемодан на пол, техник внимательно осмотрел счетчик, потрогал пломбу, вынул блокнот и что-то записал в него. Затем приступил к осмотру проводки, обошел все комнаты - их было три - и, покончив с этим, блаженно развалился на стуле в кухне. Он не стеснялся. Его вид и поведение казались хозяину по меньшей мере неучтивыми. Минуту длилось молчание: хозяин, обиженно насупясь, решил, видно, первым разговора не заводить и начинал посматривать на непрошеного посетителя с тревогой. Техник закурил без разрешения. Ему, кажется, здесь очень нравилось. Он давно заметил неприязнь хозяина дома и как будто даже наслаждался его мучениями. Наконец он нарушил молчание и задал вопрос, который показался хозяину дома просто издевательским: - Ну-с, как поживаете? - Хорошо поживаем. Вы закончили свою работу? - раздраженно осведомился, в свою очередь, хозяин. - Однако вы не очень-то любезны. - Я не располагаю временем для любезных разговоров. Если у вас больше нет ко мне вопросов, не смею вас задерживать, - сухо отрезал хозяин. - Вопросы есть. И немаловажные. - Техник продолжал откровенно издеваться. - Ну, так я слушаю вас. - Хозяин едва сдерживал себя. - Например, вы не знаете, где обитает ныне… - он сделал паузу, - Леонид Круг? При упоминании этого имени у хозяина дома перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, он хмуро произнес: - Такого я не знаю… - Жаль. Мне он очень нужен, - как ни в чем не бывало наивно заметил гость. Хозяин не знал, что делать. Он уставился на техника из горэнерго и недружелюбно молчал. Тогда техник вынул из кармана пиджака зажигалку, демонстративно повертел в руках, как бы любуясь ею, и щелкнул раз, другой, третий. Искры сыпались снопом, но пламя не появлялось. Зажигалка не работала. Техник вопросительно посмотрел на хозяина. Хозяин, не в силах больше сдерживаться, рванулся к технику. - Извините меня, пожалуйста, но вы понимаете… - От волнения он не находил слов. - Давайте знакомиться. Зароков. - И он протянул хозяину руку. - Дембович, Ян Евгеньевич, - вздохнув и улыбнувшись, представился хозяин. - Это ваша девичья фамилия? - Да. - Вы ведь были завербованы еще в сорок первом? - У вас точные сведения. - А с сорок пятого к активным действиям не привлекались? - Нет. - Ну, теперь анабиоз кончился. Я приехал в этот город потому, что здесь есть вы. Кто, кроме вас, живет в доме? - Я холост, - ответил Дембович. - Превосходно. А сейчас спать. Я лягу там. - Зароков показал на комнату, окна которой выходили в сад. Хозяин отправился стелить постель. Гость нетерпеливо следил за его приготовлениями, он чувствовал непреодолимое желание лечь, вытянуться и закрыть глаза. - Меня не будить. В дом никого не пускать. Поговорим завтра. - Спокойной ночи, - произнес почтительно Дембович и вышел из комнаты. Зароков закрыл за ним дверь. Дембович, наблюдая через замочную скважину, видел, как Зароков вяло стянул с себя пиджак, вынул из-под мышки левой руки пистолет, висевший на каком-то хитром приспособлении, сунул его под подушку и, не раздеваясь дальше, рухнул на кровать. Дембович осторожно выпрямился и на цыпочках отправился к себе.Глава 3 БЕКАС
Сегодня вечером шоферу голубой автомашины такси везло. Прошло всего два часа, как он выехал из парка, а сделал десять ездок, и выручка тянула уже на половину плана. Высадив очередного пассажира, он подкатил к стоянке такси, где скучала в ожидании очередь - человек десять-двенадцать. В очереди произошло некое нетерпеливое движение, кто-то кого-то оттеснил, кто-то сказал: «Нахалы, обязательно норовят…» Но шофер не обратил внимания на скандал - все это было ему привычно. На заднее сиденье водворились двое, и мужской голос повелительно сказал: - В ресторан, шеф! В самый лучший, если есть такой в этом богопротивном городе. Не обижу. Шофер обернулся, посмотрел на пассажиров. Голос говорившего показался ему знакомым. Он поправил смотровое зеркальце и внимательно оглядел сначала ее, потом его. Девушка была сильно накрашена и, кажется, грубовата. Лицо мужчины, как и его голос, показалось шоферу знакомым. Он вгляделся и не поверил своим глазам. - Слушай, шеф, мы когда-нибудь поедем? - спросил пассажир. - Минуточку, - трогая с места, ответил шофер. Машина, резко набрав скорость, сделала три громких пистолетных выстрела. На какой-то малолюдной улице остановились. Шофер вышел, поднял капот, снова закрыл, сел за руль, попробовал завести мотор, но ничего не получалось. - Ехали мы, ехали… - усмехнулся пассажир. - Что с телегой? - Не торопись, Бекас. Деньги промотать еще успеешь, - безуспешно терзая стартер, словно между прочим сказал таксист. Пассажир положил руку на плечо своей спутнице, бросил коротко: «Выйди», и, когда она покорно вылезла из машины, тихо спросил: - Откуда знаешь? - Не спеши… - Легавый? - Не спеши… Или забыл? Поезд Сухуми - Ленинград. И чемоданчик славной Антонины Ивановны. - Хочешь сдать? Таксист, полуобернувшись, посмотрел на пассажира насмешливо, потом показал рукой на смотровое стекло. - Вон погляди вперед, что там такое? Пассажир посмотрел. Метрах в двадцати светилась вывеска отделения милиции. Как раз в этот момент из подъезда отделения вышли три милиционера. Они направлялись в сторону такси. - Видишь, я мог бы легко тебя сдать, - сказал таксист сжавшемуся на заднем сиденье пассажиру, когда милиционеры миновали их. - Спасибо, шеф, век не забуду, - успокоившись, вздохнул пассажир. - А теперь двигай. Он приоткрыл левую дверцу, девица села, и машина у таксиста вдруг завелась как ни в чем не бывало. Всю дорогу ехали молча. У ресторана «Центральный» машина остановилась. Раскрашенная девица вышла первой, Бекас остался рассчитываться с шофером. Когда она захлопнула дверцу, они посмотрели друг на друга. Шофер дружески улыбнулся. - Ну что, узнал? - отсчитывая сдачу, спросил он. - Нельзя так пугать человека, - сказал Бекас. - Сдачи не надо… Слушайте, шеф, если память мне не изменяет, вы ехали в Петрозаводск? И зовут вас Миша? - Память у тебя хорошая, радиотехник по чемоданам. Гуляй пока. Может, встретимся. Знаешь, гора с горой… - Семь бы лет тебя не видел! - И Бекас вылез из машины, громко хлопнул дверцей. Михаил не торопился уезжать. Он видел, как Бекас - он же Павел-радиотехник - остановился в нерешительности с девицей у входа в ресторан, как они что-то горячо доказывали друг другу. Во время этого разговора он заметил, что Павел дважды озабоченно и зло посмотрел в его сторону. В конце концов Павел махнул рукой, оканчивая надоевший спор. Девушка заторопилась по улице, а Павел один вошел в ресторан. - Свободен? - услышал Михаил голос нового пассажира. - Еду в парк, - соврал он, быстро развернул машину почти на месте, дал газ так, что колеса в первую секунду провернулись вхолостую, оставив на асфальте черный след, и уехал прочь от ресторана. Павел, войдя в зал, вел себя настороженно. Глядя на него, можно было подумать: вот человек, который ждет какой-то беды. Он занял столик в углу, оттуда хорошо был виден вход. Посетителей в ресторане с каждой минутой становилось все больше. Входили парами, по одному и целыми компаниями. Но один посетитель не мог не обратить на себя внимания Павла. Высокий, чуть полноватый и седовласый, он не вошел, а вступил в зал несколько ленивой походкой. С удовольствием огляделся, и во взгляде его светилась некая приятность, словно все здесь присутствующие были его личными гостями. Когда он приблизился, Павел увидел резкие морщины на его шее. Седовласый опустился на свободный стул за столиком невдалеке и принялся изучать окружение. Павел исподтишка следил за ним. Наконец седовласый остановил взгляд на его столике. Павел тут же уткнулся в меню. Даже постороннему было заметно, что ему не по себе, хотя он и старался сохранять беспечный вид. Оторвав взгляд от меню, он увидел, что седовласый встал и идет к нему. Вот остановился у его столика. - Вы не против, если я составлю вам компанию? - услышал Павел. - Сделайте одолжение. - Павел не поднял головы. Незнакомец поправил полы пиджака, усаживаясь поудобнее. - Вы уже заказали? - Да. Но, кажется, здесь вообще не подают, - ответил Павел. - Старая привычка: в классных ресторанах раньше всегда было принято не спешить. Сосед Павла оказался словоохотливым человеком. Он тоном знатока стал рассказывать, как в прежние времена обслуживали в ресторанах. Все это было несколько старомодно, Павел вежливо и со вниманием слушал. Когда официант принес Павлу закуску, его сосед, не обращаясь к помощи отпечатанного на машинке меню, сделал свой заказ. Павел ел, а сосед посвящал его в традиции ресторанного быта, и голос его звучал почти задушевно. Он был настроен на долгую беседу, а может быть, даже на близкое знакомство. Павел осмелился предложить седовласому рюмку водки. Тот охотно принял предложение. - Вы крайне любезны, молодой человек, ваше здоровье… Люблю это заведение. Только здесь по-настоящему отдыхаешь, здесь чувствуешь себя по-настоящему хорошо после дневной суеты. Они выпили. Седовласый закусывать отказался. - Вы здесь частый гость? - спросил Павел. - А вы разве впервые? - Я транзитом… - Вижу, вы компанейский парень. Давайте в таком случае знакомиться, - предложил он. - Куртис. - Матвеев. - Чем занимаетесь? Павел не ответил. Появился официант с заказом. - Пить так пить, - сказал Куртис, наливая рюмки. - За людей свободной профессии, за тех, кого недолюбливает закон. - Вы принадлежите к их числу? - с некоторым подозрением спросил Павел. - Закону не нравится ваш способ существования? Куртис вздохнул: - О нет! Я вполне лоялен. Получаю пенсию. У меня большой участок - знаете, яблони, картошка, то-се. Сейчас зима, и я совсем свободен. У меня есть сын, работает конструктором на Урале. Помогает, конечно. Но все это не имеет значения… Они пили рюмку за рюмкой. И взаимная симпатия росла. - Значит, вы, молодой человек, проездом? А где же остановились? - уже полупьяным голосом спросил Куртис. - Как видите, пока здесь. А дальше видно будет. - Значит, нигде?… - Куртис как будто был доволен, сделав такое заключение. Заиграл джаз. А когда музыка умолкла, Куртис сказал: - Я гулял по улице и видел, как вы входили в ресторан. Обратил на вас внимание, потому что вы были с очень яркой девушкой. Где водятся такие красавицы? - Ерунда! На вокзале прихватил. Павел вытер губы бумажной салфеткой, помолчал и спросил: - Между прочим, улица Карла Маркса далеко отсюда? - Найдем. Могу помочь. - Видно будет, - неопределенно ответил Павел. Выпили еще. И теперь уже изрядно охмелели. Щедро расплатившись с официантом и стараясь идти прямо, новые знакомые покинули ресторан. Куртис держал Павла под руку. Они искали улицу Карла Маркса. Встречный прохожий объяснил, как лучше пройти, и, завернув за угол, Куртис сказал: - Теперь скоро. Через несколько минут они стояли перед серым трехэтажным зданием. Павел посмотрел на номер дома, огляделся вокруг. - Побудь здесь. - Нет, нет. Я с тобой! - запротестовал Куртис. Они вошли в подъезд, медленно, держась за перила, поднялись на третий этаж, остановились у двери квартиры под номером двенадцать. Павел нажал кнопку электрического звонка. Дверь открылась, и перед ними предстал мужчина огромного роста, лет тридцати пяти. На нем была морская тельняшка. - Мне бы Зудова, - спросил Павел. - Я Зудов, - ответил простуженным голосом человек в тельняшке. - Привет, Боцман. - Привет, - без всякого энтузиазма откликнулся Зудов, оглядывая Павла суровым взглядом из-под густых бровей. - Пройдем? - Валяй здесь. - Разве так встречают гостей? - развязно бросил Павел. - Я привез для боцманской трубки табачку. Вот, держите, Боцман. - И Павел, вынув из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток, протянул его Боцману. Боцман пристально посмотрел на Павла, затем перевел взгляд на Куртиса. - Слушай, детка. Трубку я оставил на память милиции. Отнеси туда и табачок. Чуешь? Павел сунул сверток в карман. В это время открылась одна из дверей, выходящих в коридор квартиры, и оттуда с громким криком выбежал мальчик лет трех. Он споткнулся и упал в ноги Боцману. Боцман подхватил мальчишку. Из этой же двери в коридоре появилась белокурая маленькая женщина. - Уловил? - беззлобно спросил Боцман. - Нетрудно догадаться, - откликнулся Павел. - Еще вопросы есть? - Табачок я по вашей просьбе при случае, может, и правда легавым передам… Сейчас мне нужна хата… Всего на несколько дней. - С кем имею честь? - спросил Боцман, оглянувшись на жену. - Бекаса слыхал? - Приходилось… Все один промышляешь? - Колхоз в нашем деле - могила. - Давно с дела? - без всякого интереса спросил Боцман. - Не имеет значения… Все прояснилось, Боцман. Не поминай лихом. - И Павел, резко повернувшись к Куртису, взял его за рукав и потащил вниз. - Идем ко мне, дорогой Бекас, - сказал уже внизу Куртис, обнимая Павла за плечи. - Никаких разговоров! Едем ко мне. Гарантирую, будешь доволен. И Куртис пьяно облобызал его. В одном из переулков они остановились перед высоким домом, поднялись на четвертый этаж. В квартире, куда попал со своим новым знакомым Павел, никого, кроме маленькой аккуратной старушки, не было. Они сняли пальто. - Располагайся! Будь как дома. Я сейчас. Куртис вышел. Через несколько минут они вдвоем со старухой накрыли на стол. Не нужно было обладать особенной наблюдательностью, чтобы понять, что Куртис проявляет к гостю повышенный интерес. - А все-таки, какая у тебя профессия? - усаживаясь за стол, спросил он. - Радист. - Передаешь или принимаешь? - Всего понемногу, но в основном принимаю… - И получается? - Не всегда ладно… - Вот то-то и оно-то. Одиночка - былинка в поле, подул ветер - и за решеткой. Приходилось? - гнул свою линию Куртис. - Бывало… Не пойму, маэстро, к чему этот допрос? Ты же не поп. Давай без покаяния… - Извини. Хочу помочь. У меня есть надежные люди. Если надумаешь быть с ними, станешь человеком. Павел зевнул и ответил безразлично: - Я и так человек. Даже с большой буквы. - Ну, в таком случае - спать. - Первый раз сказали дельную вещь, маэстро. Куртис встал и вышел. Павлу отвели отдельную комнату. …Утром за столом Куртис, распечатав бутылку водки, вновь вернулся к теме вчерашнего разговора. На сей раз Павел оказался покладистее. Он удовлетворил любопытство новоявленного друга и рассказал все о своей неудачно сложившейся жизни. Куртис слушал, молча и сочувственно посматривал на него. - Да, нелегка твоя жизнь. Ну, что же ты собираешься делать здесь? - спросил Куртис после минутной паузы. - Пока даю показания Куртису. - А если без шуток? - Стерегу одного фраера. Скоро отчаливает. Думаю в дороге перейти с ним на «ты». - Оставь его в покое. Могут найтись более солидные дела. И без разъездов. - Что мне надо, я нашел. И упускать не собираюсь. - Но сколько можно стрелять по воробьям? Пока ты молод, это еще годится. А состаришься? Плохо одному в старости… - Что-то ты мне, Куртис, ребусы подсовываешь, а карандаш прячешь. Нет, пожалуй, лучше в одиночку. Вы хотите, маэстро, чтобы я по утрам снимал табель с одной доски и вешал на другую? А вечером наоборот? В конце концов они договорились, что Павел останется в городе и на время укроется здесь, в квартире этой старушки. Условились встретиться на следующий день. По этому поводу они еще выпили. И через час Павел, пробормотав: «Эх, славно получается!» - подошел к кровати, лег, вяло помахал Куртису рукой и тут же уснул. Куртис, подождав минутку, уложил Бекаса поудобнее и вынул у него из кармана сверток, от которого отказался Боцман. Вместе со свертком он извлек маленький золотой медальон на короткой золотой цепочке - это получилось нечаянно, Куртис случайно мизинцем захватил петлю цепочки.Глава 4 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
У Зарокова был сегодня выходной день, однако встал он рано. Побрился, позавтракал. Несколько раз с нетерпением взглянул на часы. Скоро десять, а Ян еще не вернулся. Что могло случиться? Но раздался добродушный лай собаки, и Зароков вздохнул облегченно. По этому лаю он безошибочно узнавал, кто идет - хозяин дома или посторонний. - В ресторане я его нашел сразу… - раздеваясь на ходу, начал рассказывать Дембович. - Парень стоящий, насилу уломал. Фамилия его, если не врет, Матвеев. Трижды судим. Бежал из колонии. Имел здесь явку, но хозяин завязал узелок. Отец умер в тридцать восьмом, мать пенсионерка, живет в Москве. У него свои счеты с властями. Дорожит свободой, не любит над собой начальства. Придется с ним еще повозиться, но уверен - можно обломать. Отвез к старухе. - Идиот! - вскочил со стула Зароков. - Зачем к старухе?! Такое чистое место! Если он вор - может наследить, провалить квартиру. Лезешь напролом, как медведь… - Но вы же сказали: надо его не упускать. Бекас - свой парень, это сразу видно. А упусти я его - у него там уже готовый клиент. И ищи ветра в поле, - обиженно сказал Дембович. - Не хватало только, Дембович, чтобы вы меня поближе познакомили с контрразведчиками, которые интересуются как раз седыми пожилыми людьми, имеющими подозрительные связи. - Он урка, - уже спокойно, даже вяло, не стараясь уверить, сказал Дембович. - Я знаю их жаргон. Тут невозможно обмануть. - Дембович, Дембович! - покачал головой Зароков. - Блатному жаргону можно выучиться по книгам. У меня даже был один знакомый художник, немолодой человек, который говорил на жаргоне хлеще любого урки. - Он понемногу успокаивался. - Надо быть осторожнее. Можешь обижаться сколько тебе угодно. Но впредь не торопись. А теперь выкладывай по порядку. Как можно подробнее. Обстоятельно рассказав обо всем, Дембович положил перед Зароковым сверток, а сверху аккуратно поместил медальон. - Это было у него. Привез Боцману. Зароков глядел на сверток с поблескивающим наверху медальоном. - Можно подумать, ты в свое время только и делал, что грабил пьяных. Самая неквалифицированная специальность… - Вы же говорили, что при возможности хорошо бы обыскать карманы. - Ну ладно… Зароков развернул сверток. Там был серебряный портсигар с чернью, совсем новый, а в нем серебряные колечки, тоже с чернью, бирюзовые сережки и серебряный браслет - видно, все это из какого-то второразрядного ювелирного магазина. Но золотой медальон - тусклый ромб на тусклой золотой цепочке - был наверняка не из той коллекции. Зароков подбросил его на ладони, спрятал к себе в бумажник. - Портсигар ты ему вернешь. Скажешь, взял, чтобы старуха не соблазнилась. Про медальон ничего не говори. Зароков собрал все в портсигар, завернул его в газету. - Имеет свои счеты с властями, говоришь… Но, боюсь, оплачивает он их не теми векселями, какими ты думаешь… - Но я вас не совсем понимаю. Если вы его подозреваете - зачем он вам? - Мне будут нужны люди. Если этот человек действительно вор, то лучше иметь такого симпатичного вора, чем другого. Радист - это кстати. Дай бог, чтобы мы заполучили натурального урку. Но надо проверить как следует. Узнай, кто такой Боцман. Обо мне, разумеется, ни слова. Ты, надеюсь, настоящей своей фамилии Бекасу не сказал? - Я назвался Куртисом. Старуху предупредил, - отвечал Дембович. - А что за красавица была с ним? - Говорит, на вокзале прихватил. - Ну хорошо. Надо подумать, куда его пристроить. С улицей ему следует кончать. - Устроить на работу совсем нетрудно, были бы документы. - Будут. На этом они закончили разговор. Дембович пошел по хозяйству. …Сам Зароков с помощью Дембовича без особого труда устроился в таксомоторный парк - шоферов там не хватало. Уже через несколько дней он знал почти всех парковских по имени. Увидев за рулем встречной автомашины водителя из своего парка, дружески салютовал ему рукой. Работал Зароков, как и все шоферы, через день. С самого начала он постарался зарекомендовать себя как можно лучше. Не спешил уходить домой после смены, подолгу задерживался в гараже, и не было случая, чтобы он отказался кому-нибудь помочь. Скоро о нем заговорили как о хорошем, отзывчивом человеке. Как-то начальник колонны попросил его принять участие в осмотре послеремонтных машин. О чем речь? С удовольствием. И шофер Зароков в свободное от дежурства время подолгу возился с автомашинами. Правда, существовало и еще одно обстоятельство, из-за которого Зароков с охотой торчал в гараже: ему сразу понравилась диспетчер Мария. Ей лет двадцать шесть - двадцать семь. Высокая. Темные волосы, серые глаза… Словом, Зароков решил поближе познакомиться с диспетчером. И теперь, одевшись, он отправился в парк. В диспетчерской было полно. Неудачно, подумал Зароков, не дадут, подлецы, поговорить. Он громко поздоровался. Свободных стульев в диспетчерской не было. Он прислонился к косяку двери. - Ну вот, еще одна жертва, - громко сказал шофер в серой кепке. Мария сидела за столом и заполняла кому-то путевой лист. Шутка не смутила ее. Однако этот новый парень ей нравился. - Здравствуйте, Зароков, - не поднимая головы, сказала она. - Ого! Персонально! Похоже, что это не жертва, - сказал тот же шутник. - Новички-холостячки берут первенство, нам здесь делать нечего. Пошли, ребята! - поддержал его другой. Кое-кто поднялся, собираясь уходить. Зароков сел на освободившуюся табуретку, вынул пачку «Казбека», стал угощать. - Богато живешь. А мы так «Волну» с перекатом, - взяв папиросу, опять пошутил шофер в серой кепке. - Как дела, ребята? - спросил Зароков, не обращая внимания на «Волну». - Спрашиваешь, будто не знаешь. План везешь - дела хороши, плана нет - переходи на иждивение жены. В это время в диспетчерской появился начальник колонны. Стали расходиться. Зароков пожалел, что и на сей раз разговора с Марией с глазу на глаз не получилось, простился и ушел восвояси.Глава 5 ЗАРОКОВ НЕ ТЕРЯЕТСЯ
Дембович нетерпеливо посматривал на дверь комнаты Зарокова. Завтрак давно был на столе, а тот все не выходил. Он крикнул: - Завтрак остынет! - Зайди ко мне, - послышался из-за двери приглушенный голос. Дембович вошел и недовольно поморщился: накурено так, что щипало глаза и за пеленой дыма Зарокова еле было видно. - Так недолго и дом сжечь. Окурки на полу… - нерешительно, скорее механически, проворчал Дембович, оставляя дверь открытой. - Присядь, разговор есть. Дембович сел на стул. - Вот что, дорогой мой хозяин. Я вижу, вы с большим уважением относитесь к своему желудку. Вы любите вкусные вещи, не правда ли? По этому поводу я хочу рассказать вам один эпизод, имевший место у нас в диспетчерской. Так вот. На днях я дружески болтал с товарищами и, между прочим, угостил их «Казбеком». Они сказали, что я богато живу. Правда, допроса не учиняли, однако намек был недвусмысленный. Как бы это сделать, чтобы у них не возникали разные вопросы?… - Понимаю. Что-то надо придумать, - ответил Дембович. - Подумай, ты же обстановку знаешь. Дембович, помолчав секунду, сказал: - Кажется, надо выиграть. - И, как бы убеждая самого себя, прибавил: - Совершенно правильно, надо выиграть. Скоро розыгрыш. Я знаю. Слежу. У меня есть две облигации. - Не пойму. - По трехпроцентному займу. Надо после опубликования таблицы выигрышей потолкаться в какой-нибудь сберкассе среди счастливчиков и попробовать кого-то осчастливить еще раз. Трудно, конечно. Но если повезет, можно найти человека, который не считает себя жадным, а просто, так сказать, не любит стоять в очереди за деньгами. Он даст вам свою облигацию, а вы ему отдадите деньги, причем его выигрыш будет, конечно, больше, чем значится в таблице. Не ясно? - Просто, но убедительно, - сразу все понял Зароков. - Но будь осторожен. А теперь завтракать… Через три дня после опубликования таблицы выигрышей очередного тиража трехпроцентного государственного займа в красном уголке таксомоторного парка Зароков, понаблюдав минут пять за партией «козла», подошел к столику, где лежала подшивка «Известий», над которой, опершись о стол, склонились двое. Когда они перевернули последнюю страницу, Зароков увидел таблицу и сказал: «О братцы, у меня же облигация имеется. А ну проверим!» Он достал из бумажника единственную двадцатирублевую облигацию, посмотрел на номер, произнес его вслух, и три замасленных указательных пальца побежали по столбикам цифр. - Есть! - воскликнул один из шоферов. - Ты смотри… - удивился другой. Зароков сначала даже не поверил. Он смотрел то на облигацию, то на таблицу. Но сомнений быть не могло: облигация выиграла тысячу рублей. Зарокова поздравляли, кто-то объявил, что с него причитается. Зароков принимал поздравления с растерянным видом, разводил руками, наконец сказал: «Дуракам везет». А потом Зароков пригласил тех двоих, что помогали проверять таблицу, в шашлычную. Вечер в шашлычной прибавил Зарокову популярности в таксомоторном парке. Во-первых, не скуп. Во-вторых, пьет, но знает меру. А Зароков сделал для себя в шашлычной полезное открытие: можно, как сказал один из его новых дружков, ходить на ипподром, на бега. Новичкам в тотализаторе, как во всякой игре, непременно везет. Старые, прожженные тотошники даже специально поджидают их у кассы, чтобы подслушать их ставку и сделать такую же… Зарокову очень понравилось предложение как-нибудь сходить на ипподром… Он собирался наладить свою жизнь в этом городе не на месяц и не на год. На много лет. И он уже избавился от беспокоящего чувства чужеродности в толпе незнакомых людей, жителей этого города. Он чувствовал и знал, что от него уже не пахнет чужаком, когда он едет в трамвае, покупает папиросы в киоске или пьет томатный сок. Самое трудное - жесты, которые были бы естественны, как дыхание, - он усвоил быстрее всего. Может быть, потому, что он все-таки был русский. …В этот свой выходной день он проснулся рано, как всегда, часов в шесть. За окном было еще совсем темно, он нажал пуговку торшера, закурил и взял валявшуюся на полу недочитанную вчерашнюю газету. Почитав и бросив папиросу в стоявшую на стуле пепельницу, задумался. Собственно, если не считать двух специальных заданий, у него нет других забот, кроме одной, самой главной и трудной: пустить корни как можно глубже, сделаться своим среди советских людей, обзавестись полезными для дела связями, стать настоящим Михаилом Зароковым. …Рассвело. Зароков отодвинул штору на окне. На дворе был снег. Солнце только-только вставало где-то за городом, но по тому, как прозрачен был воздух, чувствовалось, что день будет ясный и морозный. Бреясь в ванной перед зеркалом, он соображал, чем бы сегодня заняться. Вспомнил о разговоре в шашлычной насчет ипподрома. Тот парень говорил, что бега бывают по вторникам, четвергам и субботам. Сегодня четверг. Значит, решено - на ипподром. Если бы еще Мария согласилась с ним пойти, было бы совсем как в сказке… Он позвонил ей из ближайшего автомата. - Здравствуйте, товарищ диспетчер. - Здравствуйте, товарищ Зароков! - Голос у Марии был веселый. - Как дела? - Отлично. Только жаль сидеть в помещении в такой день. - Денек хорош. Кстати, что вы делаете после работы? - Не знаю. Планов не строила. - Слушайте, Мария, у меня есть предложение. Вы когда-нибудь на ипподром ходили? - Нет, не ходила. А что? - Давайте сходим. Я тоже никогда не был. Говорят, интересно. - Ну что ж, давайте. Зароков даже сам не ожидал, что его настолько обрадует согласие Марии. - Только надо потеплей одеться. Сейчас градусов пять, но это же будет после четырех вечера, мороз прибавится. Мария отвечала все так же весело: - Не замерзну. - Так где прикажете вас ждать? - Давайте у цирка. Возле телефонов-автоматов. - Я буду там ровно в четыре… В четверть пятого они встретились. Зарокова поразил цвет лица Марии. Свежая и румяная. Как будто не она просидела целый день в прокуренной диспетчерской. Ему было очень приятно, что эта миловидная женщина пришла к нему на свидание так охотно. Зароков остановил такси, заметив по номеру, что машина не из их парка. Через десять минут они были на ипподроме. Он взял билеты на главную трибуну, после недолгих блужданий по переходам они поднялись наверх, туда, где гудела возбужденная толпа. Уже заметно темнело. На кругу перед трибунами включили прожекторы, и они осветили белое поле, белый щит с черными цифрами, и черную ленту дорожки, и столбы. Шел второй заезд. Лошади были где-то на противоположном краю круга. Они встали у колонны в десятом ряду. Зароков спросил у соседа, как пройти к кассам тотализатора, и, оставив Марию, побежал сделать ставку. Он купил наугад десять билетов в «одинаре» - по полтиннику и десять дублей - по рублю. Когда он брал сдачу, на кругу зазвонил колокол, трибуны взорвались тысячеустым криком, и Зароков поймал себя на том, что он совсем забыл о главной причине, приведшей его сюда, что дух игры, азарт, которым пропитан воздух ипподрома, проник в него и завладел им. И ему показалось унизительным разыгрывать перед Марией комедию. Но это было лишь минутной слабостью. Отойдя от кассы, он стряхнул с себя наваждение. Мария смотрела на дорожку, где в ожидании нового заезда взад-вперед бегали размашистой рысью лошади, впряженные в крохотные двухколесные коляски, в которых сидели наездники в разноцветных камзолах, и глаза ее блестели. Зароков, пошутив насчет того, что им, как новичкам, обязательно должно повезти, разделил билеты на две пачки, положил одну в левый карман пальто, другую в правый и сказал, что левая пачка принадлежит Марии, а правая - ему. Дали старт очередному заезду, и трибуны притихли. Зароков держал Марию под руку, искоса поглядывал на нее и молчал. Снова зазвонил колокол, и трибуны снова взревели и вздохнули. Потом опять очередной заезд. И так повторялось раз семь или восемь. Не разбираясь в механизме тотализатора, Зароков решил не вникать в объявляемые по радио и черными цифрами на белом щите номера выигравших лошадей и величину выигрышей. Он сказал Марии, что они узнают обо всем сразу, когда бега окончатся. Все здесь было удивительно и для него, и для Марии. Но самое удивительное произошло тогда, когда Зароков, снова оставив Марию, спустился к кассам, выплачивавшим выигрыши, и разузнал, по каким билетам платят. Оказывается, ему не придется разыгрывать комедию перед Марией: шесть его билетов - два одинарных и четыре дубля - выиграли! Три билета были из левого кармана, три из правого. Выигрыши были одинаковые, потому что и на четырех дублях и на двух одинарных значились одинаковые ставки - так купил Зароков. Зароков встал в очередь сначала к одной кассе, получил по одинарным семнадцать рублей, потом в другом окошке, где народу было значительно меньше, получил по дублям, и эта сумма повергла его в изумление: девяносто шесть рублей! Черт его знает, действительно новичкам везет! На трибуну, где ждала его Мария, Зароков взлетел единым махом. - Вот! - возбужденно воскликнул он. - Мы выиграли сто тринадцать рублей. Хотите - верьте, хотите - нет. Половина ваша. Он помахал зажатыми в руке деньгами. Мария засмеялась, слегка закинув голову, и сказала тихонько: - Нет, нет! Что вы! Я их не покупала. - Но это нечестно! - воскликнул Зароков. - Если уж считаться и быть щепетильным, то я вычту из вашей половины стоимость билетов - три рубля. И ваша совесть спокойна. Но Мария категорически отказалась от денег. - Лучше идемте отсюда. Я что-то начинаю зябнуть. - Она взяла его под руку, и они пошли по лабиринту переходов. - Но если вы откажетесь сейчас пойти в ресторан, это будет несправедливо. Мария сказала: - В ресторан я с вами пойду. Это трудно было объяснить, но три часа, проведенные на ипподроме, и два часа в ресторане сблизили их так, словно они знали друг друга с незапамятных времен. Когда вышли, Зароков спросил: - Почему вы одиноки? Неудачный брак? - К сожалению. Это длинная история… - Я провожу вас. Пошел снег. Крупный, лохматый. И на улицах сразу стало светлее.Глава 6 КВАРТИРАНТ
Квартира, в которой обосновался Павел Матвеев, состояла из двух смежных, соединенных дверью комнат и маленькой кухни. По выцветшим, изрядно замасленным обоям трудно было установить, какой рисунок был на них первоначально. Меблировка разномастная. Квартира имела черный ход. Хозяйка, пожилая женщина, которую уже вполне можно было назвать старухой, впрочем очень подтянутая и живая, держалась с Павлом неприветливо и сухо. На следующий день после той знаменательной встречи явился седовласый Куртис. Павел еще не успел проверить свои карманы и определить, что цело, а что пропало. И был искренне обескуражен, когда Куртис протянул ему бумажный сверток, тряхнув им, как спичечным коробком. - Брали на сохранение? - спросил Павел. - Представь себе… Хозяйка твоя могла бы и не вернуть. Павел пошарил в том кармане, где лежал сверток. - Тут была еще одна рыжая игрушка, - сказал он рассеянно. - Неужели она вам так понравилась? Куртис не понял. - Какая рыжая? - Ну ладно, я вам дарю ее, маэстро, - сказал Павел. Но, увидев, что Куртис вот-вот обидится, поспешил его успокоить: - Не расстраивайтесь, маэстро. Черт с ней. Куртис сказал, чтобы Павел пока не выходил на улицу. Без хороших документов нельзя. - У тебя фотокарточка для документа найдется? - спросил он. Карточки у Павла не было. Куртис вынул из кармана крошечный, не больше спичечного коробка, фотоаппарат, поставил Павла против окна и щелкнул несколько раз. Сказав Павлу: «Ну что ж, живи, отдыхай!», он ушел. …Было ясно, что завязать с хозяйкой дружбу не удастся. Павел быстро сделал и другое заключение: она неотрывно следила за ним. Когда Павлу надоело дышать свежим воздухом только через форточку, он однажды попытался выйти на улицу. Хозяйка загородила ему дорогу и заявила сухим тихим голосом: - Вам нельзя выходить. - А выползать можно? - Нельзя выходить, - бесстрастно повторила хозяйка. - Но в чем дело? - крикнул Павел. - Так велено. «Чем бы заняться?» - думал Павел, усаживаясь на диван. Он оглядел комнату. На стене над комодом висело несколько фотографий. Павел, сидя на диване, начал их изучать. Вот семейная фотография, на ней изображено пять человек: отец, мать и трое детей. В высокой девушке, обнявшей родителей, едва угадывалась хозяйка квартиры. «Красивая была», - подумал Павел. С другой фотографии глядели молодая пара и двухлетний мальчик. Была еще фотография уже старой женщины и молодого человека в матросской форме, как видно, матери и сына. Те порнографические открытки, которые он обнаружил однажды в отсутствие старухи у нее в столе, к семейным фотографиям явно не относились. Можно было только удивляться, с какой стати старушка держит их. В соседней комнате, куда вела внутренняя дверь, стояли кровать хозяйки, шифоньер и трюмо овальной формы со всевозможнымималенькими ящичками и полочками. Против кровати разместился кованый сундук, покрытый домотканым красно-черным ковриком. Биографию старухи трудно было себе представить. Может быть, думал Павел, у нее в жизни произошла какая-то трагедия. Как говорится, жизнь не получилась, и женщина обозлилась постепенно на весь белый свет. Кто ее знает? Одно только Павел понимал ясно: старуха зависит от Куртиса и потому так предана ему. Прошло три дня затворнической жизни. Никто больше Павлом не интересовался. Куртис не появлялся. Впрочем, не это волновало Павла. Больше всего тяготило непривычное безделье, и было противно оттого, что хозяйка, уходя из квартиры, каждый раз с особой тщательностью запирала двери. Павел оказывался тогда на положении заключенного. Он скоро усвоил распорядок этого дома. Старушка готовила ему еду. По звону посуды Павел определял, что обед подан, и, не ожидая приглашения, шел на кухню и садился за стол. Хозяйка была неизменно молчалива и неприветлива. Как-то, отдыхая после обеда, Павел почитывал потрепанную, без начала и конца, книгу, изданную, вероятно, в прошлом веке. В ней повествовалось о любви и загробной жизни. Захотев пить, Павел встал, вышел на кухню. Старухи не было. Он подошел к другой комнате, открыл дверь. И там ее не было. Павел направился к входной двери. Она была заперта только на французский замок. Второй запереть старуха забыла. «Это уже прогресс», - сказал он. Быстро пошел в комнату старухи, открыл шифоньер, порылся в белье, достал деньги - он однажды подсмотрел, куда она прятала свою наличность. Оделся и вышел на улицу… Вернулся он поздно. Старуха встретила его злым взглядом. - Вор несчастный, - только и сказала она. Павел пробормотал в ответ что-то невразумительное. …Однажды - это произошло в субботу утром - явился Куртис. Он был в новом пальто, на голове водружена пышная светло-коричневая шапка, а когда он разделся, оказалось, что и костюм на нем новый. Вид у Куртиса был здоровый и свежий. Павел, обрадованный его приходом, обнял Куртиса, а потом стал вертеть его из стороны в сторону, осматривая костюм, пощупал борта пиджака, потрогал плечи. - Неплохо прибарахлились, - сказал он, закончив осмотр. - Я уже стар, дорогой мой, - отвечал Куртис со вздохом. - Так пусть хотя бы одежда будет новой. Как дела? - В тюрьме намного веселей. Куртис подавил улыбку. Ему нравился этот парень, всегда готовый пошутить. Куртис знал все, что касалось поведения Павла, - хозяйка квартиры время от времени докладывала ему. Состояние подопечного легко можно было понять. - Ну ничего. Скоро все переменится, - сказал Куртис, садясь к столу. - У тебя паспорт есть? - Что за вопрос? Павел достал из кармана брюк паспорт и протянул его Куртису. Куртис с интересом взял, открыл корочку, и брови у него поползли вверх. С фотокарточки на Куртиса смотрела его собственная физиономия. - Дембович Ян Евгеньевич. Время и место рождения - 18 июля 1901 год, город Херсон, - машинально вслух прочел он. Растерянно посмотрев на ухмылявшегося Павла, быстро сунул руку во внутренний карман своего пиджака и все понял. - Когда же ты успел? - искренне удивленный, спросил Куртис. - Ловкость рук! - Павел рассмеялся, но тут же, прищурив левый глаз, прицелился в Куртиса указательным пальцем, как прицеливаются из револьвера. - Я вас поймал, маэстро. Значит, или вы не Куртис, или эта ксива не ваша. Куртис колебался лишь секунду. Еще раз посмотрев на паспорт, он спокойно объяснил: - Застарелая привычка… Всегда полезно иметь запасной документ. - Ладно, не оправдывайтесь. Оставайтесь Куртисом. Но в следующий раз будьте осторожнее. - Урок пойдет мне на пользу, - сказал Куртис. - Но теперь к делу. Дай твой собственный паспорт. Павел достал из висевшего на стуле пиджака потрепанный документ. - Вот, прошу. - Почему чужая фамилия? - спросил Куртис, заглянув в паспорт. - Ты же Матвеев, а тут… - Моя настоящая фамилия мне теперь ни к чему. А это я позаимствовал у одного несознательного гражданина. - Но как же фотокарточка? Ведь здесь твоя? - Имеем опыт. Правда, я был тогда немного помоложе, - объяснил Павел, и непонятно было, к чему относится это «правда» - к опыту или к его изображению на фотокарточке. - Чистая работа, - сказал Куртис. - Паспорт я у тебя возьму. - Другой бы спорил… Куртис изменил тон, стал совсем серьезным. - Вот тебе новый на имя Корнеева. Павел взял протянутый паспорт. - Корнеев так Корнеев. Куртис положил на стол узенькую полоску бумаги. - Дальше. Вот адрес. Ты послезавтра пойдешь туда и обратишься в отдел кадров. Постарайся устроиться на работу, не отказывайся ни от какой. Места у них там должны быть. - Хорошенькое дело… - Подожди, не перебивай. На столе появилась трудовая книжка. - Возьми это. Без нее нельзя. Как следует запомни все, что здесь написано, а то будешь путаться. Павел поморщился. - Вы хотите сделать из меня ударника коммунистического труда? Маэстро, я же вор, мне работать нельзя. - Надо работать. Для твоей же пользы. Нелегально долго не проживешь. А потом не беспокойся, дело найдется. Павел раскрыл трудовую книжку, стал читать, и лицо у него сделалось кислое. - Веселая жизнь была у этого Корнеева… Грузчик, истопник, разнорабочий какой-то… Не могли придумать что-нибудь поинтереснее? - Ты же сам говоришь - работать не привык. Что ты умеешь? - Когда-то я действительно прилично знал радиодело. - Когда-то! - передразнил Куртис. - Спорить тут нечего. Надо поступать на работу. Деньги у тебя есть? - Ни копейки. - На вот двадцать рублей. - Благодарю. Павел полистал паспорт, увидел штамп прописки. - Прописан я здесь? - Да. - В таком случае пусть старуха перестанет глядеть на меня как солдат на вошь. Я законный жилец. - Имей в виду, ты ей приходишься племянником. Приехал из Минска на постоянное жительство… Полагаю, с племянником она будет вести себя иначе. - Больше вопросов нет. Могу я пойти погулять? - Конечно. Павел заторопился как на пожар - до того ему хотелось побыстрее глотнуть свежего воздуха. Куртис посматривал на него с понимающей улыбкой. Одевшись, Павел подошел к двери кухни, приоткрыл ее, крикнул: «Привет, бабуся!», сделал Куртису прощальный жест и выбежал вон из квартиры. Дембович позвал хозяйку. Она вошла. Все на ней - от мягких суконных тапочек до платка - было аккуратное, чистое. - Садись. Что нового? - Что же нового? - нехотя отвечала она. - Я вам уже говорила… Очень любопытный, всю квартиру обшарил, во все углы нос сунул. Что ни подложишь - осмотрит, обнюхает… Монеты золотые нашел… Перекладывал… одну взял… карточки эти, что вы мне дали, десять раз рассматривал… Я знаю: он жулик. Украл у меня тридцать рублей. Забыла двери запереть - ушел… Явился пьяный… Нехороший он… Жулик. - Определенно жулик, - задумчиво произнес Дембович. - Не спрашивал обо мне, кто я? - Нет. - Ну хорошо, - после короткой паузы сказал Дембович. - Теперь он твой родственник. В домоуправлении все устроено официально… Вещи его осмотрела? - Нет. - Надо осмотреть. - Не было подходящего случая. Раз ночью я входила, но не решилась. Спит чутко. - Надо поторопиться. - Дембович достал бумажник, вынул из него белую таблетку. - Вот снотворное - всыплешь в водку.Глава 7 ОБЫСК
На следующий день Павел опять захотел погулять. Было без пяти минут двенадцать. Выбежав из парадного на улицу, он застегнул пальто, поглядел на низкий белый потолок облаков, с удовольствием вдохнул густой влажный воздух оттепели и зашагал к центру. Сначала он медленно шел по улице, с интересом разглядывая встречных, автомобили, витрины. Если бы кто-нибудь посмотрел на него со стороны, всякий подумал бы: вот беспечный человек, вполне довольный жизнью. И это было бы совершенно неправильно. Павел, отойдя от своего дома на порядочное расстояние, решил проверить, нет ли за ним слежки, и пошел быстрее. Установить, следят за тобой или нет, может быть очень трудно или совсем нетрудно. Все зависит от того, кто следит, от его остроумия. Ну и, конечно, от внимательности выслеживаемого. Пока Павел шагал к центру, облака немного разрядились и солнечные лучи, чуть рассеянные, пробились через них. Подойдя к площади, где был универмаг, он увидел зеркально блестящие витрины магазина, расположенного напротив универмага. Они чисто отражали красный цвет шедшего по той же улице вдогонку Павлу трамвая, а его черный номер - тройка - был в зеркале витрины четкой заглавной буквой Е. Павел завернул за угол универмага и тут же остановился. Витрина во всех подробностях отражала кусок той самой улицы, по которой он только что шел. Через несколько секунд он увидел в витрине Куртиса. Павел закусил губу, соображая, как вести себя дальше, и озорная мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на уличные часы. Времени было пять минут первого. Павел широким шагом пересек площадь и направился к вокзалу. С полчаса он толкался среди пассажиров в зале ожидания. Потом сходил в зал билетных касс. Потом заглянул в ресторан, но раздеваться не стал, а повернулся и направился в буфет. И все время он чувствовал у себя за спиной Куртиса. Выпив в буфете бутылку пива, Павел покинул вокзал и начал долгое блуждание по городу. Он садился в трамвай, проезжал две или три остановки и сходил. Рассматривал витрины, заходил в магазины, приценялся к вещам, на которые у него не имелось денег. Дважды он делал попытки залезть в сумочки разгоряченных покупками женщин, но, конечно, неудачно. Потом сел в такси, проехал на шестьдесят копеек, расплатился возле кафе и зашел в него. Просидел он целый час, а меж тем на улице пошел снег пополам с дождем. Пообедав, Павел покинул кафе и пешком отправился в центр. Когда он подходил к универмагу, на часах было половина шестого. Пять с половиной часов Куртис мотался за ним по пятам, как послушная собака. В его-то возрасте! Наверно, долго помнить будет. Павел чувствовал себя отлично - он-то пообедал, - и ему было весело, когда поднимался по лестнице на четвертый этаж. Хозяйка, как ни странно, действительно непонятным образом переменилась. Она встретила его нельзя сказать чтобы приветливо, но не стала, как делала всегда, запирать входную дверь и прятать ключ в карман. Павел еще больше удивился, когда услышал: - Еда на кухне в шкафу. В графине есть водка. - И, поджав губы, прошаркала в свою комнату. Наутро хозяйка сама разбудила его - тоже знак перемены в ее отношении к постояльцу. - Пора вставать, - ворчливо сказала она, когда Павел открыл глаза. - Что, нарушаю санаторный режим? - спросил Павел. Она промолчала. Павел быстро собрался, умылся, пошел на кухню завтракать. Позавтракав, решил, что не лишним будет попривередничать, показать характер: - Слушайте, бабушка, где жалобная книга? Плохо кормите. - Ты и этого не заслуживаешь, - ответила хозяйка. - Справедливо, - сказал Павел. - Пошел заслуживать. Мое вам… Изумлению Павла не было конца, когда хозяйка дала ему два ключа на железном колечке, сказав: «От входной двери». Он отправился по адресу, который дал ему Куртис, - это оказался хлебозавод. В отделе кадров молоденькая курносая девушка-инспектор приветливо предложила ему должность разнорабочего. В его обязанности, объяснила она, будет входить погрузка хлеба в автофургоны. Павел почесал за ухом и согласился. К работе можно было приступать хоть сейчас, не дожидаясь официального оформления и приказа. И Павел тут же приступил. Целый день он грузил ящики со свежим, только что выпеченным хлебом в фургоны. Он отнюдь не был хлипким, двухпудовая гирька когда-то летала в его руках, как детский резиновый мячик. Но с непривычки Павел намотался так, что домой ехал совсем разбитый. Болели руки, ноги, ныла поясница. Медленно поднявшись по лестнице и войдя в квартиру, он разделся, повесил пальто и кепку на вешалку и хотел сразу идти в ванную, но хозяйка, выглянув из своей комнаты, сказала: - У вас гость. В его комнате на диване сидел с газетой в руках Куртис. - А, передовик производства! - приветствовал он Павла. - Рассказывай, как дела. - Минуточку, маэстро, - устало сказал Павел. - Смою трудовой пот. Встал под холодный душ, потом растерся жестким мохнатым полотенцем. Выходя из ванной, он уже совсем не ощущал усталости. Куртис ждал с нетерпением рассказа о прошедшем дне, и Павел не стал испытывать его терпения, отказавшись на этот раз от своих обычных шутливых отступлений. Куртис остался доволен рассказом. Скоро хозяйка пригласила ужинать. Они перешли в кухню. - Надо обмыть назначение, - потирая руки и усаживаясь, сказал Куртис. На столе стояли хрустальный пол-литровый графинчик, полный водки, и распечатанная бутылка коньяку. В вазе был салат, на маленьких тарелках лежали колбаса, сыр, заливной судак, чернела баночка зернистой икры, овальный соусник доверху был полон кругленькими тугими маринованными помидорами - в общем, было чем закусить. - Сразу видно, бабушка уважает работящих людей, - заметил Павел. Через полчаса Павел почувствовал, что его клонит в сон. Он подумал, что все-таки тяжелая физическая работа для непривычного человека - это тебе не утренняя физзарядка, и сказал об этом вслух, прибавив: - Я, кажется, расклеился. Надо спать. - Ну, тогда будь здоров! Я с полчасика еще посижу и поеду к себе. Завтра увидимся. У Павла, казалось, уже не ворочался язык. Он только покачал головой и побрел из кухни, так неуверенно ступая, словно ноги у него сделались вдруг ватными. Посидев минут пятнадцать, Куртис поднялся, заглянул в комнату Павла. Тот спал вниз лицом, свесив к полу безжизненную правую руку. Пиджак висел, как всегда, на спинке стула, брюки валялись скомканные рядом со стулом. Куртис хотел тут же войти и взять вещи Павла, но счел, что лучше это сделать хозяйке. Старуха в своих мягких суконных тапочках неслышно вошла к Павлу, взяла пиджак и брюки и вышла. Ян Евгеньевич, нетерпеливо ждавший на кухне, положил брюки на сундук и начал обыскивать карманы пиджака. Он вынул уже знакомый ему сверток с побрякушками, от которых отказался Боцман, пачку сигарет «Шипка», записную книжку в зеленом ледериновом переплете, некий предмет, представлявший собой увесистый, в полкилограмма, стальной шарик, обернутый в толстую лоснящуюся кожу, прикрепленный к гибкой ручке из китового уса. Ян Евгеньевич разложил все это на сундуке и начал просматривать записную книжку. Хозяйку же почему-то заинтересовал тяжелый предмет. Она взяла, взвесила его на руке и спросила в недоумении: - А это что? - Кистень, - сердито ответил Ян Евгеньевич, листая странички записной книжки. Хозяйка, помолчав, снова задала вопрос: - Для чего это? - Чтобы бить людей по голове, - уже совсем раздраженно объяснил Ян Евгеньевич. - Не задавай глупых вопросов, Эмма, мешаешь. Хозяйка испуганно положила кистень на сундук и отошла в сторону. Ян Евгеньевич долго и внимательно изучал записную книжку Павла. Здесь было несколько адресов, телефонов, причем постороннему человеку оставалось непонятным, каким городам принадлежат эти адреса и телефоны. Было также множество невразумительных заметок. Там, где кончался алфавит и начинались чистые листы, Ян Евгеньевич обнаружил маленькую, сделанную для документа фотокарточку пожилой женщины. Невеселый взгляд, чуть наморщенный лоб, прическа гладкая с пробором посредине. Он быстро переснял маленьким своим фотоаппаратом карточку женщины, а затем все записи и заметки записной книжки Павла.Глава 8 МАРИЯ ПОЛУЧАЕТ ЗАДАНИЕ
Ровно через неделю после первого, столь удачного похода на ипподром Зароков снова пригласил Марию съездить посмотреть на лошадей и попытать счастья в тотализаторе. Все было так же интересно и красиво, как в прошлый раз, - все, кроме одного: хотя он опять накупил кучу билетов, потратив тридцать рублей, выигрыш составил смехотворную сумму - всего два рубля семьдесят копеек. Зароков забыл, что он уже не новичок на ипподроме, и, ничего не поделаешь, теперь уже ему придется разыгрывать перед Марией идиотские водевили под названием «А я опять выиграл!». Однако он не опасался, что Мария заметит фальшь: он давно понял, что Мария наивна и доверчива, хотя на первый взгляд кажется многоопытной, искушенной в жизни женщиной. Вот и сейчас, выслушав сообщение, что они снова выиграли кучу денег, Мария рассмеялась как ребенок, она радовалась гораздо больше Михаила, хотя взять свою долю опять отказалась. Потом они поужинали в кафе, и, как в прошлый раз, он проводил Марию до дому. В гости не напрашивался, решив подождать, пока она пригласит сама, - он был уверен, что этот момент не так уж далек. С тех пор они стали видеться чаще. В свои выходные дни Зароков был свободен только до четырех часов, а в четыре отправлялся встречать Марию. В таксомоторном парке многие уже давно разглядели истинные отношения Зарокова и Марии, и они с молчаливого обоюдного согласия не очень стали маскировать свои свидания, встречались без опаски совсем близко от парка, а однажды Зароков просто зашел за Марией в диспетчерскую. Постепенно даже самые неугомонные остряки прекратили отпускать шуточки в их адрес. Все видели, что отношения у них серьезные. Раз в неделю они обязательно посещали ипподром, и Зароков обязательно исполнял свою хорошо отработанную роль, варьируя только сумму и в соответствии с нею степень своей радости. Часто ходили в кино. По воскресеньям же, если он не работал, покупали билеты в какой-нибудь театр. Зароков нравился Марии все больше и больше. Она сразу, с первых дней работы Михаила в парке, выделила его. Михаил казался умнее и интеллигентнее всех других шоферов. Был неизменно вежлив и спокоен, никогда она не услышала от него скверного слова. Понимал хорошую шутку и сам умел шутить. А когда они стали встречаться, Мария к тому же увидела, что он не жадный. Михаил понемногу рассказывал ей о себе, но никогда особенно не расписывал свою биографию, и это тоже нравилось Марии. Из его отрывочных рассказов, всегда к месту в разговоре, Мария узнала, что он рано осиротел, что у него где-то должна быть сестра, которую он очень любил и любит и которую потерял во время войны. Он был в плену, числился пропавшим без вести. Потом бежал из плена, опять воевал. И по тому, как Зароков, вспоминая свою жизнь, хмурил брови, Мария догадывалась, что ему тяжело перебирать в памяти события минувших лет. Она даже жалела его в такие минуты, хотя он всем своим обликом и характером менее всего походил на человека, нуждающегося в жалости. Он ни разу не позволил себе сказать о том, что Мария ему нравится. Но об этом и не надо было говорить, она и так все видела. Новый, 1962 год встречали у ее подруги Лены Солодовниковой. Компания собралась пестрая, но Зароков нашел общий язык со всеми, и так как он был старше других, то скоро завладел общим вниманием и стал вроде бы не гостем, а хозяином. Лена работала библиотекарем и была тихой и спокойной девушкой, потому с удовольствием уступила Зарокову командный пост. А Марию она просто поразила, когда, вызвав ее посреди шумного пира в коридор, восторженно и горячо начала поздравлять подругу с тем, что у нее такой «великолепный возлюбленный». Это, конечно, польстило Марии, и она скорее для приличия, чем чистосердечно, возмутилась: «Что ты, Ленка, какой же он возлюбленный?» Одним словом, Марии не было необходимости прислушиваться к своему сердцу, чтобы узнать, что в нем происходит. Она не строила никаких планов на будущее в расчете на то, что Михаил Зароков вдруг возьмет и сделает ей предложение. Но ей приятно было сознавать, что такая возможность не исключена. Новогодняя ночь у Лены - компания веселилась до утра - окончательно их сблизила. Утром, когда расходились, все попрощались с Марией и Михаилом за руку, и Марии лестно было видеть, что буквально все глядят на него с неподдельным восхищением. Они пешком добрались до ее дома. По дороге договорились, что сегодня надо как следует отдохнуть, потому что и ему и ей завтра выходить на работу. У подъезда Михаил в первый раз поцеловал ее. На следующее утро в восемь часов, выписывая ему путевку, Мария была в прекрасном настроении. А в два часа дня, когда Зароков заехал в парк, чтобы исправить мелкую неполадку в счетчике, и, пока механик возился в машине, заглянул в диспетчерскую, Мария сидела грустная, как будто произошло несчастье. - Что случилось? - склонившись над столом, вполголоса спросил он. - Понимаете, Миша, расстроилась я. Сейчас был разговор с начальством, они хотят, чтобы я свой отпуск за прошлый год взяла сейчас же. Я рассчитывала соединить за тот и за этот вместе и отгулять в сентябре, но ничего не получится. У моих сменщиков так составлен график отпусков, что… - И это все? - спросил Михаил. - Понимаете, я так рассчитывала… Михаил весело усмехнулся. - Есть из-за чего убиваться! По мне, отдыхать всегда хорошо. - Но куда я зимой денусь? Путевку в дом отдыха купить уже не успею… - Вот что. Завтра встретимся, что-нибудь придумаем. Когда надо уходить в отпуск? - Уже отправили приказ машинистке. Через пять дней. - Ну, не расстраивайтесь. Придумаем что-нибудь… …На свидание Зароков пришел с готовым планом. То, что он собирался предложить Марии и о чем хотел ее просить, выглядело совершенно естественно, по-житейски понятно и уместно. Больше того: главное - его просьба будет, наверное, воспринята всего лишь как благовидный предлог, который позволит Марии без особых усилий справиться с самолюбием и принять его дружеское предложение. - Вчерашняя хандра прошла? - весело встретил он Марию, видя, что она совсем не хмурая. - В конце концов надо же кому-то пойти в отпуск и в январе, правда? - сказала Мария. - Что будем делать? - Давайте погуляем, пока не замерзнем, затем где-нибудь посидим, пока не отогреемся, а потом - воля ваша. Он взял ее под руку. Они шли, слушая, как скрипит под ногами свежий сухой снежок. Зимние сумерки сгущались, фонарей еще не зажгли, и улицы с усыпанными снегом ветвями черных лип, решетками скверов, карнизами зданий на несколько минут стали похожи на гравюру. Но загорелись молочно-белые плафоны фонарей, и все изменилось. Где-то в переулке послышались крики мальчишек, где-то вдруг заливисто зазвонил трамвай. Казалось, вместе с электрическим светом разом ожили звуки притихшего было города. - Так я, кажется, придумал… - начал Михаил. - Вы когда-нибудь в Москве бывали? - Два раза, но проездом - с вокзала на вокзал. Можно не считать. - Почему бы не съездить как следует? - Что вы! На такую поездку у меня нет денег. В Москву надо очень много. Одна дорога… Михаил перебил ее: - Но слушайте, Мария, пусть эта поездка будет вам подарком от меня. Я сейчас просто набит деньгами, и они же, вы знаете, шальные, достались случайно. Она взглянула на него как-то рассеянно. - Нет, нет, слишком дорогой подарок. К таким подаркам я не привыкла. - Хорошо, - попробовал он с другого конца, - возьмите у меня в долг. Я подожду, пока вы не разбогатеете. Ведь на десять дней житья и на дорогу много ли нужно? Сто, ну сто пятьдесят рублей. - В долг брать я тоже не привыкла. Михаил был почти обижен. - Ладно, в таком случае я открою вам один секрет. Можно считать, что это останется между нами? Мария пожала плечами. - Зачем вы спрашиваете? Да и кому мне передавать секреты? Разве что Ленке… - Слушайте, Мария, - наклоняясь к ней поближе, начал Зароков. - Я расскажу одну историю, не очень длинную, а потом попрошу вас об одолжении, но, прежде чем соглашаться или отказываться, попробуйте понять меня. Это не так уж трудно. Он сделал паузу, пока они переходили через оживленный перекресток, и продолжал: - Во время войны у меня был друг, звали его Павел Матвеев. Мы долго, почти полгода, служили в одной части. Для передовой полгода - это, поверьте, большой срок. Это было в сорок третьем, уже после того, как я побывал там, у немцев. И носил я в то время не свою настоящую фамилию. Под настоящей после плена можно было угодить… ну, знаете сами, наверное, что иногда случалось с бывшими пленными во время войны… Так вот, этот Павел Матвеев был единственный человек, который знал, как меня зовут на самом деле. Он закурил, затянулся несколько раз подряд. - В одном бою, уже далеко за Днепром, его ранило. Ранило тяжело, в живот. Я был возле него, когда Павла отправляли на грузовике в тыл. Фельдшер, который ехал с ним, сказал, что скорей всего Павел не выживет. Наверное, так думал и он сам, потому что, когда мы прощались, он отдал мне золотой медальончик на цепочке и свою небольшую фотокарточку. И просил сохранить, а если что - передать на память матери. И то и другое у меня сохранилось, я вам потом покажу. Михаил опять прервал себя на людном перекрестке. - После войны все у меня так закрутилось, запуталось, что ехать в Москву искать Павла или его мать - времени не было. Да, я, кажется, забыл сказать, что Павел - москвич. Ну вот. Да к тому же у меня и своя забота была - разыскать сестру. Ее-то я искал, конечно, но тоже не нашел. Может, вышла замуж, сменила фамилию. Одно только я узнал: из Горького, где мы жили с ней вдвоем перед войной и откуда я призывался в армию, она уехала еще в сорок пятом, в феврале, а куда - никто не мог сказать. Адрес Павла я знал. Начиная с сорок восьмого писал раз шесть или семь, но ответа не получал. И мои письма обратно тоже не приходили. Я уж думал - может, их дом сломали? Но этого не может быть, тогда бы мои письма возвращались. Значит, что-то не то… На будущее лето я наметил, что обязательно съезжу в Москву, попробую разыскать или узнать, в чем дело. А тут вот ваш неожиданный отпуск. Я и подумал - попросить бы вас… После, спустя много времени, Мария и сама удивлялась, как это она с такой легкостью, даже с энтузиазмом согласилась на предложение Михаила. Но тон его был настолько искренен, а задача помочь двум друзьям снова найти друг друга показалась ей столь благородной и трогательной, что вся щепетильность и соображения самолюбия улетучились. Они не пошли отогреваться ни в кафе, ни в ресторан. Мария просто, как будто делала ему такие предложения каждый вечер, сказала: - Знаете что, давайте купим конфет и пойдем ко мне. Будем пить чай. Наконец, почувствовав вдруг, что озябли, они зашли в продовольственный магазин. Там Зароков готов был закупить чуть не полмагазина, и Марии пришлось все время его останавливать. Но все равно пакет, который им соорудили в отделе упаковки, получился громадный. Комната Марии сразу понравилась Михаилу. Ничего лишнего. И очень уютно. Пока Мария снимала пальто, развязывала косынку, он стоял со свертком в руках, глядя на нее. Она подышала на покрасневшие ладони, посмотрела, как он стоит с тяжелым свертком, и рассмеялась. Через четверть часа им было приятно взглянуть на стол и на самих себя за этим столом. Фарфоровый чайник с заваркой, поставленный на блестящий чайник с кипятком, шумел почти как настоящий самовар. У Марии давно, а может быть, даже никогда не было такого вечера. Она больше не стеснялась Михаила и не испытывала обычного чувства некоторого отчуждения. И когда Михаил вновь вернулся к разговору о ее поездке в Москву и шутя предложил составить смету расходов, она не нашла в этом ничего предосудительного. Он хотел, чтобы она взяла у него полтораста рублей, но Мария возразила, что за глаза хватит на поездку и ста двадцати, а так как у нее будет рублей пятьдесят отпускных, то речь может идти лишь еще о семидесяти. Михаил не стал упорствовать, довольный уже тем, что она вообще согласилась, и боясь излишней настойчивостью испортить все. Он дал Марии медальон, взятый Дембовичем у Павла, и карточку, снятую с его старого паспорта и тщательно освобожденную от следов ее пребывания на документе. Медальон Марии очень понравился, она прикинула его на себя, посмотревшись в зеркало, и сказала одобрительно: - Изящный. Потом вгляделась в карточку, но фото было старое, несколько выцветшее, и разобрать на нем выражение глаз было невозможно. - А вот его мать. - Михаил показал ей карточку, которую переснял Дембович. Они условились, что Мария поедет послезавтра утренним поездом, чтобы утром же без малого через сутки быть в Москве. У Михаила в отношении Марии не было никаких сомнений. Вряд ли такую наивную и бесхарактерную женщину контрразведчики могли выбрать для своих целей. И в парке она работала еще задолго до того, как он появился в этом городе. Его интуиция подсказывала ему, что Марии можно не опасаться. И все же он счел необходимостью устроить ей хотя бы самую грубую и нехитрую проверку. Когда Михаил доставал фото Павла, он вынул и два конверта, на которых не было написано адресов. Один из них был запечатан, другой нет. В конвертах лежали письма к двум его воображаемым приятелям. Он уронил их под стол, а уходя, забыл поднять. Утром в набитой шоферами диспетчерской Мария первым делом протянула ему эти конверты. Выехав из парка, Зароков остановился в переулке и самым тщательным образом осмотрел конверты. Заклеенный не вскрывался, а из незаклеенного письмо даже не извлекалось. И Зароков подумал, что надо быть очень воспитанной женщиной, чтобы победить природное любопытство и не позволить себе прочитать распечатанное письмо мужчины, который ухаживает за тобой на протяжении трех месяцев и от которого ты не испугалась взять деньги на отпуск. Он окончательно успокоился. И с легким сердцем повернул к вокзалу - за билетом. Наутро он провожал Марию. Она немного волновалась, оттого что ехала в мягком вагоне скорого поезда - это было впервые в жизни, - и поглядывала на стоявших возле ее вагона уезжающих и провожающих как бы исподтишка. Когда объявили, что до отправления поезда осталось пять минут, Зароков дал Марии листок из блокнота, на котором было написано: «Матвеев Павел Алексеевич. Матвеева Пелагея Сергеевна, год рождения - приблизительно 1902-1904». - Вот, узнаете в справочном в Москве, - сказал он. - Пора садиться. Поезд медленно, почти незаметно тронулся. - Веселитесь хорошенько! - говорил Михаил громко, шагая за вагоном и глядя на белевшее в глубине тамбура, за спиной проводника, чуть растерянное лицо Марии. - Не забывайте меня! …Первое, что сделала Мария, выйдя на вокзальную площадь в Москве, - спросила у милиционера, где справочное бюро. Оно оказалось в пяти шагах. А через полчаса с адресом Пелагеи Сергеевны Матвеевой Мария спускалась в метро. На третьем этаже большого старого дома она позвонила в квартиру номер одиннадцать. Дверь открыла пожилая женщина, и Мария без труда ее узнала - то же лицо с грустными глазами и морщинками на лбу, та же гладкая прическа с прямым пробором посредине, как у той, что на фотографии, которую показывал ей Михаил. Но Мария все же спросила: - Мне Матвеевых. Можно? - Входите, - нисколько не удивившись, пригласила женщина. - Я и есть Матвеева. - Пелагея Сергеевна? - спросила Мария, довольная, что не ошиблась и что все оказалось так удачно. - Меня так просили вас найти, вы себе не представляете. - Идемте в комнату, что же мы на пороге стоим? Пока раздевалась, Мария все думала, как получше начать разговор с этой симпатичной женщиной. И решила издалека не начинать. Когда вошли в комнату, открыла сумочку, достала медальон и фотокарточку Павла и положила то и другое на стол. - Вот, - сказала она, - не узнаете? Пелагея Сергеевна взяла фотокарточку, долго смотрела на нее, а затем сказала без всякой радости: - Постарел… Видно, по тюрьмам сидеть даром не дается… Мария стояла растерянная. Пелагея Сергеевна посмотрела на медальон, перевела недоуменный взгляд на Марию. - А это к чему? - Понимаете… - Мария не знала, как объяснить. - Ах, милая вы моя, - сказала Пелагея Сергеевна. - Вещичка эта чужая. Небось ворованная. И откуда в нем такое? У нас в роду не то что воров - лгунов никогда не было. Но вот споткнулись на Павлушке. Его ведь ищут сейчас… Ко мне уже два раза милиция приходила. Он из тюрьмы бежал. Говорят, охранника убил. Не сын он мне, нет, не сын… - Пелагея Сергеевна опустилась на стул, потрогала задумчиво фарфоровую фигурку собаки, стоявшую посредине стола. - Не знаю, в каких вы с ним отношениях. Но я бы вам дала совет - не верьте ему. Мария, когда шла, собиралась рассказать Пелагее Сергеевне историю, поведанную ей Михаилом, но теперь сочла это излишним. Она взяла медальон, положила его в сумочку. Потом взяла карточку, повертела, сунула ее в тот же кармашек и сказала: - Извините, пожалуйста. Я не хотела… Пелагея Сергеевна все понимала и без слов. - Ладно, милая. Мария уходила от Пелагеи Сергеевны усталая. После этого она часа три искала номер в гостинице, стояла в очереди в магазине синтетических тканей за косынкой, обедала в столовой - и все это время думала о Пелагее Сергеевне, о ее непутевом сыне Павле, о том, как тяжело быть матерью, у которой сын пошел по преступной дороге… Мария не смогла прожить в Москве все десять дней. Она сходила в Музей изобразительных искусств на Волхонке, в Третьяковскую, на ВДНХ, в Большой театр, слушала «Бориса Годунова», а потом затосковала по дому, по Михаилу, ей показалось, что, пока она тут проводит время, Михаил ее забудет, - и на седьмой день своего пребывания в Москве приехала на вокзал и купила билет. Михаил не встречал ее, потому что телеграмму она не давала. Они увиделись на следующий день вечером у нее дома. Мария рассказала все в подробностях. Она видела печаль на его лице. Конечно, думала она, можно понять человека, который столько лет искал друга и вот узнает, что этот друг - преступник. Нехорошо бывает узнавать такие вещи, но что же поделаешь? По крайней мере, все стало на свои места… Мария вернула ему фотографию и медальон, но Михаил уговорил ее оставить эту золотую безделушку себе. Мария отказывалась, но недолго: медальон ей нравился.Глава 9 КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ЗАРОКОВ
Он родился в 1922 году в Париже. Отец его, русский дворянин Александр Тульев, официально служил в Министерстве иностранных дел Российской империи. На самом же деле он работал в разведке. Октябрьская революция застала отца во Франции, ему было тогда двадцать четыре года. Поняв, что в России произошли необратимые изменения и что необходимо сделать выбор, Александр Тульев принял решение не возвращаться на родину. Правда, один раз он все-таки побывал в Петрограде, в самом начале восемнадцатого года. Там его ждала невеста, девятнадцатилетняя девушка, с которой он был обручен. К тому же он должен был хотя бы еще один раз посетить свою большую квартиру на Литейном, чтобы взять кое-что ценное - например, три-четыре небольшие картины. Возвращение во Францию было не таким легким, как его путь в Россию, но, помыкавшись недели три, Александр Тульев с невестой благополучно добрались до Константинополя, а дальнейшее уже не составляло труда. В Париже мастер вновь заключил в рамы привезенные ими три холста, и Александр Тульев продал их за очень большую сумму. Ее хватило на несколько лет безбедной жизни. Но в конце концов деньги иссякли, и он стал искать заработка. Полузабытая им профессия помогла найти ход в контрразведку одного из европейских государств. А впоследствии его перевели в школу, которая готовила разведчиков и диверсантов. За год перед тем супруга его скончалась. Александр Тульев сам выбрал профессию для своего сына Михаила. В один прекрасный день Михаил был зачислен в школу, где инструктором работал его отец. Незадолго до нападения Германии на Советский Союз школу прибрали к рукам гитлеровцы. Михаил раньше специализировался по Балканам, но его вскоре переквалифицировали, и он стал готовить себя к работе в России. Когда настал срок подыскивать легенду, под которой надо будет жить и работать в России, Михаила под видом советского военнопленного посадили в один из концентрационных лагерей на территории Польши. Это было летом 1942 года. Раньше чем сделаться «военнопленным», Михаил познакомился с документами заключенных и заочно отобрал наиболее подходящих - прежде всего он обращал внимание на год рождения. За месяц пребывания в концлагере Михаил Тульев сделал выбор. Он пал на русского солдата Михаила Зарокова. Почему именно на него? Тут имелось несколько важных причин. Начать с того, что они были тезками и по имени, и по отчеству, - это удобно, не надо привыкать к другому имени. Михаил Зароков родился, как и Тульев, в 1922 году. Роста они были совершенно одинакового. И даже в чертах лица угадывалась что-то общее - может быть, оттого, что оба были по-монгольски скуласты. Михаил Зароков оказался совсем простодушным и наивным парнем, хотя выглядел старше своих двадцати, и чувствовалось, что в житейском смысле он опытен не по летам. Поначалу он не очень-то распространялся о своей довоенной жизни, был в разговорах сдержан, как будто стеснялся открывать душу перед товарищами по несчастью. Но Тульев сумел завоевать его расположение, плюнув однажды в лицо капо, которого все смертельно ненавидели. Капо пообещал Тульеву расправиться с ним. Инцидент этот сделал Тульева в глазах заключенных если не героем, то, во всяком случае, смелым парнем. И естественно, у него сразу появилось много друзей, среди которых первым был Михаил Зароков. Тульеву обязательно нужно было узнать о Зарокове все до мельчайших подробностей - о нем самом, о его родных и даже о друзьях и знакомых. По вечерам, когда они, грязные и до предела усталые, возвращались из карьера в блок и, похлебав баланды, садились на нары, Тульев обычно заводил разговоры о довоенной жизни. Зароков откликался все охотнее, и постепенно перед Тульевым открылась вся его короткая, но непростая биография. Некоторые ее особенности были очень удобны для разведчика. Во-первых, у Михаила Зарокова не было родителей - они умерли в 1933 году в приволжской деревне в Самарской области. Из родных у него есть только один человек - младшая сестра Нина, моложе его на три года. Если бы и ее не было, это устраивало бы Тульева больше, но тут ничего поделать было нельзя. Во-вторых, нет в России такого города или села, где бы Михаила считали своим или хотя бы знали мало-мальски. После смерти родителей они с сестренкой жили как перекатиполе: сначала их отправили в детский дом на Украину, в Сумскую область, потом перевели в Ростовскую область, потом опять на Украину. В 1938 году он научился водить трактор, ушел из детдома, устроился работать в МТС и забрал к себе сестру. Потом окончил школу шоферов, поработал немного на грузовике, а в 1940 году его потянуло в большой город, и они переехали в Горький. Работа нашлась. Дали им две койки в общежитии, они отгородили свой угол цветастой ситцевой занавеской - получилась настоящая комната. Нина поступила ученицей токаря на автомобильный завод. В мае 1941 года Михаила призвали в армию, назначили его в автобатальон. В первый же день войны вместе с машиной отправили в Москву. Потом были Орел, Тула, а под Вязьмой их колонна попала в окружение. Пытались прорваться на восток, но шоссе уже было оседлано фашистской мотопехотой. Гитлеровцы расстреляли колонну из крупнокалиберных пулеметов, подожгли машины зажигательными пулями. Выскочив из вспыхнувшей машины, Зароков кинулся через поле в сторону небольшого леска, темневшего километрах в двух на пригорке. Пробежал всего метров пятьдесят, когда слева, справа, впереди с воем начали шлепаться мины. Не успел он выбрать ложбинку, чтобы залечь, - его подбросило, швырнуло оземь, и он потерял сознание. Очнулся в плену. Вот и вся история. Жалко ему сестренку. Война идет. Девчонке шестнадцать лет. Осталась совсем одна… Как-то раз под вечер в их блок явился в сопровождении капо незнакомый заключенным обер-лейтенант. Капо подвел его к Михаилу Тульеву, что-то сказал шепотом. Обер-лейтенант сделал Тульеву замечание за то, что он не встал перед офицером, и приказал следовать за ним. «Вещи не брать», - остановил он Михаила, когда тот хотел снять с гвоздя висевший в изголовье нар парусиновый мешочек с кое-какими солдатскими пожитками. Его увели, и больше он уже в блок не возвращался. Все подумали, что это месть капо. А через месяц или полтора пятьдесят заключенных из этого концлагеря были переведены в Германию - их отправили в Рур, на шахты. Однако туда доехало не пятьдесят человек, а только сорок. Десятерых ссадили по пути на какой-то небольшой станции, в их числе и Михаила Зарокова. Эти десятеро не доехали никуда: их расстреляли в местной тюрьме. Михаил Тульев, получив отличную легенду, в Россию все же не попал. Положение быстро менялось, шефы сочли целесообразным использовать его на Балканах. После войны отец нашел для себя новых хозяев и, конечно, для сына тоже. Михаилу пришлось побывать в Африке и в Португалии, в Корее и на Ближнем Востоке. А потом шеф отца вспомнил, что Михаила когда-то готовили для работы в России, и это решило его дальнейшую судьбу. Михаила вызвали к самому высшему начальству и после долгой беседы объявили, что его собираются послать надолго в Советский Союз. Началась усиленная учеба. Отец сам придумал ему кличку - Надежда. Разменяв седьмой десяток, старик стал заметно сентиментальнее. Вероятно, он вкладывал в эту кличку какой-то особый смысл. Через год Надежда был готов перейти границу. Он отчетливо помнит последние дни перед заброской. Работы хватало всем. Эксперты с особой тщательностью отбирали предметы будущей экипировки. Специалисты готовили ему документы, спецаппаратуру, шифровальные таблицы, средства тайнописи, оружие, медикаменты… Разведчики еще раз детально инструктировали Надежду, как себя вести в России, с тем чтобы не попасть в поле зрения советских контрразведчиков. Скрупулезно уточняли, что в первую очередь надо узнавать о военной и экономической мощи Советского Союза и как безопаснее переправлять добытые данные. Опытные инструкторы отрабатывали с ним скоростные передачи по рации. Так называемые психологи проводили длиннейшие беседы, тщательно проверяли надежность той легенды, под которой он должен жить и действовать в России. С великим пристрастием они допрашивали его, ловили на слове, на малейшем замешательстве, старались запутать, сбить с толку. Больше всех, конечно, доставалось самому Михаилу. Все эти дни у него не было времени побыть с отцом. И вот наконец они вместе. Отец, седой, с уставшим лицом, одетый во все черное, как на дипломатическом приеме, стоял перед ним, заложив руки за спину и в раздумье покачиваясь с носков на пятки. Михаил, как две капли воды похожий на отца в молодости, смуглый, с тонким носом, глубокосидящими карими глазами, ждал, что он скажет. - Давайте присядем на дорогу, - сказал тихо старый Тульев. С сыном он был на «вы». Сели друг перед другом в низкие кресла. Закурили. - Мишель, голубчик… - начал отец. - Что сказать вам на прощанье? Давно я ждал и боялся этого часа… Вы уходите не на год и не на два. Может быть, навсегда… А я уж стар, мне жить осталось недолго, и вряд ли мы еще увидимся… Будьте осторожны, будьте хитры… Не забывайте отца, а я буду за вас молиться… Старик не сдержался, на глазах у него показались слезы. Но тут в кабинет заглянул секретарь шефа, позвал Михаила, и они расстались… С того момента минуло пять месяцев, а кажется, что пять лет. Сейчас у Надежды не было оснований для беспокойства. Границу он перешел удачно. Поддельный паспорт на имя Кириллова с честью выдержал испытание в пути. Тот паспорт давно уничтожен, а в действие вступил настоящий, советский, на имя Зарокова. Вопрос с работой решен надежно. Для разведчика трудно подыскать более подходящую работу, чем место шофера-таксиста, - езди куда хочешь и с кем хочешь, никто ни в чем не заподозрит. И ко всему еще одно удобство: день ездишь, день свободен. С пропиской и с жильем все устроилось как нельзя лучше. Помощник мог бы оказаться помоложе и порасторопнее, но на первое время и Дембовича хватит. В общем, причин испытывать недовольство собой у Надежды не имелось. На связь с центром, как было условлено, он выходил лишь однажды, после того как поступил в таксомоторный парк. Портативная рация была закопана Дембовичем под яблоней. До весны она не понадобится. Пожалуй, уже можно было приступить к исполнению двух специальных заданий, полученных им перед заброской. Надо поскорее сделать это, чтобы потом уже не думать и не заботиться ни о чем, кроме главной своей задачи. Первое задание выглядело предельно просто: необходимо взять в районе города Новотрубинска пробы земли и воды. Сам Надежда поехать туда, разумеется, не мог. Резидент, который должен осесть на неопределенно долгий срок, рисковать по пустякам не имел права. В этом деле Надежда рассчитывал на Павла. Закончив его проверку, он собирался через Дембовича дать ему задание. Второе дело было намного сложнее. Надежда не напрасно помянул при первой встрече с Дембовичем некоего Леонида Круга. Это сразу дало Дембовичу понять, что Зарокову о нем известно все. Леонид Круг, приходившийся родным братом помощнику шефа разведцентра, был членом подпольной боевки. Его сбросили на парашюте еще в 1947 году. В 1949 году органы госбезопасности одним ударом разгромили боевку, накрыли квартиру Леонида Круга, разворошили все потаенные лесные бункера. И все же Круг сумел скрыться. Связи с ним больше не было, так как рация попала в руки советских контрразведчиков. За прошедшие десять лет Виктор Круг дважды посылал агентов для розыска своего брата, но безуспешно. Скорее всего Леонид Круг с перепугу так хорошо законспирировался, что обнаружить его было бы невозможно даже при содействии властей, а своими силами и подавно. Во время напутственного совещания шеф дважды повторил, что, как только Надежда сочтет свое положение прочным, он должен разыскать Леонида Круга, а затем с помощью центра организовать его переправу через границу. Старый Тульев тогда пытался возражать в том духе, что нерационально нагружать Михаила, резидента, отправляющегося со столь серьезной миссией, обязанностями частного сыщика - старик недолюбливал помощника шефа - Виктора Круга, они вечно соперничали, - но шеф так посмотрел на него, что Тульев осекся… Надежда знал: Дембовичу кое-что известно о дальнейшей судьбе Круга, и он рассчитывал на его помощь. Те два связника, что забрасывались специально для розыска Круга, воспользоваться услугами Дембовича не имели возможности, так как квартира Дембовича была законсервирована еще раньше, чем Круг потерпел неудачу. Но разговора на эту тему Надежда до поры не заводил. Согласно предварительному плану Леонида Круга, когда он обнаружится, должны будут переправлять морем. У Надежды еще есть время - до весны. До тех пор, когда растает береговой припай, ждать еще целых три месяца. Пробы земли и воды раньше мая не добудешь - человек, ковыряющий мерзлую землю посреди белого заснеженного поля, неминуемо вызовет подозрение. Насчет способа передачи проб заранее не уславливались. При благоприятном стечении обстоятельств их можно будет переправить с Кругом. Вот как складывались у Надежды дела в конце января 1962 года. И вдруг одно событие чуть было не разрушило до основания все это с трудом добытое благополучие.ГЛАВА БЕЗ НОМЕРА И БЕЗ НАЗВАНИЯ
Здесь мы прервем изложение живых событий, как они происходили, чтобы сделать некоторые заключения. Многие читатели, наверно, знают, что в лексиконе велогонщиков есть один термин - так называемый промежуточный финиш. А чтобы всем было понятно, что это такое, надо этот термин объяснить. Предположим, длина очередного этапа составляет двести километров. Приблизительно где-то на полпути трасса велогонки проходит через небольшой городок. Горожане учредили приз для гонщика, который первым въедет на центральную площадь городка. Это и есть промежуточный финиш. Гонщик, пересекший первым его черту, становится для горожан героем гонки. На финише этапа победителем может оказаться совсем другой, а этот, вполне возможно, приплетется последним, но зато там, на промежуточном, он пожал лавры, пусть и скромные. А может быть, и в конце этапа он тоже будет первым. Так вот, образно говоря, начиная со следующей главы наш рассказ будет быстро приближаться к промежуточному финишу. Кто будет на нем победителем, мы скоро увидим. Определить же победителя всего этапа пока невозможно. Итак, сделаем некоторые заключения, исходя из того, что нам уже известно. Все, разумеется, с первых страниц догадались, что Надежда, Кириллов и Зароков - одно лицо. Авторам не было нужды играть в прятки и сбивать с толку читателя, заставляя долго гадать, кто из действующих лиц - иностранный разведчик. Роль Павла можно толковать по-разному. Вполне логично предположить, что он совсем не случайно оказался однажды пассажиром в вагоне поезда Сухуми - Ленинград, а затем в такси, за рулем которого сидел Михаил Зароков, хотя обстоятельства, при которых это произошло, не вызывали подозрений даже у осторожного Надежды. Дембович, назвавшийся Павлу Куртисом, - фигура совершенно ясная с самого начала. Он был завербован иностранной разведкой еще во время войны, но до поры до времени его к активной работе не привлекали. Оценивая поведение Марии, следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, она не знает, кто такой Михаил Зароков на самом деле. Во-вторых, он так настойчиво навязывал ей свою дружбу, что даже и в том случае, если бы он ей совсем не нравился, она вряд ли собралась бы с духом, чтобы оттолкнуть его. А ведь он ей, наоборот, очень нравился. Советские контрразведчики, конечно, могли бы предупредить ее, но это было рискованно. Характер Марии таков, что в один прекрасный момент она могла бы не удержаться и выдать себя, а значит, и провалить все дело. А теперь продолжим рассказ.Глава 10 ВИЗИТ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
Сквозь сон Надежда услышал, как вдруг залаял во дворе Таран. Он поднял голову, взглянул на будильник - было десять часов утра. Давно рассвело. Лай оборвался. С улицы донесся голос Дембовича. Он приглашал кого-то в дом. Голос у него был медовый. Кто-то крепко притопнул на крыльце раз-другой, хлопнула дверь, и половицы в коридоре заскрипели под тяжелыми шагами. - Прошу вас, товарищ уполномоченный, вот сюда. - Дембович распахнул двери столовой. - Прошу, присаживайтесь. - Благодарю, - опустившись на жалобно скрипнувший стул, сказал гость сочным басом. Надежде было хорошо слышно, что он листает бумаги. - У вас прописан Зароков Михаил Александрович? - спросил бас. - Да, да, как же! - поспешно ответил Дембович. - Тысяча девятьсот двадцать второго года рождения? - Да, кажется. - Как его увидеть? Он на работе? - Нет, по-моему, еще спит. Во всяком случае, я не заметил, чтобы он выходил. Я уж целый час на дворе копаюсь. Сейчас загляну к нему. Одну минутку! Надежда вдруг почувствовал, как одеревенела у него рука, на которую он оперся, приподнявшись, чтобы посмотреть на будильник. В груди заломило, когда он сделал глубокий вдох, - кажется, он все это время не дышал. Дембович подошел к его двери, нарочно громко постучал, крикнул: - Михаил Александрович, вы не спите? Надежда сел на краю кровати, ответил заспанным голосом: - В чем дело, Ян Евгеньевич? Встаю. Вчера последняя ездка проклятая попалась, до часу ночи он меня крутил, еле отбоярился… Входите! Дембович вошел, закрыл за собой дверь. - Садитесь, я сейчас, - повысив голос, сказал Надежда, жестом спрашивая, кто в столовой. - Участковый уполномоченный из милиции, - скороговоркой объяснил Дембович. Надежда лихорадочно вспоминал, кто такой участковый уполномоченный, - расспрашивать у Дембовича было не время. Наконец вспомнил. Дал знак, чтобы Дембович говорил. - Товарищ хочет побеседовать с вами лично. - Сейчас. Я быстренько оденусь. - И тихо, для одного Дембовича: - У вас выпить найдется? Дембович кивнул. - Устрой на кухне… Минут через пять Надежда, улыбаясь, вошел в столовую. Участковый уполномоченный встал при его появлении - высокий, с массивными плечами. Густые выцветшие брови белели на обветренном розовом лице. Совсем молодой, лет двадцати пяти. - Здравствуйте, - сказал он. Надежда протянул руку. - Здравствуйте, товарищ… - он взглянул на погоны, -…младший лейтенант. - Вы Зароков Михаил Александрович? - Совершенно верно. И именно я вам нужен? - Надежда спросил это шутливым тоном, но было ему совсем не до шуток. Младший лейтенант принял этот тон, и, вероятно, у него настроение было гораздо лучше, потому что его шутка получилась более удачной, - Надежда не сразу понял, что его разыгрывают. - Ай-я-яй, гражданин Зароков! - укоризненно начал младший лейтенант. - Нехорошо получается… Вас ищут, давно разыскивают, а вы скрываетесь. Нехорошо… Надежда изобразил на лице крайнюю степень удивления. - Позвольте, кто же меня может искать? - Вся милиция Советского Союза. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Надежда быстро прошел в свою комнату, вернулся с паспортом, дал его младшему лейтенанту. Он еще минуту назад сообразил, в чем дело. Пора было показать участковому уполномоченному свою догадливость. - Неужели Нина, сестра моя? - не веря собственной догадке, спросил он. Младший лейтенант добродушно рассмеялся. - Точно. Поздравляю. - Присядемте! - Надежда был неподдельно взволнован. - Вы понимаете, прошло двадцать лет… Я ее после войны искал, но все впустую… Думал, или умерла, или вышла замуж, сменила фамилию. Разве найдешь? Откровенно говоря, давно смирился. Участковый уполномоченный заглянул в бланк, лежавший перед ним на столе рядом с планшеткой. - Точно. Фамилия ее теперь Воробьева. Нина Александровна Воробьева. Проживает в Ленинграде. Можете записать адрес… Надежда снова сходил в свою комнату, принес блокнот и карандаш, переписал адрес, затем позвал из кухни Дембовича. - Вы слышали, Ян Евгеньевич? Сестра нашлась! - Ну вот, никогда не следует терять надежду. Младший лейтенант снова засмеялся. - Скорее не сестра, а вы нашлись, товарищ Зароков. - Золотые слова, товарищ младший лейтенант! По этому поводу не худо бы по баночке. Как смотрите? Но участковый вежливо отказался. Уходя, он сказал, что милиция, как положено в таких случаях, сообщит Нине Александровне Воробьевой об успешном завершении розысков, и пожелал Зарокову скорейшей встречи с сестрой. Дембович проводил участкового до калитки, вернулся, забыв вытереть ноги о скребок на крыльце. Надежда все еще сидел в столовой, растерянно глядя на листок блокнота с адресом Нины Воробьевой. - Что же будет? - решился спросить Дембович. Он только раз видел Зарокова таким. Сейчас Зароков был похож на того ночного гостя, который однажды осенью явился в дом Дембовича под видом техника горэнерго. В нем не чувствовалось самоуверенности. - Действительно, что же будет? - не обращая внимания на Дембовича, переспросил самого себя Надежда. - Одна такая нелепость - и все летит к чертям… Отстранив в дверях онемевшего Дембовича, он прошел в ванную, умылся, причесался. Потом у себя в комнате снял спортивные брюки и фланелевую рубаху, в которых обычно ходил дома, надел костюм, повязал галстук. Дембович все это время следовал за ним молча, но в конце концов не выдержал: - Вы собираетесь уходить? - Не навсегда, - ответил Надежда. - Не бойся. Пойду на почту, надо дать телеграмму сестре. А ты пока что попробуй уяснить себе в подробностях, как может отразиться знакомство с «сестрой» на моей судьбе, а значит, и на твоей тоже. С тем Надежда ушел. А Дембович принялся искать валидол, к которому давно уже не прибегал.Глава 11 РИСК РАДИ БУДУЩЕГО
На почте Михаил Зароков составил и послал в Ленинград на имя Нины Александровны Воробьевой длинную, в пятьдесят слов, телеграмму: Вот что он писал: «Здравствуй родная Нина эта телеграмма придет тебе раньше чем ты получишь милиции сообщение моем розыске наконец это произошло я тоже долго искал тебя безуспешно не могу высказать тебе мое счастье надо увидеться поскорее постараюсь взять отпуск три дня как только получу твое сообщение обнимаю крепко целую твой брат Михаил Зароков». Дальше шел обратный адрес. Покинув почту, он отправился бродить по городу. Надо все хорошенько взвесить и принять какое-то решение. Встреча с Ниной Воробьевой исключалась - это не подлежало обсуждению. Хотя Нина и настоящий ее брат Михаил расстались целых двадцать лет назад, было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что она не распознает подмены. Даже если память обманет ее, он все равно не имеет права строить всю свою дальнейшую судьбу на таком зыбком расчете. Можно оттянуть встречу, но ненадолго. Вообще же уклоняться было бы в его положении несерьезно. Он должен вести себя точно так, как это сделал бы настоящий Михаил Зароков. Вот почему он поспешил дать телеграмму. Короче говоря, выход был один: или он должен все бросить и исчезнуть, или исчезнуть должна Нина Воробьева. Но ее исчезновение органы милиции теперь уже обязательно свяжут с тем фактом, что она долго разыскивала брата и наконец нашла его. Жаль, очень жаль, что у него не было раньше возможности самому разыскать ее тайно. Тогда все устроилось бы значительно проще. Но зачем понапрасну сожалеть о том, чего он не сделал? Много ли можно дать за Михаила Зарокова, чье имя будет связано с убийством? Но не меньше ли стоит Михаил Зароков, если сестра скажет, что он ей не брат, что она его вообще не знает? Скрыться, использовав запасную легенду? Но для такого ли случая она предназначена? Как ни поворачивай, в создавшейся ситуации выход один: если Надежда твердо намерен исполнять задание, оставаться резидентом, необходимо так или иначе, раньше или позже избавиться от сестры. Риск велик, но это как раз тот случай, когда он должен либо рискнуть, либо, не мешкая, связаться по радио с центром и попросить разрешения исчезнуть под запасной легендой. В его положении убийство - крайний, самый нежелательный шаг. Но он попробовал успокоить себя тем, что убийство убийству рознь. Очень много зависит от того, как его обставить. Если свести до минимума свою причастность к нему, у милиции может и не возникнуть далеко идущих подозрений… В двенадцать часов дня Зароков вернулся домой. Дембовичу не терпелось поговорить. - Вы позволите мне задать вопрос? - еле дождавшись, пока Зароков разденется, спросил он. - Сколько угодно. Зароков пошел в кухню, налил в чашку остывшего крепкого чая, выпил, сел к столу на круглую табуретку. Дембович устроился напротив. - Думаю, вы не хотите встречаться с этой женщиной. - Я-то не хочу. Она хочет. - Но это же невозможно! - Конечно, невозможно, - согласился Зароков. - Может, вы сумеете ее отговорить? Дембовичу было не до шуток. - Довольно вам паясничать… Вы же должны что-то предпринимать! - В другое время, дорогой Дембович, я бы сказал, что вы вмешиваетесь в чужие дела. Но сейчас ваше благополучие для меня так же дорого, как и мое для вас. Или я ошибаюсь, или у вас есть предложения? Дембович коротко вздохнул и, решившись, сказал: - Я знаю, как найти Леонида Круга. Зарокову не надо было долго думать, чтобы по достоинству оценить ход мыслей Дембовича. Идея, возникшая в седой голове старого пройдохи, устраивала его во всех отношениях. Круг в обмен на обязательство переправить его за кордон пойдет, пожалуй, на что хочешь. Да ему можно и просто приказать. Ведь он не знает, какие инструкции на его счет получил Надежда. А провалится - туда и дорога. Болтать он не будет. А центр если что-нибудь и узнает, то не от Надежды. - Где он сейчас? - спросил Зароков. - Работает киномехаником в рабочем клубе, в поселке на седьмом километре. - Дембович видел, что его идея одобрена, и постепенно успокаивался. - Поддерживали с ним связь? - Нет. Зароков и это, безусловно, одобрял. - Как обнаружили? - Я встретил его там же, в клубе, лет шесть… позвольте… да, шесть лет назад. Я работал тогда инструктором областного управления культуры, часто ездил по клубам. Мы не разговаривали, но он дал мне знак, что узнал и помнит. Прошлым летом я ездил на седьмой километр, показывался ему, но не разговаривал, даже не подходил близко. - Где живет, знаете? - Да, я проследил. По-моему, у него семья… Зароков минуту подумал. - Вот что, Дембович, я вижу, взаимных объяснений не требуется. Надо действовать, и немедленно. Вы сейчас же поедете на этот седьмой километр, найдете Круга. Опасаться и слишком осторожничать, пожалуй, нет нужды. Он давно очистился. Поговорите. Прощупайте его - может ли он снова взяться за дело. Обо мне пока - ничего. Даже и намеков не надо. Само ваше появление будет лучшим намеком. На прощанье скажите, что очень скоро увидитесь опять. …Через час Дембович приехал в электричке на седьмой километр. Клуб оказался на замке. В квартире, где жил Круг, Дембович нашел лишь парнишку лет двенадцати - это был сын соседей Круга. Мальчик сказал Дембовичу, что тетя Поля как ушла утром на работу, так и не приходила, что дядя Леня приходил домой обедать, а после обеда, всего с полчаса назад, поехал в город на базу кинопроката за новой картиной. Мальчик объяснил, что всегда спрашивает у дяди Лени, какое будет кино. На этот раз дядя Леня сказал ему, что на сегодняшний фильм дети до шестнадцати лет не допускаются. Он и название сказал, но мальчик не запомнил, - зачем же запоминать, раз не допускаются? Приехав в город, Дембович сел в трамвай-двойку, чтобы добраться до базы кинопроката, - адрес ему был известен. Дембович очень спешил, очень хотелось поскорее увидеть Круга, и ему повезло. Не промаячив и четверти часа перед воротами базы, возле которых стояли два пикапа-«Москвича», он увидел того, кого искал. Леонид Круг, низкорослый, широколицый, появился из проходной с двумя большими кубическими жестяными коробками в руках. Оттого, что был в стеганой телогрейке, он и сам казался кубическим. Поставив коробки в кузов бежевого пикапа, он огляделся, ища своего шофера. Дембович в этот момент двинулся через дорогу, и Круг обратил на него внимание. Приблизившись, Дембович сказал: - Товарищ, вы не с седьмого километра? - С седьмого. - То-то, я вижу, как будто знакомый пикапчик. - Заметив подходящего к ним шофера, он спросил у Круга: - Не подбросите? - Нужно хозяина попросить, - сказал Круг и повернулся к шоферу: - Вот тут земляк с нашего седьмого в пассажиры набивается, ты не против? Шофер, сердитый высокий дяденька, которому в кабине «Москвича», наверное, было очень тесно, отпер дверцу, закинул ногу в кабину и буркнул неприветливо: - Я-то не против… Замерзнет старик в кузове. Киномеханик сказал: - Ну, ничего, я для компании тоже в кузов сяду, чтобы не обидно одному… - Тут ерунда ехать… - добавил Дембович. - Дело ваше, - захлопнув дверцу, закончил переговоры шофер. С первой минуты, как только они уселись рядом спиной к ветру и машина тронулась, Дембович приступил к делу. Ему было легко начать, ибо он ясно видел: Леонид Круг настолько рад этой встрече, что еле сдерживает себя, чтобы не кинуться в объятия. Прощупывать было решительно ни к чему. Путь был недалекий. Через десять минут у переезда через железную дорогу Дембович сошел. Прежде чем постучать по кабине, он спросил у Круга, как лучше всего найти его в скором времени, чтобы поговорить более обстоятельно. Круг сказал, что удобнее прийти, как стемнеет, к нему в кинобудку. Помощника он всегда сумеет выставить, благо у того по вечерам частенько бывают назначены свидания. Дембович может прийти в любой день, кроме понедельника. В понедельник - выходной. На том они и расстались… Дембович застал Зарокова дома, тот лежал на кровати поверх одеяла и курил. У него была, как всегда, намечена встреча с Марией, но сейчас не до свиданий, и, проводив Дембовича на седьмой километр, Михаил сходил к телефонам-автоматам, позвонил Марии в парк и сказал, что сегодня прийти не сможет, а почему - объяснит при встрече… Внимательный Дембович сразу заметил валявшийся на полу рядом с пепельницей лист бумаги, похожий на телеграмму. Он подошел ближе. Это и была телеграмма. - От нее? Зароков кивнул. - Можно? Дембович прочел: «Миша дорогой какая радость не дождусь встречи срочно позвони любое время суток жду целую тебя крепко обнимаю твоя сестра Нина». И в конце два телефона - рабочий и домашний. Зароков не дал Дембовичу высказать свои комментарии по этому поводу, он начал расспрашивать его о Круге. После девяти вечера Зароков отправился на переговорный пункт. Он разговаривал с Ниной ровно пять минут и вышел из жаркой, душной кабины взъерошенный и потный. Вернувшись домой, Михаил счел излишним передавать Дембовичу содержание этого разговора. Да, собственно, и нечего было передавать - так, маловразумительный обмен бессвязными репликами, неудивительный между людьми, которые не виделись двадцать лет…Глава 12 ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЗИТА УЧАСТКОВОГО
Контрразведчикам, взявшимся за осуществление плана с очень дальним прицелом, приходится ни на секунду не забывать о психологических особенностях человеческой натуры. Разведчик, если даже он ничего не делает, всегда имеет повод для беспокойства. Но, бездействуя долгое время, он может постепенно успокоиться. Правда, это будет пассивное, если можно так выразиться, полусонное спокойствие. Оно непрочно и неглубоко и может развеяться от малейшей, даже ложной, тревоги. Только то спокойствие надежно и прочно, которое выработалось путем многочисленных проверок в серьезных испытаниях. Опытный разведчик не пропускает ни одной возможности проверить обстановку, он даже сам искусственно создает такие возможности - конечно, в пределах разумного. Надежда, после того как устроился в таксомоторный парк, словно впал в зимнюю спячку, и, по всей видимости, надолго. Это не устраивало советских контрразведчиков. Лучше было бы, если бы он активизировался. Вот почему участковый уполномоченный имел удовольствие сообщить Зарокову столь радостную весть, что сестра его нашлась, хоть хорошо было известно, что он и не собирался ее искать. Спустя два часа после телефонного разговора Нины Александровны с Михаилом в квартире Воробьевых - это была отдельная двухкомнатная квартира - раздался звонок. Открыв дверь, Нина Александровна увидела незнакомого молодого человека. - Разрешите войти? - очень вежливо и вместе с тем несколько официально сказал он. Молодой человек достал из кармана удостоверение личности, показал его Нине Александровне и спросил: - Где нам с вами можно поговорить наедине? Нина Александровна пригласила в комнату. У Нины Александровны были все основания удивляться, когда сотрудник органов госбезопасности, попросив извинения за то, что не может ничего объяснить подробно, изложил причину своего появления. Он сказал, что человек, который прислал телеграмму и с которым два часа назад она говорила по телефону, не брат ей. Но если она когда-нибудь встретится с ним, она должна постараться сделать вид, что узнала в нем брата. Сыграть эту маленькую, но очень важную роль ей будет не так-то просто и легко. Двадцать лет надеяться и ждать, получить телеграмму, услышать, хотя бы издалека, голос того, кого ждешь, испытать радость, а потом вот здесь, сейчас, выслушивать подобные вещи - это очень тяжело… Пока он говорил, Нина Александровна успела отчетливо сообразить лишь одно: с ее братом Михаилом случилось что-то серьезное. Она готова была услышать самое худшее. Поглядев на нее внимательно, сотрудник госбезопасности продолжал: - Вы, безусловно, понимаете, Нина Александровна, приносить людям такие вести никому не хочется, но у нас есть основания полагать, что ваш брат Михаил Зароков, если даже он еще жив, вряд ли объявится теперь. Мою задачу немного облегчает то, что вы ведь еще в сорок пятом году получили извещение о Михаиле… Что он пропал без вести… Нина Александровна провела ладонями по лицу, глубоко вздохнула. - Мне сейчас кажется, что я чего-то такого ожидала… - заговорила она. - Сказать по правде, в последний раз я давала заявление в милицию о розыске Михаила просто на всякий случай, без особых иллюзий… И муж не раз говорил, что напрасно я все это… И вдруг получила телеграмму, потом звонок… Похоже на рождественский рассказ… Мне и радостно было, и как-то странно… - Мы надеялись, что вам должно показаться если и не странно, то как-то уж очень неправдоподобно. - Он окончательно освободился от сковывавшего его чувства виноватости перед этой спокойной и, как видно, немало пережившей женщиной. - Но все же сегодня вашим нервам досталось… Мы просим у вас извинения. - Ничего, - сказала Нина Александровна. Ей уже хотелось подбодрить молодого человека. Она сумела заметить, как трудно дается ему этот разговор. - Я понимаю, что так нужно. Напоследок он заверил ее, что она не должна испытывать беспокойства. Мужу надо все объяснить. - И попросите его, как я прошу вас, никому не говорить о моем посещении и о теме нашей беседы. - Ну, конечно. Это понятно. А для Надежды визит участкового имел и еще одно последствие. Леонид Круг, которого предприимчивый Дембович, сам того не ведая, ввел в поле зрения органов госбезопасности, очень заинтересовал советских контрразведчиков. За короткий срок была проведена большая работа. Она началась через несколько минут после того, как киномеханик рабочего клуба в поселке на седьмом километре, открутив последний вечерний сеанс, запер на висячий замок свою кинобудку и отправился домой, а окончилась утром следующего дня. В эту ночь не спали многие работники органов госбезопасности и вместе с ними два летчика. Но зато к утру был собран обширный материал. Дактилоскопическая экспертиза установила полную идентичность отпечатков пальцев, взятых с предметов, которыми пользовался киномеханик, и тех отпечатков, которые были с величайшим трудом добыты с некоторых предметов отнюдь не домашнего обихода после разгрома боевки в 1949 году и, как предполагалось, принадлежали матерому бандиту, сумевшему скрыться и с тех пор безуспешно разыскиваемому. Беспокойство Надежды начинало давать плоды… Можно было с немалой степенью вероятности предположить, что появление на горизонте мнимого Зарокова его сестры и неожиданное желание Дембовича увидеть Круга находятся в прямой связи. Леонид Круг сам по себе такая фигура, что советские контрразведчики не могли позволить Надежде пожертвовать им в какой-нибудь комбинации, связанной с появлением сестры, - это было бы по меньшей мере нерасчетливо. Круг мог еще сыграть и более серьезную роль. Надо было заставить Надежду искать другие пути, возможно, иных людей, еще неизвестных органам госбезопасности. Необходимо было принудить Надежду вытряхнуть до конца его резервы. Именно поэтому случилось так, что на следующее утро к Кругу зашла заведующая клубом. Она приказала явиться к ней в кабинет за командировкой. Киномеханика посылали на курсы повышения квалификации. Он не удивился - это уже бывало.Глава 13 ГРЯЗНЫЙ ВАРИАНТ
Зароков выехал из парка в шесть утра. Три раза отвез от вокзала пассажиров с прибывшего поезда, а потом дело застопорилось - нет седоков, хоть убейся. Поболтав на стоянке со скучавшими коллегами, он решил съездить домой выпить чаю. Неспокойно было у него на душе. А вид Дембовича, ходившего со вчерашнего дня с физиономией гробовщика, растравил еще больше. Он понимал, что глупо и несправедливо злиться на старика, и старался хотя бы внешне не показывать ему своего раздражения. Состояние у обоих было одинаковое: ждать сложа руки невыносимо, надо двигаться, действовать. За чаем Зароков завел речь о возникшем накануне плане. - Сегодня четверг, значит, клуб работает? - спросил он. - Да. - Но до вечера ждать долго, сейчас всего восемь часов. У вас как, валидола хватит? Зароков с некоторых пор незаметно для себя перестал говорить Дембовичу «ты». И это пошло на пользу их отношениям. - Можно и не ждать вечера. Если он дома, то один или в крайнем случае еще этот малыш-сосед. - Хорошо, Дембович, не будем ждать вечера, поезжайте. - Зароков сложил руки на столе в замок. - Начнете с того, что вам известен пароль. У меня есть старый пароль к Леониду Кругу. Человека, который придет к нему с этим паролем, он обязан слушаться. Круг, наверное, удивится, что им оказались вы. Объясните, что пароль дал вам тот, кому подчиняетесь и вы сами. И дальше прямо к делу. Он должен сегодня же уехать или улететь в Ленинград. Хорошенько запомните сами и велите запомнить ему адрес моей сестры и ее телефоны. В Ленинграде он сразу позвонит ей - вероятно, это будет вечером, после работы. Он расскажет такую историю: с братом Михаилом произошла небольшая неприятность, сам он в ближайшие две недели приехать не сможет. Он, Леонид, - мой друг, прилетел в Ленинград всего на сутки, хочет кое-что передать. Зайти к ней домой не может, нет времени. Если она имеет желание поговорить с ним полчаса, пусть приедет, скажем, на Кировские острова или в другое место по его выбору… Нет, пожалуй, Кировские острова подозрительно. Лучше где-нибудь не очень далеко от центра. Скорее всего она согласится. Когда я говорил с ней по телефону, было столько слез… Зароков закурил. - Дальше. Он спросит, в чем она одета, как ее узнать. Но встретит ее у самого дома - конечно, она не должна его видеть. Обязательно надо проверить, не следят ли за ней. Как это делается, Круг знает. А с полпути он сумеет раньше ее добраться до места свидания. - Зароков перебил себя: - Вы не удивляйтесь, Дембович, что я так все разжевываю. Здесь мельчайшие детали могут быть самыми решающими. Вы сумеете все в точности изложить это Кругу? - Да, да, я слушаю. - Самое главное. Меня не интересует, где и как он с нею покончит. Обстоятельства подскажут, а рука у него, думаю, набита. Самое главное, чтобы все было похоже на убийство с целью ограбления. И чтобы он убрался из Ленинграда в ту же ночь. Хорошо, если у него в кармане заранее будет билет на поезд, который уходит из Ленинграда часов в одиннадцать-двенадцать. В любую сторону, только не в наш город. А дело сделать надо за час-полтора до отъезда. И не дай бог, если он привезет сюда с собой хоть одну ее вещичку. Все надо где-нибудь спрятать так, чтобы никто не нашел. И обязательно чтобы был в перчатках и в новой обуви. Зароков встал, начал расхаживать взад-вперед. - Дальше. На следующий день он даст телеграмму сюда, на главный почтамт, до востребования на имя Корнеева. Пусть напишет два слова: «Перевод получил» - если все в порядке. Если нет - «Жду перевода»… Теперь о нем самом. Он, конечно, сообразит, что ему трудно будет объяснить дома и на работе неожиданный отъезд. Скажите вот что. После Ленинграда он не вернется на седьмой километр, мы переведем его на нелегальное положение. Пусть приедет в город, пойдет на хлебозавод и найдет там Корнеева. Куда поведет его Бекас, после решим. В конце разговора объявите ему, что весной, если все будет хорошо, его переправят за кордон. Это вдохновит. А потом дадите ему триста рублей на разъезды. Кажется, все… Но, подумав, Зароков уточнил еще одну деталь: - Да, забыл… Когда он с ней встретится, пусть расскажет такую историю. Я сбил нечаянно пешехода. Не насмерть. Начали следствие. С меня взяли подписку о невыезде. Подробности придумать легко. - Зароков посмотрел на озабоченно хмурившего лоб Дембовича. - Ой, боюсь, Дембович, не донесете вы все это до Круга, перепутается у вас в голове. - Нет, я все запомнил. - Ну, тогда с богом! Они вышли вместе, сели в машину, стоявшую в переулке. Прежде чем тронуться, Зароков разогрел мотор, покурил. Высадив Дембовича у автобусной остановки, он отправился в парк. Было около девяти. В диспетчерской, по обычаю, толклись водители. Возле Марии, опершись о барьер, стоял дежурный балагур. Когда Зароков хлопнул его по спине, тот сказал: - А, Зарокову привет! - Ты свободен. - Вот спасибо! Как дела? - Какие дела? Я с шести за рулем, а накрутил на полтора целковых. Все ходят пешком… Я же сказал, ты свободен. - Наклонившись к Марии, он подмигнул ей и сказал: - У меня новость. - Расскажешь? - Сестра нашлась… Сама меня разыскала… Представляешь? Мария приложила ладони к щекам. - Да что ты говоришь?! - Ей-богу… Живет в Ленинграде. Фамилия Воробьева. А я-то искал Зарокову. - Как я рада за тебя… - Хочу дня на три отпуск у начальства попросить. - Ну как же, конечно, надо. Зароков рассказал подробно, как все это произошло, какую он послал и получил телеграмму, как говорил с сестрой по телефону. - Ладно, Мария, - он взглянул на часы. - Надо поработать. - Завтра увидимся? - Обязательно. Если я не уеду… А в одиннадцать часов дня на площади перед филармонией произошел несчастный случай, по поводу которого работники ОРУДа составили протокол. Вот как было дело. К остановке на площади подошел автобус. Следом за автобусом ехало такси - голубая «Волга». В тот момент, когда такси обгоняло автобус, из-за него на проезжую часть выскочил молодой человек, он хотел перебежать на другую сторону, к скверу. Такси вильнуло, молодой человек заметался, и машина ударила его правым крылом в бедро. Очевидцы сообщили, что скорость такси была небольшая, во всяком случае, не превышала шестидесяти километров. Резко тормозить водитель не мог, так как был гололед, да к тому же площадь покрыта не асфальтом, а гладкой гранитной брусчаткой. Общая картина позволяла сделать заключение, что водитель такси не виноват. Между прочим, остановившись, он первым бросился к лежавшему на мостовой парню, хотел отвезти его в больницу. Но тут, на счастье, мимо проходила машина «Скорой помощи», она и забрала парня. У незадачливого пешехода оказался перелом бедренной кости, других повреждений не нашли. Водителем этого такси был Зароков. Его повезли на экспертизу, где заставили дуть в трубку. Трубка не показала ни малейших следов алкоголя. После составления протокола у Зарокова взяли подписку о невыезде из города и велели отправляться в парк. На линию выезжать сегодня больше не разрешили. В парке по этому поводу было много толков. Хорошо еще, что Мария сдала смену и ушла до его появления. Все шоферы жалели Зарокова, считали, что ему просто не повезло. Ведь водитель первого класса. Допустить наезд из-за нерасторопности, по недосмотру он не мог… Убитый случившимся, Зароков покинул парк и отправился на телефонный переговорный пункт. Прождав целый час, он наконец получил Ленинград. Ему не хотелось описывать случившееся Нине в слишком трагических тонах, но все же он был очень расстроен. Главным образом потому, что это досадное происшествие задержит его приезд в Ленинград. Не может ли она сама приехать к нему? Нет, в ближайшие дни никак не может, составляется план на второй квартал. Договорились, что он будет звонить ей как можно чаще. По пути домой он зашел в винный магазин, где продавали в розлив, и выпил стакан коньяку. Дембович встретил его словами: - Он уехал. Зарокова удивило: слова приятные, а произнесены так мрачно. - Уже? - спросил он. - На курсы уехал. Хмель сразу прошел. - На какие курсы? - Повышения квалификации. Зароков сунул изжеванный окурок в пепельницу. - Неужели это из-за вас? - За последние три года его посылают вторично. Я узнавал у его заведующей. Зароков покачал головой. - Наследили, Дембович. Заведующая вас запомнит. - Не уверен… Я ведь тоже задал себе вопрос: неужели из-за меня? Лучше уж наследить, чем думать о таких страшных вещах. И потом, это не так опасно. Она меня помнит с тех времен, когда я еще работал в управлении культуры. Зароков не спорил. Он попросил дать чего-нибудь поесть. Дембович не мешал ему, но Зароков заговорил сам: - Надолго послали? - На месяц. - Надо проверить, но с ним не встречайтесь. - Он покачал головой. - А я-то насочинял… Драматург! Режиссер несчастный! Дембович тоже не стал спорить. Зароков отложил вилку. - Но что-то необходимо делать. Нужен другой. - Я думал, - сказал Дембович. - У меня есть только один человек, который может пойти на такую вещь. Но это будет очень грязный вариант. - Кто он? - Зовут его Василий Терентьев. Мы вместе служили в гестапо во время войны на Карпатах. На нем много крови, его держали на самых грязных акциях. А я в этом смысле был не замаран. Когда уходили, немцы меня взяли, а его бросили. Он знает, что его разыскивают как государственного преступника. В сорок седьмом он меня нашел. Я помог ему достать документы. - Плохо… Плохо, но поневоле приходится иметь дело с подонками. Где живет? - Псков. - Надо ехать к нему, Дембович. Завтра же. - Другого ничего нет. - То, что мы насочиняли для Круга, годится? - Думаю, годится. Только разговаривать он не мастер. Не знаю, как сейчас. Ваша сестра удивится, что у ее брата такой друг. - Другого же никого нет… Давайте спать. Встанем пораньше… Вам в дорогу, а мне надо одного пострадавшего пешехода в больнице навестить, передачу снести.Глава 14 ЗАБЫТЫЙ ПАВЕЛ
В течение последнего месяца Куртис не баловал Павла своим вниманием. Словно бы охладел к нему. Приходил раз в неделю по вечерам, справлялся, как идет работа, давал двадцать или тридцать рублей и откланивался. Однажды, поговорив дольше обычного, он выразил удивление, что Павел резко изменил свой лексикон и вообще как-то изменился. - Вы что же, прикажете с хлебопеками по изящной фене ботать? - возразил Павел. - Они могут не так понять. Приспосабливаться обязан, дорогой товарищ. А вообще надоело мне носить хомут. Видели бы кореша! Боже мой! Вот завеснит немножко - помашу я вам платочком. Куртис сказал, что снимает с повестки совещания свой вопрос насчет лексикона как совершенно неуместный. И чтобы Павел не тосковал. Все окупится когда-нибудь. И дал тридцать рублей. Жизнь Павла текла размеренно и спокойно. Время от времени являлся домой поздно. Тогда хозяйка ворчала, а на следующий день завтрак бывал хуже тюремного. Но Павел не очень-то обижался. Добродушие его было неистощимо. И это обезоруживало строгую и дисциплинированную старушку. Усердие и расторопность Павла были замечены на работе, и вскоре его перевели на должность экспедитора. Теперь он ездил на разные склады и базы за маслом, за изюмом, какао, молоком, сахаром… Однажды на складе, где он должен был получить масло, к нему подошел какой-то человек в белом фартуке - лица его Павел в первый момент не разглядел, в помещении склада было полутемно. Наверно, новый помощник кладовщика, решил Павел. - А халатик-то надо бы постирать, - сказал этот человек. Павел смутился. Но не оттого, что его синий халат был действительно не первой свежести. Он узнал много раз слышанный голос. Ошибиться было невозможно - рядом с ним стоял лейтенант Кустов, которому по плану операции назначалось осуществлять связь между ним и руководством. - А у вас всегда очередь? - спросил Павел и отвернулся. - Пойти покурить, что ли? - Ну, это уже по принципу - сам дурак, - разочарованно произнес человек в белом фартуке. - Покурите, покурите… Ожидавшие очереди экспедиторы заулыбались. Кустов вышел в боковой коридор, Павел за ним. - Кустов, это же ты, да? - быстрым шепотом сказал он ему в спину, шагая следом. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь - вот сколько прошло времени, прежде чем Павел дождался связи. Каково ему было сдерживаться? Он уж думал - про него забыли. В дальнем конце коридора Кустов отпер ключом маленькую дверь, и они вошли в тесную кладовку, где стояли новенькие весы и в углу стопкой были сложены пустые мешки. Пахло свежей рогожей. Обнялись. Потом Кустов достал из бокового кармана кожаный бумажник, извлек из него вдвое сложенный листок. - Читай. Павел развернул записку. Его не надо было просить дважды. «Твое поведение одобряем, - читал он. - От тебя пока никакой информации не требуется. Задача прежняя - входи в доверие. Боцмана проверял Дембович. Пелагею Сергеевну Матвееву проверяла втемную женщина, тебе неизвестная. Медальон предъявлен. Но не в медальоне суть. Главное - карточка. На карточке тебя узнали. И все-таки проверка еще не закончена. Будь бдителен. Не торопи события. Дома все в порядке, мать шлет тебе большой привет. Что нужно - передай. Желаем успехов. Сергей». Кустов все время глядел на него с добродушной улыбкой. Заметив, что Павел дочитал до точки, сказал вполголоса: - Тебя просто не узнаешь. - Система Станиславского. Но обмениваться впечатлениями друг о друге все-таки не было настроения. - Видал его с тех пор? - спросил Кустов. - Нет, больше не видал. - Выдерживает. - Но думаю, если уж такой заглотнет - будет крепко, не сорвется. - Трудно тебе? - Вжился. Кустов показал пальцем на записку. Павел вернул ее. Кустов вынул карандаш, написал на чистой стороне несколько цифр. - В экстренном случае можешь звонить. - Он подержал у Павла перед глазами номер телефона. - Готово, - сказал Павел, и Кустов спрятал записку в бумажник, а бумажник во внутренний карман. - Следующая явка будет похожана эту. - Хорошо. - Что передать? - Только приветы. Мне ничего не надо. И они расстались, обнявшись на прощание. Павел отправился получать масло, а Кустов вышел через другую дверь на улицу.Глава 15 ТЕЛЕГРАММА
Настал февраль. Среди метельных и ветреных выпадали иногда дни, приносившие откуда-то издалека запах весны. Как будто на замороженных стеклах окна кто-то растопил теплым дыханием светлую лунку. Но на следующий день снова налетала морозная вьюга, и лунка затягивалась бесследно. Ничто не менялось в распорядке жизни Павла. Встреча с Кустовым немного выбила из колеи, но это быстро прошло. Шестого февраля вечером пожаловал Куртис. Дверь ему открыл Павел. Он отметил про себя, что старик сильно сдал по сравнению с прошлым посещением. Как-то сразу обозначились и мешки под глазами, и склеротические жилки на скулах, а кожа шеи, показавшаяся Павлу такой морщинистой еще при первой встрече в ресторане «Центральный», была решетчатая и темная, как панцирь у старой черепахи. И вдобавок, вероятно, он дня два не брился. - Сразу видно, что вы шли не на прием к английской королеве, - приветствовал его Павел. Куртис только махнул нетерпеливо рукой. - Слушай, Павел. Завтра поближе к вечеру тебе надо сходить на почтамт. Возьми с собой паспорт. Получишь телеграмму до востребования. …На следующий день Павел после работы съездил на почтамт и получил телеграмму. Дома его ждал Куртис. Старик схватил телеграмму, воскликнул: «Слава богу!» - и, не простившись, убежал. Павел переоделся, обрадовал хозяйку, что идет в кино, и спустился на улицу. Побродив, он нашел телефон-автомат на тихой пустынной улочке. Набрав номер, который показывал ему Кустов, спросил: - Скажите, пожалуйста, ваш телефон два двенадцать сорок семь? - Это не были цифры, набранные им. - Нет. - А какой? Мужской голос назвал условный номер. Павел сообщил о телеграмме. - Вам велено передать, - услышал он в ответ после небольшой паузы, - приедет гость. Берегите его. Редкая гадина. Теперь необходимо координировать действия. - Понял. Буду звонить. Вернувшись к себе, Павел увидел Куртиса. Как всегда, когда предстоял разговор без посторонних, Куртис послал хозяйку в магазин. Потом попросил Павла сесть и предупредил, что это будет самая серьезная беседа из всех, до сих пор между ними происходивших. И просил не зубоскалить. - Завтра, а может быть, послезавтра, - начал он, - к тебе на работу придет человек. Он вызовет тебя. Не удивляйся. Фамилия его Терентьев. Пойди с ним в столовую на углу Кузнечной и Парковой. Знаешь? Если будет спрашивать обо мне, скажи, что меня увидеть нельзя, меня сейчас в городе нет… Расспроси его досконально, что он сделал. Все по порядку. Если у него осталось что-нибудь от поездки - отбери. А затем скажи, я велел сделать так. Он сегодня же ночью должен ограбить какую-нибудь палатку, магазин, ларек - что угодно. Или стянуть вещи в зале ожидания на вокзале. В общем, по его усмотрению. Его ищут, могут и найти. Ты понимаешь: лучше судиться за кражу. Осудят года на два - и концы в воду. Отсидит - выйдет чистый. Втолкуй ему. Самое главное - чтобы он усвоил именно это. От него надо избавиться. Объясни, что после отсидки он сможет жить в открытую, как хочет. Не надо будет скрываться. Я дам тебе деньги, отдашь ему. Тысячу рублей. - Слушайте, маэстро, хотите впутать меня в мокрое дело? - серьезно сказал Павел. - Я протестую. На мне и так, кажется, висит… - Тебе нечего опасаться, - уверял Куртис. - Хорошо. Но учтите: если что, я себя в жертву ради вас приносить не буду. Все расскажу…Глава 16 ТЕРЕНТЬЕВ ЕСТ ПИРОЖКИ
Человек, пришедший в пятницу после обеда в контору хлебозавода и спросивший Корнеева, производил очень странное впечатление. Он был словно из ваты. Двигался медленно. На землистом лице застыло какое-то идиотски бесстрастное выражение, словно у него были парализованы нервы, управляющие мышцами лица. Лицо истукана. И ко всему - неестественно тонкий голос. Павел, отпросившись у начальства, вышел с ним на улицу. - Значит, вы и есть Терентьев и вы получили мой перевод? - в обычной своей манере завел разговор Павел. - Телеграмму отбивал, - без всякого выражения, как автомат, сказал Терентьев. - И много получили? Тот молчал. Павел посмотрел на него сбоку и подумал: «Натуральный истукан». Походили по переулкам. Павел два раза проверился - Куртиса не было. - Ладно, - сказал он, - план такой. Сейчас пойдем где-нибудь перекусим. Для ресторана, боюсь, ты одет слишком кричаще. Но тут недалеко имеется одно предприятие под названием «Пирожковая». Оно нам подойдет. В столовую на углу Кузнечной и Парковой, где советовал отобедать Куртис, он идти не собирался. Там за ним будут следить. В пирожковой было столиков шесть, а посетителей человека четыре - обеденные часы кончились. Павел и Терентьев сели в углу. Терентьев шапку не снял и пальто не расстегнул, хотя было жарко. Павел принес два бульона, горку пирожков с мясом на глубокой тарелке. - Водки нет? - Впервые в голосе Терентьева послышались слабые нотки какой-то заинтересованности. Это было кстати. Павел сам собирался навести речь на выпивку, чтобы выйти минут на пять из пирожковой. Вчера он звонил своим, доложил о Терентьеве. Просили позвонить сегодня, когда Терентьев явится. - Нет, - с сожалением произнес Павел, - здесь выпивки не бывает. Но вот что… Ты посиди, я сбегаю в продовольственный, куплю пол-литра. Тут недалеко. Хочешь - ешь, но лучше подожди. - Бери сразу две. - В первый раз этот ватный человек сказал три слова кряду. - Тоже правильно, - согласился Павел и убежал. Он позвонил из автомата за углом. Инструкции были короткими и ясными: сделать все так, как приказал Куртис. - И еще одно. У вашего подопечного есть золотые женские часы марки «Заря». Возьмите их у него. Покажите и отдайте их Куртису, если он сам спросит о каких-нибудь вещах. Не спросит - не показывайте. Вы их присвоили, понимаете? Деньги подопечному не отдавайте. Прикарманьте их. - Понял. - Когда будете передавать Куртису то, что расскажет подопечный, не приукрашивайте. Сохраните его стиль. - Это мне ясно. - Все. …Павел принес две бутылки водки. Одну дал Терентьеву, другую зажал у себя между коленями. - Так удобнее, - объяснил он. - Тут в открытую пить не разрешается. Наливай себе под столом и сразу опрокидывай. Чтоб стакан пустой стоял. Терентьев налил себе полный стакан и выпил его маленькими глотками. Съел полпирожка. И тут Павел попросил его рассказать про Ленинград. Терентьев уместил всю историю слов в двадцать пять - тридцать, но излагал ее мучительно долго. То и дело останавливался, возвращался назад и все время забывал, что говорить надо шепотом. Павлу пришлось раза два цыкнуть на него. В конце концов он все-таки добрался до точки. Если бы Павел знал о плане убийства, разработанном Надеждой, он бы увидел, что рассказ Терентьева совпадает с этим планом. Терентьев допил свою бутылку и спросил у Павла, нет ли еще выпить. Оказывается, этот истукан даже не замечал, что Павел вообще не наливал себе. Он был полностью отключен от окружающего. - Свалишься, - сказал Павел. - А тебе еще надо дело делать. - Не. Не свалюсь, - трезвым бесстрастным голосом возразил Терентьев. - Если есть, дай. Павел видел, что он действительно нисколько не изменился после выпитой бутылки. - Ну ладно, я тебе дам еще, но после. Сейчас слушай… И он слово в слово изложил то, о чем просил Куртис. Терентьев выслушал спокойно. Ни одна жилка не дрогнула на его лице. - Сделаю, - только и молвил он. - Что-нибудь от этой женщины у тебя есть? - спросил Павел. - Часики. - Дай их мне. Только тихо. Сними шапку, сунь их за клапан, шапку положи на стол. Терентьев все так и сделал. Павел взял шапку, вынул и положил к себе в карман часики на черном креповом ремешке. Потом передал Терентьеву под столом нераспечатанную бутылку, сказав: - Только не торопись, а то опьянеешь. Нам еще долго сидеть, до вечера. Я тебе покажу одну палаточку, там ты и разгуляешься. …Около девяти часов вечера Павел повел Терентьева поближе к центру. Не дойдя немного до угла Первомайского переулка, Павел остановился. - Вон, смотри, на углу стеклянный павильон. Это галантерейная палатка. Действуй. Место было не очень оживленное, но прохожие попадались. Терентьев, шаркая по асфальту своими галошами, размеренно и неторопливо направился к павильону. Павел повернул в обратную сторону, отошел метров на сто и решил подождать, понаблюдать, что будет. Было тихо, и скоро он отчетливо услышал лязг, какой-то хруст, затем крики: «Сюда! Сюда!» А через минуту раздалась трель свистка. Павел увидел, как две фигуры, сопровождаемые кучкой любопытных, пересекли улицу и скрылись за углом… Куртис встретил Павла бранью. Он был взбешен и настолько не владел собой, что забыл услать Эмму. - Где ты пропадал? - кричал он. - С вокзала он поехал к тебе. Почему ты не пришел в столовую? - Какая столовая? - Павел простодушно поглядел на Куртиса. - С таким чучелом в центре показываться? - Подумаешь, аристократ! Павел тоже решил разозлиться: - Если так, я вам скажу, маэстро, кое-что. Хотели, чтобы я с этим барахлом таскался по городу? Замарать меня хотели? И без того уже замарали! Хватит. Что вы ко мне прилипли? И не орите. На меня родной папа никогда не орал. Кажется, мы с вами распрощаемся. И боюсь, что навсегда. Павел хорошо изучил натуру Куртиса. Старик был из тех, кто кипятится только до первого отпора, а наткнувшись на острое, моментально сникает. Так произошло и теперь. Куртис почувствовал себя усталым. - Сядем, - сказал он. - Рассказывай. Павел подробно описал все. Куртис слушал закусив губу, полуотвернувшись и глядя в пол. - Будем надеяться, что все произошло так хорошо, как ты говоришь. - Чего вам еще надо? - возмутился Павел. - Ваш приятель благополучно попал в руки милиции. Вы же этого хотели? - Он мне никакой не приятель… У него что-нибудь осталось из вещей? Павел молча достал часы на потертом черном креповом ремешке, протянул их Куртису. Но тот, поглядев на них, брать в руки не стал. Он смотрел на часы, как на жабу. - Их надо выбросить. Так, чтоб никто не нашел. Слышишь? Непременно выброси. Пожадничаешь - жалеть будешь. Павел усмехнулся. - Это я лучше вас знаю. Я же не аристократ. - Деньги отдал? - Конечно, отдал, - не моргнув, соврал Павел. - Но вот куда он их спрятать успеет, трудно сказать. - Отберут, наверно, - безразлично предположил Куртис, вставая. - Мне пора идти. Но я тебя еще раз прошу: выброси часы. А ремешок лучше сжечь. Павел не вышел из комнаты в прихожую, чтобы проводить Куртиса, - это было впервые. Старик, надев пальто, заглянул в дверь, сказал: - Не серчай. - Тон у него был примирительный. - Скоро погуляем. А насчет замарать - глупость. - Поживем - увидим, - ответил Павел.Глава 17 ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ ПАВЕЛ И НАДЕЖДА
Контрразведчики думали, что Надежда не решится на убийство Воробьевой. Но, к их большому сожалению, он решился. И вот что произошло в Ленинграде, о чем не знали ни Павел, ни Надежда. …Василий Терентьев, ничем не примечательный низенький человек лет сорока пяти, неторопливый, даже медлительный в движениях, одетый в длинное зимнее пальто грязно-синего цвета с черным барашковым воротником, в шапке-ушанке солдатского образца, в черных валенках с галошами, вышел на вокзальную площадь в толпе пассажиров, приехавших из Пскова в Ленинград, и остановился, чтобы осмотреться. Шоферы стоявших чуть поодаль легковых автомашин торопливо, как родных, кинулись встречать приехавших, предлагая услуги. Это были не таксисты, а обыкновенные «леваки». Ловкий разбитной парень в пыжиковой шапке и потертой кожаной тужурке издалека крикнул стоявшему с полуоткрытым ртом Терентьеву: - Эй, валенки! Поедем, что ли? Терентьев поманил его рукой в темной толстой шерстяной перчатке. Парень подошел вразвалочку. - Мне на Московский вокзал. Свезешь? - спросил Терентьев неожиданным для его обстоятельного облика тонким голосом. - Рупь, - сказал парень, озорно поглядывая по сторонам. Терентьев снял перчатку, хотел лезть в карман за деньгами. - Да нет, ты что? - остановил его парень. - Так нельзя. Потом. Иди в машину. Во-о-он, серая, с того краю третья. Видишь? Ты иди садись, я еще попутных поищу. Терентьев неторопливой деловитой походкой направился к машине, а парень принялся громко вопрошать: - Кому на Московский? На Московский кому? Есть два места! Терентьев, приблизясь к серой машине, обойдя ее два раза, словно прилаживаясь, наконец открыл переднюю дверцу, но передумал, закрыл и поместился на заднее сиденье. Скоро прибежал шофер. Рывком распахнув дверцу, он нырнул за руль, еще не усевшись, завел мотор и, трогая с места, сказал: - Порядок! Еще двое нашлись. С вещами. Сейчас мы их заберем. Развернувшись по широкой дуге, он лихо, так, что взвизгнули тормоза, осадил машину у тротуара. Задние дверцы открылись разом с обеих сторон, и, не успев сообразить, что происходит, Терентьев оказался между двумя плотными молодыми людьми. И машина, свернув, быстро побежала по переулку. Молодые люди крепко сжимали ему запястья. - Спокойно, - дружелюбно сказал тот, что сидел справа, и сунул руку к нему за борт пальто. Там у Терентьева наспех был пришит длинный, узкий, как для белого батона, карман из холстины, а в кармане лежал тяжелый молоток. Молодой человек извлек его и спокойно поинтересовался: - Еще что есть? - Ножик, - тонким голосом отвечал Терентьев. - Ну и валенки! - весело сказал шофер и расхохотался. - Где он? - В пинжаке. В левом кармане, - оторопело, еще не придя в себя, сообщил Терентьев. Молодой человек достал финку в самодельном сыромятном чехле, с наборной ручкой из разноцветного плексигласа - такие делали во времена войны… Через полчаса Терентьев давал показания. Первый вопрос задал, правда, он сам: - За что забрали? Но спокойный грузный человек, сидевший перед ним за большим столом, на котором не было ничего, кроме чистого листа бумаги и черной авторучки, выдвинул боковой ящик, взял из него фотографию с фигурно обрезанными краями, показал ее Терентьеву и ответил своим вопросом: - Когда и куда вы исчезли с Карпат? Терентьев, помедлив, попросил попить. - Спрашивайте. Буду говорить. Он не запирался, не утаивал ничего. Покончив с прошлым, перешли к тому, что Терентьев собирался сделать в Ленинграде. Ответы его были односложны, но вполне откровенны и исчерпывающи. - Вот что, Терентьев, - сказал брезгливо человек, сидевший напротив, - вы поедете в Москву, как собирались сделать. Вы дадите оттуда телеграмму, что перевод получили. Потом вы поедете в тот город и найдете Корнеева. И будете поступать так, как они вам прикажут. Не вздумайте обмануть. Теперь вам никуда не уйти. Разделаться с вами мы им не дадим. Вас обязательно будут судить как государственного преступника. Вот каким образом случилось, что Павел имел сомнительное удовольствие познакомиться с Терентьевым, а Надежда смог порадоваться телеграмме, содержавшей два слова: «Перевод получил».Глава 18 БЕДА ОДНА НЕ ПРИХОДИТ
Испытывая в эту зиму постоянную радость оттого, что одиночество ее кончилось, Мария все ждала и боялась, как бы не пришла беда. И вот, пожалуйста, так она и знала: Михаил сбил пешехода. Правда, до суда дело вряд ли дойдет, потому что виноват не Михаил, а сам пострадавший, но все равно душа болит. Единственное утешение - травма у парня оказалась не очень тяжелой. Мария дважды навещала его, носила яблоки, печенье, говорила с врачом. У парня был перелом бедренной кости, но врач назвал его удачным, потому что кость не расщепилась, парню семнадцать лет, бедро срастется. Но так как беда одна не приходит, Мария ждала, что должна случиться еще какая-нибудь неприятность. Так оно и произошло. Едва Михаил немного успокоился после происшествия с парнем, как нагрянуло настоящее несчастье. В тот вечер они собирались пойти в театр, но, когда Михаил встретил ее после работы, Мария поняла: ни о каком театре не может быть и речи. Михаил выглядел таким убитым, что у нее упало сердце. Он как будто постарел лет на десять. - Что с тобой? - спросила она. Он протянул ей синюю бумажку - это была повестка из прокуратуры. Явиться сегодня в пять вечера. - Неужели все-таки?… - Мария имела в виду дело с парнем. - Нет, - сказал Михаил. - Думаю, что-то случилось с сестрой. Что-то серьезное. Сейчас объясню. Проводишь меня до прокуратуры? До пяти времени еще оставалось много, пошли пешком. И вот что рассказал Михаил. Вчера поздно вечером он позвонил в Ленинград сестре по домашнему телефону. Было часов одиннадцать, но никто ему не ответил. Он подумал, что, может быть, сестра с мужем ушли в кино или в гости. Но какое-то смутное предчувствие не давало ему покоя, и он решил во что бы то ни стало дозвониться, услышать голос сестры, хоть в час, хоть в два ночи. Вернулся на переговорный пункт в половине первого. Но и на этот раз квартирный телефон не отвечал. Сегодня утром он позвонил по рабочему телефону. Произошел какой-то странный разговор. Женский голос ответил, что Воробьевой нет. Он спросил, когда она будет. Никогда, был ответ. Михаил попросил объяснить почему. Может, она уволилась? Нет, не уволилась. Так что же случилось? Ну, сказала женщина, такие вещи по телефону объяснять она не будет. А дома Михаила ждала повестка… У подъезда прокуратуры он попробовал уговорить Марию, чтобы она не ждала, это может затянуться. Но она осталась. Целых два часа она ходила по тротуару взад-вперед, строя самые зловещие предположения. Было холодно, но зайти в прокуратуру Мария стеснялась. Наконец Михаил вышел. Да, предчувствия не обманули его. Следователь попросил буквально по часам и минутам рассказать, что он делал с того момента, как узнал от участкового уполномоченного о существовании Нины Александровны Воробьевой, своей сестры. Михаилу нечего было ломать голову - каждый его шаг на виду, можно точно проверить. На вопрос Михаила о сестре следователь ответил, что она убита. Когда Михаил пришел в себя, следователь сказал, чтобы он правильно понял этот вызов и допрос. Следствие обязано проверить все версии, кажущиеся возможными. Михаила, вероятно, вызовут еще не раз. На протяжении недели его действительно вызывали еще дважды. И в последний раз следователь объявил, что Михаил может считать себя вне подозрений, и попросил от имени прокуратуры извинения за то, что вынуждены были его потревожить. Михаил пытался звонить по вечерам в Ленинград на квартиру Нине, хотел поговорить с мужем, но телефон не отвечал. Михаил пошел к следователю, который его допрашивал, посоветоваться, узнать, почему не отвечает телефон. Следователь сказал, что свяжется с ленинградцами, и просил зайти завтра. Михаил зашел. Оказывается, Воробьев, муж его сестры, собирается менять квартиру, дома не бывает, живет у знакомых. Что касается намерения Михаила повидаться с Воробьевым, побывать на могиле сестры, то лично он, следователь, делать этого сейчас не советует. Сомнительно, чтобы Воробьев в глубине души не связывал убийство жены с неожиданно нашедшимся братом. Между прочим, именно он первый подал ленинградским следователям мысль проверить эту версию. Вряд ли ему будет приятно увидеть Михаила… Мария, когда у них зашел разговор о поездке Михаила в Ленинград, сказала ему то же самое и почти в тех же выражениях. И он смирился. На этом черная полоса у Марии, кажется, кончалась. С парнем, которого сбил Михаил, все уладилось. По поводу темной истории с сестрой подозрения с него сняты, и Мария с радостью наблюдала, как Михаил становится прежним, уверенным в себе человеком. Окончательно он стряхнул угнетавшее его беспокойство в тот день, когда они нечаянно попали в суд. А произошло это так. Они гуляли, встретившись по обыкновению в четыре часа, после ее работы. Михаил был веселый. Вдруг он остановился и стал читать вывеску, на которой было написано: «Народный суд 2-го участка Заводского района». Михаил сказал: «Идея! Давай зайдем. Интересно же посмотреть, что бы могло со мной произойти. Никогда не бывал в суде. А ты?» Она тоже не бывала. Залов было несколько, но дела слушались только в двух: в одном разводили мужа с женой, в другом судили вора. Публика - сплошь старушки и старики. Михаил выбрал второй зал. Они немного опоздали к началу разбирательства, обвинительного заключения не слышали. Подсудимый - невзрачный коренастый человек с землистым лицом - отвечал на вопросы прокурора противным тонким голосом. Вероятно, дело было предельно ясное - весь процесс занял не более двадцати минут. Вор забрался в галантерейную палатку на углу Спортивной и Первомайского переулка и был задержан на месте преступления двумя прохожими - парнями с электролампового завода, которые сдали вора милиционеру. Парни эти присутствовали на суде в качестве свидетелей и тоже давали показания. Вору дали два года. После суда Михаил стал еще беззаботнее. В тот вечер Мария вздохнула с облегчением: и вправду черная полоса кончилась, все переменилось.Глава 19 УРОК ЛОГИКИ
Надежда был спокоен и уверен как никогда. Все вошло в норму. Единственное, что тревожило его, - внезапный отъезд Леонида Круга, подозрительно точно совпавший с посещением Дембовича, - разъяснилось. По его заданию Дембович съездил в район, зашел в здание, где проходили сборы киномехаников, видел Круга, а в первых числах марта был на седьмом километре, разговаривал с ним. Круг в самом деле был на курсах. Ровно месяц. Снег в саду у Дембовича растаял, и однажды поздним вечером Надежда попросил его выкопать из-под яблони портативную рацию. Составив и зашифровав довольно подробное донесение и дождавшись назначенного для сеанса часа, он выехал далеко за город и во второй раз за полгода пребывания в Советском Союзе вышел в эфир. Надежда не слишком опасался, что его запеленгуют, - передача была скоростная, длилась каких-нибудь двадцать секунд, не больше. В донесении Надежда описал в общих чертах события прошедших месяцев, дал объективную оценку своему положению, а в конце сообщил о том, что с Леонидом Кругом установлена связь, и просил на этот счет указаний. В следующую ночь он работал на приеме, который длился всего десять секунд. После приема он с помощью маленькой приставки к рации прослушал развернутый текст сжатой радиограммы, а потом долго расшифровывал ее. Центр считал, что положение Надежды, как им представляется, позволяет приступить к исполнению двух заданий. Ориентировочно переброска Леонида Круга назначалась на вторую половину июня. К тому времени следует иметь пробы земли и воды, чтобы Круг взял их с собой. Детально разработанный план переброски Надежда получит ровно через месяц. Указывалось точное время, когда он должен будет в следующий раз работать на приеме. Видеться с Кругом он не намеревался. Это было бы опрометчиво. Все можно сделать через Дембовича. А с Бекасом следовало встретиться как бы случайно и поговорить по душам. Как-то в ясный вечер, когда солнце было уже на закате и капель, весь день звеневшая в городе, замолкла, а на карнизах домов морозец развесил хрустальные сосульки, Надежда подъехал на своей машине к хлебозаводу. Павел вышел с двумя совсем юными девушками. Он, видно, досказывал им какую-то историю, начатую еще там, за дверями завода. Девчонки покатывались со смеху. Надежда, понаблюдав эту картину, подумал, что Дембович в своих педантично подробных описаниях встреч с Бекасом нарисовал ему портрет, идеально схожий с оригиналом. Тут, конечно, Павел был не таким, какого Павла помнил Надежда по кратковременному знакомству в поезде Сухуми - Ленинград. И не таким, как во вторую их встречу, когда Бекас сел к нему в такси вместе с размалеванной девицей. Надежда чувствовал, что начинает питать симпатию к этому легкомысленно шагающему по жизни парню. Павел не обратил на машину Надежды никакого внимания. До трамвайной остановки он дошел вместе с девушками, а на остановке с ними распрощался. Они продолжали путь пешком. Павел вскочил в трамвай. Надежда не спеша ехал следом. Там, где трамвай сворачивал в сторону стадиона, Павел спрыгнул с задней площадки, не дожидаясь остановки, и бодро зашагал по бульвару. За версту было видно, что это невозмутимо бесшабашный человек. На глаза ему попалась закусочная, и Павел зашел в нее. Надежде пришлось подождать минут пятнадцать. Павел появился, дожевывая на ходу. Сокращая путь, он свернул в улицу, застроенную старыми одноэтажными и двухэтажными домиками, с тесными дворами, загроможденными покосившимися сараями. И вот здесь-то Надежда догнал его. Опустив стекло, он окликнул Павла: - Алло, радиотехник! Садись - подвезу. Денег не возьму - угощаю! Павел чуть нагнулся, разглядывая шофера такси. Узнал и моментально нахмурился. - Знаешь, друг милый, - не принимая дружелюбного тона, сказал он. - Вались ты… Вот навязался на мою шею! Я тебя не знаю, понял? Павел огляделся, свернул во двор, увидел узкий проход между сараями и юркнул в него, чтобы выйти на другую, параллельную улицу. Надежда развернул машину, нажал на газ посильнее, доехал до угла, сделал поворот и буквально через десять секунд въехал на улицу, по которой ускользнул Павел. Но его там уже не было. Личный контакт, как говорится, наладить не удалось. Зато паническое бегство Павла давало Надежде красноречивое доказательство в пользу того, что сомнения его относительно Павла беспочвенны. И Надежда в последний раз решил проверить эти свои сомнения, преподав самому себе урок элементарной логики. Если исходить из предположения, что Павел - контрразведчик и подослан к нему, значит, органам государственной безопасности было известно о Надежде с первого дня его появления на территории Советского Союза, а точнее, еще до появления. Допустим, что это так. Отсюда вытекает вопрос: почему органы госбезопасности не взяли Надежду сразу? Ответ найти нетрудно: чтобы выявить его связи и намерения. Но очевидно, что у советских контрразведчиков достаточно сил, чтобы знать о расшифрованном вражеском разведчике буквально все, следить за малейшим его шагом, контролировать каждое его действие. Подсылать к нему под видом уголовника специального сотрудника для того, чтобы усилить слежку, нет особой необходимости. И к тому же это всегда чревато известным риском для следящих: если они не считают иностранного разведчика идиотом, то обязательно должны опасаться, что при малейшей фальши со стороны подосланного разведчик обнаружит слежку, и тогда органам госбезопасности придется немедленно прекращать игру. Да и вряд ли они могли рассчитывать, что разведчик позволит себе прямой контакт с подосланным человеком, а общение через третье лицо в смысле слежки мало что прибавляет. Значит, если Павел является человеком советской контрразведки, то направлен к нему с единственной целью: чтобы Надежда его завербовал, заставил работать на себя. Это закономерно. В таком случае этот Павел - большой артист. Он до сегодняшнего дня еще не сделал ни единой ошибки. И сегодня сыграл блестяще. Да и Дембович не верит, что Павел направлен к ним советской контрразведкой, а старик - стреляный воробей, его на мякине не проведешь. Трезвый ум запрещал Надежде полностью положиться на Павла и настоятельно требовал более строгой проверки. Что же получается? К чему он пришел? Он пойдет на риск, пора ставить точку. Он пошлет Павла за пробами земли и воды. Это окончательно решит все вопросы. Надежда переправит эти пробы с Кругом, а затем попросит центр, чтобы они послали в Советский Союз специального агента за повторными пробами. Центр обязан пойти на такую перепроверку Павла, он пойдет на нее, когда поймет, какое важное значение она имеет для будущей деятельности Надежды. Это займет, правда, много времени, но у Надежды еще раньше будет возможность проверить свои сомнения относительно того, раскрыт он или нет. Самая верная проверка - переправа Круга. Если Кругу удастся уйти за кордон, значит, советские контрразведчики не знают о Надежде. Осталось подождать два месяца. А пока по-прежнему надо быть начеку. Максимум осторожности и бдительности.Глава 20 ЗЕМЛЯ И ВОДА
Павел, придя с работы, заперся в ванной и полоскался там, как морж. В это время явился Куртис. Поздоровавшись с Павлом через дверь, он спросил: - Ты долго еще? - Только голову вымыл. Посидите, маэстро, почитайте книжку о загробной жизни. У Эммы попросите… В пиджаке у Павла, кроме старого, знакомого Куртису блокнота, был еще новый, с записями, имеющими отношение к новой деятельности Павла в качестве экспедитора. Кистень отсутствовал, был спрятан - это Куртис знал - под кроватью. Сверток с дарами для Боцмана также исчез, вероятно, продан за наличные в какой-нибудь забегаловке. Часиков, которые Павел получил от Терентьева, не было. Но зато за подкладкой на обоих бортах пиджака, внизу, Куртис нащупал нечто хрустящее. Поколебавшись немного, он решительно пошел в комнату хозяйки, вернулся с ножницами и отпорол подкладку в двух местах. Возмущение его не поддавалось описанию - он изъял из распоротого пиджака два целлофановых пакетика, в каждом из которых было по четыреста рублей двадцатипятирублевыми новенькими купюрами. Те самые, которые он вручил Павлу для передачи Терентьеву! Две сотни были, конечно, пропиты… Куртис даже покраснел. Бросив распотрошенный пиджак на стол вверх подкладкой и положив на него пакетики, он сел и придал лицу оскорбленное выражение. Павел появился в комнате распаренный, с полотенцем на мокрых волосах. Он с порога увидел свой пиджак на столе, перевел взгляд на разрумянившегося Куртиса и молвил: - Ну-у, маэстро, никогда бы на вас не подумал… Устраивать шмон своему лучшему другу… Куртис вскочил, сжав кулаки. - Шмон? Я тебе покажу шмон, несчастный вор! Он кричал, как на базаре, топал ногами, поносил Павла в самых отборных выражениях. Павел не огрызался. Побесновавшись всласть, старик схватился за сердце и сел на кровать. Павел сбегал на кухню, принес воды в стакане, дал ему попить, приговаривая: - Ну, стоит ли так портить кровь из-за несчастных бумажек? Что деньги? Та же вода. - Ты поступил подло по отношению к Терентьеву! - закричал старик. - На что они ему? И куда бы он успел их спрятать? - возразил Павел. - Ты поступил подло, - настаивал старик. - Мне этот случай открыл на тебя глаза. Я шел к тебе сегодня не за тем, чтобы ругаться и скандалить, но ты меня вынудил. Я хотел по-дружески просить тебя об одном одолжении, но теперь имею право и требовать. Я собирался дать тебе деньги - не столько, конечно, сколько ты прикарманил. Скажем, половину. Но ты уже получил из них двести рублей, не так ли? - Считайте, что получил, - согласился Павел. - Давайте остальные триста. - Сначала поинтересуйся, за что ты их будешь получать. - Интересуюсь. - Вот и слушай. Павел присел на кровать рядом с ним. - Помнишь, я как-то, между прочим, спрашивал тебя насчет города Новотрубинска? - Разве? Что-то не помню. - Ну, значит, собирался спросить. Ты бывал там? - Лучше спросите, где я не бывал. - Тебе придется съездить в Новотрубинск. - А как же работа? - Возьмешь расчет. Павел не мог сдержать радости. Он хлопнул старика по плечу так, что тот поежился. - Вы не совсем пропащий человек, Куртис. Весна и на вас отражается благоприятно. Но что я там буду делать? Куртис как будто не слышал вопроса. - Скажи, - спросил он, - в тех местах в апреле снега уже нет? - Смотря где. А вам что, прошлогодний снег нужен? Куртис достал из пиджака карту - это была страница, выдранная из карманного географического атласа, - ткнул пальцем в бурое пятно. Карта была маленькая, очень мелкомасштабная. Ноготь Куртиса занял площадь в несколько тысяч квадратных километров. - Здесь. - Аллах его ведает, - сказал Павел. - Наверно, уже растаял. А может, нет. - Все равно. - Куртис сложил карту пополам. - К концу апреля ты отправишься. До Новотрубинска самолетом, а там как возможно. Авиация есть - полетишь, нет - поездом. Запомни: станция… - он назвал станцию. - А вы скажете, зачем я туда поеду? - Дело самое пустяковое. Привезешь коробочку земли и бутылку воды из речки. И все. - Так, так, так… - Павел соображал недолго. - Думаете, нашли простака… Учтите, Куртис, я же вор образованный, хотя и не аристократ. Научно-популярную литературу почитываю в промежутках между посадками. Знаете, такие маленькие книжечки в ярких обложках. Я же десять классов окончил, Куртис. А вы сколько?… Это называется - проба на радиоактивность. - Ты ничем не рискуешь. - Статья шестьдесят четыре УК РСФСР. Измена Родине. Куртис заерзал. - Это же легче легкого. Ну как ты можешь попасться? Неужели у кого-нибудь вызовет подозрение турист, если он несет с собой бутылку воды? И земли тебе нужно не целый вагон. Всего две-три горсти. - Я же беглый, меня ищут. Попадусь в дороге - что я скажу? Что вез землицы на могилу отца? А водой хотел полить цветы, которые на ней не растут, потому что я не знаю, где могила? Павел сам подкинул козыри в руки Куртиса. - Ну, если ты попадешься милиции, тебе все равно, по какой статье становиться к стенке. Убийства часовых не прощают. Удивленно взглянув на него, Павел протянул неуверенно: - Он должен был остаться живым… А как вы разнюхали?… - Должен! Откуда ты знаешь? Переговоры, выражаясь языком дипломатов, чуть было не зашли в тупик. Но Куртис проявил терпение и настойчивость. Он не сулил золотых гор, но предлагал довольно много денег. Успокаивал, внушал, что при соблюдении элементарной осторожности почти никакой опасности нет. Павел молчал, слушал как-то рассеянно, потом встал, снял с головы уже наполовину высохшее полотенце, скомкал его, в сердцах шлепнул на стул и сказал: - Эх, гореть так гореть! Когда Куртис уходил, к Павлу вернулось его обычное бесшабашное настроение. Он остановил старика в дверях. - Слушайте, маэстро, может, все-таки заштопаете мой пиджачок? - Ничего, ты и сам портной хоть куда… Как условились, дней через десять Павел взял расчет. На хлебозаводе все были опечалены, что он уходит, его успели полюбить за веселый, легкий характер. Пробовали отговаривать, но Павел сказал, что хочет приобрести на четвертом десятке какую-нибудь более квалифицированную профессию. Куртис не провожал его на аэродром. Они скоротали время в кафе неподалеку от городского агентства Аэрофлота, откуда Павел должен был уехать на автобусе. На Павле был новый, только что купленный костюм серого цвета и недорогое, но хорошо на нем сидевшее пальто. Поговорили о том о сем, о погоде. А напоследок, уже выйдя из кафе, Куртис сказал как бы мимоходом: - Да, ты вот что… Билеты не выбрасывай. Все привези. Павел ничего не ответил, только укоризненно покачал головой. - Тебя не обманешь, - старик улыбнулся одобрительно.Глава 21 ТРЕТИЙ СЕАНС
Все чаще случалось так, что Михаил после смены, поставив машину в гараж, приходил ночевать к Марии. Соседи ее давно к нему привыкли, он стал в квартире своим человеком. Мария дала ему запасные ключи от общей двери и от комнаты. Она лишь однажды поинтересовалась, где он живет. Он сказал, что снимает проходную комнату в ветхом доме на окраине, приглашать Марию в гости ему неловко. И больше между ними этот вопрос не возникал. В тот день, уходя из дома Дембовича утром на работу, Михаил захватил небольшой обшарпанный фибровый чемоданчик. Сверху лежала пара чистого белья, свежая верхняя рубаха, мыло, мочалка и махровое полотенце. Под бельем свободно поместилась рация. Очередной сеанс связи с центром, назначенный на завтра, он из предосторожности хотел провести в другом месте, за городом. После смены, сдав машину, Михаил пошел к Марии. Она видела уже седьмой сон, когда он, стараясь не греметь, открыл дверь. Мария не проснулась. На ночь он поставил чемоданчик в платяной шкаф. Что Мария из любопытства заглянет в него, можно было не опасаться. Эпизод с письмами, которые он забыл у нее тогда, давал ему на это право. Утром она не стала его будить, и он проспал момент ее ухода. На столе лежала записка с указаниями, что где взять на завтрак. В конце: «Позвони». Позавтракав, он оделся, взял чемоданчик и вышел на улицу. Было совсем тепло. Солнце делалось горячим. На тополях лопнули почки, и по улицам стелились на уровне вторых этажей прозрачные зеленые газовые косынки. На автобусе он добрался до того места, где начиналась загородная автострада. Встал на обочине. Грузовые машины шли часто, но ему не всякая годилась. Наконец он увидел то, что нужно: в кабине с шофером рядом место было занято - там сидели две женщины. Кузов с высокими бортами - машина оказалась овощная. Михаил поднял руку, грузовик притормозил. - Мне недалеко! - крикнул он шоферу. - Подвезешь? Шофер кивком показал на кузов, Михаил перебросил через борт свой чемоданчик и легко вскочил сам. Грузовик быстро покатился по прямой, как линейка, бетонной автостраде. Зароков лег на пол кузова, приоткрыл крышку чемодана. Рация была налажена заранее. Следовало лишь послать позывные и перейти на прием. Минут через десять, когда проезжали через большой поселок, Михаил постучал по кабине, поблагодарил шофера, предложил ему рубль, но тот отказался. В город он вернулся на электричке. На вокзале зашел в телефонную будку, позвонил в диспетчерскую парка. - Ну как? - узнав его голос, спросила Мария. - Что собираешься делать? Михаил сказал, что хотел сходить в баню попариться с веничком, да встретил одного знакомого. У него мотороллер забарахлил, просит помочь, придется венику постоять в углу. - То-то думаю, чего это Миша с чемоданом стал ходить. В баню, значит. Ну так что? Ты мне еще позвонишь? - Обязательно. После обеда. Он поспешил домой. Дембович ковырялся среди яблонь, начался сезон весенних садоводческих работ. Расшифрованная радиограмма подробно излагала детали по переброске Леонида Круга, который должен взять с собой пробы. В час ночи 28 июня в квадрате, который числится на имеющейся у Надежды карте под номером 31-42, в узкой длинной бухте Круг должен в ста - ста пятидесяти метрах от берега ждать катер. Он может быть в небольшой резиновой лодке, а лучше пусть добирается вплавь. При условии, что пробы останутся в сохранности. В непосредственной близости от указанного квадрата расположены санатории и дома отдыха. Круга надо направить в один из них заблаговременно. Район пограничный, появление незнакомого человека, если он не отдыхающий, обратит на себя внимание. Под видом отдыхающего есть возможность предварительно разведать квадрат. Пароль для Круга: «Экватор». Ответ: «Аляска». Если у Надежды возникнут препятствия - уведомить. Его будут слушать каждое четное число в два часа дня по московскому времени. Если все в порядке - в эфир не выходить. Но у Надежды были и свои потребности. Он хотел получить от центра деньги и, главное, запасную портативную рацию. Его рация почему-то вдруг стала барахлить. Однажды он, торопясь, забыл вложить ее в непромокаемый футляр, и она, очевидно, отсырела. Отдавать в ремонт, естественно, нельзя. Надежда считал переброску Круга пробным камнем. Улетит - стало быть, у него все в порядке. Не улетит - значит, он давно на крючке у советской контрразведки. Пересылка рации и заодно с нею денег в этом смысле опасности не прибавляла. А раз так, можно подключить Павла. Надежда зашифровал ответную радиограмму с намерением передать ее послезавтра. Затем снова позвонил Марии. Баня отменяется, сказал он, до послезавтра. Сейчас купит билеты в кино на вечер, потом пообедает, а в четыре ждет ее на обычном месте. Через сутки был опять устроен «банный» день. Он передал центру радиограмму с просьбой прислать запасную рацию и деньги, которые должен принять с катера и доставить на берег Павел. Спустя некоторое время центр запросил характеристику на Павла. Получив необходимые данные, он разрешил привлечь Павла к операции. Надежда до этого допустил несколько просчетов - правда, не из-за собственной опрометчивости, а с помощью советских контрразведчиков. Но самой серьезной и теперь уже самой последней ошибкой резидента был, конечно, Павел, хотя Надежда все еще не до конца доверял ему… На Дембовиче действия Надежды отразились своеобразно. Он получил задание купить надувную лодку и весло. Весло купить удалось, но были только алюминиевые, оставлявшие на ладонях темные, металлически лоснящиеся пятна. Дембович наивно попробовал выразить протест - почему алюминиевое? Весло должно быть деревянное. Но продавец посоветовал дружески: «Берите, папаша, что есть, а то и этого не будет». Лодок в магазине не имелось. Как говорится, нет, и неизвестно… Отчаявшись, Дембович предпринял в воскресенье поход на рынок, на толкучку, и там ему повезло. Один дошлый дяденька, торговавший предметами рыбацкого обихода, надоумил его обратиться к некоему своему знакомому, который работал вулканизаторщиком в авторемонтной мастерской. Он и адрес дал. И заверил: «Он те не то что лодку, он те космический корабль сотворит». Действительно, найдя вулканизаторщика, Дембович моментально с ним договорился. Цену тот заломил людоедскую, но зато обещал сделать быстро, и, как сказал сей маг, «будете плавать, пока сами не утопитесь». Но это была не самая трудная часть выпавших на долю Дембовича забот. Михаил велел обеспечить две путевки в дом отдыха на побережье. Курортный сезон был на носу, достать путевку к морю становилось проблемой даже для рабочих и служащих, а Дембович, как известно, пенсионер. И позвольте, если, предположим, ему повезет и через собес дадут целых две путевки, то ведь они будут на его имя. «Ну, тут мы выйдем из положения», - сказал Михаил. И Дембович каждое утро, как на службу, отправлялся или в собес, или в областное курортное управление, где у него прежде были кое-какие знакомства, или в совет профсоюзов. А 26 мая Михаил послал Дембовича к Леониду Кругу с паролем, велев передать, чтобы тот готовился к переправе и ждал указаний.Глава 22 ВСТРЕЧА ПЕРЕД МАЕМ
На небольшой подмосковной даче, укрывшейся за высоким глухим забором, не ложились спать до поздней ночи. Собеседников было трое: генерал ИванАлексеевич Сергеев, полковник Владимир Гаврилович Марков и старший лейтенант Павел Синицын. Полковник Марков и Павел сидели друг перед другом за круглым столом под огромным темным абажуром. Генерал расположился в полутени на диванчике. Он лишь изредка вмешивался в разговор, а больше слушал. Марков подытожил доклад Павла и данные, собранные всеми участниками операции. - Вариантов с переправой проб может быть несколько, но наиболее реальные из них только два. Либо к нему пришлют специального курьера, допустим, какого-нибудь безобидного туриста, моряка, либо он сам пошлет кого-то за кордон. Курьер - маловероятно, потому что слишком для него опасно. Курьер может привести «хвоста». Значит, будем исходить из второго варианта. Здесь четыре вопроса: кого, как, где, когда? Здесь нам ничего не известно, но есть наводящие на размышления факты. Во-первых, Дембович снова навещал Леонида Круга… - Владимир Гаврилович, - перебил Маркова генерал, - простите, но вы ведь, кажется, выяснили, что поездка Дембовича на седьмой километр в марте вызвана просто беспокойством Надежды. - Мартовская - да. Но Дембович ездил туда и вчера. Я не успел вам доложить… Павел слушал молча. Ему все это было крайне интересно, ведь сейчас перед ним открывалась общая картина операции. В положении Бекаса он походил на актера, который один, без партнеров, играет выхваченную из пьесы роль. - Во-вторых, - продолжал Марков. - Дембович обзавелся самодельной надувной резиновой лодкой и веслом. - Он сделал паузу, побарабанил пальцами по столу. - В-третьих, Дембович пытается приобрести две - прошу обратить внимание, - две путевки в дом отдыха у моря - предпочтительнее к западу от города N. И сроки его интересуют строго определенные - с пятнадцатого или в крайнем случае с двадцатого июня. Зароков три раза выходил в эфир, но расшифровать его радиограммы не удалось. Вот все, Иван Алексеевич… - Да… - Генерал подсел к ним за стол, облокотился, лег грудью на скрещенные руки. - Как ты думаешь, Павел, зачем ему две путевки? - Не знаю, для кого другая, но от одной я сам не отказался бы, - сказал Павел. Генерал усмехнулся. - Кстати, Владимир Гаврилович, не забудьте помочь Дембовичу купить путевки. - Он поглядел на Маркова, потом на Павла. - Интересно, как все это повернется… Марков и Павел молчали. - А затем спать пора, - сказал генерал, вставая. - Ложитесь. Я поеду домой. Марков и Павел поднялись из-за стола. Генерал снял очки, близоруко посмотрел на Павла, положил ему на плечо руку. - Славно мы посидели на дорогу. До свидания, Павел! Главное, всегда помни: бой ведешь ты, а мы обеспечиваем тебе тылы. За них не беспокойся. «Волга», фыркнув, выскочила за ворота… Шел третий час ночи, но Марков и Павел спать не легли. Требовалось самым тщательным образом выверить линию дальнейшего поведения Павла в зависимости от любого возможного поворота событий. На следующий день Марков привез на дачу красивую молодую женщину и познакомил с нею Павла. Она была модно одета. Звали ее Рита. Если Павлу придется попасть на курорт, Рита будет связной - на все другие случаи остается лейтенант Кустов. После первомайских праздников, которые Павел провел с матерью на даче, он получил от полковника Маркова пробы. Земля и вода были привезены из того самого района, куда Павла послал Дембович, но по пути к Павлу они успели побывать в лаборатории одного института. Если люди, жаждавшие заполучить эту землю и воду, предполагали обнаружить в пробах радиоактивность, то результаты анализов превзойдут самые смелые их ожидания. Павел, взяв чемоданчик из искусственной кожи, в котором лежали круглая коробка из-под халвы - там была земля - и синтетическая фляга с водой, а также имелись предметы, приличествующие Бекасу, полетел в Новотрубинск. Оттуда поехал на станцию, указанную Дембовичем, и целую неделю изучал ее окрестности с пристрастием топографа. На Павле, когда он покидал Москву, не было пальто, не было и новенького серого костюма. Возвращался он в город, где его ждали Зароков с Дембовичем, не самолетом, а поездом. И ехал не в купированном вагоне, а в бесплацкартном, рассчитывая, что Дембович и Зароков расценят это как надо.Глава 23 ДЕМБОВИЧ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПУТЕВКИ
- Нате вам землю, сажайте огурцы. - Павел положил перед Куртисом банку из-под халвы. - Нате вам воду, поливайте их. - На столе появилась фляга. - Больше для вас ничего нет. Павел вытряхнул остальное содержимое чемоданчика на кровать. В перепутанном ворохе были зеленый мужской шарф, женский пуховый платок, галстук тех ядовитых расцветок, от которых сводит скулы, кожаные перчатки, блестел перочинный нож, и все это нашпиговано картами рассыпавшейся колоды. - Да, маэстро! - Павел полез в боковой карман. - Вот билеты. Тут немного больше, чем вам нужно. Действительно, маршрут передвижений Павла, отраженный в предъявленных им билетах, был гораздо длиннее и сложнее того, который составил для него Куртис. На билетах фигурировало штук пять крупных городов. Куртис брезгливо наблюдал за Павлом. Наконец разжал зубы. - Гастролировал? - Было дело. - Не боялся? - Боялся. Куртис оглядел все так же брезгливо грязный, заношенный, явно с чужого плеча костюм Павла. - Пропился? Павел вынул из разноцветного вороха на кровати карту, показал ее Куртису. Это был туз. - Вот. Вот что меня сгубило, дорогой Куртис. Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза. Перекинемся с вами? Я не передергиваю, не опасайтесь. Куртис пропустил мимо ушей любезное приглашение. Он не был расположен к пустой болтовне. - Банку и флягу оставь у себя. Спрячь, на виду не держи. Завтра я зайду. А ты отмывайся. - Одолжите хоть красненькую. Куртис оставил на столе десятку, сгреб билеты, завернул их в газету и ушел. Явившись на следующий день, он пошушукался с хозяйкой на кухне, а когда та ушла, приступил к делу. - С тобой можно говорить всерьез? - Валяйте, - лежа одетый на кровати и глядя в потолок, сказал Павел. - Я сейчас в самой боевой форме. Вот что услышал Павел. Куртис даст ему путевку в дом отдыха «Сосновый воздух», выдаст денег на приличный костюм и вообще на обзаведение всем необходимым для пребывания на курорте. Павел возьмет надувную лодку, складное весло и велосипедный насос, которые лежат в брезентовом чехле у хозяйки в кладовке. Путевка не заполнена, Павел впишет свою фамилию и имя собственной рукой, это официально разрешается. Путевка с 12 июня на двадцать четыре дня. В доме отдыха с ним познакомится один человек… Тут Куртис нарисовал портрет, прямо противоположный внешности Круга: высокого роста, худой, узкоплечий. Волосы светлые, стрижка короткая. Глаза серые. Особых примет нет. Впрочем, полезно знать, что два передних верхних зуба у него из белого металла. - Неудобно в зубы глядеть, - критически заметил Павел и поцокал языком. - Если ты надо мной издеваешься, твое дело. Но советую отнестись серьезнее. - Не издеваюсь. Сообразите сами: как он меня опознает и как я его? - Вот для этого и надо слушать до конца, а не строить из себя умника. Во-первых, этот человек заметит Павла уже по брезентовому чехлу с лодкой, он приедет в дом отдыха несколько раньше. Но на курорте найдется много отдыхающих с лодками в чехлах. Поэтому… - Поэтому поднимайся, приведи себя в божеский вид, и пойдем погуляем по городу. Куртис посмотрел на часы. Было два. Хозяйка где-то задержалась. - Не будем дожидаться Эмму. Пообедаем где-нибудь по дороге. Он таскал Павла по улицам, будто экскурсовод экскурсанта. Павел так и не понял, где Куртис хочет показать, предъявить его Леониду Кругу, где должно состояться это одностороннее знакомство. Они обошли весь центр, съездили к вокзалу, были у стадиона, у электролампового завода, возле базы кинопроката, в речном порту, около телецентра и когда после двухчасового блуждания сели в маленьком ресторанчике пообедать, бедный Куртис дышал, как загнанный. Провожая Павла, Куртис досказал основную часть своих инструкций. Павел возьмет землю и воду и будет держать их у себя. Когда тот человек спросит о халве, Павел отдаст ему пробы. И вот наиболее важное - то, что Павел должен зарубить себе на носу: на все время пребывания в доме отдыха он поступает в беспрекословное подчинение к незнакомцу и обязан исполнять все, что тот прикажет. А дела там могут быть посложнее, чем поездка за пробами. С нынешнего дня и до самого отъезда на курорт Павлу запрещается выходить из дому. Строго-настрого. И последний параграф: по истечении срока путевки Павел возвращается домой с теми вещами, которые у него окажутся. По мере того как излагалась программа, всегдашняя бесшабашность постепенно сползала с Павла, и от Куртиса это не укрылось. Серьезный Павел нравился ему больше. Куртис поднялся с ним в квартиру, поговорил с Эммой. Уходя, отобрал у Павла ключи. Павел протестовал вяло. - В такую погоду… - У моря надышишься. В начале трехнедельного карантина, похожего во всем на тот, первый, Павел переживал тревогу и неуверенность. Что делать? Надо позвонить и поставить своих в известность о том, что он узнал. Но Куртис торчит в квартире целый день. А старуха, кажется, вовсе перестала спать по ночам. Можно, конечно, улучить удобный момент, убежать, когда Куртиса нет, а старуха ковыряется на кухне. Однако вернуться в квартиру незамеченным не удастся. Эмма обязательно донесет Куртису, и это может навести на Павла подозрения, которые, возможно, заставят Надежду изменить планы. К тому же, что существенное, чего не знали бы Марков и Сергеев, мог в данную минуту сообщить Павел? Им и без него все должно быть известно, в том числе и сроки путевок. Они не знают только, что вторая путевка именно у него. Что ж, узнают 12 июня. Тут ничего страшного нет, все равно раньше 20-го ничего случиться не должно. И Павел решил не испытывать судьбу. Он научил Куртиса играть в буру и в шестьдесят шесть, а старик научил его раскладывать пасьянсы. Куртису не понравились ни бура, ни шестьдесят шесть, а Павлу понравился пасьянс под названием «чахоточный», посредством которого удавалось успешно убивать время. Кроме того, Павел заставлял Куртиса приносить ежедневно свежие газеты. Все, какие бывают в киосках. Он говорил, что ему доставляет удовольствие хотя бы видеть на печатных страницах названия различных городов, если уж нельзя их посетить лично. Иногда он читал Куртису вслух длинные статьи, читал с выражением, и это было на редкость трогательное зрелище. Иногда Павел тренировался: раскладывал на полу аккуратно склеенную лодку и надувал ее с помощью велосипедного насоса. Это была очень трудная и долгая процедура. Однажды он заявил, что гантели, купленные им еще в пору работы на хлебозаводе, его больше не удовлетворяют. Нужна гиря. В магазине спорттоваров должны продаваться. Куртис, кряхтя, приволок новенький полуторапудовик. Как старик вознес его на четвертый этаж - уму непостижимо, но клял он Павла искренне и с большим темпераментом. Но все приходит к концу. 12 июня утром Павел с маленьким чемоданчиком из искусственной кожи в руке и с большим брезентовым чехлом на плече ступил на перрон вокзала в городе N и, щурясь на солнце, от которого успел отвыкнуть за три недели, не спеша вышел на привокзальную площадь. А еще через час автобус доставил его в дом отдыха «Сосновый воздух».Глава 24 «ИДЕМТЕ ГУЛЯТЬ» И ПАША-ЛОДОЧНИК
Дом отдыха, куда приехал Павел, имел только один каменный корпус - центральный, где на первом этаже размещались столовая и клуб. Большинство отдыхающих располагалось в четырехкомнатных деревянных коттеджах, разбросанных в беспорядке среди соснового леса, который недалеко от берега переходил в лиственный. В лесу обитало множество белок, они совершенно не боялись людей. Вода была еще холодна для купания - пятнадцать-шестнадцать градусов, но солнце грело жарко, и после завтрака все отправлялись на пляж. Лежали на песочке, подставляя солнцу по очереди то грудь, то спину. Становились в широкий круг и пасовали друг другу волейбольный мяч, вскрикивая, когда кто-нибудь с силой гасил. Владельцы разноцветных надувных матрацев и лодок, презрев оставшихся на берегу, покачивались на ленивой меланхоличной волне. Преферансисты, положив расчерченную для записи бумагу на большой плоский камень и прижав ее сверху малыми камнями, травили себя сигаретами и отрешались от моря, неба и земли, лишь время от времени нервно переругиваясь с окружавшими их болельщиками, которые, как известно, хорошо умеют подсказывать, но совсем не умеют играть. Как на каждом пляже, здесь тоже было два-три мужественных купальщика и две-три еще более мужественные купальщицы, которые плавали в любую погоду, при любой температуре, восхищая тем простых смертных. После ужина танцевали на веранде, смотрели кино, иногда по призыву энергичного культработника по очереди завязывали платком глаза и, беря в руки увесистую палку, били глиняные горшки, но плохо. Наличных запасов горшков культработнику должно было хватить при таких темпах лет на десять. Пары отправлялись к морю - слушать прибой, как они объясняли. Часов около десяти их обычно вспугивали пограничники, ходившие дозором по берегу. В общем, курорт как курорт. Только две особенности отличали его от многих других курортов страны: во-первых, здесь в нескольких километрах проходила государственная граница, и, во-вторых, море иногда выбрасывало на берег янтарь, так что в любое время дня и вечера можно было увидеть, как любители древней застывшей смолы с прутиками в руках бродят по колено в воде. Павел не имел ни малейшего намерения в чем-нибудь отставать от других. Он играл в волейбол, загорал, купался и катался на своей лодке. Правда, она была не такая яркая и шикарная, как у прочих лодко- и матрацевладельцев, посматривавших на него с чувством собственного превосходства, но зато могла свободно поднять четверых и весла слушалась с полуслова. Одно было хлопотно: воздуха в свои резиновые цистерны-борта она принимала столько, что надувать ее велосипедным насосом - все равно что кисточкой для бритья подметать футбольное поле. В конце концов подметешь, но сколько мелких движений! Поэтому Павел искал и нашел выход: перед спуском к морю заворачивал в гараж дома отдыха, там быстро надувал лодку автомобильным насосом и нес ее на берег готовенькую. С первого дня он начал приглядываться к мужчинам, похожим на обрисованного Куртисом. Высоких, со светлыми волосами и серыми глазами среди отдыхающих было несколько человек, и Павел старался угадать, который же из них должен будет не сегодня завтра заговорить с ним о халве. Он ждал, что этот момент наступит очень скоро. На третий день своего отдыха Павел увидел на пляже Риту. Он заметил ее издалека. Она сняла платье, оставшись в серо-голубом купальнике, и легла на песок невдалеке от компании женщин, уже заметно поджарившихся на солнце. Павел насажал полную лодку мальчишек и девчонок, которых много на каждом пляже, и поплыл подальше от берега. Море было спокойное, гладкое, будто на воду положили и туго натянули прозрачную пленку. Вернувшись, Павел увидел, что не одни женщины быстро обратили внимание на Риту. Около нее в ленивых, но полных достоинства позах стояли двое рослых, атлетически сложенных юных пловцов в кокетливых шапочках - соискатели, как называл таких Павел. Усмехнувшись, он подумал, что, наверное, как всегда в подобных ситуациях, ленивость поз и небрежность, с которой цедятся слова, прямо пропорциональны заинтересованности. Юнцы ушли дальше по берегу походкой развинченной, как у мастеров спортивной ходьбы. Но их место тут же занял более собранный человек, постарше и как раз такой внешности, какую описал Куртис. Тем лучше, значит, с Ритой можно заговорить, не возбуждая ничьих подозрений. Он ведь тоже может быть соискателем. День проходил за днем, а халвой никто не интересовался. Павел уже начинал подумывать, что Надежда изменил планы. Или Куртис следит за ним, приглядывается? Возможно, и это. Но в его положении оставалось только ждать и отдыхать. За неделю Павел перезнакомился с доброй половиной дома отдыха, познакомился и с Ритой. Этому во многом способствовала лодка. Видя, что он парень общительный, отдыхающие не стеснялись - женщины просили покатать их, мужчины брали лодку и сами катались. Но после критиковали алюминиевое весло: очень руки мажет, не отмоешь. Кто-то шутя советовал Павлу открыть прокатный пункт - мол, можно денег на обратную дорогу заработать. Так как на пляжах всем дают прозвища, то дали и Павлу. Его звали Паша-лодочник. Двадцать первого июня после завтрака он, как всегда, накачал возле гаража лодку, взвалил ее на голову и зашагал к морю. Его догнали бежавшие налегке девушки. - Поможем Паше-лодочнику! Девушки отобрали у Павла его нетяжелую ношу и побежали вперед. - Весло возьмите! - крикнул он. Одна вернулась, взяла весло. Когда он дошел до пляжа, девушки уже были в купальных костюмах. Окружив лежавшую на песке лодку, они спорили, кому первой кататься. С ними был невысокий коренастый мужчина лет сорока на вид, похожий сложением на штангиста. Павел видел его на пляже и в столовой с первого дня, но не останавливал на нем внимания. Знал только, как все, что девушки прозвали его «Идемте гулять» - вероятно, часто приглашал на прогулки. Сейчас коренастый выступал в качестве арбитра между девушками. Наконец они его послушались. Он отобрал трех, бросил лодку на воду, все сели, и «Идемте гулять» неумело заработал веслом. Павел подсел к игравшим в «кинга» женщинам. Промелькнул час, другой. Солнце вошло в зенит. «Идемте гулять» все катался, несколько раз сменив за это время пассажирок. Павлу тоже наконец захотелось уплыть в море, подальше от берега, - там прохладнее, не так печет. Выждав, когда «Идемте гулять» подгреб к берегу, чтобы высадить очередную партию, Павел крикнул ему: - Алло, капитан! Нельзя ли теперь хозяину? - Прости, Паша! - отозвался тот. - Что же раньше не сказал? Павел вошел в холодную воду. Мурашки побежали по ногам снизу вверх. - Давай, - протянул он руку за веслом. Но «Идемте гулять» предложил: - Садись пассажиром. Ты всех возишь, давай теперь я тебя покатаю. Павел согласился. Но не успел он устроиться, к ним подскочила дородная женщина в голубой резиновой шапочке - одна из тех, кто на зависть другим купается при любой температуре. Ухватив лодку рукой, она сказала свойским тоном: - Ой, мальчики, возьмите меня! Отвезите подальше - я там спрыгну. «Идемте гулять» сердито возразил: - Как так «спрыгну»? Лодку перевернете. В вас наверняка пудов пять есть. Но упитанная пловчиха не обиделась. - Может, пять, а может, больше. А вообще не вы хозяин. Как, Паша? Лодка вправду была верткая, неостойчивая, но Павлу не хотелось обижать эту жизнерадостную даму, к тому же ему не нравилась неожиданно грубая выходка «Идемте гулять». - Ладно, что с вами поделаешь, - сказал он, подвигаясь ближе к корме, где сидел «Идемте гулять». Пловчиха села впереди, перевесив их обоих. «Идемте гулять» за два часа освоился с веслом, и они быстро ушли от берега метров на триста. Пловчиха с удивительной для ее комплекции ловкостью перекочевала из лодки в воду, сказала «Привет!» и редкими саженками поплыла к берегу. - Ну и бабища! - сказал «Идемте гулять». Скорей всего потому, что нечего было больше сказать. - А вам что, лодки жалко стало? - спросил Павел. - Да ладно, черт с ней, Паша, - примирительно заговорил «Идемте гулять». - Даже лучше получилось. Павел обернулся к нему в недоумении. Оказывается, у него есть о чем сказать. - Что лучше получилось? - Я хотел поговорить о банке с халвой. У Павла вытянулась физиономия. Вот так Куртис! «Высокий, худой, волосы светлые». Все наоборот. И Павел подумал, что полковник Марков был прав, отказавшись тогда, во время встречи на даче, показать ему фотографию Леонида Круга, чтобы Павел как-нибудь невзначай не выдал Кругу, что знает его в лицо… «Идемте гулять» перестал грести и спросил: - Ну, так что скажешь насчет халвы? - Есть халва. Когда отдать? - Можно хоть сегодня. Но это не все… Нам надо пройтись по берегу, оглядеться. Я уже ходил два раза. Тебе тоже полезно… - Я человек послушный. Как скажете, так и будет. - Давай на «ты». Сегодня после обеда пойдем гулять в лес. Вдоль берега. Пригласим девчонок. Пойдем к границе. Там все время в горку, с высоты линию берега видно хорошо. Смотри и запоминай. - Там же, наверно, пограничники? - Пограничники и здесь бывают. Мы пройдем километра полтора. В одном месте увидишь наблюдательный пункт. Он днем пустой. Скорее всего запасной. Или ночью там сидят. - Для чего все это, можешь сказать? - Объясню в свое время. Хотел спросить: знаешь, как меня зовут? - Девчонки прозвали «Идемте гулять». А по паспорту как - не ведаю. - Леонид. В общем, мы с тобой должны быть дружными. - Не против, - сказал Павел. - В столовке подойди ко мне, договоримся. Сейчас довольно. - И он направил лодку к берегу. Пообедав, Павел подошел к столику в углу, где сидел Леонид, доканчивавший второе блюдо. - Ну так что, Леня? - бодро спросил он. - Идем гулять? Девчонки, сидевшие за соседним столом, фыркнули, и одна из них сказала: - О! Даже Пашу-лодочника вовлек в пенсионеры. Пропал человек! Павел погрозил им пальцем: - Вот вы смеетесь, а зря. Знаете, что такое озон? Вот пошли с нами… Слово за слово, и Павел их уговорил. А по пути к ним присоединился еще кое-кто, и получилась компания человек в пятнадцать. Среди них была и Рита. Шли гурьбой, оглашая лес смехом, пугая белок громкими возгласами. Павел, подхватывая чужие шутки, не забывал, зачем пошел: внимательно изучал линию берега. Сначала тянулись открытые песчаные пляжи. Они были безлюдны. Санатории и дома отдыха кончились. Потом он увидел короткий мыс, клином врезавшийся в море. Формой и цветом он напоминал бетонные быки мостов, о которые крошатся в ледоход льдины, только на нем сверху, как мохнатая шапка, топорщился сухой кустарник. За мысом показалась укромная бухточка, которая с той, дальней, стороны окаймлялась песчаной косой - длинной и узкой. На обратном пути Леонид дал Павлу знак, чтобы он отстал. А потом отстал и сам. - Чуешь, какая бухточка? - сказал он, взяв Павла за руку. - Уютно. - Походи туда раза два-три и вечерком как-нибудь. Погуляй по бережку. Только не в одиночку. Посмотри, как ближе сверху спускаться. Я уже смотрел и еще схожу. Вместе нам больше лучше не гулять. - Сделаю. Но, может, ты все же скажешь, к чему все это? Леониду было понятно любопытство Павла, он не видел в этом ничего настораживающего. - Скоро узнаешь. Зачем заранее жилы тянуть? Еще пригодятся. После ужина Леонид подошел к Павлу. - Ну и наломал я сегодня руки! - сказал он. - Неудобное какое-то весло. - С непривычки, - объяснил Павел. - Все-таки не то весло. И потом, смотри… - Он показал Павлу ладони. Припухшие подушки пальцев лоснились, как рельсы. - Мажется. Пойдем в душ, а? Павел отказался. - Я пойду помоюсь. Холодной воде это не поддается. Он пошел в свой коттедж. Павел уселся на скамейке. По пути в душевую Леонид должен был пройти мимо. Через пять минут тот появился со скатанным в трубку полотенцем под мышкой. - Сидишь? - А что делать? - На танцы шел бы. - Еще не начинали. Проследив, как Леонид скрылся в душевой, он отправился искать Риту. Нашел ее на площадке, где располагались столы для пинг-понга. Игра велась «на высадку», Рита ждала очереди. Павел уговорил ее походить немного. Предупредив пинг-понгистов, что вернется, чтобы ее очередь не пропала, Рита взяла Павла под руку, и они пошли по аллейке. Павел отдал Рите нарисованную им схему бухты, виденной днем. Они условились, что с завтрашнего дня Рита, сказавшись больной, будет по вечерам сидеть дома, в палате, - она жила в самом ближнем от центрального корпуса коттедже. Днем она должна быть или на пляже, или дома. Одним словом, чтобы он в любую минуту мог ее найти… Дождавшись темноты, Рита исчезла с территории дома отдыха. Вернулась она после полуночи. Миновал еще один день, потом второй, а Леонид не выказывал желания вновь заговорить. Павел дважды ходил к бухте с той смешливой девушкой, которая острила тогда в столовой по поводу прогулок и пропащих людей. Они облазили бухточку, прошлись по длинной косе. Был полный штиль, и зеркало бухты не имело ни единой морщинки. Павел подумал, что даже и при сильном волнении здесь волны не будет. Утром 27 июня Леонид подошел к Павлу на пляже, когда он был один у лодки. - Покатаемся, - не попросил, а скорее приказал он. - Поговорить надо. В море он наконец изложил Павлу задачу, объявил, что это произойдет сегодня в час ночи. Они выработали подробный план действий и вернулись на берег. Павлу было трудно поговорить с Ритой незаметно - Леонид не спускал с него глаз, - но он все-таки сумел, шляясь по пляжу, пройти мимо нее и сказать: «Сегодня в час ночи». Перед обедом Рита позвонила из кабинета директора дома отдыха в город.Глава 25 ДЕСЯТЬ СЕКУНД
В десять часов вечера они встретились в лесу. Было еще довольно светло, но закатный свет быстро меркнул. Ночь обещала быть теплой. Леонид оделся по-походному. Фляга с водой и земля, пересыпанная в целлофановый пакетик, были за пазухой. Резинка шаровар не удержала бы флягу, поэтому он опоясался узким брючным ремнем. Павлу пришлось одеться еще легче - ведь ему не в дальний путь, ему возвращаться надо. Человеку, катающемуся ночью в резиновой лодке, лучше не надевать костюм с галстуком. На нем была синяя рубаха с короткими рукавами - подарок Куртиса, - черные трусы и тапочки на резиновой подошве. Под мышкой он держал толстый увесистый сверток - лодку, в одной руке - автомобильный насос, который после обеда по настоянию Леонида он стащил из гаража. Леонид сам как следует смазал его вазелином, чтобы не скрипел. В другой руке было разобранное весло. Вышли пораньше, с запасом. Могло случиться, что они наткнутся на пограничников, прежде чем достигнут облюбованной Кругом расщелины в высоком берегу бухты. Тогда они скажут, что заблудились, вернутся к дому отдыха и начнут все сначала. Ходу до бухты, если даже сделать большой крюк, минут двадцать пять - тридцать. Леонид направился прочь от берега. Он шагал впереди совсем бесшумно. Павел шел сзади след в след. Стемнело. Но все же ночь была довольно светлая. Утешало лишь то, что на лес спускался туман. Минут через пятнадцать Леонид под острым углом повернул в сторону моря. Туман становился плотнее. Но, когда они достигли кромки обрыва, нависшего над берегом, и, раздвинув кусты, посмотрели на море, Круг шепнул Павлу в самое ухо: «Плохо». Над морем тумана - ни клочка. Черный овал лодки на темно-сером фоне воды сверху будет заметен. Но что делать? Погоду не предусмотришь… Удачно, без шума, забрались в расщелину. Она была очень узкая, уже размаха двух рук, но глубоко врезалась в покатый склон обрыва. Вероятно, весенние ручьи промыли эту щель. Ветви кустов, росших наверху, сплелись и образовали плотную крышу. Не мешкая, начали надувать лодку. В начале двенадцатого часа, когда лодка была уже надута и они молча стояли, глядя в море, наверху прошел пограничный патруль. Пограничников было двое, они не разговаривали и двигались тихо, но ветки похрустывали под тяжелыми сапогами. И опять тишина. Море не шелохнется. Леонид притянул к себе Павла, зашептал: - Ох, плохо. Все плохо. - Отменить нельзя? - шепотом спросил Павел. - Мы же не ленту крутим - на каком кадре оборвать захотел, там и остановил. «Киномеханик ты проклятый», - хотелось сказать Павлу. Они стояли, касаясь друг друга плечом, и Павел чувствовал, что легкая, едва уловимая дрожь, охватившая Леонида, передается и ему. Это не страх, это была дрожь немыслимого напряжения. Павел не испытывал ненависти к Кругу. Только спокойное, ровное презрение. Сейчас не время было копаться в душе. Он старался представить себе то, что должно произойти через полтора часа, и мысленно провести себя по всем этапам скоротечного действия, разъяв его на секунды и мгновения. Поэтому он был спокойнее Круга. Он даже ощущал, что комары жгут нещадно лицо, шею, голые ноги. Справа, в самом углу видимой им части моря, слабо светлело зарево морского порта. Казалось, оно шевелится. А Круг часто смотрел на часы, поднося их к самым глазам. Но от этого время быстрее не двигалось. Около двенадцати снова прошли пограничники, теперь в обратном направлении. Где-то далеко в море в восточной стороне замерцал белый блик. Он переместился слева направо, потом справа налево, высветлив линию горизонта, и погас. Наверно, корабль шарил прожектором. Потом послышался отдаленный глухой рокот - то ли в воздухе, то ли в море. Круг посмотрел на циферблат - было всего пять минут первого. Еще рано. Рокот удалялся и скоро сошел на нет. - Как думаешь, на каком расстоянии мы его увидим? - прошептал Круг. Глаза хорошо привыкли к темноте. Павел считал, что надежная видимость у них с Кругом не меньше километра. Но расстояния на море обманчивы, особенно ночью и если смотришь с высоты. Так он и сказал. Вероятно, Круг старался высчитать наиболее подходящий момент, когда им надо сесть в лодку. Интересно, подумалось Павлу, как эта гадина рисует себе его, Павла, возвращение, если их обнаружат? Скорее всего никак. Ему на это в высшей степени наплевать… Ну, посмотрим… Устали плечи, устали ноги. Уши устали слушать тиканье часов - Павел раньше не предполагал, что обыкновенные наручные часы могут тикать так громко и нудно. - Пора, - шепнул Круг. Павел поднес циферблат к глазам. Без двадцати час. Ну что ж, пора… Он потянулся, чтобы выгнать из мышц оцепенение. Приподняли лодку, боком выдвинули ее из расщелины, стараясь не царапать о стенки. Круг первым вышел на покатый склон. Комочки сухой глинистой земли покатились вниз. Он застыл. Но ничто не нарушало безмолвия в туманном лесу. Они спустились к воде. Круг сел впереди. Павел с кормы занес одну ногу, другой оттолкнулся и в тот же момент опустился на упругое дно лодки. Павел своей половинкой весла греб с правого борта, Круг с левого. Работали без всплеска. Понадобилось пять минут, чтобы выгрести на середину бухты. Остановились. - Подгребем носом, - зашептал, обернувшись, Круг. - Как только подойдем к катеру, сразу греби назад к берегу. - Ты говорил, что-то должны передать? - Багаж нетяжелый: сбросят в лодку. Неожиданно на востоке, за толстым мысом, родился тихий ровный звук - будто жужжит маленький настольный вентилятор. Круг предостерегающе поднял руку. - Разве оттуда должны?… - шепнул Павел. - Подожди. Круг весь напрягся, вслушиваясь. Похоже было, что звук приближается. Слух, измотанный долгим напряженным ожиданием, отказывался определить, далеко это или совсем близко. Но тут они явственно услышали другой звук - сочный, хрустящий. Словно тугая струя из открытого до предела крана бьет в раковину. Только очень быстроходный корабль может так звонко резать острым носом воду. И вдруг прямо перед ними метрах в пятидесяти возник узкий силуэт маленького судна. Сбавив ход и чуть отвернув, катер прошел мимо, держа их по правому борту, заложил крутой вираж, качнув лодку на своей волне, повернул носом в открытое море и, поравнявшись с ними, застопорил метрах в двадцати. Казалось, он ходил без мотора - никакого шума. Короткий, низко сидящий, с плоской зализанной рубкой, под цвет ночного моря. На открытой корме стоял человек. - Живо! - едва не в полный голос выдохнул Круг. Но прежде чем они опустили весла в воду, с катера спросили по-русски: - Кто вы? - Экватор. - Мы Аляска. Быстро. Круг греб сильнее, лодку заносило вправо, к носу катера. За мысом взревела сирена. - А, черт! И в тот момент, когда до катера оставалось несколько метров, шипящий пронзительный прожекторный луч ударил со стороны мыса и воткнулся в борт катера, отпечатав на нем четкую тень двух сидевших в лодке. Человек, стоявший на корме, кинулся к рубке. Круг бросил весло в воду, встал, с трудом сохраняя равновесие… - Давай же! - заорал он отчаянно, протянув руки вперед. Павел сделал один гребок, другой. Низкая выступающая над водой не больше чем на полметра корма катера была совсем рядом. Металлические поручни ярко блестели в безжалостном свете прожектора. Круг весь подался вперед. Павлу казалось, что он не вытерпит, кинется в воду. Снова оглушительно громко взревела сирена. Луч прожектора, бивший Павлу в спину, сделался теплее: судно, на котором был включен прожектор, приближалось. Усиленный мощным динамиком, разнесся над бухтой басовитый голос: - Эй, на катере! Стопорь машину! Глухое эхо отдалось в туманном лесу, звонко отскочило обратно на воду, звук гремел и шарахался из стороны в сторону. Все выглядело и звучало странно и фантастично. Особенно голос. Как будто это происходило в узком гулком тоннеле. Может быть, оттого, что катер и лодка беспомощно барахтались в ослепительно-светлой трубе прожекторного луча, все остальное за пределами его фосфоресцирующих границ казалось черно и беззвучно. Вдруг со стороны прожектора застрочил пулемет. Длиннейшая очередь. Пули вспороли воздух над катером. Круг дернулся, вскрикнул и упал в воду. Лодка перевернулась. Ухо Павла не слышало, чтобы в пулеметную очередь вплелся одиночный выстрел, но ему показалось, что пуля, попавшая в Круга, прилетела с другой стороны, с берега. Павел, вынырнув, видел, что рядом, на расстоянии двух вытянутых рук, бултыхался Леонид. Голова его то появлялась над водой, то скрывалась. Сделав сильный гребок, он схватил Круга под мышку правой рукой, лег на левый бок и подгреб к катеру. Ухватившись за поручни, подтянулся на катер, на секунду оставив Круга, затем лег животом на поручни, перегнулся за борт и протянул Кругу руки. Круг цепко обхватил их чуть ниже локтей. И так же, ниже локтей, держал его Павел. - Давай! - закричал Круг. Катер вздрогнул и рванулся вперед. Павел рывком потянул Круга вверх. Тот вспрыгнул коленями на острый край борта, застонал и, как куль, перевалился через поручни на палубу кормы. Они вырвались из прожекторного луча, потом он снова нашел их. Еще одна длинная очередь прошила небо над катером. Вероятно, пограничное судно преследовало их, но скорость у катера была бешеная. Прожектор погас - он был уже бесполезен. Мотор катера работал тихо, но Павел всем телом ощущал его мощь: палуба под ногами вибрировала. Из рубки выскочил человек в каком-то полуматросском, полурыбацком одеянии. В руке у него был серебристый мешок. - Ложись! - приказал он Павлу и сам опустился на корточки. Павел повиновался, лег рядом со стонавшим Кругом и сказал по привычке шепотом: - Теперь ушли. - Кто из вас Леонид? - спросил матрос. - Я Леонид, - подавив стон, отвечал Круг. Матрос постучал лежавшего вниз лицом Павла пальцем по затылку. - Бери посылку и быстрей прыгай за борт. Еще недалеко, можно доплыть. - Вы с ума сошли… Поедет с нами… - простонал Круг. Павел приподнялся. - Нет… нет… - запротестовал Круг. Матрос, махнув рукой, ушел в рубку. Видно, вся команда катера состояла из капитана и этого человека. Прервав стон, Круг сказал: - Старик не получит посылку. Но кто знал, что так все… О черт! Он опять застонал. - Куда тебя? - спросил Павел. - Ноги. Вот тут. - Круг, лежавший ничком, показал рукой на бедро. - Надо перевязку сделать, - сказал Павел и, приподнявшись, крикнул в рубку: - Алло! Бинт и йод есть? Матрос открыл дверцу, ответил не выходя: - Нет. До берега. Павел снял синюю рубаху с короткими рукавами - под нею была еще белая майка. Стянул майку, разорвал ее на широкие ленты, связал их. Он перевернул Круга вверх лицом, расстегнул ремень, вынул у него из-за пазухи флягу и пакет с землей. Потом сдернул шаровары до колен. Осматривать раны было бесполезно - плохо видно. - Обе? - спросил Павел. - Кажется, да. Видно, левую ногу ударило сильнее, потому что Круг, пока Павел ее бинтовал, скрипел зубами. Пуля прошла навылет через бедро левой ноги ровно посредине и застряла в правом бедре, потому что выходного отверстия не было. Когда Павел кое-как перевязал Круга, тот сказал: - Спасибо тебе, лодочник. Если бы не ты, кормить бы мне рыб… Век не забуду… Спасибо… С того момента, как прожекторный луч вспыхнул на пограничном судне, и до того, как Павел и Круг очутились на борту катера, прошло всего десять секунд. Если бы сказать это Павлу, он бы не поверил.
Часть вторая
ПРЕВРАЩЕНИЯ БЕКАСА
Глава 1
ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Синий «Мерседес» свернул с бетонного шоссе на узкую асфальтовую дорогу, ведущую к морю, и вскоре остановился на берегу бухты. Из машины вышли двое, оба в одинаковых темных костюмах. Тот, что вел машину, был среднего роста, очень плотный. Лет под пятьдесят. Черные с проседью волосы, причесанные на косой пробор, блестели, как покрытые лаком. Второй - высокий, худой и светловолосый. И намного моложе.
Оставив машину с открытыми дверцами, двое пошли к берегу - черный впереди, блондин сзади. У деревянного пирса, длинным языком лежавшего низко над водой, они остановились. Черный поглядел на часы. Было десять. Утро стояло ясное. Солнце, забравшееся уже высоко в безоблачное небо, грело жарко их спины.
- Если все в порядке, должны скоро быть, - сказал блондин.
Черный кашлянул в кулак, но не отозвался. Он, прищурясь, глядел туда, где четкая цветовая межа отделяла стеклянно отсвечивавшую гладь залива от темной взъерошенной громады открытого моря.
- Виктор обрадуется, - снова нарушил молчание блондин.
На этот раз черный разжал губы.
- Брат. Тринадцать лет не виделись.
Но словоохотливого блондина его тон не смутил.
- Мало ему хлопот и нахлебников… Думаете, этого оставят в системе?
- Монах любит Виктора… А его брат знает теперь Советский Союз лучше, чем все ваши умники во главе с божьим одуванчиком… И вообще довольно об этом.
Они ждали и смотрели. И вот из-за мыса показалось маленькое судно. Оно прорезало цветовую межу и нацелилось на пирс.
Катер с низкой зализанной рубкой пересек залив на полном ходу и лишь у самого пирса резко убавил скорость. Буруны вскипели за кормой. Скрипнув обшивкой по сухому дереву, катер прильнул к пирсу. Человек в полуматросском одеянии вспрыгнул на дощатый помост.
Двое на берегу не двинулись с места. От них до приставшей посудины было метров тридцать.
На пирсе появилась фигура человека в морской фуражке. Это был капитан катера. Под мышкой он держал небольшой матово-серебристый мешок.
Приблизившись, капитан козырнул ожидавшим. Он был немолод и выглядел уставшим.
- Их двое, - сказал капитан. - Меня обнаружило пограничное судно. Стреляли.
На катере происходила какая-то возня. Черный спросил:
- Чего они тянут?
- Один ранен. Кажется, тяжело…
В это время из катера на белые доски пирса выбралась группа, выглядевшая странно в ярком свете солнца, заливавшего безмятежно тихий залив. Двое, стоя по бокам, поддерживали третьего.
Один из этой группы был в трусах и рубахе с короткими рукавами, босой, весь вымазан в крови. Другой, в сатиновых шароварах и баскетбольных кедах, еле держался на ногах. Третьим был матрос.
- Черт знает что! - удивился блондин.
Группа медленно двинулась по пирсу. Тот, что в шароварах, обняв двух других за плечи, ступал только на правую ногу, а левую ногу волочил беспомощно, охая и наваливаясь на своих помощников.
Достигнув берега, троица остановилась. Раненый поднял голову. Лицо у него было опухшее, воспаленное. В углах рта запеклись черные сгустки.
- Здравствуйте, - сказал он хриплым голосом.
- Вы Леонид Круг? - спросил черный.
- Да.
- Кто он? - черный кивнул на Павла.
- Должен был взять посылку, - ответил Круг. - Вышло не то…
Он передохнул, достал из-за пазухи флягу и непромокаемый пакет, протянул и сказал:
- Просили передать.
Тот взял флягу и пакет в одну руку.
- Едем.
Под оханья Круга они двинулись к машине. Черноволосый остался на берегу с капитаном. Он догнал остальных уже возле машины. Павел взялся уже за ручку задней дверцы, но черноволосый сказал сердито:
- Ждать!
Затем открыл багажник, вынул скатанный в трубку клетчатый коврик, дал его блондину. Тот расстелил коврик на заднем сиденье и жестом приказал Леониду и Павлу садиться.
…Асфальтовая лента взбежала на бетонное шоссе, и машина резко прибавила скорость. Круг с закрытыми глазами сидел, держа спину прямо, Павел подложил ладонь под его запрокинутую голову.
Черноволосый поправил зеркальце, и Павел почувствовал, что на него пристально смотрят, но сам в зеркальце старался не глядеть. Часы у Павла остановились, и он не мог определить, сколько времени они ехали. Во всяком случае, не меньше полутора часов.
Затем свернули с шоссе и углубились в лес. Лес был аккуратный и прибранный, словно весь его почистили пылесосом, а каждое дерево прошло через руки садовника. Скоро деревья стали редеть, а потом машина выскочила на огромную поляну, на которой в строгом городском порядке стояли дачи. Возле одной из них, окруженной высоким забором, остановились. Черноволосый вышел из машины, нажал кнопку у двери рядом с воротами, ему быстро открыли, он исчез и не появлялся минут десять. Вернувшись, распахнул заднюю дверцу и сказал как будто бы приветливее прежнего:
- Выходить. Оба. - И помог Павлу извлечь Круга из машины.
Дача была из красного кирпича. Первый этаж имел по фасаду восемь окон, второй был вдвое меньше площадью, а над ним еще возвышалась башенка с ромбовидным маленьким окошком. Крыша из розовой черепицы. От ворот к широкому парадному входу вела узкая дорожка, выложенная белыми изразцовыми плитками. Перед дачей росли розы. Участок был большой и весь засажен яблонями.
На верхней ступеньке крыльца стояла молодая гладко причесанная женщина в светлом полотняном платье. Увидев шедших, она скрылась в доме. Навстречу им откуда-то из-за роз появился высокий человек в клеенчатом белом фартуке и в шапочке с длинным узким козырьком. Он перехватил руку Круга, сменив черноволосого.
По внутренней лестнице поднялись на второй этаж, черноволосый отворил обе створки двери, ведущей в большую комнату, Леонида Круга подвели к тахте, и он лег на спину, придерживаяруками левую ногу.
Черноволосый исчез, а приблизительно через час явился врач, щеголеватый человек лет тридцати, с саквояжем в руке. Павел помог Кругу раздеться.
Женщина в полотняном платье принесла эмалированный тазик с водой.
Пока врач включал никелированный бокс, гремел иглами и щипцами, мыл руки, женщина успела сходить вниз и принести ворох одежды. Павел выбрал себе и надел техасские брюки из тонкого брезента. Они были ему немного длинны.
Осмотрев раны Круга, врач задумчиво посвистел. Потом быстро обработал отверстия, наложил пластыри и сказал помогавшей ему женщине, что надо тут же посмотреть раненого на рентгене и извлечь пулю из правого бедра. Еще он сказал: кости левого бедра, вероятно, расщеплены, ранение тяжелое.
За Кругом была прислана санитарная машина. Его увезли, одев в длинный махровый халат и обув в домашние шлепанцы.
Пока он отсутствовал, Павел помылся в ванной на первом этаже, а потом женщина предложила ему пообедать на кухне. Оказалось, что она прекрасно, почти без всякого акцента, говорит по-русски. Зовут ее Клара. Павел, к которому постепенно возвращалось бесшабашное настроение, спросил, сколько ей лет, и она без всякого кокетства сказала, что двадцать восемь. Когда Павел как следует ее разглядел, он подумал, что вряд ли принял бы эту Клару за иностранку, встретив на улице в Москве. Типичное русское лицо, очень миловидное.
Павел поинтересовался, где он будет жить. Клара ответила, что пока не знает.
Обед она подала почти русский - холодный судак, тушеное мясо с овощами, компот. Только борща не хватало. После обеда Павел поднялся наверх, прилег отдохнуть на тахту и заснул.
Его разбудил грохот на лестнице. В комнату вошел врач, за ним появились носилки, на которых двое несли Круга. Потом санитары притащили какие-то блестящие трубы и трубочки, колесики и шнуры и начали сооружать над тахтой некое мудреное приспособление. Они долбили стены, ввинчивали в потолок крючья, приворачивали шурупами к полу никелированные стойки. Когда все это было свинчено и подвешено, получилось похоже на стрелу подъемного крана. Круга уложили на тахту. Врач с помощью санитаров заключил его левую ногу в систему трубок, планок и ремней, а потом взялся за шнуры, свисавшие с блока на потолке, и подтянул ногу ступней вверх.
Павел наблюдал за всеми этими манипуляциями, стоя спиной к двери, и поэтому не заметил, как в комнату вошел черноволосый человек, привезший их сюда. Перекинувшись с врачом несколькими словами, он поманил Павла к себе и сказал, что на все время, пока Круг будет поправляться, Павел останется с ним, будет жить в этой комнате и исполнять обязанности сиделки.
Так началась для Павла жизнь на чужой земле. К чему все это приведет, он не имел никакого понятия и старался пока не заглядывать вперед. В первую же ночь он просто выработал для себя линию поведения на каждый день. Он останется Бекасом, но в новых условиях Бекас должен измениться. Пусть каждый, кто пожелает здесь общаться с ним, ощущает главное: неожиданный поворот в судьбе устраивает его как нельзя лучше. А там видно будет…
С утра, едва проснувшись, Павел приступил к обязанностям сиделки. И более заботливого ухода Круг вряд ли мог желать.
Прошло три дня, но никто больше ими не интересовался. Только однажды дачу посетил врач.
За все это время Павел ни разу даже не показывал носа на дворе, ни на минуту не покидал раненого. Клара постепенно снабдила его принадлежностями госпитальной палаты, в которой лежат люди, лишенные возможности двигаться, и Павел ухаживал за Кругом по всем правилам.
Они почти не разговаривали. Леонид нервничал и, по всей вероятности, с нетерпением ждал чего-то, но был замкнут и не желал делиться с Павлом своими думами. Во взгляде его Павел улавливал все нараставшую благодарность, смешанную с удивлением. По правде сказать, Павел и сам не ожидал, что малопривлекательная роль сиделки дастся ему столь легко.
К концу четвертого дня, перед наступлением сумерек на дачу явился новый посетитель. Едва увидев его, Павел понял, что это брат Леонида. Они были очень похожи, только вошедший выглядел старше и намного грузнее.
Леонид сделал порывистое движение, хотел приподняться, но брат замахал руками и, быстро подойдя, припал щекой к его груди. Павел покинул комнату, неслышно притворив за собою дверь.
Спустя полчаса Клара позвала его наверх к Кругу.
- Познакомься, Паша. Мой брат Виктор. Мы ждали этой встречи тринадцать лет, - сказал Леонид.
- Очень рад, - сказал Павел.
Глаза старшего Круга смотрели на него доброжелательно.
Виктор Круг пробыл недолго. Пообещав наведаться завтра, он распрощался, поцеловал брата и пожал руку Павлу.
Уже со следующего утра они почувствовали, что отношение к ним изменилось. На дачу был привезен и установлен в их комнате телевизор. Клара объявила, что в холодильнике отныне всегда можно найти что выпить. А также фрукты. С Павла и Леонида сняли мерки, а через день принесли костюмы, белье и обувь. Леонид повеселел.
Глава 2 РАЗГОВОР ШЕПОТОМ
На десятый день Виктор Круг приехал не вечером, как обычно, а перед обедом. Вид у него был озабоченный. Попросив Павла пойти погулять в саду, он подвинул стул к изголовью тахты и тихо, в самое ухо, сказал брату: - Я задам тебе несколько вопросов. Но говори шепотом. Нас не увидят - пока что телеустановки в этом доме нет. А микрофоны есть. Леонид кивнул. Виктор подошел к телевизору, включил его. Заиграла музыка. Между братьями начался разговор, больше похожий на допрос, с той лишь разницей, что допрашивающий не желал допрашиваемому ничего, кроме добра. - Ты лично встречался хоть раз с человеком по имени Михаил Зароков? - спросил Виктор. - Нет, никогда. - Кто явился к тебе с паролем? - Дембович. - Как ты познакомился с этим парнем? - Через Дембовича. Он показал мне Павла. - Как Дембович собирался прикрыть твое исчезновение? Леонид облизал сухие губы, вспоминая детали. - Я получил от жены телеграмму со срочным вызовом. Должен был дать ее Павлу. И записку к соседу по комнате, чтобы отдал Павлу вещи. Павел должен был показать телеграмму в дирекции дома, чтобы объяснить мой досрочный отъезд. - Это было бы надежно? - Вполне, - отвечал Леонид. - Ты уверен, что все сделал так, как велел Дембович? Ни в чем не ошибся? Леонид молчал. - Я забыл про телеграмму, - наконец признался Леонид. - И записку не писал. Виктор снова припал губами к его уху. - По сути дела, это не имеет никакого значения, раз Павел оказался здесь. Но это твоя ошибка, очень серьезная ошибка. Какие инструкции давал тебе Дембович о Павле на ту ночь? - Он сказал так: что бы ни произошло, я должен попасть на катер. Если замечу какую-нибудь опасность, Павла в лодку не брать. Но пограничный катер появился в последнюю секунду. Виктор махнул рукой. - Надо, чтобы этот Павел, когда его спросят, излагал историю с телеграммой так, как должно было быть, а не так, как случилось на самом деле. - Будут разбирать? - спросил Леонид. - Следствие назначили бы все равно, в любом случае… Не в том дело… Надежда не вышел на связь после вашей переправы. Леонид впервые услыхал это имя, но сразу догадался, какое отношение имеет оно к его переправе. Братья помолчали, глядя друг на друга. Потом Виктор заговорил: - Не буду объяснять тебе подробно соотношение сил - это долго, и всего тебе не понять. Усвой основное: я на ножах со стариком Тульевым, отцом Надежды. Дембович лишь исполнял приказ, а устраивал твой побег именно Надежда. Если его расшифровали из-за этой истории, старик постарается раздуть дело. Шеф мне доверяет, но он очень любит сталкивать людей лоб в лоб при всяком удобном случае. У него на этот счет своя теория. Назначат следствие. А потом многое будет зависеть от Себастьяна - ты его знаешь, он тебя встречал, черный. Его можно не опасаться. Старик ему не нравится. Виктор умолк, прикидывая что-то про себя. И снова склонился к брату: - Ты на всех допросах должен твердо держаться одной линии - говори, что сделал все по инструкциям. Растерянность в той бухте простят - рана твоя невыдуманная. Значит, и Павла тебе простят. Ему скажи так: для его собственного благополучия выгодно быть с тобой заодно. Ему здесь цена - копейка. Я могу устроить так, что он исчезнет бесследно. Но нам он нужен как свидетель. - Он не дурак, - сказал Леонид. - Посмотрим. У него своя судьба. Шеф не исключает, что твой партнер - советский разведчик, а вся эта операция - хорошо разыгранный спектакль. Павлу придется доказать, что это не так. Леонид скрипнул ремнями, оплетавшими его раненую ногу, вздернутую ступней к потолку. Брат продолжал: - Тебя тоже могут подвергнуть допросу на детекторе. Вещь вредная. Но все окажется не так страшно, если ты не будешь бояться и волноваться. Внуши себе, что ты сам попросил испытать тебя. Что тебе до смерти интересно узнать, как эта штука устроена. Все время будь настороже. На неожиданные вопросы отвечать нужно не раздумывая, очень быстро. Главное - не задумывайся. У тебя ладони потеют, когда волнуешься? - Не замечал, - сказал Леонид. - Я предупрежу тебя заранее. Накануне очень полезно напиться. Затем они переменили тему. Виктору интересно было узнать подробности жизни брата за последние тринадцать лет на положении человека, скрывающегося от советской контрразведки. А Павел, пока братья разговаривали, успел сделать массу полезных вещей. Во-первых, он познакомился с долговязым садовником, которого звали Франц. Оказалось, что Франц побывал в плену в Советском Союзе и поэтому знал довольно много русских слов, однако соединять их в связную речь так и не научился, главным образом потому, что не знал глаголов и прилагательных, а только имена существительные. По словарному составу Павел легко определил, на каких работах использовался пленный Франц. С улыбкой произнеся традиционное в конце войны «Гитлер капут!», Франц, морща лоб, одно за другим выложил перед Павлом трудные русские имена существительные: «кирпич», «стена», «кладка», «крыша», «дверь», «окно», «отвес», «мастерок», «раствор» и так далее. Вместо «дом» он произносил «том». Павел сначала помогал Францу рыхлить землю вокруг цветов, а потом, ближе к вечеру, поливал из шланга яблони, стараясь, как показал Франц, лить воду в лунки вокруг стволов равномерно. Франц угощал Павла сигаретами, они то и дело устраивали перекур. В том, что этот милейший садовник приставлен к даче не только для того, чтобы ухаживать за яблонями и цветами, можно было не сомневаться. Так же, как смешно было бы считать Клару просто экономкой. Павел сознавал, что вообще каждый человек, с которым ему отныне придется общаться, будет его прощупывать и испытывать. Любого такого испытателя, отдельно взятого, можно обмануть так или иначе, но беда в том, что результаты этих испытаний должны стекаться к какому-то одному, наверняка умному и хитрому, диспетчеру, и если он, Павел, где-то собьется с однажды взятого тона, начнет путать и, избави бог, вилять, подстраивая свой курс под каждого данного собеседника, его легко разоблачат. Поэтому он обязан решительно подавить в себе свое настоящее «я», чтобы оно не мешало существовать Бекасу ни наяву, ни во сне. Не думать, не вспоминать о Москве, о товарищах по работе. Садовник Франц курил сигаретку, покашливал, моргал белесыми ресницами, когда дым попадал в глаза. Павел завел разговор на географическую тему. Его очень интересовал ближайший от этих мест город. Франц кивнул. - Город? Цванциг километер. - Он дважды потряс перед Павлом растопыренными пятернями. Тут Павел подумал, что совершенно необходимо побыстрее освободиться от одного опасного чувства, которое он испытывает с тех пор, как ступил на эту землю. Всякий раз, когда он слышит разговор на чужом языке, ему кажется, что уши у него немеют, словно отмороженные, и что это заметно со стороны. Оказывается, очень трудно делать вид, что не понимаешь языка, который в действительности знаешь отлично. Насколько безопаснее было бы и вправду не знать… Франц по-своему понял, что именно должно интересовать Павла в городе. Город - это значит женщины, рестораны, кино, вообще всякие развлечения. И вокзал, с которого можно уехать в другие города. Правда, у Павла совсем нет денег, но деньги - дело наживное. Эту взаимоприятную беседу прервал голос Клары, звавшей Павла в дом. Брат Круга уже исчез, и Леонид требовал Павла к себе. Леонид был взволнован и, кажется, расстроен. Он показал рукой на стул, на котором сидел перед тем Виктор, попросил нагнуться пониже и зашептал Павлу в ухо. Очень скоро все стало ясно. Конечно, Леонид не хочет, чтобы его начальство узнало о том, что он нарушил данные Дембовичем инструкции относительно телеграммы и записки, но это голая формалистика, коль скоро Павел очутился на борту катера вместе с ним. И все же оба они должны строго держаться одной линии: все было сделано именно так, как предусматривалось. А насчет главного - подробностей тех десяти секунд в тесной бухточке - ни Павлу, ни Леониду ничего придумывать не надо. Требуется говорить чистую правду. Телеграмма и записка, которые Леонид якобы передал Павлу, естественно, потерялись во время их неожиданного купания… И должны же, сказал Круг, понять здесь, что этот удачный побег навредил не больше, чем могла навредить их поимка. Кому навредить, Круг не объяснил. Павел отметил про себя, что Круг, вероятно, и сам не подозревает, насколько справедливы его рассуждения и доводы, если рассматривать их с точки зрения советской контрразведки. Ведь попади они тогда в руки пограничников - резидентскому существованию Михаила Зарокова пришел бы конец. И всей игре тоже. Павел поморщился: опять, хоть и на одно мгновение, но Бекас улетучился из него. Леонид ничего не заметил. - Ты встречался с человеком по имени Михаил Зароков? - спросил он. - Не знаю такого, - ответил Павел. - Дембович тебя ни с кем не знакомил? - Леонид передохнул и добавил: - Мы должны быть откровенны. - С самого начала я узнал его старуху - Эмму. Был еще один ватный тип, по-моему, круглый идиот. А потом ты. Леонид положил руку Павлу на плечо и прошептал: - Мы с тобой связаны. Держись. Дрогнешь - пропадешь. - Поправляй, если что не так, - сказал Павел. - Само собой…Глава 3 НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ
28 июня 1962 года около часу дня Дембович стоял на тротуаре в узкой полосе тени от вокзала, поглядывая на небольшие, львовского производства автобусы, прибывавшие время от времени к павильону, на котором было написано: «Стоянка автомашин санаториев и домов отдыха». Дембович приехал в город, чтобы встретиться с Павлом. Он ждал автобуса с табличкой «Сосновый воздух». В руке у него был чемоданчик из искусственной кожи, очень похожий на тот, с которым уезжал в дом отдыха Павел. Старик часто доставал из кармана светлого полотняного пиджака мятый цветастый платок и, сдвинув соломенную шляпу на затылок, вытирал мокрый лоб и щеки. Он не очень нервничал. Просто ему было жарко. Ночь он провел в поезде, спал плохо - вернее, совсем не спал, - за завтраком в вокзальном ресторане ему подали несвежую рыбу, есть которую было просто невозможно, и вот теперь он чувствовал себя слабым и разбитым на этой тридцатиградусной жаре, на раскаленной, курящейся зноем площади. Тень от вокзала смещалась в сторону павильона, и вместе с тенью передвигался Дембович. Наконец он дождался. К стоянке подошел автобус дома отдыха «Сосновый воздух». Скрипнув, разжались дверцы - передние и задние. Народу в нем было битком. Едва первые пассажиры автобуса, загорелые и веселые, с облегченными вздохами спрыгнули на горячий асфальт, Дембович повернулся и быстро-быстро зашагал к тоннелю, где размещались камеры хранения багажа. Хотелось бы посмотреть, как Павел со знакомым чемоданчиком в руке выйдет из автобуса, а потом уже поспешить к условленному месту встречи, и ничего страшного из этого не получилось бы, потому что никто за Дембовичем не следил. Но это было бы не по инструкции, а старик стал в последнее время менее самостоятелен и боялся в чем-либо отступать от инструкции. Они с Павлом должны обменяться чемоданами в камере хранения. Остановившись у второго окна, он начал читать правила сдачи багажа. Шумные пассажиры автобуса ввалились в прохладный, как погреб, тоннель, женский звонкий голос сказал: «Уф, как тут хорошо!» Кто-то с кем-то обсуждал, как заполнить время до поезда, что посмотреть в городе. Кто-то смеялся. Кто-то пытался установить очередь. Но беспечные курортники столпились у трех окошек как попало, и любитель порядка умолк. Дембович огляделся. Павла в тоннеле не было. Нет Павла… С растерянным выражением лица Дембович вышел под яркое солнце. Он уже не замечал жары. Ноги сами подвели его к автобусу. Шофер, молодой курносый парень в шелковой выцветшей рубашке с короткими рукавами, стоя возле машины, пил лимонад прямо из горлышка бутылки. Дембович подождал, пока парень не допил до дна, и, улыбнувшись довольно натянуто, спросил: - Вы из «Соснового воздуха»? - Из него, - охотно ответил шофер. - Вы сейчас будете возвращаться? - Да уж будем. А что, папаша? Подвезти? Прошу пана, садитесь. У Дембовича мелькнула мысль тут же поехать в дом отдыха, узнать, что произошло. Ведь Павел должен был явиться к нему на свидание в любом случае - состоялась операция или нет. Он мог не явиться только по одной причине - если его забрали. Но, может быть, он появится позже? Дембович спросил у шофера: - А вы сегодня больше не приедете? - Нет, папаша. У нас два рейса в день - утром к приходящему и вот этот. Больше не будет. Дембович не знал, что делать. Инструкция была четкая и ясная: не встретишь Павла - сразу домой. Но больше всего на свете, больше даже, чем прямой опасности, Дембович боялся неизвестности. И тут уж ничего не поделаешь. В последние годы дошло до того, что он не мог лечь спать, пока не посмотрит, нет ли кого за дверью его комнаты, хотя каждый раз отлично знал, что никого там быть не может. Он и сам понимал, что это глупости и малодушие, но справиться с собой не умел. Вот и сейчас так: перед ним закрытая дверь, и надо непременно выглянуть за нее - что там? Иначе не будет покоя… - Папаша, вам плохо? - услышал он голос шофера и ощутил его руку на своем плече. - Шли бы в вокзал. Жарища… Дембович очнулся, смущенно отстранился от курносого парня, глядевшего на него сочувственно и серьезно. Так смотрят здоровые люди на больных. Дембовичу стало обидно за самого себя. Нельзя расклеиваться до такой степени… Он решился нарушить инструкцию. В доме отдыха, когда они приехали, был «мертвый час». Дембович вошел в главное здание. Кругом было тихо, дремотно. Никого не встретив, он направился на пляж. Народу на берегу было немного. Около одной компании он остановился, прислушался к разговору. Молодые люди болтали о пустяках. Дембович перешел к одиноко жарившемуся на солнце мужчине. Присел на корточки. Мужчина поднял голову, молча посмотрел на Дембовича и вновь принял прежнее положение. - Вода теплая? - не придумав ничего более подходящего, спросил Дембович. В конце концов разговорились. Покинул пляж Дембович в смятении: он узнал, что из дома отдыха «Сосновый воздух» пропали двое, Паша-лодочник и «Идемте гулять», и что ночью на границе стреляли… …На поезд Дембович успел едва-едва. По счастью, в купе мягкого вагона он оказался один - известное дело, люди с курортов редко возвращаются в мягких вагонах. Дождавшись темноты, старик улегся, но уснуть не мог. Старался не думать о Павле, о Круге, о Михаиле, но получалось так, что больше ему думать было не о чем и не о ком. Ругал себя, что не удосужился захватить люминал. Гадал, спит ли сейчас Михаил, ожидая его возвращения. И только под утро незаметно для себя уснул… В полдень он подъезжал на такси к своему дому. Таран был голодный - значит, Михаил не ночевал, значит, провел ночь у Марии, а сейчас, наверное, преспокойно возит пассажиров. Дембовичу стало горько и обидно оттого, что вот он, старый человек, сжигает последние свои нервы, а тот, ради кого приходится все это делать, даже и не ждет его. Как будто Дембович ездил на базар за редиской, не дальше… Но едва он успел войти в дом и снять с себя все дорожное, на улице, за оградой, послышалось короткое шуршание резко затормозившей машины, клацнула рывком захлопнутая дверца, и через секунду перед Дембовичем стоял Михаил. - Ну? - спросил он грубо. Дембович, глядя ему в глаза, пожал плечами. - Он не явился. В доме отдыха его нет. На границе была стрельба. Можно было ожидать, что это прозвучит для Михаила как гром среди ясного неба, но Дембович смотрел и не видел, чтобы хоть подобие растерянности мелькнуло у Зарокова на лице. Михаил подбросил на ладони связку ключей, протяжно произнес: «Та-ак…» - и, обойдя застывшего посреди коридора Дембовича, прошел к себе в комнату. Торопливо надевая пижаму, старик ждал, что Михаил сию минуту позовет его и по обыкновению задаст привычный вопрос: «Как вы думаете, дорогой Ян Евгеньевич, что же это значит?» Но вдруг ему показалось, что щелкнул замок в двери, и неожиданно для самого себя он испугался. Уж не хочет ли Михаил покончить самоубийством? Дембович босиком подошел к двери, дернул за ручку - заперто. - Михаил! - позвал он. - Зачем вы заперлись? Из-за двери ответил совершенно спокойный голос: - Что вы так взволновались, Дембович? Подождите, имейте терпение, я вас позову. Дембович был не в том состоянии, когда думают о приличиях. Он остался на месте, чтобы послушать, что делается в комнате. Сначала шуршала бумага, потом он услышал какой-то хруст - словно от полена щепают лучину или ломают что-то хрупкое. Дембович отошел, поискал в коридоре шлепанцы, надел их и снова стал у двери. Наконец Михаил повернул ключ и тихо, будто видел, что старик подслушивает, сказал через дверь: - Ну, входите. Обсудим. Старик давно научился без лишних слов понимать настроение своего постояльца, а теперь к тому же нервы у него были взвинчены, он все воспринимал обостренно. И, взглянув мельком на Михаила, Дембович уже знал: обсуждать нечего, Зароков все решил без него. Но что именно решил? - Садитесь, - пододвигая стул, сказал Михаил. Когда Дембович сел, Зароков, стоя, посмотрел на него сверху вниз внимательно, но, как показалось старику, отчужденно, как смотрит врач на безнадежно больного, и ровным голосом, словно читал лекцию, заговорил: - Если даже принять без сомнений, что теперь контрразведка неминуемо выйдет на нас с вами, нет смысла заранее отпевать себя. Чему быть, того не миновать, и, чтобы поберечь нервы для допросов, не надо давать волю собственному воображению. - Вы говорите со мной как с мальчишкой, - раздраженно заметил Дембович. - А у вас и голос дрожит, дорогой мой Дембович, - как будто даже с удовольствием сказал Михаил. - Распустили себя. Он закурил папиросу, сел на кровать. Дембович, не мигая, глядел широко открытыми глазами в одну точку, куда-то за окно. Михаил переменил тон: - Скажите, Ян Евгеньевич, там, где вы брали путевки в дом отдыха, вашу фамилию знают? Дембович ответил не сразу. Резкий переход от общего к частному был ему труден. - Я же писал заявление, чтобы мне их дали, - наконец произнес он. - По номерам путевок быстро можно установить, кому они первоначально выданы? - был следующий вопрос. - Совершенные пустяки, - устало отвечал Дембович. Оба понимали, что могло произойти одно из трех возможных. Павел и Круг схвачены ночью во время переправы. Круг ушел на катере, а Павел арестован. Или наконец и Павел и Круг ушли. В любом из этих случаев в деле будут фигурировать путевки, по которым они отдыхали в «Сосновом воздухе». И следствие по прямой дороге выйдет на Дембовича. Где-то в глубине сознания Надежда все еще не отказывался от подозрений, что Павел подставлен к нему контрразведкой. Но если это верно, то Павел должен был явиться на свидание. Исчезать ему нет никакого смысла. Теоретически можно было себе представить еще один, последний вариант: Павел-контрразведчик с самого начала имел целью переправиться за границу и вот теперь, используя оказию, вместе с Кругом уплыл на катере. В таком случае он, Надежда, с первого своего шага на советской земле служил лишь слепым инструментом в руках органов госбезопасности. Этому Надежда всерьез верить не мог. Это выглядело слишком неправдоподобно… После долгого, тягостного молчания любое произнесенное слово Дембович готов был принять с благодарностью, но то, что он услышал, ударило его в самое сердце и заставило сжаться. - Я дам вам пистолет, - сказал Михаил. - Он может пригодиться. Но, по-моему, с этим никогда не надо спешить… Зароков встал, снял с гвоздя у двери новую кремовую куртку, которую не надевал еще ни разу, завернул ее в газету. Потом выдвинул ящик письменного стола, загремел какими-то железками, завернул их в другую газету и сунул сверток в карман брюк. - Очнитесь, Дембович. Пистолет вот здесь, в столе… Дембович встрепенулся. В глазах у него стояли слезы. Пальцы рук, лежавших на столе, заметно дрожали. - Вы уходите? - тихо спросил он. - Не навсегда, Дембович, не навсегда, - сказал Михаил успокоительно.Глава 4 ДОПРОС БЕЗ ПРИСТРАСТИЯ
У Павла было такое ощущение, что до этого дня специально его особой никто не занимался. Конечно, он на виду у молчаливой меланхоличной Клары и у этого долговязого садовника, но они могли играть лишь роль пассивных наблюдателей. Вероятно, в их задачу ничто иное и не входило. Как-то вечером, в сумерках, когда Леонид Круг, проглотив снотворное, тихо заснул, повернув лицо к стене, Павел почувствовал вдруг странное нетерпение. Ему показалось, что хозяева Леонида слишком долго его выдерживают. Хотелось ускорить события, побыстрее пройти сквозь все, что они там приготовили для него, хотелось двигаться им навстречу. После он, вероятно, будет ругать себя за то, что собирался сделать, но менять решения не хотел. Впрочем, существовало одно соображение, которое вполне оправдывало этот почти импульсивный поступок: Бекас не должен проявлять столь положительный характер и выдержку, это было бы подозрительно. Бекас должен быть нетерпеливым и немного взбалмошным. Павел спустился вниз и постучал к Кларе. Она смотрела телепередачу из Мюнхена. Павел попросил извинения за беспокойство, Клара выключила телевизор и предложила сесть. Она не задала ему ни одного вопроса. Павел сам рассказал ей все о скитаниях Бекаса, о причудливых событиях последнего месяца, о сомнениях и необъяснимой тревоге, охватившей его в этот теплый душный вечер. Она слушала, улыбаясь в тех местах его рассказа, где он, говоря о себе в третьем лице, ругал Бекаса за легкомыслие и непреодолимую тягу к бродяжничеству. Павел просидел до половины двенадцатого. Он встал лишь тогда, когда заметил, что Клара подавила зевок. Поднимаясь к себе на второй этаж, Павел подумал, что этот разговор сослужит ему службу. Ведь Клара доложит все кому следует. Но, рассуждая так, он, в сущности, старался оправдать свою нетерпеливость. И понимал это. И давал себе слово больше никогда не упреждать действий своих хозяев. И вот настал день, которого он так ждал. Черноволосый плотный человек, встречавший их в бухте - Леонид звал его Себастьяном, - приехал утром после завтрака, поговорил с Кругом, а потом сходил к машине, принес желтый кожаный портфель, достал из него пачку бумаги и авторучку и подозвал к себе Павла. - Пишите автобиографию, - сказал он, протягивая бумагу и ручку. - Мать. Отец. Своя жизнь. Детально. Не торопиться. Себастьян ушел, а Павел сел к столу у окна. Леонид, запрокинув голову на подушке, поглядел на него и сказал дружески: - Пиши как есть, не скрывай ничего. Потом легче будет. Это в первый, но не в последний раз. - Ладно. Павел подробно написал биографию Бекаса. Почерк у него был довольно разгонистый, и получилось десять страничек. Он умышленно сделал несколько грамматических ошибок, запомнив их как следует. Прием не очень остроумный, но верный. Себастьян забрал написанные листки и авторучку и уехал. Через три дня за Павлом прислали машину. Рядом с шофером сидел незнакомый молодой человек. Ехали сначала лесом, потом минут сорок мчались по широкой, но не очень оживленной автостраде, а потом опять свернули в лес и остановились возле двухэтажной виллы. Молодой человек проводил Павла в большой пустой кабинет на первом этаже и ушел, прикрыв за собою дверь. Минут через пять явился полный, добродушного вида дядя, в очках, с небрежно повязанным галстуком. Он поздоровался, пригласил к столу, положил перед Павлом стопу бумаги и ручку и предложил написать подробную автобиографию. Павел сделал удивленное лицо. - Я уже писал. Толстяк ласково улыбнулся, развел руками. - Не знаю, не знаю, молодой человек. Для меня вы ничего пока не писали. Прошу вас. Я не буду мешать. - И он быстренько выкатился из кабинета. Павел почти слово в слово изложил то, что уже писал для Себастьяна. И аккуратно вставил те же ошибки. Толстяк вернулся, взял листки, поблагодарил Павла и проводил к машине. Через час Павел был на даче и рассказывал Кругу о поездке. Еще через два дня за ним снова прислали машину с тем же шофером и сопровождающим. И привезли его на ту же виллу, ввели в тот же кабинет, где на этот раз он увидел вместе Себастьяна и добрягу толстяка. Первый располагался на кожаном диване, перед которым стоял низкий овальный столик с огромной круглой пепельницей, куда Себастьян стряхивал пепел, - курил он непрерывно, Павел еще ни разу не видел его без дымящейся сигареты. Толстяк сидел на широком подоконнике, беспечно болтая ногами чисто по-школьному. Они не изменили поз при появлении Павла. Только прекратили разговор. - Ну-с, молодой человек, - приветливо начал толстяк, - садитесь к столу, и будем беседовать. Мы хотим, если вы не против, познакомиться с вами поближе. Павел опустился на стул за большим круглым столом посреди кабинета. Когда он вошел, под взглядами этих двоих ему казалось, что лицо его утеряло выражение бесхитростного любопытства и беспечности, которое он как бы надевал каждый день в момент пробуждения и не снимал до поздней ночи. Он чувствовал все мышцы своего лица, они словно бы одеревенели. Сейчас, после слов толстяка, Павел улыбнулся, стараясь снять скованность. - Вы русский, да? - спросил Павел. - Конечно, русский. - И толстяк сочно расхохотался. - А как вас зовут? - Александр. Себастьян не разделял их приподнятого настроения. Откинувшись на спинку дивана, он смотрел сбоку на Павла как бы в задумчивости. Павел видел его лишь краем глаза, но все равно чувствовал неприязнь и враждебность, которыми был заряжен этот подтянутый, сдержанный и красивый человек. Себастьян вмешался в разговор словно бы нехотя. Спросил негромко: - Где вы познакомились с Михаилом Зароковым? Павел недоуменно повернулся в его сторону, будто не понимая, к кому обращен вопрос. - Вы меня спрашиваете? - Вас, вас… - Зароков? Не знаю. Вообще фамилии такой никогда не слыхал. - Павел улыбнулся, посмотрел на толстяка, ища сочувствия. Тот грузно спрыгнул с подоконника, подошел к тумбе в углу, на которой стоял большой, в металлическом корпусе радиоприемник, нажал на нем одну из белых, похожих на рояльные, клавиш. Но звук не включился. Вероятно, это был не приемник, а магнитофон. Вернувшись к окну, толстяк задал вопрос: - Итак, молодой человек, вы родились… в каком году? - Тридцатом. Дальше пошли вопросы по биографии - в хронологическом порядке. Они задавались так благодушно, словно это был не допрос, а заполнение анкеты для поступления на курсы кройки и шитья. Монотонность этого диалога нарушил Себастьян: - Где вы познакомились с Леонидом Кругом? - В доме отдыха «Сосновый воздух». Еще серия вопросов и ответов, касающихся жития Павла Матвеева - он же Корнеев, он же Бекас, - и снова реплика Себастьяна: - Когда Круг сказал вам о переправе? - Двадцать седьмого днем. Себастьян, как говорится, стрелял вразброс, но в этом была своя система. Если потом очистить допрос от мякины их бодрой беседы с толстяком, получится довольно подробная картина переправы и обстоятельств, ей предшествовавших. Павел отвечал одинаково охотно и любезно и толстяку и Себастьяну, так что по тону вряд ли можно было уловить, как колеблется напряжение, испытываемое всем его существом. - Прошу рассказать детально про переправу. Павел изложил события ночи с 27 на 28 июня. - Нарисуйте бухту, - приказал Себастьян. - Наш корабль. Пограничный корабль. Как стояли. И вашу лодку. В момент встречи. Павел подумал и набросал схему бухты, расположение катеров и лодки. Пока Себастьян рассматривал чертеж, Павел попробовал отвлечь толстяка, чтобы самому отвлечься и отдохнуть. - А у нас не так допрашивают, - сказал он тихо, чтобы не мешать сосредоточенному Себастьяну. - У нас следователь все записывает, чин-чинарем. И потом расписаться дает. Толстяк расхохотался. Ему было весело наблюдать наивную физиономию Павла. - Во-первых, это можно не считать допросом, - объяснил он. - А во-вторых, он все записывает. - И показал на магнитофон. Павел оценил такую откровенность. И подумал, что, пожалуй, ему было бы легче, если бы они ее не демонстрировали. Все заранее рассчитано, все должно давить на психику, в том числе и этот допрос без всякого видимого пристрастия. Значит, у них в запасе есть средства посерьезнее, чем старая песня со словами «спрашивайте - отвечаем».Глава 5 МИХАИЛА ЗАРОКОВА БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
План побега созрел быстро. Сейчас к Надежде вернулось то острое чувство опасности, которое прежде заставляло его больше доверять инстинкту самосохранения, а не разуму. А инстинкт требовал не доверять никому и ничему, даже собственным впечатлениям. Поэтому главным в его плане было проверить, следят ли за ним, а если да, то насколько бдительно. И потом, после проверки, действовать по обстоятельствам. В путевке у него был записан рейс по телефонному заказу, который дала ему Мария. В два часа дня он должен подать машину по указанному адресу, а потом везти пассажиров в дачный поселок, за тридцать километров. Это кстати: на загородном шоссе легче обнаружить слежку. Нужно сменить машину, что нетрудно: в парке всегда есть несколько запасных таксомоторов, стоят на площадке под открытым небом. На новой машине, с новым номером, если обстряпать все за несколько минут, уже из парка можно, пожалуй, выехать без «хвоста» - ведь следящие, если они есть, знают его по машине и по ее номеру так же хорошо, как и в лицо. И еще одно соображение: если он действительно на крючке у контрразведки, то можно предполагать, что где-то в чреве его машины спрятан миниатюрный радиопередатчик, посылающий в эфир непрерывные сигналы, по которым оператор на пеленгующей станции в любой момент может определить, в каком районе находится машина. Искать передатчик сейчас нет времени. Пришлось бы распотрошить автомобиль до основания. Надежда поехал в парк. Поставив машину в угол к забору, чтобы никому не мешала, поднял капот, снял колпачок с трамблера, перепутал провода, один из них чуть зачистил, чтобы он замыкал на корпус, закрыл капот, быстро пересек двор и вошел в диспетчерскую. Мария была на месте. - Ты что приехал? - спросила она. - Да понимаешь, что-то барахлит мотор, а у меня же рейс по заказу. Через пятнадцать минут. - Михаил поглядел на часы. - Как бы это к шефу подкатиться, чтобы дал другую? - Все на обеде, - сказала Мария. - Хотя обожди, дядя Леша здесь. Дядя Леша был дежурным механиком. Мария позвала его, и в пять минут все было улажено. - Бери машину Сливы, у него сменщик не вышел, - предложил механик. - Машина на ходу. Заправлена, помыта. - Спасибо, дядя Леша. - Михаил протянул Марии свою путевку. - Перепиши. Мария зачеркнула на путевке старый и написала новый номер машины. - Заезжай часов в пять, пообедаешь, - сказала она, глядя, как Михаил прячет путевку. - Обязательно. Он наклонился через перила, поцеловал ее. Спустя несколько минут Надежда выехал из парка на таксомоторе водителя Сливы. Пиджак, в котором был до этого, он снял и положил под себя на сиденье, форменную фуражку тоже снял. На нем была теперь кремовая курточка на «молнии». Все шло пока строго по плану… Часто меняя скорость, Надежда сделал большой круг по восточной окраине города. Улицы здесь были в дневные часы малолюдны, автомобили сюда заезжали редко. За ним следом никто не ехал. Если с утра и был «хвост», теперь он от него оторвался. Надежда закурил и прибавил газу. Пора ехать по адресу - это в районе новостроек, который здесь называли по-московски Черемушками. Он опоздал всего на десять минут. Те, что заказали машину, жили в только что отстроенном доме. Надежда поднялся на лифте, позвонил. Дверь открыла пожилая женщина. Его ждали, но сами готовы еще не были. - Переезжаем на дачу, - объяснила женщина. - Осталось сложить посуду в корзинку, и поедем. Входите, входите! В квартире стоял переполох, два молодых голоса - мужской и женский - переругивались без всякого вдохновения, автоматически. Иногда им мешал ругаться детский голосок, задававший какие-то вопросы. Видно, шла усиленная упаковка вещей. - Может, хотите чаю? - спросила женщина просто из вежливости. - Я подогрею… - Спасибо, - сказал Михаил. - Не беспокойтесь, занимайтесь своим делом, я на кухне подожду. Водички, с вашего разрешения, попью. - Ради бога, ради бога. Стаканы там, в шкафу, пожалуйста. - И ушла в комнату. В кухне Надежда оглядел стены. Вытянув из кармана брюк бумажный сверток, откинул металлический клапан мусоропровода и хотел было выбросить туда из газеты разрозненные внутренности радиопередатчика, но тут же передумал и быстро сунул сверток обратно в карман. Взял из буфета стакан, спустил из крана воду, чтобы была холоднее, напился. Тут и хозяева появились, вся семья. Все они улыбались, малыш в том числе. - Вы нам поможете? - спросила молодая румяная мама. - Давайте что-нибудь потяжелее, - сказал Надежда, бросив мимолетный взгляд на высокого худого папу в очках с толстыми стеклами. Вид у того был измученный, страдальческий. Теща пригласила Надежду в комнату и показала на плетенную из прутьев корзину. - Только осторожнее, здесь посуда, - предупредила она. - Не беспокойтесь. Не прошло и получаса, как чемоданы и узлы были сложены в багажник и славное семейство в полном составе разместилось в машине. Впереди села мама с сыном. Вырвавшись из путаницы улиц на загородное шоссе и отметив, что ни впереди, ни сзади нет других машин, Надежда выжал газ до предела и облегченно откинулся на спинку сиденья. Разгрузка отняла совсем немного времени, и в четверть четвертого Надежда отъехал от дачи, пожелав дачникам хорошего лета. На шоссе он повернул не к городу, а в противоположную сторону. Вдалеке синела зубчатая стена леса. Он ехал, все время держа стрелку спидометра на восьмидесяти, и скоро машина нырнула вместе с дорогой в прохладный тенистый коридор. Ели подступали с обеих сторон прямо к кюветам. Надежда сбавил ход. Заметив тележную колею, ответвлявшуюся от дороги в глубину леса, он свернул на нее и поехал не спеша, притормаживая всякий раз, как под колеса ложились особенно толстые корни. Полоска этой лесной дороги, как рука с набухшими жилами, вся была переплетена корнями могучих деревьев. Показался просвет. Началась знакомая большая поляна, а за нею молодой ельничек. Как раз то, что ему нужно. Надежда выбрал проезд поудобнее, чтобы не исцарапать машину - впрочем, эти мягкие елочки вряд ли могли царапаться, - вдвинулся в заросли метров на двадцать и выключил мотор. Вышел, отводя ветки от лица обеими руками, на чистое место. В лесу пели птицы. Над поляной струилось зыбкое марево, пропитанное дремотным стрекотаньем кузнечиков. Надежда вспомнил, что сегодня пятница. Он еще неделю назад договорился с Петром Константиновичем, своим сменщиком, поработать две смены подряд, в пятницу и субботу, чтобы в воскресенье быть свободным. Послезавтра они с Марией собирались поехать за город, погулять в лесу. Он не удивился тому, что жалеет Марию. Удивительно было другое: собственное безоглядное бегство вдруг показалось ему паническим, а опасения, по крайней мере, преждевременными. Но тут же подумал, что это говорит в нем его легализовавшийся двойник, привыкший к размеренной жизни, расслабившийся, умиленный шорохом бабьей юбки. И погода такая, что сейчас бы валяться в траве, напившись холодного молока… Что ж, и с Дембовичем тоже придется расставаться. И не Надежда тут главный виновник - во всяком случае, не с него началось. И как ни странно, только после этого Надежда вспомнил об отце. В последнюю очередь. Может быть, оттого, что отец дальше от него, чем город и люди, с которыми он был связан без малого год. - Как перед дальней дорогой, - сказал Надежда вслух. - К чертям! Из тайника, что у ели, он достал бумажник, тяжелый, туго набитый, раскрыл его. Денег пока достаточно. Паспорт на месте. Паспорт на имя Станислава Ивановича Курнакова, выданный в 1956 году милицией города Ростова-на-Дону, действителен по 1966 год. Михаила Зарокова больше не существует. Он умер сегодня второй раз и теперь уже не возродится… Надежда присел на траву. Если бы Мария увидела его сейчас, она бы, наверное, не узнала Михаила Зарокова. Лицо человека, сидевшего в задумчивости посреди заросшей цветами поляны, показалось бы ей чужим и неприятным. Долгим было это раздумье. И важным. Надежда изменил первоначальный план исчезновения. Поднявшись с травы, он посмотрел на часы. Было семь вечера. Он вывел машину из ельника, развернулся и поехал в город. До наступления темноты он работал как обычно - возил пассажиров. А ровно в одиннадцать ночи оказался около своего дома. Машину поставил на соседней улице. Перелез через забор в сад. В комнате Дембовича и на кухне горел свет. Подумал с досадой: «Еще не спит». Но Дембович спал. Он лежал на неразобранной кровати одетый, рука свисала до полу. На столе Надежда увидел пустую коньячную бутылку и кусочки выжатого лимона на коричневом блюдце. Надежда постучал ключами по дверной притолоке. Старик не шевельнулся. Надежда знал: в кухне у запасливого Дембовича всегда стоит бидончик с керосином. Бидончик оказался на месте. Надежда облил углы комнаты, бельевой шкаф. Запер дверь дома, затем вернулся, закрыл на два оборота дверь комнаты Дембовича свнутренней стороны, а ключ положил в карман висевшего на стуле пиджака. Затем тихо, без скрипа, растворил окно, вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и сунул ее в шкаф. Не мешкая, вылез в окно, закрыл его и плотно притворил массивные ставни. Собака на секунду показалась из будки, но, увидев своего, нырнула обратно. Надежда перелез через забор, огляделся. Улица была пустынна. …Жители больших городов привыкли к недозволенно быстрой езде таксистов. Поэтому запоздалые прохожие не удивлялись, видя мчавшуюся по улицам машину. Выехав за город, Надежда еще увеличил скорость. Тридцать километров он покрыл за пятнадцать минут. Эта гонка в темноте его немного даже успокоила, хотя в принципе он не очень-то волновался. Голова была занята последним пунктом плана, созревшего там, на лесной поляне. Что бы ни произошло в будущем, он хотел дать всем людям, которые станут доискиваться, почему сбежал водитель Зароков, готовую причину. Съехав на проселочную дорогу, он заметил впереди темное пятно. Включил дальний свет. Лучи фар высветили одиноко стоявшую на обочине повозку. Надежда сбавил скорость… Машина ударилась в заднее колесо телеги правой фарой… Около пяти часов утра Надежда вышел на автостраду. Движение было оживленное. Много грузовых. Он проголосовал перед порожним «ГАЗом», машина остановилась. Спросил шофера, далеко ли едет. Оказалось, на узловую железнодорожную станцию, за полтораста километров отсюда. Повезло Надежде… В восемь часов утра он был на станции. Побрился в парикмахерской, поел в станционном буфете. Билет взял в общий плацкартный вагон, место его оказалось на верхней полке. В вагоне было душно, но он быстро уснул, отвернувшись лицом к переборке.Глава 6 МАЛОУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
У Марии не возникло никакого беспокойства оттого, что Михаил не заехал в пять часов пообедать. И то, что он не пришел ночевать, тоже не удивило ее. Но, когда утром в субботу она явилась в диспетчерскую и узнала, что машина, на которой уехал Зароков, в парк не вернулась и пришедший на работу Слива устроил ей небольшой скандал за самоуправство, Марию охватили недобрые предчувствия. Она пошла к начальнику парка и рассказала о вчерашней истории с заменой автомобилей и о том, что такси Сливы в гараже до сих пор нет. Начальник был человек несуетливый и понимающий. Он ограничился выговором, приказал дать водителю Сливе другую машину, из запасных, а насчет Зарокова, которого он уважал и ценил как работника и об отношениях которого с диспетчером был хорошо осведомлен, посоветовал предпринять следующее: сейчас же послать первого попавшегося водителя к Зарокову домой, а если его дома не окажется, сделать официальное заявление в милицию о пропавшей машине. Мария адреса Михаила не знала, поэтому тут же побежала в отдел кадров. Когда вернулась к себе, диспетчерская была полным-полна. Неприятные вести почему-то и распространяются и собирают людей гораздо быстрее, чем приятные. Многие водители отложили выезд на линию на неопределенное время - очень хотелось побыстрее услышать подробности. А Марии не терпелось самой отправиться на розыски Михаила. Как велел начальник, она попросила первого попавшегося шофера, Шахнина, отвезти ее к Зарокову… Когда остановились у забора, на котором был написан номер нужного им дома, и вышли из машины, Мария совсем пала духом: за забором тоскливо, как по покойнику, то выла, то скулила собака. Нехорошо звучал этот вой при ярком солнце бодрого июньского утра. Шахнин, опередив Марию, положил руку на медное кольцо калитки, повернул его. Они увидели пепелище. Залитые водой черные головешки атласно блестели на солнце. Нелепо возвышались среди этой черноты остовы двух голландских печей, изразец на них был закопчен. Поехали в городское управление охраны общественного порядка. Там им сказали, что пожар произошел ночью по неизвестным причинам, что хозяин дома Дембович был извлечен из горящего дома мертвым. При поверхностном осмотре никаких признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. О причине смерти точно можно будет сказать только после вскрытия, но, вероятнее всего, покойный был сильно пьян и не смог выбраться из горящего дома, задохнулся… Вернувшись в парк, Мария работать была уже не в состоянии. Начальник распорядился вызвать подменного диспетчера, а Марии посоветовал идти домой. Но она не могла сейчас оставаться в одиночестве и, походив по улице туда-сюда, вернулась в диспетчерскую. Если что станет вдруг известно о Михаиле, то прежде всего здесь. Мария ничего не дождалась в этот день. Воскресенье она просидела дома, совершенно убитая, вздрагивая и выбегая в коридор при каждом звонке у дверей. Но то все были гости к соседям… В понедельник из милиции сообщили в парк, что таксомотор найден на проселочной дороге. Он врезался в телегу, разбит, но не очень сильно. Следов Зарокова обнаружить не удалось. Он исчез, как испарился. Мария сходила в управление охраны общественного порядка, поговорила с работниками, занимавшимися поисками, но ничего сверх того, что было уже сообщено, они ей сказать не могли. Вероятно, Зароков скрылся, побоявшись, что его привлекут за аварию к ответу. Тем более что у него уже был раньше неприятный случай - наезд на пешехода… Мария потеряла покой. Обязанности свои на работе она по-прежнему исполняла исправно, но делала все автоматически. …Шоферы такси возят много разного народа, поэтому и знают много, и вскоре в парке стало известно, что старик, по фамилии Дембович, у которого квартировал Зароков, страдал болезнью сердца, пить ему совсем было нельзя, а он, старый дурень, царствие ему небесное, то ли с горя, то ли на радостях напился и сгорел в собственном доме по глупости. Все сочувствовали Марии, все с горечью замечали, что она тает на глазах. И никто пока не догадывался, что она беременна. Михаилу сказать об этом она не успела.Глава 7 ДОПРОС НА ДЕТЕКТОРЕ
Долговязый Франц и Павел сидели на скамье в дальнем конце сада и разговаривали, поглядывая на него. Облака густели, белый цвет быстро сменялся свинцовым, а с севера, от моря, наплывали чугунно-темные клубящиеся тучи. Собиралась гроза, но духоты не ощущалось, воздух был свежий, как ранним утром. Поговорив о разных разностях, они в конце концов остановились на дежурной теме, которая с момента первого их знакомства больше всего интересовала Павла. Павел любил послушать о городе, который недалеко отсюда, о городской жизни. Франц рассказывал об одной из своих прошлых вылазок, и, как всегда, Павел отмечал, что по части развлечений уравновешенный Франц не проявлял особой фантазии. Развлекался и тратил деньги он самым примитивным образом. Но сегодня садовник внес новую деталь - он рассказал о встрече с друзьями по плену, серьезными людьми, которые, может быть, и не коммунисты, но честные ребята и настроены критически. Иронизируют по поводу нынешнего процветания и ругают политику правительства. Франц упомянул о них как бы мимоходом, безразлично, и Павел отнесся к этому упоминанию соответственно. Начал накрапывать мелкий дождик, потом в листьях яблонь и кустов прошуршали первые тяжелые капли, словно небо пристреливалось. Через минуту наступила тишина, дождь совсем прекратился, и вдруг хлынул сплошной ливень. Пока Франц и Павел добежали до дома, оба успели промокнуть насквозь. Павел хотел подняться к себе, сменить рубаху, но тут возле ворот остановился автомобиль, калитка распахнулась, и на дорожке появился толстяк Александр. Он шел так, будто дождя и в помине не было. Вельветовая курточка сразу потемнела у него на плечах. Войдя на крыльцо, он плотно провел ладонью по своим светлым, коротко остриженным волосам, стряхнул с руки воду. Улыбнувшись и не поздоровавшись, сказал Павлу: - А я за вами, молодой человек. Поедем. - Сейчас другую рубашку надену. - Да ничего, дождь теплый, не простудитесь. Нас ждут. Павел хотел сказать, что это нисколько не задержит. Он слегка удивился такой спешке - не опаздывают же они к поезду, который отходит через пять минут? Но не стал спорить. Только заметил, вспомнив, как аккуратный Себастьян позаботился постелить коврик на заднее сиденье своей машины в то утро, когда встречал перемазанных в крови Павла и Леонида Круга: - Не испорчу машину? - Ничего, высохнет. Они ехали тем же маршрутом, но остановились у другой виллы. Александр провел Павла по коридору и распахнул перед ним белую дверь. Они вошли в комнату, похожую не то на лабораторию, не то на врачебный кабинет. За белым столиком у окна сидел человек лет пятидесяти, худощавый, с нездоровым цветом лица, в белом халате и черной атласной шапочке, в очках с дымчатыми стеклами. - Он не знает, зачем его привезли? - спросил врач по-немецки у Александра. Но глядел при этом на Павла. У Павла мгновенно возникло уже хорошо знакомое ощущение, что уши онемели и что это заметно со стороны. Он непонимающе посмотрел на Александра, затем на врача. - Я ничего не говорил, - ответил Александр. И по-русски сказал Павлу: - Это доктор, он займется вами. Раздевайтесь до пояса. Врач воткнул себе в уши трубочки фонендоскопа, поманил Павла поближе и, приложив холодную целлулоидную мембрану ему к груди, стал слушать сердце. - Поговорите с ним, - сказал он. Александр по привычке присел на подоконник и спросил у Павла: - У вас как вообще здоровье? - Не жалуюсь. - Спортом занимались? - По роду занятий обязан быть в форме. - Да, ведь вам приходилось бегать… - Александр имел в виду побег из тюрьмы. - А эту борьбу… как она называется… самбо знаете? Это был не такой уж простой вопрос, хотя звучал вполне невинно. - Самбо - ерунда… В тюрьме можно научиться кое-чему почище. - А по-немецки так и не научились? Мембрана фонендоскопа, как показалось Павлу, прижалась чуть плотнее. Павел развел руками. - Warum? - спросил Александр. Павел не колебался. Он решил покончить с этим вопросом просто и надежно. И ответил по-немецки: - Darum. Александр рассмеялся. - А все-таки, значит, учились? - В школе у нас был немецкий. Но я его не любил. С немецкого урока ребята смывались на стадион, играли в футбол. А потом старуха-немка все равно выводила нам тройки. Чтобы не портить школьный процент успеваемости. - А больше никакого языка не учили? - А что, я похож на бывшего студента? - поинтересовался Павел. - Но все же… - Genug, - сказал врач. Он взял Павла за руку, подвел к столу у противоположной стены, на котором стоял пластмассовый ящик, формой и величиной похожий на чехол для пишущей машинки с широкой кареткой. По дороге врач взял легкое кресло с плетеной спинкой и длинными подлокотниками, стоявшее посреди кабинета. Щелкнув запором, врач снял пластмассовый чехол. Под ним оказался какой-то аппарат с рукоятками на передней стенке. На верхней крышке во всю длину был сделан вырез, и в нем был виден валик, похожий на скалку для теста. От аппарата отходило три пары разноцветных проводов. Над валиком на одинаковых расстояниях друг от друга краснели длинные клювики трех самописцев. Из стоявшего рядом плоского ящичка врач достал толстую гофрированную трубку, напоминавшую противогазную, и другую трубку - тоньше первой и гладкую, затем два металлических зажима, похожих на разомкнутые браслеты, и две подушечки из пористой резины. - Вы знаете, что это такое? - спросил Павла Александр, кивнув на прибор. - Похоже на рацию, - сказал Павел. - Это полиграф, в просторечии называемый детектором лжи. У вас в Советском Союзе много писали по поводу этой машины. Никогда не приходилось слышать? Павел ответил: - Болтали раз в камере, я тогда под следствием сидел. Толком не понял. - Этот аппарат умеет читать мысли. Павел подмигнул толстяку: мол, будет трепаться, сами умеем. - Не верите? - спросил Александр. - А вот сейчас посмотрим. Врач присоединил к проводам аппарата обе трубки и зажимы, поставил кресло спинкой к аппарату и жестом пригласил Павла сесть. Но Александр сказал: - Подождите, доктор, покажем ему фокус. Он не верит. Александр стащил с себя вельветовую куртку, закатал рукав рубахи на левой руке и сел в кресло. Врач обвил гофрированной трубкой его широкую грудь - гармошка сильно растянулась. Гладкая трубка тугим кольцом легла на руку чуть ниже локтевого сгиба. Металлические зажимы-браслеты врач надел на кисти рук Александра с тыльной стороны, потом взял пористые подушечки, отошел к раковине, в которой стояла банка с прозрачной жидкостью, окунул в нее подушечки, немного отжал их и вставил под зажимы так, что они плотно прижались к ладоням. - Я вам после объясню устройство, - сказал толстяк. Врач воткнул вилку в розетку, затем вынул из стола рулончик бумаги с мелкими делениями, как на чертежной миллиметровке, отрезал от него ножницами ровную полоску. Написав на полоске цифры от одного до десяти, он уложил ее на валик. Павел с неподдельным интересом наблюдал за манипуляциями доктора, а толстяк, в свою очередь, наблюдал за Павлом. Врач взял резиновую грушу наподобие пульверизаторной, приладил ее к соску гофрированной трубки и стал накачивать в нее воздух. Потом сделал то же самое с трубкой на руке и вышел в коридор, притворив за собою дверь. Александр сказал: - Вот там, на бумаге, записаны цифры. Загадайте одну и скажите мне, я тоже загадаю ее. Испытывать аппарат будет меня, но, чтобы вы не подумали, будто мы с доктором заранее сговорились, сделаем именно так… Ну, загадали? - Да. - Запишите на бумажке. Вон, возьмите на столе у доктора, там и карандаш. Павел вывел на клочке цифру. - Покажите мне. Павел показал. Это была шестерка. - Спрячьте в карман. Павел спрятал. - Готово, доктор! - крикнул Александр. Врач вернулся в кабинет. - Теперь будет вот что, - объяснил Александр. - Доктор станет называть все цифры подряд, а я должен на каждую цифру говорить «нет». В том числе и на задуманную тоже. А потом увидите, что получится. Доктор повернул рукоятку на передней стенке детектора. Ровным голосом, не спеша, он стал называть цифру за цифрой. Валик с миллиметровкой чуть заметно двигался. Клювики самописцев прильнули к бумаге. - Один? - спросил врач. - Нет, - ответил Александр. - Два? - Нет. - Три? - Нет. И так далее. Голос у толстяка был спокойный. И при цифре «шесть» он звучал совершенно так же уверенно, ухо не могло уловить никакой разницы, хотя это и была задуманная ими цифра. Когда счет кончился, врач выключил детектор, извлек из него бумажную ленту и принялся изучать извилистые линии трех разных цветов, оставленные самописцами. Это продолжалось совсем недолго. - Шесть, - объявил врач. Теперь уже Александр подмигнул Павлу. - Ну как? Павел спросил: - А еще можно? - Давайте повторим, - согласился толстяк. Опыт повторили. Павел задумал и записал девятку. И врач с помощью детектора быстро и четко ее угадал. Было чему удивляться. Павел понимал: это психологическая обработка. Но оттого, что он понимал, не было легче. Детектор продемонстрировал свои возможности очень убедительно. - Позовем Лошадника? - спросил врач у Александра. - Зови. Врач позвонил по телефону, сказал два слова: «Мы готовы». Очень скоро пришел Себастьян. Вероятно, Лошадник - его кличка. Павел давно обратил внимание, что здесь вообще в моде прозвища. Он несколько раз слышал, как в разговорах упоминались цветистые клички явно неофициального происхождения: Монах, Музыкант, Цицерон, Одуванчик и так далее. Некоторые из прозвищ давались по принципу от обратного: Леонид Круг говорил Павлу, что шефа всего этого заведения зовут Монахом, а он, по слухам, был в свое время завзятым бабником. Стоило чуть отвлечься, и Павел почувствовал, что ему стало легче, словно его выпустили на минуту подышать свежим воздухом. Леонид говорил, что полезно перед испытанием на детекторе напиться как следует. Но если б знать… Пока врач снимал с Александра чувствительные щупальца детектора, Павел старался представить себе устройство аппарата; проявить любопытство к какому-то непонятному явлению - значит наполовину уменьшить страх перед ним. Гофрированная трубка фиксирует дыхание и работу сердца. Гладкая трубка на руке снимает артериальное давление. А для чего пористые подушки на ладонях? Леониду брат объяснял, что они реагируют на отделение пота у испытуемого. Три датчика - три самописца. Можно было сообразить, что действие детектора основано на простом факте: нервная система, регулирующая деятельность человеческого организма, не подчиняется тому, что условно называется волей. Но все же она существует, воля. И не так уж она условна. Себастьян, Александр и врач, стоя у окна, о чем-то посовещались. Потом Себастьян подвинул белый столик врача к креслу. Врач намотал на валик аппарата рулон миллиметровки и сказал Павлу по-русски: - Садитесь в кресло, закатайте рукав. На Павла были наложены трубки, врач приладил зажимы, укрепил на ладонях пористые резиновые подушечки, предварительно окунув их в банку с раствором. И сел за стол напротив. Себастьян и Александр встали у Павла за спиной так, чтобы он их не видел. - На все вопросы, которые вам зададут, отвечайте только «да» или «нет». - Врач говорил по-русски почти без всякого акцента. - Смотрите мне в глаза. Отвечайте не раздумывая. Но и не торопитесь. - Начнем с ключа? - спросил Себастьян. - Можно с ключа. Себастьян написал на ленте цифры от одного до десяти. Врач снял с правой руки Павла зажимы и подушечки, подвинул к краю стола листок бумаги и карандаш. - Сейчас мы проделаем то, что вы уже видели, - сказал он. - Задумайте любую цифру. Запишите на бумаге и спрячьте. Мы отвернемся. Все трое отвернулись. Павел вывел тройку, сложил и сунул листок в карман брюк. - Можно, - сказал он заговорщически, как будто все они играли в какую-то занятную детскую игру. Себастьян включил аппарат. - Итак, во всех случаях, даже когда я назову вашу цифру, говорите «нет», - предупредил врач. - Валяйте, - ответил Павел. - Один? - Нет. - Два? - Нет. - Три? - Нет. После проверки ленты врач сказал небрежно: - Вы задумали тройку. Павлу сделалось не по себе. Значит, аппарат работает точно. Значит, эти чертовы самописцы дергаются, когда он говорит «нет» на задуманной цифре. И это послужит ключом для расшифровки записи допроса. Самописцы будут так же дергаться всякий раз, как он произнесет неправдивое «нет»… Неужели нельзя их обмануть? Врач задернул шторы на обоих окнах, включил свет. Себастьян и Александр снова встали у Павла за спиной, врач сел за столик напротив. - Теперь вы будете отвечать на вопросы, - сказал он. - Говорите только «да» или «нет». Не раздумывайте. Смотрите мне в глаза. Себастьян включил детектор, возникло легкое монотонное жужжание. - Вы родились в Москве? - задал первый вопрос Александр. - Да. - Ваш отец жив? - Нет. - Вы коммунист? - это спросил уже Себастьян. - Нет. - Вы сидели в тюрьме? - Да. - Вы коммунист? - Нет. - Вам нравится здесь? - Да. - Вы любите вино? - Да. - Вы служили в Советской армии? - Нет. - Вы служите в органах госбезопасности? - Нет. - У вас есть дети? - Нет. Себастьян выключил детектор. Врач встал, подошел к Павлу, выпустил воздух из трубки, стягивавшей руку, подождал с полминуты и снова накачал ее грушей. - Ну как, хорошо я отвечаю? - спросил Павел. - Отлично, - саркастически сказал врач. Павел быстро перебирал в уме десять заданных ему вопросов, вспоминая их последовательность. Он отвечал спокойно. Он знал это, потому что ни разу не услышал ни одного толчка собственного сердца. Значит, не волновался. Раньше, давно-давно, иногда бывало так, что он начинал слышать свое сердце. Он старался угадать в последовательности вопросов какую-то систему. Но ее, кажется, не было. Разве что расчет на неожиданность важного вопроса… - Продолжим, - сказал врач. У Павла затекли ноги, он разогнул и снова согнул их. Мышцы на плечах ныли, хотелось потянуться, но тут ничего нельзя было поделать. Привязанный к детектору тремя парами электрических проводов, он чувствовал себя скованным. Началась вторая серия вопросов. Открыл ее Себастьян. - У вас есть мать? - Да. - Вы любите ее? - Да. Он спрашивал размеренно, спокойным голосом. И вдруг Александр, нарушив привычный ритм, спросил скороговоркой: - Зароков работает шофером такси? Павел отвел глаза от лица врача, повернул голову к толстяку. - Я не знаю, как тут отвечать. Не знаю никакого Зарокова. Обернувшись, Павел увидел, что оба - и Себастьян и Александр - держат в руках раскрытые блокноты. Значит, этот вопросник был составлен заранее. - Ну ладно, пошли дальше, - сказал врач. - Вы коммунист? - спросил Себастьян. Этот вопрос задавался в третий раз. Павел крикнул что было сил: - Нет! - Не орите, молодой человек, - попросил Александр. - Спокойнее. - Вы ездили за пробами земли? - спросил Александр. - Да. - Вы вор? - Да. - У вас есть жена? - Нет. - Леонид Круг получил телеграмму в доме отдыха? - Да. - Дембович познакомился с вами в ресторане? - Да. - Вы сегодня завтракали? - Да. - Вы рассчитывали попасть за границу? - Нет. Врач поднялся из-за стола и опять выпустил воздух из трубки, вероятно, чтобы дать руке отдохнуть, потому что рука от локтя до ногтей онемела и сделалась синюшного цвета. Вторая серия кончилась, и теперь уже можно было разглядеть определенную систему. Рядом с безобидными вопросами, ответ на которые им заранее известен - ведь Павел дважды давал письменные показания, - ставился вопрос по существу. Лживые «да» и «нет» будут на миллиметровке отличаться от правдивых. Врач накачал воздух в трубку. Значит, будет еще одна серия. В кабинете стало душно. - Вас зовут Павел? - Да. - Вы Матвеев? - Да. - Вы умеете стрелять из пистолета? - Нет. - Вы чекист? - Нет. Павел смотрел на дымчатые стекла очков сидящего перед ним врача и начинал испытывать раздражение. Свет яркого плафона отражался в очках двумя яркими бликами, резал глаза, хотелось увернуться в сторону, как от слепящего солнечного зайчика. Глаз врача не было видно. - Sprechen Sie deutsch? - Нет. Себастьян выключил аппарат. - Почему вы отвечаете, если не говорите по-немецки? Павел устало улыбнулся. - Это выражение я понимаю. Я уже говорил: в школе проходил немецкий. Врач ослабил трубку на руке, снял зажим. - Поднимите руку вверх, - сказал он, - пошевелите пальцами. За окнами шумел дождь. Стоило Павлу прислушаться к этому ровному шуму, и все происходящее представилось ему чем-то неестественным, не имеющим никакого смысла. Хотелось сбросить с себя эти сковывающие провода и сказать громко: «Довольно ваньку валять, пижоны!» Если б это была только игра… Приступили к четвертой серии. Она заняла меньше времени, чем предыдущая. После перерыва была пятая серия. Все вопросы оказались пустыми, кроме одного. Себастьян опять спросил, не коммунист ли Павел. Когда врач распахнул шторы, дождь еще продолжался, но стало заметно светлее. Тучи сваливались на юг, оставляя после себя редкие темные космы, которые быстро растворялись в молочно-белых легких облаках. Александр взглянул на свои часы, и Павел успел увидеть, что было уже четыре. Себастьян ушел не попрощавшись, а толстяк позвонил по телефону насчет автомобиля. - Поедем, отвезу вас домой. - В его тоне, когда он обращался к Павлу, совсем не было недоброжелательства. Даже трехчасовая вахта у детектора не испортила ему настроения. Обратно ехали молча. Только раз Александр пожаловался, что страшно проголодался. …Леонид Круг давно пообедал, но против обыкновения не спал. Видно, ждал возвращения Павла. - Допрашивали? - спросил он, когда Павел устало опустился на свое кресло-кровать. - Угу. - Детектор? - Угу. - Похоже на то, как я говорил? - Похоже. Но только намного хуже. Павел сидел, глядя на свои сложенные в пригоршню ладони. Они высохли, и на коже был виден белый налет. Он лизнул правую ладонь, сплюнул, выругался. - Соль, что ли? Фу, гадость. - Вытер ладони о брюки, стряхнул с брюк белую пыль. Круга интересовало только то, что касалось переправы. Павел успокоил его: - Насчет той ночи было несколько вопросов. Отвечал как договорились. - Иди пообедай. Но есть Павлу не хотелось. - Давай лучше поспим, - сказал он. Сняв туфли и брюки, Павел лег, укрылся простыней. Круг не успел докурить свою сигарету, а Павел уже храпел - он действительно чувствовал себя очень уставшим.Глава 8 МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
На следующий день приехал Виктор Круг. Павлу бросилось в глаза, что старший брат выглядит сегодня как будто моложе меньшого. И голос вроде бы помолодел, стал как-то бодрее, громче. По обычаю, Павел оставил братьев вдвоем. Спускаясь вниз, он подумал, что, может быть, Виктор привез какие-нибудь вести о результатах вчерашнего допроса. Конечно, наивно было бы рассчитывать, что расшифрованные показания детектора станут достоянием большого количества людей, но Виктор-то должен был поинтересоваться, тем более что часть показаний имеет прямое отношение к его родному брату. Виктор пробыл недолго. Когда его машина отъехала, Павел заставил себя побродить по саду еще немного, а потом поднялся на второй этаж. Леонид, можно сказать, сиял и светился. Должно быть, старший брат передал ему свое бодрое настроение как эстафетную палочку. Павел подумал, что было бы неплохо, если б братья и его включили в свою команду. В последние дни Леонид частенько жаловался, что у него сильно чешется левая нога, и эти жалобы звучали жизнерадостно - раз чешется, значит, дело пошло на поправку. Но Павел про себя отметил, что гораздо больше у Леонида стал чесаться язык. И немудрено: тринадцать лет вынужденного затворничества когда-нибудь должны же вызвать реакцию. Самое важное известие, услышанное Павлом за все это время, касалось Себастьяна. Леонид под большим секретом сообщил, что Себастьян и еще два сотрудника этого разведцентра - американцы. Себастьян здесь в качестве советника, но фактически второй хозяин… Можно было не сомневаться, что Круг и сейчас выложит все, что узнал от брата. И даже не понадобится вызывать его на откровенность. Едва Павел вошел, Леонид начал рассказывать новости. Как стало известно Виктору, показания Павла в части, касающейся их обоих, признаны правдивыми. Насчет остального Виктор ничего не сказал. Но и это уже много. Значит, детектор можно одурачить. И вообще, кажется, этот аппарат бывает не мудрее обыкновенной кофейной мельницы, когда натыкается на твердого человека. Еще Леонид сообщил, что от парня, который организовал его переправу, больше не было ни одной вести. У Виктора из-за этого возникли неприятности, потому что отец того парня, упрямый старик, считает Виктора виновным в провале сына. Но теперь все в полном порядке. Старика поставили на место, и он утихомирился. Павел за неимением других занятий давно начал изучать Леонида. Ему доставляло удовольствие предугадывать реакцию своего подопытного на те или иные явления их не слишком-то богатой событиями жизни. Когда Павел ошибался, он склонен был считать Круга личностью не совсем пошлой. В таких случаях Кругу нельзя было отказать ни в уме, ни в душевной оригинальности. Но бывали моменты, когда он казался Павлу циничным и примитивным. И Павлу становилось тоскливо и противно от мысли, что приходится делить судьбу, хотя и поневоле и, конечно, временно, с подобной скотиной. Так было сейчас. А Леонид, как на грех, жаждал братского общения. - Знаешь, - сказал он, - давай побреемся. Давно ты меня не брил. Обычно они брились электрической бритвой, которую подарил им на двоих Виктор, но иногда Леониду приходила охота, как он говорил, используя флотское выражение, срубить бороду, то есть побриться старомодной опасной бритвой - это напоминало ему времена лесной жизни. В таких случаях Павел брал у садовника Франца его бритвенные принадлежности и «срубал» Леониду бороду. Едва Павел намылил ему одну щеку, как на лестнице послышались шаги и в дверях появился плечистый молодой человек. Он был выше Павла на целую голову. Посторонившись, он пропустил в комнату Клару. - Вы поедете с ним, - сказала она Павлу. Павел показал бритвой на намыленную физиономию Леонида, но гость покачал головой и постучал пальцем по часам. - Придется тебе самому, - сказал Павел Леониду. - Не обрежься без зеркала. Или подожди меня. Он вышел следом за Кларой и молодым человеком. Когда Павел шагнул за ворота и увидел машину, которую за ним прислали, он подумал, что Леонид, пожалуй, долго будет ждать его на сей раз. Машина напоминала те малоуютные экипажи, в которых там, на Родине, перевозят преступников. Его провожатый открыл заднюю дверцу, выдвинул ступеньку и пригласил Павла садиться. В кузове по бокам тянулись узкие мягкие диванчики. Павел опустился на диванчик справа. Провожатый закрыл дверцу, щелкнул выключателем - на потолке зажегся свет - и сел слева, напротив Павла. Затем нажал кнопку на передней стенке, и машина тронулась. Павел уже научился определять время без часов, так как его часы стояли с той самой ночи, а новых ему не дали. Но это было легко в нормальных условиях, особенно если день солнечный, а жизнь течет размеренно. В глухой коробке, мчащейся на шуршащих колесах неизвестно куда, течение времени изменяется, за ним очень трудно уследить. Они ехали, может, час, может, два, а то и все три. И ехали быстро, хотя ощущение скорости тоже очень обманчиво, если едешь с закрытыми глазами. Павел испытывал голод - значит, время обеда уже давно прошло. А машина и не думала сбавлять ход. Когда они остановились и провожатый распахнул дверцу, Павел убедился, что завезли его гораздо дальше, чем в прошлый раз. Солнце, казавшееся после сумрака камеры на колесах нестерпимо резким, уже висело низко над горизонтом. Кирпичное приземистое одноэтажное здание, возле которого остановилась машина, было явно нежилым. Оно больше походило на казарму или на больничный барак. Часть окон по фасаду белела матовым стеклом. Рядом с домом были гаражи и еще какие-то строения. Вся территория, вплоть до окружающей ее высокой кирпичной ограды, залита асфальтом. Вокруг за оградой редкие сосны. Провожатый показал на входную дверь. Вошли в нее. Ступени лестницы, ведущей вниз, железные и узкие, как в машинном отделении корабля. Один марш, другой, третий, четвертый… Под первым этажом дома, оказывается, есть еще три. А может, гораздо больше. Они сошли с лестницы в коридор на третьем, но лестница опускалась глубже. Стены бетонные, сухие. Пол покрыт мягкой, пружинящей под ногами дорожкой. С потолка льется белый люминесцентный свет. Тихо так, что слышишь дыхание идущего впереди. Справа двери, странные для дома, даже если он и подземный… Они были овальной формы. Ручки как у холодильника. Поверхность - гладкая голубоватая эмаль. Молодой человек, шагавший как робот, остановился у двери, на которой черной краской была выведена римская пятерка. Потянув за ручку, как за рычаг, он открыл дверь, и Павел удивился: она была толстая, с резиновой прокладкой, будто служила входом в барокамеру. За дверью оказался просторный тамбур, а за тамбуром другая дверь, обычной формы, но узкая и с вырезом на уровне лица, прикрытым козырьком из пластмассы. Провожатый нажал одну из многих кнопок справа от двери, она беззвучно ушла в стену. Не дожидаясь специального приглашения, Павел ступил в открывшееся перед ним замкнутое пространство, а когда оглянулся, дверь была уже наглухо закрыта. Не сразу можно было сообразить, что находишься в комнате. Пол, стены и потолок были неопределенного мутно-белесого цвета. Такое впечатление, будто попал в густой туман или в облако. В длину - десять шагов, в ширину - шесть. На короткой стене прямо против двери на высоте пояса - полка, которая, по всей вероятности, должна служить кроватью. На ней резиновая надувная подушка. В углу слева, у той стены, на которой дверь, в пол вделана белая изразцовая раковина. Из стены торчит черная эбонитовая пуговка, вероятно, для спуска воды. Больше ничего нет. Свет - белесый, как стены, - исходит из круглого иллюминатора на потолке. Тишина… У Павла зазвенело в ушах. Он сел на пол, прислонившись спиной к стене. Ждал ли он, что с ним произойдет когда-нибудь нечто подобное? Ждал, безусловно. Уж слишком гладко шло все до сих пор, невероятно гладко. Он не был бы удивлен, если бы его посадили в тюрьму сразу по приезде. Это выглядело бы вполне закономерно. Более удивительно как раз то, что они так долго его не сажали. Почему же его заключили в тюрьму именно сегодня, а не вчера и не позавчера? Имеет ли это какое-то отношение к результатам вчерашнего допроса? А может быть, содержание в подземной тюрьме - обычная, предусмотренная правилами мера, применяемая к каждому, кто волею судеб вошел с хозяевами тюрьмы в контакт, подобно ему, Павлу? Долго ли его здесь продержат и какой режим приготовили ему? Судя по общему стилю тюрьмы, его ждет нечто достойное космического века. Но что толку гадать? Ему придется принять здешние условия безоговорочно. Для этих людей он вне закона. Его можно уничтожить в любой момент, и никто никогда не сумеет узнать об этом. Павел встал, подошел к полке, потрогал ее. Полка обита губкой, спать на ней будет не так уж жестко. Он ртом надул подушку, прилег, чтобы примериться. Ничего, сойдет. Правда, нет одеяла. Но если все время будет тепло, как сейчас, то одеяло не очень-то необходимо. Неожиданно Павел почувствовал, что хочет спать. И не стал сопротивляться дремоте. Придется Леониду бриться самостоятельно, подумал он, усмехнувшись. Какое сегодня число? 3 августа. 3 августа 1962 года… Мать на даче, наверное, уже собирает понемножку черную смородину, варит варенье. Что-то делают товарищи? Думают ли о нем? Конечно, думают, что за вопрос! Но им труднее представить его мысленно - они не знают, где он, что с ним, не знают обстановки, его окружающей. А он все знает, ему легко представить их живо, как наяву. Вспомнилось почему-то, как по воле Дембовича он сидел под домашним арестом, под надзором у старухи, которую зовут неподходящим для старух именем - Эммой, и тогдашняя тоска показалась ему праздником. 3 августа, тридцать седьмой день его пребывания на чужой земле. Вернее, теперь уже под землей… Его разбудила музыка. Духовой оркестр играл траурный марш. В первую секунду он подумал, что слышит оркестр во сне, но, открыв глаза и увидев себя в этой словно бы насыщенной белесым туманом камере, вспомнил, где находится, и прислушался. Траурная мелодия звучала тихо, но очень отчетливо. Павел попробовал определить, откуда исходит звук, встал, прошелся вдоль всех четырех стен и не отыскал источника. Звук исходил отовсюду, он был стереофоническим, и это создавало иллюзию, что музыка рождается где-то внутри тебя, под черепной коробкой. Он попробовал зажать уши. Музыка стала тише, но все же ее было слышно. Мелодия кончилась. Трижды ударил большой барабан - бум, бум, бум. И снова та же траурная музыка. Павел начал ходить по камере, считая шаги. Досчитав до двух тысяч, сел на полку. Посидел. Потом прилег. Музыка не умолкала. Время от времени, через одинаковые промежутки, троекратно бухал барабан. Он опять почувствовал дремоту и забылся. Очнулся из-за легкого озноба. Хоть и тепло в камере, но без одеяла как-то зябко спать, непривычно. Траурная мелодия впиталась в него, и было такое чувство, что, выйди он сейчас наружу, все равно она будет звучать в голове, он вынесет ее с собой, он налит ею до краев, и сосуд запаян - не расплескаешь. Павел одернул себя - не рановато ли психовать? Если это пытка, то она только началась. Послышался посторонний звук. Пластмассовый козырек, прикрывавший снаружи широкий вырез в двери, был откинут. На Павла смотрели спокойные глаза. Они исчезли, и в вырез вдвинулось нечто похожее на поднос. Павел вскочил, подошел и принял поднос из гибкого белого пластика. Он был голоден и обрадовался, что его собрались покормить, но содержимое подноса мало походило на съедобное. Со странным чувством глядел Павел на синюю булочку и на четыре синие сосиски. Поставив поднос на полку, он разломил булочку. Она была и внутри ядовитого синего цвета. Он отломил кусок, пожевал - по вкусу булочка была выпечена из нормальной белой муки. Пресновата немного, но есть можно. Сосиски тоже имели нормальный вкус. Но цвет, цвет… Он съел все это, зажмурясь. Потом отдал через щель поднос и получил низкую широкую чашку с кофе. Кофе был настоящий, натуральный, натурального цвета. Итак, теперь ясно, что ему предстоит. Жизнь вне времени в обесцвеченной музыкальной шкатулке и причудливо расцвеченная пища. Это мог придумать только человек с воображением параноика.Глава 9 СЕБАСТЬЯН НАВЕЩАЕТ ПАВЛА
Павел не мог бы сказать, сколько дней и ночей продолжается его заключение. Время можно было бы хоть приблизительно измерять промежутками между завтраком, обедом и ужином. Но ни завтраков, ни обедов, ни ужинов в привычном смысле слова здесь не было. Его кормили в неопределенные часы, никакой регулярности не соблюдалось. И пища была однообразна, как и музыка. Он оброс бородой и очень похудел. Он отдал бы многое, чтобы только знать, какое сейчас число, сколько времени. Он перестал делать зарядку, потому что это было бессмысленно. Зарядку нужно делать утром. А у него нет утра, нет дня, нет ночи. Ничего. Только похоронная музыка, барабан и белый люминесцентный свет. …Павел шагал из угла в угол, когда музыка вдруг умолкла. Павел вздрогнул и застыл, напряженно приподняв плечи. Было невероятно тихо. Он слышал, как часто бьется у него сердце. Вместо музыки возникло шипение, а потом он услышал русскую речь. Это было невероятно! Павел весь сжался, слушая. Сначала он не осмысливал слов, просто слушал, впитывая их всем существом, и лишь постепенно сообразил, что скрытые в стенах динамики воспроизводят магнитофонную запись его допроса на детекторе. Свой голос он не узнал, зато хорошо узнал голоса Себастьяна и Александра. Снова шипение, и разговор повторился. Это была вторая серия вопросов. Павел слушал, боясь пропустить хоть звук. «- У вас есть мать? - Да. - Вы любите ее? - Да. - Зароков работает шофером такси? - Я не знаю, как тут отвечать. Не знаю никакого Зарокова. - Ну, ладно, пошли дальше. - Вы коммунист? - Нет! - Не орите, молодой человек. Спокойнее. - Вы ездили за пробами земли? - Да. - Вы вор? - Да. - У вас есть жена? - Нет. - Леонид Круг получал телеграмму в доме отдыха? - Да. - Дембович познакомился с вами в ресторане? - Да. - Вы сегодня завтракали? - Да. - Вы рассчитывали попасть за границу? - Нет». От наступившей тишины Павел оглох. Он не мог понять, то ли действительно потерял слух, то ли тишина настолько глубока и безгранична, что можно слышать ток крови в жилах. Тревога начинала овладевать им. Он с сожалением отметил, что в эти моменты перестал наблюдать за своим настроением словно бы со стороны, как делал все время. Внезапная перемена вышибла его из колеи… Нельзя терять контроль над собой в его положении. Чуть ослабишь тормоза - и покатишься под уклон неудержимо. Для чего им понадобилось напоминать ему о допросе? Хотят этим сказать: голубчик, ты попался? Павел смотрел на дверь, когда она открылась. Впервые за… за сколько же дней? В камеру вошел Себастьян, и по выражению его красивого лица можно было понять, что он нашел заключенного именно таким, каким ожидал найти. Во всяком случае, не удивился. Одет Себастьян был безукоризненно. Он принес с собой запах табака и свежей зелени. - Ну, как дела? - спросил Себастьян, и его голос донесся, как сквозь подушку. В горле у Павла пересохло. Он не мог вымолвить ни слова, он, похоже, разучился говорить. - Какое сегодня число? - наконец произнес он. - Не имеет значения, - ответил Себастьян, но, подумав, прибавил: - Вы здесь уже пять дней. Павел отказывался верить. Не может быть, чтобы эта нескончаемая пытка длилась так мало и измотала его за столь короткий срок так сильно. Он сообразил, что Себастьян врет с расчетом. Чтобы сбить с толку, подавить остатки уверенности. И больше решил ни о чем не спрашивать. Но неожиданно вспышка гнева разбила спокойствие. - Зачем меня здесь держат? Что я вам сделал? - закричал он. Себастьян покачал головой: - Не надо на меня кричать. Я могу уйти. - Сейчас в нем не чувствовалось его постоянной холодности. Скорее он был снисходителен. - Прошу ответить: почему вы не желаете сказать, что знаете Михаила Зарокова? Этот вопрос вернул Павлу равновесие. Если они считают его контрразведчиком или разведчиком, то должны понимать, что такой вопрос задавать бесполезно. Признаться, что он знаком с Михаилом Зароковым или догадывается, кого они имеют в виду, - все равно что подписать себе приговор. Слишком просто все было бы. Не такие же они наивные. Значит, его подозревают, но сомневаются. - Я не знаю такого человека, никогда не знал, - сказал Павел. - Ну хорошо. Можно еще посидеть - можно вспомнить. - Себастьян был совсем покладистым. - Будем говорить о другом. Садитесь. - Я постою, - сказал Павел. Себастьян присел на его полку. - Вы можете хорошо вспомнить место, где брали землю и воду? - Могу рассказать подробно. - Я слушаю. - Ехать надо так… Рассказывая, он старался не выдать голосом волнения. То, что они заинтересовались историей добычи проб, застало его врасплох. Не для протокола нужны им эти топографические подробности. Выслушав, Себастьян дал Павлу блокнот и ручку и велел нарисовать план станции, ее окрестностей, отметить кружочком, где он брал землю и воду. Уходя, Себастьян задержался в дверях, спросил не оборачиваясь: - Так вы незнакомы с Михаилом Зароковым? - Нет. Дверь неслышно закрылась за Себастьяном. Павел начал вышагивать по камере, глядя в пол и не видя его. Неужели они настолько серьезно к нему относятся, что решили ради его разоблачения проверить подлинность проб? Если они возьмут повторную пробу - ему крышка. Ведь та земля и вода, которые они получили через его руки, были обработаны в лаборатории, а новые будут настоящими.Глава 10 ЖИТИЕ АЛИКА СТУПИНА
Собственно говоря, его уместнее называть по имени-отчеству - Альбертом Николаевичем, так как ему уже исполнилось двадцать семь. Но все друзья и знакомыеобращаются к нему коротко - Алик. Так проще и удобнее. Фамилию свою он никогда не называет, отчасти потому, что считает ее неблагозвучной. В институтскую пору был такой момент, когда он хотел сменить ее, взять материнскую. Но по зрелом размышлении счел фамилию матери еще менее благозвучной и решил оставить все как есть. Отца своего Алик помнит, но довольно смутно. Он ушел в армию на второй день войны и погиб в сорок втором где-то под Сталинградом - мать делала попытки найти могилу, но ничего у нее не получилось. У Алика осталось одно яркое воспоминание: отец, умывшись после работы, берет его под мышки, подбрасывает к потолку, ловит и целует. Щеки у отца колючие, пахнет от него табаком и земляничным мылом… Мать, когда отец ушел на фронт, стала работать машинисткой. Вернее, стенографисткой и одновременно машинисткой. Жили не очень-то сытно. Как-никак их было трое: мать, Алик и Света, младшая сестренка. После войны мать поступила работать в какой-то главк. Купила подержанную машинку и стала подрабатывать дома - брала рукописи для перепечатки у писателей. Машинка трещала в их комнате каждый вечер до тех пор, пока они со Светой не укладывались спать. Позднее, когда Алик вырос и научился острить, он придумал такую шуточку: если его отец родился между молотом и наковальней, то он сам, Алик, был отстукан на пишущей машинке. Они стали жить не хуже других, все у них было. В школе Алик учился хорошо, мать радовалась. Чуть ли не с первого класса увлекся Алик марками, и эта страсть прожила в нем до поступления в институт. В школе преподаватели отмечали некоторый интерес Алика к литературе. Дома у матери постоянно хранились еще не перепечатанные рукописи писателей, которые он иногда читал. И постепенно Алик выносил в себе убеждение, что его призвание - литературный труд. Он подал документы на факультет журналистики Московского университета. Экзамены сдал прилично, но баллов для зачисления, увы, не хватило. Один из коллег по несчастью надоумил податься в педагогический институт. Алик рассматривал свое пребывание в педагогическом как прозябание, не оставлял надежды впоследствии все-таки поступить в университет. Может быть, поэтому он относился свысока к своим сокурсникам, которые пришли в педагогический по той простой причине, что именно здесь и хотели учиться. Дальше жизнь Алика Ступина пошла по пути, типичному для людей этого толка, по пути, который отлично знаком читателям газет и документальных повестей, по биографиям валютчиков, фарцовщиков и разных явных и скрытых тунеядцев. Первую свою рюмку он выпил еще будучи на первом курсе. Они собрались в квартире его приятеля, когда родители этого приятеля уехали на курорт. Устраивали складчину, по полсотни с носа. Если с девушкой, то по семьдесят пять. У Алика таких денег сроду не было - откуда им быть? А те ребята о пятидесяти рублях говорили как о семечках. Но Алик скорее готов был бросить институт, чем отказаться от компании из-за отсутствия денег. Он вспомнил о своей коллекции марок, пошел и продал ее одному типу на Кузнецком. Тип явно его обжулил, но все же дал много - три тысячи. Эти деньги и сам факт продажи Алик от матери скрыл. После той памятной вечеринки у него появились новые друзья. Они все хорошо одевались. Один из них помог Алику купить великолепные башмаки в комиссионном магазине - через знакомую девушку-продавщицу. Однако эта компания скоро ему надоела. Он вдруг обнаружил, что перерос их всех, что они, в сущности, примитивны. Больше говорят, чем делают. А он уже по-настоящему ухаживал за женщиной. Три тысячи скоро кончились, и тогда его знакомая сказала, что есть люди, которые умеют делать деньги из ничего. Одного такого она знала лично. И Алик пожелал с ним познакомиться. Сначала он спекулировал почтовыми марками, и спекулировал успешно, потому что помогали старые познания в филателии. Затем круг деятельности расширился, операции с комиссионными магазинами требовали частых выездов в Ленинград и Ригу, и, не окончив четвертого курса, Алик оставил институт. Для домоуправления, если бы оно поинтересовалось, у него имелась поддельная справка, что он работает нештатным переводчиком в издательстве. Матери он сказал, что на год прервет учебу, потому что его пригласили как знающего английский поработать переводчиком в «Интуристе». В тот год, когда судили небезызвестных Рокотова и Файбишенко, Алик Ступин сделал крупные шаги на пути превращения в настоящего подпольного дельца. Процесс Рокотова напугал его и заставил убавить активность, но ненадолго. Он стал очень осторожным. И в его характере появилась еще одна черта - страсть к стяжательству. Не всепоглощающая, но достаточно сильная, чтобы подавить другие качества. К этому времени сестра Света вышла замуж за военного моряка, уехала во Владивосток, а вскоре к ней перебралась и мать. Алик сделался совсем свободным человеком. Операции становились все внушительнее, дело дошло до бриллиантов. И вот тогда-то с ним и случилось несчастье. Алик перепродал одному своему постоянному клиенту, Николаю Николаевичу Казину, которого он за глаза звал Кокой, ворованный бриллиант, заработал на этом чистыми тысячу в новых деньгах. А через неделю Кока явился к нему домой, выложил камень и сказал, что он фальшивый. Пришлось идти к знакомому специалисту, и тот подтвердил: да, камень не настоящий, искусная подделка из горного хрусталя. Возмущенный Кока потребовал деньги, но у Алика наличности не оказалось, договорились встретиться завтра. На следующий день он шел на свидание, как на свои собственные похороны. Не хотелось, обидно было отдавать назад деньги. К тому же он испытывал смутное подозрение, что его обвели вокруг пальца, он подозревал, что Кока просто-напросто подменил камень. Якобы обманутый Кока ждал его у себя дома на Большой Полянке. Дом у него был, что называется, полная чаша. В гостях у Коки сидел солидный дядя, похожий на старого антиквара, и они пили чай с вареньем. Алик в буквальном смысле слова не узнал вчерашнего разъяренного Коку - тот встретил его как лучшего друга. Не успел Алик заикнуться, что принес деньги, а хозяин уже налил ему чаю, усадил к столу. И сказал, что, если у Алика сейчас трудно с деньгами, можно и подождать. А пока нужно написать расписку, что взял заимообразно… Добровольно расставаться с деньгами Алику было очень трудно. Он написал расписку и унес принесенную для отдачи сумму, условившись с хозяином, что она будет к его услугам по первому требованию. Это случилось полгода назад. С тех пор Алик не однажды встречался с Кокой, и всегда между ними происходил разговор на тему о задолженности, и каждый раз Кока проявлял поразительную любезность и соглашался подождать. В глубине души Алик считал, что он или редкостный добряк, или… Оказалось именно второе «или». Добряк в один прекрасный день заявил, что настало время расплачиваться. И необязательно деньгами. В погашение половины долга Алик может оказать небольшую услугу, связанную с недолгой командировкой в дальний город. У Алика с финансами было туго. Предложение Коки казалось неопасным. И Алик согласился. Кока объяснил, что нужно в ближайшие дни съездить в район города Новотрубинска и привезти оттуда пакетик земли и флакон воды из речки.Глава 11 «БЕРИТЕ НА ЗАВТРА»
Он был одет как охотник. Крепкие яловые сапоги с подвернутыми высокими голенищами; брюки из плотной прорезиненной ткани, с карманами на коленях, непромокаемая куртка бутылочного цвета. За одним плечом - ружье в брезентовом чехле, за другим - полупустой рюкзак. Поднявшись по трапу «Ту-104» и оставив рюкзак и ружье в багажном отсеке при входе, Алик отыскал свое место - оно оказалось у иллюминатора - и утонул в кресле. День стоял прохладный, на улице в куртке было в самый раз, а в самолете, когда он взлетел, стало жарковато, но Алик не замечал этого. Стюардесса разносила кислые конфеты, потом яблоки и печенье, потом лимонад - Алик ничего не взял. Он украдкой оглядел соседей в своем ряду - сзади и спереди из-за высоких спинок никого не видно - и больше не двигался… Смешно было бы думать, что у Алика не хватило сообразительности понять, что за птица оказался этот велеречивый Кока и какого рода деятельностью он занимается. С того вечера, как они договорились, у Алика сразу появилось чувство, что за ним уже кто-то следит. Ночью у него созрело решение пойти в Комитет госбезопасности и выложить все начистоту. С этой мыслью он и уснул тогда. Утром чувствовал себя странно. Накануне не пил совсем, а впечатление как будто он с похмелья. Казалось, свалился без сознания и провалялся в кровати бог знает сколько времени - сутки, а может, двое. Но вчерашнего страха он не испытывал. И желания идти в КГБ тоже. Алик прикинул трезво, что будет, если он явится с повинной, и что - если не явится. В первом случае - прощай привычная жизнь, берись за общественно полезный труд, денежки, что сколотил благодаря смекалке и тонкому расчету, выкладывай на бочку. Нельзя же полагать, что там удовлетворятся одним лишь фактом - заданием, полученным от Коки. Его обязательно спросят: а как дошел ты до такой жизни? И придется разматывать все от печки. Предположим, ему простят Коку. А все остальное куда девать? Идти каяться еще и в милицию, в прокуратуру? А после честно встать на путь исправления? Такой выход казался чересчур сложным. А другой? Алик привык называть вещи своими именами. На деловом языке просьба Коки называлась заданием иностранной разведки. Алику была известна статья, карающая за исполнение подобных просьб. Но велик ли риск? Кока - его старая деловая связь. Правда, их бизнес карается законом, но, если бы кое-кто считал эту связь предосудительной, им давно бы дали понять. Вернее, их постарались бы разлучить, обособив каждого в казенном доме. Ехать на станцию, названную Кокой, - это хлопотно, и там могут произойти непредвиденные осложнения. Но зачем обязательно ехать? Горсть земли можно взять во дворе, а воды налить из-под крана. И потом к черту Коку, больше с ним никаких дел. Решив так, Алик немного успокоился. Но в тот же день они случайно встретились на Петровке. Взяв Алика под руку, Кока предложил пройтись, они медленно двинулись к Большому. Кока противно шаркал ногами. - Ну, как дела? - спросил он. - Что вы имеете в виду? Кока помолчал, а потом сказал очень ласково: - Мне хочется предостеречь вас, Алик… Алик удивился: что за странный человек - сначала сам втравил, а теперь предупреждает… А Кока, пожевав губами, продолжал: - Вы человек молодой, но, знаю, практичный… Товар, которого от вас ждут, всюду одинаковый, не так ли? И не было бы ничего удивительного, если бы вы подумали: зачем куда-то ехать, зачем рисковать? Еще не подумали так? Алик прикусил губу. Он боялся выдать свое замешательство. Нет, ему еще рано считать себя мудрее Коки. Кого он хотел обмануть?! Кока не ждал его ответа. - Я вас убедительно прошу, чтобы вы этого не делали. Это принесет только лишние хлопоты. И неприятности. Кока раскланялся с какой-то женщиной, шедшей им навстречу. - И не надо тянуть. Чем скорее привезете, тем вам же лучше. Они дошли до Большого театра. Кока остановился. Алик так ни слова еще и не проронил. - Вы сейчас не в кассу Аэрофлота? - спросил Кока. - Пожалуй, пойду в кассу, - сказал Алик. - Берите на завтра, - посоветовал Кока тоном, каким советуют приятелю посмотреть понравившийся фильм. - Это будет в самый раз. Алик действительно отправился в кассу. Его не оставляло ощущение, что за ним следят, но не те, кто охраняет безопасность государства.Глава 12 «НАМ ЗЕМЛИ НЕ ЖАЛКО»
Приехав на железнодорожный вокзал, Алик узнал в справочном бюро, когда отправляется поезд до нужной ему станции, во сколько он туда приходит и каким поездом можно вернуться оттуда в город. Все оказалось очень удобно: приедет он на станцию в девять утра, а обратный поезд в 14.37. Лучше не придумаешь. У Алика даже поднялось настроение. Из Москвы все казалось так далеко и сложно, а по сути дела, можно обернуться за два неполных дня. …Почтовый поезд, составленный из видавших виды скрипучих вагонов, не старался казаться экспрессом. Все станции были ему одинаково милы, он не проезжал заносчиво, как курьерский, ни одну, везде стоял охотно и долго. Алику не приходилось прежде ездить в таких поездах, да еще по глубинной, так сказать, Руси. Поэтому интересно было наблюдать незнакомую жизнь на тихом ходу. Правда, ему, видавшему виды величественного Кавказа, здешние холмы представлялись несколько провинциальными. Почтовый прибыл на станцию с небольшим опозданием, но по местным масштабам плюс-минус десять минут решающего значения не имели. Единственным человеком, который относился к опозданию небезразлично, был Андрей Седых, дизелист поселковой электростанции. Он заказал проводнику этого поезда, своему земляку, привезти из города двадцать пачек «Беломора», так как привык к этим папиросам, а в поселковом магазине они бывали с перебоями. Час назад он кончил дежурство и выкурил последнюю «беломорину», а для заядлого курильщика, как Андрей Седых, час без затяжки - пытка. Поэтому Седых, стоя на платформе, от души ругал про себя машиниста, расписание, автоблокировку, железнодорожное начальство и железнодорожный транспорт в целом. Сам он был человеком аккуратным и точным, в нем не выветрились привычки и понятия, выработанные во время службы на флоте, поэтому Седых имел моральное право критиковать, невзирая на лица. Однако если есть рельсы, а по ним движется поезд, уж он обязательно когда-нибудь придет. Дав поезду остановиться, Седых подошел к третьему вагону, а из вагона ему навстречу выпрыгнул проводник. Седых взял у него авоську с «Беломором», вынул одну пачку, распечатал, закурил и сразу повеселел. Балакать им было некогда - поезд стоял две минуты, да к тому же проводник был некурящий. Когда состав тронулся дальше, Седых обратил внимание на пассажира, сошедшего с этого поезда. Точнее, сначала он увидел ружье в брезентовом чехле, а потом уже того, кто был при ружье. У него самопроизвольно возникло желание подойти к владельцу ружья, ибо все и вся, что имело хотя бы отдаленное отношение к охоте, вызывало у Седых непреодолимую симпатию. Страсть к охоте была у него в крови, а такой человек инстинктивно ищет себе подобных и не упустит возможности поговорить с товарищем. Но что-то погасило в нем стихийный порыв. Что? Седых оглядел незнакомца с ног до головы. Сапоги, штаны, куртка - все было на нем прямо из магазина, только что лаком не крыто. Седых подумал, что, наверно, где-нибудь на штанах или на куртке еще и фабричный ярлычок не срезан. Не обмята одежонка, и нет в ней ладности. И образцово-показательный рюкзак за плечом топорщился, будто в нем не увесистый охотничий припас, а пяток ежей. А в чехле небось «зауэр» - три кольца в заводской смазке. Встречал Седых таких гусей. А на черта им «зауэр», никто не знает. У самого Седых была «тулка» двенадцатого калибра… И без шапки человек, а какой же охотник может быть без шапки?! Одним словом, нюхом почуял Седых, что перед ним если и охотник, то из самых новичков, которые шмаляют без всякого понятия, пугают зазря дичь и зверье, а если что и подстрелят - боятся испачкаться кровью. Испытав разочарование, Седых тут же подумал: этот долговязый тип вообще никакой не охотник. Человек, если он охотник, должен знать сроки. А сейчас всякая охота закрыта и откроется еще не скоро. Вот что главное… А так как Седых считался в поселке активистом Госохотинспекции и однажды разоружил двух залетных браконьеров, промышлявших по перу и пуху, то он счел нелишним приглядеться к незнакомому человеку, так сказать, и с этой точки зрения. Делать ему все равно было нечего, жена с сынишкой гостила у тещи в Иркутске, а дома сидеть одному до смерти скучно… Хотя, честно сказать, на браконьера-то обладатель таких капитальных сапог и такого рюкзака был похож меньше всего. Не те ухватки. Но все же не мешает посмотреть… Охотник пошел к кассам. Поговорил с кассиршей. Потом поинтересовался буфетом, но садиться к столу не стал. Вынул из бумажника какую-то бумажку, поглядел в нее, вышел из буфета, пересек пути и неторопливо зашагал к лесу, в сторону оврага. Седых не пошел за ним следом. Он знал, что овраг заставит незнакомца повернуть влево, и отправился вдоль полотна наперерез. Седых не боялся потерять охотника: он все время слышал шум шагов, потому что охотник ходить по лесу совсем не умел. Впереди был высокий холм, поросший ежевикой, и на нем Седых увидел охотника. Тот забирал левее. За холмом по открытому месту течет ручей под названием Говорун, узкий, можно перепрыгнуть. Седых двинулся в обход холма, рассчитывая зайти сбоку и дальше двигаться с охотником на параллельных курсах. Но, обогнув холм, остановился в удивлении. Было бы понятно, если б он увидел, что охотничек достал из чехла и сложил ружье. Но долговязый, присев у ручья, раскрыл рюкзак и вынул из него маленькую карманную фляжку. Седых не мог не усмехнуться: если человек хотел запастись водой, то разве ж это запас? Фляжка на два хороших глотка, а сухари размочить уже не хватит. Охотник опустил фляжку в ручей, наполнил ее, завинтил крышку и спрятал в рюкзак. Затем достал мыльницу, носком своего новенького подкованного сапога разрыхлил грунт, поддел половинкой мыльницы землю, накрыл другой половинкой, завязал рюкзак. Постоял, сполоснул в ручье руки. Закинул рюкзак и чехол с ружьем на одно плечо. И пошел обратно, к станции. Ну вода, это понять можно, думал Седых, быстро и бесшумно двигаясь по своим следам. Но зачем земля? Червей, что ли, хотел накопать? Так он их не искал. Черпанул разок, и все… Седых пошел на станцию, куда держал путь незадачливый охотничек, - поглядеть, что будет дальше. Долговязый прямым ходом проследовал в буфет. Взял большую бутылку белого кислого вина и сел у окна. И уходить куда-нибудь еще, по всему видать, не собирался. Уселся довольно плотно. Седых поглядел-поглядел на него через стекло и окончательно понял, что этот тип ему не нравится. Нормальные люди так себя не ведут. На платформу из станции вышел в это время Дородных, лейтенант милиции, поселковый уполномоченный, тоже, как и Седых, из охотников. Посмотрев по-хозяйски направо-налево, лейтенант, увидев Седых, сказал: - Здорово, Андрюха. - И, кивнув на авоську с папиросами, поинтересовался: - Дальний встречал? Новичков не было? Дородных задал этот вопрос не из праздного любопытства. Дело в том, что еще в первых числах июля к нему приезжал из города сотрудник Комитета госбезопасности. Он просил лейтенанта внимательно следить за всеми незнакомыми приезжими, и если кто-нибудь из них будет вести себя странно, необычно - например, захочет набрать кулечек земли или бутылку воды из речки, - взять его под строгое наблюдение и немедленно сообщить в КГБ. Сейчас Дородных немного задержался, так как в момент прихода поезда разговаривал по телефону со своим непосредственным начальством. Однако он не сильно беспокоился: на станции всегда есть кто-нибудь из коренных поселковых, так что новенький незамеченным не останется. - Слушай, лейтенант, тут такое дело… - Седых подошел ближе, покосился на окна буфета и попросил: - Идем-ка в дежурку. Что скажу… Немного погодя лейтенант, оставив Седых в дежурке, заглянул на минутку в билетную кассу, а затем отправился в буфет. Он вошел, остановился в дверях, поприветствовал буфетчицу, добродушно оглядел знакомых посетителей, которых было человек шесть-семь, сказал: «Ну как, идет торговля?» - и, посчитав предисловие достаточным, прямо подошел к столику, за которым сидел охотник. - Здравствуйте, товарищ! - вежливо сказал Дородных. - Здравствуйте. - В гости к нам? Надолго ли? - А что? - Да так. А то я думал - проездом… - Вы угадали. - Он не был расположен к дружеской беседе. - Документики есть? - спросил Дородных менее любезно. Оскорбленный охотник полез в карман, достал паспорт. - Так, так, все в порядке, - сообщил Дородных, посмотрев и возвращая документ. - Где работаете? Появилась справка, удостоверявшая, что податель ее является внештатным переводчиком. - А это что в чехле? Не ружье ли? - Да. - Охота еще запрещена. Вам известно? Приезжему скорее всего не были известны сроки охоты. - Я не стрелял. - Не стреляли? - удивился Дородных. - Разрешите посмотреть! Охотничек неумело извлек из чехла ружье. Дородных принял его в руки почти с благоговением. Андрей Седых ошибся ненамного: стволы были еще в заводской смазке, но это оказался не «зауэр», а ижевская двустволка шестнадцатого калибра. - Спасибо, благодарю вас. - Он вернул ружье. - Все в порядке. Дородных заранее сам с собой договорился, что выходить за пределы охотничьей темы не будет, чтобы охотник не догадался об истинных причинах особого интереса, проявленного к его личности. Это было бы тактически неграмотно. То, что хотел выяснить, он выяснил: фамилия - Ступин, Альберт Николаевич, москвич, прописка в порядке. Полагалось бы спросить охотничий билет, но Дородных уже и без того видел, что билета наверняка нет. Еще напугается, навострит уши. В общем, тактика - великая вещь… Через полчаса, когда Алик, успокоившись, допивал свое вино, лейтенант Дородных говорил по селектору с городом. Вот какой произошел разговор после того, как лейтенант сообщил сведения, почерпнутые из паспорта, и внешние приметы подозрительного гражданина по фамилии Ступин. Город: Почему он вам показался подозрительным? Дородных: Набрал в мыльницу земли, а из ручья набрал воды во флягу. Город: Любопытно. Спасибо, что позвонили. Что он собирается делать дальше? Дородных: Сидит в буфете, легко выпивает. Интересовался поездом четырнадцать тридцать семь в вашу сторону. Город: Вы спрашивали, зачем ему вода и земля? Дородных: Воздержался. Город: Хорошо, товарищ лейтенант. И не трогайте его больше. В какой вагон у него билет? Дородных: Билет еще не брал. Поезд проходящий, продают за полчаса. Город: Как сядет, вызовите меня, скажите вагон. Дородных: Слушаюсь. Город: Найдется у вас кто-нибудь свободный, чтобы прокатиться до города? Дородных: Могу сам. Город: Нет, вам лучше не надо, вас он запомнил. Кого-нибудь нейтрального. Дородных: Есть под рукой товарищ… Он мне и сказал про этого гражданина. Дизелистом у нас на электростанции, зовут Андрей Седых. Если попросить - сделает. Город: Устройте его в тот же вагон и проинструктируйте как следует. Надо смотреть, чтобы где-нибудь на промежуточной не сошел. Если что - задержать силой. Дородных: Понял. Желаю благополучно встретить. Город: Постараемся. Спасибо, лейтенант. Жду насчет вагона. За полчаса до прихода поезда Алик купил билет. Вагон номер шесть, купированный. А место даст ему проводник. Вообще же, сказала кассирша, этот вагон всегда полупустой, так что о месте беспокоиться нет причин. Лейтенант Дородных, быстро найдя начальника поезда, договорился об Андрее Седых, и тот поместился в шестом вагоне, в пустом купе по соседству с тем, которое указал проводник Алику Ступину. Седых за всю дорогу не прилег, не вздохнул. Как сел у открытой двери купе, так уже и не вставал, кроме одного раза. И напрасно. Охотник не имел ни малейшего желания сойти на промежуточной станции, а тем более спрыгнуть на ходу. В половине одиннадцатого ночи поезд прибыл в город. На перроне вокзала Седых вышел из вагона следом за Аликом. Он видел, как двое рослых молодых людей подошли к Ступину, что-то коротко ему сказали, а потом все втроем ушли через служебный ход. Андрею Седых было вовсе невдомек, какую услугу оказал он сегодня одному незнакомому парню по имени Павел Синицын… А в областном управлении Комитета государственной безопасности в это время допрашивали Альберта Николаевича Ступина. Он очень нервничал и на все вопросы старался отвечать самым исчерпывающим образом. Когда его попросили вкратце рассказать о последних годах жизни, он рассказал не вкратце, а подробно, со множеством деталей. И о махинациях своих говорил вполне откровенно. Но на вопрос, зачем ему понадобились земля и вода, и не откуда-нибудь, а именно с этой станции, Алик ответить не мог. Когда этот вопрос был задан в третий раз, а Алик продолжал молчать, допрашивавший сказал: - Вы поймите: нам земли не жалко. Мы народ добрый, берите хоть целый самосвал. Но просто по-человечески любопытно знать: зачем молодому интересному москвичу понадобились земля и вода с этой маленькой станции? А? Голос его звучал прямо-таки задушевно, но глаза, смотревшие на понурившегося Алика, были холодны и понимающи. Алик предпочитал не смотреть в эти глаза. И вдруг он словно очнулся. Если его здесь задержали сразу, едва он сошел с поезда, если, еще не осмотрев содержимое рюкзака, они попросили показать мыльницу и флягу, значит, за ним следили с самого начала. Иначе все это необъяснимо. Какой же смысл запираться? Ведь его чистосердечное признание должны будут учесть… И Алик выложил все. А потом те же двое, что встретили его на вокзале, пригласили сойти вниз. Быстрая езда на машине, аэродром, самолет незнакомых Алику очертаний, и в пять часов утра он был уже в Москве.Глава 13 ПРОБЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Около шести Алика ввели в небольшой кабинет, где за столом сидел пожилой человек с усталым лицом, явно невыспавшийся. Алик совсем пал духом, и было отчего. Специальный самолет. Двое сопровождающих. Тут ждут, не спят. И все это из-за него одного. Из-за того, что кому-то понадобились горсть земли и стакан воды. В какую же историю втравил его Кока? Алику только теперь стало по-настоящему страшно. Допрос скорее был похож на беседу. Невыспавшийся человек не проявлял раздражения, в его голосе не чувствовалось неприязни. Были интерес и терпеливое внимание. Первые вопросы носили формальный характер, но когда дело дошло до истории с фальшивым бриллиантом, официальность исчезла, и Алику сразу стало легче. Его собственная персона как бы отодвинулась на второй план, а в фокусе оказался Кока. Давно ли Алик его знает? Часто ли виделись? Где Кока живет? Какова у него семья? Когда он ждет Алика? И последний вопрос: - Встречали вы у него кого-нибудь, знакомил ли он вас с кем-нибудь? - Нет. Алик не хотел врать ни в чем и ответил правду. - Это очень важно. Вспомните хорошенько. Может быть, вы с кем-нибудь его видели? Алик никогда ни с кем Коку не видел, но он стал перебирать в уме свои встречи с Кокой и вдруг вспомнил, что в тот несчастный вечер у него сидел гость. Алик был тогда в таком состоянии, что немудрено и не запомнить постороннего. - Да, простите, - сказал он. - В тот раз, когда Кока взял с меня расписку, он был дома не один. - А с кем? - Такой старый, седой. Лицо красное. В очках. - Кто он, чем занимается, не знаете? - Мне показалось, что он похож на антиквара. Может, на старого учителя… Алика попросили побыть в другой комнате, где стоял большой диван. Он провел там несколько часов. Два раза ему приносили поесть, но он выпил лишь компот. А вечером произошла сцена, которая одновременно и ободрила его и потрясла, так как он неожиданно понял, что оказался в самом центре каких-то неведомых ему, но, безусловно, очень серьезных событий. Когда Алика снова пригласили в кабинет, где его допрашивали, он увидел на столе свой рюкзак и чехол с ружьем. А тот, кто допрашивал, сказал: - Сейчас вы отправитесь домой. Но прежде садитесь и выслушайте меня. Алик повиновался. Он был оглушен. - Я не буду читать вам мораль. - Пожилой человек, стоявший перед ним, секунду подумал, отвернулся к окну и продолжал ровным голосом, очень внятно выговаривая каждое слово, как будто диктовал текст машинистке: - Вы не юноша. Вы должны отдавать себе ясный отчет в каждом шаге, в каждом поступке. Вся ваша прошлая жизнь, исключая, разумеется, школу, - дрянь. Вы идете по пути предательства и дошли до крайней черты. Вы не переступили ее не по своей воле. Вас вовремя удержали. Это самое главное, что вы должны отныне знать и помнить. Вас следует привлечь к ответственности. Пока этого не будут делать, но не потому, что вы заслуживаете какого-то особого отношения или снисхождения. Вы их недостойны. Вам дается возможность коренным образом изменить образ жизни - используйте ее. Дальше все будет зависеть от вас. Он снова повернулся лицом к Алику. - Это были советы. То, что я скажу дальше… Но сначала один вопрос. Если вы прекратите всякие отношения с вашим Кокой, это его не удивит? Спокойствие и серьезность этого человека делали все простым и ясным, снимали нервозность. - Я собирался с ним порвать. По-моему, он об этом догадывается, - сказал Алик. - Но вы еще останетесь должны? - Отдам. - Алик опять опустил голову. - Не забудьте взять расписку. Не захочет вернуть - погрозите, что пожалуетесь куда надо. - Пожаловаться… - Алик не знал, как выразиться. - Он не поверит. Так отдаст, думаю. - Ну слушайте, Ступин. - Пожилой человек сел напротив, облокотился о стол. - Сегодня же вечером - или завтра, как вам удобней - вы отнесете Коке мыльницу и флягу. Надо, чтобы он по вашему состоянию не догадался о происшедших с вами неприятностях. Это не значит, что вы должны изображать восторг и умиление. Будьте самим собой. И запомните крепко: не болтать. Ни с одним человеком, кто бы он вам ни был. И порвите с Кокой. - Понятно. - А теперь идите. Вас проводят… Алик, очутившись на улице, отправился не к себе домой. Он поехал на Большую Полянку. Кока был дома, очень обрадовался. Обратил внимание на усталый вид, посочувствовал, советовал теперь отдохнуть, предлагал посидеть, выпить чаю. Алик держал себя с ним не более вежливо, чем тогда на Петровке, при последнем свидании. Чай пить он отказался, а, выложив из рюкзака мыльницу и флягу, сказал решительно и мрачно: - Не рассчитывайте, что я поеду куда-нибудь еще раз. Завтра принесу деньги. Кока развел руками. - Ну что вы, Алик! Куда ехать, зачем ехать? - Завтра я отдам деньги, а вы вернете мне расписку. - Ну хорошо, хорошо, - согласился снисходительный Кока. - Только не надо приходить сюда, милый мой, меня завтра трудно застать. Приходите после пяти на почтамт. На том и порешили. Алик ушел. …На следующий день полковнику Маркову стало известно, что так называемого Коку посетил некий иностранец, по приметам похожий на того Кокиного гостя, которого Алик принял за антиквара. При проверке выяснилось, что антиквар - атташе по вопросам культуры одного из посольств, аккредитованных в Москве. Не составляло труда установить, что пробы воды и земли, доставленные Аликом, были переданы Антиквару - так эта личность теперь фигурировала в деле, - потому что после его визита мыльница и фляга исчезли из комнаты Коки.Глава 14 АГЕНТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Павла продержали в подземной тюрьме больше месяца. Себастьян еще дважды допрашивал его. В последний раз Павел бросился на Себастьяна с кулаками, но был сбит коротким точным ударом в подбородок, а когда поднялся с пола, Себастьян уже ушел. Бунт выглядел несерьезно - слишком много сил потерял Павел за это время. Освобождение произошло таким же будничным порядком, как и арест. Тот же молодой широкоплечий гигант однажды открыл дверь, кивком приказал Павлу выйти и, следуя впереди, вывел его на поверхность. Павлу сделалось плохо, закружилась голова, он вынужден был присесть на ступеньке крыльца, а тюремщик - или кто он там был - терпеливо ждал, стоя рядом. Дорога показалась Павлу короткой. Слава богу, думал он, что везут в легковой машине, а не в том ящике, в котором доставили сюда. Он принял такую дозу замкнутого пространства, что даже небольшая добавка могла натворить с ним беды. Контроль над собой - похвальная вещь, но наступает такой момент, когда и железным нервам нужна разрядка. Встреча с Леонидом была трогательной. Круг даже прослезился, хотя не был пьян. Приспособление для перебитой ноги уже убрали, и их комната перестала походить на госпитальную палату. Леониду выдали пару костылей, скоро он начнет вставать. По испуганному лицу Круга в первую минуту Павел мог догадаться, что выглядит после подземной тюрьмы не лучшим образом. И зеркало подтвердило это. Борода какая-то сивая, виски и щеки ввалились, волосы косматые. Клара разговаривала с ним так, словно он никуда не отлучался. Франц посочувствовал и успокоил: мол, ничего, все пройдет, бывает и хуже. Франц, между прочим, оказался заправским парикмахером. Он с помощью расчески и ножниц подстриг Павла под польку. Бороду Павел сбрил сам. И без бороды показался себе еще более изможденным. Леонид и Павел проговорили весь вечер, часов до одиннадцати. Оказывается, Леонида тоже допрашивали на детекторе. Специально привозили аппарат сюда. И Леонид тоже был поражен, как точно могут они определять задуманную цифру. Результатов допроса Леониду, само собой, не докладывали, но после Виктор сообщил, что, кажется, все в порядке. Да Леониду и не пришлось врать ни в чем, кроме истории с телеграммой. Леонид приблизительно знал, что произошло с Павлом. Виктор называл это строгой изоляцией. И это тоже входило в систему специальной проверки. Леонид склонен был полагать, что содержание в тюрьме преследовало не одну только эту цель. Вероятно, Павла испытывали, так сказать, на прочность. Выдержав испытание, можно считать себя не просто свободным от подозрений. Виктор дал понять, что прошедший через строгую изоляцию может пользоваться доверием в самом широком смысле слова. Павел рассказал Кругу о разговоре с Себастьяном по поводу поездки за пробами. Но Леонид насчет повторных проб ничего не знал. Нужно будет закинуть удочку Виктору. Нетрудно было заметить, что Леонид искренне соболезнует Павлу, удручен из-за того, что ему пришлось принять столько лиха. Круг как будто бы считал себя отчасти повинным в этом. В речах его проскальзывали такие нотки, что, мол, старший брат делал все, что мог, но раньше у него были связаны руки. Он не имел права открыто проявлять по отношению к Павлу покровительство. Ему и за одного Леонида пришлось проглотить немало упреков. Теперь другое дело. Теперь ничто не мешает. Кстати, самый активный враг Виктора, тот старый хрыч из бывших, вышиблен окончательно и бесповоротно. Кажется, убрался в Париж. Леонид распространялся бы и дальше, но Павла сморило как-то вмиг, и он уснул, не дослушав фразы… Наутро он испытал такую острую радость пробуждения, как бывает только в юности. У этой радости нет видимых причин. Просто открывает человек глаза, вдыхает полной грудью, и у него такое настроение, что хочется подкинуть на ладони земной шарик. Потекли безмятежные дни. Павел отъедался на Клариных харчах, а готовила она очень хорошо. Поговорка «не в коня корм» к нему явно не относилась. Уже через неделю ремень застегивался на старую дырочку. Виктор Круг, навестивший их как-то под вечер, нашел Павла посвежевшим, а они не виделись с конца июля. Старший брат привез младшему добрые вести. Леониду после выздоровления дадут должность инструктора по диверсионной подготовке. Судьба Павла пока не определена, но он может рассчитывать на самые благоприятные перспективы. В доказательство того, что отношение к Павлу в корне изменилось, Виктор Круг сказал, что тот может, когда пожелает, съездить в город. Одному будет с непривычки трудно, поэтому лучше взять Франца гидом. У него есть малолитражный «Фольксваген», и вдвоем они отлично прокатятся. Виктор оставил немного денег и пожелал Павлу повеселиться как следует. Из солидарности с прикованным к постели Леонидом Павел заявил, что не имеет желания развлекаться, но Леонид сам настоял, чтобы его друг не упускал такой приятной возможности. «Поезжай, поезжай, - сказал он. - Потом расскажешь - мне легче станет». Франц идею поездки приветствовал. Выбрали день среди недели, потому что, объяснил садовник, по субботам и воскресеньям в городе бывает такая бестолковщина - ничего, кроме головной боли, не добьешься. Особенно теперь, в сентябре, когда все только что съехались после дачного сезона. Ранним утром, позавтракав на скорую руку, Франц вывел из жестяного гаража свой вишневый маленький «Фольксваген». Они ехали не спеша. Практичный садовник вообще не торопился жить. Он как бы смаковал каждую переживаемую минуту. И от этого рядом с ним было очень уютно. Вот и сейчас Павел смотрел, как спокойно лежат его узловатые длинные пальцы на баранке, и испытывал невольное уважение к этому уравновешенному долговязому садовнику. Если бы еще не знать, что, кроме основных, у него есть и побочные обязанности, было бы совсем хорошо… Город, особенно центр, сразу понравился Павлу. Чисто, много стекла и алюминия. Ультрасовременные здания не задавили своими многоэтажными громадами домов старинной архитектуры. Все это разностилье как-то уживалось в гармонии. Оставив машину на платной стоянке в центре большой площади, они отправились в недорогой ресторан пообедать. По пути оказался газетный киоск. Павел бросил беглый взгляд на широкий прилавок и неожиданно для себя остановился, словно его что-то зацепило, а что именно, он не сразу сообразил. Окинув глазами пестрые ряды газетных заголовков, он увидел короткое русское слово и, как ему показалось, покраснел. На прилавке среди английских, немецких, французских газет лежала «Правда». Странное ощущение испытывал Павел, взяв ее в руки. Словно встретил в чужой разноплеменной толпе старого друга, который все про него знал, знал, да помалкивал. Павлу казалось, что «Правду» положили на прилавок специально для него, только его она и дожидалась, хотя было ясно, что это обычный киоск с обычным набором изданий. Газета была вчерашняя. Франц, улыбаясь, глядел на него добродушно. Павел еще раз оглядел прилавок, заметил две газеты, напечатанные по-русски, взял и их. Эти оказались эмигрантскими листками из Парижа. У Павла не было мелочи, поэтому расплатился Франц. Он взял себе какую-то немецкую газету. За обедом Павел прочел «Правду» насквозь, от передовицы до радиопрограммы, потом принялся за парижские газеты. Франц читал свою. После обеда погуляли по старым улицам, а затем Франц предложил зайти посидеть в пивную. Пиво было свежее и прохладное. Они уже собирались уходить, когда в пивную ввалилась шумная компания, человек пять. Двое из них, как оказалось, знакомые Франца. Сдвинули столы, заказали дюжину пива. Франц, улучив минуту, спросил Павла, помнит ли он, как тот рассказывал о своих друзьях, которые, может быть, и не коммунисты, но… Так это они и есть… Друзья Франца, раскрасневшись от пива, несли такую околесицу, а Франц, переводя ее, так неудачно старался подправить, что эта беседа сразу приобрела вид откровенной и неумной провокации. Павлу было как-то неудобно - неужели, думал он, его считают настолько глупым, что не нашли другого способа? В разговор он не вступал, а только слушал. Под конец стало совсем противно, и он потянул Франца на улицу, чему садовник не сопротивлялся. Погуляли, заглянули в кинотеатр, но попали на какой-то нудный фильм, в котором актеры были наряжены в пышные одежды восемнадцатого века и все время пели очень громко, поэтому Павел с Францем быстро ушли. Гулять было интереснее. Павел купил у уличного торговца для прозябавшего в одиночестве Леонида Круга игрушку. Это была трубочка, устроенная по принципу калейдоскопа, но вместо причудливых цветных орнаментов она показывала женские фигуры. Довольные проведенным днем и друг другом, слегка уставшие, но веселые, они вернулись, когда совсем стемнело. Павел описал Кругу поездку в город самыми яркими красками. Игрушка понравилась. «Правду» Круг читал потом целый день, а эмигрантские газеты просмотрел с пятого на десятое. Больше никаких выдающихся событий в их жизни не происходило до октября. Круг понемногу начал вставать. Он в буквальном смысле слова учился ходить заново. Октябрь принес крупные перемены. В первых числах дачу посетил Себастьян. Он приехал не один. Павел был представлен пожилому господину с карими внимательными глазами. Этот господин поселился в комнате на первом этаже и прожил на даче две недели. Каждый день Павел являлся к нему утром, как на службу, и рассказывал обо всех городах и селах Советского Союза, где ему удалось побывать за тридцать с лишним лет жизни. От Павла требовалось вспомнить топографию виденных им мест как можно детальнее. Особенно интересовали господина состояние дорог и приметы расположения воинских частей. Павел мешал истину с ложью, не очень-то беспокоясь о правдоподобии. Наконец достойный господин исчез со своим магнитофоном. После него Себастьян познакомил Павла с инструктором парашютного дела. Это был парень, постоянно пребывавший в отличном расположении духа. По-видимому, он расценивал жизнь как один долгий затяжной прыжок без раскрытия парашюта в конце и поэтому смотрел на вещи философски. В нем не было той фанаберии, которой в избытке обладал модный Себастьян. Инструктор, как всякий человек дела, иронически относился к теории, поэтому теоретические занятия продолжались всего три дня. Переводчиком служил Франц. Хотя Павел прежде подозревал, что садовник знает русский язык лучше, чем демонстрирует, все же переводил он плохо. Например, заключительную фразу теоретического курса, которая звучала в устах инструктора так: «Вообще же нормальному человеку лучше с парашютом не прыгать, а если уж ему приспичило сломать себе ноги или шею, то для этого есть более простые способы». - Эти слова Франц перевел в крайне невыразительной форме. Практикой занимались на летном поле, расположенном далеко в стороне от больших дорог. Они прожили там полмесяца. Павел прыгал трижды из спортивного самолета, пилотируемого самим инструктором, с высоты полторы тысячи метров и приземлялся на ровном поле. Затем было два прыжка с приземлением на смешанный лес. А после того серия ночных прыжков из военного транспортного самолета на неизвестную заранее местность. Старая практика сослужила Павлу службу, и все сошло благополучно. Лишь однажды при ночном прыжке он немного не рассчитал момент соприкосновения с землей и вывихнул левую ногу в голеностопном суставе. Но инструктор оказался мастером и в этом деле, он быстренько вправил сустав, так что помощи врача не понадобилось. Когда вернулись на дачу, инструктор преподал урок, как лучше и быстрее спрятать парашют после приземления. Это у Павла получалось хуже, но инструктор сказал: ничего, нужда научит. Онзаполнил какой-то длинный формуляр, попрощался и уехал, пожелав напоследок Павлу, чтобы ему не пришлось воспользоваться приобретенными знаниями. Из всех, с кем судьба сталкивала Павла на чужой земле, этот остряк-парашютист был единственным симпатичным парнем, хотя его можно было считать циником. О нем у Павла остались приятные воспоминания. Следующим был инструктор по подводному плаванию, человек лет тридцати, но уже лысый. Он приехал с аквалангом, привез резиновый костюм и прочие необходимые принадлежности. Прежде всего он спросил, умеет ли Павел плавать, и, получив утвердительный ответ, велел закаляться, то есть обтираться холодной водой по утрам, постепенно приучить себя к холодным душам. Павел сказал, что давно так и делает. Павлу раньше не приходилось держать в руках акваланг, и занятия были ему интересны. Леонид Круг, ставший наконец мобильным, принимал в них участие, и надобность во Франце как в переводчике отпала. Круг успел отвыкнуть от немецкого, однако его знаний хоть с грехом пополам, но хватало. Седьмое ноября, годовщину Октябрьской революции, Павел отметил крещением в ледяной воде. Лысый инструктор привез его и Круга на берег знакомой им бухты, велел Павлу надеть резиновый костюм, маску, акваланг, ласты и мановением руки двинул его в море. Тренировки продолжались в течение недели ежедневно. Было бы преувеличением сказать, что Павел научился чувствовать себя в воде как рыба, но кое-чего он все же достиг. Он мог плавать с грузом и без груза на нужной глубине и с нужной скоростью. Большего от него не требовалось. Когда подводник убрался с дачи, приехал специалист по тайнописи, его сменил радист, а затем наступило затишье, и Круг организовал экскурсию в город. Франц сопровождал их. Эта поездка была похожа на предыдущую, с той лишь разницей, что в пивной не оказалось провокаторов. Круг был возбужден, порывался кутнуть на всю катушку, но Павел сдерживал его напоминаниями, что у них нет для этого денег. Как и в прошлый раз, Павел купил в киоске газеты. Вечером, читая их в постели, он обратил внимание на некролог, помещенный в парижской эмигрантской газете. Фамилия усопшего была ему известна из дела резидента Михаила Зарокова. В некрологе сообщалось о кончине на семидесятом году жизни Александра Николаевича Тульева, «верного сына России». За завтраком газеты просматривал Леонид Круг. Павел ожидал, что он как-то среагирует на это сообщение, и не ошибся. Увидев некролог, Леонид сказал: «Отлетался, божий одуванчик. Вечная память!» И объяснил Павлу, кто такой этот Тульев. У Павла мелькнула мысль сохранить газету, может быть, вырезать некролог. Но это было рискованно. Как он объяснит свою прихоть, если она обнаружится? Подошло Рождество. Клара испекла огромный пирог, но сама уехала на целый день, и они выпили под пирог втроем. Минул Новый год, а затишье все продолжалось. Погода на дворе стояла отвратительная. Заморозки бывали только по утрам, днем земля расквашивалась. Снег падал редко, а выпав, тут же таял. Ветер с моря дул влажный, зябкий. Однажды за Леонидом приехал брат и увез его на три дня. С тех пор Круг стал отлучаться все чаще, и жизнь Павла сделалась совсем тоскливой. Куда ездит и что делает, Круг не рассказывал. Задумываясь о дальнейшей своей судьбе, Павел терялся в предположениях. Появление инструкторов позволяло догадываться если не о цели, ради которой с ним возятся, то, по крайней мере, о способах его возвращения в Советский Союз. Но последовавшее затем бездействие его хозяев все опять затуманило. Вряд ли в этом был какой-то умысел. Скорее им попросту не до него… Однако всему приходит конец. В один прекрасный день явился давно не показывавшийся Себастьян. Он изъяснялся в обычной своей бесцеремонной манере, но содержание беседы было необыкновенно ново. Для приличия был задан вопрос, не желает ли Павел вернуться в Советский Союз, на что последовал ответ: хоть к черту на рога, лишь бы не торчать больше на этой опостылевшей даче. Себастьян сказал, что у Павла будет относительно легкое задание. Ему дадут маленькую рацию и немного денег. Он должен найти одного человека, передать ему рацию и деньги. Разумеется, его снабдят безупречными документами. А способ засылки будет неопасным. Павел был согласен на все, и Себастьян уехал, сказав, что ждать теперь недолго. Это произошло в начале марта. А через месяц Павла перевезли в другое место. Он покинул дачу, ни с кем не простившись, так как думал, что еще вернется. Однако не вернулся. Ему выдали костюм, туфли, белье - все советского производства, велели сразу надеть, чтобы обносилось. Вручили паспорт на имя Павла Ивановича Потапова. Затем показали «Спидолу» - рижский транзисторный приемник. Но это не «Спидола», хотя может служить и обычным приемником, - в корпус вмонтирована портативная рация. Павлу объяснили, как настраивать ее на передачу. Дали подержать в руках микрокатушку. Он вставит эту катушку в гнездо рации и проведет краткий сеанс передачи, о дате которого ему скажут перед отправкой. А задание предельно простое, обязанности его ограничены и необременительны. В городе К. или в городе Я. Павел разыщет человека, которого зовут Станислав Курнаков. Паролем послужат советские денежные знаки - он предъявит Курнакову вот эти две бумажки: пятерку и трешницу. Они не поддельные. Дальше Павел должен исполнять приказания Курнакова. Может случиться, что Павел его не найдет. Тогда-то и следует воспользоваться передатчиком. После этого рацию надежно спрятать. Павлу обосноваться в городе К., устроиться на работу и жить мирно, ни о чем не думать. Когда понадобится, его найдут.Глава 15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКАСА
Теплым и дождливым майским вечером новенький сухогрузный теплоход под иностранным флагом отдал якорь на внешнем рейде Батумского порта. В ожидании таможенного досмотра капитан и его помощники собрались в офицерской кают-компании, а команде было разрешено заняться личными делами. Капитанская каюта не пустовала в это время. В ней сидели Себастьян и Павел. Света не зажигали. Когда совсем стемнело, Себастьян приказал готовиться. Павел разделся, остался в плавках, застегнул на груди пряжки акваланга, приладил маску. Себастьян достал из шкафа резиновый мешок - в нем был мягкий матерчатый чемоданчик на «молнии», а в чемоданчике - «Спидола» и деньги. Сунув в мешок одежду Павла, Себастьян туго перетянул резиновым жгутом горловину, сделал на жгуте две петли, чтобы можно было продеть в них руки, и помог Павлу закинуть мешок на спину, поверх акваланга. Павел взял в руки ласты, но Себастьян попросил не спешить. Он один вышел из каюты. Минут через десять вернулся и приказал следовать за ним. Они быстро достигли кормы, никто не встретился им по пути. С кормы свисал веревочный трап. На море был полный штиль. - Давай! - шепнул Себастьян и хлопнул Павла по плечу. Павел спустился по трапу до последней перекладины, вдел ноги в ласты и окунулся в теплую, темную, плотную воду. Павел плыл медленно. Это было очень странно, но теперь, когда желанный миг возвращения на родную землю оказался так близок, хотелось продлить неповторимое ощущение… Павел ехал в поезде, глядел в окно и думал об удивительных совпадениях, происходящих в жизни. Он начал эту операцию в поезде N 52 Сухуми - Ленинград и сейчас, как бы завершая большой круг, попал в этот же N 52. Вскоре Павел понял, что тащиться поездом будет невмоготу. В Адлере он сошел и поехал в аэропорт… Во Внукове хотелось позвонить своим из автомата, но он решил на вокзале не мельтешить, сразу поехал на такси в город. На Калужской площади, отпустив машину, зашел в телефонную будку. Сначала позвонил домой матери. Затаив дыхание считал редкие гудки - долго не подходили. Услышал родной голос, сказал: - Здравствуй, мама! Как поживаешь? - Жив, здоров? - Она волновалась, но не хотела этого показать. - Здравствуй, сынок мой! - Как твои дела? Здоровье как? - Да какие у пенсионеров дела! Мы народ бодрый. Ты-то как? - Я постараюсь заехать хоть на минутку, тогда поговорим. - Не передумаешь? - Нет, родная, подожди немного, скоро буду… Потом он набрал номер Маркова. Когда полковник поднял трубку, Павел сказал, изменив голос на солидный руководящий баритон: - Здравствуйте, Владимир Гаврилович. Как поживаете? - Не обманешь… - Полковник вздохнул с облегчением. - Мне же пограничники сигнализировали… - Ну, значит, не вышло! - Павел рассмеялся. - Когда? - Только что. - Ты где? - На Калужской площади. - Спускайся к парку Горького, ко входу. Я сейчас за тобой приеду… Марков повез его домой, на Садово-Кудринскую, повидаться с матерью. Павел посидел дома минут тридцать, а потом спустился к машине. Марков сказал тихо: - Вот такая у наших матерей судьба. Полчаса в год сына видит. - И то хорошо, - откликнулся Павел. - Ну ладно, у тебя все же несколько дней свободных будет. Порадуй ее… Они поехали за город, на ту самую дачу, где беседовали в последний раз перед расставанием. Павел принял душ, а потом сели обедать. Владимир Гаврилович не спрашивал у Павла, как он себя чувствует, только поглядывал на него украдкой, стараясь, вероятно, подметить перемены. Но их не было. Перед ним сидел тот же Павел, серьезный, но всегда готовый пошутить человек. Разве что появилась некая задумчивость, мимолетная, едва уловимая. Но так, может быть, кажется оттого, что не виделись давно, да и устал ведь он. Марков не собирался с места в карьер требовать от Павла полный отчет. Наоборот, полковник ждал, не попросит ли он сам о чем-нибудь, что необходимо сделать немедля, что не может быть отложено на завтра. Вкратце изложив суть полученного задания, Павел сказал: - Время у нас есть. Если б я сам искал Станислава Курнакова, сколько б мне потребовалось? Минимум дней десять. И сроков они не устанавливали. Марков согласился, что не меньше, и спросил: - А тебе не приходило в голову, что Курнаков - это Зароков? - Была такая мысль. - Зароков-то исчез, - сказал Марков. - А твой друг Дембович, он же Куртис, к сожалению, помер. Сгорел в собственном доме. И как говорится, унес с собой в могилу все, что знал. А знал он немало. Владимир Гаврилович встал, поправил съехавший набок галстук. - Ладно, я ушел. Отдыхай. Завтра приедем с Иваном Алексеевичем. - Между прочим, - остановил его Павел, - все хотел вас спросить: чемоданчик-то тем моим симпатичным вагонным жертвам не вернули? - Что, совесть мучает? - с шутливой суровостью спросил Марков и успокоил: - Давно. Не мы вернули - милиция. Теперь органы охраны общественного порядка имеют в лице пострадавших супругов самых горячих почитателей. Они посмеялись от души, и Марков уехал, захватив с собой «Спидолу». Оставшись один, Павел вышел побродить, но скоро захотелось спать, и он лег, распахнув перед этим все четыре окна в комнате. Иван Алексеевич Сергеев и Марков приехали на следующий день в обед. Генерал побыл часок и уехал, а Владимир Гаврилович остался до утра. Павел подробно рассказал о своих закордонных днях. Магнитофон терпеливо фиксировал его повествование. Потом полковник сказал, что Станислав Курнаков, он же Михаил Зароков, он же Тульев, обнаружен в городе К., работает мастером в ремонтной радиомастерской. Специалисты, тщательно изучив содержимое «Спидолы», установили, что заключенные в ней таблицы являются только частью шифра. Ясно, что ключ к шифру надо искать у Курнакова. Первый тур закончился. Начинался второй. Теперь Зароков-Курнаков, восстановив связь со своим центром, должен активизировать разведывательную деятельность. - Что ж у нас получается? - самому себе задал вопрос полковник Марков. - Он, конечно, обрадуется посылке, но… - Полковник поднял глаза на Павла… - но обрадуешь ли его ты? - Вы думаете, все-таки подозревает? - спросил Павел. - Предположим. - Лично меня он вряд ли опасается. Я всю дорогу бегал от него без оглядки, он скорей считает, что я сам его боюсь. - Это верно. Но нам не будет известно, какие инструкции насчет тебя даст ему центр. Ведь, судя по твоему рассказу, они там не очень-то тебе доверяют. - Тоже верно, - согласился Павел. Добавить ему было нечего. После недолгого раздумья полковник продолжал: - Будем исходить из худшего. Скажем, так… У тебя задача одна - добыть ключ к шифру. А Курнаков не захочет приблизить Бекаса, предпочтет держать на расстоянии. Как ты шифр отыщешь? - Придется Бекасу переквалифицироваться в домушники, - сказал Павел. - Пожалуй, придется. - Марков улыбнулся, но тут же снова стал серьезным: - Задача твоя ближайшая легче всего, что тебе уже пришлось сделать, но всегда учитывай одну неприятную возможность: вдруг Тульев решит избавиться от тебя. - Ну-у, Владимир Гаврилович, в его-то положении да на такое дело… - Рассуждай как хочешь, а Дембовича-то он собственной рукой подпалил. Так что будь начеку. Потом, сощурив глаза, Павел посмотрел на Маркова как-то вопросительно. - Знаете, Владимир Гаврилович, я забыл вам одну вещь сказать. Может сыграть роль… - Так говори. - Отец нашего подопечного умер. - Как ты об этом узнал? - Видел некролог в эмигрантской газете. Маркова эта весть явно заинтересовала. Он спросил: - Покойный был уже не у дел? - Да. Насколько знаю, его съели. - Интересно, интересно, - оживился полковник. - Газету запомнил? - Да. - И число? - Четырнадцатое сентября. - Обязательно добудем. Определенно пригодится. Павел встал, прошелся, остановился перед Марковым. - Владимир Гаврилович, тогда у меня просьба… Дайте мне вырезку из газеты, когда найдете. Некролог. Я покажу ему в подходящий момент. Это будет выстрел в десятку. Я постараюсь. Марков засмеялся. - Ладно, получишь. Только не пускай ее в ход преждевременно… Было уже очень поздно. Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по спальням. У старшего лейтенанта Павла Синицына образовалось дней девять-десять, которые он мог использовать по личному усмотрению. Они пролетели очень быстро.Глава 16 СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Взяв из окошечка справочного бюро листок с адресом, который был ему известен без того, Павел отправился на квартиру Курнакова. Все следовало делать естественно. Вдруг спросит, как Павел узнал адрес… Хозяин ветхого деревянного домика, седой низенький дяденька пенсионного возраста, но выглядевший гораздо крепче своего домовладения, сообщил, что Станислав Иваныч сейчас на работе, и объяснил, как найти мастерскую. Судя по всему, работа в этой радиомастерской была, что называется, не бей лежачего. Павел целый час дежурил поблизости, ожидая, не выйдет ли Курнаков на улицу, и ни одного клиента не увидел. В чемодане у него лежала «Спидола», и можно было предложить себя в качестве удрученного клиента, но если окажется, что мастер там не один, и вдруг другой, не Станислав, возьмет «Спидолу» в починку? Лучше будет организовать сцену встречи старых друзей. Станислав наверняка подхватит. Павел вошел в мастерскую. В первой комнате, разделенной надвое широким барьером-прилавком, никого не было. За хлипкой фанерной дверью слышались мужские голоса. Павел постучал по прилавку костяшками пальцев. Дверь открылась. За нею стояли рядом двое в синих халатах, один помоложе и пониже, другой постарше и повыше. Павел глянул на высокого, развел руками во всю ширь и закричал как в лесу. - Стасик! Дорогой! «Стасик» даже вздрогнул, глаза у него сделались круглые и испуганные. Но в этом сонном царстве можно было испугаться просто крика. Надежда моментально оправился, так что его коллега не успел ничего заметить. А старые друзья уже обнимались, делая это неуклюже и не совсем естественно, ибо их разделял прилавок. - Кого я вижу! Друг! Какими судьбами? - кричал Надежда. Он не знал, как ему называть Павла. Сцена встречи развивалась по нарастающей. Закончилась она словами Надежды, обращенными к его сослуживцу: - Слушай, Коля, ты иди обедать сейчас, а я потом. Коля оставил их вдвоем. Лицо у Надежды сразу потемнело. - Так действительно можно сделать заикой, - сказал он, глядя Павлу в глаза. - А теперь говори, какими же судьбами? Павел вынул бумажник, покопался в нем и положил на прилавок пятерку и трешницу. Надежда взял их, долго смотрел на номера, и складки у него между бровями постепенно разгладились. - Привез что-нибудь? - спросил он, пряча деньги в карман. Павел похлопал по стоявшему между ними чемодану. Надежда сказал: - Знаешь что? Сейчас этот телок вернется, и пойдем отсюда. Все равно работы нет. Ты иди по этой улице к центру, я догоню… - Он снял халат, повесил его на гвоздик… Направляясь к городскому саду, Павел и Надежда шли по теневой стороне. Было жарко. - Ты уверен, что пришел без «хвоста»? - спросил Надежда. - Не опасайся. В чем, в чем, а в этом опыт есть. - Что в чемодане? - Рация, деньги. - Где бы нам поговорить? - Надежда подумал и решил: - Занесем домой чемодан, а потом погуляем. Надежда представил Павла хозяину и его старушке-жене как лучшего друга, с которым не виделся бог знает сколько, и сказал, что Павел, возможно, поживет у него день-другой. Старики ничего не имели против. Комната у Надежды была с низким потолком, но большая и чистая. Едва вошли, Надежда раскрыл чемодан, взял в руки «Спидолу», нежно погладил. Потом обвел комнату взглядом, прикидывая, где ее можно спрятать. - Она работает и как приемник, - сказал Павел. Надежда кивнул в сторону комнаты хозяев. - Народ деликатный, без стука не заходят. Но знаешь… Решено было взять «Спидолу» с собой - сейчас многие шляются по улицам с транзисторами, как ходячие громкоговорители. Видно было, что Надежде не хочется выпускать рацию из рук. Слишком долго был лишен возможности обладать такой необходимой вещью. Часть денег рассовал по карманам, а другую убрал в ящик комода. Вышли на улицу. Надежда начал с того, что было для него самым главным: - Они назначили срок первой передачи? - В любую среду от двадцати трех до двадцати четырех по московскому времени. - А прием? - Сказали, что сам сообразишь. - О шифре речь была? - Просили передать тебе «Спидолу», остальное меня не касается. - Тебя учили работать с ней? - Мне дали маленькую приставку, показали, как включить рацию на передачу. - А когда ты должен воспользоваться этой приставкой? - спросил Надежда. - Семнадцатого июля в те же часы. Если бы тебя не нашел. - Они это допускали? Павел пожал плечами. - Значит, допускали. - Ты как будто недоволен, что я тебя расспрашиваю? - делано удивился Надежда. - Или я спросил что-нибудь лишнее? - С чего ты? - Ну ладно. Говори, какие инструкции получил, кто их давал. - Найти Станислава Курнакова. В городе Я. или в городе К. Вручить «Спидолу» и деньги. Дальше исполнять приказания Станислава Курнакова. Сказал мне это Себастьян. - И все? - Больше ничего. - А если бы не нашел? - Включить приставку и передать в эфир. Рацию спрятать. Устроиться здесь и ждать. Надежда замолчал. Было понятно, что он хотел выяснить, какой степенью доверия облекли Павла в центре, посылая сюда. Теперь он все узнал и был удовлетворен. Нервозность исчезла. Надежда успокоился. - Сменим пластинку, Паша, - сказал он, когда сели. - Или ты не Паша? - Фамилия другая. Потапов. - Так что же мы с тобой будем делать, Потапов? На работу устраиваться надо, а? Ладно. Была бы шея, хомут найдется. Скажи, Потапов, ты знаешь мое настоящее имя? Видно, Надежде показалось, что пластинку менять еще рано. - Зароков Михаил. - Тебе Себастьян сказал? Или Дембович? - Нет. - А кто? - Сам сообразил, когда тебя в мастерской увидел. - Не пойму… Павел объяснил: - На допросах, как «Отче наш», все время твердили о двоих - Дембович и Зароков, Зароков и Дембович. Эти фамилии у меня теперь в одном ящике лежат. Ну с Дембовичем-то мы почти что родные, а Зарокова я в том городе не слыхал. Но зато был знаком с одним фраером, который предлагал мне кататься бесплатно на такси. И вот я вижу этого самого фраера в радиомастерской и почему-то сразу вспоминаю Дембовича. И думаю себе: или Бекас стал психом, или он имеет перед собой человека по фамилии Зароков. Непонятно? - Соображаешь. - Надежда как будто был удивлен. - А еще никаких фамилий в ящике нет? Павел знал, что имеется в виду фамилия Тульев. Но как бы не так… - Нет… Теперь Надежда счел, что можно перейти на другую тему, и попросил рассказать, каким образом Павла забросили. Павел описал все по часам, по минутам. Надежда заинтересовался подробностями жизни Павла и Леонида Круга в разведцентре, людьми, с которыми Павел сталкивался. Почти всех он хорошо знал. Портреты, нарисованные Павлом, были карикатурны, но обладали поразительным сходством. Надежда все время улыбался. Павел мимоходом упомянул о букете прозвищ, слышанных им, и тогда Надежда спросил, не приходилось ли ему также слышать об Одуванчике. Павел сказал, что Леонид Круг часто говорил с крайней неприязнью о каком-то старце, который якобы вредит его брату, и иногда называл старца божьим одуванчиком. Надежду при этих словах прямо-таки перекосило. В бумажнике у Павла лежал некролог об отце Надежды, но вынимать его еще не настал срок. По пути домой зашли в продуктовый магазин, Надежда накупил всякой еды, взял бутылку водки. Он сказал, что первое готовит ему жена хозяина, борщ у нее получается отменный. У хозяев сын служит в армии. Надежда живет в его комнате и даже тапочки его старые донашивает. Пообедали, покурили. Отнесли тарелки на кухню. Надежде не терпелось заглянуть внутрь рации и, дождавшись темноты, он плотно задернул занавески, повернул ключ в двери, зажег настольную лампу и верхний свет. Затем достал из комода брезентовую сумку, в которой хранились набор отверток, сверл, напильников, маленькая электродрель, молоточки, и нетерпеливо снял маскировочный корпус «Спидолы». Ее внутренности состояли из двух самостоятельных блоков. Полюбовавшись компактностью аппаратуры, Надежда принялся изучать цифры и буквы, выдавленные на черной блестящей поверхности эбонитовой оболочки, составленной из продолговатых пластин. Потом взял маленькую отвертку и отвинтил одну пластину. Под нею открылась ниша, из которой Надежда извлек две картонные таблички, формой и размером похожие на маленькие игральные карты для покера, которые принято называть атласными, хотя делаются они не из атласа. И рубашка у них была карточная. А на лицевой стороне отпечатаны календари на 1963 год. Разграфлено по месяцам и по дням недели, воскресенья выделены красным. Но числа в календарях перепутаны. Это был шифр. Вернее, половина шифра. Надежда взял из брезентовой сумки шильце и спросил у Павла иронически: - Я тебе не мешаю? - А что, нельзя? - Павлу не надо было притворяться, чтобы изобразить, как ему не хочется отходить сейчас от Надежды. - Иди погуляй, что ли… С полчасика… Павел повиновался. Во дворе, прохаживаясь под окнами, он обратил внимание, что свет в их комнате как будто бы уменьшился. Кажется, Надежда выключил настольную лампу. А через минуту-две снова зажег. Павел сел на ступеньке крыльца. Ночь была беззвездная, темная. Поднимался ветер. Наконец скрипнула дверь. Надежда подошел, опустился на ступеньку рядом с Павлом, закурил. - Сегодня вторник? - спросил он, и голос у него был усталый. - Сегодня уже среда. - Ну отбой. - Надежда погасил папиросу. - Спать. Он поделился с Павлом простынями и подушками. Павел лег на диване. Кровать Надежды была очень высокая, выше стола, он взгромоздился наверх, чуть ли не под самый потолок, и было смешно глядеть на него снизу. - Свет-то забыли, - как-то по-домашнему проворчал Надежда. Павел встал, выключил лампу. - Черт-те что, - сказал Надежда, ворочаясь. - Надо попросить хозяев, пусть уберут эти проклятые перины. - И добавил без всякой связи с предыдущим: - Надоело мне в этом городе. У тебя документы в порядке? - По-моему, нормальные. - А ну-ка покажи. Павел встал, снова зажег свет, подал Надежде паспорт. Тот нашел, что сделано чисто. Они лежали в темноте молча, и каждый думал о своем. - Не спишь? - сказал Надежда. - Не могу. Тикали часы. На улице ветер шелестел листвой. Слышно было, как покашливает за стеной хозяин. - Хотел бы я знать, что с Дембовичем, - сказал Надежда. - А если забрали? - Должны были забрать. - Старик расколется как орех. - А может, и не расколется. - Надежда повернулся на другой бок. - Ладно, бог с ним, с Дембовичем. Ты вот что… Завтра подыщешь себе жилье, тут это довольно легко. В одной конуре нам жить нельзя. Ну вот, все правильно, подумал Павел. Он не очень-то и рассчитывал, что Курнаков разрешит ему неотлучно находиться рядом с собой. Утром Надежда ушел на работу, а Павел, посоветовавшись с его хозяином, отправился искать жилье. Подходящая комната нашлась на параллельной улице, в пяти минутах ходьбы от Надежды. Столковавшись о цене, Павел заплатил за месяц вперед. Прописку решил пока что не оформлять, благо с этим делом тут просто. Вернувшись часа в три, Павел сообщил хозяевам Надежды, что все в порядке, отказался от предложенного обеда - мол, подожду друга - и пожелал немного отдохнуть. В комнате Надежды, прибранной после их ухода, царили чистота и порядок. Павел пригляделся, прикидывая, откуда целесообразнее всего начать поиск, но ничего определенного решить не мог. Вещей, нужных и давно отслуживших, было очень много, тайник при необходимости можно устроить в двадцати разных местах. Так что Павел отверг мелькнувшую было мысль приступить к розыскам шифра немедленно. С минуты на минуту должен был прийти с работы его «друг». Надежда явился бодрый, в приподнятом настроении. Доклад Павла его порадовал. К обеду он принес бутылку водки, и они просидели за столом часа полтора. Был выработан, так сказать, статус взаимоотношений. Они будут встречаться по вечерам. Павел несколько дней может побездельничать, побродить по городу, осмотреться, почитать объявления о найме рабочей силы, а потом они что-нибудь придумают. В среду Надежда вышел в эфир, в четверг работал на прием. Минуло еще три дня, а Павел так и не сумел найти ни одной подходящей возможности произвести у Надежды обыск. Хозяева сидели дома крепко, как медведи в зимней берлоге, незамеченным в комнату Надежды не проникнуть, да и он сам мог нагрянуть в любую минуту. Рисковать тут Павел не имел права. Наконец он придумал выход и по телефону, который у него имелся, попросил у лейтенанта Кустова явку. …Во вторник к хозяевам Надежды пришла из собеса девушка. Поинтересовавшись, как живут старики-пенсионеры, не скучают ли, она предложила им две путевки на экскурсию в Москву, на ВДНХ. Завтра за ними заедет автобус, в Москве они будут на полном содержании - трехразовое питание и так далее. Группа их состоит из двадцати пяти человек, все люди пожилые, как они сами… Старики с радостью согласились. В среду, когда они уехали, в комбинате бытового обслуживания, которому подчинялась радиомастерская Надежды, было созвано совещание с обязательным присутствием заведующих производственными точками. Надежда, разумеется, тоже должен был участвовать в нем, и оно продолжалось три часа. Павел проник в дом так, что соседи не видели его. Ключи хозяева оставляли под крыльцом. Не мешкая, начал методично и тщательно осматривать комнату, ища тайник. Долгое время его попытки были тщетными. Потом он обратил внимание на настольную лампу. Это была, так сказать, капитальная конструкция канцелярского типа. Массивная, как пьедестал, круглая мраморная плита, к ней привинчена ребристая ножка-колонна, а над колонной на проволочном каркасе покоится большой матовый плафон. Вдруг Павел вспомнил, что, выпроводив его на улицу перед тем, как сесть за шифровку, Надежда почему-то на несколько минут погасил настольную лампу. Сняв абажур и отвернув легко завинченную гайку на нижней поверхности мраморного основания, он отделил полую ножку. Хорошенько запомнив расположение витков, размотал изоляцию на проводе, и в руках у него очутился плотно скатанный ролик. Развернул его и увидел три колонки цифр. Это было то, что он искал, - ключ к шифру. В глубине ножки белел комок ваты. Павел вытянул его, и на ладонь упала автоматическая ручка размером несколько крупнее принятого стандарта. Это был пистолет. Любопытно, почему Надежда не носит его при себе? Неужели перестал бояться? Пересняв цифры, Павел снова устроил все как было. В тот же день после ужина Надежда завел речь о женщине, которую зовут Мария, - казалось, Надежда угадывал и исполнял желания полковника Маркова. Он говорил, что тоскует по ней, что ему ее страшно не хватает. Эта исповедь завершилась настоятельной просьбой: Павел должен съездить в тот город, негласно разыскать и повидать Марию. И как-то вручить ей деньги. Может быть, заодно удастся что-нибудь узнать о Дембовиче. Надежда отлично отдавал себе отчет, насколько это небезопасно, - ведь Павла многие знают в городе, контрразведчики, безусловно, не забыли историю с переправой, он может быть опознан, выслежен, может привести «хвоста». Но никакие соображения безопасности не останавливали его. Павел сначала подумывал, что это просто способ отправить его подальше, а самому скрыться. Но было не похоже, чтобы Надежда хитрил. Сообщив своим по телефону, что он должен исчезнуть на несколько дней, Павел попросил явку. Он встретился с лейтенантом Кустовым и передал ему добытый у Надежды ключ к шифру. А потом отправился в город, где жила Мария.Глава 17 ПРИВЕТ В ПОДАРОК
В феврале у Марии родился сын. Она назвала его Александром. Когда была в роддоме, каждый день под окно, возле которого стояла ее кровать, приходили ребята из таксомоторного, передавали через няню апельсины и яблоки, однажды написали записку: «Цветов пока нет. Но как будешь отсюда выходить, найдем вот такой букет». И правда, в день выписки явились с целой охапкой мимозы. Подруги, которых Мария как-то незаметно растеряла с появлением в ее жизни Михаила, снова были с нею, а Лена Солодовникова буквально не отходила ни на шаг, часто оставалась ночевать. Короче говоря, чувство одиночества, которое Мария так тяжело переживала в первые месяцы после исчезновения Михаила, постепенно развеялось, и от тех времен в душе остался лишь осадок горького недоумения. О причинах бегства шофера Михаила Зарокова судили и рядили в парке по-всякому. Нашлись и такие, кто объяснял дело, по их мнению, мудро и просто. Мол, чего тут непонятного - все они таковы, холостые мужики: заморочил девке голову, а увидел, что будет ребенок, - удрал. Одна Мария знала, что это не так. Она же не успела сказать Михаилу о беременности… Она не винила Михаила ни в чем и не жаловалась на судьбу. Причиной, заставившей его бежать из города, Мария считала какие-то неведомые ей события, грозившие Михаилу очень серьезной опасностью. А события эти могли быть последствием прошлого. Она сопоставила историю, поведанную Михаилом в тот далекий зимний вечер, когда первый раз пригласила его к себе, и свою поездку в Москву, к матери друга Михаила. Вспомнилось странное впечатление, оставшееся от поездки. Михаил был в плену, бежал, служил в армии под чужой фамилией. Друг, которого Михаил считал погибшим, оказался живым и сделался бандитом. Наконец, она знала, что Михаил кое в чем врал ей. Например, насчет жилья. Мария складывала все вместе, и получалась зловещая сеть, в которую, вероятно, и попал Михаил. Во всяком случае, она не сомневалась, что дело связано с уголовным миром. Сознание этого отравляло воспоминания обо всем хорошем, что принесла ей любовь Михаила, но его она любила по-прежнему. С сожалением перестала она носить подаренный им медальон. Однажды хотела даже выбросить - ведь эта вещь была ворованная, мать Мишиного друга отказалась ее принять. Но, поколебавшись, Мария спрятала медальон в старую сумочку, которой давно не пользовалась, - с глаз подальше. Все-таки это была единственная память о Михаиле. Для себя она твердо решила: вернется - примет его и не упрекнет ни словом. Если, конечно, он не преступник… Заботы о сыне отодвинули в сторону все другие мысли, Мария понемногу окончательно пришла в себя. И вдруг одно непонятное происшествие вновь нарушило покой. Мария так рассказывала Лене Солодовниковой: - Понимаешь, до сих пор руки дрожат, не могу успокоиться… Вот слушай по порядку. Сегодня утром я повезла Сашку в консультацию. Что-то у него с желудочком неладно. Коляску оставила в скверике, против входа, ну, ты же знаешь… Все так делают… Пробыли мы у доктора полчаса, не больше, ничего страшного у Сашки не оказалось, просто перекормила. Выхожу, держу его одной рукой, а другой клеенку в коляске поправляю. Разгладила ладонью - кирпичик какой-то под клеенкой. Отвернула - представляешь, что оказалось? Пачка денег. Новенькие, в упаковке. Под ленточку вложена записка. Всего несколько слов. «Ваш друг передает вам привет и просит принять подарок». Почерк не Мишин… Ты знаешь, Ленка, у меня прямо сердце оборвалось. Думаю: ну вот, дождалась. Их там, наверно, целая шайка. Награбили, и он мне от своей доли прислал. Даже не хотела Сашку в коляску класть после этих денег. Иду и думаю: что же делать? Деньги у меня в сумке, и будто я сама воровка. Куда их девать? Пошла в милицию. Ну, конечно, расспросы, допросы. А что я могла им сказать? Говорят, не можете ли вы предположить, кто подкинул эти деньги. Говорю, нет. Не буду же я замешивать Михаила. А потом они и сами в конце концов соображать должны, им же о его исчезновении известно. В общем, не стала я ничего предполагать. Говорю, возьмите эти деньги, а сказать мне больше нечего. Составили протокол, и я ушла. Мария недаром считала Лену фантазеркой. Выслушав, она спросила таинственным шепотом: - А записка? Надеюсь, ты ее не отдала? Мария вздохнула. - Конечно, не отдала. - Она вынула из сумочки записку. Подруги долго рассматривали ее, даже на свет. Начитанная Лена высказала догадку, что, может быть, на бумаге есть тайнопись, и предложила прогладить горячим утюгом. Это было очень смешно, и Мария сказала с грустной улыбкой: - Ленка, Ленка, какая же ты еще девчонка… Однако отговаривать ее не стала и сама включила стоявший на подоконнике электрический утюг. Пылкое воображение обмануло Лену: на бумаге, кроме чернильных букв, ничего не было, и Мария спрятала чуть поджарившуюся, ставшую ломкой записку в сумочку. Лена спросила: - И все? И дальше ничего? - А что же еще? Думаю, как же они меня разыскали? Ну, положим, Михаил адрес знает. Но ведь на дом ко мне не пришли. Значит, следили, выбирали удобный момент. От самого дома следили… Ужасно неприятно… И откуда узнали, что я дома сижу, в декрете? Значит, справлялись на работе. Пошла в парк. Там, как всегда, крики, шуточки: «Покажи-ка шофера Сашку». А мне не до шуток. Спрашиваю у Нины, у новенькой, не интересовался ли кто мной. Сказала, звонил мужской голос, спросил по имени. Нина ответила, что меня нет, в декретном отпуске, и поинтересовалась, кто спрашивает. Ответил: знакомый. А какой там знакомый… Прямо не знаю, что делать. Хоть на улицу не выходи. - Да что ты, Маша? - воскликнула Лена. - Не хватало еще - в родном городе жить и бояться. - Я и не боюсь, - сказала Мария. - Просто неприятно. Один раз подбросили - могут и еще. Они условились, что Лена пока поживет у Марии.Глава 18 АРЕСТ
Павел признался Надежде, что Мария понравилась ему. И это была правда. Он сразу узнал ее по описанию Надежды. Необыкновенно свежий цвет лица. И очень женственная. Ему неизвестно, какая она была прежде, но сейчас просто хороша, ничего не скажешь. Не опуская ни единого штриха, Павел начал рассказывать, как нашел Марию, как дежурил возле ее дома, следовал по пятам до детской консультации. - При чем здесь детская консультация? - перебил Надежда. - Фу, черт, забыл, - спохватился Павел. - У нее же ребенок, сын. Четыре месяца. Понадобилось подождать немного, чтобы дать Надежде переварить эту новость. Павлу еще не приходилось наблюдать, каким образом проявляется у Надежды радость. Но сейчас выражение лица у него было приблизительно такое, как в тот момент, когда он держал в руках рацию. Это было похоже на тихое ликование. Надежда сказал: - Это мой сын, Паша. Павлу оставалось только поздравить, что он и сделал. - Ну дальше, - попросил Надежда. А дальше Павел поведал довольно грустную для Надежды историю, как были положены в коляску деньги, как Мария обнаружила их, что с нею сделалось после этого и как она, не раздумывая, отправилась прямо в милицию. И опять пришлось сделать перерыв, еще более долгий. Отчет Павла походил на процесс закалки: сначала металл раскаляют докрасна, а потом бросают в холодную воду. Ни один из оттенков в смене чувств, владевших Надеждой, не ускользнул от внимания Павла. - Продолжай. - Больше я ее не видел. То есть, конечно, дождался, пока не вышла из милиции, проводил немножко, вижу, топает до дому, и отстал. Разузнал кое-что о Дембовиче, да не стоит сейчас говорить… - Брось-ка ты, психолог, - мрачно сказал Надежда. - В общем, помер Дембович, вот что. Сгорел вместе с домом. - Как узнал? - От таксиста. Соседи сказали, какая-то старуха на пепелище два раза приходила. Скорей всего Эмма. - Больше некому. - Задумавшись, Надежда машинально мял папиросу, пока из нее не высыпался табак. - А Эмму, значит, не взяли… Черт, неужели зря я порол горячку? С того дня Надежда редко разговаривал с Павлом по душам. Вечерами он читал книги, которые брал у хозяина. В хорошую погоду ходил на ту сторону Волги купаться. Павел по настоянию Надежды поступил на курсы шоферов и занимался каждый день с утра до обеда. Надежда правильно рассудил, что Павлу надо иметь крепкую профессию, не работать же всю жизнь грузчиком или экспедитором в пекарне. Сам он тоже с великим удовольствием сел бы снова за руль, но опасался это делать: если его ищут, то в первую очередь среди шоферов. Надежда попросил Павла завязывать знакомства с железнодорожниками, с военными, с речниками. И в свободную от занятий половину дня Надежда велел ходить по ресторанам, на вокзал, на пристань, ездить за город подальше. Смотреть, какие грузы проходят, особое внимание обращать на воинские части, вооружение. Все это пригодится, а кроме того, общение с людьми полезно, так сказать, для общего развития. Надежда был словно в ожидании. Наконец наступил очередной четверг. Сразу после двенадцати ночи Надежда включил «Спидолу», что-то записал, а потом целый час занимался расшифровкой. На следующий день, когда Надежда кончил работу, они вместе пошли на почтамт. Там Надежда получил открытку, посланную на его имя до востребования. Они прочли ее вместе, не отходя от окошечка. Содержание было немногословным: «Дорогой Станислав! Очень рад, что ты благополучно доехал. Все наши передают тебе большой привет. Напиши, как устроился. Жду с нетерпением». Подпись неразборчива. На лицевой стороне есть обратный адрес: «Москва, Большая Полянка…» Надежда тут же написал ответ. Павел знал, что это контрольная почта. Если Станислав Курнаков действительно в К., он должен получить открытку и ответить. Если его здесь нет, открытка через месяц вернется к отправителю за неявкой адресата. Надежда немного оттаял, словно эта открытка была приветом от друзей. В воскресенье - это было на следующий день после того, как столица встретила космонавтов Валентину Терешкову и Валерия Быковского, - он очень рано разбудил Павла и попросил съездить в Москву, купить кое-какие радиодетали для нужд мастерской. Это оказалось как нельзя более кстати, потому что Павел собирался просить у своих явку, а раз он едет в Москву, то все складывалось проще. Операция завершалась. Михаилу Тульеву, бывшему Зарокову, а в настоящем Курнакову, настало время давать показания. В Москве Павел встретился с Владимиром Гавриловичем Марковым. - Будем брать, - выслушав доклад, сказал полковник. - День назначишь ты. И место тоже. Но прежде ему необходимо переехать на новую квартиру. Надо, чтобы там, где ты будешь потом жить, никто не знал в лицо прежнего Станислава Курнакова. - С переездом будет сложнее. - Уговори его как-нибудь. - Да нет, уговоры тут не помогут. - Павел задумался, склонил голову к столу. И вдруг оживился: - Есть, Владимир Гаврилович! Но для этого придется провести кратковременную демобилизацию. У его хозяев сын в армии служит. Надо устроить ему отпуск, скажем, на месяц, отпустить домой на побывку. А где же он будет жить? Комнату его Стасик занимает. Владимир Гаврилович записал в блокнот фамилию и имя солдата, которые назвал ему Павел, и сказал: - Брать будем в день переезда. Чтобы новые хозяева не успели разобраться, кто из вас Станислав. - А насчет некролога как, Владимир Гаврилович? Показать? - Это можно бы сделать и после, что называется, в стационарных условиях. Но раз сам придумал, сам и покажи. - Ну, кажется, все? - Все. Кустов будет у тебя под рукой. И последнее. Прошу тебя, не зарывайся, будь предельно осторожен и смотри за ним строго. Это все же не игра, и пистолет у него заряжен не холостыми патронами. Слышишь, Павел? - Ну что вы, Владимир Гаврилович… Вы ж меня знаете. - Потому и говорю. Это самое творчество по вдохновению - оно у меня вот где сидит. Не смей гусарить! - Пистолет он не носит, а авторучка в лампе. - Все равно. Они попрощались, и Павел ушел. …Спустя четыре дня к старикам, хозяевам Надежды, пришла неожиданная радость: приехал на побывку сын. Они не хотели стеснять жильца, думали разместить своего Сашу у себя в комнате, - так даже лучше, сынок-то поближе будет, - но Надежда решительно воспротивился. Во-первых, ему не улыбалось быть целый месяц на виду у молодого солдата. Во-вторых, он и раньше уже подумывал сменить квартиру: с появлением рации и партнера вообще следовало позаботиться о более глухой изоляции от соседей. При очередной встрече Надежда сообщил Павлу, что должен срочно менять квартиру, и просил подыскать на окраине подходящий домик, чтобы хозяев было поменьше и чтобы ход был отдельный. Павел уже на другой день нашел то, что нужно, но Надежда отверг его предложение: оказывается, он сам подыскивал себе новое жилье. И уже договорился с хозяевами, что переедет в воскресенье, 14 июля, со всеми вещами. В субботу, 13 июля, Павел пришел вечером к Надежде и завел разговор насчет того, что неплохо, мол, завтра съездитьна озеро поудить рыбу. На курсах шоферов, где он занимается, подобралась веселая компания, едут на автобусе, а механик, с которым у Павла дружеские отношения, берет казенную «Волгу». «Я же завтра переезжаю», - напомнил Надежда. Но в принципе идея ему нравилась, он за все время своего пребывания в К. никуда не ездил, совсем закис. Павел предложил удобный вариант: он сейчас же позвонит механику, чтобы тот завтра утром заехал за ними. Забросят вещи на новую квартиру, а оттуда отправятся к озеру. Автобус уйдет раньше, но они его нагонят. …Утро 14 июля было солнечным и теплым. Весело прозвучал на тихой улочке мажорный сигнал «Волги», вызывавший Павла и Надежду. Расставание со стариками-хозяевами не было ни долгим, ни грустным. Объяснили им, что Станислав переезжает в другой город. Когда уселись, Павел представил Надежде своего друга-механика. За баранкой был лейтенант Кустов. Отвезли вещи, заперли входную дверь, и опять в машину. Выехав на шоссе Москва - Ленинград, Кустов сказал, что минут через сорок будут на озере. Больше он не заговаривал, нужно было смотреть в оба - горожане на всех видах моторного и безмоторного транспорта ринулись на лоно природы, движение как в Москве на улице Горького в часы пик. У Надежды тоже не было настроения болтать. Ехали молча. Километрах в двадцати от города Кустов свернул влево и грунтовой наезженной дорогой повел машину к видневшейся невдалеке березовой роще. - Вон за теми березками и наше озеро, - сказал Кустов. Это значило, что минут через десять Павел и Кустов увидят своих. Павел был совершенно спокоен. Надежда ничего не подозревал. Вряд ли следовало опасаться, что он окажет какое-нибудь сопротивление. Во всяком случае, не успеет оказать. Финал будет сугубо прозаическим. Ни тебе побега, ни погони, ни стрельбы. Все произойдет так, как обычно бывает в жизни и как никогда не бывает в кино. Машина въехала в молодую березовую рощицу. Сквозь редкие тонкие стволы просвечивалось небольшое озеро. На берегу стоял черный «ЗИЛ». Павел достал из лежавшего на сиденье пиджака бумажник, вытянул из него узкую газетную полоску, развернул и подал Надежде. - Взгляни, Михаил, что у меня есть. Это был заголовок некролога из парижской русской газеты - имя, отчество и фамилия отца Надежды. Надежда протянул руку без интереса, но, взглянув, рывком подался вперед, словно машина резко затормозила, и застыл, упершись глазами в сжатую пальцами бумажку. Лицо его мгновенно побелело. Не поворачивая головы, не глядя на Павла, Надежда произнес тихо и совершенно спокойно: - Ты все-таки знал. Но когда же… - он не договорил, оборвал себя. Машина выезжала из рощицы. До берега, где их ждали, осталось метров сто. Надежда поднял глаза, посмотрел через ветровое стекло на стоявших возле автомобиля людей. - За мной? - спросил он. И вдруг резко повернул голову, пытаясь схватить зубами воротничок рубашки. Павел ударил его в лицо, навалился, прижал в угол. - Тихо, Михаил, без фокусов. Машина остановилась. Надежда сник и сидел с безучастным видом, как будто все это не имело к нему никакого отношения. Павел открыл дверцу. - Ну, выходите, Тульев, - сказал Владимир Гаврилович. - Поедем в Москву. Надежда поглядел на Павла, перевел взгляд на Маркова, прищурился и, словно стряхнув оцепенение, вылез из машины, встал перед полковником. Надежду повели к черному «ЗИЛу». «ЗИЛ» медленно двинулся вдоль берега, а потом свернул к роще. Полковник подошел к воде, нагнулся, зачерпнул горстью и плеснул на лицо. Потом вынул носовой платок, не спеша утерся. Павел стоял рядом. В руке он держал ампулу, вырванную вместе с куском воротника. - Как, ты говорил, зовут его шефа? - спросил Владимир Гаврилович. - Монах. - Значит, будем работать на Монаха. Отныне Надежда - ты…Глава 19 ДВЕ РАДИОГРАММЫ
Радиограмма из разведцентра: «Надежде. Операция «Уран-5». Космическая разведка отмечает, что в квадрате БС 72-48 развертывается новое строительство. Судя по характеристике района, речь может идти об объекте исключительно важного значения. Попытка наших официальных представителей в Москве проникнуть в этот район не увенчалась успехом. Стройка развернута на большом удалении от железной дороги и недоступна для визуального наблюдения и технического контроля. Стратегическая служба надеется, что вы примете меры для того, чтобы уточнить: - место и объем строительства, координаты на карте обязательно привязать к местности; - наличие подъездных путей, характер груза и интенсивность его поступления (особое внимание обратить на объект квадрата БС 72-44); - какая организация строит объект, фамилии начальника строительства и главного инженера. По возможности их подробная характеристика и места работы в прошлом; - желательно в этой стадии строительства добыть пробы воды, земли и растений. Сообщите о мерах, которые предпочтете принять по этому делу. Впредь при переписке ссылайтесь на шифр операции. Вам кланяются друзья и ваш отец. Желаем успеха. Да поможет вам бог». Ответ Павла: «Уран-5». Нащупал подходы к объекту. Детали через месяц. Надежда».
Часть третья
С ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ
Глава 1
ВИЗИТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
С тех пор как старший лейтенант Павел Синицын, он же Бекас, поселился в городе К. и принял на себя обязанности резидента иностранной разведки Надежды, на протяжении полутора месяцев не случилось ничего. Зато в следующую же неделю возникло два новых обстоятельства, может быть, неравнозначных по важности, но свидетельствовавших об одном и том же, а именно: разведцентр неожиданно лишил Надежду своего доверия и счел необходимым учинить ему основательную проверку. Впрочем, правильнее будет сказать, что там, за кордоном, с некоторых пор стали сомневаться, действительно ли настоящий, а не подставной Надежда действует под этой кличкой.
Строго говоря, у разведцентра могли быть некоторые причины для сомнений. Например, хозяева Надежды вправе были не слишком-то верить в то, что ему так легко удалось скрыться от советской контрразведки под именем Курнакова после далеко не безупречной операции по переправе Леонида Круга. А тот факт, что для налаживания связи с Надеждой им пришлось использовать Павла-Бекаса, вряд ли мог уменьшить беспокойство. Правда, контрольную открытку Надежда получил и связь между ним и разведцентром наладилась, но само по себе это никаких гарантий еще не давало.
В общем, два обстоятельства, возникшие в начале августа 1963 года, заставили Павла, образно выражаясь, вновь застегнуться на все пуговицы. Сказать по чести, он в эти полтора месяца, после почти двухлетней непрерывной работы, позволил себе немного расслабиться. Но ему нетрудно было быстро обрести хорошую форму - как-никак за плечами есть опыт.
Полковник Марков через связного вызвал его на дачу в субботу. Павел думал, что просто хотят дать ему возможность провести воскресный денек среди товарищей, но оказалось не так.
- Свою ответную телеграмму помнишь? - спросил полковник, еще не дав Павлу сесть за стол.
- Уран-5… Нащупал подходы к объекту… - начал вспоминать Павел.
Но Марков перебил его:
- Так вот, дорогой товарищ Надежда, такого объекта не существует. В том квадрате, где они указали, нет никаких признаков объекта. Решительно никаких. И не предвидится в будущем.
Было чему удивляться.
- Для чего же им понадобилось это? Или у них были неверные сведения?
- Давай поразмыслим. - Марков взял из тощей папки листок с машинописным текстом. - Вот их радиограмма. Что бросается в глаза, когда читаешь? Абсолютная категоричность. Никаких там «возможно», «по некоторым данным» и тому подобное. Эта категоричность, заметь себе, может быть основана только на данных космической разведки, и тут не сходятся концы с концами. Указанные в радиограмме квадраты - голая, безлесная равнина. При воздушной съемке подобной местности возможна ошибка, если снять ее один только раз и именно в тот момент, когда метеорологическая обстановка неблагоприятна. Многократные повторные съемки в различных условиях такую ошибку исключают. Значит, что же получается? Допустить, что серьезные люди в столь серьезном мероприятии вынесли безапелляционное суждение по одной-единственной съемке, было бы смешно. Значит, этот вариант отпадает, а вместе с ним и твой второй вопрос.
- Остается первый, - сказал Павел.
- Да. И на него нетрудно найти ответ. Они опасаются, что Надежда провалился и теперь вместо него подставлен другой. Этой радиограммой они предоставляют нам готовую возможность начать с ними игру, короче - снабжать их обильной дезой. - Так Марков для краткости именовал дезинформацию. - Потечет деза - стало быть, их подозрения правильны: Надежда взят. Все это становится похоже на игру с открытыми картами…
- Без затей, но крепко.
- Если все верно, мы на этом сыграем. Но пока это лишь догадки. Нужно ждать подтверждения. Думаю, они не ограничатся единственным способом проверки, коль уж их гложет червь недоверия. - Марков заметил комично-страдальческую гримасу Павла по поводу «червя недоверия» и прибавил: - Что, оскорбляю слух? Пустяки, потерпишь…
Они улыбнулись друг другу, и Марков сказал прежним деловым тоном:
- У тебя следующий сеанс с центром, кажется, в среду?
- Да.
- Думаю, скоро опять свидимся. Если будет что-нибудь необычное - сразу дай знать.
- Слушаюсь, Владимир Гаврилович…
После обеда в воскресенье Павел уехал к себе в К., в среду ночью за городом провел назначенный центром сеанс связи и принял радиограмму, содержание которой требовало срочного свидания с руководством.
Радиограмма гласила:
«Форсируйте «Уран-5». Ставьте нас в известность о всех предпринимаемых действиях. Сообщите свой домашний адрес и место службы. Слушаем вас в среду в этот час».
Требование адреса вызвало у Павла тревогу. Надежда не успел сообщить центру о перемене местожительства. Откуда же им стало известно, что Курнаков по прежнему адресу больше не живет и в мастерской не работает? Кто-то, значит, узнавал в справочном бюро о Курнакове. Но там ничего сообщить не могли, потому что на новом месте Курнаков не прописан.
Мелочь, казалось бы, но Павел в который уже раз имел случай оценить предусмотрительность Маркова. Это он решил, что месяца два-три нужно Курнакову-Бекасу пожить без прописки и без работы.
Как видно из радиограммы, тот, кто разыскивал Курнакова, уже успел сообщить о своей неудаче в центр, и это, безусловно, усилило подозрения шефов Надежды.
А что же с местом службы? Как они могли узнать, что Курнаков ушел из радиомастерской? Только одним путем: этот «кто-то» должен был зайти в радиомастерскую.
Если разведцентр для проверки безопасности своего резидента столь торопливо идет на крайнее средство - посылает специального связного, - значит, дело серьезное. Тут оступаться нельзя…
Прежде чем отправиться на дачу, где его ждал Марков, Павел зашел на почтамт и узнал, нет ли корреспонденции на его имя до востребования. Но ничего не было.
Затем он посетил радиомастерскую. Напарник Надежды, курносый мастер Коля, встретил Павла как доброго знакомого. На заданный между делом вопрос, куда пропал их общий друг Стасик, Коля простодушно отвечал:
- Ушел в отпуск по семейным обстоятельствам.
- А никто им больше не интересовался?
- Нет, - последовал ответ.
Павел сделал вывод, что связной, приезжавший в К., знал Надежду в лицо: пришел, ничего не спрашивал, понаблюдал, убедился, что Надежды здесь нет, и убрался.
Вечером в четверг Павел вновь встретился на даче с полковником Марковым.
Прочтя полученную радиограмму, Марков обрадовался: его версия подтверждалась. Но радость тут же исчезла.
- Теперь к Надежде должен явиться гость, иначе запрос об адресе не имеет смысла, - сказал Марков. - Это плохо. Впрочем, один гость уже успел посетить радиомастерскую и поинтересовался Курнаковым. - Марков имел в виду вчерашний визит Павла.
- Да. Это точно… А нельзя ему пожить под моим присмотром в К.? Недели две-три. Тянуть с проверкой они, видимо, не будут, раз так торопятся…
- Рискованно. Он еще не созрел.
Марков долго прохаживался по комнате, сильно сутулясь, глядя в пол. Потом остановился перед Павлом.
- Ничего не поделаешь. Придется тебе встречать гостя и выкручиваться. Гость Надежду пока не увидит, и это совсем расстроит наших партнеров. Но мы поправим им настроение одним правдивым сообщением. Давай-ка составим радиограмму.
Через несколько минут на листке, вырванном из блокнота, было записано:
«Косвенные данные, которые мною получены и точность которых я проверю в ближайшее время, заставляют думать, что ваши сведения по «Урану-5» неверны. Никаких свидетельств не только о большом, а и вообще о строительстве в указанных вами квадратах нет. Мой адрес: К., улица Подгорная, 5, дом Мамыкиных. Временно нигде не служу, ищу подходящее место. Надежда».
…Павел вернулся в К., чтобы в следующую среду передать радиограмму разведцентру, а затем ему оставалось терпеливо ждать, что же произойдет дальше.
…Однажды утром - это было на десятый день после отправки радиограммы - в ресторане московской гостиницы «Останкино» случилось маленькое происшествие. За длинным столом, накрытым для группы туристов из Западной Европы, когда все расселись, одно место оказалось незанятым. На это никто не обратил внимания, кроме пожилой дамы, весьма заметно молодящейся, которая занимала место рядом с пустующим креслом. Она подозвала гида и сказала, что герр Клюге почему-то не явился, - между прочим, вся группа давно с удовольствием наблюдала, как влюбленно эта не по летам экспансивная особа смотрит на туриста Клюге, который просил всех называть себя просто Эрихом, хотя тоже был не первой молодости. Гид не придал сообщению дамы никакого значения: мало ли бывает таких случаев. Может, человеку захотелось посмотреть на утреннюю Москву. «Но, - возразила она, - мы же собираемся на целый день в путешествие по каналу Москва - Волга, герр Клюге не успеет». Гид понимал, почему она так расстроена, но утешить мог лишь тем, что к их возвращению герр Клюге, безусловно, будет уже в гостинице. Далеко ли он может уехать?…
Но в этом гид ошибался: Клюге успел уехать от столицы довольно далеко.
…В полдень Павел, неотлучно, как на дежурстве, сидевший дома последние трое суток, увидел в открытое окно идущего неторопливой походкой высокого мужчину в сером чесучовом костюме, в очках, с соломенной шляпой в руке. Он был похож на коренного москвича, который по приглашению знакомых приехал на дачу и разыскивает их, вспоминая, как ему описывали путь от станции… Мужчина в сером костюме искоса поглядывал на номера домов. Поравнявшись с N 5, остановился перед низким, до пояса, штакетником.
Павел вышел на крыльцо, потянулся сладко, будто только поднялся с постели, зевнул.
- Здравствуйте! - услышал он очень приветливый голос.
- Мое вам! - ответил Павел несколько удивленно, оборачиваясь к незнакомцу. - Чем могу?
Тот слегка поклонился.
- Это дом Мамыкиных? Не могу ли я видеть товарища Курнакова? - И, смущенный бесцеремонным разглядыванием, прибавил: - Я приехал из Москвы. Он живет здесь?
- Живет-то он здесь, но сейчас его нет. Уехал, будет только завтра. А он вам зачем?
- Да один наш общий друг просил его навестить. Я тут по делам, и…
Павел грубо оборвал все более смущавшегося незнакомца:
- Если что нужно, можете передать мне. Я тоже его друг.
- Нет, нет, ничего не нужно, просто передайте привет с Большой Полянки. - Он как-то засуетился, несколько раз поправил очки, потом снял их, протер платком, опять надел. «Фотографирует, наверное», - подумал Павел.
- Так вы не стесняйтесь, заходите, - пригласил он довольно грубоватым тоном. - Кинем по банке. Я еще не опохмелялся, а по-черному пить противно.
- Простите, не понял… - искренне заинтересовался вежливый собеседник. - Что означает «по-черному»?
- Это когда сидишь за столом вдвоем: сам и бутылка, а никого третьего нет.
Незнакомец тихо рассмеялся, еще раз поклонился.
- Спасибо, спасибо, я спешу. Передавайте горячий привет Курнакову.
- Пока Стасик вернется, ваш привет уже остынет, будет чуть теплый.
Они распрощались, и вежливый гражданин ушел так же неторопливо, как и пришел…
Вечером, вернувшись в гостиницу «Останкино», герр Клюге встретил в холле соседку по столу - она пожертвовала поездкой на Московское море, надеясь, что Клюге явится хотя бы в середине дня, но он обманул ее ожидания. То ли оттого, что была раздражена, то ли ее действительно неприятно поразил костюм, которого до сего вечера она и вообще никто на Клюге не видел, но дама сочла необходимым сделать ему замечание.
Павел в тот же вечер увиделся с полковником. Маркову его сообщение доставило большое удовольствие.
- Мы им все-таки покажем Надежду. В недалеком будущем. А пока начнем закладывать хо-о-рошую мину. Время подошло, - сказал Марков.
Павел увез с собой новый текст телеграммы для передачи в разведцентр на следующей неделе:
«Мною точно установлено, что ваши данные по «Урану-5» - блеф. Кажется, получил выход на объект аналогичного назначения. Ориентировочно расположен в квадрате КС 68-32. Понадобится разработка широкого плана действий. Получил привет с Большой Полянки, но не лично, а через Бекаса. Что это значит? Подобные контакты нежелательны в К. Если возникают сомнения и надобность видеть меня, дайте явку в Москве. Это безопаснее. Надежда».
Глава 2 ДИАЛОГИ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Вот выдержки из магнитофонной записи первичного допроса Надежды, который вел полковник Владимир Гаврилович Марков. Из ленты N 4 Марков. Насколько можно понять из сказанного раньше, вы пользовались полным доверием у руководства центра… Надежда. У Монаха - да. Но не у Себастьяна. Марков. Почему? Надежда. С Монахом мы были так или иначе связаны на протяжении пятнадцати лет. Он делал карьеру на моих глазах. И к тому же мы почти одного возраста - он старше всего на два года. А Себастьян появился у нас в шестидесятом. Попал, как у вас говорят, в сложившийся коллектив. И вообще по характеру недоверчив. Поэтому он с первого дня на всех смотрел косо, не только на меня. Марков. В чем это проявлялось по отношению к вам? Надежда. Мне попадало рикошетом. Так, мелкие придирки. Себастьян питал неприязнь к моему отцу. Это он дал отцу кличку Одуванчик. Он презирает русских, особенно из тех, старых, из дворян. Злые языки говорили у нас, что сам Себастьян появился на свет в борделе тетушки Риверс в городе Мемфисе, штат Миссисипи. А отцом его был отставной капитан Страттерберк, описанный Уильямом Фолкнером, тот Страттерберк, который имел обыкновение не платить девицам за их услуги и из-за этого часто получал пинка в зад. Вот будто бы в результате одного из таких неоплаченных посещений и появился на свет Себастьян. Этим и объясняли его злость. Он злится на весь белый свет. Марков. Он подданный Соединенных Штатов? Надежда. Как вы понимаете, в документы к нему я не заглядывал. Но все знали, что он прислан к нам Центральным разведывательным управлением Штатов. Это точно. Марков. Ну хорошо, оставим пока Себастьяна… Вот вчера вы рассказывали о своих миссиях в странах Азии и Африки. Впоследствии мы остановимся на этом более подробно. А сейчас нас интересует одна, чисто техническая сторона дела. Каждый раз, как вы отправлялись на очередное задание, вам давались явка или несколько явок, пароли… Помните ли вы их? Надежда. Кое-что помню. Что-то, вероятно, забылось. Но ведь явка и пароль даются на один раз. Как говорится, по употреблении выбросить… Марков. Разумеется. Но все же постарайтесь восстановить в памяти эти детали. Надежда перечисляет названия ряда азиатских и европейских городов, адреса явочных квартир, имена и фамилии, пароли. Марков. А был ли вам известен кто-нибудь из агентов, кого вы знали, так сказать, в частном порядке, а не потому, что вам дали явку и пароль в центре? Надежда. Я понял ваш вопрос. Отвечу подробно. Осведомленность такого рода правилами работы, конечно, не поощряется, но когда долго варишься в одном котле с одними и теми же людьми - я говорю: одни и те же, только в разных комбинациях, - то через пятнадцать лет накапливается целое собственное досье на некоторых. Я знаю нескольких резидентов в разных странах. Если их уже не сменили. Кроме того, в некоторых местах центр держит постоянных агентов, которые никакой активной работы не ведут, а нужны там про черный день. Мы их называем между собой якорями. Если, скажем, тебе когда-нибудь дали к нему явку, а в следующий раз посылают туда же, но явку не дают, все равно ты уже его знаешь, как старого знакомого. У меня, например, есть один такой, с сорок шестого барменом работает. Я у него неоднократно коктейли пил в разные годы. Они просто сидят на месте и работают как обычные люди. Когда к ним приходят с паролем, они исполняют порученное - и все, до следующего раза. Конечно, если подвернется какой-то из ряда вон выходящий случай, они могут проявить инициативу, но в принципе это от них не требуется… Марков. В европейских столицах у вас есть такие знакомые? Надежда. Были. Не уверен, сохранились ли они до сих пор. Но, в общем-то, по моим наблюдениям, этот контингент самый стабильный. Марков. Расскажите подробно о них. Надежда сообщает имена агентов, их особые приметы, дает краткие характеристики. Следуют названия городов, отелей, ресторанов, различных учреждений. Марков. Хорошо, этот вопрос ясен. Скажите, у вас осталась семья, дети? Надежда. Нет, это было совершенно невозможно. Здесь я нашел одну женщину, которую полюбил. У нее родился ребенок. Но вы же все знаете… (Следует долгая пауза). Я могу задать вопрос? Марков. Пожалуйста. Надежда. Кто родился у Марии? Мальчик, девочка? Марков. Мальчик. Надежда. Как она его окрестила? Марков. Александром. Вы что, верующий? Надежда. Нет. Отец был верующий, в последние годы. Просто старый лексикон. Из ленты N 7 Марков. Вы действительно любите Марию? Надежда. Да. Марков. Мария была в курсе вашей разведывательной деятельности? Надежда. Нет. Марков. Помимо ее поездки в Москву, какие еще ваши задания она выполняла? Надежда. Больше никаких. Марков. Почему вы решили убить сестру Михаила Зарокова? Надежда. Свидание с ней означало для меня провал. Марков. Если бы я сейчас спросил вас: как же вы могли пойти на это, как у вас поднялась рука? - ваш знакомый Бекас сказал бы, что это больше похоже на проповедь из цикла «Не убий». Но все же - как? Надежда. Я затрудняюсь… Надо было спасать свою жизнь… а при этом все средства хороши… Марков. Ну ладно… (Пауза.) Сестра Зарокова жива-здорова. Надежда. Что?! Что вы говорите?! (Пауза.) Не может быть! Марков. Да. А ваш наемник, Терентьев, расстрелян по приговору суда, но не за то, что он ехал убивать сестру Зарокова. Его расстреляли за прежние дела, как государственного преступника. Полагаю, вам это небезынтересно знать. А теперь скажите вот что: оговаривался ли при вашей засылке в Советский Союз такой вариант, что в случае угрозы неминуемого провала вы попросите центр организовать вашу переправу обратно за рубеж? Надежда. Да, такой вариант рассматривался, но лишь как самый крайний случай. Мне прямо было сказано, что на это я могу рассчитывать лишь после того, как мое пребывание в Союзе принесет ощутимые плоды. Подразумевалось, что я буду жить здесь долго, не менее пяти лет. Марков. Способы обратной переправы определялись? Надежда. В общих чертах. Называли два - морем и через сухопутную границу на Кольском полуострове. Марков. Вербовка агентов входила в ваши задачи? Надежда. По мере надобности. Если это потребуется для достижения поставленных целей. (Пауза.) Разрешите еще вопрос? Марков. Пожалуйста. Надежда. Нельзя мне увидеться с Марией? Марков. Будущее покажет. Надежда. Может быть, мне позволят написать ей? Марков. Напишите.Глава 3 НУЖНЫ ДОЛЛАРЫ
После памятной беседы в КГБ Алик Ступин резко переменил образ жизни и порвал все отношения с Кокой и прочими своими братьями по спекуляции. Он поступил на работу литсотрудником в многотиражку большого московского завода и начал пробовать себя в переводах с английского, которым владел довольно сносно. При воспоминаниях о тайном, пропитанном опасностью и иезуитством житье-бытье у него порою посасывало где-то в груди. Шальным, кружащим голову ветерком пробегала мысль: а не вернуть ли все? Но вспоминался разговор с усталым пожилым человеком там, на Дзержинке, ранним утром в не проветренном еще кабинете, и это сразу отрезвляло. В новую свою жизнь из старой Алик перенес лишь любовь к новейшим магнитофонным записям, к коллекционированию этикеток от спичечных коробок, а также тесную дружбу с Юлей Фокиной, которая, он это знал, его обожает. О женитьбе они пока не говорили, но отношения их складывались таким образом, что они в любой момент могли пожениться. Юле было двадцать три, она только что окончила медицинский, но сумела каким-то образом избежать обязательного распределения и пока по настоянию родителей отдыхала от изнурительного учения в ожидании приличной вакансии в Москве. Впрочем, она была способным человеком, училась хорошо и не грешила особым легкомыслием. Одно только смущало Алика: она была знакомой престарелого Коки, он их и свел. Сама Юля объясняла знакомство с Кокой тем элементарным фактом, что жила с ним по соседству, на Большой Полянке, и, кроме всего прочего, говорила она, Кока же ей в дедушки годится. В конце концов Алик сумел подавить в себе зародыш ревности. Алику противны были даже косвенные напоминания о старом пройдохе, а Юля была самым прямым и живым напоминанием. Но Юля ему очень нравилась, и с этим он уже ничего не мог поделать. Иногда она заезжала к Алику на работу, брала ключи от его квартиры и потом сидела одна у него дома, слушала магнитофон. В такие дни он любил приходить домой прямо с работы, не задерживаясь нигде. Было приятно знать, что Юля ждет, приготовила что-нибудь на ужин, и, когда он умоется, тут же сварит кофе, и он выпьет чашку, еще не садясь к столу, а опустившись в низкое кресло подле включенного магнитофона. Сначала это смущало его - слишком похоже на жизнь женатого человека, - но потом он подумал: а почему бы и нет? Если Юля и в замужестве останется такой, одно можно сказать: да здравствует семейная жизнь! Близкой подруги, как она сама выражалась, подруги на каждый день, у Юли раньше никогда не было. Но в последний месяц она очень сблизилась с некой Риммой. Они были во многом похожи: обеим по двадцать три, обе высокие, прекрасно сложенные. Их вполне можно было принять даже за родных сестер. Знакомство их произошло в кафе-мороженом на улице Горького: Римма подошла к одиноко скучавшей Юле и попросила разрешения сесть за ее столик. С первых быстрых и острых изучающих взглядов они почувствовали обоюдную симпатию, а когда, съев по две порции мороженого, покидали кафе, обе уже и представить себе не могли, что больше не встретятся. Они обменялись телефонами и увиделись на следующий день. Через месяц они уже вообще удивлялись, как могли до этого жить друг без друга. И вот тогда-то Юля и решилась познакомить Римму со своим Аликом, а Римма Юлю - со своим Володей. Римма, между прочим, однажды обмолвилась, что ее Володя - редкий нелюдим да к тому же работает в каком-то сверхсекретном «ящике», то есть в номерном институте или на номерном заводе, хотя при людях, которых хорошо знает, может быть своим парнем. Одним словом, не было ничего удивительного в том, что как-то в солнечный сентябрьский вечер Алик Ступин, придя с работы, увидел у себя в квартире, кроме Юли, еще и другую молодую женщину, которая поразила его сходством с Юлей. Алик ничего бы не имел против этой милой дружбы - с тех пор они часто проводили время втроем, - и все бы было хорошо, если бы не один внезапный разговор. Это случилось вечером у него дома. Посреди какого-то малозначительного спора Юля сказала ни к селу ни к городу: - Знаешь, Алик, а Риммин друг Володя едет за границу. - Сейчас многие ездят, - без энтузиазма откликнулся Алик. - Куда? - В Брюссель. Служебная командировка. И кажется, всего вдвоем или втроем. Это не в стаде туристов. - Н-да-а-а… - неопределенно протянул Алик. - Никаких идей на этот счет не возникает? - иронически спросила Юля. - Я считала, у тебя рефлексы отработаны. - Не понимаю, о чем речь? - Он мог бы нам кое-что привезти. - Например? - Например, французскую помаду и краску для ресниц. Брюссель - это почти Франция. - А ты говоришь почти как людоедка Эллочка. Зачем вам косметика? Об вас спички зажигать можно. - Не вечно же мы будем молодыми, как говорила моя бабушка. - Косметика долго не лежит, она портится. Или выдыхается. - Ничего, полежит. И если тебе приличные галстуки привезут, а нам кожаные пальто - разве плохо? - Юля начинала раздражаться из-за того, что Алик упорно не желал ее понять. - К чему ты клонишь? Говори прямо. - Нужно достать валюту. Теперь Алик взглянул на нее с некоторым изумлением: мол, ого, малютка, не ожидал от вас такой прыти. - Что значит «достать валюту»? Как будто это красная икра или билет на Райкина! Доставай! - Нет, ты определенно заторможен! - воскликнула обычно невозмутимая Юля. - Неужели до тебя не доходит? Ты же дружишь с Кокой, а Кока наверняка может достать, я знаю. Алика подбросило с кресла, словно он катапультировался. - Что?! - закричал он вне себя. - Что ты знаешь?! Не болтай ерунды! Нет, Юля, конечно, не была посвящена ни в настоящую Кокину, ни в бывшую Аликову подпольную деятельность, ни в их совместные махинации. Но она один раз была гостьей Коки, в его комнате, похожей больше на антикварный отдел комиссионного магазина, и она чисто женским чутьем угадала по всей обстановке, по воздуху Кокиного хрустального жилища, что старик зарабатывает себе на хлеб и на масло не продажей лотерейных билетов в метро и уж, во всяком случае, существует не на пенсию, как бы велика она ни была. Потому у нее само собой и произошло, если можно так выразиться, прямое замыкание этих двух понятий - «валюта» и «Кока». Алик разозлился не на шутку: - Не произноси в моем доме этого имени! Он мне не друг и никогда другом не был! - Ну что ты кричишь? Побереги нервы, - пробовала утихомирить его Юля. - Тебе не друг, так мне сосед. - Ну и целуйся со своим соседом! - Фу, фу! - Юля поморщилась. - Как быстро слетает с тебя респектабельность. - Обойдусь! - отрезал Алик. Юля встала, вздохнула, взяла со столика сумку, натянула перчатки. - И мы тоже обойдемся. - Повернулась к Римме: - Пойдем отсюда, а то он сейчас расплачется. Они были уже на лестнице, спускались потихоньку, когда Алик открыл дверь и крикнул им вдогонку: - Не советую! - Спасибо за бесплатный совет, - ответила Юля. …Юля, когда хотела, умела быть решительной и настойчивой. Уже на следующий день она по телефону договорилась с Николаем Николаевичем Казиным, то есть с Кокой, что послезавтра вместе с подругой навестит его вечером. Кока давненько не видел Юлю и очень обрадовался. Встретил он их наилюбезнейшим образом. При виде двух молодых красивых женщин глаза старого пройдохи засияли. Кока вдруг сделался суетлив, что вообще было ему несвойственно. Выставил из серванта на столик конфеты, фрукты, печенье, бутылку вина. Порывался найти еще что-то. Но подруги рассиживаться не собирались. Юля сразу приступила к делу: - Николай Николаевич, а мы к вам с просьбой… - Зачем так уж сразу, Юленька? - умоляюще произнес Кока. - Вы хотите сократить мне удовольствие? Не будем спешить, посидите, отдохните, вот вина выпьем, хорошее вино. Но Юля стояла на своем: - Я знаю, Николай Николаевич, приличия требуют сначала поинтересоваться здоровьем человека, а потом уж попросить в долг десятку. Но я считаю, что это-то как раз и неприлично. По-моему, надо делать наоборот. Так будет гораздо честнее. - Вам нужны деньги? - с готовностью откликнулся Кока. В его вопросе слышался и ответ: «Пожалуйста». - Да, но не рубли. - А что же? Копейки, сотни, тысячи? - пошутил Кока. - Нет, нам нужны доллары, - просто объяснила Юля. На лице у Коки по-прежнему сияла улыбка, но выражение глаз изменилось. Они сразу потухли. - Гм, доллары… - Кока пожевал губами. - Где же их взять, красавицы дорогие? - Он сделался поразительно похож на старую цыганку. - Они же на дороге не валяются. А? - Ну, Николай Николаевич, - взмолилась Юля, - вы же все знаете, все умеете. Помогите нам, мы вам будем так благодарны. Кока метнул на нее быстрый взгляд из-под бровей. - А на что же они вам, если не секрет? - Да понимаете… - Юля запнулась, посмотрела на Римму, молчавшую на протяжении всего этого разговора. - Вот она лучше объяснит… Скажи, Римма. Римма коротко рассказала, кто такой ее друг Володя, куда и зачем он едет. - Как его зовут? - поинтересовался Кока. Римма взглядом спросила Юлю, говорить ли. Та кивнула. - Борков, Владимир Борков, - сказала Римма. - А не боится Владимир Борков везти уголовно преследуемую валюту? Юля, почувствовав, что дело, кажется, идет на лад, заговорила быстро, торопливо: - Римма его еще ни о чем конкретно не просила… Но чего тут особенного? Николай Николаевич, миленький, ну сделайте для нас! Такой случай больше даже не приснится… Теперь и улыбка исчезла с лица Коки. Он стал серьезным. - Сколько же долларов видится вам в ваших снах? Римма и Юля переглянулись. Юля сказала: - Ну, двести… двести пятьдесят… - Это будет дорого стоить. - Ничего, сколько уж будет… Кока оглядел, прищурившись, сначала одну, потом другую и сказал почти сухо: - Ну, предположим… Однако должен вам сказать… Не обижайтесь… Словом, есть одно правило, которого я придерживаюсь уже давно. В подобных мероприятиях женщинам лучше не участвовать. Короче, этот человек… как вы сказали - Борков, да? Так вот, если вам нужны доллары, пусть Борков встретится со мной. Римма и Юля смотрели друг на друга с недоумением. Такого поворота они не ожидали. Римма слегка пожала плечами: мол, что же делать, придется соглашаться. Но Юля попробовала сначала возразить: - Но, Николай Николаевич, мы ведь уже принимаем, так сказать, некоторое участие… - И хватит, на этом оно и должно кончиться. - Кока снова улыбался. - Хорошо, - сказала Римма. - Он может к вам прийти? Когда? - Лучше не ко мне, а давайте, скажем… - Кока подумал. - Послезавтра в семь вечера на почтамте… на Кировской - знаете?… Ну вот, вы придите вместе, я буду стоять у окошечка выдачи писем до востребования на букву «к». Вы ему меня покажите, а сами ступайте себе… Мы уж договоримся. Устраивает? - Вполне, - сказала Римма. …В назначенный час к Коке, стоявшему у окошечка, где выдавалась корреспонденция, подошел Владимир Борков. Кока не сомневался, что это именно он, потому что видел, как Римма и Юля вошли в зал вместе с ним и глазами показали ему на Коку. Это был молодой человек лет двадцати восьми, среднего роста, плотный, чернобровый, сероглазый, с темными, коротко стриженными волосами, зачесанными на косой пробор. Лицо твердое, тугое, с чуть заметным румянцем. Он производил впечатление человека, крепко стоящего на ногах, виден был характер. Смотрел прямо и приветливо. Но вместе с тем во взгляде его, как бы помимо воли, где-то в глубине глаз проскальзывало какое-то второе выражение, не то лукавое, не то дерзкое. Все успел приметить в одну минуту прожженный, видавший тысячи всяких видов подпольный делец Кока с Большой Полянки… Из почтамта они пошли в чайный магазин, что напротив и чуть наискосок. Переходя улицу, обо всем условились. Кока назвал сумму в рублях и сказал, что доллары при нем, а Борков ответил, что согласен и что деньги тоже при нем. Кока разъяснил, как они должны осуществить обмен. В чайном магазине он положил в карман Боркову доллары. А затем они пошли по Кировской к площади Дзержинского, завернули в посудный магазин, что на углу, и там Борков положил в карман Коке пачку двадцатипятирублевок. И на том они расстались…Глава 4 СКАНДАЛ В БРЮССЕЛЕ
Делегация, состоящая из трех специалистов по химическому оборудованию, улетала с Шереметьевского аэропорта. Никто из официальных лиц ее не провожал: обычное дело, обычная командировка, всякий протокол и торжественность были бы неуместны. Двоих провожали жены, а молодая высокая женщина, державшая под руку третьего, не была женой этого молодого человека, как догадывались по каким-то неуловимым признакам супруги. Двое из троих давно знали друг друга по совместной работе в научно-исследовательском институте. Это были солидные пятидесятилетние люди, один - доктор, другой - кандидат технических наук. Третий пришел к ним полгода назад, но успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Он инженер-конструктор, энергичен, оригинально мыслит в своей области и вообще вызывает симпатии как товарищ. Фамилия его Борков, Владимир Сергеевич. Его работа в институте началась с того, что он сделал ценное предложение, усовершенствовавшее целый цикл производства, и коллеги относились к нему с искренним уважением, несмотря на его молодость. Расцеловались у выхода из аэровокзала, женщины помахали на прощание, пассажиры вышли на перрон. Все как обычно. К вечеру того же дня делегация уже была в Брюсселе. Здесь их встретили чиновник бельгийского Министерства иностранных дел и представитель крупного химического объединения - советская делегация намеревалась заключить договор на приобретение нескольких комплектов химического оборудования. Большой черный автомобиль остановился у отеля «Плаза». Это был не самый шикарный отель Брюсселя, но и не из дешевых, как раз подходящий для солидных деловых людей. Здесь уже были забронированы номера. Старшие поселились вместе в люксе, а молодой Борков получил номер на четвертом этаже. Условились, что два часа дается на приведение себя в порядок с дороги, а затем - ужинать здесь же, в ресторане отеля. Владимир Борков управился с ванной и бритьем в полчаса, меж тем как «старики» по привычке делать все основательно и не спеша растянули эту операцию на полный обусловленный срок. Сэкономленные полтора часа Борков использовал самым деловым образом. Сойдя по лестнице вниз, он подошел к портье с таким видом, как будто тот знает его невесть сколько лет, и совершенно по-свойски спросил на беглом французском языке, где здесь поближе и подешевле купить кое-что для женщин - ну там духи, кремы, кожаные вещи. Портье, нисколько не удивившись - такие вопросы задавались ему часто, - объяснил, что неподалеку есть большой универсальный магазин «Бомарше», там найдется все необходимое. Борков предложил портье сигарету, но тот отказался, приложив руку к сердцу. Разговор этот занял пять минут. Взглянув на часы, Борков поблагодарил любезного портье и вышел на улицу. «Старики», вероятно, были бы изумлены, если бы увидели сейчас своего молодого коллегу. Сдержанность и скромность манер, которые считались его отличительной особенностью, улетучились бесследно. У него даже походка изменилась, стала не то чтобы расхлябанной, а какой-то ленивой. Казалось, он прислушивается к ритму улицы и старается идти в ногу с нею. В магазине Борков прежде всего купил недорогой, но вместительный и приличный на вид чемодан, а затем начал методический обход прилавков. Через час Борков вернулся в гостиницу. Из номера он позвонил по телефону в люкс к «старикам». - Геннадий Павлович? Это я, Володя. Ну как, вы готовы? - Я готов, но вот Вениамин Александрович запонки никак не найдет. Боится, что забыл. У вас, случаем, нет ли запасных? - У меня одни, но сейчас я в рубахе, к которой запонки не нужны. Спускаюсь к вам. - Сделай одолжение, милок… А еще через полчаса они сели впятером за стол в ресторане - те двое встречавших тоже пришли, - и Владимир Борков снова был сдержанным и скромным. Выпили за успех торговли, плотно поужинали. Произошла деловая беседа. Гости интересовались техническими характеристиками оборудования, которое они собирались закупить, и бельгийский специалист не преминул отметить солидную профессиональную осведомленность молодого русского инженера Владимира Боркова. Разошлись в половине двенадцатого, условившись о расписании на завтра… Подходили к концу четвертые сутки деловых переговоров. Вечером после утомительной поездки и осмотра одного из крупнейших предприятий химического машиностроения советская делегация возвратилась в Брюссель. Приехали в гостиницу усталые, но довольные ходом переговоров. Владимир, пожелав «старикам» спокойной ночи, сам отнюдь не искал покоя. У себя в номере он первым долгом внимательно осмотрел чемодан и сразу определил, что его вскрывали. Вещи оказались на месте, уложены в том же порядке. Борков, стоя у окна, выкурил сигарету, потом надел плащ, спустился в лифте и вышел из отеля. Сыпал мелкий сеяный дождь, было довольно холодно. Борков поднял воротник. Улицы выглядели пустынно, и мигание бесчисленных реклам казалось странным в этом безлюдье - они подмигивали вхолостую, никому… Борков дошел до площади, на которой была стоянка автомобилей, и тут его догнал таксомотор. Водитель притормозил у тротуара и веселым, задорным голосом спросил: - Вам не надоело мокнуть? Может, сядете ко мне? - И открыл дверцу. - Великолепная идея! - в тон ему сказал Борков, усаживаясь рядом. - Такие мысли приходят в голову нечасто. - Ну для этого просто надо сделаться владельцем такси, - отвечал шофер, совсем молодой парень. - Куда прикажете? Борков назвал ночной ресторан. - Там можно согреться, - сказал шофер. Ехать было совсем недалеко, через несколько минут машина остановилась у ресторана. Борков расплатился. - Желаю вам выйти отсюда сухим, - сказал шофер на прощание. - Спасибо, постараюсь… Борков снял плащ, кинул его небрежно на руку швейцару, распахнувшему перед ним дверь, задержался перед большим, в полстены, зеркалом в просторном холле, бегло оглядел себя, пригладил ладонью влажные волосы. Широкие двери, ведущие в зал, были плотно прикрыты. Из-за них доносилась приглушенная музыка - рояль и ударник. Едва Борков вошел в зал, возле неговырос метрдотель, появившийся откуда-то из бокового помещения, - высокий мужчина лет сорока, плотный, во фраке, с внешностью циркового шталмейстера. Он оценивающе, как-то единым взглядом охватил фигуру Боркова, спросил вежливо: - Вы один? - К сожалению… Зал был почти пуст, только за несколькими столиками сидели по два-три человека. - Похоже на заседание общества трезвости, - пошутил Борков мрачно, без улыбки. - О, не беспокойтесь, - сказал метрдотель, - тесно будет. Сейчас еще рано. Прошу прощения за вопрос: вы долго рассчитываете у нас посидеть? - Если будет весело, почему же не посидеть? - Тогда я вам рекомендую вон тот столик. Разрешите, я вас провожу. Он повел Боркова к столику в левом углу, ближе к эстраде, возле свободного пятачка, оставленного для танцев. - Здесь вам будет хорошо, - сказал любезный метрдотель. - Вы у нас впервые? - Это прозвучало скорее утвердительно, чем вопросительно. - Да. Командировка. - Как поживает Париж? - Разговаривая, метрдотель успел подозвать официантку, небольшую ростом девушку, очень живую, с блестящими черными глазами. - Как всегда, - сказал Борков, щелчком указательного пальца стряхивая пепел с сигареты в пепельницу. Метрдотель обратил внимание на этот жест. Так стряхивают пепел только русские. Сигарета у Боркова погасла. Он полез в карман пиджака, достал коробку спичек советского производства. Прикурил и быстро сунул коробок обратно в карман. Метрдотель проводил глазами его руку и сказал: - Вы говорите как истый парижанин. Мне всегда приятно слышать такую речь, давно не был в Париже. Надеюсь, вам у нас понравится. Будете ужинать? - Конечно. - Я принесу вам карточку. Метрдотель услал куда-то девушку, сам подал Боркову карточку и, прежде чем отойти от столика, сказал почтительно: - Желаю как следует повеселиться. Если понадобится, можете позвать меня через официантку. - Благодарю. Борков принялся изучать цены. Зал меж тем наполнялся публикой. Постепенно устанавливался ровный, слегка возбужденный гул, похожий на шум в морской раковине, когда ее прикладываешь к уху. Борков заказал две порции джина, бутылку белого сухого вина и ананасный сок. Через пять минут официантка принесла заказ, поставила на стол вазочку со льдом, и Борков медленно отпил из бокала… Джаз начал свою программу. Вышла певица, на которой по традиции было очень много фальшивых драгоценностей и совсем мало платья. Она спела грустный романс, а потом веселую песенку о приключениях деревенского парня, впервые попавшего в большой город. Ей никто не хлопал, но она не обращала на это внимания. Публика была еще трезва, ночь только начала раскачиваться. Большая люстра в центре зала погасла, сразу сделалось уютнее. Он выпил рюмку джина, закурил сигарету, и тут к его столику подошли в сопровождении метрдотеля две молодые женщины и с ними розовощекий господин лет пятидесяти, весьма добродушного вида, чем-то похожий на диккенсовского мистера Пикквика. Метрдотель сказал, обращаясь к Боркову: - Вы не против, если эти люди составят вам компанию? Мне больше некуда их посадить. - Пожалуйста, я не возражаю… - Надеюсь, мы не будем в тягость, - сказал мистер Пикквик, усаживаясь… Подошла официантка, приняла у них заказ. Другая официантка помогла ей обслужить новых клиентов, и вскоре стол был уставлен бутылками и всевозможными закусками. В первые полчаса общий разговор не завязывался. Мистер Пикквик, сидя между своими дамами, угощал их, не забывая и о себе, а Борков исподтишка изучал соседей, стараясь определить, в каких отношениях они меж собой находятся. Похоже было, что мистер Пикквик более близок с блондинкой, особой, как видно, жизнерадостной и доброй. Вторая, черноволосая и темноглазая, выглядела как будто расстроенной, была задумчива и сидела с отсутствующим видом. Но, по мере того как пустели бутылки, картина чудесным образом менялась. Блондинка постепенно теряла свой заряд бодрости и впадала в уныние, а брюнетка становилась все веселее. Приблизительно в половине второго начали танцевать. Борков, видя, что мистер Пикквик уже минут пять с жаром что-то шепчет в ухо окончательно расклеившейся блондинке и совсем оставил без внимания вторую свою спутницу, осмелился пригласить задумчивую брюнетку на танец. Она охотно согласилась. Оркестр играл твист. Разговаривать Боркову не пришлось, ибо сей танец создан не для интимных бесед с партнершей, тем более что на площадке было тесно и следовало быть внимательным, чтобы не сбить кого-нибудь. Но познакомиться они успели - брюнетку звали Жозефиной. Борков старался, и, кажется, танец у него получался недурно. Во всяком случае, он заметил одобрение в глазах Жозефины. После танца по пути к столику они задали друг другу вполне естественный вопрос: кто откуда? Жозефина была испанка. Она не удивилась, что Борков из Парижа. Ну а когда отдышались, сама собой возникла потребность вместе выпить. Раз, другой и третий. А затем к ним присоединился и мистер Пикквик, которому наконец удалось развеять мрачное настроение блондинки. Джаз гремел беспрерывно. Воздух в зале стал синим от табачного дыма. Официантки как-то поблекли от суеты, от шума, от духоты. Но Борков ничего не замечал, он видел только матово-белое лицо и большие, темные, как вишни, глаза. Жозефина пьянела все больше. В половине третьего блондинка решительно заявила, что пора уходить. Мистер Пикквик не очень сопротивлялся, он лишь заметил, подмигнув Боркову: - Я готов, дорогая, но, по-моему, Жозефина только-только разбежалась… - Это ее дело, - неожиданно резко сказала блондинка. - Мы идем. - Она поднялась. - Расплачивайся. Пикквик попросил счет, расплатился за троих, пожелал Жозефине и Боркову скоротать время до утра повеселее и покинул их. Жозефина молча помахала ему рукой. Они посидели вдвоем час или полтора. - Надоело, - наконец сказала Жозефина. - Надо домой. Можете меня проводить. Дальнейшее происходило для Боркова как бы в тумане. - Вы далеко живете? - Нет. Совсем рядом. На втором этаже этого дома. В какой-то момент Борков почувствовал, что знакомство с Жозефиной необязательно должно ограничиться совместным сидением за этим столом в шумном многолюдном зале. И как только он это сообразил, его действия приобрели некую чисто автоматическую целесообразность. Так нередко бывает у очень нетрезвых людей. Попросив у Жозефины извинения, он ненадолго оставил ее одну. Не совсем твердые ноги сами подвели его к метрдотелю, стоявшему, как капитан на вахте, возле выхода из зала. - Можно вас на два слова? - сказал Борков. - Но хорошо бы не здесь. - К вашим услугам, - откликнулся метрдотель. - Пройдемте сюда, в мою контору. Свернули в довольно широкий коридор, ведущий к буфету, и через несколько шагов метрдотель толкнул дверь справа. Борков очутился в небольшой комнате, где стояли старый кожаный диван с низкой спинкой, стол под цветной скатертью и два обтянутых кожей стула. Старомодный круглый абажур торшера бросал на стол пятно мягкого света. - Слушаю вас, - сказал метрдотель, прикрывая дверь. Борков замялся было, но лишь на секунду. - Скажите… Вы знаете эту женщину? - И да и нет. Я вижу ее здесь не первый раз, но не представлен. При мне ее называли Жозефиной. Она остановилась у нас на втором этаже. - Вы славный парень, - совсем пьяным голосом сказал Борков. - Как вас зовут? Меня - Владимир. - Мое имя - Филипп. - Будем знакомы. Борков вернулся к своему столику. Жозефина красила губы. Официантка почему-то забыла подать Боркову счет, а он тоже не вспомнил, что необходимо перед уходом расплатиться. Перед номером на втором этаже Жозефина и Борков остановились. Жозефина достала из сумочки ключ, вставила его в скважину замка и, сделав два поворота, посмотрела на Боркова. - Разрешите откланяться, - сказал он, - желаю спокойной ночи. Жозефина удивилась: - Вы не зайдете?… Борков колебался. Но распахнутая дверь заставляла принять решение. - Хорошо, но только на одну минуту… Они вошли в отлично обставленный номер. - Присаживайтесь. И не бойтесь, я вас долго не задержу, - сказала Жозефина, опускаясь на тахту. Выпили, а потом Борков читал ей по-испански стихи Лорки и по-французски Бодлера, расхаживая перед тахтой, а она покуривала сигарету и время от времени поглядывала на него с усмешкой. Наконец Борков, простившись, покинул номер. Ему не следовало пить этот последний бокал: до своей гостиницы он добрался в состоянии предельного опьянения. …Утром он проснулся оттого, что кто-то толкнул его в бок. К своему изумлению, Борков увидел рядом с собой в постели Жозефину. Она лежала с закрытыми глазами. Не успел Борков сообразить, что с ним и где он находится, как в дверь постучали. Он отодвинулся от Жозефины и крикнул: - Кто там? - Полиция, откройте! Борков вскочил с постели. Жозефина села, прикрываясь одеялом. - Это за мной. - Быстро в ванную! - приказал Борков. Жозефина убежала, схватив в охапку свою одежду. Стук в дверь повторился. - Одну секунду. Оденусь. Борков открыл дверь. Вошли двое. - Просим извинения. Полиция разыскивает важного преступника. С вашего разрешения мы осмотрим комнату, - сказал один из полицейских и тут же прошел в ванную. Оттуда он появился вместе с Жозефиной. - Нам придется исполнить кое-какие формальности, - сказал полицейский Боркову. - Произошло недоразумение, я прошу немедленно связать меня с посольством, - заявил Борков. - Сначала несколько вопросов, господин Борков. Где вы были этой ночью? Борков назвал ресторан. - Вы были в обществе этой дамы? - Да… То есть мы сидели за одним столиком. - Когда вы привели ее сюда? - Я не приводил ее. Как она очутилась здесь, мне совершенно непонятно. Повторяю, это недоразумение, я прошу связать меня с посольством. - Рассказывайте сказки! Кто может подтвердить, что вы вернулись в свой номер один? То, что произошло дальше, было похоже на финальную сцену из плохой детективной пьесы. Дверь растворилась, на пороге стоял метрдотель Филипп. Он сказал: - Это мог бы сделать я, господин инспектор. - Кто вы такой? - Метрдотель. Меня зовут Филипп. Прошу убедиться… - И он предъявил какой-то документ. - Мосье Владимир - мой друг, прошу поверить его объяснениям. А что касается этой дамы… - Мы обязаны составить протокол, - перебил его полицейский. - Какая вам разница, где вы задержали эту аферистку? - возразил Филипп и незаметно сунул полицейскому в карман какие-то бумажки, вероятно деньги. - Ладно, - произнес миролюбиво инспектор, глядя на Боркова. - Извините за беспокойство. - И к Жозефине: - Прошу следовать с нами. Полицейские и Жозефина покинули комнату. - Как же это вы так неосторожно… - сказал Филипп, когда они остались одни. - К тому же вы даже не успели расплатиться за ужин, и мне, видите, пришлось прийти сюда. - Извините меня, Филипп… Я вам бесконечно благодарен… Все это как во сне… Ничего не могу понять… Сколько я вам должен? Филипп назвал сумму. Борков достал деньги, отсчитал сколько положено. - Приведите себя в порядок. У русских есть очень хорошая пословица: «Все, что делается, делается к лучшему», - так, кажется? - Филипп улыбался. - Да, да… - растерянно ответил Борков. Филипп посоветовал не расстраиваться и исчез. …В девять часов утра Борков зашел в номер к «старикам», и они отправились завтракать в кафе при отеле. «Старики» ничего не заметили, хотя их младший товарищ выглядел невыспавшимся. Этот день был у них свободен - хозяева предоставили им возможность отдохнуть и осмотреться. «Старики» собирались походить по музеям, а Борков сказал, что хочет заказать телефонный разговор с Москвой и будет сидеть у себя в номере. Его пробовали отговаривать: мол, лучше звонить ночью, - но Борков настоял на своем. Условились встретиться в три часа за обедом и разошлись. Поднявшись в номер, Борков переоделся в спортивный шерстяной костюм, взял кипу газет, купленных накануне, и лег на кровать поверх одеяла. Он читал, пока не начало щипать глаза, а потом задремал. Неожиданный телефонный звонок заставил его вскочить, но сразу взять трубку он не решился. Размеренные звонки повторялись с полминуты, прежде чем Борков протянул к телефону руку. - Алло, вас слушают. - Это Филипп, - громко раздалось в трубке. - Я разговариваю с Владимиром? - Да, Филипп. Я ждал вашего звонка. Я кое-что потерял. - Не беспокойтесь, все у меня. Борков вздохнул облегченно, спросил: - Когда мне можно вас увидеть? - Могу приехать к вам в отель. - Нет, нет, - поспешно возразил Борков. - Лучше где-нибудь в другом месте. - Тогда сделаем так, - подумав, сказал Филипп. - Из отеля идите направо до угла, потом еще раз свернете направо и увидите кинотеатр. Я буду ждать у входа в кассы. Скажем, через час. Вас устраивает? - Да, вполне. Борков оделся, положил в портфель бутылку «Особой московской» и две стограммовые банки зернистой икры. Но тут же передумал и завернул водку и икру в бумагу. Подходя к кинотеатру, он увидел Филиппа - тот пересекал улицу. И хотя метрдотель был сейчас не во фраке, а в отлично сшитом костюме и в шляпе, Борков узнал его тотчас по осанке. У касс они сошлись. - Отдать вам тут же? - спросил Филипп. - Да, но как-нибудь тихо. - Пройдемся. Они двинулись по переулку, который вел к одной из главных магистралей города. - Я принес вам кое-что в подарок, - сказал Борков, кивнув на пакет. - Не стоит… - Прошу вас, не отказывайтесь. Здесь всего лишь выпивка и закуска. Наша, из России. - Ну хорошо, ради нашего знакомства, - согласился Филипп. - Давайте этот пакет и держите свою книжечку. Пакет перекочевал в руки к Филиппу, а в ладони у Боркова очутилось его служебное удостоверение.Глава 5 СМОТРИНЫ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
Михаил Тульев сильно изменился за три с половиной месяца, минувшие со дня ареста. В своем превращении он прошел через несколько этапов - от состояния крайней подавленности до полного душевного равновесия. Наблюдая череду этих последовательных изменений, полковник Марков находил наглядное подтверждение давно открытой истины, что для спокойствия духа человеку необходима прежде всего определенность положения, как бы плачевно оно ни было. Страшнее же всего неизвестность. Как ни вышколен был профессиональный разведчик Тульев двадцатью годами опаснейшего риска, но внимательный человек наверняка приметил бы натяжку и нервозность, если бы понаблюдал его в обличье Зарокова или Курнакова. Ведь под маской всегда остается свое собственное лицо. Теперь перед Марковым сидел человек без маски, и человек этот был спокоен. Ничто не напоминало о его прошлом. - Газеты, журналы вам дают регулярно? - спросил Владимир Гаврилович. - Да, спасибо. Я читаю и книги. Уже лет пятнадцать не читал, если не больше. - Не было времени? - Не в том дело. Не было подходящего состояния души. Марков пододвинул на край стола лист бумаги с тремя строчками машинописного текста. - Вот также любопытное чтение. Тульев пробежал глазами по строчкам. «Надежде. Вам надлежит быть 2 ноября сего года от 17.00 до 17.15 (время московское) в Третьяковской галерее, зал Верещагина. Следующий сеанс связи - 9 ноября в те же часы». - Захотели на вас посмотреть, - сказал Марков. - А отказывать мы не имеем права. Вы, наверное, обратили внимание, что наши встречи с некоторых пор не похожи на допросы, но не о том сейчас речь. - Марков сложил лист с радиограммой вдвое, сунул его в стол. - Рискую задеть ваше самолюбие, но скажу. Предположим, я вам не очень верю, но в галерею вы все равно пойдете. Провалить нас вам не удастся, потому что скорее всего к вам никто не подойдет. На вас просто посмотрят издалека, живы ли вы, существуете ли до сих пор. Вас мои рассуждения не обижают? - Нет, я бы рассуждал так же, - без всякой наигранности ответил Тульев. - Ну вот, собственно, мы и договорились. Как сказал бы ваш знакомый Бекас, это слегка напоминает смотрины, только все не так торжественно. И вы уж постарайтесь быть скромным. - Я вас не подведу, - просто сказал Тульев. - Рад буду, если не ошибусь… Но хочу спросить: вам не кажутся неосторожными действия ваших бывших шефов? Такие чрезвычайные меры… А может быть, они не верят вам? - Не думаю. - Правильно, - согласился Марков. - Они подозревают, что вас подменили. Ну что же, вот вам случай на деле доказать чистосердечность ваших слов. Тульев снова вытянулся перед Марковым и стоял молча. - Завтра обсудим детали. - Марков нажал кнопку звонка. Вошел сержант. - Проводите. Второго ноября без четверти пять такси, на котором ехал Михаил Тульев, повернуло со стороны набережной в узкий Лаврушинский переулок и остановилось перед Третьяковской галереей. Тульев расплатился, захлопнул дверцу, кинул под колесо погасший окурок и, взглянув на часы, поспешил к входу, обгоняя многочисленных посетителей. Покупка билета и сдача пальто в гардероб отняли десять минут, расспросы о расположении залов - минуту. В зал, где висели картины Верещагина, Тульев вошел, тяжело дыша, словно бежал бог весть откуда, чтобы только взглянуть на груду человеческих черепов на «Апофеозе войны». Но через минуту он был похож на обыкновенного неторопливого любителя живописи. Пять минут протекло, десять - никто к нему не подошел, не заговорил. В четверть шестого он покинул Третьяковку, дошел до станции метро «Новокузнецкая» и, как было заранее предусмотрено, приехал на вокзал. Но ехал он не один, а под надежной негласной охраной московских контрразведчиков. Не исключалось, что за Тульевым могла быть организована слежка людей Антиквара. Так оно и получилось. Тульева сопровождал от самой галереи, не отпуская от себя на большое расстояние, пожилой мужчина, полный, коренастый, с лицом пьяницы. Этот человек - как потом было установлено, по фамилии Акулов - исполнял свое дело не очень-то квалифицированно, и обмануть его не составляло большого труда. Тульев, по всем правилам конспирации, по дороге периодически проверялся, но делал это больше для вида, вернее, для Акулова. Акулов бросил наблюдение за Тульевым, когда убедился, что тот, купив билет, сел в вагон поезда, идущего в город К. Надо полагать, больше от него ничего не требовалось. Теперь Тульев остался в окружении своих законных телохранителей. Допускалась возможность, что за ним могло вестись поэтапное наблюдение, поэтому планировалось доставить Тульева на прежнюю его квартиру в городе К. Он пробыл там недолго - всего два дня. Итак, смотрины состоялись и были односторонними. Теперь надо было предполагать, что разведцентр сделает из всей этой проверки какие-то выводы и при назначенном внеочередном сеансе связи поставит задачу. Но сколь ни был готов Марков к новшествам со стороны своего зарубежного противника, радиограмма от 9 ноября звучала несколько неожиданно. Она была пространна и проникнута несвойственной таким посланиям задушевностью. Но вслед за похвалами Надежде и сочувствием в его тяжелой миссии следовали два важных пункта строго делового плана. Во-первых, центр предлагал сменить шифр для радиопереговоров. Во-вторых, указывал способ передачи нового шифра. Вот как это произойдет. Надежда должен 10 декабря подойти к табачному киоску, в котором работает человек по фамилии Акулов (особые приметы сообщались), предъявить ему пароль (который также сообщался) и от него получить пачку папирос с микропленкой, содержащей таблицы шифра. Центр ожидал, что первым посланием Надежды, зашифрованным по-новому, будет его доклад о всей работе, проделанной за время пребывания в городе К. Судя по этой радиограмме, центр начинал менять отношение к своему резиденту, возвращая ему доверие.Глава 6 ПИСЬМО К МАРИИ
Мария долго вертела письмо, изредка посматривая на посетителя, молодого человека, принесшего его, и недоумевала: откуда оно и не ошибка ли? Она уже и забыла, когда в последний раз получала письма. Но на конверте стоял ее адрес и фамилия. С каким-то странным предчувствием вскрыла она этот толстый синий конверт. «Здравствуй, Мария!» - прочла она на первом листке. Фиолетовые строчки поплыли, словно размытые волной: почерк был знакомый. Мария перевернула толстенную пачку листков и на последнем увидела подпись «Михаил». Мария ничего не видела, ничего не слышала, будто в столбняке. И стояла так несколько минут, пока Сашка не заворочался в своей кроватке. Она склонилась над ним, но мальчик уже опять спал спокойно. О том, что в комнате есть посторонний, Мария совсем забыла. Она подошла к окну, еще раз прочла первую строку, начала было читать дальше, но поняла, что лучше все-таки сесть… Опустилась на тахту и поднесла письмо близко к глазам, хотя никогда близорукой не была. «Здравствуй, Мария! Мне разрешили написать тебе. И вот я пишу. Не знаю, примешь ты это письмо или нет. Буду надеяться, что примешь. В моем положении и после всего, что произошло, я не имею права просить прощения. Глупо будет также умолять, чтобы ты поняла меня, вернее - мои действия. Их ни понять, ни простить нельзя. Но все же, если сможешь, прочти до конца. Это уничтожит неопределенность и неизвестность между нами. Моя задача сейчас простая. Я должен рассказать тебе, кто я такой на самом деле. Но ты не должна никому говорить про это письмо. Никому. Так просят тебя товарищи, которые разрешили мне писать. Я и теперь еще не все и не до конца могу сказать и открыть, поскольку некоторые факты, касающиеся лично меня, касаются также других лиц и других дел. Но что можно - скажу. Это хорошо продуманное письмо. Здесь я пишу правду и прошу мне верить. Зовут меня Михаил. Фамилию настоящую пока сказать не могу. Подробности моей жизни с родителями неинтересны, я их опускаю, но в детстве моем был один важный момент. С тринадцати лет мой отец начал внушать мне ненависть к большевикам. Он всегда отделял Россию от большевиков. Россия - это одно, а большевики - другое. Слова у него не расходились с делом - он всегда работал против того, кого ненавидел. Я любил его и верил ему беззаветно. Когда умерла мать, отец взял меня с собой. С тех пор я никогда и нигде не принадлежал себе. У меня никогда не было дома, жены и детей. Был только отец, которого я очень любил. Теперь и его нет. О нем я скажу еще несколько слов ниже. В двадцать лет я уже был почти готов к самостоятельной работе, оставалось еще попрактиковаться кое в чем. О войне лучше не вспоминать. Если бы можно было, я вычеркнул бы те годы из календаря. Когда Гитлера разбили, многие остались без хозяина и без стойла. Но есть надо, по возможности вкуснее. Голодных в Европе тогда было много. И грязных также. А еду и душистое мыло могли предложить только американцы. Они и предлагали - тем, кто был готов работать на них. У нас с отцом выбора не было. Правда, после войны отец немного по-иному стал относиться к большевикам, хотя он не хотел в этом признаться даже самому себе. Но я видел это очень хорошо. Теперь жалею, что перемена взглядов никак не отразилась на его служебной биографии. Он сменил лишь кучера, но бежал в той же упряжке. А я всегда был там, где отец. (Пожалуйста, не думай, что я пишу так в свое оправдание. Сочувствия не ищу, его не может быть. Но искажать истину не хочу. Так все было на самом деле.) После войны немало пришлось помотаться по свету. Я никогда не хныкал и привык действовать, не жалея о последствиях. Прежде чем приехать в Советский Союз, пришлось взять другое имя. Вернее - фамилию, имена у нас совпадали. Под этой фамилией ты меня и знаешь: Зароков. На советской земле я впервые по-настоящему ощутил, что я русский. Моя жизнь в твоем городе тебе в основном известна. Потом я вынужден был срочно уехать, снова сменить имя. Поверь, что я много думал о тебе, не хотел оставлять тебя. Но иначе было невозможно. Без тебя я прожил на свободе год. Если можно считать свободой существование человека вроде меня. За этот год я многое понял и многому научился. Меня предупредили, что это письмо прочтешь не только ты. Но человек, который будет моим цензором, знает обо мне в десять раз больше, чем мне позволено здесь изложить. Поэтому я могу не стесняться своих слов и хочу немного поговорить о нас с тобой. Прежде чем начать, должен сказать одну вещь. Против ожиданий, со мной обошлись мягко. Но в момент ареста (в июле этого года) и после у меня было достаточно случаев испытать за свою участь если не страх, то беспокойство, оснований для этого я успел заработать более чем достаточно. Поверь, что я даже в самые мрачные минуты не забывал тебя. Я виноват перед тобой, что выдавал себя не за того, кто я есть на самом деле. К тому же ты по моей просьбе ездила в Москву. Но если взять нас с тобой просто как двух людей, женщину и мужчину, в этом я тебе никогда не лгал. И у меня всегда была уверенность, что ты любишь меня. Знаю, ты бы не могла полюбить, если бы я открылся перед тобой. Я искал любви обманным путем. Но неужели ты не сможешь простить? Мне известно, что у нас родился ребенок (недавно мне сказали, что ты назвала его Александром). Если бы ты только знала, как я был обрадован и как счастлив сейчас! Помнишь, тебе подбросили деньги? Это я посылал. А ты отнесла их в милицию. Понимаю, что для тебя иначе поступить было немыслимо. Мне не обидно за это. Деньги были нечистые. Сейчас прошу об одном: если в твоем сердце осталось ко мне хоть что-то с тех времен, напиши о себе, о нашем ребенке. Если еще не все для меня потеряно в твоей душе, я постараюсь вернуть прежнюю любовь. Мне сейчас сорок два. Я на родине моих предков. Вырвался из заколдованного круга. У меня хватит сил и воли изменить свою судьбу. И здесь есть люди, готовые помочь мне в этом, хотя я этого не заслуживаю. У меня во всем свете остался единственный человек, которого я считаю (самовольно) родным. Это ты. Отец кончил свои дни печально. Я знаю, что те, на кого он работал почти всю жизнь, выбросили его за борт без жалости. Этого простить нельзя. Не подумай, что плачусь, стараюсь вызвать жалость. Но если лишусь и тебя - плохо мне будет. Очень плохо. Надеюсь все же получить от тебя ответ. Буду считать дни. Напиши, пожалуйста! Очень прошу. Может случиться, что ты никогда больше не захочешь меня видеть. Но ведь у нас есть сын. И никто не отнимет у меня права когда-нибудь заслужить его уважение. Я тебя люблю. Если разрешаешь, обнимаю и целую, как прежде. Жду. Михаил». Молодой человек взял письмо у Марии и ушел. Мария не спала всю ночь. А утром, когда уже рассвело, села писать ответ. Человек, который вручил ей письмо, сказал, что, если она захочет послать что-нибудь автору письма, она может это сделать через областное управление КГБ.Глава 7 ПОДРУЧНЫЙ
Каких только профессий не бывает на белом свете! В каждой большой общественной русской бане есть работники, которых называют нелепым словом «пространщики». В их обязанности входит следить за порядком в пространстве между длинными диванами в предбаннике. Кондрат Степанович Акулов был заурядным пространщиком, но должность свою исполнял с любовью. Он никогда не забывал помочь распарившемуся гражданину развернуть простыню и вытереться, у него постоянно имелся запас березовых веников: для случайных посетителей - уже использованные, для постоянных - свеженькие. А если кто-нибудь, не боясь унести из бани вместе с легким паром и добротную ангину, желал выпить голышом кружку холодного пива, то Кондрат Акулов охотно бегал в буфет. Когда же румяный и стерильно чистый гражданин одевался, Кондрат складывал и упаковывал смененное белье. От гривенников и двугривенных не отказывался, но если получал только «спасибо», тоже не проявлял недовольства. Дело в том, что у Акулова была другая специальность, гораздо серьезнее основной. И, как станет понятно из последующего, для исполнения побочных обязанностей главным удобным моментом в его работе было то обстоятельство, что пространщик имеет свободный и законный доступ к вещам своих клиентов. Несокрушимая вежливость, добронравие и ровный характер создали Кондрату авторитет среди сослуживцев и постоянных клиентов. Короче говоря, при виде Кондрата хотелось незамедлительно воспользоваться готовой на такой случай формулировкой: не место красит человека, а человек место. Тем сильнее было бы изумление сослуживцев и клиентов, узнай они о Кондрате всю подноготную. Начать хотя бы с того, что из трех анкетных признаков - Ф. И. О. - подлинными у него были только Ф. и О. - фамилия и отчество, а И. принадлежало другому. Как и почему это произошло, мы увидим позже, а пока при описании жизненной истории пространщика Акулова будем пользоваться его настоящим именем. До 1941 года Василий Акулов жил в деревне недалеко от Смоленска. У него был брат годом моложе, которого звали Кондратом (деревенские балагуры сочинили для местного употребления пословицу: «Не всякий Кондрат Василию брат», имея в виду неуживчивость и замкнутость старшего из братьев). Мать с отцом умерли весной тридцать первого года, когда Василию было восемнадцать. Брат вскоре женился на двадцатилетней вдове: в доме без хозяйки хоть пропадай. Василий жениться не торопился. Жили втроем, работали в колхозе, держали огород, с которого выгодно приторговывали, благо город под боком. Как только началась война, братьев призвали в армию. В запасном учебном полку они два месяца служили вместе, а потом попали в разные части. Кондрата сразу отправили на передовую, и он погиб в декабре под Москвой. Василий Акулов долго кантовался, как тогда говорили, в тыловых подразделениях, только в сорок третьем попал на фронт и после первого же боя дезертировал. Отсиделся с месяц в лесу, а когда передовая отодвинулась далеко на запад, рискнул пробраться в родную деревню. Но там даже печных труб не осталось: немцы спалили все дотла, а трубы разобрали погорельцы на кирпичи. Тогда Акулов вернулся в лес, выкопал в глухой чащобе большую нору с двумя лазами и стал жить диким зверем. Страх, который когда-то заставил его дезертировать, теперь принуждал не показываться на людях. Поначалу все складывалось неплохо. Подошла осень, он накопал на колхозном поле картошку, насушил грибов, рябины и черники. Думал запастись и мясом, потому что винтовка и патроны у него сохранились, можно было бы настрелять дичины. Но стрелять он боялся: услышат, начнут искать… Решил, что будет ставить силки. Ближе к зиме он насобирал сухого валежника, натолкал в нору. А чтобы было чем развести огонь, сплел из мха трут, отыскал несколько камешков, которые давали хорошую искру, а под кресало приспособил обломок напильника. Капитально подготовился Акулов к зимовке. Одно мучило в первое время - не было соли. Но к этому он скоро привык. А что до блох, которые в великом множестве облюбовали вместе с Акуловым его теплую песчаную нору, то им он был даже рад - все не один. Чтобы не ослепнуть в темноте, он положил себе за правило каждый день хоть раз вылезать на поверхность. Но иногда не угадывал время и высовывался ночью. В общем, худо ли, хорошо ли, но прозимовал Акулов, дождался весны. Голод выгнал его из норы и заставил пойти на разведку - искать, где есть поближе человечье жилье. Весну и лето жил воровством - по ночам делал робкие набеги на близлежащие деревеньки. Ходить и ползать он выучился тише любого зверя, да голод и страх кого хочешь научат. Но что было там воровать? Сами отощали так, что от ветра качались. Потом опять накатила сытная осень, и Акулов опять подготовился к зиме. Шевелилась у него порой тяжкая мысль - пойти отдать себя в руки властей, покаяться. Но темный страх - темнее, чем его блошиная, провонявшая нора, - всегда побеждал. Еще лето, еще осень, еще зима. Наступил 1946 год. Уже объявлена была амнистия, но Акулов ничего про то знать не мог, он не знал даже, что война давно кончилась, и неизвестно, сколько бы лет сидел он под землей и дальше, если бы не случилась беда. Произошло это весной, в мае. Однажды среди дня Акулов выполз наверх размять поясницу. Оборванный, мятый, с лохматыми волосами до плеч, с сивой всклокоченной бородой, закопченный до чугунной черноты, был он дик и отвратителен. Почесываясь, мычал и тихонько повизгивал, словно уж ничего человеческого не осталось в нем. Он и сам-то о себе в мыслях говорил: «Животная…» Разогнулся Акулов, поднял кудлатую голову и глазам своим не поверил. Шагах в десяти от него, прислонившись к березе, стоит баба, щупленькая такая, но лицо милое. В красной юбке, в черной кофте нараспашку, на голове белый платок, через руку держит пузатое лукошко. Нестарая баба, можно сказать, молодая. Какого рожна ей в этой чащобе понадобилось, бог ведает. Небось шишки на самовар собирала, да далече забрела. Стоит и смотрит на него, будто в столбняке. Рот открыла, а закрыть не может. Видать, такой уж страшный он был, коли мог испугать даже бабу, насмотревшуюся за войну… Давно отвык Акулов соображать побыстрее, но тут завертелось у него в голове. Подумал: «Прибить на месте». Винтовка в лазу, только нагнуться да руку протянуть. Достал Акулов винтовку, щелкнул затвором, загнал патрон в патронник, но вспомнил, что стрелять нельзя, разрядил винтовку. Можно и прикладом… Обернулся, а бабы-то уж нет. И вот тут-то его обуял ужас. Расскажет, кого и где повстречала. И что тогда будет? Осталось одно - бежать от этой норы. Куда - он еще не знал, но бежать как можно дальше, пока баба не успела дойти до своей деревни… Акулов держал путь на север. В пятидесяти километрах от Смоленска лежала большая деревня, где жила единственная его родня - тетка Лиза. Если жива еще, примет, он ее уговорит. Ему бы хоть дня два у нее побыть, обстричь волосы на голове, побриться да мурло отмыть. Не может же он в эдаком обличье скрываться от властей, враз арестуют. Да и обносился дальше некуда… Трудно дались Акулову эти километры, но страх не позволял ему отдыхать. Через сутки пришел к теткиной деревне. С опушки выглядел ее избу - цела стоит, только покосилась. Отлежался до темноты, а как увидел, что в избе вздули керосиновую лампу, по-пластунски пополз через огороды. На счастье, тетка оказалась одна - невестка еще не вернулась с пашни. Племянника она, конечно, сразу-то не признала, а когда уразумела, кто перед ней, стала горько плакать. И все вопрошала: да как же, да откуда? Он наврал чего-то пожалостней, она поверила. Невестка, когда пришла да послушала, тоже поверила. В долгом разговоре за малиновым чаем узнал Акулов, что война кончилась, и обрадовался. Прожил он у тетки неделю, а потом забоялся. Надо было уходить: на одном месте долго сидеть ему теперь заказано. Главное же, документ бы правильный достать… С одеждой Акулову повезло - обрядили его в костюм теткиного сына. Тот с войны не пришел, не было по нем и похоронной - может, в плену сгинул, может, пропал без вести. Все пришлось Акулову впору - и пиджак, и брюки, и сапоги, и рубашки. Отмылся, постригли его, побрили сердобольные бабы, дали двести рублей на дорогу, и побрел он кружным путем на железнодорожную маленькую станцию. По дороге созрел у него план, как разжиться документами хоть какими ни на есть, лишь бы были настоящие, с печатью. Хитрости у Акулова не убавилось, даром что три года кротом жил. Вспомнил он, что давным-давно, когда был еще мальчонкой, случались с ним раза два или три припадки, которых никто из домашних понять и объяснить не мог, а доктора тогда в их деревне не было. Налетал ветерок, обдавало холодным потом, и он брякался посредине горницы, закусывая язык. Бабка определила: падучая. Значит, пропал парень, это уж до гробовой доски. А оно случилось так раз-другой и больше не накатывало. Осталось только что-то смутное и тошнотное в памяти, как пьяный сон. И вот осенило Василия Акулова в трудную минуту, придумал верный ход. Пять суток трясся в пустых товарных вагонах, три эшелона сменил, заехал в Брянск. Там разузнал, где поблизости - ну не далее как километров за двести - есть психиатрическая больница, купил билет, сидячее место и поехал. Дальше получилось как по писаному. Не ожидал Акулов, что так легко все выйдет. …Вагон набит до невозможности - как посмотришь, обязательно подумаешь: зря в России говорят, будто вагоны не резиновые. Сидит себе с краю, на кончике скамьи, хмурый дядька, с соседскими ребятишками не заигрывает, толкнут - не огрызается. Что-то свое думает. Поезд начинает притормаживать, к выходу потянулись пассажиры, что попрытче, с чайниками и без чайников. Подъезжают к большой станции, стоянка будет долгая. И вдруг хмурый дядька, на удивление сидящим рядом ребятишкам, как-то чудно выгибается, клацает и скрипит зубами, а потом встает и сразу плахой валится в проходе, чуть не сбивает кого-то. Опять выгибается дугой, на губах пена… - Эй, проводник! Сюда поди, сюда! - несется по вагону крик. А дядьку все корежит и бьет, никак его с полу не поднять. Кто-то из пассажиров сбегал на вокзал, привел медсестру. Та посмотрела с интересом, пульс пощупала и дала команду: - А ну, мужчины! Надо помочь, идемте за носилками. Через десять минут припадочного унесли в вокзал, поставили тяжелые госпитальные носилки на ножках-каблучках в медпункте на пол. Еще через десять минут поезд ушел дальше, а припадочный остался. Куда ему ехать, он и тут никак в себя не придет… Деловитая медсестра целый час сидела на телефоне в кабинете начальника вокзала, но все же дозвонилась в психиатрическую лечебницу, что расположена в районе села Вишенки. Оттуда выслали машину. В лечебнице поставили диагноз, который не вызывал сомнений: эпилепсия. Данные анамнеза - со слов больного - подтверждали это. Страдает припадками с ранней юности. Последний - в поезде - был особенно сильным. Больной сам никогда не обращался к врачам, потому что знает: эпилепсию не лечат. Попадал несколько раз в психиатрические диспансеры, но не по своей воле, а вот так же, во время припадка, добрые люди подбирали и относили… Всякий человек, попадающий в больницу, должен иметь документы, но у этого их не оказалось. Скорее всего они или вытряхнулись из кармана, когда упал в вагоне, или их кто-то у него взял. Зарегистрировали его как гражданина Акулова. Две недели он пробыл в лечебнице и даром хлеб не ел. Уже на второй день почувствовал себя вполне хорошо, как это и бывает часто у эпилептиков, а на третий предложил свою помощь на кухне - носил от колодца воду, колол дрова. Правда, слаб был, часто отдыхал, но работал старательно. Персоналу он понравился. Его не гнали из больницы, но он сам через две недели пришел к главному врачу и попросился на выписку. Каждый покидающий лечебное учреждение подобного рода получает справку о том, что означенный гражданин с такого-то по такое-то число находился на лечении там-то по такому-то поводу. Получил ее и Василий Акулов, который отныне сделался Кондратом и помолодел на один год: он решил принять имя погибшего брата, ибо это было удобно во всех отношениях. Теперь необходимо было получить паспорт. Акулов отправился в Ч. В городском отделении милиции его выслушали сочувственно. История с пропажей документов показалась правдивой и убедительной. А главное, кто же не пожалеет человека, страдающего таким тяжким недугом? Узнав, что Акулов намеревается пожить в Ч., горотдел милиции помог ему устроиться рабочим в горкоммунхоз. А пока все-таки отправили запрос к нему на родину, жил ли там Кондрат Акулов и кто он такой. Через три недели пришла бумага, подтвердившая все сведения, сообщенные Акуловым о его брате. В бумаге говорилось, что Кондрат Акулов был призван в армию и с тех пор о нем ничего не известно. В милиции насторожились, но, решив пока не задавать вопросов, послали в военкомат, там Акулову выдали белый билет. Это успокоило милицию, и он получил новенький паспорт. В сорок девятом году Акулов перебрался в Москву, надоумил его один грамотный человек пойти в дворники. Занятие незавидное и пыльное, зато прописка и жилье. Поселился Акулов в полуподвальной комнате недалеко от Никитских Ворот и зажил тихой жизнью. Десять лет орудовал он метлой и скребком, и дни его текли безмятежно. В собственной душе Акулов копаться не любил, а если у него когда-нибудь и была совесть, то во время дезертирства и обитания в норе она так надежно сгнила, что теперь его совсем не беспокоила. Шестидесятый год был переломным в деловой карьере Акулова. Во-первых, он перешел работать в баню. Во-вторых, тут-то и подцепил его Кока. Досконально разобраться, каким образом слепилась их дружба, Акулов бы не смог. Николай Николаевич (Акулов звал Коку по имени и отчеству, а Кока Акулова просто Кондратом) был в бане постоянным клиентом, мылся регулярно раз в пять дней, всегда с веничком, из парной по два часа не вылезал. И место у него было свое, постоянное, на угловом диване во владениях пространщика Акулова. Началось с разговоров насчет того, что, мол, старость не радость и так далее. Оказалось, что и Кока вроде Кондрата закоренелый холостяк. Однажды Николай Николаевич не погнушался, пожаловал к Кондрату в гости. Выпили, разговорились по душам. Кока в порыве откровенности доверил Кондрату большую тайну: что занимается он противозаконными делами, посредничает между спекулянтами. Видно, тонкий нюх был у Коки, быстро раскусил он, кто таков Акулов, знал, перед кем раскрываться. Ну откровенность за откровенность, и Акулов тоже рассказал о себе. Кондрату льстило доверительное отношение Коки. Еще бы! Николай Николаевич, по всему видать, не чета ему, Кондрату, а теперь вот получается, что они вроде одного поля ягода… Дружба крепла, и как-то Кока попросил Кондрата об услуге: надо было передать маленькую коробочку с серьгами, как сказал Кока, одному человеку, который придет в баню мыться и скажет Кондрату условное словечко. Передать незаметно - например, сунуть в грязное белье, когда Кондрат будет помогать этому человеку собираться домой. Кока отблагодарил Кондрата, хотя тот пробовал отказываться, - дескать, уважу как друга. Сосчитав деньги, Акулов поразился: в пять секунд заработал двухмесячный оклад. Такие поручения Кока давал нечасто, дело приходилось иметь все время с одним и тем же человеком, пожилым и солидным вроде самого Николая Николаевича, похожим по виду на профессора, и потому Кондрат не испытывал особых опасений. А платил ему Николай Николаевич каждый раз по двухмесячной зарплате - не шутка. Иногда посылки шли в обратном направлении - от «профессора» к Николаю Николаевичу. «Профессор» никогда с Кондратом не заговаривал. В самый первый раз сказал три слова кряду - те, что Николай Николаевичвелел Кондрату запомнить накануне; и с тех пор как язык проглотил. 23 ноября 1963 года в час дня «профессор» пришел мыться. По тому, как он взглянул, Акулов понял, что опять будет посылка Николаю Николаевичу. В два часа Акулов уже помогал ему вытираться, а затем собрал грязное белье, простыню, мыльницу, завернул все в большой пергаментный лист и уложил в портфель. И во время этих несложных манипуляций успел взять в руки обычную передачу. Это была маленькая коробочка, в каких продаются перстни или сережки, плотно заклеенная белым медицинским пластырем. В тот же день вскоре после пяти явился Николай Николаевич. Кондрат вложил коробочку в его банный чемодан. А уходя, Николай Николаевич сказал, что навестит Кондрата дома 27-го вечером, попозже. И правда, 27 ноября пришел. Кондрат устроил угощение, но Николай Николаевич от всего отказался. Разговор был недолгий, но весьма серьезный. Кока объявил, что Акулову надо сменить работу. Другие пространщики уже косо смотрят на их отношения. Кока договорился с кем надо, и Кондрат будет работать в табачном киоске. Через неделю Кондрат Акулов водворился в одном из табачных киосков на Садовом кольце. 9 декабря под вечер к нему явился Кока и сказал следующее. Завтра к киоску подойдет человек, который скажет Кондрату: «Вы в Оружейных банях никогда не работали? Мне знакомо ваше лицо». На что Кондрат должен ответить: «Может быть, вы меня видели здесь?» Кондрат передаст ему коробку папирос «Казбек». Михаил Тульев подъехал на такси в пять часов вечера. Сказал Акулову пароль, услышал ответ и попросил продать ему пачку «Казбека». Так он получил новый шифр.Глава 8 КОКА НАПРАШИВАЕТСЯ В ГОСТИ
Юля не усмотрела ничего необыкновенного в том, что Кока вдруг позвонил ей по телефону, хотя раньше никогда этого не делал, да и номера своего Юля ему не давала. Номер, впрочем, можно узнать через справочное. И сам разговор не показался ей неожиданным, если принять в расчет роль Коки в истории с долларами. - Ну как, наш общий знакомый вернулся? - Давно уже. - Все в порядке? - Чудесно! - воскликнула Юля от души. - Мы с Риммой так вам благодарны, Николай Николаевич! Все хотели позвонить или зайти к вам, честное слово, но, знаете как… дела всякие… - Вам, Юленька, я могу простить что угодно. Как поживает Римма? - Спасибо, у нее все хорошо. - А у кого не хорошо? - Не понимаю вас. - Да нет, я шучу. Вы так акцентировали это «у нее», а я такой неисправимый софист-формалист, всегда придираюсь к словам… Видитесь с Риммой? - Очень часто, почти каждый день. - Так вот вдвоем и ходите? - Почему вдвоем? Мы бываем и втроем. - С Аликом? - Нет. - Юля замялась. - Его я давно не встречала. - Что так? - Да ничего особенного и не начиналось. Он стал не тот. - Хуже? - Пожалуй, лучше. Кока расхохотался от удовольствия. - Великолепно! Так было, так будет! Чем мужчина несчастнее и неприютнее, тем милее он женщине. Но что же все-таки случилось с Аликом? - Ничего особенного. Работает, переводами балуется. Просто я думала, что он ко мне относится немного иначе. - Ну, по-моему, вы ему очень нравились… - Не знаю. К тому же он, кажется, трус. - Это уже довод, - с иронической серьезностью заключил Кока. - Но бог с ним, с Аликом. Поговорим лучше о вас. Так кто же с вами ходит третий? Наш знакомый? - Разумеется. - Ну да, понятно, этот… как его зовут? Забыл. - Владимир. - Да, да, Владимир. Вот память стала! Склероз, склероз! И фамилию ведь говорили вы… - Борков, - напомнила Юля. - Владимир Борков. - Так, вы говорите, командировка была удачная? - Чудесная! Благодаря вам, Николай Николаевич. - Смотрите, вот я возьму и поймаю вас на слове - мол, долг платежом красен и тому подобное. Как там Маяковский говорил? Мне бы только любви немножечко да десятка два папирос… Но я бескорыстен, я не курю, и я стар. Но это, кажется, звучит пошловато… Юле почудилось, что Кока и впрямь расстроился, и ей стало жаль его. - Скучно вам, Николай Николаевич? - спросила она с искренним участием. - Я привык. - Кока вздохнул. - Так уж все одно к одному складывается, да еще погода, прости меня, грешного… - Он как бы стряхнул нежданно набежавшую тоску и вернулся к шутливому тону: - Нюни распустил… Не слушайте меня, Юленька, все это гнилые интеллигенты придумали, комплексы всякие… Скажите, милая, вы что сегодня вечером делаете? - Римма меня будет ждать часов в семь. - Где? - У себя дома. - А потом? - Посидим, музыку послушаем. Володя должен прийти. Обещал принести кое-что почитать. - А вы правда хотели бы отблагодарить меня? - Я же вам говорю, мы просто… - Подождите, - перебил Кока, - у вас есть прекрасный случай это доказать. - Например? - Пригласите меня в гости к Римме. Если это удобно. Ей-богу, погибаю с тоски сегодня. - Ой, ну о чем тут говорить! С удовольствием, Николай Николаевич, Римма будет рада. - Ну и отлично. - Так вы запишите ее адрес, - начала было Юля, но тут же поправила себя: - А хотя зачем это? Мы же с вами соседи. Знаете что? Вы мне ровно в шесть позвоните и ждите меня на углу против церкви. Годится? - Замечательное словечко! Конечно, годится! Сейчас четыре. Значит, через два часа… …Римма действительно обрадовалась, увидев Юлю не одну, а с Кокой. Обитала она в небольшой, метров шестнадцати, скромно обставленной комнате. Квартира была двухкомнатная, за стеной жили молодые муж с женой. Едва Юля развернула принесенные Кокой покупки, явился Борков. Он сразу узнал Коку и, здороваясь, сказал, что очень рад встрече, но Кока отлично видел, что это не совсем так. От него не ускользнула мимолетная гримаса - смесь неприятного удивления и досады, - мелькнувшая на лице у молодого человека, когда он, целуя руку Юле, покосился на сидевшего в кресле Коку. Пока Римма и Юля собирали на стол, Кока разговорился с Борковым о его поездке за границу. Кока сидел, а Владимир похаживал вдоль стены, курил сигарету и стряхивал время от времени пепел в бронзовую туфельку, которую держал в руке. - Вам пришлось побывать только в Брюсселе? - спрашивал Кока. - Да, все дела устроили в основном там. - Понравилось? Как провели время? - Как вам сказать? - пожал плечами Борков. - Следовало бы ответить: плохо. Но сформулируем так: плохо, но мало. Коке понравился ответ. - Веселый городишко? - Особенно некогда было веселиться. Программа насыщенная, с утра до ночи переговоры. - Так ни разу и не развеялись? Боркову было явно неудобно, его угнетала эта тема, отвечал он нехотя. - Почему же? В кино ходили, в музеи… - В магазины, конечно, заглядывали? - задавал наводящие вопросы Кока. - Изобилие? - Насчет этого? - Борков дернул себя за галстук, потом за борт пиджака. - Да-а, конечно! - Как публика одета? Борков быстро оглядел Коку и сказал: - Представьте себе, довольно скромно. Все очень хорошо сшито, но ничто не бросается в глаза. Вот вы, пожалуй, на брюссельской улице сошли бы за брюссельца. - Женщины? Борков улыбнулся - впервые с тех пор, как вошел. - Наши лучше, можете поверить. Кока не упустил случая сказать комплимент: - Если вы сравнивали с Риммой, то понятно… Вы меня простите, что я устраиваю вечер вопросов и ответов, но скажите, Владимир… Владимир… - Кока пощелкал пальцами. - Сергеевич, - подсказал Борков. - Но это ни к чему. Просто Володя. - Ну хорошо, Володя… Интересно сравнить цены. - Видите ли, смотря на что. Шерстяные и кожаные вещи стоят довольно дорого. Всякие лавсаны и перлоны очень дешевы. Так называемые предметы роскоши очень дороги. Вот видите мой галстук, например? Кока поманил его поближе, деловито пощупал галстук. В это время в комнату вошла Юля, достала из шкафа тарелки, а уходя, задержалась в дверях, заинтересованная разговором. - Сколько? - Угадайте. - Не берусь. - Десять долларов. - Не может быть! Борков был доволен эффектом. - Цент в цент. Но, правда, это уже считается недешевый галстук. А мне, между прочим, рассказывали, что бывают и по семьдесят, и даже по сто долларов. - Разврат! - воскликнул Кока и засмеялся. - Загнивают империалисты, а? - Да уж, загнивают, - согласился Борков. Юля покачала головой и вышла. - Не собираетесь больше никуда? - Теперь вряд ли удастся. - Почему? Кока спросил это без особого ударения, мимоходом, но если бы Борков знал его лучше, он бы понял, что вопрос задан неспроста. - Нашему институту режим сменили. - Что значит «сменили режим»? - Ну теперь мы пэ я. - Почтовый ящик? - Да. - Зарплата прибавится? - Может быть. - Вы живете один? - Здесь? Один. Родные в Саратове. - У вас телефон есть? - Не личный. В квартире. - Разрешите мне записать? На всякий случай, а? А вы запишите мой. - С удовольствием. Они продиктовали друг другу номера телефонов. Тут Римма и Юля принесли с кухни и поставили на стол тарелки с закусками, кофейник. Римма сказала: - Просим… В одиннадцатом часу Кока стал прощаться. Когда он ушел, Юля сказала Боркову: - Володя, зачем ты дурачил старика? По-моему, галстук у тебя польский, и купил ты его в Столешниковом переулке за рупь тридцать. Борков рассмеялся. - Точно! Но ему так хотелось, чтобы это был десятидолларовый галстук. Пусть потешится.Глава 9 ПРЕДАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Поскольку Николай Николаевич Казин, с легкой руки Алика Ступина фигурирующий в деле под кличкой Кока, начинает играть все более важную роль, нелишне будет заглянуть в его биографию, чтобы понять, откуда он такой взялся. Прямо скажем, что экземпляр редкий, может быть, один на миллион, и любопытно будет проследить его развитие. Честные люди, соприкасаясь с таким экземпляром, испытывают чувство глубокого омерзения, но все же именно оттого, что они честные и порядочные, бессознательно порой ищут ему хоть какое-нибудь оправдание, высказывая классическое «ведь не всегда же он был таким»… И тут уместно предположить: а может, всегда? Но оставим предположения, поместим эту реликтовую бациллу на предметный стол микроскопа и хорошенько разглядим ее. Биография у Коки поистине феерическая. Родился он 31 декабря 1899 года. Позже, когда пробовал сочинять стихи символистского толка, он усматривал в том факте, что рожден на рубеже двух веков, нечто мистическое, считал это предзнаменованием необычайной судьбы. Трудно сказать, сколько тут мистики, но вот факт: мать и отец, подобно Алику Ступину, звали своего сына Кокой и никак иначе. Родители его были из московских городских мещан. Отец служил в банке, жили они обеспеченно. Мать, натура нервная и болезненная, шесть месяцев в году сидела дома, мучаясь мигренями, а шесть проводила в Крыму. Там, в ялтинском частном санатории, она и скончалась летом пятнадцатого года, когда уже была в разгаре мировая война. Отец носил траур до осени, а затем, по протекции устроив сына в петербургское Владимирское юнкерское училище, сошелся без венчания с богатой купчихой. Жестокая по отношению к новичкам юнкерская среда сначала испугала Коку, но он скоро приспособился, найдя покровителей в лице двух старших юнкеров, из унтер-офицеров, которые уже понюхали службы в армии. Он добился их расположения элементарным подкупом, отдавая часть денег, присылаемых отцом. В благодарность за это они били его при случае только сами, не позволяя бить другим. А заслуживал он битья часто, потому что фискалил. И уже в этом проявилось его раннее призвание. Утром 11 ноября 1917 года, когда рота Владимирского юнкерского училища, в которой числился Кока, выступила для захвата телефонной станции, он в момент какого-то замешательства нырнул в проходной двор, бросил там винтовку и был таков. Еще до рассвета он пробрался на квартиру к той знакомой отца, через которую ему пересылались деньги. Она приняла в нем материнское участие, помогла переодеться в гражданское платье, а через неделю Кока уехал в Москву - боялся, что его, как бывшего юнкера, в Петрограде обязательно схватят. Конец ноября застал Коку в отцовской московской квартире, где хозяйничала теперь их служанка. Напуганный революцией, целый месяц просидел Кока дома, не показывая носа на улицу. Отца в то время в Москве не было, купчиха увезла его в какой-то город на Волге, где имела собственные пароходы. Одним прекрасным утром в квартиру, где изнывал от неопределенности юный Кока, ввалился здоровенный мужик в новом тулупе, с угольно-черной курчавой бородкой - посланный отцом служащий купчихи. Он явился спасать Коку. Через неделю они добрались до Сызрани, где Коку ждал отец с купчихой, а оттуда вчетвером, одевшись попроще и потеплее, пустились в дальнее путешествие на восток: отец наметил конечным пунктом Харбин. На железных дорогах в ту пору творился невообразимый хаос, двигались в день по версте, с муками и слезами, а на станции Татарской, что между Омском и нынешним Новосибирском, их совместным мытарствам пришел конец. Ночью на темную станцию, где они в числе множества себе подобных ждали оказии, налетели конные бандиты. Купчиха, когда главный бандит с железнодорожным фонарем в руке вошел и зычно крикнул: «Пра-а-шу пардону!» - сунула Коке тяжелый кожаный мешок с медными планками и застежками, шепнула: «Спрячь за пазуху и тикай отсюда, схоронись где-нибудь, а как эти уберутся - придешь». Бандиты уже принялись весело за работу, а Кока, охватив руками живот, мелким шагом двинулся к выходу, где стоял вожак банды со своим телохранителем. Этот последний остановил его: «Куды-ы!» Но вожак осветил фонарем Кокину физиономию и молвил: «Пропустить шкета! С перепугу…» И Кока выскользнул на улицу… Напрасно отец вне себя матерился сквозь зубы и называл сына гаденышем, напрасно купчиха стонала и заламывала руки - Кока к ним не вернулся. К утру он успел уйти верст за пятнадцать, нанял в большом селе сани и двинул на запад, в Омск. Так свершилось его второе предательство. В Омске, где он прожил месяц на квартире у отлученного от церкви дьяка, Кока приобрел привычку курить и потерял невинность. Совратила его дьякова дочка, числившаяся в девицах, а курить научил сам дьяк. В купчихином мешке оказалось семьсот золотых монет, все десятки. Проявив рассудительность не по летам, Кока заказал себе у портнихи, знакомой дьяка, специальную стеганую душегрейку на вате, а потом, таясь от хозяев, собственноручно зашил монеты малыми порциями в ватные подушечки этой ловко придуманной им одежки. Диковинно тяжелая получилась душегрейка, но своя ноша не в тягость, и он как надел ее, так уж больше не снимал, пока не добрался до Казани. Здесь судьба свела его с бывшим студентом Петроградского института путей сообщения, которого звали Герман, который был на три года старше Коки и так же, как и он, милостью гражданской войны оказался совершенно свободным и самостоятельным гражданином. Познакомились они на базаре. Кока желал купить револьвер, а Герман желал его продать. Они друг другу сразу понравились и с базара ушли вместе. С момента этой купли-продажи их можно считать друзьями по оружию. Герман оказался горячим приверженцем анархических идей Бакунина, а практическим толкователем их считал батьку Махно. У Коки в голове царила идейная каша, он не разбирался в политике и был вроде того кота, который ходит сам по себе. Но пламенный анархист Герман в две ночи распропагандировал его, и Кока, обретя, таким образом, стройное мировоззрение, последовал за Германом на юг, к Азовскому морю, где гуляла махновская вольница. Самого батьку они не увидели, но вождь махновского отряда, на который им посчастливилось нарваться, тоже оказался вполне красивой и зажигательной личностью. Герман и Кока поцеловали знамя, после чего были приняты под спасительную сень его. Им приказали добыть себе коней, но, поскольку Кока все равно в седле держаться не умел (хотя и учился в юнкерском, где верховая езда была специальным предметом), лошадь ему была без надобности. Его зачислили в помощники к писарю, который ездил вместе со своей канцелярией в цыганской кибитке, а Герман выменял коня у старого махновца за карманные серебряные часы с двумя Кокиными казанскими золотыми десятками в придачу. Недолго послужил Кока махновскому знамени. Веские причины заставили его и на сей раз прибегнуть к измене - теперь уже двойной, ибо он предавал одновременно знамя и друга Германа, которому в Казани клялся на крови. Братья-анархисты, когда настали жаркие летние дни, дивились, глядя на Коку: что за малахольный, мол, писаренок? Тут с голого пот в три ручья, а он парится в ватной жилетке. А вскоре после того, как обнаружил Кока на себе угрожающее внимание братьев, их отряд, дотоле промышлявший идиллическим грабежом мирных украинцев, русских и евреев, наскочил на красную конницу и еле унес ноги. Кока сообразил, что ему будет во всех отношениях лучше, если он прекратит бороться во имя матери порядка - анархии, и темной ночкой задал стрекача. Заметим в скобках, что Герману, на свою беду, еще придется повстречать Коку. …Как ветер сметает оторвавшиеся от дерева листья в овраг, так всех сорвавшихся с насиженного места неприкаянных сметало тогда в Одессу-маму. Коку, хотя и тяжел он был в золотой душегрейке, тоже подхватило этим ветром и вынесло прямо на Приморский бульвар. Он поселился в меблированных комнатах в доме, принадлежавшем хозяину с немецкой фамилией, но похожему больше на турка. На второй или на третий день по приезде воспоминания о дьяковой дочке распалили молодое воображение Коки, он обратился за советом к хозяину, и тот познакомил его с особой, носившей французскую фамилию, но изъяснявшейся почему-то на чистейшем вологодском диалекте. Если прибавить к этому, что зрелая особа, залучив его к себе в дурно пахнущий терем на окраине, в первый же час спела под гитару подряд три романса об африканских страстях, то не покажется удивительным ералаш, возникший в голове у Коки. Потом ему под видом коньяка был поднесен закрашенный чаем свекольный самогон, и не успел Кока додумать мысль о подмене, как был уже одурманен и лежал в постели без штанов и, главное, без душегрейки. Растолкали его среди ночи не женские руки. И голос, приказавший в темноте убираться подальше, тоже не принадлежал женщине. Душегрейку ему вернули, но она была теперь первозданно легкой, такой, как ее сшила портниха в Омске. На рассвете Кока прибрел к дому турка, разбудил его и потребовал объяснений. Но тот взбеленился и спросил у Коки документы, которых, разумеется, не было. И хозяин вышвырнул его на улицу. Кока плакал жгучими злыми слезами, испытав на своей шкуре, что такое обман и предательство. Но это научило его лишь одному: предавай всегда первый. Прокляв Одессу, Кока решил пробираться на север, в Москву. Но попал туда только через год. От Одессы до Киева и от Киева до Харькова не было села и города, куда не заглянул бы Кока на своем тернистом пути в белокаменную столицу. Жил он все это время спекуляцией. Тогда-то и зародилась в нем жилка, определившая на многие последующие годы его способ существования. Период с двадцатого по тридцатый год не поддается более или менее подробному описанию, потому что был слишком калейдоскопичен. Достаточно перечислить должности и профессии, в которых пробовал свои силы возмужавший Кока, чтобы оценить многогранность его дарования. Он был рассыльным в книжном издательстве; ассистентом оператора на киностудии; сочинял и дважды напечатал стихи и однажды в кафе поэтов выпросил у Маяковского книжку с автографом (которой не упускал случая похвастаться, будучи стариком); во время нэпа служил секретарем какого-то мудреного товарищества на паях; потом давал уроки музыки нэпманшам, хотя сам умел играть по памяти только вальс «Амурские волны», а нот не знал и слуха не имел; выступал в качестве конферансье на эстраде и работал страховым агентом; был оценщиком в комиссионном магазине и театральным кассиром. Профессии менялись, но оставался неизменным общий фон - спекуляция на черном рынке. В начале тридцатых годов Кока понял, что надо обзаводиться прочным служебным положением, и поступил в строительный трест юрисконсультом, предварительно заручившись хорошо подделанной справкой, что окончил когда-то три курса юридического факультета. Специалистов даже с незаконченным высшим образованием тогда крайне не хватало, и в зубы коню не смотрели. А в знании законов и в расторопности Коке отказать было нельзя. К тому времени он поселился в комнате на Большой Полянке и зажил степенной холостой жизнью. До 1938 года все протекало прекрасно. Но вот в наркомат, где работал юрисконсультом Кока, пришел - кто бы мог подумать! - тот самый Герман, анархист и махновец. Правда, с тех пор как изменчивый Кока разорвал в приазовских степях их добровольный союз, скрепленный кровью в Казани, Герман прошел очень длинный путь и давно забыл свои полудетские увлечения. Разочаровавшись в анархизме, он покинул махновцев, встретил в скитаниях умных людей и пошел за ними твердо и сознательно. Эти люди оказались большевиками. Герман командовал эскадроном в буденновской коннице, потом его назначили командиром полка. Он был трижды изрублен шашкой в кавалерийских атаках, несколько раз ранен пулями и осколками. В двадцатом году его приняли в партию. Разумеется, он не скрывал в анкетах свои анархические увлечения. Герман не узнал сначала Коку, но тот напомнил, и друзья обнялись по-мужски, крест-накрест. Кока через неделю написал заявление в партком наркомата о махновском прошлом Германа. Германа арестовали, а Кока заслужил, таким образом, репутацию бдительного работника. Нет, Кока не считал свой донос бесчестным поступком. Он был уверен, что всего-навсего упредил события, так как, по его глубокому убеждению, иначе Герман написал бы донос на него. Ничего не поделаешь: каждый судит о других по самому себе, меряет всех своей собственной меркой. Итак, которое же по счету предательство совершил Кока? Рано подводить итог, ибо главное предательство впереди. Промежуток между 1938 и 1959 годами пуст по части измен. Надо лишь отметить, что в этот период Кока сильно разбогател на подпольных махинациях с иконами, золотыми монетами царской чеканки, брильянтами и, наконец, валютой. 1959 год достойно украсил биографию Коки. Летом он познакомился на почве общего интереса к драгоценным камням с респектабельнейшим атташе по вопросам культуры посольства одного из западноевропейских государств. С тем самым, который теперь занесен советской контрразведкой в дело под кличкой Антиквар. Сей Антиквар недолго обхаживал Коку. Они оба были стреляные воробьи, им не требовалось прощупывать друг друга с помощью пробных шаров. Антиквар готов был платить, а от Коки ожидалось не столь уж много. Однако мы погрешили бы против истины, если бы стали утверждать, что Кока согласился исполнять невинные на первый взгляд поручения Антиквара из одной только неуемной жажды денег. У него и своих к тому времени вполне хватало. Вульгарно купить его можно было в тридцатом году, когда он смотрел на мир голодными глазами, но не в пятьдесят девятом. Нет, Кока действовал по убеждению, продавался, так сказать, по идейным соображениям. И к тому же он, видимо, соскучился - давно никого не предавал. Может быть, какую-то роль сыграла здесь также пощечина, полученная Кокой пятью годами раньше. Герман вышел из заключения реабилитированный, разыскал Коку и хотел его убить. Но он был стар не по летам и очень слаб, с Кокой ему бы не справиться, и он удовлетворился одной пощечиной. И имел еще наглость сказать на прощание, что если Кока рассчитывал задавить его своим доносом, погасить веру во все почитаемое Германом как святыня - веру в человека, в народ и в партию, - то он, Кока, ошибся. В общем, какие мотивы были основными, а какие побочными - неважно. Важно то, что Кока прошел иудиной тропой до конца. И причитающиеся ему сребреники получал исправно.Глава 10 НА СЛУЖБЕ У АНТИКВАРА
Деятельность Коки на службе у Антиквара поначалу носила сугубо прозаический характер. Хронометраж одного дня даст об этой деятельности достаточное представление. Однажды Антиквар попросил Коку вот о чем. Надо несколько раз съездить в пригород Москвы, где расположен большой номерной завод, и просто послушать, о чем говорят рабочие. На территорию завода Коку, конечно, не пустят, но недалеко от главной проходной есть большая закусочная, у завода имеется также отдел кадров и бюро пропусков, куда не возбраняется заходить кому угодно. Что же Кока должен там делать? Ровным счетом ничего. Только слушать, запоминать, а вернувшись домой, составить подробную записку обо всем услышанном. Кока отправился на завод рано утром и начал с бюро пропусков. В довольно большом помещении бюро много народу. Возле окошка стояла очередь, у застекленной телефонной будки - тоже. Стены подпирали маявшиеся в ожидании мужчины и женщин, вероятно командированные. Кока со скучающим видом встал возле будки. - Алло, алло! Мне главного технолога… Девушка!… Мне начальника вашего… Я ж издалека, второй день торчу здесь без толку… За блоками… Да, с объекта номер пять… А когда он будет?… Ну все равно, закажите хоть пропуск… Взъерошенный молодой человек вышел из будки, а его место занял представительный дядя: - Три-семнадцать, пожалуйста… Товарищ Ермолин? Это опять я, Прохоров. Что же получается, товарищ Ермолин? Мы просили головки бэ-ка-эр-восемь, а вы нам выписали пэ-ка-эр-восемь. Что? Нет, вы напутали… Но это же минутное дело… Да? Ну хорошо, спасибо… Что?… Да уж постараемся. Затем говорил военный: - Четыре-десять… Алло, Леонид Петрович вернулся? Соедините меня с ним, пожалуйста… Леонид Петрович? Это майор Сухинин. Да, да… Пусковые прошли успешно… Я по другому поводу… Да, закажите, пожалуйста… Зовут Сергей Константинович… Спасибо. Следующий - высокий подтянутый молодой человек с усиками: - Главного инженера… Алло, Галина Алексеевна? Здравствуйте, это я, Гончаров… Главный у себя? Да, соедините… Дмитрий Михайлович, здравствуйте, это Гончаров с Волги, из ящика двадцать девяносто три. У нас по тысяча первому изделию есть предложение… Да, прислали меня обсудить. Хорошо. Есть! У будки стоять дольше показалось Коке неудобным, к тому же его внимание привлекла встреча друзей. Два веселых парня столкнулись в дверях, начали на радостях хлопать друг друга по плечу, прямо на самом проходе, но их попросили отойти в сторону. Кока подвинулся к ним поближе. - Ну здорово! - Здорово! - Ты откуда? - С десятой площадки. А ты? - С шестой. - Жарковато? - Соль добываем со спины. - Давай меняться. - Ты что, замерз? - В сентябре при минусе живем. Замерзнешь… - Пусковые были? - Порядок. Точность - единичка. - Везет вам! А у нас отложили. - Что такое? - Да ерунда, в общем-то. Утечка кислорода… Тут мимо них прошел от окошка к дверям пожилой человек. Он заметил не останавливаясь: - Эй, молодцы, растрещались как сороки… Оба взглянули на него, потом друг на друга, и один сказал: - Ладно, Шурка. Ты уже с пропуском? В третий цех? Я тоже туда. Дождешься меня? - О чем речь! И они разошлись. А Кока направился в отдел кадров. Выяснив там, каких специальностей рабочие требуются заводу, он пошел в кафе-закусочную. Был день получки, и, закончив смену, молодые парни компаниями шумно рассаживались в буфете, выпивали и, прежде чем разойтись, немного говорили по душам. Например, Кока запомнил, а придя к себе, записал такой коротенький разговор. - Нет, Васыль, мне обидно. В прошлом году на монтаже «Сибири» почти в полтора раза больше платили. - Так сейчас же упростили монтаж? - На два узла. - Хотя бы на два. Но чего тебе горевать? Ее скоро совсем с производства снимут. - Иди ты! - Честно. - А что будет? - Не знаю. Говорят, для самонаводящихся. - Хорошо бы… Казалось бы, ну чего тут важного? Но Кока понимал, что эти отрывочные, разрозненные сведения, попав на стол опытных специалистов и аналитиков, могут приобрести огромную ценность. Ведь умеют же ученые по одной-единственной косточке воссоздать весь скелет какого-нибудь птеродактиля или динозавра. Во всяком случае, Антиквар оставался неизменно доволен составляемыми Кокой записками. Пока их взаимоотношения были исключительно торговыми, Антиквар не боялся свободно встречаться с Кокой. Но затем он велел Коке подыскать кого-нибудь понадежнее и поудобнее для связи. Таким образом на арене появился молчаливый пространщик Кондрат Акулов. Удобнее трудно придумать. Самое последнее задание Антиквара заключалось в том, что Кока должен разыскать в Москве одного человека и навести о нем как можно более подробные справки. Фамилия - Борков, зовут - Владимир Сергеевич. Антиквар не дал Коке адреса Боркова, хотя и знал, где Борков живет. Так полагалось для контроля. Когда Кока по телефону сказал Юле, что забыл имя и фамилию знакомого Риммы, для которого он доставал доллары, - это был тот редкий случай, когда Кока говорил правду. Получив от Антиквара записку и прочитав ее, он начал мучительно вспоминать, когда и где мог слышать эту или очень похожую фамилию. В последний год у него действительно, кажется, развился склероз, он стал забывать даже имена своих самых старинных клиентов. Он только знал, что фамилия «Борков» напоминает ему о чем-то недавнем. Услыхав от Юли, что друга Риммы зовут Владимир Борков, Кока сначала испытал радость удачи, а затем глубоко задумался. Что же это значит? Каким образом и в какой связи стало известно его шефу имя человека, которому Кока полтора месяца назад продал двести долларов? Неужели еще возможны на свете такие невероятные совпадения? И случайность ли это? Кока был тертый калач. В любых делах, с любым партнером он всегда строго придерживался одного правила, которое давало ему преимущество и которое он сам сформулировал так: если умеешь считать до десяти, останавливайся на девятке. Твердо усвоив закон, что в нынешний век сильнее тот, кто лучше информирован, он старался быть осведомленнее своих партнеров, но не показывал им этого. И в данном случае он не собирался делать исключения. Не по-хозяйски было бы с его стороны выкладывать Антиквару сразу все. Поэтому Кока в своем сообщении лаконично доложил, что Борков им разыскан и что он постепенно начнет собирать о нем сведения. Однако, прибавил Кока в конце, это весьма непросто и не скоро делается. Антиквар в ответном шифрованном письме, переданном, как всегда, через Кондрата Акулова, уведомлял, что они должны в ближайшее время встретиться в подходящих условиях с глазу на глаз, чтобы обсудить серьезный вопрос, не терпящий отлагательства.Глава 11 ГРИМ ДЛЯ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ
Этот обширный лесной край прорезала единственная железная дорога, прямая как стрела. Она была похожа сверху на голый ствол с одинокой ветвью, потому что от дороги отходила единственная ветка, дугообразная, терявшаяся где-то в густых лесных дебрях. На конце этой ветки, если смотреть с большой высоты, висело нечто буро-ржавое, напоминавшее прошлогоднюю сосновую шишку. А если у кого была охота прошагать по ветке между двумя рыжими рельсами по источенным, полусгнившим шпалам до самого ее окончания, тот мог увидеть несколько неожиданную картину: железнодорожный путь упирался в забор из колючей проволоки, со сторожевыми вышками на углах, которые издали казались скворечниками, а пространство, огороженное забором, было застроено длинными деревянными бараками. Тлен и запустение царили вокруг. Здесь когда-то содержались военнопленные, бывшие офицеры гитлеровской армии, в подавляющем большинстве из войск СС. Они работали на лесозаготовках и могли считать, что им повезло. Отнюдь не все, что было, для нас поросло быльем, однако пленные давным-давно отпущены по домам, и лагерь, оставленный за ненадобностью на произвол ветра и дождя, заполонили буйные кусты и травы. Бараки осели и покосились, крыши сделались как решето. И вдруг в один прекрасный день к лагерю подъехала мотодрезина, к которой была прицеплена платформа, нагруженная строительными материалами. Из вагончика спрыгнули на полотно люди в спецовках. Их было немного, всего пять человек. Обследовав лагерь, они принялись за работу. Сначала напилили в лесу бревен, сделали подпорки для бараков. Затем приступили к починке крыш - вместо безнадежно проржавевших листов настилали новые. И в довершение покрасили крыши зеленой краской. После этого подправили сторожевые вышки и приступили к очистке всей территории от густых зарослей. В ход пошли пилы, косы и топоры. Пять дней трудилась бригада, взглянула на дело рук своих и осталась довольна. Случись тут посторонний наблюдатель, он был бы немало озадачен. Что за чертовщина? Кажется, эти люди намеревались реставрировать заброшенный лагерь. Но тогда почему же они сделали все на скорую руку, тяп-ляп? Подлатали крыши, подперли готовые рассыпаться бараки, расчистили землю - и убрались. Нет, всерьез так ничего не восстанавливают. Недоумение возросло бы еще больше, если бы после этого наблюдатель обнаружил, что на заброшенной железнодорожной ветке появился старенький маневровый паровоз и с ним пять изношенных пульмановских вагонов. А через несколько дней на этом паровозе был доставлен к лагерю человек, привезший с собой четыре небольших металлических ящика. Он вырыл между бараками четыре неглубокие ямки, положил в них эти ящики и присыпал их сверху слоем земли. И уехал. Если же нашему наблюдателю пришлось повоевать во время Великой Отечественной войны, то у него в конце концов, несомненно, возникли бы определенные ассоциации. Он подумал бы о широко распространенном на войне способе, при помощи которого сбивали с толку авиаразведку противника. Например, делалось так. На огромной поляне расположились огневые позиции дальнобойной артиллерии резерва главного командования. Подъезды и подходы к батарее тщательно замаскированы, землянки личного состава укрыты в лесу, над каждым орудием растянута громадная маскировочная сеть. В недалеком соседстве, тоже на поляне, стоят такие же по размерам орудия, но деревянные. Они тоже замаскированы, но маскировка носит следы намеренной небрежности. Фашистский самолет-разведчик - его звали «рамой» или «костылем» - прилетит, покружит над плохо замаскированной деревянной батареей, сообщит по радио своим артиллеристам данные для стрельбы. Через десять минут на ложную позицию обрушивается беглый огонь крупнокалиберных стволов. Пилот «рамы» смотрит с неба, засекает попадания и радуется: через полчаса можно считать батарею несуществующей. К ночи, глядишь, нисколько не пострадавшая настоящая батарея подает свой смертоносный голос. А специально выделенная команда делает новые орудия - деревянные, конечно. Потом выбирает новую полянку и устанавливает на ней свои гигантские игрушки. И опять прилетает «рама»… Труд, затраченный на создание ложных артиллерийских позиций и аэродромов, даже если это и казалось иному ленивому солдату пустой блажью начальства, всегда оправдывал себя сторицей. То, что было сделано с заброшенным лагерем военнопленных, напоминало старый военный прием. Дряхлые бараки были, если можно так выразиться, омоложены посредством косметического грима. Был имитирован ряд производственных зданий с характерными признаками объекта оборонного значения. Подновлена железнодорожная ветка. А замаскированные радиоэлектронные установки и специальные закладки будут, когда это нужно, издавать сигналы, излучать волны, которые обязательно засекут и зафиксируют те, кому этого очень уж хочется. Одним словом, все было так, как бывает в действительности, с той лишь разницей, что никакого развернутого производства здесь нет и не предвидится. Лагерь военнопленных располагался именно в том квадрате, в котором был помечен стратегически важный объект, указанный в последней радиограмме, переданной Павлом в разведцентр от имени Надежды. Загримированный вскоре после отправки этой радиограммы по приказу полковника Маркова, лагерь представлял теперь собой вместе с железнодорожной веткой вполне подходящий объект для разведки. Можно было полагать, что иностранный разведцентр не оставит без внимания столь важное сообщение Надежды и перепроверит его. Какими бы точными и всепроникающими ни представлялись небесные автоматические шпионы, оснащенные самыми последними достижениями науки и техники, все-таки живой человеческий глаз во многих случаях бывает вернее и нужнее. Вот почему Антиквар, вызвав Коку на свидание, убедительно просил его совершить дальнюю поездку и снабдил фотоаппаратом, смонтированным в роговых очках. Кока не ожидал подобного поручения, он думал, что речь пойдет о дальнейшем изучении Владимира Боркова и, между прочим, так и сказал шефу. Но тот ответил, что Борковым они займутся - и очень серьезно - несколько позже, а сейчас необходимо ехать. Инструкции были короткие и несложные. Антиквар нарисовал схему железной дороги, пометил на ней две станции, между которыми от дороги отходит влево ветка. Кока должен выбрать такой поезд, чтобы он следовал по этому участку в светлое время суток, - вообще-то можно сфотографировать и ночью, но днем надежнее. Заранее предвиделись затруднения: на помеченных станциях, вероятно, дальние поезда не задерживаются, пролетают их с ходу. Через стекло фотографировать нельзя, даже если окна в поезде будут незамерзшие. Следовательно, придется Коке проявить изобретательность, придумать что-либо, исходя из обстановки. Антиквар без особого труда научил Коку пользоваться фотоаппаратом. Чтобы сделать снимок, надо нажать пальцем медную головку винтика, соединяющего правую дужку с оправой стекол. Вторичный нажим переводит пленку на следующий кадр. Всего в пленке пятьдесят кадров, но Кока, наверное, успеет сделать всего два-три… 15 декабря Кока выехал на восток. Поезд был выбран удачный: он проходил нужный участок около одиннадцати часов утра. Как и предвидел шеф, Кока испытал при съемке неудобство. Окна в мягком вагоне были не просто замерзшие - их стекла покрылись пухлой изморозью толщиной, пожалуй, в палец. Двадцать минут простоял Кока в ледяном тамбуре, чтобы не пропустить ветку, отходящую влево от дороги. Каждые пятнадцать-двадцать секунд открывал дверь, очень боясь при этом, что вагон качнется и его вышвырнет. Мимо все время шастали туда-сюда пассажиры в ресторан. Один, увидев, что Кока открывает дверь, поинтересовался: «Вы что, папаша, прыгать собираетесь? Не советую. Холодно там». Кока в сердцах проклинал шефа, думал о том, что тот совершенно не знает жизни и, посылая его в эту поездку, не учитывал реальных возможностей. Ну разве может здравомыслящий человек рассчитывать, что из поезда, несущегося со скоростью восемьдесят километров в час по бескрайней лесной глуши, покрытой белым саваном снега, удастся заметить ничем не обозначенную ветку? И кто должен заметить? Человек, впервые едущий по этой дороге. И не просто заметить, а еще и успеть сфотографировать. И стоя не на твердой земле, а в тамбуре немилосердно раскачивающегося вагона при открытой двери, под обжигающим ветром. Но Кока всегда был везучим. Он вовремя открыл дверь, увидел ветку и на ней вдали паровоз и сделал три снимка. В Москву он вернулся 22 декабря с выполненным заданием и жестоким насморком: стояние в тамбуре не обошлось даром.Глава 12 ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО
«Здравствуй, Михаил! Твое письмо и обрадовало меня, и огорчило. Что с тобой произошло? Когда ты так неожиданно исчез, я подумала: значит, попал в какую-то нехорошую историю, связался с преступниками. И не хотелось в это верить, а другого объяснения у меня не было. Да и все у нас решили так же, почти все. Зла я на тебя не держала, но обидно было до слез, что ты меня обманывал. Ни одной женщине не пожелаю пройти через то, через что прошла я. До самого Сашкиного рождения ходила как побитая собачонка, глаз от земли не поднимала. Потом понемногу стала оживать, а тут ты о себе напомнил. Нет, не подумай, я тебя не забывала никогда, но эта посылка денег меня покоробила. Грубо все вышло, нечисто, не по-людски. Деньги твой посланец подбросил в коляску. Я знала, что деньги от тебя. Больше не от кого было. И после этого окончательно уверилась, что ты связался с нечестной компанией. Потому что честные люди так не поступают. Ну ладно, тут дело ясное. У тебя своя голова на плечах, ты давно уже не мальчик и можешь распоряжаться своей судьбой как считаешь лучше. Не мне тебя учить. Самое обидное в другом. Зачем ты меня обманывал, лгал по мелочам? Вот ты говорил, будто живешь в плохоньком домишке на окраине, это была неправда. А история с моей поездкой в Москву? Я ведь тогда была глупая и наивная, верила тебе целиком. У меня мелькнула догадка, что не все так просто, как ты объяснил, но тебе я доверялась больше, чем себе. А теперь ты просишь извинения за эту поездку. Значит, тоже врал? Вот что обидно. Меня всегда учили: говори только правду, даже самую горькую. Ты поступал иначе. Не считай это упреками, но высказать тебе все я должна. И покончим с этим. Расскажу о Сашке. Можешь радоваться: он очень похож на тебя, теперь это уже видно. И нос, и глаза, и лоб совершенно твои. Моего, конечно, нет ничего. Очень живой и веселый мальчик. Растет нормально, удивительно спокойный, очень редко плачет и особенно не капризничает. Соседки даже удивлялись. Крепкий, здоровый, ничем пока не болел. В общем, все отлично, только вот не знаю, правильно ли я ему отчество дала - Михайлович. Фамилия-то у него настоящая моя, а вправду ли ты Михаил? Может, тебя зовут по-другому? Но ничего, переживем. Раз записала Михайловичем - пусть так и будет. Ты для меня останешься тем Михаилом, которого я знала. Думаю, тебе будет интересно послушать, как реагировали на твое исчезновение в парке. Начальник долго не хотел верить: мол, как же так, образцовый работник и прочее. Слива, чью машину ты взял (помнишь его?), горячо тебя благодарил (в кавычках, конечно). Его разбитую машину пришлось сдавать в ремонт. Но вот, кажется, я написала все, что могло интересовать тебя. Теперь поговорим о том, что не дает покоя мне. Твое письмо пришло не по почте, его принес нарочный. Он сказал: если я пожелаю ответить, то должна передать свой ответ в областное управление КГБ. Из этого нетрудно сделать и заключение. Не такая уж я дура, чтобы не сообразить. Ты арестован, но за что? Что же такое должен натворить человек, чтобы его забрали в КГБ? Неужели ты предатель? Или, боже упаси, шпион? Этоне укладывается у меня в голове. Откровенно скажу тебе: готова была простить и уже простила авансом, если бы ты оказался замешан в какую-то уголовщину. Я уверена была, что ты по своей доброй воле не можешь сделаться вором или бандитом, а если сделался, то виноваты тут какие-то твои темные дружки, старые связи, которые ты не мог разорвать по каким-то причинам. Нет, ты не можешь быть предателем и тем более шпионом. Но тон твоего письма меня смущает, что-то очень плохое и неладное произошло. Но что? Такие вопросы, догадываюсь, не имею права задавать. Разве что самой себе. Кто же ты все-таки есть на самом деле? То вдруг мне кажется, что ты почему-то не наш, а вроде бы иностранец, так, во всяком случае, вытекало из твоего письма. Потом с отцом какая-то непонятная история. Нет, я совсем запуталась и ничего не понимаю. К сожалению, твое письмо не у меня, и по этой причине я не могу вновь к нему вернуться и уже в более спокойной обстановке еще раз все взвесить. Понятно одно: ты был не тот, за кого выдавал себя. Неужели ты и со мной просто так, по-человечески, был тоже двуличным? И все твои слова, которые говорились только для меня, были игрой? Это было бы слишком подло. Не хочу скрывать. Я отношусь к тебе теперь уже не так, как прежде, но ты мне не чужой и никогда чужим не сделаешься. Я хочу с тобой встретиться. Возможно ли это? Может быть, мне попросить в КГБ о свидании? Если тебе разрешат написать еще раз, объясни, как мне поступить. Ведь если позволили послать это письмо, то, наверное, отношение к тебе не такое уж плохое. Разузнай все и постарайся ответить. Буду ждать с нетерпением. Я сейчас в таком состоянии, сама себя не узнаю. Даже Сашка чувствует, как я мечусь. Но постараюсь найти равновесие. Что еще написать? Сначала не хотела, но потом подумала, что ты должен это знать, хотя тебе будет неприятно. Дом, в котором ты жил, сгорел. Дотла. И в нем погиб твой хозяин, старик (кажется, его фамилия Дембович). Я несколько раз ходила на пожарище, но потом там на калитку повесили замок. Участок так и пустует с тех пор. Посылаю тебе фотокарточку Саши. Здесь ему ровно год. Передай от меня большое спасибо тем, кто разрешил нашу переписку. Живу я нормально. Лишнего не имею, а все необходимое есть. Не жалуюсь. Желаю тебе самого лучшего. Главное - будь хоть теперь честным перед людьми и перед самим собой. Мария».Глава 13 БРЮССЕЛЬСКИЙ ШЛЕЙФ
Кока и Антиквар встретились на Москве-реке. Первым прибыл на лед Кока. Он был похож на заправского, видавшего виды рыбака и ничем, кроме большой и совершенно новой заячьей шапки, заметной издалека даже на туманной, бело-сизой полосе заснеженной реки, не отличался от остальных любителей подледного лова, ревниво сидевших каждый над своей лункой. Кока выбрал удобное место - под довольно высоким берегом, с которого свисала надо льдом старая ива, - наверное, ее узкие листья летом купались в воде. Пробуравив коловоротом две лунки, он наладил мормышки и устроился поудобнее на складном своем парусиновом стульчике. Все это мероприятие не доставляло ему удовольствия, он вообще никогда не ловил рыбу ни на удочку, ни на блесну, а подледный лов был ему тем более чужд, и потому весь камуфляж, предложенный Антикваром, представлялся Коке излишним и неудобным. Кока ради этой встречи должен был покинуть теплую постель, уютную комнату и сейчас торчать здесь, на этом проклятом морозе. Антиквар явился раньше, чем ожидал Кока. Он остановился невдалеке, пробил себе лунку, сел на такой же, как у Николая Николаевича, парусиновый стульчик и опустил в черную воду мормышку. Сидели, смотрели в лунки, издалека интересовались успехом соседей, которым попадались окуньки величиной с мизинец. Прежде чем подойти к Коке, Антиквар по пути к нему останавливался у нескольких рыбаков и подолгу задерживался около них, интересуясь ходом клева. И наконец подошел к Коке. А Кока к тому времени окончательно замерз и был зол. - Здравствуйте и не сердитесь, - сказал Антиквар. - Что вам удалось узнать? - Работает в научно-исследовательском институте. По вывеске институт принадлежит Союзглавхимкомплекту, но не так давно его сделали номерным, и вывеска - просто ширма, - отвечал Кока таким тоном, словно тема разговора была ему до смерти скучна. - Как вы сказали? Союз… хим… Что это обозначает? - Это главк. Главное управление Совета народного хозяйства. Занимается вопросами комплектования оборудованием предприятий химической промышленности. Лицо у Антиквара стало сосредоточенным, как будто он разгадывал замысловатый ребус. - Мне трудно запомнить, - сказал он. - Вы потом напишите это на бумаге. Кока вяло улыбнулся и потер озябшие руки. - По-моему, Союзкомплект вам будет неинтересен. Я же говорю: это лишь вывеска. Институт занимается другими делами. - Какими? Кока пожал плечами. - А вам не кажется наивным ваш вопрос? Если бы я это знал, зачем тогда нужен этот парень? - Но, может быть, вам известно в общих чертах? - Увы… - Хорошо. Что вы еще выяснили? - Он холост. Ухаживает за красивой молодой женщиной. Живет один. Имею его телефон. - Выпивает? - Не могу пока сказать. Не знаю. - Член партии? - Тоже не знаю. - Надо все это выяснить. И еще один важный момент. Проверьте его по местожительству. Поговорите с соседями. Только осторожно. - Хорошо, постараюсь… Кока в душе посмеивался над своим собеседником. Он знал о Владимире Боркове пока не так уж много, но, во всяком случае, гораздо больше, чем рассказывал Антиквару. Он по-прежнему придерживался правила: если умеешь считать до десяти - останавливайся на девятке. И чувствовал себя перед лицом партнера уверенно, как вооруженный до зубов и закованный в броню конквистадор перед обнаженным индейцем, у которого в руке жалкое тростниковое копье. Уж что-что, а сопоставлять факты и делать из этого выводы Кока умел. Сейчас у него в руках были два факта. Первый: он, Кока, продал Владимиру Боркову перед поездкой последнего в Брюссель двести долларов. Второй: по возвращении из Брюсселя им заинтересовалась иностранная разведка. Поначалу Кока задал себе вопрос: случайно ли это совпадение? Теперь, по тщательном рассмотрении, он категорически отвечал: нет, не случайно, а вполне закономерно. Но сразу вставал другой вопрос: на чем основана эта закономерность? Однако тут для Коки все было предельно просто: на свойствах человеческой натуры. В данном случае у Коки не вызывала сомнений элементарная схема: Борков, отправляясь за границу в служебную командировку, купил доллары. В Брюсселе, имея лишние деньги, дал себе волю и, вероятно, попал в какую-то скандальную историю, связанную с вином и женщинами, - те, кто ищет легкомысленных любителей развлечений, чтобы использовать их в своих целях, каким-то образом заполучили материал, компрометирующий Боркова. Дальше, по логике вещей, в схеме должен значиться шантаж, и лучшим доказательством в пользу такого вывода служит тот факт, что вот они вдвоем с Антикваром находятся сейчас на рыбалке. Дело, которое начинал Антиквар, Кока про себя назвал Брюссельским шлейфом. Он подумал: интересно, какое выражение лица будет у его партнера, если вдруг ни с того ни с сего произнести название этого города? Скорее всего лицо его выразит крайнюю степень удивления. Заманчиво было бы поглядеть… Но Кока не таков. Он не собирается ради секундного удовольствия обесценивать перед шефом свои собственные услуги. Антиквар выпил из термоса несколько глотков горячего кофе и наконец прервал молчание. - Слушайте внимательно, Николай Николаевич, - сказал он, вытирая платком губы. - Этот Борков мне нужен. От него потребуются некоторые сведения. - А он знает о том, что нужен вам? Или, как в старом анекдоте, осталось только уговорить Ротшильда? Но Антиквар не принял иронического тона. - Будет знать. Вы ему об этом сами и сообщите. - Но захочет ли он? - Вероятно, захочет. - За деньги? - Деньги тоже кое-что значат. Но сначала выслушайте меня. - Да, я весь внимание. - У меня имеются кое-какие документы. Вот они. - И он вложил Коке в валенок аккуратный пакет из целлофана. Кока внутренне ликовал. Ну конечно, все идет как по нотам! - Вы встретитесь с Борковым, - продолжал Антиквар. - Где - по вашему усмотрению. Обязательно в уединенном месте, потому что вам придется демонстрировать документы Боркову… «Объясняет как маленькому», - с неприязнью подумал Кока. - …Ему будет неприятно увидеть эти документы. Они его могут скомпрометировать, если станут известны, предположим, органам госбезопасности или его начальству по службе. - Шантаж, - несколько разочарованно определил Кока. - Да, разумеется, - отрезал Антиквар. - А тот мальчик… как его?… который ездил по вашей просьбе за пробами земли… Это что - не шантаж? - То другая масть. У нас с Аликом Ступиным были деловые связи. - Я вас не понимаю, - сердито сказал Антиквар. - Вы потеряли желание сотрудничать с нами? - Нет, почему же, - поспешил возразить Кока. - Просто я предвижу, что такие методы в отношении этого Боркова могут оказаться неподходящими. Это не Алик Ступин. Гораздо сложнее. - Ну так вот. У вас в валенке несколько фотографий. На них изображен Борков. Его снимали в Брюсселе, куда он ездил по делам службы. Вы, конечно, догадываетесь, что к службе изображенные моменты не имеют ни малейшего отношения. - Антиквар взглянул на Коку. - Да, - сказал Кока. - Это элементарно. - Покажите фотографии не сразу. Сначала объясните ему, что вам известно кое-что о его похождениях в Брюсселе. Поиграйте с ним, посмотрите, с какого бока лучше подойти. Может случиться, что до фотографий дело при первом свидании не дойдет, они останутся у вас в резерве. Предложите ему работать с вами за наличный расчет. От него потребуйте немного - только сведения в рамках его личных служебных обязанностей. - Он спросит, кем я уполномочен… - Заинтересованными лицами. - Но если он потребует, так сказать, официальных полномочий? - Какие же еще полномочия, если вы ему подробно напомните его брюссельские похождения? - раздраженно спросил Антиквар. - Все и так должно быть понятно. Вы же не святой дух - каким же образом вам стало известно то, что произошло в Брюсселе? Тут только Кока осознал, что его озабоченность по поводу полномочий действительно должна казаться шефу совершенно излишней. Он не осведомлен о связи Коки с Борковым на почве долларов. Сам же Кока был уверен, что Борков, когда зайдет речь о Брюсселе, рассудит примерно так: «Старик берет меня на пушку. Продал мне доллары. Он знал, что я еду за границу. А поведение молодого человека с деньгами в кармане можно представить себе каким угодно, было бы воображение». К тому же Кока вспомнил, что при встрече с Борковым в доме у Риммы он задавал Боркову двусмысленные вопросы. Поэтому у Коки были все основания беспокоиться о полномочиях. Мысленно ругнув себя тугодумом, Кока сказал: - А если он категорически откажется? - Тогда предъявите фотографии. Между прочим, на одной из них - репродукция его служебного удостоверения. - Удостоверение ему теперь уже наверняка сменили. У института другой режим. - Кока слегка задумался. - Понимаете, у меня какое-то двойственное ко всему этому отношение. - Именно? Кока опять забыл, что шеф не знает о долларах, и чуть было не ляпнул о своих впечатлениях от встреч с Борковым. Он хотел сказать, что, с одной стороны, Борков кажется ему вполне подходящим объектом для обработки, но, с другой стороны… - Никогда нельзя определить заранее, как они себя поведут, такие люди, - сказал Кока. - Он может пойти и заявить в Комитет госбезопасности. - Думаю, что не пойдет. - Почему вы так уверены? - Стиль поведения за границей у Боркова был достаточно красноречив. Он завяз по уши. - Ну, знаете ли, молодой человек может по легкомыслию закутить и слегка поскользнуться. И не придать этому особого значения. Но когда речь идет о нарушении гражданского долга, они рассуждают несколько иначе. - Речь идет также о его карьере. Кока прищурился. - Ах, дорогой шеф, у нас в понятие о карьере вкладывают немножечко не тот смысл, к которому привыкли вы. Русский человек может плюнуть на любую самую роскошную карьеру в самый неожиданный момент. И потом, видите ли, сейчас не те времена. - Вы опасаетесь, что он донесет? - Не донесет, а просто исполнит свой естественный долг. - А пример Пеньковского? - Вот именно, пример… - Я могу назвать другие имена, - сказал Антиквар, и по тону чувствовалось, что он вот-вот взорвется. - Их наберется немало. И не надо приплетать сюда особенности национального характера. - Исключения только подтверждают правило, - меланхолично заметил Кока. И тут Антиквар не выдержал: - Послушайте, милейший Николай Николаевич. Как прикажете вас понимать? Уж не хотите ли вы меня распропагандировать? - Он даже побледнел от гнева. Бросив взгляд через плечо, продолжал совсем тихим шепотом: - Нашли место для дискуссий! Кока сник. Вид у него был виноватый. - Мне кажется, - произнес он примиряюще, - мы пускаемся в опасную комбинацию. Поэтому надо исходить из худшего. Кто же предупредит нас, если не мы сами? Антиквар смягчился. Потрогав леску пальцами, сказал: - Мы впервые разговариваем в повышенном тоне. Надеюсь, впредь этого не будет. Вы правы, безусловно, предстоящее дело требует осторожности. Я не буду вас торопить. Приглядитесь к этому человеку получше. Понаблюдайте за ним. В людях, по-моему, вы разбираетесь, определить его характер вам будет несложно. И подходящий момент для решительного разговора выбрать сумеете. - Он откашлялся, сделал паузу. - Риск есть, но не такой уж большой… - Сколько времени вы мне дадите? - спросил Кока. - Не будем устанавливать сроки. Но чем быстрее, тем лучше. Скажем, в пределах этой зимы. - Связь та же? - Кока имел в виду Акулова. - Да. Но если вам понадобится передать что-нибудь срочное, позвоните по телефону, который я вам дам. Звонить надо из автомата. Наберите номер и подождите, пока снимут трубку. Когда снимут, ничего не говорите, повесьте трубку и позвоните еще раз. Держите трубку до пятого гудка. И после этого разъединитесь. Таким образом я буду знать, что мне следует срочно явиться к Акулову. - Хорошо. Напоследок Антиквар сказал: - Попробуйте вовлечь его в свои коммерческие дела. Такая возможность есть? Кока подумал минуту и ответил: - Можно попробовать. Если он даст себя затянуть… - Если, если, - буркнул Антиквар. - С вами сегодня просто нет сил разговаривать. Скажите прямо: я мало вам плачу? - Ладно, не сердитесь. Не в деньгах суть… Просто я не такой оптимист, как вы.Глава 14 ПОЕЗДКА С СЮРПРИЗОМ
Когда Павел вошел в камеру к Надежде, тот лежал, закинув руки за голову. Надежда поднялся рывком, сел на край кровати. Он уже привык к почти ежедневным приходам Павла и, как всегда, был обрадован. Павел обещал принести какую-то интересную книгу, но в руках держал лишь маленький сверток. - Все откладывается, - сказал Павел, заметив разочарование на лице Надежды. - Нам предстоит небольшое путешествие. - Куда? - насторожился Надежда. - Едем в Ленинград. Встряхнись и побрейся. - Павел положил сверток на стол. - Воспользуйся моей бритвой. Мы взрослые люди. Я был бы последним глупцом, если бы думал, что ты не понимаешь моей задачи. Я хочу, чтобы ты коренным образом изменил свой взгляд на некоторые вещи. И вообще на жизнь. Ты же понимаешь это? Надежда молча кивнул головой. - Ну вот, - продолжал Павел, - теперь я хочу, чтобы ты своими глазами увидел кое-что. Как говорится, для закрепления пройденного. Думаю, оценишь откровенность… - Давно ценю. - Тогда брейся. Они выехали в Ленинград «Красной стрелой». У них было двухместное купе. Павел занял нижнюю полку. Они улеглись, едва экспресс миновал притихшие на ночь, укрытые пухлым снегом пригороды Москвы. Но сон не шел. Вагон мягко покачивало. Темное купе то и дело освещалось матовым, как бы лунным, светом пролетавших за окном маленьких станций, и во время этих вспышек Павел видел, как клубится под потолком голубой туман - Надежда курил. Павла уже начала охватывать дремота, когда он услышал тихий голос сверху: - А почему именно в Ленинград? Павел повернулся со спины на правый бок, положил голову на согнутую руку и сонно ответил: - Хороший город. - Я знаю, что хороший. Отец рассказывал. Рисовал мне грифелем на черной дощечке улицы и дома. Он там родился. - Он тебе рисовал Петроград, а не Ленинград. - Разве перестроили? - Нет. Центр остался прежним. Дело не в архитектуре. - Его же сильно бомбили… - И обстреливали тоже. Но раны все зализали. - Отец читал в газетах, будто во время войны шпиль Адмиралтейства специально укрывали, чтобы не пострадал от осколков. И даже конную статую царя Николая тоже. Он не верил. Это правда? - Да. Все статуи укрывали. - Ты был тогда в Ленинграде? - Тогда я еще под стол пешком ходил под руководством мамаши в столице нашей Родины. Но после войны каждый год хоть разок, но езжу. - Родственники есть? Павлу было уже не до сна. Он откинул одеяло. - Дай-ка папиросу. Закурив, снова лег, поставил пепельницу себе на грудь и сказал: - Мой отец в семнадцатом году был матросом на Балтике. А погиб под Пулковом. В январе сорок четвертого. Когда блокаду снимали. - Он был профессиональный военный? - Кадровый, ты хочешь сказать? Нет. До войны строил мосты. А воевал заместителем командира полка по политчасти. Раньше их называли комиссарами. Надежда долго молчал, затем спросил несвойственным ему робким тоном: - Ты ему памятник на могиле поставил? - Могила братская. Без меня поставили. - Офицер - в братской? - не скрыл удивления Надежда. - Погибшие в бою званий и чинов не имеют, - строго, как прочитал эпитафию, произнес Павел. - Если бы каждому убитому и умершему от голода ленинградцу отдельную могилу - земли не хватит. - И прибавил после долгой паузы: - А не поспать ли нам? В Питер прибудем рано… Проводник разбудил их без пятнадцати восемь. Зимнее утро только занималось. Наскоро умывшись, они выпили по стакану горячего чая и вышли в коридор, стали у окна. Впереди по ходу поезда в белесой дымке восхода угадывались размытые силуэты домов. Павел и Надежда пошли в вокзальную парикмахерскую. Они ничего не брали в дорогу, ни портфелей, ни чемоданов, и это помогло им сразу почувствовать себя ленинградцами, а не приезжими. Побрившись, вышли из вокзала, постояли на площади. День выдался редкостным для зимнего Ленинграда. Крепкий сухой снег скрипел под ногами, сверкал ослепительными кристаллами. Небо нежно голубело. Казалось, наступает какой-то праздник - до того весело выглядела площадь и широкий Невский проспект, убегающий от площади вдаль, к золотой игле Адмиралтейства. - Ничего на ум не приходит? - спросил Павел, взглянув в сосредоточенное и вместе с тем как будто растерянное лицо Надежды. - Стихи… - сказал тот задумчиво. - Вспоминаю стихи. И не могу ничего вспомнить. - Ладно. - Павел хлопнул Надежду по плечу. - Давай-ка для начала позавтракаем. Они зашли в молочное кафе на Невском. Съели по яичнице, выпили по стакану сливок и по две чашки кофе. Надежда ел без аппетита, но торопливо, словно стараясь побыстрее покончить с необходимой формальностью. - Так, - сказал Павел бодро, когда они покинули кафе. - Теперь надо обеспечить жилье. Айда в гостиницу. Надежда взял его за рукав. - Слушай, Паша… - Он замялся. - Только куда-нибудь в такую, где не было бы иностранцев… - Чего захотел! - рассмеялся Павел. - Тут круглый год туристы со всего света. Да что они тебе?! - Просто так… Не знаю… - Ну, ну! Это мы понять можем. Ладно, поедем в «Россию». Далековато, но зато новенькая, туристским духом еще не пропиталась. Павел хотел взять такси, но Надежда упросил поехать городским транспортом. Тогда Павел предложил воспользоваться метрополитеном. Однако Надежда предпочитал ехать по поверхности, чтобы можно было смотреть на город. Поэтому сели в троллейбус. Свободных мест в гостинице по обыкновению не оказалось, но Павел пошептался с администратором, и им дали прекрасный номер на двоих на шестом этаже. В номере они пробыли недолго. Не раздеваясь, почистили друг другу щеткой пальто, отдали ключи дежурной по этажу и сбежали вниз. - Ну так что? - спросил Павел, шагая чуть впереди Надежды. - Город в нашем распоряжении. Не начать ли с Эрмитажа? - Я хочу видеть все, - сказал Надежда голосом, совсем незнакомым Павлу. Он был взволнован. - Положим, это невозможно, но что успеем, то наше. - Сколько мы тут пробудем? - Три дня. Четыре часа они ходили по тихим залам Эрмитажа, пока не ощутили ту непреодолимую, совершенно особую усталость, которая появляется только в музеях. После этого бродили по Невскому, по набережной Невы, на резком ветру, дувшем с залива, и утомление как-то незаметно растворилось в морском воздухе. Обедали в ресторане недалеко от Гостиного двора, и на этот раз Надежда ел с аппетитом. Потом отправились в оперный театр. Вечером шел балет «Спартак». Билетов, разумеется, в кассе не было, и Павлу пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы выдавить у администратора два места в ложе, забронированной какой-то сверхжелезной броней. Надежда весь спектакль не обменялся с Павлом ни единым словом. Всю дорогу к гостинице он молчал, глубоко уйдя в себя и нимало не смущаясь тем, что это может показаться невежливым его спутнику. Лишь когда улеглись в постель и погасили свет, Павел услышал, как Надежда словно в полусне произнес негромко: - Враг номер один. - Ты о чем? - спросил Павел. Надежда ответил не сразу. - Там, откуда я приехал, все это, вместе взятое, называется «враг номер один». - Подходящее название, - усмехнулся Павел. На следующее утро за завтраком они составили план похода по знаменательным местам Ленинграда. Надежда думал, что план этот рассчитан на два оставшихся дня, но Павел сказал: - Все это мы должны выполнить сегодня. - Но ты же говорил, едем на три дня… - Завтра будут другие дела. Какие именно, Павел не объяснил, а Надежда спросить постеснялся. С девяти утра до десяти вечера они не присели ни на минуту. Не ели, редко курили и почти не разговаривали. Только смотрели и слушали. Иногда, правда, Павел комментировал кое-что в своей иронической манере, но это не влияло на состояние Надежды. Из домика Петра отправились в Петропавловскую крепость, а оттуда, надышавшись настоянным на холодном камне воздухом казематов, поехали в светлый Смольный. Затем был Казанский собор, где они долго стояли над прахом фельдмаршала Кутузова. А после собора - Пискаревское кладбище, по которому они ходили, сняв шапки. Когда покидали кладбище, Павел сказал, что где-то здесь, среди многих десятков тысяч погребенных, лежит и его отец. Надежда приостановился, посмотрел на Павла, хотел молвить что-то, но не нашел слов. Вернувшись в центр, они хотели подняться на Исаакий, но, к сожалению, он уже был закрыт, и, поужинав в великолепном ресторане гостиницы «Астория», они поехали к себе, чтобы пораньше лечь спать. Даже Павел устал от беспрерывного хождения и обилия впечатлений, а о Надежде и говорить не приходилось. Больше года он вел малоподвижный образ жизни и теперь с непривычки еле держался на ногах. В половине одиннадцатого Надежда разобрал постель и лег. Павел вышел из номера, объяснив, что надо уладить кое-какие дела с администратором. Отсутствовал он минут двадцать, а когда вернулся, Надежда уже спал глубоким сном… Проснувшись утром, Надежда не обнаружил Павла в номере. На столе лежала записка: «Буду в девять». Он побрился, потом оделся, спустился в вестибюль за газетами и снова поднялся к себе в номер. Он сидел у стола и читал, когда в дверь постучали. Надежда вздрогнул. Кто бы это мог быть? Павел входил без стука. Может, просто ошиблись номером? Стук повторился, робкий, тихий. - Да, войдите! Надежда поднялся, шагнул к двери. В этот момент она отворилась. На пороге стояла Мария. Газета выпала из рук Надежды. Он застыл, подавшись вперед. Мария смотрела на него прищурившись, словно издалека. - Ты? - не веря глазам, только и мог сказать Надежда. Мария закрыла дверь. - Как видишь… - Где же Саша? - спросил Надежда, все еще не двигаясь с места. - Дома оставила. Он с подругой моей, с Леной. Не хотелось мучить малыша, я ведь самолетом… Надежда наконец вышел из столбняка. Приблизившись, он обнял Марию и прижался лицом к ее густым каштановым волосам. Потом они сидели в обнимку на его застеленной кровати. - Ну как ты, что ты? - спрашивал Надежда. - Рассказывай. - Сначала ты. - Нет, раньше о тебе и о Сашке. Мария вспомнила эти два года, показавшиеся ей десятью, и были моменты в ее рассказе, когда Надежда опускал голову. Мария прерывала себя, без нужды утирала платком нос, говорила: «Вот так, значит…» - и продолжала. Выслушав, Надежда долго сидел понурившись. - А как твои дела? - прервала молчание Мария. Он медленно повернулся к ней: - Я все сказал тебе в письме. Все, на что имел право. - Что же теперь? - Не знаю. Если мне поверят до конца… - и осекся. - Это возможно? Зависит от тебя? - Не имею права молить об этом. Если бы заглянули в душу, поверили бы… Без этого жить незачем… - Что ты говоришь, Миша? - Нет, накладывать на себя руки не собираюсь. Чепуха. Старое. - Он прошелся перед нею, пинком отодвинул стоявший на дороге стул. - Мне двадцати лет не хватит, чтобы рассчитаться по всем счетам. Эх, Мария, Мария! Как мне хорошо сейчас, если бы ты только знала. Надежда поднял ее, притянул к себе, поцеловал в губы… В три часа явился Павел. Он говорил с Марией как с давнишней знакомой, никакой неловкости между всеми троими не ощущалось совершенно. - Спасибо вам за все, - сказала Мария. - А теперь, увы, пора расставаться. Вот билет на самолет, отлет в семнадцать часов. - Так быстро?! - воскликнул Надежда и посмотрел испуганно на Марию. - У вас еще все впереди, - ответил Павел. - Да, да… это верно… мне пора… там ведь Сашок, наверное, заждался… - смущенно сказала Мария. - Такси у подъезда. Я подожду в машине. - И Павел покинул номер. Через двадцать минут Надежда и Мария подошли к такси. Они поехали провожать Марию на аэродром. Прощание не было грустным. - До скорой? - спросила Мария, поставив ногу на нижнюю ступеньку трапа. - Может, до скорой… - ответил Надежда. - Я люблю тебя. И Сашку люблю… Слышишь?! - Да, да… Павел с Надеждой уехали в тот же вечер из Ленинграда. В пути не разговаривали. Уже в Москве, когда шли по перрону, Надежда, глядя под ноги, произнес глухим прокуренным голосом: - Слушай, Павел… Не знаю, как сказать тебе… - Ладно, - откликнулся Павел. - Когда-нибудь скажешь…Глава 15 ПАРТНЕРЫ, ДОСТОЙНЫЕ ДРУГ ДРУГА
На следующий день после встречи с Антикваром Кока приступил к выполнению полученного задания. Справочное бюро через тридцать минут снабдило интересующим его адресом, а уже через час он звонил в квартиру, где жил Борков. Дверь долго не открывалась. Наконец недовольный старческий голос: - Вам кого? - Я из Госстраха, можно на минутку? - Страхи, госстрахи… - открывая дверь, беззлобно передразнил старичок, седенький, в аккуратной жилетке с меховой подпушкой. Старичок строго оглядел Коку и, картинно наклонившись, жестом руки пригласил его в комнату. - Милости просим, сударь. Я вас слушаю. - Николай Николаевич, - представился Кока. - Дмитрий Сергеевич, - ответил старичок. Кока пространно разъяснил цель и задачи государственного страхования, рассказал о выгодах для граждан, пользующихся его услугами. Красноречие Коки подействовало на Дмитрия Сергеевича, и он охотно застраховал не только свою собственную, но и жизнь своей супруги Татьяны Ивановны. Когда формальности были закончены, Кока поинтересовался соседом по квартире. - Живет тут один молодой человек, - ответил Дмитрий Сергеевич. - Он дома? - Нет, на работе, придет поздно, сказал, партийное собрание. - Досадно. - А вы что, сударь, получаете с охвата? - Конечно. - Ну тогда не печальтесь. Володя Борков страховаться все равно не будет - молод и здоров. - Он давно здесь живет? - Раньше меня въехал. - Не беспокоит? - Да всякое бывает. - Что - пьет, шумит? - Бывает… Татьяна Ивановна его воспитывает. - И помогает? - Не всегда. - Ну, извините, Дмитрий Сергеевич, за беспокойство. Благодарю вас. До свидания. - До свидания, сударь. Кока для вида зашел в соседнюю квартиру, а затем, довольный своим визитом, покинул дом. Бланки Госстраха, взятые им у знакомого, оказались как нельзя кстати и помогли успешно решить задачу. Однако проверка Боркова на этом не заканчивалась. Теперь Кока искал нового случая для встречи с ним. Благовидный предлог подвернулся сам собой. 15 января 1964 года Кока встретил возле дома Юлю, разговорились, и Юля сказала, между прочим, что в субботу, 18 января, у нее день рождения. Коке не стоило труда получить от нее приглашение. Восемнадцатого ровно в семь вечера Кока явился к Юле домой. Гости еще не прибыли. Юля познакомила его со своими родителями, которые были заметно удивлены, что у их дочери такой пожилой друг. Юля коротко объяснила, что Кока живет по соседству, и, кроме того, их связывают общие друзья - она имела в виду Римму и Боркова. Родители, по видимости, были удовлетворены этим разъяснением. Однако Кока видел, что он не очень-то им приглянулся. Кока вручил Юле подарок - серебряный браслет старинной работы, редкую вещь, долго хранившуюся в его коллекции. Юля была в восторге. К восьми гости наконец собрались. Пришло человек пятнадцать, все - молодые люди. Были среди них и Римма с Борковым. Кока сел за стол рядом с Риммой, по правую руку от нее. По левую занял место Владимир. Он был серьезен и не слишком разговорчив. Казалось, какая-то забота лежит у него на душе. Но тост следовал за тостом, становилось все веселее и непринужденнее, и Кока, который позволил себе выпить лишь совсем немного сухого вина, замечал, что Борков постепенно оттаивает. По робкой просьбе Юлиных родителей договорились за столом не курить, выходить в коридор или на кухню. Вскоре курильщики начали отлучаться по очереди на несколько минут. Увидев, что Борков достал из кармана сигареты и зажигалку, Кока, попросив извинения у Юли и Риммы, поднялся из-за стола. - Душно там, - сказал он Боркову, когда тот появился следом за ним в коридоре. - Да, жарковато, - согласился Борков, закурив и выпустив клуб дыма к потолку. - Как поживаете, Володя? - задал банальный вопрос Кока. - Давненько вас не видел… - Да по-разному. Вернее, жизнь в полоску. - Простите?… - не понял Кока. - Ну, полоска красная, потом полоска черная, потом опять красная. С переменным успехом, в общем. - Полагаю, так даже интереснее. - Возможно. Но лучше было бы без черных полосок. - А отчего же они появляются? - Да по разным причинам. - На работе нелады? - Всякое бывает и на работе. У нас иначе нельзя. Век такой. - А вы, если не секрет, кем служите? - Это не секрет. Я инженер-конструктор. Придумываю разные машины и приборы. - Много получаете? Кока опасался, что Борков сочтет его вопросы назойливыми, но тот как будто не придавал этому мимолетному разговору в коридоре ровно никакого значения и отвечал с уже знакомой Коке ленивой иронией. - Человек так устроен - ему всегда мало, сколько ни получай. Не мне вас просвещать. - Я спросил не из простого любопытства, - сказал Кока серьезно. - Вы мне симпатичны, и вот у меня появилась мысль - не могу ли я быть вам полезен. - В чем? - со вздохом спросил Борков. - Валюта мне больше не понадобится, за границу не собираюсь. - Я не валюту имею в виду. - Что же тогда? - Мне нужна помощь в одном деле. Для вас это было бы вроде сверхурочной работы. Оплата, уверяю, очень даже неплохая. Борков посмотрел на него долгим взглядом и сказал: - С вами опасно связываться. Вы же валютчик, но, простите, старый человек. А я молодой специалист, мне еще жить да жить. Молодому специалисту из «почтового ящика» лучше не иметь дела с валютчиками. Кока подумал, что его шеф, пожалуй, был все-таки прав, когда рассуждал по поводу карьеры. - Я не навязываюсь, - произнес он, словно бы искренне разочарованный. - То, что я собирался вам предложить, не имеет к валюте никакого отношения. А насчет того, что я стар, вы правы. - Не хотел вас обидеть, - сказал Борков. - Простите. - Ничего, я не из обидчивых. Но жалко, что вы отказываетесь. Могли бы прилично заработать. - Криминал в этом есть? - спросил Борков. Кока усмехнулся: - Отчасти. - В чем должна заключаться моя помощь? - Думаю, понадобятся ваши знания. Как инженера. Борков был слегка удивлен. - Если есть криминал, то при чем здесь инженерные знания? Отмычки делать, что ли? - Зачем же так примитивно? Я со взломщиками не вожусь. - Не скажете же вы, что у вас там частное конструкторское бюро или подпольная фабрика. - Нечто в этом духе, - улыбнулся Кока. - И каковы же будут мои обязанности? - О деталях я пока ничего говорить не буду. Плохо разбираюсь в технике. Мне важно ваше принципиальное согласие. А детали - ерунда. - Но я-то нужен вам именно для деталей? - Да. И я уверен, вы как раз тот человек, который справится с делом. Тут из комнаты, где шумело веселое застолье, выглянула Юля. - Володя! - крикнула она. - Как не совестно? Ушли на целый час. А ну-ка кончайте курить. - Так продолжим наш разговор после? - тихо спросил Кока, беря Боркова под руку и направляясь к распахнутой двери. - Можно продолжить, - ответил Борков. - Я вам позвоню на днях. - Хорошо. Только попозже вечером… Кока оставил компанию, когда веселье было в самом разгаре… В четверг 23 января около девяти часов вечера Кока позвонил по телефону-автомату Боркову домой. - Я думал, вы уже отказались от своего проекта, - сказал Борков. - Что вы, наоборот! - воскликнул Кока. - Чем больше размышляю на эту тему, тем больше убеждаюсь, что я прав. - Узнали о деталях? - Кое-что. - Ну так выкладывайте. - Это не для телефона. Могу я к вам сейчас заехать? - Лучше бы на нейтральной почве… - Давайте увидимся где-нибудь в ресторане. - Сегодня не могу, - решительно отказался Борков. - Придется пить, а у нас завтра с утра ответственное совещание, нужно быть в форме. - В какой день мне вас потревожить? - Когда вам будет удобно. Однако через два дня, позвонив, Кока снова услышал отказ. На сей раз Борков не мог встретиться потому, что у него сидела Римма. На протяжении января Кока сделал еще две попытки, но Борков продолжал водить его за нос. Старик уже испытывал желание прекратить бесполезные окольные заходы и взять Боркова, что называется, за жабры напоминанием о Брюсселе. Решил позвонить в последний раз, и тут вдруг Борков согласился увидеться. Он дал Коке адрес своего приятеля и сказал, что им там будет удобно все обсудить. В назначенный час Кока приехал на Большую Грузинскую улицу, нашел нужный дом и поднялся по темной узкой лестнице на четвертый этаж - дом был старый, без лифта. Отдышавшись, надавил кнопку звонка два раза, как велел Борков. Тот сам открыл ему. Свидание продолжалось долго. Вначале Кока посетовал, что Борков напрасно тянул время, не давая согласия. На это Борков ответил: - Хотел проверить, насколько серьезны ваши намерения. Думал, вы так это, сгоряча, а потом остынете. Теперь вижу - ошибся. Кока оценил расчетливость и здравомыслие Боркова. Он даже сказал, что Борков - вполне достойный партнер, несмотря на завидную молодость. - Еще неизвестно, каким партнером я окажусь, - возразил Борков. - Излагайте. Кока достал из кармана кожаный кошелек, порылся в нем и извлек золотую десятирублевую монету царской чеканки. Повертел ее в пальцах, подбросил на ладони - она сверкала как маленькое прирученное солнышко. Кока любовался ею. Может быть, в этот момент ему вспоминалась далекая юность, бандиты на станции Татарка и тяжелый мешок купчихи, недолгая жизнь среди махновцев и коварная одесская девица с французской фамилией и вологодским выговором… Наконец Кока поднял глаза на Боркова. - Прежде всего мне нужна ваша консультация. Вот держите эту штучку… Разглядите ее хорошенько. Борков взял монету. - Ну, десятка. - Вы так пренебрежительно говорите, как будто каждый день размениваете по десяти золотых рублей. - Нет, первый раз держу в руках. Какой же из меня консультант? - Посмотрите, что там написано по торцу монеты, - попросил Кока. Борков прочел вслух: - Золотник, семьдесят восемь, запятая, двадцать четыре доли чистого золота. Ну и что? - Каким образом нанесена на монету эта надпись? Борков подумал минуту. - Возможны несколько способов. Какой применялся в данном случае, не знаю. - Так, так, так, - оживился Кока. - Вы знакомы с этой областью? - Весьма поверхностно. - Ну а если бы вас попросили изготовить штамп? - Это очень сложно. Нужны специальные материалы и инструменты. - Предположим, в вашем распоряжении будет все, что необходимо… - В домашних условиях такую работу выполнить трудно. - Говорят, в Китае пробовали в домашних условиях варить чугун, - пошутил Кока. - Пробовали, - подтвердил Борков. - Но тем чугуном можно было только орехи колоть. Да и то земляные. - Уверяю вас, Володя, мне известны кустари, которые на дому умеют изготовлять более сложные агрегаты. И буквально из ничего. - У меня нет такого опыта. Обратитесь к кустарям, раз они вам известны. Кока покивал головой. - Да, но как раз машинку для накатки надписи на монету они сделать не могут. У вас же целый институт под рукой, там же, вероятно, есть всякие мастерские, лаборатории… - Интересное у вас представление об институтах. Это же не частная лавочка. - Но подспорье для частной деятельности, - возразил Кока. Ему начинало надоедать это затянувшееся препирательство. - Короче говоря, я хочу попросить вас, чтобы вы изготовили штамп. Боркова этот деловой тон тоже устраивал больше. - Что я буду иметь? - спросил он. - Ну, скажем, на автомобиль. Вам нравится «Москвич»? Борков не ожидал, что речь пойдет о такой крупной сумме. Он сказал: - Вы подозрительно щедры. - Не бойтесь, я внакладе не останусь. - Сроки? - Важнее качество, а не сроки. Но быстрее всегда лучше. Борков закурил. Поднявшись из-за стола, взъерошил свои короткие волосы, начал вышагивать по комнате из угла в угол. Кока не мешал ему думать. - Послушайте, Николай Николаевич, - остановившись, начал Борков, - штамп вам нужен не для того, чтобы колоть орехи?… - Безусловно. - Он должен быть употреблен по прямому назначению, то есть для производства золотых монет? - Да. - Но зачем нужно золото превращать в монету? Ведь оно от этого не повысится в цене, а труда на чеканку придется положить немало. - Монету можно продать дороже, чем такое же по весу количество золота. - Настолько дороже, что чеканка рентабельна? - Да. Иначе не нашлось бы человека, чтобы заниматься этим хлопотливым делом. Борков присел к столу. - Ну хорошо. Попробую сделать машинку. На этом мое участие в вашем предприятии кончится? - Конечно, больше от вас ничего не требуется. - А попробовать машинку нужно же. - Вы получите от меня монеты и опробуете. Почему вас этот вопрос так беспокоит? - Я не хочу иметь дело ни с какими вашими компаньонами. Это же чистая уголовщина. - Милый Володя, поверьте, риск совсем невелик. Вы представляете себе, какого сорта люди будут покупателями самодельных монет? - Какие-то подпольные миллионеры, наверное… - Именно! Так неужели вы думаете, что такой покупатель вдруг захочет сдать продавца монет в милицию? - Все равно, - сказал Борков. - Не совсем понимаю, для чего нужно людям, имеющим золото и желающим его продать, превращать это золото в монету. - Я же вам говорю, что монета стоит дороже. И вообще штучным товаром торговать легче. Но Кока, как всегда, говорил не всю правду. Борков попросил денег на производственные расходы по изготовлению штампа. Кока дал ему триста рублей и еще пятьсот в качестве задатка.Глава 16 «МОНЕТНЫЙ ДВОР»
Изучая связи Николая Николаевича Казина, контрразведчики годом раньше вышли на одно узкое сообщество людей, которое показалось им по меньшей мере необычным. Прежде всего поражала пестрота состава. Один из них, пятидесятилетний мужчина, семьянин, отец двоих детей, имел высшее техническое образование и работал заместителем заведующего лабораторией твердых сплавов в большом институте. Второму было тридцать лет, он жил холостяком, имел на иждивении мать и работал гравером в комбинате бытового обслуживания. Третий числился инвалидом, получал на этом основании небольшую пенсию, а в далеком прошлом был известен Московскому уголовному розыску и блатному миру как высококвалифицированный фармазонщик и кукольник с непонятной, но довольно экзотической кличкой Звон на небе или просто Звон, что уже не так экзотично. В миру же его звали Антон Иванович Пушкарев. Выйдя в последний раз из тюрьмы перед самой войной, Пушкарев «завязал», сочтя, вероятно, что возраст уже не позволяет заниматься прежними делами - ему сравнялось тогда сорок пять, - и переквалифицировался в спекулянты. Не брезговал и краденым, но с тех пор в руки закона не попадался. Четвертым в этом тесном содружестве был Кока, который его, собственно, и сколотил. Собирались они всегда у Пушкарева, занимавшего двухкомнатную квартиру в районе улицы Обуха, недалеко от Курского вокзала. Лаборант и Гравер, как именовали двух первых товарищи, занимавшиеся этой группой, приходили к Пушкареву всегда со свертками в руках. Иногда также и Кока являлся на сборище с ношей - туго набитым портфелем. Весь шестьдесят третий год группа собиралась регулярно раз в неделю, по субботам. Лишь Кока пропустил несколько свиданий. Что роднило столь разных во всех отношениях людей? Для чего они сходились вместе по субботам? Сначала предположили, что компания собирается ради пульки. Просиживали они у Пушкарева часа по три-четыре - как раз столько, чтобы разыграть «разбойника». Состояла компания из четырех или - когда Кока отсутствовал - из троих: именно столько необходимо игроков для преферанса. А вприносимых свертках могла бы быть выпивка и закуска, что, как известно, преферансу не противопоказано. Но скоро выяснилось, что друзья Коки не подвержены страсти к азартным играм. С помощью некоторых технических средств установили, что содержимым пакетов Гравера и Лаборанта и вместительного Кокиного портфеля, когда они приходили к Пушкареву, почти всегда были металлические предметы. Возникла версия, что в дом Пушкарева проносятся части какой-то машины. Затем стало известно, что Лаборант остается на работе и ставит какие-то опыты со сплавами, а с недавнего времени почему-то заинтересовался далекой от его основной специальности областью - гальваникой. В мастерской у Гравера была обнаружена разбитая гипсовая форма с оттиском лицевой стороны десятирублевой золотой монеты. Ее нашли в куче мусора в углу. Видно, Гравер не очень заботился о конспирации и посчитал достаточным расколоть форму на несколько крупных кусков, растереть же ее в порошок поленился. Три эти факта, сведенные воедино, позволяли выдвинуть довольно убедительно выглядевшую версию, а именно: четверо во главе с Кокой всерьез намерены заняться изготовлением металлических денег. Что привело каждого из членов этой корпорации к мысли организовать собственный монетный двор? Относительно Коки вопрос был ясен. В свете всей его предыдущей деятельности это новое предприятие выглядело совершенно закономерно. Как выражаются театральные критики, тут все было в образе, Кока оставался верен себе. Сама идея выпуска золотых монет выкристаллизовалась у него уже давно, в процессе общения с подпольными дельцами, которые опасались держать нечестно нажитые деньги в сберкассе и страстно желали обратить их в благородный металл. То один, то другой прибегал к посредничеству Коки с просьбой найти царские монеты - почему-то именно такая «расфасовка» пользовалась наибольшим доверием. Коке не всегда удавалось удовлетворить заявки, добывать настоящие царские монеты становилось все труднее. Поэтому однажды у него и явилась естественная и счастливая мысль: а нельзя ли наладить производство этих монет на дому? Перед ним открывалась обширная и почти абсолютно безопасная сфера приложения сил. Подделывать, скажем, советские деньги, находящиеся в обращении, Кока никогда ни за что и себе бы не позволил, и другим бы не посоветовал. Этот путь быстро привел бы на скамью подсудимых. А фабрикация царских монет - совсем другой коленкор. Тут обе стороны - определяющая спрос и создающая предложение - одинаково преступны и обе действуют тайно, не вторгаясь грубо в область государственной финансовой жизнедеятельности. Возможность разоблачения со стороны представителей спроса практически мизерно мала. Есть, правда, возможность получить когда-нибудь по морде, но это, как считал Кока, нисколько не снижало рентабельности задуманного предприятия. Главное было - не нарываться на частнопрактикующих зубных техников, которые делают людям золотые протезы. Почему именно их следовало опасаться, станет понятно из последующего. Итак, идея была налицо. Для ее воплощения требовались исполнители со специальными знаниями и техническим опытом. А поскольку Николай Николаевич Казин обладал идеальным нюхом на все, что было с душком и червоточиной, то ему вскоре удалось разыскать подходящих соратников. Гравера Кока раскусил и обработал в два счета. Гравер окончил два курса Московского художественного института имени Сурикова. На третьем преподаватели ему объявили, что он совершенно не в ладах с перспективой и с рисунком и что живописца из него не получится. Гравер решил стать абстракционистом. Он начал писать картины, которые, по его замыслу, должны были выглядеть очень свежо. Какое-то время он даже походил в новаторах. Но потом вдруг все увидели, что картины Гравера писаны бездарной рукой, что они, попросту говоря, барахло. Гравер сильно обозлился и, склонный к аффектации, принял решение, по примеру Льва Толстого, опроститься. Таким образом появился он в граверной мастерской комбината бытового обслуживания, где все его творчество сводилось к вырезанию дарственных надписей на металлических пластинках, часах, кольцах. Неудавшийся художник жаждал материального благополучия. На этом и сыграл Кока, вовлекая Гравера в компаньоны. Специалисту по граверным работам в его проекте отводилась немаловажная роль - изготовление форм и чеканов. Лаборант попался Коке случайно, явившись в комиссионный магазин с набором старинных бронзовых статуэток французского скульптора-анималиста Кэна. Кока по обыкновению пришел понюхать, не найдется ли чего-нибудь интересного среди сдаваемых на комиссию вещей. Лаборант имел импозантную внешность и удрученное выражение лица. Так как Николая Николаевича Казина, словно гиену на падаль, тянуло к людям, испытывающим затруднения (а вдруг из этого можно извлечь пользу?), то не прошло и пяти минут, а они уже были знакомы. Статуэтки у гражданина не приняли из-за дефектов, и это повергло его в отчаяние. Вышли из магазина вместе. Кока, не задумываясь, предложил ему взаймы, и тот после недолгих колебаний согласился взять с условием вернуть при первой возможности. Они обменялись телефонами. Лаборант, чтобы у Коки не было сомнений, показал свое служебное удостоверение. Когда при более близком знакомстве Кока узнал, что специальностью Лаборанта являются металлические сплавы, он решил привлечь его к осуществлению своего проекта. Обязанности Лаборанта в корпорации определялись четко: найти способ производства монет-заготовок, из которых затем можно фабриковать фальшивые золотые десятирублевки. Вовлекая Владимира Боркова, Кока говорил, что собирается делать золотые монеты. Но он, конечно, врал, иначе Кока не был бы Кокой. Лаборант и Гравер получили задание изготовить такую монету, которая была бы точной копией настоящей десятки по весу, размерам и внешнему виду, но состояла бы на три четверти из неблагородного металла и содержала только одну четверть золота, - надо сказать, Кока проявил известную щедрость по отношению к будущим покупателям, скалькулировав столь по-божески. Золото должно покрывать внутреннюю металлическую болванку достаточно надежным слоем, чтобы «царская водка» не могла выявить подделки. Что касается четвертого участника, Пушкарева, то о его возможностях и способностях Коке было известно еще со времен нэпа - судьба не однажды сводила их на различных перекрестках. Пушкарев обеспечивал корпорацию помещением для монетного двора. Его прошлый опыт фармазонщика также мог пригодиться при реализации продукции. Сам Кока взял на себя заготовку сырья, то есть золота, и общее идейное руководство. Такова была структура монетного двора и его личный состав. В течение года компаньоны проделали большую работу. Лаборант проявил подлинную изобретательность и после упорных усилий сумел найти подходящий сплав для сердцевины и метод нанесения на нее ровного слоя золота. Метод был гальваническим. Гравер изготовил безупречные штампы. Затем они вместе с Лаборантом сконструировали целый литейный цех в миниатюре для непрерывной массовой отливки заготовок и гальваническую ванну, в которой на сердцевину будет наращиваться слой золота. Много времени отнял станок для чеканки, но в конце концов было найдено очень удачное решение. Долго носили Гравер и Лаборант разрозненные детали оборудования. Им помогал Кока. Это оказалось самой нудной частью работы. Хорошо еще, что на чердаке дома, где жил Пушкарев, с незапамятных времен валялась настоящая чугунная обливная ванна, а то бы худо им пришлось с доставкой главного узла для гальванического цеха. Такую махину ни в портфеле, ни под мышкой не принесешь. Настал день, когда компаньоны в глубоком сердечном волнении склонили головы над блестящим золотым кружочком. Он был точь-в-точь как настоящая десятка. Только… Только одного не хватало. Как ни бились Лаборант с Гравером, они не в силах были найти способ выбить по торцу монеты надпись: «1 золотник 78,24 доли чистого золота». А без этого все их предыдущие достижения не стоили и гроша. Казалось бы, по сравнению с уже преодоленными трудностями эта машинка - сущие пустяки. Однако Лаборант, как самый технически грамотный среди компаньонов, должен был огорчить своих друзей, что решение вставшей проблемы, пожалуй, будет самым затруднительным делом. Без содействия специалиста, имеющего опыт в конструировании аналогичных приспособлений, тут никак не обойтись. Предприятию еще в утробном состоянии грозила смерть. Глядеть на это спокойно Кока был не в силах, и он начал лихорадочные поиски выхода. Тут-то милостивая судьба и поставила на его дороге инженера-конструктора Боркова. Вербуя его в свою корпорацию, Кока убивал двух зайцев - выполнял задание Антиквара и выводил из тупика монетный двор. Такого успеха он давно уже не добивался. Однако не так-то просто было заполучить от Боркова эту машинку. Кока злился на медлительность, Борков объяснял задержку объективными причинами. Спустя месяц после беседы в доме приятеля Боркова на Большой Грузинской он вручил Коке небольшой, с обыкновенную нетолстую книгу, но необыкновенно тяжелый сверток, и Кока, попрощавшись с несвойственной ему торопливостью, поспешил к Пушкареву. Тотчас были вызваны Лаборант и Гравер. Машинку опробовали. Через несколько дней Кока встретился с Борковым. Он был явно расстроен. Машинка для дела оказалась непригодной, сделанные на штампе надписи не умещались по торцу монеты. К тому же они были очень нечеткими, особенно цифры. Борков был раздосадован. - Что вы говорите?! Неужели произошла ошибка в расчетах? - Выходит, так. - Может быть, сгодится все-таки? - Если ничего не смыслите, лучше помолчите, - разозлился Кока. - Сколько вам потребуется времени для переделки? - Учитывая некоторый опыт, недели три… - Многовато. Но ладно. Через три недели зайду. Прошу повнимательнее. Вскоре, еще до получения от Боркова новой машинки, компания Коки продала первую партию фальшивых монет приезжему из Тбилиси. Было похоже, что Коке удалось приобрести машинку каким-то другим путем. Теперь работники ОБХСС считали, что «монетный двор» окончательно созрел для ликвидации, и внесли на этот счет предложение. Но представители КГБ решительно воспротивились. По оперативным соображениям на данной стадии преждевременно подвергать фальшивомонетчиков аресту. Арестовать Коку - значило провалить всю задуманную полковником Марковым операцию…Глава 17 БОРКОВ ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР
Умолчав о подробностях истории «монетного двора» и о своей собственной в нем роли, Кока во всем остальном не поскупился на детали, и его отчет шефу получился весьма красочным. Он считал, что Владимир Борков, изготовивший хотя и не пригодившуюся машинку, но тем не менее сделавшийся соучастником преступной группы, отныне готов для вербовки. Антиквар рекомендовал не оттягивать. Когда Кока по телефону попросил о встрече, Борков, ждавший гонорара за работу, быстро согласился. Они опять увиделись на Большой Грузинской. Кока положил свою инкрустированную белым металлом палку на стул, снял тяжелое меховое пальто, повесил его на гвоздь, вбитый в дверь, и не торопясь подошел к столу, за которым, скрестив руки на груди, сидел невесело глядевший Борков. - Ну-с, молодой человек, я ваш неоплатный должник, - тоном доброго дедушки, привезшего внуку гостинцы, начал Кока. - Вы отлично потрудились, а каждый труд должен быть вознагражден. Борков усмехнулся, но заговорил мрачным голосом: - Но ведь машинка-то еще у меня. Смотрю на вас и думаю: если у вас попросить взаймы, вы, пожалуй, дадите, но сначала произнесете речь о вреде алкоголя и об испорченности молодого поколения. Кока театрально всплеснул руками. - Неужели похож на этакого нудного старикашку?! Ай-я-яй! Никогда не предполагал. - Кока плавным движением опустил руку во внутренний карман пиджака и двумя пальцами, оттопырив мизинец, извлек небольшой пакетик пергаментной бумаги. - Вам не надо просить у меня в долг. Вы их заработали. Первый ваш образец все же пригодился. Мир, к счастью, не без дураков. - И он положил пакетик перед Борковым. - Двадцатипятирублевыми устроит? Здесь ровно тысяча. Борков, не изменяя позы, метнул быстрый взгляд на деньги. - Вы называли, кажется, другую сумму. - Совершенно верно, - подтвердил Кока. - Но не волнуйтесь, в следующую встречу вы получите еще столько же. У меня сейчас просто нет при себе. - Лучше было бы сразу, - недовольно бросил Борков. - Неужели вам не хочется больше меня видеть? - Кока явно поддразнивал его и не скрывал этого. Борков развернул пакет, взглянул на деньги, спрятал их в карман и сказал: - Бросьте вы этот дурацкий тон, Николай Николаевич. Не идет. Чего вам от меня еще нужно? - Помилуй бог, Володя! - воскликнул Кока. - Я просто предполагал, что на этом наша дружба не кончится. У нас могут и в будущем найтись общие интересы. - Какая там дружба! - Борков махнул рукой. - Что между нами общего? - Мы уже дважды были полезны друг другу. - Ну и хватит. Неужели непонятно?! - Я бы так категорически не отказывался. У меня вы всегда найдете возможность заработать на карманные расходы. Есть много способов. - На карманные расходы? Например? Кока опустил глаза, долго рассматривал свои коротко остриженные ногти, наконец произнес: - Боюсь говорить. Боюсь, не так поймете. - Да уж пойму. До сих пор получалось. - Ну хорошо. - Кока как бы собрался с духом. - Вы можете, например, раз в два-три месяца составлять для меня коротенький отчет, что вам приходилось делать на работе, лично вам. За хорошую плату… Борков съежился при этих словах, но тут же принял злой и презрительный вид. Наступило долгое молчание. Борков смотрел на Коку, плотно сжав губы, словно решив не отвечать вообще. Это выглядело как предложение убираться к чертовой матери. Но Кока не отступал. - Что же вы скажете? - Вы, Николай Николаевич, сошли с ума. Обратитесь к психиатру. - Это ничуть не страшнее, чем ваша машинка. Борков порывисто встал, отшвырнул стул ногой и почти закричал: - Ах, уже машинка моя?! Не ваша, нет! Моя! - Он стоял над Кокой со сжатыми кулаками. Переход от полного спокойствия к бурной вспышке был так неожидан, что старик на мгновение растерялся. - Не волнуйтесь, Володя, - сказал он примирительно. - Я не вкладывал в свои слова никакого особого смысла. - Это шантаж! - по-прежнему громко выкрикнул Борков. - Вы провокатор! На кого вы работаете, старая сволочь?! Кока вздрогнул как от пощечины. - Я не заслужил… - начал было он, но Борков не дал договорить. - Посмотрим! Я сейчас возьму тебя за шиворот и отвезу на Лубянку. - Сказав это, Борков сразу успокоился. - А ну-ка одевайся, дорогой мой вербовщик, я тебя сейчас завербую куда надо. Кока почувствовал, что наступил решающий момент. Он тоже поднялся и встал перед Борковым. - Хорошо, мы пойдем. Но вы не учитываете одного важного обстоятельства. - Не валяйте дурака, - отмахнулся Борков. - Обстоятельства яснее ясного. - Может быть, нам лучше обсудить все мирно, без крика? - Одевайтесь! - приказал Борков. Тогда Кока сел и невозмутимым голосом заговорил монотонно, как будто читал вслух чужую речь: - Должен предупредить вас о следующем. Мне известно все, что случилось с вами в Брюсселе. Я, конечно, скажу там, куда вы меня собираетесь вести, и о Брюсселе, и о долларах, и о сделанной вами машинке. После этого, надеюсь, ваша судьба будет ненамного слаще моей. Учитывая все это, вы должны понять, что ваше намерение непродуманно, более того - безрассудно. Борков склонился над Кокой, опершись рукой о спинку его стула. - При чем здесь Брюссель, старая крыса? - Я не крыса и не сволочь, - задыхаясь, прошептал Кока. - Ты щенок! Я этого не забуду. Ты еще пожалеешь, что оскорблял меня. На, смотри! С этими словами Кока вынул из того же кармана, что и деньги, другой пакет - в плотной черной фотографической бумаге - и швырнул его на стол. Борков развернул пакет, извлек из него пачку фотографий и начал медленно перебирать их. Кока следил за ним с неприкрытым злорадством, угадывая по выражению лица, какую он карточку рассматривает в данный момент. Вот он, Борков, сидит с женщиной за столиком в ресторане, они смотрят, улыбаясь, друг на друга с поднятыми бокалами в руках. Борков и женщина танцуют. Они же в номере гостиницы. Пьют вино. Борков крупным планом - пьяное лицо. На низкой кровати лежит Борков и рядом с ним в постели та же женщина. Женщина обнимает и целует Боркова. Борков и женщина. Оба раздетые. Борков в трусах стоит около кровати и смотрит на дверь, а женщина держит в руках дамские принадлежности. У кровати стоит растерянный Борков, рядом женщина с растрепанными волосами и двое полицейских в форме. Борков и Филипп. Борков отсчитывает деньги. Улица Брюсселя в яркий солнечный день. Метрдотель Филипп и Борков идут по тротуару плечом к плечу. Филипп смотрит прямо в объектив. Борков повернулся к своему спутнику и что-то говорит ему, протягивает большой сверток, который держит в левой руке. Вид у Боркова помятый и растерянный. Точно такой же кадр, только теперь пакет держит Филипп. Он протягивает Боркову белый маленький конверт, стараясь делать это незаметно. Но жест отлично виден. И наконец, последнее - репродукция служебного удостоверения Боркова в натуральную величину. - Та-а-ак… - протянул Борков, сложив фотографии. - Сначала вы всучили мне доллары, а теперь шантажируете Брюсселем. Издалека зашли… Кока уже окончательно оправился. К нему вернулась прежняя уверенность. - Не говорите ерунды, - презрительно заметил он. - Не я вас искал, вы сами меня нашли, когда вам понадобилась валюта. Подозревать в предумышленности скорее можно вас, а не меня. - Откуда же фотографии? - Это другой вопрос. - Не считайте меня дурачком. Таких совпадений не бывает. Значит, снабдили долларами, а потом на всякий случай сообщили туда, на Запад, что едет, мол, подходящий субъект. Так, что ли? Только теперь, после того как Борков высказал свои предположения насчет заранее подготовленного шантажа, у Коки исчезли его собственные подозрения относительно Боркова и этого поразительного совпадения. Он с облегчением почувствовал, что не испытывает больше к Боркову прежнего смутного недоверия. - Что вы действительно субъект - согласен. Остальное - чепуха, - сказал Кока. - Кто дал вам фотографии? - снова спросил Борков, но уже тихим усталым голосом. - Ишь чего захотели! - Кока даже развеселился. Он, кажется, начинал испытывать к Боркову нечто вроде сочувствия. - Вы еще не раздумали вести меня на Лубянку? - Она от вас не уйдет, - мрачно откликнулся Борков. - И от вас тоже. - Наверное. Но я устал с вами разговаривать. Давайте кончать. - Я с самого начала хотел, чтобы мы договорились побыстрее. Но у вас же амбиция… - Кока будто бы оправдывался. - Мое предложение вы уже слыхали. Слово за вами. - Что именно интересует вас в моей работе? - Все, что вам приходится делать. - Я должен излагать в письменном виде? - Да. - И передавать вам? - Да. Борков хлопнул ладонью по столу. - Не пойдет. - Почему? - удивился Кока. - С вами я больше общаться не хочу. - Но почему же? - Вы валютчик и фальшивомонетчик. Да еще и шпион. Слишком много для одного человека. Вас быстро разоблачат. Во второй раз Коке представилась возможность оценить рассудительность молодого партнера. И подивиться в душе, как может это редкое для молодых людей качество уживаться у Боркова с легкомыслием. - Откуда вдруг такая щепетильность? - делано обиделся он. - Какая вам разница? - Если я должен кому-то передавать какие-то сведения, то предпочитаю иметь дело с человеком, который не на виду у милиции. - Что вы, что вы! Я чист, я вне всякой опасности в этом смысле. - Трудно сказать. Может быть, за вами давно следят. Одним словом, не хочу. - Но это уж просто каприз. - Кока пожал плечами. - Как вы не понимаете! - горячо воскликнул Борков. - Это что, игрушки, по-вашему? Или у вас и правда старческий маразм? И так я уже, к сожалению, слишком часто появлялся на вашей орбите. - Одно с другим совершенно не связано, - заверил Кока. - Нет, я еще раз говорю: с вами никаких дел. Если бы записать эту беседу, как записывают на электрокардиограмме биение сердца, получилась бы ломаная линия, то взбирающаяся круто в гору, то стремительно падающая вниз. Как ни старался Кока, Борков был непреклонен. Дав согласие доставлять интересующие Коку сведения, он категорически отказывался поддерживать с ним впредь какие-нибудь отношения. Кока предложил держать связь через третье лицо (имея в виду Кондрата Акулова), но и этот вариант Боркова не устраивал. Ситуация еще больше осложнилась, когда к концу разговора Борков, измученный сомнениями, завел речь о том самом, что Кока при встрече со своим шефом на рыбалке называл полномочиями. Он потребовал доказательств, что Кока действительно связан с иностранной разведкой. Старик пробовал возражать: какие же еще нужны доказательства связи, если перед Борковым лежат эти фотографии? Но Борков заупрямился и сказал, что если уж его хотят купить, то пусть покупает сам хозяин, а не перекупщик. Кока видел, что переубедить Боркова не удастся. Разошлись, договорившись о том, что в ближайшие дни Кока известит Боркова о согласии с его условиями или они расстанутся навсегда.Глава 18 ОПАСЕНИЯ АНТИКВАРА
Николай Николаевич, отчитываясь перед шефом о работе с Борковым, был объективен, не преувеличивал свои достижения, но и не умалял их. Он считал - и шеф с этим согласился, - что основное сделано. Однако, перечисляя причины, по которым Борков отказался сотрудничать с ним, Николай Николаевич, разумеется, опустил валютный мотив. Антиквару, если он не собирался бросать дело на полпути, оставалось лишь одно - предстать перед Борковым. Когда были определены дата и место встречи, Кока увиделся с Борковым «для уточнения деталей», как он выразился. Во время короткого разговора Кока трижды повторил убедительную просьбу: Борков, в их общих интересах, ни в коем случае не должен говорить человеку, с которым встретится, что он покупал у Коки доллары. Борков обещал исполнить эту просьбу. Антиквар не сразу решился на свидание с Борковым. Он колебался, опасаясь прямого контакта с совершенно незнакомой личностью, перед которой ему придется выступать открыто в качестве представителя иностранной разведки. Но соблазн заполучить в свое распоряжение по-настоящему ценного агента победил. Борков - не Николай Николаевич Казин. Тот хоть и ловок, но нигде не работает, не имеет общественного положения. Стариком можно пользоваться как мальчиком на побегушках, и только. А тут человек в расцвете сил, работающий в секретном учреждении и, судя по всему, с отличными данными для скорого продвижения по служебной лестнице. Ему не нравилось, что встречаться с Борковым придется на той же квартире, где происходили свидания Боркова с Кокой, но ничего лучшего придумать не удалось. Субботним вечером 7 марта Антиквар пешком пришел на Большую Грузинскую улицу. Борков с первого взгляда произвел на него благоприятное впечатление. Молодой человек немного нервничал, но старался не выдавать этого перед гостем. Его сдержанность и серьезность вполне отвечали важности момента. Фундамент, заложенный Николаем Николаевичем, избавлял Антиквара от длинных предисловий, и он сразу, как только они расположились за столом друг против друга, приступил к делу. - Нам нужно поговорить о многом, а времени у меня мало, - сказал Антиквар, поглядев на часы. - Чтобы не разбрасываться, давайте поступим так: сначала я буду спрашивать, а вы будете отвечать. Затем наоборот. Хорошо? - Согласен. - Скажите, вы член партии? - Да. - Так. Какой у вас оклад? - Сто семьдесят. Плюс премии. - Недурно, кажется? - Денег всегда мало. - Положение на службе прочное? - Да, вполне. - Дело перспективное? - Думаю. Лаконичностью ответов собеседник все более располагал к себе Антиквара. - Ваша работа имеет какое-нибудь отношение к военным приготовлениям? - К обороне, - мимоходом поправил Борков. - Самое непосредственное. Затем Антиквар предложил Боркову коротко рассказать о своей жизни. Биография была небогатая, ее изложение заняло пять минут. И опять последовали вопросы. - Вам знакомо общее направление деятельности вашего института? - Да. - У него есть объекты на периферии? - Есть. Несколько. - Вам приходится бывать на них? В командировки посылают? - Довольно часто. Раз пять-шесть в год. - Режим на ваших предприятиях строгий? Обыскивают в проходной? - Ну что вы! Конечно, нет. - Вы лично имеете доступ к совершенно секретным документам? - Да. Положительно Антиквар начинал испытывать радость, какую приносит человеку только очень большая удача. Но тут он задал вопрос, который резко переломил настроение. И не только настроение. Этот момент можно считать поворотным пунктом в развитии событий. - Почему вы не желаете иметь отношений с Николаем Николаевичем? Антиквар спросил об этом между прочим, для разрядки, чтобы не замешивать тесто слишком густо. Борков впервые ответил пространно, и то, что он сказал, мгновенно сделало Антиквара мрачным и настороженным. - С ним опасно, - убежденно, как о хорошо продуманном, заявил Борков. - Во-первых, он валютчик. Я это знаю потому, что сам пользовался его услугами. Когда наметилась поездка в Брюссель, я искал доллары. Меня свели с Николаем Николаевичем, и он быстро достал мне двести долларов… Сразу стало ясно, кто он такой… А сейчас за валютчиками охотятся и госбезопасники, и обэхаэсники… Вы понимаете, чем это грозит? У Антиквара перехватило дыхание, будто его схватили за горло. Спокойное течение беседы, размеренный ход мыслей до этого создали настроение, которое можно было назвать благодушным. И вдруг все смешалось в голове у Антиквара, словно винт, на котором держалось равновесие, выдернули одним рывком. Ему показалось, что он просто ослышался. - Николай Николаевич давал вам доллары?! - Да. Двести. - Он заранее знал о вашей поездке в Брюссель? - Да. Антиквар снял очки, прикрыл глаза ладонью, словно его раздражал свет люстры. - Вы не знали об этом? - тихо спросил Борков. Антиквар молчал. Он, кажется, совсем забыл о присутствии собеседника. - Мне не нравятся такие совпадения, - сказал Борков. Антиквар не реагировал. Как шахматист, восстанавливающий в памяти вслепую, без доски, сыгранную партию, он воспроизводил историю своего знакомства с Николаем Николаевичем Казиным. Слова Боркова о долларах были полной неожиданностью, свидетельствовали о двуличии Коки и ставили Антиквара перед неприятной необходимостью - решить, кто он такой, этот хитрый старик. И кто такой сидящий перед ним инженер Борков. Когда Антиквар давал задание найти Боркова и навести о нем справки, Николай Николаевич ничем не выдал, что уже знает этого человека. Только очень тренированный лжец способен вести такую игру. Кто завязывал узел? Что здесь - умысел или необыкновенное стечение обстоятельств? Если это из разряда поражающих воображение, но не столь уж редких в жизни случайностей, то умолчание Николая Николаевича можно было легко объяснить: он хотел набить себе цену. Альтернатива выглядела страшно: кто-то один из двоих - Казин или Борков - действует по тщательно разработанному плану. - Могу я задать вам вопрос? Голос Боркова не вывел Антиквара из задумчивости, и отвечал он механически. - Да, пожалуйста. - Хотел бы знать, кто вы… - Сотрудник посольства… - От дружелюбного тона не осталось и следа. Антиквар надел очки и спросил совсем неприязненно: - Для вас это имеет значение? - Да. В таком случае я должен сказать вам то же, что и Николаю Николаевичу. - Я еще ничего не предлагал, - проворчал Антиквар. Он понял, что ведет себя недостойно перед этим едва оперившимся птенцом, и тут же опять сделался любезным. - Я пришел просто познакомиться… - Это звучало примирительно, но, заметив ироническую улыбку Боркова, Антиквар добавил с насмешкой: - Вы очень нежно к себе относитесь. - Такой дипломат, как вы, еще хуже, чем валютчик, - сказал Борков. - Почему же? - Спросите у Пеньковского. Антиквар покачал головой: - Ах вот оно что! Ну конечно, конечно… Он вспомнил, что и Николай Николаевич называл на рыбалке фамилию Пеньковского, и готов был считать, что это тоже не случайно. Но отогнал навязчивую мысль - эта одиозная фигура была злобой дня, ее поминали по разным поводам все… - Значит, мы с Николаем Николаевичем вас не устраиваем, - подвел итог Антиквар. - Ну хорошо… Можно поддерживать тесные отношения и никогда не встречаться лично. Такой вариант вам подходит? - Это было бы лучше всего. Антиквар вынул из пиджака коричневый бумажник, блокнот и авторучку. И сказал сухо: - Поскольку мы понимаем друг друга с полуслова, давайте перейдем на язык деловых людей. Вот деньги - здесь не так много. Вот ручка и блокнот. Напишите на чистом листе следующее: «Аванс получил». И распишитесь. Борков колебался. Он переводил взгляд с блокнота на бумажник, с бумажника на блокнот и кусал губы. Наконец спросил: - Зачем расписка? - Наша гарантия - деньги. С вашей стороны должна быть какая-то гарантия? Борков взял авторучку, раскрыл блокнот, положил его поперек. - Почерк менять не следует, - предупредил Антиквар. - Распишитесь, пожалуйста, как вы обычно это делаете. Посмотрев на сделанную Борковым запись, он спрятал блокнот и ручку и поднялся со стула. - Я ухожу. Вам придется встретиться еще только раз со мной или с Николаем Николаевичем. Чтобы условиться, каким образом мы будем держать связь. - Когда это произойдет? - спросил Борков. Вид у него был подавленный. Антиквар надел свое бобриковое пальто, дешевую шапку-ушанку. - В ближайшее время. До свидания. - Антиквар поклонился. - Всего хорошего. Я вас провожу. - Нет, нет. - До двери… Антиквар, выйдя на свежий воздух и оставшись наедине с собой, вновь смутно ощутил нависшую над ним опасность. Он не мог отделаться от возникшего там, в комнате, откуда только что вышел, противного чувства. Он представлялся самому себе водителем машины, который крутит баранку и вдруг обнаруживает, что рулевое управление отказало и машина на полной скорости несется сама по себе. Ему было невмоготу бездействие, хотелось немедленно предпринять какие-то меры, чтобы опасения, заползшие в душу, были бы подтверждены или развеяны. Остановившись под фонарем, он снял с одной руки перчатку, пошарил в кармане пальто, сгреб звякнувшую мелочь, поднес ее на ладони к глазам. Двухкопеечная монета нашлась. На углу, где Большая Грузинская пересекает улицу Горького, Антиквар зашел в будку телефона-автомата. Кока поразился, услышав голос шефа, и сразу сообразил, что произошло нечто серьезное. Было десять часов вечера, он уже собирался ложиться спать, намотавшись за день, но хотя слова шефа и звучали безобидно, однако вся усталость мигом слетела. - Примите, пожалуйста, заказ на междугородный разговор, - сказал Антиквар. - Плохо слышу. Повторите, - ответил Кока. - Мне срочно нужен разговор с Баку. - Вы ошиблись. Это частная квартира. - Извините. Впервые за их знакомство Антиквар прибег к вызову Коки на экстренную явку. Пароль звал Коку срочно явиться в заранее обусловленное место. Они встретились через час на Центральном телеграфе. В переговорном зале, как всегда, было много народу. Антиквар заговорил со сдержанным негодованием, сквозь зубы: - Вы знали этого субъекта задолго до того, как услышали его имя из моих уст. Вы продавали ему валюту. Как это понимать? Кока вздохнул, почувствовав облегчение оттого, что игра в молчанку кончилась. - Все-таки доложил, подлец, - молвил он как бы про себя. - А я, старый дурень, унижался, просил не говорить… Антиквар посмотрел на него так, будто Кока вырос перед ним из-под земли, но ничего не сказал. Кока начал объяснять сбивчиво, спотыкаясь. Он моментально смекнул, какую паутину подозрений мог сплести шеф из истории с долларами. Может быть, впервые в жизни Кока был искренен до конца и рассказал все в мельчайших подробностях. - Нам обоим есть над чем подумать, - бесстрастно резюмировал Антиквар, когда Кока умолк. - Я вас разыщу. Они разошлись. Исповедь Коки успокоила Антиквара. Она была, несомненно, правдива. В этом убеждала незаметная с виду, но очень красноречивая деталь: Кока не скрыл, что упрашивал Боркова молчать о долларах, об их знакомстве. То, что Борков не сдержал слова и выложил все, когда его никто не тянул за язык, Антиквар расценил как плохо замаскированную уловку. Борков хотел поднять свои акции. Иной расшифровки Антиквар вообразить не мог. Все остальное не выдерживало критики. Но версия о заранее разработанном плане все-таки не отпала. Антиквар на первом же задании решил устроить Боркову проверку.Глава 19 ПРИЗРАК ПАНИКИ
После разговора с Борковым Антиквар потребовал от Коки максимума осторожности. По этому поводу он прочел целую лекцию о методах конспирации. Вот почему Кока впервые отказался от услуг домашнего телефона и все переговоры, касающиеся его дел и связей, отныне вел из телефона-автомата. - Володю можно? - Кока говорил из автоматной будки на площади Пушкина. - Он в больнице, а кто его спрашивает? - ответил Коке знакомый голос Дмитрия Сергеевича, старичка в меховом жилете. - Это его товарищ. А что с ним случилось? - Вчера ночью увезла «Скорая помощь». Отравление. У Коки от услышанного перехватило дыхание. - В какую больницу, куда он помещен? - В Первую градскую. А кто спрашивает? - Благодарю вас! - И Кока осторожно повесил трубку. На душе стало как-то сразу пусто. Что же делать? Во-первых, надо немедленно сообщить шефу. Во-вторых, во-вторых… А вот что надо было делать во-вторых, Кока решить не мог. Спускаясь вниз по улице Горького, он на всякий случай проверил, нет ли за ним слежки, и, убедившись, что ее нет, немного успокоился. Что могло произойти с Борковым? Ведь шеф говорил ему, что Борков без особых волнений принял предложение о сотрудничестве и даже проявил похвальную осторожность во взаимоотношениях. Что это за отравление - случайное или преднамеренное? Допустим, случайное. Тогда все в порядке и нет повода для беспокойства. А если преднамеренное? Тогда что? Тогда тоже нет особых поводов для волнений, во всяком случае, для него. Все естественно. Моральная подавленность. Страх перед расплатой. И решение созрело. Теперь только бы остался живой. Пусть волнуется шеф. И надо как можно скорее довести до его сведения эту новость… Кока и не заметил, как очутился у своего дома. Поднялся на третий этаж, долго возился у двери, пока сумел открыть все четыре хитроумных замка. Быстро разделся, достал из тайника принадлежности для тайнописи. Тщательно выводя буквы, написал шифрованное сообщение. Потом для профилактики выпил двадцать пять капель валокордина, вышел на улицу и сел в такси. На счетчике было около рубля, когда Кока приказал остановить такси. Расплатившись с шофером, вышел из автомашины. Несколько минут медленно шел по незнакомой улице. Остановился около почтового ящика и опустил письмо. Обратно Кока возвращался городским транспортом. Через два дня он получил у киоскера Акулова ответ шефа. Тот предлагал немедленно узнать в больнице, что произошло с Борковым, и навестить его. Если это попытка самоубийства, постараться успокоить и при этом не стесняться в обещаниях материальных благ. Затем срочно сообщить обо всем через Акулова, а тайнописью впредь пользоваться только в остронеобходимых случаях. …В справочном Первой градской Коке сказали, что Борков поступил с отравлением от принятого им в большом количестве барбамила. Сейчас состояние улучшилось и для жизни опасности нет. Коку к больному Боркову не допустили. У него уже находился какой-то посетитель. Надо дождаться, когда тот посетитель возвратится. И Кока, возмущенный такими порядками, сидел и ждал. Сидел час. Сидел два. За это время он, однако, успел приметить, что стоявшая в очереди впереди него молодая женщина уже возвратилась, а он все ждет и ждет. Когда она ушла, Коку осенила идея. Он подошел к гардеробной, назвал фамилию больного, которого навещала эта женщина - он слышал, как она назвала фамилию, - и, получив халат, поднялся на третий этаж. Кока увидел Боркова лежащим в коридоре. Рядом на табуретке сидела Римма. Она тихо говорила что-то. Кока отвернулся, прошел мимо и, воспользовавшись вторым ходом, покинул хирургическое отделение больницы. Он не хотел попадаться на глаза Римме. Свидание с Борковым не состоялось. О разговоре в таких условиях не могло быть и речи. Но Кока был рад: сомнения исчезли, и Борков теперь не внушал ему подозрений. Скорее наоборот. Этот случай говорил в его пользу. …В первый же вечер по выходе Боркова из больницы Кока позвонил ему на квартиру, попросил встречи. Борков после некоторого раздумья согласился. Встретились они на площади Маяковского у памятника. Борков похудел, был вял, бледен. Кока предложил зайти в ресторан «София». Борков не возражал, ему было все равно. В ресторане, выбрав столик в углу, подальше от людей, они сели. Сделали заказ. Борков от водки отказался. Кока не настаивал, он понимал, что пить ему сейчас нельзя. - Меня просили передать искреннее соболезнование по поводу случившегося, и вот это вам для восстановления здоровья. - Кока положил перед Борковым конверт, в котором лежало пятьсот рублей. Борков и глазом не повел. Он был совершенно безучастен к тому, что здесь происходило. - Нельзя так опускать руки. Нужно встряхнуться, все не так уж плохо, - сказал Кока. Борков продолжал смотреть в одну точку. Затем поднял глаза на Коку, коротко произнес: - Боюсь… Кока оживился: - Ну разве можно так! Даже при переходе улицы риск бывает велик - можно попасть под машину и расстаться с жизнью. А у нас с вами пока все шло хорошо, так и пойдет. Надо только соблюдать меры предосторожности. А барбамил что ж? Он всегда под рукой… Ну, ваше здоровье. - Кока чокнулся с пустой рюмкой Боркова. - Перед вами могут открыться блестящие перспективы. - Кока кивнул куда-то вбок. - Пью за это. - На что намекаете? - спросил Борков. - Советский Союз составляет ведь только одну шестую часть суши, не правда ли? - Обождите, - сказал Борков. - Я, пожалуй, тоже выпью. Он быстро налил в рюмку водки, чокнулся с Кокой и опрокинул ее в рот. Кока улыбался ободряюще. Нечто вроде улыбки промелькнуло и на лице у Боркова, но она была иного рода… …Через месяц Владимир Борков получил от Антиквара задание составить письменный обзор работы периферийных объектов института. Основными пунктами обзора должно быть: а) расположение и наиболее характерные ориентиры на местности; б) фамилии начальников и ведущих конструкторов; в) характеристика выпускаемой продукции. Боркову были даны средства тайнописи - блокнот карманного формата и карандаш. Когда обзор будет готов, Борков должен поступить следующим образом. Купить чемодан и наполнить его вещами - неважно какими, лишь бы они были тоже купленными, новыми. В числе вещей обязательно должно быть несколько предметов из магазина канцелярских товаров - блокнот, тетрадка, перья и тому подобное. Дело в том, что блокнот, врученный Боркову, по виду был в точности такой, какие выпускаются одной из московских фабрик с наклеенным на корочке настоящим фабричным ярлычком. Если чемодан попадет не по назначению, блокнот с тайнописью вряд ли обратит на себя внимание среди других письменных принадлежностей. …К середине апреля обзор был готов. В воскресенье, девятнадцатого, Борков отправился в ГУМ, купил чемодан умопомрачительной расцветки, затем прошелся вдоль прилавков на втором этаже, и к концу похода чемодан заполнился разнообразными швейными изделиями и канцелярскими принадлежностями. Выйдя из магазина, Владимир направился к площади Дзержинского. По пути была аптека, и он зашел в нее, чтобы купить зубную пасту - у него дома паста кончилась. В отделе штучных товаров он несколько минут постоял над застекленной витриной, рассматривая лекарства, а потом подошел к кассе, выбил чек и получил у продавца пасту, а также - странное дело - два флакончика валерьянки. Пасту сунул в карман плаща, а валерьянку спрятал в чемодан. Тут же он переложил из пиджака в чемодан и блокнот с тайнописью. Затем он действовал точно по полученным от Антиквара инструкциям. Путь его лежал на Комсомольскую площадь. Из метро он отправился прямо к автоматическим багажным камерам Казанского вокзала. Отыскав свободную ячейку, Борков поставил в нее чемодан, набрал на диске четырехзначный номер - шифрованный ключ к ячейке, опустил в щелку пятнадцатикопеечную монету и закрыл дверцу. Как делают все пассажиры, пользующиеся камерами-автоматами, Борков записал номер ячейки и набранное число. Для этого он отошел в сторону, чтобы кто-нибудь не увидел, заглянув ему через плечо, цифры шифра. После этого спустился в метро и по телефону-автомату позвонил Коке. Не называя себя, он четко, с расстановкой продиктовал подряд семь цифр - номер ячейки и шифр и еще добавил двойку. Условленный способ кодирования был простейшим, но сложнее тут и не требовалось. Борков смотрел в бумажку с многозначным числом, но, перечисляя записанные цифры, он каждую из них увеличивал на единицу: тройку называл четверкой, ноль - единицей и так далее. В конце была двойка. По инструкции он должен был оставить чемодан на одном из трех вокзалов Комсомольской площади. Единица обозначала Ленинградский, двойка - Казанский, тройка - Ярославский. …Через неделю пришла радиограмма на имя Надежды. Она была краткой: «К вам обратится с просьбой наше доверенное лицо. Окажите всю посильную помощь». Далее сообщался пароль и ответ. Михаил Тульев и Павел выехали в город К. Они вновь поселились в том домике, куда Тульев-Надежда перевез свои вещи, но где ему так и не удалось пожить, потому что как раз в день переезда он был арестован. Без малого год минул с той поры. А что такое год? Долгий это срок или короткий? Месяц, день, час, минута - они одинаковы для всех людей только как условная мера времени. Но для жизни у каждого человека - свояособая мера. И каждый когда-нибудь неизбежно открывает для себя давно открытую истину, что год может пролететь быстро, как один день, а иной день тянется долго, как целый год. Чем измерить время, проведенное Михаилом Тульевым под арестом? Какой календарь годится человеку, который тысячу раз прогнал себя по ступенькам своего прошлого - вниз-вверх, вниз-вверх - в поисках своей потерянной души? Внешне он мало изменился, только смуглое лицо его побледнело без солнца, да плечи стали немного сутулиться, когда он задумывался. Но Павел видел большую перемену. Надежда-Тульев прежде был нервен и норовист без нужды, как пассажир на узловой пересадочной станции, ожидающий поезда и боящийся его прозевать. И вместе с тем в облике его было нечто хищное, ястребиное. Теперь от него веяло спокойной сосредоточенностью, а черты лица сгладились и подобрели. Павел спал крепко, но обладал способностью мгновенно просыпаться от тихого шума в комнате. И часто по ночам он просыпался оттого, что Тульев чиркал спичкой, закуривая. Павел не испытывал к нему недоверия и не боялся с его стороны какой-нибудь неразумной выходки, хотя, ставя порой себя на его место, думал, что сам он, пожалуй, в подобной ситуации не растерялся бы и попробовал дать тягу. Однако тут же возражал самому себе: да, но для этого нужно, чтобы человек крепко верил в свое дело. Михаил же Тульев поставил жирный крест на всем, что когда-то считал своим делом, вдребезги разбил идолов, которым прежде поклонялся. Однажды ощутив себя человеком без будущего, он страстно желал теперь лишь одного: утвердиться в жизни, почувствовать свою необходимость на земле. Павел и Михаил сами готовили себе горячую пищу, и это помогало убивать время в ожидании гостя. В магазин ходили по очереди, чтобы кто-то один всегда был дома. Тульев много читал, пользуясь довольно богатой библиотекой хозяев. Иногда Павел просил его позаниматься с ним английским языком, которым Тульев владел в совершенстве. Так прошло восемь дней. На девятый день утром пожаловал долгожданный гость. Им оказался Кока. Увидев его через открытое окно, Павел предупредил Михаила и ушел в другую комнату, затворив за собой дверь. Кока постучал. Войдя, поздоровался и сразу сказал пароль, а услышав ответ, попросил дать ему напиться - утро стояло жаркое. Михаил предложил чаю - они с Павлом только что позавтракали, чай был горячий, - и Кока с благодарностью согласился выпить чашку-другую. Пил он вприкуску, не торопясь. Интересовался житьем Михаила, исподтишка его разглядывал. - Вы что же, нигде не работаете? - Работаю. Взял неделю за свой счет. Тульев под фамилией Курнакова числился шофером в транспортном грузовом управлении, которое занималось дальними перевозками. Это было сделано еще в феврале - на случай новой проверки со стороны центра. - В одиночестве обитаете? - Есть товарищ. - Я хотел сказать - не женаты? - Пока нет. - Ну и правильно. - Я тоже так думаю. Утолив жажду, Кока приступил к делу. Перед Надеждой появилась рукопись, отпечатанная на портативной машинке, - это была копия обзора, составленного Борковым. - Нас не могут подслушать? - спросил Кока. - Нет. Все в порядке. Но береженого и бог бережет. Они вышли из дома в сад, сели на скамейку. - Тогда прошу минуту внимания. - Кока положил ладонь на рукопись. - Вы прочтете это и увидите, что здесь названо несколько объектов. Вам нужно проверить сообщаемые данные, но объектов слишком много, все охватить будет непосильно, поэтому возьмите какой-нибудь один. На ваше усмотрение. Что вам будет удобнее. Просили передать, что дело спешное. Надежда взял рукопись, перелистал ее. Он был мрачен и недоволен. - Некстати вся эта затея. И что значит спешно? - Срок не называли, но пожелание такое, чтобы по возможности быстрее. Здесь есть и недалекие объекты. - Суть не в расстояниях, - сказал Надежда с досадой. - Ну хорошо. Каким образом нужно передать, когда будет готово? - Сказано, что вы сами назначите дату и способ. Через разведцентр. Надежда с минуту подумал и спросил: - Этот человек в табачной лавке жив-здоров? Надежен? - Да. - Тогда скажите тому, кто вас послал, что воспользуемся киоскером. Пусть его предупредят. - В этом нет необходимости. Он постоянно действующий. - Тем лучше… Кока отказался от обеда, сказав, что спешит. Павел и Надежда через неделю уехали в Москву. Владимир Гаврилович Марков, узнав о посещении Надежды Кокой, был удовлетворен, ибо события в основном развивались нормально. Хотелось бы, конечно, поторопить их, но искусственность тут была категорически запрещена. Он бы сфальшивил, если бы Надежда исполнил просьбу Антиквара слишком скоро. Это позволило бы Антиквару почувствовать фальшь. Вот почему только в июле Павел посетил киоск, где работал Кондрат Акулов, и оставил ему микропленку, на которой было сфотографировано написанное рукой Надежды сообщение об одном из объектов, упомянутых в обзоре Владимира Боркова. Антиквар, прочтя сообщение Надежды и сравнив его с данными Боркова, испытал ужас. Похожее чувство охватывает человека, который входит в темную комнату и инстинктивно сознает вдруг, что в ней затаился и ждет кто-то чужой. Надежда утверждал, что данные Боркова правильны только в части, касающейся координат объекта. Во всем остальном они - чистая липа. Надежда сообщал истинные имена и фамилии начальника и главного инженера интересующего разведцентр объекта и сведения о подлинном характере выпускаемой им продукции. Опасения Антиквара усилились. Значит, Владимир Борков подставлен ему контрразведкой. А может быть, и не подставлен? Может, пошел, покаялся и его решили использовать для засылки дезинформации? Такой вариант тоже не исключался. Иначе имеет ли смысл контрразведке оставлять на свободе Коку и не тревожить его самого, атташе иностранного посольства? Состояние Антиквара было почти паническое. Он составил пространную депешу для центра, отослал ее и с нетерпением ждал ответа. Он не знал, как вести себя в дальнейшем с Борковым и Николаем Николаевичем, а пока в целях предосторожности решил прекратить с ними всякую связь. От Надежды в разведцентр тогда же ушла радиограмма, в которой сообщалось, что он рассчитывает заполучить в недалеком будущем документы чрезвычайной важности, для передачи которых необходим самый верный и надежный канал. Разведцентр в ответной радиограмме, начинавшейся словами «К неукоснительному исполнению», категорически приказывал Надежде прекратить какое бы то ни было общение с лицами, ранее входившими в контакт с ним, а относительно передачи ценных материалов сообщал, что о способе Надежда будет уведомлен дополнительно. Антиквар также вскоре получил от центра инструкции. К удивлению, ему предлагалось продолжать связь с Борковым. Дезинформация, будучи разоблаченной, тоже приносит известную пользу. А безопасность Антиквара как разведчика, обладающего статусом дипломата, не вызывает сомнений, поскольку он служит каналом для этой дезинформации. Так рассуждали в центре.Глава 20 КРАТКИЙ ОБЩИЙ ОТЧЕТ
Владимир Борков - полковнику Маркову «Полагая, что история знакомства Риммы с Юлей вам известна, опускаю этот момент и перехожу к фактам, касающимся меня непосредственно. Как и предполагалось, К. не отказался снабдить меня долларами. Насколько удалось заметить, он не испытывал при этом никаких колебаний и подозрений на мой счет. Здесь сыграло большую роль то обстоятельство, что К. давно знает Юлию и, безусловно, верит ее рекомендации. В Брюсселе сложилось не все так, как было задумано. Несмотря на кратковременность моей командировки, первые дни никто мной не интересовался. Стало очевидным, что наш расчет на то, что К. обязательно должен доложить А. о взятых мною у него долларах, а последний, в свою очередь, поставит об этом в известность разведцентр и таким образом я окажусь в их поле зрения, не оправдался. Вынужден был перейти на запасной вариант и действовать в зависимости от складывающейся обстановки. Метрдотеля по имени Филипп я нашел в первое же посещение ночного ресторана. Описание его внешности, полученное мною из показаний Надежды в Москве, оказалось очень точным. Обратить на себя его внимание не составило труда. Как распорядитель, он по обязанности принимает каждого ресторанного посетителя лично, и я не составил исключения. То, что я советский гражданин, удалось показать довольно мягко, с помощью жеста и коробка московских спичек (с первых шагов я выдал себя за француза). Мне не пришлось навязываться Филиппу, я только облегчил ему подход. Филипп действовал быстро и решительно, но появление его подручной - Жозефины - было обставлено аккуратно и не могло бы насторожить человека непредвзятого. Во всем, что последовало дальше, ничего оригинального не случилось, обе стороны шли друг другу навстречу. Думаю, что номер гостиницы, куда привела меня Жозефина (все адреса и названия различных заведений даю в приложении), специально оборудован для приемов, подобных оказанному мне. Только после выпитого у нее бокала вина я почувствовал действие снотворного. Очевидно, его доза была ударной. Но я все же сумел уйти из ее номера. С трудом добрался до своей гостиницы. Остальное помнится как во сне. Утром я обнаружил в своей комнате Жозефину. Вскоре пришли полицейские. Назревал скандал. Однако в роли спасителя появился Филипп. И все уладилось. Я не заметил, как и когда меня фотографировали, а меж тем качество фотографий, которые мне пришлось видеть у К., и планы кадров говорят об отличных, удобных условиях съемки. Жозефина провела свою партию легко и естественно. Я тоже не испытывал особых затруднений, хотя в отдельных случаях можно было бы действовать мягче. Но поскольку рыбка уже заглотнула крючок, я не очень беспокоился, где и когда ее вытащить. После визита Жозефины у меня исчезли служебное удостоверение, карточка, на которой я был снят с матерью, и пропуск в институтскую поликлинику. Как и ожидал, все эти документы с соблюдением конспирации мне вернул Филипп (они были изъяты у Жозефины). Попыток к вербовке меня Филипп не предпринимал, несмотря на благоприятную для этого обстановку. Очевидно, было решено последний ход сделать в Москве. Это нечто новое в их тактике. При первой встрече с К. по возвращении из Брюсселя (она произошла в доме Риммы) я склонен был предполагать, что он уже получил задание начать мою обработку. Такое заключение напрашивалось потому, что некоторые вопросы К., заданные мне в разговоре, звучали двусмысленно, как будто ему уже было кое-что известно. Но это оказалось ошибочным впечатлением. И наоборот, когда К. предложил мне принять участие в фабрикации фальшивых золотых монет, я думал, что он уже не будет выступать в качестве представителя разведки. Разумеется, слишком опрометчиво для человека, занимающегося шпионажем, быть замешанным в уголовном преступлении. Это чистосердечное заблуждение очень помогло мне естественно провести эпизод, во время которого К. услышал от меня отказ сотрудничать с ним как агентом разведки. (Подробности моих бесед с К. и А. опускаю, поскольку беседы записаны на магнитофонную ленту. Я прослушивал ее - запись хорошая.) Уславливаясь затем о свидании моем с А., К. несколько раз повторил настоятельную просьбу, чтобы я не сообщал А. о долларах. Это убеждало, что в глазах К. я оставался пока вне подозрений. В противном случае он не осмелился бы скрывать от А. факт нашего знакомства до моей поездки в Брюссель. Так как в мою задачу входило возбудить у А. сомнения, я при свидании сказал о своих связях с К. на валютной почве. А. трудно переваривал эту новость. Плохо владел собой. Его отношение ко мне сразу изменилось. Однако при повторной встрече я не мог заметить недоверия. Полученный от вас обзор я переписал в блокнот, врученный мне А. Затем поступил точно так, как велел А., - купил чемодан, заполнил его кое-какими вещами и положил туда блокнот. Чемодан отвез и сдал в автоматическую камеру хранения на Казанском вокзале и по телефону сообщил К. шифр камеры. Больше ни К., ни А. я не видел. С их стороны попыток слежки за мной не наблюдал. Это же подтверждает и наша оперативная служба. Деньги в советских знаках, полученные от К. и А., прилагаю. Лейтенант В. Кустов (Борков).14 июля 1964 года». Кустов, сидевший молча напротив полковника, видел, что он в прекрасном настроении. Заметив, что отчет дочитан до точки, Кустов сказал: - Простите, Владимир Гаврилович, не упомянул одну деталь. - Что именно? - Я в чемодан, кроме всего прочего, валерьяновых капель положил два пузырька. - Это зачем еще? - удивился полковник. - Полагаю, ему пригодится. Полковник нахмурился, но Кустов понимал, что это не всерьез. - Ты, я вижу, вроде Павла Синицына, - сказал Владимир Гаврилович ворчливо. - Фантазеры… - Виноват, товарищ полковник. - Не лень было в аптеку ходить? - Так ведь по дороге… - Ладно. Кончилась твоя миссия в этом деле. - Полковник встал, протянул Кустову руку. - Спасибо, Володя. За исключением отдельных шероховатостей, все было отлично, хотя это и первый твой блин. - Служу Советскому Союзу, товарищ полковник, - серьезно произнес Кустов. - Вопросы и просьбы есть? - Да, Владимир Гаврилович, прошу отметить Риту, извините, Маргариту Терехову… Она заслуживает этого. - Согласен. Рита хорошо выполнила задачу… Теперь нам нужно подумать над одним вопросом и, главнее, быстро решить его… - Да, Владимир Гаврилович… - Всех ли людей мы знаем, на которых опирается Антиквар, и до конца ли мы его вытряхнули? - Думаю, да. - Почему? - Вряд ли можно допустить, чтобы Антиквар за столь непродолжительное время пребывания в нашей стране мог иметь на связи более трех агентов. - Вот в этом нам как раз следует хорошенько убедиться и быть уверенными, что после него не останется никаких корней… Подумайте и вы с Павлом, как это лучше сделать, а завтра после обеда обменяемся мнениями.
Глава 21 ВСЕМУ ПРИХОДИТ КОНЕЦ
Антиквар с некоторых пор стал ощущать за собой упорную слежку. Он был опытным разведчиком, да к тому же следившие не особенно щепетильничали, это входило в их планы, так что заметить слежку не составляло труда. А после того как стало очевидным, что Борков является агентом советской контрразведки, слежка имела достаточные объяснения, и Антиквар находил ее в порядке вещей. Сидя за рулем, он посматривал поочередно в зеркальца - над ветровым стеклом и сбоку. Миновав центральную часть города, повернул к Серпуховке, через Каширское шоссе выскочил на Кольцевую автостраду. Там он надеялся быстро покончить со слежкой. Мотор его машины легко давал сто восемьдесят километров в час, а скорость на автостраде не ограничивается. Как только он миновал Добрынинскую площадь, на колесо ему села светло-бежевая «Волга», которую он мельком отметил в столпотворении автомобилей еще при въезде на Каменный мост. В зеркало хорошо было видно, что в машине, кроме шофера, на заднем диване сидят двое. Антиквар попробовал оторваться от бежевой после очередного светофора, рассчитав так, чтобы пересечь линию в момент, когда зеленый свет сменится желтым. У него получилось все очень удачно, но «Волга» не отстала, проехав на желтый свет, хотя могла и должна была затормозить, потому что была в момент переключения света метрах в семи от пешеходной дорожки. Антиквару стало совершенно ясно, что это «хвост», и злой спортивный азарт овладел им. Достигнув лепестковой развязки, которой соединялось шоссе и Кольцевая автострада, он взглянул в зеркальце, убедился, что «Волга» тут как тут, и по отлогому широкому подъему рывком въехал на автостраду. Сразу сбавил газ, потому что «Волга» отстала, - ему хотелось поиграть с нею, он был уверен в своем моторе и знал, что уйдет от преследования, когда пожелает. «Волга» настигла его и уже собиралась обогнать, не боясь того, что он развернется и уйдет обратно, так как движение на кольце одностороннее, встречная полоса отделена широким газоном. Антиквар дал «Волге» поравняться с собой и вдавил акселератор до упора. Машина у него была очень приемистая, с места за несколько секунд развивала едва ли не сто километров, и «Волга» моментально осталась далеко позади, словно колеса у нее вертелись вхолостую. Антиквар больше не смотрел на преследователей, он знал, что его не достанут. Он съехал у кольца на Ярославское шоссе и через пятнадцать минут был у Колхозной площади. Немного не доезжая до нее, свернул вправо, выбрал тихий переулок, поставил машину, запер двери и пешком пошел на площадь. Здесь взял такси и велел шоферу ехать не торопясь на Новодевичье кладбище. Было пять минут второго. Антиквар не раз посещал Новодевичье и хорошо разбирался, если можно так выразиться, в его географии и административном делении. Он гулял по аллеям с видом завсегдатая, медленной походкой, заложив руки за спину, глядя одинаково рассеянно на лица встречавшихся ему людей и на пышные надгробия. Он был одет в серый легкий костюм и белую рубашку апаш. В петлице лацкана синел маленький треугольный значок, через плечо висела «лейка» в черном чехле. Без пяти два Антиквар остановился перед могилой с очень красивым памятником, перевесил фотоаппарат на шею, вынул его из чехла и снял заднюю крышку. Ему необходимо было показать, будто с аппаратом что-то не ладится. Мимо проходили люди, тихо, стараясь не шаркать и говорить шепотом. Антиквар не обращал ни на кого внимания, словно и вправду целиком сосредоточился на неполадке в аппарате. На его часах было две минуты третьего, когда рядом остановился Акулов. - Поглядите под ноги, - тихо сказал он и отошел в сторону. Антиквар посмотрел под ноги - на чистом песке лежала кассета с торчащим кончиком пленки. Ее за секунду до этого бросил Акулов. Антиквар нагнулся, чтобы взять кассету, но в тот же миг чья-то нога в черном башмаке на толстой подошве накрыла ее, едва не прищемив Антиквару пальцы. Он, вздрогнув, поднял голову. Перед Акуловым и Антикваром стояли четверо молодых - лет по тридцати - мужчин в летних светлых костюмах. Тот, кто наступил на кассету, уже держал ее в руке. - Что за хулиганство! - возмутился Антиквар. - Средь бела дня… Другой из четверки, вероятно старший, вынул бордовую книжечку, предъявил ее Антиквару. - Подполковник Шатов. Мы из Комитета госбезопасности. Вам и ему, - подполковник кивнул на Акулова, - придется пойти с нами. - В чем дело? - спокойно спросил Антиквар. - Вам придется последовать за нами, - повторил Шатов. Антиквар торопливо полез в карман, но Шатов уже на него не смотрел, отдавая распоряжения, как их везти. Тут вставил слово Акулов: - Ну что вы, ребята! Я-то тут при чем? - Вы подбросили пленку, а он собирался ее взять… - Это моя кассета, - вступился Антиквар. - Она чистая, можете убедиться. Я протестую. Это провокация. - Хорошо, разберемся. А сейчас прошу следовать за нами. Их группа уже обратила на себя внимание, находившиеся поблизости люди начинали останавливаться. - Я подчиняюсь силе, - сказал Антиквар и первым зашагал по дорожке, на ходу пряча «лейку» в чехол. Они остановились возле одного из ближних отделений милиции. Трое провели Антиквара и Акулова прямо в кабинет начальника отделения. Четвертый уехал куда-то на бежевой машине. Подполковник Шатов предложил Акулову сесть на диван, а Антиквара пригласил к столу. Наконец Антиквару удалось предъявить свои документы - карточку дипломата. - Я требую немедленно связать меня с посольством, - заявил Антиквар. - Наши желания совпадают. Сейчас мы вызовем представителя Министерства иностранных дел, и он займется этим, - ответил подполковник. Антиквар глядел хмуро и всем своим видом давал понять, что ситуация представляется ему идиотской. Акулов впал в прострацию. Через несколько минут в кабинет вошел четвертый член группы, пропустив впереди себя пожилого человека в синем халате, у которого в руках были два пластмассовых бачка для проявления фотопленки, а под мышкой - черный мешок. В широкий карман халата был засунут третий бачок. Шатов уступил место за столом. Человек в синем халате разложил свое хозяйство, затем поместил бачки в мешок. Мешок этот был особого рода, служил как бы переносной темной комнатой для обработки пленки. Он был светонепроницаемым, по бокам у него имелись два ввода - рукава, снабженные резиновыми манжетами, плотно охватывающими руку. Подобными мешками, только меньших размеров, пользуются фотокорреспонденты в командировках для зарядки кассет. Фотолаборант устроился поудобнее, взял кассету, отобранную у Антиквара, и засунул в мешок обе руки. Пошуршав там недолго, он вынул кассету - уже пустую, - передал ее Шатову. Это была обыкновенная эбонитовая кассета фирмы «Agfa» с цветной яркой наклейкой. Шатов достал из кармана перочинный нож с набором самых разнообразных лезвий, пододвинул стул к окну и расположился на подоконнике. Оглядев внимательно кассету, отклеил этикетку - под ней ничего не оказалось. Затем снял крышку, долго ее рассматривал. Крышка, казалось, возбудила в нем какие-то подозрения, но он пока отложил ее в сторону и с помощью ножа разломил корпус кассеты на две части. Исследовав их, снова взял крышку. Фотолаборант за это время успел проявить пленку. В кабинете царило напряженное молчание. Оно казалось противоестественным в этом небольшом, с обычную жилую комнату, помещении, собравшем восемь человек. Фотолаборант медленно поворачивал пленку за конец оси, выступавшей над бачком, Шатов скреб ножом о крышечку кассеты, и эти звуки резали Антиквару слух. Акулов сидел, безучастный ко всему происходящему. Наконец фотолаборант кончил дело. Ополоснув пленку, он посмотрел ее на свет и лаконично известил: - Пустая. Шатов прервал свое занятие, обернулся к фотолаборанту. - Благодарю вас. Просушите и дайте мне. Можете быть свободны. Фотолаборант отнес куда-то бачки, вылил их содержимое, а затем собрал все в мешок и оставил кабинет. Шатов продолжал исследовать крышечку, действуя на нервы Антиквару скрипом и скрежетом. - Ну вот, полный порядок, - неожиданно сказал он громко, и Антиквар вздрогнул. Шатов перешел к столу, взял из подставки лист бумаги и стряхнул на него крошечную полоску фотопленки - длиной в полсантиметра, а шириной не более двух миллиметров. - Микрофотография, - с удовлетворением констатировал Шатов и пригласил Антиквара: - Прошу убедиться. Но тот лишь метнул быстрый острый взгляд исподлобья, поверх очков и не пошевелился. - Что вы можете заявить по этому поводу? - спросил Шатов. - Это провокация… Вскоре прибыл сотрудник Министерства иностранных дел и, выслушав сообщение подполковника Шатова, посмотрел дипломатическую карточку Антиквара. Затем снял трубку и неторопливо стал набирать номер на диске телефона. - Это консульский отдел посольства? С вами говорит сотрудник Министерства иностранных дел Овчинников. В вашем посольстве есть атташе… - Он назвал фамилию. - Так. Необходимо, чтобы представитель посольства приехал в отделение милиции… - последовал номер отделения и адрес. - Да, прямо сейчас. Пожалуйста, мы ждем. - Я требую отпустить меня. Вы не имеете права… - сказал Антиквар. - Вот сейчас приедет представитель вашего посольства, ознакомится со всем происшедшим, и тогда мы решим, как с вами быть. А пока составим протокол. Сейчас мы еще не знаем, что содержит эта пленочка, однако факт есть факт - вы хотели ее получить от этого гражданина. Вот это мы и зафиксируем. Составление протокола заняло пятнадцать минут. Когда он был готов, Овчинников предложил Антиквару прочесть и подписать его. Антиквар бегло просмотрел написанное и категорически заявил: - Я не распишусь на этом. - Почему? - спросил Овчинников. - Что-нибудь неверно? - Да. Никто не подбрасывал кассету. Она принадлежит мне. А этого человека я вижу впервые. - Вы будете подписывать? - последовал вопрос к Акулову. - Что вы, гражданин начальник! - встрепенулся тот. - Я себе не враг! - Вам это не поможет. Обоим, - вставил Шатов. Он не был раздражен, говорил спокойно. - Ладно, подпишем мы вместе с представителем Министерства иностранных дел товарищем Овчинниковым. - Я могу быть свободен? - спросил Антиквар. - Надо дождаться консула. - Не ломайте комедию! - Это не комедия. Тут в дверь постучали, и появился высокий мужчина лет тридцати пяти. - Что случилось? Почему вы задержали дипломата? - спросил консул. - Этот дипломат злоупотребляет своим положением. Он был задержан в момент приема секретных материалов от гражданина Акулова, - объяснил Овчинников. - Ложь! Этого гражданина я вижу впервые. Я протестую. Это неслыханно… - вскочив со своего места, резко заговорил Антиквар. - Чем вы можете подтвердить свои обвинения? - спросил консул. - Многим! - вмешался в разговор подполковник Шатов. - В качестве первого доказательства мы можем прокрутить кинопленку, на которой можно увидеть встречи вашего дипломата с арестованным нами гражданином Казиным, которого он привлек к шпионской работе. Несколько позже мы сможем показать вам его сегодняшнюю встречу на Новодевичьем кладбище с гражданином Акуловым. Товарищ Воркин, прошу организовать показ фильма. - Не надо, - бросил сквозь зубы Антиквар. - Мы можем идти? - спросил консул. - Теперь - да, - последовал ответ. Всю дорогу до своего посольства Антиквар никак не мог прийти в чувство от оглушительного удара, который был нанесен так неожиданно. Его жгла досада на самого себя, на разведцентр, на всю эту глупейшую затею с Борковым и с передачей пленки. В одно мгновение все полетело к чертям. Оказалось, что советской контрразведке вовсе не интересно держать его нетревоженным во имя засылки дезинформации. Гроша ломаного не стоят хитроумные расчеты разведцентра. Оставалось проверить, действительно ли Кока арестован и что с Борковым. …Трубку на том конце сняли сразу. - Алло, вас слушают, - сказал нежный женский голос. Не произнеся ни слова, женщина, звонившая из автомата, нажала на рычаг, но тут же подумала, что могла соединиться неправильно, и снова опустила монету в щелку, набрала аккуратно номер. Ей было известно, что по этому телефону никто, кроме мужчины, отвечать не может. На сей раз ответил низкий мужской голос. Женщина спросила: - Это Николай Николаевич? - Нет. - Можно его к телефону? - Его нет. - Он что, вышел? - Да. - Надолго? - Не знаю. А кто его спрашивает? - Знакомая. Когда он будет? - Неизвестно. Как вас зовут? Что ему передать? - допытывался сочный баритон. - Ничего. Я еще позвоню. - Ну звоните, звоните… По телефону Боркова ответили, что он уехал в длительную командировку. Когда служащие посольства, по просьбе Антиквара звонившие Коке и Боркову, рассказали о своих переговорах, Антиквару стало совсем плохо. Чтобы проверить, насколько глубоко копнули контрразведчики тайную жизнь Николая Николаевича Казина, оставалось узнать, целы ли его сообщники-фальшивомонетчики. Адрес Пушкарева Кока с неохотой, но все же дал Антиквару в свое время. Полуподвальная квартира в переулке рядом с улицей Обуха оказалась опечатанной. В тот же день Антиквар составил для передачи в разведцентр обстоятельное донесение обо всем случившемся и отослал его с дипломатической почтой… Разведцентр прислал следующую шифровку: «Надежде. Операция провалена. Обусловьте с Бекасом связь, предложите ему выехать в другой город, желательно в Сибирь. Сами немедленно уходите на юг, в Николаев или Одессу. Сохраните дубликат пленки. Слушаем вас непрерывно». Ответ гласил: «Кажется, обнаружил слежку. Выезжаю в Одессу. Жду указаний». И наконец, приказ центра: «Будьте готовы к переправе. Слушайте нас двадцатого августа и затем каждый следующий день в течение недели в 23 часа 10 минут. В эфир больше не выходите. Радиопередатчик спрячьте». …22 августа поздним вечером на даче под Москвой сидели полковник Марков, Павел и Михаил Тульев. Прощальная беседа подходила к концу. Перечитав еще раз радиограмму, в которой детально излагалось, как должна совершаться переброска Надежды за границу, Владимир Гаврилович сказал: - Ваши бывшие хозяева испугались, что связь с Кокой вас погубит. Вы опять обретаете ценность в их глазах. Ради этого мы трудились, и хорошо, что не напрасно. Владимир Гаврилович не упомянул, каким важным звеном в цепочке была роль Боркова-Кустова, о существовании которого Михаилу Тульеву знать было необязательно. Но без этого звена вся операция контрразведчиков по разоблачению Антиквара и Коки выглядела бы для разведцентра непонятно и подозрительно. И вряд ли бы Тульева отозвали из СССР. За окном сверкнула зарница, потом послышался дальний гром, а может быть, это поезд прогрохотал по мосту - километрах в полутора от дачи проходила железная дорога. Полковник продолжал, обращаясь к Тульеву: - Ну что же. Кажется, мы обо всем договорились… Впрочем, если чувствуете хоть малейшую неуверенность, еще не поздно все повернуть, можно найти приличную отговорку. Вы и здесь будете полезны. Полковник сказал это только во имя одного: чтобы между ними не оставалось решительно ничего недоговоренного, никаких недомолвок. Михаил Тульев был взволнован и, как всегда в такие моменты, заговорил отрывисто: - Остаться сейчас - жить в долгу. Я слишком много задолжал России. Мне с ними надо расквитаться. - Месть будет вам плохим попутчиком. - Это не месть. Деловые соображения. Они сами когда-то учили меня этому. - В таком случае прочь колебания. Вопросы и просьбы будут? - Нет, Владимир Гаврилович. С Павлом мы уже обо всем договорились, - ответил Тульев. - Можешь быть спокоен. Все будет исполнено, - откликнулся Павел. - Я знаю. И хочу, чтобы и вы были спокойны. Спасибо вам за все. - В таком случае у нас говорят: ни пуха ни пера, - закончил полковник Марков. Прошло несколько дней. Поезд увозил Михаила Тульева в Киев, когда посольство, в штате которого состоял Антиквар, получило от МИДа ноту. В ноте сообщалось, что атташе имярек, изобличенный в шпионской деятельности, направленной против Советского Союза, объявляется персоной нон грата и лишается права дальнейшего пребывания на территории нашей страны (в доказательство приводились факты: задания, дававшиеся завербованному им Николаю Николаевичу Казину, контакт с Кондратом Акуловым, попытка получить от него микропленку и пр.). Атташе предлагалось покинуть страну пребывания в 24 часа. Прожив недолго в Киеве, Тульев выехал в Одессу.Глава 22 ЧЕРНОЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Это был славный и веселый пароход, который, если быть точным, именовался турбоэлектроходом. И вез он в своих каютах и на своих трех палубах веселых, жизнерадостных людей - туристов из европейских стран. Там, у себя на родине, они отличались друг от друга профессией, доходами, партийной принадлежностью. Да и на пароходе существовали различия: кто-то обитал в роскошных каютах люкс, а кто-то - во втором и третьем классе. Но все-таки, сделавшись в одно прекрасное утро туристами, люди обрели некую общую черту, которая сразу сгладила и затушевала разобщавшие их в обыденной жизни социальные грани и трещины, - правда, лишь на время круиза. Черта эта чисто туристская - острое любопытство и интерес к новым краям. Пароход совершал рейс вдоль берегов Черного моря. Он швартовался в Сухуми, Сочи, Ялте, спуская по трапу на солнечный берег яркую, пеструю, смеющуюся толпу своих трехсот пассажиров. Но к Одессе он подходил невеселым. Почему? Были две основные причины. Во-первых, в Ялте он задержался против расписания на десять часов по вине одной немолодой, но легкомысленной пары, которая, отправившись в Массандру, отдала такую щедрую дань великолепным марочным мускатам, что ее потом искали целую ночь. Это опоздание украло десять часов из срока, отпущенного на Одессу, а ведь в Одессе есть что посмотреть. Поэтому туристы были расстроены, а злополучная пара заперлась в своей каюте, пережидая, пока гнев собратьев остынет. Во-вторых, Одесса встречала пароход сильным дождем и неожиданным для этого времени года холодным ветром. А меж тем давно известно, что ни на кого дождь и прочие атмосферные невзгоды не действуют так удручающе, как на туристов. Пароход должен был ошвартоваться у пассажирского причала Одесского порта ранним утром, а ошвартовался вечером. Больше всех сокрушались те, кто рассчитывал попасть на спектакль в оперный театр - представление там давно началось. Их досада не поддавалась описанию, но и у остальных настроение было не лучше. Наконец долгожданный миг настал: трап спущен, на борт поднялись офицер-пограничник с помощниками, карантинный инспектор и представитель «Интуриста». Офицер-пограничник и два его помощника в широких плащах-накидках пристроились у трапа, повернувшись спиной к ветру, к косым струям дождя. Один из пограничников держал полированный ящичек, бережно укрывая его полой плаща. Сходили группами, и порядок был такой: старший группы предъявлял пограничникам список и сдавал паспорта. Пограничник складывал паспорта в ящичек. Затем мимо него к трапу проходили члены группы. Каждому пограничник вручал пропуск на берег, оставляя себе контрольный талон. В общем, процедура необременительная, если бы не эта проклятая погода… На причале туристов ждали комфортабельные автобусы, но, несмотря на дождь, большинство отказалось ими воспользоваться. Они попросили вести их к лестнице - к той самой лестнице, каждую ступень которой сделал знаменитой на весь мир эйзенштейновский «Броненосец «Потемкин». Но оставим двести девяносто девять пассажиров парохода на попечение гостеприимного города, а сами последуем за трехсотым туристом, который сразу же, едва его группа вышла на Дерибасовскую, откололся и незаметно исчез. Он интересен во многих отношениях. Во время путешествия он вел себя странно для туриста - сказался больным и лежал один в своей каюте в первом классе. Не сходил на берег, не прельщался танцами и хоровым пением, ни с кем не вступал в контакт, делая исключение лишь для старшего своей группы, с которым, судя по их отношениям, был давно знаком. Никто из пассажиров не мог бы описать его лицо и вообще внешность хотя бы мало-мальски достоверно. Турист торопился и нервничал, потому что опаздывал. Его утешала мысль, что тот, кто ждет свидания, догадался справиться в морском порту о задержке парохода. Он никак не мог найти такси - не было свободных машин в этот дождливый вечер. В конце концов по совету прохожего сел в автобус и через полчаса приехал в аэропорт. В зале ожидания на первом этаже в низких темных креслах с изогнутыми металлическими подлокотниками сидели серьезные и унылые авиапассажиры: самолеты не выпускались. Обойдя зал и не обнаружив того, кто был ему нужен, турист по широкой пологой лестнице поднялся во второй ярус и, окинув взглядом двойной ряд кресел, стоявших спинками друг к другу, сразу увидел его. Лицо было хорошо ему знакомо и в фас и в профиль. Турист уверенно подошел к читавшему книгу человеку и спросил громко, не стесняясь сидящих поблизости: - Простите, вы не Уткина ждете? Тот поднял глаза. - Алексей Иванович? Очень рад. Я уж заждался. - Да я не виноват. Обстоятельства… Тульев встал с кресла. - Все равно спешить некуда. Идемте покурим… Они спустились вниз, в туалет. Зашли в кабину. Но здесь долго говорить было крайне неудобно: в гулком, выложенном кафелем подвале даже шорох был отчетливо слышен из конца в конец. Непрерывно входили и выходили люди. - Все спокойно? - шепотом спросил Тульев. - Да. Давай поменяемся одеждой. Поменялись костюмами и плащами. Затем Тульев дал своему партнеру билет до Москвы на рейс, который из-за непогоды откладывался на неопределенное время, а от него получил пропуск на туристский пароход. Затем они вышли из туалета и поднялись на второй этаж. Перед входом в ресторан был просторный холл, одна стена которого, стеклянная сверху донизу, глядела на перрон. Они остановились в углу и прижались лбами к стеклу, будто стараясь рассмотреть мокнущие на бетоне самолеты. - Почему задержался? - спросил Тульев. - Опоздали на десять часов. - Ладно, к делу. - Ты должен быть у входа в морской порт к одиннадцати. - Уткин посмотрел на свои часы. Это был советский хронометр «Спортивные». - Сейчас восемь, времени хватит. Подойдешь к старшему в группе. Вы друг друга знаете - это Виктор Круг. - Как же, приятели, - заметил Тульев. - Чем он тебе насолил? - Долго рассказывать. Что дальше? - Наша группа должна была посетить филатовский глазной институт, но из-за опоздания это отменили. Походят по городу, а потом должны ужинать в каком-то ресторане. Так что раньше одиннадцати они в порту не будут, можешь не спешить. - Уж больно мы с тобой на близнецов не похожи, - с иронией сказал Тульев. - Не беспокойся. Никто из этих горластых баранов на пароходе меня больше одного раза в лицо не видел. А на паспорте фото твое. Я ни разу на берег не сходил. И вообще сейчас, наверное, пограничники в паспорта не очень-то внимательно вглядываются - погода такая… - Как меня зовут? - Карл Шлехтер. - Кто я такой? - Художник из Гамбурга. - Подходяще. - Послушай, что тут у тебя произошло? - спросил Уткин. - Такую горячку пороли, гнали меня сюда как на пожар. - Лишние вещи говоришь, - жестко осадил его Тульев. - Ты сюда надолго? - А это не лишнее? - Ладно. Квиты. - Где рация? - Подробный план у тебя в кармане. Там все описано. - Трудно здесь? - Узнаешь сам. Зачем тебя заранее пугать или, наоборот, успокаивать. Прыгнул в воду - плыви, а то утонешь… Скажи лучше, каков порядок прохода на судно. - Это просто. Сдаешь пограничнику пропуск, получаешь паспорт, и все. - Когда отваливает посудина? - В девять утра завтра. - В советские порты заходит? - Прямо на Босфор. - Хорошо. Помолчали. Тульев, плотно прикусив мундштук папиросы, смотрел на размытые дождем, похожие на обсосанные леденцы разноцветные огни рулежных дорожек и взлетной полосы, редким пунктиром расчертившие раннюю темноту вечера. Уткин не мог уловить по его лицу, о чем он сейчас думает. Казалось бы, человек должен радоваться, а он словно окаменел. - Долго здесь пробыл? - спросил Уткин совсем тихо. - Три года. Уткин посмотрел на погасшую папиросу Тульева. - Давай мне твое курево - на пароходе советские папиросы тебе ни к чему. Тульев неожиданно улыбнулся. - Верно. А я и не подумал. Он вынул пачку «Казбека». Уткин закурил и сказал: - У меня в каюте есть американские сигареты. - Номер каюты какой? - Семнадцатая, по правому борту. Да Круг тебе покажет, он по соседству… Еще постояли молча, а затем Тульев резко повернулся: - Пора. Проводи меня вниз. У выхода они подождали, пока не пришел автобус из города. - Ну счастливо, - сказал Тульев. - Твой самолет будет, наверное, утром. Следи. Объявят рейс по радио. Или узнавай в справочном. - Счастливо, передавай привет нашим. Они пожали друг другу руки, и Тульев вышел под дождь. Уткин смотрел, как он быстро пересек полоску мокрого асфальта и прыжком вскочил в раскрытую дверь автобуса. Автобус тут же тронулся… Когда Тульев доехал до центра города, дождь прекратился, и на улицах как-то сразу стало оживленно, будто людям до смерти надоело сидеть в четырех стенах. Час он убил в кафе на Дерибасовской. Потом пешком отправился в порт. Дорогу спрашивать не было необходимости: до Приморского бульвара его довели пароходные разноголосые гудки, а там уж заблудиться невозможно. Было еще рано. Тульев остановился на бульваре у парапета и смотрел на раскинувшийся внизу целый город на воде, прислушиваясь, как ворочается и дышит вечный работяга-порт. Тульев спустился по лестнице, медленно подошел к воротам порта. Было без двадцати одиннадцать. Пришлось побродить, почитать расписания, объявления. В пять минут двенадцатого он издалека услышал громкий женский смех, шарканье ног. К воротам приближалась толпа туристов. По всему было видно, что они неплохо провели время. Тульев напряженно выглядывал в толпе Виктора Круга. Его не было, и Тульев испугался. Но вдруг донесся голос Круга - он крикнул по-немецки: - Подождите меня все у входа! А затем Тульев увидел его. Круг просто отстал, шел позади, как пастух за стадом. Так ему было удобнее заметить Тульева и показать себя. Тульев пристроился в хвост растянувшейся толпы, затем чуть отстал и, повернувшись вполоборота, ждал, когда Круг приблизится. - С нами бог, - шепнул он, поравнявшись с Тульевым. Он хотел дать понять, что волновался за Тульева. Но это получилось неубедительно. - С нами бог, - повторил Тульев. Он давно не говорил по-немецки и сейчас услышал себя словно со стороны, как будто тот человек, который полчаса назад стоял у парапета на бульваре, так там и остался и смотрит вслед человеку, удаляющемуся в глубь порта, чтобы сесть на пароход. - Все гладко? - спросил Круг. - До сих пор - да. Надо еще подняться на борт. - Это сойдет, не нервничай. - Я спокоен. Но глупо будет споткнуться на последней ступеньке. - Давай догоним их. Они прибавили шагу. К турбоэлектроходу, на белом боку которого, как сабля, висел трап, подошли веселой гурьбой. Тут же явились пограничники во главе с офицером. Они встали перед трапом. Круг взял список и начал вызывать туристов. Туристы по одному подходили, отдавали пограничникам пропуск, те сличали его с контрольным талоном, внимательно смотрели в паспорт и жестом показывали, что можно подниматься по трапу. Уже человек двадцать прошло через контроль, когда Круг произнес обычным своим бодрым голосом: - Шлехтер! Тульев обошел стоявших перед ним двух дам, протянул пограничникам пропуск. Взгляд на контрольный талон, взгляд в паспорт, быстрый взгляд в лицо. Все в порядке.Глава 23 ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Через четыре месяца полковник Владимир Гаврилович Марков получил первое сообщение от Тульева, пришедшее в Москву далеким кружным путем. Дешифрованное и перепечатанное на машинке, оно занимало целых двадцать страниц. Марков отчеркнул красным карандашом то место, где Тульев писал о приеме, оказанном ему за границей, о своем теперешнем положении: «Встретить меня центр послал Виктора Круга. Это был рассчитанный жест, который сразу насторожил. Круг всегда былсоперником и даже открытым врагом моего отца и, возлагая на него эту миссию, центр давал понять свое отношение ко мне. На полное доверие рассчитывать не приходилось. При первом же обстоятельном разговоре (еще на корабле) я спросил у Круга, что с отцом. Он сказал, что старик умер. С того момента я счел наиболее благоразумным не скрывать своей крайней неприязни к Кругу. Психологически это было правильно. После нескольких открытых стычек я заметил, что первоначальное его настроение по отношению ко мне начало изменяться. Налет подозрения постепенно исчезал. Шеф принял меня тотчас по прибытии. Присутствовал Себастьян. Длинной беседы не было. Шеф ограничился общими фразами о самочувствии, сказал, что рад меня видеть целым и невредимым. Себастьян молчал. Я передал им микропленку. Меня поселили рядом с резиденцией шефа. Три дня отдыхал. Затем пропустили через детектор. Набор вопросов свидетельствовал о том, что они испытывают насчет меня серьезные сомнения. Было несколько вопросов о Бекасе. Отвечал как условились. Техника допроса мне хорошо известна. Думаю, что это испытание пошло в мой актив. На девятый день вызвал шеф к себе на квартиру. Это уже кое о чем говорило. У него опять сидел Себастьян. Шеф сказал, что с микропленки сделаны отпечатки. Предварительный анализ показал, что, кажется, меня можно поздравить - материалы ценные. Только после этого возник вопрос об источнике информации. Сообщил согласно плану операции. Интерес к Бекасу сразу возрос. Действую в этом направлении. Когда Себастьян ушел, мы с шефом выпили. Вспомнил о моем отце, много теплых слов говорил о нем. Потом начал ругать Себастьяна и его хозяев из ЦРУ. Говорил, что они грубы и неотесанны, но ссориться с ними невыгодно, потому что у них много денег. Затем речь пошла о моем пребывании в СССР. Еще будучи совершенно трезвым, шеф сказал, что их аналитическая служба давно признала меня недостойным полного доверия, что здесь ходили обо мне самые противоречивые толки. Положение несколько изменилось, когда центр получил мою телеграмму, в которой я сообщил о ложности данных по объекту «Уран-5». Это почти восстановило мою репутацию, но только почти. Та радиограмма центра, которая предписывала мне приступить к операции «Уран-5», содержала заведомо неправильные координаты и была чисто проверочной. Я, таким образом, выдержал экзамен. Шеф в порыве откровенности без обиняков заявил, что в решении моей судьбы главную роль сыграл провал Казина и Антиквара. Не будь его, центр ни при каких обстоятельствах не решился бы отозвать меня из России. Далее шеф рассказал, что в провале Антиквара и Казина виноваты ротозеи (в том числе и Себастьян), которые хотя и высказывали сомнение, но не раскусили вовремя некоего Владимира Боркова. Его подцепили в Брюсселе как будущего кандидата на вербовку, в Москве завербовали, а он оказался советским контрразведчиком. По этому поводу Себастьян, как говорил шеф, скрежетал зубами и называл агентов центра молокососами. Его, кажется, отзывают отсюда. Я осторожно высказал сомнение - разумно ли было подвергать риску Антиквара, посылая к нему на встречу Акулова, когда можно было подключить к этому делу более надежного человека. Шеф одобрительно отнесся к моим рассуждениям, заметив при этом, что они не от хорошей жизни вынуждены были поручить передачу моей микропленки Акулову. Больше было некому. На прощание шеф сказал мне: «Благодари этого проклятого Боркова. Если бы не он, не сидеть бы тебе здесь и не пить этот великолепный коньяк». Из нашего разговора возникла вполне отчетливая схема, объяснившая мне ход событий, которые оказывали решающее влияние на умонастроение центра и заставляли его действовать так, а не иначе. Причем из недомолвок шефа я понял, что центр в данном случае отнесся к своим собственным ошибкам на редкость самокритично и намерен сделать из этого серьезные выводы. Итак, вот схема. Стечение обстоятельств вынудило центр свести меня с Казиным и через него с Антикваром. Казин и Антиквар завербовали Боркова - ошибка, как полагают в центре, из категории фатальных несчастий. Борков провалил Антиквара и Казина - естественный результат. Через Казина и Антиквара контрразведка должна выйти на меня. Так как я располагаю ценными сведениями и еще могу принести пользу, меня следует вызволять из беды. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что я имею теперь возможность время от времени пить коньяк в обществе своего шефа. Сейчас все складывается как нельзя лучше. Думаю, что меня пошлют, как мы с вами и договорились, в одно из разведывательных подразделений…» Владимир Гаврилович перечитал это место еще раз, захлопнул папку. Не все развивалось именно так, как было задумано, но, в общем, получилось неплохо.

КНИГА ВТОРАЯ
Часть четвертая
ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА
Глава 1
ЗНАКОМСТВО В УНИВЕРМАГЕ
Весной 1971 года в жизни Светланы Суховой произошло одно, в общем-то, маловажное событие, которое при обычных обстоятельствах ни к чему плохому привести не могло.
Но, как мы увидим несколько позже, в данном случае обстоятельства были необычными, и событие это послужило звеном в длинной цепи других, гораздо более серьезных и сложных событий, причин и следствий.
Как-то майским днем к прилавку, за которым стояла в голубом, атласно поблескивающем форменном халате Светлана, в ту редкую минуту, когда не было покупателей и проигрыватель молчал, - в эту тихую минуту к прилавку подошел молодой, лет двадцати шести - двадцати восьми, очень смуглый мужчина. Его черные густые волосы были напомажены и причесаны на косой пробор. Черные глаза с поразительно белыми белками смотрели ласково и мягко, был он невысок для мужчины, но очень стройный и оттого казался выше своего роста. Светлана уже владела профессиональным умением продавцов с одного взгляда определять категорию покупателя, и ей не нужно было даже вникать в детали костюма подошедшего мужчины, чтобы совершенно точно знать, что перед нею иностранец. Ничего особенного в этом не было: иностранцы-туристы или работавшие на городских предприятиях специалисты часто покупали в универмаге грампластинки.
- Здравствуйте! - с улыбкой сказал смуглый покупатель.
- Добрый день, - ответила Светлана, стараясь по его акценту определить, какой он национальности. - Что вам угодно?
- Я хотел бы классику, русскую классику.
Это была привычная просьба: все иностранцы требовали записи музыки русских композиторов. Разобравшись в акценте, Светлана уже знала, что говорит с итальянцем.
- Что именно вы хотите?
- Я не все знаю очень хорошо. У меня имеется Мусоргский, Чайковский. Я хотел бы что-нибудь еще.
- Должна вас огорчить. Сегодня ничего предложить не могу. Зайдите в другой день.
Итальянец рассмеялся и сказал не без иронии:
- Это я слышал много дней раньше, много-много раз.
- Извините, но ничем не могу помочь.
Казалось, вопрос был исчерпан, но итальянец не спешил уходить. Он смотрел на Светлану молча и без прежней мягкой сдержанности. Ей стало неловко, она отвела взгляд и только тут заметила, что они не одни, какой-то мужчина чуть в стороне терпеливо изучал каталог грамзаписей, повернувшись к ним спиной.
- Слушаю вас. - Она сделала шаг в его сторону.
- Ничего, ничего, - сказал он тихо, не оборачиваясь, - я не тороплюсь.
Итальянец все смотрел на нее, и Светлана безошибочно могла предвидеть, что произойдет через минуту. Ей уже неоднократно за ее короткую службу в универмаге приходилось выслушивать и от иностранцев, и от дорогих соотечественников, молодых мужчин и не очень молодых, одну и ту же просьбу: познакомиться и встретиться где-нибудь вне стен магазина. Ее это не обижало и не раздражало, скорее наоборот, но она умела так себя вести в подобных случаях, что просители, даже из самых настойчивых, больше чем на две попытки не отваживались.
Этот оказался терпеливее и настойчивее прочих. Не по летам холодная вежливость, которую усвоила себе Светлана и которая моментально охлаждала других, на итальянца не действовала. Была и еще причина, по которой ему удалось говорить со Светланой гораздо дольше, чем иным.
Она чувствовала, что он с нею вполне искренен и излагает правду. А излагал итальянец вот что.
Приехал он из Италии год назад. Он инженер и работает в фирме, которая заключила с Советским Союзом контракт на поставку и монтаж оборудования для азотно-тукового комбината. Но это не имеет значения. Главное - он послезавтра возвращается на родину и только поэтому решился просить русскую девушку о свидании. Он увидел ее давно, еще месяца три назад, и не за прилавком, а у входа в магазин. Он знает, что ее зовут Светланой. Он не осмеливался раньше заговорить с ней, потому что был уверен, что она не согласится ни на какое свидание. Но теперь, за день до отъезда, он не выдержал и решил рискнуть. Ему очень хочется записать на память ее голос, и если бы она согласилась встретиться с ним где-нибудь в парке или в кафе хоть на полчаса и если бы позволила ему принести с собой маленький японский магнитофон…
Короче, дело кончилось тем, что Светлана спросила:
- Знаете улицу Тургенева?
- Да, конечно! - не веря в успех, воскликнул итальянец.
- Где она выходит на бульвар, есть газетный киоск.
- Да, да, это мне известно.
- Я буду там в половине двенадцатого.
- Завтра?
- Ну, не сегодня же. - Она посмотрела на часы. - Сейчас уже три.
- Спасибо. - Он поклонился. - Я забыл сказать; меня зовут Пьетро Маттинелли. Спасибо. До завтра.
И он ушел счастливый. Светлана хотела наконец заняться терпеливым покупателем, который все это время изучал чуть в сторонке захватанный каталог грампластинок, но его уже не было…
Тут следует рассказать вкратце историю семьи Суховых.
Муж Веры Сергеевны Суховой погиб пять лет назад. Он был летчиком, работал испытателем на заводе, где делают вертолеты.
Вера Сергеевна не знала подробностей катастрофы и ее причин. Друг мужа, тоже испытатель, пробовал ей объяснить, как это произошло, говорил что-то насчет крайних режимов полета, на которые сознательно пошел Алексей, досадовал, что Алексей не использовал единственную возможность оставить машину, а обязательно хотел ее посадить. Он особенно упирал на то, что возможность была именно единственная, и говорил, что у вертолетчиков таких возможностей гораздо меньше в случае аварии, чем у испытателей обычных самолетов. И в общем, как Вера Сергеевна поняла уже гораздо позже, из рассказа этого друга получалось, что Алексей во всем виноват сам. Ей от этого легче не стало.
Тот первый месяц после похорон она теперь, по прошествии пяти лет, помнила хорошо, во всех подробностях, и виновато удивлялась, как же мелочно отмечала ее память ничего не значащие детали происходившего, когда душа ее, кажется, разрывалась от горя.
Сейчас она могла бы рассказать, что готовила в день гибели Алеши на обед, какого цвета был бант у Светланы в косе, когда она вернулась из школы, и что ей сообщила соседка по поводу самочувствия своего шпица, занемогшего накануне, и как звенела бившаяся о стекло пчела - первая весенняя пчела, залетевшая в окно.
Просто полная ерунда. И почему так странно устроен запоминающий аппарат человеческого мозга? Вера Сергеевна окончила медицинский институт, но это не давало ей никаких преимуществ по сравнению с другими людьми, не имеющими медицинского образования и незнакомыми даже с начатками психологии. Она не могла понять, почему ничтожные, недостойные мелочи впечатались в сознание несмываемыми красками, незаглушаемыми звуками, невыдыхающимися запахами, а самое главное, самое дорогое стерлось, словно бы его и не было никогда. Вера Сергеевна не помнила лица мужа, не помнила его выражения.
А может, это защитная реакция? С точки зрения науки о психической деятельности человеческого мозга такое объяснение вполне годится, но ей и от этого не было легче.
По ночам она иногда мысленно прослеживала шаг за шагом свои поступки в первый месяц после гибели Алексея и без конца казнила себя за деловитость, тоже, как она считала, предельно мелочную и оскорбляющую память погибшего.
Она продала их новенькую «Волгу», списалась с подругой, Ниной Песковой, жившей в городе К., и с ее помощью устроила обмен квартирами, почти не потеряв при этом ни в метраже, ни в коммунальных удобствах. Она позаботилась, чтобы Светлана закончила учебный год хотя бы без троек - дочь тогда училась в седьмом классе, и до конца занятий оставалось три недели.
Распродав часть вещей, а другую часть, в том числе пианино дочери, отправив багажом, Вера Сергеевна со Светланой в середине июля выехали в город К. Бегство из мест, связанных с самым любимым на земле человеком, совершилось стремительно, подобно эвакуации в военные времена, о которой так много читала в книгах Светлана и которую сама Вера Сергеевна пережила в сорок первом, будучи восьмилетней девочкой.
Приехав в город К., она не стала устраиваться на работу. И куда бы она пошла? Получив диплом врача, она не работала ни дня, потому что уже была замужем за Алексеем. Он не дал ей работать - мол, расти Светку. Чтобы теперь стать врачом, ей, пожалуй, впору было снова идти учиться в институт. Но главное, она и не смогла бы нигде работать. В какой-то деловой лихорадке сумев быстро и решительно осуществить переезд, она словно впала в летаргический сон.
Долго, очень долго она была отрешена от жизни, как бы даже вовсе не жила. У нее было такое ощущение, что она, сидя одиноко в темном зале, смотрит какой-то длинный и неинтересный ей фильм.
Нина Пескова, которая взяла на себя заботу о ее доме, о покупке продуктов, делала попытки расшевелить подругу, но безуспешно. Вера Сергеевна выходила из дому только для того, чтобы снять очередную порцию денег со сберкнижки. Машинально готовила еду, стирала, прибиралась. И без конца курила - начала она курить в день похорон Алексея.
Так минуло два года. Светлана перешла в десятый класс. Как она училась, Вера Сергеевна мало интересовалась, хотя в дневник дочери и заглядывала. Ее совсем не огорчило, что Светлана оставила занятия музыкой.
Толчком, выведшим ее из этого состояния, был разговор с Ниной Песковой, когда та, придя однажды осенним вечером, как бы между прочим сказала, что видела Светлану возле дома с двумя парнями гораздо старше ее - Светлана курила сигарету и, кажется, была под хмельком.
Веру Сергеевну будто хлестнули плеткой. Она только спросила: «Где?» - и, услышав в ответ, что на детской площадке, выбежала из квартиры, не надев пальто.
Светлана стояла в обществе двух самодовольно ухмыляющихся молодых людей и как-то незнакомо похохатывала.
Не говоря ни слова, Вера Сергеевна налетела на нее, развернула левой рукой за плечо, а правой изо всех сил ударила ее по щеке. Если бы не один из парней, Светлана упала бы. «Марш домой!» - крикнула Вера Сергеевна вмиг протрезвевшей дочери. «Мадам, зачем так форсированно?» - играя поддельным баритоном, сказал пижон, поддерживавший Светлану. «Молчи, щенок!» - осадила его Вера Сергеевна. Она задыхалась от гнева. Но пока поднималась по лестнице на третий этаж, гнев сменился острой жалостью к дочери и презрением к самой себе.
Вера Сергеевна в эти несколько минут будто прозрела, развеялся туман, в котором она жила, и перед нею отчетливо выстроилась длинная череда дней, целиком отданных собственному горю, дней, в которых не было места Светлане, ее родной дочери. Только о своей боли думала она, только вкус собственных слез ощущала и утешалась ими. И как она могла назвать все это, если не эгоизмом? Всепоглощающий эгоизм горя - чем он лучше эгоизма счастья? - спрашивала она себя. Нет, ей не найти оправдания в том, что боль от потери была столь же велика, сколь и ее любовь к мужу.
В ясном, трезвом свете представились Вере Сергеевне ее отношения с дочерью - как и на чем они строились с малых лет и вот до этого гадкого момента.
Светлана росла папиной дочкой. Он любил ее до самозабвения и, конечно, баловал, а она с детской хитростью, иной раз набедокурив, спасалась от материнского возмездия под его надежной защитой. На этой почве между родителями возникали легкие конфликты, как правило, в присутствии провинившейся. Разумеется, с педагогической точки зрения такой метод нельзя считать разумным, но в общем-то, когда Светлана подросла и пошла в школу, выяснилось, что антипедагогическое поведение родителей на ней отразилось мало. Одно было неприятно сознавать Вере Сергеевне по мере того, как Светлана взрослела: у нее к матери вырабатывалось внешне неуловимое, но явственно ощутимое снисходительное сочувствие. Вера Сергеевна понимала, откуда это шло: слишком сильным, подавляющим был в семье авторитет отца, на долю матери не оставалось почти ничего. Но Веру Сергеевну утешало то, что Светлана была очень доброй девочкой, готовой ради других забывать собственные капризы, и это давало надежду, что их отношения в конце концов останутся нормальными…
Поднявшись на третий этаж и войдя в квартиру, Вера Сергеевна совсем успокоилась. В присутствии Нины Песковой произошел долгий разговор, окончившийся тем, что Светлана со слезами на глазах обняла мать и поклялась, что никогда ничего подобного больше не случится. Ей можно было верить: она всегда говорила правду, а если обещала что-нибудь, то непременно исполняла, во всяком случае, изо всех сил старалась сдержать слово. Это вложил в нее отец еще с младенчества…
Вскоре после чрезвычайного происшествия Вера Сергеевна поступила на работу. Так как для должности лечащего врача она считала себя непригодной, пришлось устроиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. На то, чтобы следить за санитарным состоянием различных городских предприятий, ее медицинских познаний еще вполне хватало.
Насчет дочери она окончательно перестала тревожиться, когда узнала, что Светлана подружилась с парнем из их дома - Лешей Дмитриевым. Нина Пескова была знакома с семьей Дмитриевых и очень хорошо о ней отзывалась. Сам Дмитриев был инженером, жена его преподавала в школе, а Леша после десятилетки пошел на завод слесарем и учился на вечернем отделении энергетического института. В общем, был, видимо, не из тех, с кем Светлана кайфовала осенним вечером под грибком на детской площадке.
В то же самое время у Светланы завелась еще одна дружба, которую Вера Сергеевна очень одобряла. К ним в гости начала захаживать Галя Нестерова, одноклассница Светланы, вежливая и немногословная девушка. Веру Сергеевну особенно подкупало то, что Галя, судя по всему, не сознавала своей красоты, это само по себе составляло уже как бы некую ценную черту нравственного облика, говорило в пользу человека, ибо, по наблюдениям Веры Сергеевны, такое безразличие к собственной внешности встречается среди нынешних молодых людей весьма редко. К тому же Галя была дочерью крупного ученого, академика, лауреата Государственной премии, а меж тем одевалась крайне скромно, ничуть не лучше Светланы. Это тоже о чем-то говорило. И в довершение всего Галя была круглой отличницей и шла на золотую медаль. Кажется, только этим и разнились новоиспеченные подружки: у Светланы пятерок было ровно столько, сколько троек.
Вера Сергеевна радовалась, когда видела вместе свою дочь и Галю. Они были одинаково высокие: сто семьдесят пять сантиметров без каблуков. Обе сероглазые, с густыми светло-каштановыми волосами. Глядя на девушек, Вера Сергеевна с улыбкой, одновременно грустной и счастливой, представляла себе, как молодые люди на улицах, встречая Галю и Свету, приостанавливаются и оборачиваются им вслед, изумленные.
Довольно скоро Вера Сергеевна сумела обнаружить, что главенствует в этом содружестве, как ни странно, ее дочь. Всякий раз, когда нужно было сделать выбор, например в какое кино пойти или что прочитать в первую очередь, - решающее слово оставалось за Светланой. Это не могло не льстить материнскому самолюбию Веры Сергеевны, и она даже похвасталась однажды Нине Песковой способностью дочери завоевывать авторитет среди незаурядных сверстников. Но, в общем-то, подобные суетные моменты не мешали Вере Сергеевне трезво оценивать те черты в характере дочери, которые никак не назовешь положительными. При широте натуры и с детства проявлявшейся безграничной доброте Светлана могла порою быть завистливой. Она, скажем, не скрывала своей зависти к девочкам, которые одевались в «заграничное» и могли себе позволить носить перстенек с бриллиантом и золотые сережки в ушах.
С Лешей Дмитриевым Светлана обращалась как старшая с младшим, хотя была моложе на два года. Он этого не замечал или не хотел замечать, а вернее всего, просто не мог, потому что был влюблен в нее. Судя по тому, что Вера Сергеевна иногда по воскресеньям видела Лешу с гитарой в руках в компании парней из их двора, не отличавшихся тихим нравом, он не был ни овцой, ни затворником, однако при Светлане вел себя так, словно непечатные шуточки товарищей по двору и цеху никогда не касались его ушей и не слетали с его собственных уст. Легко было догадаться, что Леша с некоторых пор больше всего стремился к тому, чтобы как-нибудь остаться со Светланой наедине, но ему не везло. Если ходили в кино, то третьей обязательно была Галя, да и вообще, что означает «наедине» в кинотеатре? Встречи у Светланы всегда происходили в присутствии Веры Сергеевны. Когда Светлана соглашалась пойти к Леше послушать магнитофонные записи - у него имелся мощный «маг», - дома всегда были или его бабушка, или мама. А целоваться в парадном или под грибком на детской площадке Светлана считала недопустимым с того памятного осеннего вечера, когда мать оглушила ее звонкой пощечиной. Так что Леше оставалось только вздыхать, и надеяться, и ждать лета, когда можно будет ездить на реку, на пляж. У Леши был старый мотоцикл «Иж», который он купил на собственные сбережения совершенно разбитым и сам его привел в порядок, - мотоцикл стоял в сарае на пустыре, заставленном железными гаражами автовладельцев. В планах Леши, которые он строил на лето, мотоциклу отводилась первостепенная роль. И еще он наметил купить фотоаппарат «Зенит», чтобы фотографировать Светлану и делать большие портреты.
Так, без особых огорчений и раздоров, текла жизнь осиротевшей семьи Суховых. Сколь ни велика была боль утраты, время сгладило ее. Служебные заботы и необходимость думать о судьбе выросшей дочери все же помогли Вере Сергеевне выпрямиться, воспрянуть духом. Разучившись громко смеяться, она теперь, однако, могла порою улыбнуться. Маленькие радости каждого дня, которых обычно никто из людей не замечает, стали вновь доступны ей. Словом, она сделалась почти той же Верой, какую знал и любил погибший муж, летчик-испытатель Алексей Сухов. Только вот отучиться курить она пока не могла.
Первые огорчения пришли в августе 1970 года.
Светлана мечтала попасть на филологический факультет университета, как и Галя Нестерова. Обе они, окончив школу, подали в университет документы и вместе начали готовиться к экзаменам, вернее, Галя помогала Светлане. Но все старания оказались напрасными: Светлана по конкурсу не прошла. Конкурс был очень большой, а она недобрала до проходного целых два балла. Галя, несмотря на то, что окончила школу с золотой медалью, тоже экзаменовалась, так как среди медалистов существовал свой конкурс, и была зачислена на филфак.
Светлана, конечно, переживала неудачу, но Галя плакала больше, чем она. Вера Сергеевна была расстроена и поначалу не могла себе представить, что же делать дальше. Но, успокоившись и рассудив здраво, они решили, что ничего трагического, собственно, не произошло. Надо поступить на работу, за год как следует подготовиться - с помощью Гали, конечно, которая как студентка будет теперь более опытным репетитором, и в 1971 году повторить попытку.
Светлана из всего разнообразия мест и профессий отдала предпочтение универмагу, а точнее, тому его отделу, где продавались телевизоры, радиоприемники, всякие проигрыватели и то, что на них проигрывается. Она стала продавцом пластинок и магнитофонных лент, потому что неплохо разбиралась в этой области благодаря общению с Лешей.
У Светланы с поступлением на работу появилось много новых знакомых, но единственной подругой оставалась верная ей Галя, а единственным поклонником, которого она признавала достойным, - Леша Дмитриев. Втроем они ходили в кино раз в неделю непременно, а иногда и два, и немного реже - в театр. В одном и том же составе собирались то у Леши, то у Светланы и гораздо реже у Гали, потому что, как объясняла смущенно Галя, ее мама была очень нервной женщиной и с трудом переносила присутствие посторонних в доме, а громкую музыку не переносила совсем. Меж тем главным удовольствием домашних сидений неразлучной троицы служила именно громкая музыка и не менее громкие споры о ней. Отец Гали, которого Светлана и Леша видели всего один раз, да и то мельком, работал в каком-то научно-исследовательском институте и одновременно на каком-то заводе - на каком, Галя не уточняла - и сверх всего преподавал в политехническом институте. Следовательно, он был очень занятой человек и домашний покой ценил превыше всего. Леша удивлялся, что у Гали нет парня. Он-то замечал, какие взгляды бросают на нее и молодые и пожилые мужчины на улице и в фойе кинотеатров. Однажды он попробовал поострить на этот счет, но получилось довольно неудачно, и Светлана сделала ему выговор, сказав, что напрасно мужчины полагают, будто такие девушки, как Галя, созданы только для того, чтобы всегда идти навстречу их желаниям. Больше этот вопрос между ними не обсуждался.
Зима прошла незаметно, потому что к кино и театру прибавились лыжи и коньки. Зима принесла Леше успех: однажды Светлана все же смилостивилась и разрешила ему поцеловать ее - это случилось при прощании в подъезде, когда они, усталые, пришли с катка, где бегали без перерыва часа два.
Такова предыстория того, что произошло в весенний день 1971 года…
Назавтра, в субботу, у Светланы был выходной.
Вечером по пути домой она позвонила по телефону-автомату Гале Нестеровой и сказала, что их прежде намеченные планы - поехать завтра с Лешей в Кленовую горку - отменяются. Светлана не стала вдаваться в подробности, сказала только, чтобы Галя ждала в одиннадцать у почтамта.
У Светланы шевельнулись угрызения совести оттого, что придется обмануть Лешу, но она тут же подумала, что ничего страшного в этом нет: невелика беда - один раз нарушить обещание. В конце концов между ними всего лишь простая дружба - во всяком случае, ей смешно говорить о любви.
Глава 2 ПРОБА ФОТОАППАРАТА
Вера Сергеевна успела съездить на рынок за редиской и зеленым луком, когда Светлана проснулась. Накануне они легли спать позже обычного: Светлана пожелала немного переделать свое любимое платье - синее, с черным поясом, - изменить фасон воротника. Но сама она портновским искусством не владела. Как всегда: «Мама, пожалуйста…» - Вставай, вставай, надо платье гладить! - крикнула из кухни Вера Сергеевна. - У тебя лучше получится, - отозвалась Светлана. Иного ответа Вера Сергеевна и не ждала, это было в порядке вещей и не сердило ее. Она с удовольствием делала для дочери все, что могла и умела. Пока Светлана умывалась и причесывалась, Вера Сергеевна приготовила завтрак. - Далеко ли собираешься? - спросила она у дочери, когда сели за стол. - Пойдем с Галей посидим где-нибудь в летнем кафе, мороженого поедим. Светлана с недавних пор взяла за правило говорить матери не все. Нет, она не врала впрямую никогда. Она просто недоговаривала. Так ей было удобнее - не возникает лишних вопросов. Она уже решила, что на свидание к итальянцу пойдет и что скорее всего они отправятся в летнее кафе-мороженое, но зачем сообщать матери, что, кроме Гали, будет иностранец? - Кажется, ты должна встретиться с Лешей? - Я уже договорилась с Галей, в одиннадцать увидимся у почтамта. Это тоже была и не ложь, и не вся правда. Между прочим, Леша должен зайти к ним именно в одиннадцать, так что следовало поторопиться с глажением платья; чтобы не встретиться с Лешей, ей надо убраться из дому не позже как в половине одиннадцатого. Светлана быстро проглотила яичницу с колбасой и салат, запила крепким чаем, встала из-за стола и бодро объявила: - Ма, я к твоим услугам! - Включи утюг, постели одеяло, достань тряпочку. В начале одиннадцатого все было готово. Светлана оделась. - Как я, ма? Вера Сергеевна закурила - в последнее время она предпочитала «Беломор». - Повернись… Так… Прекрасно… - Дай твои часики. Вера Сергеевна принесла свои золотые часы на золотом браслете - подарок мужа, - сама надела их на руку дочери, и Светлана, поцеловав ее в щеку, ушла. А минут через пятнадцать в квартире раздался звонок. Вера Сергеевна открыла дверь. Перед нею стоял Леша. На груди у него висел фотоаппарат в новеньком чехле, в правой руке - большой белый рулон плотной бумаги. Светлобровое веселое лицо его, как говорится, сияло. - Здрасте, Вера Сергеевна! Света дома? - Доброе утро, Алешенька. А она, знаешь, исчезла. Сияние пропало. - Давно? - Да буквально сию минуту. - Вот те раз! И ничего не сказала? - Сказала, с Галей встречается. Возле почтамта в одиннадцать. Я про тебя напомнила, она говорила, будто у вас на сегодня назначено, а она словно мимо ушей пропустила. Да ты заходи, что же на пороге? Леша совсем нахмурился. - Да нет, я пойду. А она не сказала, куда они с Галей? - Мороженого захотелось. Наверное, посидят где-нибудь в кафе на открытом воздухе. Погода сегодня прекрасная. - Как же так? Мы ведь втроем собирались… - Ну, не расстраивайся, куда она денется? Леша постучал пальцем по аппарату. - Вот вчера купил, хотел ее сфотографировать. - Еще успеешь, лето только начинается. - Ну ладно. - Он протянул ей рулон. - Это она просила. Их стенгазета. Я заголовок написал. Вера Сергеевна испытывала перед Лешей неловкость за Светлану. Чтобы как-то его утешить, она развернула рулон, посмотрела на крупно выведенный красным заголовок: «За культурное обслуживание». - Как ты хорошо сделал! - сказала она. Но это его мало утешило. - Ладно, извините, Вера Сергеевна. - И, прыгая через три ступеньки, оставив ее на пороге перед открытой дверью, Леша сбежал по лестнице вниз… Погода стояла действительно отличная. Все уже были одеты по-летнему, даже детишки. Двор звенел от детских голосов и от щебетания птиц. Небо было голубое. Свежая зелень каштанов, длинным строем стоявших на соседней улице, видной со двора, была усыпана толстыми белыми свечечками. Они светились на ярком солнце. Но именно от всего этого Леше стало еще хуже. Щурясь, он оглядел ряды скамеек, на которых сидели старушки, играющих в «классы» девчонок на асфальтовой площадке, а потом остановил взгляд на сбившихся в кучку мальчишках, горячо обсуждавших что-то. Среди них он заметил Витьку-шестиклассника, озорного и шустрого соседа своего по лестничной клетке. Витька, если бы его не отшивать, был бы вечным хвостом Леши, так бы за ним и ходил. Он был предан Леше самозабвенно, и в основном, конечно, не потому, что Леша частенько снабжал его двугривенным на кино, а потому, что проявил к нему колоссальное доверие, взяв в помощники, когда собирал из ничего свой мотоцикл «Иж». Леша сошел со ступенек подъезда и крикнул не очень громко: - Витек! Тот услышал мгновенно и через секунду стоял, запыхавшийся, перед Лешей, глядя на аппарат. - Здорово, Леша! Будем сниматься? - Ты Светку сейчас не видал? - Не-а! А она тебе нужна? - Раз спрашиваю, значит, нужна. Витек сразу угадал настроение своего благодетеля и шагал молча. А Леша раздумывал, где вернее всего искать захитрившую Светку. Прошлым летом они пять или шесть раз ходили в разные кафе, но больше всего ей понравилось кафе «Над рекой», которое называлось так потому, что находилось в парке на высоком берегу реки, откуда далеко-далеко было видно низкое, все в озерцах и рощах, заречье. Но туда от их дома ехать и ехать, так же как и от почтамта, где, если не соврала, Светка должна встретиться с Галей. Поэтому Леша решил начать от печки - от почтамта - и следовать оттуда в сторону реки. А меж тем подруги, обсудив вопрос, выбрали для беседы с Пьетро Маттинелли именно кафе «Над рекой», куда от улицы Тургенева, то есть от места встречи с ним, на автобусе всего три остановки. Добравшись до конечного пункта своих поисков, Леша нашел тех, кого искал. Кафе «Над рекой» было уютным местечком. Посреди большой поляны, по которой в естественном беспорядке раскиданы кусты барбариса и сирени, круглый деревянный павильон под шатровой крышей, с большими разноцветными окнами. Его опоясывает широкая дорожка из белого речного песка, на которой стоят близко друг к другу круглые мраморные столики, а у каждого столика по четыре светлых плетеных кресла. И почти ни одного пустующего. И все это взято в кольцо каштанами и покрыто голубым небом. На столике, за которым сидели Светлана, Галя и Пьетро, сверкало под лучами солнца стекло - стаканы и бокалы, бутылка шампанского и бутылки с лимонадом. Первая скованность, обычная между малознакомыми людьми, когда они только-только приступают к застолью, уже прошла. Но все же беседа пока состояла из тех стандартных вопросов и ответов, какие на всех континентах, на всех широтах и долготах типичны при общении иностранных туристов с местными жителями. Разница лишь в том, что Пьетро Маттинелли, как он сообщил Светлане еще тогда, в универмаге, был не турист, а приехал в СССР работать. - Вы впервые в Советском Союзе? - спросила Галя. - Да, - отвечал Пьетро. - Нравится вам наш город? - О, конечно! Очень красивый. Удобно жить. - А что вам больше всего понравилось, Пьетро? - Это уже Светлана, доевшая свою порцию мороженого - первую порцию. - Конечно, девушки! - с улыбкой воскликнул он и добавил: - Вы хотели услышать, что я скажу метро? Нет, оно тоже хорошее, но мне больше нравятся девушки. Тут последовало отступление от туристского стереотипа. - У вас было много знакомств? - спросила Светлана с еле уловимой издевочкой, которую, впрочем, Пьетро без труда уловил. - Очень много, - делая вид, что не понял истинного смысла ее вопроса, сказал он. - Там, где я работал, все были мои друзья. - А где вы работали? - поинтересовалась Галя. - Это называется «химкомбинат». Он теперь построен. Вы слышали? - Да, об этом писали в газете, показывали по телевизору. - Я тоже строил. Монтировал аппаратуру. Один год. - А что это за комбинат? - Будет делать разные удобрения для сельского хозяйства. - Понятно, - сказала Светлана и обратилась к Гале: - Пьетро завтра уезжает. Не так ли, Пьетро? - Да, к сожалению, - с неподдельной грустью сказал он. - Между прочим, мои коллеги на работе звали меня Петр. Это мне нравится. - Вы прекрасно научились говорить по-русски, - заметила Галя. - Старался. Я начал изучать русский язык, еще когда был студентом. - А где вы учились? - В Милане. Там я живу. - У вас большая семья? - Папа, мама, сестра и я. Но… - Пьетро показал пальцем на стоявший у него под рукой маленький магнитофон. - Ему скучно слушать, он обо мне все уже знает. Давайте поговорим что-нибудь интереснее. - Например? - спросила Светлана. - Например, о вас. - Ну, что тут интересного! Нигде мы не были, ничего не видели. - Как говорится по-русски, у вас все еще впереди. - Он замялся на секунду, а потом обратился к Светлане: - Ваш голос теперь у меня есть, но если я попрошу ваш автограф?… - Ну что вы, Пьетро! - Светлана засмеялась. - Я же не Ирина Роднина. - Вы могли бы когда-нибудь написать мне открытку? - Это можно. Пьетро достал из кармана кожаный бумажник, а из него две визитные карточки. - Пожалуйста. Светлана и Галя взяли каждая по карточке и положили их в сумочки. - Полагается обмен, - сказал Пьетро. - У нас нет визиток. - Тогда я запишу ваш домашний адрес. Светлана и Галя переглянулись, и Светлана сказала: - Если захотите написать, посылайте на универмаг. - Но я даже не знаю фамилию. - Он был, кажется, задет. - Сухова. Светлана Алексеевна. Пьетро показал на магнитофон. - Он уже записал. А можно мне что-нибудь прислать вам в подарок? - Что вы, что вы! Зачем?! Лучше приезжайте сами. - Я все-таки пришлю. Мне нравится сделать вам приятное. …Вот в этот момент глазастый Витек и увидел из-за кустов Светлану. - Так вон же твоя Светка, - показал он рукой оглядывавшему столики Леше. - Там не наш какой-то… Леша не мог измениться в лице по той простой причине, что и так уж был мрачен дальше некуда. Он расчехлил фотоаппарат. Прячась за кустами, они с Витьком подобрались к столику Светланы поближе, метров на пятнадцать. Тут Леша приготовил аппарат к съемке - поставил диафрагму на одиннадцать, скорость на сотку, снял с объектива колпачок. Куст, за которым они стояли, был не очень густой, Леша нашел окошечко в ветках, навел на резкость, но в такой позиции нужный кадр не получался. Ему пришлось выйти из-за куста, чтобы щелкнуть, при этом в кадр попал и соседний столик. Он тут же опять спрятался и стал менять диафрагму и выдержку. Это была проба аппарата и его первая в жизни съемка, хотя руководства по фотографии он и читал. Для верности и самопроверки надо было сделать несколько дублей. Но повторить съемку не удалось. Едва все было готово, к ним откуда-то сбоку подошел какой-то невысокий дядя - Леша не успел его толком разглядеть, - показал книжечку-удостоверение и сказал шепотом: - Здесь нельзя фотографировать. Леша удивился: - Это почему же? - Я вам говорю, молодой человек, здесь снимать нельзя. Прошу, засветите пленку! - Еще чего! - разозлился Леша. Витек показал дяденьке довольно грязную и потому особенно выразительную фигу, дернул Лешу за рукав, и они, лавируя между кустами, убежали с территории кафе. - Леш, давай им устроим веселую жизнь, - деловито предложил Витек, когда они вышли на аллею, ведущую к автобусной остановке. - Да гори она огнем, - застегивая чехол фотоаппарата, сказал Леша. - Айда домой. Они долго шагали молча, потом Леша произнес непонятные для Витька слова: - Ну я ей сделаю стенгазетку… Ха! Культурненько обслуживают! - Какую стенгазету? - удивился Витек. - Не вникай. - И Леша дал ему щелчка в макушку… Галя, Светлана и Пьетро сидели в кафе до трех часов, потом отправились пешком в центр и пообедали в ресторане, а потом пошли в кино на сеанс 18.30, но до конца не досидели - фильм оказался скучный. Когда вышли из кинотеатра, возникла проблема: Пьетро во что бы то ни стало хотел проводить девушек домой - сначала, предлагал он, вместе со Светланой они проводят Галю, а потом он проводит Светлану. Девушки настаивали на том, чтобы они проводили Пьетро в гостиницу «Москва». Спор был решен простым голосованием, и победило большинство. Так как Пьетро на следующий день действительно улетал в Италию и так как он по-настоящему понравился и Светлане и Гале, прощание было долгим. Обещали не забывать друг друга, писать, а Пьетро несколько раз повторил, что обязательно приедет опять как можно скорее. В избытке чувств Пьетро порывался надеть Светлане на палец свое кольцо с каким-то неизвестным камнем, и ей стоило больших усилий образумить итальянца. Наконец они расстались. Галя поймала такси. Она завезла Светлану - та вышла за квартал от своего дома. Было десять часов. Светлана шла по двору не спеша, как бы прогуливаясь. Леша сидел на скамейке с двумя приятелями, ждал ее. Когда она с ними поравнялась, он встал, хотел взять ее за руку, но она отстранилась. - С иностранными красавчиками гуляем? Сбылись мечты, да? - сказал он. - Отелло рассвирепело, - насмешливо ответила она. - А тебе-то что? - Ну смотри, ты у меня догуляешься. Она скрылась в подъезде. Еще никогда в жизни не испытывал Леша такой тоски.Глава 3 АГЕНТ-БОЛВАН И БЕКАС
Чтобы избежать кривотолков, надо сразу объяснить, что слово «болван» употреблено здесь не в смысле дурак, тупой человек. У этого словечка есть еще множество других метафорических, переносных значений. Например, когда вместо чего-то делали его подобие, это называлось в народе болваном, а теперь зовется макетом. История шпионажа насчитывает немало случаев, когда секретные службы разведцентров, засылая во вражеский стан какого-нибудь разведчика с важной миссией, одновременно другим путем, по другим каналам отправляли еще одного или даже нескольких своих людей, которые, не ведая про то, в результате иезуитских действий своих хозяев привлекали к себе внимание вражеской контрразведки. Она попадалась на удочку и отвлекала силы на борьбу или игру с подкинутым ей шпионом, а в это время настоящий разведчик без особых помех делал свое дело. Такие липовые, или, точнее, вспомогательные, шпионы и назывались агентами-болванами. В нашем случае речь пойдет об агенте-болване, но несколько иного рода. Дело касается уже знакомого нам человека по имени Владимир Уткин, который отдал Тульеву свой контрольный талон, дающий право подняться на борт лайнера, а сам остался. Произошел, так сказать, простой обмен, правда, неравноценный. Уткин с Тульевым поменялись не только судьбами, но и плащами. В кармане плаща, который надел Уткин, лежал билет на самолет, следующий рейсом до Москвы, а также бумажка с адресом и начерченным чернилами планом городских улиц, на котором крестиком был помечен дом под номером 27. Этот план и адрес относились к городу С. Туда и отправился, сделав в Москве пересадку, Владимир Петрович Уткин, тридцатилетний человек, самой обыкновенной наружности, среднего роста, русоволосый, с голубыми глазами. Документы у него были в полном порядке. Но и в противном случае провал и арест не грозили ему, ибо он с первого шага на советской земле находился под надежным присмотром советских контрразведчиков. В военном билете Уткина значилось, что он старшина сверхсрочной службы, по специальности связист, уволен из армии в запас. Служил он на Дальнем Востоке, затем полгода прожил там как гражданский, выписался, снялся с воинского учета и подался поближе к центру, к Москве. Он холост и вообще одинок, никого из родных у него нет. В городе С. первым долгом Уткин пошел на городскую телефонную станцию, в отдел кадров, и справился насчет работы. Известное дело, к тем, кто пришел после службы в армии, отношение особое. Они везде самые желанные люди. К тому же Владимир ПетровичУткин отменно разбирается в слаботочной аппаратуре. Ему предложили должность техника на одном из телефонных узлов. Он тут же и оформился - и справки и фотокарточки у него при себе. Хуже было с жильем - Уткину пока и в отдаленном будущем ничего предложить не могли. Но он не огорчился - снимет где-нибудь комнату или угол, как-нибудь перебьется. Затем он отправился в военкомат и встал на воинский учет. Тем, кто с ним общался в городе С. в первые дни, Уткин представлялся спокойным, выдержанным человеком. Но казаться таким дорого ему стоило. Нервы его были напряжены до предела: когда он предъявлял документы и разговаривал с советскими официальными лицами, проходила решающую проверку вся его подготовка, вершилась, собственно, вся его судьба. И вот он проверку прошел и вздохнул свободно. Переночевав всего одну ночь в гостинице (не в номере, конечно, а на диване в холле), он на следующий день через гардеробщика гостиничного ресторана узнал адрес одного старичка, жившего на окраине в стареньком доме и пускавшего к себе жильцов. Уткин поехал к нему, и дело сладилось в пять минут. У старичка были две крохотные, метров по восемь, комнаты, кухня с газовой плитой. Запросил он двадцать рублей в месяц, Уткин не торговался. У него наличными имелось три тысячи да книжка на предъявителя на четыре тысячи - сберкнижка была московская. Через неделю Уткин приступил к работе. А до того успел обзавестись новой кроватью, шкафом, постельными принадлежностями и всем необходимым одинокому человеку. Хозяин, Василий Максимович, охотно согласился взять на себя покупку продуктов для завтраков и ужинов и исполнять обязанности повара. Описывать повседневную жизнь Владимира Уткина неинтересно, да в этом и нет нужды. Советским контрразведчикам, работавшим под руководством полковника Владимира Гавриловича Маркова, который вел всю операцию по делу резидента Надежды, то есть Михаила Тульева, важно было одно - выявить цели и намерения нового агента, засланного на нашу территорию, но, судя по тому, как вел себя Уткин, он собирался пустить в городе С. глубокие корни, а следовательно, ждать от него каких-то активных действий не приходилось. Лакмусовой бумажкой служила портативная рация, замаскированная под обычный приемник «Спидола», которая когда-то была доставлена из-за рубежа для Михаила Тульева и которую он спрятал в ящике с песком на чердаке дома N 27 по улице Златоустовской - этот-то дом и был помечен крестиком на плане, переданном Уткину Михаилом Тульевым. День шел за днем, неделя за неделей, а Уткин и не думал проведать чердак и хотя бы убедиться, что рация в сохранности. Значит, пока она ему не нужна. А коли так, значит, и он пока своему разведцентру не нужен. Если агент ведет жизнь обыкновенного советского человека и если ему нет надобности держать связь со своими шефами, следовательно, такой агент поставлен, что называется, на консервацию. Да, в нашем случае слово «болван» употреблено в другом его значении. Есть такие карточные игры, для которых строго обязательно определенное число игроков. Но когда не хватает одного, играть все-таки можно. На отсутствующего карты сдают и за него делают ходы. Это называется «игра с болваном». Похоже было, что началась какая-то новая игра, и Владимир Уткин исполнял в ней пока роль болвана. Положение капитана госбезопасности Павла Синицына, который для разведцентра был вором-рецидивистом по кличке Бекас (многовато птичьих фамилий собралось, да что поделаешь? Там дальше еще и Воробьев появится и Орлов), числился агентом, жившим теперь в Советском Союзе под именем Павла Ивановича Потапова, было еще более непонятным и неопределенным, а в некотором отношении и необычным. Перед отъездом за рубеж Михаил Тульев получил радиограмму, в которой было такое указание: «Обусловьте с Бекасом связь, предложите ему выехать в другой город, желательно в Сибирь». Но Павел-Бекас обосновался в городе Н. на Волге. От этого города поездом до Москвы была ночь езды. Разведцентр еще ранее поставил одно условие, которое Бекас обязывался соблюдать неукоснительно: он ни при каких обстоятельствах не имел права возвращаться к старому способу добывания денег. Двойственность положения Павла-Бекаса создавала неудобства. С одной стороны, необходимо было всегда иметь в виду, что разведцентр, так и не пожелавший пока облечь Бекаса своим полным доверием, в любой момент может организовать проверку (как это уже бывало в прошлом), живет ли его агент в обусловленном месте. Значит, Бекас обязан был прописаться в городе на Волге. Разумеется, это не составляло проблемы. Он нашел подходящую комнату и прописался. С другой стороны, было бы крайне нерационально сидеть Павлу в этом городе совершенно без всякого дела и ждать связи от разведцентра неизвестно сколько времени. Необычность же гражданского, так сказать, состояния Павла заключалась в том, что по соображениям конспирации он лишен был возможности свободно и открыто общаться со своим начальством и даже с родной матерью. Встречи, как и прежде, происходили на загородной даче, куда Павел добирался с необходимыми предосторожностями и где иногда жил по целым неделям. При совещании с полковником Владимиром Гавриловичем Марковым рассудили так. Если разведцентр поставил Бекасу условие раз в месяц проверять, нет ли для него корреспонденции до востребования, и не требовал ничего другого, значит, местожительство Бекаса рассматривается только как почтовый ящик, а не место его постоянного пребывания. А значит, нечего Павлу торчать в этом городе и проводить время в праздности. Таким образом, Павел получил возможность принимать участие в повседневной работе отдела, которым руководил полковник Марков, и исполнять поручения по другим операциям. Ежемесячно в разные дни он отправлялся в город на Волге, но девушка на почте, выдававшая письма до востребования, неизменно отвечала, что на имя Потапова ничего нет. Создавалось впечатление, что разведцентр вычеркнул Бекаса из своих списков действующей агентуры. Единственным напоминанием о его недавних взаимоотношениях с центром была половинка неровно разорванного рубля, который ему вручили когда-то как пароль. Признаком того, что состояние летаргии не будет вечным, послужила внезапная активность Уткина: в мае 1971 года (именно в то время, когда Светлана Сухова и ее подруга Галя Нестерова познакомились с итальянским инженером Пьетро Маттинелли, точнее - через две недели после этого) он вдруг отправился на Златоустовскую улицу в дом N 27, на чердаке которого в пожарном ящике с песком была спрятана рация, имевшая вид обыкновенной «Спидолы». Уткин взял ее к себе домой. Ждали, что он будет налаживать радиосвязь с разведцентром. Но Уткин в эфир не выходил. Вероятно, работал только на прием. Жил Владимир Уткин скромно, не пил, не шиковал. У него образовались прочные знакомства с несколькими людьми, среди которых была одна миловидная женщина лет тридцати, недавно разошедшаяся с мужем, к ней Уткин питал чувства более чем дружеские и, кажется, пользовался взаимностью. Вся жизнь Уткина была на виду, все было известно, ибо он находился под наблюдением. Но есть вещи, которые очень трудно, а иногда просто невозможно проконтролировать. Уткин ходил ремонтировать телефонные аппараты по вызову абонентов. В иной день таких вызовов выпадало на его долю до полутора десятков. Контрразведка нашла способ установить, что посещения Уткиным абонентов никаких побочных целей не имели - явился, починил, получил на лапу полтинник или рубль (а нет - и на том спасибо) и откланялся. Так что в дальнейшем Уткин общался с владельцами телефонных аппаратов бесконтрольно. Впоследствии обнаружилось, что он употребил эту возможность в интересах дела, ради которого его заслали в Советский Союз. После того как Уткин изъял рацию из тайника, он начал искать, где бы купить радиоприемник «Спидола». В магазине Уткин не стал бы покупать. Тому было две причины: во-первых, ему требовалась подержанная «Спидола», чтобы внешне она походила на ту, в которой была заключена рация, а во-вторых, приобретение приемника должно быть тайным, чтобы никто из посторонних не мог знать, что у Владимира Уткина есть две «Спидолы», по виду одинаковые. Уткину повезло. Однажды он был послан для починки телефона на квартиру, в которой, как он убедился, едва переступив порог, жил великий любитель транзисторной радиотехники. Комната, где стоял телефон, была начинена самыми разнообразными и притом новейшими приборами для улавливания и воспроизведения звуков. Тут были и немецкие «Грюндиги», и голландские «Филиппсы», и японские «Сони». И среди всего этого эбонитово-хромированного великолепия, скромно приткнутая под письменным столом, стояла старенькая «Спидола» в корпусе цвета слоновой кости. Хозяин этой квартиры, принявший Уткина, был человек немолодой, но заметно молодящийся. Уткин быстро исправил аппарат, от рубля, протянутого ему хозяином, отказался и, вроде бы уже уходя, с легкой завистью заметил: «Машинки у вас дай бог всякому». Хозяин был польщен, а следовательно, с готовностью развивал затронутую тему. Через десять минут «Спидола» перешла в собственность Уткина за смехотворно малую сумму - двадцать пять рублей. Уткин рассовал инструмент и запасные детали по карманам, чтобы освободить в чемоданчике место, уложил «Спидолу» и, расставшись с хозяином, как с лучшим другом, поехал домой. Эта тайная покупка, как выяснится позже, имела очень важное значение.Глава 4 «ТИХО СКОНЧАЛСЯ»
Прежде чем приступить к последовательному изложению дальнейшего, необходимо рассказать об одной акции, осуществленной Михаилом Тульевым несколько раньше. Вскоре по возвращении из Советского Союза в центр ему дали трехнедельный отпуск, и он отправился во Францию. …Небольшой городок, куда теплым летним утром приехал Михаил Тульев, взяв напрокат «Ситроен», лежал в местности, располагавшей к отдыху. Но приехал он в этот городок совсем не для того, чтобы отдыхать. То, чем он занимался, называется частным сыском. Ему хотелось выяснить обстоятельства смерти отца, и он знал, что не успокоится, пока не откроет всю правду. Михаил и раньше подозревал, что слова в некрологе его отца «тихо скончался» - не более чем благопристойный штамп, призванный скрыть истину. В Москве полковник Марков показывал ему добытый каким-то неведомым путем фотоснимок автомобильной катастрофы, на котором в одной из жертв Михаил узнал своего отца. Тогда был разговор, что катастрофа, безусловно, подстроена. Но позже, уже перед отправкой в Одессу, Михаил попросил Маркова еще раз показать снимок и, хорошенько рассмотрев его, усомнился - отец ли лежит рядом с исковерканным автомобилем… По прибытии Михаила в центр некий болтливый старый знакомец как-то во время долгого сидения за столиком в ресторане намекнул, что Одуванчик, то есть отец Михаила граф Тульев, умер не своей смертью. Позже, уже в Париже, пообщавшись со знакомыми из древней российской эмиграции, наслушавшись двусмысленных соболезнований, Михаил разыскал человека по прозвищу Дон, которого разведцентр завербовал еще лет двадцать назад, но который по складу души не походил ни на агента, ни на провокатора и который относился к ним обоим, отцу и сыну Тульевым, с большим уважением и даже с поклонением, потому что Тульев-старший однажды заступился за него перед высоким начальством. Этот человек определенно утверждал, что старика убрали. Нет, он не имел никаких доказательств, но за две недели до смерти Тульев заходил к нему в бар, был бодр и как будто бы даже помолодел с тех пор, как ушел в отставку. Выпил две рюмки коньяку, а прощаясь, подмигнул и весело сказал: «А у тебя здесь хорошо. Буду захаживать…» По официальной версии, Александр Николаевич Тульев скончался от острой сердечной недостаточности. Для человека, которому перевалило за семьдесят, - ничего удивительного, но Михаил-то знал, что у отца сердце всегда работало как хороший мотор, и он помнил не единожды говорившиеся слова: «Нет, сын, если я и умру, то, к сожалению, не от сердца. От печени - может быть, хотя, видит бог, пил я всегда умеренно…» В Париже ничего толкового добиться было невозможно, поэтому Михаил и отправился в маленький городок, где отец жил последние два года. Это жилище по-московски можно было бы назвать дачей, скорее даже домиком на пригородном садовом участке. Дом деревянный, простой, но с изюминкой: три ступеньки крыльца - из белого мрамора. Такое впечатление, что не крыльцо пристраивали к дому, а дом к крыльцу. Михаил с грустью подумал, что, вероятно, эти мраморные ступени напоминали отцу его дом в Петербурге - ничем иным нельзя было их объяснить. Дверь была заперта на два внутренних замка, ставни на окнах - как конверты с сургучными печатями: на висячих замках. Михаил обошел дом вокруг, посматривая исподлобья на уже отцветшие яблони. Завязей было совсем мало, и вообще сад производил впечатление заброшенности. Михаил отправился в мэрию, и там тщедушный старенький чиновник сообщил ему, что дом, принадлежавший мсье Тульеву, по завещанию, составленному покойным, принадлежит его сыну. У Михаила не было при себе документов, свидетельствовавших, что он Тульев-младший, поэтому пришлось прибегнуть к безотказному средству - вульгарной взятке, чтобы получить ключи от дома: ему нестерпимо хотелось взглянуть на последнее прибежище отца… Он ожидал ощутить дух тлена, но в комнатах и на кухне царил тот особенный порядок, который присущ квартире аккуратного холостяка, привыкшего ухаживать за собой без посторонней помощи. Даже пыли было совсем мало - словно протирали тут всего не более как неделю назад. В маленьком баре под телевизором стояло несколько початых бутылок и фужер на короткой ножке. Никаких бумаг, кроме оплаченных счетов за электричество и рекламных проспектов, Михаил в доме не нашел. Это было странно: он знал, что отец даже стихи тайком пописывал. Естественно, те, на кого отец столько лет работал, не могли оставить на произвол судьбы его архив, но забрать все до последнего листика - это уж чересчур. Кто-то явно перестраховывался… Михаил покинул дом, заперев его на оба замка. Странное чувство владело им: словно человека обокрали, но что именно унесли - он еще никак не сообразит… Скорее машинально, чем по зрелом размышлении, он отправился искать судебно-медицинского эксперта, который согласно заведенному правилу обязан был составить свидетельство о смерти Александра Тульева. Но прежде надо было прочесть своими глазами это свидетельство, и Михаил обратился за советом к уже знакомому чиновнику мэрии, а тот свел его с чиновником службы записей актов гражданского состояния. Еще сто франков, и в руках у Михаила быстро появилась бумага, в которой было написано, что Александр Тульев, семидесяти четырех лет, умер от кровоизлияния в мозг по причине обширной травмы правой височной области черепа, каковая травма могла явиться результатом падения и удара об острый край мраморной ступеньки крыльца, возле которого обнаружен труп. Отчего произошло падение, в акте сказано не было. Далее следовало пространное доказательство, что конфигурация раны полностью совпадает с конфигурацией закраины нижней ступеньки. Михаил спросил у чиновника, где можно найти эксперта, подписавшего это свидетельство, и чиновник сказал, что он работает патологоанатомом в городской больнице. Через полчаса, выпив по дороге чашку кофе в маленьком прохладном кафетерии, Михаил пришел в больницу, но там ему сказали, что интересующий его доктор Астье сидит дома, так как работы для него нет - уже неделю в городе никто не умирал, да к тому же у мсье Астье разыгралась аллергия из-за буйного цветения табака. «Видите, сколько у нас цветов», - прибавила дежурная сестра приемного покоя, протянув руку к окну. По указанному адресу Михаил без труда нашел квартиру доктора Астье. Патологоанатом открыл ему дверь, держа в левой руке носовой платок - у него был насморк, глаза слезились, и даже в полутьме прихожей Михаил заметил, какие красные у доктора веки. Начинать издалека не имело смысла, ибо кому же более чужды всякие покровы, чем патологоанатому, чья специальность - хладнокровно вскрывать человеческое тело и беспристрастно подтверждать или опровергать прижизненный диагноз, поставленный лечившим пациента врачом. Михаил сказал, что он сын покойного Тульева, и начал задавать вопросы. Да, ответил доктор Астье осторожно, он помнит то вскрытие. Сердце? Оно было у мсье Тульева как у сорокалетнего. Мозг? Со стороны сосудистой системы и кровоснабжения все обстояло благополучно. Мог ли мсье Тульев упасть оттого, что вдруг закружилась голова? Гм, гм, это уже из области предположений, в которой весьма уверенно чувствуют себя только лечащие врачи, например, терапевты или психиатры, но для патологической анатомии в этой сфере подвизаться категорически запрещено… Они сидели в кабинете доктора - хозяин за столом, Михаил в кресле, - и после этого иронического ответа у обоих одновременно возникла потребность встать и либо закончить разговор, либо сделать его еще более откровенным. - Скажите, доктор, - поднявшись, спросил Михаил, - мог человек получить такую рану, просто упав виском на ступеньку? - Ваш отец был высокого роста, - уклончиво ответил доктор. - Он выше вас… Михаил рискнул: вынул из кармана портмоне и положил его на стол. - Вы можете рассчитывать на мое молчание, - сказал он, глядя прямо в слезящиеся глаза доктора. - И на мой кошелек тоже. Астье усмехнулся: - Немедленно уберите это. Или, прошу прощения, уходите сейчас же. Михаил поспешно спрятал портмоне. - Извините, дурная привычка. - Что вас привело ко мне? - отрывисто произнес доктор. - Конкретно! - Умоляю, скажите: он действительно упал? - Я не могу этого знать. - Но характер раны… - Люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, и расшибаются насмерть… - Я внимательно прочел свидетельство о смерти, - сказал Михаил, опуская взгляд. - Рана описана очень подробно… - Вы врач? - Нет. Но мне сдается, что отец мог упасть и не сам. Он не поскользнулся на банановой кожуре… Доктор отвернулся к окну и тихо спросил: - Мой адрес вам дали в больнице? Михаил почувствовал, что лед сломан. - Да. Но я повторяю: вы можете быть уверены в моем молчании. - Ну, все равно… В общем, вашего отца, возможно, кто-то ударил в висок тяжелым предметом. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Однако насчет конфигурации раны в черепе и конфигурации ступеньки в акте все верно. Большего от меня не ждите. - Спасибо, доктор! - Не стоит благодарности. Будьте здоровы, и вы меня не видели. …Михаил так и не понял, какими мотивами руководствовался доктор Астье, сделав ему это осторожное, но немаловажное признание. Может, просто заговорила совесть? Как бы там ни было, спасибо патологоанатому… Михаил решил поспрашивать обывателей, и в первую очередь тех, кто жил неподалеку от дома отца. Ничего существенного выудить не удавалось, пока он не поговорил с агентом компании по продаже недвижимости, который жил почти напротив, чуть наискосок. Агент этот вспомнил, что незадолго до смерти старика видел возле его дома какого-то человека лет тридцати - тридцати пяти, одетого в рабочий комбинезон, с чемоданчиком в руке. Мсье Тульев был тогда в отъезде, агент это знал и потому позволил себе войти в усадьбу и поинтересоваться, что нужно пришельцу. Тот ответил, что промышляет ремонтом частного жилья и ищет подходящую клиентуру вот таким простейшим образом - обходит виллы и смотрит, нет ли кандидатов на капитальный или профилактический ремонт. Агент по продаже недвижимости вполне удовлетворился этим объяснением, но посоветовал не искать работу в городе: уж он-то знал, что дома богатых владельцев в ремонте пока не нуждаются, а у владельцев бедных нет на ремонт лишних денег. С тем они и разошлись. У Михаила после этой встречи возникло предположение, что так называемый ремонтник приходил неспроста: он мог сделать слепок с закраины мраморной ступеньки. Если так, то тут работали наверняка профессионалы высокой марки. Центр своими руками не стал бы убирать отца - это не в их стиле. Им проще нанять убийцу в одном из тайных синдикатов, занимающихся по заказу ликвидацией людей. Вернувшись в Париж, Михаил вновь обратился за помощью к Дону, рассказав ему обо всем, что удалось узнать. Тот обещал помочь, и Михаилу ничего не оставалось делать, как поселиться в тихом маленьком отеле и заняться чтением книжных новинок. К концу второй недели нетерпеливого ожидания Дон позвонил ему по телефону и сообщил, что есть новости, но в баре встречаться нежелательно. Михаил пригласил его к себе в отель. - Я так и думал, - сказал Дон с порога не то чтобы мрачно, но довольно угрюмо. - Что именно? - Михаил показал рукой на кресло у столика. Дон сел. - Что ты узнал? - Ты слыхал о Франсисе Боненане? Михаил сдвинул брови, припоминая. - Это что-то связанное с Чомбе? - Да. Он украл Чомбе и привез его в Алжир. - И он убил моего отца? Дон поднял руки и воскликнул: - Нет! Нет! - Так при чем здесь Боненан? - Я встречался с одним типом из его компании, и этот тип рассказал любопытные вещи. - Например? - Михаила начинала слегка раздражать эта манера ходить вокруг да около. - Он водил дружбу с человеком по имени Карл Брокман, тоже из их банды, а этот Брокман проболтался ему, что сумел за год заработать семьдесят тысяч долларов чистыми. Помимо работы на Боненана. - Короче - отца убил Брокман? - Скорей всего. - Но при чем здесь Боненан? - А при том, что это такая гнусная публика - тебе придется очень трудно. - Значит, Карл Брокман… - Ну, ты же понимаешь, имена у них у всех весьма условные. Как и у нас. Михаил закурил сигарету, прошелся от столика к двери и обратно и спросил: - Как он выглядит? - Этого мне не рассказывали. Из разговора я только понял, что ему лет тридцать с небольшим. - Где он сейчас? - Тот тип сказал, что его дружок месяца три назад отправился в Лиссабон. - А что там, в Лиссабоне? - Там есть одно агентство по распространению печати, которое ничего не распространяет, а вербует людей для войны в колониях. Михаил посмотрел на Дона с восхищением. Большего за такой короткий срок не могла бы разведать даже Интеллидженс сервис. Работа - высший класс, а подать, расписать ее эффектно Дон не может. Такие, к сожалению, в жизни не преуспеют. Вот когда, наоборот, работы на грош, а краснобайства много, тогда карьера обеспечена… - Чем мне тебя отблагодарить? - спросил Михаил задумчиво. - Подожди, еще ругать будешь, когда встретишься с Брокманом на узенькой дорожке. Михаил улыбнулся: - Ничего. Как зовут твоего осведомителя? - Марк Гейзельс. Он бельгиец. - Прошу тебя, Дон: постарайся уточнить, где Брокман. Сейчас мне до него не добраться, но как-нибудь выкроится время. - Буду стараться. Вообще-то раз уж человек подался наемником в колонии, это надолго, если не подстрелят, конечно. Так что мне не очень трудно будет его разыскать. У меня, сам знаешь, контактов с этими людишками хватает… Дон скоро ушел, а Михаил начал собирать чемодан. Нет, он не забыл, он всегда помнил слова генерала Сергеева: «Месть будет вам плохим попутчиком». Но ничего не мог с собой поделать: он должен найти убийцу отца. Однако его каникулы кончились. Михаил вернулся в центр.Глава 5 ПОЛОЖЕНИЕ В РАЗВЕДЦЕНТРЕ
За прошедшие годы в разведцентре многое изменилось. Кто-то ушел на пенсию, появились вместо старичков молодые работники, и это вполне естественно. Но были перемены, которые говорили о ненормальности обстановки. Дело в том, что между шефом и его главным советником шла необъявленная война. Шеф, которого сотрудники за глаза звали Монахом, был оскорблен тем непреложным фактом, что его советник Себастьян исполнял при нем обязанности контролера или ревизора и пользовался, так сказать, правом экстерриториальности. Формально он подчинялся шефу, но фактически как бы стоял над ним, ибо отчитывался за свои действия только перед высшим начальством. Монах, конечно, догадывался, что в своих отчетах Себастьян чернил его, но платить той же монетой считал ниже своего достоинства, а в отместку старался при каждом подходящем случае чинить Себастьяну препятствия. В основном это касалось кадровой политики. Если, например, Себастьян намеревался продвинуть кого-то, можно было ставить без риска сто против одного, что Монах не даст хода креатуре своего советника. И наоборот, сотрудник, снискавший чем-нибудь антипатию Себастьяна, автоматически обретал покровительство Монаха. Но бывали исключения, где и Монах вынужден был отступать перед Себастьяном. Положение Михаила было, мягко говоря, щекотливым. После троекратного откровенного допроса, после многочисленных бесед с различными чинами и специалистами, бесед, которые носили характер завуалированного допроса, Михаил составил подробный письменный отчет о своей деятельности на территории СССР и особенно о характере взаимоотношений с Бекасом. Он честно написал даже о том, что во время пребывания в СССР оформил законный брак с советской гражданкой, что у него есть сын Александр и в скобках - домашний адрес Марии, место ее работы и должность. Жена думает, будто он уехал на заработки в районы Крайнего Севера. Он ни разу не допустил оплошности, в его показаниях даже самый придирчивый глаз не смог бы усмотреть ни единого противоречия. И все же Себастьян, надо отдать ему должное, почувствовал к Михаилу недоверие, о чем прямо сказал Монаху. Тот саркастически заметил, что с такой способностью подозревать все и вся надо бы работать не в разведке, а в ФБР - Федеральном бюро расследований. Себастьян проглотил это молча и остался при своем мнении. Монах же всячески старался выразить Михаилу свое расположение. Раньше кадровые вопросы - кого на какую должность поставить, кому какого рода работу поручить - решались единолично шефом. Теперь же, с тех пор как Себастьян стал советником, он имел право оспаривать решения Монаха, и при возникновении между ними разногласий арбитром выступала высшая инстанция - управление, которому подчинялся разведцентр. Там у Себастьяна были связи, поэтому не считаться с ним Монах не мог. Таким образом, получилось, что Михаил невольно сделался виновником нового обострения отношений между шефом и его твердокаменным советником. Монах намеревался поставить Михаила во главе отдела, занимавшегося подготовкой агентуры для Востока. Себастьян резко возражал. В конце концов было принято компромиссное решение, и Михаила назначили консультантом в этот отдел. В его обязанности входила корректировка планов подготовки и засылки агентов в Советский Союз. Себастьян, лично курировавший деятельность отдела, поставил условие, чтобы Михаил не имел прямого контакта с агентами, для которых отрабатывал легенды. Более того, Михаил не всегда мог знать, когда и как используются его советы и используются ли они вообще. Ему, скажем, сообщались исходные данные - профессия, возраст, штрихи биографии, а он должен был, основываясь на своем знании быта и обычаев, подобно романисту, во всех мельчайших деталях расписать будущую жизнь и линию поведения неизвестного ему персонажа с таким расчетом, чтобы в этой инструкции были предусмотрены все мыслимые ловушки и способы их обхода. Себастьян строго контролировал продукцию Михаила. Все это означало, что ни о какой активной разведывательной работе Михаилу пока нечего было и думать. Он чувствовал к себе явное недоверие со стороны Себастьяна и вынужден был объясниться с Монахом. Последний посоветовал ему не расстраиваться. «Со временем все образуется», - сказал Монах, но, как выяснилось, ждать пришлось долго. Связь с полковником Марковым была налажена надежно, и Михаил регулярно сообщал ему о всех добытых данных, зная, что они очень пригодятся Маркову. На исходе первого года работы Марков уведомил его, что по легенде, которую Михаил разрабатывал для неизвестного ему агента и которую переслал Маркову, этот агент был обнаружен чекистами в большом индустриальном городе. Спустя некоторое время пришло письмо, в котором Марков благодарил Михаила за ценные данные о структуре разведцентра и его сотрудниках. Особо важными оказались сообщения о месте предполагаемого советом НАТО строительства подземного хранилища термоядерного и химического оружия стратегического назначения. Значит, старания его не проходили даром, и это давало ему сознание своей полезности, без чего жить в обстановке разведцентра было бы просто невыносимо. А письма от жены, от Марии, давали другое сознание - что ты человек, необходимый двум любимым существам. Провал агента вызвал у Себастьяна новые подозрения относительно Михаила. Конечно, агенты могут потерпеть неудачу, так сказать, естественным путем, то есть благодаря бдительности советских контрразведчиков или по собственной неосторожности. Но Себастьян не был бы Себастьяном, если бы не связал этот провал с тем обстоятельством, что Михаил Тульев хотя и вслепую, но приложил руку к подготовке разоблаченного агента. По настоянию Себастьяна была назначена специальная комиссия, чтобы расследовать причины провала. В течение трех месяцев она анализировала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и пришла к выводу, что агент мог попасть в поле зрения советской контрразведки либо по своей оплошности, либо в результате неточности, допущенной в документах прикрытия. Предательство со стороны сотрудников разведки комиссия исключала. Такому выводу немало способствовали усилия чекистов. Чтобы отвести подозрения от Михаила, через контролируемый чекистами канал связи агента с центром была отправлена шифровка, в которой агент сообщал о подозрительной задержке его документов, сданных на прописку, и о заданном ему вопросе: где был получен паспорт? Тем не менее вскоре Михаил ощутил, что потерял у Себастьяна всякое доверие: его постепенно отстраняли от прежней работы, и он три месяца просидел праздно, а затем предложили перейти в аналитический отдел и поручили самую нудную работу - выуживать из вороха периодических изданий крупицы полезных для разведки сведений и составлять справки. Можно было определенно считать, что его задвинули на самые задворки и дают понять, что пора подумывать о дальнейшей своей судьбе. Гордыня Михаила не страдала, но смириться с новым своим положением, которое во многом лишало его возможности оставаться полезным для Маркова, было невозможно. Михаил вновь обратился к Монаху с просьбой принять его для серьезного разговора. Монах назло Себастьяну (когда Михаил позвонил по телефону, Себастьян находился в кабинете у шефа) пригласил его к себе домой. Михаил был вполне искренен, когда жаловался Монаху на свое положение, на столь недвусмысленно выказанное ему недоверие. Монах все понимал, но просил считать перевод в аналитический отдел временным, говорил, что надо немного потерпеть и все станет на свои места. Он намекнул, что в скором времени намечается широкая операция, для которой потребуются опытные люди вроде него, способные решать сложные задачи в исключительных условиях, и тогда для Михаила найдется работа поинтереснее теперешней. Монах советовал не обращать внимания на выходки этого одержимого кретина Себастьяна и тихо пересидеть еще месяц-другой. Михаил был рад удостовериться в сердечном благорасположении Монаха. Однако прошло почти полгода, прежде чем обещанная шефом перемена начала осуществляться. Как-то в феврале Монах позвонил Михаилу и срочно пригласил к себе в кабинет. Он был не один. В кресле за журнальным столиком сидел солидный господин, который на приветствие вошедшего лишь слегка наклонил голову. Монах не счел нужным представить ему Михаила. Вероятно, он просто показывал этому важному господину кандидатов для предстоящей работы. Разговор был непродолжительный. Монах спросил, не растерял ли Михаил свое знание языков, в частности как дела с испанским и португальским. Михаил отвечал, что испанский он не забыл, а с португальским дело обстоит немного хуже. Второй вопрос касался его знакомства с Африкой. Михаил кратко рассказал о своем полугодовом пребывании в Алжире, относившемся еще ко времени Второй мировой войны. Больше вопросов не последовало, и Монах отпустил Михаила. На следующий день его вновь пригласили к нему, но теперь тот был уже один. В отличие от Себастьяна Монах справедливо полагал, что агент выполнит свое частное задание тем лучше, чем яснее и полнее ему будет известен общий замысел и цели операции, в пределах допустимого, разумеется. Поэтому Монах изложил Михаилу задачу, поставленную перед разведцентром. Не называя заказчика, он объяснил, что от них требуется негласно определить истинное положение в португальских колониальных войсках. Насколько сумел понять Михаил, от этого зависели размеры помощи португальскому фашистскому режиму со стороны влиятельных финансовых группировок. Конечно, эти группировки могли послать своих официальных эмиссаров, но эмиссарам обычно показывают то, что выставляет просителей в выгодном свете, и скрывают от них все, что может бросить на просителей тень. Чтобы увидеть реальное состояние вещей, а не декорации, следует заглянуть за ширму и сделать это тайно от хозяев, иначе они успеют замести мусор под ковер. А главное, надо испытать все на своей собственной шкуре. Так излагал проблему Монах, и Михаил отлично его понимал. На подготовку Михаилу отводилось два месяца. За это время он должен подучить португальский язык и составить план проникновения в колониальные войска - тут ему предоставлялась полная свобода выбора. Михаил задал только один вопрос: в какую именно колонию Португалии он должен отправиться? Монах сказал: лучше ехать туда, куда можно попасть быстрее и без помех, так как на выполнение задания у него будет не очень много времени. Себастьян против нового назначения Тульева ничего не имел, поскольку это никак не касалось деятельности опекаемого им восточного отдела. Наоборот, обрадовался в надежде на то, что там Михаил может сложить голову. У Михаила тоже были основания радоваться. Во-первых, он избавлялся от опостылевшей кабинетной работы. Во-вторых, наконец-то появился долгожданный шанс выполнить важное задание Маркова - отыскать следы особо опасного военного преступника Гюнтера Гофмана, которые затерялись на Пиренейском полуострове. В-третьих, ему предоставлялась возможность достигнуть и сугубо личной цели - найти Карла Брокмана, убийцу отца. Был ли при этом риск для него лично, для его жизни? Да, был, и Михаил это понимал. Еще слушая Монаха при первом разговоре о задании, Михаил вспомнил о сведениях, добытых Доном и касавшихся так называемого агентства по распространению печати в Лиссабоне. Он сразу решил, что можно воспользоваться этим агентством, но перед шефом раскрывать своей осведомленности не стал. Теперь он попросил разрешить ему поездку в Париж на две недели, чтобы нащупать пути проникновения в португальские колониальные войска. Монах санкционировал командировку. Дон не забывал просьбы Михаила относительно Карла Брокмана и время от времени оповещал о передвижениях этого белого наемника, воевавшего на Черном континенте. Дон располагал сведениями, что Брокман находится в колонии, расположенной на западе Африки, и что контракт у него не скоро кончается, а там кто его знает… Прилетев в Париж, Михаил из аэропорта позвонил Дону в его бар, и они условились о встрече. В течение недели Дон сумел снестись с нужными людьми и получил подтверждение, что Брокман на прежнем месте - в спецподразделении, действующем на территории португальской колонии. Михаилу стали также известны особые правила, которыми руководствуются службы и учреждения, занимающиеся вербовкой добровольцев для войны в колониях. Возвращаясь в разведцентр, он был снабжен всеми сведениями, необходимыми для составления хорошо продуманного плана своей поездки в Португалию. План был написан в два дня, положен на стол Монаху и одобрен.Глава 6 ПОД МАЛЬТИЙСКИМ КРЕСТОМ
Сначала необходимо дать место политической хронике, хотя бы несколько строк. В то время народ одной из последних колоний некогда обширной Португальской колониальной империи вел упорную вооруженную борьбу за свою свободу, за образование независимого государства. У наследников фашистского салазаровского режима дела обстояли плохо. Насильно зарекрутированные солдаты дезертировали из армии при первой подходящей возможности. Приходилось вербовать наемников. Наемники были разные - в зависимости от задач, которые перед ними ставились. Плата тоже колебалась, и амплитуда достигала значительных размеров. Являлись рядовые обученные, которым красная цена была в пересчете на доллары двести в месяц. Но были и профессионалы, подобные Карлу Гейнцу Вайсману из Нюрнберга, которым надо платить по тысячи больше, ибо эти умели не только подчиняться при совершении кровавых акций, но и командовать. И платили всем этим людям не напрасно: там, куда их отправляли, шла война не на жизнь, а на смерть. Тот, кто вербовался в погоне за острыми ощущениями и экзотикой, получал их сполна. Иногда за недостатком современного оружия африканцы стреляли из луков длинными оперенными стрелами с наконечником, несущим кураре - яд, парализующий дыхание. Когда Михаил Тульев посетил лиссабонское так называемое агентство по распространению печати, там было малолюдно, и к нему поначалу отнеслись с вниманием. Однако человек в светло-сером костюме, к которому его проводили, смотрел на Михаила без всякого интереса. - Сколько вам лет? - спросил он. - Сорок, - ответил Михаил и отметил про себя, что ему явно не поверили. - Национальность? - Русский. - Откуда прибыли? - Из Франции. - Перемещенный? - Нет. Мой отец эмигрировал из России в восемнадцатом году. Светло-серый откинулся на спинку кресла, посмотрел на Михаила как бы издалека. - Кто вам дал наш адрес? - Его фамилия Гейзельс. Он из Бельгии. Светло-серый побарабанил пальцами по столу и спросил: - Как вы думаете, сколько мне лет? Михаил решил польстить: - На вид тридцать. В ответ он услышал неподдельный хохот. А отсмеявшись, светло-серый сказал: - Думаю, мы с вами ровесники. Вам ведь под пятьдесят? Оставалось только удивляться. - Давно не смотрелся в зеркало, - пожав в смущении плечами, сказал Михаил. - Но я бы вам… - Оставьте, - перебил его светло-серый. - Я не дама, не надо меня молодить. Чего вы хотите от нас? - Мне необходимо заработать. А чего бы вы хотели от меня? - Вы не боитесь червей под кожей, вшей, брюшного тифа и десятка болезней, незнакомых европейской медицине? А также не боитесь ли вы умереть, не разменяв шестой десяток? - Я хочу заработать. А боишься или не боишься - это зависит от цены. - Мы не знаем, что вы умеете делать. - Стрелять, во всяком случае. - Ну, это могут и мальчишки. А в ваши годы учиться кое-чему другому будет трудновато. - У меня приличное здоровье, - возразил Михаил. - И потом во время войны мне приходилось не только стрелять. - Что же еще? - Я был на Восточном фронте, - соврал Михаил. - В немецкой армии? - Да. - В каких частях? Михаил рискнул сделать смелый ход не по правилам: - Эсдэ. Я служил под командой Гюнтера Гофмана. Не слыхали о нем? Светло-серый опустил глаза и сказал с легкой иронией: - Кто же не слыхал о человеке, которого, по крайней мере, в трех странах заочно приговорили к смертной казни? - Он помолчал и добавил: - Но вы, наверное, первый, кто афиширует свою связь с ним. Михаил подумал, что напрасно затеял эту игру, но решил не отступать. - Мне и сейчас хотелось бы работать на Гюнтера. Жаль, не знаю, где он. Это осталось без внимания. Его собеседник вернулся к делу. - В каком чине вы закончили войну? - Фельдфебель. - Сколько рассчитываете получать у нас? - Если вы положите мне три тысячи западногерманских марок в месяц… - Это слишком много. - Две пятьсот. - Хорошо. Но вы должны будете подписать контракт, который лишит вас права распоряжаться собой минимум на год. - Именно об одном годе я и думал. - Хорошо. Приходите сюда послезавтра в это же время, мы все решим. Михаил был уже у двери, когда хозяин кабинета сказал, не скрывая насмешки: - Если вы ищете Гофмана, почему же не поинтересовались у Гейзельса? Вас ведь Гейзельс надоумил обратиться к нам, не правда ли? У Михаила было такое ощущение, что все рухнуло. - Гейзельс не из тех, кто афиширует свои связи. - Ладно, - усмехнулся светло-серый, - это не имеет значения… Выйдя из агентства, Михаил испытывал досаду. Но что сделано, то сделано, оставалось ждать результата. Визит к «распространителю печати», по крайней мере, в одном отношении оказался полезным: удалось нащупать нить к Гофману. Гофмана знает Гейзельс. Гейзельса знает Карл Брокман. Ситуация складывалась таким образом, что, разыскав Брокмана, Михаил мог выполнить задание и достичь личной, страстно желанной цели. Через день он явился в агентство, и ему дали подписать обязательство, похожее на клятву или на присягу, и осведомились, куда бы он хотел отправиться. Михаил, естественно, выбрал колонию, где воевал Брокман, и через неделю в обществе пятидесяти себе подобных (правда, все были гораздо моложе) высадился с транспортного судна на Африканском побережье. Их поселили в военном лагере, где перед воротами возвышался железный мальтийский крест - символ Лузитании, как называлась когда-то Португалия, разместили в длинном белом бараке по двое в комнате: две кровати с матрацами из морских водорослей, две тумбочки и вешалка, одновременно способная служить пирамидой для карабинов. Ему относительно повезло: с ним поселился бывший капрал английской армии из гвардейского шотландского батальона, парень лет двадцати пяти. Капрал искал приключений - и денег, разумеется, тоже. Большинство остальных были подонки из уголовников. Капрал Бобби обладал бесценным в общежитии качеством - никогда не заговаривал первым. На следующий день была произведена сортировка вновь прибывших. Лагерное начальство проверяло новобранцев по двум статьям: интеллектуальной, если можно так выразиться, имея в виду тесты на сообразительность (вроде умения отличать квадрат от треугольника), и физической, имевшей преимущественное значение. Но главным все же считался опытвоенных действий. Михаил попал в число шести особо выделенных. Этому следовало порадоваться, ибо таким образом он прошел экзамен на зачисление в категорию существ мыслящих, а не человекоподобных ублюдков. Среди остальных были и карманники, и неудавшиеся сутенеры, и бандиты, скрывавшиеся от суда, и даже один брачный аферист по имени Езар, который выдавал себя за тайного агента какой-то тайной службы (вскоре выяснилось, что он просто шизофреник, но его за это не отчислили). Они ходили на стрельбище, где проводили два утренних часа, затем с ними занимался инструктор по дзюдо, после обеда специалист по борьбе с партизанами читал им лекции, а после лекций они отрабатывали на местности практические действия. Гоняли так, что к концу дня эти здоровенные парни еле волочили ноги. За две недели каждому пришлось прыгнуть четыре раза с парашютом - дважды ночью, группой, причем оба раза прыгали на лес. Один из новобранцев разорвал себе о сук сонную артерию и умер на руках у капрала Бобби, не дождавшись врачебной помощи. Кое на кого этот случай произвел угнетающее впечатление, но наутро после отпевания, совершенного гарнизонным священником, с новобранцами беседовал самый главный начальник, который вслед за священником произнес высокие слова о благородной миссии цивилизованных народов на земле Черной Африки, об опасности распространения коммунистических идей и так далее, а самое главное - пообещал всем прибавку жалованья… Михаилу нетрудно было выделиться. Уже к концу первой недели он подружился с инструктором по противопартизанским действиям, к чему, собственно, и стремился. Они были почти одногодки. Инструктор, которого звали Фернанду Рош, сам предложил ему однажды вечером распить бутылочку, а у Михаила имелся привезенный из Франции коньяк. Они его и распили дома у инструктора, занимавшего однокомнатную квартиру в коттедже за пределами лагеря. Дружба эта способствовала тому, что Михаилу предложили на время заменить одного из инструкторов по стрелковой подготовке, которого отправили в Лиссабон на операцию по поводу гнойного аппендицита. С того дня Михаил и Фернанду Рош выпивали каждый вечер, благо они стали соседями, так как Михаил занял квартиру заболевшего инструктора, а в гарнизонном магазине было все, что душе угодно. Фернанду Рош оказался не таким уж циником, как думал поначалу Михаил. Он исправно нес свою службу, но расистом не был, а почившего в бозе Салазара и его преемника Каэтану великими деятелями и вождями португальской нации не считал. Он даже обмолвился как-то, что то, чем они тут занимаются, то есть война против законных владельцев африканской земли, дерьмо, недостойное даже быть темой разговора между двумя нормальными людьми, когда они сидят за столом и попивают неплохое винцо. - Это портит букет вина, - улыбнувшись, докончил Фернанду свою речь. Момент был благоприятным для разговора по душам, и Михаил решил им воспользоваться. - Да мне-то тем более наплевать на вашу политику, - сказал он. - Зачем же ты сюда приехал? Для любителя экзотики ты в такой упаковке староват… Только деньги? - Конечно. - Но ты не похож на всех этих подлецов, которые за три доллара мать родную зарежут. Михаил вздохнул. - Что делать? В Европе такому, как я, не прокормиться. Фернанду подмигнул ему. - Ничего, старина, пока существуют на свете паршивые политиканы, нам с тобой работы хватит. - Это верно… Да, вот еще что, Фернанду, - сказал Михаил, не стараясь притвориться, будто это вспомнилось ему между прочим. - Тебе не приходилось встречаться с человеком по фамилии Брокман? Говорят, он где-то здесь. Фернанду посмотрел на него, прищурившись: - Ты знаком с этим экземпляром? - Я - нет. Но по твоему вопросу видно, что ты знаком. - О да! - с брезгливой миной воскликнул Фернанду. - Даже очень хорошо: я его натаскивал. - И давно это было? - Не так давно… Не помню… А к чему ты о нем заговорил? - Просили передать ему привет. - Кто же это? - Есть такой Гейзельс… Фернанду присвистнул. - Еще того чище! Так ты знаешь Гейзельса? Похоже, Михаилу следовало оправдываться за свои знакомства. - Случайно сошлись в Париже. У меня дела были скверные, он посочувствовал. - Что, денег дал? - Денег от первого встречного я не беру. Он шепнул мне адрес лиссабонского агентства по распространению печати. - Значит, ты ему не очень приглянулся. Могло бы быть и похуже. Фернанду все больше и больше начинал нравиться Михаилу. Намек на принадлежность Гейзельса к темному миру был прозрачен, и Михаил спросил: - По-твоему, я похож на овцу? Куда поведут, туда и пойду? - Не думаю. Но такие, как Гейзельс… - Фернанду не договорил. - А где сейчас Брокман? - спросил Михаил. - Там, в джунглях. - С такими же вояками, как наши? - Э-э нет. Он по другим делам. - Секрет? Фернанду посмотрел на него совершенно трезвыми глазами. - Знаешь, хотелось бы дать тебе маленький совет. - Говори. - Раз уж ты сюда попал, старайся не копаться в чужих делах. Спокойней будет. - У меня вообще такой привычки нет. Фернанду продолжал так, словно Михаил не дал ему закончить предыдущее: - Но о Брокмане я тебе кое-что могу сообщить. Спецкоманда, в которой он работает, охотится за командирами партизан. Они разошлись после полуночи. - Все, что мы тут болтали, строго между нами, - сказал Фернанду на прощание. - Мог бы и не предупреждать… Улегшись в постель и перебрав в памяти по порядку их застольную беседу, Михаил не мог не подивиться откровенности Фернанду Роша. Ведь они были знакомы всего каких-то три недели, а Фернанду выложил ему столько, что, будь на месте Михаила подосланный провокатор, инструктора по борьбе против партизан поставили бы к стенке без суда и следствия. Объяснять доверчивость Фернанду тем, что Михаил угощал его, было бы неверно: инструктор, насколько Михаил успел заметить, был не жаден и денег имел достаточно, да к тому же холостяк, копить не для кого. Скорее всего он слишком долго молчал, и вот при первом подходящем случае, сойдясь с человеком, непохожим на тех полулюдей, с которыми приходилось общаться много лет, Фернанду раскрылся, чтобы хоть один вечер отдохнуть душой. Других правдоподобных толкований Михаил не нашел… У него уже набрались некоторые сведения, на основании которых можно было составить отчет для Монаха, отображающий истинное положение в колониальных войсках. Дело же с Брокманом сильно усложнялось. По-видимому, встретиться с глазу на глаз им в ближайшее время не суждено, а затягивать пребывание в колонии не имело смысла. Но он еще не придумал, как отсюда выбраться. Рассуждая о мести, Михаил приходил к выводу, что это действительно низменное чувство, но всякий раз возникал контрдовод: Брокмана необходимо обезвредить хотя бы уже потому, что он не человек, а опасный бешеный волк. Как еще можно назвать выродка, избравшего себе профессией убийство людей? Рассчитаться с убийцей необходимо. И если самосуд карается законом, то совестью своей Михаил его оправдывал. Правда, он не был твердо уверен, что рука его не дрогнет в решительный момент. Главным оставалось встретиться с Брокманом и через него выйти на след Гофмана. Но как это осуществить? Михаил уже начинал изнывать от нетерпения: когда же наконец вернется оперированный инструктор, которого он подменял? Но тут произошло чрезвычайное событие. Фернанду, забежав к нему во время дневного перерыва, сообщил, что срочно вылетает в джунгли, и что, по всей вероятности, вскоре Михаил будет иметь счастье видеть Брокмана - живого или мертвого. Михаил привскочил с постели - он сидел, собираясь раздеться и лечь. - Что произошло? Но Фернанду выбежал, крикнув через плечо: - Вертолеты ждут! Надев белую панаму, Михаил вышел из дому, пересек под палящим полуденным солнцем пустынную кремнисто-твердую площадь, жегшую ноги даже через толстую кожаную подошву, и вошел в здание штаба. Дежурный, с которым он был знаком, ничего толком объяснить не мог. Сказал, что с материка поступила на радио просьба о срочной помощи - кто-то там попал в беду, а кто именно и где, неизвестно. К радистам на второй этаж Михаил пойти не мог: туда нужен был особый пропуск. Придя к себе, Михаил лег на кровать, не раздеваясь. Вертолеты прилетели в 16.00. Михаил, услышав их шум, отправился в казарму, где размещались новобранцы: она была ближе к аэродрому. Те, кто сейчас прилетел из джунглей, обязательно проедут мимо нее, а Михаилу очень хотелось посмотреть на вернувшихся. Ждать пришлось недолго. Вскоре на бетонке, ведущей от аэродрома, показались два джипа с туго натянутыми светло-песочными тентами. Они пронеслись мимо и скрылись в той стороне, где располагался лагерь спецкоманд. Михаил успел заметить, что в джипах на задних скамьях сидели какие-то лохматые, бородатые люди в оборванных пятнистых маскировочных униформах. И что-то белое мелькнуло - наверное, бинты, перевязки. А минут через десять на дороге появилось еще несколько джипов. В переднем рядом с шофером сидел Фернанду. Он помахал Михаилу рукой. Михаил не спеша зашагал к дому. Скоро пришел Фернанду и сразу отправился под душ. Через открытую дверь ванной он рассказывал сидевшему у стола Михаилу о том, что произошло. - Их пятеро было, в том числе твой Брокман… Базу заложили в джунглях недалеко от штаба… В разведку ходили, ловили момент. А момента нет и нет… - Он делал паузы, когда отфыркивался. - Сегодня утром на них набрел какой-то мирный негр с мальчишкой… Старик и мальчишка. Старика они застрелили, а парнишка удрал. Их накрыли. Они дали сигнал по радио сюда. Ну а дальше все ясно… - У вас был бой? - спросил Михаил. Фернанду не расслышал. - Что? - Бой был, говорю? - Ерунда! Так, пугнули малость. Те не ожидали, конечно, что мы так быстро подоспеем, и держали эту бравую команду в осаде малыми силами - человек десять. Там между деревьями чистое место было, мы спокойненько сели, а нас тридцать человек - какой уж тут бой? - А из наших, по-моему, кто-то ранен? - Трое. И Брокман тоже. - Тяжело? - Ерунда, царапина… Касательное в левое предплечье… - Фернанду кончил полоскаться, закрыл краны. - Сказать по чести, будь моя воля - не стал бы я их оттуда вытаскивать… - Брокмана в госпиталь отправят? - Тут уж как он сам захочет, - не придав этому вопросу никакого особого значения, с обычным своим добродушием отвечал Фернанду. - Я ему, между прочим, передал от тебя привет. - Он же меня не знает. - Верно. Брокман так и сказал: кто еще такой? - Если можешь, представь нас друг другу. - Попробуем… Но мне это ничего приятного не доставит… В тот же вечер Фернанду привел к себе Брокмана, а Михаил ждал их, уставив стол бутылками, джусом и стаканами. Брокман явился голый до пояса, на левой руке чуть ниже локтя - пухлый тампон, приклеенный пластырем. Дон говорил в Париже правду: Брокману на вид было лет тридцать. Волосы светлые. Загорелый не по-курортному, а скорее как дорожный рабочий: лицо ниже бровей, шея, руки до бицепсов - кофейного цвета, а торс и лоб - молочно-белые. Светлые волосы и черное лицо производили впечатление, будто смотришь на негатив. Михаил предполагал узреть нечто гориллоподобное, но перед ним был хорошо сложенный, красивый парень с несколько презрительной гримасой. На собеседника он не глядел. - Привет, - по-немецки сказал Брокман, усаживаясь. - Меня зовут Карл. - Привет, - ответил Михаил, радуясь, что этот тип не протянул ему руки. - Говорят, вы меня знаете. - Марк Гейзельс просил передать вам поклон. - А-а, еще бегает, старый лис! Как он там? - Мы виделись накоротке. Но можно понять, что он при деньгах. - Гейзельс всегда при деньгах, - небрежно заметил Брокман. - Мы выпьем или будем смотреть на бутылки? - Что вы предпочитаете? - Покрепче… Михаил взял большую бутылку джина, посмотрел на Фернанду, который стоял, опершись рукой о спинку стула. Фернанду кивнул. Михаил налил в три стакана. Выпили. - Не сильно? - спросил Михаил, показывая на раненую руку Брокмана. - Достаточно для того, чтобы смыться отсюда, - сказал Брокман. - Значит, в Европу? - Завтра же. Имею право. - Брокман повертел перед глазами пустой стакан. - И страховку получим. - Вы счастливчик. - Желаю и вам того же. - Спать хочется, - сказал Фернанду. Михаил обернулся к Брокману: - В таком случае, может, перебазируемся ко мне? - Благодарю. Надо отдыхать. - Он посмотрел на часы, которые были у него на правой руке. И Михаил вспомнил слова патологоанатома, выступавшего в качестве судебно-медицинского эксперта: «Если удар был нанесен не сзади, то бил левша». Брокман встал. Михаил решил рискнуть, как при разговоре с вербовщиком в лиссабонском агентстве по распространению печати. - Один вопрос, Карл… - Да. - Вам не знакомо имя «Гюнтер Гофман»? Казалось, над ухом у Брокмана выстрелили из пистолета: он вздрогнул. - Почему вас это интересует? - Видите ли, я когда-то, во время войны, служил с ним. Хотелось бы разыскать. Полагаю, сейчас у него другое имя… - Правильно полагаете. - Вам ничего о нем не известно? - Последнее его имя - Алоиз. А фамилией я не интересовался. - А где он сейчас? - Был в Америке. - Брокман повернулся к двери. - Пока. - Пока.Глава 7 ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
Леша, когда проявил свою первую в жизни самостоятельно отснятую фотопленку, был очень удивлен: она получилась такой хорошей, будто снимал матерый фотомастер. Скажем, кстати, что эта первая пленка была лучше всех последующих на протяжении месяцев трех, и только к концу лета Леша научился сознательно добиваться тех прекрасных результатов, которые в самом начале были получены по наитию. Как было им обещано в присутствии его малолетного покровительствуемого Витьки, Леша сделал стенгазету. Он дал ей название почти такое же, какое носил стенной орган печати центрального городского универмага, то есть «Культурное обслуживание». Опустив предлог «за», он словно поднялся на ступень выше: та газета только призывает к культурному обслуживанию, а здесь - пожалуйста, уже все готово. В центре небольшого листа ватманской бумаги, под заголовком, была наклеена фотокарточка размером тринадцать на восемнадцать, изображавшая Светлану, Галю и Пьетро за ресторанным столиком. На заднем плане, чуть не в фокусе, из-за столика привстал плотный мужчина. (Леше показалось, что он как будто похож на человека, приказывавшего ему засветить пленку.) Под снимком Леша поместил подпись, над которой ему пришлось долго думать. Она гласила: «Картинки из светской жизни». По обеим сторонам фотокарточки были наклеены цветные вырезки из рекламных буклетов «Интуриста». Леша полюбовался с горечью на свое произведение, вздохнул, сложил стенгазету вчетверо и засунул ее под тахту. Он счел замышленное предприятие с вывешиванием газеты недостойным и мальчишеским. Более того, он решил выказать великодушие: он сделал еще два отпечатка форматом девять на двенадцать, чтобы вручить их Светлане - пусть один возьмет себе, а другой пошлет этому черноволосому иностранцу. Случай представился скоро. Светлана как-то вечером, возвращаясь с работы, подозвала к себе Лешу, певшего под гитару в кругу ребят с их двора. - Не отлегло? - спросила она как бы даже с сочувствием. Это не понравилось Леше. Он сунул ей в руки гитару и сказал небрежной скороговоркой: - Подожди минутку, я сейчас. - И побежал в свой подъезд. Вернувшись, он отобрал у нее гитару и вручил фотографии. - Вот, вышло прилично. Возьми на память. Светлана сначала не поняла, что изображено на снимках, а когда поняла, то покачала головой: - Значит, с фотоаппаратом шпионишь? - Шпионил, - поправил ее Леша. - Больше не буду. На это Светлана ничего не ответила. Положила карточки в сумочку и пошла домой. Даже спасибо не сказала. С тех пор, встречаясь во дворе или на улице, они только здоровались. Леша иногда спрашивал себя, правильно ли он поступает. Светка ему все равно нравилась, как и раньше, а может, и еще больше. Ну, ходила в кафе с иностранцем. Иностранцы приезжают и уезжают. Тем более Светка же его сама первая подозвала для разговора. Но нет, не мог Леша простить ей, что-то горькое поднималось в душе, когда вспоминал он про кафе, и у него возникало непонятное чувство, словно Светка знает о тайнах взрослой жизни гораздо больше его, и от этого становилось еще горше и обиднее. И хотелось бы ему заговорить с нею, но ничего он не мог поделать со своей гордостью. Вера Сергеевна сумела уловить, что в отношениях Светланы с Лешей произошли важные изменения. Она прямо спросила у дочери, что случилось. Но Светлана отделалась одной фразой: «Да ну его!» И кажется, ей в самом деле стало совершенно безразлично, есть на земле такой парень - Леша Дмитриев или его и не было никогда. Хотя Гале она признавалась, что ей жалко разбитой дружбы и как-то пусто оттого, что Леша перестал забегать к ней на работу. Ему самому она этого не сказала бы никогда. Подруги проводили лето по-разному. Светлана по графику отпусков должна была отдыхать в сентябре. Галя уехала вместе с матерью в Крым, в Алушту, где у старого друга их семьи, ныне отставного военного, был собственный дом. Светлана не очень-то скучала. В свои выходные она с подругами из универмага ездила на городской пляж. Всегда подбиралась веселая компания. У нее с некоторых пор все чаще появлялось такое чувство, что она будто бы попала на станцию, где надо делать пересадку. Она была все время в ожидании чего-то, а чего именно - неизвестно. Это состояние впервые возникло на следующий день после того, как она отослала в Милан Пьетро Маттинелли фотокарточку с коротким письмом, в котором объяснялась история ее появления. Разрешилось это состояние неизвестности весьма прозаическим образом. 29 июля 1971 года под вечер к ее прилавку в универмаге подошел немолодой, небольшого роста и довольно полный мужчина с блестящими и темными, как маслины, глазами. Он поставил на прилавок клетчатую сумку-торбу и, подождав, пока Светлана не кончила разговора с очередным покупателем, спросил: - Вы есть Светлана Сухова? - Да. Я вас слушаю. - Она уже догадалась, кто это и откуда. - Вам привет шлет Пьетро из Милана. - Он выговаривал русские слова с трудом, но очень старательно. - Спасибо. - Он также просит дать вам это. - Итальянец положил руку на сумку и улыбнулся. Светлане на секунду сделалось неловко, но только на секунду. Мелькнул в памяти тот разговор за столиком в кафе - как Пьетро просил разрешения прислать что-нибудь в подарок, как она воспротивилась. Что может быть в этой сумке? Уж, наверное, не на сто рублей? Чего тут зазорного, если принять подарок? Не отказывать же человеку, который тащил клетчатую торбочку из Милана через пол-Европы. - Спасибо, - сказала Светлана и убрала сумку под прилавок. - Как поживает Пьетро? - О, ничего, очень хорошо. Очень скучно без вас. - Вы долго у нас пробудете? - Сожалею, но всего два дня. После - Тамбов. Там тоже есть нам дело, тоже завод. - Итальянец убрал с лица улыбку. - Но вы можете писать Пьетро через меня. Я могу зайти завтра. Так они и договорились. Итальянец, по-видимому, спешил, и Светлана его не задерживала. Как только он ушел, она расстегнула «молнии» на сумке. Поверх разноцветных пластиковых пакетов лежал конверт, голубой и продолговатый, с ее именем, написанным крупными заглавными буквами. Такими буквами было составлено и письмо. Пьетро убедительно просил не отвергать его скромный подарок, уверял в своей преданности, жаловался, что скучает по Советскому Союзу и по ней, Светлане, и высказывал надежду, что, может быть, через год приедет снова, хотя бы ненадолго. А в конце сердечный привет Гале и просьба выделить ей что-нибудь из присланного. Галя к тому времени уже вернулась из Крыма, и Светлана, закончив работу, сразу позвонила ей из кабинета заведующего отделом, и они условились встретиться в тот же вечер у Светланы дома. У Светланы возникла было мысль, что неудобно будет при матери потрошить посылку, но по всегдашней своей привычке отгонять прочь все неприятное она тут же постаралась об этом не думать. В конце концов они с Галей могут просто закрыться в комнате и сказать матери, что им надо посекретничать… Галя явилась без опоздания. К ее приходу Светлана успела разобрать посылку. В сумке-торбе оказались два прекрасных длинных шарфа, связанных из шерсти, один синий, другой малиновый, шерстяная кофта цвета перванш, кашемировый платок, пара черных лаковых туфель и множество косметики: духи, помада, пудра, тени - все в замечательной упаковке. Но главное было не это. Главное лежало в маленькой кожаной красной коробочке: брошь-булавка с голубым камнем. Матери не оказалось дома. Светлана разложила все присланное на своей софе и прикинула, как им поделить: у нее и в мыслях не было дать Гале что-нибудь из мелочи, а остальное взять себе. Пополам, только пополам - так она решила с самого начала. Правда, туфли и брошь не поделишь пополам, но тут тоже можно что-нибудь придумать… Когда Галя вошла, Светлана, ничего не объясняя на словах, дала ей письмо Пьетро. Прочтя его и поглядев на разложенные вещи, Галя долго молчала. - Что скажешь? - вывела ее из задумчивости Светлана. - Кажется, он не бедствует, этот твой Пьетро Маттинелли. - Наверное, не побирается. - Светлана вынула брошь из коробочки, протянула ее Гале. - Как ты думаешь, это настоящее? У нее были подозрения, что и металл и камень - подделка, а Галя разбиралась в драгоценностях. Галя посмотрела камень на свет, повертела в пальцах против света и сказала: - Аквамарин. Настоящий. - А булавка? - Золотая. - Наверняка не побирается, - весело заключила Светлана. - А ты чего сникла? - Да как-то, знаешь, необычно… - Что необычно? - Ну, всего один раз виделись, и вот… все это… - Галя кивнула на софу. - Значит, как в кино. Ладно, давай распределим. - Но это же тебе прислано, - возразила Галя не очень твердым тоном. - Заткнись, а то все выброшу, - серьезно сказала Светлана. Галя не сомневалась, что Светка может так и сделать, если ее не послушать. Парфюмерные изделия были разделены без труда. Светлана взяла себе малиновый шарф, следовательно, Гале достался синий. Туфли больше впору были Гале, зато Светлана оставила себе кофту. Кашемировый платок разрезали надвое по диагонали - получились две косынки. Судьбу броши Светлана предложила решить жребием, но тут уж Галя воспротивилась не на шутку. - Ты с ума сошла! - воскликнула она. - Не командуй, пожалуйста. Я ведь тоже могу… - Ничего ты не можешь. Как всегда, Светлана не заботилась о самолюбии подруги, но сейчас сопротивление Гали было ей приятно: Светлане очень хотелось быть обладательницей такой прекрасной броши. Насчет жребия, говоря честно, она сказала лишь для того, чтобы выдержать характер. Она была уверена, что Галя не согласится. Да и несправедливо это чересчур: у Гали много было разных драгоценностей, подаренных родителями и бабушками, хотя она никогда их не носила с того дня, как познакомилась со Светланой, - потому не носила, что у Светланы драгоценных украшений не имелось, не носила из солидарности. Великий дележ закончился как раз к приходу Веры Сергеевны. Сколь ни храбрилась Светлана, сколь ни выказывала свое коронное умение ничему не удивляться и ни о чем не жалеть, но Вера Сергеевна все же заметила необычно возбужденное состояние дочери. - Вы ссоритесь? - спросила она. Свою часть посылки Галя перед тем положила в сумку, а Светлана свою спрятала в шифоньер, так что Вера Сергеевна вещей и косметики не увидела. - Спорим, - сказала Светлана и повернулась к Гале: - Идем, провожу немного. …Таким образом разрешился у Светланы кризис ожидания. Ей предстояла повторная сдача экзаменов на филологический факультет - еще одна попытка. Она их сдавать не стала, и не только потому, что не подготовилась как следует. Было еще одно серьезное привходящее обстоятельство. Но, прежде чем заняться им, надо отметить, что Светлана на следующий день после получения посылки отправила с привезшим ее итальянцем письмо к Пьетро Маттинелли с благодарностью и просьбой не повторять ничего подобного впредь, а лучше всего приехать снова в Советский Союз. В конверт она вложила фотокарточку. А примерно через неделю после этого у Светланы состоялось новое знакомство, которое она не сочла странным и необычным по той простой причине, что все было логично и объяснимо. Один из покупателей, изучавших каталоги пластинок, интеллигентного вида, пожилой, явно за пятьдесят, но моложаво выглядевший мужчина, плотный, среднего роста, одетый в светлый костюм и синюю рубаху без галстука (все это Светлана рассмотрела уже несколько позже), вдруг обратился к ней таким тоном, словно продолжал с нею задушевную дружескую беседу, прерванную нечаянно. Он выбрал момент, когда никого другого у прилавка не было. - Значит, получили весточку от Пьетро, Светлана Алексеевна? Она удивилась, но, выдерживая свою манеру внешне ничему не удивляться, ответила так, будто и она всего лишь продолжала беседу: - Да. Но откуда вам это известно? Он усмехнулся отечески: - Видите ли, я знаком с тем человеком… ну, что привез вам посылку из Италии. Я ведь и Пьетро знаю. Он мне рассказывал о вас. - Вы даже и по отчеству меня знаете, - сказала Светлана. Он кивнул на дощечку, висевшую на стене позади нее: «Сегодня вас обслуживает продавец…» Она обернулась, поглядела и расхохоталась. - Ой, правда, тут же написано! Кто я после этого, скажите? - Вы совершенно очаровательная девушка, и Пьетро Маттинелли можно понять. Нет, ей определенно начинал нравиться этот пожилой спокойный человек. - А как зовут вас? - Виктор Андреевич. - Вы что, работаете на химзаводе? - Да, в одной из лабораторий. Мне не так часто приходилось общаться с Пьетро по работе, но мы довольно близко познакомились. - Он вам нравится? - По-моему, очень хороший человек. - Мне кажется, он прямой и открытый. А вы давно здесь живете? - Приехал сразу после войны. Она посмотрела на его руки - есть ли обручальное кольцо, - и от него не ускользнул этот взгляд. - Я одинокий. Жена и дочь погибли в оккупации. Светлану поразила его догадливость и проницательность. И главное - простота. Это был первый из взрослых людей, кто демонстрировал перед нею свое превосходство столь неназидательно и ненавязчиво. Она мгновенно прониклась к своему новому знакомому уважением. О том, как развивалось это знакомство, мы расскажем дальше, а теперь надо вспомнить о Леше, потому что у него произошли две пропажи, не такие уж значительные сами по себе, но имеющие прямую связь и с предыдущим, и с последующим. Однажды в воскресенье он затеял генеральную уборку в своей темной комнате, которая с момента покупки фотоаппарата служила ему исключительно как лаборатория. Надо было выбросить ненужный хлам, чтобы стало попросторнее. Закончив черную работу, Леша привинтил к стене широкую полку для химикалий и шкафчик для экспонированных пленок и фотобумаги. Потом стал разбирать пленки, заворачивая каждую в отдельный лист. Их накопилось уже порядочно, штук пятнадцать. Каждую он помнил очень хорошо - где, когда снимал, при каком освещении, с какой диафрагмой и выдержкой. Любимой оставалась та, первая, которую он начал кадрами, снятыми в кафе. А ее-то как раз и не оказалось. Он обшарил все ящики стола, все углы - и не отыскал. Потом начал разворачивать уже завернутые пленки и снова просматривать их на свет - все напрасно. Первой пленки не было. Леша пошел на кухню, где мать с отцом пили чай. - Ма, ты у меня в чулане не копалась? - Ты же не велишь туда даже входить. - Чего взъерошился? - спросил отец. - Пленка одна пропала. - Другую купи. - Да отснятая она, - с досадой объяснил Леша. - Мне бы твои заботы. Леша вернулся в лабораторию и еще раз обыскал ее от пола до потолка. И опять напрасно. Пропала пленка. А между тем он отчетливо помнил, что еще недели две назад она как-то попалась ему под руку, и он с удовольствием разглядывал ее, поражаясь, до чего удалась тогда эта самая первая съемка. Было жалко потерять такую память - истинные фотолюбители легко поймут огорчение Леши. В тот же день, чуть позже, Леша пошел в свой самодельный гараж, где стоял его мотоцикл. К нему заглянул сосед, владелец старого «Москвича». - Здорово, Леш! Дай на минутку разводной, я свои ключи дома оставил, краны подкручивал, понимаешь. - Да хоть на неделю, - мрачно сказал Леша, наклонясь к чемодану с инструментом. Но сколько он ни гремел этими железяками, разводного гаечного ключа найти не мог. - Снится, что ли? - пробормотал он растерянно. - Ты чего, Леш? Заговариваешься? - засмеялся сосед. - Тут заикаться начнешь, не то что заговариваться. Сосед ничего не понимал. - Нету ключа, - сказал Леша, разгибаясь. - Нету. Пропал. - Может, где валяется? - предположил сосед. - Давай посмотрим. Они внимательно осмотрели все закоулки гаража, но ключа так и не нашли. - А может, ты его домой занес? - высказал еще одно предположение сосед. Леша покрутил головой: - Не заносил. У нас краны не текут. Сосед исчез, наверное, побежал домой за гаечными ключами, а Леша еще долго стоял в задумчивости над чемоданом для инструмента и старался сообразить, когда мог исчезнуть ключ. Последний раз он пользовался им дней десять назад… Пропавшую пленку он держал в руках две недели назад… Леша не делал сопоставлений, но мысленно отметил, что обе пропажи случились приблизительно в одно и то же время… Сказав о потерях Леши, вернемся к Светлане. Кому-то это покажется противоестественным, но вот факт: уже на второй день после знакомства с Виктором Андреевичем Светлана приняла его приглашение посидеть вечером в ресторане. Впрочем, найдется немало людей, которые не усмотрят в этом факте ничего особенного, ничего предосудительного. К тому же Светлана поставила условие, что с ней будет Галя. Виктор Андреевич не жаловался на тоску одинокой жизни, но и не пытался изобразить из себя молодого сердцем бодрячка. Он просто сказал, что если у Светланы на завтрашний вечер не предвидится ничего лучшего, то не согласится ли она поужинать вместе с ним. Светлана не раздумывала. Галя по обычаю исполнила волю подруги. Виктор Андреевич предложил отправиться в ресторан-поплавок на реку. Там у пристани стоял на мертвых швартовах старый пассажирский теплоход, переоборудованный для новой службы. Они заняли столик в углу, где вместо стульев были удобные узкие диванчики. - Не стесняйтесь, девушки, - сказал, усаживаясь, Виктор Андреевич. - Сегодня я при деньгах. - Только сегодня? - спросила Светлана, как бы задавая тон беседе. - Нет, я вообще солидный, обеспеченный мужчина, - с готовностью поддержал этот шутливый тон Виктор Андреевич. - У меня и автомобиль есть. - Почему же мы сюда ехали на такси? - спросила Галя. - Но мы же собираемся чего-нибудь выпить, не так ли? А под хмельком за рулем нельзя. - Выпить можно, - сказала Светлана. - Мы уже пробовали. - С Пьетро? - Не только. - Это он подарил? - спросил Виктор Андреевич, показывая глазами на брошь, которой у Светланы был заколот шарф. - Он, - сказала Светлана. Тут подошел официант. Виктор Андреевич сделал большой заказ, а когда довольный официант ушел, задумчиво поглядел на подруг и сказал с легкой печалью: - Кто со стороны посмотрит, скажет: отец дочек угощает. - А может, внучек? - не упустила случая поострить Светлана. - Да, так будет вернее, - еще более печально согласился Виктор Андреевич. - Не обращайте внимания, - поспешила успокоить его Галя. Она любила успокаивать. - Ладно, мы вас не будем называть дедушкой, - сказала Светлана. - И на том спасибо. Виктор Андреевич произнес это уже с такой неподдельной горечью, что Светлане всерьез стало его жалко. - Перевернем пластинку. - Да, поговорим лучше о Пьетро, - сказал Виктор Андреевич. Поговорили о Пьетро Маттинелли. Подруги рассказали о нем все, что знали. Светлана показала Виктору Андреевичу фотокарточку и письмо, которые носила в сумочке. Потом Виктор Андреевич поведал кое-что об итальянце, который привозил посылку. Но все это было лишь присказкой к дальнейшему. Ресторан скоро заполнился целиком. На эстраду вышли музыканты, начались танцы. К тому времени Светлана и Галя выпили с Виктором Андреевичем по две рюмки коньяку и по бокалу шампанского. Глаза у них блестели, щеки горели. Было жарко. Едва Виктор Андреевич вновь налил рюмки, оркестр заиграл новый танец, и перед их столиком появились двое молодых людей. Поклонившись, один из них обратился к Виктору Андреевичу: - Вы разрешите пригласить ваших девушек? - Я не против, - сказал он, - но хотят ли они танцевать? Светлана посмотрела на молодых людей, на Галю и сказала: - Разок можно. Они вчетвером отошли от столика. Виктор Андреевич подвинул к себе лежавшую на диванчике сумочку Светланы, не торопясь, одной рукой открыл ее, пошарил, нащупал письмо от Пьетро и фотокарточку, положил их во внутренний карман пиджака и закрыл сумочку. Все это он проделал как бы нехотя, лениво. Танец кончился, молодые люди довели девушек до места, раскланялись и исчезли. Больше Светлана и Галя не танцевали, хотя к ним несколько раз подходили с приглашением. «Слишком жарко», - объясняла отказ Светлана. Зато от коньяка они не отказывались, чему Виктор Андреевич был искренне рад. Однако наступил момент, когда Галя спросила вдруг Светлану: - Выйдем? Та кивнула. - Мы вас бросим на минутку, Виктор Петрович. - Андреевич, с вашего позволения, - поправил он. В туалете, стоя перед зеркалом и поправляя прическу, Галя сказала шепотом: - Светка, что мы делаем? - А что? - Мы же пьяные… И какой-то старый мужик… - Не вникай, как говорит мой бывший друг Леша. - Правда, пьяные. - Ничего, еще по рюмочке, и айда отсюда. Сколько на твоих? - Без четверти одиннадцать. В одиннадцать они покинули ресторан. Было ветрено. Шумела листва. Они шли по узкой асфальтовой дорожке. Светлана об руку с Галей впереди, Виктор Андреевич с их сумочками в руке сзади. Когда подходили к стоянке, где ждали пассажиров два такси, он открыл сумочку Светланы и так, открытой, и подал ей, когда девушки сели в машину на задний диван, а он поместился рядом с шофером. Светлана буркнула: - Замок сломался, что ли? - Защелкнула, попробовала разъять металлические планки, но замок держал крепко, и она успокоилась. Виктор Андреевич развез подруг по домам, сначала завезли Галю. Он записал номер домашнего телефона Светланы, а своего не дал, сказав, что у него телефона нет. А напоследок Виктор Андреевич сообщил о самом главном: - Да, вы знаете, Света, вполне возможно, я не сегодня завтра поеду в Италию. - Правда? - Есть такой вариант. - Счастливчик, - устало сказала Светлана. Машина остановилась напротив ее дома. - Не выходите, - сказала она Виктору Андреевичу. - Когда поедете, скажите мне, я что-нибудь пошлю Пьетро. - Разумеется. Но мы еще не раз увидимся. Я буду заходить в универмаг. - Он замялся, помолчал и добавил: - Не осмеливаюсь приглашать вас к себе в гости… - Правильно делаете. - Светлана открыла дверцу. - Ну, звоните, заходите. …Поднимаясь по лестнице, она сняла с кофты брошь, открыла сумочку, чтобы положить ее на дно, и тут обнаружила, что фотокарточка, которую дал ей Леша, и письмо от Пьетро пропали. Она остановилась, припомнила, как Виктор Андреевич передал ей сумочку открытою, и решила, что, наверное, письмо и карточка выпали где-то по пути к стоянке такси. О том, что их мог взять Виктор Андреевич, у нее и мысли не было… Войдя в квартиру, она поняла, что мать не спит: в кухне горел свет. Не было смысла ходить на цыпочках - она громко протопала к себе в комнату. Тут же вошла Вера Сергеевна, зажгла люстру. - Ты опять пила? - Можно подумать, что ты никогда не пила. - Прекрати этот тон! - вспылила Вера Сергеевна. - У тебя экзамены послезавтра. - Не будет никаких экзаменов, - вяло протянула Светлана. - Не хочу я никаких филфаков, никаких английских языков, и вообще… - Что это значит?! - Вера Сергеевна сжала кулаки. Но у Светланы был звериный нюх на опасность. Сбросив туфли, она босиком подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. - Мамочка, родная, не волнуйся. Давай сядем, давай обсудим. - Она тихонько подталкивала мать к креслу. Вера Сергеевна, растерявшись, села и спросила: - С кем ты была? - С Галей. - Вдвоем? - Представь себе. - Но это же еще хуже - пить вдвоем! - возмутилась Вера Сергеевна. Светлана опустилась перед нею на колени, взяла ее за руки. - Да не пьяная я, клянусь тебе. Все выветрилось. Давай поговорим. - Ты сказала, что не будешь сдавать экзамены? - Ну на черта мне этот университет, скажи? Чтобы потом всю жизнь долбить одно и то же? Уроки, уроки, уроки! И получать сто тридцать в месяц. - Что же, будешь всю жизнь продавцом? - А почему бы и нет? Но я учиться пойду. Только не в университет. - Куда же? - Ну хотя бы в торгово-экономический техникум. После можно сделать прекрасную карьеру. Вон у нас завотделом техникум окончила, сейчас живет - будь спокойна! - Ты же готовилась! - Как я там готовилась! Нахватаю троек. Остался день, перед смертью не надышишься. А завтра еще голова болеть будет. - А говоришь - трезвая. - Мало ли что я могу сказать. - Светлана поднялась, снова обняла мать. - Ма, давай договор заключим: больше об университете ни слова. Подумаешь - диплом! Проживем и так. Вера Сергеевна в душе была согласна с дочерью, но она все же тяжко вздохнула: - Смотри, дорогая, не будешь ли потом жалеть… - Никогда! Давай-ка спать. Со следующего дня у Светланы начинался отпуск для сдачи вступительных экзаменов, но она после этого разговора вышла на работу. Может быть, не пригласи ее Виктор Андреевич в ресторан, решение было бы иным. Таким уж характером наделила ее природа: она умела управлять другими по своему желанию, но не умела управлять собственными желаниями. Они, эти желания, порою зависели от сущих пустяков… В то время как происходил разговор между матерью и дочерью, Виктор Андреевич у себя дома, в однокомнатной квартире, облачившись в пижаму, сидел за столом и с удовольствием разглядывал фотографию, взятую, вернее, украденную из сумочки Светланы. Он не опасался обвинений в краже, рассчитывая на то, что девушкам не придет в голову его подозревать (и он не ошибся в своих расчетах). Но даже если бы у него и возникли такие опасения, он бы все равно карточку эту взял, потому что на ней в позе человека, приподнявшегося со стула, был изображен именно он, Виктор Андреевич Кутепов. Светлана и Галя его не узнали, что немудрено, - в натуре, так сказать, они видели его впервые, а фотография маленькая, к тому же лицо его получилось немного не в фокусе. Вот если выкадрировать это лицо, увеличить и сравнить с другими его фотопортретами, тогда сходство установить проще простого. Наглядевшись, Виктор Андреевич пошел в кухню, зажег газ и спалил карточку. Потом выключил газ, открыл окно, чтобы проветрилось, и лег спать.Глава 8 ХРОНИКА СЕМЬИ НЕСТЕРОВЫХ
Специалисты, занимающиеся проблемами семьи и брака, установили, что, например, в Соединенных Штатах Америки в последние годы заметно возросло число разводов среди супругов, которым перевалило за сорок пять. Понятно, что виновниками, или, если хотите, инициаторами при этом являются мужчины - по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, ибо редко можно наблюдать, чтобы женщина в этом возрасте желала оставить мужа. Мужчины - дело другое. Почему так происходит? Коллизии, разумеется, у каждой пары свои, неповторимые. Но схема, по которой происходит развал семьи, почти у всех одинакова. Для среднеобеспеченных прослоек населения она выглядит следующим образом. В двадцать два - двадцать три года выпускник университета или колледжа, полный радужных надежд и энтузиазма, с помощью родственных связей по протекции поступает на службу в процветающую компанию. Он работает, не считаясь со временем и не жалея сил, так как жаждет сделать карьеру. Начальство замечает рвение новичка и продвигает его на должность, которая оплачивается столь хорошо, что молодой человек уже может себе позволить мысль о женитьбе. Он делает предложение девушке, за которой ухаживал целых три года или три месяца, получает ее согласие, а также согласие ее родителей и благословение собственных, и жених и невеста идут под венец. Вернувшись из свадебного путешествия (впрочем, оно становится все менее обязательным), молодые, не теряя времени, начинают заниматься накопительством или влезают в кредитную яму. Куплена новая машина. Через год на свет появляется ребенок. Жена оставляет свою компанию, где она работала секретарем, и посвящает себя дому и воспитанию. У отца семейства прибавилось забот: денег нужно все больше и больше. Он не щадит себя на работе, и усердие вновь вознаграждается - его делают заведующим отделом. Затем рождается второй ребенок - это требует дополнительных затрат. Значит, необходимо зарабатывать еще больше. Глава семьи не имеет возможности хотя бы посидеть вечером перед телевизором или поболтать с детьми. Он все время на работе, он не видит ничего вокруг себя. Только дело, одно дело. Год катится за годом, и вот бывший молодой человек уже вице-президент компании. У него большая, в пять комнат, квартира, дети выросли и учатся в колледже. В банке у него лежит энная сумма на черный день. Кажется, можно немного вздохнуть. В одно прекрасное утро он входит в свой офис и словно впервые видит в приемной собственную секретаря-машинистку, которая, между прочим, работает у него уже два года. Но он действительно по-настоящему видит ее впервые - прежде она была лишь винтиком в его отлично отлаженном служебном механизме. И констатирует, что она чертовски хороша собой. Он мысленно ставит ее рядом с поблекшей в домашних заботах женой и делает далеко идущие выводы. Ведь он, в сущности, совсем не видел жизни, он тянул из себя жилы ради этого проклятого благополучия и истеблишмента. Он обокрал себя. Но хватит, довольно! Он еще не старик, черт побери! Жене будет оставлено достаточно, детей он тоже обеспечит. Надо пожить, пока не поздно, пожить наконец в свое удовольствие. Словом, спустя полгода, пройдя через все адовы круги бракоразводного процесса и раздела имущества, онобручается с молоденькой секретаршей и начинает новую жизнь, которая новой бывает, в общем-то, только на первых порах… Николай Николаевич Нестеров, ныне академик, лауреат Государственных премий, почетный член одной иностранной Академии наук, родился и вырос не за границей, но история его первой и второй женитьбы укладывается в вышеописанный стереотип, правда, с некоторыми существенными отклонениями от него. По окончании университета Николай Николаевич был принят ассистентом к крупному советскому ученому, работавшему в области физической химии. Он не делал карьеру, потому что, во-первых, не принадлежал к числу карьеристов, а во-вторых, в этом не было необходимости. Но он трудился как одержимый, очень много экспериментировал в поисках опытного подтверждения идей, выдвигаемых его маститым руководителем. Сама собой сложилась кандидатская диссертация, которая при защите была признана достойной докторского ранга. В двадцать семь лет он женился на выпускнице того факультета, где когда-то учился сам и где читал небольшой курс лекций. Родился сын, через год - второй. Николай Николаевич получил самостоятельную работу, в его распоряжение была выделена целая лаборатория. Он обладал, как выяснилось еще в студенческую пору, талантом ученого-теоретика и способностями тонкого, остроумного экспериментатора - сочетание не столь частое. В общем, он так ушел в науку, что не замечал ничего и никого вокруг себя, и поднял голову и огляделся только в сорок пять лет. Тут-то известный ученый Нестеров и увидел по-настоящему свою двадцатилетнюю лаборантку Олю и тотчас в нее влюбился со всем пылом, как говорится, нерастраченной души. Сыновья его были, можно считать, взрослыми: старший оканчивал школу, младший учился в девятом классе. Николай Николаевич не собирался их лишать отеческой заботы и попечения. Он положил себе законом обеспечить до последнего дня и прежнюю супругу, которую, как выяснилось, он вовсе не любил. Разрыв получился болезненным - разумеется, больше для его супруги, - но что тут поделаешь? Любовь сорокапятилетнего к двадцатилетней - явление такого несокрушимого порядка, что ни жалобами в партком и завком, ни вызовом на ковер пред начальнические очи, ни угрозами покинутой жены отравиться ее не истребить, не погасить. Ее может постепенно низвести на заурядный уровень только будущая совместная жизнь. К моменту излагаемых событий Николаю Николаевичу исполнилось шестьдесят шесть лет. Ольге Михайловне - сорок один. Ник, как его звала на людях Ольга Михайловна, давно уже был дедушкой троих внуков. Он их ни разу не видел, но не очень-то из-за этого страдал. Он и с сыновьями встречался не каждый год, однако в помощи никогда им не отказывал. Если он и любил кого-нибудь глубоко и преданно, так только свою дочь Галю, родившуюся уже в городе К., куда Николай Николаевич переехал из Москвы сразу после развода. Здесь ему дали под начало большой научно-исследовательский институт, но, поруководив три года, он понял, что эта должность не по нему, и попросил дать ему возможность заняться чистой наукой. Просьбу, конечно, уважили, так как проблемы, интересовавшие академика Нестерова, имели в перспективе огромное прикладное значение. Для отдохновения души, для разрядки Николай Николаевич читал иногда лекции студентам. Ольга Михайловна обладала натурой нервического склада. Это особенно проявилось после родов и выразилось довольно оригинальным образом. Молодая, цветущая женщина вдруг возомнила себя бесповоротно чахнущим существом, обреченным на быстрое угасание. Конечно же, муж всячески старался уверить ее в обратном, оберегал от всего, что могло бы причинить вред чувствительной нервной системе его юной жены. Конечно же, была найдена и нанята нянька к ребенку, который вскармливался не грудью - грудь Ольга Михайловна не хотела портить, - а на искусственном питании. Не проходило недели, чтобы она не вызывала на дом врача, пока наконец по прошествии какого-то времени Ольга Михайловна не разуверилась и в аллопатии, и гомеопатии. После этого началось лечение травами, а от каких болезней - неизвестно, потому что никакого точного диагноза никто из врачевавших Ольгу Михайловну поставить не мог. До школы Галя почти не знала свою маму. Хорошо, если она видела ее хотя бы раз в день. Азбуке Галю научила няня, а счету - папа. Но когда она пошла в школу, Ольга Михайловна решительно взяла дело дальнейшего воспитания дочери в собственные руки. Няне оставлена была кухня, стиральная доска и пылесос. Девочка, естественно, была устроена в специализированную английскую школу и одновременно в музыкальную. Ольга Михайловна хотела, чтобы Галя посещала также гимнастическую секцию Дворца пионеров, но способностей к гимнастике у ребенка не нашли. Тернистыми были школьные годы Гали. Воспитательный порыв ее мамы, все еще молодой, но с истерзанными нервами, оказался затяжным. К тому же Ольга Михайловна, сама выросшая в рабочей семье, выйдя замуж за академика, каким-то чудесным образом усвоила особую манеру общения с людьми, которую она считала в высшей степени аристократической. Она говорила так тихо, что муж часто вынужден был переспрашивать и иногда начинал задумываться, не глохнет ли он; всем прочим переспрашивать не разрешалось. Приказания няньке, которая превратилась в домработницу, она отдавала одним каким-нибудь словом: «белье» - это значило, что надо сменить постельное белье; «мясо» - значит, надо готовить мясной обед; «холодно» - следовало закрыть окно, и т. д. и т. п. Манера эта распространилась на дочь, так что Гале с малых лет пришлось учиться нелегкому искусству понимать с полуслова. Это невредно в жизни, но маленького человечка держит в страшном напряжении. Пока-то он научится… Николай Николаевич, обретя счастье и покой в новой семье, ощутил прилив творческой энергии и занялся разработкой сложнейшей научной проблемы, волновавшей тогда физиков всего мира. Как в лучшие свои молодые годы, он с головой ушел в дело, однако в отличие от прошлых лет находил время возиться с доченькой, что доставляло ему радость. Зная, что жена придерживается спартанского метода воспитания, он потихоньку от нее скрашивал суровое существование Гали подарочками и подарками и таким образом способствовал некоему раздвоению личности у своей любимой доченьки: мать требовала от нее полной правдивости и откровенности, а подарки надо было прятать. В педагогике родители были несильны, особенно отец, поэтому ничего удивительного, что Галя росла одновременно и скрытным и стеснительно открытым ребенком. С годами папины подарки становились все дороже, а это заставляло Галю быть изощреннее в их сокрытии, пока не произошел взрыв. Действуя в совершенном противоречии со своими аристократическими замашками, Ольга Михайловна произвела однажды тотальную ревизию всего Галиного имущества, то есть попросту обыскала ее комнату. Найдя в шкафу и в ящиках письменного стола целый склад безделушек, в том числе несколько драгоценных, Ольга Михайловна учинила дочери допрос, а узнав об источнике этих богатств, устроила мужу скандал шепотом. Безделушки она оставила их владелице, но постановила, чтобы впредь подарки делались только с ее ведома. Родительский разнобой в методах воспитания, кроме двойственности характера, выработал в Гале еще одно качество, скорее положительного, чем отрицательного свойства: она научилась разбираться в самоцветах, в драгоценных камнях и полюбила их - не из тяги к приобретательству, а чисто эстетически. Отец продолжал поощрять ее в этом направлении новыми подарками, которые она стала прятать у него в кабинете. Самое же существенное, к чему привела всеподавляющая родительская власть Ольги Михайловны, заключалось в том, что из Гали сформировался человек, совершенно лишенный какой-либо самоуверенности. Это хорошо только до известного предела - когда про такого человека все-таки можно сказать, что он не лишен уверенности в себе. К сожалению, о Гале этого сказать было нельзя. Николай Николаевич обожал свою дочь. В нем было столько нежности к ней, что это до известной степени компенсировало расчетливую сдержанность и даже холодность матери. Он узнавал себя в Гале не только по чертам лица, но и по мельчайшим проявлениям нрава. И когда в редкие минуты удрученного духа ему хотелось излить перед кем-нибудь свои думы и сомнения, он выбирал наперсницей дочь, хотя она не понимала и половины из того, что он говорил. Обычно это касалось его взаимоотношений с сыновьями и бывшей женой или его размолвок с теперешней женой, матерью Гали. Эти размолвки Николай Николаевич подавал в шутливых тонах, словно с целью показать дочери, из-за каких пустяков могут близкие люди отравлять друг другу жизнь и как это, в общем-то, глупо. Тем не менее на него эти пустяки постепенно оказывали все большее влияние, и он, чтобы свести до минимума время семейных бесед, при которых и возникали недоразумения и стычки, начал понемногу работать дома. Не отличаясь педантизмом и аккуратностью в чисто бытовом плане, Николай Николаевич все же, как правило, делал свои вычисления, писал длиннейшие формулы в особом блокноте и, окончив работу, обязательно прятал его в портфель. Но иной раз он забывал этот блокнот в институте и в таких случаях писал дома в ученических тетрадях или на отдельных листках. Утром он листки собирал со стола и прятал в секретер - старинный, из цельного красного дерева, в который был вделан маленький несгораемый ящик. То, над чем он трудился, разглашению не подлежало. При малейших признаках, что нервы матери натянуты, а следовательно, атмосфера в доме сгущается, Галя уходила к себе, ложилась в постель и читала. До знакомства со Светланой Суховой подруг у нее, в сущности, не было, отчасти потому, что она не отличалась общительностью, отчасти в силу того, что мама постоянно твердила ей о необходимости быть разборчивой в знакомствах, хотя, честно говоря, в чем это должно заключаться, Ольга Михайловна не умела объяснить. Дружба со Светланой основывалась на резкой разнице темпераментов. Вспыльчивая и отходчивая, едкая и добродушная, но всегда упрямая и настойчивая Светлана поразила воображение тихой, ровной, привыкшей к раздумью Гали. Они быстро сошлись, и само собой установилось, что во всем, кроме учебы, первой была Светлана, она верховодила и наставляла. Казалось бы, Галю, испытавшую полной мерой тяжесть родительского гнета, не должно устраивать такое положение, однако ей, наоборот, нравилось подчиняться Светлане. Вероятно, сказывалась привычка быть все время руководимой кем-то. И потом, как говорит современная наука, в каждом коллективе, даже если он состоит всего из двух человек, непременно кто-то должен быть лидером, а кто-то ведомым. Гале роль лидера никак не подходила. Светлана многому научила подругу, в том числе умению рассказывать матери не всю правду о своих делах. Это особенно пригодилось Гале, когда она принесла домой вещи, присланные Пьетро Маттинелли. Галя объяснила, что все это привез из Италии и продал Светлане какой-то итальянец, работающий на монтаже оборудования на химкомбинате. Ему понадобились деньги для покупки сувениров родным и друзьям, так как он уезжает в Италию. Деньги же у нее скопились за полгода, и вообще покупка недорогая, каких-то шестьдесят рублей. Ольга Михайловна еще три года назад пожелала лично побеседовать с новоявленной подругой дочери. Галя привела к себе Светлану, и последняя была принята Ольгой Михайловной в столовой комнате за вечерним чаем. «Шумна немножко, но, кажется, девочка незлая», - сказала Ольга Михайловна, когда Светлана ушла. Выбор Гали был одобрен. А Светлана сказала Гале так: «Важная у тебя мамуля, только, по-моему, близорукая…» Даже при кратком жизнеописании семьи Нестеровых было бы упущением не сказать о том, как ставился и понимался родителями вопрос о замужестве Гали. Ей шел двадцать первый год. Как раз в этом возрасте сама Ольга Михайловна вышла замуж за Николая Николаевича… Что касается дочери, то Ольга Михайловна категорически определила: Галя выйдет замуж не прежде, чем окончит университет и устроится на работу. Второе непременное условие: ее муж должен быть ей ровесником; если старше, то не более как на пять лет. Отсюда можно сделать заключение, что Ольга Михайловна считала собственный брак весьма далеким от идеала. Николай Николаевич данной проблемой не интересовался. Он сформулировал свою точку зрения следующим образом: «Пусть будет как будет». Это была несколько перефразированная цитата из гашековского «Бравого солдата Швейка».Глава 9 БРОКМАН НАШЕЛСЯ
Дальнейшее пребывание в Африке становилось бессмысленным. Михаил собрал достаточно сведений, чтобы представить центру объективный доклад о положении в португальской колонии, в которой он находился. Брокман улетел в Европу, следовательно, и личных интересов Михаил в Африке больше не имел. Срок контракта кончался только через восемь месяцев, но он считал, что выданный ему аванс отработал, а вторую половину договорного жалованья, которую переводят на счет в банке, ему не получить. Уехать - вернее, бежать - оказалось делом сложным, рассказ об этом занял бы слишком много места, но так или иначе, а однажды осенним днем Михаил добрался до Танжера. Оттуда попасть в Европу уже нетрудно. Первым долгом он отправился в Париж, чтобы повидаться с Доном. Михаил не собирался останавливаться здесь даже на сутки - надо зайти к Дону попросить о продолжении поисков Брокмана и в центр. Но ему пришлось изменить планы. Прямо с вокзала он приехал на такси в бар Дона, и, едва они друг друга увидели, Михаил сразу понял, что у его друга есть важные новости. Дон высоко приподнял свои рыжие брови, поздоровался с ним очень церемонно и жестом пригласил пройти в дверь за стойкой. А за дверью был коридорчик, ведущий в контору Дона. Ждал Михаил недолго. Дон явился и заговорил в несвойственном ему стиле - с порога начал задавать вопросы. - Оттуда? - Да. - Видел его? - Видел. - Газеты читал? - Английских и французских - нет. - А какие-нибудь особенные акции у вас были? - Какая-то операция в джунглях. - Брокман в ней участвовал? - Да. Ранен. - В руку? - Да. А откуда тебе это известно? - в свою очередь, задал вопрос Михаил. - Надо читать газеты. Его из джунглей на вертолете вывозили? - В том числе и его. - Ну вот, значит, все сходится. Но надо еще проверить. - Ради бога, что сходится, что проверить? - Руководители повстанцев дали интервью журналистам. Газеты писали, что на этих руководителей готовилось покушение. - Какое же покушение, если там идет настоящая война? - Ну, называть можно по-разному. Пусть будет диверсия. - Но при чем здесь Брокман? - Кажется, точно такой же вопрос Михаил задавал Дону еще при первых разговорах о Брокмане. - Газеты писали, что группа диверсантов состояла из профессиональных наемных убийц. Публиковали даже два портрета, но не Брокмана. Он был в этой группе. - А что надо проверить? - Писали, будто все эти парни работают на ту же контору, что и мы с тобой. - Вот как… - Это лишь предположение. - А как же можно проверить? Дон прижал левую ладонь к сердцу. - Разреши, пожалуйста, не все тебе рассказывать. - В нашем с тобой деле чем меньше знаешь, тем лучше, - сказал Михаил. - Не всегда, но в данном случае ты прав. - И долго надо проверять? - Дай мне хотя бы неделю. - Мне не к спеху. - Ты, между прочим, в конторе и сам после можешь проверить, - как бы оправдываясь, сказал Дон. - Меня на кухню не пускают. - Михаил погасил сигарету в пепельнице и встал. - Выпить не хочешь? - Нет. Пойду в отель потише, возьму номер потеплее и залягу спать. Я тебе позвоню. …Через четыре дня Дон сообщил, что Брокман (под другой фамилией, разумеется) входил в группу, которая действовала по заданию центра. Более того, Дон узнал, что Брокман из Парижа улетел в город, поблизости от которого находилась главная квартира центра. Михаил отправился туда же. Спустя сутки он предстал перед Монахом, перед своим начальником, с устным докладом. Но Монах выслушал только вступление, а потом прервал его: - Вы напишите все на бумаге. В подробности не вдавайтесь. Набросайте общую картину того, что видели. Михаил составил письменный доклад. Монах прочел и сказал: - Хорошо. Возвращайтесь к своим прежним занятиям, а там посмотрим. Как Михаил и предполагал, его опять загрузили самой скучной для разведчика работой, которая носила даже не аналитический, а скорее статистический характер. Приходилось по восемь часов в день корпеть над малоинтересными, раздутыми и беллетризованными донесениями обширной агентуры центра, выуживая из вороха словесной соломы редкие зерна полезной информации. Утешало лишь соображение, что эти зерна истины сослужат службу не только здешним его начальникам. Положение в центре оставалось неспокойным, и Монах, видя в Себастьяне приставленного к нему контролера, становился раздражительным. Их плохо скрываемое взаимное недоброжелательство превратилось в почти открытую вражду. Они терпели друг друга лишь в силу служебной необходимости. Совсем недавно произошло несчастье с агентом, на которого центр возложил миссию особой важности в одной из стран социалистического содружества. Это произошло по вине Себастьяна, который снабдил агента явками, засвеченными еще за год перед тем. Монах предвидел это и предостерегал, но Себастьян настоял на засылке, и в результате центр имел огромные неприятности. После того случая Себастьян решил во что бы то ни стало себя реабилитировать, а так как по натуре он был злобным субъектом, он избрал для этого способ, который наиболее полно отвечал его натуре. Себастьян начал рассчитанную на длительный срок кампанию проверки сотрудников центра - всех поголовно, невзирая на лица. Однажды в порыве служебного рвения он сказал Монаху, что кое-кто из сотрудников ведет двойную игру и что он, Монах, явно недооценивает опасности такого положения. Монах тогда язвительно ему заметил: «Может, вы и меня подозреваете тоже?» Себастьян затаил обиду и спустя некоторое время написал рапорт высшему начальству, где резко осуждал шефа за потерю бдительности. Но начальство усмотрело в рапорте совсем иное. Их обоих, его и Монаха, вызвали на ковер и задали Себастьяну вопрос в лоб: уж не хочет ли он занять место шефа? А кончилось тем, что им предложили поддерживать между собой рабочие отношения. Однако идею Себастьяна о дополнительной проверке лояльности сотрудников одобрили. (Об этом Монах однажды за коньяком рассказывал Михаилу.) Себастьян разработал целый комплекс соответствующих мероприятий и приступил к его осуществлению. Относительно Михаила Тульева у него имелся особый метод. Например, однажды он вызвал Михаила к себе в кабинет и положил перед ним фотографию: перед подъездом здания КГБ на площади Дзержинского стоит Бекас - Павел Синицын. - Узнаете своего друга? - спросил Себастьян бодрым тоном. Михаил взял карточку, посмотрел и спокойно сказал: - Это Бекас. - А дом вам тоже знаком? - Наверное, Комитет госбезопасности в Москве. - Как же насчет Бекаса? Если бы Михаил и не знал о блестящих монтажных способностях главного фотомастера центра Теодора Шмидта, то он все равно не поддался бы на провокацию. Фотомонтаж был хороший, но Себастьян не учел одной детали: Павел - Бекас на карточке одет в ту куртку и те брюки, которые носил во время своего пребывания здесь, в центре. И потом, это же крайне грубая работа: с какой стати советский контрразведчик Павел Синицын, он же Бекас, будет фотографироваться или позволит кому-нибудь сфотографировать себя на фоне здания КГБ? - Хотите откровенно? - спросил Михаил, наклонясь к Себастьяну. Тот отстранился. - Это серьезнее, чем вы думаете. Я и раньше говорил и теперь говорю: Бекас нам подставлен. Правильно рассуждал Себастьян, но беда его заключалась в том, что он сам и верил и не верил этому. У него не было определенности. Михаил решил промолчать, и Себастьян вынужден был повторить свой вопрос: - Так что вы скажете по поводу этого снимка? - Теодор Шмидт - прекрасный мастер, больше тут ничего не скажешь. Себастьяна передернуло. Он быстро взял карточку, положил ее в карман. - Не считайте других глупее себя, - важно сказал он. - Но вы посмотрите на снимок как следует. Обратите внимание, как одет Бекас. Себастьян смотреть не стал. На этом беседа закончилась. Другой способ проверки Михаила Тульева должен был осуществиться на территории Советского Союза, но об этом он узнал гораздо позже… Медленно тянулось для него время. С привычной осторожностью он упорно искал след Брокмана. Почти во всех отделах у Михаила были хорошие знакомые, но наводить о ком бы то ни было справки окольными вопросами, а тем более открытым текстом в разведцентре и раньше не разрешалось, а при теперешней атмосфере и подавно. Потом произошло событие, приятное для большинства сотрудников центра: Себастьяна вызывали за океан, и, как поговаривали, надолго. Высказывалось предположение, что он поехал в ЦРУ повышать квалификацию. Так или не так, но почти все были рады, особенно Монах. И его легко понять. Для Михаила отъезд Себастьяна обернулся наилучшим образом. На следующий день его позвал Монах - не в служебный кабинет, а домой. Против ожиданий Монах не предложил коньяку и сам был трезв как стеклышко. Показав Михаилу на кресло, он сел напротив, закурил и спросил: - Между прочим, помните того парня, с которым вас разменяли? - Конечно, - сказал Михаил. - Его зовут Владимир Уткин. Он до сих пор там. Надежная легенда оказалась. К чему это было сказано, Михаил не успел сообразить, потому что Монах задал новый вопрос: - Этот ваш Бекас может убрать человека? Чтобы выгадать время и замаскировать свое удивление, Михаил немного помолчал. - Я уж про него забыл, - произнес он наконец раздумчиво. - Давно было. - Но все-таки… - настаивал Монах. - Если вы помните его историю… - Помню, - живо перебил Монах. - Он убил часового, когда бежал из колонии. Но вообще-то Бекас принципиально против мокрых дел. Он профессиональный вор. Тогда это было по необходимости. - Думаете, не согласится? - Скорее всего нет. - Можно пригрозить. - Выдать его милиции за то убийство? - удивленно спросил Михаил. - Да. - Этот шантаж я уже однажды использовал. - Можно повторить. Нельзя было рассчитывать, что Монах возьмет и вот так сразу и выложит все подробности задуманного или задумываемого им. Однако Михаил попробовал: - Смотря по обстоятельствам. Бекас - личность непростая, действует с разбором. - Речь идет о рядовом убийстве. - Нужен стимул. - Деньги он получит. - С них и надо начинать. - Хорошо, мы еще к этому вернемся, - подвел черту Монах. - Я вас звал не за этим. Он встал, прошелся по толстому пушистому синему ковру из угла в угол и сказал: - Завтра я вас познакомлю с одним нашим сотрудником. Он родился в России, но пятилетним мальчиком попал в Германию и потом остался на Западе. - Он выдержал небольшую паузу и затем снова заговорил: - Вы проверите, насколько хорошо он владеет русским языком. Если есть недостатки, вы определите, как их исправить, чтобы он говорил на современном русском. Это раз. Два: вы будете на протяжении двух месяцев учить его советскому образу жизни и советскому образу мысли. - Тут Михаил слегка усмехнулся, и Монах тотчас это заметил: - Не улыбайтесь… А впрочем, вы правы. И мы сделаем вот что. Учение будет гораздо эффективнее, если вы с ним станете жить вместе. Да, да, именно так. Вы не против, надеюсь? Еще бы ему быть против! - С большой охотой. Монах сказал: - Вы начинаете немножко прокисать на своей работе. Ничего, теперь будет веселее. На той же неделе Монах снова вызвал Михаила и опять к себе домой. Это всегда много значило: в домашней обстановке Монах вершил самые важные дела центра. При этом неукоснительно соблюдалось одно правило: приглашенный обязан проникать на виллу Монаха тайно, чтобы никто не видел его входящим в дверь. Похоже на игру, но определенный смысл в этом все же был. По меньшей мере Монах таким образом ограждал себя и своих исполнителей от всевидящего ока Себастьяна. Декабрьский вечер был темный и холодный. Шел дождь пополам со снегом. На вилле Монаха, стоявшей в окружении голых деревьев поодаль от других вилл, не светилось ни одно окно. Михаил кружным путем вышел к вилле со стороны сада, перелез через двухметровую железную ограду, по раскисшей дорожке прошагал к двери, которая вела на кухню, нащупал за косяком кнопку звонка. Открыл ему сам Монах: слуга, вероятно, был отпущен на этот вечер. Войдя следом за хозяином в гостиную, Михаил не сразу заметил сидевшего в кресле человека, а когда тот поднялся и шагнул в круг света, падавшего на ковер из-под огромного, как зонт, абажура, Михаил невольно приостановился. Перед ним стоял Карл Брокман. По традиции, сотрудники разведцентра, если они познакомились ранее на какой-то нейтральной почве, не имели права показывать этого никому, особенно же начальству. Михаилу эта традиция была известна. Брокману, судя по всему, тоже - стало быть, или он уже давно работает здесь, или его кто-то научил, предупредил. Михаил видел, что Брокман тоже его узнал и что он удивлен не менее. Монах ничего не заметил. Он представил их друг другу: - Михаил Мишле. - И, показав рукой на Брокмана: - Прохоров Владимир. Прошу любить и жаловать. Монах произнес это по-русски, пользуясь случаем проверить свои знания в чужом языке. Мишле - одна из фамилий, под которыми Михаил работал в Европе. Брокман протянул Михаилу руку, Михаил пожал ее. - Садитесь, - пригласил Монах. - Можете курить. Он подвинул кресло к круглому столику, сел. Они тоже сели. - Итак, - сказал Монах по-немецки, обращаясь к Михаилу, - выслушайте мою длинную речь, а потом будете задавать вопросы… Ваш подопечный Владимир Прохоров владеет русским, но не имеет никакого представления о бытовой стороне жизни в Советском Союзе. Впрочем, об этом я уже говорил… Как общаются между собой люди на работе, на улице, в кино? Как нужно относиться к сослуживцам, к начальству? Как знакомиться с женщинами? Все это и многое другое для него пока за семью печатями. Вы должны научить его… И заметьте себе: тут нет мелочей, которыми можно пренебречь… Я рассказывал вам, на чем однажды засветился один разведчик? Михаил слышал от Монаха эту историю, но, чтобы подыграть ему, сказал: - Не знаю, что вы имеете в виду. Интересно послушать. - Его, этого опытного разведчика, выдали шнурки на ботинках. Да, да. Он приехал в страну, где должен был осесть надолго. Шнурки были завязаны у него бантиком и болтались на виду. Там мужчины имеют обычай прятать концы шнурков внутрь. А он с первого шага выдавал себя за коренного жителя… Ну и, конечно, нашелся дотошный человек, который на эти шнурки обратил пристальное внимание. И - провал. Понимаете, что значат мелочи? - Монах обернулся к Брокману. - Вы еще молоды, а ваш наставник кое-что повидал. Слушайте его. Старших полезно слушать. А теперь вопросы. - Мы по-прежнему будем жить здесь? - спросил Михаил. - Нет, тут никто не должен видеть вас вместе. Поезжайте в Швейцарию, выберите курорт какой хотите и живите тихо. В Цюрихе и Женеве показываться не рекомендую. Что еще? - Когда приступать? - Чем скорее, тем лучше. Документы и деньги завтра у меня. Брокман вопросов не задавал, и Михаил подумал про себя, что этот наемный убийца, а ныне кандидат в разведчики обладает, должно быть, спокойным характером. Или туп как пень. Одно из двух… - Надо сразу условиться о месте встречи, - сказал Михаил. - Вы знаете Берн? - спросил Монах. - Плохо. - Сонный городишко. То, что вам надо. Там на Цейхгаузгассе есть отель «Метрополь». В нем вы и встретитесь. А жить я посоветовал бы в Гштааде. Прелестный курорт. Михаил уехал через день. В Берне он поселился в отеле, указанном Монахом. Вечером позвонил в один из отелей Гштаада - выбор был сделан по рекомендации хозяина бернского отеля - и легко договорился о двух номерах. До весеннего лыжного сезона было еще далеко. Утром в номер постучали. Это был Брокман. Они поздоровались уже как давно знакомые. В чинной швейцарской столице задерживаться им не хотелось, поэтому решили после завтрака отправиться на вокзал. От Берна до Гштаада по железной дороге километров около ста. Неторопливый поезд доставил их к отрогам Бернских Альп. Сразу за крошечным зданием вокзала - асфальтированная узкая улица, по которой они пошли вправо, на подъем. Через пять минут Брокман первым вошел в отель, с хозяином которого Михаил говорил по телефону. Номера им дали соседние, на втором этаже. Оставив чемоданы, они отправились прогуляться. Выйдя из отеля и глубоко вздохнув, Михаил почему-то вдруг вспомнил далекий отсюда город, где живут два любимых его существа - жена Мария и сын Сашка, и тот ясный январский денек, когда он в воскресенье лежал в постели, в теплой комнате, а Мария внесла с улицы заледенелое, залубеневшее белье, громыхавшее жестяно и льдисто, и комната наполнилась чистым свежим запахом мороза. Михаил поднял голову, поглядел на недалекие снежные горы и понял, откуда это внезапное воспоминание: пахло снегом. Но он тут же представил себе отца, рухнувшего от удара в висок, Брокмана с железкой, отлитой по слепку с мраморной ступеньки, на мгновение склонившегося над распростертым недвижно телом, и видение далеких лет, закрепленное в памяти запахом чистого, внесенного с мороза белья, развеялось.Глава 10 ВТОРАЯ ПОСЫЛКА И ПЕРСТЕНЬ С ИЗУМРУДОМ
Галя Нестерова вечером лежа читала книгу, когда зазвонил телефон. Сняв трубку, она услышала голос Светланы, звучавший необычно взволнованно. - Галка, ты одна? Мать из Москвы еще не вернулась? - Нет. Ольга Михайловна была в это время в Москве, куда поехала за консультацией к какому-то профессору по поводу своих болезней, Николай Николаевич был у себя в институте. - Слушай, - продолжала Светлана, - вернулся Виктор Андреевич. Прямо не знаю, что делать. Кошмар какой-то. Виктор Андреевич за две недели до этого сказал им, что едет в Италию. - В чем кошмар? - спросила Галя. - Колоссальную посылку привез. Мне ее домой нести нельзя. Мать на стенку полезет. - Может, приедешь ко мне? - нерешительно предложила Галя. - Только поскорее. - О том и прошу. А почему поскорее? - Папа должен прийти. - Ну, это ничего. Я сейчас. Светлана появилась взволнованная, румяная не то от мороза, не то от спешки. - Вот, еле дотащила, - сказала она, ставя на стол большой кожаный чемодан. Она разделась, бросила пальто и шапочку на Галину постель, и они принялись разбирать содержимое чемодана. Тут были замшевые юбки и куртки, шерстяные кофты, кожаные сумки, колготки различных цветов в глянцево блестевшей упаковке и масса разных мелочей. Была и жевательная резинка. А из своей сумочки Светлана достала золотое кольцо. На сей раз она уже не высказывала сомнений, настоящее это или подделка. Впервые Галя видела подругу такой взвинченной. Да у нее и у самой забегали глаза. Начали примеривать вещи, и тут выяснилось, что почти все прислано в двух экземплярах. - Он просто непонятный человек, - сказала Галя. - Тут и на меня рассчитано, что ли? Светлана вынула из сумочки конверт. - Прочти. Буквами, какими пишут в школах первоклассники, Пьетро составил настоящее любовное послание. Он уверял, что жить без Светланы не может. А в постскриптуме было сказано: «Я знаю, Вы не желаете принимать подарки. Чтобы это Вам легче сделать, посылаю также Гале», - вот почему все, кроме кольца, было в двух экземплярах. - Сколько же это может стоить? - спросила Галя. Стали подсчитывать, оставляя в стороне мелочи. Итог привел подруг в замешательство: получилось что-то около четырех тысяч рублей. - Я все-таки не понимаю… - растерянно заговорила Галя. - А может, это любовь? - перебила Светлана словами песенки, но в голосе ее не было всегдашней самоуверенности. Галя задумалась, глядя на себя в зеркало: как сидит на ней синий замшевый костюм, присланный Пьетро? Светлана примеряла кольцо. Оно точно пришлось на безымянный палец. - Куда же все это девать? - сказала Галя. - Не отсылать же обратно. - Светлана уже вполне владела собой. - Матерям что скажем? - Ерунда. Давай спрячем у тебя, тут места много. А обновлять потихонечку, сначала одно, потом другое. У тебя накопления бывают, а я своей буду говорить: в кредит покупаю. Главное - постепенно. Девиз умеренных и благонравных. - У меня тоже ненадежно. Мама ревизии устраивает, ты же знаешь. - А давай в кабинет к отцу. Ты ведь этим приемом успешно пользовалась. - Это, конечно, лучше. Но что делать с чемоданом? - Продадим. В комиссионный. На черта нам такой? Слишком шикарно. Кабинет Николая Николаевича представлял собой большую, не менее тридцати квадратных метров комнату в два окна. Письменный стол стоял в дальнем от двери углу. Две стены были сплошь в книжных стеллажах от пола до потолка. Старый, вытертый кожаный диван, накрытый пледом, занимал темный угол у двери. Еще здесь было два низких широких шкафа и старинный секретер. В шкафы, как знала Галя, отец не заглядывал, потому что там лежали его студенческие учебники и рукописи давних работ. Они ему не были нужны, но выбрасывать их он не разрешал. В шкафах и секретере нашлось достаточно места, чтобы рассовать вещи. Правда, все основательно пропылится, но это поправимо. Светлана на первый раз взяла домой присланную Пьетро кожаную сумку с тисненым орнаментом - ее старая уже порвалась по швам. Кольцо легко спрятать дома. - Да, чуть не забыла, - сказала она на прощание. - Виктор Андреевич хочет нас видеть завтра вечером. Ты никуда не скрывайся… Надо заметить, что к тому времени у Виктора Андреевича установились с подругами отношения, приятные для обеих сторон. Он удачно исполнял роль доброго, умудренного житейским опытом дядюшки. В их присутствии он, так сказать, отогревался сердцем, и потому встречи с ними происходили довольно часто и всегда по его инициативе. Признавшись как-то, что имеет слабость к вину, Виктор Андреевич при каждой встрече старался угостить Светлану и Галю. Таким образом, скоро в городе не осталось ресторана, где бы они не побывали. В некоторых ресторанах их принимали с почетом, как постоянных клиентов. Виктор Андреевич по мере сил прививал подругам довольно пошлый взгляд на вещи, часто повторяя, что жить надо проще, смотреть на жизнь легко, не делать из всякого пустяка проблему и не задумываться о будущем. Когда Светлана говорила, что для этого необходимо иметь много денег, Виктор Андреевич возражал: женщинам их иметь необязательно, они должны быть у мужчин. Надо только уметь найти того, кто готов тратить ради прекрасных женских глаз. Как, например, итальянец Пьетро Маттинелли. Все это излагалось полушутя-полусерьезно, но что-то, вероятно, оседало в неокрепших душах подруг. В иные встречи, когда не ходили в ресторан, Виктор Андреевич катал Светлану и Галю на своей машине, они совершали поездки за город. Эти автопрогулки не прекратились и с наступлением зимы. Мать Светланы, кажется, не замечала, что образ жизни ее дочери в последние полгода заметно изменился. Светлана возвращалась после встреч с Виктором Андреевичем поздно - как правило, Вера Сергеевна уже спала. Галя вообще была свободна от всякого надзора, так как Ольга Михайловна снова вступила в полосу длительного лечения нервов. Светлана повзрослела за прошедшие полгода в общении с Виктором Андреевичем, и совсем недавняя дружба с Лешей представлялась ей какой-то детской глупостью. Совершенно особняком стоял для нее вопрос о Пьетро Маттинелли. Сказать, что ее самолюбию льстило чувство, которое она возбудила в молодом интересном итальянце, - значит сказать лишь половину. Первую посылку она расценила просто как знак внимания. Вторая укрепила в ней сознание своей власти над людьми, особенно над мужчинами. И вместе с тем, получив вторую посылку, она впервые ощутила готовность подчиниться мужской воле. Она испытывала к Пьетро самые нежные чувства. Неизвестно, что бы она испытывала, будь присланные вещи не столь дорогие и не в таком количестве, но тому, кто позволил бы себе намекнуть ей о покупных чувствах, она бы, не задумываясь, дала пощечину. По прискорбному обычаю, распространенному на всем земном шаре, Светлана не хотела видеть неприглядную оборотную сторону медали. Большинство из нас в хорошие минуты склонно рассуждать так: да, в жизни случается много плохого, но это - с другими, а со мной никогда случиться не может. Словом, Светлана, по ее разумению, поступала не лучше и не хуже других. Но оставим это моралистам и вернемся к нашему повествованию… …Виктор Андреевич заехал за Светланой в универмаг в восемь вечера. Там уже была и Галя. Он сказал, что будет ждать их в своей машине, и спустился вниз. «В своей машине» означало, что сегодня они в ресторан не пойдут. Светлана села на переднее сиденье, рядом с Виктором Андреевичем, Галя сзади. Виктор Андреевич поехал по центральной улице, потом свернул в сторону московского шоссе. - Ну, как, угодил? - спросил он, имея в виду присланные вещи. - Не то слово, - сказала Светлана. - Но все-таки мы с Галей все думаем: с чего такая щедрость? - Нравитесь вы ему, Светланочка. Виктор Андреевич посмотрел на Галю. - Мама еще не вернулась? - Нет. - А папа все работает? - Работает. - Не поехать ли к вам домой? - А что там делать? - сказала Светлана. - Посидим. Галя чаю даст. Как вы, Галя? Она колебалась. Что сказать отцу, если он вдруг увидит в доме незнакомого пожилого мужчину? Галя попыталась в полутьме машины разглядеть на своих часах, сколько времени. - Сейчас половина девятого, - подсказал Виктор Андреевич. - Отец приходит в начале одиннадцатого, - прикинула Галя. - Вообще-то на часок можно. Виктор Андреевич развернул машину. Без десяти девять они были у Гали. Закрыв за собой дверь, Галя бросила ключи на подзеркальный столик. Галя предложила им не чай, а кофе. Они с отцом пили его, только когда Ольги Михайловны не было дома, потому что ее сильно раздражал кофейный запах. Пока Галя была на кухне, Виктор Андреевич завел со Светланой доверительный разговор. - Хочу с вами посоветоваться, - сказал он тихо. - Щекотливое дело. - Мы друзья. - Вы думаете, я бесплатно катаю вас на автомобиле? - кисло пошутил Виктор Андреевич. - А вы ближе к делу, - предложила она. - Видите ли, Светлана, я в последнее время несколько поиздержался. - Он замахал руками, предвосхищая ее возможную реплику. - Нет, нет, наши невинные сидения в ресторанах здесь ни при чем. Были другие причины. - Чем я могу помочь? - серьезно спросила она. - У меня, правда, сберкнижки нет. Виктор Андреевич быстро сунул руку в кармашек жилета и показал Светлане серебряно блеснувший перстень с большим зеленым камнем и спросил: - Как вы думаете, сколько стоит? - Понятия не имею. Это надо у Галины спросить, она специалистка, она знает. - Я тоже знаю. Это стоит не менее тысячи рублей. Но мне нужно семьсот. Кажется, у меня опять будет командировка. - Вы хотите его продать? - Да. Но там, где эти вещи покупают, мне появляться очень бы не хотелось. Я езжу за границу… Ну и вообще… - Понимаю, - сказала Светлана. - Вы хотите, чтобы я его сдала? - Буду вечно благодарен. - Меня могут надуть. Мы это сделаем вместе с Галиной. - Спасибо. - Виктор Андреевич протянул ей перстень. Она положила его в сумку. Потом Виктор Андреевич встал, прошелся по гостиной и заметил с одобрением: - Уютный дом. - Стараниями Ольги Михайловны, - усмехнулась Светлана. - Галина мама вам не нравится? - Родителей не выбирают - так, кажется, говорится? Но я бы от нее сбежала. - Почему же? - Она Галку с пеленок муштрует. Забитого человека сделала. - Неужели? Я как-то не замечал. - Это уж она отошла немножко. А посмотрели бы вы на нее годика три назад! - А что же папа? - А что он может сделать? Подслащивает Галкину жизнь подарочками. А вы, значит, опять за границу? - Не сейчас, чуть позже. - И снова в Италию? - По всей вероятности. - Везет же людям. - Не хотите написать ему? - спросил Виктор Андреевич. - Конечно, напишу. Светлана сбегала в комнату Гали, вернулась с бумагой и ручкой, присела к столику. Письмо получилось короткое, но энергичное: «Дорогой Пьетро! Огромное спасибо за все - от меня и от Гали. Зачем такие дорогие подарки? Очень прошу - не тратьте лиры, лучше приезжайте сами. Ждем Вас - чем быстрее, тем лучше. Светлана. Привет от Гали». Виктор Андреевич сложил листок, убрал в портмоне и сказал: - Между прочим, вы помните первый наш разговор о Пьетро? - Ну конечно. - Вы тогда сказали, он прямой и открытый человек. - А разве не так? - Не совсем. Он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я имел случай в этом убедиться. Светлана хотела что-то спросить, но Виктор Андреевич, увидев входящую Галю, быстро сказал: - Впрочем, это чепуха. Галя появилась с серебряным подносом (недавнее нововведение Ольги Михайловны), на котором стояли чашки с кофе и сахарница. - Виктор Андреевич опять в Италию собрался, - сказала Светлана. - Я записочку написала. От тебя привет. - Хорошо, - отозвалась Галя. Виктор Андреевич встал ей навстречу, взял поднос и сказал: - Я говорю Светлане, у вас прекрасная квартира. Никогда не видел, как живут академики. - Хотите посмотреть? - Но прежде выпьем кофе. Выпив кофе, Виктор Андреевич начал новый разговор. - Я должен сделать вам одно признание, милые девушки. Не могу умолчать. - Это всегда интересно, особенно если кто-нибудь признается, что он нехороший человек. Правда, Галка? - сказала Светлана, иронически глядя на Виктора Андреевича. - У вас ядовитый язык, я, кажется, уже сообщал вам об этом, но вы очень проницательны. - Виктор Андреевич поглядел на нее искоса и добавил: - Я, может быть, и скажу нечто нелестное в свой адрес. - Просим, просим. Он посмотрел на Галю. - Я ведь неспроста напросился к вам в гости. За рулем толком не побеседуешь. - Не томите, Виктор Андреевич, - сказала Светлана. - Разрешите один нескромный вопрос? - Пожалуйста. - Мы знакомы уже довольно давно, и я убедился, что у вас, Галя, нет молодого человека. Почему? Вы красивая девушка. Этонеестественно. Вместо Гали ответила Светлана: - Один юноша уже задавал Гале такой вопрос. И с тех пор зарекся. Виктор Андреевич понял, что поступил опрометчиво, но продолжал развивать тему: - Я спрашиваю с определенной целью, а не из праздного любопытства. - Становится все интереснее, - сказала Светлана. - Нет, правда! - искренне воскликнул Виктор Андреевич. - Я не сват и не сводня, но письмо племянника навело меня на мысль… подтолкнуло… - У вас есть племянник? - Да, живет в Москве. Ему тридцать пять. В прошлом году развелся и сейчас одинок. - А он кто? - это все спрашивала Светлана. Галя молчала. - Летчик. Служит в гражданской авиации. - Слышишь, Галя? Галя спросила: - Налить еще? - Я не хочу больше, - отказалась Светлана. Разговор о племяннике кончился ничем… Виктор Андреевич взглянул на часы. - Без четверти десять. Скоро придет ваш папа, а мы еще не посмотрели квартиру. Галя повела их из гостиной на кухню, из кухни в свою комнату, затем в комнату матери и, наконец, в кабинет отца. У раскрытого секретера Виктор Андреевич задержался на несколько секунд. Он, между прочим, все время одобрительно причмокивал и хвалил обстановку, чем заставил Галю поглядывать на него с недоумением: его поведение не соответствовало тому образу, который сложился у нее. Восторги были явно преувеличены. Наконец Виктор Андреевич сказал, когда они пришли в переднюю: - Пожалуй, пора и честь знать. - Подождите, мы сейчас, - попросила Светлана, и подруги оставили его одного: Светлане нужно было взять кое-что из вещей, хранящихся в кабинете Николая Николаевича. Виктор Андреевич моментально преобразился. От солидной неторопливости, округлости жестов не осталось и следа. Он шагнул к столику, где лежали оставленные Галей ключи, вынул из кармана тяжелый, как хоккейная шайба, кусок серого пластилина и быстро, один за другим, сделал на нем оттиски двух ключей - каждый ключ с двух сторон… Прощаясь с Галей, Виктор Андреевич сказал: - А насчет племянника моего вы подумайте. Вдруг понравится. - Чего же думать? Приедет - познакомьте, - снова ответила за подругу Светлана. - Непременно. По дороге к дому Светланы в машине Виктор Андреевич мягко напомнил о своей просьбе относительно перстня: - Вы сумеете выкроить время, чтобы не очень оттягивать? Бедствует человек. - О чем речь, Виктор Андреевич? - Светлана говорила на этот раз вполне серьезно. - Мы вам так обязаны… Они не оттягивали. Во время обеденного перерыва Галя зашла к Светлане в универмаг, и они отправились в магазин «Ювелирторга» - единственный в городе, где у граждан покупают драгоценности. Оценщик, старик в потертом черном пиджаке и не первой свежести белой рубахе, с плохо повязанным галстуком, сунул себе в глаз окуляр, какими пользуются в часовых мастерских, посмотрел камень, повертел перстень в пальцах и сказал: - Вам дадут около двух тысяч. Только за камень, не считая платины. - Спасибо, - поблагодарила Светлана и дернула Галю за рукав шубы. Они покинули магазин. Когда вышли, Светлана сказала: - Я думала, это серебро. - Нет, платина. Это сразу видно. - Жалко сдавать. - Да, камень очень хороший. - Галя вздохнула. - А он думает получить всего семьсот? - Ему столько нужно. - Странно. - Ты хочешь сказать, Виктор Андреевич знает этой штучке настоящую цену? - Он же не маленький, а здесь ребенку ясно. Что-то я не понимаю… Для чего? Может, он нас испытывает? - спросила Галя. - А черт его разберет. Мужик ничего, во всяком случае, не сквалыга, а что еще мы про него знаем? Они свернули в переулок, ведущий к универмагу, немного прошли молча. - Тебе очень нравится? - спросила Светлана. Галя кивнула. - Тогда нечего рассуждать. Возьми себе. - Откуда у меня такие деньги? - Отец даст. - Не могу я у него столько просить… Вот если бы мамочка моя… - Лешка говорит: если бы у быка было вымя, он бы был коровой. - Ты не поняла… Я думаю, может, матери предложить? Она разбирается. Светлана до этих пор никак не выдавала своего раздражения, но тут не выдержала: - Эх, мямля ты! Была бы у меня хоть какая-то возможность, я бы не упустила. Галя пожала плечами. - Но что же делать?… Придется сдать… Светлана протянула Гале перстень. - У меня рука не поднимется. Лучше уж предложи мамочке. Галя взяла перстень, хотела положить в сумку, но Светлана сказала: - Надень на палец, а то потеряешь. Галя сняла перчатки, попробовала на один палец, на другой. - Видишь, он мне и велик. Светлана засмеялась: - А ты надень на большой. Введешь новую моду. Серьезный разговор выродился в пустую болтовню, и, подойдя к универмагу, они почти позабыли, по какому немаловажному поводу он начался. А вскоре приехала Ольга Михайловна. Галя показала маме перстень, сочинив при этом благовидную историю, будто у одной из ее сокурсниц тяжело заболели родители, срочно нужны деньги для лечения. Разглядев хорошенько перстень, Ольга Михайловна спросила: - Сколько он стоит? - Я показывала оценщику. Больше двух тысяч. - А она просит семьсот? - Да. - Дурочка. Хорошо, я возьму, но отдай ей девятьсот. Ольга Михайловна в тот же день сняла со сберкнижки девятьсот рублей. Вечером Светлана вручила семьсот рублей Виктору Андреевичу, который остался очень доволен.Глава 11 ИСПОВЕДЬ НАЕМНОГО УБИЙЦЫ
Курортный городок Гштаад постепенно засыпало снегом. Шла та единственная пора года, когда местных жителей здесь бывает больше, чем приезжих, тогда как во все другие сезоны число отдыхающих значительно превышает число гштаадцев. Михаил и Брокман вели размеренный образ жизни. Вставали со светом, то есть в девятом часу, мылись, брились, завтракали, гуляли (однажды на прогулке Михаил незаметно сфотографировал Брокмана), обедали, играли в карты по маленькой, ужинали и ложились спать. На людях они говорили между собой по-немецки, а когда оставались одни - только по-русски. Брокман обладал достаточным запасом слов, потому что, как он рассказал, ему приходилось регулярно общаться с выходцами из России, да и как-никак его родным языком был все же русский, он пользовался им до десятилетнего возраста, пока жива была мать. В его выговоре слышался южнорусский акцент, но это ничего не портило. Специальных лекций о нравах и быте в Советском Союзе Михаил Брокману не читал. Они устраивали, так сказать, вечера типа «спрашивай - отвечаем». У Брокмана имелся заготовленный заранее вопросник, составленный, по всей вероятности, Монахом. Михаил отвечал на эти вопросы. Пили они мало, но раз в неделю посещали очень дорогой ресторан, расположенный на одной из вершин, окружающих Гштаад. Это был большой, рубленный из толстых бревен дом, где внутри, в центральном зале, горел, потрескивая сухими поленьями, камин, где ветчину развозили по столикам на горячей жаровне, в которой краснели крупные угли, и официант откидывал медово лоснящуюся шкуру с окорока, как плащ, и клал на тарелку тонко нарезанные душистые ломти нежнейшего розового мяса. Поднимались в ресторан и спускались вниз в обтекаемых кабинах подвесной дороги, за что брали тоже довольно дорого. Прислушиваясь к себе, Михаил обнаруживал, что недавняя твердая решимость поквитаться с Брокманом за отца словно бы размягчается по мере того, как ползут эти однообразные дни. Однажды, уже в начале марта, он сделал неприятное открытие: за ними следили. Когда они возвращались в отель после посещения ресторана на вершине, Михаил обратил внимание на высокого сухощавого человека лет тридцати, поджидавшего кого-то у нижней станции канатной дороги. Этот человек бросил на них мимолетный взгляд, но что-то в его взгляде не понравилось Михаилу. Брокман ничего не заметил. Остановившись у входа в отель и оглянувшись, Михаил опять увидел сухощавого - он повернулся к витрине галантерейного магазинчика. Повернулся как раз в то мгновение, когда Михаил оглядывался. Не очень-то ловкий малый, если ему дано задание следить… Брокману Михаил о своем открытии сообщать не стал. Необходимо было срочно установить, действительно ли это «хвост», а если да, то за кем следят. Наутро Михаил, поглядев в щель между плотными шторами на улицу, увидел идущего со стороны вокзала вчерашнего провожатого. Тот, не останавливаясь, посмотрел на его окно, перевел взгляд на окно соседнего номера, где жил Брокман, - значит, успел установить, где обитает объект слежки. Но кто именно - объект? После завтрака Михаил предложил Брокману прогуляться. Не успели они миновать миниатюрное здание вокзала, как он засек сухощавого. Вот, значит, какая система: этот доморощенный шпик центром своей паутины сделал вокзал. Что ж, правильно. Если люди приехали в Гштаад не на машинах, а на поезде, скорей всего они и уедут так же. Теперь надо выяснить, к кому шпик приставлен. Михаил похлопал себя по карманам. - Черт, сигареты забыл. - Кури мои, - сказал Брокман. - Терпеть не могу, трава. - Брокман курил американские сигареты «Кент». Михаил предпочитал крепкие французские «Голуаз». - Купим по дороге. - Здесь «Голуаза» нет, а у меня еще два блока в чемодане. Иди, я тебя догоню. Михаил вернулся в отель, поднялся в номер и вправду взял из чемодана пачку сигарет. Для верности посидел минут пять, а когда снова вышел, шпика не заметил. Он его увидел, когда догонял Брокмана. Сухощавый, услышав за спиной торопливые шаги, шмыгнул в стоявший при дороге продуктовый магазин. Так. Значит, Брокманом кто-то сильно интересуется… Они не успели уйти далеко - начался дождь, пришлось вернуться в отель. Сухощавый шпик проводил их, будучи, вероятно, уверен, что хорошо исполняет свою роль. Странно, что Брокман все еще не замечал слежки. Михаил не собирался раскрывать ему глаза… Погода испортилась, и, кажется, надолго. Погода, что называется, не благоприятствовала горнолыжникам, начинавшим понемногу стягиваться в Гштаад: облака скрывали снежные вершины Бернских Альп, в долинах шли дожди вперемешку со снегом, часто туманы спускались с гор вниз, и днем в отеле зажигали свет. Вот в такой пасмурный, туманный день и настал момент, которого терпеливо ждал Михаил Тульев. Вероятно, все же не от скуки развязался у Брокмана язык. Надо полагать, даже у самого ожесточившегося, органически неспособного на раскаяние, верящего только самому себе человека хотя бы раз в жизни возникает потребность излить душу. Набожные делают это на исповедях перед священником. Но Брокман, разумеется, в бога не верил, так же как и в дьявола, - он предпочитал верить своим хорошо тренированным мышцам, великолепной реакции и безотказному, содержащемуся в образцовом порядке оружию. Может быть, смутные воспоминания о матери, которая была очень набожна и во время воздушных налетов, когда они прятались в подвале - это было в Дюссельдорфе, - становилась на колени, шептала молитвы и каялась в каких-то своих смертных грехах, - может быть, толчком для внезапно прорвавшейся откровенности послужили именно эти полустершиеся детские впечатления, связанные с материнскими покаяниями и всплывавшие в безмятежно спокойной обстановке швейцарского курорта. Как бы там ни было, Брокман, лишь совсем чуть-чуть подталкиваемый к этому Михаилом, разоткровенничался и обнажил свое нутро, что называется, до самого дна, не утаив ни единого штриха своей страшной, несмотря на относительную краткость, биографии. Исповедь состоялась в уютном теплом номере Брокмана, где они пообедали. Накануне вечером, возвращаясь с прогулки, Брокман поскользнулся на мокром осклизлом камне, подвернул ногу и слегка потянул связки. Вызванный хозяином отеля врач сделал ему массаж, растер больное место мазью «Гирудоид» и наложил тугую повязку, велев дня два полежать в постели и гарантировав полное заживление. Поэтому и обедали в номере. Брокман, в белом шерстяном свитере и серых лыжных брюках, лежал на кровати поверх одеяла. К кровати был придвинут столик, на котором стояло вино и ваза с жареным миндалем. Михаил сидел в кресле по другую сторону столика. Он курил и подправлял пилкой ногти. - Давно хотел тебе сказать: что-то ты не очень похож на француза, - заявил вдруг Брокман вне всякой связи с предыдущим разговором, который касался различных травм, полученных собеседниками в прошлом. - Видишь ли, - отвечал Михаил, - я француз только наполовину. Отец у меня русский. Это и было толчком. Брокман заложил руки за голову, полежал так, глядя в потолок, а потом начал свой рассказ, прерывая его лишь для того, чтобы отхлебнуть вина или прикурить. Вот он, этот рассказ, записанный Михаилом на проволоку портативного магнитофона, лежавшего у него в кармане. «Да-а, а у меня сам черт не разберется, кто я такой - в смысле национальности. Коктейль! Смотри сам: дед по отцу был, правда, чистокровный немец, а женился на шведке. Значит, отец стал шведский немец или немецкий швед, да? Мать была наполовину русская, а наполовину молдаванка. Кто же, выходит, я? Не понимаю, почему, но мать мне, сколько помню, все время твердила: «Ты русский». Родился я в тридцать шестом году в городе Бердянске, на Азовском море. Там была небольшая колония немцев. Виноград разводили. Отец работал механиком, чинил трактора, где именно - сейчас уже не помню. Мать ухаживала за виноградником и растила меня. Когда Гитлер захватил Украину, отец пошел служить в вермахт, а нас отправил к каким-то своим дальним родственникам в Германию. Его приняли с помпой, мать рассказывала - в газете писали, что вот, мол, у фюрера везде есть верные друзья, готовые пожертвовать собой ради его святого дела, и вот вам пример - Иоганн Брокман, славный сын великого германского народа. И так далее - галиматья несусветная… Отец попросился в танковые части и скоро дослужился до гауптмана. Убили его в сорок третьем, на Курской дуге… Вот тебе и дуга! Всем офицерским вдовам трупы прислали - мы тогда уже в Дюссельдорфе жили, а моей матери никаких героических останков, сгорел отец в своем «Тигре» получше, чем в крематории… Да-а, это я потом видел, как может гореть железо, а в детстве не верил… Плохо помню, всего ведь семь лет было, но как мать голосила и причитала - это запомнилось. И еще бомбежки. Союзнички долбали с воздуха старательно. Я после, как вырос, про войну читал, историческое. Про налеты на мирных жителей в книгах ничего не упоминалось, но я-то помню, как один раз завалило нас с матерью в каком-то подвале. Потом долго на зубах кирпичная пыль скрипела. А всех отцовых родственников убило… Причитала мать - с ума сойдешь! Она в сорок пятом умерла от рака легких, курила слишком много. И вот, представляешь, с сорок третьего, как отец в России накрылся, и до самой смерти долбила она мне: «Твоего папу убили большевики, помни об этом». Для чего ей это нужно было, не знаю. И в школе учитель, грустный такой дядя, все в платок посмаркивался, тоже о красных толковал, о том, как сгубили русские лучших сыновей германского народа. Тихо так плакался, как бы по секрету, и все вздыхал, руками разводил. Но хочешь - верь, хочешь - нет, а на меня и тогда уже никакая агитация не действовала. Я был парень самостоятельный. Когда мать умерла, я продал старьевщику наше барахло, купил пачку жевательной резинки и американские сигареты и поехал в Гамбург. Какая была у меня цель, не помню. И вообще три года после смерти матери я вроде бы и не существовал. Всю Германию исколесил, и милостыню просил, и где-то на ферме коров пас, и почтальоном работал в каком-то городишке. А потом попал в монастырский приют для сирот. Учили там понемногу и работать заставляли, табуретки делали, а жрать в столовую - строем. Год мучился, а потом сбежал. Год по Рейну на барже-самоходке плавал, приютил меня старенький шкипер. Гравий возили, песок, цемент - в общем, что попыльнее, но все же тот год хороший был, много чего я повидал. И главное, все время в дороге, сегодня здесь, завтра там. Хотел меня шкипер усыновить, но тут надоела мне баржа, списался на берег, и правильно сделал. Не надо бы шкипера обижать, конечно, да что поделаешь - взял я у него сто марок на разжив. Украл, значит. Сначала думал, после отдам, беру взаймы, хоть и без спросу. А вспомнил про должок видишь когда - только здесь, в этом шикарном Гштааде, чтоб его туманы съели. Шкипер небось давно помер. На реке сильно я вырос и крепкий стал. Как-никак все время на воздухе, пища простая, здоровая, работы хватало. Шкипер по-английски свободно разговаривал, меня поднатаскал. И на мандолине учил играть, но это ни к чему. И вот, значит, заявляюсь я с сотней в кармане в Мюнхен. Дело было летом, в августе, кажется. Ясно, одичал на реке, первым долгом в кино. Какой-то американский боевик крутили. А после кино зашел перекусить в соседний бар. Пива взял. До того я ни разу ни пива, ничего другого не пробовал. А тут выпил две кружки… И так себя прекрасно почувствовал, прямо в рыло кому-нибудь дать захотелось. И подкатывает ко мне такой обтянутый типчик и румяный, как яблочко на витрине. Поюлил возле моего столика, присел и начинает разговорчик: кто, откуда, здешний, нездешний. А потом говорит: «Видите вон того господина за столиком у окна?» Правда, сидит такой гладкий, глазки заплыли, только что не мурлыкает. На столе трость и шляпа. «Вижу, - отвечаю, - но мне до него дела нет». Этот тип решил, наверно, что я деревенщина какой-нибудь, нечего особо церемониться, и объясняет без подготовки: «Вы ему очень нравитесь, он хочет с вами познакомиться». Я тогда еще плохо разбирался кое в каких делах, но сразу смекнул, куда он клонит, и врезал ему между глаз оч-чень плотно. И ноги в руки. Удрал я классно, да недолго радовался… Повезло мне с тем типом - дальше некуда. Их там много оказалось, у этого, с тростью, целая банда. Надо было мне сразу смываться из Мюнхена куда подальше, а я еще два дня околачивался. Ну и нашли они меня. Думаю, не специально разыскивали, а просто случай. Отделали на улице - отбивная по заказу. А после затащили в дом, дали еще как следует, а потом две недели лечили - самим дороже. И девчонку приставили - ухаживала, после у нас любовь была. Этот, с тростью, заворачивал большими делами. Кокаин, морфий и проститутки. В банде человек сто, причем многие по-людски жили - где-то там на службе числились, жены, дети, счет в банке. Приставать ко мне больше не приставали, но отлепиться от них не удалось. Да, по правде сказать, и понравилась новая жизнь. Отвезешь в другой город пакетики, запрятанные в специальные ботинки на два номера больше. Вернешься - пей, гуляй. Сам я к наркотикам не привык, хотя и пробовал. Да и не поощрялось это в нашем братстве - так шефы свою банду называли. Оно и понятно: наркоманы - народ ненадежный… Братство, конечно, звучит красиво, но я скоро увидел, что законы в нем те же самые, что и у банкиров, и у больших дельцов, которые легально зарабатывают. Шефу - тысячу марок, мне - десять пфеннигов. Я попадусь - мне тюрьма с долголетней гарантией, а он по-прежнему будет себе тросточкой помахивать. Но я не в подворотне родился, мне тоже в «Ягуаре» поездить хотелось. А уж если ставить на карту свободу, то, по крайней мере, против хорошего куша, а не полсотни марок за поездку. В общем, попробовал я сработать на себя. Раз как-то получил очередную партию кокаина - полкило в двух пакетах, место назначения - Кельн. В аптеке купил десять пачек аспирина, растолок таблетки, отсыпал из пакетов кокаин, а в пакеты, понятно, аспиринчик добавил. А в Кельне эти пятьдесят граммов продал от себя одному жучку-одиночке. Сошло, никто ничего не узнал. А я на банковский счет две тысячи марок положил, там же, в Кельне. Еще, помню, клерк в банке все на меня глаза пялил - наверно, хотелось спросить, откуда у такого молокососа столько денег. Потом я таким же образом отвез партию кокаина в Штутгарт, и тоже благополучно. И пошло как по маслу. К началу пятьдесят девятого у меня в банке семнадцать тысяч лежало. До сих пор не пойму, как это мне сходило с рук? Скорей всего на пути от оптового поставщика до потребителя не один я химичил. Но за шкуру свою я дрожал, признаюсь. Потому что за такие штучки у братства была одна расправа - нож под лопатку. Может, удалось бы мне здорово разбогатеть, если бы не глупость дикая. Вернее, бдительность я потерял. А дело было так. Жил я в двухкомнатной квартире вдвоем с напарником. За квартиру платил шеф. Такую он систему завел, чтобы холостые члены банды жили попарно: следить друг за другом удобнее, всегда на виду. Я-то был простым курьером, а напарник имел в подчинении человек пять сутенеров. Ему уж тогда под пятьдесят подваливало, и страдал он не то язвой желудка, не то печенью, желтый был, как лимон. Официально, для домовладельца, я считался его племянником. Иногда, бывало, выходим из дому вместе, встретим кого из соседей - он мне что-нибудь воспитательное проповедует, погромче, чтобы слышали. А сам - пробы негде ставить. В молодые годы о нем слава громкая ходила - головорез из головорезов. В банде он прошлой славой и держался. Комната моя запиралась, но какой замок нельзя открыть? Я знал, что «дядя» у меня пошаривает, проверяет, потому что я несколько раз ловушки незаметные оставлял для контроля - волосок на чемодане приклею или там пол у двери пеплом припудрю. Никто не учил, своим умом дошел. Голова у меня рано работать начала, не то что у некоторых. Сила есть - ума не надо, - это кретины выдумали, которые могут разве что сумочку у припоздавшей девчонки вырвать или у пенсионера кошелек отнять. Не мужское дело… Но я, говорю, немного обнаглел и один раз нарушил свое собственное правило - чтобы дома никаких следов. В очередную поездку мой кельнский жучок предложил в уплату за товар часть наличными, а часть - золотом. Перстень у него имелся золотой, с черепом черненым, очень мне понравился. Теперь-то я знаю, что нет ничего лучше счета в швейцарском банке, а тогда польстился на цацку и был наказан. Мне бы продать его, даже выбросить совсем - и то лучше… Короче, через неделю «дядя» устроил у меня тайный шмон и нашел перстень - я его в грязном белье держал. В тот же вечер ко мне пришли два личных исполнителя шефа - пожалуйте на беседу. В машине за город - там у них усадьба была, со старинным домом, с парком и озером. Это в феврале было, погода промозглая, а они мне даже плаща не дали надеть, торопились. Вводят в большую комнату, камин горит, у камина шеф покуривает. Поставили меня перед ним, он руку в карман, потом кулак разжимает - на ладони мой перстень. Спрашивает: «Откуда?» Говорю, на улице нашел, а меня сзади по уху - раз! Поднялся, в черепушке колокольный звон, а он мне из газеты вырванный кусок под нос сует: «Читай!» Оказывается, в Кельне ограбили какую-то старуху, баронессу, обчистили родовое гнездо до перышка, и в числе ценностей мой перстень упоминается. Шеф спрашивает: «Так где ты нашел эту штучку?» Опять отвечаю: на улице. И по второму уху - трах! Но тут я уже устоял. Думаю, надо как-то выкручиваться, иначе крышка. Каюсь ему: в гостинице, мол, украл. Увидел случайно, когда по коридору шел, что в номере дверь не закрыта, зашел, в ванной комнате на зеркале перстень лежит, ну и соблазнился. Брешу, а сам вижу, не верят ни одному слову. Шеф говорит: «Ты ведь с товаром в Кельн ездил?» С товаром, говорю, доставил по назначению. Расписок мы, понятно, не брали, шефу о доставке сообщали, наверное, по телефону, потому что он говорит: «Знаю, доставил, но все это мне не нравится, даже если допустить, что перстенек ты действительно украл. Тебе же наш закон известен». А закон был - не воровать, тем более по мелочам и в неорганизованном порядке. Я клятву давал, на ноже. Приговор шефа был не очень строгий: держать меня под домашним арестом до выяснения дела. Перстень он оставил себе. Его громилы отвезли меня утром обратно, и один остался со мной, сказал - поживем пока вместе. Думаю, докопались бы они до моего счета в в банке, если бы не повезло мне в тот день. А случилось вот что. Когда мы вернулись в квартиру и громила Гирш - так его все звали - увидел, что спать второму человеку не на чем, он решил купить раскладушку с надувным матрацем. Для меня. «Дядя» мой был в то время дома, Гирш попросил его сходить в магазин, но у «дяди» живот болел, и вообще он тяжести таскать не любил. Тогда Гирш говорит: посмотри за Карлом - это за мной, - чтобы не уходил, дождался меня, а сам отправился за кроватью. И в этом было мое спасение. Через окно - исключено: седьмой этаж. Ждать потом другого такого момента глупо. Не знаю, как они там собирались наладить мое и Гирша питание, может, кто-то должен был доставлять нам жратву на дом, хотя бы тот же «дядя», но, во всяком случае, рассчитывать в другой раз на долгую отлучку Гирша я не мог. Надо было или оставаться овцой и ждать, когда прирежут, или уматывать немедля. Не помню, сколько раз дал «дяде» по роже и под ребра, но улегся он на пол как миленький и до пистолета в тумбочке добраться не успел. Выскочил я из квартиры, поднялся на лифте на верхний этаж, там по коридору прибежал на пожарную лестницу, ссыпался по ступенькам во двор. Постоял, подышал и придумал, что делать дальше. Недаром говорю: голова у меня работала. И, по счастливому совпадению, то, что было мне нужно, находилось рядом. Через пять минут я был на призывном пункте, а спустя часа три значился рядовым бундесвера и ждал отправки в казарму. Хорошенький, должно быть, вид имел Гирш, когда «дядя» рассказал ему, что произошло в его отсутствие. А я себя чувствовал, наверное, лучше, чем мой отец в танке на Курской дуге. Здоровьем меня бог не обидел, медицинская комиссия предложила любой род войск - на выбор. Я решил податься в десантные части. И, надо сказать, не прогадал. На земле оно, может, и спокойней, но шагистику я с детства ненавижу, и потом, у десантника на всю жизнь закалка, только не ленись учиться и не бойся потеть. Про службу рассказывать долго не стоит - однообразно… Скажу лишь, что родитель мой дослужился у Гитлера до гауптмана, до капитанского чина, а я - до гаупт-ефрейтора, но с меня и этого довольно, и к тому же я свою голову за фатерланд не сложил. Хвала политикам - в Европе войну никто больше не начинал. В шестьдесят первом уволился я из армии. Сначала было желание остаться по контракту, потому что побаивался я старых дружков. Но дошли до меня сведения, что полиция накрыла шефа. Семнадцать заветных тысяч лежали целенькие, да еще и проценты наросли, так что на первое время с голоду я не мог умереть, а потом, думаю, посмотрим. Можно собственное дело открыть. Но не вывернулось мне честное счастье. Замахнулся на автомастерскую - видно, в жилах это сидело, от отца, уж и присмотрел подходящую, а цена оказалась мне не по зубам: восемьдесят тысяч. Пока разъезжал да мерекал, денежки растаяли. Да еще спутался я с одной красоткой невзначай, покутили месяц. И в одно распрекрасное утро проснулся я с похмелья в Копенгагене - ни красотки Маргариты, ни бумажки в портмоне. Нет, она меня не обкрадывала, все по чести… Просто прогуляли. Хорошо еще, за отель было заплачено, а то бы скандал… Вот и получилось, что в двадцать шесть лет остался я такой же голый и непристроенный, как в девять, когда умерла мать. Правда, я многому был научен, но не тому, что дает человеку кусок хлеба с маслом. Побросал я в кофр костюмы и белье, собрал с полу мелочь, посчитал - на завтрак с пивом хватит. Но я уже отвык медяками расплачиваться, а главный ужас - что же делать? Воровать? Но на это тоже уменье нужно. Грабеж я презираю. Можно, конечно, наняться подметать улицы, собирать с асфальта совочком собачье дерьмо, как черномазые и алжирцы. Но это совсем не по мне, лучше уж удавиться на галстуке в уборной. Сдал я номер, спустился с кофром вниз. Портье глазам не верит: прибыл постоялец неделю назад, как миллионер, а сейчас сам свой кожаный сундук тащит. Этот портье был замечательный человек, я его на всю жизнь запомнил. Одним словом, чутье мне подсказало, что надо поделиться с портье своей бедой, что он может выручить. Когда тот освободился, я попросил уделить мне пять минут. Он провел меня в темную, без окон, комнату для отдыха. Корчить из себя аристократа я не стал, вывалил все как есть, и портье не удивился. Думал он ровно столько, сколько горит спичка, и попросил коротко рассказать, что я делал, как жил раньше. О братстве я умолчал, сказал, что учился в школе, а потом служил в десантных войсках. «В таком случае я дам вам совет, - говорит портье. - Поезжайте в Париж. На улице Мюрилло найдете контору месье Тринкье. Там для вас найдется подходящая работа». Я объяснил, что у меня даже на дорогу нет. Но он решил вопрос просто. Так как с кофром, по его словам, тащиться туда не имело смысла, лучше оставить на сохранение ему, а он даст мне немного денег на дорогу и на пропитание. Добрый был человек, этот портье, но он не прогадал: кофр был у меня - первый класс и совсем новенький. Прибыл я в Париж, нашел улицу Мюрилло, нашел контору, только это была не контора, а вербовочный пункт, а месье Тринкье оказался полковником в отставке. А набирали они людей для войны в Катанге, по заданию Моиза Чомбе. Этот черномазый проходимец собирался заграбастать все Конго, ему нужны были хорошие солдаты. Своих он не имел, приходилось нанимать за деньги. Я им подошел по всем статьям. Условия для меня были самые великолепные: в переводе на марки две тысячи в месяц - счет я попросил открыть в швейцарском банке, - плюс страховка на случай ранения шесть тысяч. Меня включили в отряд, которым командовал Боб Денар, и скоро я увидел, что это командир - лучше не надо. Вообще ребята подобрались крепкие, большинство - бывшие служаки вроде меня, но я был самый молодой. Боб Денар Африку знал - он когда-то был комиссаром колониальной полиции в Марокко, так что нам, кто попал под его начало, можно сказать, повезло. А после я познакомился и подружился еще с одним славным человеком - Марком Госсенсом… Мы с ним много чего сотворили в этом чертовом Конго. Жаль, он потом погиб в Биафре… Да и не он один. Большие деньги даром не даются, за них кровь требуется… Я сначала попал в личную охрану Чомбе, и стрелять долго не приходилось. Он хитрый был и осторожный, но, по-моему, глуп, как страус. Важную персону из себя корчил. Надует щеки - блестят, как начищенный сапог, на солнце зайчики пускают. Черный-то черный, а жар хотел белыми руками загрести… В тот раз шла какая-то возня между политиками. Моиза все хотели уговорить, чтобы он успокоился. Больше всего интересов в Конго имела бельгийская компания «Юнион миньер». Золото, уран, алмазы качали оттуда, как говорится, денно и нощно. Чомбе, когда до власти дорвался, тоже себя не обижал, хватал сколько мог. Иначе откуда бы у него такие деньги - целую армию содержать? Наши, из Европы, кто вместе со мной прибыл и раньше, верили только европейцам и держались друг за друга, потому что местные вояки, служившие Моизу, были ненадежные, им и сам-то Моиз не доверял. До конца шестьдесят второго года прокантовался я спокойненько в Элизабетвиле. Кормежка приличная, хочешь выпить на досуге - пожалуйста. Зарплата на твой счет в банке регулярно поступает - казначей не обманывает, копии переводов аккуратно вручает. Но потом за Чомбе всерьез взялись. У Тан, новый секретарь ООН, нагнал в Катангу голубых касок, и нам очень кисло пришлось. Первый раз стрелял я по живым людям, когда Моиз Чомбе перебрался, чтобы не попасть в плен, в маленький городок, где были медные рудники. Нас окружили, и приказ от Боба Денара был - отстреливаться до последнего. Чомбе ждал транспорта, чтобы смыться, а мы держали оборону. Мы хорошо отбивались. Правда, противник в лобовую атаку не лез, но страху лично я натерпелся. Спасибо Денару, он сумел нас, оставшихся в живых, вывести из кольца - оно в одном месте разомкнуто было. Чомбе улизнул в неизвестном направлении, а мы, разбившись на группы, целый месяц продирались сквозь джунгли… Откровенно говоря, не могу вообразить, как бы я снова сумел совершить такой поход. Но молодость все вытерпит. В тот раз вынес я из джунглей всего одну царапину - укололся плечом о какую-то колючку, после нарывало, и остался след, как от прививки оспы. Когда в лесу разделились на группы, Денар сказал, что всякий, кто вернется в Европу, сможет разыскать его, если понадобится, в Париже, в ночном кабаре «Черный кот». Мы с Госсенсом в конце концов добрались до Дакара. Чего это стоило - не расскажешь. В Дакаре мы устроили сами себе карантин, чтобы немного очухаться. Отмылись, оделись по-европейски. Дождались, пока из Швейцарии не перевели деньги, а потом он - в Бельгию, я - в Париж. Теперь-то я ученый был, деньги зря не мотал. Гульнул немного, и шабаш, сел на диету. Слова Денара насчет кабаре «Черный кот» я всегда помнил и изредка туда наведывался. И однажды мы там встретились, и он шепнул, что наклевывается крупное дело - на сей раз, кажется, все будет обставлено намного солиднее и протянется дольше. База и заказчик тот же - Моиз Чомбе. Я просил Денара иметь меня в виду. Повидался и еще с одним из наших. Тот приглашал с собой в Мадрид, к Майку Хору, который формировал свою команду, но я отказался, потому что о Майке я слышал и он мне не нравился. Хор - полковник из Южно-Африканской Республики. Он тоже на Чомбе работал, но под его началом мне служить не хотелось. Его недаром в Африке называли «бешеным Майком». Он из идейных, хотя денежки любит не меньше других. Майк считал себя главным борцом против коммунизма, а меня от этих одержимых тошнит. Они от крови пьянеют, а у меня характер другой. Люблю чистую работу. Если кто-нибудь хочет, чтобы я подставил свою грудь под пулю или стрелял вместо него - пусть платит, а идеи оставит при себе, гарнир из лозунгов я не ем… В общем, завербовался я к Денару, ему можно было верить и служить, а про идеи он не распространялся. Насколько понимаю, обстановка в Конго была тогда для Чомбе очень выгодная. Там раздоры шли, а он грозился установить твердую власть. Во всяком случае, нам, наемному войску, он жалованье платил действительно твердое, и ставки были выше, чем год назад. И набралось нас, белых, гораздо больше. В Мадрид мне все-таки пришлось попасть, потому что там назначили пункт сбора. Из Испании в Конго переброска велась самолетами. Организовано все было четко, как по расписанию. Чьи были самолеты - не интересовался. Наш транспорт сел на столичном аэродроме сразу вслед за личным самолетом Чомбе. Моизу там устроили пышный прием. Разместили нас кого по казармам, кого по частным домам, и началась гульба. Народец подобрался пестрый, были и уголовники, даже знаменитые, например Карл Шмидт по кличке Мини-Шмидт. В нем росту всего сантиметров сто пятьдесят пять, от силы сто шестьдесят, но мал, да удал. Про него легенды ходили. Он сумел на пару с помощником угнать из-под носа у охраны два грузовика с оружием и патронами, и не где-нибудь, а в Западной Германии, и потом кому-то продал эти грузовики вместе с содержимым. Говорили, заработал колоссальные деньги. Полиция выписала ордер на его арест по-немецки, по-английски, по-французски и по-испански, а он от всех полиций улизнул. Его черта с два и найдешь - маленький очень… Однажды нас, четыре взвода, подняли ночью по тревоге и на транспортерах перебросили километров за сто от Элизабетвиля. Там ребята из отряда Майка Хора попали в осаду, требовалось их выручить. Ну, мы дали черномазым как надо. Две деревни спалили. Семерых повстанцев повесили. А перебили человек сорок. Тогда я первый раз увидел человека, которого ранили стрелой в грудь, нашего, белого. Не хотел бы быть на его месте… За полтора года много чего навертелось. На войну это мало было похоже. Скорее на облаву. То они, черные, на нас наскочат, то мы их подловим. Но, видно, Моиз Чомбе не очень-то умел вперед глядеть. Да и откуда ему было уметь? Он ведь до того, как в правители попал, в Элизабетвиле вшивенькой коммерцией промышлял, мелкая сошка. Золота и алмазов он наворовать при первой авантюре успел и при второй не терялся. Но для того чтобы такое громадное государство в узде держать, мозги иметь надо. В октябре шестьдесят пятого опять пришлось нам драпать из Конго. Против Чомбе все время борьба шла, но несогласованно, и к тому же он сильную поддержку имел от тех, кому такую сволочь выгодно было держать у власти. Наконец нашелся генерал, который собрался с духом и сверг Чомбе. Это был генерал Мобуту. Слава аллаху, в шестьдесят пятом через джунгли пробираться не пришлось. Организованно отбыли на самолетах в Испанию. И командиры сказали людям, чтобы те, кто захочет снова вернуться в Конго под знаменем Чомбе, держали связь с вербовочными пунктами, которые будут открыты во многих городах: в Риме, Париже, Брюсселе, Льеже, Женеве, Бордо, ну и, конечно, в Мадриде и Лиссабоне. А кто окажется в Родезии или ЮАР, то и там найдет вербовщика, когда пожелает. Бешеный Майк на пенсию пока не собирается. Месяца два я жил в Мадриде тихо-спокойно, девушка у меня была не хуже Маргариты, да и не такая пьяница. Компанию водил исключительно с нашими, из коммандос. У всех такое настроение, что не сегодня завтра нас опять позовут, поэтому держались дружно. Тогда я и познакомился с Гейзельсом и Франсисом Боненаном. Эти были не нам чета - хитроваты, таких под пули в джунгли не погонишь. Кому как, а мне они не понравились. Но Гейзельсу, врать не буду, должен сказать спасибо. Он мне сильно помог, пристроил к делу. Пройдоха Боненан втерся к Моизу в доверие и знал все его планы. Незадолго до Рождества сошлись мы большой компанией в номере у Гейзельса обсудить положение. И Гейзельс сообщил, что в ближайшее время, то есть в шестьдесят шестом году, нам на работу в Африке рассчитывать нечего. Так ему сказал Боненан, а тому можно было верить. Приуныли мы. Год, конечно, можно и пересидеть, но денежки-то текут, а за простой никто не платит. Когда расходились, Гейзельс меня задержал. Чем я ему понравился, трудно было понять. Но он без всякой корысти выразил желание мне помочь. А может, его корысть состояла в том, что ему был сделан заказ на парня вроде меня и он получал за это комиссионные. Точно утверждать не буду, но Гейзельс не из тех, кто упустит возможность заработать. Короче, он дал мне адрес и записку к человеку по имени Алоиз и объяснил, что у него на службе я при известном старании смогу обеспечить себе приличную жизнь. После я понял, почему Гейзельс выбрал именно меня. Я успел приобрести репутацию самого меткого стрелка и никогда не терял спокойствия. А это у нашей бражки ценилось. Все бы хорошо, да только адрес у этого самого Алоиза был не очень подходящий - Нью-Йорк. Зайцем туда не полетишь, не поплывешь, платить надо. И неизвестно, может, зря протрясешься. Засомневался я, опять пошел к Гейзельсу через неделю, а он меня увидел и говорит: «Ты еще здесь?!» И объяснил, какой я дурень, что до сих пор торчу в Мадриде, тогда как уже мог бы делать под руководством Алоиза доллары. Умеет он убедить… Мы, правда, как-то упустили из виду, что для поездки в Штаты на длительный срок нужна специальная виза, но Гейзельс взялся все устроить. И действительно, через несколько дней у меня было разрешение на въезд в Штаты с правом пребывания на полгода и с последующей возможностью продлить срок, если пожелаю. В начале марта я прилетел в Нью-Йорк. По адресу, который дал мне Гейзельс, нашел небоскреб на Манхэттене, весь набитый офисами и бюро. Алоиз оказался солидным человеком лет пятидесяти. Он сидел в комнате за двойными дверьми. На двери - номер из серебристого металла и табличка: «Адвокат». В кабинете стол и два кресла и больше ничего. Алоиз прочел записку Гейзельса - там по-английски было написано, что ее предъявитель, то есть я, - тот самый парень, который нужен Алоизу. Так мне еще в Мадриде сам Гейзельс объяснил, потому что читать по-английски я не умею. Разговор немного понимаю - шкипер все-таки целый год меня учил, кое-что запомнилось, а читать и немецкие-то книги или газеты особенно некогда было. Но проблема с языком сразу отпала, потому что Алоиз говорил по-немецки как настоящий немец. Ни о чем не спрашивая, он дал мне ключ от квартиры, написал на листке из блокнота адрес и растолковал, как туда проехать. Предупредил, что больше я никогда не должен появляться в его офисе, сказал, чтобы я поселился в этой квартире, обжился, а он скоро меня навестит. Потом вырвал из блокнота лист, посадил меня в свое кресло, дал авторучку и попросил написать расписку, что я получил сто долларов. Пока я писал, он отсчитал сотню пятидолларовыми бумажками. Не нравилась мне эта процедура с распиской, но капризничать не приходилось - ведь я к нему пришел, а не наоборот. Вручив деньги, Алоиз сказал, что лучше было бы дать однодолларовыми бумажками, но таких у него нет. Я удивился, и он объяснил, что, во-первых, от меня за милю пахнет иностранцем, а во-вторых, сразу видно, что я не из богатых, поэтому чем мельче купюры, тем мне более к лицу. Сказал бы он такое в Конго, я бы из него решето сделал, но разговорчик-то происходил в Нью-Йорке. А вообще Алоиз был прав. От американцев я заметно отличался. И загар африканский с меня еще не сошел. «Впрочем, - сказал Алоиз, - ты можешь выдавать себя за фермера с юга. У них, - говорит, - тоже вот такие физиономии: лоб белый, а остальное - как у мексиканцев». Мы в Африке пробковые каски от солнца носили, поэтому у меня действительно половина рожи как сметана, а половина черномазая. Шляпу в городе снимешь - глядят, как на клоуна. Я к тому о загаре распространяюсь, что из-за него-то едва и не влип на первом же деле. Потом Алоиз вынул из стола фотоаппарат, поставил меня к светлой стенке и сделал несколько снимков. Подробности жизни в Нью-Йорке рассказывать неинтересно, скажу только, что поместил меня Алоиз в однокомнатной квартире, с холодильником, с телефоном. На третьем этаже огромного старого дома по соседству с Гарлемом. Дня через три он заехал ненадолго вечером. Спросил, умею ли я водить машину. Это я умел. Он сказал, что в моем распоряжении будет «Форд», не новый, но вполне на ходу. Только одно условие: к дому я на машине никогда не должен подъезжать. Чтобы жильцы не видели меня в машине. Значит, я должен ее парковать где-нибудь подальше, лучше на западной окраине. Алоиз снабдил меня схемой нью-йоркских улиц и загородных автострад, чтобы я как следует ее изучил. А под конец положил на стол мои водительские права. Неделю я осваивался с машиной и с уличным движением. Нудная работенка. Но зато когда вырвешься из города на какую-нибудь скоростную автостраду - уже удовольствие, особенно для того, кто любит быструю езду. По указанию Алоиза я съездил в одно местечко, километрах в двухстах от города. Там лес большой, по опушке идет дорога, а залесом перед речкой - большой овраг. В тот день, когда я туда ездил, уже после возвращения, Алоиз пришел ко мне и принес в чемоданчике тяжелый длинноствольный пистолет с глушителем. Я таких раньше в руках не держал. Алоиз предупредил, чтобы я брал его только в перчатках. Тут у нас впервые зашла речь о моих обязанностях и о его обязательствах. Он не юлил, выложил все как есть. Я должен отправить на тот свет незнакомого мне господина - Алоиз обязуется уплатить три тысячи долларов. Просто и ясно, как апельсин. Все, что называется подводом, то есть необходимые сведения об этом господине, Алоиз брал на себя. Пока мне полезно съездить в тот овраг и пристрелять пистолет. По утверждению Алоиза, эта пушка способна пробить человеческий череп со ста метров. Он дал мне под расписку еще двести долларов и сказал, что они в мой гонорар не входят. Вроде дополнительной платы за вредность профессии… Ну, смотался я в овраг, нацепил на куст бумажку и расстрелял две обоймы по девять патронов. С разных дистанций. Бой у пистолета оказался отличный, мушку ни вправо, ни влево двигать не пришлось, ни поднимать, ни укорачивать. Только прикоптил ее немного, чтобы не отсвечивала, и из восемнадцати всего одна пуля мимо мишени, когда я не с локтя стрелял на сто шагов. Вскоре Алоиз показал мне моего клиента. Мы сидели в машине, а он вышел из какого-то административного здания, облепленного вывесками и табличками. Его сопровождал насупленный чернявый парень моих лет, по виду - боксер. Алоиз сказал, что это шофер и телохранитель. Клиента я хорошо запомнил и в лицо, и фигуру тоже. Мне показалось, что он очень похож на Алоиза. Да так оно и было… Клиент сел в свою машину на заднее сиденье, телохранитель - за баранку… Алоиз дал мне адрес любовницы клиента, где он бывает раз в неделю, по четвергам. Перед тем как сделать дело, мне надо провести тщательную рекогносцировку, наметить удобную позицию и пути отхода. Все это - по моему собственному выбору, но одно условие нужно соблюсти обязательно: я брошу свою машину недалеко от места происшествия и оставлю в ней водительские права на имя Ричарда Смита. Права эти, совсем новенькие, как и мои, Алоиз сунул в карман на тыльной стороне спинки моего сиденья. Алоиз, между прочим, когда являлся ко мне, всегда был в перчатках. А я по его требованию без перчаток не садился за руль… Да, пистолет я тоже должен был оставить в машине… Гонорар Алоиз обещал принести наутро после исполнения, но я потребовал гарантий. Он ведь мог меня и надуть. Неприятный разговорчик произошел тогда. Алоиз все твердил, что мне же известен его офис. Куда он, мол, денется. Но не это меня убедило. Знаю я, как оно бывает… Сегодня сидит человек в кабинете, а завтра приди - там другой. «Кто такой мистер Алоиз? Здесь нет и никогда не было мистера Алоиза! Вы ошиблись адресом». Он справедливо сказал, что, когда я к нему явился, он мне поверил, в зубы не глядел. Ему достаточно было рекомендации Гейзельса, и если я считаю возможным иметь дело с Гейзельсом, с какой стати мне подозревать в нечестности его, Алоиза? Это он правильно говорил, я ему поверил. Ты спрашиваешь, не боялся ли я идти на убийство? Не мучился? Совесть и прочее? Смотря что считать боязнью… Страшно было влипнуть, ясно. Но бояться нужно было больше этому господину, которого я не знал даже, как зовут, и про которого Алоиз, для того, кстати, чтобы моя совесть не слишком страдала, сказал, что он очень, очень плохой человек, по нем даже не вздохнет никто, а все будут рады увидеть его в гробу. Вот я заодно и насчет совести объяснил, но если этого тебе мало, скажу еще вот что. Убивать одних по просьбе других - это же моя профессия, я к тому времени уже три года только тем и зарабатывал. Получается, что совесть здесь ни при чем. А три тысячи долларов на дороге не валяются. В Африке за такие деньги надо три месяца потеть. А тут один выстрел… Нет, про совесть не будем рассуждать. Банкиры же спокойно спят, правда? У богачей аппетит хороший? А чем они лучше меня? Сами стрелять не умеют? Так за них стреляем мы. Вся разница… О совести пусть пекутся попы и монахини, а нам жить надо. В общем, поехали дальше. Или тебе надоело? Не надоело? Тогда попивай винцо и слушай. В первый раз в своем прошлом копаюсь, даже самому занятно… Поехал я на рекогносцировку. Картинка такая: дом, где жила милая моего клиента, стоит на тихой стрит, ширина проезжей части метров пятнадцать, да тротуары с двух сторон - метров шесть. Напротив - точно такой же десятиэтажный дом во весь квартал. Эту стрит пересекает широкая авеню, на которой движение оживленное. До угла - сто метров. На углу - закусочная в полуподвальном помещении. Парковаться можно на платной стоянке чуть дальше закусочной по авеню. В первый же четверг я установил, что клиент паркуется на этой стоянке. Телохранитель проводил его до подъезда, а сам пошел в закусочную. Это было в семнадцать ноль-ноль. Ровно в девятнадцать телохранитель был у подъезда, и прямо тут же ему навстречу появился из парадного клиент. Видно, очень деловой человек, все расписано по секундам - когда ковать деньги, когда любить. С таким не соскучишься… Все это хорошо, плохо другое: огневой позиции в доме напротив, чтобы стрелять из окна, не было. Там лифт, лестничной клетки нет. Запасная лестница выходила во двор. Но я подумал: раз Алоиз все равно велел бросить машину неподалеку и если клиент, на мое счастье, свой «Паккард» ставит отсюда за сто пятьдесят метров, то можно стрелять из автомобиля. Так и решил, хотя при этом варианте надо было считаться и с телохранителем. Он по мне тоже может выстрелить. Но шансы у нас неравные. Я все-таки буду в машине. Одно затруднение ликвидировать я не мог: дело происходило в марте, на этой улице даже и в солнечный летний день, наверное, бывало темно, а сейчас в семь вечера фонари еще не зажигали, и за десять шагов не разберешь, кто по тротуару идет - мужчина или женщина. В квартирах свет горит, но окна зашторены плотно, а реклам никаких нет. Но я на свое зрение надеялся, а для уверенности купил бутылочку рыбьего жира, целую неделю пил - помогает глазам в темноте, это меня еще шкипер на Рейне научил. По всем расчетам, мне надо стрелять минимум два раза, хотя пули и разрывные, попади в любую точку корпуса - человеку крышка. Но если клиент уже ученый, он обязательно после первого выстрела ляжет, попали в него или не попали. Стало быть, второй выстрел, по лежачему, для страховки необходим. Третий тоже не исключен, потому что телохранитель секунды через три сообразит вытащить свою пушку. Но я надеялся на темноту, да и «фордик» у меня был черный. Не хотелось бы трогать телохранителя, он-то наверняка наш брат, из тех, кто стреляет за других… Все я вроде расписал как по нотам, оставалось дождаться следующего четверга, потому что тянуть я не люблю. И все бы гладко и сошло, если бы не мой африканский загар, вернее, если бы я о нем не забыл. А главное, Алоиз меня предупреждал. Да и не ошибка это, а просто штука в том, что, когда идешь на такое дело, надо глядеть не на неделю вперед, а немного дальше. Никаких правил я не нарушил, а просто два раза зашел в закусочную на углу поесть. Ничего там не пил. Только пожевал. Но когда жевал, то шляпу снимал. А без шляпы я приметный. Каждому известно: заставьте трех разных свидетелей рассказать об одном и том же происшествии - такой винегрет получится, что сам папа римский не разберется. Но мою клоунскую рожу семь человек одинаково запомнили и описали, а все из-за проклятого загара. Настал тот день, тот четверг. Без четверти пять я притопал пешком на угол, зашел в закусочную, взял чашку молока, сел к окну. Точно в семнадцать прошел клиент с телохранителем. Я допил молоко и отправился за машиной - далеко ее оставил, минут сорок ходьбы. Надел перчатки, сел за руль, покурил, достал из чемоданчика пушку, дослал патрон в патронник и спустил предохранитель, чтобы не забыть в последнюю секунду - знаешь, как иногда фотографы забывают снять крышечку с объектива. И поехал кататься вокруг по довольно пустынным в этом районе стритам. К углу, где закусочная, я прибыл без двух минут семь. Притормозил, вижу - телохранитель наискосок переходит улицу. Дал ему пройти метров тридцать и тихо так ползу следом. Стекло правой дверцы было у меня опущено. Все произошло по расписанию. Стрелял я метров с пяти, целил в грудь. Клиент упал на тротуар, как переломился, сторож его ничего не понял, растерялся, потому что выстрела не слышал - у моей пушки такой тихий звук был, похоже, как будто камешек в воду бросили - тиньк… Второй раз стрелять не стал, нажал на акселератор, рванул вперед до следующего угла, завернул, тут же - стоп, машину запер и резвым шагом до подземки - там недалеко было. Пистолет я оставил под сиденьем, на полу. Через час я был дома. Выпил сразу полбутылки виски, принял душ, допил и лег спать. Утром распечатал другую бутылку, опохмелился и стал ждать Алоиза. Он пришел, когда стемнело. Сначала ничего не говорил, кинул на стол в кухне конверт с деньгами, посидел, пока я считал, а потом достал из-под плаща сложенный лист, вырванный из газеты, расстелил его, ткнул пальцем в фото, на котором была знакомая мне сцена: на тротуаре клиент лежит, над ним стоит телохранитель. Только странно мне показалось, что он в аппарат смотрит, а рукой в живот своему хозяину тычет. Не сразу дошло, что это он уже после полицейским, наверное, показывал, как все случилось. Все правильно, говорю я Алоизу, так оно и было. А он говорит: читай, дурак. Я объясняю, что читать по-английски не умею. Тогда он сам прочел. Под фото были написаны неприятные вещи. Крупным шрифтом выделялись слова насчет того, что за два часа до убийства в закусочной видели человека со странным лицом: лоб белый, остальная часть очень темная. Пятеро постоянных посетителей закусочной, кассирша и раздатчица молочных продуктов утверждают, что человек этот вызывал неопределенные подозрения своим поведением, но чем именно - не сообщалось. Раздатчица и кассирша сообщили также, что подозрительный субъект посещал закусочную несколько раз в последние две недели перед трагическим происшествием - это они не врали. Непонятно мне было только, чем я мог вызвать подозрения, кроме загара. Я спросил у Алоиза, что там сказано про убитого. Он разозлился, потому что мне не о том думать теперь надо, но все же сказал, что пострадавший содержал какую-то посредническую контору, в прошлом привлекался к суду по делу нелегальных игорных домов, но за недоказанностью обвинения оправдан. Да, Алоиз был, как всегда, прав: мне нужно было думать о собственной безопасности. Водительскими правами и машиной, а может, и пистолетом он пустил полицию по следам неизвестного мне Ричарда Смита, но куда я сунусь со своей приметной рожей? Еще слава аллаху, что перед соседями никогда шляпу не снимал… Дело обернулось так, что Алоиз видел один выход: я должен исчезнуть из Нью-Йорка и вообще из Штатов. Договорились, что он доставит в квартиру запас продуктов на неделю, чтобы я из квартиры носа не высовывал. Тут же и смотался в магазин, притащил коробку с разными консервами. А пока ходил туда-назад, ему неплохая мысль в голову пришла: попробовать свести мой загар какими-нибудь средствами. Но это еще требовалось проверить, есть ли такие средства. Я куковал два дня на консервах. Наконец является Алоиз, выставляет на стол два флакончика - в одном белая жидкость, густая, как сливки, в другом голубоватая. Это его одна знакомая дамочка научила. Черт его знает, что это были за снадобья, во всяком случае, пахли приятно. Втирал я их по три раза на день, морду щипало, думал, протру шкуру до дыр. И представь, через неделю посмотрелся утром в зеркало - розовенький такой бутончик, поросеночек из-под свинки. Чудеса косметики! Двадцать шестого марта я улетел в Мадрид. Алоиз, конечно, меня не провожал. Мы простились, когда он привез мне билет. Расстались большими друзьями, он признался в своем великом уважении ко мне, а я признался в уважении к нему. Алоиз высказал надежду, что наши отношения на этом не прервутся, а, наоборот, будут крепнуть. Просил меня завести в Мадриде личный почтовый ящик, чтобы он мог в случае необходимости послать мне депешу. У него были предчувствия, что мои услуги могут понадобиться еще неоднократно. Ну я-то всегда готов, я солдат, завербованный его величеством долларом, а также ее величеством маркой, а также его превосходительством фунтом, и избавь нас господь от ее преподобия итальянской лиры, ибо считать до миллиона не умею, а приземлись я не в Мадриде, а в Риме и обменяй доллары на лиры - сразу стал бы миллионером. А итальянским миллионером я быть не хочу. Дружки мои в Мадриде лапу еще не сосали, но порядком порастряслись и потому с нетерпением ждали трубного гласа. Я кое-кого угостил, расспросил. Гейзельса тогда не нашел, но там другие были, вхожие к Моизу Чомбе, вернее, к Боненану, и хорошо осведомленные. Ходили слухи, что катангский коммерсант обязательно хочет стать премьер-министром Конго, как будто уже и планы подробные составлены. И этому можно было верить, так как Чомбе, по дурости ли или потому, что был порядочный нахал, свои ближайшие намерения никогда в секрете не держал. Но дни шли, а по тревоге нас никто не поднимал. Я начинал уже подумывать, где бы найти новую работенку, когда получил письмо от Алоиза. Это было в начале мая; уже наступала жара, и очень кстати оказалось его письмо, потому что надоело мне жариться, загорать больше не хотел, тянуло куда-нибудь посевернее, а Алоиз приглашал на свидание в Цюрих, где он собирался быть транзитом. Мою дорогу он оплачивал, так что я ничего не терял. Я послал телеграмму: согласен. Седьмого мая мы встретились в цюрихском аэропорту. Алоиз летел дальше - не то в Стамбул, не то в Багдад, у него было всего два часа свободных, и мы провели их в старом темном ресторане неподалеку от железнодорожного вокзала, там столик от столика отделен деревянными перегородками… Но нам хватило для разговора и тридцати минут. Задание было такое же - убрать человека. Я настроился поторговаться, но Алоиз сам назначил более высокую плату, чем первый раз, - пять тысяч долларов. Дорога в оба конца - его, и еще триста на мелкие расходы. Две с половиной он выложил тут же как задаток, другую половину - когда исполню и вернусь. Грех было отказываться. Он показал мне портрет пожилого человека. Лысина большая, глазки маленькие, лоб в морщинах, нос толстый и длинный, как баклажан, губы закрывает. Не чересчур симпатичный, в общем. С ним можно было все разыграть как и с первым, но Алоиз боялся повтора, потому что тогда для полиции уже возник бы определенный почерк, а это нежелательно. Раз есть почерк, можно сравнивать и сопоставлять разные там причины и следствия, глядишь, до чего-нибудь и докопаются. Так объяснял мне Алоиз. Значит, метод должен быть другим. Но мне нравилось то оружие, которое нам верно послужило с первым моим клиентом, и Алоиз сказал, что пистолет опять можно использовать такой же и он у него имеется, но все остальное, то есть обстоятельства, нужно придумать по-новому. Никаких отвлекающих штучек - вроде прав на имя Ричарда Смита - он мне обеспечить на сей раз не сможет, значит, уже не похоже на случай с первым клиентом. Для меня это было хуже, но подвод Алоиз дал первоклассный. Я запомнил распорядок дня нового клиента, Алоиз нарисовал расположение его загородного дома, откуда он в восемь утра отправлялся на работу в город и куда возвращался каждый вечер, задерживаясь иногда часов до двадцати двух, но не позже. Алоиз велел перерисовать этот план, я перерисовал, а свой листок он сжег в пепельнице. Потом он дал мне ключи от квартиры в Нью-Йорке и назвал ее адрес - это была не та квартира, где мне пришлось вытравлять прошлый раз загар с лица. Алоиз сказал, что я найду там пистолеты двух разных систем и могу воспользоваться любым, по выбору, а кроме того, в шкафу на кухне есть три мины с часовым механизмом. Мины миниатюрные, но большой взрывной силы. Одна в виде коробочки с ваксой для ботинок, а две другие сделаны под игрушки, какие вешают в автомобиле перед ветровым стеклом, - обезьянка и Микки-Маус. Алоиз подробно растолковал, как ставить мины на боевой взвод и включать часовые механизмы. При желании с помощью тонких проводов, которые тоже лежали в шкафу, их можно законтачить, скажем, на акселератор или на тормоз. Алоиз упомянул, что у клиента две машины, и в одной висит Микки-Маус, а в другой - обезьянка. Мне же придется взять автомобиль напрокат. Да, он еще предупредил, что пистолеты пристреляны, целить надо под яблочко. А главное условие состояло в том, чтобы я управился за десять дней - ровно столько он будет отсутствовать в Штатах. Вот такой предусмотрительный попался мне наниматель. Лучше не бывает… Следующая встреча, значит, через десять суток в этом же ресторане, и я получу остальную часть гонорара. Он улетел на восток, а я тем же вечером - на запад, за океан. Паспорт у меня был в полном порядке, таможенный досмотр меня не страшил, перед ними я чист. Чтобы не тянуть резину, скажу сразу: минами я не воспользовался, а пристрелил клиента у него дома, из пистолета. Вечер был душный, он вышел на веранду, включил свет, сел в кресло-качалку, положил газету на колени, надел очки. Я стрелял из-за угла соседней виллы - она пустовала. Пуля попала ему в лицо, и он сделался белый, как рубашка. А на стене позади него большое красное пятно образовалось - с велосипедное колесо. Пуля-то разрывная… Так он и остался сидеть, отвалившись на спинку кресла. Я спокойно уехал, сдал прокатный «Кадиллак» хозяину, оставил в квартире пистолет - и в аэропорт. Быстро обернулся, два дня пришлось Алоиза в Цюрихе дожидаться. Жалел, что не прихватил тот пистолет - замечательная машина. Но можно было нарваться в аэропорту, рискованно… Алоиз рассчитался честь честью. О происшествии он уже знал, а откуда - неизвестно. Об этом случае газеты почему-то не писали. Наверное, ему кто-то из Нью-Йорка сообщил. Я тогда подумал, что у него и контроль налажен. И впервые любопытство меня разобрало: кто он такой есть, этот Алоиз? Но спрашивать человека вот так прямо - мол, скажи, пожалуйста, что ты за гусь? - было бы невежливо. Он хорошо платит - этого достаточно. За три месяца я заработал восемь тысяч долларов. Служба у Чомбе казалась мне теперь напрасной тратой времени. До мая шестьдесят седьмого года я получил от Алоиза еще несколько заданий. Одно пришлось выполнять без пистолета, можно сказать, голыми руками, а мне это противно. Да чего-то и перемудрил, по-моему, Алоиз в тот раз. Ему обязательно требовалось так обставить дело, чтобы клиент вроде бы сам упал и ударился о ступеньку крыльца. Пришлось глиняный слепок ступеньки добывать, потом Алоиз доставил мне железный уголок, и вот этим уголком ударил я старика в висок… Было это недалеко от Парижа… Нет, лучше без таких штучек работать… Мне после старик целый месяц снился, хоть иди свечку ставь… Но прошло… Все проходит… Да-а… А потом мы с Алоизом разошлись. Это целая история, и я до сих пор не разберусь, правильно я поворот сделал или поспешил, прогадал или выгадал. Может, и прогадал, но очень уж соблазнительная подвернулась комбинация… Если тебе не надоело, могу рассказать. Не надоело? Ну, так слушай… В мае шестьдесят седьмого, когда у нас в Мадриде уже точно было известно, что вот-вот начнется отправка в Конго - уже мы и зарплату за месяц получили, - приходит мне вызов от Алоиза. Ну, я уже привык, что если он приглашает, значит, все подготовлено, больше двух недель не задержусь. Отправка раньше июня вряд ли начнется - это мне удалось разузнать. В общем, лечу в Нью-Йорк. Опять, как всегда, квартирка в старом доме, где половина жильцов - эмигранты. И без дела не высовываться. Алоиз сам приходит, дает инструкции, а тебе остается только ждать сигнала. Ну вот, настает день, Алоиз показывает мне живого клиента, которого я обязан сделать мертвым, сообщает его расписание жизни, маршруты езды и прочее, снабжает оружием. И назначает крайний срок. А на следующее утро - я как раз брился в ванной - раздается звонок: кто-то просится в квартиру. «Кто бы это?» - думаю. У Алоиза есть ключи, да и не в его правилах ходить по утрам. Решил не открывать. Снова звонок, длинный, настойчивый. Мне стыдно стало, что я затаился и даже не дышу. Пошел открывать. В первый момент, когда распахнулась дверь, я решил - все, тут тебе и крышка. Глупое положение: стою с намыленной рожей, в руке безопасная бритва, а передо мной - кто бы ты думал? Не угадаешь… Телохранитель того первого клиента, брюнет с нахмуренными бровями. И вместо того чтобы получить пулю в лоб, слышу вежливый такой голос: «Извините, можно к вам на минутку?» И так я от неожиданности поглупел, что говорю: «Пожалуйста, прошу вас». Мог бы и поостеречься - может, он при открытых дверях не желал со мной кончать, при закрытых же безопаснее. Но он прошел в комнату первый, я сзади. И начинается разговор. - Меня зовут Мортимер, - сообщает гость. - Я имею дела с тем же человеком, что и вы. Я думаю: за кого он меня принимает? Если сам псих, то я-то пока в своем уме. - Какого человека вы имеете в виду? - спрашиваю. - Алоиза, - спокойно отвечает он. Кто хочешь удивился бы, но я приучил себя никогда рот по-глупому не разевать. - Ну и что дальше? - интересуюсь. - Мне известно, что вы должны организовать для Алоиза, - объявляет он все так же спокойненько. Что прикажете делать, когда вам говорят такие вещи? Я предложил ему сесть и закурить. Закурили. - Так расскажите, что же я должен организовать? - прошу я. Мортимер вежливо и совершенно правильно излагает задание Алоиза. - Кто же вы такой? - спрашиваю. - Я тоже работаю на Алоиза, - отвечает Мортимер. - Этим все сказано. Но у меня одно с другим как-то не вяжется. Он ведь был телохранителем того убитого клиента. Если он работал на Алоиза, зачем было Алоизу нанимать меня и устраивать целый спектакль? Продолжаю выяснять: - А вы давно на него работаете? - Нет, всего полгода. Ага, думаю, значит, просто сменил хозяина. Спрашиваю дальше: - А до него вы у кого работали? Мортимер мог бы и не отвечать или наврать чего-нибудь, но он, видно, пришел не комедии разыгрывать, а по делу. Очень он был серьезный и смотрел из-под бровей. - Раньше я тоже ходил по частному найму, - объясняет, - но немножко другой профиль. - А именно? - Я был охранником, телохранителем. Моего хозяина убили. У меня на глазах. Кто же после этого будет меня нанимать? Это он справедливо рассуждал. И мне понятно стало, что после того случая Алоиз прибрал Мортимера к рукам и заставил служить себе. Все как полагается, как у порядочных людей. Для интереса оставалось только узнать, кем же был его прежний хозяин - из этого можно было построить догадку насчет того, что за тип Алоиз. Вернее, что за персона, какого калибра. Если мой первый клиент был и у Алоиза первым… В общем, если знать масть того клиента, можно и масть Алоиза определить. Тут уже получается целый расклад. - Если не секрет, - говорю, - чем занимался ваш несчастный прежний работодатель? - Всем понемногу, - отвечает Мортимер. - Почему же его убили? - Он мог сделаться конкурентом. - Кому? - Алоизу. - А в чем? Мортимер посмотрел на меня с сомнением - не валяю ли я дурака. Но мне правда ничего не было известно. - Он хотел заняться тем же делом, каким занимается Алоиз. - Адвокатом работать? Теперь я действительно немножко балдой прикидывался. Мортимер пошел в открытую. - Алоиз принимает заказы на убийство, - сказал он, - а такие, как мы с вами, их исполняют. - Понятно, - говорю, - продолжайте. И тут он меня ошарашил - положил на стол ключ. Я спрашиваю: - Ну и что? - Это от вашей квартиры. Можете убедиться. Чем дальше, тем непонятней. Пока я раздумывал, что бы такое сказать, Мортимер решил, видно, все прояснить: - Если я ошибусь, то есть если мы с вами не сговоримся и вы осведомите Алоиза об этом разговоре, мне будет плохо. Но, я думаю, вы все-таки согласитесь на мое предложение. - А что вы хотите предложить? У Мортимера тоже голова не соломой набита была. По виду - боксер, а соображает как профессор. Вот какую комбинацию он разработал. - Я знаю человека, которого вы должны убрать, - сказал Мортимер. - У него много денег, и ему еще нет пятидесяти. Алоиз заплатит вам семь тысяч и мне пять… - А вам за что? - задал я идиотский вопрос. - За вас. Час от часу не легче. - Как это - за меня? Мортимер подбросил ключ на ладони. - Я должен спрятаться у вас в квартире. После того, как исполните поручение. И убить вас. Пистолет у меня есть. Точно такой же, как ваш. Видно, я не очень-то обрадовался, потому что Мортимер посчитал нужным меня успокоить: - Так всегда бывает… Вы не американец, и вы не знаете таких типов, как Алоиз. Сколько поручений вы уже выполнили? - Семь, - отвечаю. Он говорит: - Вот видите. Это очень много. Вы становитесь слишком опасным для Алоиза. Даже если он вас любит, все равно ему необходимо от вас избавиться. Сразу восемь концов в воду. - Считая и этого? - уточняю я. - Да. Он понятно все объяснил, только еще не добрался до главного. Я прошу: - Выкладывайте ваше предложение. Мортимер простенько так объяснил: - Мы предложим этому человеку жизнь и возьмем с него… ну, скажем, двести тысяч. Он уедет куда-нибудь подальше, потому что это не шутки и он все понимает. - А что будет с нами? - Мы тоже уедем. Откровенно говоря, я не мог вот так сразу, в одну минуту, все взвесить. Я думал. - Сто тысяч на брата, - говорит Мортимер. - Посчитайте, сколько от вас потребуется трупов, чтобы заработать такую сумму. Деление и умножение я помнил. Но это тоже не шутка - надуть Алоиза. - А если Алоиз захочет нам отомстить? - говорю я. Мортимер опять объясняет: - Человек, которого вы должны убрать, не конкурент ему. Это простой заказ со стороны. Те, кому он мешает, заказчики, будут довольны его исчезновением. Алоиз потеряет на этом сколько-то тысяч. Вы вернетесь в Европу, я тоже найду себе местечко потише. На нас тратить деньги Алоиз не станет, а сам он стрелять не умеет. - А вы уверены, что этот человек не пошлет нас к чертям собачьим? - говорю я. - Думаю, не пошлет. Одним словом, убедил меня Мортимер, и мы, не откладывая, в тот же день посетили клиента у него дома. Он был один, если не считать прислуги - старой негритянки. Я думал, он примет нас за обыкновенных шантажистов, но, когда Мортимер рассказал ему честно, как обстоит дело, клиент скис и поверил, что мы не только себе добра желаем. Наверно, ждал уже чего-то такого. Он даже захотел убраться из Штатов сию минуту. И хочешь - верь, хочешь - нет, попросил, чтобы один из нас не покидал его. Дело упиралось в деньги - наличных двухсот тысяч у него при себе, конечно, не имелось, поэтому договорились так: он делает необходимые распоряжения банку, чтобы можно было получить деньги в Европе, Мортимер заказывает три билета на ночной самолет, и мы обеспечиваем клиенту безопасность на все время, пока он с нами… Вот такие дела… Расплатился клиент в Роттердаме. Он отправился в Биарриц, где отдыхала его семья - жена и дети. Мортимер подался куда-то не то в Англию, не то в Шотландию, а я вернулся в Мадрид. И как раз успел к отправке. Меня зачислили в отряд полковника Денара, и мы улетели на транспорте в Кисангани. Это была последняя попытка Моиза Чомбе заполучить Конго. Но вышла полная ерунда. Самолет Моиза захватил его дружок Боненан и вместо Конго посадил его в Алжире. Кто ему за это заплатил, не знаю, но наверняка он крупно заработал. Пятого июля мы все же выступили, хотя Чомбе и не прибыл. Шло у нас так, как бывает, когда играешь в карты: сначала все хорошо-хорошо, а потом все плохо-плохо. Там действовал, кроме нас, еще отряд полковника Шрамма. Он и поднял мятеж. А мы его поддерживали. Но что-то в механизме было разлажено. Никакой неожиданности не получилось, солдаты национальной армии встретили нас и дали по всем правилам. Денара ранило, его отправили в Родезию, а нас передали под команду Шрамма. Восемь дней мы дрались в Кисангани, но сделать ничего не смогли. Потом отошли на Букаву, два дня вели бой за город, наконец заняли его, и стало вроде полегче. Жировали мы до октября, а потом Мобуту начал наступать. Если в день десятерых хоронили, это считалось малыми потерями. Второго ноября все было кончено. Мне опять повезло - убежал я с тремя из нашего отряда. Хотя и был ранен осколком снаряда в плечо. Осколок мне ребята выдернули, джином рану промыли - и ничего, обошлось… Зиму провел я в Ницце. Лечился, отдыхал, в Монако наезжал. Рулетка меня, слава аллаху, не затянула, хотя я с первой ставки выиграл, поставил весь выигрыш на седьмой номер - и шарик на нем и остановился. Хапнул я тогда солидно, но сумел перебороть, уехал. После несколько раз пробовал играть, но безуспешно. Проиграл мелочишку и плюнул на это дело. Мог бы я купить какие-нибудь акции или открыть, скажем, магазин, но нет у меня доверия к дельцам и коммерсантам. Лучше уж, думаю, пусть лежат мои денежки в банке, наращивают проценты. Но чтоб они лежали нетронутые, надо на жизнь зарабатывать. Скоро встретил я старого коллегу по Конго, он нацеливался в Португалию - там наемные солдаты требовались. По правде говоря, надоела мне Африка. Если бы куда-нибудь в Южную Америку, было бы интереснее. Но там ничего не наклевывалось. Пришлось согласиться на Португалию. Там мы, конголезцы, ценились высоко. Побывал я и в Мозамбике, и в Анголе, и в Гвинее-Бисау. Ты меня в Африке своими глазами видел. Ну и все. Разболтался я, сам не знаю с чего. Хватит. Дай прикурить». О том, что он уже два года работает на центр, Брокман умолчал. Михаил встал, подошел к окну. Уже наступили сумерки, а света в номере они не зажигали, и улица из окна хорошо просматривалась в оба конца. Михаил увидел, как мимо отеля прошел сухощавый человек - шпик, приставленный к Брокману. Шевельнулась мысль, что, может быть, это посланец Алоиза бродит, как гиена, дожидаясь удобного момента, чтобы куснуть Брокмана за горло. - Ты так и не поинтересовался фамилией Алоиза? - спросил Михаил. - Настоящую его фамилию ты ведь знаешь, - напомнил Брокман. - Сам говорил: с Гофманом вы были дружками. Значит, точно: Алоиз - это Гюнтер Гофман. А присутствие здесь его агента - если только шпик действительно послан Алоизом - давало Михаилу прямую нить. - Ну, какими дружками? - возразил Михаил. - Он был моим командиром. Не уверен, запомнил ли меня Гофман вообще. - Не хочешь ли с ним встретиться? - усмехнулся Брокман. - За мою голову он бы тебе хорошо заплатил. Михаил повернулся к нему: - Зачем же ты тут целых два часа душу передо мной выворачивал, если допускаешь, что продам? - Пожалуй, не продашь. Алоиза тебе не найти. «Твоя голова уже на мушке, дурак», - подумал Михаил. Он смутно чувствовал, что из возникшей ситуации можно извлечь пользу для дела, но еще не знал, как этого добиться.Глава 12 СЛЕД ГОФМАНА
Десятилетиями выработанное правило не позволяло Михаилу делать окончательные выводы на такой зыбкой основе, как однократно поставленный опыт или тем более первое впечатление. Один раз он уже видел, что худощавый субъект, которого Михаил считал шпиком, выслеживает как будто бы не его, а Брокмана. Чтобы окончательно в этом убедиться, надо перепроверить еще самое малое дважды. После обеда, посмотрев в окно и заметив среди прохожих шпика, Михаил сказал Брокману: - Пойду разомнусь немного. - Купи немецкие газеты, - попросил Брокман. Сегодня они не покупали газет, потому что не спускались вниз. Михаил зашел к себе в номер, надел теплую куртку и шерстяную лыжную шапочку, купленные им здесь, в Гштааде. Выйдя из отеля на улицу, он не торопился уходить, так как необходимо было попасться на глаза шпику. Михаил закурил и стоял у подъезда с видом человека, прикидывающего, то ли пойти погулять, то ли вернуться, ибо погода была неприятная, сырая, хоть дождь и снег прекратились еще в полдень и небо очистилось. Наконец шпик медленно проследовал по противоположной стороне, и Михаил заметил, как он метнул на него мимолетный взгляд. Его даже сомнения взяли: неужели это и впрямь шпик? Неужели кто-то мог послать в качестве соглядатая столь неумелого человека? Торчит весь день перед отелем, мозолит глаза. Правда, по этой улице ходит весь наличный людской состав Гштаада, как местные жители, так и приезжие, но, право, нельзя же с таким прямолинейным усердием топтаться на самом виду. Михаил демонстративно быстрым, широким шагом пересек мостовую и ступил на тротуар в тот момент, когда шпик повернулся, чтобы следовать в обратном направлении. Они чуть не столкнулись. Шпик посмотрел Михаилу в лицо и отвел глазки. Михаил пошел за ним, обогнал и зашагал к вокзалу. Чуть ниже отеля улица изгибалась. Михаил миновал этот изгиб и остановился. Шпик за ним не шел. Купив газеты и пройдясь за вокзал, он вернулся и опять увидел худощавого… На следующее утро нога у Брокмана перестала болеть, и он намеревался выйти подышать свежим воздухом. Михаил отказался, сославшись на то, что плохо спал ночью и хочет полежать. Брокман пошел один. Из окна своего номера Михаил наблюдал, как шпик, увидев Брокмана на улице, быстро вошел в их отель, - это было совсем непонятно. Ведь он должен следовать за своим объектом, то есть за Брокманом… Но через несколько секунд все разъяснилось: худощавый появился из отеля в сопровождении человека в кожаном сером полупальто и зеленоватой шляпе. Они направились вправо, туда, где скрылся Брокман. Скорее всего второй коротал время внизу, за стойкой бара, куда ведет коридор с витражами, очень нравившимися Михаилу. Из бара, как узнал Михаил, другой коридор ведет в подсобные помещения отеля, в кухню и к выходу во двор. Вот оно, оказывается, какое дело… Шпик-то не один… Вероятно, второй прибыл вчера или сегодня утром и не знает Брокмана в лицо. Сейчас худощавый покажет его своему напарнику… Михаилу вспомнилось то место из исповеди Брокмана, где шла речь о первом его деле в Штатах и о том, как Алоиз заготовил для полиции ложный след - права на имя какого-то Ричарда Смита, брошенный автомобиль, пистолет, который Брокман брал только в перчатках и на рукоятке которого, так же как и на баранке машины, могли быть ранее оставлены отпечатки пальцев этого самого Смита… Если и тут работает Алоиз, можно ожидать чего угодно. Людям, замыслившим убрать Брокмана, не составит труда разыграть все таким образом, чтобы натравить полицию на его постоянного спутника последних дней. Например, отправится Брокман с Михаилом в горы, там с Брокманом произойдет что-нибудь - под подозрением, естественно, окажется его товарищ. И прислуга в отеле, и многие в городке при необходимости подтвердят, что ни с кем, кроме своего неразлучного спутника, Брокман не общался, нигде не появлялся без него. Все повернулось на сто восемьдесят градусов: человека, которого Михаил собирался покарать за смерть отца, он теперь должен оберегать и ради собственной безопасности, и ради дела. Было ясно, что Монах готовит Брокмана к засылке в Советский Союз. Сопоставив исповедь Брокмана и зондаж Монаха насчет Павла - Бекаса - способен ли он убить человека, - нетрудно было сделать вывод, что Брокман посылается ради какого-то очень важного дела. Можно предполагать, что Монах собирается использовать богатый опыт Брокмана как профессионального убийцы. Значит, Брокман не должен пострадать здесь. Он будет на виду у полковника Маркова. Если тут его уберут, туда пошлют другого, кого он, Михаил, знать не будет. А это уже гораздо хуже… Он не упрекал себя в непоследовательности, чувствуя, что жажда мести испарилась. И причина была в том, что он больше не испытывал к Брокману ненависти, а лишь глубокое чувство жалости и презрения одновременно. Он понимал, что это неуместно по отношению к типам, подобным Брокману. Но таково было воздействие покаянного рассказа Брокмана о той страшной жизни, которая выпала на его долю. Может быть, по разумению иного, это выглядело противоестественно, но Михаил относился к нему после его исповеди даже с сочувствием, и не как к человеку, а как к зверю - собаке или кошке. Ведь если хозяин приучил своего пса со щенячьего возраста кидаться на всякого, кто переступает порог дома, и если пес кого-нибудь в конце концов серьезно покусает, разве винить надо пса? Разве можно зверя привлекать к человеческому суду? Мир, в котором вырос Брокман, сделал его таким, каков он есть. В этом мире каждый добывает себе пропитание тем способом, какой ему доступен. Брокман добывал убийством, и это так же в порядке вещей, как биржевые операции или священное право частной собственности. В сущности, Брокман не грешил даже против своей совести, если, конечно, она у него была, ибо действовал по законам общества, в котором имел счастье жить. Да, по разумению иного, резкая перемена в отношении Михаила к убийце отца могла показаться неожиданной. Но Михаил и сам мог бы пройти по тем же кругам, которые завертели Брокмана, он достаточно долго и близко наблюдал среду, в которой формируются человекоподобные создания, похожие на Брокмана, он на себе ощутил ее растлевающую силу, и потому ему было доступно милосердие к тем, кто по слабости ли характера или по фатальному стечению обстоятельств дал себя сделать слепым орудием злой воли. В сущности, Брокман лишь возвращал миру то, что получил от него. Сказано же: и воздастся тебе… Библейские истины как палки - всегда о двух концах… Ханжи-моралисты, мнящие себя выразителями и хранителями духа свободнейшего, христианнейшего, благолепнейшего на земле общества, восстанут против такой трактовки, но Михаил хорошо знал настоящую цену проповедям апостолов, которые оплачиваются по той же графе, где числятся расходы на рекламу. Он знал, что прав… Михаил, стоя у окна, увидел возвращающегося Брокмана. Он чуть прихрамывал. Через минуту в дверь постучали, Брокман вошел, сказал, присаживаясь: - Рано выполз, нога болит. - Иди-ка ложись, с этим шутки плохи. Вылежи денька три, - посоветовал Михаил. - Пожалуй… У тебя какие планы? Михаил, прежде чем ответить, посмотрел в окно. Один из шпиков, худощавый, был тут как тут. - Надо бы в Берн съездить, отношения с банком выяснить. - Бросаешь меня, значит? - уныло сказал Брокман. - К вечеру вернусь. А ты, чтобы не скучать, позови доктора. Он, кажется, обожает коньяк. И в картишки перекинетесь. - Спасибо за совет. Так и сделаю. Проводив Брокмана в его номер, Михаил оделся и вышел из отеля. Шпик его видел, но следом не пошел… Эта поездка в Берн послужила ему не только средством проверки. Он на всякий случай снял со счета в банке остаток своего вклада и таким образом порвал, выражаясь красиво, последние узы, связывавшие его со Швейцарией. Переночевав в отеле на Цейхгаузгассе, Михаил следующим утром вернулся в Гштаад. Возле их отеля дежурил мордастый тип в сером кожаном полупальто. У портье, который вручил ему ключ, Михаил спросил: - Двадцатый у себя? Портье поглядел на соты полки, где хранились ключи. - Да, у себя. Михаил поднялся на второй этаж, стукнул в дверь Брокмана для приличия и, как делал всегда, тут же толкнул ее, но дверь была заперта. - Кто? - услышал он раздраженный голос Брокмана и подумал: «Наверно, с девчонкой». - Это я. Извини. Ключ в двери повернулся, щелкнул язычок замка. - Входи. Михаил отказывался верить факту: Брокман, будучи один, средь бела дня сидел в запертом номере! - Что так долго? Где был? - спросил Брокман таким тоном, словно Михаил обязан был отчитываться в каждом своем шаге. - Дела задержали. Ты что взаперти сидишь? - Михаил старался скрыть, что прекрасно видит необычное выражение лица Брокмана, нервозность, сквозящую в его взгляде и жестах. Брокман подошел на цыпочках (!) к окну, но стал не прямо против него, а сбоку, у тяжело свисавшей, собранной в крупную складку плотной шторы. Затем, посмотрев в щель между шторой и обрезом оконного проема, поманил Михаила пальцем. - Иди сюда. Михаил подошел, стал рядом. - Смотри, - сказал Брокман, уступая ему позицию. На противоположном тротуаре прогуливался мордастый. - Ничего особенного не вижу, - сказал Михаил. - Что ты хочешь мне показать? - Этого, в коже, видишь? - спросил Брокман. - Ну и что же? - Ты раньше ничего не замечал? - Как-то в голову не приходило… Брокман сел на кровать. - Этот парень со вчерашнего дня здесь маячит. Михаил тоже отошел от окна, закурил сигарету. - А тебе-то что? - Неспроста он маячит, - зло сказал Брокман. - Считаешь, тобой интересуется? - Все может быть… - Тогда выйди сейчас же и выясни отношения. - Черта с два! Если это ко мне, с ними не сговоришься. - Брокман посмотрел на часы. - У тебя есть оружие? - спросил Михаил. - Есть, но что от него толку? Я-то знаю, как это делается. Не было смысла разубеждать и успокаивать Брокмана. В голове у Михаила зрела одна идея. - Вот что, - сказал Брокман обычным своим тоном. - Я говорил с хозяином отеля, он обещал посодействовать. Тут недалеко, километров десять или пятнадцать, есть небольшой аэродром. Оттуда можно улететь в Женеву или Цюрих. Если он договорится, поможешь мне? Михаил глядел в стену и молчал. Брокман говорил правильно: из окна поезда Михаил видел недалеко от Гштаада посадочную площадку и на ней спортивный самолет. - Посмотрим, - рассеянно отвечал Михаил. - Значит, боишься? - Брокман покачал головой. - Правильно делаешь. Михаил молчал. - Надо было мне панцирем обзавестись, да все думал - не понадобится, - сказал Брокман. - Да, с панцирем спокойнее, - согласился Михаил. - Пистолет и панцирь - надежные друзья. Самые верные. - В голосе Брокмана звучала горечь. - Вернее всех живых друзей. «Поздно же ты спохватился», - подумал Михаил, но сказал совсем иное: - Стальная каска и бронированный автомобиль - тоже надежные друзья. А также коньяк… Не выпить ли нам? - Нет, не хочу. Михаил встал. - Пойду в бар. Он вышел. Шагая по толстому пружинящему ковру, услышал щелчок замка - Брокман запер за ним дверь. Но сначала он пошел не в бар. Он отправился к хозяину отеля, в его рабочий кабинет. Дождавшись, когда тот отпустил какого-то своего служащего, Михаил спросил, не может ли он получить в свое распоряжение автомобиль, чтобы уехать на нем в Берн. Хозяин подумал и сказал, что это можно устроить - он даст свою машину. Тогда Михаил попросил разрешения оставить машину в Берне - где ее найти, будут знать в отеле на Цейхгаузгассе. Он, разумеется, готов заплатить сколько потребуется.Хозяин поглядел в потолок, помолчал и назвал сумму, Михаил выложил деньги. - Очень прошу, - сказал он, - пусть машина через четверть часа стоит во дворе. - Хорошо. А в Берн за нею я пошлю Жоржа. Михаилу было все равно, кого пошлют в Берн. Он распрощался с хозяином. Спустившись в бар, Михаил увидел у стойки худощавого шпика - он расплачивался за сигареты - и отметил про себя: значит, тут организована прочная блокада. Судя по всему, Брокману ее не прорвать. Он выпил рюмку дорогого коньяка. Бармен относился к Михаилу с большим почтением, ибо клиент, пьющий такой коньяк, достоин всяческого почтения. Михаил не смотрел на шпика, но чувствовал на себе его взгляд. По идее, которая уже окончательно созрела у Михаила, ему надо было вступить в контакт со шпиками, но чутье подсказывало не торопить событий. Они могли сами проявить инициативу, это было бы лучше… В коридоре с витражами, которые так понравились Михаилу, он услышал за спиной частые шаги и обрадовался. Шпик догнал его у входа в холл. - Простите, на два слова. - Шпик говорил по-французски, голосок у него был тонкий, нежный. - В чем дело? - Михаил остановился. - Вы друг Карла Брокмана? - Он перешел на шепот, но Михаил не собирался с ним перешептываться и сказал громко: - Мы вместе сюда приехали. - Это я знаю, - прошептал шпик. - Говорите, пожалуйста, тише, там портье. Михаил понизил голос, но ответил грубо: - Не о чем мне с вами разговаривать. Худощавый, который был ниже Михаила на полголовы, тронул его мизинцем за плечо. - Еще два слова. Михаил брезгливо дернул плечом, отступил на шаг. - Поменьше болтайте. Мне некогда. - Я вам советую: не сопровождайте Брокмана. Пусть он гуляет один. Михаил смерил его презрительным взглядом, но стоявший перед ним субъект не обращал внимания на такие мелочи. - Я передам ваши слова Брокману, - пообещал Михаил. - Это меня не волнует, - быстро прошептал шпик. Михаил отметил, что у шпика есть свое достоинство. - А если я позвоню сейчас в полицию? Шпик ответил не раздумывая: - Не советую. Зачем вам ввязываться не в свое дело? Лишние хлопоты. Спасибо хоть за то, что они не собираются сваливать вину за готовящееся убийство на него, Михаила. Он спросил: - Что вы мне еще посоветуете? - Если серьезно, то лучше отсюда уехать. На что он вам? Вы же не друзья. - Откуда вы все так хорошо знаете? - Мы много чего знаем. Момент был подходящий, и Михаил приступил к выполнению своего плана. - Услуга за услугу, - сказал он уже миролюбиво. - У меня к вам будет одна просьба. Но давайте пройдем в бар, если вы не против. Худощавый улыбнулся. - Такой разговор мне нравится больше. В совершенно безлюдном зале они сели за столик в углу. - Закажем чего-нибудь? - предложил Михаил. - Нет, я на работе не пью. - Разумно. Познакомимся? - Друзья зовут меня Чарли. - Я Мишель. - Очень приятно. Так о чем мы будем говорить? - Вы сказали, что находитесь сейчас на работе. - Так оно и есть. - Но вы ведь не государственный служащий. Все это произносилось так, будто двое приятелей перебрасывались репликами от нечего делать, только чтобы скоротать время. При последнем замечании Михаила Чарли хихикнул. - Это уж точно, не государственный. - Значит, вы работаете на частное лицо. - Вы как по бумажке читаете. Михаил давно усвоил, что простота и убедительность подобных построений действуют на большинство людей располагающе. Разглядев своего собеседника поближе, он понял, что тот умом не блещет. Можно было брать вожжи в свои руки. - В этой бумажке есть имя вашего хозяина. Против ожидания, Чарли не удивился. Он, оказывается, тоже умел рассуждать просто, на что и надеялся Михаил, пуская свой пробный шар. Чарли сказал: - Ясно, Брокман трепался. Михаил пошел в открытую: - Где сейчас Алоиз? - А вам-то что? Михаил сделался серьезным. - Как вы думаете, Чарли, для чего я торчу тут с Брокманом? - Это не мое дело. - Мне нужно найти Алоиза, а Брокман не знает даже его теперешней фамилии. Чарли немного растерялся от такого неожиданного поворота. - Что-то не пойму… Вы знакомы с Алоизом? - Был знаком лет двадцать пять назад, а потом потерял из виду. На лице Чарли растерянность сменилась выражением, которое можно было прочитать так: «А что мы будем с этого иметь?» Но он хранил молчание, и Михаил открыл все свои карты. - Скажите мне фамилию Алоиза и где его сейчас можно найти. Я дам вам за это пятьсот долларов и обещаю никому ни слова. Со своим приятелем, который сию минуту дежурит на улице, вам, наверно, лучше не делиться ни деньгами, ни… - Стоп, - шепотом прервал его Чарли. - Деньги при вас? - В номере. Сейчас принесу. - Вы уедете сегодня же? - Немедленно. Но с одним условием: не трогайте Брокмана в ближайшие сутки, чтобы я был вне подозрений. - А мы его и не собираемся убирать. Он нам пока нужен живой. - Это лучше. Делая вид, что не торопится, Михаил закурил и не спеша отправился на второй этаж. Шпик остался сидеть за столиком. На стук Брокман ответил не сразу. Пришлось постучать дважды. - Кто? - Я. Войдя, Михаил отрывисто сказал: - Собирайся. - Куда? - Во дворе стоит машина хозяина. Светлый «Ситроен». Ляжешь сзади на пол. - Что ты затеял? - Надо исчезать отсюда. Пойдешь через бар, потом через служебный ход во двор. - Сколько у нас времени? - Одевайся быстро. Вещи не бери. К Брокману сразу вернулась уверенность в себе. Он спросил деловым тоном: - Ты все продумал? - Сейчас увидим. Буду сидеть в баре с одним из этих топтунов. Второй на улице. Спускайся быстрее. У себя в номере Михаил наскоро уложил чемодан, надел куртку, вышел, запер дверь и спустился в бар, Чарли сидел за столиком лицом к входу. Следовало его пересадить, чтобы он не увидел Брокмана. Поставив чемодан у стойки, Михаил попросил бармена получить деньги за выпитое и прибавить еще два коньяка. Бармен стал не спеша считать. Чарли вопросительно глядел в их сторону. Михаил поманил его пальцем. Когда он подошел, Михаил спросил, не против ли он выпить на прощание. Тот был не против. Михаил рассчитался, взял рюмки и пошел к столику первым. Он сел на место Чарли, так что Чарли должен был сесть спиной к входу в бар и к двери, ведущей во двор. Почти тут же появился Брокман. В этот момент Михаил вынул из кармана бумажник и начал медленно отсчитывать купюры по пятьдесят долларов. Потом, накрыв их салфеткой, пододвинул к Чарли. - Запомните, - сказал тот, пряча деньги, - Алоиз живет в Париже, в отеле «Савой», под фамилией Гриффитс. Выпили. Михаил встал. - Благодарю. - Пожалуйста. - Пойду рассчитаюсь за отель, - сказал Михаил. - Посмотрите уж заодно и за моим чемоданом. На этот раз улыбка Чарли не казалась Михаилу противной. Михаил рассчитался только за себя, подумав при этом, что хозяину придется терпеть убытки из-за Брокмана. Потом он попрощался с Чарли и вышел во двор, к машине. …Все сошло отлично. Оставив автомобиль у хозяина отеля в Берне, Михаил и Брокман расстались в цюрихском аэропорту. Брокман тем же вечером улетел в Дюссельдорф. Михаил ночевал в Цюрихе. Им не велено было появляться в центре вместе. К тому же у Михаила оставался еще невыполненным последний пункт его плана. …В семь часов вечера на следующий день Михаил спускался по трапу из самолета в парижском аэропорту Орли, а без четверти восемь звонил из кафе в городе Дону. Дон явился тут же. Понимая, что Тульев не стал бы вызывать его так срочно по пустякам, он обошелся без вступительных вопросов о здоровье и прямо спросил: - Что нужно сделать? - Сколько тут пешком до «Савоя»? - Минут десять. - Пожалуйста, сходи и узнай, живет ли еще у них мистер Гриффитс. Говорить Дону, что это надо сделать осторожно, не было необходимости. Вернулся он через полчаса. - На месте. Номер семнадцать, второй этаж. У него сейчас в гостях небольшая компания. Михаил сказал с облегчением: - Та-ак. - Помолчал и, облокотясь на стол, посмотрел Дону в глаза. - То, о чем я тебя хочу попросить, со стороны может показаться бесчестным. - Но я смотрю не со стороны, - возразил Дон. - Лучше не теряй времени. - Ты знаешь, как позвонить в Интерпол? - Узнаю. - Вот что надо им сообщить: человек, выдающий себя за Гриффитса, на самом деле Гюнтер Гофман, давно разыскиваемый преступник. Они сразу сообразят. - И это все? - удивился Дон. - Все. - А ты меня пугал. - Что ни говори, анонимный звонок. - Во благо, во благо, - сказал Дон. - Посиди, я схожу позвоню. Не успел Михаил выкурить сигарету, как Дон вновь появился в кафе. - Порядок? - спросил Михаил. - Страшно благодарили. Михаил через стол хлопнул Дона по плечу. - Спасибо. Дон поморщился - мол, велика важность, нашел за что благодарить. - Я тебе больше не нужен? - Ты мне всегда нужен, - очень серьезно сказал Михаил. В таких случаях Дон испытывал смущение. - Ну ладно, я пошел, в баре сейчас самое горячее время. Они попрощались. Михаил смотрел вслед Дону, пока за ним не захлопнулась дверь. Посидев еще минут двадцать, он отправился к «Савою» и успел как раз в самую пору: у подъезда остановились два полицейских автомобиля. Из них высыпала целая толпа: трое скрылись в подъезде отеля, трое остались на тротуаре у входа. Михаил прохаживался по противоположной стороне улицы. Ждать пришлось недолго. Вскоре из отеля вышел плотный человек среднего роста, державший ладони сложенными на уровне лица: он был в наручниках. Его сопровождал полицейский. Двое других, надо полагать, остались в номере делать обыск. Михаил имел право похвалить себя: военный преступник Гофман все-таки попался. Но Гофман - прошлое, а для будущего и для себя Михаил считал главным то, что он сумел вызволить Брокмана.Глава 13 СЛЕДСТВИЕ В МАЕ 1972 ГОДА
Водитель троллейбуса гражданин Д. в ночь с 21 на 22 мая, с воскресенья на понедельник, возвращался из своего парка после работы в два часа. Недалеко от частных гаражей он увидел в стороне от узенькой асфальтовой пешеходной дорожки лежащего на траве человека. Приблизившись, он наклонился и разглядел, что это девушка из соседнего дома, которую он не раз встречал. Гражданин Д. в недоумении тронул ее за плечо - она лежала на боку - и понял, что дело неладно: девушка не подавала признаков жизни. Трава вокруг ее головы слиплась от крови. Д. пошел на улицу, из будки автомата позвонил в милицию. Через десять минут на двух машинах прибыла оперативная группа, дежурившая в эту ночь в городском управлении внутренних дел, - инспектор угрозыска, следователь прокуратуры, врач, эксперт НТО, проводник с овчаркой. Д. рассказал, как он обнаружил пострадавшую. Зажглись фары автомобилей, и на пустыре возник широкий светлый круг, где было видно как днем, и в центре этого круга лежало недвижное тело молодой девушки. Сильнее света фар несколько раз сверкнула вспышка блица - эксперт НТО сфотографировал с разных точек место происшествия. Женщина-врач, судебно-медицинский эксперт, осмотрела пострадавшую, выслушала через фонендоскоп ее сердце и сказала следователю: - Она жива. Проникающее ранение черепа. Ударили тяжелым тупым предметом. Послышалась сирена «Скорой». Она въехала в светлый круг, санитары положили девушку на носилки, вдвинули в кузов автомобиля, и «Скорая» умчалась. Следователь поднял с земли лежавшую под телом пострадавшей сумку из тисненой кожи, открыл ее, перебрал пальцами ее содержимое и извлек удостоверение центрального городского универмага. Заглянув в него и положив обратно, он принялся тщательно осматривать место происшествия, делая пометки в блокноте. Следователь ходил кругами, все более расширяя их, пока не добрался до забора по правую сторону дорожки, если стать лицом к гаражам. Ничего существенного при осмотре он не обнаружил - лишь несколько окурков, явно не этой ночью брошенных, разные щепочки, осколки стекла. Следователь перелез через забор, зажег карманный фонарик и стал шарить лучом по земле. Но и там ничего не нашел. В то время как он вел свои поиски, проводник с собакой терпеливо разбирались в путанице следов, пока наконец совершенно изнервничавшийся пес не сел на траву с отчаявшимся видом, давая тем самым понять, что он тут бессилен. Затем был составлен протокол осмотра места происшествия, а тот участок земли, где лежала пострадавшая, огражден колышками, на которые натянули шнур. Оставив на пустыре одного из милиционеров, оперативная группа села по машинам и вернулась в городское управление внутренних дел. Дежурный следователь, справившись в реанимационном отделении нейрохирургической клиники о состоянии потерпевшей и узнав, что оно очень тяжелое, записал последние данные и позвонил начальнику отдела, занимающегося расследованием наиболее тяжких преступлений. Тот из дому поднял телефонным звонком следователя по особо важным делам Орлова: - Михаил Петрович, приезжай сейчас же в управление. Буду тебя ждать. Подполковник милиции Михаил Петрович Орлов, через чьи руки за восемнадцать лет следственной работы прошло достаточно много сложных уголовных преступлений, принял дело и начал расследование. Подполковник отправился на место происшествия и внимательно его осмотрел. Потом по записанному для него на листке календаря адресу нашел квартиру Суховых. На другом листке он сам записал адрес нейрохирургической клиники, куда поместили Светлану Сухову, - для ее матери. Когда Вера Сергеевна, открыв дверь, увидела перед собой высокого мужчину лет сорока пяти с косым шрамом на виске, она не испугалась и не встревожилась, а скорее наоборот - как бы вздохнула, освобождаясь от чрезмерного напряжения. Она тревожилась всю ночь и всю ночь не ложилась спать, потому что ждала Светлану. Впервые в жизни ее дочь не пришла ночевать домой. Появление подполковника Орлова в столь ранний час - не было еще и семи - автоматически связалось у нее с отсутствием Светланы, и она встретила нежданного гостя взглядом, полным нетерпения. Михаил Петрович в кратких словах изложил все, что знал сам, а затем задал Вере Сергеевне несколько вопросов. С кем дружила Светлана? Не замечала ли Вера Сергеевна чего-нибудь необычного в поведении дочери за последнее время? Не ссорилась ли Светлана с кем-нибудь? Нет ли у нее каких-то недоброжелателей? Орлов объяснил, что преступник напал на Светлану не с целью ограбления: ни кольцо, ни деньги взяты не были. Вера Сергеевна рассказала все, что знала, и прибавила то, о чем догадывалась. Таким образом в блокноте Орлова появилось два имени: Галина Нестерова и Алексей Дмитриев и под знаком вопроса - неизвестный пожилой мужчина. Вера Сергеевна поведала о своих сомнениях по поводу увлечения дочери новомодными нарядами, которые появляются из какого-то непонятного источника, о прежней дружбе Светланы с Лешей, о их затянувшейся размолвке, о неудачах с поступлением в университет. Простившись, Орлов покинул дом Суховых. Затем Орлов разыскал дружка Алексея Дмитриева - одного из тех, что сидели с ним вместе на скамейке, когда Леша ждал Светлану. Дружок, говорливый парень, между прочим, сообщил, что у Леши было две пропажи - фотопленка и гаечный ключ - и что Леша грозился проучить Светлану. После этого Орлов вернулся в управление. Одному из своих помощников он поручил установить, кто видел Светлану Сухову последним, точнее, предпоследним, ибо жертву преступления последним всегда видит преступник. Это была одна из самых трудных задач. Другой оперативный работник получил задание заняться выяснением личности Галины Нестеровой и Алексея Дмитриева. Третий должен собрать сведения о Светлане по месту ее работы - в универмаге. К сожалению, этот день был не субботним и не воскресным. К сожалению потому, что наиболее естественным и логичным следственным действием, с которого надо начинать в данном случае, Орлов считал встречу с владельцами гаражей, возле которых было совершено нападение на Светлану Сухову. Туда он и отправился. Несмотря на будний день, в этом гаражном городке, как и во всяком другом, жизнь не замирала. Кто-то из автовладельцев пришел с ночной смены, кто-то, напротив, должен заступать в вечернюю, а у кого-то отпуск, и надобно подготовить «телегу» в дальний путь. Орлов подошел к гаражу, в котором крутился возле «Москвича» юркий низенький человек лет пятидесяти с тряпкой в руке. - Можно вас на минутку? - Всегда пожалуйста, - охотно откликнулся автовладелец. - Чем могу служить? - Я из уголовного розыска. Вы знаете Алексея Дмитриева? - Вон его конура, через две от меня. Только он сейчас на работе. - Не слыхали, не пропадало у него чего-нибудь? - А что у него красть? - Автовладелец даже рассмеялся. - Ну, например, гаечный ключ… А о ночном происшествии слыхали? - Как же! Жаль девчонку. И родительницу ее жалко. А вы по этому делу? Как она, Светка-то? - Жить будет. А я по этому делу. - И ключик, о котором спрашивали, значит… так сказать, тоже участвовал? - деликатно полюбопытствовал автовладелец. - Скорей всего. - Орлов увидел, как при этих словах у его собеседника побледнело лицо. Можно было ожидать, что автовладелец сейчас сделает какое-то умозаключение. На глазах у Орлова происходила работа мысли, процесс сопоставлений. - Не может быть, - наконец произнес автовладелец. - Простите, как вас зовут? - спросил Орлов. - Николай Петрович. - А чего не может быть, Николай Петрович? - Я говорю, не мог Леша этого сделать. Тут кто-нибудь другой, обязательно другой. - А я вам и не говорил, что это он. - Вы же про ключ спрашивали, - с недоумением сказал Николай Петрович. - Ключ может оказаться в любых руках. А почему же все-таки вы за Лешу так уверены? Николай Петрович пожал плечами: - Не тот он парень… Ну, правильный парень, понимаете? - Давно его знаете? - Да как в этот дом вселились. Пятнадцать лет. Он еще и в школу, по-моему, не ходил. - Спасибо, Николай Петрович, за информацию. А фамилия ваша как? - Косицын. - Адрес на всякий случай я запишу. Можно? Николай Петрович назвал номер своего дома и квартиры, и Орлов уехал на ждавшей его машине. …В тот день Леша до конца смены не доработал: в одиннадцать вызвали в отдел кадров, где его ждал подполковник Орлов. С ним Леша приехал в городское управление внутренних дел. Орлов сразу спросил: - У вас гаечный ключ пропал? - Да. Разводной. - Когда? - С год назад. Строго говоря, Орлов действовал несколько против принятых правил, с первого шага открывая Леше то, что известно следствию, тем более что, по логике вещей, Лешу, как владельца гаечного ключа, возможно, послужившего орудием преступления, пока нельзя было совершенно освободить от подозрения. Но у Орлова была своя тактика расследований, и он верил собственной интуиции. - Кто-нибудь может это подтвердить? Леша задумался ненадолго и наконец вспомнил: - Сосед по гаражу у меня его попросил, я поискал - нету. Тогда и хватился. - Замок на гараже не срывали? - Нет. - А кто этот сосед? - Парфентьев Сергей Степаныч, из девяносто восьмой квартиры. - Где он работает? - На электроламповом, мастером цеха. Орлов по телефону вызвал одного из своих помощников, дал ему листок с записью. - Поезжай сейчас на электроламповый, найди этого человека, привези сюда. Леша понял, что хотя этот симпатичный следователь относится к нему вроде неплохо, но на веру его слова все же не принимает, и Лешу это немножко задело, ему хотелось доказать, что такому человеку, как он, можно доверять и без проверки. Но что пока он мог сделать? - У вас со Светланой Суховой дружба? - спросил Орлов. - Была, да вся вышла, - вяло ответил Леша. - Почему? Леше неудобно было отвечать на такой вопрос, трогать Светкины дела. - Это, наверное, не влияет значения, - сказал он, привычно переиначивая ходячее выражение. - Для следствия все имеет значение. Вы когда рассорились? - Не ссорились. Просто не встречаемся. Уже с год. - Не собирались ли вы ее проучить? - Чего ее учить? Она сама ученая. Орлов чувствовал и верил, что Алексей Дмитриев говорит правду. Он не мог подозревать этого парня в покушении на убийство. - А все же почему не встречались больше? - спросил Орлов. - Так получилось. - Не был ли причиной кто-нибудь третий? Врать Леша не мог. Признаваться, что ревновал к итальянцу, тоже не мог. - Был один человек, но это тут ни при чем, - сказал он по-прежнему хмуро. Однако они говорили о разных людях: Леша имел в виду Пьетро Маттинелли, имени которого он не знал, а Орлов - неизвестного пожилого мужчину, о котором Светлана говорила матери в сочиненной ею истории относительно источника заграничных вещей. - Почему был? - спросил Орлов. - Он уехал… Улетел… - Далеко? - Наверно, за границу. - Откуда вы знаете, что улетел? И почему за границу? - Витек проследил. А этот человек - иностранец. - А кто такой Витек? - Мальчишка с нашего двора. Ему двенадцать лет. - И когда же это было? - Тоже год назад. - Расскажите об этом подробнее… Минутку, я, с вашего разрешения, включу магнитофон. Орлов не ожидал появления в следственном деле иностранца. Вопрос о пожилом поклоннике Светланы Суховой он оставил пока в стороне, а сейчас внимательно слушал Алексея. Выяснились любопытные детали. Заканчивая свой рассказ о том, как они с Витьком разыскали Светлану в кафе, Леша вспомнил и странный случай с человеком, потребовавшим засветить пленку. - Что это был за человек? - спросил Орлов. - Немолодой уже, постарше вас намного. - Но он как-нибудь вам представился? - Книжечкой помахал, удостоверением. - Что за удостоверение? - Красная книжечка такая. Мы в нее не заглядывали. Наступило молчание. Орлов выключил магнитофон и закурил. Леша, словно нащупывая ускользавшую мысль, задумчиво произнес: - Да, тут еще вот что, товарищ… - Меня зовут Михаил Петрович. - Михаил Петрович, я когда Свету фотографировал, по-моему, этот тип за соседним столиком сидел, он в кадр попал. - Пленка у вас цела? - В том-то и дело, что нет. - Тоже пропала? - Да. Не знаю как. - Когда обнаружили пропажу? - Приблизительно тогда же. Как ключ исчез. Прошлым летом. Кажется, в июле. - Только эта пленка и пропала? - В том-то и дело. - А замки в квартире целы? - Один раз мать жаловалась, что ключ заедает. А потом - ничего. Орлов почувствовал, что здесь завязывается какой-то узелок. - Хоть одна карточка у вас осталась? Вы же, наверное, печатали с той пленки. - Две штуки Светке отдал, а одну… - Леша закусил губу и вдруг вспомнил: - Точно, одна карточка должна остаться. Я стенгазету хотел вывесить, а потом не стал… Если мать не выбросила, она под тахтой должна лежать. Орлов не пожелал уточнять, о какой стенгазете речь. Он взял трубку телефона, набрал номер: - Машину мне. - И, положив трубку, сказал Леше: - Поезжайте домой, привезите вашу стенгазету. …Пока Леша ездил за газетой, помощник Орлова привез с электролампового завода Сергея Степановича Парфентьева. - Вы можете подтвердить, что у Алексея Дмитриева пропал гаечный ключ? - спросил Орлов. - Да. Пользовался им. А потом он пропал. - Вспомните, пожалуйста, когда именно вы спрашивали ключ у Дмитриева в последний раз. - Точно не помню, а было это прошлым летом, в июле, а может, в августе. Составив протокол и дав подписать его Парфентьеву, Орлов сказал: - Спасибо. Всего доброго. Едва Парфентьев покинул кабинет, вернулся Леша. В руке он держал сложенный вчетверо лист ватмана. На ходу развернув его, Леша положил лист на стол перед Орловым. - Вот. Хорошо, на сгиб не попала, - сказал Леша, ткнув пальцем в фотокарточку. - Который он? - спросил Орлов. Леша снова ткнул пальцем. - А вот, со стула поднимается. Орлов недолго разглядывал лица на снимке, потом позвал помощника. - Отправь это в фотолабораторию, пусть выкадрируют крупно человека на заднем плане. Скажи - срочно. - Садитесь, продолжим, - сказал Орлов Леше. - Теперь такой вопрос. Не встречали ли вы Светлану Сухову с пожилым мужчиной? Или приходилось? - Я не видел, а Витек встречал. - Не тот ли это, что на снимке? - Трудно сказать… Мы про снимок, честно говоря, давно забыли… Год прошел… - Ну а как, на ваш взгляд, сильно изменилась Светлана за этот год? Или не замечали? - Прибарахлилась, конечно. - И больше ничего? - А что же еще? Орлов попросил Лешу в ближайшие дни никуда из города не уезжать и попрощался с ним. После обеда у Михаила Петровича состоялось маленькое совещание с помощниками. Из того, что удалось узнать о Галине Нестеровой, существенным для дела представлялся лишь один момент: она, как и Светлана Сухова, за прошедший год обновила все свои туалеты. Ничего предосудительного никто за нею не замечал. Что касается универмага, то сведения оттуда были интереснее: две продавщицы заявили, что могли бы узнать в лицо пожилого человека, который довольно регулярно наведывался к Светлане - то ли как обыкновенный покупатель, то ли специально ради самой Светланы. Выяснилось также, что Светлана покинула универмаг в двадцать часов пятнадцать минут. Последней, кто видел ее в универмаге, была заведующая сектором. По всей вероятности, она и была тем «предпоследним», кого искал Орлов. Но следствию это ничего не дало. Наметив план дальнейших действий, Орлов отпустил своих сотрудников и позвонил - четвертый раз за день - в нейрохирургическую клинику. Оказалось, что уже собирался консилиум. Прогноз неутешителен: травма черепа нарушила функции жизненно важных центров, и выздоровления, если оно придет, надо ждать не скоро - не ранее чем через три-четыре месяца. Парализованы конечности. Светлана не видит, не слышит и не может говорить. Когда восстановятся зрение, слух и речь, пока невозможно предсказать. Значит, из первоисточника следствию добыть ничего не удастся. К трем часам пополудни принесли из фотолаборатории выкадрированный из фотокарточки увеличенный портрет неизвестного пожилого мужчины, снято было не в фокусе, а при увеличении нерезкость еще усугубилась, но портрет годился для идентификации. Взяв из фототеки портреты трех других мужчин, сходных по типу, Орлов отправился в универмаг. Продавщиц, которые знали в лицо того человека, который навещал Светлану Сухову, вызвали в кабинет директора. Орлов предъявил им четыре фотопортрета, и обе без колебаний указали на кадр, снятый Алексеем. Теперь требовалось установить, был ли этот человек знаком со Светланой к тому времени, когда делался снимок, то есть в конце мая - начале июня. Светлана говорить не могла - значит, надо спрашивать Галину Нестерову. …Скорее всего Орлов, если бы он знал о состоянии, в котором Галина пребывала с тех пор, как Вера Сергеевна по телефону, заливаясь слезами, рассказала ей о случившемся, - скорее всего он отложил бы встречу с ней, по крайней мере, на завтра. Единственная подруга потерпевшей должна болезненно переживать несчастье - это понятно всякому. Но то, с чем столкнулся Орлов, граничило чуть ли не с катастрофой. Галина Нестерова с утра, после телефонного разговора с матерью Светланы, не пошла в университет, не стала завтракать, не отвечала матери, которая после двух безуспешных попыток разговорить дочь оставила ее в комнате и удалилась в свою спальню. Галина сидела в низком кресле, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Ольга Михайловна, позавтракав, поехала в парикмахерскую, вернулась, пообедала, а Галина все сидела, не меняя позы. Часы пробили шесть вечера - она все сидела. Немудрено, что она не могла сразу встать, когда за нею приехал посланный Орловым оперативный работник. Она самостоятельно и вниз спуститься не сумела бы - так затекли у нее ноги. Помощник Орлова принял это за минутную слабость, иначе он не настаивал бы на немедленной явке в управление. Увидев ее входящей в кабинет и встав ей навстречу, Орлов спросил: - Вы плохо себя чувствуете? Галя не ответила. Орлов взял кресло, поставил его поближе к своему столу. - Садитесь, пожалуйста. Она послушно села. Орлов спросил: - Вы в состоянии ответить на несколько вопросов? Мы можем и отложить. - Прошу вас, - сказала Галина. Орлов решил действовать по несколько сокращенной программе - выяснять только самое необходимое. - Посмотрите на эти фотоснимки. Кто-нибудь из них вам знаком? Галина перебрала одну за другой четыре карточки. Портрет из Лешиного кадра задержался в ее руке. Она узнала Виктора Андреевича. - Этот, - без всякого выражения, вяло вымолвила она. - Как его зовут? - Виктор Андреевич. - Вы давно с ним познакомились? - В прошлом году. - При каких обстоятельствах? - Он сам пришел к Светлане. - Ухаживал за ней? - Нет, что вы… - Его фамилия? - Мы не знаем. - Вы хотите сказать - Светлана тоже не знает? - Да. Орлову стало ясно, что, хотя Алексей отдал фотоснимок Светлане еще год назад, у подруги никогда не возникало мысли, что человек на снимке и некий Виктор Андреевич - одно и то же лицо. - Где он работает? - На химкомбинате. В лаборатории. - А кто сидит с вами за столиком? - Пьетро… Итальянец… - Как его фамилия? Гале стоило труда вспомнить. Наконец она вспомнила. - Маттинелли. - Турист? - Он работал на химкомбинате. Инженер. - Вы часто виделись? - Он уехал на следующий день. Галина не выходила в своих ответах за рамки вопросов - это ей было не по силам. - Он больше не приезжал? - Нет. - И писем не присылал? - Присылал. Светлане. - Она вам их показывала? - Да. - Что он писал в последний раз? - Собирается приехать. - Когда? - Кажется, послезавтра. - Когда вы в последний раз виделись с Виктором Андреевичем? - Недели три назад. - Он знает итальянца? - Да. - Спасибо. Поезжайте домой. Вас отвезут. Орлов вызвал себе другую машину и поехал к Вере Сергеевне Суховой - ему не терпелось выяснить, сохранилась ли у Светланы фотокарточка, подаренная Лешей. Вера Сергеевна перерыла все и в комнате дочери, и у себя. Карточки не было. Вернувшись в управление, Орлов заперся в своем кабинете и дважды прослушал записанный магнитофоном разговор, а потом позвонил своему начальнику генерал-майору Ганину. Генерал был занят, просил прийти через час. Чтобы не терять времени, Орлов связался с отделом кадров химкомбината и попросил выяснить, в какой из лабораторий работает инженер по имени Виктор Андреевич. Через сорок минут ему позвонили из отдела кадров и сказали, что ни в одной лаборатории человек, которого зовут Виктор Андреевич, не числится. Тогда Орлов попросил проверить весь личный состав комбината. Это требовало времени, но Орлов предчувствовал, что и среди более чем трех тысяч работников химкомбината Виктора Андреевича не обнаружится. Возможно, найдется его двойной тезка - и по имени, и по отчеству, но им окажется не тот, кого он ищет. И вообще, надо полагать, у человека с Лешиного снимка настоящее имя совсем другое. …Наконец генерал принял Орлова. Им не было необходимости излагать друг другу догадки, возникавшие по ходу доклада. А вывод они сделали независимо друг от друга, но совершенно одинаковый: специфика этого дела требовала немедленно связаться с управлением Комитета госбезопасности.Глава 14 УТКИН ПРОСНУЛСЯ
После длительного бездействия Владимир Уткин наконец проявил активность - это произошло весной 1972 года. Прежде он проводил свой отпуск дома, хотя ему местком предлагал путевки на юг. Теплому морю он предпочитал местную реку и рыбалку на ней. На этот раз он изменил правилу и отправился к морю, но не на юг, а на север, на Балтику, и не на взморье, а в большой город, и именно в тот город, где жила Мария, жена Михаила Тульева. Если принять во внимание все поведение Уткина, за прошедшие годы ни разу не покидавшего места своего жительства, выбор этот не был случайным. С чего бы вдруг Уткина потянуло не куда-нибудь еще, а туда, где базировался бывший резидент разведцентра Тульев, где остались люди, знавшие и помнившие его?… - Твоя Спящая красавица, кажется, проснулась, - сказал полковник Марков Павлу Синицыну, вызвав его по этому поводу на дачу, где они обычно встречались. Прозвище Спящая красавица было кодовым именем Владимира Уткина, которое ему присвоили по предложению Павла. - Пора бы, - сказал Павел. - И как это выглядит? - Едет в Прибалтику. - Марией интересуются? - Не исключено. - У Михаила что-нибудь не в порядке? - Там время от времени трясет. Проверки… - Но она-то им зачем? - Кто знает? Во всяком случае, надо предупредить Марию, а то перепугается. - Когда отправляться? - Сейчас, буквально сию минуту. Он уже в поезде. Павел встал. - Оружие возьми, - сказал Марков. - Далеко его от себя не отпускай. Черт их знает, что там задумано. - Не собирается же он Сашку украсть. - Красть, может, не будет, но ты их все-таки подстрахуй… Павел прилетел в город за восемь часов до прихода поезда, в котором ехал Уткин. Из аэропорта он позвонил Марии по телефону, а в половине двенадцатого ночи был у нее дома. Мария не удивилась неожиданному появлению Павла. Он навещал ее не часто, но довольно регулярно. Во всяком случае, достаточно регулярно для того, чтобы сын Сашка считал дядю Пашу своим человеком и даже другом, и не потому, что дядя Паша обязательно привозил какие-нибудь подарки. Сама Мария относилась к Павлу по-родственному, словно он был братом ее мужа, Михаила Тульева. Вообще с Москвой у нее связь поддерживалась прочная. Владимир Гаврилович Марков раз в месяц звонил, в дни рождения - ее собственный и Сашкин - и перед всеми праздниками непременно присылал поздравления. Мария по-прежнему работала диспетчером в таксомоторном парке, и все у нее было по-старому. То новое и радостное, что происходило в ее жизни, было связано только с сыном. Вот теперь, например, Сашка оканчивает уже второй класс. Материально она не нуждалась, хотя оклад у нее был небольшой: ежемесячно на ее лицевой счет приходил денежный перевод из Москвы - часть зарплаты Михаила… Закрыв за собою дверь, Павел кивнул на комнату Сашки: - Спит? Поговорим на кухне. - Чаю или кофе? - спросила Мария в кухне. - Ты почему не снимаешь плащ? - Я на минуту. У тебя все в порядке? - Да. Ты проездом? - Нет, специально к тебе. - Тогда куда же торопиться? - Еще надо устроиться в гостиницу и выспаться, завтра мне рано вставать. Слушай дело. Мария поняла, что Павел на этот раз приехал не просто ради того, чтобы навестить их, и слегка нахмурилась. - Да ты не напрягайся, - сказал Павел, усаживаясь за стол напротив нее. - Ничего особенного. Завтра приезжает один человек, думаю, захочет тебя увидеть. - Связано с Мишей? - Наверняка. - А чего он хочет? - Это ты мне потом расскажешь. - Что его может интересовать? - Понятия не имею. Но если спросит о Михаиле, говорить надо одно: уехал куда-то на Крайний Север, ты о нем ничего не знаешь, писем не пишет. - С Мишей в порядке? - Все нормально. Ты, Мария, не беспокойся насчет этого гостя, мы рядом будем. Скажи мне вот что: Сашок в школу сам ходит? - Туда я его провожаю, а обратно - сам. Тут недалеко, даже через дорогу не надо. А почему ты спрашиваешь? Видно было, что вопрос встревожил, и Павел выругал себя. - Да так, не подумав, спросил… - Не хитри, Паша. - Ну, ошибся, прости. За Сашкой мы присмотрим, и забудь об этом. - Легко сказать! - Запомни: никогда ни один волос не упадет с Сашкиной головы. - Ладно, забыла. - Во сколько вы из дому выходите? - В восемь. - Я пошел. Извини, Сашке ничего не привез, торопился, купить не успел. Но ты ему, между прочим, не говори, что я заходил. - Ладно. Когда появишься? - Трудно сказать. Смотря по обстоятельствам. Но если не я, то кто-нибудь из наших к тебе заглянет. - Ну, счастливо. - Будь здорова, Мария. Последняя просьба: на улице головой не крути, ходи без оглядки. - Хорошо. От нее Павел отправился в городской отдел КГБ. Предупрежденный по телефону Марковым, начальник отдела ждал его. Условились таким образом: в распоряжение Павла выделяется местный сотрудник, они встречают гостя на вокзале, а потом будут действовать в зависимости от поведения Уткина. Номер в гостинице был Павлу заказан. Полковник завез его по пути на своей машине. Поезд приходит в семь утра. У Павла оставалось пять часов - вполне достаточно, чтобы как следует выспаться. Сотрудник из отдела КГБ заехал за ним в половине седьмого. По дороге к вокзалу они договорились о распределении ролей. Встречающих на перроне оказалось не так много, и Павел решил остаться в зале ожидания, наблюдать через окно: попадаться на глаза Уткину ни в коем случае нельзя, потому что его, Павла, он может знать в лицо - наверное, Уткину перед засылкой показывали его портреты. Но если это и не так, все равно надо оставаться невидимым для Уткина. Павлу было известно, что Уткин едет в восьмом вагоне, однако появиться он должен, по всем правилам, из вагона под другим номером, - если конечно, он не полный растяпа и если инстинкт самосохранения заглох в нем не окончательно. Действительно, Уткин с небольшим чемоданчиком в руке и со «Спидолой» на ремешке через плечо сошел на перрон из вагона N 6. Но предосторожности на этом и кончились. Осмотревшись по сторонам при выходе на вокзальную площадь, Уткин больше уже ни разу не оглядывался, не проверялся. На стоянке такси он дождался своей очереди, и без четверти восемь они - Уткин, Павел и его помощник - были на улице, где жила Мария. Павел велел шоферу заехать во двор большого нового дома, помощник вышел и отправился по другой стороне улицы следом за Уткиным, который, отпустив такси, тихо продвигался вперед и искоса поглядывал на номера домов. У дома N 34 он еще замедлил шаг, а потом совсем остановился, закурил. Павел проверял, не следит ли кто, в свою очередь, за его помощником, - это было нелишне. Но все оказалось чисто. Без пяти восемь из подъезда дома N 36 вышла Мария с сыном. Сашка размахивал портфелем и, задрав голову, щурясь на утреннем солнышке, что-то рассказывал. Они достигли перекрестка и повернули за угол. Следом - Уткин, за ним - помощник Павла, а чуть дальше - сам Павел. У школы Мария поцеловала сына в щеку, он помахал рукой и тут же громко закричал кому-то из мальчишек, шедших к школе по другой дорожке. Уткин догнал Марию. Павел и его помощник видели, как она приостановилась на секунду, увидев рядом с собой незнакомого мужчину. По всему видно, он знал Марию в лицо. Помощник остался дежурить в районе школы, а Павел следовал за Марией и ее спутником. Не выпуская их из виду, он размышлял о действиях Уткина и не мог не прийти к выводу, что этот законсервированный агент получил для своей первой акции исчерпывающие исходные данные: кроме адреса, еще и внешность объекта, и даже точное время, когда объект выходит из дому. Неужели кто-то тайком составлял хронометраж рабочего дня Марии? Впрочем, кое-что мог сообщить сам Михаил. Скорей всего так оно и было. У трамвайной остановки Мария и Уткин ненадолго задержались, коротко поговорили и пошли дальше - должно быть, Мария по просьбе Уткина решила на сей раз добираться до таксомоторного парка пешком. Судя издали, разговор их не отличался оживленностью, но продолжался он целых полчаса. Что было главным в этом разговоре, Мария рассказала Павлу после, когда Уткин уехал. Представившись как давний друг Михаила, но не сообщив своего имени, Уткин спросил: - Не могли бы вы дать мне его адрес? - Я сама не знаю, - сухо сказала она. - Как же так? Вы жена… - Очень просто. - Он что же, не пишет? - Ни строчки. - Ей самой этот факт как будто впервые показался удивительным и нелепым. - Сбежал? - Да вроде того… А откуда же, между прочим, вы узнали мой адрес, если сейчас спрашиваете адрес Миши? - Я ведь здесь жил… До того, как он уехал. Знал, куда ночевать ходит. - Ага, понятно, - сказала Мария скучным голосом, едва сумев скрыть, как ей неловко сделалось из-за того, что собеседник врет столь неуклюже: ведь она переехала в эту двухкомнатную квартиру совсем недавно. Минуты две они шли молча, потом Уткин сказал сочувственно: - Простите за нескромный вопрос… И вы по-прежнему считаете его мужем? - А что же делать? - сказала Мария. - И он вам не помогает? - Абсолютно. Снова помолчав, Уткин сказал: - Я сочиняю, я никогда не жил в вашем городе. Мария удивилась: - Не понимаю вас… Вам не кажется, что все это странно? Остановили на улице… Незнакомый человек… - Михаил просил меня повидать вас, сказать, чтобы не беспокоились… Он сказал - вы знаете, где он… Она остановилась, посмотрела ему в лицо. - Прошу вас, прекратим это. Я ничего не хочу слушать. - Вы можете передать ему через меня… - Всего хорошего, - сказала Мария и перебежала на другую сторону улицы. Уткин тем же вечером уехал из города поездом домой, через Москву. Свой доклад Владимиру Гавриловичу Маркову в Москве Павел начал с такого заявления: - Как хотите, а понять зарубежных хозяев Михаила невозможно. - Почему? - Смотрите, что получается. Уткин ездил к Марии для того, чтобы как-то и что-то там проверить, да? - Предположим. - Следовательно, они с самого начала, то есть с момента возвращения Михаила, не верят ему? - Скажем, не до конца доверяют. - Хорошо. Заметим это. Дальше: Уткин настолько уверен, что за ним никакого «хвоста» быть не может, что почти не проверялся. Что это значит? Как, по-вашему, Владимир Гаврилович? - Они считают его надежно законспирированным. - Как же так? - с подначкой спросил Павел. - Первый человек, которого увидел Уткин на нашей земле, был Михаил - подозреваемый Михаил. Значит, с первого шага Уткин должен быть на крючке. Или я неправильно рассуждаю? - Вроде все на месте. - Тогда где же логика? - Действительно, не вяжется, - согласился Марков. - Дальше. Я могу построить еще одно рассуждение - и опять получится совершенно кособокая вещь. - Например? - Примем как данное, что они считают Уткина засвеченным. Значит, легко сообразить, что мы Марию предупредили о его визите. К чему тогда вся эта петрушка? - А ты не допускаешь… - Простите, Владимир Гаврилович, я знаю, что вы хотите сказать. Все проверено: Уткинприехал один, за нами «хвоста» не было. - Стало быть, остается признать, что Уткин ездил с честными намерениями? - поддразнивая Павла, спросил Марков. - В таком случае я вообще отказываюсь понимать высокий полет мысли тех гениев, которые велели Уткину съездить к Марии. Набор вопросов был примитивный. Когда Павел переходил на столь изящный слог, это значило, что обсуждаемый вопрос в силу своей абсурдности перестал его волновать. Сообразуясь с этим, Марков предложил: - А теперь все-таки начнем сначала. Расскажи по порядку. - Я записал для точности. Павел вынул из кармана вчетверо сложенный листок, где был зафиксирован разговор Уткина с Марией, - дословно, с ремарками, сделанными Марией. В ответ Марков дал Павлу прочесть одно из писем Михаила Тульева, в котором тот сообщал о подозрениях Себастьяна относительно него, о проверках на лояльность и о глухой борьбе между Себастьяном и Монахом. - Может быть, ты прав насчет того, что Себастьян немного не в ладах со здравым смыслом, - сказал Марков в заключение беседы. - Что касается примитива, тут я затрудняюсь… Во-первых, в таких делах до сих пор действует старое правило: чем проще, тем вернее. Во-вторых, мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии - только предлог, а главная задача совсем в другом. Мы знаем не все. - Вы, Владимир Гаврилович, себе противоречите, - не без ехидства заметил Павел. - Говорите: чем проще, тем лучше, и тут же сами все усложняете. Марков усмехнулся: - Так мы же не догматики. Мы живые люди. …Беседа эта происходила 27 апреля 1972 года. 28-го Уткин вернулся к себе домой. 29-го было получено обширное сообщение от Михаила Тульева, и тот день положил конец спокойствию, царившему в старом, начавшемся еще десять лет назад деле. Все пришло в движение. Михаил уведомлял Маркова, что в скором времени, не позже середины мая, в Советский Союз будет переброшен агент с серьезными задачами, которого он, Михаил, имел честь готовить к засылке и который ему был представлен под именем Владимира Прохорова, а на самом деле это Карл Брокман. Далее следовал подробный словесный портрет и жизнеописание Брокмана. Прилагались три фотокадра, на которых Брокман был снят Михаилом анфас и в профиль. Способ заброски Михаилу неизвестен. Михаил особо подчеркивал, что Брокман в недалеком прошлом профессиональный наемный убийца. И строчкой ниже по ассоциации напоминал о своем предыдущем сообщении, в котором он рассказывал о разговоре с Монахом, когда Монах интересовался, сможет ли Павел ликвидировать человека. В бесстрастном деловом изложении Михаила все это выглядело так буднично, так обыкновенно - «профессиональный убийца», «ликвидировать», - что стороннему человеку стало бы не по себе. Подобные вещи неудивительны в ночных кошмарах, в фантасмагориях больного ума, а тут - служебное донесение. Но они - реальность, и никуда от этого не денешься. Даже самое древнее средство тайной войны - яды - пока не списано за ненадобностью в сверхнаучном двадцатом веке… Марков в тот же день доложил о сообщении Михаила Тульева генералу и собрал на совещание всех своих работников, причастных к операции «Резидент». Сообща наметили круг мероприятий, необходимых для того, чтобы как полагается встретить появление Брокмана, каким бы ни оказался способ его переправы. В остальном оставалось только ждать. После праздников, 4 мая, Марков получил еще одно важное сообщение: Уткин подал на работе заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию. 2 мая Уткин выходил в эфир первый раз за все время пребывания в Советском Союзе. Его радиограмма очень коротка, передача длилась несколько секунд. Работал на незнакомом шифре. Дешифровка может доставить затруднения. 8 мая на почтамте в приволжском городе на имя Потапова, то есть Павла Синицына, была получена открытка. В ней его безымянный Друг (так была подписана открытка) извещал, что скоро приедет в Москву и что очень хочет повидаться. А о дне приезда еще сообщит, поэтому пусть Павел заглядывает на почтамт каждый день. Уткин не хотел ждать, когда пройдут положенные две недели со дня подачи заявления, и добился расчета 6 мая. Начальник телефонного узла отпускал его с большой неохотой. Уткин получил все свои документы - паспорт с отметкой о выписке, военный билет со штампом о снятии с учета, трудовую книжку, профсоюзный билет и разные справки, попрощался с товарищами по работе, угостив женщин десертным вином и шоколадом, а мужчинам выставив три бутылки коньяка, и 9-го отбыл в Москву. Выстояв на Курском вокзале длиннейшую очередь, он взял билет на поезд Москва - Батуми. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что ехал Уткин налегке, как в санаторий. За несколько лет оседлой жизни он успел обрасти вещами, но с собой взял только то, что влезло в стандартный чемодан средних размеров. Все другое - телевизор, два пальто, одеяла, подушки, постельное белье и прочее - оставил хозяину дома, сказав, что, может быть, вернется за барахлом, когда обоснуется на новом местожительстве. «Спидолу» он нес на ремешке, перекинутом через плечо. В Батуми Уткин по совету милиционера, к которому обратился на вокзале, отправился в бюро, ведавшее сдачей жилья неорганизованным курортникам, и, так как сезон только начинался, ему тотчас предложили на выбор пяток различных вариантов. Он выбрал комнату в большом новом доме недалеко от порта на очень оживленной улице. Хозяевами двухкомнатной квартиры оказались пожилые супруги, пенсионеры. Уткину квартира понравилась. Он заплатил за месяц.Глава 15 «МЫ ЗНАЕМ НЕ ВСЕ…»
Сопоставление действий Уткина и сообщения Михаила Тульева о переброске Брокмана напрашивалось само собой. Первым делом полковник Марков запросил сведения о прибытии в черноморские порты круизных лайнеров: тот факт, что в свое время Уткин прибыл именно на таком лайнере и, оставшись на берегу, отдал Михаилу свой пропуск для возвращения на борт, давал основания предположить, что история может повториться, тем более что тогда все сошло по видимости благополучно. Выяснилось, что греческий теплоход «Олимпик» прибывает в Батуми (с тем, чтобы затем отправиться в Одессу с заходом в Сочи и Ялту) 17 мая. Он везет двести пятьдесят туристов из различных стран Европы и Америки. Элементарная эта догадка, если она окажется правильной, не противоречила всему остальному. Если Уткин встретит Брокмана и уйдет на «Олимпике» вместо него - получит объяснение и оправдание его многолетняя беспорочная жизнь в Советском Союзе, обретет смысл казавшееся бессмысленным существование агента-болвана. И все бы получилось как нельзя лучше, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. Полковник Марков сам же сказал: «Мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии - только предлог, а главная задача совсем в другом», - следовательно, он допускал возможность возникновения каких-то неожиданных ситуаций. Собственно, то, что произошло, трудно назвать ошибкой. Просто приходится признать, что в данном эпизоде разведцентр оказался хитроумнее, чем полагали. Был момент, который подтверждал правильность действий контрразведчиков: вечером того дня, когда Уткин прибыл в Батуми, в эфир выходил какой-то радиопередатчик, работавший в черте города. Этот факт, естественно, увязали с прибытием Уткина. Передача была очень короткой, почти мгновенной. Вероятно, послано сообщение: «Прибыл» или «Я на месте». А может быть, адрес. Обратила на себя внимание резкая перемена в поведении Уткина. Если при поездке к Марии он не таился, не проверялся, то в Батуми сделался отшельником. Только раз он вышел из дому, чтобы посмотреть пассажирский морской вокзал. А потом - никуда. Старикам хозяевам он сказал, что неважно себя чувствует, еще не акклиматизировался. Они ходили на базар за продуктами для него. Так продолжалось до 17 мая. Чтобы правильно понять и оценить то, что произошло 17-го, необходимо протокольно точное описание. Для вящей точности мы прибегнем к необычному, но вполне законному приему: без скобок дано то, что не надо было скрывать, а в скобках - то, что действующие лица стремились сохранить в тайне. «Олимпик» должен был ошвартоваться в Батуми в 10 часов. Уткин проснулся в шесть. Побрился, умылся. Прежде всего он разложил посреди комнаты чемодан, достал из него синюю пластиковую сумку и положил в эту сумку кое-что из своего белья - рубашки, майки, все неношеное, - затем «Спидолу» - ту, что была радиопередатчиком. На нее - все свои документы, пачки денег, а сверху еще кое-что из белья. Задернув «молнии», он сунул сумку в шкаф, закрыл чемодан и поставил его рядом с сумкой. Вторую «Спидолу» он повесил на плечо - вот когда начала работать на дело тайная покупка второй «Спидолы», которая в отличие от первой была обычным радиоприемником. Затем постучал к хозяевам. Вышедшей в коридор старушке он сказал: - Нателла Георгиевна, на почту надо, домой позвонить. - Поправились? Ну, сегодня денек хороший. - Хочу вас предупредить. Ко мне должен заехать друг, зовут Володя… Пусть тут распоряжается… Он ненадолго. - Да хоть бы и надолго. Нам не тесно. Комнату Уткин не запер… До порта было пятнадцать минут ходьбы. «Олимпик» встречали только автобусы «Интуриста», гиды и предприимчивые продавщицы цветов. Уткин на причал не вышел, ждал внутри вокзала, у входа. Когда носовые и кормовые швартовы были закреплены на кнехтах, спустили трап, и на борту тут же началась несложная процедура, предшествующая переходу туристов с лайнера на берег. Пограничники - офицер и два сержанта, - которые для ускорения дела поднялись на «Олимпик» с катера еще в море, расположились у трапа, сержанты держали в руках длинные полированные ящички. Сходили группами по двадцать пять человек. Старший группы отдавал офицеру паспорта и предъявлял список туристов. Офицер передавал паспорта сержанту, а тот складывал их в ящичек. Затем туристы по одному подходили к трапу, пограничники вручали каждому пропуск, а контрольный талон, оторванный от него, оставляли у себя. Первая группа минуты через три была уже на твердой земле. Пассажиров окружили цветочницы. Гиды стояли чуть поодаль, готовые приступить к своим обязанностям. Щелкали затворы фотоаппаратов, шипели кинокамеры, ярко светило солнце и ярко зеленела зелень. Все как полагается. Всякому, кто наблюдал бы, как сходила эта группа, нетрудно было выделить в ней одного человека - мужчину лет тридцати пяти, который еще с борта искал кого-то глазами на берегу. Если бы к тому же наблюдающий знал в лицо Карла Брокмана, он бы нашел, что этот турист очень на него похож. К группе подошла девушка-гид, поговорила со старшим, и тот по-немецки объявил номер автобуса, который их ждал. Группа двинулась нестройными рядами к автобусам, но не вся: озабоченный турист отделился и направился к зданию морского вокзала, из дверей которого показался Уткин со «Спидолой» на ремешке. Тут с ним опять произошла перемена. Уткин отдал «Спидолу» туристу, и тот повесил ее себе на плечо. Пожав друг другу руки, они не спеша зашагали в город. Они мирно беседовали по-немецки, и вид у них был беспечный, словно у двух добрых приятелей, собравшихся в субботний день на футбол. Уткин то и дело смеялся. Они приобрели в галантерейном ларьке холщовую сумку с изображением ковбоя в жеваной шляпе, синего, с перекошенным, как от зубной боли, лицом, затем прошлись по магазинам, и сумка наполнилась марочными винами. (Между тем в третьей группе туристов на берег сошел Карл Брокман, числившийся в списке под чужой фамилией, - его уже никто не встречал, никто не приметил, так как все наше внимание отдано Уткину и его спутнику. Одет он был почти как Уткин, только рубаха была не голубая, а темно-синяя. В одной руке он нес кофр, какими пользуются фотокорреспонденты, в другой держал пиджак. Покинув свою группу, отправившуюся к автобусам, Брокман, не теряя времени, сел в обычный рейсовый автобус и проехал пять или шесть остановок. Потом сошел. Без четверти одиннадцать он вошел в дом, где остановился Уткин, - адрес, сообщенный в разведцентр радиограммой, он запомнил, уходя в последний раз с виллы Монаха.) - Добрый день, - сказал Брокман открывшей дверь Нателле Георгиевне. - Если не ошибаюсь, у вас остановился Владимир Уткин. - Да, да, проходите, пожалуйста, - ласково пригласила она. - Вас ведь тоже Володей зовут? Будьте как дома, вот его комната. Он сказал, на почту пошел, позвонить. - У меня кое-какие дела. Ничего, если туда-сюда ходить буду? - О, пожалуйста, - поспешила успокоить его Нателла Георгиевна. - А хотите, я дам вам ключ от квартирной двери? У нас есть запасной. - Не надо. - Ну располагайтесь. - И она ушла к себе. Брокман оглядел комнату Уткина, заглянул в шкаф, достал сумку. Затем вынул из кармана плотную, как картон, карточку - это был пропуск на «Олимпик», Брокман сунул его в карман висевшей на спинке стула коричневой куртки Владимира Уткина. Оставалось лишь переложить в сумку содержимое кофра. Сделав это и оставив кофр в комнате, Брокман взял сумку, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, и покинул квартиру. На поиски машины, которая шла на Тбилиси, ему потребовалось всего несколько минут. В то время как Брокман выехал из Батуми в столицу Грузии, поразительно похожий на Брокмана турист и Уткин, нагрузившись покупками, пришли к Уткину домой. Нателла Георгиевна сообщила, что приятель заходил, но тут же куда-то исчез. Уткин сказал: - У каждого свои заботы. В комнате он первым делом проверил карманы куртки и, найдя пропуск на корабль, положил его себе в карман брюк. - На паспорте фотокарточка твоя, - сказал турист. - Знакомая история. Говоря так, Уткин имел в виду историю своей засылки в Советский Союз. Тогда он сходил на берег и уступал свое место Михаилу Тульеву, и на его паспорте, который сдавался пограничникам, было наклеено фото Тульева, чем-то напоминавшее его собственные черты. Они посидели немного, покурили и покинули квартиру, оставив все вещи и не простившись с хозяевами. Непредсказуемо вели себя Уткин и турист, особенно последний. По всем правилам, он бы должен был остаться, раз уж ему в этой ситуации отвели роль Брокмана. А он вместе с Уткиным, дождавшись, когда к трапу подошла большая компания вернувшихся с экскурсии пассажиров «Олимпика», присоединился к ним и поднялся на борт. Никаких недоразумений не последовало. В том, что произошло, полковник Марков видел собственную ошибку, о чем он прямо сказал Павлу, когда они встретились ночью на загородной даче. - Грубой ошибки вроде нет, - попробовал смягчить выводы Павел, впрочем, без всякой убежденности. - Мы могли бы предусмотреть незатейливый фокус с этим третьим, - возразил Марков. Павел упорствовал: - А может, это не третий? Может, Брокмана и не было? В другое время Марков, наверное, употребил бы здесь ядовитую шуточку, но сейчас не считал это уместным. - Для чего же, объясни, Уткин делал все так демонстративно? Буквально лез на рожон… И не рано ли мы ослабили наблюдение за квартирой, где он остановился? Павел пожал плечами и ничего не ответил. - Молчишь? - сказал Марков и посмотрел на часы. - Насчет того, третий это или не третий, узнаем утром. Одно могу сказать тебе совершенно точно: перед Иваном Алексеевичем мне было бы вот как стыдно. Наш с тобой новый начальник попервости еще с нами деликатничает, а мы достойны… достойны… Упоминание об их прежнем начальнике - генерале Иване Алексеевиче Сергееве, при котором Павел поступил в управление, который вел их столько лет и вдруг скончался от инфаркта минувшей зимой в свои неполные пятьдесят семь лет, - сделало настроение еще более печальным. Стараясь стряхнуть его, Павел начал размышлять вслух: - Ну, допустим, Уткин с этим типом выставляли себя напоказ, чтобы отвести внимание от Брокмана. А тот, конечно, не терялся… Марков смотрел на него не перебивая. Павел продолжал: - Если так - плохи наши дела. Значит, Уткин и вправду ездил к Марии, чтобы провериться. Пора подавать рапорт по собственному желанию. Срисовал меня Уткин, а я-то сам себя нахваливал: мол, чистенько сделано, Уткину даже ни разу не померещилось. - Ты не один был, - напомнил Марков. - Что об этом толковать? Теперь надо дальше глядеть, а мне, если честно, и заглядывать тошно. - Расплакался, - проворчал Марков. - Но ведь все летит к черту! - не выдержал Павел. - Почему же? Павел выставил растопыренную пятерню и начал загибать пальцы: - Брокман ушел - раз. Уткин меня раскрыл - два. Что с Михаилом будет - три. Эта вспышка словно придала Маркову спокойствия. - Тебя он мог и не видеть. - Раз он ездил ради проверки, значит, они раньше подозревали. Одним узлом все связано. - К тебе они никогда особого доверия не питали. - Я-то ладно. Что будет с Михаилом?… - Посмотрим. Возможно, придется отзывать. Ему и здесь дела хватит. А Брокман, что ж… Мы не с пустыми руками… Давай-ка спать, подъем - ни свет ни заря… Они разошлись. Полковник Марков говорил верно - у них в руках кое-что имелось. Главное - фотографии Брокмана, сделанные Михаилом Тульевым. Были также известны некоторые привычки Брокмана. Правда, судя по всему, надежду на то, что Брокман будет жить по документам Владимира Уткина и использовать тщательно подготовленную им легенду, придется оставить. Какой же нелегал станет скрываться под «крышей», которую знают в контрразведке и которую видно за тысячу километров? Но, во-первых, разыскивали людей и при менее определенных приметах, а во-вторых, все значительно ускорится и облегчится, когда Брокман начнет действовать. Можно было рассчитывать, что он прибыл в страну не для того, чтобы, подобно Уткину, зарыться в нору и тихо сидеть месяцами и годами… Как и обещал, Марков разбудил Павла рано - не было еще и шести. Утро выдалось солнечное, на голубом небе - ни облака. И настроение у них немного поправилось. Пока Павел делал на поляне зарядку, Марков звонил в Москву. Но весть из Батуми пришла только через час, когда они уже позавтракали. Худшие предположения подтвердились: Нателла Георгиевна, хозяйка квартиры, где останавливался Уткин, рассказала навестившему ее сотруднику КГБ, как приходил накануне друг ее жильца Володя. По ее довольно подробным описаниям, это был Брокман, хотя не все особенности внешности точно совпадали.Глава 16 ВЫЗОВ В МОСКВУ
Не прошло еще и двадцати четырех часов с того момента, как на пустыре была обнаружена лежавшая без сознания, с пробитой головой Светлана Сухова, а предполагаемого преступника уже разыскивали по словесному портрету Москва и Ленинград и еще более чем в двухстах больших городах, которые через Москву получили по телетайпу необходимые сведения. Несколько позже все вовлеченные в розыск получат и фотопортрет преступника - это упростит задачу. Но для тех, кто ищет, пожалуй, еще важнее установить личность разыскиваемого: ФИО, где живет, где и кем работает и т. д. Этим в первую очередь и озабочен подполковник милиции Михаил Петрович Орлов. Как положено, дело приняла к производству прокуратура, и ее следователь тоже начал работу. Учитывая то немаловажное обстоятельство, что человек, которого звали Виктором Андреевичем, имел какие-то причины бояться фотообъектива (это явствовало из рассказа Алексея Дмитриева), был предпринят поиск и в другом направлении - в прошлое. Сделали запрос в картотеки, где зарегистрированы люди, судившиеся и отбывавшие наказание за уголовные преступления. Оставалось только немного подождать, чтобы выяснилось, не преступал ли ныне подозреваемый советские законы в прежние годы. При коротком совещании с майором Семеновым из КГБ, с которым Орлова связал начальник городского управления МВД, они договорились о взаимодействии, о разграничении сфер и специально о линии поведения по отношению к прибывающему в город итальянцу Пьетро Маттинелли. Майор первым делом отправил фотопортрет Виктора Андреевича по своим каналам, чтобы установить, не числится ли он среди разыскиваемых государственных преступников. Машина заработала. Но самым неотложным пока оставалось одно: установить личность того, кто звался Виктором Андреевичем. Это удалось сделать на второй день. В жилищно-эксплуатационной конторе N 4 паспортистка узнала на фотографии одного из жильцов кооперативного дома, выстроенного на территории этого жэка. Паспортистка, между прочим, сказала, что у него есть автомобиль «Жигули». Дальше не составило труда выяснить, что Виктор Андреевич Кутепов, ныне пенсионер, до 1971 года работал адвокатом в юридической консультации Центрального района, состоит членом городской коллегии адвокатов. Из личного дела, лежащего в райсобесе, явствовало, что пенсионер Кутепов окончил в 1935 году Харьковский университет, до войны был следователем в Донбассе, а во время войны, призванный в армию, работал в военной прокуратуре; после сорок пятого года - здесь, в городе. Холост, одинок. Беспартийный. Был записан и домашний телефон. Сказать, что в юридической консультации хорошо помнили Кутепова, - значит употребить неподходящее выражение. Хоть он официально и числился на пенсии, с родным коллективом, как говорится, не разлучался. Часто бывал в конторе, по просьбе коллег подменял их на дежурстве. Иногда брался вести защиту по гражданским делам. Отзывались о нем самым наилучшим образом. Прежде чем отправиться по местожительству Виктора Андреевича, Орлов позвонил ему на квартиру. Телефон не отвечал. Квартира была заперта на два замка. Домоуправ, по просьбе Орлова говоривший с соседями Кутепова, сказал, что никто его не видел уже дня два или три. Гараж Кутепова, который показал ему тот же домоуправ, был пуст. Орлов испросил и получил у прокурора санкцию на вскрытие квартиры и гаража. Кутепова ни живого, ни мертвого ни там, ни здесь не было. Следов поспешного бегства квартира не носила. Утром 24 мая, в среду, Орлов позвонил в КГБ майору Семенову, сообщил добытые сведения. Поблагодарив, Семенов сказал: - Сеть заброшена, посмотрим, что будет. Теперь самое время с Нестеровой поговорить. Как думаешь? Они сразу, с первой встречи, перешли на «ты» - отчасти потому; что были примерно одного возраста, отчасти по некоторому сходству профессий, но больше, пожалуй, по взаимной симпатии. - Ты сам хочешь? Или мне заняться? - уточнил Орлов. - Этот итальянец может прибыть рейсом в четырнадцать двадцать или на вечернем. Если ты ее сейчас разыщешь и к себе доставишь, я бы тоже приехал. - Попробую. Галину Нестерову застали дома. В половине десятого она была в кабинете Орлова. Пятью минутами позже пришел Семенов. По предложению Орлова все сели за приставной стол - Орлов с Галей по одну сторону, Семенов - напротив. Орлов сказал: - Просим вас, Галина Николаевна: не считайте это формальным допросом. Нам необходимо знать как можно больше об отношениях вашей подруги с Виктором Андреевичем. Состояние оглушенности, в которое повергла Галю весть о несчастье со Светланой, еще не прошло окончательно - это было заметно и по испуганному взгляду, и по вялости движений, но все же сейчас она выглядела не такой бледной и убитой. - Как чувствует себя Светлана? - робко спросила она. Орлов сказал правду: - Пока неважно. - Вы с нею разговаривали? Для человека, хотя и вызванного не ради формального допроса, но причастного к расследованию тяжкого преступления, ответ на этот вопрос имел первостепенное значение, легче отвечать самому на вопросы следователя. Но надобно быть крайне наивным, чтобы вот так, ничтоже сумняшеся, выведывать тайны следствия. Именно поэтому Орлов, как и Семенов, понял, что Нестерова задала свой вопрос без всякой задней мысли. - Нет, - сказал Орлов. - Она не может говорить. Она без сознания. Галя опустила голову. Выдержав небольшую паузу, Орлов спросил: - Вы давно дружите? - Со школы, с восьмого класса. - И маму знаете? - Конечно. - А Виктор Андреевич когда появился? - В прошлом году. - На какой почве Светлана познакомилась с Виктором Андреевичем? Галя ответила не сразу, словно хотела вспомнить подробности. - Он знал Пьетро. - И Пьетро познакомил вас с Виктором Андреевичем? - Нет. Виктор Андреевич привез Свете посылку. - Какую посылку? - Он ездил в Италию, Пьетро с ним передал. Семенов поглядел на Орлова, сделал, прочертив рукой в воздухе, какой-то знак, непонятный Гале, но Орлов прекрасно его понял, поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика фотокарточку, дал ее Семенову, а тот положил карточку перед Галей и сказал: - Вы говорите, Виктор Андреевич знал Пьетро. Посмотрите на этот снимок внимательно… Галя с удивлением посмотрела на знакомую фотокарточку и перевела взгляд на Семенова. - Это мы в кафе «Над рекой». - А кто, по-вашему, за соседним столиком? Видите - встает с кресла… Она снова посмотрела на снимок и сказала неуверенно, полувопросительно: - Похож на Виктора Андреевича. Когда Орлов позавчера показывал Галине Нестеровой крупно выкадрированное из этого снимка лицо Виктора Андреевича, она четко, без колебаний узнала его, а сейчас заколебалась. Объяснить это нетрудно, но лишь при одном условии - если в момент съемки подруги еще не были знакомы с ним. Орлов спросил: - Тогда вы уже знали Виктора Андреевича? - Нет… нет… К Светлане он позже пришел, гораздо позже, - на секунду оживившись, ответила Галя. - А тут он был отдельно? - спросил Семенов. - Во всяком случае, не с нами… - И не заговаривал? - Нет. - Что же получается? Ведь вы утверждаете, что они с Пьетро знакомы… - Не понимаю, - виновато призналась Галя. Орлов и Семенов посмотрели друг на друга. Одно из двух: или Виктор Андреевич и Пьетро Маттинелли действительно хорошо знали друг друга еще до момента съемки, и тогда надо предположить какой-то непонятный сговор между ними, или они вообще незнакомы, и в таком случае ко всему последующему имеет отношение один Виктор Андреевич. - Хорошо, - сказал Семенов. - Виктор Андреевич передал посылку от Пьетро… Что же в ней было? Галя слегка пожала плечами. Вопрос был ей явно неприятен. - Разные вещи… Косметика… - Дорогая посылка? - Да… Довольно дорогая, - неохотно ответила Галя. - И вещи итальянские? - Не только. - На вашу долю тоже что-то было? - продолжал Семенов. - В тот раз… - Она замялась. - Простите, я должна сообразить… - А был разве и другой раз? - не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос, спросил Семенов. Галя кивнула. - И опять через Виктора Андреевича? - Да. - И сколько же посылок получено? - Три, - сказала совсем тихим голосом Галя. Помолчали. Потом вновь вступил в разговор Орлов: - И что же? Как все это мотивировалось? - Виктор Андреевич говорил: Пьетро любит Светлану. Орлов не объяснил, что он имеет в виду, но Галя мгновенно разобралась в умолчаниях. Это многое прояснило для Орлова и Семенова: стало быть, вопрос попал, если можно так выразиться, на готовую почву - стало быть, этим вопросом уже задавались. И ответ не разумелся сам собой. - А лично для себя Виктор Андреевич никаких выгод не искал? Галя начинала, вероятно, уставать от этого разговора. Слишком велико для нее было напряжение последних двух дней. Она вздохнула глубоко и протяжно и сказала еще более тихо: - Наоборот. - Как это понимать? - спросил Семенов. - Он нас еще и угощал. - Дома у него бывали? - Нет. - А он у вас? - Как-то заезжали ко мне на часок. Втроем… Семенов сказал: - Ну, что ж… Пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам, Галина Николаевна… Она встала. Встали и они. - Я вам еще понадоблюсь? - спросила она. - Не исключено, - сказал Орлов. - Вас это беспокоит? - Понимаете, мама хочет, чтобы я уехала отдыхать. - Далеко? - В Крым. - Но у вас, если не ошибаюсь, в институте сессия начинается. - Зачеты я уже сдала, а экзамены можно потом. - Ну, это дело хозяйское, - сказал Семенов. - Вы только адрес нам оставьте, и можете ехать. Орлов дал ей лист бумаги со своего стола, вынул из кармана шариковую ручку. Она написала адрес того друга их семьи, отставного генерала, у которого они с матерью отдыхали вот уже несколько лет подряд: Крым, Алушта… Отпустив Галину Нестерову, Орлов и Семенов расстались. У каждого из них были свои дела. Орлов вызвал Алексея Дмитриева и отправился с ним вместе сначала к нему домой, а потом в гараж. Орлова интересовали замки, но сам он мало в них разбирался, и, осмотрев дверные запоры квартиры и гаража, он позвонил от Леши на вагоноремонтный завод, где работал старик-слесарь, великий знаток замков, к знаниям которого угрозыск прибегал для экспертиз и консультаций, и послал за ним машину. В ожидании слесаря Орлов и Леша толковали на отвлеченные темы и пили квас, сваренный отцом Леши еще к Первому мая. Когда слесарь приехал, Орлов объявил Леше, что замки входной квартирной двери и гаража придется изъять, а на их место поставить новые. Слесарю Орлов сказал, чтобы он тут же съездил в магазин, и дал свои деньги на приобретение замков. В старых замках Орлова интересовали те их части, которые при запирании и отпирании вступают в контакт с ключами. Слесарю надлежало разобрать замки и отвезти упомянутые части в оперативно-технический отдел УВД. Но прежде дядя Веня должен вставить купленные замки взамен старых. Отдав эти распоряжения, несложные для века научно-технической революции, но жизненно необходимые не только для сохранности имущества квартиры Дмитриевых, а и для следствия по делу, Орлов удалился. Несравнимо сложнее была задача, поставленная Орловым перед специалистами оперативно-технического отдела. Им предстояло ответить на вопрос: открывались ли когда-нибудь замки, изъятые из квартиры и гаража Дмитриевых, каким-либо из предъявленных Орловым одиннадцати ключей. Эти ключи он в присутствии понятых обнаружил порознь в ящиках и ящичках в квартире и гараже Виктора Андреевича Кутепова. Задача трудная, особенно если учесть время, которое всегда работает на руку преступникам и против тех, кто их ищет. Тот, кто причастен к пропажам в семье Дмитриевых, открывал замки почти год назад. Сколько раз после этого открывались и закрывались они… Разве удержится в замке хоть какой-то след постороннего ключа на протяжении года? Архитрудная задача у лабораторных экспертов-криминалистов, но в практике Орлова уже были случаи, позволявшие ему теперь верить даже в невозможное. Например, то недавнее дело об убийстве коллекционера Ю. Разных версий, одинаково правдоподобных, было там чуть ли не два десятка, и каждая довольно убедительно обосновывалась. А Орлов остановился на самой неправдоподобной. У человека, которого он заподозрил, имелось крепкое алиби. И ни одной, хотя бы самой косвенной, улики. Главное, подозреваемый утверждал, что никогда не бывал в квартире убитого и даже не знал его адреса, а Ю. убили именно дома. Как раз в то время оперативно-технический отдел получил новый прибор - лазерный микроанализатор, и начальник отдела Лузгин устроил короткую лекцию для инспекторов угрозыска и следователей прокуратуры: рассказал о широких возможностях этого прибора, призвал всех собравшихся не забывать о нем в повседневной работе. Орлов, кажется, первым решил прибегнуть к помощи лазерного микроанализатора. Эксперты отдела взяли образцы тканей с кресел в квартире Ю. и костюмов подозреваемого. Спектроанализ зафиксировал в тканях одного из кресел наличие неопровержимо присутствующих ворсинок материала, из которого был сшит один из костюмов. И когда Орлов сказал подозреваемому, в каком он был костюме на квартире у Ю. и в каком кресле сидел, тот раскололся, как орех под чугунным утюгом, - с первого удара всмятку. Так что, если какой-нибудь ключ из связки, отданной Орловым в лабораторию, ковырялся в замках Дмитриевых, криминалисты найдут его следы, а нет… Ну что ж, в таком случае он, Орлов, завяжет свою инициативу вместе с индукцией и дедукцией в тряпочку и пойдет в ученики к стажеру Удовицкому, который работает у них в управлении уже три месяца и все делает строго по учебникам и по наставлениям теоретических светил юриспруденции. Нет, он, Орлов, выпускник МГУ, тоже категорически за науку, но, видно, не умеет он применять на практике новейшие научные достижения. Если окажется, что Кутепов тут вообще ни при чем, значит, он, Орлов, пытался ignotum per ignotus*["1]. У майора госбезопасности Евгения Михайловича Семенова заботы были более деликатного свойства. Предстояло установить, какова во всем, что теперь выяснилось, роль итальянца Пьетро Маттинелли. Когда дело касается иностранных подданных, права следователя регламентируются не только законом. Тут он вступает в область, где сверх обычных норм действуют правила протокола. Семенов провел пять часов на химкомбинате, где Маттинелли вместе с другими итальянскими специалистами и советскими инженерами и рабочими монтировал прибывшее из Италии оборудование для азотно-тукового комплекса. Майор разговаривал с несколькими работниками химкомбината, в том числе с инженером, который имел право называть Пьетро Маттинелли своим другом (они переписывались, инженер давал Семенову читать письма Пьетро). Из людских отзывов, которые всегда вернее любой писаной характеристики, складывался удивительно симпатичный образ цельного, открытого, прямого человека, умеющего пошутить и не обижающегося на шутку, по-русски отходчивого. Он не прилагал усилий, чтобы завоевать авторитет, не заискивал, не подлаживался, а между тем к нему скоро стали прислушиваться. Вся жизнь его была на виду. Даже семейные дела Пьетро становились известны чуть ли не всему комбинату в тот же день, как он получал письмо из Милана (приводился в пример тот случай, когда мать Пьетро жаловалась ему на его младшую сестру, исчезнувшую из дому на три дня). Пьетро участвовал в самодеятельности - разумеется, как певец. Выступал за сборную баскетбольную команду химкомбината. (Не для печати было сказано, что он также считался лучшим среди ИТР игроком в покер.) Работал же Пьетро в отличие от некоторых своих соотечественников не «от» и «до», а столько, сколько требовалось по ходу дела, как привыкли при авральных монтажах советские инженеры, то есть под самую завязку, до ряби в глазах. В общем, он заслужил на комбинате не очень-то легко дающуюся репутацию своего парня. Все это имело немаловажное значение для характеристики личности Пьетро Маттинелли. Но еще большее значение придавал майор Семенов тому, как поведет он себя в этот приезд. Пьетро должен пробыть в городе всего четыре дня. Цель его командировки - окончательно урегулировать вопрос о мелких несоответствиях с первоначальным проектом, которые выявились за истекший год. Итальянская фирма, заботясь о своей высокой марке, настояла на скрупулезно точном исполнении заказа, и вот именно ради этого и прибывает инженер Маттинелли. Он прилетел из Москвы рейсом в четырнадцать двадцать. Встретил его тот самый инженер, с которым они подружились и которому Пьетро писал письма. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Потом, оживленно разговаривая, дождались выдачи багажа, взяли каждый по чемодану и вышли на площадку, где их ждала комбинатская машина. Для Пьетро был заказан номер в той же гостинице «Москва», где он прожил целый год, этажом ниже. Товарищ думал, что он захочет сразу устроиться и отдохнуть, но Пьетро попросил прежде всего подвезти его к универмагу. Оставив в машине недоумевающего провожатого, Пьетро скрылся за вращающимися дверями. По лестнице он взбежал, прыгая через две ступеньки. Но порыв его иссяк, едва он увидел за прилавком секции грампластинок не ту, которую жаждал увидеть: - Скажите, пожалуйста, Светлана Сухова… - начал он растерянно, и девушка, уменьшив звук поворотом ручки на проигрывателе, крутившем «Лайлу» в исполнении Тома Джонса, не дала ему договорить: - Она не работает. - Простите, только сегодня или… - Пройдите к директору. Я не в курсе. Она двумя движениями руки - сначала вниз, потом вправо - показала, как пройти к директору. Пьетро сбежал по лестнице. Директор, необъятно полная женщина с миловидным лицом и мужским голосом, сначала пожелала узнать, кто такой Пьетро, а уж потом сказала, что Сухова очень больна и лежит в больнице. Ни адреса больницы, ни домашнего адреса Светланы она ему не дала. Из универмага в машину Пьетро вернулся как с похорон. Друг не понимал, откуда взялись эти тучи на челе веселого еще десять минут назад итальянца, возбужденно вопрошавшего: «А помнишь?» - и звонко хохотавшего по всякому поводу. Догадаться, правда, было нетрудно, однако друг тактично не заметил ничего. Донеся чемоданы до номера, он простился с Пьетро, сказав, что на комбинате его ждут завтра утром. Машина будет в девять у подъезда. По пути в гостиницу «Москва» майору Семенову вспомнилось прочитанное у Юрия Олеши выражение - оскомина души. Сначала он недоумевал: почему бы вдруг? Но скоро понял: выражение это как нельзя более точно определяло его собственное состояние. Память тут же уточнила, что у Олеши сказано не про душу, а про пальцы. Может, и про оскомину души кто-нибудь тоже писал, но Семенов не помнил. Он перефразировал непроизвольно: именно какая-то противная оскомина души появлялась у него всякий раз, как он думал о неизбежном визите к Пьетро Маттинелли. Он как будто чувствовал себя виноватым. И знал, что оскомина не пройдет, пока он не покончит с этим неприятным делом. Однако настраивать себя на такой лад было бы просто непрофессионально. Поэтому, поднявшись в лифте на этаж, где жил Пьетро Маттинелли, майор Семенов постарался успокоиться. Итальянец все еще был мрачен, но встретил Семенова приветливо. Выслушав искренние сожаления по поводу того, что его вынуждены побеспокоить, и поглядев в раскрытое Семеновым служебное удостоверение, он не поднял брови вверх и не оскорбился. Сели к журнальному столику. Закурили. Семенов сказал: - Я вижу вас впервые, но мне известно многое о вашей жизни у нас. - Чем могу быть полезен? - вежливо спросил Пьетро. - Мне необходимо услышать кое-что от вас лично. Но вам неинтересно узнать, почему и откуда я собирал сведения? - Это все равно, - без всякой наигранности, безразлично заметил Пьетро. - В таком случае несколько вопросов. Вы знакомы с продавщицей универмага Светланой Суховой? - Да, конечно. - По лицу Пьетро можно было заметить, что ему хочется задать встречный вопрос, но он сдержался. - Вы посылали ей из Италии посылки? - Посылку… Да, посылал. - Вы меня поправили. Я не ослышался? - Да, одну посылку. - Когда это было? - О, еще в прошлом году… Да, в конце июля… Джованни ездил тогда к вам. - И письма писали? - Два раза. - Когда вы познакомились со Светланой? - В прошлом мае. Сегодня познакомился, завтра уехал. - А она вам писала? - Джованни привез от нее маленькое письмо. Семенов раскрыл свой плоский чемоданчик, вынул из конверта фотокарточку - кадр, сделанный Лешей в кафе «Над рекой». - О, у меня дома есть такая же, - обрадовался Пьетро. - Стоит на моем столе. - От Светланы? - Да, была в конверте. - Поглядите внимательно - вы всех узнаете? Вопрос был поставлен умышленно расплывчато. - Это Светлана, это Галина, это я. - Ноготь Пьетро миновал на карточке лицо Виктора Андреевича, помещавшегося между лицами Светланы и Пьетро и чуть повыше. Семенов положил карточку в чемоданчик и спросил: - Есть среди здешних ваших знакомых человек по имени Виктор Андреевич? Пьетро немного подумал. - Есть Виктор Дыбенко… Виктор Сазонов… Как их по отчеству - я не знаю. Семенов поднялся со стула. Пьетро тоже встал. - Еще раз прошу прощения за беспокойство, - сказал Семенов. - Можно мне спросить у вас? - Пожалуйста. - Я о Светлане… Что с ней? - Она внезапно заболела. - Ее нельзя видеть? - Врачи запретили. - И это надолго? - Боюсь, что да. - Это… как назвать?… Не слишком серьезно? - Достаточно неприятно. Но несмертельно. - Но какая же у нее болезнь? Может быть, надо лекарство? - Лекарство у нее есть. Пьетро в сердцах ударил кулаком правой руки по раскрытой ладони левой: - Черт! Зачем так есть?! - В волнении он словно растерял в один миг все свое знание языка. Семенов счел неуместными утешительные слова. Придя к себе на работу, он позвонил Орлову. Услышав в трубке его голос, сказал: - У тебя нет такого ощущения, что наша машина буксует? - Почему это? - спросил Орлов. - Мой клиент твоего не знает. - Уверен? - Все за то. Не верить нет причин, хотя всякое бывает. - Если ты прав… - Лучше заезжай. - Можно. Только мне надо к спецам заглянуть. Чтобы правильно описать настроение Орлова, лучше всего позаимствовать сравнение из быта хлебосольных домашних хозяек. Как чувствует себя справная хозяйка в ожидании многочисленных гостей, когда в самой большой комнате на длинном столе, на толстой скатерти, раскрылившейся по углам от тугого крахмала, в овальных, круглых, квадратных блюдах мягкими холмами высятся салаты пяти различных систем, а на плоских тарелках неизбитые - патент дома! - орнаменты рыбных и мясных закусок, когда в духовке дотамливается дородная румяная индейка, а на балконе в ведерной обливной кастрюле ждут своего часа моченые яблоки? Однако не будем продолжать в том же направлении, ибо сравнения кухонно-гастрономического порядка здесь совсем неподходящи и могут даже не понравиться Орлову, хотя он достаточно ироничен, чтобы не обижаться и на менее лестные параллели. Они неподходящи в особенности потому, что Орлов сейчас лишен семейных радостей - с тех пор, как его молодая жена, архитектор, уехала на Дальний Восток сдавать заказчикам свой проект. Скажем короче: Орлов чувствовал себя замечательно, когда шел по длинным коридорам управления в другое крыло, туда, где размещались лаборатории оперативно-технического отдела. Ему надо было получить официальное, отстуканное на машинке, подписанное и скрепленное печатью свидетельство того, что он часом раньше видел собственными глазами в лаборатории, где установлен лазерный микроанализатор. В замке, вынутом из дверей гаража Алексея Дмитриева, следов постороннего ключа не нашли. Зато в квартирном замке эти следы были так явственны, что не оставляли места для сомнений. Старший эксперт, производивший анализы, объяснил стоявшему унего за плечом Орлову, что посторонний ключ не совсем точно укладывался в пазы и вырезы замка и оставил заглубленные метки, а хозяйские ключи, притертые идеально точно, не стерли их. Старший эксперт сделал соответствующую запись на одном из одиннадцати пронумерованных конвертов - по числу ключей, представленных на экспертизу. Потом замок собрали и попробовали его закрыть и открыть ключом, взятым из отмеченного конверта. Замок с некоторой натугой, но работал. Орлов от всего сердца поблагодарил экспертов, забрал замки и ключи и отнес их к себе, спрятал в сейф, где хранил обычно вещественные доказательства. У него было замечательное настроение, потому что он хорошо подготовился к будущей - как он надеялся, недалекой - встрече с Кутеповым. Другой вопрос - придется ли ему лично с ним встретиться. Но это в конце концов не так уж важно… Сказав секретарю отдела, где его искать в экстренном случае, Орлов отправился к Семенову. - Если ты прав, - входя в кабинет, повторил он собственные слова, на которых Семенов перебил его, - если твой клиент незнаком с моим, то цена Кутепову сильно повышается. Вот, читай. Семенов пробежал глазами заключение экспертизы и сказал: - Везет милиции. - Оно конечно, - не без удовольствия признал Орлов, - только, боюсь, перейдет Кутепов в твои руки. Ты смотри, как он популярности боится: фотографироваться не хотел, а потом ради этого кадра в чужую квартиру забрался. Непростой гусь. - Будто среди уголовных не бывает… - Не уголовник он. Тут что-то другое. - А я вот гадаю, чего он вдруг так переполошился из-за какой-то карточки? - сказал Семенов, неумело изображая наивность. - Он же и паспорт получал, и на работе удостоверение. И в личном деле - фото. Скажите, катастрофа какая - щелкнул его кто-то… Орлов ждал таких соображений. - В личное дело я смотрел - там фото нет. Удостоверение человек носит при себе. А в паспортном столе милиции кому придет в голову карточки смотреть? Не-ет, он именно бесконтрольной фоторекламы опасается. Лежит где-нибудь в анналах его физия, обязательно лежит… - Орлов посмотрел на Семенова прищурившись. - Слушай, брось на мне эксперименты ставить. Ты сам как думаешь? Семенов улыбнулся. - Я думаю знаешь что? - Ну-ка? - Может, он сумасшедший, твой Кутепов? - Фантазируй дальше. Семенов откинулся на спинку стула и начал наставительно: - У вас на лице красноречивый шрам, товарищ сыщик. Можно догадаться, он добыт при исполнении служебного долга. Не правда ли? - Допустим. - Любопытно было бы послушать - где и когда? - Как-нибудь расскажу. - Хорошо, не будем отвлекаться… Кроме шрама, у вас еще есть довольно густая седина - и, надо думать, ею вы тоже обязаны службе. Не так ли? - А также длинным очередям за квасом в жаркие дни. - Орлов еще при первом знакомстве с Семеновым отметил его манеру делать вот такие вступления к серьезному разговору. Манера эта ему нравилась, и он с удовольствием подыгрывал. - Так где же ваш опыт, товарищ сыщик? - продолжал Семенов. - Какой нормальный человек станет лазить по квартирам из-за одного-единственного кадра, да еще, может, кадр этот делался при закрытом объективе? Почему он три раза привозил молодой прекрасной девушке посылки с дорогими вещами, а потом вдруг решил ее убить? Молчите? - Семенов встал, приоткрыл окно. - Да, - согласился Орлов, - с мотивами плохо. - В том-то и штука, Миша, - обычным своим тоном сказал Семенов. - Ты, конечно, прав, Кутепов в стандартные рамки не укладывается. Субъект не городских масштабов. - Полагаешь, Москва возьмет дело к себе? - Хорошо бы вместе с нами. - Мне-то, собственно, при таком раскладе больше делать нечего. Потом Семенов рассказал Орлову о своем посещении Пьетро Маттинелли. Им было интересно сравнить ответы Пьетро с тем, что они узнали от Галины Нестеровой. Какой-либо сговор между ним и ею был невозможен, а если так - их слова заслуживали доверия. Может быть, они знали больше, чем говорили, но их о большем и не спрашивали… Беседу прервал внутренний телефон - Семенова вызывал начальник. - Если понадоблюсь - я на работе, - сказал ему Орлов уже в коридоре. - Шел бы ты к жене, - наставительно заметил Семенов, закрывая кабинет. - Далеко идти. - Что так? - Она в районе озера Байкал. - Ну, извини… У лестницы они разошлись. А через полчаса последовало продолжение и завершение прерванного разговора. Семенов сказал по телефону: - Ты, Миша, авгур. - Авгуры по птичьим потрохам гадали. - Значит, ты маг и волшебник. - Москва, что ли? Говори прямо. - Меня ждут. - Нашли что-нибудь? - Да. Подробности на месте. - Успеваешь на рейс двадцать один пятнадцать? - Да. - Ну, счастливо. В половине первого ночи дома у Орлова, когда он уже собрался ложиться спать, зазвонил телефон. Говорил дежурный по городу: - Михаил Петрович, сразу две телефонограммы из Москвы. Генерал приказал сообщить срочно вам. - Автомобиль можете прислать? - Попробуем. …Поднявшись в дежурную часть, Орлов прошел в телеграфный зал. Оператор телетайпа дал ему телефонограммы, уже наклеенные на бланки. Одна была циркулярная, для всех городов, и извещала о прекращении розыска Кутепова. Во второй, только для их УВД, сообщалось, что Кутепов обнаружен в Москве, живет в гостинице «Минск». До прибытия инспектора, занятого по делу, взят под наблюдение ГУВД города Москвы. Орлов соединился с генералом. Тот приказал вылететь первым утренним рейсом. - Мне нужна прокурорская санкция на арест Кутепова, - сказал Орлов. - Так кто тебе мешает? - сердито пробасил генерал. - Я же чем свет улечу. - Хорошо, пришлем дневным рейсом, кто-нибудь к тебе прилетит. Сообщи адрес. Но это было еще не все. Пока Орлов говорил с генералом, телетайп принял новую телефонограмму: «Подполковника Орлова просит майор Семенов сообщите время вылета вас будут встречать».Глава 17 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Всем известно: если в электрической цепи стоит плохой предохранитель, при коротком замыкании цепь может сгореть. В схеме, составленной разведцентром, предусмотрено несколько предохранителей. Один из них сослужил важную службу - это случилось, когда Уткин поехал к Марии. Предохранитель сгорел, и его изъяли из цепи, но цепь не пострадала. Роль другого предохранителя должен был сыграть на определенном этапе Виктор Андреевич Кутепов, и он ее сыграл, но не совсем так, как этого хотелось разведцентру. Сам он в этом виноват лишь отчасти. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы уцелеть (нам еще придется вспомнить, например, как не хотел он попасть в кадр незнакомому фотографу). Но те, кто действовал на противоположном полюсе, тоже не сидели сложа руки. И произошло именно то, чего так опасался Кутепов. После несложной, но правильно проведенной разведцентром комбинации, закончившейся в Батуми благополучным исчезновением Брокмана, полковник Владимир Гаврилович Марков, скажем прямо, чувствовал себя не лучшим образом. Он не сомневался, что при наличных данных, касающихся Брокмана, последний непременно будет найден. Но тут особый смысл приобретали сроки. Исчерпывающая характеристика Брокмана, полученная от Михаила Тульева, обязывала помнить, что этот агент не чета Уткину. Такие не бывают марафонцами, бегунами на длинные дистанции. Такие не засылаются на долгое оседание. Они предназначены для рывка, для одного удара. Следовательно, время тут имеет особенно острое значение. Промедление с розыском Брокмана было бы крайне опасно. Вот почему полковник Марков с повышенным вниманием следил за всем, что могло, хотя бы косвенно, отраженно бросить свет на то подспудное, втайне происходящее движение, которому, несомненно, должно было дать толчок появление Брокмана. Об истории, случившейся в городе К., к которой имел какое-то отношение итальянский инженер и расследованием которой занялся майор Семенов, полковнику Маркову стало известно на второй день, 23 мая, так же, как и о том, что Семенов счел необходимым установить, не числится ли подозреваемый в покушении на убийство среди государственных преступников. Сообщению об этом полковник, конечно, не придал первостепенного значения, но оно осталось в поле его внимания, где-то на периферии. Однако уже 24 мая положение изменилось. Быстро проведенными мероприятиями было установлено, что Виктор Андреевич Кутепов и занесенный в картотеку государственных преступников, подлежащих суду за злодеяния против советского народа во время Великой Отечественной войны, Виктор Андреевич Гуров - одно и то же лицо. Сам по себе этот факт ничего чрезвычайного не представлял. Немало уже было случаев, когда вот так же, распутывая сегодняшнее уголовное дело, следователь добирался до корней, зарытых в далеком, но до сих пор кровоточащем прошлом. Но была одна деталь, которая сразу притянула к себе полковника Маркова и перевела дело Кутепова с периферии прямо в центр следствия. Кутепов-Гуров по картотеке государственных преступников значился в том же гнезде, что и Дембович. У полковника появилось такое ощущение, словно он после плутаний без ориентиров по затянутой туманом местности наконец попал на знакомую, хорошо протоптанную тропу. Ян Евгеньевич Дембович, чей дом служил когда-то базой резиденту разведцентра Михаилу Тульеву, тот Дембович, который был завербован еще фашистами и передан по наследству новоявленным хозяевам, тот Дембович, чей труп сгорел в пожаре, устроенном заметавшим следы резидентом, и чья смерть осталась поэтому неразгаданной, теперь, по прошествии лет, возник из небытия, чтобы стать для полковника ориентиром, к которому нетрудно привязать разбросанные в пространстве и времени объекты и события. Виктор Андреевич Гуров, чья настоящая фамилия Кутепов, служил в 1942-1945 годах у гитлеровцев в СД и дослужился до звания гауптмана-капитана. А Дембович был заурядным переводчиком и носил нашивки фельдфебеля. Он находился в подчинении у гауптмана Гурова. На счету Гурова-Кутепова в отличие от Дембовича числились и провокации, кончавшиеся гибелью партизан, и допросы военнопленных. Это только подкрепляло напрашивавшийся вывод: если судьба связала Дембовича и Кутепова одной веревочкой еще на войне, то и дальнейший их путь она определила одинаково. Дембовича заставили работать на разведцентр. Какие же иные пути могли привести его бывшего начальника по СД к участию в деле, ныне расследуемом? Полковник Марков иных путей не видел. Поэтому он срочно вызвал Семенова в Москву. Ему нужно было знать о теперешнем Кутепове все. Он был уверен почти на сто процентов, что на продолжении линии Дембович - Кутепов где-то дальше может оказаться еще кто-нибудь. Потому что, по всему видно, чертила эту линию одна рука… Виктор Андреевич Кутепов поселился в гостинице «Минск» - как ему это удалось, уму непостижимо, потому что в новой гостинице свободных мест не бывало со дня ее открытия. Последние сутки никуда из здания он не отлучался, да и номер свой покидал только раз. Вероятно, ждал телефонного звонка… Вечерний самолет из города К. прибывал во Внуково в двадцать два тридцать. Распорядившись выслать в аэропорт машину, Владимир Гаврилович поехал домой, поужинал, прочел газеты и в двадцать два часа вернулся на площадь Дзержинского. Когда Семенов вошел к нему в кабинет, Владимир Гаврилович машинально отметил про себя, что этот незнакомый ему контрразведчик чем-то неуловимо похож на Павла Синицына: может быть, из-за одинаковой светлой масти, а может, потому, что у Семенова, как и у Павла, брови были сдвинуты серьезно, даже хмуро, а во взгляде чуялась неистребимая насмешливость. Да и в летах, наверное, у них разницы не было. Правда, Семенов выгодно отличался от своих столичных товарищей загаром. Семенов представился официально. Марков протянул ему руку, назвал себя и, предложив сесть к столу, попросил изложить все, что имело отношение к Кутепову. Семенов рассказал, специально выделив те моменты, которые свидетельствовали о боязни Кутепова быть сфотографированным и оставить свое изображение в чужих руках. Подробно описал, каким образом старший инспектор угрозыска подполковник милиции Орлов получил вещественные доказательства, изобличающие Кутепова. - Эпизод с фотографированием в кафе - это еще в прошлом году было? - спросил Марков, когда Семенов кончил свой доклад. - Да, в конце мая - начале июня. - И в квартиру к этому молодому человеку Кутепов действительно только ради пленки и наведывался? - Больше ничего не пропало. - Карточек у девушек не осталось? - Ни одной. Марков помолчал. Рассказ Семенова, особенно эта история с фотографированием, укрепляли Владимира Гавриловича в уверенности, что он не ошибается в расчетах, что Кутепов приведет их на какой-то след. Он достал из сейфа тонкую папку, раскрыл ее, полистал лежавшие в ней желтовато-серые пересохшие бумаги и, выбрав одну, протянул Семенову: - Вот, познакомьтесь. Это был формуляр СД на гауптмана Гурова с приклеенной фотографией. Когда Семенов прочел его, Марков дал ему заключение экспертизы, идентифицировавшей портрет Гурова с формуляра и портрет Кутепова, выкадрированный из снимка, который сделал Леша Дмитриев в кафе «Над рекой» и который прислал в Москву он сам, майор Семенов. Наблюдая за выражением лица майора Семенова, пока тот читал заключение экспертизы, Марков невольно ухмыльнулся: куда-то вдруг исчезла всякая насмешливость и остался один жадный интерес. Семенов вернул листки как бы с неохотой. Марков сказал, складывая их в папку: - Пожалуй, его можно назвать дальновидным и предусмотрительным, как, по-вашему? - Вы имеете в виду возню с той карточкой? Определенно предусмотрительный. А как его настоящая фамилия звучит, товарищ полковник? - Кутепов. - Тогда он очень даже дальновидный. - Почему «тогда»? - Обычно такие у немцев под своей фамилией ходили, а скрываться надо под чужой, своя замарана. А этот наоборот. - Какая разница? - Ну как же! Жить удобнее под своей. Знаете, вдруг окликнет кто из старых знакомых - не надо вздрагивать. - И то верно, - сказал Марков. - Как думаете, инспектор угрозыска здесь понадобится? - Орлов? Он может оказаться очень полезным. Марков про себя уже решил, что Орлова надо пригласить, но он, как всегда в подобных делах, считал необходимым узнать мнение сотрудника, с которым предстояло вместе действовать дальше. - Значит, Орлова будем вызывать, - сказал Марков. - Утром соберемся, как он прилетит. - Разрешите встретить, товарищ полковник? - Пожалуйста. Но выспаться вам надо. Таково происхождение телеграммы, полученной Орловым ночью из МВД СССР. Утром Семенов встретил Орлова, они вместе пришли к полковнику Маркову. Полковника интересовали детали, известные только Орлову. Потом Марков сказал, чтобы Орлов устроился в гостинице и сообщил свой телефон. Когда потребуется - его вызовут. А затем Марков обратился к Семенову: - Вот что, Евгений Михайлович… Вам, наверное, придется еще долго побыть в Москве. Гардероб весь на вас? - Это поправимо - жена доставит. - Организуйте, пожалуйста. Думаю, для вас тут найдется дело. Марков вызвал Семенова в субботу 27 мая и вот что рассказал ему. …Сегодня в половине девятого утра к дежурному администратору гостиницы «Минск» обратился мужчина средних лет - он спрашивал, в каком номере живет Кутепов Виктор Андреевич. Мужчина говорил по-русски как москвич. Никому и в голову не придет, что он иностранец. Узнав номер Кутепова, мужчина поднялся на четвертый этаж, постучал в дверь - без всяких условных знаков. Кутепов открыл тотчас - явно ждал. Гость пробыл в номере полчаса и ушел как пришел - с пустыми руками. Кутепов остался у себя. Из гостиницы гость пошел направо, на площади Маяковского спустился в метро, доехал до проспекта Маркса, поднялся, пошел по улице Горького и потом по Большой Бронной, по правой стороне. Он не торопился - как будто бы гулял. Пройдя метров пятьдесят-шестьдесят, повернул обратно, прошелся вдоль фасада старого дома и скрылся в подъезде. Пробыл он там буквально несколько секунд. За это время нельзя подняться даже на второй этаж. Подвала в подъезде нет. Снова появившись на улице, мужчина зашагал в обратном направлении, к Пушкинской площади. У троллейбусной остановки остановил черную учрежденческую «Волгу», сел в нее и уехал. Закончил Марков так: - В подъезде на косяке двери найдены три ключа, два от дверных замков и третий - от автомобиля. Они завернуты в бумажку - какая-то записка. Если это тайник, то им давно не пользовались. Пыль тронута только сегодня. Куда он поехал, мы скоро узнаем. Семенов заметил: - Целая эпопея с ключами. Орлов порядочное ожерелье привез. И здесь еще три. - Чьи они, по-вашему? - Кутепов дал. - Это ясно. Я говорю: от чьих дверей? - Трудно сказать. - А надо. В кабинет заглянул помощник Маркова. - Владимир Гаврилович, зовут. Марков попросил помощника остаться в кабинете у телефонов, а сам ушел. Вернувшись, он сказал Семенову: - Человек, оставивший ключи, приехал в гостиницу «Россия». Он, оказывается, из иностранной туристической группы. Послезавтра уезжает домой. Орлов, вы говорите, ключи с собой привез? - Целую связку. - Дубликаты тех, что оставлены на Большой Бронной, будут скоро готовы. Орлов где сейчас? - Наверное, у себя в гостинице. Марков нажал кнопку на телефонном столике. Вошел помощник. - Вызовите подполковника Орлова. Помощник вышел. Зазвонил один из телефонов на столике. - Алло, Владимир Гаврилович? - Это был Павел Синицын. - Я. Покороче. - Мне назначено свидание. Сегодня в девятнадцать. В кассе кинотеатра «Ударник». - Иди. - А если мне захочется вас увидеть? - Как всегда. «Как всегда» означало загородную дачу, где Марков встречался обычно с Павлом Синицыным. Орлову понадобилось совсем немного времени, чтобы добраться до здания на площади Дзержинского. В кабинет он явился с черным блестящим чемоданчиком. Пятью минутами раньше Маркову принесли фотокопию записки и три ключа - дубликаты, о которых он говорил. Два ключа, от дверных замков, он положил перед Орловым, когда тот сел. - Вы, говорят, большой специалист по этой части. Посмотрите, сравните с теми, что у вас в чемодане. Нет ли чего похожего? Достав из чемодана связку из девяти ключей и два ключа, лежавшие в отдельном конверте, Орлов начал сравнивать. Но ничего похожего и близко не было. - А этот чей? - Марков дал Орлову ключ от автомобиля. - У Кутепова есть «Жигули», - сказал Орлов. - В городе его машину не нашли. - Как вы думаете, если эти два ключика из вашего города, можно установить, от чьей они квартиры? Орлов уже разобрался в ситуации. - Очень мало адресов приходит на ум при виде этих ключей. - Он поглядел на Семенова. Тот спросил: - Ты хочешь сказать - Суховы и Нестеровы? - Да, - сказал Орлов. - Ключи Дмитриевых здесь - они не подходят. - Нужно проверить эти два адреса, - сказал Марков. - А кто такие Нестеровы? - Галина Нестерова - подруга пострадавшей Суховой, - объяснил Семенов. - Как же насчет проверки? Орлов прикинул время. - Раньше завтрашнего вечера не получится. - Хорошо. Этим и займитесь. - Сегодня будет товарищ из нашего управления, - сказал Орлов, - привезет санкцию на арест Кутепова. Через него устроим. - Санкция не мешает, а с арестом Кутепова торопиться не будем. - Марков встал, пожал Орлову руку. - Спасибо вам. Проверяйте ключи, а потом жду вас к себе. Орлов уложил ключи по разным конвертам, закрыл чемодан. Проводив его, Марков сказал: - Новая фамилия появилась - Нестеровы. - Я вам говорил, что беседовал с Галиной Нестеровой, - напомнил Семенов. - Большая семья? - Отец, мать. - О Суховых мы знаем. А кто Нестеровы? Есть ученый Нестеров. - Это он. - Физик? - Точнее, физическая химия. - Может он заинтересовать кого-нибудь «там»? - Не было времени разобраться, товарищ полковник, еще и четырех суток не прошло, - сознавая, что это не может быть оправданием, сказал Семенов. - А вообще его работы широко известны. - Но Нестеровы как будто здесь ни при чем. Пострадала-то Светлана Сухова. - Вот именно, Владимир Гаврилович, - сказал Семенов, - если допустить, что все это нагорожено ради Нестерова, значит, кто-то достает левое ухо правой рукой. Зачем? - И так бывает. Подождем, что нам Орлов принесет. Теперь посмотрим записку. Это была фотокопия письма, которое когда-то Светлана Сухова написала на квартире у Гали Нестеровой и вручила Виктору Андреевичу для передачи Пьетро Маттинелли. - Это тоже очень интересно, - сказал Марков, передавая письмо Семенову. - Для шантажа? - прочитав, сказал Семенов. - Вероятно. Марков сказал Семенову, что он свободен до восемнадцати часов, а потом они поедут на дачу с ночевкой. Созвонившись с Орловым, Семенов отправился к нему в гостиницу и от него вызвал по междугородному жену. Орлов с минуты на минуту ждал посыльного из управления с прокурорской санкцией. И когда тот прибыл, они все вместе составили несложный план, как проверить ключи. Неловко будет с квартирой Нестеровых - супругам, и без того нервничающим, эта проверка не принесет успокоения, но ничего не поделаешь. А полковник Марков меж тем вызвал к себе сотрудника отдела, капитана, и попросил срочно навести справку о научной деятельности Нестерова и о характере его последних работ. Без пяти семь вечера 27 мая Павел Синицын был у кинотеатра «Ударник». За день асфальт так раскалился, что жег ноги через подошву туфель. И даже тут, у кинотеатра, где с двух сторон речная вода, не веяло свежестью. В помещении касс дышалось немного легче, никакой очереди не было, и Павел, скинув пиджак и повесив его на руку, остановился между входом и окошками кассирш, уловив какое-то слабое подобие сквозняка. Ждать пришлось недолго. С улицы появился высокий человек в светлом костюме, голубой рубахе и красно-синем галстуке - тот самый, кто навещал утром Кутепова, - и, улыбчиво глядя на Павла, без церемоний обратился к нему: - Вы кого-то ждете, молодой человек? - Может, я жду ночной прохлады, - мрачно сказал Павел. Он давно не выступал в роли Бекаса, бывшего поездного вора, но старался сразу попасть в нужный тон. - Вы получили открытку? - не смущаясь, спросил улыбчивый гражданин. - Вы Потапов? - Если вы знаете все на свете, зачем спрашиваете? Вот я, например, не пристаю с ножом к горлу: как это вам в галстуке не жарко? Незнакомец стал серьезнее. - Нужно выйти отсюда. Я живу в гостинице «Россия». Проводите меня. Он говорил не понижая голоса, совершенно не заботился о конспирации, и это слегка озадачило Павла. Не такой представлялась ему явка, назначенная впервые за столько лет. В этой непринужденности было что-то неестественное. Но ему не полагалось сейчас заниматься психологическими рассуждениями. Вышли. Незнакомец собирался пересечь дорогу прямо перед кинотеатром, что правилами запрещалось. Павел остановил его: - Вы, наверное, богатый человек. Здесь штрафуют. Пока делали крюк через мост, этот человек болтал на отвлеченные темы: о встречных девушках, о благах, доставляемых кондиционерами воздуха, о низком качестве теплого московского пива и прочем. Когда достигли набережной и пошли вдоль реки, он вынул из кармана блокнот, а из блокнота половинку разорванного рубля и показал ее Павлу: - У вас есть вторая половина? - Не трясите огрызками дензнаков, люди смотрят, - осадил беспечного партнера Павел, выдернув у него из пальцев этот вещественный пароль, другая половина которого хранилась Павлом с того момента, как он стал Потаповым. - Притормозите. Они укоротили шаг. Павел, пошарив в кармане пиджака, извлек из бумажника свою часть рубля, сложил на ладони обе половинки и сунул руку в карман брюк. - А не лучше ли выбросить? - заметил партнер. Павел взглянул на него презрительно. - Стены моей прихожей не оклеены сотенными бумажками, а целковый можно склеить. Приступим к делу. Кстати, как вас зовут? - Ваня. - В «России» живете… Вы что, командированный? - Можно считать и так. Завтра уезжаю. - Далеко? Ваня рассмеялся: - Домой, за границу. - Хорош Ваня! Ну, выкладывайте. Ваня вынул из блокнота еще одну половинку рубля, неровно оторванную. - Вот, это новый пароль. Не перепутайте. Потому и говорю, лучше те половинки выбросить. - А этот к чему? - Вы должны будете познакомиться с одним товарищем. - Кто такой? - Его фамилия Кутепов. Виктор Андреевич Кутепов. Запомнили? - Что значит - познакомиться? А дальше что? - Слушайте по порядку. Ровно через месяц, двадцать седьмого июня, вы должны быть в Тбилиси. Там есть гостиница «Руставели». В вестибюле вы и встретитесь. Он вас узнает. И будет вас слушаться. - Туфта какая-то! Я ему приказывать должен, что ли? Эй ты, стой там, иди сюда? - А вы имейте терпение, не перебивайте. Кутепов исполнит все, что вы скажете. То есть поедет с вами куда угодно. - А зачем куда-то ехать? - Кутепов должен исчезнуть. - Что значит - исчезнуть? Разложиться, что ли? - Если вы такой химик, это было бы очень хорошо, - заражаясь стилем собеседника, сказал Ваня. Павел отлично понял, о чем идет речь, но ему не хотелось верить ушам. Нелепо и фальшиво звучал их разговор в ясный жаркий майский вечер на берегу Москвы-реки, под кремлевской стеной. Дешевенький шпионский фарс какой-то, и больше ничего. Возникала потребность убедиться, что это не сон. - Короче, его нужно убрать? - зло спросил Павел. - Желательно. - И мне подкинут? - Павел сделал пальцами международный жест, которым обозначаются деньги. - Очень много. - И потом за диез с двумя бемолями? - Павел сложил косую клетку из указательных и средних пальцев. - А бемоли - это что значит? - Тюремные замки… Мне понятно, что мы не на профсоюзном собрании - голосования не будет. Но я хочу выступить в прениях. Или нельзя? - Давайте. - А если я навру? Скажу - убрал, а не уберу… - У Кутепова золотые коронки. Вы их должны представить. - Кому? - Это вам дополнительно сообщат. - Вы давно в зоопарке не были? - задал неожиданный вопрос Павел. - Бросьте шутить. - Я серьезно. Давно? - Не помню. - Ну так сходите. Сейчас я, кажется, дам в зубы вам, а когда пойдете в зоопарк, то подергайте за хвост зебру. Вам будет интересно сравнить, кто больнее дерется. Ваня не обиделся. - Значит, вы не согласны? - спокойно спросил он. - А вы бы согласились? - У меня другая работа. - Вы подумайте, что мне предлагают. Они там думают, все происходит в безвоздушном пространстве. - Почему же? - удивился Ваня. - Ничего сверхъестественного вам не предлагают. - Хорошенький сюжет - убить человека… Больно быстрые. - Не могу ли я понять ваши слова таким образом, что вам надо немножко подумать? - Вы же сами сказали - завтра уезжаете. - Да, но сутки - большой срок. Они были уже недалеко от западного входа в гостиницу. Ваня остановился. - Запишите мой телефон. Вдруг все-таки надумаете… Павел записал на клочке вынутой из пиджака бумажки. И спросил: - А что будет, если я откажусь? - Рассчитывайте сами. Вы же не частное лицо, вы все-таки имеете обязательства. У Павла, пока он ехал в электричке на дачу и перебирал свой разговор с этим липовым Ваней, сложилось убеждение, что вся его игра была впустую. По крайней мере, она, кажется, не произвела на Ваню никакого впечатления. Как будто каждый из них говорил, что ему положено по роли, не вникая в речь собеседника. С этого и начал он рассказ, когда, напившись артезианской воды из ведра, стоявшего на веранде, сел перед Владимиром Гавриловичем Марковым за стол в беседке. Семенов сидел чуть в стороне и слушал, стараясь не слишком явно разглядывать человека, с которым полковник только что познакомил его. Передав разговор с Ваней, Павел сказал: - И вообще этот Ваня как у себя в квартире. Ничего не боится. Пароль на глазах у всей Москвы предъявляет, меня с места встречи прямо к своей гостинице ведет. - Когда уходил от Кутепова, совсем другой был, - сказал Марков. - Неужели вы допускаете, Владимир Гаврилович, что они всерьез с этим убийством? - А чему удивляться? По мировым стандартам, так сказать, это нормально. Другое дело - именно тебе предложено. Мы ведь должны исходить из того, что ты раскрыт. - Своими руками выдавать Кутепова - с чего вдруг? Зачем? - Этот Ваня не все скрывал от тебя. Не соврал, когда уезжает. Верно? - Не знаю. - Верно. Это уже проверено. Однако еще утром он вел себя совершенно иначе. Небо и земля. - Им больше не нужен Кутепов? - сказал Павел. - Через месяц не будет нужен. - Но почему? Что случилось? Марков вкратце описал, что произошло утром, объяснил Павлу, кто такой Кутепов, и добавил: - Что Кутепов уже выработан и стал бесполезен, а может, и вреден, понять нетрудно. Почему - пока неизвестно. Он купил билет на поезд до Сочи. Надо его в пути арестовать. Кое-что мы, конечно, услышим, но, боюсь, не очень много. - Набитого информацией не отдавали бы, - заметил Павел. Марков взглянул на Семенова. - Свяжитесь с Орловым, Евгений Михайлович. Пусть уж он доведет до конца по своей линии. Надо допросить Кутепова. Надо его сразу поставить перед доказанным фактом. Пусть объяснит, зачем проникал в квартиру Дмитриевых. На первый раз речь должна идти только о покушении на убийство. А затем посмотрим. - Для пользы дела лучше говорить об убийстве, - сказал Семенов. - А как это будет выглядеть, так сказать, с морально-этической стороны? Сухова-то жива. - Такая тактика допускается, - возразил Семенов. - Во-вторых, она жива осталась по чистому случаю, да и неизвестно, чем еще кончится. - Разве что во-вторых, - сказал Марков. - А впрочем, решайте по ходу дела. - Турист Ваня ждет моего звонка, - напомнил Павел. - Завтра позвонишь и скажешь: согласен. Ключи, завернутые в записку, взяла с Большой Бронной в воскресенье 28 мая в одиннадцать утра высокая пожилая женщина, одетая в серый костюм английского покроя. Выйдя из парадного, она натянула на руки черные кружевные перчатки, поглядела в одну сторону улицы, в другую, как бы раздумывая, куда отправиться, раскрыла от солнца цветастый зонтик и медленно пошла к Пушкинской площади. Она держалась очень прямо и была выше большинства женщин, попадавшихся навстречу. Лицо ее под цветным зонтиком казалось очень свежим, и легко можно было представить, как миловидна она была в молодости. Она зашла в магазин «Армения», купила халвы. Потом направилась в Елисеевский и пробыла там не меньше часа, а когда покинула гастроном, ее большая хозяйственная сумка была полна так, что не закрывалась. На стоянке против кинотеатра «Россия» она, дождавшись очереди, взяла такси и отправилась на Курский вокзал. До города, куда ехала эта женщина, электричка шла без малого два часа. От вокзала она тоже поехала на такси. Рассчиталась на тихой улице недалеко от центра, возле одноэтажного бревенчатого дома, на крыше которого высоко торчали две телевизионные антенны - дом был на две семьи с общим приусадебным участком. Минут через десять она появилась из двери, уже переодетая в легкое ситцевое платье, с белой панамой на голове, и пошла в булочную на соседней улице. Вскоре из той же двери в сад вышел молодой мужчина. Он сел на скамейку, врытую под сиренью, и закурил сигарету. Это был Брокман. Ни с кем, кроме одного человека, хозяйки этого дома, не имел он прямых контактов, и все-таки цепь замкнулась накоротко.Глава 18 О КЛЮЧАХ
Орлов допрашивал Кутепова в Бутырской тюрьме поздним вечером в понедельник 29 мая. Если арест и произвел на Кутепова какое-то действие, то выражалось это лишь в заторможенности. Он отвечал на вопросы охотно, но с замедлением, каждый раз переспрашивая. Это можно было расценить и как обычную уловку человека, старающегося выгадать время на обдумывание. На привинченном к полу столе лежали вещи, обнаруженные у Кутепова при обыске: портфель с бритвенными принадлежностями и носовыми платками, документы, деньги - восемьсот рублей, аккредитивы на десять тысяч, блокнот, авторучка и прочие карманные мелочи. В бумажнике, в отдельном кармашке, нашли половинку разорванного рубля, уже бывшего в обращении, не нового. Свой чемоданчик с вещественными доказательствами Орлов поставил на стол. Начал он с обычного: - Где вы были в ночь с двадцать первого на двадцать второе мая? - Я?… Я ехал в поезде… сюда, в Москву… Тут, - Кутепов показал на стол, - тут должен быть мой билет. Орлов уже видел билет в блокноте и нашел его быстро. - Компостером не пробит. - Сейчас билеты в поездах иногда не отмечают, - помог Кутепову Семенов. Орлов удовлетворился объяснением. - Вы знакомы со Светланой Суховой, гражданин Кутепов? - Со Светланой Алексеевной? Которая работает в универмаге? Да, знаком. - Когда вы видели ее последний раз? - Я?… Недели две, пожалуй, нет, недели три назад. - Знакомы ли вы с Алексеем Дмитриевым? - С Дмитриевым? Первый раз слышу о таком человеке. - Я хотел спросить, знаете ли вы, где живет Алексей Дмитриев, но ваш ответ делает это излишним. Не правда ли? - Совершенно верно. Орлов извлек из чемоданчика связку ключей на веревочке и два конверта, в которых лежало по ключу. Все это он показал Кутепову. - Это ваши ключи? Вы узнаете их? - Возможно, мои, а возможно, и нет. Орлов дал прочесть ему акт изъятия ключей из квартиры и гаража Кутепова, подписанный понятыми, и спросил: - Что вы скажете теперь? Ваши ключи? - Я должен верить акту. - Отвечайте прямо - ваши или нет? - Мои. Орлов достал из чемоданчика замок, вынутый из двери квартиры Дмитриевых, и вместе с ключом дал его в руки Кутепову. - Попробуйте, подходит ли ключ к замку. У Кутепова на лице появилось обиженное выражение: мол, простите, за кого вы меня принимаете и что за детские игрушки? Но истинные его чувства были, понятно, иными. В подобных случаях принято говорить, что человек был объят острым беспокойством и предчувствием надвигающейся катастрофы. Кутепов пощелкал замком. - Подходит. Орлов дал ему прочесть заключение экспертизы и сказал: - Ключ принадлежит вам. Замок изъят из двери квартиры, где живет Алексей Дмитриев, которого вы якобы не знаете. Как вы это объясните? Кутепов словно бы смертельно устал и не имел сил ответить. Затем та же процедура была проделана с висячим замком от гаража, и снова на вопрос «Как вы это объясните?» Кутепов не ответил. Орлов забивал гвоздь по самую шляпку - он показал Кутепову план пустыря с обозначением забора и частных гаражей. Затем сказал: - Сухову ударили разводным ключом. - Я такими ключами не пользуюсь, - хмуро и уже неохотно ответил Кутепов. - У Алексея Дмитриева пропал такой ключ. - Возможно, все так и есть. Но какое это ко мне имеет отношение? - Вы адвокат и прекрасно понимаете, к чему я веду. Вы не всегда отвечаете, но я на этом не настаиваю. Будем считать этот допрос предварительным знакомством. Моя задача - показать вам, чем располагает следствие. Убежден, что вы, как юрист, оцените положение правильно. Еще несколько вопросов, и мы закончим. Вы по-прежнему утверждаете, что в ночь с двадцать первого на двадцать второе ехали в поезде, направлявшемся в Москву? Прошу: только «да» или «нет». - Да. - Вы брали из гаража Дмитриева разводной ключ? - Нет. - Вы проникали в квартиру Дмитриевых летом прошлого года? - Нет. - Отлично. Теперь прочтите и подпишите протокол, если в нем нет искажений. Кутепов внимательно прочел и потом подписал каждый лист протокола. Орлов сказал в заключение: - Вы несколько затрудняете мою работу, вынуждая опровергать ваше мнимое алиби. Я найду проводников того вагона, в который был куплен ваш билет. Вы должны понимать, что память им за давностью времени не откажет. Если вы летели в самолете, я найду корешок билета. Когда Кутепов уходил, сопровождаемый конвоиром, у него был вид человека, которому обещали интересное зрелище, а потом вывели на самом интересном месте. Ему хотелось продолжать, он был разочарован краткостью допроса. На это и рассчитывали Орлов с Семеновым. Они не торопились уходить. Орлов закурил, открыл форточку в зарешеченном окне. - Ты ему жгучие темы для размышлений подкинул, - сказал Семенов. - Подумать-то ему, конечно, есть над чем. Первое - жива ли Сухова? - Как, по-твоему, что для него лучше? - Попробуем влезть в его шкуру. Как он сейчас рассуждает? Главное для него - точно определить, чем мы еще располагаем. - Неопровержимых доказательств его покушения на Сухову у тебя нет. - Верно. К тому же мотивов покушения мы не знаем, а это большой пробел. Если Сухова заговорит, у него не будет выхода. Она скажет, кто ее ударил и почему. - Следовательно, ему лучше, если Сухова не жива. - Да. Но тут есть неразрешимое противоречие. Ты бы назвал его жгучим. - Орлов слегка пошутил, однако Семенов не обратил на это внимания. - Кутепов подлежит розыску как государственный преступник. Остальное мне неведомо, но и этого достаточно. Как только он поймет, что ему не уйти и от этого обвинения, он пожалеет о Суховой. Зачем брать еще один тяжкий грех на душу? - Но он может мерить по-другому. Семь бед - один ответ. - Вряд ли. Не забывай: он адвокат. - В таком случае нужно прямо объявить, что Сухова жива. - Скрывать это ни к чему. Я должен уличить его во лжи насчет поезда. Тогда ему легче будет признаться. И больше мне здесь нечего делать. Поездная бригада, которую искал Орлов, в понедельник 29 мая вернулась из Москвы в город К. Ей полагался трехсуточный отдых, но он был прерван. Бригадир и два проводника того вагона, в котором якобы ехал Кутепов, были вызваны в городское управление милиции, где дали письменные показания. Помощник Орлова разыскал в Аэрофлоте корешок билета с фамилией Кутепова и переслал его подполковнику. Билет был на 22 мая. Проводники утверждали, что отлично помнят свою смену за 21-23 мая. Одиннадцатое место оказалось незанятым, и они сообщили об этом, как положено, бригадиру. Бригадир по радиотелефону дал сводку о свободных местах на следующую станцию, где скорый поезд имеет трехминутную остановку. На этой станции место номер одиннадцать занял молодой мужчина. Контроля в ту поездку не было. Собранных данных вполне хватало, чтобы опровергнуть алиби Кутепова. Семенов в понедельник получил из города К. важное известие: посланные туда ключи подошли к замкам квартиры Нестеровых. Он доложил об этом Маркову. Во вторник, 30 мая, Орлов и Семенов вновь приехали в Бутырскую тюрьму. На этот раз Орлов начал не с вопросов. Он дал прочесть Кутепову показания железнодорожников и предъявил корешок авиабилета. Кутепов читал, казалось, как-то нехотя. И на корешок поглядел безразлично. Подумав, он сам неожиданно задал вопрос, обращаясь к одному Орлову и избегая взгляда Семенова: - Вы ведь из угрозыска? - Да. - В таком случае я хочу сделать заявление. Прошу дать бумаги. Орлов положил на стол пачку зеленых разлинованных листков и шариковую ручку. - Прошу. - Он поднялся из-за стола и жестом пригласил Кутепова. Тот встал с привинченной к полу табуретки и пересел на место Орлова. Вероятно, у Кутепова было продумано каждое слово. Писал он не отрываясь и без единой помарки. Заявление было короткое: «Ввиду того, что я располагаю важными сведениями, касающимися интересов государственной безопасности, прошу предоставить мне возможность дать показания следователю КГБ. Прошу также при решении моей дальнейшей участи принять во внимание, что это заявление сделано мною добровольно и по собственной инициативе». Кутепов сел на свое прежнее место. За какие-нибудь две-три минуты он преобразился. Теперь он был торжественно-спокоен. - Я не настаиваю, но не хотите ли вы здесь закрыть эпизод с покушением на Сухову? - спросил Орлов. - Это не эпизод, - сказал Кутепов печальным тоном. - Это узел. Я все расскажу, но не сейчас. - Ну что ж, пока идите. Орлов вызвал конвоира. Кутепова увели в камеру. - Нет, ты не даром ешь хлеб, - сказал Семенов. - Стараемся. - Орлов подмигнул ему. - Потому мы и вернемся в родной город намного раньше вас. А вы, молодой человек, учитесь у стариков. Но радоваться было еще рано. Орлов действительно в тот же день уехал в К., оставив Семенову папку с собранными по делу материалами и все вещественные доказательства. Третий раз Кутепова допрашивали в кабинете Маркова. Кроме полковника, был Семенов. Начал Марков: - В своем заявлении вы пишете, что имеете важные сведения. Что это за сведения и откуда они у вас? - Мне кажется, я принимал участие во враждебной нашему государству акции. Ответить кратко на ваш вопрос мне затруднительно. - Хорошо. Разобьем его на части. Каким образом вы стали участником этой акции? - Меня вовлек некто Маттинелли, он работал инженером на химическом комбинате в нашем городе. Я действовал по его поручению. Семенову показалось, что он ослышался. Последовало долгое молчание. Потом Марков сказал так, словно Кутепова тут не было: - Как это понимать, Евгений Михайлович? - Разрешите, я разъясню гражданину Кутепову, что он избрал ложный путь. - Сделайте одолжение. Семенову пришлось сдерживать себя, когда он обратился к Кутепову: - Послушайте, вы ведь не настолько наивны, чтобы считать наивными нас. Если хотите узнать, как выглядит ваша позиция со стороны, пожалуйста, можно рассказать. Вы стремитесь затянуть разбирательство, осложнить задачу следствия. Когда стало ясно, что от обвинения в покушении на убийство уйти невозможно, вы сделали свое заявление. Если удастся вовлечь в дело итальянского инженера Маттинелли, следствию понадобится время, чтобы отмести эту версию. Все это слишком примитивно для вас. Кутепов слушал, разглядывая ногти на руках. Марков перекладывал листки настольного календаря. Когда Семенов умолк, он сказал Кутепову: - Будьте благоразумны. Вы настаиваете относительно Маттинелли? Кутепов поднял голову: - Решительно настаиваю. - Вы усугубляете свою вину, - с сожалением сказал Марков и, секунду подумав, добавил: - Учтите, вам еще предстоит объяснить следствию очень многое. Например, в каких отношениях вы состояли с оберштурмфюрером СС Карлом Шлегелем. А вы стараетесь навлечь на себя и дополнительныенеприятности. Несолидно для человека ваших лет и вашей профессии. Кутепов не мог скрыть, что упоминания о Шлегеле он не ожидал, а если ожидал, то боялся. Спокойно-безразличное выражение лица, которое он тут же вернул себе, не могло обмануть наблюдавших за ним. Марков надавил на кнопку на телефонном столике и сказал Кутепову: - Обдумайте свое положение. Когда решите говорить честно, попросите, чтобы вас вызвал полковник Марков. Кутепова вывели из кабинета. У него был точно такой же вид, как тогда, после первого допроса. Ему хотелось продолжения… Семенов сказал: - Даже не верится. - Чему? - спросил Марков. - Неужели они весь расчет строят на итальянце? - Раз Кутепов именно тот человек, с которым велено встретиться Павлу Синицыну, значит, все правильно. Они же знают, что Павел убивать Кутепова не будет. Кутепова арестуют. - Но это же несерьезно. На Кутепове столько навешано. - На то и рассчитывают. Не станет он сразу во всем признаваться. Сначала назовет Маттинелли - это Кутепову выгодно: уводит от его старых дел, и следствию работы хватит. Хоть и временная, но все же путаница возникает. Зазвонил телефон. - Марков слушает. Да. Хорошо, жду вас. Положив трубку, он сказал: - Спасибо Орлову. Они, конечно, не думали, что Кутепова так быстро найдут. Во всяком случае, не раньше, чем к нему придет этот турист Ваня. Тут они плохо рассчитали. Зато все предыдущее мы не оценили по достоинству. - Загородившись рукой от света, Марков посмотрел на часы. - Сейчас придет один товарищ, расскажет нам о профессоре Нестерове, о его работе. А после мы с вами кое-что уточним. Капитан, которому Марков поручил составить справку о научной деятельности Николая Николаевича Нестерова, сам эту справку и прочел вслух, потому что у Маркова разболелись глаза - с ним это в последнее время случалось все чаще, и его утешало единственно то, что глаукомы врачи не обнаружили, хотя точного диагноза поставить все еще не смогли. Выслушав, Марков спросил: - Можно ли считать последние изыскания Нестерова принципиально новыми? - Строго говоря, нет, - сказал капитан. - Проблема, которой он занят, стоит перед физиками уже не первый год. Но он получил некоторые промежуточные частные результаты, открывающие доступ к проблеме в целом. - Решение проблемы имеет прикладное значение? - Безусловно. - Чем же наиболее интересна работа Нестерова? - Когда общая задача известна, остается только найти верное направление поиска. Нестеров его нашел. - Каким образом можно установить это направление? Что для этого надо узнать? - Специалисту достаточно получить две-три готовые формулы. Разумеется, если они в совокупности составляют ряд, показывающий развитие мысли. - А если без формул? - Идею профессора можно описать и словами, но это будет более громоздко. - Благодарю вас. Больше вопросов не имею.Глава 19 ДОМ ЛИНДЫ НИКОЛАЕВНЫ
Из всего, чему учился Брокман у многочисленных инструкторов разведцентра, в том числе и у Михаила Тульева, наиболее полезными оказались для него сведения о порядках, обычаях и нравах, царящих на советских железных и автомобильных дорогах. И это понятно, потому что первой его заботой по прибытии было как можно быстрее добраться из Батуми в подмосковный город, где жила Линда Николаевна Стачевская. И все его дальнейшее пребывание здесь теснейшим образом было связано со средствами передвижения, ибо ему предстояло выполнить два задания: одно - вдали от маленького подмосковного города, другое - совсем неподалеку. Первая заповедь всякого агента и разведчика - не выделяться среди окружающих - вначале казалась ему самой трудноисполнимой, так как в последние годы он упорно делал как раз обратное, все силы клал, лишь бы не быть похожим на толпу. Теперь он жалел об этом, но надеялся на свою наблюдательность, и она его не подвела. Он добрался до дома Линды Николаевны, как до собственного, ни у кого нигде не спросив дороги. Никто никогда не посмотрел на него как на белую ворону. Его предупреждали, что сообщенный ему пароль уже справил свое двадцатилетие, но Линда Николаевна, оказывается, пароль не забыла. Он видел Линду Николаевну только на портретах, где она была красивой женщиной лет двадцати пяти - двадцати шести, но тотчас ее узнал, едва она открыла ему дверь. Ему было известно, что перед войной, в сороковом году, она стала машинисткой германского посольства в Москве и вскоре сделалась доверенным лицом и любовницей военно-морского атташе. Он ее и завербовал. Во время войны ее увезли в Берлин, где она за год сменила несколько шефов, имевших отношение к той или иной разведке. В конце концов она очутилась у власовцев, сумела от них уйти перед самым концом войны, а что произошло дальше, Брокману не говорили. Прошлое богатое, но все это было так давно, что ручаться за нынешнюю пригодность и готовность Линды Николаевны к тайному сотрудничеству никто не мог. Однако опасения Брокмана оказались напрасными. Линда Николаевна помнила не только пароль. В ней были живы и воспоминания о нежных отношениях с людьми, которых она считала высшими существами, и их наставления. Она так долго томилась в ожидании какого-нибудь пришельца, который бы принес ей магический знак из молодых лет, из далекого далека, что уже устала ждать. А год назад, выйдя на пенсию (она работала машинисткой в одном из московских издательств), специально ходила в церковь, чтобы помолиться за упокой души своих обожаемых друзей и господ. Можно себе представить, как ее обрадовало появление гостя «оттуда». Это, можно сказать, было для нее не появление, а явление. Когда Линда Николаевна как следует разглядела Брокмана и сравнила его с хранимыми в душе образами, он показался ей мужланом. Зато от него веяло энергией, той особой аурой, которой обладают только люди, привычные к опасности, и которая была ей знакома со времен войны, и это примирило ее с недостатками. Линда Николаевна, будучи одинокой и имея возможность заработать на машинке столько, сколько необходимо (она и сейчас подрабатывала), не нуждалась в деньгах. Дом ее был обставлен хорошей мебелью и содержался в образцовом порядке. Принадлежавшую ей половину сада обрабатывал за соответствующее вознаграждение сосед, мастер текстильной фабрики. Его жена убирала в трех комнатах Линды Николаевны, за что получала отдельно. А их дети, мальчик и девочка, школьники, приходили иногда смотреть к ней по телевизору цветные передачи, а в благодарность с великой охотой бегали по поручению тети Линды за хлебом в булочную и за творогом в молочный магазин. Линда Николаевна могла оплатить любые услуги, если не хотела делать чего-то собственноручно, денег у нее хватало. Тем не менее она была обрадована, увидев положенные Брокманом на стол красные червонцы. Эти деньги восстанавливали ее в прежнем качестве и потому были неизмеримо дороже их номинальной стоимости. Это были для нее не банковские билеты, а волшебные грамотки, удостоверяющие ее возрождение в ранге особо доверенного лица могущественных сил, облеченных тайной властью. Это было именно так, хотя Брокман прозаически заявил, что триста рублей дает ей на первый случай, как задаток за жилье. Он даже не подозревал, что она готова служить даром, это было недоступно его пониманию… Вечером за чаем - от коньяка и водки Брокман отказался - они обсудили план ближайших дней и, так сказать, гражданский статус Брокмана. У него были безупречно сделанные документы на имя Ивана Ивановича Никитина - паспорт, военный билет, профсоюзная книжка, трудовая и даже водительские права. Во всех графах всех документов, за исключением графы «Ф. И. О.», в точности повторялись данные, относящиеся к Владимиру Уткину. Последнее место работы - техник телефонного узла в городе С., откуда уволился Уткин. Сам Брокман этого не знал, но он по первоначальному замыслу должен был унаследовать и фамилию Уткина, а не только его биографию, если бы в последний момент начальство разведцентра не внесло поправок. Брокмана беспокоило прежде всего его положение в доме Линды Николаевны. С какой стати он у нее поселился? Кем он ей приходится? Соседи могут этого и не спросить, а участковый вправе заинтересоваться. И обязательно ли ему прописываться? Линда Николаевна сказала, что еще не в столь давние времена сдавала одну из комнат одиноким мужчинам на разные сроки - от недели до полугода. Как правило, это были командированные, приезжавшие на предприятия или на какие-нибудь курсы. Стало быть, ничего из ряда вон выходящего никто не усмотрит, если она пустит к себе человека, приехавшего в поисках нового места работы и нового местожительства. Где и как они познакомились? В электричке. Разговорились, и Линда Николаевна сама ему предложила остановиться у нее. Что касается прописки, то тут все зависит от сроков. Если он думает прожить несколько месяцев, можно будет прописать его временно. Брокман не собирался жить у Линды Николаевны так долго, и вопрос с пропиской отпал. Если же возникнут нежелательные коллизии, Линда Николаевна бралась их уладить. Брокман, понятно, не рассказал ей, для чего приехал в Советский Союз, да она и не позволила себе интересоваться. Ее лишь волновало, какое участие она примет в будущих делах - что они обязательно будут, сомневаться не приходилось. Она жаждала деятельности, и Брокман заверил, что ей представится отличный случай проявить себя. Линда Николаевна отвела ему угловую комнату с двумя окнами - одно смотрело в глубину сада, из другого между кустами сирени была видна улица. Брокман приехал с чемоданом, в котором лежали белье, полотенце, бритвенные принадлежности, транзисторный радиоприемник «Спидола» и коробка батареек к нему. И больше ничего. После чая он пошел в комнату, осмотрелся, покурил перед открытым в сад окном, а потом освободил чемодан. Белье убрал в шкаф, коробку с батарейками сунул в нижний ящик письменного стола, а «Спидолу» поставил на стол. Линда Николаевна, пришедшая обсудить продовольственный вопрос, обратила внимание на скудость багажа и сделала по этому поводу замечание, что, мол, всякому солидному человеку положено иметь немного больше вещей, даже если он не обременен семьей и ведет кочевой образ жизни. Брокман согласился, достал пачку денег и попросил купить для него в Москве рубашки (размер сорок два), костюм получше (размер пятьдесят два, рост третий), плащ, демисезонное пальто и что там еще сочтет необходимым Линда Николаевна. Ей, наверное, интересно было бы узнать, насколько хорошо он был оснащен для выполнения той, безусловно, опасной миссии, которая на него возложена. Не увидев при нем никакого реквизита, который во всеобщем представлении непременно должен сопровождать шпиона, Линда Николаевна была слегка уязвлена. Но она не ведала, во-первых, о подлинном назначении «Спидолы», во-вторых, о начинке батареек, в-третьих, о маленьком фотоаппарате и маленьком пистолете, лежащем у Брокмана в кармашке на «молнии», вделанном в большой брючный карман. Десятизарядная обойма этого пистолета снаряжена патронами, в которых вместо обычных пуль были короткие, оперенные стрелки диаметром в обыкновенную швейную иглу. Они решили, что питаться Брокман будет только дома - никаких столовых и ресторанов. Линда Николаевна сказала, что еще не разучилась готовить мясные блюда по рецептам одного незабвенного друга, любившего и умевшего поесть. Так начался непродолжительный карантин Брокмана-Никитина в доме Линды Николаевны Стачевской. За пределы сада он не выходил. Так как хозяйка сказала, что в его выговоре чувствуется легкий акцент, он решил с посторонними не беседовать. Ему хотелось бы не знакомиться ни с кем, но это было трудно, потому что сад, как сказано, принадлежал на равных правах двум хозяевам и не имел перегородки, а соседи, жившие за стеной, были людьми общительными. Правда, Линда Николаевна устроила так, что дети не донимали нового жильца расспросами и даже перестали ходить на цветные передачи. По вечерам Брокман слушал радио. Он брал приемник, ложился на кушетку и вставлял в ухо маленький наушник, чтобы не мешать Линде Николаевне, которая в гостиной смотрела телевизор. За завтраком, обедом и ужином они разговаривали. Линда Николаевна рассказывала кое-что из своей богатой событиями жизни или отвечала Брокману, который расспрашивал ее о пустяках, касавшихся повседневного быта. Раз они заговорили об окрестностях города, так сказать, о памятных местах и достопримечательностях. Но ничего примечательного в ближней округе не имелось, и тогда Брокман поинтересовался, куда граждане ездят в выходные гулять. Линда Николаевна рассказала о селе Пашине на берегу Клязьмы. Там на много километров тянется глухой лес, а за лесом лежат обширные, плоские, как бильярдный стол, поля - это бывшие торфяные разработки, ныне заросшие кустарником, а за ними дорога, а потом опять лес. До Пашина километров семь или восемь, ходит туда автобус от рыночной площади. И вот на следующий день, во вторник, 23 мая, Брокман решил совершить первую вылазку - чтобы размяться, как он сказал. Линда Николаевна завернула в вощеную бумагу половину сваренной курицы, сделала несколько бутербродов и налила в термос крепкого чаю. Она хотела положить все это в свой старый кожаный портфель, но Брокман сказал, что с портфелем неудобно, и она дала вместительную клеенчатую сумку. Брокман взял с собой тяжелый железный секач, который Линда Николаевна употребляла для разделки мяса, а пока она ходила на кухню, он вынул из нижнего ящика стола коробку с батарейками и положил ее на дно сумки. «Спидолу» он тоже взял. Полдень застал Брокмана в районе села Пашина, на опушке густого леса, километрах в полутора от шоссе. Секачом он снял верхний слой земли в развилке между корнями стоявшего особняком дуба, вырыл глубокую ямку и положил в нее коробку с батарейками. Потом засыпал, уложил дернину на место, оставшуюся землю собрал на газету, отнес в сторону и разбросал. Сколько он ни смотрел, разыскивая им самим только что заложенный тайник, никаких следов обнаружить не смог. Он сфотографировал несколько раз дуб и подходы к нему. Отойдя от дуба подальше, он сел в тени, съел курицу, запил чаем из термоса и пошел по шоссе. Двухчасовой автобус привез его в город. Больше Брокман ни разу не покидал дом Линды Николаевны. По-прежнему они вечерами занимались каждый своим любимым делом - она смотрела телевизор, он слушал радио, а за завтраком, обедом и ужином разговаривали о том о сем. Однажды зашла речь о городе К., и Брокман спросил, нет ли там у Линды Николаевны родственников или друзей. Нет, таковых не оказалось. У нее нигде не было родственников, все давно умерли, а друзей она не заводила. Тогда Брокман попросил объяснить, как можно на два-три дня устроиться с жильем в городе К., если человек не хочет идти в гостиницу. Линда Николаевна не была специалистом по этой части, но высказала предположение, что лучше всего потолкаться возле какой-нибудь гостиницы, там наверняка бывают люди из местных жителей, сдающих комнаты приезжим, так как в гостиницах любого города во все времена года постоянно висит табличка «Мест нет», и это служит газетным фельетонистам дежурной темой. Из разговора Линда Николаевна поняла, что ее Иван (у нее, между прочим, язык не поворачивался называть Брокмана Иваном, и она утешала себя тем, что это, без сомнения, не его настоящее имя) не будет вечно сидеть в четырех стенах. Движение наметилось в субботу, 27 мая. Вечером, как всегда, Брокман через наушник слушал радио, а Линда Николаевна смотрела телепередачу. По окончании программы «Время» она выключила телевизор и пошла на кухню - ей захотелось чаю. Тут же к ней присоединился и Брокман. Электричества не зажигали - еще горели над городом малиновые отсветы заката. Лицо Линды Николаевны в этом мягком, рассеянном, не дающем теней свете выглядело молодым, и Брокман вспомнил ее портреты, которые ему показывал Монах. Он попросил ее прикрыть окно. Потом сказал: - Завтра вам придется съездить в Москву. - С удовольствием, - согласилась Линда Николаевна. По тону Брокмана она чувствовала, что начинается нечто серьезное, и обрадовалась. - Вы знаете Большую Бронную улицу? - Конечно. Он назвал номер дома и продолжал: - Войдете в подъезд. Там внутри над дверью, на уступе, будут лежать ключи. Возьмете их. - И все? - весело удивилась Линда Николаевна. Она и в самом деле была готова к чему-то трудному, даже отчаянному. Брокман не разделял ее повышенного настроения. - Надо очень осторожно, - сказал он. - Возьмите сначала такси, покатайтесь. Оглядываться необязательно, но проверьте, чтобы никто за вами не шел. - Вряд ли будут за мной следить. Я четверть века сижу в норке тихо-тихо. - Я говорю про обратный путь тоже. Чтобы от дома на Большой Бронной за вами никто не пошел. - Понимаю. Вот таким образом Линда Николаевна послужила дополнительным предохранителем в цепи, так старательно оберегаемой от короткого замыкания. Она привезла Брокману три ключа, завернутых в какую-то записку. Это было в воскресенье. А в понедельник, 29 мая, он велел ей отправиться в Москву и купить для него билет на поезд до города К. Линда Николаевна сказала, что можно взять и на самолет, хотя там тоже придется постоять в очереди, но Брокман настаивал на поезде, не объясняя при этом, что услугами Аэрофлота, который своих пассажиров обязательно регистрирует по паспорту, ему пользоваться нельзя. Сезон летних отпусков уже набрал силу, и в железнодорожных кассах столицы было вавилонское столпотворение. Линда Николаевна уехала в девять утра, а вернулась в девять вечера с билетом на скорый поезд на 4 июня. Она нашла Брокмана встревоженным и недовольным. Оказывается, без нее приходил какой-то человек. Брокман был в своей комнате, когда услышал, как хлопнула калитка. Он знал, что у соседей в это время пусто - взрослые на работе, дети с утра убегают на речку, потому что стоит сушь и жара, а в пионерлагерь они уедут в июне. Мужской голос негромко позвал: «Линда Николаевна! Линда Николаевна!» А потом, не дождавшись ответа, этот человек пошел в обход и по пути заглядывал в окна. Увидев наконец Брокмана, он поздоровался и извинился за вторжение. Вижу, говорит, все окна настежь, а никто не откликается. Поэтому решил посмотреть, не в саду ли хозяева. Когда Брокман сказал, что Линда Николаевна уехала по делам в Москву, человек просил передать, что приходили из редакции городской газеты. Одна машинистка у них в отпуске, другая заболела, так они хотели узнать, не выручит ли Линда Николаевна. Ничего необычного в этом не было. К ней обращались с подобными просьбами не первый раз, и не только из редакции - нехватка машинисток в последние годы сделалась хронической. Но этот довод не убедил Брокмана. Ему показалось, что посланец редакции был излишне любопытен - совал нос со двора во все комнаты, будто что искал. Это тоже было естественно - ведь он искал ее. Линда Николаевна попросила описать внешность приходившего. Приметы не совпадали ни с кем из тех, кого она знала в редакции. Вот почему эту ночь оба они, хозяйка и жилец, спали плохо. А наутро, не помыв даже посуду после вялого завтрака, Линда Николаевна отправилась в редакцию. Ответственный секретарь встретил ее как избавительницу. Да, да, они посылали к ней с нижайшей просьбой помочь и надеются, что она, как всегда, выручит их в трудную минуту. «А я думаю, кто же это приходил, - между прочим заметила она, - как будто незнакомый кто-то». Да нет же, это их старый заведующий хозяйством, которого Линда Николаевна прекрасно знает. Просто он два месяца как бросил курить и вот поправился, растолстел так, что ни одна одежда не лезет, весь гардероб менять надо. Линда Николаевна взяла кипу рукописей и ушла, обещав отстучать все к завтрашнему утру. Ее рассказ о походе в редакцию успокоил Брокмана. Линда Николаевна, прибравшись в кухне, села за свою бесшумную электрическую машинку с широкой кареткой. 4 июня им предстояло расстаться ненадолго - на три-четыре дня, как уверял Брокман. Поезд отправляется из Москвы в 21.40. …В воскресенье, 4 июня, Брокман выехал в город К. Он взял старый кожаный портфель Линды Николаевны, в который положил «Спидолу».Глава 20 ТРИ ЛИСТА УЧЕНИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
Последние полгода Николай Николаевич Нестеров был занят тем, что он называл своим основным фондом, то есть чисто научной работой. Ради этого он даже отошел на время от преподавательской деятельности, которую очень любил, и попросил на целый семестр освободить его от лекций. Проблема, которая не давала ему покоя вот уже лет десять и за решение которой он то брался вплотную, то, почувствовав тщету очередной попытки, откладывал до лучших времен, - эта проблема наконец-то начала ему раскрываться, и он, с головой захваченный поиском наиболее экономных решений, ведущих к цели кратчайшим путем, работал почти как в лучшие свои годы, вновь ощущая прежнюю одержимость. Его мысль и дух жили самой полной жизнью. Естественно, все это было глубоко внутри, в герметично упакованном вместилище мысли. И так же естественно, что целиком поглощенный этой внутренней работой Николай Николаевич совершенно не вникал в происходящее вокруг. Он не всегда внимал даже голосу жены, приглашавшей к обеду. Тем не менее, когда Ольга Михайловна рассказала мужу, что произошло с подругой их дочери, Николай Николаевич испугался. - Боже, какое несчастье, - сказал он. - Но почему это случилось именно с ней? Такая славная девочка… - Все они славные, - отрезала Ольга Михайловна. - Лучше посмотри-ка сюда. - Она жестом разгневанных трагедийных героинь указала на середину комнаты, где на полу аккуратно были разложены кофты, юбки, платья, шарфы и прочие предметы женского туалета. Разговор происходил в комнате Галины, которая в данный момент отсутствовала, вызванная в милицию. А перед тем Ольга Михайловна произвела генеральный осмотр всей квартиры, в том числе и кабинета Николая Николаевича, чего он и не заметил, и извлекла из шкафов, столов и секретера вещи, спрятанные дочерью от ее глаз. Николай Николаевич поправил очки, посмотрел, следуя указующему персту жены. - Прости, моя дорогая… Это какие-то образцы. Тут Николай Николаевич наконец уразумел, что жена по-настоящему взволнована, она даже перестала контролировать мимику своего лица. - Глупец! Это наряды твоей обожаемой дочери. - Ну и что же? Она хочет их выбросить? - Кажется, это я их выброшу. - Не понимаю, дорогая… Какая связь? Ольга Михайловна сделала глубокий вдох и спросила более спокойно: - Не ты ли покупал ей эти дорогие тряпки? - Помилуй, ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в дамском конфекционе. - Ну да, ты просто даешь ей деньги. Тайком от меня. И вот результат. - Если девочке нравится одеваться получше… гм-гм… поразнообразнее, что ли… по-моему, нет ничего предосудительного… Ты сама… - Не обо мне речь, - остановила его Ольга Михайловна. - Ты слепец. - Почему ты так сердишься? - Почти все это я нашла у тебя в кабинете. Она прятала от меня. Тебе это нравится? - Но сделай одолжение, объясни, пожалуйста… Ведь ты говорила об этой бедняжке… Как соотнести одно с другим? - Скажи честно, ты знал об этом складе у тебя в кабинете? - Впервые вижу. - Значит, она скрывала и от тебя. - Ольга Михайловна прикусила губу и задумалась. Потом продолжала упавшим голосом: - Значит, все это еще хуже, чем я думала. - Но что хуже и что ты думала? - искренне озабоченный, спросил Николай Николаевич. - Когда все чисто, человеку нечего скрывать. Я давно подозревала, что Светлана затянула нашу дочь в какие-то свои темные делишки. Она же торговый работник. Вот и доторговалась. - Ольга Михайловна встала, нервно хрустнула пальцами и прошлась вдоль стены. - А наша-то растяпа! Скотина безрогая! - Помилуй, Оля, зачем же ты так? - Николай Николаевич всегда смущался, если его супруга в сильном расстройстве вдруг забывалась и помимо воли употребляла лексикон своих молодых лет, когда она еще не обручилась с ним, академиком Нестеровым. - Ты все сюсюкаешь, а тебе бы выпороть ее вожжами - был бы прок. - Но у нас в доме нет вожжей, - стараясь вернуть ее из сферы несбыточных пожеланий на рельсы реального, мягко сказал Николай Николаевич. - Ты считаешь, тут какая-то криминальная история? - Наше счастье, если не так. Галина сама ни на что такое не способна, но откуда нам знать, чего там натворила эта Сухова Светлана? Я только уверена - эти проклятые вещички скомбинировала она. Ольга Михайловна, будучи не совсем справедливой по отношению к Светлане Суховой, и не подозревала, насколько, в общем-то, была близка к истине, ставя в связь лежавшие на полу дорогие наряды и несчастье, случившееся со Светланой, несчастье, поставившее семью Нестеровых в совершенно неподобающее положение - вплоть до того, что их дочери оказывает специальное внимание уголовный розыск. А если бы ей был известен подлинный источник всех этих модных тряпок, у нее, вероятно, разыгралась бы мигрень, от которой мог бы расколоться земной шар, не говоря уже о ее слабой, многострадальной голове. - Ты намерена их выбросить? - высказал догадку Николай Николаевич, кивнув на вещи. - Хочу облегчить работу милиции. - Неужели дело зашло столь далеко? - Во всяком случае, пока мы тут рассуждаем, наша тихоня дает показания в угрозыске. Могут и с обыском прийти. Видя, что муж взялся рукой за сердце, Ольга Михайловна побежала в спальню и принесла из своей замечательно богатой аптечки валидол. Отвинчивая крышечку, она мимоходом (мысленно) похвалила себя за то, что благоразумно не сообщила мужу о перстне, принесенном однажды Галиной и купленном за смехотворно недорогую цену. Этот перстень она швырнула сегодня дочери под ноги, приказав отдать прежней владелице «за так», без возврата денег, чтобы и духу его в доме не было. Николай Николаевич от валидола отказался. Справившись с минутной слабостью, он спросил: - В чем ее обвиняют? - Ни в чем, не волнуйся, - поспешила успокоить Ольга Михайловна. - Им же надо побеседовать с Галиной. Как-никак лучшая подруга. Сделать тебе кофе? - Да, пожалуй. Но ты уверена? - Она скоро вернется. Этот следователь, что звонил, сказал: на час, не больше. Не будем терзать себя напрасно. Придет - расскажет. Не она же ударила Светлану. - Но, может быть, нам надо поговорить с милицией? Раскрыть им облик нашей дочери… - Посмотрим, чего они хотят. Если начнутся придирки, тебе придется вмешаться. А вообще нам надо немедленно уехать. Николай Николаевич виновато развел руками. - Но это так некстати… У меня много начато… - Я говорю о нас с Галиной. Ты можешь не ехать. - Ты имеешь в виду Алушту? - Конечно. Возвращение Галины после беседы с Орловым и Семеновым уже само по себе возымело успокаивающее действие на встревоженных до крайности родителей. А сообщение о том, что милиция вовсе не против ее отъезда в Крым, вернуло им душевное равновесие - если не в полной мере, то в значительной. Вопрос с отъездом был решен немедля. Надо было кое-что сделать, кое-что купить, поэтому отъезд назначили на субботу, 3 июня. Николай Николаевич позвонил своему секретарю и попросил купить два билета на самолет. Ольга Михайловна велела Галине уложить валявшиеся на полу вещи в старый чемодан и поставить его в темную комнату-кладовку (окончательную их судьбу она собиралась определить и объявить после), а сама сходила к Васе - так они называли Василису Петровну, старую няню Галины и домработницу, - которая по случаю приезда к ней в гости собственного сына с семьей из Смоленска взяла себе отпуск. Добрая Вася согласилась дважды в неделю захаживать на квартиру для готовки и уборки, чтобы Николай Николаевич не одичал на холостяцком раздолье. В субботу, 3 июня, Ольга Михайловна с дочерью улетели в Крым утренним симферопольским самолетом. Николай Николаевич, с плохо скрываемым удовольствием проводив их, эгоистически предвкушал, как продуктивно сумеет использовать свое благословенное домашнее одиночество. Но все его виды на покой рухнули в тот момент, когда он, приехав из аэропорта, клал в свой маленький несгораемый ящик, встроенный в секретере, незаметно переданный ему дочерью перстень. Галина ничего ему не смогла объяснить в присутствии повышенно бдительной матери, шепнула только: «Спрячь, пожалуйста». И он считал себя обязанным свято исполнить просьбу, не вдаваясь в причины, побуждавшие его дочь отдать ему на хранение драгоценную безделушку. Ему доверена тайна, и дело его чести блюсти ее. Он бы презирал себя, если бы мог рассуждать иначе. Он не успел закрыть ящик, когда зазвонил телефон. Очень вежливый голос сказал: - Это Николай Николаевич? - Да, слушаю. - Извините, что беспокою. Меня зовут Павел Синицын. Я работаю в Комитете госбезопасности. Николай Николаевич хотел сказать «очень приятно», но счел это вычурным, не подходящим к случаю. Он сказал: - Чем могу быть полезен? - Мне нужно с вами встретиться. Вы сейчас свободны? - В данный момент да. - Разрешите мне прийти? - Конечно, прошу вас. - Я буду через пятнадцать минут. Положив трубку, Николай Николаевич подумал, что отменная вежливость этого молодого, судя по голосу, человека не мешает ему быть настойчивым. Потом он подумал, что этот звонок непременно имеет какое-то отношение к печальной истории Светланы. Когда Николай Николаевич открыл дверь и увидел перед собой действительно молодого человека, глядевшего на него внимательными голубыми глазами и ждавшего приглашения войти, приготовленный им официальный тон как-то не получился. Он сказал просто, по-домашнему: - Вы ведь Павел Синицын? Прошу, прошу. Павел улыбнулся, вошел, сам прикрыл дверь и сказал: - А вы открываете настежь и даже не спрашиваете кто? - Но я ждал вас, - возразил Николай Николаевич. - Идемте сюда. Павел следом за хозяином прошел в гостиную, спросил на ходу: - Квартира у вас не заблокирована? - Что? - не понял Николай Николаевич. - Я говорю, к автоматической сигнализации не подсоединена? - А-а… Нет, представьте себе. Всегда кто-нибудь дома. - Ну и хорошо, - отметил Павел. Николай Николаевич показал на кресла у низенького столика. Но, прежде чем сесть, Павел протянул ему свое служебное удостоверение. - Хоть вы и не спрашиваете у меня документов, но все-таки поинтересуйтесь. - Ну что ж, из чистого любопытства, так сказать… - Николай Николаевич подержал книжечку в руках и вернул Павлу. - Никогда не видел ваших удостоверений. Следуя примеру хозяина, Павел сел и весело сказал: - Знаете, Николай Николаевич, можно смело утверждать: если бы существовало всесоюзное общество беспечности, вы могли бы в нем занимать пост президента. Ну, на худой конец - вице. Оценив шутку, Николай Николаевич рассмеялся, но он понимал, что сказано это не из одного желания пошутить. Он всегда с глубоким уважением относился ко всем без исключения людям, исполняющим свой профессиональный долг, о какой бы профессии ни шла речь, и никогда не позволял себе ни малейшего пренебрежения к вещам, в которых сам был дилетантом. Он вообще не делил людей по признаку образования или занятий, не видел никакого принципиального различия между, скажем, физиком-теоретиком и человеком, делающим табуретки. И тот и другой может быть настоящим работником или шарлатаном. Шарлатанов Николай Николаевич не считал нужным даже презирать, они для него были пустым местом, дыркой от бублика, он называл их сокращенно РВД, что значило «рыцари вечного двигателя». Сейчас Николай Николаевич чувствовал, что разговаривает с человеком, относящимся к своему делу серьезно. Поэтому он счел всякие околичности неуместными. - Итак, чем я могу быть вам полезен? - Нам с вами надо многое обсудить. Разрешите покороче? - Чем короче, тем лучше. - Но сначала я все же сделаю общее заявление, - снова улыбнувшись, сказал Павел. - Необходимо, чтобы вы знали: мы действуем в наших общих интересах. - Не сомневаюсь. - В таком случае я буду предельно откровенен, но, если вам покажется, что я о чем-то умалчиваю, не осуждайте. - Я все пойму, не беспокойтесь. - Я знаю, ваша жена и дочь улетели сегодня в Крым. Но ведь у вас есть домработница? - Вася? Она взяла отпуск. Оля условилась, Вася будет приходить дважды в неделю. - Желательно это отменить. Вы можете ей сказать, чтобы она не приходила? - Могу, конечно, но она меня не послушает, - убежденно заявил Николай Николаевич. - Хорошо, можно, я сам поговорю с ней? Где она живет? Николай Николаевич сходил в спальню, принес записную книжку жены, отыскал адрес Василисы Петровны. Павел переписал его и продолжал: - Теперь два главных дела. Вы сможете уехать из города, Николай Николаевич? Как вы на это смотрите? - Не хотелось бы, - признался Николай Николаевич. - Я думаю, это ненадолго. Вам ведь для работы никаких приборов не требуется? - Кроме головы, - проворчал Николай Николаевич. - А далеко ли ехать? Павел, поняв, что с этим щекотливым делом все в порядке, обрадовался. - Тут рядом, километров пятьдесят. Там прекрасные условия. Никто не помешает вам работать. - И когда же? - Прямо сегодня. Крайний срок - завтра. Но лучше сегодня. Николай Николаевич покачал головой: - Однако! - Хорошо, можно завтра. Вы уж простите. Но это совершенно необходимо, уверяю вас, - горячо произнес Павел. - Мы не стали бы вас так настойчиво беспокоить, если бы имели другую возможность. - Понимаю. Но мне надо собраться… - Лишнего не берите. Как в короткую командировку. - Когда вы перешагнете за шестьдесят, ни одна командировка не покажется вам короткой, - меланхолически заметил Николай Николаевич. - Но как все это организуется? Что будет с квартирой? Меня же супруга подвергнет жесточайшему остракизму. Тут все мхом зарастет… - Не беспокойтесь. Вася после постарается. Супруга ваша еще не скоро, наверное, вернется. А за квартирой будет хороший надзор, замков никто не взломает. - Надеюсь. А как мне ехать? - Вас отвезут и привезут. И я уверен - это совсем ненадолго. Может быть, на несколько дней. - Уговорили. Что еще? Павел вздохнул. Была у него такая неконтролируемая привычка или, лучше сказать, условный рефлекс: приступая к трудному вопросу, он набирал полную грудь воздуха, словно готовился к глубокому погружению. Сейчас был именно такой ответственный момент. - Скажите, Николай Николаевич, работа, которой вы сейчас занимаетесь, еще далека от завершения или ее можно считать в основном готовой? - Вы знакомы с физикой, с математикой? - Только в пределах школы. - Тогда вы ничего не поймете. - Но в общих чертах - на каком вы этапе? - На всех сразу. - Николай Николаевич, когда дело касалось его работы, даже с коллегами не любил рассуждать «в общих чертах». Он не считал нужным смягчать тон, если сознавал бесполезность разговора. Однако Павел был к этому готов. Он объяснил: - Нам известно, что вы нашли важные решения. Но их еще недостаточно, чтобы решить проблему в целом. Вам еще много остается? - Вопрос наивный. Даже и не дилетантский. Не вдавайтесь в существо моих занятий. Лучше скажите, что от меня требуется. Начните с другого конца. Павлу не оставалось ничего иного, как признать свою оплошность. Сам же хотел говорить покороче… - Вы правы. Извините, дальше постараюсь без предисловий, но одно сказать должен: вашей работой интересуется одна из иностранных разведок. Настолько, что к вашей квартире подобрали ключи. - Поэтому я и могу быть абсолютно за нее спокоен? - в свою очередь, пошутил Николай Николаевич. - Во всяком случае, замки останутся в целости, это большое благо. - Так что же дальше? - Мы должны снабдить их материалами, которые они хотят получить. - То есть? - Несколько формул, написанных вашей рукой. Вы ведь и дома работаете? - И дома, и на улице. Везде. Но я не оставляю записей вне института. - Насчет записей он был не совсем точен, он не придавал этому особого значения. - Можно и оставить, - сказал Павел. Николай Николаевич нахмурился и, подумав немного, спросил: - Ложные? - Да. Но нельзя, чтобы это выглядело грубо. Необходимо сделать в формулах ошибку, которую трудно обнаружить. Она должна выглядеть естественно. Во всяком случае, допустимо. Знаете, как иногда встречаются в газете ошибки в шахматных нотациях? Смотришь партию - на тридцать восьмом ходу она кончается, черные сдались ввиду неизбежного мата. Начинаешь разбирать на доске, делаешь ходы аккуратно, как написано в нотации, а никакого матового положения нет. Оказывается, на тридцать пятом ходу конь белых с эф четыре должен делать ход жэ шесть, а не е шесть, как указано в газете. Опечатка. Но в принципе-то конь может и так и этак ходить. Понимаете? - Мастер быстро найдет ошибку, - скептически заметил Николай Николаевич. - Наверное, я взял неудачный пример. В ваших разработках можно ошибиться тоньше. - Это не так-то легко, если задано правильное направление. - Но все-таки возможно? Николай Николаевич, вероятно, уже прикидывал, как это сделать. Он смотрел мимо Павла и, кажется, не слышал его последних слов. Подождав, Павел повторил: - Вы считаете, это возможно? Николай Николаевич сердито взглянул на него. - А вы умеете ездить на велосипеде? - Вообще да. - А если бы вам предложили изобразить неумеющего, что бы вы стали делать? - Не знаю. Скорей всего упал бы. - Вот то-то. И это было бы ненатурально. Только клоуны умеют падать натурально. Это такое же настоящее искусство, как умение плясать на проволоке. - Вы хотите сказать… - Я говорю, притвориться заблуждающимся, когда знаешь истину, совсем непросто. Сделать то, что вы предлагаете, можно. Но это потребует времени. - Но суток довольно? - Не знаю. Надо постараться. - Надо, Николай Николаевич. - Если у вас ко мне все, давайте условимся, как вы меня завтра увезете, и я бы занялся делом. - Но это еще не все, Николай Николаевич. У вас в квартире есть какой-нибудь тайничок? Ваш личный? - В секретере есть несгораемый ящик. Но это не тайничок. - Разрешите взглянуть? Они пошли в кабинет. Николай Николаевич открыл ящик. Там лежали две ученические тетрадки. Он покашлял в кулак, вспомнив собственные слова относительно рабочих записей. Но Павел сделал вид, что не догадывается, чем вызвано это застенчивое покашливание. На перстень он вроде не обратил внимания. - Вы всегда пользуетесь такими тетрадками? - спросил Павел. - Давняя привычка. - Эти тетради, наверное, лучше отсюда забрать. - Да, пожалуй. - Но то, что мы завтра сюда положим, должно быть с гарниром. Иначе ненатурально получится. - Павел покосился на Николая Николаевича. - Извините, пользуюсь вашей терминологией. - У меня в институте найдутся безобидные черновики. - Хорошо бы их взять. - Вот видите, опять время… - Ухожу, Николай Николаевич, ухожу, - заторопился Павел. - Буду у вас завтра в три, то есть в пятнадцать ноль-ноль. Провожая его до дверей, Николай Николаевич словно вдруг вспомнил невзначай: - Да, что я хочу вам сказать… Павел, уже взявшись за дверную ручку, обернулся. - Слушаю, Николай Николаевич. - Возможно, мне только показалось… Когда вы говорили о беспечности, ведь вы вкладывали более широкий смысл, чем следует, так сказать, из вашего контекста? Павел уже забыл, когда и по какому поводу он говорил о беспечности, потому что прошедший час был посвящен конкретному делу, слишком для него важному, чтобы помнить о каких-то привходящих моментах. Но по лицу хозяина квартиры он видел, что для него это не второстепенно. - А какой был контекст? - спросил Павел, уже догадываясь, что имеет в виду Николай Николаевич, отец Галины Нестеровой, подруги Светланы Суховой. - Вы упрекнули меня, что я не потребовал у вас документа. - Это чисто нервное, Николай Николаевич. Я, когда шел к вам, очень волновался… Сомнения разные одолевали… Неуверенность… Ну, хотелось как-то самоутвердиться. А человек лучше всего самоутверждается как? Когда других уму-разуму учит. Правда? Павел опять облек все в шутливую форму, однако Николай Николаевич и на этот раз ощутил скрытый укор себе. Он сказал: - Я ценю ваш такт. Не хотите читать мне мораль в моем собственном доме. Но не притворяйтесь и не убеждайте, будто вы не считаете меня старой размазней. - Он замахал руками, видя, что Павел хочет что-то возразить. - Да-да, так оно и есть. Кормлю, одеваю, балую, а чем дышит родная дочь - не ведаю. И самое постыдное - ведать не хочу, потому что хлопотно. Мешает. Недосуг. Этот взрыв самоуничижения не удивил Павла. - Не расстраивайтесь, - сказал он. - Что случилось - случилось. Дочь ваша - человек неиспорченный. А уроки всем пригодятся. - И, искренне желая поправить Николаю Николаевичу настроение, весело сказал: - Ничего, жизнь идет! А я, честное слово, о беспечности просто так сказал, ни на что не намекая. - Вы когда-нибудь расскажете мне всю правду? - серьезно спросил Николай Николаевич. - Обязательно! Не думайте сейчас об этом. Вам работать надо. - Работа, работа… Что работа?! Глупец я, как скажет моя жена… На следующий день, в воскресенье, 4 июня, Павел приехал, как говорил, в три часа. - А я, знаете, совсем не готов, - объявил Николай Николаевич, едва они поздоровались. Павел испугался: - Не написали? - Я не про это. Надо же собраться. - Ох, Николай Николаевич, хорошо, у меня сердце здоровое, а то ведь, не ровен час… Где ваша тетрадка? - Может, у вас уже и руки дрожат? - иронически осведомился Николай Николаевич. - Вы, молодой человек, теряете свое достоинство. - Совершенно верно. Но исправлюсь. Разрешите посмотреть тетрадку. Николай Николаевич повел его в кабинет. Ученическая тетрадь в серенькой обложке лежала на столе. Павел взял ее. Тетрадь была в линейку. Три первые страницы усеяны цифрами и математическими знаками. Кое-где строчки зачеркнуты и перечеркнуты. Есть даже две кляксы. - Это получилось очень натурально, - сказал Павел, показав на кляксу. Николай Николаевич поморщился. - Вы меня переоцениваете. Это неумышленно, просто плохие чернила. Я ведь работаю по старинке, перышком. На столе действительно стоял прибор с двумя мраморными чернильницами, и в них были налиты фиолетовые чернила. Прибор был весь в медно отсвечивавших засохших пятнах. - Все равно хорошо, - сказал Павел. - Теперь сделаем так…Дайте ключ. Николай Николаевич подал ему свои ключи на железном колечке. Ключ от несгораемого ящика выделялся в этой компании тем, что был латунный и фигуристый. Павел снял его с колечка и сказал: - Вы ведь не хотите, чтобы сейф взломали? - Ну какой же это сейф… - Все-таки жалко. Значит, делаем так… - Павел открыл ящик. Там лежали отдельные листки, вырванные из тетради в линейку. Вчерашних тетрадей уже не было. Показав на листки, Павел спросил: - А гарнир подходит к основному блюду? - Вполне. - И ничего ценного? - Обыкновенные расчеты. Павел положил тетрадку поверх листов, запер несгораемый ящик и поднял крышку секретера. - А ключик спрячем сюда. - Он открыл средний ящик стола, в котором были старые блокноты, футляры от очков, карандаши, сломанные брелоки и прочая не подлежащая учету мелочь, и положил ключ в правый дальний угол. Потом задвинул ящик и сказал с сомнением: - А если не найдет? - По-моему, эту железную шкатулку в секретере можно открыть зубочисткой, - сказал Николай Николаевич. - Я бы только крышку у секретера все же не закрывал. - Вы правы, - согласился Павел и открыл крышку. - Но будем надеяться, что ключик все-таки найдут. Стол не запирается? - Как видите. Покончив с этим делом, Павел помог Николаю Николаевичу собрать в чемодан все необходимое, и они спустились к ожидавшей их машине. Павел сказал, что менее чем через час они будут на месте. В понедельник, 5 июня, Брокман приехал в город К. Поезд прибыл без четверти девять. Проспав до восьми, Брокман все же успел и побриться, и выпить стакан предложенного проводницей чаю. Вагон он покинул последним. На привокзальной площади он сел в троллейбус, шедший до центра, и через двадцать минут сошел на остановке, что напротив почтамта. Потом постоял в очереди на такси. Взяв такси, попросил шофера ехать на вокзал, а с вокзала вернулся на троллейбусе в центр. Он проверял, нет ли за ним слежки, и ничего подозрительного не обнаружил. У него был разработан подробный план, но сначала нужно было как следует поесть, а между тем кафе и рестораны, мимо которых он проходил, еще не открылись. Тогда он решил заняться телефонной частью плана и отыскал на тихой улочке стоящую в тени старого отцветшего каштана будку автомата. Линда Николаевна снабдила его горстью двухкопеечных монет, и, когда автомат проглотил безвозмездно три монеты, на первой же цифре включив сигнал «занято», Брокман пошел дальше и нашел другую телефонную будку. Сначала он набрал номер домашнего телефона Николая Николаевича. Никто не ответил. Он повторил звонок - с тем же результатом. Следующим был институтский телефон Нестерова. Женский голос сказал: - Алло, вас слушают. - Пожалуйста, Николая Николаевича. - Его нет, он в отпуске. Кто его спрашивает? - Я по личному делу. Скажите, Николай Николаевич уехал? Или он в городе? - Уехал. - А семья? - На такие вопросы не отвечаем. Извините. План Брокмана предусматривал и это. Оставив телефонную будку, он отправился в кафе, присмотренное раньше, - оно уже открылось. Брокман позавтракал плотно, с таким расчетом, чтобы до вечера не думать о еде. Правда, в портфеле у него был пакет с холодной курицей, бутербродами и свежими огурчиками, положенный Линдой Николаевной. Брокман всегда отводил пище одно из самых важных мест в своей рискованной жизни. Теперь, хорошо поев, можно было приступить к делу. Свернув с главной улицы, он пошел по переулку, потом свернул на улицу, ведущую к реке, и, отсчитав три перекрестка, на четвертом взял вправо, - он передвигался точно по чертежу, который выучил наизусть еще перед посадкой на лайнер «Олимпик», так же как и номер автомобиля, за баранку которого он собирался сесть. Автомобиль «Жигули» с номером КИЖ 37-64 должен стоять на площадке перед зданием, в котором располагается трест «Оргтехстрой», а здание это находится в переулке, по которому шагал сейчас Брокман. Между прочим, запомнить название треста ему оказалось гораздо труднее, чем номер машины. Переулок сделал крутой изгиб, и Брокман увидел слева за невысокой железной оградой с широким незакрывающимся проемом трехэтажное серое здание. Перед ним была прямоугольная асфальтированная площадка, а на ней - разноцветные автомобили. Брокман сосчитал - семь штук. Синие «Жигули» с номером 37-64 стояли в дальнем углу и выезду других машин не мешали. Брокман сначала вошел в дверь, по обеим сторонам которой массивные вывески извещали золотом по черному, что именно здесь располагается «Оргтехстрой». В вестибюле несколько человек стояли у открытого окна и курили, разговаривая вполголоса. Они не обратили на него внимания. Вдохнув кисловатый запах почтенного учреждения, Брокман тут же повернул обратно, подошел к автомобилю с готовым ключом в руке, открыл дверцу, положил портфель на заднее сиденье и сел за руль. Пошарив пальцами позади себя в щели между спинкой и сиденьем, нашел ключ зажигания, завел мотор, посмотрел на приборную панель. Бензина полный бак. Ветровое стекло сильно запылилось. Брокман достал из ящичка на панели (который, как учил его Михаил Тульев, называется у советских автомобилистов бардачком) доверенность на вождение автомобиля, а потом взял кусок старой замши, вышел, протер стекло. Затем нашел в машине щетки дворников, поставил их. И только после этого выехал с площадки в переулок. Он по справедливости считал себя первоклассным водителем. Ему приходилось ездить на машинах самых разных марок (к «Жигулям» он три дня приноравливался в разведцентре перед поездкой сюда). Но он давно усвоил правило, что в незнакомом городе каждый человек за рулем должен вести себя как новичок, строго соблюдать правила дорожного движения, а главное - ни в коем случае не превышать скорость. Брокман поехал сначала к реке, потом повернул в центр, съездил к вокзалу, потом к рынку, опять в центр и наконец к дому академика Нестерова. Не выходя из машины, он оглядел все подъезды к дому, все подходы. И поехал на другой конец города. Остановившись у телефона-автомата, он позвонил на квартиру Нестеровых. Трубку не поднимали. Брокман сел за руль, закурил и тихо покатил по длинной улице, выводящей за город. Была половина второго, солнце только-только начало склоняться на запад и пекло очень сильно. Хотелось в тень, и Брокман решил поискать на окраине что-нибудь вроде парка или рощи. Улица привела его к реке, и он увидел вдали висящий над водой мост, по которому двигались люди и автомобили. Противоположный берег был лесистым, а за грядой округлых крон поблескивали на солнце раскиданные по широкому полю маленькие озерца. Брокман направился к мосту, переехал по нему, свернул на узкий асфальтовый развилок и минут через пять очутился в прекрасной дубраве. Вековые деревья стояли редко, а между ними на свежей изумрудной траве отдыхали люди. Было много детей. Проехав дальше, Брокман увидел на полого спускающемся к воде берегу густые заросли орешника, а в нем тут и там туго растянутые палатки и автомашины с распахнутыми дверцами. В одном месте дымил костерок, и возле него, отмахиваясь от дыма, сидела на корточках женщина в купальнике, помешивая ложкой в закопченном котелке. В стороне над кустами взлетал и опускался волейбольный мяч. Брокман съехал с дорожки и выключил мотор. С пляжа слышались веселые крики, плеск воды. Негромко играла музыка - у кого-то в машине был включен приемник. Вид палаток навел Брокмана на счастливую мысль. Ему придется ночевать в этом городе, а воспользоваться советом Линды Николаевны - насчет того, чтобы потолкаться возле одной из гостиниц и найти кого-нибудь из местных жителей, сдающих комнаты командированным, - он считал нежелательным, во всяком случае, лучше бы обойтись без этого. А вот если бы у него была палатка, он мог бы устроиться в этом туристском городке, не прибегая ни к чьему посредничеству. Правда, можно и в машине переночевать, заехав куда-нибудь поглуше. Но палатка казалась предпочтительнее. Брокману не пришло в голову, что дотошный наблюдатель, увидев в этом междугородном стане автомобиль с номером города К., может удивиться: почему вдруг местный житель решил ночевать по-цыгански? Да, в общем, эта непредусмотрительность особой опасности в себе не таила, потому что лагерь автотуристов раскинулся километра на полтора, и кому придет охота вникать в номера машин, если их тут не менее пятисот. Одобрив собственную идею, Брокман поехал в город с целью купить в магазине спортивных принадлежностей небольшую туристскую палатку. Палаток в магазине не оказалось - ни больших, ни маленьких. И продавец, флегматичный молодой человек, лениво заверил Брокмана, что он не найдет никаких палаток и в других магазинах. Взамен продавец посоветовал купить брезентовые чехлы для лодок - два последних, оставшихся еще не проданными. Из них при известном терпении можно сшить одиночную палатку, правда без пола. Брокман шить палатку не собирался, поэтому купил чехол, рассудив, что он может послужить ему матрацем, а на случай дождя - крышей. В три часа он пообедал в тихом, малолюдном ресторане. А потом позвонил на квартиру Нестерова. По-прежнему никто не отвечал, и Брокман подумал, что он избавил бы себя от многих дополнительных хлопот, если бы осуществил намеченное сегодня же, не откладывая дальше. Однако благоразумие требовало осторожности. Пока что прошло всего пять или шесть часов с тех пор, как он первый раз позвонил на квартиру, в которую должен проникнуть. Хозяева могут уехать на один день, а к вечеру вернуться. Надо выждать хотя бы сутки - так будет надежнее. Начав рассуждать о предстоящем деле, Брокман испытывал нетерпение, а это в его положении никуда не годится. Нетерпеливый - значит торопящийся, а когда человек торопится, он действует непременно с ошибками. Ему, Брокману, следует настраивать себя таким образом, что, может быть, придется провести в этом городе не один день и даже не одну неделю. Все зависит от того, что обнаружит он в квартире Нестерова. Тихо катался он по окрестностям города. Медленно тянулось время. Чтобы оно не терялось даром, он старался заниматься наблюдением над дневной жизнью горожан, но это, во-первых, могло послужить ему, как говорится, только для общего развития, практической же цены не имело, а во-вторых, он находился не в том состоянии, чтобы какие-то ничтожные подробности чужого быта могли отвлечь его от мыслей о предстоящем серьезном деле. Единственное, что немного развлекало его, - это причудливые порядки содержания автотранспорта в черте города. Машины парковались, занимая половину проезжей улицы. Никакой платы за стоянку, никакого контроля. А когда он пытался понять, каким образом машина, за рулем которой он сидел, могла безнаказанно, не привлекая ничьего внимания, неделями стоять на площадке перед государственным учреждением (а стояла она, наверное, не менее двух недель), - это оказалось выше его сил. Если бы даже ему растолковали, что в тресте «Оргтехстрой» владелец машины Кутепов не так давно работал внештатным юрисконсультом, это ничего бы ему не объяснило. В восемь часов вечера он позвонил Нестеровым - телефон молчал. Брокман поехал через мост в автотуристский лагерь, еще не затихший к тому времени. Поставив машину в облюбованном раньше месте - там, где он видел взлетающий над кустами волейбольный мяч, - он вышел и потянулся так, что хрустнуло в затекших плечах, и с удовольствием вдохнул свежий речной воздух. И вновь услышал удары по мячу и увидел сам мяч. Такое впечатление, что эти отчаянные любители весь день только тем и занимались, что играли без сетки вперекидочку. Вынув из портфеля припасы Линды Николаевны и разложив их на траве, он увидел, что мяч, сильно ударенный, летит по косой траектории в его сторону. Упал мяч в траву прямо у его ног и, отскочив, ударился о заднюю дверцу машины. Тут же из кустов выбежала тоненькая блондинка в ярко-красном купальнике. Когда она приблизилась, Брокман разглядел ее. Лет двадцати пяти, хорошенькая, глаза серые с голубым отливом. - Здравствуйте, - сказала блондинка. - Добрый вечер, - ответил Брокман. Она поглядела на разложенную еду и спросила, подняв с земли мяч: - Вы тут новенький? - Да вот, только что прибыл. - Всухомятку, значит? - Вон полна река воды. - Это опасно в наше время. Мы сейчас самоварчик поставили, у нас тут целая компания. Хотите - присоединяйтесь. И, пританцовывая на ходу, она ушла туда, откуда прилетел мяч. Чай был кстати - Брокману хотелось пить. И девушка была очень симпатичная и простая. Нет, никаких таких мыслей у него не возникало, хотя он давно тосковал по женской ласке. Это все будет потом, потом… Но он не видел причин отказываться от предложения, сделанного так непринужденно и непосредственно. Уложив еду в портфель, Брокман пошел по следам девушки. На небольшой поляне среди кустов стояла серая «Волга», около нее - белая палатка, маленькая, на одного человека, а перед палаткой на траве сидели вокруг попыхивающего самовара четверо - блондинка в красном купальнике, а с нею трое молодых людей, все по виду спортсмены, уже успевшие порядочно загореть. Поздоровались, познакомились. Имена мужчин Брокман не запомнил. Девушку звали Нина. Он присоединил свои запасы к их закускам. У них была и водка, но Брокман выпить отказался, сославшись на то, что завтра ему надо иметь ясную голову. Ему налили в большую фаянсовую кружку кипятку из самовара, а Нина предложила взять из жестяной банки пакетик для разовой заварки. Она распечатала опоясанную бумажной лентой коробку с мармеладом. Молодые люди выпили водки и с аппетитом начали есть. Брокман от них не отставал, хотя водки и не пил. Поглядев на «Волгу», он спросил у Нины: - Это ваша? - Да. - Вы издалека? - Ленинград. Первой буквой номера на машине была Л. Закусив, все стали пить чай. И все, как и Брокман, брали пакетики для заварки и мармелад из коробки. Начинало темнеть, когда Брокман взял свой портфель и поднялся. - Ну, мне спать пора. Рано вставать. Спасибо вам большое. - На здоровье, - сказала Нина. - Завтра приходите, опять чайку попьем. Вернувшись к машине, Брокман расстелил брезент на траве, но тут же передумал. Он беспокоился за «Спидолу». Если лечь под открытым небом, а рацию оставить в машине - это рискованно: машину легко открыть, а мелкие воришки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, есть в любой стране. Положить «Спидолу» под брезент и спать на ней, как на подушке, - это тоже ненадежно. Поэтому Брокман решил спать в машине. Чтобы утром не иметь вид бездомного английского нищего, ночующего на скамье в Гайд-парке, он разделся до трусов, приспустил стекла, откинул спинку переднего сиденья, положил портфель со «Спидолой» под голову, укрылся лодочным чехлом и уснул под тихий плеск воды, доносившийся с пляжа. Проснулся он от птичьего гомона в половине пятого. И первое, что обнаружил, - портфеля со «Спидолой» под головой у него не было. Пропала рация. Знакомый ветерок опасности дунул ему в лицо. На плохой сон он никогда не жаловался, но спать так крепко, чтобы не услышать, как у тебя из-под головы вынимают подушку, - на это он способен не был. Неужели та сероглазая дала ему в мармеладе снотворное? Значит, он давно на крючке? И ему таким способом дают понять, что его намерения относительно квартиры Нестеровых известны? Чепуха какая-то. В это он не мог верить. Брокман пошел на полянку, где они вчера пили чай. Машина и палатка стояли на месте. На кусте орешника были развешеаны красный купальник и лифчики сероглазой блондинки. Полог палатки был застегнут, но Брокман, заглянув в щелку, увидел спящую Нину. Он выбрался из кустов на берег. Река и пляж были еще пустынны, только какой-то поджарый старик делал зарядку в ста метрах от него. Брокман искупался. Вода была холодная, как раз такая, какую он любил и в какой ему давно не приходилось плавать. Выйдя на берег и обсохнув, он почувствовал облегчение. И ясно осознал, что надо доводить дело до конца, независимо от того, кто взял у него «Спидолу» - контрразведчики или случайный воришка. Он не допускал, что это контрразведка, - зачем так грубо работать на полпути? Когда плавки высохли, он оделся и поехал в город. В начале шестого позвонил Нестеровым из автомата неподалеку от их дома. Телефон по-прежнему молчал. И Брокман, повесив мерно сигналившую трубку, отбросил последние сомнения. Пришло время действовать. Машину, как было намечено вчера, он оставил у первого подъезда, ближнего к выезду со двора. Квартира N 57 была в третьем подъезде на третьем этаже. Брокман поднялся по лестнице не торопясь. Открыл один замок, другой - вполне спокойно, как будто уже не в первый раз приходил в эту квартиру. Тревоги он не боялся - ему было сказано, что никакой оградительной сигнализации тут нет. Войдя, запер оба замка и накинул цепочку. В квартире было душно. Он обошел комнаты, заглянул в кухню. По всем приметам, хозяева уехали недавно, но уехали не на один день: в двух комнатах кровати, шкафы и кресла были наглухо укрыты линялыми покрывалами явно не парадного назначения. Настенные часы в гостиной стояли. В кабинете Брокман снял пиджак, повесил на стул и приступил к тщательному осмотру. Прежде всего, конечно, стол и секретер. В секретере должен быть несгораемый ящик - вот он. Ключа от него заполучить не удалось, но его можно легко открыть. Однако нужно все-таки поискать ключ. Брокман хорошо был обучен делать обыски незнакомых помещений, не оставляя собственных следов. Минут через десять он нашел ключ от ящика. Прежде чем сфотографировать лежавшие в нем бумаги, он сделал два снимка самого ящика - с закрытой дверцей и открытой. Вроде того, как во время войны летчики для документальности фотографировали сначала сброшенные ими бомбы, летящие на цель, а затем эту цель после бомбежки. Он работал, можно сказать, без всякого волнения. Даже полюбовался обнаруженным в ящике перстнем и примерил его - он был в самый раз на его мизинец. На каждый отдельный листок он сделал по два дубля, а на три листа в ученической тетрадке - по четыре. Эти три листа показались ему наиболее важными именно потому, что не были вырванными из тетради, а значит, содержали что-то цельное. Уложив все строго в первоначальном порядке, Брокман надел пиджак и посмотрел на часы. Было шесть часов. Дом еще не проснулся. Брокман вышел из квартиры, запер оба замка. На лестнице ему никто не встретился. Через двадцать минут он припарковал машину там, где взял, - на площадке перед «Оргтехстроем», еще пустой в это время. Он оставлял ее в полном порядке, даже щетки дворников положил точно на то место, где они лежали до него. Лишь бензина сильно поубавилось, но до первой заправочной колонки добраться хватит. На вокзал он шел пешком - не хотелось потеть в троллейбусе или автобусе, которые все были переполнены. Что касается задания, он как будто мог быть доволен сделанным, но, перебирая все по порядку, не испытывал особенной радости. Осуществленный вариант не был решающим - он не сумел добраться до самого академика Нестерова, а лишь заполучил какие-то обрывки его рукописей. Теперь надо переправить пленку, спецы проверят, что он наснимал, и если этого окажется мало, то ему еще придется пожить у Линды Николаевны неизвестно сколько. Получается, в общем, что это не лучший вариант… На вокзале Брокман первым делом отправился за билетом. В кассовом зале было полно людей - к каждому окошку длиннейшая очередь. Выбрав одну из них, он стал в хвост и приказал себе не злиться ни на советский пассажирский железнодорожный транспорт, ни на инструкцию, запрещавшую пользоваться услугами Аэрофлота на том основании, что разведчику не следует лишний раз предъявлять паспорт кому бы то ни было, а тем более в официальном учреждении, хотя бы и таком, как агентство Аэрофлота. Впрочем, Линда Николаевна говорила, что для покупки билета на самолет надо потратить гораздо больше времени, чем потом будешь лететь. Выстояв часа четыре, Брокман наконец оказался перед окошком. В спальный вагон билетов уже не было. И в купированный тоже. «Берите что дают», - раздраженно сказал кто-то из стоявших сзади мужчин, и Брокман получил плацкартное место в общем вагоне. Поезд отправлялся точно так же, как из Москвы сюда, - в 21.40. Выполняя установления инструкции, требовавшей не маячить на вокзалах, Брокман поехал в город и скоротал время в знакомстве с предприятиями общественного питания. Аппетит у него был, как всегда, отличный. Он вошел в вагон за пять минут до отхода. По дороге Брокман подбил итоги поездки. До логова академика Нестерова ему добраться удалось - это плюс. Но был и большой минус: он остался без рации, и теперь у него единственный способ связи - расписанные по дням и часам разовые подвижные тайники. Плохо, очень плохо. Но делать нечего… Имея в виду возможность того, что сероглазая подкатила к нему неспроста, он решил провериться так тщательно, как если бы от этого зависела его жизнь. В Москву поезд прибывал, как и в город К., без четверти девять. Брокман колесил по столице до темноты, а потом сел в электричку. Но по пути дважды выходил на маленьких станциях и уезжал на следующей электричке. «Хвоста» за ним не было. Линда Николаевна открыла ему дверь в половине первого ночи.Глава 21 КУТЕПОВ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ
Давно известно: когда человек сидит в тюрьме под следствием, для него неизвестность хуже любой определенности, даже самой страшной. Ожидание суда мучительнее самого суда, а приговор, даже самый строгий, снимает с души невыносимую тяжесть неопределенности. Угадать состояние Кутепова после первых коротких допросов было нетрудно. Он лихорадочно старался определить, что именно и в каких пределах известно следствию, в чем его могут уличить неопровержимо и что пока находится в области предположений. Как адвокат, он понимал и видел, что в той части, которая относится к Светлане Суховой, его алиби, подготовленное им не лучшим образом, ничего не стоит и, как он и опасался, было легко опровергнуто. Сейчас коренным был вопрос: жива ли Светлана? Если она даст показания, все остальные доказательства его вины обретут силу неопровержимых. Но, несмотря ни на что, он страстно желал, чтобы она осталась жива. Он наизусть помнил статьи Уголовного кодекса и знал, что за покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления его осудят не мягче, чем за совершенное убийство. Однако тут вступало в действие другое грозное обстоятельство. Марков упомянул Карла Шлегеля, оберштурмфюрера СС. Это значит, что контрразведчикам известно его, Кутепова, военное прошлое, ради сокрытия которого он был готов на что угодно, и, как вырисовывается теперь, совершенно зря. История с этим проклятым негативом, из-за которого он проник в квартиру Дмитриевых, только навредила ему. Зачем же еще смерть? Светлана должна жить, пусть живет! Слова полковника Маркова, что Кутепов усугубляет свою вину, не говоря чистосердечно всю правду, пытаясь запутать и затянуть следствие, постепенно становились для Кутепова той истиной, не признать которую может лишь безумец или тупой дебил. Двое суток он не спал и ничего не ел, только пил воду. На третьи сутки попросил тюремное начальство сообщить полковнику Маркову, что Кутепов намерен дать показания… У Маркова в кабинете были Павел и Семенов. На двух круглых столиках у стены Кутепов, войдя, заметил разложенные ключи и замки, которые проходят по делу как вещественные доказательства, и то, что было взято у него при аресте. Увидев Павла, Кутепов приостановился и несколько секунд смотрел на него в глубокой задумчивости. - Вы решили говорить? - спросил Марков, когда Кутепов после повторного приглашения сел на указанный ему стул. - Да. Я расскажу все с полной откровенностью. Я готов помочь следствию всем, что в моих силах. - От вас требуется только правда. - Разрешите мне задать один вопрос? - совсем несвойственным ему тоном, умоляюще сказал Кутепов. - Пожалуйста. - Сухова жива? - Да. Кутепов как бы весь обмяк. - С чего же мы начнем? - сказал Марков. - Давайте-ка с самого начала. На кого вы работали и как все это произошло? - В пятьдесят третьем году, осенью, я имел несчастье согласиться на сотрудничество с одним человеком, дал обещание оказывать ему кое-какие услуги. Он работал тогда в каком-то посольстве в Москве. До прошлого года меня не тревожили, а в январе я получил привет от того человека, и мне поручили все это дело, которое теперь столь печально кончилось. - Справившись с первым волнением, Кутепов обрел дар свободно льющейся, складной речи. Марков, вероятно, счел это угрожающим симптомом и остановил поток: - Прошу вас быть конкретным. Что это за человек? Имя? - Он представился как Арнольд. - Каким образом вы познакомились? Почему он вам представился? - Он знал меня. - Откуда? - У нас были общие знакомые. - С войны? - Понимаете, какая вещь… - Мы облегчим вашу задачу. - Марков вынул из папки служебный формуляр бывшего гауптмана. Кутепов вскользь бросил взгляд на желтый лист и заговорил быстро, как будто только и ждал, чтобы ему сделали напоминание. - Да-да, идет оттуда. Обстоятельства, к сожалению, сложились столь неблагоприятно… - Об этом вы расскажете в другое время, - опять остановил его Марков. - Чьим преемником был Арнольд? - Я служил под командованием оберштурмфюрера СС Карла Шлегеля, вы о нем упоминали в прошлый раз. А у него был друг Хайнц Вессель из разведки. Он приезжал из Берлина. - Вессель вас завербовал? - Если это так называется… - Хорошо. Кто передал вам привет от Арнольда? И как? - Он не назвал себя. Только пароль. Мы говорили какой-нибудь час. Он прекрасно знает русский. - О чем шла речь? - Он сказал, что мне надо завязать дружеские отношения с двумя подругами - Светланой Суховой и Галиной Нестеровой. Дал их адреса. - Для чего познакомиться? - О конечной цели не упоминалось. Он сказал, я буду время от времени получать инструкции. Так оно и было. - Каким же образом мыслилось завязать дружбу? - Это зависело от моей предприимчивости. Вы понимаете, при колоссальной разнице в возрасте мне не приходилось рассчитывать на что-то такое… В общем, надо было проявлять изобретательность. - Во имя бескорыстной дружбы? - Я должен был расположить их к себе, сделаться, так сказать, духовным наставником. Чтобы они чувствовали необходимость во мне. - В каком направлении вы должны были их наставлять? - Не хочу себя выгораживать, я говорю вам все абсолютно откровенно, но этот человек был очень циничен. Он сказал, надо искать в людях червоточинку, а если ее нет - постараться, чтобы она завелась. - Как же вы приступили к выполнению задания? - Сначала наблюдал за ними. У меня образовалось много свободного времени, когда вышел на пенсию. - Что значит - наблюдали? - Часто заходил в универмаг, где работала Сухова. Иногда сопровождал их по улицам. - Они могли насторожиться. - Какие подозрения может вызвать безобидный старик? И потом - они беспечны. - В чем состоял ваш план? - Познакомиться, а потом использовать маленькие человеческие слабости. Ведь все любят получше одеться, особенно молодые женщины. - Вы делали подарки? - Да. - От имени итальянского инженера? Здесь Кутепов впервые ответил с задержкой: ему потребовалось время, чтобы по достоинству оценить степень осведомленности людей, ведущих следствие. Наконец он сказал: - Этот итальянец появился случайно. Он прислал посылку Светлане, и тогда у меня возникла идея использовать, так сказать, сам факт его существования. Я подал идею, ее одобрили и даже развили. Я, видите ли, вошел во вкус, мне нравилось, я словно ставил психологический опыт. Но он мог провалиться в самом начале. - Почему? - Я попал в объектив фотоаппарата другу Суховой, молодому человеку по фамилии Дмитриев. - Подруги видели вас на карточке? - Да, но не обратили внимания на сходство. Карточка небольшая, я был там немного не в фокусе. Я говорю - они очень беспечны. По-моему, Светлана даже не заметила пропажу этой карточки и письма от итальянца. - Вы их украли? - Если угодно так квалифицировать. - Вы так боялись этих фотокарточек, что не побоялись проникнуть в квартиру Дмитриевых. Чтобы идти на такой риск, нужны серьезные причины. Они только в прошлом? - Не совсем. И в настоящем тоже. Нельзя оставлять собственный портрет на руках у людей, против которых злоумышляешь. - Вы что же, с первого шага знали, что кончится уголовным преступлением? - Нет, нет, упаси бог! - воскликнул Кутепов. - Я вообще не предполагал, к чему все это приведет. Но в июне ко мне опять приехал из Москвы этот человек, я изложил ему в подробностях все, что узнал сам, - ну, взаимоотношения между молодыми людьми, немножко об их характерах. Сказал и об итальянце и что можно скомбинировать с его помощью, отдал ему письмо итальянца. Тогда-то он мне и посоветовал обязательно заручиться каким-нибудь предметом, принадлежавшим Дмитриеву. - Вам так и сказали - предмет должен годиться для совершения убийства? Кутепов замахал руками: - Нет, нет! Просто с появлением итальянца возникали определенные коллизии. Знаете - треугольник… Дмитриев - юноша горячий… Если что произойдет - могут заподозрить и его… - Это ваши собственные соображения? - Я только описывал ситуацию. Решения принимал этот человек. - Он так и не сказал своего имени? - Нет. Мы больше не виделись. - Дальше вы действовали самостоятельно? - Я регулярно получал инструкции. - Кто их передавал? - Делалось довольно просто. Мне звонили по телефону. Голос был всегда один и тот же, но кто говорил, я не знаю. Только не тот. Называлось несколько цифр, и я знал, что они означают. Я ехал на железнодорожный вокзал, находил нужный бокс в автоматических камерах хранения, набирал нужный номер и брал оставленную для меня сумку или чемодан. Чаще - сумку. Обычно было и письмо. - Шифрованное? - Употреблялась тайнопись. - Это и были так называемые посылки из Италии? - Да. - Сколько их было? - Три. Но, кроме посылок, был еще довольно дорогой перстень. - Для кого? - Просили устроить так, чтобы он попал к матери Галины Нестеровой. Она обожает драгоценности. Я устроил. - Подарили? - Нет. Но она уплатила за него до смешного мало. - Сам Пьетро Маттинелли больше посылок не присылал? - Если бы присылал, я бы знал. Сухова от меня ничего не скрывала. - Скажите, кто же был главным объектом - Сухова или Нестерова? - Сейчас я могу заявить совершенно определенно: Нестерова. Вернее, ее отец. - Почему вы так уверены? - Все шло в этом направлении. Я понял, в чем дело, когда получил приказ сделать слепки ключей квартиры Нестеровых и выяснить, есть ли у него сейф. Академика в городе всякий знает, но я постарался вникнуть поглубже и выяснил, что главная его работа не подлежит широкой огласке, это нанесло бы ущерб государству. - Что вы имеете в виду? - Вообще. Его научные работы. Ничего конкретного я, поверьте, не узнал. Это невозможно. - Вы достали слепки? - Да. И мне велено было сделать по ним ключи. - А от несгораемого ящика? - Этого мне не удалось. - Что с ключами? - Я останавливался в гостинице «Минск». Двадцать седьмого мая пришел в номер человек от них, назвался, представьте, Ваней. У него был ко мне пароль. Он потребовал ключи, и я их отдал. - И от своей машины? - Я все делал как приказывали. - И письмо Светланы к Маттинелли? - Да. Так было велено. - Хорошо, скажите теперь вот что. Вы, насколько можно понять, воздействовали больше на Сухову. Почему? - Посылки можно было привозить только ей, ведь именно за ней ухаживал итальянец. К тому же я очень скоро заметил, что в этой паре, Светлана - Галя, верховодит Светлана. - Как же вы решились на убийство? - Я попытался привлечь ее к работе от имени Маттинелли. Все делалось под маркой Маттинелли. - Ну и что же? - Я в ней ошибся. Она отказалась. Но главное - все испортил приезд итальянца. Видно, его не ожидали. Мне пришлось спешить, а когда торопишься - сами знаете… Она бы увиделась с итальянцем, и всему конец. - Письмо Маттинелли было нужно, чтобы узнать его почерк… Для чего понадобилось письмо Светланы? - Это, вероятно, приберегалось для шантажа. - Вам советовали держать в руках Светлану, чтобы воздействовать на Галину Нестерову. По-вашему, это достаточно мощный рычаг? - Светлана действительно имела на подругу очень большое влияние. Но было не только это. Вероятно, намечалось что-то еще. Во всяком случае, меня просили сказать подругам, что у меня есть племянник и что он скоро приедет. Предполагалось подружить его с Галей. - Он не приехал? - Не успел, как видите. - А кто он такой? - Я же его не видел. Марков встал, подошел к столику, где было сложено то, что обнаружили при задержании у Кутепова. В паузе задал вопрос Семенов: - Вам не говорили, для кого понадобится ваш автомобиль? - Для племянника. - Стоянку сами подбирали? - Я долго работал юрисконсультом в тресте «Оргтехстрой», меня все там знают. И после я тоже часто пользовался их стоянкой, так что искать не пришлось. - На машине, между прочим, номера вы сменили. Для чего - понятно. Чтобы милиция не нашла. А откуда новые? - Взял у знакомого. - Как так? - Он в больнице, пролежит долго, да и неизвестно, поднимется ли, подозревают рак. Просил присмотреть за его машиной. У него хороший гараж. - С его согласия взяли? - Нет, он не знает. - Это что же, все экспромтом делалось? - Я же говорю - делал как приказывали. - Вы себя все-таки непоследовательно ведете, Виктор Андреевич, - жестко заметил Павел. - Начали с того, что, мол, буду откровенным, готов помочь следствию и так далее. А из вас приходится по капле выжимать. Кутепов испуганно взглянул на него. - Извините, я не умышленно. Какие-то детали ускользают. - Может, вспомните еще что-нибудь из деталей? Виктор Андреевич действительно вспомнил: - Ну, например, меня просили сделать доверенность на мою машину. - На чье имя? - Если не ошибаюсь - Никитин. - Уже с новым номером? - Да. - Вы заранее все рассчитали. - Это было нетрудно. Мною руководили. - Куда вы девали разводной ключ? - Бросил в реку. - Значит, рассчитывали, что все равно подозревать станут Дмитриева? - Я только выполнял инструкции. Марков вернулся на свое место. В руке он держал половинку рубля. - Откуда это у вас и для чего? - Это пароль. Мне дал его так называемый Ваня. Тогда, в гостинице. - Пароль к кому? - Двадцать седьмого июня я должен был поехать в Тбилиси, пойти в гостиницу «Руставели» и там встретить одного человека. У него вторая половинка рубля. - Что за человек? Как бы вы друг друга нашли? - Ваня показывал мне фотографию. Даже две. Анфас и в профиль. - У вас хорошая память на лица? - Благодаря профессии. - Кутепов повернулся к Павлу: - По-моему, мне показывали ваш портрет. Сказанное Кутеповым сопоставлялось с тем, что сказал Павлу так называемый Ваня, подобно двум половинкам рубля. - Похож? - спросил Марков. - Сразу можно узнать, - подтвердил Кутепов. Марков обратился к Павлу: - Объясни гражданину Кутепову, для чего вас хотели познакомить. - Простите за бесцеремонность, у вас, кажется золотые зубы? - спросил Павел, наклоняясь к Кутепову. - Ваня просил меня взять их у вас. - Довольно мрачная шутка, - печально сказал Кутепов. Маркову не понравилась форма, в которую Павел облек свое объяснение. - Шутка действительно сомнительная, но Ваня предложил ликвидировать вас, - сказал Марков. - Сегодня разговор пока закончим. Вам дадут бумагу. Напишите все подробно, всю свою жизнь.Глава 22 ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ БЕЗ РАЦИИ
Линда Николаевна, конечно же, нисколько не пожалела о пропаже старого кожаного портфеля - невелика потеря. Но она видела, что ее жилец совершенно иначе отнесся к исчезновению «Спидолы». А так как она достаточно проницательна, чтобы отличить подлинные чувства и причины чужого недовольства от мнимых, она не поверила Брокману, что «Спидола» безумно дорога была ему просто как отличный приемник. Отсюда напрашивался вывод: «Спидола» служила ему для связи, недаром же он ни на минуту не расставался с нею. О своих наблюдениях Линда Николаевна Брокману, разумеется, не сообщала. Она терпеливо ждала, что же будет дальше, с удовольствием предвидя, что пропажа средства связи заставит ее жильца чаще прибегать к ее помощи. Линда Николаевна, как известно, жаждала более активной деятельности. Восьмого и девятого июня Брокман отдыхал, то есть ел и спал, а когда не спал, то все равно лежал на кровати поверх одеяла, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Много раз он прокручивал в уме всю свою поездку в город К., минута за минутой, шаг за шагом, не упуская ни малейшей детали. Ему припоминались даже такие дурацкие мелочи, как нацарапанная в одной из телефонных будок, из которых он звонил, надпись «Сонька дура», или валявшийся на обочине желтый абажур, который он увидел по дороге к мосту через реку. Он помнил все свои маршруты и мог бы повторить каждый поворот с того момента, как выехал со стоянки треста «Оргтехстрой», до возвращения на нее. Он был уверен, что слежки за ним не велось - он бы ее обязательно заметил. Но он не имел права так же уверенно считать кражу «Спидолы» делом случая. Украли не у кого-нибудь, а у него… Что получается, если принять такую раскладку: эта сероглазая все подстроила специально, а потом угостила его мармеладом со снотворным? Ерунда получается. Если сероглазая была к нему приставлена, значит, он с самого первого шага был на крючке. Значит, за ним следили, но он ничего не смог обнаружить, хотя проверялся предельно строго, а потом вдруг ни с того ни с сего решили ему прямо сказать: мы за тобой не только следим, но и все про тебя знаем. Иначе эту кражу расценивать было невозможно. Зачем же так грубо разрушать собственную постройку? Такой вариант представлялся Брокману чистой фантазией. Он обдумывал вопрос и с другой стороны. Предположим, все это затеяно с целью лишить его рации. Но никто, кроме Линды, не знает, что у него была «Спидола». Недаром с этим приемником ему Монах столько морочил голову, объясняя, как тщательно он обязан скрывать факт его существования. Правда, тот тип из редакции видел «Спидолу», но Линде Николаевне верить можно: он давно работает в газете завхозом и никакого отношения к контрразведчикам не имеет. И наконец, был третий вариант, основанный, как и оба первых, на допущении, что контрразведка расшифровала его до поездки в город К. Ему позволили проникнуть в квартиру Нестерова, найти там все, что нужно, - может быть, подсунув липу, но опять-таки специально устроили кражу, чтобы он обо всем знал. Тут уж налицо полная нелепость. Он бы перестал себя уважать, если бы считал такие обороты возможными. Размышления кончились тем, что Брокман нашел у себя легкие признаки неврастении и постановил считать возникшие сомнения и опасения вредными для его здоровья, а следовательно, и для дела. В сумерки девятого июня Брокман пригласил Линду Николаевну в свою комнату для важного разговора - что он будет важным, она поняла, увидев окна закрытыми и зашторенными, несмотря на чудесный теплый вечер. - Вы знаете в Москве Первую Брестскую улицу? - спросил он. - Она идет от площади Маяковского к Белорусскому вокзалу параллельно улице Горького. - Так… Я сам ее, правда, не знаю, но там на левой стороне, если идти от площади Маяковского, и ближе к ней, а не к вокзалу, должен быть кирпичный дом, из которого выселили жильцов, а рядом с ним пустырь от сломанного дома, пустая площадка. Запомните все точно. - Да, да, я слушаю внимательно. - Вы возьмете вот это. - Брокман показал пустую картонную коробочку от сигарет «Столичные» с оторванной крышкой. С первого дня своего пребывания у Линды Николаевны он курил «Столичные». - В ней ничего нет, как видите, но, пожалуйста, не сомните ее в сумочке. - Хорошо. - Дальше. Вот два телефона. - Он показал клочок газеты, где на полях были записаны номера. - На память надеяться не надо, поэтому возьмите, но ни в коем случае не потеряйте. Вернете мне. - Не беспокойтесь. - Приедете на площадь Маяковского и из автомага позвоните по первому телефону. Вам ответит мужской голос. Вы скажете: «Я набрала два девять один сорок три тринадцать?» Это второй телефон, который здесь записан. Вам ответят: «Нет, последние цифры - тридцать один». Если ответ будет другой, позвоните еще раз. Но это вряд ли. Запоминаете? - Да, да, продолжайте. - Звонить вы должны ровно в двенадцать… Ну, плюс-минус две-три минуты… - Понятно. - Дальше. Погуляйте полчаса, а потом идите на Первую Брестскую. Пройдете через пустырь и на нем выбросите эту коробочку. Лучше поближе к середине. И незаметно. - Понимаю. - Потом походите по этой улице. Пустую пачку с оторванной крышкой вряд ли кто-нибудь возьмет, а вы все-таки последите… Ветром может унести, а этого быть не должно. - Но вдруг будет дождь? - сказала Линда Николаевна. - Она размокнет. - Это не страшно. Слушайте дальше. Между половиной первого и часом дня где-то недалеко остановится машина. На ней будет дипломатический номер. Выйдет мужчина с собакой. Когда он пойдет на пустырь прогуляться, исчезайте оттуда и сразу домой. Линда Николаевна испытывала такое чувство, словно всю эту сцену - как они сидят вдвоем в сумерках при зашторенных окнах и ведут тайный разговор - видела со стороны и будто она молода, как этот бесстрашный мужественный красавец, посылающий свою верную помощницу в путь, полный опасностей и коварных ловушек. Ах, как она ждала этого возвышающего душу мгновения! Но Брокман продолжал прозаически: - Вы одеваетесь… очень… как бы это сказать… шикарно. - Он имел в виду не по летам, но это было несправедливо. Линда Николаевна одевалась со вкусом; к тому же она знала, что выглядит моложе своих шестидесяти, и точно соблюдала меру, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. Зачем старить себя еще и платьем? - Хорошо, я надену один свой старенький костюм, - покорно согласилась она, но при этом посмотрела так, словно хотела сказать: «Какая разница, в чем я буду?» В субботу, 10 июня, Линда Николаевна приехала в Москву и все сделала так, как велел ее повелитель. И все получилось так, как он описывал, кромеодного. Она ожидала увидеть дипломата с каким-нибудь холеным большим псом вроде дога или добермана-пинчера, а он вышел из машины с таксой на руках. Правда, такса была холеная, но, когда дипломат поставил ее на тротуар и пошел к пустырю, это выглядело немножко несолидно. Но зато очень естественно для дела, которое тут совершалось: заботливый хозяин прогуливает свою собачку. Дипломат поднял с земли оставленную Линдой Николаевной пустую сигаретную коробку, погулял с таксой на поводке по пустырю минуты три. Линда Николаевна издалека наблюдала за ним, пока он не сел в машину, и тем нарушила данную ей инструкцию, но это было пустячное нарушение. Вернувшись домой, она отчиталась перед Брокманом и, отдавая бумажку с телефонами, сказала: - Между прочим, я их прекрасно запомнила. - Тем лучше, - сказал Брокман. - Постарайтесь не забыть, они вам еще пригодятся. Прошла неделя, и в следующую субботу Линда Николаевна снова поехала в Москву, но не для того, чтобы оставить или взять какое-то послание, а лишь позвонить по тому же телефону. На сей раз была небольшая вариация. Раньше она спрашивала: «Я набрала два девять один сорок три тринадцать?» Ей ответил мужской голос: «Нет, последние цифры - тридцать один». Сейчас ее последними цифрами пароля были тридцать один, а ответными - тринадцать. А дальше Брокман велел сказать: «Извините, пожалуйста» - и запомнить слово в слово, что будет сказано ей в ответ. Она услышала в трубке уже знакомый голос, обладатель которого после обмена паролями сказал: «Ничего, со всяким бывает». Когда Линда Николаевна передала Брокману эти слова, он заметно повеселел. Это, в свою очередь, обрадовало ее, потому что со дня возвращения из города К. ее обожаемый жилец выглядел весьма сурово, что создавало в доме неуютную атмосферу. Через три дня Линда Николаевна снова отправилась в Москву звонить по тому же телефону. Условия оставались те же, что в первый раз, с одной разницей: на ее вопрос о набранном телефоне ей должны ответить не «тридцать один» и не «тринадцать», а назвать совсем другие цифры. Какие именно - Брокман не знал. Он сказал, что могут сказать любое число, даже трехзначное. - Учтите, - прибавил он, - за этими цифрами вы теперь едете. Зарубите их себе на носу. Не расслышите - переспросите. И больше никаких разговоров. По поводу «зарубите на носу» она смертельно обиделась бы на кого угодно, а на своего жильца обижаться не могла. Она съездила в Москву и привезла для Брокмана цифры 67. Это было в среду, 21 июня. А в пятницу - новое задание. Утром за завтраком Брокман спросил: - Сколько в Москве почтовых отделений, как по-вашему? - Понятия не имею. Может, триста, может, пятьсот. - Она не понимала, почему это его интересует, но тут же все объяснилось. - А где находится шестьдесят седьмое? - Я же не в Москве живу. Да и никто из москвичей, кроме почтовых работников, таких вещей тоже не знает. - Ну, это неважно. Спросите в справочном бюро. Линда Николаевна, конечно, сразу связала это почтовое отделение с цифрами, привезенными ею из Москвы, и ждала, что будет дальше. Брокман допил свой кофе и сказал: - Завтра поедете в Москву. В шестьдесят седьмом почтовом отделении на ваше имя до востребования будет письмо или открытка. Надо получить. Для этого требуется документ? - Конечно. Почтовое отделение N 67 оказалось близко от Курского вокзала - в доме N 29 по улице Чкалова. Действительно, на имя Л. Н. Стачевской там лежала открытка. В ней было написано: «Дорогая Л. Н.! Буду в столице проездом 1 июля всего на два дня. Мне нужен коричневый плащ или зонт (желательно японский, автоматический), а времени для покупок не будет. Если не трудно, купите для меня. Сообщите, когда можно встретиться. Заранее благодарен. Ваш Н. А. Воробьев». (Тут авторы считают своим долгом напомнить читателям о сделанном в самом начале предупреждении насчет того, что среди участников этой истории очень много людей с птичьими фамилиями. Вот и еще одна, но это уже последняя.) Вполне безобидная открытка, и содержание самое банальное. Но Линда Николаевна понимала, что в ней заключены важные сведения, имеющие прямое отношение к какой-то операции, в которой она сама пока участвует в качестве простого курьера. Это слегка ущемляло ее самолюбие, ей хотелось большего. Вероятно, Брокман каким-то образом сумел почувствовать ее недовольство и счел, что злоупотребляет своей властью, так часто используя старого человека на побегушках, поэтому, прочитав открытку, он сказал: - Вы извините, Линда Николаевна, вам из-за меня приходится по жаре мотаться… - Не переживайте, не развалюсь. Мне это на пользу… До 30 июня Линда Николаевна сидела дома, а в тот день Брокман продиктовал открытку, которую просил бросить в почтовый ящик, но не здесь, а опять-таки в Москве. Она заложила открытку в книгу, которую взяла на дорогу. Открытка содержала такой текст: «Дорогой Н. А.! Вашу открытку получила. Просимых вещей не покупала, купим вместе, я вам помогу. Встретимся в час дня». И подпись: Л. С. Адрес на открытке: «Москва, 167 почтовое отделение, до востребования, Воробьеву Н. А.». Линда Николаевна порадовалась собственной сообразительности, когда поняла, что услышанное ею по телефону число 67 сообщило ее жильцу не только номер почтового отделения, где следует получить корреспонденцию, но и номер того отделения, куда надо послать ответную открытку. Простым добавлением единицы количество информации удваивается. Интересно, как расшифровываются другие числа и слова открытки? Линда Николаевна надеялась, что и это ей со временем станет ясно. Открытку она бросила в почтовый ящик на площади у Курского вокзала. 4 июля 1972 года, во вторник, в почтовое отделение N 167, находящееся в доме N 56 на Ленинградском проспекте, зашел утром мужчина лет сорока, среднего роста, неприметной наружности. Предъявив в окно выдачи корреспонденции паспорт на имя Воробьева, он получил открытку и направился к станции метро «Аэропорт», но уехать на метро ему было не суждено: у дома N 60 его остановил, козырнув, молодой человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. - Прошу предъявить документы. Воробьев этого не ожидал и на минуту растерялся. Машинально достал паспорт, в который была вложена открытка, протянул его лейтенанту, но в последнее мгновение выдернул открытку. Лейтенант долго рассматривал паспорт. Наконец спокойно сказал: - Карточка переклеена, гражданин Воробьев. - Ерунда какая-то. - Воробьев ненатурально усмехнулся. - Это ваш паспорт? - спросил лейтенант. - Конечно, мой. - Тогда придется вас немного задержать. Прошу. - Лейтенант показал рукой на желтую милицейскую «Волгу», стоявшую у тротуара. Он ключом открыл правую дверцу, распахнул ее для Воробьева. Затем обежал машину, сел за руль. Воробьев в это время успел незаметно выбросить открытку в окно, для чего чуть приспустил стекло. Но лейтенант заметил, вышел, подобрал открытку, ничего при этом не сказав, снова сел за руль, и они поехали. - Куда вы меня везете? - В отделение… В отделении милиции разыгралась такая сценка. Лейтенант привел Воробьева к заместителю начальника по уголовному розыску, отдал ему паспорт и доложил: - Товарищ майор! Гражданин Воробьев задержан мною у станции метро «Аэропорт». Есть схожесть с рецидивистом, объявленным во всесоюзный розыск. При задержании пытался выбросить вот это. - Лейтенант положил на стол открытку. Майор тоже долго разглядывал паспорт, потом самого Воробьева, потом читал открытку. А после этого сказал: - Карточка заменена. Как вы это объясните? Воробьев произнес слова, которых ни тот, ни другой милиционер не ожидали: - Это все ерунда. Вы не имеете права меня задерживать. Я иностранный подданный. Турист. Живу в гостинице «Украина». Можете проверить. А паспорт этот не мой. - Понятно, что не ваш, мы тоже так думаем, - сказал майор. - Поэтому объясните нам, как он у вас оказался. - У меня его не было. Впервые вижу. Лейтенант все подстроил. - Вот это да! - в восхищении сказал лейтенант. Майор позвонил кому-то по телефону, объяснил ситуацию и сказал напоследок: «Хорошо, жду», - положил трубку и обратился к Воробьеву: - Мы вас задержим. До выяснения. - Я требую соединить меня с посольством. Вы не имеете права меня арестовывать. - Не волнуйтесь, ваши права не пострадают, все будет по закону. Присядьте. - Майор показал на стул у окна. Но Воробьев садиться не захотел. Он начал ходить перед столом от стены к стене. Майор и лейтенант разговаривали о чем-то, не обращая на него внимания. Через полчаса приехал Семенов. Он увез Воробьева.Глава 23 РЕШЕНИЕ
Новый начальник отдела генерал Петр Иванович Лукин, сменивший умершего от инфаркта генерала Сергеева, своего давнего товарища и соратника, в общих чертах знал операцию «Резидент», начавшуюся много лет назад и теперь достигшую той степени развития, когда требовалось принять решение: либо продолжать ее, либо свернуть. Генерал условился с полковником Марковым, что Марков сам определит срок подробного доклада, чтобы окончательно все обсудить и выработать линию дальнейшего поведения. 3 июля Марков попросил генерала назначить доклад на следующий день. 4 июля в кабинете Лукина собрались в 11 часов Марков и Синицын. Они захватили с собой комнатный кинопроектор, небольшой экран, коробку с кинопленкой. Марков принес две толстые папки с бумагами. Был еще чемоданчик, который они не открывали. Павел повесил экран на стену поверх висевшей там географической карты, напротив поставил на стол проектор и рядом с ним положил коробку с узкой кинопленкой. Лукин пригласил всех садиться и сказал: - Начнем. Марков напомнил историю дела и, закончив введение, предложил: - Я думаю, Петр Иванович, для краткости остановимся только на узловых моментах и не будем трогать, так сказать, соединительную ткань. - Для краткости, но не в ущерб? - Конечно, - заверил Марков. - Кое-что мы вам и покажем. Но эпизоды на разных пленках, кусочками, так что будут частые перерывы. - Ничего. Кто у вас за киномеханика? - Синицын. - Ну, мы ему «сапожника» кричать не будем. Но сначала, Владимир Гаврилович, помогите мне, пожалуйста, от навязчивых дум избавиться. Никак не могу одну загадку решить. - С удовольствием, Петр Иванович, если это в моих силах. - Я, конечно, не так глубоко в этом деле сижу, могу кое-чего не понимать, но не кажется ли вам, что выдача Кутепова Бекасу выглядит странно? - Тут надо учитывать два обстоятельства, - сказал Марков. - Во-первых, Кутепов никого не может выдать. У него была односторонняя связь, он даже толком не может объяснить, кто давал ему приказания. Все, что от него требовалось, он сделал - его можно убрать. - Вы думаете, они всерьез полагают, что Бекас может его убить? - Это уже второе обстоятельство. Они с самого начала не до конца доверяли Бекасу. Но и полной уверенности, что Бекас контрразведчик, тоже нет. Выдать Кутепова - значит развязать сразу два узла. Им важно, чтобы Кутепов был выключен из действия, а вместе с ним и Бекас. А как это произойдет, не имеет значения. - Но Кутепов все-таки знает довольно много. И через него же идет нитка к академику Нестерову. - Обратите внимание: Кутепов должен встретиться с Бекасом через месяц. За этот месяц, вероятно, рассчитывали сделать все, что нужно. Во всяком случае, основную часть. - Если так, то все понятно. - Между прочим, - добавил Марков, - этот точно определенный срок - месяц - заставляет предполагать, что Брокман заслан тоже на определенный срок. На короткий. - Ну хорошо, - сказал Лукин. - Показывайте ваше кино. Марков дал знак, Павел зарядил проектор пленкой. - Движение после долгой спячки возобновилось с того дня, как Уткин взял расчет на работе, - начал Марков. - До этого мы знали из донесений Михаила Тульева, что разведцентр готовит к засылке серьезного агента, даже опасного, судя по его прошлому. Совпадение во времени давало основания полагать, что активность Уткина, несколько лет жившего абсолютно спокойно, связана с этим агентом. Уткин неожиданно для нас поехал к жене Тульева. А так как Тульев имел отношение к подготовке агента, мы должны были предположить, что поездка Уткина нужна им для проверки. Во-первых, лишний раз проверить Тульева, который так и не освободился от подозрений со стороны Себастьяна. Во-вторых, установить, не ведется ли за Уткиным наблюдение. Синицын, покажите первую пленку. - При генерале Марков называл Павла на «вы». Павел включил проектор. На полотне замелькали кадры, запечатлевшие поездку Уткина к Марии. Когда эпизод окончился, Марков продолжал: - Обратите внимание - у него «Спидола» и чемоданчик. Видите, он держится так, словно специально подставляется, чтобы его обязательно заметили. При этом мы не должны быть на сто процентов уверены, что он не обнаружил наблюдения. Даже один процент сомнения обязывал считать допустимым, что Уткин расшифровал Синицына или его помощника. А если не сам Уткин, то кто-то другой, контролировавший его поездку. Мы так и считали. Потом учли еще одно обстоятельство: коль скоро разведцентр в лице Себастьяна не доверяет Тульеву, значит, его жену считают способной сообщить нам о визите Уткина. Из этого следовал вывод: Уткина действительно могут нам подставлять специально. В таком случае главное для них - не проверка Тульева, а что-то другое. Но, может быть, они таким образом проверяли и надежность легенды Уткина. Он жил много лет в полном бездействии, зарабатывая стаж и репутацию. Для кого и для чего? Теперь ясно, что не для себя. Скорее всего для Брокмана. Но в конце концов разведцентр предпочел, вероятно, перестраховаться и не использовать нажитое Уткиным доброе имя - нового Уткина нет, мы бы его нашли очень быстро. Из этого видно, какое значение они придают задаче Брокмана. Марков посмотрел на Павла, тот сменил пленку в проекторе. - Дальнейшее поведение Уткина подтверждает, что в его задачу совершенно не входило действовать скрытно. Сейчас вы увидите это, Петр Иванович. И опять обратите внимание на радиоприемник. Павел снова включил аппарат. Эта пленка была длиннее. Она показывала Уткина в Москве на вокзале, входящим в вагон, выходящим из вагона. На экране двигался здоровый, довольный жизнью человек, кажется, не помышлявший ни о чем, кроме предстоящего отдыха. С ним всегда была «Спидола» - или в руке, или на ремешке через плечо. Марков комментировал: - Уткин приехал в Батуми двенадцатого мая. Нам было известно, что семнадцатого туда прибывает круизный теплоход «Олимпик». На экране шли кадры, снятые у дома, где жил Уткин. - Остановите, - сказал Марков Павлу. Кадр показывал парадное, куда входил Уткин, сидящих на скамейке стариков и кусок тротуара, по которому шли прохожие - их было много. - Дом большой, стоит на бойком месте, - продолжал Марков. - Говорю не в оправдание, Петр Иванович, но это существенно. - А в чем вы должны оправдываться? - спросил Лукин. - Скоро поймете. Синицын, зарядите пленку за семнадцатое мая. Павел еще плохо освоил киноаппаратуру, поэтому менял пленку довольно долго. Марков объяснял: - Мы, конечно, считали, что Уткин ждет «Олимпик», чтобы встретить кого-то. Исходя из того, что он демонстративно пренебрегает элементарной конспирацией, следовало предположить, что тот, кого он встретит, будет лишь фигурой для отвода глаз. Иначе вся эта игра в открытую не имеет никакого смысла. Но именно на этом мы и просчитались. Началось с того, что Уткин безвыходно засел дома. Он только раз посетил порт, чтобы посмотреть, где швартуются суда. Такая резкая перемена в поведении сбивала с толку и заставляла усомниться в правильности прежних выводов. Может быть, мы напрасно считали, что Уткин умышленно все делает напоказ? - Марков обернулся к Павлу: - У вас готово? - Да. - Впрочем, погодите. - Марков протянул генералу фотокарточки, на которых был изображен Брокман. - Прислал Михаил Тульев, снимки сделаны в Швейцарии, на курорте Гштаад. Это Брокман - агент, которого с участием Тульева готовили к засылке. Дав генералу разглядеть снимки, Марков сказал Павлу: - Пускайте. Минут пять они смотрели, как Уткин вышел из дому, пришел на морской вокзал, как с трапа сходят туристы. Затем в кадре появился Брокман, затем Уткин и Брокман встретились и Уткин передал Брокману «Спидолу». - Стоп, - сказал Марков на крупном плане и обратился к генералу: - Скажите, Петр Иванович, этот турист похож на Брокмана? - Безусловно, похож, - сказал Лукин. - Но это не Брокман. - Это уже в оправдание? - спросил Лукин. - Я должен обратить ваше внимание, что разведцентр в этой операции все построил на отвлекающих маневрах. Итальянец, Алексей Дмитриев, Уткин - все это для того, чтобы увести нас в другую сторону. Наконец, подмена Брокмана. Не менее важна «Спидола». Эти два отвлекающих фактора сработали как магнит, притянули к себе. Ведь мы знали о Брокмане, ждали именно его. Человек, которого они подобрали, не абсолютный двойник Брокмана, но это быстро разберешь, если поставить рядышком живых или их портреты, а идентифицировать живого человека, которого прежде не видел, по фотопортрету - дело не такое простое, как кажется. Ну и «Спидола», конечно, сильно все усложнила. Уткину все-таки удалось сыграть отвлекающую роль. - Вы в третий раз говорите о «Спидоле», - сказал Лукин. - Сейчас объясню. Это рация, и она лежала в тайнике на Златоустовской улице, в доме номер двадцать семь, в том городе, где жил Уткин. Он взял ее оттуда, но выходил в эфир только один раз, незадолго до поездки к жене Тульева. И больше не расставался с нею. «Спидола» была особой его приметой, яркой меткой. К тому же Уткин и в Батуми выходил в эфир. Вы только что видели пленку - «Спидолу» Уткин передал человеку, которого мы принимали за Брокмана. У нас не было сомнений, что это именно та «Спидола». Уткин много лет прожил на виду, и никто не видел, чтобы он покупал какой-нибудь радиоприемник, а уж «Спидолу»-то обязательно бы заметили. - А она тоже подменена? - Нетрудно сообразить: с настоящей «Спидолой» ушел настоящий Брокман, - сказал Лукин. - Вот именно. На то, чтобы добраться до морского вокзала и потом вернуться с мнимым Брокманом домой, Уткину потребовался час с небольшим. За это время в его комнате успел побывать настоящий Брокман. Он и взял рацию. За домом велось наблюдение. За этот же час в парадное и из парадного вошло и вышло более двадцати человек. Брокман изменил внешность, на свою фотографию был не похож. Стрижка совсем другая. Приклеил усы. Все происходило слишком скоротечно. С «Олимпика» сходили группами. Брокман был в третьей. - Когда же обнаружились подмены? - спросил Лукин. Вместо ответа Марков попросил Павла пустить пленку. Это был момент возвращения мнимого Брокмана и Уткина на теплоход. Они подошли к трапу, предъявили пограничникам пропуска и поднялись по трапу. У квази-Брокмана на ремешке через плечо висела «Спидола». - Когда они ушли из квартиры, был разговор с хозяйкой, - сказал Марков. - Она сообщила, что в отсутствие квартиранта заходил его друг Володя, но пробыл всего несколько минут. В комнате Уткина осталось кое-что из его вещей. - А настоящий Брокман так и ушел? - Да. Но мы нашли его след. До Тбилиси он ехал сначала на попутной легковой, потом на грузовике. Оба водителя опознали своего пассажира по фотоснимкам. Далее, мы нашли проводницу вагона, в котором ехал Брокман. Он приехал в Москву. Активный розыск был начат с восемнадцатого мая, но в Москве, конечно, он проскочить успел. Правда, мы знали, что из Москвы на дальних поездах и на самолетах Брокман не уезжал. Автомобильный транспорт тоже был под контролем. Обнаружен он двадцать восьмого мая. Как вы знаете, это произошло в связи с делом Кутепова, о котором я вам докладывал. Выход на Брокмана сделан, так сказать, с другого конца, и это ускорило поиск. - Значит, у нас все-таки есть одно «белое пятно», - подытожив изложенное Марковым, сказал Лукин. - Да, десять дней, которые прожил Брокман бесконтрольно в доме Стачевской. - И эта пресловутая «Спидола» у него? - спросил Лукин. Впервые подал голос Павел Синицын: - Нет, Петр Иванович, она уже у нас. - Он открыл чемоданчик, вынул рацию. - Конфисковали, значит? - Изъяли, Петр Иванович, - сказал Марков. - Иного выхода не было. Требовалось лишить его радиосвязи, чтобы действовал контактным способом. Радиокод они сменили, расшифровать пока не удалось. - А как удалось со «Спидолой»? - Мы попросили завхоза редакции, в которой подрабатывает Стачевская, навестить ее дом, и он сказал, что видел «Спидолу». После этого решено было рацию изъять. А потом лейтенант Ковалева и старший лейтенант Жаров организовали все довольно удачно. - Рискованно, - подумав, сказал Лукин. - У него наверняка зародились подозрения. Доложит в центр, там сообразят, что бумаги Нестерова - бутафория. - Не могут они поверить, что мы сначала столько усилий положили ради этой бутафории, а потом одним вопиюще неуклюжим ходом испортили себе всю комбинацию. - Грубовато, конечно, но, пожалуй, в этом-то и соль, а? - Должно сработать, - убежденно сказал Марков. - Будем надеяться. Мне вот что не совсем ясно, Владимир Гаврилович. Зачем Кутепов эту девушку убить хотел? - Ну, во-первых, он ее боялся. Вербовал - отказалась. Приезжает итальянец - все раскрывается. Во-вторых, ее смерть должна была произвести весьма сильное впечатление на Галину Нестерову. Цепочка понятная. Нестеров очень любит свою дочь. Представьте, если отцу скажут: или помогайте нам, или с вашей дочкой случится то же, что и с ее подругой. - Вы полагаете, Нестерова в покое не оставят? - Одной поездкой Брокмана дело может и не ограничиться. Кутепов на допросе, например, заявил, что ему велели подготовить подруг к встрече с каким-то племянником. Наверное, имелся в виду Брокман. Мамочка Галины Нестеровой тоже оскоромилась - ей дорогой перстень Кутепов продал за бесценок. - У Брокмана, считаете, других задач нет? - Мы не все знаем, Петр Иванович, - ответил Марков совершенно теми же словами, которые произнес однажды в разговоре с Павлом. - Пока не все. - Он посмотрел на часы. - Но буквально в эти самые минуты выяснится одно дело… Появился ходок из-за рубежа. - К Брокману? - Да. Но разрешите, Петр Иванович, покончить сначала с тем, что уже есть. Сейчас мы покажем вам, к кому обратился Брокман, когда остался без «Спидолы». Павел успел освоиться с проектором и теперь исполнял обязанности киномеханика хорошо. На экране возникла площадь Маяковского. Затем в кадр вошла Линда Николаевна. Она набирает номер в будке телефона-автомата. Идет по Первой Брестской. Достает из сумочки сигаретную коробку, роняет ее на землю посреди пустыря. А вот и автомобиль с дипломатическим номером. Мужчина приятной наружности с таксой на руках поднимается из-за руля, гуляет с таксой по пустырю, наклоняется, подбирает коробочку. И уезжает. - Старый лис, - сказал Марков. - Сотрудник известного вам посольства. - Знаете его? - спросил Лукин. - В шестьдесят шестом работал в Чехословакии, потом недолго в Польше, потом куда-то исчез, а с шестьдесят девятого - в Москве. - У нас за ним что-нибудь числится? - Одна нитка определенно к нему вела, да оборвалась. Это еще два года назад было. Косвенных данных уже порядочно набралось. Но он осторожный. Тут вот впервые попался. Скорей всего Брокман передал ему микропленку с нестеровскими формулами… Посмотрим дальше. На экране - вход в почтовое отделение N 67. Появляется Линда Николаевна. - До этого она звонила по тому же телефону. Вероятно, тут Брокман работает уже по пожарному варианту - «Спидолы»-то нет. Стачевская получила открытку. А тридцатого июня сама отправила открытку. Ей писал некто Воробьев, и она послала открытку Воробьеву. - Это и есть ходок к Брокману? - Да. Приехал с туристской группой. С ним работает майор Семенов - земляк Кутепова. - Марков опять посмотрел на часы. - Воробьева задержали? - спросил Лукин. - Да. - Пугаете вы их, Владимир Гаврилович. - Ничего. Все обставлено незатейливо, но правдоподобно. Сказано, что похож на разыскиваемого рецидивиста. А паспорт оказался с изъяном. Судя по открыткам, тут какое-то спешное дело. Группа Воробьева послезавтра улетает. Значит, сегодня он открытку получил, а само дело назначено на завтра. У Брокмана связи нет, до него не успеет дойти. В кабинет вошел секретарь генерала. - Владимир Гаврилович, вас спрашивает майор Семенов, - обратился он к Маркову. - Говорит, что вы велели звонить, если срочно. Марков взял трубку белого аппарата. - Семенов? Слушаю вас… Где вы?… Везите сюда. - И, закончив разговор, Марков сказал генералу: - Сейчас Семенов привезет Воробьева. Мы с ним потолкуем у меня, а потом я вам доложу. Там что-то непростое. - Хорошо, - сказал Лукин. - Жду вас. Воробьев, который в группе по своему иностранному паспорту значился как Блиндер, ни в чем не стал запираться. Семенов рассказал, что Воробьев сделался податливым с того мгновения, когда из его чемодана извлекли четыре разноцветных длинных тюбика, в каких продается зубная паста. Надписи на них были немецкие и действительно сообщали, что тюбики содержат зубную пасту. Семенов хотел отвернуть колпачок на одном и выдавить для пробы себе на ладонь его содержимое. Тюбики оказались запаянными, но Воробьев закричал так, словно его пырнули ножом. Несколько раз повторил: «Нельзя! Нельзя!» - и заявил: пусть его отвезут к ответственному работнику КГБ, он все расскажет. И вот он сидит перед Марковым. А на столе между ними четыре разноцветных тюбика. - Почему вы так перепугались? - спросил Марков. - Мне строго приказано: ни при каких обстоятельствах они не должны быть вскрыты. - А что в них, по-вашему? - Не знаю. Марков вызвал помощника. Тюбики отправили в химическую лабораторию. - Кому вы это привезли? - спросил Марков у Воробьева. - Я должен встретиться с женщиной, ее зовут Линда Николаевна. - Где? Когда? - Завтра в час дня на сквере у памятника Пушкину. - Вы писали ей открытку? - Нет. Только получил от нее. - Знакомы? - Нет. - Она сама должна к вам подойти? - Да. У меня должен быть коричневый плащ. - И что же, вы должны отдать тюбики ей? - Нет. Она должна сказать: «Поедемте ко мне домой» - и привезти к человеку, которому это послано. Мне приказано отдать только ему, из рук в руки. - И все? - Говорили, что он может тоже что-нибудь мне передать. - А вы его знаете? - Нет. - Как его фамилия? - Никитин. - Как фамилия вашего шефа? - Самого главного? - спросил Воробьев. - Да. - Не знаю. Я там недавно. Между собой его зовут Манк - по-английски значит Монах. - А тот, кому предназначены тюбики, знает вас? - Не могу ничего сказать. Марков поднял телефонную трубку, набрал номер. - Подготовьте сообщение в МИД, что господин Блиндер до выяснения задержан нами за нарушение паспортного режима. Марков, видя, что Воробьев - Блиндер при его последних словах явно воспрянул духом, сказал ему, кладя трубку на место: - Сейчас я имею право пообещать вашему посольству. Мы еще не знаем, что содержится в тюбиках. - И после паузы добавил: - Но вы, пожалуй, отпущены не будете. Совещание у генерала Лукина возобновилось в три часа дня. Марков захватил с собой магнитофон с лентой, на которой был записан допрос Воробьева. Прослушав запись и посмотрев паспорт Воробьева, Лукин сказал: - Если я вас правильно понимаю, мы сейчас пришли к развилке, Владимир Гаврилович? - Совершенно верно. - А когда химики дадут анализ? - Зависит от сложности вещества. - Но сегодня, по крайней мере? - Обещают. - Ладно. Какие же мысли? - По-моему, настал момент решить вопрос принципиально: продолжать или кончать операцию «Резидент», - сказал Марков. - Если продолжать - что будет? - Без всяких анализов ясно, что Воробьев привез для Брокмана не зубную пасту. Можно заменить содержимое тюбиков. Воробьев согласится до конца исполнить свою миссию под нашим контролем - в этом сомнений нет. Потом посмотреть, что сделает с тюбиками Брокман. Но вообще Брокмана нам надо обезвредить. Его связи выявлены, больше через него ничего не получишь. - Значит, предпочтительно другое решение - кончать? - Да, - твердо ответил Марков. - Тогда формулы академика Нестерова будут выброшены в корзину? - Не обязательно. Формулы Брокман добыл до приезда Воробьева. Мы потеряли из виду Брокмана на десять дней, с семнадцатого до двадцать восьмого мая. Он ездил к Нестерову пятого июня. Они вполне реально рассчитывают, что раньше двадцать седьмого июня, когда назначена встреча Кутепова и Бекаса, мы о Нестерове ничего знать не могли. Так что все естественно. - Хорошо, - сказал Лукин. - Сворачиваем операцию. Что это влечет за собой? - Провал Брокмана автоматически бьет по Михаилу Тульеву. За предыдущие годы мы взяли несколько агентов разведцентра по данным, которые сообщил Тульев. Себастьян уже давно пытается по этим данным и по этим провалам, так сказать, вычислить Тульева. С Брокманом же Тульев связан прямо. Тут у Себастьяна сомнений уже не останется. - А как же с «белым пятном»? Что делал Брокман в те десять дней, пока был бесконтролен? Мы этого можем не узнать, если даже и возьмем его. - Да, лишнего на себя наговаривать никто не будет. - Он, видно, с характером, - сказал Лукин. - И с биографией, - добавил Марков. - Можно попытаться, конечно… - Что - попытаться? - Послать кого-нибудь вместо Воробьева. Павел, во все продолжение беседы скромно помалкивавший, покашлял при последних словах в кулак. - Нет, тебе нельзя, - не глядя на него и забыв свое официальное «вы», сказал Марков. - О твоем существовании Брокман наверняка знает. И потом, ты с Кутеповым завязан. - Судя по всему, Воробьев никаких полномочий не имеет, - сказал Лукин. - Да, - согласился Марков, - но заманчиво и поблефовать немножко. Брокман может что-нибудь передать Воробьеву. - Опасно, - сказал Лукин. - Опасность, конечно, есть. Очень странный пароль для встречи. Как в детской игре. Коричневый плащ, и больше ничего. Коричневые плащи не в одном экземпляре шьются. - Есть еще что-то, - вставил Синицын, - какая-нибудь примета, которую знает Брокман. - Вероятно. И еще известно, что эта Линда должна сказать: «Поедемте ко мне домой». - Если решаем сворачивать, то послать кого-нибудь к Брокману не помешает, - сказал Лукин. - Но человек должен быть решительный. - Майор Семенов управится. Как ваше мнение, майор Синицын? - Марков опять обращался к Павлу на «вы». - Вообще-то подходит, - сказал Павел с несколько ревнивой интонацией. Лукин ее уловил. - А в частности? За Павла ответил Марков: - Майор Синицын хочет сказать, что он сделал бы это лучше. Лукин и Марков посмеялись немного, но Павел остался при своем мнении. - Его надо подстраховать, - сказал он серьезно. - Не помешает, - сказал Лукин. - А где Семенов, Владимир Гаврилович? - Позвать? - Надо познакомиться. Марков попросил секретаря генерала вызвать майора Семенова. Когда он явился, Марков представил его Лукину. Садясь в кресло, Лукин сказал: - По руке вижу - сила есть. А если стрелять? - Обучен, товарищ генерал, - проговорил Семенов. - Меня зовут Петр Иванович, - заметил Лукин. - Мы все обучены, хотя мне, по правде сказать, кроме как в тире, стрелять не приходилось. И вряд ли придется. И вообще не наше это дело. А тут, представьте, невероятный случай - дело может дойти до стрельбы. - Если надо, не промахнусь, - сказал Семенов. - Тут не в тире, не на стрельбище, - сказал Марков. - С Брокманом состязаться будете. Важно, кто быстрее. А он был профессиональным убийцей, зарабатывал этим на жизнь. - На реакцию никогда не жаловался, Владимир Гаврилович. Я и с парашютом прыгал. - С парашютом и Брокман прыгал, но не стоит сейчас о технике говорить. У нас будут такие патрончики - Синицын объяснит их действие. Потом все уточним. - Мы, кажется, слегка забежали вперед, Владимир Гаврилович, - сказал Лукин. - Да, надо получить результаты анализа. - Марков посмотрел на Павла, на Семенова и сказал им: - Вы пока свободны. Идите ко мне, прикиньте насчет завтрашнего дня. И заберите все это. - Он показал на проектор и прочее принесенное ими в кабинет Лукина. Когда Павел и Семенов ушли, Марков сказал генералу: - Не с легкой душой, Петр Иванович, говорил я о Тульеве. - Насчет отзыва? - Да. Сколько сил потрачено. И место у него - не каждому дано, не в любой день устроишь. Конечно, все давно окупилось, но терять жаль. - А провал Брокмана обязательно означает провал Тульева? - Я сказал - автоматически. Может быть, это не совсем так. Но риск для него увеличится сильно. - А он согласен рискнуть? Вы с ним эту тему не обсуждали? - Он-то согласен. Но пока Себастьян на месте, Тульев все время будет ходить по острию ножа. Правда, уже не первый год у них толкуют, что Себастьяна уберут, а он все не убирается. Лукин встал, прошелся по кабинету, снова сел. - Владимир Гаврилович, ну а если положа руку на сердце? - Все-таки я бы отозвал. Он и приедет не пустой. И здесь будет очень полезен. - Тогда нечего колебаться. Кончаем «Резидента». Марков, казалось, хотел больше для себя, чем для Лукина, сделать собственные выводы еще доказательнее. - К тому же вот какое соображение, Петр Иванович: ему уже пятьдесят лет, для шефов разведцентра он прежней ценности уже не имеет - не на все годится. А по цене и место за столом. - А нельзя ли устроить так, чтобы он не все узы с ними рвал? Чтобы из штата, как говорится, ушел, а внештатно остался? При условии, конечно, что его не совсем лишат доверия. - Мы по этому вопросу тоже с ним обменивались. Тут трудно что-нибудь предвидеть. Во всяком случае, если мы сейчас окончательно решим его отзывать, то он там попросит не отставку, а длительный отпуск. Так сказать, за свой счет. А оставаться после пожара с Брокманом все-таки слишком рискованно. Под горячую руку Себастьяну попадет - и прощайте… - У вас с ним связь быстрая? - Относительно. - А с переправой как? - Это он сам все обеспечивает. Нам надо знать только точку и время. - Ладно. Через час доложим по начальству. Думаю, наше решение одобрят. - Хорошо, Петр Иванович. Около шести часов вечера Марков получил результаты анализов вещества, заключенного в тюбиках из-под зубной пасты. При всем своем научно-объективном бесстрастии они имели, мягко выражаясь, страшноватый смысл: содержимое тюбиков, само по себе безвредное, в сочетании с определенными химическими соединениями дает отравляющие вещества широкого спектра действия, обладающие исключительной силой даже в водных растворах ничтожной концентрации и длительное время не подвергающиеся распаду. В кабинете у генерала Лукина вновь собрались на совещание Марков, Синицын и Семенов. В качестве консультанта присутствовал в самом начале сотрудник химической лаборатории, который ушел, сделав подробные комментарии к результатам анализа. Было ясно: если содержимое тюбиков может служить одной из составных частей отравляющего вещества, то вторая часть находится у Брокмана. Никто, разумеется, не рассчитывал, что эту вторую часть удастся у Брокмана найти и отобрать, что он по доброй воле вдруг возьмет и все расскажет, но подмена Воробьева Семеновым была окончательно решена. Брокмана все равно надо арестовать в ближайшее время. Нелишне поэтому сделать попытку общения с ним еще на воле: вдруг выяснятся какие-то детали, которые могут оказаться полезными в будущем. На паспорт Воробьева (он, кстати, был не фальшивый; как установили, подлинный владелец, будучи пьяным, годом раньше потерял свой паспорт) наклеили карточку Семенова. Павел объяснил Семенову действие патронов с газом, обездвиживающим человека на полчаса, и показал, как пользоваться оружием. - Но учти, - сказал при этом Павел, - у Брокмана тоже есть что-нибудь такое или еще почище. Между прочим, это на Западе приобретено. Насчет прихлопнуть человека там, знаешь, стандарт высокий. Так что все дело в быстроте - кто первый. У Воробьева - Блиндера был позаимствован его коричневый плащ. В карман плаща положили тюбики, которые теперь содержали настоящую зубную пасту, но не заграничную, а производства московской фабрики «Свобода». Марков, Синицын и Семенов втроем составили план - каким образом Синицын должен завтра страховать Семенова. Они отлично сознавали, что план этот, в сущности, абстрактен, так как в нем невозможно учесть главнейший фактор - то, что предпочтет делать сам Брокман. По этому поводу Павел сказал: «План - не догма: перевыполнишь - ругать не будут».Глава 24 ДОМОЙ!
В его переписке с Марковым эта тема - возвращение в Советский Союз - возникала и раньше. Михаил покривил бы душой, если бы стал уверять, что у него нет желания вернуться и что при этом личные интересы не имеют для него ровно никакого значения. Жена и сын, которых он любил и которых не видел восемь лет, были его единственными на свете родными людьми, как у них единственным родным был он. При таком положении хуже, чем он, мог бы почувствовать себя лишь его сын Сашка, оставленный им еще в пеленках, а теперь ходящий в школу. Но он, к счастью, пока достаточно мал, чтобы не задумываться о пагубном действии долгой разлуки. Марии тоже плохо, но с нею Саша. Как ни поверни, а им все же легче. Они живут вдвоем, они дома… Оценивая объективно свое положение в разведцентре, Михаил не мог назвать его блестящим. Монах, разумеется, не посвящал его и в сотую долю своих разработок, более того, порою в силу профессиональной привычки как бы невзначай подбрасывал ему заведомо ложные сведения, но при этом Монах не лишал его своего чисто человеческого благорасположения. Себастьян же, отсутствовавший более полугода, вернувшись, не замедлил показать Тульеву, что по-прежнему не доверяет ему. Михаила вскоре отстранили от участия в подготовке агентуры и вновь посадили в аналитический отдел - копаться в агентурных донесениях, провинциальных газетах и записях радиоперехвата. И ближайшая перспектива не обещала улучшений. Короче говоря, Михаил Тульев созрел для отзыва. Особенно остро он начал испытывать потребность вернуться с тех пор, как перестал встречать Карла Брокмана. Ему, конечно, никто не докладывал, когда и куда исчез из центра Брокман, но это и так было понятно. Слишком много нервов стоила Михаилу вся эта эпопея с Брокманом, чтобы он мог со спокойной душой рисовать в воображении, что способен натворить в Советском Союзе хладнокровный наемный убийца, убийца его собственного отца. Он помнил, как Монах в прошлогодней беседе ни с того ни с сего упомянул Владимира Уткина и сказал, что у него надежная легенда. Если Уткин насиживал место для Брокмана, если Брокман использует его легенду - тогда все в порядке: у Владимира Гавриловича не будет затруднений и Брокману не позволят показать свое умение убивать. Но может быть и иначе. Себастьян - организатор опытный, знает, что в их деле наиболее очевидное - не наиболее надежное. Ни один подчиненный не рискнет побиться об заклад, что сумеет угадать истинные намерения Себастьяна, хотя бы в самом нехитром и маловажном предприятии. А тут дело вполне серьезное. Если Брокмана оставить без присмотра - это даром не пройдет. Михаил сделал все, что было в его силах и возможностях, чтобы облегчить Маркову обнаружение Брокмана, - даже фотопортреты его переслал. Но сознание этого не могло подавить и обезболить сознания собственного бессилия в момент, когда его присутствие на месте событий могло бы, вероятно, оказаться решающим. Будучи именно в таком далеком от уравновешенности состоянии духа, встретил Михаил в воскресенье, 21 мая, Владимира Уткина, с которым виделся в первый и единственный раз восемь лет назад в Одессе, точнее, в одесском аэропорту. И вот он, Уткин, стоит на обочине шоссе, наверное, ждет попутную машину, чтобы съездить в город, откуда возвращается Михаил. Значит, не успел еще получить в банке заработанное за восемь лет, иначе уже обзавелся бы собственным автомобилем. Михаил с разрешения Монаха пользовался для своих редких поездок его старым «Мерседесом». Сегодня с утра он отправился в город, чтобы проверить, нет ли в условленной точке того обычного знака, которым его извещали, что для него получена корреспонденция «оттуда». Знака не было, и Михаил сидел за баранкой с таким видом, с каким, наверное, возвращается после многодневных тысячекилометровых автогонок несчастливый спортсмен, хотя от города до их резиденции было по спидометру всего двадцать семь километров… Уткин стоял на шоссе, недалеко от съезда к усадьбе центра. Михаил притормозил перед поворотом, Уткин, глядевший в противоположную сторону, обернулся на него, и тут-то Михаил его и узнал - по глазам, по носу, по веснушкам. Не то что машиной обзавестись, но еще и одежду новую не успел купить. У Михаила даже сердце екнуло: совсем свежий человек «оттуда», еще, должно быть, пыль на ботинках российская, а в карманах - табачные крошки от папирос. Михаил отлично помнил, как там, в одесском аэропорту, когда менялся с Уткиным плащами, оставил ему початую коробку «Казбека». Может, Уткин после так и привык к папиросам?… Михаил остановился перед развилкой, вышел из машины, достал сигарету и закурил, глядя из-под бровей на Уткина. Между ними было метров десять. Уткин тоже смотрел на него, и, кажется, воспоминание наконец шевельнулось в нем. Они были одни на дороге. По этому шоссе и вообще никогда оживленного движения не происходило, а сегодня к тому же воскресенье - ни единой машины. - Трудно здесь? - спросил Михаил вполголоса. - Узнаешь сам, - широко улыбнувшись, ответил Уткин. Это был фрагмент их разговора, происходившего в Одессе. Только в тот раз вопрос задал Уткин, а Тульев ему ответил так: «Узнаешь сам. Зачем тебя заранее пугать или, наоборот, успокаивать? Прыгнул в воду - плыви, а то утонешь…» Они сошлись, подали друг другу руки. - Давно? - спросил Михаил. - Вчера. - Рад тебя видеть, Уткин. - Улыбка Михаила была непритворной. Он действительно испытывал в этот миг настоящую радость. Но все же в нем работала тайная мысль. Сотрудникам центра категорически запрещалось откровенничать между собой, но чем черт не шутит… Тут как-никак имелись сближающие обстоятельства. - Я тоже очень рад, - сказал Уткин. - В город собрался? - Не мешало бы. - Сегодня все закрыто - воскресенье. Ты, наверное, в магазин хочешь? - Датак, вообще… Не грех бы и по баночке… - Я с удовольствием. Садись. В машине Уткин спросил: - Это твоя? - Нет, Монаха. Беру, когда надо. У него другая есть, новая. - Ты, значит, с начальством на равных? Разуверять Уткина было неразумно. Михаил сказал с достаточной небрежностью: - Не целуемся, конечно, но жить можно. Михаил развернулся и быстро набрал скорость. - Куда думаешь? - спросил Уткин. - Куда хочешь. Можем в «Континенталь». Бывал там? - Уже не помню… Мне, понимаешь, пока шляться не велели. - Тогда надо где потише. Сегодня наших в городе много. Михаил показал на приборную панель, приложил палец к губам. Уткин понял, покрутил в воздухе пальцем: мол, записывать могут? Михаил кивнул, и до города, минут десять, они промолчали. Свернув на кольцевую дорогу, Михаил обогнул город и на тихой окраинной улице, застроенной трехэтажными кирпичными домами, остановился недалеко от маленького пансионата «Луиза», в ресторане которого он изредка обедал, когда слишком приедались кушанья их казенной столовой. Как он и ожидал, в крошечном, на шесть столиков, зале не было ни души. Хозяин, с которым Михаил был знаком, пожилой вдовец, сказал, что сам обслужит их. Но есть они пока не хотели. Сели за столик у задернутого гардиной окна, и Михаил сказал: - Что будем? Покрепче? - Нет, давай винца, - сказал Уткин. - Мозельского. Не очень кислого. Хозяин пошел за вином. - Водка надоела? - усмехнувшись, спросил Михаил. - Я там не злоупотреблял. - Примерный труженик? - А что? На Доске почета висел. - Долго же ты куковал. - Без малого восемь лет… Лучший техник районного телефонного узла… - Вообще-то работенка не пыльная, - сказал Михаил. - Это верно. - А отсюда не дергали? - Это был первый вопрос по существу, и Михаил с надеждой ждал, что Уткин не уклонится от прямого ответа. - Только раз. Под самый конец, - без всякого колебания откликнулся Уткин. Михаил понял, что правил разведцентра Уткин придерживаться не будет. Восемь лет постоянной бдительности чего-нибудь стоят. Должен же человек когда-нибудь расслабиться. Однако, чтобы не насторожить Уткина, Михаил торопить события не стал. Хозяин принес вино, фрукты и жареный миндаль в вазочке. Они выпили. Михаил пожевал миндаля, слушая, как он повизгивает на зубах. Полковник Марков в одном из своих писем рассказал Михаилу, что Уткин посещал его жену Марию, и сейчас Михаила подмывало спросить, как она выглядит, какое впечатление произвела. Но этого, конечно, делать было нельзя. Оставалось надеяться, что Уткин сам заведет разговор - не под влиянием алкоголя (от этого легкого вина человек, знакомый с водкой, особенно не опьянеет), а просто поддавшись благодушному настроению. - Кто там не был, нас не поймет, - тихо сказал Михаил. - Точно. Еще помолчали. И снова первым заговорил Михаил: - Да-а… Восемь лет - не восемь дней. - Вообще-то я думал, хуже будет, - сказал Уткин. - А оно ничего страшного. Тягомотина, конечно. - Ну, это ты немножко забыл, наверно, - добродушно возразил Михаил. - Я тебя когда в Одессе увидал, думаю: парень, как бычок на веревочке, на бойню ведут. - Это верно, дрожь в коленках была. Но недолго. А потом жил - не думал. Если б не эти чертовы «Спидолы», вообще забыть можно, кто я такой. - Почему «Спидолы»? Я тебе одну оставлял. Уткин и думать не хотел ни о каких секретах и запретах. Говорил просто, все как есть. Да и какие особенные секреты своего восьмилетнего бездействия мог он выдать человеку, который все это время прожил в штабе центра и который настолько близок к начальству, что пользуется его автомобилем как своим собственным? - Их у меня две было. Вторую велели достать потихоньку, купил у одного психа. А потом твою прятал, а вторую напоказ таскал. - Для чего? - А черт его знает. Режиссеры здесь сидели, я их не спрашивал. Еще попили винца. Михаил сказал: - Ты меня не бойся - не из болтливых. - А какие у нас тайны? - удивился Уткин. - Я там сидел как пень. Только в Батуми шевелился, да и то все по расписанию. Никакой самостоятельности. - Менялись так же, как тогда? - Не совсем. Кто-то сошел, я вместо него на корабль, а кто - в глаза не видел. Вообще там какая-то игра была. Но я - пешка. - Все мы пешки, - вздохнул Михаил. - Может, коньячку выпьем? - Ему и взаправду захотелось рюмку чего-нибудь покрепче. - Давай. Они просидели еще часа полтора, но оставались трезвыми. Уткин рассказал подробности батумской переправы, а под конец добавил, что купленную «Спидолу» привез с собой и она стоит у него в комнате, но, кажется, он ее сегодня выбросит - так она ему надоела. О своей поездке к Марии он не обмолвился ни словом - значит, это было под специальным запретом. Себастьянова рука… Когда решили уходить, Михаил подозвал хозяина. Уткин протянул Михаилу деньги, но Михаил сжал его руку вместе с бумажками и убрал ее со стола, расплатился своими. Рассудив, что во избежание нареканий Уткину лучше не появляться на виду в обществе Тульева, они расстались на шоссе - Михаил высадил его недалеко от поворота к их резиденции. Михаил больше не искал встречи с Уткиным - ничего существенного узнать от него он уже не рассчитывал. Однако в среду, 24 мая, Монах позвал Михаила вечером к себе, и там он увидел Уткина. - Думаю, вам будет приятно друг на друга поглядеть, - сказал Монах, когда они поздоровались. Потом Уткин рассказывал Монаху то, что Михаил от него слышал в воскресенье. Из этого можно было заключить, что по возвращении он докладывал не Монаху, а Себастьяну. А это, в свою очередь, лишь подтверждало неутешительный для Михаила факт: Себастьян снова взял вожжи в свои руки. Для чего Монаху потребовалось слушать отчет Уткина при нем, Михаиле, понять было трудно. Быть может, Монах хотел таким образом показать, что партия Уткина сыграна от начала до конца на глазах у Михаила? А может быть, Монаху просто скучно было сидеть целый вечер с Уткиным наедине?… Возвращение Уткина, все, что Михаил от него услышал, делало бесспорным один вывод: сейчас там, в Советском Союзе, совершается серьезная акция. Иначе восьмилетнее прозябание Уткина надо признать абсолютно бесцельным. Думая об этом, Михаил начинал нервничать, так как был уверен, что все происходящее обязательно должно отразиться и на нем. Каждый день он брал из гаража «Мерседес» Монаха и ездил в город, но знаков о прибытии корреспонденции из Москвы все не было. Так прошло полтора месяца. И наконец он увидел знак, а вскоре получил послание Маркова, которое было длиннее прежних. Но самое главное, самое радостное для Михаила содержалось уже в первой строчке - его отзывали. На следующий день он попросил Себастьяна принять его по личному вопросу: кадрами центрального аппарата Себастьян ведал теперь на единовластных началах, освобождая шефа, как он выражался, от стирки грязного белья. Он не любил старых сотрудников, которые в силу долголетнего знакомства с Монахом могли при необходимости обращаться непосредственно к нему. Тульевых, и отца и сына, как знали все сотрудники, Себастьян не просто не любил - он их ненавидел. Соблюдая субординацию в первый раз со времени воцарения Себастьяна, Михаил рассчитывал польстить его самолюбию и тем облегчить свою задачу. Но расчет не оправдался. Себастьян встретил его вежливо, поинтересовался здоровьем, а когда услышал, что Тульеву надоело работать в аналитическом отделе, он сухо заявил: - Но у нас нет для вас другого места. - В таком случае прошу разрешить долгосрочный отпуск, - сказал Михаил. - Вы совсем недавно были в отпуске, и даже весьма долго, - возразил Себастьян. С Брокманом в Швейцарию Михаил ездил по личному распоряжению Монаха, и Себастьяну истинная сторона дела не была известна, но он все же сказал: - Это нельзя считать отпуском. - Почему же? - Я работал. - Не знаю. Официально вы числились в отпуске. - Я устал. Может человек получить отпуск, если настоятельно в нем нуждается? Себастьян, почувствовав чужое раздражение, сам сделался спокойнее. - Сколько вы хотите? - Хотя бы полгода. - Это слишком много. - На оплату я не претендую. Себастьян усмехнулся: - Еще бы! Полгода с оплатой - это, знаете ли… - Благодарю вас, - сказал Михаил с облегчением. - Я хотел бы уехать через два дня. - Где вы намереваетесь остановиться? - Пока в Париже. - Сообщите мне оттуда свой адрес. И весь последующий ваш маршрут я должен знать. - Хорошо. Себастьян не стал лицемерно желать ему приятного отдыха и тем самым заставил Михаила испытать к нему уважение - единственный раз за всю историю их взаимоотношений. Михаил знал, что парижский адрес и липовый маршрут его воображаемого отпускного путешествия не обманут Себастьяна. Он все проверит и убедится в обмане. Но тут ничего нельзя было поделать. Его ждали в Москве с таким же нетерпением, с каким он туда стремился. 14 июля Михаил приехал в Париж, в город, где всякому, кто желает раствориться и замести следы, сделать это не составляет особого труда. А 16 июля он исчез из Парижа.Глава 25 СВИДАНИЕ С БРОКМАНОМ
Любой мало-мальски проницательный наблюдатель, если бы он задался праздной целью классифицировать Линду Николаевну Стачевскую по типу характера, должен был бы признать, что она принадлежит к тому редкому в наше время, уже давно вымершему племени людей, которых называют авантюристами высокого полета, - племени, яркими представителями которого были, скажем, Григорий Отрепьев и подобные прочие самозванцы - его предтечи и его эпигоны, от раба Клемента, выдававшего себя за своего умерщвленного хозяина Агриппу Постума и пытавшегося отобрать власть у римского императора Тиберия, до корнета Савина, чуть не севшего на болгарский трон. Из женщин можно назвать хотя бы так называемую княжну Тараканову и столь же злополучную Мату Хари. История не сохранила данных относительно того, делали или не делали две вышеупомянутые прекрасные дамы утреннюю зарядку. Зато мы точно знаем, что Линда Николаевна ее делала регулярно на протяжении трех времен года - осени, зимы и весны. Летом же физзарядку она заменяла работой в саду и цветниках. Всякая регулярность, за исключением немногих особых случаев, - признак педантизма, а педантизм, согласитесь, не гармонирует с авантюризмом. Тем не менее в Линде Николаевне эти несочетаемые качества все-таки сочетались, и, может быть, именно потому она в отличие от своих знаменитых предшественниц сумела благополучно дожить до преклонных лет. 5 июля 1972 года Линда Николаевна, встав в половине шестого утра, в шесть занималась своим обычным делом - работала в саду. День обещал быть очень жарким. Небо с утра уже потеряло голубизну и стало сизо-стальным. Обильно политые с вечера грядки, на которых росли пионы, флоксы, настурции и гладиолусы, несмотря на ранний час, уже успели высохнуть, и земля сделалась серой. Линда Николаевна, выдергивая из грядок появившиеся за ночь стрелки чужеродной травы, думала о том, что цветам придется трудно нынешним летом. Но вскоре думы о судьбе цветов сменились другими, более важными. Она вновь и вновь, как делала это все последнее время, повторяла мысленно маршруты и действия, предпринятые ею по заданию ее обожаемого жильца, оценивала их значение, сопоставляла и пыталась вывести прогноз на ближайшее будущее. Главной исходной позицией и доминантой этих вычислений было, о чем нетрудно догадаться, ее собственное участие в предстоящих событиях. Как известно, Линда Николаевна жаждала активной деятельности, не ограниченной примитивными курьерскими обязанностями. Обостренная сознанием опасности восприимчивость позволяла ей читать в душе и мыслях жильца, как в открытой книге. И она давно уже высчитала, что близится срок, когда он доверит ей настоящее дело. Оставалось только чуть потерпеть, неизбежное произойдет. Оно может прийти в любой день… Вот почему в то безветренное солнечное утро 5 июля Линда Николаевна не была удивлена, увидев вышедшего к ней в сад Брокмана, хотя часы показывали всего лишь начало седьмого. Никогда не просыпавшийся ранее семи, сейчас Брокман был уже выбрит, умыт и свеж. Впрочем, Линда Николаевна, окинув его одобрительным взглядом, успела заметить в выражении его лица нетерпение и озабоченность. К тому же в углу рта у него дымилась сигарета, и это говорило о беспокойном состоянии духа, ибо прежде он никогда не курил до завтрака. Поглядев на сизое безоблачное небо, на припылившиеся листья яблонь и, наконец, на Линду Николаевну, Брокман сказал: - Градусов на тридцать денек будет. - Если не больше, - откликнулась Линда Николаевна. - Вы куда-нибудь собираетесь? - Я - нет. А вам придется съездить в Москву. Линда Николаевна развязала на пояснице тесемки клеенчатого фартука и сняла его. Она помнила наизусть содержимое открытки, которую писала под диктовку неведомому ей Воробьеву. Поэтому спросила как о само собой разумеющемся: - В час дня надо быть на Пушкинской площади? - Да. - Тогда лучше не терять времени. Я приготовлю завтрак. - Идемте на минутку ко мне. В своей комнате Брокман достал из пиджака, висевшего в шкафу, бумажник, а из бумажника - фотокарточку. Дал ее Линде Николаевне. - Запомните его. Это был портрет уже известного нам Воробьева - Блиндера. Ничем не примечательное лицо. - Он довольно высокого роста, немного выше вас, - сказал Брокман, убирая возвращенную Линдой Николаевной карточку. - У него с собой коричневый плащ. Сразу заметите, даже в толпе… Сегодня дождя не предвидится, вряд ли все будут с плащами. - В сквере у Пушкина толпы не бывает. - Еще лучше… - И никакого пароля? - спросила Линда Николаевна. - Какой же еще пароль, если вы видели портрет? - А если это окажется не он? - Не забегайте вперед, все объясню, - сказал Брокман. - Значит, так. Видите, что ждет этот человек, подходите и без всяких паролей говорите: «Поедемте ко мне домой». Привезете его ко мне, но не сюда, а к рынку, на автобусную станцию. Я буду там. Во сколько вы можете приехать? - Нужно посмотреть расписание. Линда Николаевна принесла расписание пригородных поездов, и они вместе его посмотрели. Получалось, что Линда Николаевна с Воробьевым могут прибыть на электричке в 15.53. - До рынка десять минут пешком, - сказала Линда Николаевна. - Буду ждать с четырех. Приведете его к автобусной станции и уходите. Меня не увидите - не волнуйтесь, я его сам увижу. Брокман закурил новую сигарету. - А теперь насчет другого варианта. Может прийти и не этот человек, но фамилия у него должна быть такая же. Подойдите и спросите: «Вы товарищ Воробьев?» Он скажет: «Да». Вы спрашиваете: «Давно меня ждете?» Он должен ответить: «Ровно семнадцать минут». Это и есть пароль. - Все понятно, - сказала Линда Николаевна. - Но если он, этот другой Воробьев, скажет мне совсем не такие слова? Брокман загасил сигарету в пепельнице и улыбнулся. - Тогда - прошу прощения. Это будет очень плохо. Линда Николаевна не нуждалась в уточнениях, почему это плохо и кто пострадает в первую очередь. Она думала не о себе, она беспокоилась о нем. - А вдруг меня все-таки привезут сюда? Куда мне их вести? Домой? - В доме - как в ловушке, - сказал он. - Лучше на автостанцию. - Как я дам знать, что это чужой? Он подумал немного, потом спросил: - Вы возьмете с собой какую-нибудь сумочку? - Обязательно. - Если вас все-таки привезут сюда, давайте условимся так: держите сумочку в правой руке. Если все нормально - в левой, а нет - в правой. - Хорошо. - Ждать я буду до половины пятого. - Это непредусмотрительно, - возразила Линда Николаевна. - Электричка может и опоздать. Брокман и раньше имел возможность убедиться в преданности и исполнительности Линды Николаевны. Сейчас она ему показывала, что умеет быть хладнокровной и расчетливой. - Верно, - согласился он. - Давайте установим крайний срок - пять часов. Потом Линда Николаевна приготовила завтрак, они поели, она помыла посуду - все как в обычный день. И до самого ее ухода они больше ни словом не обмолвились о предстоящем. Необычным было лишь его напутствие. - С богом, - сказал Брокман, пожав ей руку. - Лучше с сумочкой в левой руке, - сказала она и открыла дверь. Семенов пришел на сквер Пушкинской площади без десяти час. Он был в светлом костюме из тонкой летней ткани, в синей рубахе без галстука. Через руку переброшен коричневый плащ Воробьева - Блиндера, в карманах которого, в каждом по два, лежали тюбики с зубной пастой. Он волновался. Он знал, что издали за ним наблюдают двое верных товарищей, которые скорее погибнут сами, чем дадут погибнуть ему, но от этого волновался еще больше. Во-первых, никакая опасность здесь, в центре Москвы, в ясный летний день ему не угрожала. Во-вторых, он и сам может за себя постоять. И таким образом получалось, что невидимое присутствие товарищей его только смущало - он чувствовал себя неловко, словно новичок-любитель на сцене. Если бы своих не было, он бы не испытывал стеснения. Все иные, случайные свидетели того, что должно было здесь разыграться, не в счет, так как они не имели о происходящем никакого понятия. Семенов прохаживался на площадке за памятником Пушкину. В такую жару на самом солнцепеке это мог делать лишь человек, пришедший на свидание. Но, странная вещь, с ним вместе тут прохаживалось множество людей, мужчин и женщин. И вообще весь сквер, почти лишенный тени, был многолюден в этот час, на скамейках не видно свободных мест. Линду Николаевну он знал по кадрам, снятым скрытой кинокамерой, и мог бы заметить ее издали, но Семенов умышленно не смотрел по сторонам, чтобы нечаянно себя не выдать неосторожным взглядом. Поэтому ее появление действительно было для него в какой-то мере неожиданным. Однако он отметил, что подошла она не ровно в час, а в пять минут второго. Он не знал, что перед тем она его внимательно разглядывала. Подойдя, Линда Николаевна сказала: - Извините, вы товарищ Воробьев? Он сказал: - Да. Она сделала паузу и спросила: - Давно меня ждете? Он смущенно пожал плечами. - Да как вам сказать?… Минут десять-пятнадцать. Линда Николаевна, до этого глядевшая ему в глаза, посмотрела как-то вбок. - Извините, я, кажется, ошиблась. И пошла своей величественной походкой в сторону Моссовета. Она не произнесла слов, предназначенных настоящему Воробьеву: «Поедемте ко мне домой». Как сказал бы Павел Синицын, тут и ежу было понятно, что Линда Николаевна без труда расшифровала подмену. Каким образом она это сделала, гадать было не время. На такой случай у Семенова имелся план действий, предоставлявший ему довольно широкую инициативу. Семенов пригладил волосы рукой - это был знак тем, кто наблюдал за встречей: «Я раскрыт». Линду Николаевну он догнал у Елисеевского магазина. Увидев его рядом с собой, она замедлила шаг, как будто ожидая, что он ее обгонит и уйдет вперед, но Семенов сказал: - Нам надо поторопиться, Линда Николаевна… Может, вернемся на площадь, попробуем взять такси? Линда Николаевна, ничего не отвечая, остановилась, повернулась и так же величественно зашагала в обратную сторону. Семенов, обретший было свою обычную уверенность, опять почувствовал некоторое стеснение, но уже иного рода. Спокойствие и высокомерие этой пожилой женщины были так подчеркнуты, что он начинал испытывать раздражение. Будь она помоложе, он бы сумел быстро сбить с нее спесь, но из почтения к возрасту приходилось соблюдать ритуал, выглядевший в сложившейся ситуации насилием над здравым смыслом. Так рассуждал Семенов, пока они шли к стоянке такси, расположенной напротив кинотеатра «Россия». К сожалению, он не мог знать, что творилось в голове и душе Линды Николаевны. Его вводила в заблуждение личина невозмутимости, а меж тем под нею вовсе не было спокойствия. И не отвечала Линда Николаевна на его попытку начать разговор не из одного только высокомерия, скопированного ею с лучших берлинских образцов 1941-1942 годов. Растерявшись неожиданно для себя, она старалась собраться с мыслями. Хотя она сама, первая, при обсуждении с Брокманом этой поездки допускала именно такой, наихудший для нее вариант и рассматривала его последствия с неподдельным хладнокровием, но то было у нее дома, с глазу на глаз с ее боготворимым жильцом. Одно дело - представить себе собственные действия умозрительно, и совсем другое - действовать в реальной обстановке. Словом, Линда Николаевна была выбита из колеи и старалась поскорее вернуть себе присутствие духа. Семенов искал верный тон, чтобы побыстрее снять собственную напряженность и взяться за самое существо дела, которое свело его с этой спесивой особой. На улице в потоке людей не очень-то удобно вести конфиденциальный разговор, но кое-что все же сказать можно. - Я знаю расписание ваших электричек, - миролюбиво сказал Семенов, когда они подошли к стоянке, где человек пять-шесть ожидали такси. Линда Николаевна и на этот раз промолчала. Семенов иного и не ожидал. - Нам нужно успеть на тринадцать пятьдесят восемь, - сказал он уже вполне благодушно. Она молчала. Тогда он спросил строго: - Нас ждут к определенному часу? Или как придется? - Это все равно, - изрекла наконец Линда Николаевна, и Семенов тотчас понял, что она врет, и сразу ей об этом сказал: - Неправда. - Если вы все знаете, зачем спрашивать? - Я знаю много, но не все. И вам и мне будет лучше, если вы станете говорить правду. Со стороны они, наверно, были похожи на тетку с племянником, обсуждающих какую-то семейную неприятность. - Я даже не знаю, с кем имею честь… - Она сказала это слишком громко, так, что могли слышать стоявшие рядом. Семенов наклонился к ней. - Говорите, пожалуйста, тише. Я покажу вам документы, только чуть позже. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Линда Николаевна, если пожелает, может устроить вот тут, на стоянке, истерику, выйдет публичный скандал, и тогда все задуманное полетит к чертям. Но, к счастью, она органически не была способна на истерику, даже деланую. Подошла их очередь. Оба поместились на заднее сиденье. - Курский вокзал, - сказал Семенов шоферу. Потом он показал Линде Николаевне свое служебное удостоверение. До вокзала, куда приехали без десяти два, они молчали. Семенов купил себе билет (Линда Николаевна сказала, что у нее билет есть, но забыла сказать, что она ради экономии времени купила, отправляясь в Москву, билет и для Воробьева). Едва вошли в электричку - она тронулась. Вагоны были полупустые, и они сели в третьем от хвоста, у окна на теневой стороне, друг против друга. - Мы пойдем к вам домой? - спросил Семенов, возобновляя прерванный разговор. - Дома у меня делать нечего, там никого нет. - Я ведь серьезно, Линда Николаевна. Мы же с вами вроде договорились. Вот теперь Линда Николаевна была спокойна уже по-настоящему. Словно что-то для себя окончательно решила и не испытывала колебаний. Но и Семенов обрел то ровное настроение, которое сам он называл рабочим. - Я тоже не шучу, - сказала она. - Где должна произойти встреча? - У рынка. На автобусной станции. - Во сколько? - От четырех до пяти. Линда Николаевна говорила чистую правду, и ей было хорошо и спокойно. - Чтобы не задавать лишних вопросов, может, вы сами объясните, как все это должно произойти? - сказал Семенов. - Ничего особенного. Я вас приведу к станции и уйду. А он вас сам увидит и подойдет. - И больше никаких паролей? - Нет, представьте. Про сумочку она говорить не собиралась. - С вокзала мы на чем поедем? - поинтересовался он. - Там рядом. Она откровенно его разглядывала, а это всякому неприятно. - На мне что-нибудь написано? - спросил Семенов. - Да нет, - отвернувшись к окну, сказала она. - Рядовой труженик. - Кстати, как это вы определили, что я не тот, кого вы ждали? - Не так отвечали. - А как нужно? - Многого хотите. - Но это не имеет значения, раз уж мы едем вместе. - Как знать… Она смотрела в окно, и Семенов тоже позволил себе разглядеть ее хорошенько. Моложавость облика все же не могла обмануть - перед ним сидела старая женщина. Но держалась и выглядела она великолепно. Светло-лиловый костюм из плотного крученого шелка, дымчатая кружевная кофта со стоячим воротничком, скрывающим шею. На голове серая шляпа из рисовой соломки с пучком лиловых цветков… Серая кожаная сумочка лежала у Линды Николаевны на коленях, поддерживаемая обеими руками… Рассматривал он Линду Николаевну не из пустого любопытства. Детали одежды, как известно даже школьникам, тоже могут служить условными знаками для посвященного. Простейшее рассуждение: если она ведет на свидание к Брокману его, контрразведчика, то у них должен быть какой-то знак, которым она даст Брокману сигнал об опасности. Но какой? Может, у нее есть миниатюрный передатчик для работы на близком расстоянии? - Разрешите, я посмотрю вашу сумочку, - сказал Семенов. Не меняя позы, она отдала сумочку. Ничего похожего на радиоаппаратуру он не обнаружил. Говорить больше было не о чем. Оставшиеся полтора часа в жарком вагоне показались бы в другое время невыносимо скучными. Но у каждого из них было о чем подумать, и два десятка станций мелькнули быстро, словно электричка шла без остановок. В 15.53 они приехали. От вокзала Линда Николаевна повела Семенова по прямой тихой улице, обсаженной по бокам старыми липами и застроенной невысокими, в большинстве двухэтажными домами дореволюционной архитектуры. Потом повернули на улицу с оживленным автомобильным движением, и еще метров за сто Семенов увидел деревянную арку с выцветшими красными буквами: «Колхозный рынок». Слева от арки - полукруглая площадь, заставленная автобусами, и в глубине ее - белый павильон автостанции. - Где он будет? - спросил Семенов. - Не знаю. Я вам уже объяснила. Семенов все еще безуспешно ломал голову над вопросом: каким образом Линда Николаевна сообщит Брокману, что ведет чужого? Платочек, что ли, достанет из сумочки? Или шляпу снимет? Строя предположения, Семенов тут же их и отвергал, ругая себя нехорошими словами. Если у них условлен знак, то непременно такой, чтобы не был заметен постороннему. Семенов ни на секунду не сомневался, что знак есть, но не мог его найти. Он шагал рядом с Линдой Николаевной, искоса на нее поглядывая. До рынка оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда ему пришла мысль, что единственной вещью, которая может служить сигналом, нужно считать сумочку. Ничего другого нет. Линда Николаевна держала ее в правой руке - от самого вокзала. Семенов решил так: если она, придя на рыночную площадь, переложит сумочку из правой руки в левую, он прикажет этого не делать. И наоборот: если Линда Николаевна не станет этого делать, он прикажет взять сумочку в левую руку. Дошли до рыночной арки, которая была на той стороне улицы, и остановились, чтобы пропустить машины. И тут Семенов сказал: - Возьмите сумку в левую руку. Линда Николаевна как бы не расслышала, следя за потоком транспорта. - Я говорю: возьмите вашу сумочку в левую руку, - повторил Семенов. - Что это вы нервный такой? - спросила Линда Николаевна. - Прошу вас, - уже сквозь зубы сказал Семенов. Она взяла сумочку в левую руку. Поток машин прервался. Они пересекли улицу и пошли мимо арки, потом краем площади по ее широкой дуге - справа магазинчики и мастерские, слева заставленная автобусами, пышущая масляно-бензинным смрадом асфальтовая жаровня. - Где мы с вами должны расстаться? - тихо спросил Семенов. - Вон там, на автовокзале. - Вы отсюда идите прямо к себе домой. Так будет лучше. - Неужели одну отпускаете? - Вопрос Линды Николаевны был полон иронии. - Не беспокойтесь, у вас будет подходящая компания. Только очень прошу: когда мы расстанемся, сумочку из руки в руку не перекладывайте. Она ничего не ответила. У здания автовокзала Семенов остановился в тени широкого козырька над входом, а Линда Николаевна продолжала путь по дугообразному тротуару, окаймлявшему площадь. Вслед за ней пошел один из товарищей Семенова. Отойдя метров на двадцать, она все-таки взяла сумочку в правую руку. Семенов провожал ее злым взглядом, пока она не достигла улицы и не скрылась за угловым домом. Он переглянулся с другим своим товарищем. Тот дал знак, что понял. Тут же он услышал за спиной спокойный голос: - Товарищ Воробьев? Обернувшись, он увидел перед собой Брокмана и спросил: - Вы Никитин? Вместо ответа Брокман сам задал вопрос: - Привезли для меня что-нибудь? Семенов похлопал по карману переброшенного через руку плаща. - Четыре тюбика. И кое-что на словах. Где бы нам поговорить? - Отойдем. Брокман повел его за автовокзал. Семенов, следуя в двух шагах сзади, обратил внимание, что Брокман был налегке. В руке свернутая трубкой клеенчатая сумка, но не совсем пустая, что-то в нее было завернуто. Обогнув здание, они очутились на маленькой, посыпанной песком площадке, окруженной чахлыми молоденькими тополями, не дававшими тени. - Отдать? - спросил Семенов. - Подожди, не здесь. Что такое ты хочешь передать на словах? Семенов опять похлопал по карманам плаща. - С этим надо обращаться осторожно. - Хорошо. Что еще? - Там волнуются - от тебя нет сообщений. - Кто волнуется? - Монах. - Та-а-ак… Все? - Сказано: ты должен что-то передать. - Что именно? В интонациях Брокмана слышалась двусмысленность. Не поймешь, то ли он принимает этот разговор всерьез, то ли просто не мешает валять дурака. Но дело начато - надо пробовать дальше. - Какие-то расчеты ждут, - сказал Семенов. - А о чем речь, не знаю. Брокман задумчиво поглядел на него. - Так-так-так… Вот что, Воробьев, прокатимся за город. Минут через десять они ехали в душном, скрипящем и стонущем автобусе по шоссе к селу Пашину, недалеко от которого Брокман в мае заложил под дубом тайник. Сошли на той же остановке и зашагали к лесу. Брокман шел сзади. - Мы далеко? - спросил Семенов, когда до леса оставалось совсем ничего. - У меня, знаешь, времени в обрез. - Пошли дальше, - сказал Брокман и показал рукой, чтобы Семенов, как и прежде, следовал впереди. Семенов заметил: сумки в руке у него уже нет, вероятно, бросил по дороге, но рука не пустая, что-то зажато в кулаке. - Ты что, конвоируешь меня? - пошутил Семенов. - Давай-давай. Надо было кончать. Продолжение не имело смысла. Брокман вел его в лес не для того, чтобы делиться секретами. Семенов дал сигнал своему товарищу, а сам резко швырнул свернутый плащ в лицо Брокману, чтобы ослепить, приемом дзюдо свалил его на землю. Подоспевший товарищ помог обезоружить Брокмана и скрутить ему руки.Глава 26 ОЧНАЯ СТАВКА
Как и следовало ожидать, на допросах Брокман признался только в том, чему имелись убедительные доказательства. Происходило это постепенно, от меньшего к большему. Причем полковник Марков с самого начала придерживался такой тактики: задавая вопросы, он как бы исходил из того, что допрашиваемый обязательно должен от всего отказываться, а на каждый отрицательный ответ тут же предлагал ему совместно разобраться, почему ответ неверен и в чем заключается слабость позиции допрашиваемого. Подобная система требует много времени и терпения, зато не оставляет места недомолвкам и неясностям. В основе тактики, избранной Марковым, лежало преднамеренное самоограничение: допрашивая Брокмана, он не использовал для его изобличения никаких сведений, полученных ранее от Михаила Тульева. Это ставило обе стороны в равные условия, и, таким образом, каждое добытое признание было результатом открытой борьбы и потому имело особую доказательную силу. Если бы Маркову сказали, что одним из мотивов, побудивших его избрать именно такой образ действий, послужило желание показать самому себе, что он по-прежнему предпочитает идти по линии не наименьшего, а наибольшего сопротивления и тем самым успокоить свое профессиональное самолюбие, задетое батумским эпизодом, - если бы кто-то высказал такое мнение, Марков положа руку на сердце, наверное, не стал бы его опровергать. Но все-таки главным мотивом его действий было совсем другое, гораздо более важное соображение: предвидя поведение Брокмана, он берег факты, собранные Михаилом Тульевым, для последнего удара. Пусть Брокман пропитается иллюзией, будто следствию известен только маленький отрезок его жизни - с 28 мая по 5 июля 1972 года. Тем сильнее он почувствует шаткость своего положения, когда перед ним выложат всю его жизнь и когда сам Тульев поглядит ему в глаза. А пока следствие развивалось таким порядком. Для начала Брокман заявил, что послан в Советский Союз с единственным заданием - дождаться и встретить человека по фамилии Воробьев, который должен передать ему нечто, а он, Брокман, это «нечто» должен спрятать в укромном месте, например закопать в землю. О содержимом тюбиков он не имеет никакого понятия. Допускает ли, что это «нечто» может быть химическим или биологическим средством войны? Об этом он не задумывался. При Брокмане найден пистолет, стреляющий оперенными иглами, острия которых несут смертельный яд. Для чего ему нужен был пистолет? Для самообороны. А микрофотоаппарат? Так, на всякий случай. А домашний секач, завернутый в клеенчатую сумку? Для того, чтобы с его помощью сделать ямку в земле и закопать посылку, - это был правдивый ответ. Когда Брокману показали «Спидолу», он заявил, что впервые ее видит. На вопрос, считает ли он неопровержимыми данные дактилоскопической экспертизы, Брокман ответил утвердительно. Марков спросил: «Держали вы когда-нибудь этот приемник в руках?» Брокман сказал: «Нет». Тогда у него взяли отпечатки пальцев и ладоней и в его присутствии проявили на корпусе «Спидолы» оставленные на ней следы, которых было очень много. Затем на экране совместили отпечатки со «Спидолы» и отпечатки Брокмана. Они совпали так точно, что Брокман, перебив эксперта, начавшего давать технические объяснения, признал, что «Спидола» с 17 мая по 6 июня находилась у него. После такого водевильного пролога Марков показал Брокману документальный фильм о его приезде в город К. и посещении квартиры академика Нестерова. Брокман признал, что у него было не одно, а два задания. Затем Марков показал ему кадры, на которых была запечатлена Линда Николаевна Стачевская и дипломат с таксой. Брокман заявил, что ничего по этому поводу сказать не может, так как не имеет к этому никакого отношения. Ему совершенно непонятен смысл действий его хозяйки и назначение пустой сигаретной коробки. На вопрос, куда девалась пленка, отснятая в квартире Нестерова, Брокман заявил, что она засветилась и он ее выбросил. На этом первый сеанс с Брокманом кончился. Линда Николаевна вела себя несколько иначе. На первом допросе она заявила, что является принципиальным противником Советской власти, которую считает незаконной, и готова нести за это любую ответственность, но никаких практических действий, наносящих ущерб государству, не совершала. На вопрос о Брокмане сказала, что познакомилась с ним случайно, а впоследствии, проникшись к нему симпатией, исполняла кое-какие мелкие его поручения. Сознавала ли она, что эти поручения связаны с его нелегальной деятельностью? Нет. Они, эти поручения, не заключали в себе ничего преступного. Получала ли она плату за свои услуги? Нет. Только за квартиру. Марков сказал, что контрразведке известно прошлое Линды Николаевны, и подтвердил это документами. Она от прошлого не отказывалась, но сделала оговорку, что и во время войны не совершила ни одного поступка, который мог бы служить основанием для суда над нею. Свое поведение она не считала изменой Родине - опять-таки по той причине, что не признавала Советскую власть законной. Марков сказал, что это экстравагантное объяснение служит великолепным доказательством того, что у нескольких управляемых на расстоянии маленьких диктаторов, управляющих маленькими государствами и не признающих Советский Союз, имеется в лице Линды Николаевны Стачевской верный союзник, но что ему, Маркову, это абсолютно неинтересно. Для Линды Николаевны тоже был организован документальный киносеанс. Однако это ее не разубедило: она продолжала утверждать, что исполняла поручения своего жильца, не усматривая в них ничего криминального. Чтобы избавить себя от лишней траты времени, Марков устроил Брокману и Линде Николаевне очную ставку и сделался свидетелем малоприятной сцены. Нет, он не обольщался относительно моральных качеств тех людей, против которых боролся по долгу чести и службы, по убеждению, но наблюдать вблизи неприкрытую человеческую скверну ему было противно. Линда Николаевна, увидев в кабинете Маркова своего жильца, постаралась не показать удивления, но огорчения не скрывала. Вероятно, у нее до последнего момента все-таки теплилась надежда, что ее сигнал тревоги (сумочка, переложенная в правую руку) был замечен и помог ему избежать встречи с мнимым Воробьевым, то есть с чекистом. Прежде всего Марков, которому помогали Семенов и Павел Синицын, уточнил и закрепил показания, касавшиеся встречи с Воробьевым. Тут Брокман и Линда Николаевна друг другу не противоречили и подробно изложили все детали, в том числе и о пароле, которого не знал Семенов. Затем Марков сказал, обращаясь к Брокману: - Итак, вы по-прежнему утверждаете, что Стачевская ездила в Москву и звонила в посольство по своей собственной инициативе? - Да, - отвечал Брокман. - Номер телефона вы ей не давали? - Нет. - Пустую сигаретную коробку, которую она бросила на Первой Брестской улице, вы ей не давали? - Нет. - Следовательно, эти действия Стачевская предприняла без всякого вашего участия? Вы о них ничего не знали? - Да, это так. Линда Николаевна сидела на стуле очень прямо, в струнку, глядя перед собой лихорадочно блестящими немигающими глазами. Но при последних словах Брокмана вся как бы оплыла. Плечи опустились, спина ссутулилась. - А что скажете на это вы, Линда Николаевна? - спросил Марков. - Все это ложь и пошлость, - голосом, полным брезгливости, отвечала она. - Такие формулировки хороши для романа, а мы пишем протокол очной ставки, - сказал Марков. - Ответьте на вопросы. Первый: почему вы звонили в посольство? - Меня просил этот гражданин. Но я не знала, куда и кому звоню. Вот так, в один миг, изменилось ее отношение к обожаемому жильцу, которого она именовала теперь «этот гражданин». - Кто сообщил вам телефон? - Он, конечно. - Вам ваш жилец известен под фамилией Никитин. Так его и называйте, - сказал Марков. - Хорошо. Номер телефона мне дал Никитин. - Где вы взяли пустую сигаретную коробку? - Мне ее дал Никитин. - Благодарю вас. - Марков вызвал конвойного, и Линда Николаевна покинула кабинет. Она даже не взглянула на своего бывшего повелителя. Она его презирала… Юридически эти показания Линды Николаевны на очной ставке в данный момент не имели такой силы, чтобы сбить Брокмана с его позиции в части, касающейся эпизода с дипломатом. Свои задания Линде Николаевне он давал наедине, без свидетелей, и утверждения Стачевской весили ровно столько же, сколько и утверждения Брокмана. А он категорически отрицал причастность к истории с сигаретной коробкой. Но впоследствии, когда дело Брокмана обретет контуры законченного строения, эта очная ставка ляжет в него необходимым кирпичиком. Сейчас Марков хотел побеседовать с Брокманом об эпизоде, которого Брокман не отрицал, - о посещении квартиры Нестерова. Тут были моменты, не вязавшиеся с представлениями Маркова о квалификации тех заочно знакомых ему деятелей разведцентра, которые разрабатывали операции против Советского Союза, и о методах, применяемых их агентами в повседневной практике. Откровенно говоря, Марков был до случая с Нестеровым более высокого мнения о разведцентре и его агентуре. Полезно было разобраться в деталях, чтобы понять, чем объясняются неувязки и сбои, которые он обнаружил в действиях Брокмана. - Скажите, Никитин, как вы сами считаете: в эпизоде с академиком Нестеровым у вас не было ошибок? - спросил Марков. Брокман еще не избавился от раздражения, вызванного свиданием с Линдой Николаевной, поэтому не мог сразу переключиться на совсем иную тему и иной тон. - Моя ошибка, что я сижу здесь, - сказал он довольно резко. - Это лирика. Такие слова более подходят Линде Николаевне, а вы мужчина, - заметил Марков. - Будем разговаривать конкретно. О поездке к Нестерову. - Я все сделал по обстановке. - Но вы действовали, мягко говоря, очень опрометчиво. Позвонили несколько раз по телефону, никто не отвечает - вы решили, что квартира пуста, можно идти. Но телефон мог быть просто неисправен. Вы даже не проверили на телефонной станции. А что касается звонка на работу - сами понимаете… - Да, это глупо. - И вообще, как же проникать в квартиру, не имея точных сведений, где ее хозяева? - С телефоном моя ошибка, но в остальном я все делал по инструкции. - В незнакомом городе без всякого помощника - как же так? - Я работал по аварийной схеме. Мне был приготовлен помощник, но он выпал. Почему - не знаю. - Фамилия помощника? - Кутепов. - Когда вы получили приказ работать по аварийной схеме? - Число не помню. Это было дня через три после того, как у меня оказались ключи. - Ключи Линда Николаевна доставила вам двадцать восьмого мая. А кто и как передал приказ? - По радио. Вероятно, квалификация разработчиков из разведцентра все-таки не понизилась. Аварийный вариант применяли вынужденно. Маркову было известно то, чего не знал Брокман: неожиданный приезд в город К. Пьетро Маттинелли заставил Кутепова спешить, и в спешке он совершил непоправимые ошибки. И выпал из операции, в которой должен был помогать Брокману. Кончики сходились. - Теперь скажите, Никитин, как вы должны были действовать не по аварийной схеме? Какая ставилась задача? - Задача одна - получить рукопись Нестерова, - сказал Брокман и замолчал. - Вы не ответили на первый вопрос, - напомнил Марков. - Ну, если бы все шло нормально, я разыгрывал бы из себя племянника Кутепова. Ухаживал бы за дочерью Нестерова. Подходы как будто были готовы. У Маркова опять возникло ощущение, что план разведцентра выглядит несолидно, если все расчеты строились на «племяннике». - Послушайте, Никитин, - сказал Марков, - вы отмежевываетесь от дипломата - я вам не мешаю. Но будьте жепоследовательны там, где вы сильно наследили. Вы о многом умалчиваете. Племянник, ухаживания - это, знаете ли, молочный кисель. Брокман усмехнулся: - Ладно, скажу. Племянник - тоже правда, но потом я и Кутепов должны были действовать по поручению иностранного разведчика. Он итальянец, девчонки его знают. И обе уже замазаны… - Вместе с ключами вам передали письмо Светланы Суховой. Для чего? - Обычный шантаж. Это никогда не мешает. - Вы надеялись получить рукописи Нестерова. А если бы он отказал? - Я мог применять силу. - Что это значит? - Что угодно. - Подождите, мы это запишем подробно, - сказал Марков и встал, чтобы взять из шкафа свежую кассету для магнитофона. А потом он услышал от Брокмана то, что уже слышал от Кутепова. И все концы этой истории окончательно сошлись… Казалось бы, после совершенно открытого разговора о Нестерове от Брокмана можно было ожидать большей открытости и во всем остальном. Но Марков на это не рассчитывал, и был прав. На седьмой день после ареста Брокмана при очередном допросе Марков наконец тронул стержневую, самую страшную для Брокмана тему. Сказав, что для прояснения некоторых моментов необходимо вернуться к эпизоду с Воробьевым, Марков спросил: - Вы не подозревали, что в тюбиках может содержаться что-нибудь ядовитое? - Подозревать можно что угодно. - Спросим прямее: вы знали? - Нет. - Лабораторный анализ показал, что содержимое тюбиков - составная часть сильнодействующего стойкого отравляющего вещества. Так сказать, одна из его половин. Наши химики знают приблизительный состав второй половины. Обе они сами по себе, отдельно друг от друга, почти абсолютно безвредны и обладают высокой инертностью. Только соединившись, они становятся страшными. - Я не химик, но охотно верю всему этому. - Тюбики Воробьев вез вам. Мы имеем право думать, что вторая половина была у вас. - Это вы на меня не нацепите, - решительно заявил Брокман. - Не знаю никаких половин. Ничего ни от кого не получал. Воробьев до меня не доехал. Дав ему выговориться, Марков продолжал: - Стачевская показала, что с девятнадцатого мая, то есть со дня вашего приезда к ней, и до четвертого июня, то есть до поездки к Нестерову, вы ни разу не отлучались из ее дома. Это верно? - Верно. - Стачевская добавила, что где-то между девятнадцатым и двадцать восьмым мая вы все-таки уходили из дому как-то днем и отсутствовали несколько часов. Это тоже верно? Брокман впервые ответил не сразу, а после короткой паузы: - Не помню. - А вы вспомните. Она еще снабдила вас закуской. Вы и секач с собой брали. - Не помню, - повторил Брокман. - Но вы, по крайней мере, помните свои слова по поводу того, почему при задержании у вас оказался этот секач? - Помню. - Повторите, пожалуйста. Я забыл их. - Чтобы зарыть то, что привез Воробьев. Если бы привез. Он прочно окопался за этим «если бы». И ничего тут не сделаешь… - А в тот, первый раз - для другой цели? Дров нарубить? - Не было того раза. Не ловите меня, гражданин начальник. Никогда Марков не позволял прорываться наружу чувствам, которые он испытывал по отношению к своим противникам. Он остался спокоен и сейчас. - Кто вас научил такому обращению - гражданин начальник? - У меня были хорошие инструкторы. - Прошу не употреблять этого выражения. Ваши начальники остались там. А насчет «того раза» мы еще побеседуем. Это было 12 июля. Вызванный на допрос 14-го, Брокман заявил, что больше никаких показаний давать не будет, так как все ему известное уже сообщил. Марков оставил Брокмана в покое. Он ждал Михаила Тульева, который вот-вот должен был вернуться после долгой жизни за рубежом. Не тревожимый привычными вызовами в кабинет полковника, Брокман начал проявлять нервозность.Глава 27 С ПОЛИЧНЫМ
Психологи и социологи, занимающиеся изучением различных пенитенциарных систем, принятых в разных странах в разные времена, расходятся - порою очень сильно - в оценке того или иного типа тюрем, установленного в них режима и эффективности разнообразных методов перевоспитания правонарушителей. Но все исследователи согласны в частном вопросе, касающемся одиночного заключения. Признавая его самым тяжким видом наказания и констатируя, что не все одинаково его переносят, специалисты установили прямую взаимосвязь между уровнем интеллекта заключенного и степенью приспособляемости к одиночному заключению. Чем ниже интеллект узника, тем быстрее и разрушительнее действует на его психику одиночка. Приученный к размышлению ум, удовлетворяющийся самопознанием дух несравненно более стойко переносит полное отсутствие контактов с людьми. Брокман не обладал высоким интеллектом. Выражаясь изящным слогом, сады его воображения заросли дремучим чертополохом и не плодоносили, а в темные заводи его души не проникал животворный солнечный свет. И хотя камера, где он содержался, скорее напоминала обыкновенную комнату - ничего лишнего, но все необходимое есть - и имела площадь не менее двенадцати квадратных метров, и несмотря на то, что предыдущая жизнь сделала из него законченного индивидуалиста, Брокман, запертый в четырех стенах впервые за тридцать семь лет своего существования, испытывал такое чувство, словно его телу тесно в собственной оболочке, и ощущал острую потребность хотя бы молчаливого общения с живым существом. Уже не с каждым днем, а буквально с каждым часом все нетерпеливее он ожидал, что его позовут на допрос. Но его не звали. Он начинал злиться, но тут же говорил себе: сам виноват, не надо было заявлять, что отказываешься давать дальше какие-нибудь показания. Он жалел, что, решив отращивать бороду, отказался от парикмахера, а менять решение считал малодушным. Он пробовал отвлечься, вызывая в памяти картинки из прежней жизни. Но картинки невозможно было остановить и разглядеть, они мелькали, наползали друг на друга и сливались в серое пятно. Он стал просыпаться по ночам по пять-шесть раз. Наконец - чего уж он никак не предполагал, - от него ушел аппетит. Тут он понял, что может стать одним из тех неврастеников, которых, как сказано выше, презирал. Всегда тщательно заботившийся о своем здоровье, ибо хорошее здоровье при его профессии было первейшей необходимостью, Брокман с нараставшим беспокойством отмечал, что день ото дня все больше худеет. С ним произошла еще одна странность: ему противен стал дым табака, и он бросил курить. Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову, в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким. Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности - одно напряжение. Дверь отворилась. В камеру вошел Михаил Тульев… Что испытал Брокман при этом появлении, словами передать невозможно. Михаил видел, как гладкий сухой лоб Брокмана вдруг покрылся крупными каплями пота, капли слились, и пот побежал вниз, на глаза, а Брокман смотрел не мигая, и его неподвижный взгляд был пуст. Михаил прикрыл за собою дверь и стал перед Брокманом в трех шагах. Так они стояли долго, не менее минуты. Наверное, если бы в это время раздался взрыв или к лицу Брокмана поднесли бы горящую спичку, он ничего бы не почувствовал, не услышал. Он был в шоке. - Здравствуй, - сказал Михаил. Брокман молчал. Михаил обошел его, сел на табуретку к столу. Брокман повернулся к нему, как манекен, и лицо у него было как у манекена. - Ты меня узнаешь? - спросил Михаил. - Мишле, - тусклым, совершенно без всякого выражения голосом сказал наконец Брокман. Он вспомнил фамилию, под которой Монах представил Михаила при их официальном знакомстве перед отъездом в Швейцарию. Настоящей фамилии Брокман, должно быть, так и не узнал. - Садись, поговорим, - сказал Михаил. Брокман послушно сел на койку, не сводя с него немигающих глаз. Михаил вынул из кармана сигареты - французские «Голуаз», крепкие, их он всегда предпочитал другим. Это была последняя пачка из привезенных им. - Кури. - Почему?… - явно не услышав его, спросил Брокман. Понятно, что он хотел сказать: «Почему ты здесь?» Михаил сказал: - Я приехал домой. Брокман наконец вышел из шока. - Кто ты, Мишле? - спросил он почему-то шепотом. - Советский разведчик. - Ты работал на них? - Говори нормально, - сказал Михаил. - Успокойся. Что-то ты сдавать начал. - Ты советский? - Брокман никак не мог уложить это в своей голове. - Я уже сказал: ты плохо соображаешь. - Ох, кретины, какие кретины! - Облокотившись о колени, Брокман обхватил голову руками и застонал. - Ты сейчас, как в Гштааде, - сказал Михаил. - Помнишь, когда увидел тех типов, от Алоиза? Это подействовало на Брокмана так, словно ему дали понюхать нашатыря. - Зачем тебя ко мне прислали? - подняв голову, спросил он совсем другим тоном, уже готовый к сопротивлению. Михаил посмотрел на него, не скрывая презрения. - По делу. Но я и сам бы тебя навестил. - По-дружески? - усмехнулся Брокман. - Ты, оказывается, еще и свинья, - сказал Михаил. - Память у тебя хорошая, а Гштаад забыл? - Спасибо хочешь услышать? - Тебя бы уже давно черви съели, но я не об этом. - Михаил прикурил сигарету от зажигалки, затянулся раз, другой. Он хотел быть поспокойнее. Оторвал от пачки кусок плотной обертки, свернул на пальце кулечек - для пепла. И сказал: - Помнишь, ты рассказывал в Гштааде, как людей на тот свет спроваживал? - Я врал, фантазировал, - зло ответил Брокман. - Может, и так. Но про старика, которого железкой в висок, - это ты не врал. Фамилию его не помнишь? Брокман не понимал, почему вдруг речь зашла о каком-то старике, которого он когда-то убрал между делом и давно забыл о нем и думать и фамилию которого действительно не мог вспомнить. А когда Брокман чего-нибудь не понимал, он сразу терял почву под ногами. Он не знал, что говорить этому Мишле, который оказался совсем не Мишле. - Я тебе напомню, - сказал Михаил. - Фамилия старика была Тульев, Александр Тульев. Это мой отец. Брокман помолчал, соображая, и снова сник. - Но это чистая случайность… я же не знал… - Скотина. Последнее слово Михаил произнес тихо, как будто не для Брокмана, а для себя. И он совсем не ждал того, что произошло дальше. Брокман повалился на койку, закрыл лицо руками и заплакал. Он всхлипывал, плечи его вздрагивали. Михаил встал и начал ходить между столом и дверью, время от времени взглядывая на Брокмана, на его вздрагивающие плечи. Он был взволнован. Когда плачут такие, как Брокман, - это не пустяк, это не всякому дано увидеть. Не потому он лил слезы, что ему напомнили о давнем преступлении. Что для него какой-то старик, хотя бы и оказавшийся отцом человека, спасшего ему жизнь? Так, частный случай. Над всей своей изломанной, страшной жизнью плакал Брокман. И, как тогда, в курортном городке Гштааде, Михаил почувствовал к нему странную, смешанную с презрением, горькую жалость. И вновь, как тогда, подумал, что сам мог бы попасть в такое положение, не окажись к нему судьба чуть милостивее. Михаил остановился перед койкой. Брокман теперь не всхлипывал, он только тяжело дышал. - Не раскисай, - сказал Михаил. Брокман повернулся и лег лицом в подушку. - Я не квитаться с тобой пришел, - сказал Михаил. - Дело есть. - Говори, - совершенно спокойно, без всякого надрыва, отозвался Брокман. - Ты напрасно молчал на допросах. - Я не молчал. - Но главного не говорил. - Не знаю, что главное. - Врешь. - Чего ты хочешь? - Брокман сел. Лицо его было очень усталым. - Имей в виду: если человек добровольно сознается во всем на следствии, суд это учитывает. - При чем здесь суд?… Тебя послал тот, который меня допрашивал? - Да. - Ему нужен мой тайник, понимаю. - Не только. - Ладно. Пусть вызовет. Брокман в присутствии Павла Синицына рассказал Маркову все, о чем умалчивал раньше, - и о тайнике, заложенном в лесу, и о том, что передал дипломату в сигаретной коробке пленку со снимками, сделанными в квартире академика Нестерова и в районе села Пашина, и со схемой местности, на которой помечен тайник. В конце его долгого рассказа Марков задал Брокману несколько вопросов. - То, что вез Воробьев, нужно было там же спрятать или в другом тайнике? - Где-нибудь недалеко. Но ни в коем случае не вместе. Я выбрал там подходящую точку. На схеме она тоже отмечена. - Дипломат понадобился, потому что вы лишились рации? - Пленку я все равно обязан был передать. У меня остался дубликат. - Где он? - Дома у Стачевской. Надо показать, сами не найдете. Там и письмо Суховой. - Дипломат вам нужен был лишь для этого? - Нет. Когда пропала рация, оставалась связь только через него. Было бы радио - не было бы открыток и всех этих телефонных переговоров. - Если бы все сошло благополучно с Воробьевым - что дальше? - Шестого июля Стачевская позвонила бы по телефону. - Дипломат и так знал, что Воробьев взят. У Воробьева был билет на самолет, его группа улетела пятого ночным рейсом. - Звонок был обязателен в любом случае. Раз не позвонила - значит, взяли и ее. - Стало быть, и вас? - Мой контрольный срок - десятое июля. - Тоже звонок? - Да. - А потом? - Потом бы меня списали. - Видите, что вы наделали своим молчанием. - Виноват. Марков посмотрел на часы - было без четверти девять. Начинало смеркаться. - Найдете тайник ночью? - Могу, - сказал Брокман. Марков отправил его в камеру, предупредив, что скоро за ним придут. - Да-а, Владимир Гаврилович, если бы этот подлец сразу все выложил, шестого июля можно было бы сочинить хороший сюжет, - сказал Павел. - Ты-то уж, пожалуйста, без «если бы». - Не скрывая досады, Марков бросил на стол карандаш, который вертел в пальцах. - Сколько езды до Пашина? - Тогда мы добрались за час с небольшим. - Семенов еще здесь? - Домой вернулся. - Захвати кого-нибудь. Поезжай с Брокманом. Проверь. Если тайник цел - не нарушайте. Отбери одну батарейку. Завтра с утра организуй там наблюдение. - Слушаюсь, Владимир Гаврилович. - На обратном пути заедете к Стачевской, возьмете пленку. - Понял, Владимир Гаврилович. Может, Михаила пригласить? - Ты же Марию вызвал. - Они с Сашкой еще не приехали. Завтра утром. - Ну, как знаешь… Только захочет ли он… - Захочет, Владимир Гаврилович. Тайник Брокмана оказался в целости, Павел убедился в этом и оставил все как было, взяв только одну батарейку - для анализа. У Маркова не было уверенности, что кто-то обязательно явится за спрятанными батарейками. Но он надеялся на это. Что давало надежду? Он рассуждал просто. Главное: со стороны тех, кто все это организовал, было бы неразумно оставлять содержимое тайника на произвол судьбы. Однако изъятие батареек связано с риском: можно попасть в засаду. Ставя себя на место противника, Марков пытался определить, какие соображения перевесят. И получалась такая картина. Во-первых, раз они послали Воробьева, значит, считали, что до пятого июля Брокман не был известен советской контрразведке. Во-вторых, арестованный Брокман не станет сообщать о тайнике - это равносильно самоубийству. Никаким иным путем о существовании тайника чекисты узнать не могут. В общем, исходя из этого, надежду свою Марков не считал беспочвенной. Господин с симпатичной таксой до 2 августа никуда из пределов Москвы не выезжал. 2-го он отправился за город, но совсем не в том направлении, где его ждали, - по Минскому шоссе. С ним в машине, кроме таксы, была молодая женщина. Километрах в пятидесяти от города они съехали на проселок, оставили машину и немного погуляли. А потом вернулись в Москву. 3 августа черный «Мерседес» с тем же экипажем в девять часов утра свернул с Кольцевой дороги на Горьковское шоссе, в десять миновал городок, где до недавнего времени жила Линда Николаевна, а в четверть одиннадцатого машина была в районе села Пашина. Дипломат поставил ее на лугу в тени большой скирды сена. Женщина взяла таксу за поводок и вышла из машины. Дипломат открыл лежавшую на сиденье большую спортивную сумку с наплечным ремнем, достал несколько фотографий - это были изображения местности, лежавшей перед его глазами: луг, окаймленный лесом. На одной из фотографий - опушка леса и высокий дуб, стоящий особняком. Потом он сличил местность с чертежом, лежавшим между карточками. Посмотрев снимки и чертеж, дипломат взял сумку и пошел следом за женщиной. Песик, в котором, вероятно, проснулся подавленный городским существованием охотничий инстинкт, тянул поводок так сильно, что женщине стоило труда идти шагом, а не бежать. До леса было не больше километра, но прежде чем дипломат увидел дерево, отмеченное на чертеже крестиком, им пришлось гулять долго. Павел Синицын связался с консульским управлением Министерства иностранных дел в начале десятого - сразу, как только стало ясно, что дипломат направился к тайнику. Чтобы соблюсти все правила, регламентирующие действия официальных представителей властей страны пребывания по отношению к лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, потребовалось время, но в половине одиннадцатого из Москвы по маршруту черного «Мерседеса» уже выехали два автомобиля. В одном из них сидел Павел Синицын, в другом - сотрудник консульского управления и сотрудник посольства, соотечественник дипломата с собачкой. Отыскав дерево, под которым был тайник, дипломат велел женщине прогуляться в сторону шоссе, а сам, достав из сумки литой железный туристский топорик, приступил к делу. Дерн над ямкой, в которой покоились батарейки, был уложен так искусно, что он не скоро определил это место, дважды начиная копать не там, где нужно, но в конце концов нашел. Когда, откинув рыхлую, не успевшую слежаться землю, он увидел коробку, за спиной у него кто-то деликатно кашлянул. Дипломат, не поднимаясь с колен, оглянулся. Над ним стояли двое молодых людей, рослые, плотные. Они смотрели на него и молчали. Он положил топорик в сумку и хотел ее закрыть, но один из молодых людей сказал: - Просим вас, оставьте все как есть. - Вы не имеете права ни задерживать меня, ни тем более обыскивать, - сказал он, вставая. - Мы знаем, - скромно согласился молодой человек. - Мы только убедительно просим вас оставаться на месте. Скоро сюда приедут другие люди, вы с ними и поговорите. Вид вежливых молодых людей не оставлял сомнений, что бросить все и уйти они ему не позволят, и дипломат, рассеянно поглядев в сторону шоссе, где на лугу гуляла женщина с таксой, сказал: - Мне нужно поговорить с женой. - Пожалуйста. Один из них сходил за его женой. Дипломат сказал ей, чтобы она шла к машине и ждала его там. Она была испугана, но старалась этого не показывать. Жена дипломата еще не успела достигнуть скирды, в тени которой стоял «Мерседес», когда на шоссе появились две машины, шедшие на одинаковой скорости со стороны Москвы. Они свернули на луг прямо через кювет. Всю дорогу Марии не давала покоя мысль: как-то встретятся сын с отцом? Саша знал отца по единственной фотографии, которую еще лет семь назад привез Марии по ее просьбе Павел. Мария карточку увеличила, отдала в ретушь и повесила портрет на стене в комнате сына. А получил ли Михаил карточку Саши, которую она передавала через Павла, и можно ли ему иметь ее при себе, Мария не знала. Долгие годы она по необходимости должна была скрывать от Саши правду об отце, придумывала всякие романтические истории о полной опасностей работе на Севере, но по мере того, как сын рос, делать это ей становилось все труднее. И все больше росло чувство невольной вины перед сыном. Особенно больно было, когда однажды Саша пришел со двора заплаканный и рассказал, что мальчишки, его дружки, не верят ему, говорят, что пусть он не сочиняет сказки про Север, что все это враки и никакого законного отца у него не было и нет. Мария постаралась объяснить ему, что эти недобрые мальчики только повторяют слова каких-то недобрых взрослых и не стоит обращать на них внимания. Она уверяла, что настанет день, и Саша обязательно увидит своего отца, и отец обнимет и поцелует его. И вот этот день настал, пришла эта долгожданная минута. Поезд щелкал колесами по стрелкам на подходе к Рижскому вокзалу. Саша, взявшись за поручень, привстал на приступке у окна, Мария стояла рядом, обняв его за плечи. Встречающих на перроне было мало. Мария увидела Михаила прежде, чем он увидел ее. Сердце у нее стучало часто-часто, она слышала этот стук. Во взгляде мужа, перебегающем от окна к окну, ей почудились неуверенность и тревога - наверное, он боялся, что они не приедут, задержатся. Потом и Михаил увидел их, замахал рукой, улыбнулся и зашагал вровень с окном. И тогда Саша вдруг закричал: - Папа! Папа! И так плотно прижался к стеклу, что нос его сплюснулся и побелел. Поезд стал. Мария, опередив неторопливых соседей по вагону, следом за Сашей быстро пробралась к выходу. Михаил схватил правой рукой Сашу, левой взял у Марии чемодан. Она обняла Михаила и сына. Они стояли и все трое плакали. Пассажиры, проходившие мимо, поглядывали на них с неким снисходительным пониманием. Но пассажиры не могли их понять, потому что не знали, какой длинный путь пройден, прежде чем обнялись эти родные друг другу люди.Глава 28 РАССКАЗ СВЕТЛАНЫ СУХОВОЙ
Нейрохирург, сделавший Светлане Суховой операцию на черепе и затем лечивший ее, был опытным врачом. Вначале он остерегался обнадеживать Веру Сергеевну скорым и полным выздоровлением ее дочери, потому что и сам был в нем не уверен. У него имелись основания сомневаться в возможности полного восстановления некоторых функций травмированного мозга. Правда, он рассчитывал на мощные компенсационные ресурсы молодого организма, но многое представлялось ему проблематичным. Однако на третьем месяце лечения стало ясно, что окончательной поправки ждать совсем недолго, о чем он и сообщил с великим удовольствием Вере Сергеевне. В первых числах августа к Светлане вернулись зрение и слух. Через неделю она стала говорить. До неузнаваемости исхудавшая за полтора месяца, в течение которых ее питали через вены, она быстро начала набирать вес. В конце августа ей позволили встать с постели. В середине сентября Вера Сергеевна взяла дочь из клиники. Домой они дошли пешком - так захотела Светлана… Для завершения дела Кутепова недоставало лишь показаний самой потерпевшей. Майор Семенов поговорил с врачом - тот заверил, что она готова давать показания, ее здоровью это не повредит. Пригласив подполковника Орлова к себе, Семенов послал за Светланой автомашину. Они не знали, как выглядела Светлана до случившегося, но сейчас увидели высокую, стройную девушку, может быть, излишне полную для своих лет. Смотрела она уверенно. Физическая травма явно не нанесла ей травмы психической. Беседа была долгой. Светлана рассказывала, Семенов и Орлов слушали, изредка вставляя вопросы. Вот основная часть рассказа Светланы. «Весну семьдесят второго мы с Галей Нестеровой ждали с таким нетерпением, прямо дни считали, когда станет тепло. У нас уже много отличных вещей было. Конечно, можно и зимой носить, но одно дело, когда ты идешь в замшевом костюме, а поверх надето зимнее пальто, и совсем другое, когда без пальто. Тут и аксессуары играют, а их у нас тоже хватало - Пьетро все выбирал со вкусом и в самых разных стилях. Виктор Андреевич за зиму еще три раза ездил в Италию и навез нам столько - не знали, куда девать, где прятать. Пришлось мне подключить Таню Балашову, нашу, из универмага. Она одна живет, без родителей, у нее и оставить можно, и переодеться. Конечно, когда прятать приходится - это сплошное дерганье, но что делать? Продавать жалко было. Мы же не спекулянтки, правда? Все-таки наши мамочки что-то почуяли. Я своей врала, честно сознаюсь. Ну, она сначала верила, что я в долги влезаю, а потом сообразила: сколько же у меня должно накопиться долгов? И кто это такой добрый нашелся - тысячами дает, а когда получать будет, неизвестно. В конце концов я сочинила историю про пожилого поклонника. Предлагает пожениться. Все подарки от него. В общем, ничего, обошлось у меня с мамочкой, она у меня добрая, а вредной так и никогда не была, не то что Галкина мама. Но, оказалось, мы с Галкой зря на Ольгу Михайловну грешили, она в данном случае вела себя с большим понятием. Мы думали, объяснять ей насчет моего поклонника и почему он подарки из-за границы присылает - все равно что лапшу на уши вешать, как Леша выражается, то есть абсолютно бесполезно, не поймет. А она все прекрасно поняла, когда Галка ей мою историю рассказала. Да, я забыла про тот перстень. Галка наплела матери, что у одной ее знакомой студентки больны родители, надо ехать лечиться на целый год, а денег нет, вот они и решили продать перстень. Ольга Михайловна за семьсот рублей покупать не хотела, говорила, что это с ее стороны будет просто грабеж. Она очень хорошо в таких вещах разбирается, почти как настоящий ювелир. Но почему-то не пришло ей в голову спросить: чего ж эти бедные родители в скупку колечко не сдадут? А вообще-то она со странностями, могла об этом просто не подумать. В общем, она сказала, честнее будет предложить хотя бы девятьсот рублей, Галке спорить ни к чему, она взяла девятьсот, Виктору Андреевичу отдали семьсот - сколько просил. Две сотни оставили себе. У нас с Лешей тогда, между прочим, опять дружба начала налаживаться, хотя он, как увидит меня в заграничном, обязательно начнет подковыривать. Я этого не люблю. Сама умею. Но у него занятно получается, ему простить можно. Ну вот, я его пригласила погулять - на те деньги, конечно, - а он мне чуть по роже не съездил. И с тех пор опять разъехались. Если по-честному, то мне тоже, как и Галке, стыдно было из-за тех двух сотен, но только пока их в сумке таскала, а когда потратила - забыла и про перстень, и про эти несчастные рубли. Ну, думаю, никого же мы не обманывали. Виктор Андреевич сам семьсот запросил, Ольга Михайловна сама на девятьсот напросилась, разницу мы оприходовали - с кого спрашивать? Не выбрасывать же, когда тебе дают. Может, я не права, не знаю, но тогда об этом не рассуждала. Меня больше другое задевало. Сейчас скажу. Вот представьте себе. Живет девушка как девушка, не хуже других. И вдруг подходит к ней красивый молодой человек, иностранец, признается в любви и на следующий день уезжает. Он ей, в общем-то, до лампочки, несмотря на красоту, но он вдруг начинает посылки присылать в доказательство своей любви, а в письмах пишет, что просто умирает от тоски. И вот представьте, я тоже понемногу в него влюбилась. Выходит, за тряпки и за колечки? Никуда не денешься - значит, за тряпки. Я вам честно признаюсь - так оно и было, но вы можете верить, что я себя за это презирала. Я себя иногда спрашивала: сколько же ты стоишь? А когда человека можно оценить в рублях - неважно, в тысячах или там в миллионах, - это уже не человек, а так, предмет для продажи. Я никому о своих мыслях не говорила. Галка, знаю, тоже так думала, но тоже молчала. Так иногда буркнет что-нибудь, поворчит неопределенно, а вещи брала одинаково со мной. Тут мы обе хороши, ничего не попишешь. Но Виктор Андреевич меня всегда удивлял. Как будто у него такой аппарат был - для чтения мыслей. Он, например, все время нас уверял, что от любящего человека подарки принимать не грех и что вообще в большинстве случаев мужскую любовь можно измерить подарками. Если одни слова, а раскошелиться рука дрожит - значит, никакой любви нет. Грубо, конечно, но мне казалось, что доля правды в этом есть. А это успокаивало. Вот так побесишься, побесишься, а потом посидишь с Виктором Андреевичем за рюмочкой - и успокоишься. Только один раз подозрение у меня появилось. В конце апреля я получила от Пьетро письмо по почте, на универмаг, потому что домашнего адреса я ему не давала. Письмо брошено в Москве. Это было уже после третьей посылки. Читаю и ничего не пойму. Разговор такой, будто ничего между нами нет и не было. Просто вежливое послание девушке. Даже спрашивает, не совсем ли я его забыла. И про Виктора Андреевича ни гугу. А он же вроде специального курьера между нами. И пожалуйста, о нем ни звука, даже и привет не передает. А почерк тот же… Хотя какой почерк? Так, наверное, все первоклашки пишут. А в самом конце маленькими буквами написано, что приедет в Советский Союз и не позже двадцать третьего мая будет в нашем городе. Я сдуру показала это письмо Виктору Андреевичу. И вы знаете, первый раз тогда видела его расстроенным. Еще подумала: вот как можно обидеть человека. Мы тогда сидели и разговаривали в «Пирожковой», знаете, там столики прямо около тротуара стоят, на открытом воздухе. Виктор Андреевич мне бутылку «Байкала» взял, а себе минеральной, ничего спиртного там не продают, мне просто пить захотелось. А у меня как раз чулок поехал - об стул зацепила. Чтобы петля дальше не спустилась, надо прижечь, а Виктор Андреевич не курит. Я тоже давно бросила. Ну, я его и попросила у кого-нибудь стрельнуть. Он сходил через дорогу в ларек, принес пачку сигарет и спички. Я закурила, прижгла чулок и машинально раз-другой затянулась, даже тошно стало. И надо же, тут мимо проходил Витек, парнишка из нашего двора, Лешин адъютант. Ну и, конечно, увидел меня. А он не только глазастый, но и вредный иногда бывает. Рассказал моей матери. Та в слезы, у нее глаза на мокром месте. «Опять пьешь, опять куришь, не доведут тебя до добра такие знакомства» - и так далее. В общем, после той встречи мы с Виктором Андреевичем долго не виделись. Правда, звонил и мне, и Галке, но, по-моему, он и сам встречаться не очень хотел. Вроде отпуск себе взял и нам тоже дал отдохнуть. В это время я пыталась с Лешей поговорить… Нет, конечно, чтобы наладить все как раньше - об этом смешно думать. Он сильно обиделся на меня, я знала. А у меня в голове один Пьетро… Но я думала: почему мы с ним должны быть врагами? Он славный. И мы же по-настоящему дружили… В общем, я к нему первая подошла, он с ребятами около нашего парадного стоял, а я с работы возвращалась. Позвала его в сторонку, чтобы не при всех говорить, а он: «Что, Светлана Алексеевна, старички уже надоели?» А ребята ржут, довольны. Да-а, такие дела… Ну а потом - это после майских праздников было - Виктор Андреевич опять пожелал нас видеть, катал на машине и про племянника рассказывал, о котором раньше говорил. Сказал, что скоро сюда приедет дней на пять повидать дядю. Очень он его Галке нахваливал, прямо сватал. Двадцатого мая Виктор Андреевич позвонил мне вечером домой и попросил разрешения повидать меня завтра, но без Галины, одну. Сказал, есть деловой разговор. Я подумала: опять едет в Италию. Мы встретились в половине девятого, еще светло было. Он ждал меня в своей машине на улице Тургенева, возле сквера. Поехали по Московскому шоссе, он сказал, посидим, если я захочу, в ресторане «Лесной», это километров двадцать от города, вы, наверное, знаете. Но в ресторан мы не попали… Мы до «Лесного» не доехали. Виктор Андреевич свернул на какое-то другое шоссе, потом на проселок и предложил выйти погулять. Ни о каких делах до той минуты он не заикался. Вообще всю дорогу непривычно как-то молчал. И вдруг… Чего угодно ждала, только не этого. Он говорит: - Должен вам сообщить, Светланочка, мы попали в очень неприятную историю. Спрашиваю: - Кто это - мы? - Вы и я, - отвечает, - и отчасти Галя и ее мама тоже. Но в основном вы и я. - Объясните, - прошу его, а у самой все внутри дрожит, нехорошо даже. Ну он объяснил. - Как вы считаете, - говорит, - кто такой Пьетро Маттинелли? Он работал здесь в качестве инженера. Это верно, он и есть инженер. Но не только. Главная его работа носит секретный характер, понимаете? Вы удивлены? Я тоже был удивлен, но несколько раньше. И был так же напуган, как напуганы сейчас вы, моя дорогая. - Чего вы от меня хотите? - спрашиваю. - Зачем я вам нужна? - Не мне вы нужны, - сказал он. - Я только исполняю волю других. - Но при чем здесь я? Он в тот момент совсем на себя не был похож. Буквально незнакомый человек со мной разговаривал, как будто первый раз его видела. Глаза злые, усмешечка такая и даже голос другой. Говорит: - Нет, дорогая девушка, сейчас я буду вопросы задавать. Вы сколько посылок получили? Если на деньги перевести - какую сумму это составит? Не считали или все-таки считали? А тот перстенек с изумрудом - он разве семьсот рублей стоит? И почему же вы его в скупку не сдали? Себе оставили или кому-нибудь уступили? Уж не почтенной ли Ольге Михайловне? Я молчала, потому что ответ на каждый свой вопрос он сам заранее знал, это ясно. А что я могла добавить? У меня просто язык отнялся. Он дальше: - Вы девушка умная, поэтому я обращаюсь к вашему разуму и прошу понять меня правильно. Ничего страшного не произойдет, если вы будете строго следовать моим наставлениям и хранить наши новые отношения в глубокой тайне. - Какие же у нас будут отношения? - спрашиваю. Он словно облегчение почувствовал, даже рассмеялся. И объясняет: - Все останется по-прежнему, не беспокойтесь. Но вы, как только мы с вами договоримся, будете не просто девушкой Светланой, которая очень нравится Пьетро Маттинелли, но его ценной сотрудницей. А руководить вами он будет через меня. Повторяю, все это не столь трагично, как может показаться на первый взгляд. - Но что я должна делать? - спрашиваю. - Ничего особенного. Это даже нельзя назвать делом. Вы имеете большое влияние на людей, которые вас знают. Вот это мы и будем использовать. До этого момента я была как оглушенная. Что-то спрашивала его, а в голове ничего не оставалось. Чувствую, творится что-то гадкое, подлое, а умом понять не могу. Но наконец-то до меня дошло. И злая я стала. И страшно сделалось. Даже подумала: может, все это просто шутка? Вот сейчас он кашлянет в кулак - он всегда так делал, когда собирался поострить, - и скажет, что разыгрывает меня. А он говорит: - Вы, Светланочка, скоро увидите: все прежние подарки - мелочь по сравнению с тем, что вы сможете иметь, если будете меня слушаться. Мне захотелось поскорее в город, домой, к маме. Так тошно, прямо сил нет. - Едем отсюда, - прошу его. Между прочим, уже давно стемнело, и жутковатым мне показалось то место. Он говорит: - Еще минуту, мы не закончили нашу беседу. Вы должны сказать либо да, либо нет. Но во всех случаях я теперь вынужден заручиться вашим обязательством никому ни о чем не рассказывать. - Расписку вам давать, что ли? - спрашиваю. - Это ненадежно, - сказал он. - Мы придумаем более верные гарантии. А сейчас я должен вас предупредить: о нашем разговоре вы не имеете права сообщать даже Пьетро. Сам он об этом спрашивать вас, разумеется, не будет. Тут только я подумала, какую же комедию целый год разыгрывал со мной этот Пьетро. И какой же надо быть сволочью и как нас с Галкой купили. Ненавидела я себя в ту минуту лютой ненавистью, как гадину последнюю. Губы себе все искусала до крови, чтобы не разреветься. - Поедемте отсюда, - прошу его. Но он не торопится. Решил ковать железо, пока горячо. Говорит с издевочкой: - Я понимаю, у вас незавидное положение, и чувствуете вы себя скверно, но что же поделаешь? Уверяю вас, дорогая Светланочка, уже завтра вам станет значительно легче, а через неделю вы поймете, что ровным счетом ничего не произошло. Ну какая из вас шпионка? Вы же еще, в сущности, ребенок, а те маленькие услуги, о которых я вас буду просить, они же безобидны, как детский поцелуй. Я застонала от тоски, и тут он добавил: - Но если вы кому-нибудь проговоритесь - знайте: это будет стоить жизни и вам, и вашей матери, и тому, кто узнает нашу тайну. До чего же ты докатилась, думаю. Если этот старый подонок не побоялся тебе в открытую говорить такие вещи - за кого же он тебя считает? Значит, уверен, что и ты гадина, которую за красивую тряпку можно с потрохами купить. Было бы что под руками, честное слово, я бы его убила. - Мы уедем отсюда в конце концов? Или я уйду! - кричу ему. Он мне руки больно сжал и говорит: - Потише. Я вам все сказал. И не сомневайтесь, все так и случится, если вы не пожелаете держать язык за зубами. Было уже, наверное, половина двенадцатого, когда мы приехали в город. Я хотела выйти из машины у первой трамвайной остановки, но он сказал: «Подвезу к дому». Ладно, думаю, все равно. Я уже решила, что надо делать. Приду, позвоню Лешке, попрошу зайти за мной, и вместе пойдем в КГБ, от нас десять минут пешком. Успокоилась, хотя очень курить захотелось. Мы ехали к моему дому со стороны гаражей. Там и у Леши есть гараж для мотоцикла - он называет «стойло». И вот, не доезжая до этого места, машина вдруг заглохла. Он сказал, кончился бензин. Я вышла, он тоже и говорит: «Я вас провожу». Я говорю, не надо, а он меня догнал и идет сбоку. Там узенький асфальт положен, вдоль забора тянется. Он спрашивает тихим голосом: - Так мы договорились? Я молчу. - Светлана, вам же хуже будет, подумайте. Не выдержав, я говорю: - Сволочь проклятая, тебе в тюрьме место. Тут, наверное, он меня и ударил…» Отправив Светлану домой, Орлов и Семенов еще посидели в кабинете. Двойственное чувство вызвал у них ее рассказ. Им не понравилась манера изложения, но дело было не в лексиконе. - Вот и спрашивай после этого: осознала или не осознала? - сказал Орлов. - Не будем уподобляться резонерам.1965-1978
Олег Шмелев, Владимир Востоков Возвращение резидента
ГЛАВА 1 Знакомство в универмаге
 Весной 1971 года в жизни Светланы Суховой произошло одно в общем-то маловажное событие, которое при обычных обстоятельствах ни к чему плохому привести не могло.
Но, как мы увидим несколько позже, в данном случае обстоятельства были необычными, и событие это послужило звеном в длинной цепи других, гораздо более серьезных и сложных событий, причин и следствий.
Как-то майским днем к прилавку, за которым стояла в голубом, атласно поблескивающем форменном халате Светлана, в ту редкую минуту, когда не было покупателей и проигрыватель молчал, — в эту тихую минуту к прилавку подошел молодой, лет двадцати шести — двадцати восьми, очень смуглый мужчина. Его черные густые волосы были напомажены и причесаны на косой пробор. Черные глаза с поразительно белыми белками смотрели ласково и мягко, был он невысок для мужчины, но очень стройный и оттого казался выше своего роста. Светлана уже владела профессиональным умением продавцов с одного взгляда определять категорию покупателя, и ей не нужно было даже вникать в детали костюма подошедшего мужчины, чтобы совершенно точно знать, что перед нею иностранец. Ничего особенного в этом не было: иностранцы-туристы или работавшие на городских предприятиях специалисты часто покупали в универмаге грампластинки.
— Здравствуйте! — с улыбкой сказал смуглый покупатель.
— Добрый день, — ответила Светлана, стараясь по его акценту определить, какой он национальности. — Что вам угодно?
— Я хотел бы классику, русскую классику.
Это была привычная просьба: все иностранцы требовали записи музыки русских композиторов. Разобравшись в акценте, Светлана уже знала, что говорит с итальянцем.
— Что именно вы хотите?
— Я не все знаю очень хорошо. У меня имеется Мусоргский, Чайковский. Я хотел бы что-нибудь еще.
— Должна вас огорчить. Сегодня ничего предложить не могу. Зайдите в другой день.
Итальянец рассмеялся и сказал не без иронии:
— Это я слышал много дней раньше, много-много раз.
— Извините, но ничем не могу помочь.
Казалось, вопрос был исчерпан, но итальянец не спешил уходить. Он смотрел на Светлану молча и без прежней мягкой сдержанности. Ей стало неловко, она отвела взгляд и только тут заметила, что они не одни, какой-то мужчина чуть в стороне терпеливо изучал каталог грамзаписей, повернувшись к ним спиной.
— Слушаю вас. — Она сделала шаг в его сторону.
— Ничего, ничего, — сказал он тихо, не оборачиваясь, — я не тороплюсь.
Итальянец все смотрел на нее, и Светлана безошибочно могла предвидеть, что произойдет через минуту. Ей уже неоднократно за ее короткую службу в универмаге приходилось выслушивать и от иностранцев, и от дорогих соотечественников, молодых мужчин и не очень молодых, одну и ту же просьбу: познакомиться и встретиться где-нибудь вне стен магазина. Ее это не обижало и не раздражало, скорее наоборот, но она умела так себя вести в подобных случаях, что просители, даже из самых настойчивых, больше чем на две попытки не отваживались.
Этот оказался терпеливее и настойчивее прочих. Не по летам холодная вежливость, которую усвоила себе Светлана и которая моментально охлаждала других, на итальянца не действовала. Была и еще причина, по которой ему удалось говорить со Светланой гораздо дольше, чем иным.
Она чувствовала, что он с нею вполне искренен и излагает правду. А излагал итальянец вот что.
Приехал он из Италии год назад. Он инженер и работает в фирме, которая заключила с Советским Союзом контракт на поставку и монтаж оборудования для азотно-тукового комбината. Но это не имеет значения. Главное — он послезавтра возвращается на родину и только поэтому решился просить русскую девушку о свидании. Он увидел ее давно, еще месяца три назад, и не за прилавком, а у входа в магазин. Он знает, что ее зовут Светланой. Он не осмеливался раньше заговорить с ней, потому что был уверен, что она не согласится ни на какое свидание. Но теперь, за день до отъезда, он не выдержал и решил рискнуть. Ему очень хочется записать на память ее голос, и если бы она согласилась встретиться с ним где-нибудь в парке или в кафе хоть на полчаса и если бы позволила ему принести с собой маленький японский магнитофон…
Короче, дело кончилось тем, что Светлана спросила:
— Знаете улицу Тургенева?
— Да, конечно! — не веря в успех, воскликнул итальянец.
— Где она выходит на бульвар, есть газетный киоск.
— Да, да, это мне известно.
— Я буду там в половине двенадцатого.
— Завтра?
— Ну, не сегодня же. — Она посмотрела на часы. — Сейчас уже три.
— Спасибо. — Он поклонился. — Я забыл сказать: меня зовут Пьетро Маттинелли. Спасибо. До завтра.
И он ушел счастливый. Светлана хотела наконец заняться терпеливым покупателем, который все это время изучал чуть в сторонкезахватанный каталог грампластинок, но его уже не было…
Тут следует рассказать вкратце историю семьи Суховых.
Муж Веры Сергеевны Суховой погиб пять лет назад. Он был летчиком, работал испытателем на заводе, где делают вертолеты.
Вера Сергеевна не знала подробностей катастрофы и ее причин. Друг мужа, тоже испытатель, пробовал ей объяснить, как это произошло, говорил что-то насчет крайних режимов полета, на которые сознательно пошел Алексей, досадовал, что Алексей не использовал единственную возможность оставить машину, а обязательно хотел ее посадить. Он особенно упирал на то, что возможность была именно единственная, и говорил, что у вертолетчиков таких возможностей гораздо меньше в случае аварии, чем у испытателей обычных самолетов. И в общем, как Вера Сергеевна поняла уже гораздо позже, из рассказа этого друга получалось, что Алексей во всем виноват сам. Ей от этого легче не стало.
Тот первый месяц после похорон она теперь, по прошествии пяти лет, помнила хорошо, во всех подробностях, и виновато удивлялась, как же мелочно отмечала ее память ничего не значащие детали происходившего, когда душа ее, кажется, разрывалась от горя.
Сейчас она могла бы рассказать, что готовила в день гибели Алеши на обед, какого цвета был бант у Светланы в косе, когда она вернулась из школы, и что ей сообщила соседка по поводу самочувствия своего шпица, занемогшего накануне, и как звенела бившаяся о стекло пчела — первая весенняя пчела, залетевшая в окно.
Просто полная ерунда. И почему так странно устроен запоминающий аппарат человеческого мозга? Вера Сергеевна окончила медицинский институт, но это не давало ей никаких преимуществ по сравнению с другими людьми, не имеющими медицинского образования и незнакомыми даже с начатками психологии. Она не могла понять, почему ничтожные, недостойные мелочи впечатались в сознание несмываемыми красками, незаглушаемыми звуками, невыдыхающимися запахами, а самое главное, самое дорогое стерлось, словно бы его и не было никогда. Вера Сергеезна не помнила лица мужа, не помнила его выражения.
А может, это защитная реакция? С точки зрения науки о психической деятельности человеческого мозга такое объяснение вполне годится, но ей и от этого не было легче.
По ночам она иногда мысленно прослеживала шаг за шагом свои поступки в первый месяц после гибели Алексея и без конца казнила себя за деловитость, тоже, как она считала, предельно мелочную и оскорбляющую память погибшего.
Она продала их новенькую «Волгу», списалась с подругой, Ниной Песковой, жившей в городе К., и с ее помощью устроила обмен квартирами, почти не потеряв при этом ни в метраже, ни в коммунальных удобствах. Она позаботилась, чтобы Светлана закончила учебный год хотя бы без троек — дочь тогда училась в седьмом классе, и до конца занятий оставалось три недели.
Распродав часть вещей, а другую часть, в том числе пианино дочери, отправив багажом, Вера Сергеевна со Светланой в середине июля выехали в город К. Бегство из мест, связанных с самым любимым на земле человеком, совершилось стремительно, подобно эвакуации в военные времена, о которой так много читала в книгах Светлана и которую сама Вера Сергеевна пережила в сорок первом, будучи восьмилетней девочкой.
Приехав в город К., она не стала устраиваться на работу. И куда бы она пошла? Получив диплом врача, она не работала ни дня, потому что уже была замужем за Алексеем, Он не дал ей работать — мол, расти Светку. Чтобы теперь стать врачом, ей, пожалуй, впору было снова идти учиться в институт. Но главное, она и не смогла бы нигде работать. В какой-то деловой лихорадке сумев быстро и решительно осуществить переезд, она словно впала в летаргический сон.
Долго, очень долго она была отрешена от жизни, как бы даже вовсе не жила. У нее было такое ощущение, что она, сидя одиноко в темном зале, смотрит какой-то длинный и неинтересный ей фильм.
Нина Пескова, которая взяла на себя заботу о ее доме, о покупке продуктов, делала попытки расшевелить подругу, но безуспешно. Вера Сергеевна выходила из дому только для того, чтобы снять очередную порцию денег со сберкнижки. Машинально готовила еду, стирала, прибиралась. И без конца курила — начала она курить в день похорон Алексея.
Так минуло два года. Светлана перешла в десятый класс. Как она училась, Вера Сергеевна мало интересовалась, хотя в дневник дочери и заглядывала. Ее совсем не огорчило, что Светлана оставила занятия музыкой.
Толчком, выведшим ее из этого состояния, был разговор с Ниной Песковой, когда та, придя однажды осенним вечером, как бы между прочим сказала, что видела Светлану возле дома с двумя парнями гораздо старше ее — Светлана курила сигарету и, кажется, была под хмельком.
Веру Сергеевну будто хлестнули плеткой. Она только спросила: «Где?» — и, услышав в ответ, что на детской площадке, выбежала из квартиры, не надев пальто.
Светлана стояла в обществе двух самодовольно ухмыляющихся молодых людей и как-то незнакомо похохатывала.
Не говоря ни слова, Вера Сергеевна налетела на нее, развернула левой рукой за плечо, а правой изо всех сил ударила ее по щеке. Если бы не один из парней, Светлана упала бы. «Марш домой!» — крикнула Вера Сергеевна вмиг протрезвевшей дочери. «Мадам, зачем так форсированно?» — играя поддельным баритоном, сказал пижон, поддерживавший Светлану. «Молчи, щенок!» — осадила его Вера Сергеевна. Она задыхалась от гнева. Но пока поднималась по лестнице на третий этаж, гнев сменился острой жалостью к дочери и презрением к самой себе.
Вера Сергеевна в эти несколько минут будто прозрела, развеялся туман, в котором она жила, и перед нею отчетливо выстроилась длинная череда дней, целиком отданных собственному горю, дней, в которых не было места Светлане, ее родной дочери. Только о своей боли думала она, только вкус собственных слез ощущала и утешалась ими. И как она могла назвать все это, если не эгоизмом? Всепоглощающий эгоизм горя — чем он лучше эгоизма счастья? — спрашивала она себя. Нет, ей не найти оправдания в том, что боль от потери была столь же велика, сколь и ее любовь к мужу.
В ясном, трезвом свете представились Вере Сергеевне ее отношения с дочерью — как и на чем они строились с малых лет и вот до этого гадкого момента.
Светлана росла папиной дочкой. Он любил ее до самозабвения и, конечно, баловал, а она с детской хитростью, иной раз набедокурив, спасалась от материнского возмездия под его надежной защитой. На этой почве между родителями возникали легкие конфликты, как правило, в присутствии провинившейся. Разумеется, с педагогической точки зрения такой метод нельзя считать разумным, но в общем-то, когда Светлана подросла и пошла в школу, выяснилось, что антипедагогическое поведение родителей на ней отразилось мало. Одно было неприятно сознавать Вере Сергеевне по мере того, как Светлана взрослела: у нее к матери вырабатывалось внешне неуловимое, но явственно ощутимое снисходительное сочувствие. Вера Сергеевна понимала, откуда это шло: слишком сильным, подавляющим был в семье авторитет отца, на долю матери не оставалось почти ничего. Но Веру Сергеевну утешало то, что Светлана была очень доброй девочкой, готовой ради других забывать собственные капризы, та это давало надежду, что их отношения в конце концов останутся нормальными…
Поднявшись на третий этаж и войдя в квартиру, Вера Сергеевна совсем успокоилась. В присутствии Нины Песковой произошел долгий разговор, окончившийся тем, что Светлана со слезами на глазах обняла мать и поклялась, что никогда ничего подобного больше не случится. Ей можно было верить: она всегда говорила правду, а если обещала что-нибудь, то непременно исполняла, во всяком случае, изо всех сил старалась сдержать слово. Это вложил в нее отец еще с младенчества…
Вскоре после чрезвычайного происшествия Вера Сергеевна поступила на работу. Так как для должности лечащего врача она считала себя непригодной, пришлось устроиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. На то, чтобы следить за санитарным состоянием различных городских предприятий, ее медицинских познаний еще вполне хватало.
Насчет дочери она окончательно перестала тревожиться, когда узнала, что Светлана подружилась с парнем из их дома Лешей Дмитриевым. Нина Пескова была знакома с семьей Дмитриевых и очень хорошо о ней отзывалась. Сам Дмитриев был инженером, жена его преподавала в школе, а Леша после десятилетки пошел на завод слесарем и учился на вечернем отделении энергетического института. В общем, был, видимо, не из тех, с кем Светлана кейфовала осенним вечером под грибком на детской площадке.
В то же самое время у Светланы завелась еще одна дружба, которую Вера Сергеевна очень одобряла. К ним в гости начала захаживать Галя Нестерова, одноклассница Светланы, вежливая и немногословная девушка. Веру Сергеевну особенно подкупало то, что Галя, судя по всему, не сознавала своей красоты, это само по себе составляло уже как бы некую ценную черту нравственного облика, говорило в пользу человека, ибо, по наблюдениям Веры Сергеевны, такое безразличие к собственной внешности встречается среди нынешних молодых людей весьма редко. К тому же Галя была дочерью крупного ученого, академика, лауреата Государственной премии, а меж тем одевалась крайне скромно, ничуть не лучше Светланы. Это тоже о чем-то говорило. И в довершение всего Галя была круглой отличницей и шла на золотую медаль. Кажется, только этим и разнились новоиспеченные подружки: у Светланы пятерок было ровно столько, сколько троек.
Вера Сергеевна радовалась, когда видела вместе свою дочь и Галю. Они были одинаково высокие: сто семьдесят пять сантиметров без каблуков. Обе сероглазые, с густыми светло-каштановыми волосами. Глядя на девушек. Вера Сергеевна с улыбкой, одновременно грустной и счастливой, представляла себе, как молодые люди на улицах, встречая Галю и Свету, приостанавливаются и оборачиваются им вслед, изумленные.
Довольно скоро Вера Сергеевна сумела обнаружить, что главенствует в этом содружестве, как ни странно, ее дочь. Всякий раз, когда нужно было сделать выбор, например, в какое кино пойти или что прочитать в первую очередь, — решающее слово оставалось за Светланой. Это не могло не льстить материнскому самолюбию Веры Сергеевны, и она даже похвасталась однажды Нине Песковой способностью дочери завоевывать авторитет среди незаурядных сверстников. Но в общем-то подобные суетные моменты не мешали Вере Сергеевне трезво оценивать те черты в характере дочери, которые никак не назовешь положительными. При широте натуры и с детства проявлявшейся безграничной доброте Светлана могла порою быть завистливой. Она, скажем, не скрывала своей зависти к девочкам, которые одевались в «заграничное» и могли себе позволить носить перстенек с бриллиантом и золотые сережки в ушах.
С Лешей Дмитриевым Светлана обращалась как старшая с младшим, хотя была моложе на два года. Он этого не замечал или не хотел замечать, а вернее всего, просто не мог, потому что был влюблен в нее. Судя по тому, что Вера Сергеевна иногда по воскресеньям видела Алешу с гитарой в руках в компании парней из их двора, не отличавшихся тихим нравом, он не был ни овцой, ни затворником, однако при Светлане вел себя так, словно непечатные шуточки товарищей по двору и цеху никогда не касались его ушей и не слетали с его собственных уст. Легко было догадаться, что Леша с некоторых пор больше всего стремился к тому, чтобы как-нибудь остаться со Светланой наедине, но ему не везло. Если ходили в кино, то третьей обязательно была Галя, да и вообще, что означает «наедине» в кинотеатре? Встречи у Светланы всегда происходили в присутствии Веры Сергеевны. Когда Светлана соглашалась пойти к Леше послушать магнитофонные записи — у него имелся мощный «маг», — дома всегда были или его бабушка, или мама. А целоваться в парадном или под грибком на детской площадке Светлана считала недопустимым с того памятного осеннего вечера, когда мать оглушила ее звонкой пощечиной. Так что Леше оставалось только вздыхать, и надеяться, и ждать лета, когда можно будет ездить на реку, на пляж. У Леши был старый мотоцикл Иж, который он купил на собственные сбережения совершенно разбитым и сам его привел в порядок, — мотоцикл стоял в сарае на пустыре, заставленном железными гаражами автовладельцев. В планах Леши, которые он строил на лето, мотоциклу отводилась первостепенная роль. И еще он наметил купить фотоаппарат «Зенит», чтобы фотографировать Светлану и делать большие портреты.
Так, без особых огорчений и раздоров, текла жизнь осиротевшей семьи Суховых. Сколь ни велика была боль утраты, время сгладило ее. Служебные заботы и необходимость думать о судьбе выросшей дочери все же помогли Вере Сергеевне выпрямиться, воспрянуть духом. Разучившись громко смеяться, она теперь, однако, могла порою улыбнуться. Маленькие радости каждого дня, которых обычно никто из людей не замечает, стали вновь доступны ей. Словом, она сделалась почти той же Верой, какую знал и любил погибший муж, летчик-испытатель Алексей Сухов. Только вот отучиться курить она пока не могла.
Первые огорчения пришли в августе 1970 года.
Светлана мечтала попасть на филологический факультет университета, как и Галя Нестерова. Обе они, окончив школу, подали в университет документы и вместе начали готовиться к экзаменам, вернее, Галя помогала Светлане. Но все старания оказались напрасными: Светлана по конкурсу не прошла. Конкурс был очень большой, а она недобрала до проходного целых два балла. Галя, несмотря на то, что окончила школу с золотой медалью, тоже экзаменовалась, так как среди медалистов существовал свой конкурс, и была зачислена на филфак.
Светлана, конечно, переживала неудачу, но Галя плакала больше, чем она. Вера Сергеевна была расстроена и поначалу не могла себе представить, что же делать дальше. Но, успокоившись и рассудив здраво, они решили, что ничего трагического, собственно, не произошло. Надо поступить на работу, за год как следует подготовиться — с помощью Гали, конечно, которая как студентка будет теперь более опытным репетитором, и в 1971 году повторить попытку.
Светлана из всего разнообразия мест и профессий отдала предпочтение универмагу, а точнее, тому его отделу, где продавались телевизоры, радиоприемники, всякие проигрыватели и то, что на них проигрывается. Она стала продавцом пластинок и магнитофонных лент, потому что неплохо разбиралась в этой области благодаря общению с Лешей.
У Светланы с поступлением на работу появилось много новых знакомых, но единственной подругой оставалась верная ей Галя, а единственным поклонником, которого она признавала достойным, — Леша Дмитриев. Втроем они ходили в кино раз в неделю непременно, а иногда и два, и немного реже — в театр. В одном и том же составе собирались то у Леши, то у Светланы и гораздо реже у Гали, потому что, как объясняла смущенно Галя, ее мама была очень нервной женщиной и с трудом переносила присутствие посторонних в доме, а громкую музыку не переносила совсем. Меж тем главным удовольствием домашних сидений неразлучной троицы служила именно громкая музыка и не менее громкие споры о ней. Отец Гали, которого Светлана и Леша видели всего один раз, да и то мельком, работал в каком-то научно-исследовательском институте и одновременно на каком-то заводе — на каком, Галя не уточняла — и сверх всего преподавал в политехническом институте. Следовательно, он был очень занятой человек и домашний покой ценил превыше всего.
Леша удивлялся, что у Гали нет парня. Он-то замечал, какие взгляды бросают на нее и молодые и пожилые мужчины на улице и в фойе кинотеатров. Однажды он попробовал поострить на этот счет, но получилось довольно неудачно, и Светлана сделала ему выговор, сказав, что напрасно мужчины полагают, будто такие девушки, как Галя, созданы только для того, чтобы всегда идти навстречу их желаниям. Больше этот вопрос между ними не обсуждался.
Зима прошла незаметно, потому что к кино и театру прибавились лыжи и коньки. Зима принесла Леше успех: однажды Светлана все же смилостивилась и разрешила ему поцеловать ее — это случилось при прощании в подъезде, когда они, усталые, пришли с катка, где бегали без перерыва часа два.
Такова предыстория того, что произошло в весенний день 1971 года…
Назавтра, в субботу, у Светланы был выходной.
Вечером по пути домой она позвонила по телефону-автомату Гале Нестеровой и сказала, что их прежде намеченные планы — поехать завтра с Лешей в Кленовую горку — отменяются. Светлана не стала вдаваться в подробности, сказала только, чтобы Галя ждала в одиннадцать у почтамта.
У Светланы шевельнулись угрызения совести оттого, что придется обмануть Лешу, но она тут же подумала, что ничего страшного в этом нет: невелика беда — один раз нарушить обещание. В конце концов между ними всего лишь простая дружба — во всяком случае, ей смешно говорить о любви.
Весной 1971 года в жизни Светланы Суховой произошло одно в общем-то маловажное событие, которое при обычных обстоятельствах ни к чему плохому привести не могло.
Но, как мы увидим несколько позже, в данном случае обстоятельства были необычными, и событие это послужило звеном в длинной цепи других, гораздо более серьезных и сложных событий, причин и следствий.
Как-то майским днем к прилавку, за которым стояла в голубом, атласно поблескивающем форменном халате Светлана, в ту редкую минуту, когда не было покупателей и проигрыватель молчал, — в эту тихую минуту к прилавку подошел молодой, лет двадцати шести — двадцати восьми, очень смуглый мужчина. Его черные густые волосы были напомажены и причесаны на косой пробор. Черные глаза с поразительно белыми белками смотрели ласково и мягко, был он невысок для мужчины, но очень стройный и оттого казался выше своего роста. Светлана уже владела профессиональным умением продавцов с одного взгляда определять категорию покупателя, и ей не нужно было даже вникать в детали костюма подошедшего мужчины, чтобы совершенно точно знать, что перед нею иностранец. Ничего особенного в этом не было: иностранцы-туристы или работавшие на городских предприятиях специалисты часто покупали в универмаге грампластинки.
— Здравствуйте! — с улыбкой сказал смуглый покупатель.
— Добрый день, — ответила Светлана, стараясь по его акценту определить, какой он национальности. — Что вам угодно?
— Я хотел бы классику, русскую классику.
Это была привычная просьба: все иностранцы требовали записи музыки русских композиторов. Разобравшись в акценте, Светлана уже знала, что говорит с итальянцем.
— Что именно вы хотите?
— Я не все знаю очень хорошо. У меня имеется Мусоргский, Чайковский. Я хотел бы что-нибудь еще.
— Должна вас огорчить. Сегодня ничего предложить не могу. Зайдите в другой день.
Итальянец рассмеялся и сказал не без иронии:
— Это я слышал много дней раньше, много-много раз.
— Извините, но ничем не могу помочь.
Казалось, вопрос был исчерпан, но итальянец не спешил уходить. Он смотрел на Светлану молча и без прежней мягкой сдержанности. Ей стало неловко, она отвела взгляд и только тут заметила, что они не одни, какой-то мужчина чуть в стороне терпеливо изучал каталог грамзаписей, повернувшись к ним спиной.
— Слушаю вас. — Она сделала шаг в его сторону.
— Ничего, ничего, — сказал он тихо, не оборачиваясь, — я не тороплюсь.
Итальянец все смотрел на нее, и Светлана безошибочно могла предвидеть, что произойдет через минуту. Ей уже неоднократно за ее короткую службу в универмаге приходилось выслушивать и от иностранцев, и от дорогих соотечественников, молодых мужчин и не очень молодых, одну и ту же просьбу: познакомиться и встретиться где-нибудь вне стен магазина. Ее это не обижало и не раздражало, скорее наоборот, но она умела так себя вести в подобных случаях, что просители, даже из самых настойчивых, больше чем на две попытки не отваживались.
Этот оказался терпеливее и настойчивее прочих. Не по летам холодная вежливость, которую усвоила себе Светлана и которая моментально охлаждала других, на итальянца не действовала. Была и еще причина, по которой ему удалось говорить со Светланой гораздо дольше, чем иным.
Она чувствовала, что он с нею вполне искренен и излагает правду. А излагал итальянец вот что.
Приехал он из Италии год назад. Он инженер и работает в фирме, которая заключила с Советским Союзом контракт на поставку и монтаж оборудования для азотно-тукового комбината. Но это не имеет значения. Главное — он послезавтра возвращается на родину и только поэтому решился просить русскую девушку о свидании. Он увидел ее давно, еще месяца три назад, и не за прилавком, а у входа в магазин. Он знает, что ее зовут Светланой. Он не осмеливался раньше заговорить с ней, потому что был уверен, что она не согласится ни на какое свидание. Но теперь, за день до отъезда, он не выдержал и решил рискнуть. Ему очень хочется записать на память ее голос, и если бы она согласилась встретиться с ним где-нибудь в парке или в кафе хоть на полчаса и если бы позволила ему принести с собой маленький японский магнитофон…
Короче, дело кончилось тем, что Светлана спросила:
— Знаете улицу Тургенева?
— Да, конечно! — не веря в успех, воскликнул итальянец.
— Где она выходит на бульвар, есть газетный киоск.
— Да, да, это мне известно.
— Я буду там в половине двенадцатого.
— Завтра?
— Ну, не сегодня же. — Она посмотрела на часы. — Сейчас уже три.
— Спасибо. — Он поклонился. — Я забыл сказать: меня зовут Пьетро Маттинелли. Спасибо. До завтра.
И он ушел счастливый. Светлана хотела наконец заняться терпеливым покупателем, который все это время изучал чуть в сторонкезахватанный каталог грампластинок, но его уже не было…
Тут следует рассказать вкратце историю семьи Суховых.
Муж Веры Сергеевны Суховой погиб пять лет назад. Он был летчиком, работал испытателем на заводе, где делают вертолеты.
Вера Сергеевна не знала подробностей катастрофы и ее причин. Друг мужа, тоже испытатель, пробовал ей объяснить, как это произошло, говорил что-то насчет крайних режимов полета, на которые сознательно пошел Алексей, досадовал, что Алексей не использовал единственную возможность оставить машину, а обязательно хотел ее посадить. Он особенно упирал на то, что возможность была именно единственная, и говорил, что у вертолетчиков таких возможностей гораздо меньше в случае аварии, чем у испытателей обычных самолетов. И в общем, как Вера Сергеевна поняла уже гораздо позже, из рассказа этого друга получалось, что Алексей во всем виноват сам. Ей от этого легче не стало.
Тот первый месяц после похорон она теперь, по прошествии пяти лет, помнила хорошо, во всех подробностях, и виновато удивлялась, как же мелочно отмечала ее память ничего не значащие детали происходившего, когда душа ее, кажется, разрывалась от горя.
Сейчас она могла бы рассказать, что готовила в день гибели Алеши на обед, какого цвета был бант у Светланы в косе, когда она вернулась из школы, и что ей сообщила соседка по поводу самочувствия своего шпица, занемогшего накануне, и как звенела бившаяся о стекло пчела — первая весенняя пчела, залетевшая в окно.
Просто полная ерунда. И почему так странно устроен запоминающий аппарат человеческого мозга? Вера Сергеевна окончила медицинский институт, но это не давало ей никаких преимуществ по сравнению с другими людьми, не имеющими медицинского образования и незнакомыми даже с начатками психологии. Она не могла понять, почему ничтожные, недостойные мелочи впечатались в сознание несмываемыми красками, незаглушаемыми звуками, невыдыхающимися запахами, а самое главное, самое дорогое стерлось, словно бы его и не было никогда. Вера Сергеезна не помнила лица мужа, не помнила его выражения.
А может, это защитная реакция? С точки зрения науки о психической деятельности человеческого мозга такое объяснение вполне годится, но ей и от этого не было легче.
По ночам она иногда мысленно прослеживала шаг за шагом свои поступки в первый месяц после гибели Алексея и без конца казнила себя за деловитость, тоже, как она считала, предельно мелочную и оскорбляющую память погибшего.
Она продала их новенькую «Волгу», списалась с подругой, Ниной Песковой, жившей в городе К., и с ее помощью устроила обмен квартирами, почти не потеряв при этом ни в метраже, ни в коммунальных удобствах. Она позаботилась, чтобы Светлана закончила учебный год хотя бы без троек — дочь тогда училась в седьмом классе, и до конца занятий оставалось три недели.
Распродав часть вещей, а другую часть, в том числе пианино дочери, отправив багажом, Вера Сергеевна со Светланой в середине июля выехали в город К. Бегство из мест, связанных с самым любимым на земле человеком, совершилось стремительно, подобно эвакуации в военные времена, о которой так много читала в книгах Светлана и которую сама Вера Сергеевна пережила в сорок первом, будучи восьмилетней девочкой.
Приехав в город К., она не стала устраиваться на работу. И куда бы она пошла? Получив диплом врача, она не работала ни дня, потому что уже была замужем за Алексеем, Он не дал ей работать — мол, расти Светку. Чтобы теперь стать врачом, ей, пожалуй, впору было снова идти учиться в институт. Но главное, она и не смогла бы нигде работать. В какой-то деловой лихорадке сумев быстро и решительно осуществить переезд, она словно впала в летаргический сон.
Долго, очень долго она была отрешена от жизни, как бы даже вовсе не жила. У нее было такое ощущение, что она, сидя одиноко в темном зале, смотрит какой-то длинный и неинтересный ей фильм.
Нина Пескова, которая взяла на себя заботу о ее доме, о покупке продуктов, делала попытки расшевелить подругу, но безуспешно. Вера Сергеевна выходила из дому только для того, чтобы снять очередную порцию денег со сберкнижки. Машинально готовила еду, стирала, прибиралась. И без конца курила — начала она курить в день похорон Алексея.
Так минуло два года. Светлана перешла в десятый класс. Как она училась, Вера Сергеевна мало интересовалась, хотя в дневник дочери и заглядывала. Ее совсем не огорчило, что Светлана оставила занятия музыкой.
Толчком, выведшим ее из этого состояния, был разговор с Ниной Песковой, когда та, придя однажды осенним вечером, как бы между прочим сказала, что видела Светлану возле дома с двумя парнями гораздо старше ее — Светлана курила сигарету и, кажется, была под хмельком.
Веру Сергеевну будто хлестнули плеткой. Она только спросила: «Где?» — и, услышав в ответ, что на детской площадке, выбежала из квартиры, не надев пальто.
Светлана стояла в обществе двух самодовольно ухмыляющихся молодых людей и как-то незнакомо похохатывала.
Не говоря ни слова, Вера Сергеевна налетела на нее, развернула левой рукой за плечо, а правой изо всех сил ударила ее по щеке. Если бы не один из парней, Светлана упала бы. «Марш домой!» — крикнула Вера Сергеевна вмиг протрезвевшей дочери. «Мадам, зачем так форсированно?» — играя поддельным баритоном, сказал пижон, поддерживавший Светлану. «Молчи, щенок!» — осадила его Вера Сергеевна. Она задыхалась от гнева. Но пока поднималась по лестнице на третий этаж, гнев сменился острой жалостью к дочери и презрением к самой себе.
Вера Сергеевна в эти несколько минут будто прозрела, развеялся туман, в котором она жила, и перед нею отчетливо выстроилась длинная череда дней, целиком отданных собственному горю, дней, в которых не было места Светлане, ее родной дочери. Только о своей боли думала она, только вкус собственных слез ощущала и утешалась ими. И как она могла назвать все это, если не эгоизмом? Всепоглощающий эгоизм горя — чем он лучше эгоизма счастья? — спрашивала она себя. Нет, ей не найти оправдания в том, что боль от потери была столь же велика, сколь и ее любовь к мужу.
В ясном, трезвом свете представились Вере Сергеевне ее отношения с дочерью — как и на чем они строились с малых лет и вот до этого гадкого момента.
Светлана росла папиной дочкой. Он любил ее до самозабвения и, конечно, баловал, а она с детской хитростью, иной раз набедокурив, спасалась от материнского возмездия под его надежной защитой. На этой почве между родителями возникали легкие конфликты, как правило, в присутствии провинившейся. Разумеется, с педагогической точки зрения такой метод нельзя считать разумным, но в общем-то, когда Светлана подросла и пошла в школу, выяснилось, что антипедагогическое поведение родителей на ней отразилось мало. Одно было неприятно сознавать Вере Сергеевне по мере того, как Светлана взрослела: у нее к матери вырабатывалось внешне неуловимое, но явственно ощутимое снисходительное сочувствие. Вера Сергеевна понимала, откуда это шло: слишком сильным, подавляющим был в семье авторитет отца, на долю матери не оставалось почти ничего. Но Веру Сергеевну утешало то, что Светлана была очень доброй девочкой, готовой ради других забывать собственные капризы, та это давало надежду, что их отношения в конце концов останутся нормальными…
Поднявшись на третий этаж и войдя в квартиру, Вера Сергеевна совсем успокоилась. В присутствии Нины Песковой произошел долгий разговор, окончившийся тем, что Светлана со слезами на глазах обняла мать и поклялась, что никогда ничего подобного больше не случится. Ей можно было верить: она всегда говорила правду, а если обещала что-нибудь, то непременно исполняла, во всяком случае, изо всех сил старалась сдержать слово. Это вложил в нее отец еще с младенчества…
Вскоре после чрезвычайного происшествия Вера Сергеевна поступила на работу. Так как для должности лечащего врача она считала себя непригодной, пришлось устроиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. На то, чтобы следить за санитарным состоянием различных городских предприятий, ее медицинских познаний еще вполне хватало.
Насчет дочери она окончательно перестала тревожиться, когда узнала, что Светлана подружилась с парнем из их дома Лешей Дмитриевым. Нина Пескова была знакома с семьей Дмитриевых и очень хорошо о ней отзывалась. Сам Дмитриев был инженером, жена его преподавала в школе, а Леша после десятилетки пошел на завод слесарем и учился на вечернем отделении энергетического института. В общем, был, видимо, не из тех, с кем Светлана кейфовала осенним вечером под грибком на детской площадке.
В то же самое время у Светланы завелась еще одна дружба, которую Вера Сергеевна очень одобряла. К ним в гости начала захаживать Галя Нестерова, одноклассница Светланы, вежливая и немногословная девушка. Веру Сергеевну особенно подкупало то, что Галя, судя по всему, не сознавала своей красоты, это само по себе составляло уже как бы некую ценную черту нравственного облика, говорило в пользу человека, ибо, по наблюдениям Веры Сергеевны, такое безразличие к собственной внешности встречается среди нынешних молодых людей весьма редко. К тому же Галя была дочерью крупного ученого, академика, лауреата Государственной премии, а меж тем одевалась крайне скромно, ничуть не лучше Светланы. Это тоже о чем-то говорило. И в довершение всего Галя была круглой отличницей и шла на золотую медаль. Кажется, только этим и разнились новоиспеченные подружки: у Светланы пятерок было ровно столько, сколько троек.
Вера Сергеевна радовалась, когда видела вместе свою дочь и Галю. Они были одинаково высокие: сто семьдесят пять сантиметров без каблуков. Обе сероглазые, с густыми светло-каштановыми волосами. Глядя на девушек. Вера Сергеевна с улыбкой, одновременно грустной и счастливой, представляла себе, как молодые люди на улицах, встречая Галю и Свету, приостанавливаются и оборачиваются им вслед, изумленные.
Довольно скоро Вера Сергеевна сумела обнаружить, что главенствует в этом содружестве, как ни странно, ее дочь. Всякий раз, когда нужно было сделать выбор, например, в какое кино пойти или что прочитать в первую очередь, — решающее слово оставалось за Светланой. Это не могло не льстить материнскому самолюбию Веры Сергеевны, и она даже похвасталась однажды Нине Песковой способностью дочери завоевывать авторитет среди незаурядных сверстников. Но в общем-то подобные суетные моменты не мешали Вере Сергеевне трезво оценивать те черты в характере дочери, которые никак не назовешь положительными. При широте натуры и с детства проявлявшейся безграничной доброте Светлана могла порою быть завистливой. Она, скажем, не скрывала своей зависти к девочкам, которые одевались в «заграничное» и могли себе позволить носить перстенек с бриллиантом и золотые сережки в ушах.
С Лешей Дмитриевым Светлана обращалась как старшая с младшим, хотя была моложе на два года. Он этого не замечал или не хотел замечать, а вернее всего, просто не мог, потому что был влюблен в нее. Судя по тому, что Вера Сергеевна иногда по воскресеньям видела Алешу с гитарой в руках в компании парней из их двора, не отличавшихся тихим нравом, он не был ни овцой, ни затворником, однако при Светлане вел себя так, словно непечатные шуточки товарищей по двору и цеху никогда не касались его ушей и не слетали с его собственных уст. Легко было догадаться, что Леша с некоторых пор больше всего стремился к тому, чтобы как-нибудь остаться со Светланой наедине, но ему не везло. Если ходили в кино, то третьей обязательно была Галя, да и вообще, что означает «наедине» в кинотеатре? Встречи у Светланы всегда происходили в присутствии Веры Сергеевны. Когда Светлана соглашалась пойти к Леше послушать магнитофонные записи — у него имелся мощный «маг», — дома всегда были или его бабушка, или мама. А целоваться в парадном или под грибком на детской площадке Светлана считала недопустимым с того памятного осеннего вечера, когда мать оглушила ее звонкой пощечиной. Так что Леше оставалось только вздыхать, и надеяться, и ждать лета, когда можно будет ездить на реку, на пляж. У Леши был старый мотоцикл Иж, который он купил на собственные сбережения совершенно разбитым и сам его привел в порядок, — мотоцикл стоял в сарае на пустыре, заставленном железными гаражами автовладельцев. В планах Леши, которые он строил на лето, мотоциклу отводилась первостепенная роль. И еще он наметил купить фотоаппарат «Зенит», чтобы фотографировать Светлану и делать большие портреты.
Так, без особых огорчений и раздоров, текла жизнь осиротевшей семьи Суховых. Сколь ни велика была боль утраты, время сгладило ее. Служебные заботы и необходимость думать о судьбе выросшей дочери все же помогли Вере Сергеевне выпрямиться, воспрянуть духом. Разучившись громко смеяться, она теперь, однако, могла порою улыбнуться. Маленькие радости каждого дня, которых обычно никто из людей не замечает, стали вновь доступны ей. Словом, она сделалась почти той же Верой, какую знал и любил погибший муж, летчик-испытатель Алексей Сухов. Только вот отучиться курить она пока не могла.
Первые огорчения пришли в августе 1970 года.
Светлана мечтала попасть на филологический факультет университета, как и Галя Нестерова. Обе они, окончив школу, подали в университет документы и вместе начали готовиться к экзаменам, вернее, Галя помогала Светлане. Но все старания оказались напрасными: Светлана по конкурсу не прошла. Конкурс был очень большой, а она недобрала до проходного целых два балла. Галя, несмотря на то, что окончила школу с золотой медалью, тоже экзаменовалась, так как среди медалистов существовал свой конкурс, и была зачислена на филфак.
Светлана, конечно, переживала неудачу, но Галя плакала больше, чем она. Вера Сергеевна была расстроена и поначалу не могла себе представить, что же делать дальше. Но, успокоившись и рассудив здраво, они решили, что ничего трагического, собственно, не произошло. Надо поступить на работу, за год как следует подготовиться — с помощью Гали, конечно, которая как студентка будет теперь более опытным репетитором, и в 1971 году повторить попытку.
Светлана из всего разнообразия мест и профессий отдала предпочтение универмагу, а точнее, тому его отделу, где продавались телевизоры, радиоприемники, всякие проигрыватели и то, что на них проигрывается. Она стала продавцом пластинок и магнитофонных лент, потому что неплохо разбиралась в этой области благодаря общению с Лешей.
У Светланы с поступлением на работу появилось много новых знакомых, но единственной подругой оставалась верная ей Галя, а единственным поклонником, которого она признавала достойным, — Леша Дмитриев. Втроем они ходили в кино раз в неделю непременно, а иногда и два, и немного реже — в театр. В одном и том же составе собирались то у Леши, то у Светланы и гораздо реже у Гали, потому что, как объясняла смущенно Галя, ее мама была очень нервной женщиной и с трудом переносила присутствие посторонних в доме, а громкую музыку не переносила совсем. Меж тем главным удовольствием домашних сидений неразлучной троицы служила именно громкая музыка и не менее громкие споры о ней. Отец Гали, которого Светлана и Леша видели всего один раз, да и то мельком, работал в каком-то научно-исследовательском институте и одновременно на каком-то заводе — на каком, Галя не уточняла — и сверх всего преподавал в политехническом институте. Следовательно, он был очень занятой человек и домашний покой ценил превыше всего.
Леша удивлялся, что у Гали нет парня. Он-то замечал, какие взгляды бросают на нее и молодые и пожилые мужчины на улице и в фойе кинотеатров. Однажды он попробовал поострить на этот счет, но получилось довольно неудачно, и Светлана сделала ему выговор, сказав, что напрасно мужчины полагают, будто такие девушки, как Галя, созданы только для того, чтобы всегда идти навстречу их желаниям. Больше этот вопрос между ними не обсуждался.
Зима прошла незаметно, потому что к кино и театру прибавились лыжи и коньки. Зима принесла Леше успех: однажды Светлана все же смилостивилась и разрешила ему поцеловать ее — это случилось при прощании в подъезде, когда они, усталые, пришли с катка, где бегали без перерыва часа два.
Такова предыстория того, что произошло в весенний день 1971 года…
Назавтра, в субботу, у Светланы был выходной.
Вечером по пути домой она позвонила по телефону-автомату Гале Нестеровой и сказала, что их прежде намеченные планы — поехать завтра с Лешей в Кленовую горку — отменяются. Светлана не стала вдаваться в подробности, сказала только, чтобы Галя ждала в одиннадцать у почтамта.
У Светланы шевельнулись угрызения совести оттого, что придется обмануть Лешу, но она тут же подумала, что ничего страшного в этом нет: невелика беда — один раз нарушить обещание. В конце концов между ними всего лишь простая дружба — во всяком случае, ей смешно говорить о любви.
ГЛАВА 2 Проба фотоаппарата
Вера Сергеевна успела съездить на рынок за редиской и зеленым луком, когда Светлана проснулась. Накануне они легли спать позже обычного: Светлана пожелала немного переделать свое любимое платье — синее, с черным поясом, — изменить фасон воротника. Но сама она портновским искусством не владела. Как всегда: «Мама, пожалуйста…» — Вставай, вставай, надо платье гладить! — крикнула из кухни Вера Сергеевна. — У тебя лучше получится, — отозвалась Светлана. Иного ответа Вера Сергеевна и не ждала, это было в порядке вещей и не сердило ее. Она с удовольствием делала для дочери все, что могла и умела. Пока Светлана умывалась и причесывалась, Вера Сергеевна приготовила завтрак. — Далеко ли собираешься? — спросила она у дочери, когда сели за стол. — Пойдем с Галей посидим где-нибудь в летнем кафе, мороженого поедим. Светлана с недавних пор взяла за правило говорить матери не все. Нет, она не врала впрямую никогда. Она просто не договаривала. Так ей было удобнее — не возникает лишних вопросов. Она уже решила, что на свидание к итальянцу пойдет и что скорее всего они отправятся в летнее кафе-мороженое, но зачем сообщать матери, что, кроме Гали, будет иностранец? — Кажется, ты должна встретиться с Лешей? — Я уже договорилась с Галей, в одиннадцать увидимся у почтамта. Это тоже была и не ложь и не вся правда. Между прочим, Леша должен зайти к ним именно в одиннадцать, так что следовало поторопиться с глажением платья; чтобы не встретиться с Лешей, ей надо убраться из дому не позже как в половине одиннадцатого. Светлана быстро проглотила яичницу с колбасой и салат, запила крепким чаем, встала из-за стола и бодро объявила: — Ма, я к твоим услугам! — Включи утюг, постели одеяло, достань тряпочку. В начале одиннадцатого все было готово. Светлана оделась. — Как я, ма? Вера Сергеевна закурила — в последнее время она предпочитала «Беломор». — Повернись… Так… Прекрасно… — Дай твои часики. Вера Сергеевна принесла свои золотые часы на золотом браслете — подарок мужа, — сама надела их на руку дочери, и Светлана, поцеловав ее в щеку, ушла. А минут через пятнадцать в квартире раздался звонок. Вера Сергеевна открыла дверь. Перед нею стоял Леша. На груди у него висел фотоаппарат в новеньком чехле, в правой руке — большой белый рулон плотной бумаги. Светлобровое веселое лицо его, как говорится, сияло. — Здрасьте, Вера Сергеевна! Света дома? — Доброе утро, Алешенька. А она, знаешь, исчезла. Сияние пропало. — Давно? — Да буквально сию минуту. — Вот те раз! И ничего не сказала? — Сказала, с Галей встречается. Возле почтамта в одиннадцать. Я про тебя напомнила, она говорила, будто у вас на сегодня назначено, а она словно мимо ушей пропустила. Да ты заходи, что же на пороге? Леша совсем нахмурился. — Да нет, я пойду. А она не сказала, куда они с Галей? — Мороженого захотелось. Наверное, посидят где-нибудь в кафе на открытом воздухе. Погода сегодня прекрасная. — Как же так? Мы ведь втроем собирались… — Ну, не расстраивайся, куда она денется? Леша постучал пальцем по аппарату. — Вот вчера купил, хотел ее сфотографировать. — Еще успеешь, лето только начинается. — Ну ладно. — Он протянул ей рулон. — Это она просила. Их стенгазета. Я заголовок написал. Вера Сергеевна испытывала перед Лешей неловкость за Светлану. Чтобы как-то его утешить, она развернула рулон, посмотрела на крупно выведенный красным заголовок: «За культурное обслуживание». — Как ты хорошо сделал! — сказала она. Но это его мало утешило. — Ладно, извините. Вера Сергеевна. — И, прыгая через три ступеньки, оставив ее на пороге перед открытой дверью, Леша сбежал по лестнице вниз… Погода стояла действительно отличная. Все уже были одеты по-летнему, даже детишки. Двор звенел от детских голосов и от щебетания птиц. Небо было голубое. Свежая зелень каштанов, длинным строем стоявших на соседней улице, видной со двора, была усыпана толстыми белыми свечечками. Они светились на ярком солнце. Но именно от всего этого Леше стало еще хуже. Щурясь, он оглядел ряды скамеек, на которых сидели старушки, играющих в «классы» девчонок на асфальтовой площадке, а потом остановил взгляд на сбившихся в кучку мальчишках, горячо обсуждавших что-то. Среди них он заметил Витьку-шестиклассника, озорного и шустрого соседа своего по лестничной клетке. Витька, если бы его не отшивать, был бы вечным хвостом Леши, так бы за ним и ходил. Он был предан Леше самозабвенно, и в основном, конечно, не потому, что Леша частенько снабжал его двугривенным на кино, а потому, что проявил к нему колоссальное доверие, взяв в помощники, когда собирал из ничего свой мотоцикл Иж. Леша сошел со ступенек подъезда и крикнул не очень громко: — Витек! Тот услышал мгновенно и через секунду стоял, запыхавшийся, перед Лешей, глядя на аппарат. — Здорово, Леша! Будем сниматься? — Ты Светку сейчас не видал? — Не-а! А она тебе нужна? — Раз спрашиваю, значит, нужна. Витек сразу угадал настроение своего благодетеля и шагал молча. А Леша раздумывал, где вернее всего искать захитрившую Светку. Прошлым летом они пять или шесть раз ходили в разные кафе, но больше всего ей понравилось кафе «Над рекой», которое называлось так потому, что находилось в парке на высоком берегу реки, откуда далеко-далеко было видно низкое, все в озерцах и рощах, заречье. Но туда от их дома ехать и ехать, так же как и от почтамта, где, если не соврала, Светка должна встретиться с Галей. Поэтому Леша решил начать от печки — от почтамта — и следовать оттуда в сторону реки. А меж тем подруги, обсудив вопрос, выбрали для беседы с Пьетро Маттинелли именно кафе «Над рекой», куда от улицы Тургенева, то есть от места встречи с ним, на автобусе всего три остановки. Добравшись до конечного пункта своих поисков, Леша нашел тех, кого искал. Кафе «Над рекой» было уютное местечко. Посреди большой поляны, по которой в естественном беспорядке раскиданы кусты барбариса и сирени, круглый деревянный павильон под шатровой крышей, с большими разноцветными окнами. Его опоясывает широкая дорожка из белого речного песка, на которой стоят близко друг к другу круглые мраморные столики, а у каждого столика по четыре светлых плетеных кресла. И почти ни одного пустующего. И все это взято в кольцо каштанами и покрыто голубым небом. На столике, за которым сидели Светлана, Галя и Пьетро, сверкало под лучами солнца стекло — стаканы и бокалы, бутылка шампанского и бутылки с лимонадом. Первая скованность, обычная между малознакомыми людьми, когда они только-только приступают к застолью, уже прошла. Но все же беседа пока состояла из тех стандартных вопросов и ответов, какие на всех континентах, на всех широтах и долготах типичны при общении иностранных туристов с местными жителями. Разница лишь в том, что Пьетро Маттинелли, как он сообщил Светлане еще тогда, в универмаге, был не турист, а приехал в СССР работать. — Вы впервые в Советском Союзе? — спросила Галя. — Да, — ответил Пьетро. — Нравится вам наш город? — О, конечно! Очень красивый. Удобно жить. — А что вам больше всего понравилось, Пьетро? — Это уже Светлана, доевшая свою порцию мороженого — первую порцию. — Конечно, девушки! — с улыбкой воскликнул он и добавил; — Вы хотели услышать, что я скажу: метро? Нет, оно тоже хорошее, но мне больше нравятся девушки. Тут последовало отступление от туристского стереотипа. — У вас было много знакомств? — спросила Светлана с еле уловимой издевочкой, которую, впрочем, Пьетро без труда уловил. — Очень много, — делая вид, что не понял истинного смысла ее вопроса, сказал он. — Там, где я работал, все были мои друзья. — А где вы работали? — поинтересовалась Галя. — Это называется химкомбинат. Он теперь построен. Вы слышали? — Да, об этом писали в газете, показывали по телевизору. — Я тоже строил. Монтировал аппаратуру. Один год. — А что это за комбинат? — Будет делать разные удобрения для сельского хозяйства. — Понятно, — сказала Светлана и обратилась к Гале: — Пьетро завтра уезжает. Не так ли, Пьетро? — Да, к сожалению, — с неподдельной грустью сказал он. — Между прочим, мои коллеги на работе звали меня Петр, Это мне нравится. — Вы прекрасно научились говорить по-русски, — заметила Галя. — Старался. Я начал изучать русский язык, еще когда был студентом. — А где вы учились? — В Милане. Там я живу. — У вас большая семья? — Папа, мама, сестра и я. Но… — Пьетро показал пальцем на стоявший у него под рукой маленький магнитофон, — Ему скучно слушать, он обо мне все уже знает. Давайте поговорим что-нибудь интереснее. — Например? — спросила Светлана. — Например, о вас. — Ну, что тут интересного! Нигде мы не были, ничего не видели. — Как говорится по-русски, у вас все еще впереди. — Он замялся на секунду, а потом обратился к Светлане: — Ваш голос теперь у меня есть, но если я попрошу ваш автограф?.. — Ну что вы, Пьетро! — Светлана засмеялась. — Я же не Ирина Роднина. — Вы могли бы когда-нибудь написать мне открытку? — Это можно. Пьетро достал из кармана кожаный бумажник, а из него две визитные карточки. — Пожалуйста. Светлана и Галя взяли каждая по карточке и положили их в сумочки. — Полагается обмен, — сказал Пьетро. — У нас нет визиток. — Тогда я запишу ваш домашний адрес. Светлана и Галя переглянулись, и Светлана сказала: — Если захотите написать, посылайте на универмаг. — Но я даже не знаю фамилию. — Он был, кажется, задет. — Сухова. Светлана Алексеевна. Пьетро показал на магнитофон. — Он уже записал. А можно мне что-нибудь прислать вам в подарок? — Что вы, что вы! Зачем?! Лучше приезжайте сами. — Я все-таки пришлю. Мне нравится сделать вам приятное. …Вот в этот момент глазастый Витек и увидел из-за кустов Светлану. — Так вон же твоя Светка, — показал он рукой оглядывавшему столики Леше. — Там не наш какой-то… Леша не мог измениться в лице по той простой причине, что и так уж был мрачен дальше некуда. Он расчехлил фотоаппарат. Прячась за кустами, они с Витьком подобрались к столику Светланы поближе, метров на пятнадцать. Тут Леша приготовил аппарат к съемке — поставил диафрагму на одиннадцать, скорость на сотку, снял с объектива колпачок. Куст, за которым они стояли, был не очень густой, Леша нашел окошечко в ветках, навел на резкость, но в такой позиции нужный кадр не получался. Ему пришлось выйти из-за куста, чтобы щелкнуть, при этом в кадр попал и соседний столик. Он тут же опять спрятался и стал менять диафрагму и выдержку. Это была проба аппарата и его первая в жизни съемка, хотя руководства по фотографии он и читал. Для верности и самопроверки надо было сделать несколько дублей. Но повторить съемку не удалось. Едва все было готово, к ним откуда-то сбоку подошел какой-то невысокий дядя — Леша не успел его толком разглядеть, — показал книжечку-удостоверение и сказал шепотом: — Здесь нельзя фотографировать. Леша удивился: — Это почему же? — Я вам говорю, молодой человек, здесь снимать нельзя. Прошу, засветите пленку! — Еще чего! — разозлился Леша. Витек показал дяденьке довольно грязную и потому особенно выразительную фигу, дернул Лешу за рукав, и они, лавируя между кустами, убежали с территории кафе. — Леш, давай им устроим веселую жизнь, — деловито предложил Витек, когда они вышли на аллею, ведущую к автобусной остановке. — Да гори она огнем, — застегивая чехол фотоаппарата, сказал Леша, — Айда домой. Они долго шагали молча, потом Леша произнес непонятные для Витька слова: — Ну я ей сделаю стенгазетку… Ха! Культурненько обслуживают! — Какую стенгазету? — удивился Витек. — Не вникай. — И Леша дал ему щелчка в макушку… Галя, Светлана и Пьетро сидели в кафе до трех часов, потом отправились пешком в центр и пообедали в ресторане, а потом пошли в кино на сеанс 18.30, но до конца не досидели — фильм оказался скучный. Когда вышли из кинотеатра, возникла проблема: Пьетро во что бы то ни стало хотел проводить девушек домой — сначала, предлагал он, вместе со Светланой они проводят Галю, а потом он проводит Светлану. Девушки настаивали на том, чтобы они проводили Пьетро в гостиницу «Москва». Спор был решен простым голосованием, и победило большинство. Так как Пьетро на следующий день действительно улетал в Италию и так как он по-настоящему понравился и Светлане и Гале, прощание было долгим. Обещали не забывать друг друга, писать, а Пьетро несколько раз повторил, что обязательно приедет опять как можно скорее. В избытке чувств Пьетро порывался надеть Светлане на палец свое кольцо с каким-то неизвестным камнем, и ей стоило больших усилий образумить итальянца. Наконец они расстались. Галя поймала такси. Она завезла Светлану — та вышла за квартал от своего дома. Было десять часов. Светлана шла по двору не спеша, как бы прогуливаясь. Леша сидел на скамейке с двумя приятелями, ждал ее. Когда она с ними поравнялась, он встал, хотел взять ее за руку, но она отстранилась. — С иностранными красавчиками гуляем? Сбылись мечты, да? — сказал он. — Отелло рассвирепело, — насмешливо ответила она. — А тебе-то что? — Ну смотри, ты у меня догуляешься. Она скрылась в подъезде. Еще никогда в жизни не испытывал Леша такой тоски.ГЛАВА 3 Агент-болван и Бекас
Чтобы избежать кривотолков, надо сразу объяснить, что слово «болван» употреблено здесь не в смысле дурак, тупой человек. У этого словечка есть еще множество других метафорических, переносных значений. Например, когда вместо чего-то делали его подобие, это называлось в народе болваном, а теперь зовется макетом. История шпионажа насчитывает немало случаев, когда секретные службы разведцентров, засылая во вражеский стан какого-нибудь разведчика с важной миссией, одновременно другим путем, по другим каналам отправляли еще одного или даже нескольких своих людей, которые, не ведая про то, в результате иезуитских действий своих хозяев привлекали к себе внимание вражеской контрразведки. Она попадалась на удочку и отвлекала силы на борьбу или игру с подкинутым ей шпионом, а в это время настоящий разведчик без особых помех делал свое дело. Такие липовые, или, точнее, вспомогательные, шпионы и назывались агентами-болванами. В нашем случае речь пойдет об агенте-болване, но несколько иного рода. Дело касается уже знакомого нам человека по имени Владимир Уткин, который отдал Тульеву свой контрольный талон, дающий право подняться на борт лайнера, а сам остался. Произошел, так сказать, простой обмен, правда, неравноценный. Уткин с Тульевым поменялись не только судьбами, но и плащами. В кармане плаща, который надел Уткин, лежал билет на самолет, следующий рейсом до Москвы, а также бумажка с адресом и начерченным чернилами планом городских улиц, на котором крестиком был помечен дом под номером 27. Этот план и адрес относились к городу С. Туда и отправился, сделав в Москве пересадку, Владимир Петрович Уткин, тридцатилетний человек, самой обыкновенной наружности, среднего роста, русоволосый, с голубыми глазами. Документы у него были в полном порядке. Но и в противном случае провал и арест не грозили ему, ибо он с первого шага на советской земле находился под надежным присмотром советских контрразведчиков. В военном билете Уткина значилось, что он старшина сверхсрочной службы, по специальности связист, уволен из армии в запас. Служил он на Дальнем Востоке, затем полгода прожил там как гражданский, выписался, снялся с воинского учета и подался поближе к центру, к Москве. Он холост и вообще одинок, никого из родных у него нет. В городе С. первым долгом Уткин пошел на городскую телефонную станцию, в отдел кадров, и справился насчет работы. Известное дело, к тем, кто пришел после службы в армии, отношение особое. Они везде самые желанные люди. К тому же Владимир Петрович Уткин отменно разбирается в слаботочной аппаратуре. Ему предложили должность техника на одном из телефонных узлов. Он тут же и оформился — и справки и фотокарточки у него при себе. Хуже было с жильем — Уткину пока и в отдаленном будущем ничего предложить не могли. Но он не огорчился — снимет где-нибудь комнату или угол, как-нибудь перебьется. Затем он отправился в военкомат и встал на воинский учет. Тем, кто с ним общался в городе С. в первые дни, Уткин представлялся спокойным, выдержанным человеком. Но казаться таким дорого ему стоило. Нервы его были напряжены до предела: когда он предъявлял документы и разговаривал с советскими официальными лицами, проходила решающую проверку вся его подготовка, вершилась, собственно, вся его судьба. И вот он проверку прошел и вздохнул свободно. Переночевав всего одну ночь в гостинице (не в номере, конечно, а на диване в холле), он на следующий день через гардеробщика гостиничного ресторана узнал адрес одного старичка, жившего на окраине в стареньком доме и пускавшего к себе жильцов. Уткин поехал к нему, и дело сладилось в пять минут. У старичка были две крохотные, метров по восемь, комнаты, кухня с газовой плитой. Запросил он двадцать рублей в месяц, Уткин не торговался. У него наличными имелось три тысячи, да книжка на предъявителя на четыре тысячи, — сберкнижка была московская. Через неделю Уткин приступил к работе. А до того успел обзавестись новой кроватью, шкафом, постельными принадлежностями и всем необходимым одинокому человеку. Хозяин, Василий Максимович, охотно согласился взять на себя покупку продуктов для завтраков и ужинов и исполнять обязанности повара. Описывать повседневную жизнь Владимира Уткина неинтересно, да в этом и нет нужды. Советским контрразведчикам, работавшим под руководством полковника Владимира Гавриловича Маркова, который вел всю операцию по делу резидента Надежды, то есть Михаила Тульева, важно было одно — выявить цели и намерения нового агента, засланного на нашу территорию, но, судя по тому, как вел себя Уткин, он собирался пустить в городе С. глубокие корни, а следовательно, ждать от него каких-то активных действий не приходилось. Лакмусовой бумажкой служила портативная рация, замаскированная под обычный приемник «Спидола», которая когда-то была доставлена из-за рубежа для Михаила Тульева и которую он спрятал в ящике с песком на чердаке дома № 27 по улице Златоустовской, — этот-то дом и был помечен крестиком на плане, переданном Уткину Михаилом Тульевым. День шел за днем, неделя за неделей, а Уткин и не думал проведать чердак и хотя бы убедиться, что рация в сохранности. Значит, пока она ему не нужна. А коли так, значит, и он пока своему разведцентру не нужен. Если агент ведет жизнь обыкновенного советского человека и если ему нет надобности держать связь со своими шефами, следовательно, такой агент поставлен, что называется, на консервацию. Да, в нашем случае слово «болван» употреблено в другом его значении. Есть такие карточные игры, для которых строго обязательно определенное число игроков. Но когда не хватает одного, играть все-таки можно. На отсутствующего карты сдают и за него делают ходы. Это называется игра с болваном. Похоже было, что началась какая-то новая игра, и Владимир Уткин исполнял в ней пока роль болвана. Положение капитана госбезопасности Павла Синицына, который для разведцентра был вором-рецидивистом по кличке Бекас (многовато птичьих фамилий собралось, да что поделаешь? Там дальше еще и Воробьев появится и Орлов), числился агентом, жившим теперь в Советском Союзе под именем Павла Ивановича Потапова, было еще более непонятным и неопределенным, а в некотором отношении и необычным. Перед отъездом за рубеж Михаил Тульев получил радиограмму, в которой было такое указание:«ОБУСЛОВЬТЕ С БЕКАСОМ СВЯЗЬ, ПРЕДЛОЖИТЕ ЕМУ ВЫЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД, ЖЕЛАТЕЛЬНО В СИБИРЬ».Но Павел-Бекас обосновался в городе Н. на Волге. От этого города поездом до Москвы была ночь езды. Разведцентр еще ранее поставил одно условие, которое Бекас обязывался соблюдать неукоснительно: он ни при каких обстоятельствах не имел права возвращаться к старому способу добывания денег. Двойственность положения Павла-Бекаса создавала неудобства. С одной стороны, необходимо было всегда иметь в виду, что разведцентр, так и не пожелавший пока облечь Бекаса своим полным доверием, в любой момент может организовать проверку (как это уже бывало в прошлом), живет ли его агент в обусловленном месте. Значит, Бекас обязан был прописаться в городе на Волге. Разумеется, это не составляло проблемы. Он нашел подходящую комнату и прописался. С другой стороны, было бы крайне нерационально сидеть Павлу в этом городе совершенно без всякого дела и ждать связи от разведцентра неизвестно сколько времени. Необычность же гражданского, так сказать, состояния Павла заключалась в том, что по соображениям конспирации он лишен был возможности свободно и открыто общаться со своим начальством и даже с родной матерью. Встречи, как и прежде, происходили на загородной даче, куда Павел добирался с необходимыми предосторожностями и где иногда жил по целым неделям. При совещании с полковником Владимиром Гавриловичем Марковым рассудили так. Если разведцентр поставил Бекасу условие раз в месяц проверять, нет ли для него корреспонденции до востребования, и не требовал ничего другого, значит, местожительство Бекаса рассматривается только как почтовый ящик, а не место его постоянного пребывания. А значит, нечего Павлу торчать в этом городе и проводить время в праздности. Таким образом, Павел получил возможность принимать участие в повседневной работе отдела, которым руководил полковник Марков, и исполнять поручения по другим операциям. Ежемесячно в разные дни он отправлялся в город на Волге, но девушка на почте, выдававшая письма до востребования, неизменно отвечала, что на имя Потапова ничего нет. Создавалось впечатление, что разведцентр вычеркнул Бекаса из своих списков действующей агентуры. Единственным напоминанием о его недавних взаимоотношениях с Центром была половинка неровно разорванного рубля, который ему вручили когда-то как пароль. Признаком того, что состояние летаргии не будет вечным, послужила внезапная активность Уткина: в мае 1971 года (именно в то время, когда Светлана Сухова и ее подруга Галя Нестерова познакомились с итальянским инженером Пьетро Маттинелли, точнее — через две недели после этого) он вдруг отправился на Златоустовскую улицу в дом № 27, на чердаке которого в пожарном ящике с песком была спрятана рация, имевшая вид обыкновенной «Спидолы». Уткин взял ее к себе домой. Ждали, что он будет налаживать радиосвязь с разведцентром. Но Уткин в эфир не выходил. Вероятно, работал только на прием. Жил Владимир Уткин скромно, не пил, не шиковал. У него образовались прочные знакомства с несколькими людьми, среди которых была одна миловидная женщина лет тридцати, недавно разошедшаяся с мужем, к ней Уткин питал чувства более чем дружеские и, кажется, пользовался взаимностью. Вся жизнь Уткина была на виду, все было известно, ибо он находился под наблюдением. Но есть вещи, которые очень трудно, а иногда просто невозможно проконтролировать. Уткин ходил ремонтировать телефонные аппараты по вызову абонентов. В иной день таких вызовов выпадало на его долю до полутора десятков. Контрразведка нашла способ установить, что посещения Уткиным абонентов никаких побочных целей не имели — явился, починил, получил на лапу полтинник или рубль (а нет — и на том спасибо) и откланялся. Так что в дальнейшем Уткин общался с владельцами телефонных аппаратов бесконтрольно. Впоследствии обнаружилось, что он употребил эту возможность в интересах дела, ради которого его заслали в Советский Союз. После того как Уткин изъял рацию из тайника, он начал искать, где бы купить радиоприемник «Спидола». В магазине Уткин не стал бы покупать. Тому было две причины: во-первых, ему требовалась подержанная «Спидола», чтобы внешне она походила на ту, в которой была заключена рация, а во-вторых, приобретение приемника должно быть тайным, чтобы никто из посторонних не мог знать, что у Владимира Уткина есть две «Спидолы», по виду одинаковые. Уткину повезло. Однажды он был послан для починки телефона на квартиру, в которой, как он убедился, едва переступив порог, жил великий любитель транзисторной радиотехники. Комната, где стоял телефон, была начинена самыми разнообразными и притом новейшими приборами для улавливания и воспроизведения звуков. Тут были и немецкие «грюндиги», и голландские «филиппсы», и японские «сони». И среди всего этого эбонитово-хромированного великолепия, скромно приткнутая под письменным столом, стояла старенькая «Спидола» в корпусе цвета слоновой кости. Хозяин этой квартиры, принявший Уткина, был человек немолодой, но заметно молодящийся. Уткин быстро исправил аппарат, от рубля протянутого ему хозяином, отказался и, вроде бы уже уходя, с легкой завистью заметил: «Машинки у вас дай бог всякому». Хозяин был польщен, а следовательно, с готовностью развивал затронутую тему. Через десять мину «Спидола» перешла в собственность Уткина за смехотворно малую сумму — двадцать пять рублей. Уткин рассовал инструмент и запасные детали по карманам, чтобы освободить в чемоданчике место, уложил «Спидолу» и, расставшись с хозяином, как с лучшим другом, поехал домой. Эта тайная покупка, как выяснится позже, имела очень важное значение.
ГЛАВА 4 «Тихоскончался»
Прежде чем приступить к последовательному изложению дальнейшего, необходимо рассказать об одной акции, осуществленной Михаилом Тульевым несколько раньше. Вскоре по возвращении из Советского Союза в Центр ему дали трехнедельный отпуск, и он отправился во Францию. …Небольшой городок, куда теплым летним утром приехал Михаил Тульев, взяв напрокат «ситроен», лежал в местности, располагавшей к отдыху. Но приехал он в этот городок совсем не для того, что бы отдыхать. То, чем он занимался, называется частным сыском. Ему хотелось выяснить обстоятельства смерти отца, и он знал, что не успокоится, пока не откроет всю правду. Михаил и раньше подозревал, что слова в некрологе его отца «тихо скончался» — не более чем благопристойный штамп, призванный скрыть истину. В Москве полковник Марков показывал ему добытый каким-то неведомым путем фотоснимок автомобильной катастрофы, на котором в одной из жертв Михаил узнал своего отца. Тогда был разговор, что катастрофа, безусловно, подстроена. Но позже, уже перед отправкой в Одессу, Михаил попросил Маркова еще раз показать снимок и, хорошенько рассмотрев его, усомнился — отец ли лежит рядом с исковерканным автомобилем… По прибытии Михаила в Центр некий болтливый старый знакомец как-то во время долгого сидения за столиком в ресторане намекнул, что Одуванчик, то есть отец Михаила граф Тульев, умер не своей смертью. Позже, уже в Париже, пообщавшись со знакомыми из древней российской эмиграции, наслушавшись двусмысленных соболезнований, Михаил разыскал человека по прозвищу Дон, которого разведцентр завербовал еще лет двадцать назад, но который по складу души не походил ни на агента, ни на провокатора и который относился к ним обоим, отцу и сыну Тульевым, с большим уважением и даже с поклонением, потому что Тульев-старший однажды заступился за него перед высоким начальством. Этот человек определенно утверждал, что старика убрали. Нет, он не имел никаких доказательств, но за две недели до смерти Тульев заходил к нему в бар, был бодр и как будто бы даже помолодел с тех пор, как ушел в отставку. Выпил две рюмки коньяку, а прощаясь, подмигнул и весело сказал: «А у тебя здесь хорошо. Буду захаживать…» По официальной версии, Александр Николаевич Тульев скончался от острой сердечной недостаточности. Для человека, которому перевалило за семьдесят, — ничего удивительного, но Михаил-то знал, что у отца сердце всегда работало как хороший мотор, и он помнил не единожды говорившиеся слова: «Нет, сын, если я и умру, то, к сожалению, не от сердца. От печени — может быть, хотя, видит бог, пил я всегда умеренно…» В Париже ничего толкового добиться было невозможно, поэтому Михаил и отправился в маленький городок, где отец жил последние два года. Это жилище по-московски можно было бы назвать дачей, скорее даже домиком на пригородном садовом участке. Дом деревянный, простой, но с изюминкой: три ступеньки крыльца — из белого мрамора. Такое впечатление, что не крыльцо пристраивали к дому, а дом к крыльцу. Михаил с грустью подумал, что, вероятно, эти мраморные ступени напоминали отцу его дом в Петербурге, — ничем иным нельзя было их объяснить. Дверь была заперта на два внутренних замка, ставни на окнах — как конверты с сургучными печатями: на висячих замках. Михаил обошел дом вокруг, посматривая исподлобья на уже отцветшие яблони. Завязей было совсем мало, и вообще сад производил впечатление заброшенности. Михаил отправился в мэрию, и там тщедушный старенький чиновник сообщил ему, что дом, принадлежавший мсье Тульеву, по завещанию, составленному покойным, принадлежит его сыну. У Михаила не было при себе документов, свидетельствовавших, что он Тульев-младший, поэтому пришлось прибегнуть к безотказному средству — вульгарной взятке, чтобы получить ключи от дома: ему нестерпимо хотелось взглянуть на последнее прибежище отца… Он ожидал ощутить дух тлена, но в комнатах и на кухне царил тот особенный порядок, который присущ квартире аккуратного холостяка, привыкшего ухаживать за собой без посторонней помощи. Даже пыли было совсем мало — словно протирали тут всего не более как неделю назад. В маленьком баре под телевизором стояло несколько початых бутылок и фужер на короткой ножке. Никаких бумаг, кроме оплаченных счетов за электричество и рекламных проспектов, Михаил в доме не нашел. Это было странно: он знал, что отец даже стихи тайком пописывал. Естественно, те, на кого отец столько лет работал, не могли оставить на произвол судьбы его архив, но забрать все до последнего листика — это уж; чересчур. Кто-то явно перестраховывался… Михаил покинул дом, заперев его на оба замка. Странное чувство владело им: словно человека обокрали, но что именно унесли — он еще никак не сообразит… Скорее машинально, чем по зрелом размышлении, он отправился искать судебно-медицинского эксперта, который согласно заведенному правилу обязан был составить свидетельство о смерти Александра Тульева. Но прежде надо было прочесть своими глазами это свидетельство, и Михаил обратился за советом к уже знакомому чиновнику мэрии, а тот свел его с чиновником службы записей актов гражданского состояния. Еще сто франков, и в руках у Михаила быстро появилась бумага, в которой было написано, что Александр Тульеа, семидесяти четырех лет, умер от кровоизлияния в мозг по причине обширной травмы правой височной области черепа, каковая травма могла явиться результатом падения и удара об острый край мраморной ступеньки крыльца, возле которого обнаружен труп. Отчего произошло падение, в акте сказано не было. Далее следовало пространное доказательство, что конфигурация раны полностью совпадает с конфигурацией закраины нижней ступеньки. Михаил спросил у чиновника, где можно найти эксперта, подписавшего это свидетельство, и чиновник сказал, что он работает патологоанатомом в городской больнице. Через полчаса, выпив по дороге чашку кофе в маленьком прохладном кафетерии, Михаил пришел в больницу, но там ему сказали, что интересующий его доктор Астье сидит дома, так как работы для него нет — уже неделю в городе никто не умирал, да к тому же у мсье Астье разыгралась аллергия из-за буйного цветения табака. «Видите, сколько у нас цветов», — прибавила дежурная сестра приемного покоя, протянув руку к окну. По указанному адресу Михаил без труда нашел квартиру доктора Астье. Патологоанатом открыл ему дверь, держа в левой руке носовой платок — у него был насморк, глаза слезились, и даже в полутьме прихожей Михаил заметил, какие красные у доктора веки. Начинать издалека не имело смысла, ибо кому же более чужды всякие покровы, чем патологоанатому, чья специальность — хладнокровно вскрывать человеческое тело и беспристрастно подтверждать или опровергать прижизненный диагноз, поставленный лечившим пациента врачом. Михаил сказал, что он сын покойного Тульева, и начал задавать вопросы. Да, ответил доктор Астье осторожно, он помнит то вскрытие. Сердце? Око было у мсье Тульева как у сорокалетнего. Мозг? Со стороны сосудистой системы и кровоснабжения все обстояло благополучно. Мог ли мсье Тульев упасть оттого, что вдруг закружилась голова? Гм, гм, это уже из области предположений, в которой весьма уверенно чувствуют себя только лечащие врачи, например, терапевты или психиатры, но для патологической анатомии в этой сфере подвизаться категорически запрещено… Они сидели в кабинете доктора — хозяин за столом, Михаил в кресле, — и после этого иронического ответа у обоих одновременно возникла потребность встать и либо закончить разговор, либо сделать его еще более откровенным. — Скажите, доктор, — поднявшись, спросил Михаил, — мог человек получить такую рану, просто упав виском на ступеньку? — Ваш отец был высокого роста, — уклончиво ответил доктор. — Он выше вас… Михаил рискнул: вынул из кармана портмоне и положил его на стол. — Вы можете рассчитывать на мое молчание, — сказал он, глядя прямо в слезящиеся глаза доктора. — И на мой кошелек тоже. Астье усмехнулся. — Немедленно уберите это. Или, прошу прощения, уходите сейчас же. Михаил поспешно спрятал портмоне. — Извините, дурная привычка. — Что вас привело ко мне? — отрывисто произнес доктор. — Конкретно! — Умоляю, скажите: он действительно упал? — Я не могу этого знать. — Но характер раны… — Люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, и расшибаются насмерть… — Я внимательно прочел свидетельство о смерти, — сказал Михаил, опуская взгляд. — Рана описана очень подробно… — Вы врач? — Нет. Но мне сдается, что отец мог упасть и не сам. Он не поскользнулся на банановой кожуре… Доктор отвернулся к окну и спросил тихо: — Мой адрес вам дали в больнице? Михаил почувствовал, что лед сломан. — Да. Но я повторяю: вы можете быть уверены в моем молчании. — Ну, все равно… В общем, вашего отца, возможно, кто-то ударил в висок тяжелым предметом. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Однако насчет конфигурации раны в черепе и конфигурации ступеньки в акте все верно. Большего от меня не ждите. — Спасибо, доктор! — Не стоит благодарности. Будьте здоровы, и вы меня не видели. …Михаил так и не понял, какими мотивами руководствовался доктор Астье, сделав ему это осторожное, но немаловажное признание. Может, просто заговорила совесть? Как бы там ни было, спасибо патологоанатому… Михаил решил поспрашивать обывателей, и в первую очередь тех, кто жил неподалеку от дома отца. Ничего существенного выудить не удавалось, пока он не поговорил с агентом компании по продаже недвижимости, который жил почти напротив, чуть наискосок. Агент этот вспомнил, что незадолго до смерти старика видел возле его дома какого-то человека лет тридцати — тридцати пяти, одетого в рабочий комбинезон, с чемоданчиком в руке. Мсье Тульев был тогда в отъезде, агент это знал и потому позволил себе войти в усадьбу и поинтересоваться, что нужно пришельцу. Тот ответил, что промышляет ремонтом частного жилья и ищет подходящую клиентуру вот таким простейшим образом — обходит виллы и смотрит, нет ли кандидатов на капитальный или профилактический ремонт. Агент по продаже недвижимости вполне удовлетворился этим объяснением, но посоветовал не искать работу в городе: уж он-то знал, что дома богатых владельцев в ремонте пока не нуждаются, а у владельцев бедных нет на ремонт лишних денег. С тем они и разошлись. У Михаила после этой встречи возникло предположение, что так называемый ремонтник приходил неспроста: он мог сделать слепок с закраины мраморной ступеньки. Если так, то тут работали наверняка профессионалы высокой марки. Центр своими руками не стал бы убирать отца — это не в их стиле. Им проще нанять убийцу в одном из тайных синдикатов, занимающихся по заказу ликвидацией людей. Вернувшись в Париж, Михаил вновь обратился за помощью к Дону, рассказав ему обо всем, что удалось узнать. Тот обещал помочь, и Михаилу ничего не оставалось делать, как поселиться в тихом маленьком отеле и заняться чтением книжных новинок. К концу второй недели нетерпеливого ожидания Дон позвонил ему по телефону и сообщил, что есть новости, но в баре встречаться нежелательно. Михаил пригласил его к себе в отель. — Я так и думал, — сказал Дон с порога не то чтобы мрачно, но довольно угрюмо. — Что именно? — Михаил показал рукой на кресло у столика. Дон сел. — Что ты узнал? — Ты слыхал о Франсисе Боненане? Михаил сдвинул брови, припоминая. — Это что-то связанное с Чомбе? — Да. Он украл Чомбе и привез его в Алжир. — И он убил моего отца? Дон поднял руки и воскликнул: — Нет! Нет! — Так при чем здесь Боненан? — Я встречался с одним типом из его компании, и этот тип рассказал любопытные вещи. — Например? — Михаила начинала слегка раздражать эта манера ходить вокруг да около. — Он водил дружбу с человеком по имени Карл Брокман, тоже из их банды, а этот Брокман проболтался ему, что сумел за год заработать семьдесят тысяч долларов чистыми. Помимо работы на Боненана. — Короче — отца убил Брокман? — Скорей всего. — Но при чем здесь Боненан? — А при том, что это такая гнусная публика — тебе придется очень трудно. — Значит, Карл Брокман… — Ну, ты же понимаешь, имена у них у всех весьма условные. Как и у нас. Михаил закурил сигарету, прошелся от столика к двери и обратно, спросил: — Как он выглядит? — Этого мне не рассказывали. Из разговора я только понял, что ему лет тридцать с небольшим. — Где он сейчас? — Тот тип сказал, что его дружок месяца три назад отправился в Лиссабон. — А что там, в Лиссабоне? — Там есть одно агентство по распространению печати, которое ничего не распространяет, а вербует людей для войны в колониях. Михаил посмотрел на Дона с восхищением. Большего за такой короткий срок не могла бы разведать даже Интеллидженс сервис. Работа — высший класс, а подать, расписать ее эффектно Дон не может. Такие, к сожалению, в жизни не преуспеют. Вот когда, наоборот, работы на грош, а краснобайства много, тогда карьера обеспечена… — Чем мне тебя отблагодарить? — спросил Михаил задумчиво. — Подожди, еще ругать будешь, когда встретишься с Брокманом на узенькой дорожке. Михаил улыбнулся. — Ничего. Как зовут твоего осведомителя? — Марк Гейзельс. Он бельгиец. — Прошу тебя. Дон: постарайся уточнить, где Брокман. Сейчас мне до него не добраться, но как-нибудь выкроится время. — Буду стараться. Вообще-то раз уж человек подался наемником в колонии, это надолго, если не подстрелят, конечно. Так что мне не очень трудно будет его разыскать. У меня, сам знаешь, контактов с этими людишками хватает… Дон скоро ушел, а Михаил начал собирать чемодан. Нет, он не забыл, он всегда помнил слова генерала Сергеева: «Месть будет вам плохим попутчиком». Но ничего не мог с собой поделать: он должен найти убийцу отца. Однако его каникулы кончились. Михаил вернулся в Центр.ГЛАВА 5 Положение в разведцентре
За прошедшие годы в разведцентре многое изменилось. Кто-то ушел на пенсию, появились вместо старичков молодые работники, и это вполне естественно. Но были перемены, которые говорили о ненормальности обстановки. Дело в том, что между шефом и его главным советником шла необъявленная война. Шеф, которого сотрудники за глаза звали Монахом, был оскорблен тем непреложным фактом, что его советник Себастьян исполнял при нем обязанности контролера или ревизора и пользовался, так сказать, правом экстерриториальности. Формально он подчинялся шефу, но фактически как бы стоял над ним, ибо отчитывался за свои действия только перед высшим начальством. Монах, конечно, догадывался, что в своих отчетах Себастьян чернил его, но платить той же монетой считал ниже своего достоинства, а в отместку старался при каждом подходящем случае чинить Себастьяну препятствия. В основном это касалось кадровой политики. Если, например, Себастьян намеревался продвинуть кого-то, можно было ставить без риска сто против одного, что Монах не даст хода креатуре своего советника. И наоборот, сотрудник, снискавший чем-нибудь антипатию Себастьяна, автоматически обретал покровительство Монаха. Но бывали исключения, где и Монах вынужден был отступать перед Себастьяном. Положение Михаила было, мягко говоря, щекотливым. После троекратного откровенного допроса, после многочисленных бесед с различными чинами и специалистами, бесед, которые носили характер завуалированного допроса, Михаил составил подробный письменный отчет о своей деятельности на территории СССР и особенно о характере взаимоотношений с Бекасом. Он честно написал даже о том, что во время пребывания в СССР оформил законный брак с советской гражданкой, что у него есть сын Александр и в скобках — домашний адрес Марии, место ее работы и должность. Жена думает, будто он уехал на заработки в районы Крайнего Севера. Он ни разу не допустил оплошности, в его показаниях даже самый придирчивый глаз не смог бы усмотреть ни единого противоречия. И все же Себастьян, надо отдать ему должное, почувствовал к Михаилу недоверие, о чем прямо сказал Монаху. Тот саркастически заметил, что с такой способностью подозревать все и вся надо бы работать не в разведке, а в ФБР — Федеральном бюро расследований. Себастьян проглотил это молча и остался при своем мнении. Монах же всячески старался выразить Михаилу свое расположение. Раньше кадровые вопросы — кого на какую должность поставить, кому какого рода работу поручить — решались единолично шефом. Теперь же, с тех пор как Себастьян стал советником, он имел право оспаривать решения Монаха, и при возникновении между ними разногласий арбитром выступала высшая инстанция — управление, которому подчинялся разведцентр. Там у Себастьяна были связи, поэтому не считаться с ним Монах не мог. Таким образом, получилось, что Михаил невольно сделался виновником нового обострения отношений между шефом и его твердокаменным советником. Монах намеревался поставить Михаила во главе отдела, занимавшегося подготовкой агентуры для Востока. Себастьян резко возражал. В конце концов было принято компромиссное решение, и Михаила назначили консультантом в этот отдел. В его обязанности входила корректировка планов подготовки и засылки агентов в Советский Союз. Себастьян, лично курировавший деятельность отдела, поставил условие, чтобы Михаил не имел прямого контакта с агентами, для которых отрабатывал легенды. Более того, Михаил не всегда мог знать, когда и как используются его советы и используются ли они вообще. Ему, скажем, сообщались исходные данные — профессия, возраст, штрихи биографии, а он должен был, основываясь на своем знании быта и обычаев, подобно романисту, во всех мельчайших деталях расписать будущую жизнь и линию поведения неизвестного ему персонажа с таким расчетом, чтобы в этой инструкции были предусмотрены все мыслимые ловушки и способы их обхода. Себастьян строго контролировал продукцию Михаила. Все это означало, что ни о какой активной разведывательной работе Михаилу пока нечего было и думать. Он чувствовал к себе явное недоверие со стороны Себастьяна и вынужден был объясниться с Монахом. Последний посоветовал ему не расстраиваться. «Со временем все образуется», — сказал Монах, но, как выяснилось, ждать пришлось долго. Связь с полковником Марковым была налажена надежно, и Михаил регулярно сообщал ему о всех добытых данных, зная, что они очень пригодятся Маркову. На исходе первого года работы Марков уведомил его, что по легенде, которую Михаил разрабатывал для неизвестного ему агента и которую переслал Маркову, этот агент был обнаружен чекистами в большом индустриальном городе. Спустя некоторое время пришло письмо, в котором Марков благодарил Михаила за ценные данные о структуре разведцентра и о его сотрудниках. Особо важными оказались сообщения о месте предполагаемого советом НАТО строительства подземного хранилища термоядерного и химического оружия стратегического назначения. Значит, старания его не проходили даром, и это давало ему сознание своей полезности, без чего жить в обстановке разведцентра было бы просто невыносимо. А письма от жены, от Марии, давали другое сознание — что ты человек, необходимый двум любимым существам. Провал агента вызвал у Себастьяна новые подозрения относительно Михаила. Конечно, агенты могут потерпеть неудачу, так сказать, естественным путем, то есть благодаря бдительности советских контрразведчиков или по собственной неосторожности. Но Себастьян не был бы Себастьяном, если бы не связал этот провал с тем обстоятельством, что Михаил Тульев хотя и вслепую, но приложил руку к подготовке разоблаченного агента. По настоянию Себастьяна была назначена специальная комиссия, чтобы расследовать причины провала. В течение трех месяцев она анализировала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и пришла к выводу, что агент мог попасть в поле зрения советской контрразведки либо по своей оплошности, либо в результате неточности, допущенной в документах прикрытия. Предательство со стороны сотрудников разведки комиссия исключала. Такому выводу немало способствовали усилия чекистов. Чтобы отвести подозрения от Михаила, через контролируемый чекистами канал связи агента с Центром была отправлена шифровка, в которой агент сообщал о подозрительной задержке его документов, сданных на прописку, и о заданном ему вопросе: где был получен паспорт? Тем не менее вскоре Михаил ощутил, что потерял у Себастьяна всякое доверие: его постепенно отстраняли от прежней работы, и он три месяца просидел праздно, а затем предложили перейти в аналитический отдел и поручили самую нудную работу — выуживать из вороха периодических изданий крупицы полезных для разведки сведений и составлять справки. Можно было определенно считать, что его задвинули на самые задворки и дают понять, что пора подумывать о дальнейшей своей судьбе. Гордыня Михаила не страдала, но смириться с новым своим положением, которое во многом лишало его возможности оставаться полезным для Маркова, было невозможно. Михаил вновь обратился к Монаху с просьбой принять его для серьезного разговора. Монах назло Себастьяну (когда Михаил позвонил по телефону, Себастьян находился в кабинете у шефа) пригласил его к себе домой. Михаил был вполне искренен, когда жаловался Монаху на свое положение, на столь недвусмысленно выказанное ему недоверие. Монах все понимал, но просил считать перевод в аналитический отдел временным, говорил, что надо немного потерпеть и все станет на свои места. Он намекнул, что в скором времени намечается широкая операция, для которой потребуются опытные люди, вроде него, способные решать сложные задачи в исключительных условиях, и тогда для Михаила найдется работа поинтереснее теперешней. Монах советовал не обращать внимания на выходки этого одержимого кретина Себастьяна и тихо пересидеть еще месяц-другой. Михаил был рад удостовериться в сердечном благорасположении Монаха. Однако прошло почти полгода, прежде чем обещанная шефом перемена начала осуществляться. Как-то в феврале Монах позвонил Михаилу и срочно пригласил к себе в кабинет. Он был не один. В кресле за журнальным столиком сидел солидный господин, который на приветствие вошедшего лишь слегка наклонил голову. Монах не счел нужным представить ему Михаила. Вероятно, он просто показывал этому важному господину кандидатов для предстоящей работы. Разговор был непродолжительный. Монах спросил, не растерял ли Михаил свое знание языков, в частности как дела с испанским и португальским. Михаил отвечал, что испанский он не забыл, а с португальским дело обстоит немного хуже. Второй вопрос касался его знакомства с Африкой. Михаил кратко рассказал о своем полугодовом пребывании в Алжире, относившемся еще ко времени второй мировой войны. Больше вопросов не последовало, и Монах отпустил Михаила. На следующий день его вновь пригласили к нему, но теперь тот был уже один. В отличие от Себастьяна Монах справедливо полагал, что агент выполнит свое частное задание тем лучше, чем яснее и полнее ему будет известен общий замысел и цели операции, в пределах допустимого, разумеется. Поэтому Монах изложил Михаилу задачу, поставленную перед разведцентром. Не называя заказчика, он объяснил, что от них требуется негласно определить истинное положение в португальских колониальных войсках. Насколько сумел понять Михаил, от этого зависели размеры помощи португальскому фашистскому режиму со стороны влиятельных финансовых группировок. Конечно, эти группировки могли послать своих официальных эмиссаров, но эмиссарам обычно показывают то, что выставляет просителей в выгодном свете, и скрывают от них все, что может бросить на просителей тень. Чтобы увидеть реальное состояние вещей, а не декорации, следует заглянуть за ширму и сделать это тайно от хозяев, иначе они успеют замести мусор под ковер. А главное, надо испытать все на своей собственной шкуре. Так излагал проблему Монах, и Михаил отлично его понимал. На подготовку Михаилу отводилось два месяца. За это время он должен подучить португальский язык и составить план проникновения в колониальные войска — тут ему предоставлялась полная свобода выбора. Михаил задал только один вопрос: в какую именно колонию Португалии он должен отправиться? Монах сказал: лучше ехать туда, куда можно попасть быстрее и без помех, так как на выполнение задания у него будет не очень много времени. Себастьян против нового назначения Тульева ничего не имел, поскольку это никак не касалось деятельности опекаемого им восточного отдела. Наоборот, обрадовался в надежде на то, что там Михаил может сложить голову. У Михаила тоже были основания радоваться. Во-первых, он избавлялся от опостылевшей кабинетной работы. Во-вторых, наконец-то появился долгожданный шанс выполнить важное задание Маркова — отыскать следы особо опасного военного преступника Гюнтера Гофмана, которые затерялись на Пиренейском полуострове. В-третьих, ему предоставлялась возможность достигнуть и сугубо личной цели — найти Карла Брокмана, убийцу отца. Был ли при этом риск для него лично, для его жизни? Да, был, и Михаил это понимал. Еще слушая Монаха при первом разговоре о задании, Михаил вспомнил о сведениях, добытых Доном и касавшихся так называемого агентства по распространению печати в Лиссабоне. Он сразу решил, что можно воспользоваться этим агентством, но перед шефом раскрывать своей осведомленности не стал. Теперь он попросил разрешить ему поездку в Париж на две недели, чтобы нащупать пути проникновения в португальские колониальные войска. Монах санкционировал командировку. Дон не забывал просьбы Михаила относительно Карла Брокмана и время от времени оповещал о передвижениях этого белого наемника, воевавшего на Черном континенте. Дон располагал сведениями, что Брокман находится в колонии, расположенной на западе Африки, и что контракт у него не скоро кончается, а там кто его знает… Прилетев в Париж, Михаил из аэропорта позвонил Дону в его бар, и они условились о встрече. В течение недели Дон сумел снестись с нужными людьми и получил подтверждение, что Брокман на прежнем месте — в спецподразделении, действующем на территории португальской колонии. Михаилу стали также известны особые правила, которыми руководствуются службы и учреждения, занимающиеся вербовкой добровольцев для войны в колониях. Возвращаясь в разведцентр, он был снабжен всеми сведениями, необходимыми для составления хорошо продуманного плана своей поездки в Португалию. План был написан в два дня, положен на стол Монаху и одобрен.ГЛАВА 6 Под мальтийским крестом
Сначала необходимо дать место политической хронике, хотя бы несколько строк. В то время народ одной из последних колоний некогда обширной Португальской колониальной империи вел упорную вооруженную борьбу за свою свободу, за образование независимого государства. У наследников фашистского салазаровского режима дела обстояли плохо. Насильно зарекрутированные солдаты дезертировали из армии при первой подходящей возможности. Приходилось вербовать наемников. Наемники были разные — в зависимости от задач, которые перед ними ставились. Плата тоже колебалась, и амплитуда достигала значительных размеров. Являлись рядовые обученные, которым красная цена была в пересчете на доллары двести в месяц. Но были и профессионалы, подобные Карлу Гейнцу Вайсману из Нюрнберга, которым надо платить по тысяче и больше, ибо эти умели не только подчиняться при совершении кровавых акций, но и командовать. И платили всем этим людям не напрасно: там, куда их отправляли, шла война не на жизнь, а на смерть. Тот, кто вербовался в погоне за острыми ощущениями и экзотикой, получал их сполна. Иногда за недостатком современного оружия африканцы стреляли из луков длинными оперенными стрелами с наконечником, несущим кураре — яд, парализующий дыхание. Когда Михаил Тульев посетил лиссабонское так называемое агентство по распространению печати, там было малолюдно, и к нему поначалу отнеслись с вниманием. Однако человек в светло-сером костюме, к которому его проводили, смотрел на Михаила без всякого интереса. — Сколько вам лет? — спросил он. — Сорок, — ответил Михаил и отметил про себя, что ему явно не поверили. — Национальность? — Русский. — Откуда прибыли? — Из Франции. — Перемещенный? — Нет. Мой отец эмигрировал из России в восемнадцатом году. Светло-серый откинулся на спинку кресла, посмотрел на Михаила как бы издалека. — Кто вам дал наш адрес? — Его фамилия Гейзельс. Он из Бельгии. Светло-серый побарабанил пальцами по столу и спросил: — Как вы думаете, сколько мне лет? Михаил решил польстить: — На вид тридцать. В ответ он услышал неподдельный хохот. А отсмеявшись, светло-серый сказал: — Думаю, мы с вами ровесники. Вам ведь под пятьдесят. Оставалось только удивляться. — Давно не смотрелся в зеркало, — пожав в смущении плечами, сказал Михаил. — Но я бы вам… — Оставьте, — перебил его светло-серый. — Я не дама, не надо меня молодить. Чего вы хотите от нас? — Мне необходимо заработать. А чего бы вы хотели от меня? — Вы не боитесь червей под кожей, вшей, брюшного тифа и десятка болезней, незнакомых европейской медицине? А также не боитесь ли вы умереть, не разменяв шестой десяток? — Я хочу заработать. А боишься или не боишься — это зависит от цены. — Мы не знаем, что вы умеете делать. — Стрелять, во всяком случае. — Ну, это могут и мальчишки. А в ваши годы учиться кое-чему другому будет трудновато. — У меня приличное здоровье, — возразил Михаил. — И потом во время войны мне приходилось не только стрелять. — Что же еще? — Я был на Восточном фронте, — соврал Михаил. — В немецкой армии? — Да. — В каких частях? Михаил рискнул сделать смелый ход не по правилам: — Эсдэ. Я служил под командой Гюнтера Гофмана. Не слыхали о нем? Светло-серый опустил глаза и сказал с легкой иронией: — Кто же не слыхал о человеке, которого по крайней мере в трех странах заочно приговорили к смертной казни? — Он помолчал и добавил: — Но вы, наверное, первый, кто афиширует свою связь с ним. Михаил подумал, что напрасно затеял эту игру, но решил не отступать. — Мне и сейчас хотелось бы работать на Гюнтера. Жаль, не знаю, где он. Это осталось без внимания. Его собеседник вернулся к делу. — В каком чине вы закончили войну? — Фельдфебель. — Сколько рассчитываете получать у нас? — Если вы положите мне три тысячи западногерманских марок в месяц… — Это слишком много. — Две пятьсот. — Хорошо. Но вы должны будете подписать контракт, который лишит вас права распоряжаться собой минимум на год. — Именно об одном годе я и думал. — Хорошо. Приходите сюда послезавтра в это же время, мы все решим. Михаил был уже у двери, когда хозяин кабинета сказал, не скрывая насмешки: — Если вы ищете Гофмана, почему же не поинтересовались у Гейзельса? Вас ведь Гейзельс надоумил обратиться к нам, не правда ли? У Михаила было такое ощущение, что все рухнуло. — Гейзельс не из тех, кто афиширует свои связи. — Ладно, — усмехнулся светло-серый, — это не имеет значения… Выйдя из агентства, Михаил испытывал досаду. Но что сделано, то сделано, оставалось ждать результата. Визит к «распространителю печати» по крайней мере в одном отношении оказался полезным: удалось нащупать нить к Гофману. Гофмана знает Гейзельс. Гейзельса знает Карл Брокман. Ситуация складывалась таким образом, что, разыскав Брокмана, Михаил мог выполнить задание и достичь личной, страстно желанной цели. Через день он явился в агентство, и ему дали подписать обязательство, похожее на клятву, или на присягу, и осведомились, куда бы он хотел отправиться. Михаил, естественно, выбрал колонию, где воевал Брокман, и через неделю в обществе пятидесяти себе подобных (правда, все были гораздо моложе) высадился с транспортного судна на африканском побережье. Их поселили в военном лагере, где перед воротами возвышался железный мальтийский крест — символ Лузитании, как называлась когда-то Португалия, разместили в длинном белом бараке по двое в комнате: две кровати с матрацами из морских водорослей, две тумбочки и вешалка, одновременно способная служить пирамидой для карабинов. Ему относительно повезло: с ним поселился бывший капрал английской армии из гвардейского шотландского батальона, парень лет двадцати пяти. Капрал искал приключений — и денег, разумеется, тоже. Большинство остальных были подонки из уголовников. Капрал Бобби обладал бесценным в общежитии качеством — никогда не заговаривал первым. На следующий день была произведена сортировка вновь прибывших. Лагерное начальство проверяло новобранцев по двум статьям: интеллектуальной, если можно так выразиться, имея в виду тесты на сообразительность (вроде умения отличать квадрат от треугольника), и физической, имевшей преимущественное значение. Но главным все же считался опыт военных действий. Михаил попал в число шести особо выделенных. Этому следовало порадоваться, ибо таким образом он прошел экзамен на зачисление в категорию существ мыслящих, а не человекоподобных ублюдков. Среди остальных были и карманники, и неудавшиеся сутенеры, и бандиты, скрывавшиеся от суда, и даже один брачный аферист по имени Езар, который выдавал себя за тайного агента какой-то тайной службы (вскоре выяснилось, что он просто шизофреник, но его за это не отчислили). Они ходили на стрельбище, где проводили два утренних часа, затем с ними занимался инструктор по дзюдо, после обеда специалист по борьбе с партизанами читал им лекции, а после лекций они отрабатывали на местности практические действия. Гоняли так, что к концу дня эти здоровенные парни еле волочили ноги. За две недели каждому пришлось прыгнуть четыре раза с парашютом — дважды ночью, группой, причем оба раза прыгали на лес. Один из новобранцев разорвал себе о сук сонную артерию и умер на руках у капрала Бобби, не дождавшись врачебной помощи. Кое на кого этот случай произвел угнетающее впечатление, но наутро после отпевания, совершенного гарнизонным священником, с новобранцами беседовал самый главный начальник, который вслед за священником произнес высокие слова о благородной миссии цивилизованных народов на земле Черной Африки, об опасности распространения коммунистических идей и так далее, а самое главное — пообещал всем прибавку жалованья… Михаилу нетрудно было выделиться. Уже к концу первой недели он подружился с инструктором по противопартизанским действиям, к чему, собственно, и стремился. Они были почти одногодки. Инструктор, которого звали Фернанду Рош, сам предложил ему однажды вечером распить бутылочку, а у Михаила имелся привезенный из Франции коньяк. Они его и распили дома у инструктора, занимавшего однокомнатную квартиру в коттедже за пределами лагеря. Дружба эта способствовала тому, что Михаилу предложили на время заменить одного из инструкторов по стрелковой подготовке, которого отправили в Лиссабон на операцию по поводу гнойного аппендицита. С того дня Михаил и Фернанду Рош выпивали каждый вечер, благо они стали соседями, так как Михаил занял квартиру заболевшего инструктора, а в гарнизонном магазине было все, что душе угодно. Фернанду Рош оказался не таким уж циником, как думал поначалу Михаил. Он исправно нес свою службу, но расистом не был, а почившего в бозе Салазара и его преемника Каэтану великими деятелями и вождями португальской нации не считал. Он даже обмолвился как-то, что то, чем они тут занимаются, то есть война против законных владельцев африканской земли, — дерьмо, недостойное даже быть темой разговора между двумя нормальными людьми, когда они сидят за столом и попивают неплохое винцо. — Это портит букет вина, — улыбнувшись, докончил Фернанду свою речь. Момент был благоприятным для разговора по душам, и Михаил решил им воспользоваться. — Да мне-то тем более наплевать на вашу политику, — сказал он. — Зачем же ты сюда приехал? Для любителя экзотики ты в такой упаковке староват… Только деньги? — Конечно. — Но ты непохож: на всех этих подлецов, которые за три доллара мать родную зарежут. Михаил вздохнул. — Что делать? В Европе такому, как я, не прокормиться. Фернанду подмигнул ему. — Ничего, старина, пока существуют на свете паршивые политиканы, нам с тобой работы хватит. — Это верно… Да, вот еще что, Фернанду, — сказал Михаил, не стараясь притвориться, будто это вспомнилось ему между прочим. — Тебе не приходилось встречаться с человеком по фамилии Брокман? Говорят, он где-то здесь. Фернанду посмотрел на него, прищурившись: — Ты знаком с этим экземпляром? — Я — нет. Но по твоему вопросу видно, что ты знаком. — О да! — с брезгливой миной воскликнул Фернанду. — Даже очень хорошо: я его натаскивал. — И давно это было? — Не так давно… Не помню… А к чему ты о нем заговорил? — Просили передать ему привет. — Кто же это? — Есть такой Гейзельс… Фернанду присвистнул. — Еще того чище! Ты знаешь Гейзельса? Похоже, Михаилу следовало оправдываться за свои знакомства. — Случайно сошлись в Париже. У меня дела были скверные, он посочувствовал. — Что, денег дал? — Денег от первого встречного я не беру. Он шепнул мне адрес лиссабонского агентства по распространению печати. — Значит, ты ему не очень приглянулся. Могло бы быть и похуже. Фернанду все больше и больше начинал нравиться Михаилу. Намек на принадлежность Гейзельса к темному миру был прозрачен, и Михаил спросил: — По-твоему, я похож на овцу? Куда поведут, туда и пойду? — Не думаю. Но такие, как Гейзельс… — Фернанду не договорил. — А где сейчас Брокман? — спросил Михаил. — Там, в джунглях. — С такими же вояками, как наши? — Э-э, нет. Он по другим делам. — Секрет? Фернанду посмотрел на него совершенно трезвыми глазами. — Знаешь, хотелось бы дать тебе маленький совет. — Говори. — Раз уж ты сюда попал, старайся не копаться в чужих делах. Спокойней будет. — У меня вообще такой привычки нет. Фернанду продолжал так, словно Михаил не дал ему закончить предыдущее: — Но о Брокмане я тебе кое-что могу сообщить. Спецкоманда, в которой он работает, охотится за командирами партизан. Они разошлись после полуночи. — Все, что мы тут болтали, строго между нами, — сказал Фернанду на прощание. — Мог бы и не предупреждать… Улегшись в постель и перебрав в памяти по порядку их застольную беседу, Михаил не мог не подивиться откровенности Фернанду Роша. Ведь они были знакомы всего какие-то три недели, а Фернанду выложил ему столько, что, будь на месте Михаила подосланный провокатор, инструктора по борьбе против партизан поставили бы к стенке без суда и следствия. Объяснить доверчивость Фернанду тем, что Михаил угощал его, было бы неверно: инструктор, насколько Михаил успел заметить, был не жаден и денег имел достаточно, да к тому же холостяк, копить не для кого. Скорее всего он слишком долго молчал, и вот при первом подходящем случае, сошедшись с человеком, непохожим на тех полулюдей, с которыми приходилось общаться много лет, Фернанду раскрылся, чтобы хоть один вечер отдохнуть душой. Других правдоподобных толкований Михаил не нашел… У него уже набрались некоторые сведения, на основании которых можно было составить отчет для Монаха, отображающий истинное положение в колониальных войсках. Дело же с Брокманом сильно усложнялось. По-видимому, встретиться с глазу на глаз им в ближайшее время не суждено, а затягивать пребывание в колонии не имело смысла. Но он еще не придумал, как отсюда выбраться. Рассуждая о мести, Михаил приходил к выводу, что это действительно низменное чувство, но всякий раз возникал контрдовод: Брокмана необходимо было обезвредить хотя бы уже потому, что он не человек, а опасный бешеный волк. Как еще можно назвать выродка, избравшего себе профессией убийство людей? Рассчитаться с убийцей необходимо. И если самосуд карается законом, то совестью своей Михаил его оправдывал. Правда, он не был твердо уверен, что рука его не дрогнет в решительный момент. Главным оставалось встретиться с Брокманом и через него выйти на след Гофмана. Но как это осуществить? Михаил уже начинал изнывать от нетерпения: когда же наконец вернется оперированный инструктор, которого он подменял? Но тут произошло чрезвычайное событие. Фернанду, забежав к нему во время дневного перерыва, сообщил, что срочно вылетает в джунгли и что, по всей вероятности, вскоре Михаил будет иметь счастье видеть Брокмана — живого или мертвого. Михаил привскочил с постели — он сидел, собираясь раздеться и лечь. — Что произошло? Но Фернанду выбежал, крикнув через плечо: — Вертолеты ждут! Надев белую панаму, Михаил вышел из дому, пересек под палящим полуденным солнцем пустынную кремнисто-твердую площадь, жегшую ноги даже через толстую кожаную подошву, и вошел в здание штаба. Дежурный, с которым он был знаком, ничего толком объяснить не мог. Сказал, что с материка поступила на радио просьба о срочной помощи — кто-то там попал в беду, а кто именно и где, неизвестно. К радистам на второй этаж Михаил пойти не мог: туда нужен был особый пропуск. Придя к себе, Михаил лег на кровать, не раздеваясь. Вертолеты прилетели в 16.00. Михаил, услышав их шум, отправился в казарму, где размещались новобранцы: она была ближе к аэродрому. Те, кто сейчас прилетел из джунглей, обязательно проедут мимо нее, а Михаилу очень хотелось посмотреть на вернувшихся. Ждать пришлось недолго. Вскоре на бетонке, ведущей от аэродрома, показались два «джипа» с туго натянутыми светло-песочными тентами. Они пронеслись мимо и скрылись в той стороне, где располагался лагерь спецкоманд. Михаил успел заметить, что в «джипах» на задних скамьях сидели какие-то лохматые, бородатые люди в оборванных пятнистых маскировочных униформах. И что-то белое мелькнуло — наверное, бинты, перевязки. А минут через десять на дороге появилось еще несколько «джипов». В переднем рядом с шофером сидел Фернанду. Он помахал Михаилу рукой. Михаил не спеша зашагал к дому. Скоро пришел Фернанду и сразу отправился под душ. Через открытую дверь ванной он рассказывалсидевшему у стола Михаилу о том, что произошло. — Их пятеро было, в том числе твой Брокман… Базу заложили в джунглях недалеко от штаба… В разведку ходили, ловили момент. А момента нет и нет… — Он делал паузы, когда отфыркивался. — Сегодня утром на них набрел какой-то мирный негр с мальчишкой… Старик и мальчишка. Старика они застрелили, а парнишка удрал. Их накрыли. Они дали сигнал по радио сюда. Ну, а дальше все ясно… — У вас был бой? — спросил Михаил. Фернанду не расслышал. — Что? — Бой был, говорю? — Ерунда! Так, пугнули малость. Те не ожидали, конечно, что мы так быстро подоспеем, и держали эту бравую команду в осаде малыми силами — человек десять. Там между деревьями чистое место было, мы спокойненько сели, а нас тридцать человек — какой уж тут бой? — А из наших, по-моему, кто-то ранен? — Трое. И Брокман тоже. — Тяжело? — Ерунда, царапина… Касательное в левое предплечье… — Фернанду кончил полоскаться, закрыл краны. — Сказать по чести, будь моя воля — не стал бы я их оттуда вытаскивать… — Брокмана в госпиталь отправят? — Тут уж как он сам захочет, — не придав этому вопросу никакого особого значения, с обычным своим добродушием отвечал Фернанду. — Я ему, между прочим, передал от тебя привет. — Он же меня не знает. — Верно. Брокман так и сказал: кто еще такой? — Если можешь, представь нас друг другу. — Попробуем… Но мне это ничего приятного не доставит… В тот же вечер Фернанду привел к себе Брокмана, а Михаил ждал их, уставив стол бутылками, джусом и стаканами. Брокман явился голый до пояса, на левой руке чуть ниже локтя — пухлый тампон, приклеенный пластырем. Дон говорил в Париже правду: Брокману на вид было лет тридцать. Волосы светлые. Загорелый не по-курортному, а скорее как дорожный рабочий: лицо ниже бровей, шея, руки до бицепсов — кофейного цвета, а торс и лоб — молочно-белые. Светлые волосы и черное лицо производили впечатление, будто смотришь на негатив. Михаил предполагал узреть нечто гориллоподобное, но перед ним был хорошо сложенный, красивый парень с несколько презрительной гримасой. На собеседника он не глядел. — Привет, — по-немецки сказал Брокман, усаживаясь. — Меня зовут Карл. — Привет, — ответил Михаил, радуясь, что этот тип не протянул ему руки. — Говорят, вы меня знаете. — Марк Гейзельс просил передать вам поклон. — А-а, еще бегает, старый лис! Как он там? — Мы виделись накоротке. Но можно понять, что он при деньгах. — Гейзельс всегда при деньгах, — небрежно заметил Брокман. — Мы выпьем или будем смотреть на бутылки? — Что вы предпочитаете? — Покрепче… Михаил взял большую бутылку джина, посмотрел на Фернанду, который стоял, опершись рукой о спинку стула. Фернанду кивнул. Михаил налил в три стакана. Выпили. — Не сильно? — спросил Михаил, показывая на раненую руку Брокмана. — Достаточно для того, чтобы смыться отсюда, — сказал Брокман. — Значит, в Европу? — Завтра же. Имею право. — Брокман повертел перед глазами пустой стакан. — И страховку получим. — Вы счастливчик. — Желаю и вам того же. — Спать хочется, — сказал Фернанду. Михаил обернулся к Брокману. — В таком случае, может, перебазируемся ко мне? — Благодарю. Надо отдыхать. — Он посмотрел на часы, которые были у него на правой руке. И Михаил вспомнил слова патологоанатома, выступавшего в качестве судебно-медицинского эксперта: «Если удар был нанесен не сзади, то бил левша». Брокман встал. Михаил решил рискнуть, как при разговоре с вербовщиком в лиссабонском агентстве по распространению печати. — Один вопрос, Карл… — Да. — Вам не знакомо имя Гюнтер Гофман? Казалось, над ухом у Брокмана выстрелили из пистолета: он вздрогнул. — Почему вас это интересует? — Видите ли, я когда-то, во время войны, служил с ним. Хотелось бы разыскать. Полагаю, сейчас у него другое имя… — Правильно полагаете. — Вам ничего о нем не известно? — Последнее его имя — Алоиз. А фамилией я не интересовался. — А где он сейчас? — Был в Америке. — Брокман повернулся к двери. — Пока. — Пока.ГЛАВА 7 Приобретения и потери
Леша, когда проявил свою первую в жизни самостоятельно отснятую фотопленку, был очень удивлен: она получилась такой хорошей, будто снимал матерый фотомастер. Скажем кстати, что эта первая пленка была лучше всех последующих на протяжении месяцев трех и только к концу лета Леша научился сознательно добиваться тех прекрасных результатов, которые в самом начале были получены по наитию. Как было им обещано в присутствии его малолетнего покровительствуемого Витьки, Леша сделал стенгазету. Он дал ей название почти такое же, какое носил стенной орган печати центрального городского универмага, то есть «Культурное обслуживание». Опустив предлог «за», он словно поднялся на ступень выше: та газета только призывает к культурному обслуживанию, а здесь — пожалуйста, уже все готово. В центре небольшого листа ватманской бумаги, под заголовком, была наклеена фотокарточка размером тринадцать на восемнадцать, изображавшая Светлану, Галю и Пьетро за ресторанным столиком. На заднем плане, чуть не в фокусе, из-за столика привстал плотный мужчина. (Леше показалось, что он как будто похож на человека, приказывавшего ему засветить пленку.) Под снимком Леша поместил подпись, над которой ему пришлось долго думать. Она гласила:«Картинки из светской жизни».По обеим сторонам фотокарточки были наклеены цветные вырезки из рекламных буклетов «Интуриста». Леша полюбовался с горечью на свое произведение, вздохнул, сложил стенгазету вчетверо и засунул ее под тахту. Он счел замышленное предприятие с вывешиванием газеты недостойным и мальчишеским. Более того, он решил выказать великодушие: он сделал еще два отпечатка форматом девять на двенадцать, чтобы вручить их Светлане — пусть один возьмет себе, а другой пошлет этому черноволосому иностранцу. Случай представился скоро. Светлана, как-то вечером, возвращаясь с работы, подозвала к себе Лешу, певшего под гитару в кругу ребят с их двора. — Не отлегло? — спросила она как бы даже с сочувствием. Это не понравилось Леше. Он сунул ей в руки гитару и сказал небрежной скороговоркой: — Подожди минутку, я сейчас. — И побежал в свой подъезд. Вернувшись, он отобрал у нее гитару и вручил фотографии. — Вот, вышло прилично. Возьми на память. Светлана сначала не поняла, что изображено на снимках, а когда поняла, то покачала головой. — Значит, с фотоаппаратом шпионишь? — Шпионил, — поправил ее Леша. — Больше не буду. На это Светлана ничего не ответила. Положила карточки в сумочку и пошла домой. Даже спасибо не сказала. С тех пор, встречаясь во дворе или на улице, они только здоровались. Леша иногда спрашивал себя, правильно ли он поступает. Светка ему все равно нравилась, как и раньше, а может, и еще больше. Ну, ходила в кафе с иностранцем. Иностранцы приезжают и уезжают. Тем более Светка же его сама первая подозвала для разговора. Но нет, не мог Леша простить ей, что-то горькое поднималось в душе, когда вспоминал он про кафе, и у него возникало непонятное чувство, словно Светка знает о тайнах взрослой жизни гораздо больше его, и от этого становилось еще горше и обиднее. И хотелось бы ему заговорить с нею, но ничего он не мог поделать со своей гордостью. Вера Сергеевна сумела уловить, что в отношениях Светланы с Лешей произошли важные изменения. Она прямо спросила у дочери, что случилось. Но Светлана отделалась одной фразой: «Да ну его!» И кажется, ей в самом деле стало совершенно безразлично, есть на земле такой парень — Леша Дмитриев или его и не было никогда. Хотя Гале она признавалась, что ей жалко разбитой дружбы и как-то пусто от того, что Леша перестал забегать к ней на работу. Ему самому она этого не сказала бы никогда. Подруги проводили лето по-разному. Светлана по графику отпусков должна была отдыхать в сентябре. Галя уехала вместе с матерью в Крым, в Алушту, где у старого друга их семьи, ныне отставного военного, был собственный дом. Светлана не очень-то скучала. В свои выходные она с подругами из универмага ездила на городской пляж. Всегда подбиралась веселая компания. У нее с некоторых пор все чаще появлялось такое настроение, что она будто бы попала на станцию, где надо делать пересадку. Она была все время в ожидании чего-то, а чего именно — неизвестно. Это состояние впервые возникло на следующий день после того, как она отослала в Милан Пьетро Маттинелли фотокарточку с коротким письмом, в котором объяснялась история ее появления. Разрешилось это состояние неизвестности весьма прозаическим образом. 29 июля 1971 года под вечер к ее прилавку в универмаге подошел немолодой, небольшого роста и довольно полный мужчина с блестящими и темными, как маслины, глазами. Он поставил на прилавок клетчатую сумку-торбу, и, подождав, пока Светлана не кончила разговора с очередным покупателем, спросил: — Вы есть Светлана Сухова? — Да. Я вас слушаю. — Она уже догадалась, кто это и откуда. — Вам привет шлет Пьетро из Милана. — Он выговаривал русские слова с трудом, но очень старательно. — Спасибо. — Он также просит дать вам это. — Итальянец положил руку на сумку и улыбнулся. Светлане на секунду сделалось неловко, но только на секунду. Мелькнул в памяти тот разговор за столиком в кафе — как Пьетро просил разрешения прислать что-нибудь в подарок, как она воспротивилась. Что может быть в этой сумке? Уж, наверное, не на сто рублей? Чего тут зазорного, если принять подарок? Не отказывать же человеку, который тащил клетчатую торбочку из Милана через пол-Европы. — Спасибо, — сказала Светлана и убрала сумку под прилавок. — Как поживает Пьетро? — О, ничего, очень хорошо. Очень скучно без вас. — Вы долго у нас пробудете? — Сожалею, но всего два дня. После — Тамбов. Там тоже есть нам дело, тоже завод. — Итальянец убрал с лица улыбку. — Но вы можете писать Пьетро через меня. Я могу зайти завтра. Так они и договорились. Итальянец, по-видимому, спешил, и Светлана его не задерживала. Как только он ушел, она расстегнула «молнии» на сумке. Поверх разноцветных пластиковых пакетов лежал конверт, голубой и продолговатый, с ее именем, написанным крупными заглавными буквами. Такими буквами было составлено и письмо. Пьетро убедительно просил не отвергать его скромный подарок, уверял в своей преданности, жаловался, что скучает по Советскому Союзу и по ней, Светлане, и высказывал надежду, что, может быть, через год приедет снова, хотя бы ненадолго. А в конце сердечный привет Гале и просьба выделить ей что-нибудь из присланного. Галя к тому времени уже вернулась из Крыма, и Светлана, закончив работу, сразу позвонила ей из кабинета заведующего отделом, и они условились встретиться в тот же вечер у Светланы дома. У Светланы возникла было мысль, что неудобно будет при матери потрошить посылку, но по всегдашней своей привычке отгонять прочь все неприятное она тут же постаралась об этом не думать. В конце концов они с Галей могут просто закрыться в комнате и сказать матери, что им надо посекретничать… Галя явилась без опоздания. К ее приходу Светлана успела разобрать посылку. В сумке-торбе оказались два прекрасных длинных шарфа, связанных из шерсти, один синий, другой малиновый, шерстяная кофта цвета перванш, кашемировый платок, пара черных лаковых туфель и множество косметики — духи, помада, пудра, тени — все в замечательной упаковке. Но главное было не это. Главное лежало в маленькой кожаной красной коробочке: брошь-булавка с голубым камнем. Матери не оказалось дома. Светлана разложила все присланное на своей софе и прикинула, как им поделить: у нее и в мыслях не было дать Гале что-нибудь из мелочи, а остальное взять себе. Пополам, только пополам — так она решила с самого начала. Правда, туфли и брошь не поделишь пополам, но тут тоже можно что-нибудь придумать… Когда Галя вошла, Светлана, ничего не объясняя на словах, дала ей письмо Пьетро. Прочтя и поглядев на разложенные вещи, Галя долго молчала. — Что скажешь? — вывела ее из задумчивости Светлана. — Кажется, он не бедствует, этот твой Пьетро Маттинелли. — Наверное, не побирается. — Светлана вынула брошь из коробочки, протянула ее Гале. — Как ты думаешь, это настоящее? У нее были подозрения, что и металл и камень — подделка, а Галя разбиралась в драгоценностях. Галя посмотрела камень на свет, повертела в пальцах против света и сказала: — Аквамарин. Настоящий. — А булавка? — Золотая. — Наверняка не побирается, — весело заключила Светлана. — А ты чего сникла? — Да как-то, знаешь, необычно… — Что необычно? — Ну, всего один раз виделись, и вот… все это… — Галя кивнула на софу. — Значит, как в кино. Ладно, давай распределим. — Но это же тебе прислано, — возразила Галя не очень твердым тоном. — Заткнись, а то все выброшу, — серьезно сказала Светлана. Галя не сомневалась, что Светка может так и сделать, если ее не послушать. Парфюмерные изделия были разделены без труда. Светлана взяла себе малиновый шарф, следовательно, Гале достался синий. Туфли больше впору были Гале, зато Светлана оставила себе кофту. Кашемировый платок разрезали надвое по диагонали — получились две косынки. Судьбу броши Светлана предложила решить жребием, но тут уж Галя воспротивилась не на шутку. — Ты с ума сошла! — воскликнула она. — Не командуй, пожалуйста. Я ведь тоже могу… — Ничего ты не можешь. Как всегда, Светлана не заботилась о самолюбии подруги, но сейчас сопротивление Гали было ей приятно: Светлане очень хотелось быть обладательницей такой прекрасной броши. Насчет жребия, говоря честно, она сказала лишь для того, чтобы выдержать характер. Она была уверена, что Галя не согласится. Да и несправедливо это чересчур: у Гали много было разных драгоценностей, подаренных родителями и бабушками, хотя она никогда их не носила с того дня, как познакомилась со Светланой, — потому не носила, что у Светланы драгоценных украшений не имелось, не носила из солидарности. Великий дележ закончился как раз к приходу Веры Сергеевны. Сколь ни храбрилась Светлана, сколь ни выказывала свое коронное умение ничему не удивляться и ни о чем не жалеть, но Вера Сергеевна все же заметила необычно возбужденное состояние дочери. — Вы ссоритесь? — спросила она. Свою часть посылки Галя перед тем положила в сумку, а Светлана свою спрятала в шифоньер, так что Вера Сергеевна вещей и косметики не увидела. — Спорим, — сказала Светлана и повернулась к Гале: — Идем, провожу немного. …Таким образом разрешился у Светланы кризис ожидания. Ей предстояла повторная сдача экзаменов на филологический факультет — еще одна попытка. Она их сдавать не стала, и не только потому, что не подготовилась как следует. Было еще одно серьезное привходящее обстоятельство. Но, прежде чем заняться им, надо отметить, что Светлана на следующий день после получения посылки отправила с привезшим ее итальянцем письмо к Пьетро Маттинелли с благодарностью и просьбой не повторять ничего подобного впредь, а лучше всего приехать снова в Советский Союз. В конверт она вложила фотокарточку. А примерно через неделю после этого у Светланы состоялось новое знакомство, которое она не сочла странным и необычным по той простой причине, что все было логично и объяснимо. Один из покупателей, изучавших каталоги пластинок, интеллигентного вида, пожилой, явно за пятьдесят, но моложаво выглядевший мужчина, плотный, среднего роста, одетый в светлый костюм и синюю рубаху без галстука (все это Светлана рассмотрела уже несколько позже), вдруг обратился к ней таким тоном, словно продолжал с нею задушевную дружескую беседу, прерванную нечаянно. Он выбрал момент, когда никого другого у прилавка не было. — Значит, получили весточку от Пьетро, Светлана Алексеевна? Она удивилась, но, выдерживая свою манеру внешне ничему не удивляться, ответила так, будто и она всего лишь продолжала беседу: — Да. Но откуда вам это известно? Он усмехнулся отечески. — Видите ли, я знаком с тем человеком… ну, что привез вам посылку из Италии. Я ведь и Пьетро знаю. Он мне рассказывал о вас. — Вы даже и по отчеству меня знаете, — сказала Светлана. Он кивнул на дощечку, висевшую на стене позади нее: «Сегодня вас обслуживает продавец…» Она обернулась, поглядела и расхохоталась. — Ой, правда, тут же написано! Кто я после этого, скажите? — Вы совершенно очаровательная девушка, и Пьетро Маттинелли можно понять. Нет, ей определенно начинал нравиться этот пожилой спокойный человек. — А как зовут вас? — Виктор Андреевич. — Вы что, работаете на химзаводе? — Да, в одной из лабораторий. Мне не так часто приходилось общаться с Пьетро по работе, но мы довольно близко познакомились. — Он вам нравится? — По-моему, очень хороший человек. — Мне кажется, он прямой и открытый. А вы давно здесь живете? — Приехал сразу после войны. Она посмотрела на его руки — есть ли обручальное кольцо. — И от него не ускользнул этот взгляд. — Я одинокий. Жена и дочь погибли в оккупации. Светлану поразила его догадливость и проницательность. И главное — простота. Это был первый из взрослых людей, кто демонстрировал перед нею свое превосходство столь неназидательно и ненавязчиво. Она мгновенно прониклась к своему новому знакомому уважением. О том, как развивалось это знакомство, мы расскажем дальше, а теперь надо вспомнить о Леше, потому что у него произошли две пропажи, не такие уж значительные сами по себе, но имеющие прямую связь и с предыдущим и с последующим. Однажды в воскресенье он затеял генеральную уборку в своей темной комнате, которая с момента покупки фотоаппарата служила ему исключительно как лаборатория. Надо было выбросить ненужный хлам, чтобы стало попросторнее. Закончив черную работу, Леша привинтил к стене широкую полку для химикалий и шкафчик для экспонированных пленок и фотобумаги. Потом стал разбирать пленки, заворачивая каждую в отдельный лист. Их накопилось уже порядочно, штук пятнадцать. Каждую он помнил очень хорошо — где, когда снимал, при каком освещении, с какой диафрагмой и выдержкой. Любимой оставалась та первая, которую он начал кадрами, снятыми в кафе. А ее-то как раз и не оказалось. Он обшарил все ящики стола, все углы — и не отыскал. Потом начал разворачивать уже завернутые пленки и снова просматривать их на свет — все напрасно. Первой пленки не было. Леша пошел на кухню, где мать с отцом пили чай. — Ма, ты у меня в чулане не копалась? — Ты же не велишь туда даже входить. — Чего взъерошился? — спросил отец. — Пленка одна пропала. — Другую купи. — Да отснятая она, — с досадой объяснил Леша. — Мне бы твои заботы. Леша вернулся в лабораторию и еще раз обыскал ее от пола до потолка. И опять напрасно. Пропала пленка. А между тем он отчетливо помнил, что еще недели две назад она как-то попалась ему под руку, и он с удовольствием разглядывал ее, поражаясь, до чего удалась тогда эта самая первая съемка. Было жалко потерять такую память — истинные фотолюбители легко поймут огорчение Леши. В тот же день, чуть позже, Леша пошел в свой самодельный гараж, где стоял его мотоцикл. К нему заглянул сосед, владелец старого «Москвича». — Здорово, Леш! Дай на минутку разводной, я свои ключи дома оставил, краны подкручивал, понимаешь. — Да хоть на неделю, — мрачно сказал Леша, наклонясь к чемодану с инструментом. Но сколько он ни гремел этими железяками, разводного гаечного ключа найти не мог. — Снится, что ли? — пробормотал он растерянно. — Ты чего, Леш? Заговариваешься? — засмеялся сосед. — Тут заикаться начнешь, не то что заговариваться. Сосед ничего не понимал. — Нету ключа, — сказал Леша, разгибаясь. — Нету. Пропал. — Может, где валяется? — предположил сосед. — Давай посмотрим. Они внимательно осмотрели все закоулки гаража, но ключа так и не нашли. — А может, ты его домой занес? — высказал еще одно предположение сосед. Леша покрутил головой. — Не заносил. У нас краны не текут. Сосед исчез, наверное, побежал домой за гаечными ключами, а Леша еще долго стоял в задумчивости над чемоданом для инструмента и старался сообразить, когда мог исчезнуть ключ. Последний раз он пользовался им дней десять назад… Пропавшую пленку он держал в руках две недели назад… Леша не делал сопоставлений, но мысленно отметил, что обе пропажи случились приблизительно в одно и то же время… Сказав о потерях Леши, вернемся к Светлане. Кому-то это покажется противоестественным, но вот факт: уже на второй день после знакомства с Виктором Андреевичем Светлана приняла его приглашение посидеть вечером в ресторане. Впрочем, найдется немало людей, которые не усмотрят в этом факте ничего особенного, ничего предосудительного. К тому же Светлана поставила условие, что с ней будет Галя. Виктор Андреевич не жаловался на тоску одинокой жизни, но и не пытался изобразить из себя молодого сердцем бодрячка. Он просто сказал, что если у Светланы на завтрашний вечер не предвидится ничего лучшего, то не согласится ли она поужинать вместе с ним. Светлана не раздумывала. Галя по обычаю исполнила волю подруги. Виктор Андреевич предложил отправиться в ресторан-поплавок на реку. Там у пристани стоял на мертвых швартовах старый пассажирский теплоход, переоборудованный для новой службы. Они заняли столик в углу, где вместо стульев были удобные узкие диванчики. — Не стесняйтесь, девушки, — сказал, — усаживаясь, Виктор Андреевич. — Сегодня я при деньгах. — Только сегодня? — спросила Светлана, как бы задавая тон беседе. — Нет, я вообще солидный, обеспеченный мужчина, — с готовностью поддержал этот шутливый тон Виктор Андреевич. — У меня и автомобиль есть. — Почему же мы сюда ехали на такси? — спросила Галя. — Но мы же собираемся чего-нибудь выпить, не так ли? А под хмельком за рулем нельзя. — Выпить можно, — сказала Светлана. — Мы уже пробовали. — С Пьетро? — Не только. — Это он подарил? — спросил Виктор Андреевич, показывая глазами на брошь, которой у Светланы был заколот шарф. — Он, — сказала Светлана. Тут подошел официант. Виктор Андреевич сделал большой заказ, а когда довольный официант ушел, задумчиво поглядел на подруг и сказал с легкой печалью: — Кто со стороны посмотрит, скажет: отец дочек угощает. — А может, внучек? — не упустила случая поострить Светлана. — Да, так будет вернее, — еще более печально согласился Виктор Андреевич. — Не обращайте внимания, — поспешила успокоить его Галя. Она любила успокаивать. — Ладно, мы вас не будем называть дедушкой, — сказала Светлана. — И на том спасибо. Виктор Андреевич произнес это уже с такой неподдельной горечью, что Светлане всерьез стало его жалко. — Перевернем пластинку. — Да, поговорим лучше о Пьетро, — сказал Виктор Андреевич. Поговорили о Пьетро Маттинелли. Подруги рассказали о нем все, что знали. Светлана показала Виктору Андреевичу фотокарточку и письмо, которые носила в сумочке. Потом Виктор Андреевич поведал кое-что об итальянце, который привозил посылку. Но все это было лишь присказкой к дальнейшему. Ресторан скоро заполнился целиком. На эстраду вышли музыканты, начались танцы. К тому времени Светлана и Галя выпили с Виктором Андреевичем по две рюмки коньяку и по бокалу шампанского. Глаза у них блестели, щеки горели. Было жарко. Едва Виктор Андреевич вновь налил рюмки, оркестр заиграл новый танец, и перед их столиком появились двое молодых людей. Поклонившись, один из них обратился к Виктору Андреевичу: — Вы разрешите пригласить ваших девушек? — Я не против, — сказал он, — но хотят ли они танцевать? Светлана посмотрела на молодых людей, на Галю и сказала: — Разок можно. Они вчетвером отошли от столика. Виктор Андреевич подвинул к себе лежавшую на диванчике сумочку Светланы, не торопясь, одной рукой открыл ее, пошарил, нащупал письмо от Пьетро и фотокарточку, положил их во внутренний карман пиджака и закрыл сумочку. Все это он проделал как бы нехотя, лениво. Танец кончился, молодые люди довели девушек до места, раскланялись и исчезли. Больше Светлана и Галя не танцевали, хотя к ним несколько раз подходили с приглашением. «Слишком жарко», — объяснила отказ Светлана. Зато от коньяка они не отказывались, чему Виктор Андреевич был искренне рад. Однако наступил момент, когда Галя спросила вдруг Светлану: — Выйдем? Та кивнула. — Мы вас бросим на минутку, Виктор Петрович. — Андреевич, с вашего позволения, — поправил он. В туалете, стоя перед зеркалом и поправляя прическу, Галя сказала шепотом: — Светка, что мы делаем? — А что? — Мы же пьяные… И какой-то старый мужик… — Не вникай, как говорит мой бывший друг Леша. — Правда, пьяные. — Ничего, еще по рюмочке и айда отсюда. Сколько на твоих? — Без четверти одиннадцать. В одиннадцать они покинули ресторан. Было ветрено. Шумела листва. Они шли по узкой асфальтовой дорожке. Светлана об руку с Галей впереди, Виктор Андреевич с их сумочками в руке сзади. Когда подходили к стоянке, где ждали пассажиров два такси, он открыл сумочку Светланы и так открытой и подал ей, когда девушки сели в машину на задний диван, а он поместился рядом с шофером. Светлана буркнула: — Замок сломался, что ли? — Защелкнула, попробовала разъять металлические планки, но замок держал крепко, и она успокоилась. Виктор Андреевич развез подруг по домам, сначала завезли Галю. Он записал номер домашнего телефона Светланы, а своего не дал, сказав, что у него телефона нет. А напоследок Виктор Андреевич сообщил о самом главном: — Да, вы знаете, Света, вполне возможно, я не сегодня-завтра поеду в Италию. — Правда? — Есть такой вариант. — Счастливчик, — устало сказала Светлана. Машина остановилась напротив ее дома. — Не выходите, — сказала она Виктору Андреевичу. — Когда поедете, скажите мне, я что-нибудь пошлю Пьетро. — Разумеется. Но мы еще не раз увидимся. Я буду заходить в универмаг. — Он замялся, помолчал и добавил: — Не осмеливаюсь приглашать вас к себе в гости… — Правильно делаете. — Светлана открыла дверцу. — Ну, звоните, заходите. …Поднимаясь по лестнице, она сняла с кофты брошь, открыла сумочку, чтобы положить ее на дно, и тут обнаружила, что фотокарточка, которую дал ей Леша, и письмо от Пьетро пропали. Она остановилась, припомнила, как Виктор Андреевич передал ей сумочку открытою, и решила, что, наверное, письмо и карточка выпали где-то по пути к стоянке такси. О том, что их мог взять Виктор Андреевич, у нее и мысли не было… Войдя в квартиру, она поняла, что мать не спит: в кухне горел свет. Не было смысла ходить на цыпочках — она громко протопала к себе в комнату. Тут же вошла Вера Сергеевна, зажгла люстру. — Ты опять пила? — Можно подумать, что ты никогда не пила. — Прекрати этот тон! — вспылила Вера Сергеевна. — У тебя экзамены послезавтра. — Не будет никаких экзаменов, — вяло протянула Светлана. — Не хочу я никаких филфаков, никаких английских языков, и вообще… — Что это значит?! — Вера Сергеевна сжала кулаки. Но у Светланы был звериный нюх на опасность. Сбросив туфли, она босиком подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. — Мамочка, родная, не волнуйся. Давай сядем, давай обсудим. — Она тихонько подталкивала мать к креслу. Вера Сергеевна, растерявшись, села и спросила: — С кем ты была? — С Галей. — Вдвоем? — Представь себе. — Но это еще хуже — пить вдвоем! — возмутилась Вера Сергеевна. Светлана опустилась перед нею на колени, взяла ее за руки. — Да не пьяная я, клянусь тебе. Все выветрилось. Давай поговорим. — Ты сказала, что не будешь сдавать экзамены? — Ну на черта мне этот университет, скажи? Чтобы потом всю жизнь долбить одно и то же? Уроки, уроки, уроки! И получите сто тридцать в месяц. — Что же, будешь всю жизнь продавцом? — А почему бы и нет? Но я учиться пойду. Только не в университет. — Куда же? — Ну хотя бы в торгово-экономический техникум. После можно сделать прекрасную карьеру. Вон у нас зав-отделом техникум окончила, сейчас живет — будь спокойна! — Ты же готовилась! — Как я там готовилась! Нахватаю троек. Остался день, перед смертью не надышишься. А завтра еще голова болеть будет. — А говоришь — трезвая. — Мало ли что я могу сказать. — Светлана поднялась, снова обняла мать. — Ма, давай договор заключим: больше об университете ни слова. Подумаешь — диплом! Проживем и так. Вера Сергеевна в душе была согласна с дочерью, но она все же тяжко вздохнула: — Смотри, дорогая, не будешь ли потом жалеть… — Никогда! Давай-ка спать. Со следующего дня у Светланы начинался отпуск для сдачи вступительных экзаменов, но она после этого разговора вышла на работу. Может быть, не пригласи ее Виктор Андреевич в ресторан, решение было бы иным. Таким уж: характером наделила ее природа: она умела управлять другими по своему желанию, но не умела управлять собственными желаниями. Они, эти желания, порою зависели от сущих пустяков… В то время как происходил разговор между матерью и дочерью, Виктор Андреевич у себя дома, в однокомнатной квартире, облачившись в пижаму, сидел за столом и с удовольствием разглядывал фотографию, взятую, вернее, украденную из сумочки Светланы. Он не опасался обвинений в краже, рассчитывая на то, что девушкам не придет в голову его подозревать (и он не ошибся в своих расчетах). Но даже если бы у него и возникли такие опасения, он бы все равно карточку эту взял, потому что на ней в позе человека, приподнявшегося со стула, был изображен именно он, Виктор Андреевич Кутепов. Светлана и Галя его не узнали, что немудрено, — в натуре, так сказать, они видели его впервые, а фотография маленькая, к тому же лицо его получилось немного не в фокусе. Вот если выкадрировать это лицо, увеличить и сравнить с другими его фотопортретами, тогда сходство установить проще простого. Наглядевшись, Виктор Андреевич пошел в кухню, зажег газ и спалил карточку. Потом выключил газ, открыл окно, чтобы проветрилось, и лег спать.
ГЛАВА 8 Хроника семьи Нестеровых
Специалисты, занимающиеся проблемами семьи и брака, установили, что, например, в Соединенных Штатах Америки в последние годы заметно возросло число разводов среди супругов, которым перевалило за сорок пять. Понятно, что виновниками, или, если хотите, инициаторами при этом являются мужчины — по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, ибо редко можно наблюдать, чтобы женщина в этом возрасте желала оставить мужа. Мужчины — дело другое. Почему так происходит? Коллизии, разумеется, у каждой пары свои, неповторимые. Но схема, по которой происходит развал семьи, почти у всех одинакова. Для среднеобеспеченных прослоек населения она выглядит следующим образом. В двадцать два — двадцать три года выпускник университета или колледжа, полный радужных надежд и энтузиазма, с помощью родственных связей по протекции поступает на службу в процветающую компанию. Он работает, не считаясь со временем и не жалея сил, так как жаждет сделать карьеру. Начальство замечает рвение новичка и продвигает его на должность, которая оплачивается столь хорошо, что молодой человек уже может себе позволить мысль о женитьбе. Он делает предложение девушке, за которой ухаживал целых три года или три месяца, получает ее согласие, а также согласие ее родителей и благословение собственных, и жених и невеста идут под венец. Вернувшись из свадебного путешествия (впрочем, оно становится все менее обязательным), молодые, не теряя времени, начинают заниматься накопительством или влезают в кредитную яму. Куплена новая машина. Через год на свет появляется ребенок. Жена оставляет свою компанию, где она работала секретарем, и посвящает себя дому и воспитанию. У отца семейства прибавилось забот: денег нужно все больше и больше. Он не щадит себя на работе, и усердие вновь вознаграждается — его делают заведующим отделом. Затем рождается второй ребенок — это требует дополнительных затрат, Значит, необходимо зарабатывать еще больше. Глава семьи не имеет возможности хотя бы посидеть вечером перед телевизором или поболтать с детьми. Он все время на работе, он не видит ничего вокруг себя. Только дело, одно дело. Год катится за годом, и вот бывший молодой человек уже вице-президент компании. У него большая, в пять комнат, квартира, дети выросли и учатся в колледже. В банке у него лежит энная сумма на черный день. Кажется, можно немного вздохнуть. В одно прекрасное утро он входит в свой офис и словно впервые видит в приемной собственную секретаря-машинистку, которая, между прочим, работает у него уже два года. Но он действительно по-настоящему видит ее впервые — прежде она была лишь винтиком в его отлично отлаженном служебном механизме. И констатирует, что она чертовски хороша собой. Он мысленно ставит ее рядом с поблекшей в домашних заботах женой и делает далеко идущие выводы. Ведь он, в сущности, совсем не видел жизни, он тянул из себя жилы ради этого проклятого благополучия и истэблишмента. Он обокрал себя. Но хватит, довольно! Он еще не старик, черт побери! Жене будет оставлено достаточно, детей он тоже обеспечит. Надо пожить, пока не поздно, пожить наконец в свое удовольствие. Словом, спустя полгода, пройдя через все адовы круги бракоразводного процесса и раздела имущества, он обручается с молоденькой секретаршей и начинает новую жизнь, которая новой бывает в общем-то только на первых порах… Николай Николаевич Нестеров, ныне академик, лауреат Государственных премий, почетный член одной иностранной Академии наук, родился и вырос не за границей, но история его первой и второй женитьбы укладывается в вышеописанный стереотип, правда, с некоторыми существенными отклонениями от него. По окончании университета Николай Николаевич был принят ассистентом к крупному советскому ученому, работавшему в области физической химии. Он не делал карьеру, потому что, во-первых, не принадлежал к числу карьеристов, а во-вторых, в этом не было необходимости. Но он трудился как одержимый, очень много экспериментировал в поисках опытного подтверждения идей, выдвигаемых его маститым руководителем. Сама собой сложилась кандидатская диссертация, которая при защите была признана достойной докторского ранга. В двадцать семь лет он женился на выпускнице того факультета, где когда-то учился сам и где читал небольшой курс лекций. Родился сын, через год — второй. Николай Николаевич получил самостоятельную работу, в его распоряжение была выделена целая лаборатория. Он обладал, как выяснилось еще в студенческую пору, талантом ученого-теоретика и способностями тонкого, остроумного экспериментатора — сочетание не столь частое. В общем, он так ушел в науку, что не замечал ничего и никого вокруг себя, и поднял голову, и огляделся только в сорок пять лет. Тут-то известный ученый Нестеров и увидел по-настоящему свою двадцатилетнюю лаборантку Олю и тотчас в нее влюбился со всем пылом, как говорится, нерастраченной души. Сыновья его были, можно считать, взрослыми: старший заканчивал школу, младший учился в девятом классе. Николай Николаевич не собирался их лишать отеческой заботы и попечения. Он положил себе законом обеспечить до последнего дня и прежнюю супругу, которую, как выяснилось, он вовсе не любил. Разрыв получился болезненным — разумеется, больше для его супруги, — но что тут поделаешь? Любовь сорокапятилетнего к двадцатилетней — явление такого несокрушимого порядка, что ни жалобами в партком и завком, ни вызовом на ковер пред начальнические очи, ни угрозами покинутой жены отравиться ее не истребить, не погасить. Ее может постепенно низвести на заурядный уровень только будущая совместная жизнь. К моменту излагаемых событий Николаю Николаевичу исполнилось шестьдесят шесть лет. Ольге Михайловне — сорок один. Ник, как его звала на людях Ольга Михайловна, давно уже был дедушкой трех внуков. Он их ни разу не видел, но не очень-то из-за этого страдал. Он и с сыновьями встречался не каждый год, однако в помощи никогда им не отказывал. Если он и любил кого-нибудь глубоко и преданно, так только свою дочь Галю, родившуюся уже в городе К., куда Николай Николаевич переехал из Москвы сразу после развода. Здесь, ему дали под начало большой научно-исследовательский институт, но, поруководив три года, он понял, что эта должность не по нему, и попросил дать ему возможность заняться чистой наукой. Просьбу, конечно, уважили, так как проблемы, интересовавшие академика Нестерова, имели в перспективе огромное прикладное значение. Для отдохновения души, для разрядки Николай Николаевич читал иногда лекции студентам. Ольга Михайловна обладала натурой нервического склада. Это особенно проявилось после родов и выразилось довольно оригинальным образом. Молодая, цветущая женщина вдруг возомнила себя бесповоротно чахнущим существом, обреченным на быстрое угасание. Конечно же, муж всячески старался уверить ее в обратном, оберегал от всего, что могло бы причинить вред чувствительной нервной системе его юной жены. Конечно же, была найдена и нанята нянька к ребенку, который вскармливался не грудью — грудь Ольга Михайловна не хотела портить, — а на искусственном питании. Не проходило недели, чтобы она не вызывала на дом врача, пока наконец по прошествии какого-то времени Ольга Михайловна не разуверилась и в аллопатии и гомеопатии. После этого началось лечение травами, а от каких болезней — неизвестно потому что никакого точного диагноза никто из врачевавших Ольгу Михайловну поставить не мог. До школы Галя почти не знала свою маму. Хорошо, если она видела ее хотя бы раз в день. Азбуке Галю научила няня, а счету — папа. Но когда она пошла в школу, Ольга Михайловна решительно взяла дело дальнейшего воспитания дочери в собственные руки. Няне оставлены были кухня, стиральная доска и пылесос. Девочка, естественно, была устроена в специализированную английскую школу и одновременно в музыкальную. Ольга Михайловна хотела, чтобы Галя посещала также гимнастическую секцию Дворца пионеров, но способностей к гимнастике у ребенка не нашли. Тернистыми были школьные годы Гали. Воспитательный порыв ее мамы, все еще молодой, но с истерзанными нервами, оказался затяжным. К тому же Ольга Михайловна, сама выросшая в рабочей семье, выйдя замуж за академика, каким-то чудесным образом усвоила особую манеру общения с людьми, которую она считала в высшей степени аристократической. Она говорила так тихо, что муж часто вынужден был переспрашивать и иногда начинал задумываться, не глохнет ли он; всем прочим переспрашивать не разрешалось. Приказания няньке, которая превратилась в домработницу, она отдавала одним каким-нибудь словом: «белье» — это значило, что надо сменить постельное белье; «мясо» — значит, надо готовить мясной обед; «холодно» — следовало закрыть окно и т. д. и т. п. Манера эта распространилась на дочь, так что Гале с малых лет пришлось учиться нелегкому искусству понимать с полуслова. Это невредно в жизни, но маленького человечка держит в страшном напряжении. Пока-то он научится… Николай Николаевич, обретя счастье и покой в новой семье, ощутил прилив творческой энергии и занялся разработкой сложнейшей научной проблемы, волновавшей тогда физиков всего мира. Как в лучшие свои молодые годы, он с головой ушел в дело, однако в отличие от прошлых лет находил время возиться с доченькой, что доставляло ему радость. Зная, что жена придерживается спартанского метода воспитания, он потихоньку от нее скрашивал суровое существование Гали подарочками и подарками и таким образом способствовал некоему раздвоению личности у своей любимой доченьки: мать требовала от нее полной правдивости и откровенности, а подарки надо было прятать. В педагогике родители были несильны, особенно отец, поэтому ничего удивительного, что Галя росла одновременно и скрытным и стеснительно открытым ребенком. С годами папины подарки становились все дороже, а это заставляло Галю быть изощреннее в их сокрытии, пока не произошел взрыв. Действуя в совершенном противоречии со своими аристократическими замашками, Ольга Михайловна произвела однажды тотальную ревизию всего Галиного имущества, то есть попросту обыскала ее комнату. Найдя в шкафу и в ящиках письменного стола целый склад безделушек, в том числе несколько драгоценных, Ольга Михайловна учинила дочери допрос, а узнав об источнике этих богатств, устроила мужу скандал шепотом. Безделушки она оставила их владелице, но постановила, чтобы впредь подарки делались только — с ее ведома. Родительский разнобой в методах воспитания, кроме двойственности характера, выработал в Гале еще одно качество скорее положительного, чем отрицательного свойства: она научилась разбираться в самоцветах, в драгоценных камнях и полюбила их — не из тяги к приобретательству, а чисто эстетически. Отец продолжал поощрять ее в этом направлении новыми подарками, которые она стала прятать у него в кабинете. Самое же существенное, к чему привела всеподавляющая родительская власть Ольги Михайловны, заключалось в том, что из Гали сформировался человек, совершенно лишенный какой-либо самоуверенности. Это хорошо только до известного предела — когда про такого человека все-таки можно сказать, что он не лишен уверенности в себе. К сожалению, о Гале этого сказать было нельзя. Николай Николаевич обожал свою дочь. В нем было столько нежности к ней, что это до известной степени компенсировало расчетливую сдержанность и даже холодность матери. Он узнавал себя в Гале не только по чертам лица, но и по мельчайшим проявлениям нрава. И когда в редкие минуты удрученного духа ему хотелось излить перед кем-нибудь свои думы и сомнения, он выбирал наперсницей дочь, хотя она не понимала и половины из того, что он говорил. Обычно это касалось его взаимоотношений с сыновьями и бывшей женой или его размолвок с теперешней женой, матерью Гали. Эти размолвки Николай Николаевич подавал в шутливых тонах, словно с целью показать дочери, из-за каких пустяков могут близкие люди отравлять друг другу жизнь и как это в общем-то глупо. Тем не менее на него эти пустяки постепенно оказывали все большеевлияние, и он, чтобы свести до минимума время семейных бесед, при которых и возникали недоразумения и стычки, начал понемногу работать дома. Не отличаясь педантизмом и аккуратностью в чисто бытовом плане, Николай Николаевич все же, как правило, делал свои вычисления, писал длиннейшие формулы в особом блокноте и, окончив работу, обязательно прятал его в портфель. Но иной раз он забывал этот блокнот в институте и в таких случаях писал дома в ученических тетрадях или на отдельных листках. Утром он листки собирал со стола и прятал в секретер — старинный, из цельного красного дерева, в который был вделан маленький несгораемый ящик. То, над чем он трудился, разглашению не подлежало. При малейших признаках, что нервы матери натянуты, а следовательно, атмосфера в доме сгущается, Галя уходила к себе, ложилась в постель и читала. До знакомства со Светланой Суховой подруг у нее, в сущности, не было, отчасти потому, что она не отличалась общительностью, отчасти в силу того, что мама постоянно твердила ей о необходимости быть разборчивой в знакомствах, хотя, честно говоря, в чем это должно заключаться, Ольга Михайловна не умела объяснить. Дружба со Светланой основывалась на резкой разнице темпераментов. Вспыльчивая и отходчивая, едкая и добродушная, но всегда упрямая и настойчивая, Светлана поразила воображение тихой, ровной, привыкшей к раздумью Гали. Они быстро сошлись, и само собой установилось, что во всем, кроме учебы, первой была Светлана, она верховодила и наставляла. Казалось бы, Галю, испытавшую полной мерой тяжесть родительского гнета, не должно устраивать такое положение, однако ей, наоборот, нравилось подчиняться Светлане. Вероятно, сказывалась привычка быть все время руководимой кем-то. И потом, как говорит современная наука, в каждом коллективе, даже если он состоит всего из двух человек, непременно кто-то должен быть лидером, а кто-то ведомым. Гале роль лидера никак не подходила. Светлана многому научила подругу, в том числе умению рассказывать матери не всю правду о своих делах. Это особенно пригодилось Гале, когда она принесла домой вещи, присланные Пьетро Маттинелли. Галя объяснила, что все это привез из Италии и продал Светлане какой-то итальянец, работающий на монтаже оборудования на химкомбинате. Ему понадобились деньги для покупки сувениров родным и друзьям, так как он уезжает в Италию. Деньги же у нее скопились за полгода, и вообще покупка недорогая, каких-то шестьдесят рублей. Ольга Михайловна еще три года назад пожелала лично побеседовать с новоявленной подругой дочери. Галя привела к себе Светлану, и последняя была принята Ольгой Михайловной в столовой комнате за вечерним чаем. «Шумна немножко, но, кажется, девочка незлая», — сказала Ольга Михайловна, когда Светлана ушла. Выбор Гали был одобрен. А Светлана сказала Гале так: «Важная у тебя мамуля, только, по-моему, близорукая…» Даже при кратком жизнеописании семьи Нестеровых было бы упущением не сказать о том, как ставился и понимался родителями вопрос о замужестве Гали. Ей шел двадцать первый год. Как раз в этом возрасте сама Ольга Михайловна вышла замуж за Николая Николаевича… Что касается дочери, то Ольга Михайловна категорически определила: Галя выйдет замуж не прежде, чем окончит университет и устроится на работу. Второе непременное условие: ее муж должен быть ей ровесником; если старше, то не более как на пять лет. Отсюда можно сделать заключение, что Ольга Михайловна считала собственный брак весьма далеким от идеала. Николай Николаевич данной проблемой не интересовался. Он сформулирозал свою точку зрения следующим образом: «Пусть будет как будет». Это была несколько перефразированная цитата из гашековского «Бравого солдата Швейка».ГЛАВА 9 Брокман нашелся
Дальнейшее пребывание в Африке становилось бессмысленным. Михаил собрал достаточно сведений, чтобы представить Центру объективный доклад о положении в португальской колонии, в которой он находился. Брокман улетел в Европу, следовательно, и личных интересов Михаил в Африке больше не имел. Срок контракта кончался только через восемь месяцев, но он считал, что выданный ему аванс отработал, а вторую половину договорного жалованья, которую переводят на счет в банке, ему не получать. Уехать — вернее, бежать — оказалось делом сложным, рассказ об этом занял бы слишком много места, но так или иначе, а однажды осенним днем Михаил добрался до Танжера. Оттуда попасть в Европу уже нетрудно. Первым долгом он отправился в Париж, чтобы повидаться с Доном. Михаил не собирался останавливаться здесь даже на сутки — надо зайти к Дону попросить о продолжении поисков Брокмана и в Центр. Но ему пришлось изменить планы. Прямо с вокзала он приехал на такси в бар Дона, и едва они друг друга увидели, Михаил сразу понял, что у его друга есть важные новости. Дон высоко приподнял свои рыжие брови, поздоровался с ним очень церемонно и жестом пригласил пройти в дверь за стойкой. А за дверью был коридорчик, ведущий в контору Дона. Ждал Михаил недолго. Дон явился и заговорил в несвойственном ему стиле — с порога начал задавать вопросы. — Оттуда? — Да. — Видел его? — Видел. — Газеты читал? — Английских и французских — нет. — А какие-нибудь особенные акции у вас были? — Какая-то операция в джунглях. — Брокман в ней участвовал? — Да. Ранен. — В руку? — Да. А откуда тебе это известно? — в свою очередь, задал вопрос Михаил. — Надо читать газеты. Его из джунглей на вертолете вывозили? — В том числе и его. — Ну вот, значит, все сходится. Но надо еще проверить. — Ради бога, что сходится, что проверить? — Руководители повстанцев дали интервью журналистам. Газеты писали, что на этих руководителей готовилось покушение. — Какое же покушение, если там идет настоящая война? — Ну, называть можно по-разному. Пусть будет диверсия. — Но при чем здесь Брокман? — Кажется, точно такой же вопрос Михаил задавал Дону еще при первых разговорах о Брокмане. — Газеты писали, что группа диверсантов состояла из профессиональных наемных убийц. Публиковали даже два портрета, но не Брокмана. Он был в этой группе. — А что надо проверить? — Писали, будто все эти парни работают на ту же контору, что и мы с тобой. — Вот как… — Это лишь предположение. — А как же можно проверить? Дон прижал левую ладонь к сердцу. — Разреши, пожалуйста, не все тебе рассказывать. — В нашем с тобой деле чем меньше знаешь, тем лучше, — сказал Михаил. — Не всегда, но в данном случае ты прав. — И долго надо проверять? — Дай мне хотя бы неделю. — Мне не к спеху. — Ты, между прочим, в конторе и сам после можешь проверить, — как бы оправдываясь, сказал Дон. — Меня на кухню не пускают. — Михаил погасил сигарету в пепельнице и встал. — Выпить не хочешь? — Нет. Пойду в отель потише, возьму номер потеплее и залягу спать. Я тебе позвоню. …Через четыре дня Дон сообщил, что Брокман (под другой фамилией, разумеется) входил в группу, которая действовала по заданию Центра. Более того. Дон узнал, что Брокман из Парижа улетел в город, поблизости от которого находилась главная квартира Центра. Михаил отправился туда же. Спустя сутки он предстал перед Монахом, перед своим начальником, с устным докладом. Но Монах выслушал только вступление, а потом прервал его: — Вы напишите все на бумаге. В подробности не вдавайтесь. Набросайте общую картину того, что видели. Михаил составил письменный доклад. Монах прочел и сказал: — Хорошо. Возвращайтесь к своим прежним занятиям, а там посмотрим. Как Михаил и предполагал, его опять загрузили самой скучной для разведчика работой, которая носила даже не аналитический, а скорее статистический характер. Приходилось по восемь часов в день корпеть над малоинтересными, раздутыми и беллетризованными донесениями обширной агентуры Центра, выуживая из вороха словесной соломы редкие зерна полезной информации. Утешало лишь соображение, что эти зерна истины сослужат службу не только здешним его начальникам. Положение в Центре оставалось неспокойным, и Монах, видя в Себастьяне приставленного к нему контролера, становился раздражительным. Их плохо скрываемое взаимное недоброжелательство превратилось в почти открытую вражду. Они терпели друг друга лишь в силу служебной необходимости. Совсем недавно произошло несчастье с агентом, на которого Центр возложил миссию особой важности в одной из стран социалистического содружества. Это произошло по вине Себастьяна, который снабдил агента явками, засвеченными еще за год перед тем. Монах предвидел это и предостерегал, но Себастьян настоял на засылке, и в результате Центр имел огромные неприятности. После того случая Себастьян решил во что бы то ни стало себя реабилитировать, а так как по натуре он был злобным субъектом, он избрал для этого способ, который наиболее полно отвечал его натуре. Себастьян начал рассчитанную на длительный срок кампанию проверки сотрудников Центра — всех поголовно, невзирая на лица. Однажды в порыве служебного рвения он сказал Монаху, что кое-кто из сотрудников ведет двойную игру и что он, Монах, явно недооценивает опасности такого положения. Монах тогда язвительно ему заметил: «Может, вы и меня подозреваете тоже?» Себастьян затаил обиду и спустя некоторое время написал рапорт высшему начальству, где резко осуждал шефа за потерю бдительности. Но начальство усмотрело в рапорте совсем иное. Их обоих, ею и Монаха, вызвали на ковер и задали Себастьяну вопрос в лоб: уж не хочет ли он занять место шефа? А кончилось тем, что им предложили поддерживать между собой рабочие отношения. Однако идею Себастьяна о дополнительной проверке лояльности сотрудников одобрили. (Об этом Монах однажды за коньяком рассказывал Михаилу.) Себастьян разработал целый комплекс соответствующих мероприятий и приступил к его осуществлению. Относительно Михаила Тульева у него имелся особый метод. Например, однажды он вызвал Михаила к себе в кабинет и положил перед ним фотографию: перед подъездом здания КГБ на площади Дзержинского стоит Бекас — Павел Синицын. — Узнаете своего друга? — спросил Себастьян бодрым тоном. Михаил взял карточку, посмотрел и спокойно сказал: — Это Бекас. — А дом вам тоже знаком? — Наверно, Комитет госбезопасности в Москве. — Как же насчет Бекаса? Если бы Михаил и не знал о блестящих монтажных способностях главного фотомастера Центра Теодора Шмидта, то он все равно не поддался бы на провокацию. Фотомонтаж был хороший, но Себастьян не учел одной детали: Павел — Бекас на карточке одет в ту куртку и те брюки, которые носил во время своего пребывания здесь, в Центре. И потом это же крайне грубая работа: с какой стати советский контрразведчик Павел Синицын, он же Бекас, будет фотографироваться или позволит кому-нибудь сфотографировать себя на фоне здания КГБ? — Хотите откровенно? — спросил Михаил, наклонясь к Себастьяну. Тот отстранился. — Это серьезнее, чем вы думаете. Я и раньше говорил и теперь говорю: Бекас нам подставлен. Правильно рассуждал Себастьян, но беда его заключалась в том, что он сам и верил и не верил этому. У него не было определенности. Михаил решил промолчать, и Себастьян вынужден был повторить свой вопрос: — Так что вы скажете по поводу этого снимка? — Теодор Шмидт — прекрасный мастер, больше тут ничего не скажешь. Себастьяна передернуло. Он быстро взял карточку, положил ее в карман. — Не считайте других глупее себя, — важно сказал он. — Но вы посмотрите на снимок как следует. Обратите внимание, как одет Бекас. Себастьян смотреть не стал. На этом беседа закончилась. Другой способ проверки Михаила Тульева должен был осуществиться на территории Советского Союза, но об этом он узнал гораздо позже… Медленно тянулось для него время. С привычной осторожностью он упорно искал след Брокмана. Почти во всех отделах у Михаила были хорошие знакомые, но наводить о ком бы то ни было справки окольными вопросами, а тем более открытым текстом в разведцентре и раньше не разрешалось, а при теперешней атмосфере и подавно. Потом произошло событие, приятное для большинства сотрудников Центра: Себастьяна вызывали за океан, и, как поговаривали, надолго. Высказывалось предположение, что он поехал в ЦРУ повышать квалификацию. Так или не так, но почти все были рады, особенно Монах. И его легко понять. Для Михаила отъезд Себастьяна обернулся наилучшим образом. На следующий день его позвал Монах — не в служебный кабинет, а домой. Против ожиданий Монах не предложил коньяку и сам был трезв как стеклышко. Показав Михаилу на кресло, он сел напротив, закурил и спросил: — Между прочим, помните того парня, с которым вас разменяли? — Конечно, — сказал Михаил. — Его зовут Владимир Уткин. Он до сих пор там. Надежная легенда оказалась. К чему это было сказано, Михаил не успел сообразить, потому что Монах задал новый вопрос: — Этот ваш Бекас может убрать человека? Чтобы выгадать время и замаскировать свое удивление, Михаил немного помолчал. — Я уж про него забыл, — произнес он наконец раздумчиво. — Давно было. — Но все-таки… — настаивал Монах. — Если вы помните его историю… — Помню, — живо перебил Монах. — Он убил часового, когда бежал из колонии. Но вообще-то Бекас принципиально против мокрых дел. Он профессиональный вор. Тогда это было по необходимости. — Думаете, не согласится? — Скорее всего, нет. — Можно пригрозить. — Выдать его милиции за то убийство? — удивленно спросил Михаил. — Да. — Этот шантаж я уже однажды использовал. — Можно повторить. Нельзя было рассчитывать, что Монах возьмет и вот так сразу и выложит все подробности задуманного или задумываемого им. Однако Михаил попробовал: — Смотря по обстоятельствам. Бекас — личность непростая, действует с разбором. — Речь идет о рядовом убийстве. — Нужен стимул. — Деньги он получит. — С них и надо начинать. — Хорошо, мы еще к этому вернемся, — подвел черту Монах. — Я вас звал не за этим. Он встал, прошелся по толстому пушистому синему ковру из угла в угол и сказал: — Завтра я вас познакомлю с одним нашим сотрудником. Он родился в России, но пятилетним мальчиком попал в Германию и потом остался на Западе. — Он выдержал небольшую паузу и затем снова заговорил: — Вы проверите, насколько хорошо он владеет русским языком. Если есть недостатки, вы определите, как их исправить, чтобы он говорил на современном русском. Это раз. Два: вы будете на протяжении двух месяцев учить его советскому образу жизни и советскому образу мысли. — Тут Михаил слегка усмехнулся, и Монах тотчас это заметил: — Не улыбайтесь… А впрочем, вы правы. И мы сделаем вот что. Учение будет гораздо эффективнее, если вы с ним станете жить вместе. Да, да, именно так. Вы не против, надеюсь? Еще бы ему быть против! — С большой охотой. Монах сказал: — Вы начинаете немножко прокисать на своей работе. Ничего, теперь будет веселее. На той же неделе Монах снова вызвал Михаила и опять к себе домой. Это всегда много значило: в домашней обстановке Монах вершил самые важные дела Центра. При этом неукоснительно соблюдалось одно правило: приглашенный обязан проникать на виллу Монаха тайно, чтобы никто не видел его входящим в дверь. Похоже на игру, но определенный смысл в этом все же был. По меньшей мере Монах таким образом ограждал себя и своих исполнителей от всевидящего ока Себастьяна. Декабрьский вечер был темный и холодный. Шел дождь пополам со снегом. На вилле Монаха, стоявшей в окружении голых деревьев поодаль от других вилл, не светилось ни одно окно. Михаил кружным путем вышел к вилле со стороны сада, перелез через двухметровую железную ограду, по раскисшей дорожке прошагал к двери, которая вела на кухню, нащупал за косяком кнопку звонка. Открыл ему сам Монах: слуга, вероятно, был отпущен на этот вечер. Войдя следом за хозяином в гостиную, Михаил не сразу заметил сидевшего в кресле человека, а когда тот поднялся и шагнул в круг света, падавшего на ковер из-под огромного, как зонт, абажура, Михаил невольно приостановился. Перед ним стоял Карл Брокман. По традиции, сотрудники разведцентра, если они познакомились ранее на какой-то нейтральной почве, не имели права показывать этого никому, особенно же начальству. Михаилу эта традиция была известна. Брокману, судя по всему, тоже — стало быть, или он уже давно работает здесь, или его кто-то научил, предупредил. Михаил видел, что Брокман тоже его узнал и что он удивлен не менее. Монах ничего не заметил. Он представил их друг другу: — Михаил Мишле. — И, показав рукой на Брокмана: — Прохоров Владимир. Прошу любить и жаловать. Монах произнес это по-русски, пользуясь случаем проверить свои знания в чужом языке. Мишле — одна из фамилий, под которыми Михаил работал в Европе. Брокман протянул Михаилу руку, Михаил пожал ее. — Садитесь, — пригласил Монах. — Можете курить. Он подвинул кресло к круглому столику, сел. Они тоже сели. — Итак, — сказал Монах по-немецки, обращаясь к Михаилу, — выслушайте мою длинную речь, а потом будете задавать вопросы… Ваш подопечный Владимир Прохоров владеет русским, но не имеет никакого представления о бытовой стороне жизни в Советском Союзе. Впрочем, об этом я уже говорил… Как общаются между собой люди на работе, на улице, в кино? Как нужно относиться к сослуживцам, к начальству? Как знакомятся с женщинами? Все это и многое другое для него пока за семью печатями. Вы должны научить его… И заметьте себе: тут нет мелочей, которыми можно пренебречь… Я рассказывал вам, на чем однажды засветился один разведчик? Михаил слышал от Монаха эту историю, но, чтобы подыграть ему, сказал: — Не знаю, что вы имеете в виду. Интересно послушать. — Его, этого опытного разведчика, выдали шнурки на ботинках. Да, да. Он приехал в страну, где должен был осесть надолго. Шнурки были завязаны у него бантиком и болтались на виду. Там мужчины имеют обычай прятать концы шнурков внутрь. А он с первого шага выдавал себя за коренного жителя… Ну и, конечно, нашелся дотошный человек, который на эти шнурки обратил пристальное внимание. И — провал. Понимаете, что значат мелочи? — Монах обернулся к Брокману. — Вы еще молоды, а ваш наставник кое-что повидал. Слушайте его. Старших полезно слушать. А теперь вопросы. — Мы по-прежнему будем жить здесь? — спросил Михаил. — Нет, тут никто не должен видеть вас вместе. Поезжайте в Швейцарию, выберите курорт какой хотите и живите тихо. В Цюрихе и Женеве показываться не рекомендую. Что еще? — Когда приступать? — Чем скорее, тем лучше. Документы и деньги завтра у меня. Брокман вопросов не задавал, и Михаил подумал про себя, что этот наемный убийца, а ныне кандидат в разведчики обладает, должно быть, спокойным характером. Или туп как пень. Одно из двух… — Надо сразу условиться о месте встречи, — сказал Михаил. — Вы знаете Берн? — спросил Монах. — Плохо. — Сонный городишко. То, что вам надо. Там на Цейхгаузгассе есть отель «Метрополь». В нем вы и встретитесь. А жить я посоветовал бы в Гштааде. Прелестный курорт. Михаил уехал через день. В Берне он поселился в отеле, указанном Монахом. Вечером позвонил в один из отелей Гштаада — выбор был сделан по рекомендации хозяина бернского отеля — и легко договорился о двух номерах. До весеннего лыжного сезона было еще далеко. Утром в номер постучали. Это был Брокман. Они поздоровались уже как давно знакомые. В чинной швейцарской столице задерживаться им не хотелось, поэтому решили после завтрака отправиться на вокзал. От Берна до Гштаада по железной дороге километров около ста. Неторопливый поезд доставил их к отрогам Бернских Альп. Сразу за крошечным зданием вокзала — асфальтированная узкая улица, по которой они пошли вправо, на подъем. Через пять минут Брокман первым вошел в отель, с хозяином которого Михаил говорил по телефону. Номера им дали соседние, на втором этаже. Оставив чемоданы, они отправились прогуляться. Выйдя из отеля и глубоко вздохнув, Михаил почему-то вдруг вспомнил далекий отсюда город, где живут два любимых его существа — жена Мария и сын Сашка, и тот ясный январский денек, когда он в воскресенье лежал в постели, в теплой комнате, а Мария внесла с улицы заледенелое, залубеневшее белье, громыхавшее жестяно и льдисто, и комната наполнилась чистым свежим запахом мороза. Михаил поднял голову, поглядел на недалекие снежные горы и понял, откуда это внезапное воспоминание: пахло снегом. Но он тут же представил себе отца, рухнувшего от удара в висок, Брокмана с железкой, отлитой по слепку с мраморной ступеньки, на мгновение склонившегося над распростертым недвижно телом, и видение далеких лет, закрепленное в памяти запахом чистого, внесенного с мороза белья, развеялось.ГЛАВА 10 Вторая посылка и перстень с изумрудом
Галя Нестерова вечером легка читала книгу, когда зазвонил телефон. Сняв трубку, она услышала голос Светланы, звучавший необычно взволнованно. — Галка, ты одна? Мать из Москвы еще не вернулась? — Нет. Ольга Михайловна была в это время в Москве, куда поехала за консультацией к какому-то профессору по поводу своих болезней, Николай Николаевич был у себя в институте. — Слушай, — продолжала Светлана, — вернулся Виктор Андреевич. Прямо не знаю, что делать. Кошмар какой-то. Виктор Андреевич за две недели до этого сказал им, что едет в Италию. — В чем кошмар? — спросила Галя. — Колоссальную посылку привез. Мне ее домой нести нельзя. Мать на стенку полезет. — Может, приедешь ко мне? — нерешительно предложила Галя. — Только поскорее. — О том и прошу. А почему поскорее? — Папа должен прийти. — Ну, это ничего. Я сейчас. Светлана появилась взволнованная, румяная не то от мороза, не то от спешки. — Вот, еле дотащила, — сказала она, ставя на стол большой кожаный чемодан. Она разделась, бросила пальто и шапочку на Галину постель, и они принялись разбирать содержимое чемодана. Тут были замшевые юбки и куртки, шерстяные кофты, кожаные сумки, колготки различных цветов в глянцево блестевшей упаковке и масса разных мелочей. Была и жевательная резинка. А из своей сумочки Светлана достала золотое кольцо. На сей раз она уже не высказывала сомнений, настоящее это или подделка. Впервые Галя видела подругу такой взвинченной. Да у нее и у самой забегали глаза. Начали примеривать вещи, и тут выяснилось, что почти все прислано в двух экземплярах. — Он просто непонятный человек, — сказала Галя. — Тут и на меня рассчитано, что ли? Светлана вынула из сумочки конверт. — Прочти. Буквами, какими пишут в школах первоклассники, Пьетро составил настоящее любовное послание. Он уверял, что жить без Светланы не может. А в постскриптуме было сказано:«Я знаю, Вы не желаете принимать подарки. Чтобы это Вам легче сделать, посылаю также Гале», —вот почему все, кроме кольца, было в двух экземплярах. — Сколько же это может стоить? — спросила Галя. Стали подсчитывать, оставляя в стороне мелочи. Итог привел подруг в замешательство: получилось что-то около четырех тысяч рублей. — Я все-таки не понимаю… — растерянно заговорила Галя. — А может, это любовь? — перебила Светлана словами песенки, но в голосе ее не было всегдашней самоуверенности. Галя задумалась, глядя на себя в зеркало: как сидит на ней синий замшевый костюм, присланный Пьетро? Светлана примеряла кольцо. Оно точно пришлось на безымянный палец. — Куда же все это девать? — сказала Галя. — Не отсылать же обратно, — Светлана уже вполне владела собой. — Матерям что скажем? — Ерунда. Давай спрячем у тебя, тут места много. А обновлять потихонечку, сначала одно, потом другое. У тебя накопления бывают, а я своей буду говорить: в кредит покупаю. Главное — постепенно. Девиз умеренных и благонравных. — У меня тоже ненадежно. Мама ревизии устраивает, ты же знаешь. — А давай в кабинет к отцу. Ты ведь этим приемом успешно пользовалась. — Это, конечно, лучше. Но что делать с чемоданом? — Продадим. В комиссионный. На черта нам такой? Слишком шикарно. Кабинет Николая Николаевича представлял собой большую, не менее тридцати квадратных метров комнату в два окна. Письменный стол стоял в дальнем от двери углу. Две стены были сплошь в книжных стеллажах от пола до потолка. Старый, вытертый кожаный диван, накрытый пледом, занимал темный угол у двери. Еще здесь было два низких широких шкафа и старинный секретер. В шкафы, как знала Галя, отец не заглядывал, потому что там лежали его студенческие учебники и рукописи давних работ. Они ему не были нужны, но выбрасывать их он не разрешал. В шкафах и секретере нашлось достаточно места, чтобы рассовать вещи. Правда, все основательно пропылится, но это поправимо. Светлана на первый раз взяла домой присланную Пьетро кожаную сумку с тисненым орнаментом — ее старая уже порвалась по швам. Кольцо легко спрятать дома. — Да, чуть не забыла, — сказала ока на прощание. — Виктор Андреевич хочет нас видеть завтра вечером. Ты никуда не скрывайся… Надо заметить, что к тому времени у Виктора Андреевича установились с подругами отношения, приятные для обеих сторон. Он удачно исполнял роль доброго, умудренного житейским опытом дядюшки. В их присутствии он, так сказать, отогревался сердцем, и потому встречи с ними происходили довольно часто и всегда по его инициативе. Признавшись как-то, что имеет слабость к вину, Виктор Андреевич при каждой встрече старался угостить Светлану и Галю. Таким образом, скоро в городе не осталось ресторана, где бы они не побывали. В некоторых ресторанах их принимали с почетом, как постоянных клиентов. Виктор Андреевич по мере сил прививал подругам довольно пошлый взгляд на вещи, часто повторяя, что жить надо проще, смотреть на жизнь легко, не делать из всякого пустяка проблему и не задумываться о будущем. Когда Светлана говорила, что для этого необходимо иметь много денег, Виктор Андреевич возражал: женщинам их иметь необязательно, они должны быть у мужчин. Надо только уметь найти того, кто готов тратить ряди прекрасных женских глаз. Как, например, итальянец Пьетро Маттинелли. Все это излагалось полушутя-полусерьезно, но что-то, вероятно, оседало в неокрепших душах подруг. В иные встречи, когда не ходили в ресторан, Виктор Андреевич катал Светлану и Галю на своей машине, они совершали поездки за город. Эти автопрогулки не прекратились и с наступлением зимы. Мать Светланы, кажется, не замечала, что образ жизни ее дочери в последние полгода заметно изменился. Светлана возвращалась после встреч с Виктором Андреевичем поздно, — как правило, Вера Сергеевна уже спала. Галя вообще была свободна от всякого надзора, так как Ольга Михайловна снова вступила в полосу длительного лечения нервов. Светлана повзрослела за прошедшие полгода в общении с Виктором Андреевичем, и совсем недавняя дружба с Лешей представлялась ей какой-то детской глупостью. Совершенно особняком стоял для нее вопрос о Пьетро Маттинелли. Сказать, что ее самолюбию льстило чувство, которое она возбудила в молодом интересном итальянце, — значит сказать лишь половину. Первую посылку она расценила просто как знак внимания. Вторая укрепила в ней сознание своей власти над людьми, особенно над мужчинами. И вместе с тем, получив вторую посылку, она впервые ощутила готовность подчиниться мужской воле. Она испытывала к Пьетро самые нежные чувства. Неизвестно, что бы она испытывала, будь присланные вещи не столь дорогие и не в таком количестве, но тому, кто позволил бы себе намекнуть ей о покупных чувствах, она бы, не задумываясь, дала пощечину. По прискорбному обычаю, распространенному на всем земном шаре. Свет-лака не хотела видеть неприглядную оборотную сторону медали. Большинство из нас в хорошие минуты склонно рассуждать так: да, в жизни случается много плохого, но это — с другими, а со мной никогда случиться не может. Словом, Светлана, по ее разумению, поступала не лучше и не хуже других. Но оставим это моралистам и вернемся к нашему повествованию… …Виктор Андреевич заехал за Светланой в универмаг в восемь вечера. Там уже была и Галя. Он сказал, что будет ждать их в своей машине, и спустился вниз. «В своей машине» означало, что сегодня они в ресторан не пойдут. Светлана села на переднее сиденье, рядом с Виктором. Андреевичем, Галя сзади. Виктор Андреевич поехал по центральной улице, потом свернул в сторону московского шоссе. — Ну, как, угодил? — спросил он, имея в виду присланные вещи. — Не то слово, — сказала Светлана. — Но все-таки мы с Галей все думаем: с чего такая щедрость? — Нравитесь вы ему, Светланочка. Виктор Андреевич посмотрел на Галю. — Мама еще не вернулась? — Нет. — А папа все работает? — Работает. — Не поехать ли к вам домой? — А что там делать? — сказала Светлана. — Посидим. Галя чаю даст. Как вы, Галя? Она колебалась. Что сказать отцу, если он вдруг увидит в доме незнакомого пожилого мужчину? Галя попыталась в полутьме машины разглядеть на своих часах, сколько времени. — Сейчас половина девятого, — подсказал Виктор Андреевич. — Отец приходит в начале одиннадцатого, — прикинула Галя. — Вообще-то на часок можно. Виктор Андреевич развернул машину. Без десяти девять они были у Гали. Закрыв за собой дверь, Галя бросила ключи на подзеркальный столик. Галя предложила им не чай, а кофе. Они с отцом пили его, только когда Ольги Михайловны не было дома, потому что ее сильно раздражал кофейный запах. Пока Галя была на кухне, Виктор Андреевич завел со Светланой доверительный разговор. — Хочу с вами посоветоваться, — сказал он тихо. — Щекотливое дело. — Мы друзья. — Вы думаете, я бесплатно катаю вас на автомобиле? — кисло пошутил Виктор Андреевич. — А вы ближе к делу, — предложила она. — Видите ли, Светлана, я в последнее время несколько поиздержался. — Он замахал руками, предвосхищая ее возможную реплику. — Нет, нет, наши невинные сидения в ресторанах здесь ни при чем. Были другие причины. — Чем я могу помочь? — серьезно спросила она. — У меня, правда, сберкнижки нет. Виктор Андреевич быстро сунул руку в кармашек жилета и показал Светлане серебряно блеснувший перстень с большим зеленым камнем и спросил: — Как вы думаете, сколько стоит? — Понятия не имею. Это надо у Галины спросить, она специалистка, она знает. — Я тоже знаю. Это стоит не менее тысячи рублей. Но мне нужно семьсот. Кажется, у меня опять будет командировка. — Вы хотите его продать? — Да. Но там, где эти вещи покупают, мне появляться очень бы не хотелось. Я езжу за границу… Ну и вообще… — Понимаю, — сказала Светлана. — Вы хотите, чтобы я его сдала? — Буду вечно благодарен. — Меня могут надуть. Мы это сделаем вместе с Галиной. — Спасибо. — Виктор Андреевич протянул ей перстень. Она положила его в сумку. Потом Виктор Андреевич встал, прошелся по гостиной и заметил с одобрением: — Уютный дом. — Стараниями Ольги Михайловны, — усмехнулась Светлана. — Галина мама вам не нравится? — Родителей не выбирают — так, кажется, говорится? Но я бы от нее сбежала. — Почему же? — Она Галку с пеленок муштрует. Забитого человека сделала. — Неужели? Я как-то не замечал. — Это уж она отошла немножко. А посмотрели бы вы на нее годика три назад! — А что же папа? — А что он может сделать? Подслащивает Галкину жизнь подарочками. А вы, значит, опять за границу? — Не сейчас, чуть позже. — И снова в Италию? — По всей вероятности. — Везет же людям. — Не хотите написать ему? — спросил Виктор Андреевич. — Конечно, напишу. Светлана сбегала в комнату Гали, вернулась с бумагой ручкой, присела к столику. Письмо получилось короткое, но энергичное:
«Дорогой Пьетро! Огромное спасибо за все — от меня и от Гали. Зачем такие дорогие подарки? Очень прошу — не тратьте лиры, лучше приезжайте сами. Ждем Вас — чем быстрее, тем лучше. Светлана. Привет от Гали».Виктор Андреевич сложил листок, убрал в портмоне и сказал: — Между прочим, вы помните первый наш разговор о Пьетро? — Ну конечно. — Вы тогда сказали, он прямой и открытый человек. — А разве не так? — Не совсем. Он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я имел случай в этом убедиться. Светлана хотела что-то спросить, но Виктор Андреевич, увидев входящую Галю, быстро сказал: — Впрочем, это чепуха. Галя появилась с серебряным подносом (недавнее нововведение Ольги Михайловны), на котором стояли чашки с кофе и сахарница. — Виктор Андреевич опять в Италию собрался, — сказала Светлана. — Я записочку написала. От тебя привет. — Хорошо, — отозвалась Галя. Виктор Андреевич встал ей навстречу, взял поднос и сказал: — Я говорю Светлане, у вас прекрасная квартира. Никогда не видел, как живут академики. — Хотите посмотреть? — Но прежде выпьем кофе. Выпив кофе, Виктор Андреевич начал новый разговор. — Я должен сделать вам одно признание, милые девушки. Не могу умолчать. — Это всегда интересно, особенно если кто-нибудь признается, что он нехороший человек. Правда, Галка? — сказала Светлана, иронически глядя на Виктора Андреевича. — У вас ядовитый язык, я, кажется, уже сообщал вам об этом, но вы очень проницательны. — Виктор Андреевич поглядел на нее искоса и добавил: — Я, может быть, и скажу нечто нелестное в свой адрес. — Просим, просим. Он посмотрел на Галю. — Я ведь неспроста напросился к вам в гости. За рулем толком не побеседуешь. — Не томите, Виктор Андреевич, — сказала Светлана. — Разрешите один нескромный вопрос? — Пожалуйста. — Мы знакомы уже довольно давно, и я убедился, что у вас, Галя, нет молодого человека. Почему? Вы красивая девушка. Это неестественно. Вместо Гали ответила Светлана: — Один юноша уже задавал Гале такой вопрос. И с тех пор зарекся. Виктор Андреевич понял, что поступил опрометчиво, но продолжал развивать тему: — Я спрашиваю с определенной целью, а не из праздного любопытства. — Становится все интереснее, — сказала Светлана. — Нет, правда! — искренне воскликнул Виктор Андреевич. — Я не сват и не сводня, но письмо племянника навело меня на мысль… подтолкнуло… — У вас есть племянник? — Да, живет в Москве. Ему тридцать пять. В прошлом году развелся и сейчас одинок. — А он кто? — это все спрашивала Светлана. Галя молчала. — Летчик. Служит в гражданской авиации. — Слышишь, Галя? Галя спросила: — Налить еще? — Я не хочу больше, — отказалась Светлана. Разговор о племяннике кончился ничем… Виктор Андреевич взглянул на часы. — Без четверти десять. Скоро придет ваш папа, а мы еще не посмотрели квартиру. Галя повела их из гостиной на кухню, из кухни в свою комнату, затем в комнату матери и, наконец, в кабинет отца. У раскрытого секретера Виктор Андреевич задержался на несколько секунд. Он, между прочим, все время одобрительно причмокивал и хвалил обстановку, чем заставил Галю поглядывать на него с недоумением: его поведение не соответствовало тому образу, который сложился у нее. Восторги были явно преувеличены. Наконец Виктор Андреевич сказал, когда они пришли в переднюю: — Пожалуй, пора и честь знать. — Подождите, мы сейчас, — попросила Светлана, и подруги оставили его одного: Светлане нужно было взять кое-что из вещей, хранящихся в кабинете Николая Николаевича. Виктор Андреевич моментально преобразился. От солидной неторопливости, округлости жестов не осталось и следа. Он шагнул к столику, где лежали оставленные Галей ключи, вынул из кармана тяжелый, как хоккейная шайба, кусок серого пластилина и быстро, один за другим, сделал на нем оттиски двух ключей — каждый ключ с двух сторон… Прощаясь с Галей, Виктор Андреевич сказал: — А насчет племянника моего вы подумайте. Вдруг понравится. — Чего же думать? Приедет — познакомьте, — снова ответила за подругу Светлана. — Непременно. По дороге к дому Светланы в машине Виктор Андреевич мягко напомнил о своей просьбе относительно перстня: — Вы сумеете выкроить время, чтобы не очень оттягивать? Бедствует человек. — О чем речь, Виктор Андреевич? — Светлана говорила на этот раз вполне серьезно. — Мы вам так обязаны… Они не оттягивали. Во время обеденного перерыва Галя зашла к Светлане в универмаг, и они отправились в магазин «Ювелирторга» — единственный в городе, где у граждан покупают драгоценности. Оценщик, старик в потертом черном пиджаке и не первой свежести белой рубахе, с плохо повязанным галстуком, сунул себе в глаз окуляр, какими пользуются в часовых мастерских, посмотрел камень, повертел перстень в пальцах и сказал: — Вам дадут около двух тысяч. Только за камень, не считая платины. — Спасибо, — поблагодарила Светлана и дернула Галю за рукав шубы. Они покинули магазин. Когда вышли, Светлана сказала: — Я думала, это серебро. — Нет, платина. Это сразу видно. — Жалко сдавать. — Да, камень очень хороший. — Галя вздохнула. — А он думает получить всего семьсот? — Ему столько нужно. — Странно. — Ты хочешь сказать, Виктор Андреевич знает этой штучке настоящую цену? — Он же не маленький, а здесь и ребенку ясно. Что-то я не понимаю… Для чего? Может, он нас испытывает? — спросила Галя. — А черт его разберет. Мужик ничего, во всяком случае, не сквалыга, а что еще мы про него знаем? Они свернули в переулок, ведущий к универмагу, немного прошли молча. — Тебе очень нравится? — спросила Светлана. Галя кивнула. — Тогда нечего рассуждать. Возьми себе. — Откуда у меня такие деньги? — Отец даст. — Не могу я у него столько просить… Вот если бы мамочка моя… — Лешка говорит: если бы у быка было вымя, он бы был коровой. — Ты не поняла… Я думаю, может, матери предложить? Она разбирается. Светлана до этих пор никак не выдавала своего раздражения, но тут не выдержала: — Эх, мямля ты! Была бы у меня хоть какая-то возможность, я бы не упустила. Галя пожала плечами. — Но что же делать?.. Придется сдать… Светлана протянула Гале перстень. — У меня рука не поднимется. Лучше уж предложи мамочке. Галя взяла перстень, хотела положить в сумку, но Светлана сказала: — Надень на палец, а то потеряешь. Галя сняла перчатки, попробовала на один палец, на другой. — Видишь, он мне и велик. Светлана засмеялась: — А ты надень на большой. Введешь новую моду. Серьезный разговор выродился в пустую болтовню, и, подойдя к универмагу, они почти позабыли, по какому немаловажному поводу он начался. А вскоре приехала Ольга Михайловна. Галя показала маме перстень, сочинив при этом благовидную историю, будто у одной из ее сокурсниц тяжело заболели родители, срочно нужны деньги для лечения. Разглядев хорошенько перстень, Ольга Михайловна спросила: — Сколько он стоит? — Я показывала оценщику. Больше двух тысяч. — А она просит семьсот? — Да. — Дурочка. Хорошо, я возьму, но отдай ей девятьсот. Ольга Михайловна в тот же день сняла со сберкнижки девятьсот рублей. Вечером Светлана вручила семьсот рублей Виктору Андреевичу, который остался очень доволен.
ГЛАВА 11 Исповедь наемного убийцы
Курортный городок Гштаад постепенно засыпало снегом. Шла та единственная пора года, когда местных жителей здесь бывает больше, чем приезжих, тогда как во все другие сезоны число отдыхающих значительно превышает число гштаадцев. Михаил и Брокман вели размеренный образ жизни. Вставали со светом, то есть в девятом часу, мылись, брились, завтракали, гуляли (однажды на прогулке Михаил незаметно сфотографировал Брокмана), обедали, играли в карты по маленькой, ужинали и ложились спать. На людях они говорили между собой по-немецки, а когда оставались одни — только по-русски. Брокман обладал достаточным запасом слов, потому что, как он рассказал, ему приходилось регулярно общаться с выходцами из России, да и как-никак его родным языком был все же русский, он пользовался им до десятилетнего возраста, пока жива была мать. В его выговоре слышался южнорусский акцент, но это ничего не портило. Специальных лекций о нравах и быте в Советском Союзе Михаил Брокману не читал. Они устраивали, так сказать, вечера типа «спрашивай — отвечаем». У Брокмана имелся заготовленный заранее вопросник, составленный, по всей вероятности. Монахом. Михаил отвечал на эти вопросы. Пили они мало, но раз в неделю посещали очень дорогой ресторан, расположенный на одной из вершин, окружающих Гштаад. Это был большой, рубленный из толстых бревен дом, где внутри, в центральном зале, горел, потрескивая сухими поленьями, камин, где ветчину развозили по столикам на горячей жаровне, в которой краснели крупные угли, и официант откидывал медово лоснящуюся шкуру с окорока, как плащ, и клал на тарелку тонко нарезанные душистые ломти нежнейшего розового мяса. Поднимались в ресторан и спускались вниз в обтекаемых кабинах подвесной дороги, за что брали тоже довольно дорого. Прислушиваясь к себе, Михаил обнаруживал, что недавняя твердая решимость поквитаться с Брокманом за отца словно бы размягчается по мере того, как ползут эти однообразные дни. Однажды, уже в начале марта, он сделал неприятное открытие: за ними следили. Когда они возвращались в отель после посещения ресторана на вершине, Михаил обратил внимание на высокого сухощавого человека лет тридцати, поджидавшего кого-то у нижней станции канатной дороги. Этот человек бросил на них мимолетный взгляд, но что-то в его взгляде не понравилось Михаилу. Брокман ничего не заметил. Остановившись у входа в отель и оглянувшись, Михаил опять увидел сухощавого — он повернулся к витрине галантерейного магазинчика. Повернулся как раз в то мгновение, когда Михаил оглядывался. Не очень-то ловкий малый, если ему дано задание следить… Брокману Михаил о своем открытии сообщать не стал. Необходимо было срочно установить, действительно ли это хвост, а если да, то за кем следят. Наутро Михаил, поглядев в щель между плотными шторамина улицу, увидел идущего со стороны вокзала вчерашнего провожатого. Тот, не останавливаясь, посмотрел на его окно, перевел взгляд на окно соседнего номера, где жил Брокман, — значит, успел установить, где обитает объект слежки. Но кто именно — объект? После завтрака Михаил предложил Брокману прогуляться. Не успели они миновать миниатюрное здание вокзала, как он засек сухощавого. Вот, значит, какая система: этот доморощенный шпик центром своей паутины сделал вокзал. Что ж, правильно. Если люди приехали в Гштаад не на машинах, а на поезде, скорей всего они и уедут так же. Теперь надо выяснить, к кому шпик приставлен. Михаил похлопал себя по карманам. — Черт, сигареты забыл. — Кури мои, — сказал Брокман. — Терпеть не могу, трава. — Брокман курил американские сигареты «Кент». Михаил предпочитал крепкие французские «Голуаз». — Купим по дороге. — Здесь «Голуаза» нет, а у меня еще два блока в чемодане. Иди, я тебя догоню. Михаил вернулся в отель, поднялся в номер и вправду взял из чемодана пачку сигарет. Для верности посидел минут пять, а когда снова вышел, шпика не заметил. Он его увидел, когда догонял Брокмана. Сухощавый, услышав за спиной торопливые шаги, шмыгнул в стоявший при дороге продуктовый магазин. Так. Значит, Брокманом кто-то сильно интересуется… Они не успели уйти далеко — начался дождь, пришлось вернуться в отель. Сухощавый шпик проводил их, будучи, вероятно, уверен, что хорошо исполняет свою роль. Странно, что Брокман все еще не замечал слежки. Михаил не собирался раскрывать ему глаза… Погода испортилась, и, кажется, надолго. Погода, что называется, не благоприятствовала горнолыжникам, начинавшим понемногу стягиваться в Гштаад: облака скрывали снежные вершины Бернских Альп, в долинах шли дожди вперемежку со снегом, часто туманы спускались с гор вниз, и днем в отеле зажигали свет. Вот в такой пасмурный, туманный день и настал момент, которого терпеливо ждал Михаил Тульев. Вероятно, все же не от скуки развязался у Брокмана язык. Надо полагать, даже у самого ожесточившегося, органически неспособного на раскаяние, верящего только самому себе человека хотя бы раз в жизни возникает потребность излить душу. Набожные делают это на исповедях перед священником. Но Брокман, разумеется, в бога не верил, так же как и в дьявола, — он предпочитал верить своим хорошо тренированным мышцам, великолепной реакции и безотказному, содержащемуся в образцовом порядке оружию. Может быть, смутные воспоминания о матери, которая была очень набожна и во время воздушных налетов, когда они прятались в подвале — это было в Дюссельдорфе, — становилась на колени, шептала молитвы и каялась в каких-то своих смертных грехах, — может быть, толчком для внезапно прорвавшейся откровенности послужили именно эти полустершиеся детские впечатления, связанные с материнскими покаяниями и всплывавшие в безмятежно спокойной обстановке швейцарского курорта. Как бы там ни было, Брокман, лишь совсем чуть-чуть подталкиваемый к этому Михаилом, разоткровенничался и обнажил свое нутро, что называется, до самого дна, не утаив ни единого штриха своей страшной, несмотря на относительную краткость, биографии. Исповедь состоялась в уютном теплом номере Брокмана, где они пообедали. Накануне вечером, возвращаясь с прогулки, Брокман поскользнулся на мокром осклизлом камне, подвернул ногу и слегка потянул связки. Вызванный хозяином отеля врач сделал ему массаж, растер больное место мазью «гирудоид» и наложил тугую повязку, велев дня два полежать в постели и гарантировав полное заживление. Поэтому и обедали в номере. Брокман, в белом шерстяном свитере и серых лыжных брюках, лежал на кровати поверх одеяла. К кровати был придвинут столик, на котором стояло вино и ваза с жареным миндалем. Михаил сидел в кресле по другую сторону столика. Он курил и подправлял пилкой ногти. — Давно хотел тебе сказать: что-то ты не очень похож на француза, — заявил вдруг Брокман вне всякой связи с предыдущим разговором, который касался различных травм, полученных собеседниками в прошлом. — Видишь ли, — отвечал Михаил, — я француз только наполовину. Отец у меня русский. Это и было толчком. Брокман заложил руки за голову, полежал так, глядя в потолок, а потом начал свой рассказ, прерывая его лишь для того, чтобы отхлебнуть вина или прикурить. Вот он, этот рассказ, записанный Михаилом на проволоку портативного магнитофона, лежавшего у него в кармане. «Да-а, а у меня сам черт не разберется, кто я такой — в смысле национальности. Коктейль! Смотри сам, дед по отцу был, правда, чистокровный немец, а женился на шведке. Значит, отец стал шведский немец или немецкий швед, да? Мать была наполовину русская, а наполовину молдаванка. Кто же, выходит, я? Не понимаю, почему, но мать мне, сколько помню, все время твердила: ты русский. Родился я в тридцать шестом году в городе Бердянске, на Азовском море. Там была небольшая колония немцев. Виноград разводили. Отец работал механиком, чинил трактора, где именно — сейчас уже не помню. Мать ухаживала за виноградником и растила меня. Когда Гитлер захватил Украину, отец пошел служить в вермахт, а нас отправил к каким-то своим дальним родственникам в Германию. Его приняли с помпой, мать рассказывала — в газете писали, что вот, мол, у фюрера везде есть верные друзья, готовые пожертвовать собой ради его святого дела, и вот вам пример — Иоганн Брокман, славный сын великого германского народа. И так далее — галиматья несусветная… Отец попросился в танковые части и скоро дослужился до гауптмана. Убили его в сорок третьем, на Курской дуге… Вот тебе и дуга! Всем офицерским вдовам трупы прислали — мы тогда уже в Дюссельдорфе жили, а моей матери никаких героических останков, сгорел отец в своем «тигре» получше, чем в крематории… Да-а, это я потом видел, как может гореть железо, а в детстве не верил… Плохо помню, всего ведь семь лет было, но как мать голосила и причитала — это запомнилось. И еще бомбежки. Союзнички долбали с воздуха старательно. Я после, как вырос, про войну читал, историческое. Про налеты на мирных жителей в книгах ничего не упоминалось, но я-то помню, как один раз завалило нас с матерью в каком-то подвале. Потом долго на зубах кирпичная пыль скрипела. А всех отцовых родственников убило… Причитала мать — с ума сойдешь! Ока в сорок пятом умерла от рака легких, курила слишком много. И вот, представляешь, с сорок третьего, как отец в России накрылся, и до самой смерти долбила она мне: «Твоего папу убили большевики, помни об этом». Для чего ей это нужно было, не знаю. И в школе учитель, грустный такой дядя, все в платок посмаркивался, тоже о красных толковал, о том, как сгубили русские лучших сыновей германского народа. Тихо так плакался, как бы по секрету, и все вздыхал, руками разводил. Но хочешь — верь, хочешь — нет, а на меня и тогда уже никакая агитация не действовала. Я был парень самостоятельный. Когда мать умерла, я продал старьевщику наше барахло, купил пачку жевательной резинки и американские сигареты и поехал в Гамбург. Какая была у меня цель, не помню. И вообще три года после смерти матери я вроде бы и не существовал. Всю Германию исколесил, и милостыню просил, и где-то на ферме коров пас, и почтальоном работал в каком-то городишке. А потом попал в монастырский приют для сирот. Учили там понемногу и работать заставляли, табуретки делали, а жрать в столовую — строем. Год мучился, а потом сбежал. Год по Рейну на барже-самоходке плавал, приютил меня старенький шкипер. Гравий возили, песок, цемент — в общем, что попыльнее, но все же тот год хороший был, много чего я повидал. И главное, все время в дороге, сегодня здесь, завтра там. Хотел меня шкипер усыновить, но тут надоела мне баржа, списался на берег и правильно сделал. Не надо бы шкипера обижать, конечно, да что поделаешь — взял я у него сто марок на разжив. Украл, значит. Сначала думал, после отдам, беру взаймы, хоть и без спросу. А вспомнил про должок видишь когда — только здесь, в этом шикарном Гштааде, чтоб его туманы съели. Шкипер небось давно помер. На реке сильно я вырос и крепкий стал. Как-никак все время на воздухе, пища простая, здоровая, работы хватало. Шкипер по-английски свободно разговаривал, меня поднатаскал. И на мандолине учил играть, но это ни к чему. И вот, значит, заявляюсь я с сотней в кармане в Мюнхен. Дело было летом, в августе, кажется. Ясно, одичал на реке, первым долгом в кино. Какой-то американский боевик крутили. А после кино зашел перекусить в соседний бар. Пива взял. До того я ни разу ни пива, ничего другого не пробовал. А тут выпил две кружки… И так себя прекрасно почувствовал, прямо в рыло кому-нибудь дать захотелось. И подкатывает ко мне такой обтянутый типчик и румяный, как яблочко на витрине. Поюлил возле моего столика, присел и начинает разговорчик: кто, откуда, здешний, нездешний. А потом говорит: «Видите вон того господина за столиком у окна?» Правда, сидит такой гладкий, глазки заплыли, только что не мурлыкает. На столе трость и шляпа. «Вижу, — отвечаю, — но мне до него дела нет». Этот тип решил, наверно, что я деревенщина какой-нибудь, нечего особо церемониться, и объясняет без подготовки: «Вы ему очень нравитесь, он хочет с вами познакомиться». Я тогда еще плохо разбирался кое в каких делах, но сразу смекнул, куда он клонит, и врезал ему между глаз оч-чень плотно. И ноги в руки. Удрал я классно, да недолго радовался… Повезло мне с тем типом — дальше некуда. Их там много оказалось, у этого, с тростью, целая банда. Надо было мне сразу смываться из Мюнхена куда подальше, а я еще два дня околачивался. Ну и нашли они меня. Думаю, не специально разыскивали, а просто случай. Отделали на улице — отбивная по заказу. А после затащили в дом, дали еще как следует, а потом две недели лечили — самим дороже. И девчонку приставили — ухаживала, после у нас любовь была. Этот, с тростью, заворачивал большими делами. Кокаин, морфий и проститутки. В банде человек сто, причем многие по-людски жили — где-то там на службе числились, жены, дети, счет в банке. Приставать ко мне больше не приставали, но отлепиться от них не удалось. Да, по правде сказать, и понравилась новая жизнь. Отвезешь в другой город пакетики, запрятанные в специальные ботинки на два номера больше. Вернешься — пей, гуляй. Сам я к наркотикам не привык, хотя и пробовал. Да и не поощрялось это в нашем братстве — так шефы свою банду называли. Оно и понятно: наркоманы — народ ненадежный… Братство, конечно, звучит красиво, но я скоро увидел, что законы в нем те же самые, как и у банкиров, и у больших дельцов, которые легально зарабатывают. Шефу — тысячу марок, мне — десять пфеннигов. Я попадусь — мне тюрьма с долголетней гарантией, а он по-прежнему будет себе тросточкой помахивать. Но я не в подворотне родился, мне тоже в «ягуаре» поездить хотелось. А уж если ставить на карту свободу, то по крайней мере против хорошего куша, а не полсотни марок за поездку. В общем, попробовал я сработать на себя. Раз как-то получил очередную партию кокаина — полкило в двух пакетах, место назначения — Кельн. В аптеке купил десять пачек аспирина, растолок таблетки, отсыпал из пакетов кокаин, а в пакеты, понятно, аспиринчик добавил. А в Кельне эти пятьдесят граммов продал от себя одному жучку-одиночке. Сошло, никто ничего не узнал. А я на банковский счет две тысячи марок положил, там же, в Кельне. Еще, помню, клерк в банке все на меня глаза пялил — наверно, хотелось спросить, откуда у такого молокососа столько денег. Потом я таким же образом отвез партию кокаина в Штутгарт, и тоже благополучно. И пошло как по маслу. К началу пятьдесят девятого у меня в банке семнадцать тысяч лежало. До сих пор не пойму, как это мне сходило с рук. Скорей всего на пути от оптового поставщика до потребителя не один я химичил. Но за шкуру свою я дрожал, признаюсь. Потому что за такие штучки у братства была одна расправа — нож под лопатку. Может, удалось бы мне здорово разбогатеть, если бы не глупость дикая. Вернее, бдительность я потерял. А дело было так. Жил я в двухкомнатной квартире вдвоем с напарником. За квартиру платил шеф. Такую он систему завел, чтобы холостые члены банды жили попарно: следить друг за другом удобнее, всегда на виду. Я-то был простым курьером, а напарник имел в подчинении человек пять сутенеров. Ему уж тогда под пятьдесят подваливало, и страдал он не то язвой желудка, не то печенью, желтый был, как лимон. Официально, для домовладельца, я считался его племянником. Иногда, бывало, выходим из дому вместе, встретим кого из соседей — он мне что-нибудь воспитательное проповедует, погромче, чтобы слышали. А сам — пробы негде ставить. В молодые годы о нем слава громкая ходила — головорез из головорезов. В банде он прошлой славой и держался. Комната моя запиралась, но какой замок нельзя открыть? Я знал, что «дядя» у меня пошаривает, проверяет, потому что я несколько раз ловушки незаметные оставлял для контроля — волосок на чемодане приклею или там пол у двери пеплом припудрю. Никто не учил, своим умом дошел. Голова у меня рано работать начала, не то что у некоторых. Сила есть — ума не надо, — это кретины выдумали, которые могут разве что сумочку у припоздавшей девчонки вырвать или у пенсионера кошелек отнять. Не мужское дело… Но я, говорю, немного обнаглел и один раз нарушил свое собственное правило — чтобы дома никаких следов. В очередную поездку мой кельнский жучок предложил в уплату за товар часть наличными, а часть — золотом. Перстень у него имелся золотой, с черепом черненым, очень мне понравился. Теперь-то я знаю, что нет ничего лучше счета в швейцарском банке, а тогда польстился на цацку и был наказан. Мне бы продать его, даже выбросить совсем — и то лучше… Короче, через неделю «дядя» устроил у меня тайный шмон и нашел перстень — я его в грязном белье держал. В тот же вечер ко мне пришли два личных исполнителя шефа — пожалуйте на беседу. В машине за город — там у них усадьба была, со старинным домом, с парком и озером. Это в феврале было, погода промозглая, а они мне даже плаща не дали надеть, торопились. Вводят в большую комнату, камин горит, у камина шеф покуривает. Поставили меня перед ним, он руку в карман, потом кулак разжимает — на ладони мой перстень. Спрашивает: «Откуда?» Говорю, на улице нашел, а меня сзади по уху — раз! Поднялся, в черепушке колокольный звон, а он мне из газеты вырванный кусок под нос сует: «Читай!» Оказывается, в Кельне ограбили какую-то старуху баронессу, обчистили родовое гнездо до перышка, и в числе ценностей мой перстень упоминается. Шеф спрашивает: «Так где ты нашел эту штучку?» Опять отвечаю: на улице. И по второму уху — трах! но тут я уже устоял. Думаю, надо как-то выкручиваться, иначе крышка. Каюсь ему: в гостинице, мол, украл. Увидел случайно, когда по коридору шел, что в номере дверь не закрыта, зашел, в ванной комнате на зеркале перстень лежит, ну и соблазнился. Брешу, а сам вижу, не верят ни одному слову. Шеф говорит: «Ты ведь с товаром в Кельн ездил?» С товаром, говорю, доставил по назначению. Расписок мы, понятно, не брали, шефу о доставке сообщали, наверное, по телефону, потому что он говорит: «Знаю, доставил, но все это мне не нравится, даже если допустить, что перстенек ты действительно украл. Тебе же наш закон известен». А закон был — не воровать, тем более по мелочам и в неорганизованном порядке. Я клятву давал, на ноже. Приговор шефа был не очень строгий: держать меня под домашним арестом до выяснения дела. Перстень он оставил себе. Его громилы отвезли меня утром обратно, один остался со мной, сказал — поживем пока вместе. Думаю, докопались бы они до моего счета в банке, если бы не повезло мне в тот день. А случилось вот что. Когда мы вернулись в квартиру и громила Гирш — так его все звали — увидел, что спать второму человеку не на чем, он решил купить раскладушку с надувным матрацем. Для меня. «Дядя» мой был в то время дома, Гирш попросил его сходить в магазин, но у «дяди» живот болел, и воообще он тяжести таскать не любил. Тогда Гирш говорит, посмотри за Карлом — это за мной, — чтобы не уходил, дождался меня, а сам отправился за кроватью. И в этом было мое спасенье. Через окно — исключено: седьмой этаж. Ждать потом другого такого момента глупо. Не знаю, как они там собирались наладить мое и Гирша питание, может, кто-то должен был доставлять нам жратву на дом, хотя бы тот же «дядя», но во всяком случае рассчитывать в другой раз на долгую отлучку Гирша я не мог. Надо было или оставаться овцой и ждать, когда прирежут, или уматывать немедля. Не помню, сколько раз дал «дяде» по роже и под ребра, но улегся он на пол как миленький и до пистолета в тумбочке добраться не успел. Выскочил я из квартиры, поднялся на лифте на верхний этаж, там по коридору прибежал на пожарную лестницу, ссыпался по ступенькам во двор. Постоял, подышал и придумал, что делать дальше. Недаром говорю: голова у меня работала. И, по счастливому совпадению, то, что было мне нужно, находилось рядом. Через пять минут я был на призывном пункте, а спустя часа три значился рядовым бундесвера и ждал отправки в казарму. Хорошенький, должно быть, вид имел Гирш, когда «дядя» рассказал ему, что произошло в его отсутствие. А я себя чувствовал, наверное, лучше, чем мой отец в танке на Курской дуге. Здоровьем меня бог не обидел, медицинская комиссия предложила любой род войск — на выбор. Я решил податься в десантные части. И, надо сказать, не прогадал. На земле оно, может, и спокойней, но шагистику я с детства ненавижу, и потом у десантника на всю жизнь закалка, только не ленись учиться и не бойся потеть. Про службу рассказывать долго не стоит — однообразно… Скажу лишь, что родитель мой дослужился у Гитлера до гауптмана, до капитанского чина, а я — до гаупт-ефрейтора, но с меня и этого довольно, и к тому же я свою голову за фатерланд не сложил. Хвала политикам — в Европе войну никто больше не начинал. В шестьдесят первом уволился я из армии. Сначала было желание остаться по контракту, потому что побаивался я старых дружков. Но дошли до меня сведения, что полиция накрыла шефа. Семнадцать заветных тысяч лежали целенькие, да ещё и проценты наросли, так что на первое время с голоду я не мог умереть, а потом, думаю, посмотрим. Можно собственное дело открыть. Но не вывернулось мне честное счастье. Замахнулся на автомастерскую — видно, в жилах это сидело, от отца, уж и присмотрел подходящую, а цена оказалась мне не по зубам: восемьдесят тысяч. Пока разъезжал да мерекал, денежки растаяли. Да еще спутался я с одной красоткой невзначай, покутили месяц. И в одно распрекрасное утро проснулся я с похмелья в Копенгагене — ни красотки Маргариты, ни бумажки в портмоне. Нет, она меня не обкрадывала, все по чести… Просто прогуляли. Хорошо еще, за отель было заплачено, а то бы скандал… Вот и получилось, что в двадцать шесть лет остался я такой же голый и непристроенный, как в девять, когда умерла мать. Правда, я многому был научен, но не тому, что дает человеку кусок хлеба с маслом. Побросал я в кофр костюмы и белье, собрал с полу мелочь, посчитал — на завтрак с пивом хватит. Но я уже отвык медяками расплачиваться, а главный ужас — что же делать? Воровать? Но на это тоже уменье нужно. Грабеж я презираю. Можно, конечно, наняться подметать улицы, собирать с асфальта совочком собачье дерьмо, как черномазые и алжирцы. Но это совсем не по мне, лучше уж удавиться на галстуке в уборной. Сдал я номер, спустился с кофром вниз. Портье глазам не верит: прибыл постоялец неделю назад, как миллионер, а сейчас сам свой кожаный сундук тащит. Этот портье был замечательный человек, я его на всю жизнь запомнил. Одним словом, чутье мне подсказало, что надо поделиться с портье своей бедой, что он может выручить. Когда тот освободился, я попросил уделить мне пять минут. Он провел меня в темную, без окон, комнату для отдыха. Корчить из себя аристократа я не стал, вывалил все как есть, и портье не удивился. Думал он ровно столько, сколько горит спичка, и попросил коротко рассказать, что я делал, как жил раньше. О братстве я умолчал, сказал, что учился в школе, а потом служил в десантных войсках. «В таком случае я дам вам совет, — говорит портье. — Поезжайте в Париж. На улице Мюрилло найдете контору месье Тринкье. Там для вас найдется подходящая работа». Я объяснил, что у меня даже на дорогу нет. Но он решил вопрос просто. Так как с кофром, по его словам, тащиться туда не имело смысла, лучше оставить на сохранение ему, а он даст мне немного денег на дорогу и на пропитание. Добрый был человек, этот портье, но он не прогадал: кофр был у меня — первый класс и совсем новенький. Прибыл я в Париж, нашел улицу Мюрилло, нашел контору, только это была не контора, а вербовочный пункт, а месье Тринкье оказался полковником в отставке. А набирали они людей для войны в Катанге, по заданию Моиза Чомбе. Этот черномазый проходимец собирался заграбастать все Конго, ему нужны были хорошие солдаты. Своих он не имел, приходилось нанимать за деньги. Я им подошел по всем статьям. Условия для меня были самые великолепные: в переводе на марки две тысячи в месяц — счет я попросил открыть в швейцарском банке, — плюс страховка на случай ранения шесть тысяч. Меня включили в отряд, которым командовал Боб Денар, и скоро я увидел, что это командир — лучше не надо. Вообще ребята подобрались крепкие, большинство — бывшие служаки вроде меня, но я был самый молодой. Боб Денар Африку знал — он когда-то был комиссаром колониальной полиции в Марокко, так что нам, кто попал под его начало, можно сказать, повезло. А после я познакомился и подружился еще с одним славным человеком — Марком Госсенсом… Мы с ним много чего сотворили в этом чертовом Конго. Жаль, он потом погиб в Биафре… Да и не он один. Большие деньги даром не даются, за них кровь требуется.. Я сначала попал в личную охрану Чомбе, и стрелять долго не приходилось. Он хитрый был и осторожный, но, по-моему, глуп, как страус. Важную персону из себя корчил. Надует щеки — блестят, как начищенный сапог, на солнце зайчики пускают. Черный-то черный, а жар хотел белыми руками загрести… В тот раз шла какая-то возня между политиками. Моиза все хотели уговорить, чтобы он успокоился. Больше всего интересов в Конго имела бельгийская компания «Юнион миньер». Золото, уран, алмазы качали оттуда, как говорится, денно и нощно. Чомбе, когда до власти дорвался, тоже себя не обижал, хватал сколько мог. Иначе откуда бы у него такие деньги — целую армию содержать? Наши, из Европы, кто вместе со мной прибыл и раньше, верили только европейцам и держались друг за друга, потому что местные вояки, служившие Моизу, были ненадежные, им и сам-то Моиз не доверял. До конца шестьдесят второго года прокантовался я спокойненько в Элизабетвиле. Кормежка приличная, хочешь выпить на досуге — пожалуйста. Зарплата на твой счет в банке регулярно поступает — казначей не обманывает, копии переводов аккуратно вручает. Но потом за Чомбе всерьез взялись. У Тан, новый секретарь ООН, нагнал в Катангу голубых касок, и нам очень кисло пришлось. Первый раз стрелял я по живым людям, когда Моиз Чомбе перебрался, чтобы не попасть в плен, в маленький городок, где были медные рудники. Нас окружили, и приказ от Боба Денара был — отстреливаться до последнего. Чомбе ждал транспорта, чтобы смыться, а мы держали оборону. Мы хорошо отбивались. Правда, противник в лобовую атаку не лез, но страху лично я натерпелся. Спасибо Денару, он сумел нас, оставшихся в живых, вывести из кольца — оно в одном месте разомкнуто было. Чомбе улизнул в неизвестном направлении, а мы, разбившись на группы, целый месяц продирались сквозь джунгли… Откровенно говоря, не могу вообразить, как бы я снова сумел совершить такой поход. Но молодость все вытерпит. В тот раз вынес я из джунглей всего одну царапину — укололся плечом о какую-то колючку, после нарывало, и остался след, как от прививки оспы. Когда в лесу разделились на группы, Денар сказал, что всякий, кто вернется в Европу, сможет разыскать его, если понадобится, в Париже, в ночном кабаре «Черный кот». Мы с Госсенсом в конце концов добрались до Дакара. Чего это стоило — не расскажешь. В Дакаре мы устроили сами себе карантин, чтобы немного очухаться. Отмылись, оделись по-европейски. Дождались, пока из Швейцарии не перевели деньги, а потом он — в Бельгию, я — в Париж. Теперь-то я ученый был, деньги зря не мотал. Гульнул немного, и шабаш, сел на диету. Слова Денара насчет кабаре «Черный кот» я всегда помнил и изредка туда наведывался. И однажды мы там встретились, и он шепнул, что наклевывается крупное дело — на сей раз, кажется, все будет обставлено намного солиднее и протянется дольше. База и заказчик тот же — Моиз Чомбе. Я просил Денара иметь меня в виду. Повидался и еще с одним из наших. Тот приглашал с собой в Мадрид, к Майку Хору, который формировал свою команду, но я отказался, потому что о Майке я слышал и он мне не нравился. Хор — полковник из Южно-Африканской Республики. Он тоже на Чомбе работал, но под его началом мне служить не хотелось. Его недаром в Африке называли «бешеным Майком». Он из идейных, хотя денежки любит не меньше других. Майк считал себя главным борцом против коммунизма, а меня от этих одержимых тошнит. Они от крови пьянеют, а у меня характер другой. Люблю чистую работу. Если кто-нибудь хочет, чтобы я подставил свою грудь под пулю или стрелял вместо него — пусть платит, а идеи оставит при себе, гарнир из лозунгов я не ем… В общем, завербовался я к Денару, ему можно было верить и служить, а про идеи он не распространялся. Насколько понимаю, обстановка в Конго была тогда для Чомбе очень выгодная. Там раздоры шли, а он грозился установить твердую власть. Во всяком случае, нам, наемному войску, он жалованье платил действительно твердое, и ставки были выше, чем год назад. И набралось нас, белых, гораздо больше. В Мадрид мне все-таки пришлось попасть, потому что там назначили пункт сбора. Из Испании в Конго переброска велась самолетами. Организовано все было четко, как по расписанию. Чьи были самолеты — не интересовался. Наш транспорт сел на столичном аэродроме сразу вслед за личным самолетом Чомбе. Моизу там устроили пышный прием. Разместили нас кого по казармам, кого по частным домам, и началась гульба. Народец подобрался пестрый, были и уголовники, даже знаменитые, например, Карл Шмидт по кличке Мини-Шмидт. В нем росту всего сантиметров сто пятьдесят пять, от силы сто шестьдесят, но мал, да удал. Про него легенды ходили. Он сумел на пару с помощником угнать из-под носа у охраны два грузовика с оружием и патронами, и не где-нибудь, а в Западной Германии, и потом кому-то продал эти грузовики вместе с содержимым. Говорили, заработал колоссальные деньги. Полиция выписала ордер на его арест по-немецки, по-английски, по-французски и по-испански, а он от всех полиций улизнул. Его черта с два и найдешь — маленький очень… Однажды нас, четыре взвода, подняли ночью по тревоге и на транспортерах перебросили километров за сто от Элизабетвиля. Там ребята из отряда Майка Хора попали в осаду, требовалось их выручить. Ну, мы дали черномазым как надо. Две деревни спалили. Семерых повстанцев повесили. А перебили человек сорок. Тогда я первый раз увидел человека, которого ранили стрелой в грудь, нашего, белого. Не хотел бы быть на его месте… За полтора года много чего навертелось. На войну это мало было похоже. Скорее на облаву. То они, черные, на нас наскочат, то мы их подловим. Но, видно, Моиз Чомбе не очень-то умел вперед глядеть. Да и откуда ему было уметь? Он ведь до того, как в правители попал, в Элизабетвиле вшивенькой коммерцией промышлял, мелкая сошка. Золота и алмазов он наворовать при первой авантюре успел и при второй не терялся. Но для того, чтобы такое громадное государство в узде держать, мозги иметь надо. В октябре шестьдесят пятого опять пришлось нам драпать из Конго. Против Чомбе все время борьба шла, но несогласованно, и к тому же он сильную поддержку имел от тех, кому такую сволочь выгодно было держать у власти. Наконец нашелся генерал, который собрался с духом и сверг Чомбе. Это был генерал Мобуту. Слава аллаху, в шестьдесят пятом через джунгли пробираться не пришлось. Организованно отбыли на самолетах в Испанию. И командиры сказали людям, чтобы те, кто захочет снова вернуться в Конго под знаменем Чомбе, держали связь с вербовочными пунктами, которые будут открыты во многих городах: в Риме, Париже, Брюсселе, Льеже, Женеве, Бордо, ну и, конечно, в Мадриде и Лиссабоне. А кто окажется в Родезии или ЮАР, то и там найдет вербовщика, когда пожелает. Бешеный Майк на пенсию пока не собирается. Месяца два я жил в Мадриде тихо-спокойно, девушка у меня была не хуже Маргариты, да и не такая пьяница. Компанию водил исключительно с нашими, из командос. У всех такое настроение, что не сегодня-завтра нас опять позовут, поэтому держались дружно. Тогда я и познакомился с Гейзельсом и Франсисом Боненаном. Это были не нам чета — хитроваты, таких под пули в джунгли не погонишь. Кому как, а мне они не понравились. Но Гейзельсу, врать не буду, должен сказать спасибо. Он мне сильно помог, пристроил к делу. Пройдоха Боненан втерся к Моизу в доверие и знал все его планы. Незадолго до рождества сошлись мы большой компанией в номере у Гейзельса обсудить положение. И Гейзельс сообщил, что в ближайшее время, то есть в шестьдесят шестом году, нам на работу в Африке рассчитывать нечего. Так ему сказал Боненан, а тому можно было верить. Приуныли мы. Год, конечно, можно и пересидеть, но денежки-то текут, а за простой никто не платит. Когда расходились, Гейзельс меня задержал. Чем я ему понравился, трудно было понять. Но он без всякой корысти выразил желание мне помочь. А может, его корысть состояла в том, что ему был сделан заказ на парня вроде меня и он получал за это комиссионные. Точно утверждать не буду, но Гейзельс не из тех, кто упустит возможность заработать. Короче, он дал мне адрес и записку к человеку по имени Алоиз и объяснил, что у него на службе я при известном старании смогу обеспечить себе приличную жизнь. После я понял, почему Гейзельс выбрал именно меня. Я успел приобрести репутацию самого меткого стрелка и никогда не терял спокойствия. А это у нашей бражки ценилось. Все бы хорошо, да только адрес у этого самого Алоиза был не очень подходящий — Нью-Йорк. Зайцем туда не полетишь, не поплывешь, платить надо. И неизвестно, может, зря протрясешься. Засомневался я, опять пошел к Гейзельсу через неделю, а он меня увидел и говорит: «Ты еще здесь?!» И объяснил, какой я дурень, что до сих пор торчу в Мадриде, тогда как уже мог бы делать под руководством Алоиза доллары. Умеет он убедить… Мы, правда, как-то упустили из виду, что для поездки в Штаты на длительный срок нужна специальная виза, но Гейзельс взялся все устроить. И действительно, через несколько дней у меня было разрешение на въезд в Штаты с правом пребывания на полгода и с последующей возможностью продлить срок, если пожелаю. В начале марта я прилетел в Нью-Йорк. По адресу, который дал мне Гейзельс, нашел небоскреб на Манхэттене, весь набитый офисами и бюро. Алоиз оказался солидным человеком лет пятидесяти. Он сидел в комнате за двойными дверьми. На двери — номер из серебристого металла и табличка: «Адвокат». В кабинете стол и два кресла и больше ничего. Алоиз прочел записку Гейзельса — там по-английски было написано, что ее предъявитель, то есть я, — тот самый парень, который нужен Алоизу. Так мне еще в Мадриде сам Гейзельс объяснил, потому что читать по-английски я не умею. Разговор немного понимаю — шкипер все-таки целый год меня учил, кое-что запомнилось, а читать и немецкие-то книги или газеты особенно некогда было. Но проблема с языком сразу отпала, потому что Алоиз говорил по-немецки как настоящий немец. Ни о чем не спрашивая, он дал мне ключ от квартиры, написал на листке из блокнота адрес и растолковал, как туда проехать. Предупредил, что больше я никогда не должен появляться в его офисе, сказал, чтобы я поселился в этой квартире, обжился, а он скоро меня навестит. Потом вырвал из блокнота лист, посадил меня в свое кресло, дал авторучку и попросил написать расписку, что я получил сто долларов. Пока я писал, он отсчитал сотню пятидолларовыми бумажками. Не нравилась мне эта процедура с распиской, но капризничать не приходилось — ведь я к нему пришел, а не наоборот. Вручив деньги, Алоиз сказал, что лучше было бы дать однодолларовыми бумажками, но таких у него нет. Я удивился, и он объяснил, что, во-первых, от меня за милю пахнет иностранцем, а во-вторых, сразу видно, что я не из богатых, поэтому чем мельче купюры, тем мне более к лицу. Сказал бы он такое в Конго, я бы из него решето сделал, но разговорчик-то происходил в Нью-Йорке. А вообще Алоиз был прав. От американцев я заметно отличался. И загар африканский с меня еще не сошел. «Впрочем, — сказал Алоиз, — ты можешь выдавать себя за фермера с юга. У них, — говорит, — тоже вот такие физиономии — лоб белый, а остальное — как у мексиканцев». Мы в Африке пробковые каски от солнца носили, поэтому у меня действительно половина рожи как сметана, а половина черномазая. Шляпу в городе снимешь — глядят, как на клоуна. Я к тому о загаре распространяюсь, что из-за него-то едва и не влип на первом же деле. Потом Алоиз вынул из стола фотоаппарат, поставил меня к светлой стенке и сделал несколько снимков. Подробности жизни в Нью-Йорке рассказывать неинтересно, скажу только, что поместил меня Алоиз в однокомнатной квартире, с холодильником, с телефоном. На третьем этаже огромного старого дома по соседству с Гарлемом. Дня через три он заехал ненадолго вечером. Спросил, умею ли я водить машину. Это я умел. Он сказал, что в моем распоряжении будет «форд», не новый, но вполне на ходу. Только одно условие: к дому я на машине никогда не должен подъезжать. Чтобы жильцы не видели меня в машине. Значит, я должен ее парковать где-нибудь подальше, лучше на западной окраине. Алоиз снабдил меня схемой нью-йоркских улиц и загородных автострад, чтобы я как следует ее изучил. А под конец положил на стол мои водительские права. Неделю я осваивался с машиной и с уличным движением. Нудная работенка. Но зато когда вырвешься из города на какую-нибудь скоростную автостраду — уже удовольствие, особенно для того, кто любит быструю езду. По указанию Алоиза я съездил в одно местечко, километрах в двухстах от города. Там лес большой, по опушке идет дорога, а за лесом перед речкой — большой овраг. В тот день, когда я туда ездил, уже после возвращения, Алоиз пришел ко мне и принес в чемоданчике тяжелый длинноствольный пистолет с глушителем. Я таких раньше в руках не держал. Алоиз предупредил, чтобы я брал его только в перчатках. Тут у нас впервые зашла речь о моих обязанностях и о его обязательствах. Он не юлил, выложил все как есть. Я должен отправить на тот свет незнакомого мне господина — Алоиз обязуется уплатить три тысячи долларов. Просто и ясно, как апельсин. Все, что называется подводом, то есть необходимые сведения об этом господине, Алоиз брал на себя. Пока мне полезно съездить в тот овраг и пристрелять пистолет. По утверждению Алоиза, эта пушка способна пробить человеческий череп со ста метров. Он дал мне под расписку еще двести долларов и сказал, что они в мой гонорар не входят. Вроде дополнительной платы за вредность профессии… Ну, смотался я в овраг, нацепил на куст бумажку и расстрелял две обоймы по девять патронов. С разных дистанций. Бой у пистолета оказался отличный, мушку ни вправо, ни влево двигать не пришлось, ни поднимать, ни укорачивать. Только прикоптил ее немного, чтобы не отсвечивала, и из восемнадцати всего одна пуля мимо мишени, когда я не с локтя стрелял на сто шагов. Вскоре Алоиз показал мне моего клиента. Мы сидели в машине, а он вышел из какого-то административного здания, облепленного вывесками и табличками. Его сопровождал насупленный чернявый парень моих лет, по виду — боксер. Алоиз сказал, что это шофер и телохранитель. Клиента я хорошо запомнил и в лицо, и фигуру тоже. Мне показалось, что он очень похож на Алоиза. Да так оно и было… Клиент сел в свою машину на заднее сиденье, телохранитель — за баранку… Алоиз дал мне адрес любовницы клиента, где он бывает раз в неделю, по четвергам. Перед тем как сделать дело, мне надо провести тщательную рекогносцировку, наметить удобную позицию и пути отхода. Все это — по моему собственному выбору, но одно условие нужно соблюсти обязательно: я брошу свою машину недалеко от места происшествия и оставлю в ней водительские права на имя Ричарда Смита. Права эти, совсем новенькие, как и мои, Алоиз сунул в карман на тыльной стороне спинки моего сиденья. Алоиз, между прочим, когда являлся ко мне, всегда был в перчатках. А я по его требованию без перчаток не садился за руль… Да, пистолет я тоже должен был оставить в машине… Гонорар Алоиз обещал принести наутро после исполнения, но я потребовал гарантий. Он ведь мог меня и надуть. Неприятный разговорчик произошел тогда. Алоиз все твердил, что мне же известен его офис. Куда он, мол, денется. Но не это меня убедило. Знаю я, как оно бывает… Сегодня сидит человек в кабинете, а завтра приди — там другой. «Кто такой мистер Алоиз? Здесь нет и никогда не было мистера Алоиза! Вы ошиблись адресом». Он справедливо сказал, что, когда я к нему явился, он мне поверил, в зубы не глядел. Ему достаточно было рекомендации Гейзельса, и если я считаю возможным иметь дело с Гейзельсом, с какой стати мне подозревать в нечестности его, Алоиза? Это он правильно говорил, я ему поверил. Ты спрашиваешь, не боялся ли я идти на убийство? Не мучился? Совесть и прочее? Смотря что считать боязнью… Страшно было влипнуть, ясно. Но бояться нужно было больше этому господину, которого я не знал даже, как зовут, и про которого Алоиз, для того, кстати, чтобы моя совесть не слишком страдала, сказал, что он очень, очень плохой человек, по нем даже не вздохнет никто, а все будут рады увидеть его в гробу. Вот я заодно и насчет совести объяснил, но если этого тебе мало, скажу еще вот что. Убивать одних по просьбе других — это же моя профессия, я к тому времени уже три года только тем и зарабатывал. Получается, что совесть здесь ни при чем. А три тысячи долларов на дороге не валяются. В Африке за такие деньги надо три месяца потеть. А тут один выстрел… Нет, про совесть не будем рассуждать. Банкиры же спокойно спят, правда? У богачей аппетит хороший? А чем они лучше меня? Сами стрелять не умеют? Так за них стреляем мы. Вся разница… О совести пусть пекутся попы и монахини, а нам жить надо. В общем, поехали дальше. Или тебе надоело? Не надоело? Тогда попивай винцо и слушай. В первый раз в своем прошлом копаюсь, даже самому занятно… Поехал я на рекогносцировку. Картинка такая: дом, где жила милая моего клиента, стоит на тихой стрит, ширина проезжей части метров пятнадцать, да тротуары с двух сторон — метров шесть. Напротив — точно такой же десятиэтажный дом во весь квартал. Эту стрит пересекает широкая авеню, на которой движение оживленное. До угла — сто метров. На углу — закусочная в полуподвальном помещении. Парковаться можно на платной стоянке чуть дальше закусочкой по авеню. В первый же четверг я установил, что клиент паркуется на этой стоянке. Телохранитель проводил его до подъезда, а сам пошел в закусочную. Это было в семнадцать ноль-ноль. Ровно в девятнадцать телохранитель был у подъезда, и прямо тут же ему навстречу появился из парадного клиент. Видно, очень деловой человек, все расписано по секундам — когда ковать деньги, когда любить. С таким не соскучишься… Все это хорошо, плохо другое: огневой позиции в доме напротив, чтобы стрелять из окна, не было. Там лифт, лестничной клетки нет. Запасная лестница выходила во двор. Но я подумал: раз Алоиз все равно велел бросить машину неподалеку и если клиент, на мое счастье, свой «паккард» ставит отсюда за сто пятьдесят метров, то можно стрелять из автомобиля. Так и решил, хотя при этом варианте надо было считаться и с телохранителем. Он по мне тоже может выстрелить. Но шансы у нас неравные. Я все-таки буду в машине. Одно затруднение ликвидировать я не мог: дело происходило в марте, на этой улице даже и в солнечный летний день, наверное, бывало темно, а сейчас в семь вечера фонари еще не зажигали, и за десять шагов не разберешь, кто по тротуару идет — мужчина или женщина. В квартирах свет горит, но окна зашторены плотно, а реклам никаких нет. Но я на свое зрение надеялся, а для уверенности купил бутылочку рыбьего жира, целую неделю пил — помогает глазам в темноте, это меня еще шкипер на Рейне научил. По всем расчетам, мне надо стрелять минимум два раза, хотя пули и разрывные, попади в любую точку корпуса — человеку крышка. Но если клиент уже ученый, он обязательно после первого выстрела ляжет, попали в него или не попали. Стало быть, второй выстрел, по лежачему, для страховки необходим. Третий тоже не исключен, потому что телохранитель секунды через три сообразит вытащить свою пушку. Но я надеялся на темноту, да и «фордик» у меня был черный. Не хотелось бы трогать телохранителя, он-то наверняка наш брат, из тех, кто стреляет за других… Все я вроде расписал, как по нотам, оставалось дождаться следующего четверга, потому что тянуть я не люблю. И все бы гладко и сошло, если бы не мой африканский загар, вернее, если бы я о нем не забыл. А главное, Алоиз меня предупреждал. Да и не ошибка это, а просто штука в том, что, когда идешь на такое дело, надо глядеть не на неделю вперед, а немного дальше. Никаких правил я не нарушил, а просто два раза зашел в закусочную на углу поесть. Ничего там не пил. Только пожевал. Но когда жевал, то шляпу снимал. А без шляпы я приметный. Каждому известно: заставьте трех разных свидетелей рассказать об одном и том же происшествии — такой винегрет получится, что сам папа римский не разберется. Но мою клоунскую рожу семь человек одинаково запомнили и описали, а все из-за проклятого загара. Настал тот день, тот четверг. Без четверти пять я притопал пешком на угол, зашел в закусочную, взял чашку молока, сел к окну. Точно в семнадцать прошел клиент с телохранителем. Я допил молоко и отправился за машиной — далеко ее оставил, минут сорок ходьбы. Надел перчатки, сел за руль, покурил, достал из чемоданчика пушку, дослал патрон в патронник и спустил предохранитель, чтобы не забыть в последнюю секунду — знаешь, как иногда фотографы забывают снять крышечку с объектива. И поехал кататься вокруг по довольно пустынным в этом районе стритам. К углу, где закусочная, я прибыл без двух минут семь. Притормозил, вижу — телохранитель наискосок переходит улицу. Дал ему пройтиметров тридцать и тихо так ползу следом. Стекло правой дверцы было у меня опущено. Все произошло по расписанию. Стрелял я метров с пяти, целил в грудь. Клиент упал на тротуар, как переломился, сторож его ничего не понял, растерялся, потому что выстрела не слышал — у моей пушки такой тихий звук был, похоже, как будто камешек в воду бросили — тиньк… Второй раз стрелять не стал, нажал на акселератор, рванул вперед до следующего угла, завернул, тут же — стоп, машину запер и резвым шагом до подземки — там недалеко было. Пистолет я оставил под сиденьем, на полу. Через час я был дома. Выпил сразу полбутылки виски, принял душ, допил и лег спать. Утром распечатал другую бутылку, опохмелился и стал ждать Алоиза. Он пришел, когда стемнело. Сначала ничего не говорил, кинул на стол в кухне конверт с деньгами, посидел, пока я считал, а потом достал из-под плаща сложенный лист, вырванный из газеты, расстелил его, ткнул пальцем в фото, на котором была знакомая мне сцена: на тротуаре клиент лежит, над ним стоит телохранитель. Только странно мне показалось, что он в аппарат смотрит, а рукой в живот своему хозяину тычет. Не сразу дошло, что это он уже после полицейским, наверное, показывал, как все случилось. Все правильно, говорю я Алоизу, так оно и было. А он говорит: читай, дурак. Я объясняю, что читать по-английски не умею. Тогда он сам прочел. Под фото были написаны неприятные вещи. Крупным шрифтом выделялись слова насчет того, что за два часа до убийства в закусочной видели человека со странным лицом: лоб белый, остальная часть очень темная. Пятеро постоянных посетителей закусочной, кассирша и раздатчица молочных продуктов утверждают, что человек этот вызывал неопределенные подозрения своим поведением, но чем именно — не сообщалось. Раздатчица и кассирша сообщили также, что подозрительный субъект посещал закусочную несколько раз в последние две недели перед трагическим происшествием — это они не врали. Непонятно мне было только, чем я мог вызвать подозрения, кроме загара. Я спросил у Алоиза, что там сказано про убитого. Он разозлился, потому что мне не о том думать теперь надо, но все же сказал, что пострадавший содержал какую-то посредническую контору, в прошлом привлекался к суду по делу нелегальных игорных домов, но за недоказанностью обвинения оправдан. Да, Алоиз был, как всегда, прав: мне нужно было думать о собственной безопасности. Водительскими правами и машиной, а может, и пистолетом он пустил полицию по следам неизвестного мне Ричарда Смита, но куда я сунусь со своей приметной рожей? Еще слава аллаху, что перед соседями никогда шляпу не снимал… Дело обернулось так, что Алоиз видел один выход: я должен исчезнуть из Нью-Йорка и вообще из Штатов. Договорились, что он доставит в квартиру запас продуктов на неделю, чтобы я из квартиры носа не высовывал. Тут же и смотался в магазин, притащил коробку с разными консервами. А пока ходил туда-назад, ему неплохая мысль в голову пришла: попробовать свести мой загар какими-нибудь средствами. Но это еще требовалось проверить, есть ли такие средства. Я куковал два дня на консервах. Наконец является Алоиз, выставляет на стол два флакончика — в одном белая жидкость, густая, как сливки, в другом голубоватая. Это его одна знакомая дамочка научила. Черт его знает, что это были за снадобья, во всяком случае, пахли приятно. Втирал я их по три раза на день, морду щипало, думал, протру шкуру до дыр. И представь, через неделю посмотрелся утром в зеркало — розовенький такой бутончик, поросеночек из-под свинки. Чудеса косметики! Двадцать шестого марта я улетел в Мадрид. Алоиз, конечно, меня не провожал. Мы простились, когда он привез мне билет. Расстались большими друзьями, он, признался в своем великом уважении ко мне, а я признался в уважении к нему. Алоиз высказал надежду, что наши отношения на этом не прервутся, а, наоборот, будут крепнуть. Просил меня завести в Мадриде личный почтовый ящик, чтобы он мог в случае необходимости послать мне депешу. У него были предчувствия, что мои услуги могут понадобиться еще неоднократно. Ну я-то всегда готов, я солдат, завербованный его величеством долларом, а также ее величеством маркой, а также его превосходительством фунтом, и избавь нас господь от ее преподобия итальянской лиры, ибо считать до миллиона не умею, а приземлись я не в Мадриде, а в Риме и обменяй доллары на лиры — сразу стал бы миллионером. А итальянским миллионером я быть не хочу. Дружки мои в Мадриде лапу еще не сосали, но порядком порастряслись и потому с нетерпением ждали трубного гласа. Я кое-кого угостил, расспросил. Гейзельса тогда не нашел, но там другие были, вхожие к Моизу Чомбе, вернее, к Боненану, и хорошо осведомленные. Ходили слухи, что катангский коммерсант обязательно хочет стать премьер-министром Конго, как будто уже и планы подробные составлены. И этому можно было верить, так как Чомбе, по дурости ли или потому, что был порядочный нахал, свои ближайшие намерения никогда в секрете не держал. Но дни шли, а по тревоге нас никто не поднимал. Я начинал уже подумывать, где бы найти новую работенку, когда получил письмо от Алоиза. Это было в начале мая, уже наступала жара, и очень кстати оказалось его письмо, потому что надоело мне жариться, загорать больше не хотел, тянуло куда-нибудь посевернее, а Алоиз приглашал на свидание в Цюрих, где он собирался быть транзитом. Мою дорогу он оплачивал, так что я ничего не терял. Я послал телеграмму: согласен. Седьмого мая мы встретились в цюрихском аэропорту. Алоиз летел дальше — не то в Стамбул, не то в Багдад, у него было всего два часа свободных, и мы провели их в старом темном ресторане неподалеку от железнодорожного вокзала, там столик от столика отделен деревянными перегородками… Но нам хватило для разговора и тридцати минут. Задание было такое же — убрать человека. Я настроился поторговаться, но Алоиз сам назначил более высокую плату, чем первый раз, — пять тысяч долларов. Дорога в оба конца — его, и еще триста на мелкие расходы. Две с половиной он выложил тут же как задаток, другую половину — когда исполню и вернусь. Грех было отказываться. Он показал мне портрет пожилого человека. Лысина большая, глазки маленькие, лоб в морщинах, нос толстый и длинный, как баклажан, губы закрывает. Не чересчур симпатичный, в общем. С ним можно было все разыграть как и с первым, но Алоиз боялся повтора, потому что тогда для полиции уже возник бы определенный почерк, а это нежелательно. Раз есть почерк, можно сравнивать и сопоставлять разные там причины и следствия, глядишь, до чего-нибудь я докопаются. Так объяснял мне Алоиз. Значит, метод должен быть другим. Но мне нравилось то оружие, которое нам верно послужило с первым моим клиентом, и Алоиз сказал, что пистолет опять можно использовать такой же и он у него имеется, но все остальное, то есть обстоятельства, нужно придумать по-новому. Никаких отвлекающих штучек — вроде прав на имя Ричарда Смита — он мне обеспечить на сей раз не сможет, значит, уже непохоже на случай с первым клиентом. Для меня это было хуже, но подвод Алоиз дал первоклассный. Я запомнил распорядок дня нового клиента, Алоиз нарисовал расположение его загородного дома, откуда он в восемь утра отправлялся на работу в город и куда возвращался каждый вечер, задерживаясь иногда часов до двадцати двух, но не позже. Алоиз велел перерисовать этот план, я перерисовал, а свой листок он сжег в пепельнице. Потом он дал мне ключи от квартиры в Нью-Йорке и назвал ее адрес — это была не та квартира, где мне пришлось вытравлять прошлый раз загар с лица. Алоиз сказал, что я найду там пистолеты двух разных систем и могу воспользоваться любым, по выбору, а кроме того, в шкафу на кухне есть три мины с часовым механизмом. Мины миниатюрные, но большой взрывной силы. Одна в виде коробочки с ваксой для ботинок, а две другие сделаны под игрушки, какие вешают в автомобиле перед ветровым стеклом, — обезьянка и Микки Маус. Алоиз подробно растолковал, как ставить мины на боевой взвод и включать часовые механизмы. При желании с помощью тонких проводов, которые тоже лежали в шкафу, их можно законтачить, скажем, на акселератор или на тормоз. Алоиз упомянул, что у клиента две машины, и в одной висит Микки Маус, а в другой — обезьянка. Мне же придется взять автомобиль напрокат. Да, он еще предупредил, что пистолеты пристреляны, целить надо под яблочко. А главное условие состояло в том, чтобы я управился за десять дней — ровно столько он будет отсутствовать в Штатах. Вот такой предусмотрительный попался мне наниматель. Лучше не бывает… Следующая встреча, значит, через десять суток в этом же ресторане, и я получу остальную часть гонорара. Он улетел на восток, а я тем же вечером — на запад, за океан. Паспорт у меня был в полном порядке, таможенный досмотр меня не страшил, перед ними я чист. Чтобы не тянуть резину, скажу сразу: минами я не воспользовался, а пристрелил клиента у него дома, из пистолета. Вечер был душный, он вышел на веранду, включил свет, сел в кресло-качалку, положил газету на колени, надел очки. Я стрелял из-за угла соседней виллы — она пустовала. Пуля попала ему в лицо, и он сделался белый, как рубашка. А на стене позади него большое красное пятно образовалось — с велосипедное колесо. Пуля-то разрывная… Так он и остался сидеть, отвалившись на спинкукресла. Я спокойно уехал, сдал прокатный «кадиллак» хозяину, оставил в квартире пистолет, и в аэропорт. Быстро обернулся, два дня пришлось Алоиза в Цюрихе дожидаться. Жалел, что не прихватил тот пистолет — замечательная машина. Но можно было нарваться в аэропорту, рискованно… Алоиз рассчитался честь честью. О происшествии он уже знал, а откуда — неизвестно. Об этом случае газеты почему-то не писали. Наверное, ему кто-то из Нью-Йорка сообщил. Я тогда подумал, что у него и контроль налажен. И впервые любопытство меня разобрало: кто он такой есть, этот Алоиз? Но спрашивать человека вот так прямо — мол, скажи, пожалуйста, что ты за гусь? — было бы невежливо. Он хорошо платит — этого достаточно. За три месяца я заработал восемь тысяч долларов. Служба у Чомбе казалась мне теперь напрасной тратой времени. До мая шестьдесят седьмого года я получил от Алоиза еще несколько заданий. Одно пришлось выполнять без пистолета, можно сказать, голыми руками, а мне это противно. Да чего-то и перемудрил, по-моему, Алоиз в тот раз. Ему обязательно требовалось так обставить дело, чтобы клиент вроде бы сам упал и ударился о ступеньку крыльца. Пришлось глиняный слепок ступеньки добывать, потом Алоиз доставил мне железный уголок, и вот этим уголком ударил я старика в висок… Было это недалеко от Парижа… Нет, лучше без таких штучек работать… Мне после старик целый месяц снился, хоть иди свечку ставь… Но прошло… Все проходит… Да-а… А потом мы с Алоизом разошлись. Это целая история, и я до сих пор не разберусь, правильно я поворот сделал или поспешил, прогадал или выгадал. Может, и прогадал, но очень уж: соблазнительная подвернулась комбинация… Если тебе не надоело, могу рассказать. Не надоело? Ну, так слушай… В мае шестьдесят седьмого, когда у нас в Мадриде уже точно было известно, что вот-вот начнется отправка в Конго — уже мы и зарплату за месяц получили, — приходит мне вызов от Алоиза. Ну, я уже привык, что если он приглашает, значит, все подготовлено, больше двух недель не задержусь. Отправка раньше июня вряд ли начнется — это мне удалось разузнать. В общем, лечу в Нью-Йорк. Опять, как всегда, квартирка в старом доме, где половина жильцов — эмигранты. И без дела не высовываться. Алоиз сам приходит, дает инструкции, а тебе остается только ждать сигнала. Ну вот, настает день, Алоиз показывает мне живого клиента, которого я обязан сделать мертвым, сообщает его расписание жизни, маршруты езды и прочее, снабжает оружием. И назначает крайний срок. А на следующее утро — я как раз брился в ванной — раздается звонок: кто-то просится в квартиру. «Кто бы это?» — думаю. У Алоиза есть ключи, да и не в его правилах ходить по утрам. Решил не открывать. Снова звонок, длинный, настойчивый. Мне стыдно стало, что я затаился и даже не дышу. Пошел открывать. В первый момент, когда распахнулась дверь, я решил — все, тут тебе и крышка. Глупое положение: стою с намыленной рожей, в руке безопасная бритва, а передо мной — кто бы ты думал? Не угадаешь… Телохранитель того первого клиента, брюнет с нахмуренными бровями. И вместо того чтобы получить пулю в лоб, слышу вежливый такой голос: «Извините, можно к вам на минутку?» И так я от неожиданности поглупел, что говорю: «Пожалуйста, прошу вас». Мог бы и поостеречься — может, он при открытых дверях не желал со мной кончать, при закрытых же безопаснее. Но он прошел в комнату первый, я сзади. И начинается разговор. — Меня зовут Мортимер, — сообщает гость. — Я имею дела с тем же человеком, что и вы. Я думаю: за кого он меня принимает? Если сам псих, то я-то пока в своем уме. — Какого человека вы имеете в виду? — спрашиваю. — Алоиза, — спокойно отвечает он. Кто хочешь удивился бы, но я приучил себя никогда рот по-глупому не разевать. — Ну и что дальше? — интересуюсь. — Мне известно, чтó вы должны организовать для Алоиза, — объявляет он все так же спокойненько. Что прикажете делать, когда вам говорят такие вещи? Я предложил ему сесть и закурить. Закурили. — Так расскажите, что же я должен организовать? — прошу я. Мортимер вежливо и совершенно правильно излагает задание Алоиза. — Кто же вы такой? — спрашиваю. — Я тоже работаю на Алоиза, — отвечает Мортимер. — Этим все сказано. Но у меня одно с другим как-то не вяжется. Он ведь был телохранителем того убитого клиента. Если он работал на Алоиза, зачем было Алоизу нанимать меня и устраивать целый спектакль? Продолжаю выяснять: — А вы давно на него работаете? — Нет, всего полгода. Ага, думаю, значит, просто сменил хозяина. Спрашиваю дальше: — А до него вы у кого работали? Мортимер мог бы и не отвечать или наврать чего-нибудь, но он, видно, пришел не комедии разыгрывать, а по делу. Очень он был серьезный и смотрел из-под бровей. — Раньше я тоже ходил по частному найму, — объясняет, — но немножко другой профиль. — А именно? — Я был охранником, телохранителем. Моего хозяина убили. У меня на глазах. Кто же после этого будет меня нанимать? Это он справедливо рассуждал. И мне понятно стало, что после того случая Алоиз прибрал Мортимера к рукам и заставил служить себе. Все как полагается, как у порядочных людей. Для интереса оставалось только узнать, кем же был его прежний хозяин — из этого можно было построить догадку насчет того, что за тип Алоиз. Вернее, что за персона, какого калибра. Если мой первый клиент был и у Алоиза первым… В общем, если знать масть того клиента, можно и масть Алоиза определить. Тут уже получается целый расклад. — Если не секрет, — говорю, — чем занимался ваш несчастный прежний работодатель? — Всем понемногу, — отвечает Мортимер. — Почему же его убили? — Он мог сделаться конкурентом. — Кому? — Алоизу. — А в чем? Мортимер посмотрел на меня с сомнением — не валяю ли я дурака. Но мне правда ничего не было известно. — Он хотел заняться тем же делом, каким занимается Алоиз. — Адвокатом работать? Теперь я действительно немножко балдой прикидывался. Мортимер пошел в открытую. — Алоиз принимает заказы на убийство, — сказал он, — а такие, как мы с вами, их исполняем. — Понятно, — говорю, — продолжайте. И тут он меня ошарашил — положил на стол ключ. Я спрашиваю: — Ну и что? — Это от вашей квартиры. Можете убедиться. Чем дальше, тем непонятней. Пока я раздумывал, что бы такое сказать, Мортимер решил, видно, все прояснить. — Если я ошибусь, то есть если мы с вами не сговоримся и вы осведомите Алоиза об этом разговоре, мне будет плохо. Но я думаю, вы все-таки согласитесь на мое предложение. — А что вы хотите предложить? У Мортимера тоже голова не соломой набита была. По виду — боксер, а соображает как профессор. Вот какую комбинацию он разработал. — Я знаю человека, которого вы должны убрать, — сказал Мортимер. — У него много денег, и ему еще нет пятидесяти. Алоиз заплатит вам семь тысяч и мне пять… — А вам за что? — задал я идиотский вопрос. — За вас. Час от часу не легче. — Как это за меня? Мортимер подбросил ключ на ладони. — Я должен спрятаться у вас в квартире. После того, как исполните поручение. И убить вас. Пистолет у меня есть. Точно такой же, как ваш. Видно, я не очень-то обрадовался, потому что Мортимер посчитал нужным меня успокоить. — Так всегда бывает… Вы не американец, и вы не знаете таких типов, как Алоиз. Сколько поручений вы уже выполнили? — Семь, — отвечаю. Он говорит: — Вот видите. Это очень много. Вы становитесь слишком опасным для Алоиза. Даже если он вас любит, все равно ему необходимо от вас избавиться. Сразу восемь концов в воду. — Считая и этого? — уточняю я. — Да. Он понятно все объяснил, только еще не добрался до главного. Я прошу: — Выкладывайте ваше предложение. Мортимер простенько так объяснил: — Мы предложим этому человеку жизнь и возьмем с него… ну, скажем, двести тысяч. Он уедет куда-нибудь подальше, потому что это не шутки и он все понимает. — А что будет с нами? — Мы тоже уедем. Откровенно говоря, я не мог вот так сразу, в одну минуту, все взвесить. Я думал. — Сто тысяч на брата, — говорит Мортимер. — Посчитайте, сколько от вас потребуется трупов, чтобы заработать такую сумму. Деление и умножение я помнил. Но это тоже не шутка — надуть Алоиза. — А если Алоиз захочет нам отомстить? — говорю я. Мортимер опять объясняет: — Человек, которого вы должны убрать, не конкурент ему. Это простой заказ со стороны. Те, кому он мешает, заказчики, будут довольны его исчезновением. Алоиз потеряет на этом сколько-то тысяч. Вы вернетесь в Европу, я тоже найду себе местечко потише. На нас тратить деньги Алоиз не станет, а сам он стрелять не умеет. — А вы уверены, что этот человек не пошлет нас к чертям собачьим? — говорю я. — Думаю, не пошлет. Одним словом, убедил меня Мортимер, и мы не откладывая, в тот же день посетили клиента у него дома. Он был один, если не считать прислуги — старой негритянки. Я думал, он примет нас за обыкновенных шантажистов, но когда Мортимер рассказал ему честно, как обстоит дело, клиент скис и поверил, что мы не только себе добра желаем. Наверно, ждал уже чего-то такого. Он даже захотел убраться из Штатов сию минуту. И хочешь, верь, хочешь нет, попросил, чтобы один из нас не покидал его. Дело упиралось в деньги — наличных двухсот тысяч у него при себе, конечно, не имелось, поэтому договорились так: он делает необходимые распоряжения банку, чтобы можно было получить деньги в Европе, Мортимер заказывает три билета на ночной самолет, и мы обеспечиваем клиенту безопасность на все время, пока он с нами… Вот такие дела… Расплатился клиент в Роттердаме. Он отправился в Биарриц, где отдыхала его семья — жена и дети. Мортимер подался куда-то не то в Англию, не то в Шотландию, а я вернулся в Мадрид. И как раз успел к отправке. Меня зачислили в отряд полковника Денара, и мы улетели на транспорте в Кисангани. Это была последняя попытка Моиза Чомбе заполучить Конго. Но вышла полная ерунда. Самолет Моиза захватил его дружок Боненан и вместо Конго посадил его в Алжире. Кто ему за это заплатил, не знаю, но наверняка крупно он заработал. Пятого июля мы все же выступили, хотя Чомбе и не прибыл. Шло у нас так, как бывает, когда играешь в карты: сначала все хорошо-хорошо, а потом все плохо-плохо. Там действовал, кроме нас, еще отряд полковника Шрамма. Он и поднял мятеж. А мы его поддерживали. Но что-то в механизме было разлажено. Никакой неожиданности не получилось, солдаты национальной армии встретили нас и дали по всем правилам. Денара ранило, его отправили в Родезию, а нас передали под команду Шрамма. Восемь дней мы дрались в Кисангани, но сделать ничего не смогли. Потом отошли на Букаву, два дня вели бой за город, наконец заняли его, и стало вроде полегче. Жировали мы до октября, а потом Мобуту начал наступать. Если в день десятерых хоронили, это считалось малыми потерями. Второго ноября все было кончено. Мне опять повезло — убежал я с тремя из нашего отряда. Хотя и был ранен осколком снаряда в плечо. Осколок мне ребята выдернули, джином рану промыли — и ничего, обошлось… Зиму провел я в Ницце. Лечился, отдыхал, в Монако наезжал. Рулетка меня, слава аллаху, не затянула, хотя я с первой ставки выиграл, поставил весь выигрыш на седьмой номер — и шарик на нем и остановился. Хапнул я тогда солидно, но сумел перебороть, уехал. После несколько раз пробовал играть, но безуспешно. Проиграл мелочишку и плюнул на это дело. Мог бы я купить какие-нибудь акции или открыть, скажем, магазин, но нет у меня доверия к дельцам и коммерсантам. Лучше уж, думаю, пусть лежат мои денежки в банке, наращивают проценты. Но чтоб они лежали нетронутые, надо на жизнь зарабатывать. Скоро встретил я старого коллегу по Конго, он нацеливался в Португалию — там наемные солдаты требовались. По правде говоря, надоела мне Африка. Если бы куда-нибудь в Южную Америку, было бы интереснее. Но там ничего не наклевывалось. Пришлось согласиться на Португалию. Там мы, конголезцы, ценились высоко. Побывал я и в Мозамбике, и в Анголе, и в Гвинее-Бисау. Ты меня в Африке своими глазами видел. Ну и все. Разболтался я, сам не знаю с чего. Хватит. Дай прикурить». О том, что он уже два года работает на Центр, Брокман умолчал. Михаил встал, подошел к окну. Уже наступили сумерки, а света в номере они не зажигали, и улица из окна хорошо просматривалась в оба конца. Михаил увидел, как мимо отеля прошел сухощавый человек — шпик, приставленный к Брокману. Шевельнулась мысль, что, может быть, это посланец Алоиза бродит, как гиена, дожидаясь удобного момента, чтобы куснуть Брокмана за горло. — Ты так и не поинтересовался фамилией Алоиза? — спросил Михаил. — Настоящую его фамилию ты ведь знаешь, — напомнил Брокман. — Сам говорил: с Гофманом вы были дружками. Значит, точно: Алоиз — это Гюнтер Гофман. А присутствие здесь его агента — если только шпик действительно послан Алоизом — давало Михаилу прямую нить. — Ну, какими дружками? — возразил Михаил. — Он был моим командиром. Не уверен, запомнил ли меня Гофман вообще. — Не хочешь ли с ним встретиться? — усмехнулся Брокман. — За мою голову он бы тебе хорошо заплатил. Михаил повернулся к нему. — Зачем же ты тут целых два часа душу передо мной выворачивал, если допускаешь, что продам? — Пожалуй, не продашь. Алоиза тебе не найти. «Твоя голова уже на мушке, дурак», — подумал Михаил. Он смутно чувствовал, что из возникшей ситуации можно извлечь пользу для дела, но еще не знал, как этого добиться.ГЛАВА 12 След Гофмана
Десятилетиями выработанное правило не позволяло Михаилу делать окончательные выводы на такой зыбкой основе, как однократно поставленный опыт или тем более первое впечатление. Один раз он уже видел, что худощавый субъект, которого Михаил считал шпиком, выслеживает как будто бы не его, а Брокмана. Чтобы окончательно в этом убедиться, надо перепроверить еще самое — малое дважды. После обеда, посмотрев в окно и заметив среди прохожих шпика, Михаил сказал Брокману: — Пойду разомнусь немного. — Купи немецкие газеты, — попросил Брокман. Сегодня они не покупали газет, потому что не спускались вниз. Михаил зашел к себе в номер, надел теплую куртку и шерстяную лыжную шапочку, купленные им здесь, в Гштааде. Выйдя из отеля на улицу, он не торопился уходить, так как необходимо было попасться на глаза шпику. Михаил закурил и стоял у подъезда с видом человека, прикидывающего, то ли пойти погулять, то ли вернуться, ибо погода была неприятная, сырая, хоть дождь и снег прекратились еще в полдень и небо очистилось. Наконец шпик медленно проследовал по противоположной стороне, и Михаил заметил, как он метнул на него мимолетный взгляд. Его даже сомнения взяли: неужели это и впрямь шпик? Неужели кто-то мог послать в качестве соглядатая столь неумелого человека? Торчит весь день перед отелем, мозолит глаза. Правда, по этой улице ходит весь наличный людской состав Гштаада, как местные жители, так и приезжие, но, право, нельзя же с таким прямолинейным усердием топтаться на самом виду. Михаил демонстративно быстрым, широким шагом пересек мостовую и ступил на тротуар в тот момент, когда шпик повернулся, чтобы следовать в обратном направлении. Они чуть не столкнулись. Шпик посмотрел Михаилу в лицо и отвел глазки. Михаил пошел за ним, обогнал и зашагал к вокзалу. Чуть ниже отеля улица изгибалась. Михаил миновал этот изгиб и остановился. Шпик за ним не шел. Купив газеты и пройдясь за вокзал, он вернулся и опять увидел худощавого… На следующее утро нога у Брокмана перестала болеть, и он намеревался выйти подышать свежим воздухом. Михаил отказался, сославшись на то, что плохо спал ночью и хочет полежать. Брокман пошел один. Из окна своего номера Михаил наблюдал, как шпик, увидев Брокмана на улице, быстро вошел в их отель, — это было совсем непонятно. Ведь он должен следовать за своим объектом, то есть за Брокманом… Но через несколько секунд все разъяснилось: худощавый появился из отеля в сопровождении человека в кожаном сером полупальто и зеленоватой шляпе. Оки направились вправо, туда, где скрылся Брокман. Скорее всего второй коротал время внизу, за стойкой бара, куда ведет коридор с витражами, очень нравившимися Михаилу. Из бара, как узнал Михаил, другой коридор ведет в подсобные помещения отеля, в кухню и к выходу во двор. Вот оно, оказывается, какое дело… Шпик-то не один… Вероятно, второй прибыл вчера или сегодня утром и не знает Брокмана в лицо. Сейчас худощавый покажет его своему напарнику… Михаилу вспомнилось то место из исповеди Брокмана, где шла речь о первом его деле в Штатах и о том, как Алоиз заготовил для полиции ложный след — права на имя какого-то Ричарда Смита, брошенный автомобиль, пистолет, который Брокман брал только в перчатках и на рукоятке которого, так же как и на баранке машины, могли быть ранее оставлены отпечатки пальцев этого самого Смита… Если и тут работает Алоиз, можно ожидать чего угодно. Людям, замыслившим убрать Брокмана, не составит труда разыграть все таким образом, чтобы натравить полицию на его постоянного спутника последних дней. Например, отправится Брокман с Михаилом в горы, там с Брокманом произойдет что-нибудь — под подозрением, естественно, окажется его товарищ. И прислуга в отеле, и многие в городке при необходимости подтвердят, что ни с кем, кроме своего неразлучного спутника, Брокман не общался, нигде не появлялся без него. Все повернулось на сто восемьдесят градусов: человека, которого Михаил собирался покарать за смерть отца, он теперь должен оберегать и ради собственной безопасности, и ради дела. Было ясно, что Монах готовит Брокмана к засылке в Советский Союз. Сопоставив исповедь Брокмана и зондаж: Монаха насчет Павла — Бекаса — способен ли он убить человека, — нетрудно было сделать вывод, что Брокман посылается ради какого-то очень важного дела. Можно предполагать, что Монах собирается использовать богатый опыт Брокмана как профессионального убийцы. Значит, Брокман не должен пострадать здесь. Он будет на виду у полковника Маркова. Если тут его уберут, туда пошлют другого, кого он, Михаил, знать не будет. А это уже гораздо хуже… Он не упрекал себя в непоследовательности, чувствуя, что жажда мести испарилась. И причина была в том, что он больше не испытывал к Брокману ненависти, а лишь глубокое чувство жалости и презрения одновременно. Он понимал, что это неуместно по отношению к типам, подобным Брокману. Но таково было воздействие покаянного рассказа Брокмана о той страшной жизни, которая выпала на его долю. Может быть, по разумению иного, это выглядело противоестественно, но Михаил относился к нему после его исповеди даже с сочувствием, и не как к человеку, а как к зверю — собаке или кошке. Ведь если хозяин приучил своего пса со щенячьего возраста кидаться на всякого, кто переступает порог дома, и если пес кого-нибудь в конце концов серьезно покусает, разве винить надо пса? Разве можно зверя привлекать к человеческому суду? Мир, в котором вырос Брокман, сделал его таким, каков он есть. В этом мире каждый добывает себе пропитание тем способом, какой ему доступен. Брокман добывал убийством, и это так же в порядке вещей, как биржевые операции или священное право частной собственности. В сущности, Брокман не грешил даже против своей совести, если, конечно, она у него была, ибо действовал по законам общества, в котором имел счастье жить. Да, по разумению иного, резкая перемена в отношении Михаила к убийце отца могла показаться неожиданной. Но Михаил и сам мог бы пройти по тем же кругам, которые завертели Брокмана, он достаточно долго и близко наблюдал среду, в которой формируются человекоподобные создания, похожие на Брокмана, он на себе ощутил ее растлевающую силу, и потому ему было доступно милосердие к тем, кто по слабости ли характера или по фатальному стечению обстоятельств дал себя сделать слепым орудием злой воли. В сущности, Брокман лишь возвращал миру то, что получил от него. Сказано же: и воздается тебе… Библейские истины как палки — всегда о двух концах… Ханжи-моралисты, мнящие себя выразителями и хранителями духа свободнейшего, христианнейшего, благолепнейшего на земле общества, восстанут против такой трактовки, но Михаил хорошо знал настоящую цену проповедям апостолов, которые оплачиваются по той же графе, где числятся расходы на рекламу. Он знал, что прав… Михаил, стоя у окна, увидел возвращающегося Брокмана. Он чуть прихрамывал. Через минуту в дверь постучали, Брокман вошел, сказал, присаживаясь: — Рано выполз, нога болит. — Иди-ка ложись, с этим шутки плохи. Вылежи денька три, — посоветовал Михаил. — Пожалуй… у тебя какие планы? Михаил, прежде чем ответить, посмотрел в окно. Один из шпиков, худощавый, был тут как тут. — Надо бы в Берн съездить, отношения с банком выяснить. — Бросаешь меня, значит? — уныло сказал Брокман. — К вечеру вернусь. А ты, чтобы не скучать, позови доктора. Он, кажется, обожает коньяк. И в картишки перекинетесь. — Спасибо за совет. Так и сделаю. Проводив Брокмана в его номер, Михаил оделся и вышел из отеля. Шпик его видел, но следом не пошел… Эта поездка в Берн послужила ему не только средством проверки. Он на всякий случай снял со счета в банке остаток своего вклада и таким образом порвал, выряжаясь красиво, последние узы, связывавшие его со Швейцарией. Переночевав в отеле на Цейхгаузгассе, Михаил следующим утром вернулся в Гштаад. Возле их отеля дежурил мордастый тип в сером кожаном полупальто. У портье, который вручил ему ключ, Михаил спросил: — Двадцатый у себя? Портье поглядел на соты полки, где хранились ключи. — Да, у себя. Михаил поднялся на второй этаж, стукнул в дверь Брокмана для приличия и, как делал всегда, тут же толкнул ее, но дверь была заперта. — Кто? — услышал он раздраженный голос Брокмана и подумал: «Наверно, с девчонкой». — Это я. Извини. Ключ в двери повернулся, щелкнул язычок замка. — Входи. Михаил отказывался верить факту: Брокман, будучи один, средь бела дня сидел в запертом номере! — Что так долго? Где был? — спросил Брокман таким тоном, словно Михаил обязан был отчитываться в каждом своем шаге. — Дела задержали. Ты что взаперти сидишь? — Михаил старался скрыть, что прекрасно видит необычное выражение лица Брокмана, нервозность, сквозящую в его взгляде и жестах. Брокман подошел на цыпочках (!) к окну, но стал не прямо против него, а сбоку, у тяжело свисавшей, собранной в крупную складку плотной шторы. Затем, посмотрев в щель между шторой и обрезом оконного проема, поманил Михаила пальцем. — Иди сюда. Михаил подошел, стал рядом. — Смотри, — сказал Брокман, уступая ему позицию. На противоположном тротуаре прогуливался мордастый. — Ничего особенного не вижу, — сказал Михаил. — Что ты хочешь мне показать? — Этого, в коже, видишь? — спросил Брокман. — Ну и что же? — Ты раньше ничего не замечал? — Как-то в голову не приходило… Брокман сел на кровать. — Этот парень со вчерашнего дня здесь маячит. Михаил тоже отошел от окна, закурил сигарету. — А тебе-то что? — Неспроста он маячит, — зло сказал Брокман. — Считаешь, тобой интересуется? — Все может быть… — Тогда выйди сейчас же и выясни отношения. — Черта с два! Если это ко мне, с ними не сговоришься. — Брокман посмотрел на часы. — У тебя есть оружие? — спросил Михаил. — Есть, но что от него толку? Я-то знаю, как это делается. Не было смысла разубеждать и успокаивать Брокмана. В голове у Михаила зрела одна идея. — Вот что, — сказал Брокман обычным своим тоном. — Я говорил с хозяином отеля, он обещал посодействовать. Тут недалеко, километров десять или пятнадцать, есть небольшой аэродром. Оттуда можно улететь в Женеву или Цюрих. Если он договорится, поможешь мне? Михаил глядел в стену и молчал. Брокман говорил правильно: из окна поезда Михаил видел недалеко о г Гштаада посадочную площадку и на ней спортивный самолет. — Посмотрим, — рассеянно отвечал Михаил. — Значит, боишься? — Брокман покачал головой. — Правильно делаешь. Михаил молчал. — Надо было мне панцирем обзавестись, да все думал — не понадобится, — сказал Брокман. — Да, с панцирем спокойнее, — согласился Михаил. — Пистолет и панцирь — надежные друзья. Самые верные. — В голосе Брокмана звучала горечь. — Вернее всех живых друзей. «Поздно же ты спохватился», — подумал Михаил, но сказал совсем иное: — Стальная каска и бронированный автомобиль — тоже надежные друзья. А также коньяк… Не выпить ли нам? — Нет, не хочу. Михаил встал. — Пойду в бар. Он вышел. Шагая по толстому пружинящему ковру, услышал щелчок замка — Брокман запер за ним дверь. Но сначала он пошел не в бар. Он отправился к хозяину отеля, в его рабочий кабинет. Дождавшись, когда тот отпустил какого-то своего служащего, Михаил спросил, не может ли он получить в свое распоряжение автомобиль, чтобы уехать на нем в Берн. Хозяин подумал и сказал, что это можно устроить — он даст свою машину. Тогда Михаил попросил разрешения оставить машину в Берне — где ее найти, будут знать в отеле на Цейхгаузгассе. Он, разумеется, готов заплатить сколько потребуется. Хозяин поглядел в потолок, помолчал и назвал сумму. Михаил выложил деньги. — Очень прошу, — сказал он, — пусть машина через четверть часа стоит во дворе. — Хорошо. А в Берн за нею я пошлю Жоржа. Михаилу было все равно, кого пошлют в Берн. Он распрощался с хозяином. Спустившись в бар, Михаил увидел у стойки худощавого шпика — он расплачивался за сигареты — и отметил про себя: значит, тут организована прочная блокада. Судя по всему, Брокману ее не прорвать. Он выпил рюмку дорогого коньяку. Бармен относился к Михаилу с большим почтением, ибо клиент, пьющий такой коньяк, достоин всяческого почтения. Михаил не смотрел на шпика, но чувствовал на себе его взгляд. По идее, которая уже окончательно созрела у Михаила, ему надо было вступить в контакт со шпиками, но чутье подсказывало не торопить событий. Они могли сами проявить инициативу, это было бы лучше… В коридоре с витражами, которые так понравились Михаилу, он услышал за спиной частые шаги и обрадовался. Шпик догнал его у входа в холл. — Простите, на два слова. — Шпик говорил по-французски, голосок у него был тонкий, нежный. — В чем дело? — Михаил остановился. — Вы друг Карла Брокмана? — Он перешел на шепот, но Михаил не собирался с ним перешептываться и сказал громко: — Мы вместе сюда приехали. — Это я знаю, — прошептал Шпик. — Говорите, пожалуйста, тише, там портье. Михаил понизил голос, но ответил грубо: — Не о чем мне с вами разговаривать. Худощавый, который был ниже Михаила на полголовы, тронул его мизинцем за плечо. — Еще два слова. Михаил брезгливо дернул плечом, отступил на шаг. — Поменьше болтайте. Мне некогда. — Я вам советую: не сопровождайте Брокмана. Пусть он гуляет один. Михаил смерил его презрительным взглядом, но стоявший перед ним субъект не обращал внимания на такие мелочи. — Я передам ваши слова Брокману, — пообещал Михаил. — Это меня не волнует, — быстро прошептал шпик. Михаил отметил, что у шпика есть свое достоинство. — А если я позвоню сейчас в полицию? Шпик ответил не раздумывая: — Не советую. Зачем вам ввязываться не в свое дело! Лишние хлопоты. Спасибо хоть за то, что они не собираются сваливать вину за готовящееся убийство на него, Михаила. Он спросил: — Что вы мне еще посоветуете? — Если серьезно, то лучше отсюда уехать. На что он вам? Вы же не друзья. — Откуда вы все так хорошо знаете? — Мы много чего знаем. Момент был подходящий, и Михаил приступил к выполнению своего плана. — Услуга за услугу, — сказал он уже миролюбиво. — У меня к вам будет одна просьба. Но давайте пройдем в бар, если вы не против. Худощавый улыбнулся. — Такой разговор мне нравится больше. В совершенно безлюдном зале они сели за столик в углу. — Закажем чего-нибудь? — предложил Михаил. — Нет, я на работе не пью. — Разумно. Познакомимся? — Друзья зовут меня Чарли. — Я Мишель. — Очень приятно. Так о чем мы будем говорить? — Вы сказали, что находитесь сейчас на работе. — Так оно и есть. — Но вы ведь не государственный служащий. Все это произносилось так, будто двое приятелей перебрасывались репликами от нечего делать, только чтобы скоротать время. При последнем замечании Михаила Чарли хихикнул. — Это уж точно, не государственный. — Значит, вы работаете на частное лицо. — Вы как по бумажке читаете. Михаил давно усвоил, что простота и убедительность подобных построений действуют на большинство людей располагающе. Разглядев своего собеседника поближе, он понял, что тот умом не блещет. Можно было брать вожжи в свои руки. — В этой бумажке есть имя вашего хозяина. Против ожидания Чарли не удивился. Он, оказывается, тоже умел рассуждать просто, на что и надеялся Михаил, пуская свой пробный шар. Чарли сказал: — Ясно, Брокман трепался. Михаил пошел в открытую: — Где сейчас Алоиз? — А вам-то что? Михаил сделался серьезным. — Как вы думаете, Чарли, для чего я торчу тут с Брокманом? — Это не мое дело. — Мне нужно найти Алоиза, а Брокман не знает даже его теперешней фамилии. Чарли немного растерялся от такого неожиданного поворота. — Что-то не пойму… Вы знакомы с Алоизом? — Был знаком лет двадцать пять назад, а потом потерял из виду. На лице Чарли растерянность сменилась выражением, которое можно было прочитать так: «А что мы будем с этого иметь?» Но он хранил молчание, и Михаил открыл все свои карты. — Скажите мне фамилию Алоиза и где его сейчас можно найти. Я дам вам за это пятьсот долларов и обещаю никому ни слова. Со своим приятелем, который сию минуту дежурит на улице, вам, наверно, лучше не делиться ни деньгами, ни… — Стоп, — шепотом прервал его Чарли. — Деньги при вас? — В номере. Сейчас принесу. — Вы уедете сегодня же? — Немедленно. Но с одним условием: не трогайте Брокмана в ближайшие сутки, чтобы я был вне подозрений. — А мы его и не собираемся убирать. Он нам пока нужен живой. — Это лучше. Делая вид, что не торопится, Михаил закурил и не спеша отправился на второй этаж. Шпик остался сидеть за столиком. На стук Брокман ответил не сразу. Пришлось постучать дважды. — Кто? — Я. Войдя, Михаил отрывисто сказал: — Собирайся. — Куда? — Во дворе стоит машина хозяина. Светлый «ситроен». Ляжешь сзади на пол. — Что ты затеял? — Надо исчезать отсюда. Пойдешь через бар, потом через служебный ход во двор. — Сколько у нас времени? — Одевайся быстро. Вещи не бери. К Брокману сразу вернулась уверенность в себе. Он спросил деловым тоном: — Ты все продумал? — Сейчас увидим. Буду сидеть в баре с одним из этих топтунов. Второй на улице. Спускайся быстрее. У себя в номере Михаил наскоро уложил чемодан, надел куртку, вышел, запер дверь и спустился в бар, Чарли сидел за столиком лицом к входу. Следовало его пересадить, чтобы он не увидел Брокмана. Поставив чемодан у стойки, Михаил попросил бармена получить деньги за выпитое и прибавить еще два коньяка. Бармен стал не спеша считать. Чарли вопросительно глядел в их сторону. Михаил поманил его пальцем. Когда он подошел, Михаил спросил, не против ли он выпить на прощание. Тот был не против. Михаил рассчитался, взял рюмки и пошел к столику первым. Он сел на место Чарли, так что Чарли должен был сесть спиной к входу в бар и к двери, ведущей во двор. Почти тут же появился Брокман. В этот момент Михаил вынул из кармана бумажник и начал медленно отсчитывать купюры по пятьдесят долларов. Потом, накрыв их салфеткой, пододвинул к Чарли. — Запомните, — сказал тот, пряча деньги, — Алоиз живет в Париже, в отеле «Савой», под фамилией Гриффитс. Выпили. Михаил встал. — Благодарю. — Пожалуйста. — Пойду рассчитаюсь за отель, — сказал Михаил. — Посмотрите уж заодно и за моим чемоданом. На этот раз улыбка Чарли не казалась Михаилу противной. Михаил рассчитался только за себя, подумав при этом, что хозяину придется терпеть убытки из-за Брокмана. Потом он попрощался с Чарли и вышел во двор, к машине. …Все сошло отлично. Оставив автомобиль у хозяина отеля в Берне, Михаил и Брокман расстались в цюрихском аэропорту. Брокман тем же вечером улетел в Дюссельдорф. Михаил ночевал в Цюрихе. Им не велено было появляться в Центре вместе. К тому же у Михаила оставался еще невыполненным последний пункт его плана. …В семь часов вечера на следующий день Михаил спускался по трапу из самолета в парижском аэропорту Орли, а без четверти восемь звонил из кафе в городе Дону. Дон явился тут же. Понимая, что Тульев не стал бы вызывать его так срочно по пустякам, он обошелся без вступительных вопросов о здоровье и прямо спросил: — Что нужно сделать? — Сколько тут пешком до «Савоя»? — Минут десять. — Пожалуйста, сходи и узнай, живет ли еще у них мистер Гриффитс. Говорить Дону, что это надо сделать осторожно, не было необходимости. Вернулся он через полчаса. — На месте. Номер семнадцать, второй этаж. У него сейчас в гостях небольшая компания. Михаил сказал с облегчением: — Та-ак. — Помолчал и, облокотясь на стол, посмотрел Дону в глаза. — То, о чем я тебя хочу попросить, со стороны может показаться бесчестным. — Но я смотрю не со стороны, — возразил Дон. — Лучше не теряй времени. — Ты знаешь, как позвонить в Интерпол? — Узнаю. — Вот что надо им сообщить: человек, выдающий себя за Гриффитса, на самом деле Гюнтер Гофман, давно разыскиваемый преступник. Они сразу сообразят. — И это все? — удивился Дон. — Все. — А ты меня пугал. — Как ни говори, анонимный звонок. — Во благо, во благо, — сказал Дон. — Посиди, я схожу позвоню. Не успел Михаил выкурить сигарету, как Дон вновь появился в кафе. — Порядок? — спросил Михаил. — Страшно благодарили. Михаил через стол хлопнул Дона по плечу. — Спасибо. Дон поморщился — мол, велика важность, нашел за что благодарить. — Я тебе больше не нужен? — Ты мне всегда нужен, — очень серьезно сказал Михаил. В таких случаях Дон испытывал смущение. — Ну ладно, я пошел, в баре сейчас самое горячее время. Они попрощались. Михаил смотрел вслед Дону, пока за ним не захлопнулась дверь. Посидев еще минут двадцать, он отправился к «Савою» и успел как раз в самую пору: у подъезда остановились два полицейских автомобиля. Из них высыпала целая толпа: трое скрылись в подъезде отеля, трое остались на тротуаре у входа. Михаил прохаживался по противоположной стороне улицы. Ждать пришлось недолго. Вскоре из отеля вышел плотный человек среднего роста, державший ладони сложенными на уровне лица: он был в наручниках. Его сопровождал полицейский. Двое других, надо полагать, остались в номере делать обыск. Михаил имел право похвалить себя: военный преступник Гофман все-таки попался. Но Гофман — прошлое, а для будущего и для себя Михаил считал главным то, что он сумел вызволить Брокмана.ГЛАВА 13 Следствие в мае 1972 года
Водитель троллейбуса гражданин Д. в ночь с 21 на 22 мая, с воскресенья на понедельник, возвращался из своего парка после работы в два часа. Недалеко от частных гаражей он увидел в стороне от узенькой асфальтовой пешеходной дорожки лежащего на траве человека. Приблизившись, он наклонился и разглядел, что это девушка из соседнего дома, которую он не раз встречал. Гражданин Д. в недоумении тронул ее за плечо — она лежала на боку — и понял, что дело неладно: девушка не подавала признаков жизни. Трава вокруг ее головы слиплась от крови. Д. пошел на улицу, из будки автомата позвонил в милицию. Через десять минут на двух машинах прибыла оперативная группа, дежурившая в эту ночь в городском управлении внутренних дел, — инспектор угрозыска, следователь прокуратуры, врач, эксперт НТО, проводник с овчаркой. Д. рассказал, как он обнаружил пострадавшую. Зажглись фары автомобилей, и на пустыре возник широкий светлый круг, где было видно, как днем, и в центре этого круга лежало недвижное тело молодой девушки. Сильнее света фар несколько раз сверкнула вспышка блица — эксперт НТО сфотографировал с разных точек место происшествия. Женщина-врач, судебно-медицинский эксперт, осмотрела пострадавшую, выслушала через фонендоскоп ее сердце и сказала следователю: — Она жива. Проникающее ранение черепа. Ударили тяжелым тупым предметом. Послышалась сирена «Скорой». Она въехала в светлый круг, санитары положили девушку на носилки, вдвинули в кузов автомобиля, и «Скорая» умчалась. Следователь поднял с земли лежавшую под телом пострадавшей сумку из тисненой кожи, открыл ее, перебрал пальцами ее содержимое и извлек удостоверение центрального городского универмага. Заглянув в него и положив обратно, он принялся тщательно осматривать место происшествия, делая пометки в блокноте. Следователь ходил кругами, все более расширяя их, пока не добрался до забора по правую сторону дорожки, если стать лицом к гаражам. Ничего существенного при осмотре он не обнаружил — лишь несколько окурков, явно не этой ночью брошенных, разные щепочки, осколки стекла. Следователь перелез через забор, зажег карманный фонарик и стал шарить лучом по земле. Но и там ничего не нашел. В то время как он вел свои поиски, проводник с собакой терпеливо разбирались в путанице следов, пока наконец совершенно изнервничавшийся пес не сел на траву с отчаявшимся видом, давая тем самым понять, что он тут бессилен. Затем был составлен протокол осмотра места происшествия, а тот участок земли, где лежала пострадавшая, огражден колышками, на которые натянули шнур. Оставив на пустыре одного из милиционеров, оперативная группа села по машинам и вернулась в городское управление внутренних дел. Дежурный следователь, справившись в реанимационном отделении нейрохирургической клиники о состоянии потерпевшей и узнав, что оно очень тяжелое, записал последние данные и позвонил начальнику отдела, занимающегося расследованием наиболее тяжких преступлений. Тот из дому поднял телефонным звонком следователя по особо важным делам Орлова: — Михаил Петрович, приезжай сейчас же в управление. Буду тебя ждать. Подполковник милиции Михаил Петрович Орлов, через чьи руки за восемнадцать лет следственной работы прошло достаточно много сложных уголовных преступлений, принял дело и начал расследование. Подполковник отправился на место происшествия и внимательно его осмотрел. Потом по записанному для него на листке календаря адресу нашел квартиру Суховых. На другом листке он сам записал адрес нейрохирургической клиники, куда поместили Светлану Сухову, — для ее матери. Когда Вера Сергеевна, открыв дверь, увидела перед собой высокого мужчину лет сорока пяти с косым шрамом на виске, она не испугалась и не встревожилась, а скорее наоборот — как бы вздохнула, освобождаясь от чрезмерного напряжения. Она тревожилась всю ночь и всю ночь не ложилась спать, потому что ждала Светлану. Впервые в жизни ее дочь не пришла ночевать домой. Появление подполковника Орлова в столь ранний час — не было еще и семи — автоматически связалось у нее с отсутствием Светланы, и она встретила нежданного гостя взглядом, полным нетерпения. Михаил Петрович в кратких словах изложил все, что знал сам, а затем задал Вере Сергеевне несколько вопросов. С кем дружила Светлана? Не замечала ли Вера Сергеевна чего-нибудь необычного в поведении дочери за последнее время? Не ссорилась ли Светлана с кем-нибудь? Нет ли у нее каких-то недоброжелателей? Орлов объяснил, что преступник напал на Светлану не с целью ограбления: ни кольцо, ни деньги взяты не были. Вера Сергеевна рассказала все, что знала, и прибавила то, о чем догадывалась. Таким образом в блокноте Орлова появилось два имени: Галина Нестерова и Алексей Дмитриев и под знаком вопроса — неизвестный пожилой мужчина. Вера Сергеевна поведала о своих сомнениях по поводу увлечения дочери новомодными нарядами, которые появляются из какого-то непонятного источника, о прежней дружбе Светланы с Лешей, о их затянувшейся размолвке, о неудачах с поступлением в университет. Простившись, Орлов покинул дом Суховых. Затем Орлов разыскал дружка Алексея Дмитриева — одного из тех, что сидели с ним вместе на скамейке, когда Леша ждал Светлану. Дружок, говорливый парень, между прочим, сообщил, что у Леши было две пропажи — фотопленка и гаечный ключ — и что Леша грозился проучить Светлану. После этого Орлов вернулся в управление. Одному из своих помощников он поручил установить, кто видел Светлану Сухову последним, точнее, предпоследним, ибо жертву преступления последним всегда видит преступник. Это была одна из самых трудных задач. Другой оперативный работник получил задание заняться выяснением личности Галины Нестеровой и Алексея Дмитриева. Третий должен собрать сведения о Светлане по месту ее работы — в универмаге. К сожалению, этот день был не субботним и не воскресным. К сожалению потому, что наиболее естественным и логичным следственным действием, с которого надо начинать в данном случае, Орлов считал встречу с владельцами гаражей, возле которых было совершено нападение на Светлану Сухову. Туда он и отправился. Несмотря на будний день, в этом гаражном городке, как и во всяком другом, жизнь не замирала. Кто-то из автовладельцев пришел с ночной смены, кто-то, напротив, должен заступать в вечернюю, а у кого-то отпуск, и надобно подготовить «телегу» в дальний путь. Орлов подошел к гаражу, в котором крутился возле «Москвича» юркий, низенький человек лет пятидесяти с тряпкой в руке. — Можно вас на минутку? — Всегда пожалуйста, — охотно откликнулся автовладелец. — Чем могу служить? — Я из уголовного розыска. Вы знаете Алексея Дмитриева? — Вон его конура, через две от меня. Только он сейчас на работе. — Не слыхали, не пропадало у него чего-нибудь? — А что у него красть? — Автовладелец даже рассмеялся. — Ну, например, гаечный ключ… А о ночном происшествии слыхали? — Как же! Жаль девчонку. И родительницу ее жалко. А вы по этому делу? Как она, Светка-то? — Жить будет. А я по этому делу. — И ключик, о котором спрашивали, значит… так сказать, тоже участвовал? — деликатно полюбопытствовал автовладелец. — Скорей всего. — Орлов увидел, как при этих словах у его собеседника побледнело лицо. Можно было ожидать, что автовладелец сейчас сделает какое-то умозаключение. На глазах у Орлова происходила работа мысли, процесс сопоставлений. — Не может быть, — наконец произнес автовладелец. — Простите, как вас зовут? — спросил Орлов. — Николай Петрович. — А что не может быть, Николай Петрович? — Я говорю, не мог Леша этого сделать. Тут кто-нибудь другой, обязательно другой. — А я вам и не говорил, что это он. — Вы же про ключ спрашивали, — с недоумением сказал Николай Петрович. — Ключ может оказаться в любых руках. А почему же все-таки вы за Лешу так уверены? Николай Петрович пожал плечами. — Не тот он парень… Ну, правильный парень, понимаете? — Давно его знаете? — Да как в этот дом вселились. Пятнадцать лет. Он еще и в школу, по-моему, не ходил. — Спасибо, Николай Петрович, за информацию. А фамилия ваша как? — Косицын. — Адрес на всякий случай я запишу. Можно? Николай Петрович назвал номер своего дома и квартиры, и Орлов уехал на ждавшей его машине. …В тот день Леша до конца смены не доработал: в одиннадцать вызвали в отдел кадров, где его ждал подполковник Орлов. С ним Леша приехал в городское управление внутренних дел. Орлов сразу спросил: — У вас гаечный ключ пропал? — Да. Разводной. — Когда? — С год назад. Строго говоря, Орлов действовал несколько против принятых правил, с первого шага открывая Леше то, что известно следствию, тем более что по логике вещей Лешу, как владельца гаечного ключа, возможно, послужившего орудием преступления, пока нельзя было совершенно освободить от подозрения. Но у Орлова была своя тактика расследований, и он верил собственной интуиции. — Кто-нибудь может это подтвердить? Леша задумался ненадолго и наконец вспомнил: — Сосед по гаражу у меня его попросил, я поискал — нету. Тогда и хватился. — Замок на гараже не срывали? — Нет. — А кто этот сосед? — Парфентьев Сергей Степаныч, из девяносто восьмой квартиры. — Где он работает? — На электроламповом, мастером цеха. Орлов по телефону вызвал одного из своих помощников, дал ему листок с записью. — Поезжай сейчас на электроламповый, найди этого человека, привези сюда. Леша понял, что хотя этот симпатичный следователь относится к нему вроде неплохо, но на веру его слова все же не принимает, и Лешу это немножко задело, ему хотелось доказать, что такому человеку, как он, можно доверять и без проверки. Но что пока он мог сделать? — У вас со Светланой Суховой дружба? — спросил Орлов. — Была, да вся вышла, — вяло ответил Леша. — Почему? Леше неудобно было отвечать на такой вопрос, трогать Светкины дела. — Это, наверное, не влияет значения, — сказал он, привычно переиначивая ходячее выражение. — Для следствия все имеет значение. Вы когда рассорились? — Не ссорились. Просто не встречаемся. Уже с год. — Не собирались ли вы ее проучить? — Чего ее учить? Она сама ученая. Орлов чувствовал и верил, что Алексей Дмитриев говорит правду. Он не мог подозревать этого парня в покушении на убийство. — А все же почему не встречались больше? — спросил Орлов. — Так получилось. — Не был ли причиной кто-нибудь третий? Врать Леша не мог. Признаваться, что ревновал к итальянцу, тоже не мог. — Был один человек, но это тут ни при чем, — сказал он по-прежнему хмуро. Однако они говорили о разных людях: Леша имел в виду Пьетро Маттинелли, имени которого он не знал, а Орлов — неизвестного пожилого мужчину, о котором Светлана говорила матери в сочиненной ею истории относительно источника заграничных вещей. — Почему был? — спросил Орлов. — Он уехал… Улетел… — Далеко? — Наверно, за границу. — Откуда вы знаете, что улетел? И почему за границу? — Витек проследил. А этот человек — иностранец. — А кто такой Витек? — Мальчишка с нашего двора. Ему двенадцать лет. — И когда же это было? — Тоже год назад. — Расскажите об этом подробнее… Минутку, я, с вашего разрешения, включу магнитофон. Орлов не ожидал появления в следственном деле иностранца. Вопрос о пожилом поклоннике Светланы Суховой он оставил пока в стороне, а сейчас внимательно слушал Алексея. Выяснились любопытные детали. Заканчивая свой рассказ о том, как они с Витьком разыскали Светлану в кафе, Леша вспомнил и странный случай с человеком, потребовавшим засветить пленку. — Что это был за человек? — спросил Орлов. — Немолодой уже, постарше вас намного. — Но он как-нибудь вам представился? — Книжечкой помахал, удостоверением. — Что за удостоверение? — Красная книжечка такая. Мы в нее не заглядывали. Наступило молчание. Орлов выключил магнитофон и закурил. Леша, словно нащупывая ускользавшую мысль, задумчиво произнес: — Да, тут еще вот что, товарищ… — Меня зовут Михаил Петрович. — Михаил Петрович, я когда Свету фотографировал, по-моему, этот тип за соседним столиком сидел, он в кадр попал. — Пленка у вас цела? — В том-то и дело, что нет. — Тоже пропала? — Да. Не знаю как. — Когда обнаружили пропажу? — Приблизительно тогда же. Как ключ исчез. Прошлым летом. Кажется, в июле. — Только эта пленка и пропала? — В том-то и дело. — А замки в квартире целы? — Один раз мать жаловалась, что ключ заедает. А потом — ничего. Орлов почувствовал, что здесь завязывается какой-то узелок. — Хоть одна карточка у вас осталась? Вы же, наверное, печатали с той пленки. — Две штуки Светке отдал, а одну… — Леша закусил губу и вдруг вспомнил: — Точно, одна карточка должна остаться. Я стенгазету хотел вывесить, а потом не стал… Если мать не выбросила, она под тахтой должна лежать. Орлов не пожелал уточнять, о какой стенгазете речь. Он взял трубку телефона, набрал номер: — Машину мне. — И, положив трубку, сказал Леше: — Поезжайте домой, привезите вашу стенгазету. …Пока Леша ездил за газетой, помощник Орлова привез с электролампового завода Сергея Степановича Парфентьева. — Вы можете подтвердить, что у Алексея Дмитриева пропал гаечный ключ? — спросил Орлов. — Да. Пользовался им. А потом он пропал. — Вспомните, пожалуйста, когда именно вы спрашивали ключ у Дмитриева в последний раз. — Точно не помню, а было это прошлым летом, в июле, а может, в августе. Составив протокол и дав подписать его Парфентьеву, Орлов сказал: — Спасибо. Всего доброго. Едва Парфентьев покинул кабинет, вернулся Леша. В руке он держал сложенный вчетверо лист ватмана. На ходу развернув его, Леша положил лист на стол перед Орловым. — Вот. Хорошо, на сгиб не попала, — сказал Леша, ткнув пальцем в фотокарточку. — Который он? — спросил Орлов. Леша снова ткнул пальцем. — А вот, со стула поднимается. Орлов недолго разглядывал лица на снимке, потом позвал помощника. — Отправь это в фотолабораторию, пусть выкадрируют крупно человека на заднем плане. Скажи — срочно. — Садитесь, продолжим, — сказал Орлов Леше. — Теперь такой вопрос. Не встречали ли вы Светлану Сухову с пожилым мужчиной? Или приходилось? — Я не видел, а Витек встречал. — Не тот ли это, что на снимке? — Трудно сказать… Мы про снимок, честно говоря, давно забыли… Год прошел… — Ну а как, на ваш взгляд, сильно изменилась Светлана за этот год? Или не замечали? — Прибарахлилась, конечно. — И больше ничего? — А что же еще? Орлов попросил Лешу в ближайшие дни никуда из города не уезжать и попрощался с ним. После обеда у Михаила Петровича состоялось маленькое совещание с помощниками. Из того, что удалось узнать о Галине Нестеровой, существенным для дела представлялся лишь один момент: она, как и Светлана Сухова, за прошедший год обновила все свои туалеты. Ничего предосудительного никто за нею не замечал. Что касается универмага, то сведения оттуда были интереснее: две продавщицы заявили, что могли бы узнать в лицо пожилого человека, который довольно регулярно наведывался к Светлане — то ли как обыкновенный покупатель, то ли специально ради самой Светланы. Выяснилось также, что Светлана покинула универмаг в двадцать часов пятнадцать минут. Последней, кто видел ее в универмаге, была заведующая сектором. По всей вероятности, она и была тем «предпоследним», кого искал Орлов. Но следствию это ничего не дало. Наметив план дальнейших действий, Орлов отпустил своих сотрудников и позвонил — четвертый раз за день — в нейрохирургическую клинику. Оказалось, что уже собирался консилиум. Прогноз неутешителен: травма черепа нарушила функции жизненно важных центров, и выздоровления, если оно придет, надо ждать не скоро — не ранее чем через три-четыре месяца. Парализованы конечности. Светлана не видит, не слышит и не может говорить. Когда восстановятся зрение, слух и речь, пока невозможно предсказать. Значит, из первоисточника следствию добыть ничего не удастся. К трем часам пополудни принесли из фотолаборатории выкадрированный из фотокарточки увеличенный портрет неизвестного пожилого мужчины, снято было не в фокусе, а при увеличении нерезкость еще усугубилась, но портрет годился для идентификации. Взяв из фототеки портреты трех других мужчин, сходных по типу, Орлов отправился в универмаг. Продавщиц, которые знали в лицо того человека, который навещал Светлану Сухову, вызвали в кабинет директора. Орлов предъявил им четыре фотопортрета, и обе без колебаний указали на кадр, снятый Алексеем. Теперь требовалось установить, был ли этот человек знаком со Светланой к тому времени, когда делался снимок, то есть в конце мая — начале июня. Светлана говорить не могла — значит, надо спрашивать Галину Нестерову. …Скорее всего Орлов, если бы он знал о состоянии, в котором Галина пребывала с тех пор, как Вера Сергеевна по телефону, заливаясь слезами, рассказала ей о случившемся, — скорее всего он отложил бы встречу с ней по крайней мере на завтра. Единственная подруга потерпевшей должна болезненно переживать несчастье — это понятно всякому. Но то, с чем столкнулся Орлов, граничило чуть ли не с катастрофой. Галина Нестерова с утра, после телефонного разговора с матерью Светланы, не пошла в университет, не стала завтракать, не отвечала матери, которая после двух безуспешных попыток разговорить дочь оставила ее в комнате и удалилась в свою спальню. Галина сидела в низком кресле, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Ольга Михайловна, позавтракав, поехала в парикмахерскую, вернулась, пообедала, а Галина все сидела, не меняя позы. Часы пробили шесть вечера — она все сидела. Немудрено, что она не могла сразу встать, когда за нею приехал посланный Орловым оперативный работник. Она самостоятельно и вниз спуститься не сумела бы — так затекли у нее ноги. Помощник Орлова принял это за минутную слабость, иначе он не настаивал бы на немедленной явке в управление. Увидев ее входящей в кабинет и встав ей навстречу, Орлов спросил: — Вы плохо себя чувствуете? Галя не ответила. Орлов взял кресло, поставил его поближе к своему столу. — Садитесь, пожалуйста. Она послушно села. Орлов спросил: — Вы в состоянии ответить на несколько вопросов? Мы можем и отложить. — Прошу вас, — сказала Галина. Орлов решил действовать по несколько сокращенной программе — выяснять только самое необходимое. — Посмотрите на эти фотоснимки. Кто-нибудь из них вам знаком? Галина перебрала одну за другой четыре карточки. Портрет из Лешиного кадра задержался в ее руке. Она узнала Виктора Андреевича. — Этот, — без всякого выражения, вяло вымолвила она. — Как его зовут? — Виктор Андреевич. — Вы давно с ним познакомились? — В прошлом году. — При каких обстоятельствах? — Он сам пришел к Светлане. — Ухаживал за ней? — Нет, что вы… — Его фамилия? — Мы не знаем. — Вы хотите сказать — Светлана тоже не знает? — Да. Орлову стало ясно, что, хотя Алексей отдал фотоснимок Светлане еще год назад, у подруги никогда не возникало мысли, что человек на снимке и некий Виктор Андреевич — одно и то же лицо. — Где он работает? — На химкомбинате. В лаборатории. — А кто сидит с вами за столиком? — Пьетро… Итальянец… — Как его фамилия? — Гале стоило труда вспомнить. Наконец она вспомнила. — Маттинелли. — Турист? — Он работал на химкомбинате. Инженер. — Вы часто виделись? — Он уехал на следующий день. Галина не выходила в своих ответах за рамки вопросов — это ей было не по силам. — Он больше не приезжал? — Нет. — И писем не присылал? — Присылал. Светлане. — Она вам их показывала? — Да. — Что он писал в последний раз? — Собирается приехать. — Когда? — Кажется, послезавтра. — Когда вы в последний раз виделись с Виктором Андреевичем? — Недели три назад. — Он знает итальянца? — Да. — Спасибо. Поезжайте домой. Вас отвезут. Орлов вызвал себе другую машину и поехал к Вере Сергеевне Суховой — ему не терпелось выяснить, сохранилась ли у Светланы фотокарточка, подаренная Лешей. Вера Сергеевна перерыла все и в комнате дочери, и у себя. Карточки не было. Вернувшись в управление, Орлов заперся в своем кабинете и дважды прослушал записанный магнитофоном разговор, а потом позвонил своему начальнику генерал-майору Ганину. Генерал был занят, просил прийти через час. Чтобы не терять времени, Орлов связался с отделом кадров химкомбината и попросил выяснить, в какой из лабораторий работает инженер по имени Виктор Андреевич. Через сорок минут ему позвонили из отдела кадров и сказали, что ни в одной лаборатории человек, которого зовут Виктор Андреевич, не числится. Тогда Орлов попросил проверить весь личный состав комбината. Это требовало времени, но Орлов предчувствовал, что и среди более чем трех тысяч работников химкомбината Виктора Андреевича не обнаружится. Возможно, найдется его двойной тезка — и по имени и по отчеству, но им окажется не тот, кого он ищет. И вообще, надо полагать, у человека с Лешиного снимка настоящее имя совсем другое. …Наконец генерал принял Орлова. Им не было необходимости излагать друг другу догадки, возникавшие по ходу доклада. А вывод они сделали независимо друг от друга, но совершенно одинаковый: специфика этого дела требовала немедленно связаться с управлением Комитета госбезопасности.ГЛАВА 14 Уткин проснулся
После длительного бездействия Владимир Уткин наконец проявил активность — это произошло весной 1972 года. Прежде он проводил свой отпуск дома, хотя ему местком предлагал путевки на юг. Теплому морю он предпочитал местную реку и рыбалку на ней. На этот раз он изменил правилу и отправился к морю, но не на юг, а на север, на Балтику, и не на взморье, а в большой город, и именно в тот город, где жила Мария, жена Михаила Тульева. Если принять во внимание все поведение Уткина, за прошедшие годы ни разу не покидавшего места своего жительства, выбор этот не был случайным. С чего бы вдруг Уткина потянуло не куда-нибудь еще, а туда, где базировался бывший резидент разведцентра Тульев, где остались люди, знавшие и помнившие его?.. — Твоя Спящая Красавица, кажется, проснулась, — сказал полковник Марков Павлу Синицыну, вызвав его по этому поводу на дачу, где они обычно встречались. Прозвище «Спящая Красавица» было кодовым именем Владимира Уткина, которое ему присвоили по предложению Павла. — Пора бы, — сказал Павел. — И как это выглядит? — Едет в Прибалтику. — Марией интересуются? — Не исключено. — У Михаила что-нибудь не в порядке? — Там время от времени трясет. Проверки… — Но она-то им зачем? — Кто знает? Во всяком случае, надо предупредить Марию, а то перепугается. — Когда отправляться? — Сейчас, буквально сию минуту. Он уже в поезде. Павел встал. — Оружие возьми, — сказал Марков. — Далеко его от себя не отпускай. Черт их знает, что там задумано. — Не собирается же он Сашку украсть. — Красть, может, не будет, но ты их все-таки подстрахуй… Павел прилетел в город за восемь часов до прихода поезда, в котором ехал Уткин. Из аэропорта он позвонил Марии по телефону, а в половине двенадцатого ночи был у нее дома. Мария не удивилась неожиданному появлению Павла. Он навещал ее не часто, но довольно регулярно. Во всяком случае, достаточно регулярно для того, чтобы сын Сашка считал дядю Пашу своим человеком и даже другом, и не потому, что дядя Паша обязательно привозил какие-нибудь подарки. Сама Мария относилась к Павлу по-родственному, словно он был братом ее мужа, Михаила Тульева. Вообще с Москвой у нее связь поддерживалась прочная. Владимир Гаврилович Марков раз в месяц звонил, в дни рождения — ее собственный и Сашкин — и перед всеми праздниками непременно присылал поздравления. Мария по-прежнему работала диспетчером в таксомоторном парке, и все у нее было по-старому. То новое и радостное, что происходило в ее жизни, было связано только с сыном. Вот теперь, например, Сашка заканчивает уже второй класс. Материально она не нуждалась, хотя оклад у нее был небольшой: ежемесячно на ее лицевой счет приходил денежный перевод из Москвы — часть зарплаты Михаила… Закрыв за собою дверь, Павел кивнул на комнату Сашки: — Спит? Поговорим на кухне. — Чаю или кофе? — спросила Мария в кухне. — Ты почему не снимаешь плащ? — Я на минуту. У тебя все в порядке? — Да. Ты проездом? — Нет, специально к тебе. — Тогда куда же торопиться? — Еще надо устроиться в гостиницу и выспаться, завтра мне рано вставать. Слушай дело. Мария поняла, что Павел на этот раз приехал не просто ради того, чтобы навестить их, и слегка нахмурилась. — Да ты не напрягайся, — сказал Павел, усаживаясь за стол напротив нее. — Ничего особенного. Завтра приезжает один человек, думаю, захочет тебя увидеть. — Связано с Мишей? — Наверняка. — А чего он хочет? — Это ты мне потом расскажешь. — Что его может интересовать? — Понятия не имею. Но если спросит о Михаиле, говорить надо одно: уехал куда-то на Крайний Север, ты о нем ничего не знаешь, писем не пишет. — С Мишей в порядке? — Все нормально. Ты, Мария, не беспокойся насчет этого гостя, мы рядом будем. Скажи мне вот что: Сашок в школу сам ходит? — Туда я его провожаю, а обратно — сам. Тут недалеко, даже через дорогу не надо. А почему ты спрашиваешь? Видно было, что вопрос встревожил, и Павел выругал себя. — Да так, не подумав, спросил… — Не хитри, Паша. — Ну, ошибся, прости. За Сашкой мы присмотрим, и забудь об этом. — Легко сказать! — Запомни: никогда ни один волос не упадет с Сашкиной головы. — Ладно, забыла. — Во сколько вы из дому выходите? — В восемь. — Я пошел. Извини. Сашке ничего не привез, торопился, купить не успел. Но ты ему, между прочим, не говори, что я заходил. — Ладно. Когда появишься? — Трудно сказать. Смотря по обстоятельствам. Но если не я, то кто-нибудь из наших к тебе заглянет. — Ну, счастливо. — Будь здорова, Мария. Последняя просьба: на улице годовой не крути, ходи без оглядки. — Хорошо. От нее Павел отправился в городской отдел КГБ. Предупрежденный по телефону Марковым, начальник отдела ждал его. Условились таким образом: в распоряжение Павла выделяется местный сотрудник, они встречают гостя на вокзале, а потом будут действовать в зависимости от поведения Уткина. Номер в гостинице был Павлу заказан. Полковник завез его по пути на своей машине. Поезд приходит в семь утра. У Павла оставалось пять часов — вполне достаточно, чтобы как следует выспаться. Сотрудник из отдела КГБ заехал за ним в половине седьмого. По дороге к вокзалу они договорились о распределении ролей. Встречающих на перроне оказалось не так много, и Павел решил остаться в зале ожидания, наблюдать через окно: попадаться на глаза Уткину ни в коем случае нельзя, потому что его, Павла, он может знать в лицо — наверное, Уткину перед засылкой показывали его портреты. Но если это и не так, все равно надо оставаться невидимым для Уткина. Павлу было известно, что Уткин едет в восьмом вагоне, однако появиться он должен, по всем правилам, из вагона под другим номером, — если, конечно, он не полный растяпа и если инстинкт самосохранения заглох в нем не окончательно. Действительно, Уткин с небольшим чемоданчиком в руке и со «Спидолой» на ремешке через плечо сошел на перрон из вагона № 6. Но предосторожности на этом и кончились. Осмотревшись по сторонам при выходе на вокзальную площадь, Уткин больше уже ни разу не оглядывался, не проверялся. На стоянке такси он дождался своей очереди, и без четверти восемь они — Уткин, Павел и его помощник — были на улице, где жила Мария. Павел велел шоферу заехать во двор большого нового дома, помощник вышел и отправился по другой стороне улицы следом за Уткиным, который, отпустив такси, тихо продвигался вперед и искоса поглядывал на номера домов. У дома № 34 он еще замедлил шаг, а потом совсем остановился, закурил. Павел проверял, не следит ли кто, в свою очередь, за его помощником, — это было нелишне. Но все оказалось чисто. Без пяти восемь из подъезда дома № 36 вышла Мария с сыном. Сашка размахивал портфелем и, задрав голову, щурясь на утреннем солнышке, что-то рассказывал. Они достигли перекрестка и повернули за угол. Следом — Уткин, за ним помощник Павла, а чуть дальше — сам Павел. У школы Мария поцеловала сына в щеку, он помахал рукой и тут же громко закричал кому-то из мальчишек, шедших к школе по другой дорожке. Уткин догнал Марию. Павел и его помощник видели, как она приостановилась на секунду, увидев рядом с собой незнакомого мужчину. По всему видно, он знал Марию в лицо. Помощник остался дежурить в районе школы, а Павел следовал за Марией и ее спутником. Не выпуская их из виду, он размышлял о действиях Уткина и не мог не прийти к выводу, что этот законсервированный агент получил для своей первой акции исчерпывающие исходные данные: кроме адреса, еще и внешность объекта, и даже точное время, когда объект выходит из дому. Неужели кто-то тайком составлял хронометраж рабочего дня Марии? Впрочем, кое-что мог сообщить сам Михаил. Скорей всего так оно и было. У трамвайной остановки Мария и Уткин ненадолго задержались, коротко поговорили и пошли дальше, — должно быть, Мария по просьбе Уткина решила на сей раз добираться до таксомоторного парка пешком. Судя издали, разговор их не отличался оживленностью, но продолжался он целых полчаса. Что было главным в этом разговоре, Мария рассказала Павлу после, когда Уткин уехал. Представившись как давний друг Михаила, но не сообщив своего имени, Уткин спросил: — Не могли бы вы дать мне его адрес? — Я сама не знаю, — сухо сказала она. — Как же так? Вы жена… — Очень просто. — Он что же, не пишет? — Ни строчки. — Ей самой этот факт как будто впервые показался удивительным и нелепым. — Сбежал? — Да вроде того… А откуда же, между прочим, вы узнали мой адрес, если сейчас спрашиваете адрес Миши? — Я ведь здесь жил… До того, как он уехал. Знал, куда ночевать ходит. — Ага, понятно, — сказала Мария скучным голосом, едва сумев скрыть, как ей неловко сделалось из-за того, что собеседник врет столь неуклюже: ведь она переехала в эту двухкомнатную квартиру совсем недавно. Минуты две они шли молча, потом Уткин сказал сочувственно: — Простите за нескромный вопрос… И вы по-прежнему считаете его мужем? — А что же делать? — сказала Мария. — И он вам не помогает? — Абсолютно. Снова помолчав, Уткин сказал: — Я сочиняю, я никогда не жил в вашем городе. Мария удивилась: — Не понимаю вас… Вам не кажется, что все это странно? Остановили на улице… Незнакомый человек… — Михаил просил меня повидать вас, сказать, чтобы не беспокоились… Он сказал — вы знаете, где он… Она остановилась, посмотрела ему в лицо. — Прошу вас, прекратим это. Я ничего не хочу слушать. — Вы можете передать ему через меня… — Всего хорошего, — сказала Мария и перебежала на другую сторону улицы. Уткин тем же вечером уехал из города поездом домой, через Москву. Свой доклад Владимиру Гавриловичу Маркову в Москве Павел начал с такого заявления: — Как хотите, а понять зарубежных хозяев Михаила невозможно. — Почему? — Смотрите, что получается. Уткин ездил к Марии для того, чтобы как-то и что-то там проверить, да? — Предположим. — Следовательно, они с самого начала, то есть с момента возвращения Михаила, не верят ему? — Скажем, не до конца доверяют. — Хорошо. Заметим это. Дальше: Уткин настолько уверен, что за ним никакого хвоста быть не может, что почти не проверялся. Что это значит? Как, по-вашему, Владимир Гаврилович? — Они считают его надежно законспирированным. — Как же так? — с подначкой спросил Павел. — Первый человек, которого увидел Уткин на нашей земле, был Михаил — подозреваемый Михаил. Значит, с первого шага Уткин должен быть на крючке. Или я неправильно рассуждаю? — Вроде все на месте. — Тогда где же логика? — Действительно не вяжется, — согласился Марков. — Дальше. Я могу построить еще одно рассуждение — и опять получится совершенно кособокая вещь. — Например? — Примем как данное, что они считают Уткина засвеченным. Значит, легко сообразить, что мы Марию предупредили о его визите. К чему тогда вся эта петрушка? — А ты не допускаешь… — Простите, Владимир Гаврилович, я знаю, что вы хотите сказать. Все проверено: Уткин приехал один, за нами хвоста не было. — Стало быть, остается признать, что Уткин ездил с честными намерениями? — поддразнивая Павла, спросил Марков. — В таком случае я вообще отказываюсь понимать высокий полет мысли тех гениев, которые велели Уткину съездить к Марии. Набор вопросов был примитивный. Когда Павел переходил на столь изящный слог, это значило, что обсуждаемый вопрос в силу своей абсурдности перестал его волновать. Сообразуясь с этим, Марков предложил: — А теперь все-таки начнем сначала. Расскажи по порядку. — Я записал для точности. Павел вынул из кармана вчетверо сложенный листок, где был зафиксирован разговор Уткина с Марией, — дословно, с ремарками, сделанными Марией. В ответ Марков дал Павлу прочесть одно из писем Михаила Тульева, в котором тот сообщал о подозрениях Себастьяна относительно него, о проверках на лояльность и о глухой борьбе между Себастьяном и Монахом. — Может быть, ты прав насчет того, что Себастьян немного не в ладах со здравым смыслом, — сказал Марков в заключение беседы. — Что касается примитива, тут я затрудняюсь… Во-первых, в таких делах до сих пор действует старое правило: чем проще, тем вернее. Во-вторых, мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии — только предлог, а главная задача совсем в другом. Мы знаем не все. — Вы, Владимир Гаврилович, себе противоречите, — не без ехидства заметил Павел. — Говорите: чем проще, тем лучше, и тут же сами все усложняете. Марков усмехнулся. — Так мы же не догматики. Мы живые люди. …Беседа эта происходила 27 апреля 1972 года. 28-го Уткин вернулся к себе домой. 29-го было получено обширное сообщение от Михаила Тульева, и тот день положил конец спокойствию, царившему в старом, начавшемся еще десять лет назад деле. Все пришло в движение. Михаил уведомлял Маркова, что в скором времени, не позже середины мая, в Советский Союз будет переброшен агент с серьезными задачами, которого он, Михаил, имел честь готовить к засылке и который ему был представлен под именем Владимира Прохорова, а на самом деле это Карл Брокман. Далее следовал подробный словесный портрет и жизнеописание Брокмана. Прилагались три фотокадра, на которых Брокман был снят Михаилом анфас и в профиль. Способ заброски Михаилу неизвестен. Михаил особо подчеркивал, что Брокман в недалеком прошлом профессиональный наемный убийца. И строчкой ниже по ассоциации напоминал о своем предыдущем сообщении, в котором он рассказывал о разговоре с Монахом, когда Монах интересовался, сможет ли Павел ликвидировать человека. В бесстрастном деловом изложении Михаила все это выглядело так буднично, так обыкновенно — «профессиональный убийца», «ликвидировать», что стороннему человеку стало бы не по себе. Подобные вещи неудивительны в ночных кошмарах, в фантасмагориях больного ума, а тут — служебное донесение. Но они — реальность, и никуда от этого не денешься. Даже самое древнее средство тайной войны — яды — пока не списано за ненадобностью в сверхнаучном двадцатом веке… Марков в тот же день доложил о сообщении Михаила Тульева генералу и собрал на совещание всех своих работников, причастных к операции «Резидент». Сообща наметили круг мероприятий, необходимых для того, чтобы как полагается встретить появление Брокмана, каким бы ни оказался способ его переправы. В остальном оставалось только ждать. После праздников, 4 мая, Марков получил еще одно важное сообщение: Уткин подал на работе заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию. 2 мая Уткин выходил в эфир первый раз за все время пребывания в Советском Союзе. Его радиограмма очень коротка, передача длилась несколько секунд. Работал на незнакомом шифре. Дешифровка может доставить затруднения. 8 мая на почтамте в приволжском городе на имя Потапова, то есть Павла Синицына, была получена открытка. В ней его безымянный «Друг» (так была подписана открытка) извещал, что скоро приедет в Москву и что очень хочет повидаться. А о дне приезда еще сообщит, поэтому пусть Павел заглядывает на почтамт каждый день. Уткин не хотел ждать, когда пройдут положенные две недели со дня подачи заявления, и добился расчета 6 мая. Начальник телефонного узла отпускал его с большой неохотой. Уткин получил все свои документы — паспорт с отметкой о выписке, военный билет со штампом о снятии с учета, трудовую книжку, профсоюзный билет и разные справки, попрощался с товарищами по работе, угостив женщин десертным вином и шоколадом, а мужчинам выставив три бутылки коньяка, и 9-го отбыл в Москву. Выстояв на Курском вокзале длиннейшую очередь, он взял билет на поезд Москва — Батуми. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что ехал Уткин налегке, как в санаторий. За несколько лет оседлой жизни он успел обрасти вещами, но с собой взял только то, что влезло в стандартный чемодан средних размеров. Все другое — телевизор, два пальто, одеяла, подушки, постельное белье и прочее оставил хозяину дома, сказав, что, может быть, вернется за барахлом, когда обоснуется на новом местожительстве. «Спидолу» он нес на ремешке, перекинутом через плечо. В Батуми Уткин по совету милиционера, к которому обратился на вокзале, отправился в бюро, ведавшее сдачей жилья неорганизованным курортникам, и, так как сезон только начинался, ему тотчас предложили на выбор пяток различных вариантов. Он выбрал комнату в большом новом доме недалеко от порта, на очень оживленной улице. Хозяевами двухкомнатной квартиры оказались пожилые супруги, пенсионеры. Уткину квартира понравилась. Он заплатил за месяц.ГЛАВА 15 «Мы знаем не все…»
Сопоставление действий Уткина и сообщения Михаила Тульева о переброске Брокмана напрашивалось само собой. Первым делом полковник Марков запросил сведения о прибытии в черноморские порты круизных лайнеров: тот факт, что в свое время Уткин прибыл именно на таком лайнере и, оставшись на берегу, отдал Михаилу свой пропуск для возвращения на борт, давал основания предположить, что история может повториться, тем более что тогда все сошло по видимости благополучно. Выяснилось, что греческий теплоход «Олимпик» прибывает в Батуми (с тем, чтобы затем отправиться в Одессу с заходом в Сочи и Ялту) 17 мая. Он везет двести пятьдесят туристов из различных стран Европы и Америки. Элементарная эта догадка, если она окажется правильной, не противоречила всему остальному. Если Уткин встретит Брокмана и уйдет на «Олимпике» вместо него — получит объяснение и оправдание его многолетняя беспорочная жизнь в Советском Союзе, обретет смысл казавшееся бессмысленным существование агента-болвана. И все бы получилось как нельзя лучше, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. Полковник Марков сам же сказал: «Мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии — только предлог, а главная задача совсем в другом», — следовательно, он допускал возможность возникновения каких-то неожиданных ситуаций. Собственно, то, что произошло, трудно назвать ошибкой. Просто приходится признать, что в данном эпизоде разведцентр оказался хитроумнее, чем полагали. Был момент, который подтверждал правильность действий контрразведчиков: вечером того дня, когда Уткин прибыл в Батуми, в эфир выходилкакой-то радиопередатчик, работавший в черте города. Этот факт, естественно, увязали с прибытием Уткина. Передача была очень короткой, почти мгновенной. Вероятно, послано сообщение: «Прибыл» или «Я на месте». А может быть, адрес. Обратила на себя внимание резкая перемена в поведении Уткина. Если при поездке к Марии он не таился, не проверялся, то в Батуми сделался отшельником. Только раз он вышел из дому, чтобы посмотреть пассажирский морской вокзал. А потом — никуда. Старикам хозяевам он сказал, что неважно себя чувствует, еще не акклиматизировался. Они ходили на базар за продуктами для него. Так продолжалось до 17 мая. Чтобы правильно понять и оценить то, что произошло 17-го, необходимо протокольно точное описание. Для вящей точности мы прибегнем к необычному, но вполне законному приему: без скобок дано то, что не надо было скрывать, а в скобках — то, что действующие лица стремились сохранить в тайне. «Олимпик» должен был ошвартоваться в Батуми в 10 часов. Уткин проснулся в шесть. Побрился, умылся. (Прежде всего он разложил посреди комнаты чемодан, достал из него синюю пластиковую сумку и положил в эту сумку кое-что из своего белья — рубашки, майки, все неношеное, затем «Спидолу» — ту, что была радиопередатчиком. На нее — все свои документы, пачки денег, а сверху еще кое-что из белья. Задернув «молнии», он сунул сумку в шкаф, закрыл чемодан и поставил его рядом с сумкой.) Вторую «Спидолу» он повесил на плечо, — вот когда начала работать на дело тайная покупка второй «Спидолы», которая в отличие от первой была обычным радиоприемником. Затем постучал к хозяевам. Вышедшей в коридор старушке он сказал: — Нателла Георгиевна, на почту надо, домой позвонить. — Поправились? Ну, сегодня денек хороший. — Хочу вас предупредить. Ко мне должен заехать друг, зовут Володя… Пусть тут распоряжается… Он ненадолго. — Да хоть бы и надолго. Нам не тесно. Комнату Уткин не запер… До порта было пятнадцать минут ходьбы. «Олимпик» встречали только автобусы «Интуриста», гиды и предприимчивые продавщицы цветов. Уткин на причал не вышел, ждал внутри вокзала, у входа. Когда носовые и кормовые швартовы были закреплены на кнехтах, спустили трап, и на борту тут же началась несложная процедура, предшествующая переходу туристов с лайнера на берег. Пограничники — офицер и два сержанта, которые для ускорения дела поднялись на «Олимпик» с катера еще в море, расположились у трапа, сержанты держали в руках длинные полированные ящички. Сходили группами по двадцать пять человек. Старший группы отдавал офицеру паспорта и предъявлял список туристов. Офицер передавал паспорта сержанту, а тот складывал их в ящичек. Затем туристы по одному подходили к трапу, пограничники вручали каждому пропуск, а контрольный талон, оторванный от него, оставляли у себя. Первая группа минуты через три была уже на твердой земле. Пассажиров окружили цветочницы. Гиды стояли чуть поодаль, готовые приступить к своим обязанностям. Щелкали затворы фотоаппаратов, шипели кинокамеры, ярко светило солнце, и ярко зеленела зелень. Все как полагается. Всякому, кто наблюдал бы, как сходила эта группа, нетрудно было выделить в ней одного человека — мужчину лет тридцати пяти, который еще с борта искал кого-то глазами на берегу. Если бы к тому же наблюдающий знал в лицо Карла Брокмана, он бы нашел, что этот турист очень на него похож. К группе подошла девушка-гид, поговорила со старшим, и тот по-немецки объявил номер автобуса, который их ждал. Группа двинулась нестройными рядами к автобусам, но не вся: озабоченный турист отделился и направился к зданию морского вокзала, из дверей которого показался Уткин со «Спидолой» на ремешке. Тут с ним опять произошла перемена. Уткин отдал «Спидолу» туристу, и тот повесил ее себе на плечо. Пожав друг другу руки, они не спеша зашагали в город. Они мирно беседовали по-немецки, и вид у них был беспечный, словно у двух добрых приятелей, собравшихся в субботний день на футбол. Уткин то и дело смеялся. Они приобрели в галантерейном ларьке холщовую сумку с изображением ковбоя в жеваной шляпе, синего, с перекошенным как от зубной боли лицом, затем прошлись по магазинам, и сумка наполнилась марочными винами. (Между тем в третьей группе туристов на берег сошел Карл Брокман, числившийся в списке под чужой фамилией, — его уже никто не встречал, никто не приметил, так как все наше внимание отдано Уткину и его спутнику. Одет он был почти как Уткин, только рубаха была не голубая, а темно-синяя. В одной руке он нес кофр, какими пользуются фотокорреспонденты, в другой держал пиджак. Покинув свою группу, отправившуюся к автобусам, Брокман, не теряя времени, сел в обычный рейсовый автобус и проехал пять или шесть остановок. Потом сошел. Без четверти одиннадцать он вошел в дом, где остановился Уткин, — адрес, сообщенный в разведцентр радиограммой, он запомнил, уходя в последний раз из виллы Монаха.) — Добрый день, — сказал Брокман открывшей дверь Нателле Георгиевне. — Если не ошибаюсь, у вас остановился Владимир Уткин. — Да, да, проходите, пожалуйста, — ласково пригласила она. — Вас ведь тоже Володей зовут? Будьте как дома, вот его комната. Он сказал, на почту пошел, позвонить. — У меня кое-какие дела. Ничего, если туда-сюда ходить буду? — О, пожалуйста, — поспешила успокоить его Нателла Георгиевна. — А хотите, я дам вам ключ от квартирной двери? У нас есть запасной. — Не надо. — Ну располагайтесь. — И она ушла к себе. (Брокман оглядел комнату Уткина, заглянул в шкаф, достал сумку. Затем вынул из кармана плотную, как картон, карточку — это был пропуск на «Олимпик». Брокман сунул его в карман висевшей на спинке стула коричневой куртки Владимира Уткина. Оставалось лишь переложить в сумку содержимое кофра. Сделав это и оставив кофр в комнате, Брокман взял сумку, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, и покинул квартиру. На поиски машины, которая шла на Тбилиси, ему потребовалось всего несколько минут.) В то время, как Брокман выехал из Батуми в столицу Грузии, поразительно похожий на Брокмана турист и Уткин, нагрузившись покупками, пришли к Уткину домой. Нателла Георгиевна сообщила, что приятель заходил, но тут же куда-то исчез. Уткин сказал: — У каждого свои заботы. В комнате он первым делом проверил карманы куртки и, найдя пропуск на корабль, положил его себе в карман брюк. — На паспорте фотокарточка твоя, — сказал турист. — Знакомая история. Говоря так, Уткин имел в виду историю своей засылки в Советский Союз. Тогда он сходил на берег и уступал свое место Михаилу Тульеву, и на его паспорте, который сдавался пограничникам, было наклеено фото Тульева, чем-то напоминавшее его собственные черты. Они посидели немного, покурили и покинули квартиру, оставив все вещи и не простившись с хозяевами. Непредсказуемо вели себя Уткин и турист, особенно последний. По всем правилам, он бы должен был остаться, раз уж ему в этой ситуации отвели роль Брокмана. А он вместе с Уткиным, дождавшись, когда к трапу подошла большая компания вернувшихся с экскурсии пассажиров «Олимпика», присоединился к ним и поднялся на борт. Никаких недоразумений не последовало.В том, что произошло, полковник Марков видел собственную ошибку, о чем он прямо сказал Павлу, когда они встретились ночью на загородной даче. — Грубой ошибки вроде нет, — попробовал смягчить выводы Павел, впрочем, без всякой убежденности. — Мы могли бы предусмотреть незатейливый фокус с этим третьим, — возразил Марков. Павел упорствовал: — А может, это не третий? Может, Брокмана и не было? В другое время Марков, наверное, употребил бы здесь ядовитую шуточку, но сейчас не считал это уместным. — Для чего же, объясни, Уткин делал все так демонстративно? Буквально лез на рожон… И не рано ли мы ослабили наблюдение за квартирой, где он остановился? Павел пожал плечами и ничего не ответил. — Молчишь? — сказал Марков и посмотрел на часы. — Насчет того, третий это или не третий, узнаем утром. Одно могу сказать тебе совершенно точно: перед Иваном Алексеевичем мне было бы вот как стыдно. Наш с тобой новый начальник попервости еще с нами деликатничает, а мы достойны… достойны… Упоминание об их прежнем начальнике — генерале Иване Алексеевиче Сергееве, при котором Павел поступил в управление, который вел их столько лет и вдруг скончался от инфаркта минувшей зимой в свои неполные пятьдесят семь лет, сделало настроение еще более печальным. Стараясь стряхнуть его, Павел начал размышлять вслух. — Ну, допустим: Уткин с этим типом выставляли себя напоказ, чтобы отвести внимание от Брокмана. А тот, конечно, не терялся… Марков смотрел на него, не перебивая, Павел продолжал: — Если так — плохи наши дела. Значит, Уткин и вправду ездил к Марии, чтобы провериться. Пора подавать рапорт по собственному желанию. Срисовал меня Уткин, а я-то сам себя нахваливал: мол, чистенько сделано, Уткину даже ни разу не померещилось. — Ты не один был, — напомнил Марков. — Что об этом толковать? Теперь надо дальше глядеть, а мне, если честно, и заглядывать тошно. — Расплакался, — проворчал Марков. — Но ведь все летит к черту! — не выдержал Павел. — Почему же? Павел выставил растопыренную пятерню и начал загибать пальцы. — Брокман ушел — раз. Уткин меня раскрыл — два. Что с Михаилом будет — три. Эта вспышка словно придала Маркову спокойствия. — Тебя он мог и не видеть. — Раз он ездил ради проверки, значит, они раньше подозревали. Одним узлом все связано. — К тебе они никогда особого доверия не питали. — Я-то ладно. Что будет с Михаилом?.. — Посмотрим. Возможно, придется отзывать. Ему и здесь дела хватит. А Брокман, что ж… Мы не с пустыми руками… Давай-ка спать, подъем — ни свет ни заря… Они разошлись. Полковник Марков говорил верно — у них в руках кое-что имелось. Главное — фотографии Брокмана, сделанные Михаилом Тульевым. Были также известны некоторые привычки Брокмана. Правда, судя по всему, надежду на то, что Брокман будет жить по документам Владимира Уткина и использовать тщательно подготовленную им легенду, придется оставить. Какой же нелегал станет скрываться под крышей, которую знают в контрразведке и которую видно за тысячу километров? Но, во-первых, разыскивали людей и при менее определенных приметах, а во-вторых, все значительно ускорится и облегчится, когда Брокман начнет действовать. Можно было рассчитывать, что он прибыл в страну не для того, чтобы, подобно Уткину, зарыться в нору и тихо сидеть месяцами и годами… Как и обещал, Марков разбудил Павла рано — не было еще и шести. Утро выдалось солнечное, на голубом небе — ни облака. И настроение у них немного поправилось. Пока Павел делал на поляне зарядку, Марков звонил в Москву. Но весть из Батуми пришла только через час, когда они уже позавтракали. Худшие предположения подтвердились. Нателла Георгиевна, хозяйка квартиры, где останавливался Уткин, рассказала навестившему ее сотруднику КГБ, как приходил накануне друг ее жильца Володя. По ее довольно подробным описаниям, это был Брокман, хотя не все особенности внешности точно совпадали.
ГЛАВА 16 Вызов в Москву
Не прошло еще и двадцати четырех часов с того момента, как на пустыре была обнаружена лежавшая без сознания, с пробитой головой Светлана Сухова, а предполагаемого преступника уже разыскивали по словесному портрету Москва и Ленинград и еще более чем в двухстах больших городах, которые через Москву получили по телетайпу необходимые сведения. Несколько позже все вовлеченные в розыск получат и фотопортрет преступника — это упростит задачу. Но для тех, кто ищет, пожалуй, еще важнее установить личность разыскиваемого: ФИО, где живет, где и кем работает и т. д. Этим в первую очередь и озабочен подполковник милиции Михаил Петрович Орлов. Как положено, дело приняла к производству прокуратура, и ее следователь тоже начал работу. Учитывая то немаловажное обстоятельство, что человек, которого звали Виктором Андреевичем, имел какие-то причины бояться фотообъектива (это явствовало из рассказа Алексея Дмитриева), был предпринят поиск и в другом направлении — в прошлое. Сделали запрос в картотеки, где зарегистрированы люди, судившиеся и отбывавшие наказание за уголовные преступления. Оставалось только немного подождать, чтобы выяснилось, не преступал ли ныне подозреваемый советские законы в прежние годы. При коротком совещании с майором Семеновым из КГБ, с которым Орлова связал начальник городского управления МВД, они договорились о взаимодействии, о разграничении сфер и специально о линии поведения по отношению к прибывающему в город итальянцу Пьетро Маттинелли. Майор первым делом отправил фотопортрет Виктора Андреевича по своим каналам, чтобы установить, не числится ли он среди разыскиваемых государственных преступников. Машина заработала. Но самым неотложным пока оставалось одно: установить личность того, кто звался Виктором Андреевичем. Это удалось сделать на второй день. В жилищно-эксплуатационной конторе № 4 паспортистка узнала на фотографии одного из жильцов кооперативного дома, выстроенного на территории этого жэка. Паспортистка, между прочим, сказала, что у него есть автомобиль «Жигули». Дальше не составило труда выяснить, что Виктор Андреевич Кутепов, ныне пенсионер, до 1971 года работал адвокатом в юридической консультации Центрального района, состоит членом городской коллегии адвокатов. Из личного дела, лежащего в райсобесе, явствовало, что пенсионер Кутепов окончил в 1935 году Харьковский университет, до войны был следователем в Донбассе, а во время войны, призванный в армию, работал в военной прокуратуре; после сорок пятого года — здесь, в городе. Холост, одинок. Беспартийный. Был записан и домашний телефон. Сказать, что в юридической консультации хорошо помнили Кутепова, — значит употребить неподходящее выражение. Хоть он официально и числился на пенсии, с родным коллективом, как говорится, не разлучился. Часто бывал в конторе, по просьбе коллег подменял их на дежурстве. Иногда брался вести защиту по гражданским делам. Отзывались о нем самым наилучшим образом. Прежде чем отправиться по местожительству Виктора Андреевича, Орлов позвонил ему на квартиру. Телефон не отвечал. Квартира была заперта на два замка. Домоуправ, по просьбе Орлова говоривший с соседями Кутепова, сказал, что никто его не видел уже дня два или три. Гараж Кутепова, который показал ему тот же домоуправ, был пуст. Орлов испросил и получил у прокурора санкцию на вскрытие квартиры и гаража. Кутепова ни живого, ни мертвого ни там, ни здесь не было. Следов поспешного бегства квартира не носила. Утром 24 мая, в среду, Орлов позвонил в КГБ майору Семенову, сообщил добытые сведения. Поблагодарив, Семенов сказал: — Сеть заброшена, посмотрим, что будет. Теперь самое время с Нестеровой поговорить. Как думаешь? Они сразу, с первой встречи, перешли на «ты» — отчасти потому, что были примерно одного возраста, отчасти по некоторому сходству профессий, но больше, пожалуй, по взаимной симпатии. — Ты сам хочешь? Или мне заняться? — уточнил Орлов. — Этот итальянец может прибыть рейсом в четырнадцать двадцать или на вечернем. Если ты ее сейчас разыщешь и к себе доставишь, я бы тоже приехал. — Попробую. Галину Нестерову застали дома. В половине десятого она была в кабинете Орлова. Пятью минутами позже пришел Семенов. По предложению Орлова все сели за приставной стол — Орлов с Галей по одну сторону, Семенов — напротив. Орлов сказал: — Просим вас, Галина Николаевна: не считайте это формальным допросом. Нам необходимо знать как можно больше об отношениях вашей подруги с Виктором Андреевичем. Состояние оглушенности, в которое повергла Галю весть о несчастье со Светланой, еще не прошло окончательно — это было заметно и по испуганному взгляду, и по вялости движений, но все же сейчас она выглядела не такой бледной и убитой. — Как чувствует себя Светлана? — робко спросила она. Орлов сказал правду: — Пока неважно. — Вы с нею разговаривали? Для человека, хотя и вызванного не ради формального допроса, но причастного к расследованию тяжкого преступления, ответ на этот вопрос имел первостепенное значение, легче отвечать самому на вопросы следователя. Но надобно быть крайне наивным, чтобы вот так, ничтоже сумняшеся, выведывать тайны следствия. Именно поэтому Орлов, как и Семенов, понял, что Нестерова задала свой вопрос без всякой задней мысли. — Нет, — сказал Орлов. — Она не может говорить. Она без сознания. Галя опустила голову. Выдержав небольшую паузу, Орлов спросил: — Вы давно дружите? — Со школы, с восьмого класса. — И маму знаете? — Конечно. — А Виктор Андреевич когда появился? — В прошлом году. — На какой почве Светлана познакомилась с Виктором Андреевичем? Галя ответила не сразу, словно хотела вспомнить подробности. — Он знал Пьетро. — И Пьетро познакомил вас с Виктором Андреевичем? — Нет, Виктор Андреевич привез Свете посылку. — Какую посылку? — Он ездил в Италию, Пьетро с ним передал. Семенов поглядел на Орлова, сделал, прочертив рукой в воздухе, какой-то знак, непонятный Гале, но Орлов прекрасно его понял, поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика фотокарточку, дал ее Семенову, а тот положил карточку перед Галей и сказал: — Вы говорите, Виктор Андреевич знал Пьетро. Посмотрите на этот снимок внимательно… Галя с удивлением посмотрела на знакомую фотокарточку и перевела взгляд на Семенова. — Это мы в кафе «Над рекой». — А кто, по-вашему, за соседним столиком? Видите — встает с кресла… Она снова посмотрела на снимок и сказала неуверенно, полувопросительно: — Похож на Виктора Андреевича. Когда Орлов позавчера показывал Галине Нестеровой крупно выкадрированное из этого снимка лицо Виктора Андреевича, она четко, без колебаний узнала его, а сейчас заколебалась. Объяснить это нетрудно, но лишь при одном условии — если в момент съемки подруги еще не были знакомы с ним. Орлов спросил: — Тогда вы уже знали Виктора Андреевича? — Нет… нет… К Светлане он позже пришел, гораздо позже, — на секунду оживившись ответила Галя. — А тут он был отдельно? — спросил Семенов. — Во всяком случае, не с нами… — И не заговаривал? — Нет. Что же получается? Ведь вы утверждаете, что они с Пьетро знакомы… — Не понимаю, — виновато призналась Галя. Орлов и Семенов посмотрели друг на друга. Одно из двух: или Виктор Андреевич и Пьетро Маттинелли действительно хорошо знали друг друга еще до момента съемки, и тогда надо предположить какой-то непонятный сговор между ними, или они вообще незнакомы, и в таком случае ко всему последующему имеет отношение один Виктор Андреевич. — Хорошо, — сказал Семенов. — Виктор Андреевич передал посылку от Пьетро… Что же в ней было? Галя слегка пожала плечами. Вопрос был ей явно неприятен. — Разные вещи… Косметика… — Дорогая посылка? — Да… Довольно дорогая, — неохотно ответила Галя. — И вещи итальянские? — Не только. — На вашу долю тоже что-то было? — продолжал Семенов. — В тот раз… — Она замялась. — Простите, я должна сообразить… — А был разве и другой раз? — не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос, спросил Семенов. Галя кивнула. — И опять через Виктора Андреевича? — Да. — И сколько же посылок получено? — Три, — сказала совсем тихим голосом Галя. Помолчали. Потом вновь вступил в разговор Орлов: — И что же? Как все это мотивировалось? — Виктор Андреевич говорил: Пьетро любит Светлану. Орлов не объяснил, что он имеет в виду, но Галя мгновенно разобралась в умолчаниях. Это многое прояснило для Орлова и Семенова: стало быть, вопрос попал, если можно так выразиться, на готовую почву — стало быть, этим вопросом уже задавались. И ответ не разумелся сам собой. — А лично для себя Виктор Андреевич никаких выгод не искал? Галя начинала, вероятно, уставать от этого разговора. Слишком велико для нее было напряжение последних двух дней. Она вздохнула глубоко и протяжно и сказала еще более тихо: — Наоборот. — Как это понимать? — спросил Семенов. — Он нас еще и угощал. — Дома у него бывали? — Нет. — А он у вас? — Как-то заезжали ко мне на часок. Втроем… Семенов сказал: — Ну, что ж… Пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам, Галина Николаевна… Она встала. Встали и они. — Я вам еще понадоблюсь? — спросила она. — Не исключено, — сказал Орлов. — Вас это беспокоит? — Понимаете, мама хочет, чтобы я уехала отдыхать. — Далеко? — В Крым. — Но у вас, если не ошибаюсь, в институте сессия начинается. — Зачеты я уже сдала, а экзамены можно потом. — Ну, это дело хозяйское, — сказал Семенов. — Вы только адрес нам оставьте, и можете ехать. Орлов дал ей лист бумаги со своего стола, вынул из кармана шариковую ручку. Она написала адрес того друга их семьи, отставного генерала, у которого они с матерью отдыхали вот уже несколько лет подряд: Крым, Алушта… Отпустив Галину Нестерову, Орлов и Семенов расстались. У каждого из них были свои дела. Орлов вызвал Алексея Дмитриева и отправился с ним вместе сначала к нему домой, а потом в гараж. Орлова интересовали замки, но сам он мало в них разбирался и, осмотрев дверные запоры квартиры и гаража, он позвонил от Леши на вагоноремонтный завод, где работал старик слесарь, великий знаток замков, к знаниям которого угрозыск прибегал для экспертиз и консультаций, и послал за ним машину. В ожидании слесаря Орлов и Леша толковали на отвлеченные темы и пили квас, сваренный отцом Леши еще к Первому мая. Когда слесарь приехал, Орлов объявил Леше, что замки входной квартирной двери и гаража придется изъять, а на их место поставить новые. Слесарю Орлов сказал, чтобы он тут же съездил в магазин, и дал свои деньги на приобретение замков. В старых замках Орлова интересовали те их части, которые при запирании и отпирании вступают в контакт с ключами. Слесарю надлежало разобрать замки и отвезти упомянутые части в оперативно-технический отдел УВД. Но прежде дядя Веня должен вставить купленные замки взамен старых. Отдав эти распоряжения, несложные для века научно-технической революции, но жизненно необходимые не только для сохранности имущества квартиры Дмитриевых, а и для следствия по делу, Орлов удалился. Несравнимо сложнее была задача, поставленная Орловым перед специалистами оперативно-технического отдела. Им предстояло ответить на вопрос: открывались ли когда-нибудь замки, изъятые из квартиры и гаража Дмитриевых, каким-либо из предъявленных Орловым одиннадцати ключей. Эти ключи он в присутствии понятых обнаружил порознь в ящиках и ящичках в квартире и гараже Виктора Андреевича Кутепова. Задача трудная, особенно если учесть время, которое всегда работает на руку преступникам и против тех, кто их ищет. Тот, кто причастен к пропажам в семье Дмитриевых, открывал замки почти год назад. Сколько раз после этого открывались и закрывались они… Разве удержится в замке хоть какой-то след постороннего ключа на протяжении года? Архитрудная задача у лабораторных экспертов-криминалистов, но в практике Орлова уже были случаи, позволявшие ему теперь верить даже в невозможное. Например, то недавнее дело об убийстве коллекционера Ю. Разных версий, одинаково правдоподобных, было там чуть ли не два десятка, и каждая довольно убедительно обосновывалась. А Орлов остановился на самой неправдоподобной. У человека, которого он заподозрил, имелось крепкое алиби. И ни одной, хотя бы самой косвенной, улики. Главное, подозреваемый утверждал, что никогда не бывал в квартире убитого и даже не знал его адреса, а Ю. убили именно дома. Как раз в то время оперативно-технический отдел получил новый прибор — лазерный микроанализатор, и начальник отдела Лузгин устроил короткую лекцию для инспекторов угрозыска и следователей прокуратуры — рассказал о широких возможностях этого прибора, призвал всех собравшихся не забывать о нем в повседневной работе. Орлов, кажется, первым решил прибегнуть к помощи лазерного микроанализатора. Эксперты отдела взяли образцы тканей с кресел в квартире Ю. и костюмов подозреваемого. Спектроанализ зафиксировал в тканях одного из кресел наличие неопровержимо присутствующих ворсинок материала, из которого был сшит один из костюмов. И когда Орлов сказал подозреваемому, в каком он был костюме на квартире у Ю. и в каком кресле сидел, тот раскололся, как орех под чугунным утюгом, — с первого удара всмятку. Так что, если какой-нибудь ключ из связки, отданный Орловым в лабораторию, ковырялся в замках Дмитриевых, криминалисты найдут его следы, а нет… Ну что ж, в таком случае он, Орлов, завяжет свою инициативу вместе с индукцией и дедукцией в тряпочку и пойдет в ученики к стажеру Удовицкому, который работает у них в управлении уже три месяца и все делает строго по учебникам и по наставлениям теоретических светил юриспруденции. Нет, он, Орлов, выпускник МГУ, тоже категорически за науку, но, видно, не умеет он применять на практике новейшие научные достижения. Если окажется, что Кутепов тут вообще ни при чем, значит, он, Орлов, пытался ignotum per ignotus.*["2] У майора госбезопасности Евгения Михайловича Семенова заботы были более деликатного свойства. Предстояло установить, какова во всем, что теперь выяснилось, роль итальянца Пьетро Маттинелли. Когда дело касается иностранных подданных, права следователя регламентируются не только законом. Тут он вступает в область, где сверх обычных норм действуют правила протокола. Семенов провел пять часов на химкомбинате, где Маттинелли вместе с другими итальянскими специалистами и советскими инженерами и рабочими монтировал прибывшее из Италии оборудование для азотно-тукового комплекса. Майор разговаривал с несколькими работниками химкомбината, в том числе с инженером, который имел право называть Пьетро Маттинелли своим другом (они переписывались, инженер давал Семенову читать письма Пьетро). Из людских отзывов, которые всегда вернее любой писаной характеристики, складывался удивительно симпатичный образ цельного, открытого, прямого человека, умеющего пошутить и не обижающегося на шутку, по-русски отходчивого. Он не прилагал усилий, чтобы завоевать авторитет, не заискивал, не подлаживался, а между тем к нему скоро стали прислушиваться. Вся жизнь его была на виду. Даже семейные дела Пьетро становились известны чуть ли не всему комбинату в тот же день, как он получал письмо из Милана (приводился в пример тот случай, когда мать Пьетро жаловалась ему на его младшую сестру, исчезнувшую из дому на три дня). Пьетро участвовал в самодеятельности — разумеется, как певец. Выступал за сборную баскетбольную команду химкомбината. (Не для печати было сказано, что он также считался лучшим среди ИТР игроком в покер.) Работал же Пьетро в отличие от некоторых своих соотечественников не «от» и «до», а столько, сколько требовалось по ходу дела, как привыкли при авральных монтажах советские инженеры, то есть под самую завязку, до ряби в глазах. В общем, он заслужил на комбинате не очень-то легко дающуюся репутацию своего парня. Все это имело немаловажное значение для характеристики личности Пьетро Маттинелли. Но еще большее значение придавал майор Семенов тому, как поведет он себя в этот приезд. Пьетро должен пробыть в городе всего четыре дня. Цель его командировки — окончательно урегулировать вопрос о мелких несоответствиях с первоначальным проектом, которые выявились за истекший год. Итальянская фирма, заботясь о своей высокой марке, настояла на скрупулезно точном исполнении заказа, и вот именно ради этого и прибывает инженер Маттинелли. Он прилетел из Москвы рейсом в четырнадцать двадцать. Встретил его тот самый инженер, с которым они подружились и которому Пьетро писал письма. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Потом, оживленно разговаривая, дождались выдачи багажа, взяли каждый по чемодану и вышли на площадку, где их ждала комбинатская машина. Для Пьетро был заказан номер в той же гостинице «Москва», где он прожил целый год, этажом ниже. Товарищ думал, что он захочет сразу устроиться и отдохнуть, но Пьетро попросил прежде всего подвезти его к универмагу. Оставив в машине недоумевающего провожатого, Пьетро скрылся за вращающимися дверями. По лестнице он взбежал, прыгая через две ступеньки. Но порыв его иссяк, едва он увидел за прилавком секции грампластинок не ту, которую жаждал увидеть: — Скажите, пожалуйста, Светлана Сухова… — начал он растерянно, и девушка, уменьшив звук поворотом ручки на проигрывателе, крутившем «Лайлу» в исполнении Тома Джонса, не дала ему договорить: — Она не работает. — Простите, только сегодня или… — Пройдите к директору. Я не в курсе. Она двумя движениями руки — сначала вниз, потом вправо — показала, как пройти к директору. Пьетро сбежал по лестнице. Директор, необъятно полная женщина с миловидным лицом и мужским голосом, сначала пожелала узнать, кто такой Пьетро, а уж потом сказала, что Сухова очень больна и лежит в больнице. Ни адреса больницы, ни домашнего адреса Светланы она ему не дала. Из универмага в машину Пьетро вернулся, как с похорон. Друг не понимал, откуда взялись эти тучи на челе веселого еще десять минут назад итальянца, возбужденно вопрошавшего: «А помнишь?» — звонко хохотавшего по всякому поводу. Догадаться, правда, было нетрудно, однако друг тактично не заметил ничего. Донеся чемоданы до номера, он простился с Пьетро, сказав, что на комбинате ждут его завтра утром. Машина будет в девять у подъезда. По пути в гостиницу «Москва» майору Семенову вспомнилось прочитанное у Юрия Олеши выражение — оскомина души. Сначала он недоумевал: почему бы вдруг? Но скоро понял: выражение это как нельзя более точно определяло его собственное состояние. Память тут же уточнила, что у Олеши сказано не про душу, а про пальцы. Может, и про оскомину души кто-нибудь тоже писал, но Семенов не помнил. Он перефразировал непроизвольно: именно какая-то противная оскомина души появлялась у него всякий раз, как он думал о неизбежном визите к Пьетро Маттинелли. Он как будто чувствовал себя виноватым. И знал, что оскомина не пройдет, пока он не покончит с этим неприятным делом. Однако настраивать себя на такой лад было бы просто непрофессионально. Поэтому, поднявшись в лифте на этаж, где жил Пьетро Маттинелли, майор Семенов постарался успокоиться. Итальянец все еще был мрачен, но встретил Семенова приветливо. Выслушав искренние сожаления по поводу того, что его вынуждены побеспокоить, и поглядев в раскрытое Семеновым служебное удостоверение, он не поднял брови вверх и не оскорбился. Сели к журнальному столику. Закурили. Семенов сказал: — Я вижу вас впервые, но мне известно многое о вашей жизни у нас. — Чем могу быть полезен? — вежливо спросил Пьетро. — Мне необходимо услышать кое-что от вас лично. Но вам не интересно узнать, почему и откуда я собирал сведения? — Это все равно, — без всякой наигранности, безразлично заметил Пьетро. — В таком случае несколько вопросов. Вы знакомы с продавщицей универмага Светланой Суховой? — Да, конечно. — По лицу Пьетро можно было заметить что ему хочется задать встречный вопрос, но он сдержался. — Вы посылали ей из Италии посылки? — Посылку… Да, посылал. — Вы меня поправили. Я не ослышался? — Да, одну посылку. — Когда это было? — О, еще в прошлом году… Да, в конце июля… Джованни ездил тогда к вам. — И письма писали? — Два раза. — Когда вы познакомились со Светланой? — В прошлом мае. Сегодня познакомился, завтра уехал. — А она вам писала? — Джованни привез от нее маленькое письмо. Семенов раскрыл свой плоский чемоданчик, вынул из конверта фотокарточку — кадр, сделанный Лешей в кафе «Над рекой». — О, у меня дома есть такая же, — обрадовался Пьетро. — Стоит на моем столе. — От Светланы? — Да, была в конверте. — Поглядите внимательно — вы всех узнаете? Вопрос был поставлен умышленно расплывчато. — Это Светлана, это Галина, это я. — Ноготь Пьетро миновал на карточке лицо Виктора Андреевича, помещавшегося между лицами Светланы и Пьетро и чуть повыше. Семенов положил карточку в чемоданчик и спросил: — Есть среди здешних ваших знакомых человек по имени Виктор Андреевич? Пьетро немного подумал. — Есть Виктор Дыбенко… Виктор Сазонов… Как их по отчеству — я не знаю. Семенов поднялся со стула. Пьетро тоже встал. — Еще раз прошу прощения за беспокойство, — сказал Семенов. — Можно мне спросить у вас? — Пожалуйста. — Я к Светлане… Что с ней? — Она внезапно заболела. — Ее нельзя видеть? — Врачи запретили. — И это надолго? — Боюсь, что да. — Это… как назвать?.. Не слишком серьезно? — Достаточно неприятно. Но не смертельно. — Но какая же у нее болезнь? Может быть, надо лекарство? — Лекарство у нее есть. Пьетро в сердцах ударил кулаком правой руки по раскрытой ладони левой: — Черт! Зачем так есть?! — В волнении он словно растерял в один миг все свое знание языка. Семенов счел неуместными утешительные слова.Придя к себе на работу, он позвонил Орлову. Услышав в трубке его голос, сказал: — У тебя нет такого ощущения, что наша машина буксует? — Почему это? — спросил Орлов. — Мой клиент твоего не знает. — Уверен? — Все за то. Не верить нет причин, хотя всякое бывает. — Если ты прав… — Лучше заезжай. — Можно. Только мне надо к спецам заглянуть. Чтобы правильно описать настроение Орлова, лучше всего позаимствовать сравнение из быта хлебосольных домашних хозяек. Как чувствует себя справная хозяйка в ожидании многочисленных гостей, когда в самой большой комнате на длинном столе, на толстой скатерти, раскрылившейся по углам от тугого крахмала, в овальных, круглых, квадратных блюдах мягкими холмами высятся салаты пяти различных систем, а на плоских тарелках неизбитые — патент дома! — орнаменты рыбных и мясных закусок, когда в духовке дотамливается дородная румяная индейка, а на балконе в ведерной обливной кастрюле ждут своего часа моченые яблоки? Однако не будем продолжать в том же направлении, ибо сравнения кухонно-гастрономического порядка здесь совсем неподходящи и могут даже не понравиться Орлову, хотя он достаточно ироничен, чтобы не обижаться и на менее лестные параллели. Они неподходящи в особенности потому, что Орлов сейчас лишен семейных радостей — с тех пор, как его молодая жена, архитектор, уехала на Дальний Восток сдавать заказчикам свой проект. Скажем короче: Орлов чувствовал себя замечательно, когда шел по длинным коридорам управления в другое крыло, туда, где размещались лаборатории оперативно-технического отдела. Ему надо было получить официальное, отстуканное на машинке, подписанное и скрепленное печатью свидетельство того, что он часом раньше видел собственными глазами в лаборатории, где установлен лазерный микроанализатор. В замке, вынутом из дверей гаража Алексея Дмитриева, следов постороннего ключа не нашли. Зато в квартирном замке эти следы были так явственны, что не оставляли места для сомнений. Старший эксперт, производивший анализы, объяснил стоявшему у него за плечом Орлову, что посторонний ключ не совсем точно укладывался в пазы и вырезы замка и оставил заглубленные метки, а хозяйские ключи, притертые идеально точно, не стерли их. Старший эксперт сделал соответствующую запись на одном из одиннадцати пронумерованных конвертов — по числу ключей, представленных на экспертизу. Потом замок собрали и попробовали его закрыть и открыть ключом, взятым из отмеченного конверта. Замок с некоторой натугой, но работал. Орлов от всего сердца поблагодарил экспертов, забрал замки и ключи и отнес их к себе, спрятал в сейф, где хранил обычно вещественные доказательства. У него было замечательное настроение, потому что он хорошо подготовился к будущей — как он надеялся, недалекой — встрече с Кутеповым. Другой вопрос — придется ли ему лично с ним встретиться. Но это в конце концов не так уж важно… Сказав секретарю отдела, где его искать в экстренном случае, Орлов отправился к Семенову. — Если ты прав, — входя в кабинет, повторил он собственные слова, на которых Семенов перебил его, — если твой клиент незнаком с моим, то цена Кутепову сильно повышается. Вот читай. Семенов пробежал глазами заключение экспертизы и сказал: — Везет милиции. — Оно конечно, — не без удовольствия признал Орлов, — только, боюсь, перейдет Кутепов в твои руки. Ты смотри, как он популярности боится: фотографироваться не хотел, а потом ради этого кадра в чужую квартиру забрался. Непростои гусь. — Будто среди уголовных не бывает… — Не уголовник он. Тут что-то другое. — А я вот гадаю, чего он вдруг так переполошился из-за какой-то карточки? — сказал Семенов, неумело изображая наивность. — Он же и паспорт получил, и на работе удостоверение. И в личном деле — фото. Скажите, катастрофа какая — щелкнул его кто-то… Орлов ждал таких соображений. — В личное дело я смотрел — там фото нет. Удостоверение человек носит при себе. А в паспортном столе милиции кому придет в голову карточки смотреть? Не-ет, он именно бесконтрольной фоторекламы опасается. Лежит где-нибудь в анналах его физия, обязательно лежит… — Орлов посмотрел на Семенова, прищурившись. — Слушай, брось на мне эксперименты ставить. Ты сам как думаешь? Семенов улыбнулся. — Я думаю, знаешь, что? — Ну-ка? — Может, он сумасшедший, твой Кутепов? — Фантазируй дальше. Семенов откинулся на спинку стула и начал наставительно. — У вас на лице красноречивый шрам, товарищ сыщик. Можно догадаться, он добыт при исполнении служебного долга. Не правда ли? — Допустим. — Любопытно было бы послушать — где и когда? — Как-нибудь расскажу. — Хорошо, не будем отвлекаться… Кроме шрама, у вас еще есть довольно густая седина — и, надо думать, ею вы тоже обязаны службе. Не так ли? — А также длинным очередям за квасом в жаркие дни. — Орлов еще при первом знакомстве с Семеновым отметил его манеру делать вот такие вступления к серьезному разговору. Манера эта ему нравилась, и он с удовольствием подыгрывал. — Так где же ваш опыт, товарищ сыщик? — продолжал Семенов. — Какой нормальный человек станет лазить по квартирам из-за одного-единственного кадра, да еще, может, кадр этот делался при закрытом объективе? Почему он три раза привозил молодой прекрасной девушке посылки с дорогими вещами, а потом вдруг решил ее убить? Молчите? — Семенов встал, приоткрыл окно. — Да, — согласился Орлов, — с мотивами плохо. — В том-то и штука, Миша, — обычным своим тоном сказал Семенов. — Ты, конечно, прав, Кутепов в стандартные рамки не укладывается. Субъект не городских масштабов. — Полагаешь, Москва возьмет дело к себе? — Хорошо бы вместе с нами. — Мне-то, собственно, при таком раскладе больше делать нечего. Потом Семенов рассказал Орлову о своем посещении Пьетро Маттинелли. Им было интересно сравнить ответы Пьетро с тем, что они узнали от Галины Нестеровой. Какой-либо сговор между ним и ею был невозможен, а если так — их слова заслуживали доверия. Может быть, они знали больше, чем говорили, но их о большем и не спрашивали… Беседу прервал внутренний телефон — Семенова вызывал начальник. — Если понадоблюсь — я на работе, — сказал ему Орлов уже в коридоре. — Шел бы ты к жене, — наставительно заметил Семенов, закрывая кабинет. — Далеко идти. — Что так? — Она в районе озера Байкал. — Ну, извини… У лестницы они разошлись. А через полчаса последовало продолжение и завершение прерванного разговора. Семенов сказал по телефону: — Ты, Миша, авгур. — Авгуры по птичьим потрохам гадали. — Значит, ты маг и волшебник. — Москва, что ли? Говори прямо. — Меня ждут. — Нашли что-нибудь? — Да. Подробности на месте. — Успеваешь на рейс двадцать один пятнадцать? — Да. — Ну, счастливо. В половине первого ночи дома у Орлова, когда он уже собрался ложиться спать, зазвонил телефон. Говорил дежурный по городу: — Михаил Петрович, сразу две телефонограммы из Москвы. Генерал приказал сообщить срочно вам. — Автомобиль можете прислать? — Попробуем. …Поднявшись в дежурную часть, Орлов прошел в телеграфный зал. Оператор телетайпа дал ему телефонограммы, уже наклеенные на бланки. Одна была циркулярная, для всех городов, и извещала о прекращении розыска Кутепова. Во второй, только для их УВД, сообщалось, что Кутепов обнаружен в Москве, живет в гостинице «Минск». До прибытия инспектора, занятого по делу, взят под наблюдение ГУВД города Москвы. Орлов соединился с генералом. Тот приказал вылететь первым утренним рейсом. — Мне нужна прокурорская санкция на арест Кутепова, — сказал Орлов. — Так кто тебе мешает? — сердито пробасил генерал. — Я же чём свет улечу. — Хорошо, пришлем дневным рейсом, кто-нибудь к тебе прилетит. Сообщи адрес. Но это было еще не все. Пока Орлов говорил с генералом, телетайп принял новую телефонограмму:
«ПОДПОЛКОВНИКА ОРЛОВА ПРОСИТ МАЙОР СЕМЕНОВ СООБЩИТЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ВАС БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ»
ГЛАВА 17 Короткое замыкание
Всем известно: если в электрической цепи стоит плохой предохранитель, при коротком замыкании цепь может сгореть. В схеме, составленной разведцентром, предусмотрено несколько предохранителей. Один из них сослужил важную службу — это случилось, когда Уткин поехал к Марии. Предохранитель сгорел, и его изъяли из цепи, но цепь не пострадала. Роль другого предохранителя должен был сыграть на определенном этапе Виктор Андреевич Кутепов, и он ее сыграл, но не совсем так, как этого хотелось разведцентру. Сам он в этом виноват лишь отчасти. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы уцелеть (нам еще придется вспомнить, например, как не хотел он попасть в кадр незнакомому фотографу). Но те, кто действовал на противоположном полюсе, тоже не сидели сложа руки. И произошло именно то, чего так опасался Кутепов. После несложной, но правильно проведеннойразведцентром комбинации, закончившейся в Батуми благополучным исчезновением Брокмана, полковник Владимир Гаврилович Марков, скажем прямо, чувствовал себя не лучшим образом. Он не сомневался, что при наличных данных, касающихся Брокмана, последний непременно будет найден. Но тут особый смысл приобретали сроки. Исчерпывающая характеристика Брокмана, полученная от Михаила Тульева, обязывала помнить, что этот агент не чета Уткину. Такие не бывают марафонцами, бегунами на длинные дистанции. Такие не засылаются на долгое оседание. Они предназначены для рывка, для одного удара. Следовательно, время тут имеет особенно острое значение. Промедление с розыском Брокмана было бы крайне опасно. Вот почему полковник Марков с повышенным вниманием следил за всем, что могло хотя бы косвенно, отраженно бросить свет на то подспудное, втайне происходящее движение, которому, несомненно, должно было дать толчок появление Брокмана. Об истории, случившейся в городе К., к которой имел какое-то отношение итальянский инженер и расследованием которой занялся майор Семенов, полковнику Маркову стало известно на второй день, 23 мая, так же, как и о том, что Семенов счел необходимым установить, не числится ли подозреваемый в покушении на убийство среди государственных преступников. Сообщению об этом полковник, конечно, не придал первостепенной важности, но оно осталось в поле его внимания, где-то на периферии. Однако уже 24 мая положение изменилось. Быстро проведенными мероприятиями было установлено, что Виктор Андреевич Кутепов и занесенный в картотеку государственных преступников, подлежащих суду за злодеяния против советского народа во время Великой Отечественной воины, Виктор Андреевич Гуров — одно и то же лицо. Сам по себе этот факт ничего чрезвычайного не представлял. Немало уже было случаев, когда вот так же, распутывая сегодняшнее уголовное дело, следователь добирался до корней, зарытых в далеком, но до сих пор кровоточащем прошлом. Но была одна деталь, которая сразу притянула к себе полковника Маркова и перевела дело Кутепова с периферии прямо в центр следствия. Кутепов-Гуров по картотеке государственных преступников значился в том же гнезде, что и Дембович. У полковника появилось такое ощущение, словно он после плутаний без ориентиров по затянутой туманом местности наконец попал на знакомую, хорошо протоптанную тропу. Ян Евгеньевич Дембович, чей дом служил когда-то базой резиденту разведцентра Михаилу Тульеву, тот Дембович, который был завербован еще фашистами и передан по наследству новоявленным хозяевам, тот Дембович, чей труп сгорел в пожаре, устроенном заметавшим следы резидентом, и чья смерть осталась поэтому неразгаданной, теперь, по прошествии лет, возник из небытия, чтобы стать для полковника ориентиром, к которому нетрудно привязать разбросанные в пространстве и времени объекты и события. Виктор Андреевич Гуров, чья настоящая фамилия Кутепов, служил в 1942–1945 годах у гитлеровцев в СД и дослужился до звания гауптмана-капитана. А Дембович был заурядным переводчиком и носил нашивки фельдфебеля. Он находился в подчинении у гауптмана Гурова. На счету Гурова-Кутепова в отличие от Дембовича числились и провокации, кончавшиеся гибелью партизан, и допросы военнопленных. Это только подкрепляло напрашивавшийся вывод: если судьба связала Дембовича и Кутепова одной веревочкой еще на войне, то и дальнейший их путь она определила одинаково. Дембовича заставили работать на разведцентр. Какие же иные пути могли привести его бывшего начальника по СД к участию в деле, ныне расследуемом? Полковник Марков иных путей не видел. Поэтому он срочно вызвал Семенова в Москву. Ему нужно было знать о теперешнем Кутепове все. Он был уверен почти на сто процентов, что на продолжении линии Дембович — Кутепов где-то дальше может оказаться еще кто-нибудь. Потому что, по всему видно, чертила эту линию одна рука… Виктор Андреевич Кутепов поселился в гостинице «Минск» — как ему это удалось, уму непостижимо, потому что в новой гостинице свободных мест не бывало со дня ее открытия. Последние сутки никуда из здания он не отлучался, да и номер свой покидал только раз. Вероятно, ждал телефонного звонка… Вечерний самолет из города К. прибывал во Внуково в двадцать два тридцать. Распорядившись выслать в аэропорт машину, Владимир Гаврилович поехал домой, поужинал, прочел газеты и в двадцать два часа вернулся на площадь Дзержинского. Когда Семенов вошел к нему в кабинет, Владимир Гаврилович машинально отметил про себя, что этот незнакомый ему контрразведчик чем-то неуловимо похож на Павла Синицына: может быть, из-за одинаковой светлой масти, а может, потому, что у Семенова, как и у Павла, брови были сдвинуты серьезно, даже хмуро, а во взгляде чуялась неистребимая насмешливость. Да и в летах, наверное, у них разницы не было. Правда, Семенов выгодно отличался от своих столичных товарищей загаром. Семенов представился официально. Марков протянул ему руку, назвал себя и, предложив сесть к столу, попросил изложить все, что имело отношение к Кутепову. Семенов рассказал, специально выделив те моменты, которые свидетельствовали о боязни Кутепова быть сфотографированным и оставить свое изображение в чужих руках. Подробно описал, каким образом старший инспектор угрозыска подполковник милиции Орлов получил вещественные доказательства, изобличающие Кутепова. — Эпизод с фотографированием в кафе — это еще в прошлом году было? — спросил Марков, когда Семенов кончил свой доклад. — Да, в конце мая — начале июня. — И в квартиру к этому молодому человеку Кутепов действительно только ради пленки и наведывался? — Больше ничего не пропало. — Карточек у девушек не осталось? — Ни одной. Марков помолчал. Рассказ Семенова, особенно эта история с фотографированием, укрепляли Владимира Гавриловича в уверенности, что он не ошибается в расчетах, что Кутепов приведет их на какой-то след. Он достал из сейфа тонкую папку, раскрыл ее, полистал лежавшие в ней желтовато-серые пересохшие бумаги и, выбрав: одну, протянул Семенову: — Вот, познакомьтесь. Это был формуляр СД на гауптмана Гурова с приклеенной фотографией. Когда Семенов прочел его, Марков дал ему заключение экспертизы, идентифицировавшей портрет Гурова с формуляра и портрет Кутепова, выкадрированный из снимка, который сделал Леша Дмитриев в кафе «Над рекой» и который прислал в Москву он сам, майор Семенов. Наблюдая за выражением лица майора Семенова, пока тот читал заключение экспертизы, Марков невольно ухмыльнулся: куда-то вдруг исчезла всякая насмешливость и остался один жадный интерес. Семенов вернул листки как бы с неохотой. Марков сказал, складывая их в папку: — Пожалуй, его можно назвать дальновидным и предусмотрительным, как, по-вашему? — Вы имеете в виду возню с той карточкой? Определенно предусмотрительный. А как его настоящая фамилия звучит, товарищ полковник? — Кутепов. — Тогда он очень даже дальновидный. — Почему «тогда»? — Обычно такие у немцев под своей фамилией ходили, а скрываться надо под чужой, своя замарана. А этот наоборот. — Какая разница? — Ну как же! Жить удобнее под своей. Знаете, вдруг окликнет кто из старых знакомых — не надо вздрагивать. — И то верно, — сказал Марков. — Как думаете, инспектор угрозыска здесь понадобится? — Орлов? Он может оказаться очень полезным. Марков про себя уже решил, что Орлова надо пригласить, но он, как всегда в подобных делах, считал необходимым узнать мнение сотрудника, с которым предстояло вместе действовать дальше. — Значит, Орлова будем вызывать, — сказал Марков. — Утром соберемся, как он прилетит. — Разрешите встретить, товарищ полковник? — Пожалуйста. Но выспаться вам надо. Таково происхождение телеграммы, полученной Орловым ночью из МВД СССР. Утром Семенов встретил Орлова, они вместе пришли к полковнику Маркову. Полковника интересовали детали, известные только Орлову. Потом Марков сказал, чтобы Орлов устроился в гостинице и сообщил свой телефон. Когда потребуется — его вызовут. А затем Марков обратился к Семенову: — Вот что, Евгений Михайлович… Вам, наверное, придется еще долго побыть в Москве. Гардероб весь на вас? — Это поправимо — жена доставит. — Организуйте, пожалуйста. Думаю, для вас тут найдется дело.Марков вызвал Семенова в субботу 27 мая и вот что рассказал ему. …Сегодня в половине девятого утра к дежурному администратору гостиницы «Минск» обратился мужчина средних лет — он спрашивал, в каком номере живет Кутепов Виктор Андреевич. Мужчина говорил по-русски как москвич. Никому и в голову не придет, что он иностранец. Узнав номер Кутепова, мужчина поднялся на четвертый этаж, постучал в дверь — без всяких условных знаков. Кутепов открыл тотчас — явно ждал. Гость пробыл в номере полчаса и ушел как пришел — с пустыми руками. Кутепов остался у себя. Из гостиницы гость пошел направо, на площади Маяковского спустился в метро, доехал до проспекта Маркса, поднялся, пошел по улице Горького и потом по Большой Бронной, по правой стороне. Он не торопился — как будто бы гулял. Пройдя метров пятьдесят — шестьдесят, повернул обратно, прошелся вдоль фасада старого дома и скрылся в подъезде. Пробыл он там буквально несколько секунд. За это время нельзя подняться даже на второй этаж. Подвала в подъезде нет. Снова появившись на улице, мужчина зашагал в обратном направлении, к Пушкинской площади. У троллейбусной остановки остановил черную учрежденческую «Волгу», сел в нее и уехал. Закончил Марков так: — В подъезде на косяке двери найдены три ключа, два от дверных замков и третий — от автомобиля. Они завернуты в бумажку — какая-то записка. Если это тайник, то им давно не пользовались. Пыль тронута только сегодня. Куда он поехал, мы скоро узнаем. Семенов заметил: — Целая эпопея с ключами. Орлов порядочное ожерелье привез. И здесь еще три. — Чьи они, по-вашему? — Кутепов дал. — Это ясно. Я говорю: от чьих дверей? — Трудно сказать. — А надо. В кабинет заглянул помощник Маркова. — Владимир Гаврилович, зовут. Марков попросил помощника остаться в кабинете у телефонов, а сам ушел. Вернувшись, он сказал Семенову: — Человек, оставивший ключи, приехал в гостиницу «Россия». Он, оказывается, из иностранной туристической группы. Послезавтра уезжает домой. Орлов, вы говорите, ключи с собой привез? — Целую связку. — Дубликаты тех, что оставлены на Большой Бронной, будут скоро готовы. Орлов где сейчас? — Наверное, у себя в гостинице. Марков нажал кнопку на телефонном столике. Вошел помощник. — Вызовите подполковника Орлова. Помощник вышел. Зазвонил один из телефонов на столике. — Алло, Владимир Гаврилович? — Это был Павел Синицын. — Я. Покороче. — Мне назначено свидание. Сегодня в девятнадцать. В кассе кинотеатра «Ударник». — Иди. — А если мне захочется вас увидеть? — Как всегда. «Как всегда» означало загородную дачу, где Марков встречался обычно с Павлом Синицыным. Орлову понадобилось совсем немного времени, чтобы добраться до здания на площади Дзержинского. В кабинет он явился с черным блестящим чемоданчиком. Пятью минутами раньше Маркову принесли фотокопию записки и три ключа — дубликаты, о которых он говорил. Два ключа, от дверных замков, он положил перед Орловым, когда тот сел. — Вы, говорят, большой специалист по этой части. Посмотрите, сравните с теми, что у вас в чемодане. Нет ли чего похожего? Достав из чемодана связку из девяти ключей и два ключа, лежавших в отдельном конверте, Орлов начал сравнивать. Но ничего похожего и близко не было. — А этот чей? — Марков дал Орлову ключ от автомобиля. — У Кутепова есть «Жигули», — сказал Орлов. — В городе его машину не нашли. — Как вы думаете, если эти два ключика из вашего города, можно установить от чьей они квартиры? Орлов уже разобрался в ситуации. — Очень мало адресов приходит на ум при виде этих ключей. — Он поглядел на Семенова. Тот спросил: — Ты хочешь сказать — Суховы и Нестеровы? — Да, — сказал Орлов. — Ключи Дмитриевых здесь — они не подходят. — Нужно проверить эти два адреса, — сказал Марков. — А кто такие Нестеровы? — Галина Нестерова — подруга пострадавшей Суховой, — объяснил Семенов. — Как же насчет проверки? Орлов прикинул время. — Раньше завтрашнего вечера не получится. — Хорошо. Этим и займитесь. — Сегодня будет товарищ из нашего управления, — сказал Орлов, — привезет санкцию на арест Кутепова. Через него устроим. — Санкция не мешает, а с арестом Кутепова торопиться не будем. — Марков встал, пожал Орлову руку. — Спасибо вам. Проверяйте ключи, а потом жду вас к себе. Орлов уложил ключи по разным конвертам, закрыл чемодан. Проводив его, Марков сказал: — Новая фамилия появилась — Нестеровы. — Я вам говорил, что беседовал с Галиной Нестеровой, — напомнил Семенов. — Большая семья? — Отец, мать. — О Суховых мы знаем. А кто Нестеровы? Есть ученый. Нестеров. — Это он. — Физик? — Точнее, физическая химия. — Может он заинтересовать кого-нибудь «там»? — Не было времени разобраться, товарищ полковник, еще и четырех суток не прошло, — сознавая, что это не может быть оправданием, сказал Семенов. — А вообще его работы широко известны. — Но Нестеровы как будто здесь ни при чем. Пострадала-то Светлана Сухова. — Вот именно, Владимир Гаврилович, — сказал Семенов, — если допустить, что все это нагорожено ради Нестерова, значит, кто-то достает левое ухо правой рукой. Зачем? — И так бывает. Подождем, что нам Орлов принесет. Теперь посмотрим записку. Это была фотокопия письма, которое когда-то Светлана Сухова написала на квартире у Гали Нестеровой и вручила Виктору Андреевичу для передачи Пьетро Маттинелли. — Это тоже очень интересно, — сказал Марков, передавая письмо Семенову. — Для шантажа? — прочитав, сказал Семенов. — Вероятно. Марков сказал Семенову, что он свободен до восемнадцати часов, а потом они поедут на дачу с ночевкой. Созвонившись с Орловым, Семенов отправился к нему в гостиницу и от него вызвал по междугородному жену. Орлов с минуты на минуту ждал посыльного из управления с прокурорской санкцией. И когда тот прибыл, они все вместе составили несложный план, как проверить ключи. Неловко будет с квартирой Нестеровых — супругам, и без того нервничающим, эта проверка не принесет успокоения, но ничего не поделаешь. А полковник Марков меж тем вызвал к себе сотрудника отдела, капитана, и попросил срочно навести справку о научной деятельности Нестерова и о характере его последних работ. Без пяти семь вечера 27 мая Павел Синицын был у кинотеатра «Ударник». За день асфальт так раскалился, что жег ноги через подошву туфель. И даже тут, у кинотеатра, где с двух сторон речная вода, не веяло свежестью. В помещении касс дышалось немного легче, никакой очереди не было, и Павел, скинув пиджак и повесив его на руку, остановился между входом и окошками кассирш, уловив какое-то слабое подобие сквозняка. Ждать пришлось недолго. С улицы появился высокий человек в светлом костюме, голубой рубахе и красно-синем галстуке — тот самый, кто навещал утром Кутепова, — и, улыбчиво глядя на Павла, без церемоний обратился к нему: — Вы кого-то ждете, молодой человек? — Может, я жду ночной прохлады, — мрачно сказал Павел. Он давно не выступал в роли Бекаса, бывшего поездного вора, но старался сразу попасть в нужный тон. — Вы получили открытку? — не смущаясь, спросил улыбчивый гражданин. — Вы Потапов? — Если вы знаете все на свете, зачем спрашиваете? Вот я, например, не пристаю с ножом к горлу: как это вам в галстуке не жарко? Незнакомец стал серьезнее. — Нужно выйти отсюда. Я живу в гостинице «Россия». Проводите меня. Он говорил, не понижая голоса, совершенно не заботился о конспирации, и это слегка озадачило Павла. Не такой представлялась ему явка, назначенная впервые за столько лет. В этой непринужденности было что-то неестественное. Но ему не полагалось сейчас заниматься психологическими рассуждениями. Вышли. Незнакомец собирался пересечь дорогу прямо перед кинотеатром, что правилами запрещалось. Павел остановил его: — Вы, наверное, богатый человек. Здесь штрафуют. Пока делали крюк через мост, этот человек болтал на отвлеченные темы — о встречных девушках, о благах, доставляемых кондиционерами воздуха, о низком качестве теплого московского пива и прочем. Когда достигли набережной и пошли вдоль реки, он вынул из кармана блокнот, а из блокнота половинку разорванного рубля и показал ее Павлу; — У вас есть вторая половина? — Не трясите огрызками дензнаков, люди смотрят, — осадил беспечного партнера Павел, выдернув у него из пальцев этот вещественный пароль, другая половина которого хранилась Павлом с того момента, как он стал Потаповым. — Притормозите. Они укоротили шаг. Павел, пошарив в кармане пиджака, извлек из бумажника свою часть рубля, сложил на ладони обе половинки и сунул руку в карман брюк. — А не лучше ли выбросить? — заметил партнер. Павел взглянул на него презрительно. — Стены моей прихожей не оклеены сотенными бумажками, а целковый можно склеить. Приступим к делу. Кстати, как вас зовут? — Ваня. — В «России» живете… Вы что, командированный? — Можно считать и так. Завтра уезжаю. — Далеко? Ваня рассмеялся. — Домой, за границу. — Хорош Ваня! Ну, выкладывайте. Ваня вынул из блокнота еще одну половинку рубля, неровно оторванную. — Вот, это новый пароль. Не перепутайте. Потому и говорю, лучше те половинки выбросить. — А этот к чему? — Вы должны будете познакомиться с одним товарищем. — Кто такой? — Его фамилия Кутепов. Виктор Андреевич Кутепов. Запомнили? — Что значит — познакомиться? А дальше что? — Слушайте по порядку. Ровно через месяц, двадцать седьмого июня, вы должны быть в Тбилиси. Там есть гостиница «Руставели». В вестибюле вы и встретитесь. Он вас узнает. И будет вас слушаться. — Туфта какая-то! Я ему приказывать должен, что ли? Эй ты, стой там, иди сюда? — А вы имейте терпение, не перебивайте. Кутепов исполнит все, что вы скажете. То есть поедет с вами куда угодно. — А зачем куда-то ехать? — Кутепов должен исчезнуть. — Что значит — исчезнуть? Разложиться, что ли? — Если вы такой химик, это было бы очень хорошо, — заражаясь стилем собеседника, сказал Ваня. Павел отлично понял, о чем идет речь, но ему не хотелось верить ушам. Нелепо и фальшиво звучал их разговор в ясный жаркий майский вечер на берегу Москвы-реки, под кремлевской стеной. Дешевенький шпионский фарс какой-то, и больше ничего. Возникала потребность убедиться, что это не сон. — Короче, его нужно убрать? — зло спросил Павел. — Желательно. — И мне подкинут? — Павел сделал пальцами международный жест, которым обозначаются деньги. — Очень много. — И потом за диез с двумя бемолями? — Павел сложил косую клетку из указательных и средних пальцев. — А бемоли — это что значит? — Тюремные замки… Мне понятно, что мы не на профсоюзном собрании — голосования не будет. Но я хочу выступить в прениях. Или нельзя? — Давайте. — А если я навру? Скажу — убрал, а не уберу… — У Кутепова золотые коронки. Вы их должны представить. — Кому? — Это вам дополнительно сообщат. — Вы давно в зоопарке не были? — задал неожиданный вопрос Павел. — Бросьте шутить. — Я серьезно. Давно? — Не помню. — Ну так сходите. Сейчас я, кажется, дам в зубы вам, а когда пойдете в зоопарк, то подергайте за хвост зебру. Вам будет интересно сравнить, кто больнее дерется. Ваня не обиделся. — Значит, вы не согласны? — спокойно спросил он. — А вы бы согласились? — У меня другая работа. — Вы подумайте, что мне предлагают. Они там думают, все происходит в безвоздушном пространстве. — Почему же? — удивился Ваня. — Ничего сверхъестественного вам не предлагают. — Хорошенький сюжет — убить человека… Больно быстрые. — Не могу ли я понять ваши слова таким образом, что вам надо немножко подумать? — Вы же сами сказали — завтра уезжаете. — Да, но сутки — большой срок. Они были уже недалеко от западного входа в гостиницу. Ваня остановился. — Запишите мой телефон. Вдруг все-таки надумаете… Павел записал на клочке вынутой из пиджака бумажки. И спросил: — А что будет, если я откажусь? — Рассчитывайте сами. Вы же не частное лицо, вы все-таки имеете обязательства.
У Павла, пока он ехал в электричке на дачу и перебирал свой разговор с этим липовым Ваней, сложилось убеждение, что вся его игра была впустую. По крайней мере она, кажется, не произвела на Ваню никакого впечатления. Как будто каждый из них говорил, что ему положено по роли, не вникая в речь собеседника. С этого и начал он рассказ, когда, напившись артезианской воды из ведра, стоявшего на веранде, сел перед Владимиром Гавриловичем Марковым за стол в беседке. Семенов сидел чуть в стороне и слушал, стараясь не слишком явно разглядывать человека, с которым полковник только что познакомил его. Передав разговор с Ваней, Павел сказал: — И вообще этот Ваня как у себя в квартире. Ничего не боится. Пароль на глазах у всей Москвы предъявляет, меня с места встречи прямо к своей гостинице ведет. — Когда уходил от Кутепова, совсем другой был, — сказал Марков. — Неужели вы допускаете, Владимир Гаврилович, что они всерьез с этим убийством? — А чему удивляться? По мировым стандартам, так сказать, это нормально. Другое дело — именно тебе предложено. Мы ведь должны исходить из того, что ты раскрыт. — Своими руками выдавать Кутепова — с чего вдруг? Зачем? — Этот Ваня не все скрывал от тебя. Не соврал, когда уезжает. Верно? — Не знаю. — Верно. Это уже проверено. Однако еще утром он вел себя совершенно иначе. Небо и земля. — Им больше не нужен Кутепов? — сказал Павел. — Через месяц не будет нужен. — Но почему? Что случилось? Марков вкратце описал, что произошло утром, объяснил Павлу, кто такой Кутепов, и добавил: — Что Кутепов уже выработан и стал бесполезен, а может, и вреден, понять нетрудно. Почему — пока неизвестно. Он купил билет на поезд до Сочи. Надо его в пути арестовать. Кое-что мы, конечно, услышим, но, боюсь, не очень много. — Набитого информацией не отдавали бы, — заметил Павел. Марков взглянул на Семенова. — Свяжитесь с Орловым, Евгений Михайлович. Пусть уж он доведет до конца по своей линии. Надо допросить Кутепова. Надо его сразу поставить перед доказанным фактом. Пусть объяснит, зачем проникал в квартиру Дмитриевых. На первый раз речь должна идти только о покушении на убийство. А затем посмотрим. — Для пользы дела лучше говорить об убийстве, — сказал Семенов. — А как это будет выглядеть, так сказать, с морально-этической стороны? Сухова-то жива. — Такая тактика допускается, — возразил Семенов. — Во-вторых, она жива осталась по чистому случаю, да и неизвестно, чем еще кончится. — Разве что во-вторых, — сказал Марков. — А впрочем, решайте по ходу дела. — Турист Ваня ждет моего звонка, — напомнил Павел. — Завтра позвонишь и скажешь — согласен.
Ключи, завернутые в записку, взяла с Большой Бронной в воскресенье 28 мая в одиннадцать утра высокая пожилая женщина, одетая в серый костюм английского покроя. Выйдя из парадного, она натянула на руки черные кружевные перчатки, поглядела в одну сторону улицы, в другую, как бы раздумывая, куда отправиться, раскрыла от солнца цветастый зонтик и медленно пошла к Пушкинской площади. Она держалась очень прямо и была выше большинства женщин, попадавшихся навстречу. Лицо ее под цветным зонтиком казалось очень свежим, и легко можно было представить, как миловидна она была в молодости. Она зашла в магазин «Армения», купила халвы. Потом направилась в Елисеевский и пробыла там не меньше часа, а когда покинула гастроном, ее большая хозяйственная сумка была полна так, что не закрывалась. На стоянке против кинотеатра «Россия» она, дождавшись очереди, взяла такси и отправилась на Курский вокзал. До города, куда ехала эта женщина, электричка шла без малого два часа. От вокзала она тоже поехала на такси. Рассчиталась на тихой улице недалеко от центра, возле одноэтажного бревенчатого дома, на крыше которого высоко торчали две телевизионные антенны — дом был на две семьи с общим приусадебным участком. Минут через десять она появилась из двери, уже переодетая в легкое ситцевое платье, с белой панамой на голове, и пошла в булочную на соседней улице. Вскоре из той же двери в сад вышел молодой мужчина. Он сел на скамейку, врытую под сиренью, и закурил сигарету. Это был Брокман. Ни с кем, кроме одного человека, хозяйки этого дома, не имел он прямых контактов, и все-таки цепь замкнулась накоротко.
ГЛАВА 18 О ключах
Орлов допрашивал Кутепова в Бутырской тюрьме поздним вечером в понедельник 29 мая. Если арест и произвел на Кутепова какое-то действие, то выражалось это лишь в заторможенности. Он отвечал на вопросы охотно, но с замедлением, каждый раз переспрашивая. Это можно было расценить и как обычную уловку человека, старающегося выгадать время на обдумывание. На привинченном к полу столе лежали вещи, обнаруженные у Кутепова при обыске: портфель с бритвенными принадлежностями и носовыми платками, документы, деньги — восемьсот рублей, аккредитивы на десять тысяч, блокнот, авторучка и прочие карманные мелочи. В бумажнике, в отдельном кармашке, нашли половинку разорванного рубля, уже бывшего в обращении, не нового. Свой чемоданчик с вещественными доказательствами Орлов поставил на стол. Начал он с обычного: — Где вы были в ночь с двадцать первого на двадцать второе мая? — Я?.. Я ехал в поезде… сюда, в Москву… Тут, — Кутепов показал на стол, — тут должен быть мой билет. Орлов уже видел билет в блокноте и нашел его быстро. — Компостером не пробит. — Сейчас билеты в поездах иногда не отмечают, — помог Кутепову Семенов. Орлов удовлетворился объяснением. — Вы знакомы со Светланой Суховой, гражданин Кутепов? — Со Светланой Алексеевной? Которая работает в универмаге? Да, знаком. — Когда вы видели ее последний раз? — Я?.. Недели две, пожалуй, нет, недели три назад. — Знакомы ли вы с Алексеем Дмитриевым? — С Дмитриевым? Первый раз слышу о таком человеке. — Я хотел спросить, знаете ли вы, где живет Алексей Дмитриев, но ваш ответ делает это излишним. Не правда ли? — Совершенно верно. Орлов извлек из чемоданчика связку ключей на веревочке и два конверта, в которых лежало по ключу. Все это он показал Кутепову. — Это ваши ключи? Вы узнаете их? — Возможно, мои, а возможно, и нет. Орлов дал прочесть ему акт изъятия ключей из квартиры и гаража Кутепова, подписанный понятыми, и спросил: — Что вы скажете теперь? Ваши ключи? — Я должен верить акту. — Отвечайте прямо — ваши или нет? — Мои. Орлов достал из чемоданчика замок, вынутый из двери квартиры Дмитриевых, и вместе с ключом дал его в руки Кутепову. — Попробуйте, подходит ли ключ к замку. У Кутепова на лице появилось обиженное выражение: мол, простите, за кого вы меня принимаете и что за детские игрушки? Но истинные его чувства были, понятно, иными. В подобных случаях принято говорить, что человек был объят острым беспокойством и предчувствием надвигающейся катастрофы. Кутепов пощелкал замком. — Подходит. Орлов дал ему прочесть заключение экспертизы и сказал: — Ключ принадлежит вам. Замок изъят из двери квартиры, где живет Алексей Дмитриев, которого вы якобы не знаете. Как вы это объясните? Кутепов словно бы смертельно устал и не имел сил ответить. Затем та же процедура была проделана с висячим замком от гаража, и снова на вопрос «Как вы это объясните?» Кутепов не ответил. Орлов забивал гвоздь по самую шляпку — он показал Кутепову план пустыря с обозначением забора и частных гаражей. Затем сказал: — Сухову ударили разводным ключом. — Я такими ключами не пользуюсь, — хмуро и уже неохотно ответил Кутепов. — У Алексея Дмитриева пропал такой ключ. — Возможно, все так и есть. Но какое это ко мне имеет отношение? — Вы адвокат и прекрасно понимаете, к чему я веду. Вы не всегда отвечаете, но я на этом не настаиваю. Будем считать этот допрос предварительным знакомством. Моя задача — показать вам, чем располагает следствие. Убежден, что вы как юрист оцените положение правильно. Еще несколько вопросов, и мы закончим. Вы по-прежнему утверждаете, что в ночь с двадцать первого на двадцать второе ехали в поезде, направлявшемся в Москву? Прошу: только да или нет. — Да. — Вы брали из гаража Дмитриева разводной ключ? — Нет. — Вы проникали в квартиру Дмитриевых летом прошлого года? — Нет. — Отлично. Теперь прочтите и подпишите протокол, если в нем нет искажений. Кутепов внимательно прочел и потом подписал каждый лист протокола. Орлов сказал в заключение: — Вы несколько затрудняете мою работу, вынуждая опровергать ваше мнимое алиби. Я найду проводников того вагона, в который был куплен ваш билет. Вы должны понимать, что память им за давностью времени не откажет. Если вы летели в самолете, я найду корешок билета. Когда Кутепов уходил, сопровождаемый конвоиром, у него был вид человека, которому обещали интересное зрелище, а потом вывели на самом интересном месте. Ему хотелось продолжать, он был разочарован краткостью допроса. На это и рассчитывали Орлов с Семеновым. Они не торопились уходить. Орлов закурил, открыл форточку в зарешеченном окне. — Ты ему жгучие темы для размышлений подкинул, — сказал Семенов. — Подумать-то ему, конечно, есть над чем. Первое — жива ли Сухова? — Как, по-твоему, что для него лучше? — Попробуем влезть в его шкуру. Как он сейчас рассуждает? Главное для него — точно определить, чем мы еще располагаем. — Неопровержимых доказательств его покушения на Сухову у тебя нет. — Верно. К тому же мотивов покушения мы не знаем, а это большой пробел. Если Сухова заговорит, у него не будет выхода. Она скажет, кто ее ударил и почему. — Следовательно, ему лучше, если Сухова не жива. — Да. Но тут есть неразрешимое противоречие. Ты бы назвал его жгучим. — Орлов слегка пошутил, однако Семенов не обратил на это внимания. — Кутепов подлежит розыску как государственный преступник. Остальное мне неведомо, но и этого достаточно. Как только он поймет, что ему не уйти и от этого обвинения, он пожалеет о Суховой. Зачем брать еще один тяжкий грех на душу? — Но он может мерить по-другому. Семь бед — один ответ. — Вряд ли. Не забывай: он адвокат. — В таком случае нужно прямо объявить, что Сухова жива. — Скрывать это ни к чему. Я должен уличить его во лжи насчет поезда. Тогда ему легче будет признаться. И больше мне здесь нечего делать.Поездная бригада, которую искал Орлов, в понедельник 29 мая вернулась из Москвы в город К. Ей полагался трехсуточный отдых, но он был прерван. Бригадир и два проводника того вагона, в котором якобы ехал Кутепов, были вызваны в городское управление милиции, где дали письменные показания. Помощник Орлова разыскал в Аэрофлоте корешок билета с фамилией Кутепова и переслал его подполковнику. Билет был на 22 мая. Проводники утверждали, что отлично помнят свою смену за 21–23 мая. Одиннадцатое место оказалось незанятым, и они сообщили об этом, как положено, бригадиру. Бригадир по радиотелефону дал сводку о свободных местах на следующую станцию, где скорый поезд имеет трехминутную остановку. На этой станции место номер одиннадцать занял молодой мужчина. Контроля в ту поездку не было. Собранных данных вполне хватало, чтобы опровергнуть алиби Кутепова. Семенов в понедельник получил из города К. важное известие: посланные туда ключи подошли к замкам квартиры Нестеровых. Он доложил об этом Маркову. Во вторник, 30 мая, Орлов и Семенов вновь приехали в Бутырскую тюрьму. На этот раз Орлов начал не с вопросов. Он дал прочесть Кутепову показания железнодорожников и предъявил корешок авиабилета. Кутепов читал, казалось, как-то нехотя. И на корешок поглядел безразлично. Подумав, он сам неожиданно задал вопрос, обращаясь к одному Орлову и избегая взгляда Семенова: — Вы ведь из угрозыска? — Да. — В таком случае я хочу сделать заявление. Прошу дать бумаги. Орлов положил на стол пачку зеленых разлинованных листков и шариковую ручку. — Прошу. — Он поднялся из-за стола и жестом пригласил Кутепова. Тот встал с привинченной к полу табуретки и пересел на место Орлова. Вероятно, у Кутепова было продумано каждое слово. Писал он не отрываясь и без единой помарки. Заявление было короткое:
«Ввиду того, что я располагаю важными сведениями, касающимися интересов государственной безопасности, прошу предоставить мне возможность дать показания следователю КГБ. Прошу также при решении моей дальнейшей участи принять во внимание, что это заявление сделано мною добровольно и по собственной инициативе».Кутепов сел на свое прежнее место. За какие-нибудь две-три минуты он преобразился. Теперь он был торжественно-спокоен. — Я не настаиваю, но не хотите ли вы здесь закрыть эпизод с покушением на Сухову? — спросил Орлов. — Это не эпизод, — сказал Кутепов печальным тоном. — Это узел. Я все расскажу, но не сейчас. — Ну что ж, пока идите. Орлов вызвал конвоира. Кутепова увели в камеру. — Нет, ты не даром ешь хлеб, — сказал Семенов. — Стараемся. — Орлов подмигнул ему. — Потому мы и вернемся в родной город намного раньше вас. А вы, молодой человек, учитесь у стариков. Но радоваться было еще рано. Орлов действительно в тот же день уехал в К., оставив Семенову папку с собранными по делу материалами и все вещественные доказательства. Третий раз Кутепова допрашивали в кабинете Маркова. Кроме полковника, был Семенов. Начал Марков. — В своем заявлении вы пишите, что имеете важные сведения. Что это за сведения и откуда они у вас? — Мне кажется, я принимал участие во враждебной нашему государству акции. Ответить кратко на ваш вопрос мне затруднительно. — Хорошо. Разобьем его на части. Каким образом вы стали участником этой акции? — Меня вовлек некто Маттинелли, он работал инженером на химическом комбинате в нашем городе. Я действовал по его поручению. Семенову показалось, что он ослышался. Последовало долгое молчание. Потом Марков сказал так, словно Кутепова тут не было: — Как это понимать, Евгений Михайлович? — Разрешите, я разъясню гражданину Кутепову, что он избрал ложный путь. — Сделайте одолжение. Семенову пришлось сдерживать себя, когда он обратился к Кутепову. — Послушайте, вы ведь не настолько наивны, чтобы считать наивными нас. Если хотите узнать, как выглядит ваша позиция со стороны, пожалуйста, можно рассказать. Вы стремитесь затянуть разбирательство, осложнить задачу следствия. Когда стало ясно, что от обвинения в покушении на убийство уйти невозможно, вы сделали свое заявление. Если удастся вовлечь в дело итальянского инженера Маттинелли, следствию понадобится время, чтобы отмести эту версию. Все это слишком примитивно для вас. Кутепов слушал, разглядывая ногти на руках. Марков перекладывал листки настольного календаря. Когда Семенов умолк, он сказал Кутепову: — Будьте благоразумны. Вы настаиваете относительно Маттинелли? Кутепов поднял голову. — Решительно настаиваю. — Вы усугубляете свою вину, — с сожалением сказал Марков и, секунду подумав, добавил: — Учтите, вам еще предстоит объяснить следствию очень многое. Например, в каких отношениях вы состояли с оберштурмфюрером СС Карлом Шлегелем. А вы стараетесь навлечь на себя дополнительные неприятности. Несолидно для человека ваших лет и вашей профессии. Кутепов не мог скрыть, что упоминания о Шлегеле он не ожидал, а если ожидал, то боялся. Спокойно-безразличное выражение лица, которое он тут же вернул себе, не могло обмануть наблюдавших за ним. Марков надавил на кнопку на телефонном столике и сказал Кутепову: — Обдумайте свое положение. Когда решите говорить честно, попросите, чтобы вас вызвал полковник Марков. Кутепова вывели из кабинета. У него был точно такой же вид, как тогда после первого допроса. Ему хотелось продолжения… Семенов сказал: — Даже не верится. — Чему? — спросил Марков. — Неужели они весь расчет строят на итальянце? — Раз Кутепов именно тот человек, с которым велено встретиться Павлу Синицыну, значит, все правильно. Они же знают, что Павел убивать Кутепова не будет. Кутепова арестуют. — Но это же несерьезно. На Кутепове столько навешано. — На то и рассчитывают. Не станет он сразу во всем признаваться. Сначала назовет Маттинелли — это Кутепову выгодно: уводит от его старых дел, и следствию работы хватит. Хоть и временная, но все же путаница возникает. Зазвонил телефон. — Марков слушает. Да. Хорошо, деду вас. Положив трубку, он сказал: — Спасибо Орлову. Они, конечно, не думали, что Кутепова так быстро найдут. Во всяком случае, не раньше, чем к нему придет этот турист Ваня. Тут они плохо рассчитали. Зато все предыдущее мы не оценили по достоинству. — Загородившись рукой от света, Марков посмотрел на часы. — Сейчас придет один товарищ, расскажет нам о профессоре Нестерове, о его работе. А после мы с вами кое-что уточним. Капитан, которому Марков поручил составить справку о научной деятельности Николая Николаевича Нестерова, сам эту справку и прочел вслух, потому что у Маркова разболелись глаза, — с ним это в последнее время случалось все чаще, и его утешало единственно то, что глаукомы врачи не обнаружили, хотя точного диагноза поставить все еще не смогли. Выслушав, Марков спросил: — Можно ли считать последние изыскания Нестерова принципиально новыми? — Строго говоря, нет, — сказал капитан. — Проблема, которой он занят, стоит перед физиками уже не первый год. Но он получил некоторые промежуточные частные результаты, открывающие доступ к проблеме в целом. — Решение проблемы имеет прикладное значение? — Безусловно. — Чем же наиболее интересна работа Нестерова? — Когда общая задача известна, остается только найти верное направление поиска. Нестеров его нашел. — Каким образом можно установить это направление? Что для этого надо узнать? — Специалисту достаточно получить две-три готовые формулы. Разумеется, если они в совокупности составляют ряд, показывающий развитие мысли. — А если без формул? — Идею профессора можно описать и словами, но это будет более громоздко. — Благодарю вас. Больше вопросов не имею.
ГЛАВА 19 Дом Линды Николаевны
Из всего, чему учился Брокман у много численных инструкторов разведцентра, в том числе и у Михаила Тульева, наиболее полезными оказались для него сведения о порядках, обычаях и нравах, царящих на советских железных и автомобильных дорогах. И это понятно, потому что первой его заботой по прибытии было как можно быстрее добраться из Батуми в подмосковный город, где жила Линда Николаевна Стачевская. И все его дальнейшее пребывание здесь теснейшим образом было связано со средствами передвижения, ибо ему предстояло выполнить два задания: одно — вдали от маленького подмосковного города, другое — совсем неподалеку. Первая заповедь всякого агента и разведчика — не выделяться среди окружающих — вначале казалась ему самой трудноисполнимой, так как в последние годы он упорно делал как раз обратное, все силы клал, лишь бы не быть похожим на толпу. Теперь он жалел об этом, но надеялся на свою наблюдательность, и она его не подвела. Он добрался до дома Линды Николаевны, как до собственного, ни у кого нигде не спросив дороги. Никто никогда не посмотрел на него как на белую ворону. Его предупреждали, что сообщенный ему пароль уже справил свое двадцатилетие, но Линда Николаевна, оказывается, пароль не забыла. Он видел Линду Николаевну только на портретах, где она была красивой женщиной лет двадцати пяти — двадцати шести, но тотчас ее узнал, едва она открыла ему дверь. Ему было известно, что перед войной, в сороковом году, она стала машинисткой германского посольства в Москве и вскоре сделалась доверенным лицом и любовницей военно-морского атташе. Он ее и завербовал. Во время войны ее увезли в Берлин, где она за год сменила несколько шефов, имевших отношение к той или иной разведке. В конце концов она очутилась у власовцев, сумела от них уйти перед самым концом войны, а что произошло дальше, Брокману не говорили. Прошлое богатое, но все это было так давно, что ручаться за нынешнюю пригодность и готовность Линды Николаевны к тайному сотрудничеству никто не мог. Однако опасения Брокмана оказались напрасными. Линда Николаевна помнила не только пароль. В ней были живы и воспоминания о нежных отношениях с людьми, которых она считала высшими существами, и их наставления. Она так долго томилась в ожидании какого-нибудь пришельца, который бы принес ей магический знак из молодых лет, из далекого далека, что уже устала ждать. А год назад, выйдя на пенсию (она работала машинисткой в одном из московских издательств), специально ходила в церковь, чтобы помолиться за упокой души своих обожаемых друзей и господ. Можно себе представить, как ее обрадовало появление гостя «оттуда». Это, можно сказать, было для нее не появление, а явление. Когда Линда Николаевна как следует разглядела Брокмана и сравнила его с хранимыми в душе образами, он показался ей мужланом. Зато от него веяло энергией, той особой аурой, которой обладают только люди, привычные к опасности, и которая была ей знакома со времен войны, и это примирило ее с недостатками. Линда Николаевна, будучи одинокой и имея возможность заработать на машинке столько, сколько необходимо (она и сейчас подрабатывала), не нуждалась в деньгах. Дом ее был обставлен хорошей мебелью и содержался в образцовом порядке. Принадлежавшую ей половину сада обрабатывал за соответствующее вознаграждение сосед, мастер текстильной фабрики. Его жена убирала в трех комнатах Линды Николаевны, за что получалаотдельно. А их дети, мальчик и девочка, школьники, приходили иногда смотреть к ней по телевизору цветные передачи, а в благодарность с великой охотой бегали по поручению тети Линды за хлебом в булочную и за творогом в молочный магазин. Линда Николаевна могла оплатить любые услуги, если не хотела делать чего-то собственноручно, денег у нее хватало. Тем не менее она была обрадована, увидев положенные Брокманом на стол красные червонцы. Эти деньги восстанавливали ее в прежнем качестве и потому были неизмеримо дороже их номинальной стоимости. Это были для нее не банковские билеты, а волшебные грамотки, удостоверяющие ее возрождение в ранге особо доверенного лица могущественных сил, облеченных тайной властью. Это было именно так, хотя Брокман прозаически заявил, что триста рублей дает ей на первый случай, как задаток за жилье. Он даже не подозревал, что она готова служить даром, это было недоступно его пониманию… Вечером за чаем — от коньяка и водки Брокман отказался — они обсудили план ближайших дней и, так сказать, гражданский статус Брокмана. У него были безупречно сделанные документы на имя Ивана Ивановича Никитина — паспорт, военный билет, профсоюзная книжка, трудовая и даже водительские права. Во всех графах всех документов, за исключением графы «Ф. и. о.», в точности повторялись данные, относящиеся к Владимиру Уткину. Последнее место работы — техник телефонного узла в городе С., откуда уволился Уткин. Сам Брокман этого не знал, но он по первоначальному замыслу, должен был унаследовать и фамилию Уткина, а не только его биографию, если бы в последний момент начальство разведцентра не внесло поправок. Брокмана беспокоило прежде всего его положение в доме Линды Николаевны. С какой стати он у нее поселился? Кем он ей приходится? Соседи могут этого и не спросить, а участковый вправе заинтересоваться. И обязательно ли ему прописываться? Линда Николаевна сказала, что еще не в столь давние времена сдавала одну из комнат одиноким мужчинам на разные сроки — от недели до полугода. Как правило, это были командированные, приезжавшие на предприятия или на какие-нибудь курсы. Стало быть, ничего из ряда вон выходящего никто не усмотрит, если она пустит к себе человека, приехавшего в поисках нового места работы и нового местожительства. Где и как они познакомились? В электричке. Разговорились, и Линда Николаевна сама ему предложила остановиться у нее. Что касается прописки, то тут все зависит от сроков. Если он думает прожить несколько месяцев, можно будет прописать его временно. Брокман не собирался жить у Линды Николаевны так долго, и вопрос с пропиской отпал. Если же возникнут нежелательные коллизии, Линда Николаевна бралась их уладить. Брокман, понятно, не рассказал ей, для чего приехал в Советский Союз, да она и не позволила себе интересоваться. Ее лишь волновало, какое участие она примет в будущих делах — что они обязательно будут, сомневаться не приходилось. Она жаждала деятельности, и Брокман заверил, что ей представится отличный случай проявить себя. Линда Николаевна отвела ему угловую комнату с двумя окнами — одно смотрело в глубину сада, из другого между кустами сирени была видна улица. Брокман приехал с чемоданом, в котором лежали белье, полотенце, бритвенные принадлежности, транзисторный радиоприемник «Спидола» и коробка батареек к нему. И больше ничего. После чая он пошел в комнату, осмотрелся, покурил перед открытым в сад окном, а потом освободил чемодан. Белье убрал в шкаф, коробку с батарейками сунул в нижний ящик письменного стола, а «Спидолу» поставил на стол. Линда Николаевна, пришедшая обсудить продовольственный вопрос, обратила внимание на скудость багажа и сделала по этому поводу замечание, что, мол, всякому солидному человеку положено иметь немного больше вещей, даже если он не обременен семьей и ведет кочевой образ жизни. Брокман согласился, достал пачку денег и попросил купить для него в Москве рубашки (размер сорок два), костюм получше (размер пятьдесят два, рост третий), плащ, демисезонное пальто и что там еще сочтет необходимым Линда Николаевна. Ей, наверное, интересно было бы узнать насколько хорошо он был оснащен для выполнения той, безусловно, опасной миссии, которая на него возложена. Не увидев при нем никакого реквизита, который во всеобщем представлении непременно должен сопровождать шпиона, Линда Николаевна была слегка уязвлена. Но она не ведала, во-первых, о подлинном назначении «Спидолы», во-вторых, о начинке батареек, в-третьих, о маленьком фотоаппарате и маленьком пистолете, лежащем у Брокмана в кармашке на «молнии», вделанном в большой брючный карман. Десятизарядная обойма этого пистолета снаряжена патронами, в которых вместо обычных пуль были короткие, оперенные стрелки диаметром в обыкновенную швейную иглу. Они решили, что питаться Брокман будет только дома — никаких столовых и ресторанов. Линда Николаевна сказала, что еще не разучилась готовить мясные блюда по рецептам одного незабвенного Друга, любившего и умевшего поесть. Так начался непродолжительный карантин Брокмана-Никитина в доме Линды Николаевны Стачевской. За пределы сада он не выходил. Так как хозяйка сказала, что в его выговоре чувствуется легкий акцент, он решил с посторонними не беседовать. Ему хотелось бы не знакомиться ни с кем, но это было трудно, потому что сад, как сказано, принадлежал на равных правах двум хозяевам и не имел перегородки, а соседи, жившие за стеной, были людьми общительными. Правда, Линда Николаевна устроила так, что дети не донимали нового жильца расспросами и даже перестали ходить на цветные передачи. По вечерам Брокман слушал радио. Он брал приемник, ложился на кушетку и вставлял в ухо маленький наушник, чтобы не мешать Линде Николаевне, которая в гостиной смотрела телевизор. За завтраком, обедом и ужином они разговаривали. Линда Николаевна рассказывала кое-что из своей богатой событиями жизни или отвечала Брокману, который расспрашивал ее о пустяках, касавшихся повседневного быта. Раз они заговорили об окрестностях города, так сказать, о памятных местах и достопримечательностях. Но ничего примечательного в ближней округе не имелось, и тогда Брокман поинтересовался, куда граждане ездят в выходные гулять. Линда Николаевна рассказала о селе Пашине на берегу Клязьмы. Там на много километров тянется глухой лес, а за лесом лежат обширные, плоские, как бильярдный стол, поля — это бывшие торфяные разработки, ныне заросшие кустарником, а за ними дорога, а потом опять лес. До Пашина километров семь или восемь, ходит туда автобус от рыночной площади. И вот на следующий день, во вторник 23 мая, Брокман решил совершить первую вылазку — чтобы размяться, как он сказал. Линда Николаевна завернула в вощеную бумагу половину сваренной курицы, сделала несколько бутербродов и налила в термос крепкого чаю. Она хотела положить все это в свой старый кожаный портфель, но Брокман сказал, что с портфелем неудобно, и она дала вместительную клеенчатую сумку. Брокман взял с собой тяжелый железный секач, который Линда Николаевна употребляла для разделки мяса, а пока она ходила на кухню, он вынул из нижнего ящика стола коробку с батарейками и положил ее на дно сумки. «Спидолу» он тоже взял. Полдень застал Брокмана в районе села Пашина, на опушке густого леса, километрах в полутора от шоссе. Секачом он снял верхний слой земли в развилке между корнями стоящего особняком дуба, вырыл глубокую ямку и положил в нее коробку с батарейками. Потом засыпал, уложил дернину на место, оставшуюся землю собрал на газету, отнес в сторону и разбросал. Сколько он ни смотрел, разыскивая им самим только что заложенный тайник, никаких следов обнаружить не смог. Он сфотографировал несколько раз дуб и подходы к нему. Отойдя от дуба подальше, он сел в тени, съел курицу, запил чаем из термоса и пошел по шоссе. Двухчасовой автобус привез его в город. Больше Брокман ни разу не покидал дом Линды Николаевны. По-прежнему они вечерами занимались каждый своим любимым делом — она смотрела телевизор, он слушал радио, а за завтраком, обедом и ужином разговаривали о том о сем. Однажды зашла речь о городе К., и Брокман спросил, нет ли там у Линды Николаевны родственников или друзей. Нет, таковых не оказалось. У нее нигде не было родственников, все давно умерли, а друзей она не заводила. Тогда Брокман попросил объяснить, как можно на два-три дня устроиться с жильем в городе К., если человек не хочет идти в гостиницу. Линда Николаевна не была специалистом по этой части, но высказала предположение, что лучше всего потолкаться возле какой-нибудь гостиницы, там наверняка бывают люди из местных жителей, сдающих комнаты приезжим, так как в гостиницах любого города во все времена года постоянно висит табличка «Мест нет», и это служит газетным фельетонистам дежурной темой. Из разговора Линда Николаевна поняла, что ее Иван (у нее, между прочим, язык не поворачивался называть Брокмана Иваном, и она утешала себя тем, что это, без сомнения, не его настоящее имя) не будет вечно сидеть в четырех стенах. Движение наметилось в субботу, 27 мая. Вечером, как всегда, Брокман через наушник слушал радио, а Линда Николаевна смотрела телепередачу. По окончании программы «Время» она выключила телевизор и пошла на кухню — ей захотелось чаю. Тут же к ней присоединился и Брокман. Электричества не зажигали — еще горели над городом малиновые отсветы заката. Лицо Линды Николаевны в этом мягком, рассеянном, не дающем теней свете выглядело молодым, и Брокман вспомнил ее портреты, которые ему показывал Монах. Он попросил ее прикрыть окно. Потом сказал: — Завтра вам придется съездить в Москву. — С удовольствием, — согласилась Линда Николаевна. По тону Брокмана она чувствовала, что начинается нечто серьезное, и обрадовалась. — Вы знаете Большую Бронную улицу? — Конечно. Он назвал номер дома и продолжал: — Войдете в подъезд. Там внутри над дверью, на уступе, будут лежать ключи. Возьмете их. — И все? — весело удивилась Линда Николаевна. Она и в самом деле была готова к чему-то трудному, даже отчаянному. Брокман не разделял ее повышенного настроения. — Надо очень осторожно, — сказал он. — Возьмите сначала такси, покатайтесь. Оглядываться не обязательно, но проверьте, чтобы никто за вами не шел. — Вряд ли будут за мной следить. Я четверть века сижу в норке тихо-тихо. — Я говорю про обратный путь тоже. Чтобы от дома на Большой Бронной за вами никто не пошел. — Понимаю. Вот таким образом Линда Николаевна послужила дополнительным предохранителем в цепи, так старательно оберегаемой от короткого замыкания. Она привезла Брокману три ключа, завернутых в какую-то записку. Это было в воскресенье. А в понедельник, 29 мая, он велел ей отправиться в Москву и купить для него билет на поезд до города К. Линда Николаевна сказала, что можно взять и на самолет, хотя там тоже придется постоять в очереди, но Брокман настаивал на поезде, не объясняя при этом, что услугами Аэрофлота, который своих пассажиров обязательно регистрирует по паспорту, ему пользоваться нельзя. Сезон летних отпусков уже набрал силу, и в железнодорожных кассах столицы было вавилонское столпотворение. Линда Николаевна уехала в девять утра, а вернулась в девять вечера с билетом на скорый поезд на 4 июня. Она нашла Брокмана встревоженным и недовольным. Оказывается, без нее приходил какой-то человек. Брокман был в своей комнате, когда услышал, как хлопнула калитка. Он знал, что у соседей в это время пусто — взрослые на работе, дети с утра убегают на речку, потому что стоит сушь и жара, а в пионерлагерь они уедут в июне. Мужской голос негромко позвал: «Линда Николаевна! Линда Николаевна!» А потом, не дождавшись ответа, этот человек пошел в обход и по пути заглядывал в окна. Увидев наконец Брокмана, он поздоровался и извинился за вторжение. Вижу, говорит, все окна настежь, а никто не откликается. Поэтому решил посмотреть, не в саду ли хозяева. Когда Брокман сказал, что Линда Николаевна уехала по делам в Москву, человек просил передать, что приходили из редакции городской газеты. Одна машинистка у них в отпуске, другая заболела, так они хотели узнать, не выручит ли Линда Николаевна. Ничего необычного в этом не было. К ней обращались с подобными просьбами не первый раз и не только из редакции — нехватка машинисток в последние годы сделалась хронической. Но этот довод не убедил Брокмана. Ему показалось, что посланец редакции был излишне любопытен — совал нос со двора во все комнаты, будто что искал. Это тоже было естественно — ведь он искал ее. Линда Николаевна попросила описать внешность приходившего. Приметы не совпадали ни с кем из тех, кого она знала в редакции. Вот почему эту ночь оба они, хозяйка и жилец, спали плохо. А наутро, не помыв даже посуду после вялого завтрака, Линда Николаевна отправилась в редакцию. Ответственный секретарь встретил ее как избавительницу. Да, да, они посылали к ней с нижайшей просьбой помочь и надеются, что она, как всегда, выручит их в трудную минуту. «А я думаю, кто же это приходил, — между прочим заметила она, — как будто незнакомый кто-то». Да нет же, это их старый заведующий хозяйством, которого Линда Николаевна прекрасно знает. Просто он два месяца как бросил курить и вот поправился, растолстел так, что ни одна одежда не лезет, весь гардероб менять надо. Линда Николаевна взяла кипу рукописей и ушла, обещав отстучать все к завтрашнему утру. Ее рассказ о походе в редакцию успокоил Брокмана. Линда Николаевна, прибравшись в кухне, села за свою бесшумную электрическую машинку с широкой кареткой. 4 июня им предстояло расстаться ненадолго — на три-четыре дня, как уверял Брокман. Поезд отправляется из Москвы в 21.40. …В воскресенье, 4 июня, Брокман выехал в город К. Он взял старый кожаный портфель Линды Николаевны, в который положил «Спидолу».ГЛАВА 20 Три листа ученической тетради
Последние полгода Николай Николаевич Нестеров был занят тем, что он называл своим основным фондом, то есть чисто научной работой. Ради этого он даже отошел на время от преподавательской деятельности, которую очень любил, и попросил на целый семестр освободить его от лекций. Проблема, которая не давала ему покоя вот уже лет десять и за решение которой он то брался вплотную, то, почувствовав тщету очередной попытки, откладывал до лучших времен, — эта проблема наконец-то начала ему раскрываться, и он, с головой захваченный поиском наиболее экономных решений, ведущих к цели кратчайшим путем, работал почти как в лучшие свои годы, вновь ощущая прежнюю одержимость. Его мысль и дух жили самой полной жизнью. Естественно, все это было глубоко внутри, в герметично упакованном вместилище мысли. И так же естественно, что, целиком поглощенный этой внутренней работой, Николай Николаевич совершенно не вникал в происходящее вокруг. Он не всегда внимал даже голосу жены, приглашавшей к обеду. Тем не менее, когда Ольга Михайловна рассказала мужу, что произошло с подругой их дочери, Николай Николаевич испугался. — Боже, какое несчастье, — сказал он. — Но почему это случилось именно с ней? Такая славная девочка… — Все они славные, — отрезала Ольга Михайловна. — Лучше посмотри-ка сюда. — Она жестом разгневанных трагедийных героинь указала на середину комнаты, где на полу аккуратно были разложены кофты, юбки, платья, шарфы и прочие предметы женского туалета. Разговор происходил в комнате Галины, которая в данный момент отсутствовала, вызванная в милицию. А перед тем Ольга Михайловна произвела генеральный осмотр всей квартиры, в том числе и кабинета Николая Николаевича, чего он и не заметил, и извлекла из шкафов, столов и секретера вещи, спрятанные дочерью от ее глаз. Николай Николаевич поправил очки, посмотрел, следуя указующему персту жены. — Прости, моя дорогая… Это какие-то образцы. Тут Николай Николаевич наконец уразумел, что жена по-настоящему взволнована, она даже перестала контролировать мимику своего лица. — Глупец! Это наряды твоей обожаемой дочери. — Ну и что же? Она хочет их выбросить? — Кажется, это я их выброшу. — Не понимаю, дорогая… Какая связь? Ольга Михайловна сделала глубокий вдох и спросила более спокойно: — Не ты ли покупал ей эти дорогие тряпки? — Помилуй, ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в дамском конфекционе. — Ну да, ты просто даешь ей деньги. Тайком от меня. И вот результат. — Если девочке нравится одеваться получше… гм-гм… поразнообразнее, что ли… по-моему, нет ничего предосудительного… Ты сама… — Не обо мне речь, — остановила его Ольга Михайловна. — Ты слепец. — Почему ты так сердишься? — Почти все это я нашла у тебя в кабинете. Она прятала от меня. Тебе это нравится? — Но сделай одолжение, объясни, пожалуйста… Ведь ты говорила об этой бедняжке… Как соотнести одно с другим? — Скажи честно, ты знал об этом складе у тебя в кабинете? — Впервые вижу. — Значит, она скрывала и от тебя. — Ольга Михайловна прикусила губу и задумалась. Потом продолжала упавшим голосом: — Значит, все это еще хуже, чем я думала. — Но что хуже и что ты думала? — искренне озабоченный, спросил Николай Николаевич. — Когда все чисто, человеку нечего скрывать. Я давно подозревала, что Светлана затянула нашу дочь в какие-то свои темные делишки. Она же торговый работник. Вот и доторговалась. — Ольга Михайловна встала, нервно хрустнула пальцами и прошлась вдоль стены. — А наша-то растяпа! Скотина безрогая! — Помилуй, Оля, зачем же ты так? — Николай Николаевич всегда смущался, если его супруга в сильном расстройстве вдруг забывалась и помимо воли употребляла лексикон своих молодых лет, когда она еще не обручилась с ним, академиком Нестеровым. — Ты все сюсюкаешь, а тебе бы выпороть ее вожжами — был бы прок. — Но у нас в доме нет вожжей, — стараясь вернуть ее из сферы несбыточных пожеланий на рельсы реального, мягко сказал Николай Николаевич. — Ты считаешь, тут какая-то криминальная история? — Наше счастье, если не так. Галина сама ни на что такое не способна, но откуда нам знать, чего там натворила эта Сухова Светлана? Я только уверена — эти проклятые вещички скомбинировала она. Ольга Михайловна, будучи не совсем справедливой по отношению к Светлане Суховой, и не подозревала, насколько в общем-то была близка к истине, ставя в связь лежавшие на полу дорогие наряды и несчастье, случившееся со Светланой, несчастье, поставившее семью Нестеровых в совершенно неподобающее положение — вплоть до того, что их дочери оказывает специальное внимание уголовный розыск. А если бы ей был известен подлинный источник всех этих модных тряпок, у нее, вероятно, разыгралась бы мигрень, от которой мог бы расколоться земной шар, не говоря уже о ее слабой, многострадальной голове. — Ты намерена их выбросить? — высказал догадку Николай Николаевич, кивнув на вещи. — Хочу облегчить работу милиции. — Неужели дело зашло столь далеко? — Во всяком случае, пока мы тут рассуждаем, наша тихоня дает показания в угрозыске. Могут и с обыском прийти. Видя, что муж взялся рукой за сердце, Ольга Михайловна побежала в спальню и принесла из своей замечательно богатой аптечки валидол. Отвинчивая крышечку, она мимоходом (мысленно) похвалила себя за то, что благоразумно не сообщила мужу о перстне, принесенном однажды Галиной и купленном за смехотворно недорогую цену. Этот перстень она швырнула сегодня дочери под ноги, приказав отдать прежней владелице «за так», без возврата денег, чтобы и духу его в доме не было. Николай Николаевич от валидола отказался. Справившись с минутной слабостью, он спросил: — В чем ее обвиняют? — Ни в чем, не волнуйся, — поспешила успокоить Ольга Михайловна. — Им же надо побеседовать с Галиной. Как-никак лучшая подруга. Сделать тебе кофе? — Да, пожалуй. Но ты уверена? — Она скоро вернется. Этот следователь, что звонил, сказал: на час, не больше. Не будем терзать себя напрасно. Придет — расскажет. Не она же ударила Светлану. — Но, может быть, нам надо поговорить с милицией? Раскрыть им облик нашей дочери… — Посмотрим, чего они хотят. Если начнутся придирки, тебе придется вмешаться, а вообще нам надо немедленно уехать. Николай Николаевич виновато развел руками. — Но это так некстати… У меня много начато… — Я говорю о нас с Галиной. Ты можешь не ехать. — Ты имеешь в виду Алушту? — Конечно. Возвращение Галины после ее беседы с Орловым и Семеновым уже само по себе возымело успокаивающее действие на встревоженных до крайности родителей. А сообщение о том, что милиция вовсе не против ее отъезда в Крым, вернуло им душевное равновесие — если не в полной мере, то в значительной. Вопрос с отъездом был решен немедля. Надо было кое-что сделать, кое-что купить, поэтому отъезд назначили на субботу, 3 июня. Николай Николаевич позвонил своему секретарю и попросил купить два билета на самолет. Ольга Михайловна велела Галине уложить валявшиеся на полу вещи в старый чемодан и поставить его в темную комнату-кладовку (окончательную их судьбу она собиралась определить и объявить после), а сама сходила к Васе — так они называли Василису Петровну, старую няню Галины и домработницу, — которая по случаю приезда к ней в гости собственного сына с семьей из Смоленска взяла себе отпуск. Добрая Вася согласилась дважды в неделю захаживать на квартиру для готовки и уборки, чтобы Николай Николаевич не одичал на холостяцком раздолье. В субботу, 3 июня, Ольга Михайловна с дочерью улетели в Крым утренним симферопольским самолетом. Николай Николаевич, с плохо скрываемым удовольствием проводив их, эгоистически предвкушал, как продуктивно сумеет он использовать свое благословенное домашнее одиночество. Но все его виды на покой рухнули в тот момент, когда он, приехав из аэропорта, клал в свой маленький несгораемый ящик, встроенный в секретере, незаметно переданный ему дочерью перстень. Галина ничего ему не смогла объяснить в присутствии повышенно бдительной матери, шепнула только: «Спрячь, пожалуйста». И он считал себя обязанным свято исполнить просьбу, не вдаваясь в причины, побуждавшие его дочь отдать ему на хранение драгоценную безделушку. Ему доверена тайна и дело его чести блюсти ее. Он бы презирал себя, если бы мог рассуждать иначе. Он не успел закрыть ящик, когда зазвонил телефон. Очень вежливый голос сказал: — Это Николай Николаевич? — Да, слушаю. — Извините, что беспокою. Меня зовут Павел Синицын. Я работаю в Комитете госбезопасности. Николай Николаевич хотел сказать «очень приятно», но счел это вычурным, не подходящим к случаю. Он сказал: — Чем могу быть полезен? — Мне нужно с вами встретиться. Вы сейчас свободны? — В данный момент да. — Разрешите мне прийти? — Конечно, прошу вас. — Я буду через пятнадцать минут. Положив трубку, Николай Николаевич подумал, что отменная вежливость этого молодого, судя по голосу, человека не мешает ему быть настойчивым. Потом он подумал, что этот звонок непременно имеет какое-то отношение к печальной истории Светланы. Когда Николай Николаевич открыл дверь и увидел перед собой действительно молодого человека, глядевшего на него внимательными голубыми глазами и ждавшего приглашения войти, приготовленный им официальный тон как-то не получился. Он сказал просто, по-домашнему: — Вы ведь Павел Синицын? Прошу, прошу. Павел улыбнулся, вошел, сам прикрыл дверь и сказал: — А вы открываете настежь и даже не спрашиваете кто? — Но я ждал вас, — возразил Николай Николаевич. — Идемте сюда. Павел следом за хозяином прошел в гостиную, спросил на ходу: — Квартира у вас не заблокирована? — Что? — не понял Николай Николаевич. — Я говорю, к автоматической сигнализации не подсоединена? — Аа-а… Нет, представьте себе. Всегда кто-нибудь дома. — Ну и хорошо, — отметил Павел. Николай Николаевич показал на кресла у низенького столика. Но, прежде чем сесть, Павел протянул ему свое служебное удостоверение. — Хоть вы и не спрашиваете у меня документов, но все-таки поинтересуйтесь. — Ну что ж, из чистого любопытства, так сказать… — Николай Николаевич подержал книжечку в руках и вернул Павлу. — Никогда не видел ваших удостоверений. Следуя примеру хозяина, Павел сел и весело сказал: — Знаете, Николай Николаевич, можно смело утверждать: если бы существовало всесоюзное общество беспечности, вы могли бы в нем занимать пост президента. Ну, на худой конец — вице. Оценив шутку, Николай Николаевич рассмеялся, но он понимал, что сказано это не из одного желания пошутить. Он всегда с глубоким уважением относился ко всем без исключения людям, исполняющим свой профессиональный долг, о какой бы профессии ни шла речь, и никогда не позволял себе ни малейшего пренебрежения к вещам, в которых сам был дилетантом. Он вообще не делил людей по признаку образования или занятий, не видел никакого принципиального различия между, скажем, физиком-теоретиком и человеком, делающим табуретки. И тот и другой может быть настоящим работником или шарлатаном. Шарлатанов Николай Николаевич не считал нужным даже презирать, они для него были пустым местом, дыркой от бублика, он называл их сокращенно РВД, что значило «рыцари вечного двигателя». Сейчас Николай Николаевич чувствовал, что разговаривает с человеком, относящимся к своему делу серьезно. Поэтому он счел всякие околичности неуместными. — Итак, чем я могу быть вам полезен? — Нам с вами надо многое обсудить. Разрешите покороче? — Чем короче, тем лучше. — Но сначала я все же сделаю общее заявление, — снова улыбнувшись, сказал Павел. — Необходимо, чтобы вы знали: мы действуем в наших общих интересах. — Не сомневаюсь. — В таком случае я буду предельно откровенен, но если вам покажется, что я о чем-то умалчиваю, не осуждайте. — Я все пойму, не беспокойтесь. — Я знаю, ваша жена и дочь улетели сегодня в Крым. Но ведь у вас есть домработница? — Вася? Она взяла отпуск. Оля условилась, Вася будет приходить дважды в неделю. — Желательно это отменить. Вы можете ей сказать, чтобы она не приходила? — Могу, конечно, но она меня не послушает, — убежденно заявил Николай Николаевич. — Хорошо, можно, я сам поговорю с ней? Где она живет? Николай Николаевич сходил в спальню, принес записную книжку жены, отыскал адрес Василисы Петровны. Павел переписал его и продолжал: — Теперь два главных дела. Вы сможете уехать из города, Николай Николаевич? Как вы на это смотрите? — Не хотелось бы, — признался Николай Николаевич. — Я думаю, это ненадолго. Вам ведь для работы никаких приборов не требуется? — Кроме головы, — проворчал Николай Николаевич. — А далеко ли ехать? Павел, поняв, что с этим щекотливым делом все в порядке, обрадовался. — Тут рядом, километров пятьдесят. Там прекрасные условия. Никто не помешает вам работать. — И когда же? — Прямо сегодня. Крайний срок — завтра. Но лучше сегодня. Николай Николаевич покачал головой. — Однако! — Хорошо, можно завтра. Вы уж простите. Но это совершенно необходимо, уверяю вас, — горячо произнес Павел. — Мы не стали бы вас так настойчиво беспокоить, если бы имели другую возможность. — Понимаю. Но мне надо собраться… — Лишнего не берите. Как в короткую командировку. — Когда вы перешагнете за шестьдесят, ни одна командировка не покажется вам короткой, — меланхолически заметил Николай Николаевич. — Но как все это организуется? Что будет с квартирой? Меня же супруга подвергнет жесточайшему остракизму. Тут все мхом зарастет… — Не беспокойтесь. Вася после постарается. Супруга ваша еще не скоро, наверное, вернется. А за квартирой будет хороший надзор, замков никто не взломает. — Надеюсь. А как мне ехать? — Вас отвезут и привезут. И я уверен — это совсем ненадолго. Может быть, на несколько дней. — Уговорили. Что еще? Павел вздохнул. Была у него такая неконтролируемая привычка или, лучше сказать, условный рефлекс: приступая к трудному вопросу, он набирал полную грудь воздуха, словно готовился к глубокому погружению. Сейчас был именно такой ответственный момент. — Скажите, Николай Николаевич, работа, которой вы сейчас занимаетесь, еще далека от завершения или ее можно считать в основном готовой? — Вы знакомы с физикой, с математикой? — Только в пределах школы. — Тогда вы ничего не поймете. — Но в общих чертах — на каком вы этапе? — На всех сразу. — Николай Николаевич, когда дело касалось его работы, даже с коллегами не любил рассуждать «в общих чертах». Он не считал нужным смягчать тон, если сознавал бесполезность разговора. Однако Павел был к этому готов. Он объяснил: — Нам известно, что вы нашли важные решения. Но их еще недостаточно, чтобы решить проблему в целом. Вам еще много остается? — Вопрос наивный. Даже и не дилетантский. Не вдавайтесь в существо моих занятий. Лучше скажите, что от меня требуется. Начните с другого конца. Павлу не оставалось ничего много, как признать свою оплошность. Сам же хотел говорить покороче… — Вы правы. Извините, дальше постараюсь без предисловий, но одно сказать должен: вашей работой интересуется одна из иностранных разведок. Настолько, что к вашей квартире подобрали ключи. — Поэтому я и могу быть абсолютно за нее спокоен? — в свою очередь, пошутил Николай Николаевич. — Во всяком случае, замки останутся в целости, это большое благо. — Так что же дальше? — Мы должны снабдить их материалами, которые они хотят получить. — То есть? — Несколько формул, написанных вашей рукой. Вы ведь и дома работаете? — И дома, и на улице. Везде. Но я не оставляю записей вне института. — Насчет записей он был не совсем точен, он не придавал этому особого значения. — Можно и оставить, — сказал Павел. Николай Николаевич нахмурился и, подумав немного, спросил: — Ложные? — Да. Но нельзя, чтобы это выглядело грубо. Необходимо сделать в формулах ошибку, которую трудно обнаружить. Она должна выглядеть естественно. Во всяком случае, допустимо. Знаете, как иногда встречаются в газе-ЯД те ошибки в шахматных нотациях? Смотришь партию — на тридцать восьмом ходу она кончается, черные сдались ввиду неизбежного мата. Начинаешь разбирать на доске, делаешь ходы аккуратно, как написано в нотации, а никакого матового положения кет. Оказывается, на тридцать пятом ходу конь белых с эф четыре должен делать ход же шесть, а не е шесть, как указано в газете. Опечатка. Но в принципе-то конь может и так и этак ходить. Понимаете? — Мастер быстро найдет ошибку, — скептически заметил Николай Николаевич. — Наверное, я взял неудачный пример. В ваших разработках можно ошибиться тоньше. — Это не так-то легко, если задано правильное направление. — Но все-таки возможно? Николай Николаевич, вероятно, уже прикидывал, как это сделать. Он смотрел мимо Павла и, кажется, не слышал его последних слов. Подождав, Павел повторил: — Вы считаете, это возможно? Николай Николаевич сердито взглянул на него. — А вы умеете ездить на велосипеде? — Вообще да. — А если бы вам предложили изобразить неумеющего, что бы вы стали делать? — Не знаю. Скорей всего упал бы. — Вот то-то. И это было бы ненатурально. Только клоуны умеют падать натурально. Это такое же настоящее искусство, как умение плясать на проволоке. — Вы хотите сказать… — Я говорю, притвориться заблуждающимся, когда знаешь истину, совсем не просто. Сделать то, что вы предлагаете, можно. Но это потребует времени. — Но суток довольно? — Не знаю. Надо постараться. — Надо, Николай Николаевич. — Если у вас ко мне все, давайте условимся, как вы меня завтра увезете, и я бы занялся делом. — Но это еще не все, Николай Николаевич. У вас в квартире есть какой-нибудь тайничок? Ваш личный? — В секретере есть несгораемый ящик. Но это не тайничок. — Разрешите взглянуть? Они пошли в кабинет. Николай Николаевич открыл ящик. Там лежали две ученические тетрадки. Он покашлял в кулак, вспомнив собственные слова относительно рабочих записей. Но Павел сделал вид, что не догадывается, чем вызвано это застенчивое покашливание. На перстень он вроде не обратил внимания. — Вы всегда пользуетесь такими тетрадками? — спросил Павел. — Давняя привычка. — Эти тетради, наверное, лучше отсюда забрать. — Да, пожалуй. — Но то, что мы завтра сюда положим, должно быть с гарниром. Иначе ненатурально получится. — Павел покосился на Николая Николаевича. — Извините, пользуюсь вашей терминологией. — У меня в институте найдутся безобидные черновики. — Хорошо бы их взять. — Вот видите, опять время… — Ухожу, Николай Николаевич, ухожу, — заторопился Павел. — Буду у вас завтра в три, то есть в пятнадцать ноль-ноль. Провожая его до дверей, Николай Николаевич словно вдруг вспомнил невзначай: — Да, что я хочу вам сказать… Павел, уже взявшись за дверную ручку, обернулся. — Слушаю, Николай Николаевич. — Возможно, мне только показалось… Когда вы говорили о беспечности, ведь вы вкладывали более широкий смысл, чем следует, так сказать, из вашего контекста? Павел уже забыл, когда и по какому поводу он говорил о беспечности, потому что прошедший час был посвящен конкретному делу, слишком для него важному, чтобы помнить о каких-то привходящих моментах. Но по лицу хозяина квартиры он видел, что для него это не второстепенно. — А какой был контекст? — спросил Павел, уже догадываясь, что имеет в виду Николай Николаевич, отец Галины Нестеровой, подруги Светланы Суховой. — Вы упрекнули меня, что я не потребовал у вас документа. — Это чисто нервное, Николай Николаевич. Я, когда шел к вам, очень волновался… Сомнения разные одолевали… Неуверенность… Ну, хотелось как-то самоутвердиться. А человек лучше всего самоутверждается как? Когда других уму-разуму учит. Правда? Павел опять облек все в шутливую форму, однако Николай Николаевич и на этот раз ощутил скрытый укор себе. Он сказал: — Я ценю ваш такт. Не хотите читать мне мораль в моем собственном доме. Но не притворяйтесь и не убеждайте, будто вы не считаете меня старой размазней. — Он замахал руками, видя, что Павел хочет что-то возразить. — Да-да, так оно и есть. Кормлю, одеваю, балую, а чем дышит родная дочь — не ведаю. И самое постыдное — ведать не хочу, потому что хлопотно. Мешает. Недосуг. Этот взрыв самоуничижения не удивил Павла. — Не расстраивайтесь, — сказал он. — Что случилось — случилось. Дочь ваша — человек неиспорченный. А уроки всем пригодятся. — И, искренне желая поправить Николаю Николаевичу настроение, весело сказал: — Ничего, жизнь идет! А я, честное слово, о беспечности просто так сказал, ни на что не намекая. — Вы когда-нибудь расскажете мне всю правду? — серьезно спросил Николай Николаевич. — Обязательно! Не думайте сейчас об этом. Вам работать надо. — Работа, работа… Что работа?! Глупец я, как скажет моя жена… На следующий день, в воскресенье, 4 июня, Павел приехал, как говорил, в три часа. — А я, знаете, совсем не готов, — объявил Николай Николаевич, едва они поздоровались. Павел испугался: — Не написали? — Я не про это. Надо же собраться. — Ох, Николай Николаевич, хорошо, у меня сердце здоровое, а то ведь не ровен час… Где ваша тетрадка? — Может, у вас уже и руки дрожат? — иронически осведомился Николай Николаевич. — Вы, молодой человек, теряете свое достоинство. — Совершенно верно. Но исправлюсь. Разрешите посмотреть тетрадку. Николай Николаевич повел его в кабинет. Ученическая тетрадь в серенькой обложке лежала на столе. Павел взял ее. Тетрадь была в линейку. Три первые страницы усеяны цифрами и математическими знаками. Кое-где строчки зачеркнуты и перечеркнуты. Есть даже две кляксы. — Это получилось очень натурально, — сказал Павел, показав на кляксу. Николай Николаевич поморщился. — Вы меня переоцениваете. Это неумышленно, просто плохие чернила. Я ведь работаю по старинке, перышком. На столе действительно стоял прибор с двумя мраморными чернильницами, и в них были налиты фиолетовые чернила. Прибор был весь в медно отсвечивавших засохших пятнах. — Все равно хорошо, — сказал Павел. — Теперь сделаем так… Дайте ключ. Николай Николаевич подал ему свои ключи на железном колечке. Ключ от несгораемого ящика выделялся в этой компании тем, что был латунный и фигуристый. Павел снял его с колечка и сказал: — Вы ведь не хотите, чтобы сейф взломали? — Ну какой же это сейф… — Все-таки жалко. Значит, делаем так… — Павел открыл ящик. Там лежали отдельные листки, вырванные из тетради в линейку. Вчерашних тетрадей уже не было. Показав на листки, Павел спросил: — А гарнир подходит к основному блюду? — Вполне. — И ничего ценного? — Обыкновенные расчеты. Павел положил тетрадку поверх листов, запер несгораемый ящик и поднял крышку секретера. — А ключик спрячем сюда. — Он открыл средний ящик стола, в котором были старые блокноты, футляры от очков, карандаши, сломанные брелоки и прочая не подлежащая учету мелочь, и положил ключ в правый дальний угол. Потом задвинул ящик и сказал с сомнением. — А если не найдет? — По-моему, эту железную шкатулку в секретере можно открыть зубочисткой, — сказал Николай Николаевич. — Я бы только крышку у секретера все же не закрывал. — Вы правы, — согласился Павел и открыл крышку. — Но будем надеяться, что ключик все-таки найдут. Стол не запирается? — Как видите. Покончив с этим делом, Павел помог Николаю Николаевичу собрать в чемодан все необходимое, и они спустились к ожидавшей их машине. Павел сказал, что менее чем через час они будут на месте.В понедельник, 5 июня, Брокман приехал в город К. Поезд прибыл без четверти девять. Проспав до восьми, Брокман все же успел и побриться, и выпить стакан предложенного проводницей чаю. Вагон он покинул последним. На привокзальной площади он сел в троллейбус, шедший до центра, и через двадцать минут сошел на остановке, что напротив почтамта. Потом постоял в очереди на такси. Взяв такси, попросил шофера ехать на вокзал, а с вокзала вернулся на троллейбусе в центр. Он проверял, нет ли за ним слежки, и ничего подозрительного не обнаружил. У него был разработан подробный план, но сначала нужно было как следует поесть, а между тем кафе и рестораны, мимо которых он проходил, еще не открылись. Тогда он решил заняться телефонной частью плана и отыскал на тихой улочке стоящую в тени старого отцветшего каштана будку автомата. Линда Николаевна снабдила его горстью двухкопеечных монет, и когда автомат проглотил безвозмездно три монеты, на первой же цифре включив сигнал «занято», Брокман пошел дальше и нашел другую телефонную будку. Сначала он набрал номер домашнего телефона Николая Николаевича. Никто не ответил. Он повторил звонок — с тем же результатом. Следующим был институтский телефон Нестерова. Женский голос сказал: — Алло, вас слушают. — Пожалуйста, Николая Николаевича. — Его нет, он в отпуске. Кто его спрашивает? — Я по личному делу. Скажите, Николай Николаевич уехал? Или он в городе? — Уехал. — А семья? — На такие вопросы не отвечаем. Извините. План Брокмана предусматривал и это. Оставив телефонную будку, он отправился в кафе, присмотренное раньше, — оно уже открылось. Брокман позавтракал плотно, с таким расчетом, чтобы до вечера не думать о еде. Правда, в портфеле у него был пакет с холодной курицей, бутербродами и свежими огурчиками, положенный Линдой Николаевной. Брокман всегда отводил пище одно из самых важных мест в своей рискованной жизни. Теперь, хорошо поев, можно было приступить к делу. Свернув с главной улицы, он пошел по переулку, потом свернул на улицу, ведущую к реке, и, отсчитав три перекрестка, на четвертом взял вправо, — он передвигался точно по чертежу, который выучил наизусть еще перед посадкой на лайнер «Олимпик», так же как и номер автомобиля, за баранку которого он собирался сесть. Автомобиль «Жигули» с номером КИЖ 37–64 должен стоять на площадке перед зданием, в котором располагается трест «Оргтехстрой», а здание это находится в переулке, по которому шагал сейчас Брокман. Между прочим, запомнить название треста ему оказалось гораздо труднее, чем номер машины. Переулок сделал крутой изгиб, и Брокман увидел слева за невысокой железной оградой с широким незакрывающимся проемом трехэтажное серое здание. Перед ним была прямоугольная асфальтированная площадка, а на ней — разноцветные автомобили. Брокман сосчитал — семь штук. Синие «Жигули» с номером 37–64 стояли в дальнем углу. И выезду других машин не мешали. Брокман сначала вошел в дверь, по обеим сторонам которой массивные вывески извещали золотом по черному, что именно здесь располагается «Оргтехстрой». В вестибюле несколько человек стояли у открытого окна и курили, разговаривая вполголоса. Они не обратили на него внимания. Вдохнув кисловатый запах почтенного учреждения, Брокман тут же повернул обратно, подошел к автомобилю с готовым ключом в руке, открыл дверцу, положил портфель на заднее сиденье и сел за руль. Пошарив пальцами позади себя в щели между спинкой и сиденьем, нашел ключ зажигания, завел мотор, посмотрел на приборную панель. Бензина полный бак. Ветровое стекло сильно запылилось. Брокман достал из ящичка на панели (который, как учил его Михаил Тульев, называется у советских автомобилистов бардачком) доверенность на вождение автомобиля, а потом взял кусок старой замши, вышел, протер стекло. Затем нашел в машине щетки дворников, поставил их. И только после этого выехал с площадки в переулок. Он по справедливости считал себя первоклассным водителем. Ему приходилось ездить на машинах самых разных марок (к «Жигулям» он три дня приноравливался в разведцентре перед поездкой сюда). Но он давно усвоил правило, что в незнакомом городе каждый человек за рулем должен вести себя как новичок, строго соблюдать правила дорожного движения, а главное — ни в коем случае не превышать скорость. Брокман поехал сначала к реке, потом повернул в центр, съездил к вокзалу, потом к рынку, опять в центр и наконец к дому академика Нестерова. Не выходя из машины, он оглядел все подъезды к дому, все подходы. И поехал на другой конецгорода. Остановившись у телефона-автомата, он позвонил на квартиру Нестеровых. Трубку не поднимали. Брокман сел за руль, закурил и тихо покатил по длинной улице, выводящей за город. Была половина второго, солнце только-только начало склоняться на запад и пекло очень сильно. Хотелось в тень, и Брокман решил поискать на окраине что-нибудь вроде парка или рощи. Улица привела его к реке, и он увидел вдали висящий над водой мост, по которому двигались люди и автомобили. Противоположный берег был лесистым, а за грядой округлых крон поблескивали на солнце раскиданные по широкому полю маленькие озерца. Брокман направился к мосту, переехал по нему, свернул на узкий асфальтовый развилок и минут через пять очутился в прекрасной дубраве. Вековые деревья стояли редко, а между ними на свежей изумрудной траве отдыхали люди. Было много детей. Проехав дальше, Брокман увидел на полого спускающемся к воде берегу густые заросли орешника, а в нем тут и там туго растянутые палатки и автомашины с распахнутыми дверцами. В одном месте дымил костерок, и возле него, отмахиваясь от дыма, сидела на корточках женщина в купальнике, помешивая ложкой в закопченном котелке. В стороне над кустами взлетал и опускался волейбольный мяч. Брокман съехал с дорожки и выключил мотор. С пляжа слышались веселые крики, плеск воды. Негромко играла музыка — у кого-то в машине был включен приемник. Вид палаток навел Брокмана на счастливую мысль. Ему придется ночевать в этом городе, а воспользоваться советом Линды Николаевны — насчет того, чтобы потолкаться возле одной из гостиниц и найти кого-нибудь из местных жителей, сдающих комнаты командированным, — он считал нежелательным, во всяком случае, лучше бы обойтись без этого. А вот если бы у него была палатка, он мог бы устроиться в этом туристском городке, не прибегая ни к чьему посредничеству. Правда, можно и в машине переночевать, заехав куда-нибудь поглуше. Но палатка казалась предпочтительнее. Брокману не пришло в голову, что дотошный наблюдатель, увидев в этом междугородном стане автомобиль с номером города К., может удивиться: почему вдруг местный деятель решил ночевать по-цыгански? Да в общем эта непредусмотрительность особой опасности в себе не таила, потому что лагерь автотуристов раскинулся километра на полтора, и кому придет охота вникать в номера машин, если их тут не менее пятисот. Одобрив собственную идею, Брокман поехал в город с целью купить в магазине спортивных принадлежностей небольшую туристскую палатку. Палаток в магазине не оказалось — ни больших, ни маленьких. И продавец, флегматичный молодой человек, лениво заверил Брокмана, что он не найдет никаких палаток и в других магазинах. Взамен продавец посоветовал купить брезентовые чехлы для лодок — два последних, оставшихся еще не проданными. Из них при известном терпении можно сшить одиночную палатку, правда, без пола. Брокман шить палатку не собирался, поэтому купил чехол, рассудив, что он может послужить ему матрацем, а на случай дождя — крышей. В три часа он пообедал в тихом, малолюдном ресторане. А потом позвонил на квартиру Нестерова. По-прежнему никто не отвечал, и Брокман подумал, что он избавил бы себя от многих дополнительных хлопот, если бы осуществил намеченное сегодня же, не откладывая дальше. Однако благоразумие требовало осторожности. Пока что прошло всего пять или шесть часов с тех пор, как он первый раз позвонил на квартиру, в которую должен проникнуть. Хозяева могут уехать на один день, а к вечеру вернуться. Надо выждать хотя бы сутки — так будет надежнее. Начав рассуждать о предстоящем деле, Брокман испытывал нетерпение, а это в его положении никуда не годится. Нетерпеливый — значит торопящийся, а когда человек торопится, он действует непременно с ошибками. Ему, Брокману, следует настраивать себя таким образом, что, может быть, придется провести в этом городе не один день и даже не одну неделю. Все зависит от того, что обнаружит он в квартире Нестерова. Тихо катался он по окрестностям города. Медленно тянулось время. Чтобы оно не терялось даром, он старался заниматься наблюдением над дневной жизнью горожан, но это, во-первых, могло послужить ему, как говорится, только для общего развития, практической же цены не имело, а, во-вторых, он находился не в том состоянии, чтобы какие-то ничтожные подробности чужого быта могли отвлечь его от мыслей о предстоящем серьезном деле. Единственное, что немного развлекало его, — это причудливые порядки содержания автотранспорта в черте города. Машины парковались, занимая половину проезжей улицы. Никакой платы за стоянку, никакого контроля. А когда он пытался понять, каким образом машина, за рулем которой он сидел, могла безнаказанно, не привлекая ничьего внимания, неделями стоять на площадке перед государственным учреждением (а стояла она, наверное, не менее двух недель), — это оказалось выше его сил. Если бы даже ему растолковали, что в тресте «Оргтехстрой» владелец машины Кутепов не так давно работал внештатным юрисконсультом, это ничего бы ему не объяснило. В восемь часов вечера он позвонил Нестеровым — телефон молчал. Брокман поехал через мост в автотуристский лагерь, еще не затихший к тому времени. Поставив машину в облюбованном раньше месте — там, где он видел взлетающий над кустами волейбольный мяч, — он вышел и потянулся так, что хрустнуло в затекших плечах, и с удовольствием вдохнул свежий речной воздух. И вновь услышал удары по мячу и увидел сам мяч. Такое впечатление, что эти отчаянные любители весь день только тем и занимались, что играли без сетки вперекидочку. Вынув из портфеля припасы Линды Николаевны и разложив их на траве, он увидел, что мяч, сильно ударенный, летит по косой траектории в его сторону. Упал мяч в траву прямо у его ног и, отскочив, ударился о заднюю дверцу машины. Тут же из кустов выбежала тоненькая блондинка в ярко-красном купальнике. Когда она приблизилась, Брокман разглядел ее. Лет двадцати пяти, хорошенькая, глаза серые с голубым отливом. — Здравствуйте, — сказала блондинка. — Добрый вечер, — ответил Брокман. Она поглядела на разложенную еду и спросила, подняв с земли мяч: — Вы тут новенький? — Да вот, только что прибыл. — Всухомятку, значит? — Вон полна река воды. — Это опасно в наше время. Мы сейчас самоварчик поставили, у нас тут целая компания. Хотите — присоединяйтесь. И, пританцовывая на ходу, она ушла туда, откуда прилетел мяч. Чай был кстати — Брокману хотелось пить. И девушка была очень симпатичная и простая. Нет, никаких таких мыслей у него не возникало, хотя он давно тосковал по женской ласке. Это все будет потом, потом… Но он не видел причин отказываться от предложения, сделанного так непринужденно и непосредственно. Уложив еду в портфель, Брокман пошел по следам девушки. На небольшой поляне среди кустов стояла серая «Волга», около нее — белая палатка, маленькая, на одного человека, а перед палаткой на траве сидели вокруг попыхивающего самовара четверо — блондинка в красном купальнике, а с нею трое молодых людей, все по виду спортсмены, уже успевшие порядочно загореть. Поздоровались, познакомились. Имена мужчин Брокман не запомнил. Девушку звали Нина. Он присоединил свои запасы к их закускам. У них была и водка, но Брокман выпить отказался, сославшись на то, что завтра ему надо иметь ясную голову. Ему налили в большую фаянсовую кружку кипятку из самовара, а Нина предложила взять из жестяной банки пакетик для разовой заварки. Она распечатала опоясанную бумажной лентой коробку с мармеладом. Молодые люди выпили водки и с аппетитом начали есть. Брокман от них не отставал, хотя водки и не пил. Поглядев на «Волгу», он спросил у Нины: — Это ваша? — Да. — Вы издалека? — Ленинград. Первой буквой номера на машине была «Л». Закусив, все стали пить чай. И все, как и Брокман, брали пакетики для заварки и мармелад из коробки. Начинало темнеть, когда Брокман взял свой портфель и поднялся. — Ну, мне спать пора. Рано вставать. Спасибо вам большое. — На здоровье, — сказала Нина. — Завтра приходите, опять чайку попьем. Вернувшись к машине, Брокман расстелил брезент на траве, но тут же передумал. Он беспокоился за «Спидолу». Если лечь под открытым небом, а рацию оставить в машине — это рискованно: машину легко открыть, а мелкие воришки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, есть в любой стране. Положить «Спидолу» под брезент и спать на ней, как на подушке, — это тоже ненадежно. Поэтому Брокман решил спать в машине. Чтобы утром не иметь вид бездомного английского нищего, ночующего на скамье в Гайд-парке, он разделся до трусов, приспустил стекла, откинул спинку переднего сиденья, положил портфель со «Спидолой» под голову, укрылся лодочным чехлом и уснул под тихий плеск воды, доносившийся с пляжа. Проснулся он от птичьего гомона в половине пятого. И первое, что обнаружил — портфеля со «Спидолой» под головой у него не было. Пропала рация. Знакомый ветерок опасности дунул ему в лицо. На плохой сон он никогда не жаловался, но спать так крепко, чтобы не услышать, как у тебя из-под головы вынимают подушку, — на это он способен не был. Неужели та сероглазая дала ему в мармеладе снотворное? Значит, он давно на крючке? И ему таким способом дают понять, что его намерения относительно квартиры Нестеровых известны? Чепуха какая-то. В это он не мог верить. Брокман пошел на полянку, где они вчера пили чай. Машина и палатка стояли на месте. На кусте орешника были развешены красный купальник и лифчики сероглазой блондинки. Полог палатки был застегнут, но Брокман, заглянув в щелку, увидел спящую Нину. Он выбрался из кустов на берег. Река и пляж были еще пустынны, только какой-то поджарый старик делал зарядку в ста метрах от него. Брокман искупался. Вода была холодная, как раз такая, какую он любил и в какой ему давно не приходилось плавать. Выйдя на берег и обсохнув, он почувствовал облегчение. И ясно осознал, что надо доводить дело до конца, независимо от того, кто взял у него «Спидолу» — контрразведчики или случайный воришка. Он не допускал, что это контрразведка, — зачем так грубо работать на полпути? Когда плавки высохли, он оделся и поехал в город. В начале шестого позвонил Нестеровым из автомата неподалеку от их дома. Телефон по-прежнему молчал. И Брокман, повесив мерно сигналившую трубку, отбросил последние сомнения. Пришло время действовать. Машину, как было намечено вчера, он оставил у первого подъезда, ближнего к выезду со двора. Квартира № 57 была в третьем подъезде на третьем этаже. Брокман поднялся по лестнице не торопясь. Открыл один замок, другой — вполне спокойно, как будто уже не в первый раз приходил в эту квартиру. Тревоги он не боялся — ему было сказано, что никакой оградительной сигнализации тут нет. Войдя, запер оба замка и накинул цепочку. В квартире было душно. Он обошел комнаты, заглянул в кухню. По всем приметам, хозяева уехали недавно, но уехали не на один день: в двух комнатах кровати, шкафы и кресла были наглухо укрыты линялыми покрывалами явно не парадного назначения. Настенные часы в гостиной стояли. В кабинете Брокман снял пиджак, повесил на стул и приступил к тщательному осмотру. Прежде всего, конечно, стол и секретер. В секретере должен быть несгораемый ящик — вот он. Ключа от него заполучить не удалось, но его можно легко открыть. Однако нужно все-таки поискать ключ. Брокман хорошо был обучен делать обыски незнакомых помещений, не оставляя собственных следов. Минут через десять он нашел ключ от ящика. Прежде чем сфотографировать лежавшие в нем бумаги, он сделал два снимка самого ящика — с закрытой дверцей и открытой. Вроде того, как во время войны летчики для документальности фотографировали сначала сброшенные ими бомбы, летящие на цель, а затем эту цель после бомбежки. Он работал, можно сказать, без всякого волнения. Даже полюбовался обнаруженным в ящике перстнем и примерил его — он был в самый раз на его мизинец. На каждый отдельный листок он сделал по два дубля, а на три листа в ученической тетрадке — по четыре. Эти три листа показались ему наиболее важными именно потому, что не были вырванными из тетради, а значит, содержали что-то цельное. Уложив все строго в первоначальном порядке, Брокман надел пиджак и посмотрел на часы. Было шесть часов. Дом еще не проснулся. Брокман вышел из квартиры, запер оба замка. На лестнице ему никто не встретился. Через двадцать минут он припарковал машину там, где взял, — на площадке перед «Оргтехстроем», еще пустой в это время. Он оставлял ее в полном порядке, даже щетки дворников положил точно на то место, где они лежали до него. Лишь бензина сильно поубавилось, но до первой заправочной колонки добраться хватит. На вокзал он шел пешком — не хотелось потеть в троллейбусе или автобусе, которые все были переполнены. Что касается задания, он как будто мог быть доволен сделанным, но, перебирая все по порядку, не испытывал особенной радости. Осуществленный вариант не был решающим — он не сумел добраться до самого академика Нестерова, а лишь заполучил какие-то обрывки его рукописей. Теперь надо переправить пленку, спецы проверят, что он наснимал, и если этого окажется мало, то ему еще придется пожить у Линды Николаевны неизвестно сколько. Получается, в общем, что это не лучший вариант… На вокзале Брокман первым делом отправился за билетом. В кассовом зале было полно людей — к каждому окошку длиннейшая очередь. Выбрав одну из них, он стал в хвост и приказал себе не злиться ни на советский пассажирский железнодорожный транспорт, ни на инструкцию, запрещавшую пользоваться услугами Аэрофлота на том основании, что разведчику не следует лишний раз предъявлять паспорт кому бы то ни было, а тем более в официальном учреждении, хотя бы и таком, как агентство Аэрофлота. Впрочем, Линда Николаевна говорила, что для покупки билета на самолет надо потратить гораздо больше времени, чем потом будешь лететь. Выстояв часа четыре, Брокман наконец оказался перед окошком. В спальный вагон билетов уже не было. И в купированный тоже. «Берите что дают», — раздраженно сказал кто-то из стоявших сзади мужчин, и Брокман получил плацкартное место в общем вагоне. Поезд отправлялся точно так же, как из Москвы сюда, — в 21.40. Выполняя установления инструкции, требовавшей не маячить на вокзалах, Брокман поехал в город и скоротал время в знакомстве с предприятиями общественного питания. Аппетит у него был, как всегда, отличный. Он вошел в вагон за пять минут до отхода. По дороге Брокман подбил итоги поездки. До логова академика Нестерова ему добраться удалось — это плюс. Но был и большой минус: он остался без рации, и теперь у него единственный способ связи — расписанные по дням и часам разовые подвижные тайники. Плохо, очень плохо. Но делать нечего… Имея в виду возможность того, что сероглазая подкатила к нему неспроста, он решил провериться так тщательно, как если бы от этого зависела его жизнь. В Москву поезд прибывал, как и в город К., без четверти девять. Брокман колесил по столице до темноты, а потом сел в электричку. Но по пути дважды выходил на маленьких станциях и уезжал на следующей электричке. Хвоста за ним не было. Линда Николаевна открыла ему дверь в половине первого ночи.
ГЛАВА 21 Кутепов дает показания
Давно известно: когда человек сидит в тюрьме под следствием, для него неизвестность хуже любой определенности, даже самой страшной. Ожидание суда мучительнее самого суда, а приговор, даже самый строгий, снимает с души невыносимую тяжесть неопределенности. Угадать состояние Кутепова после первых коротких допросов было нетрудно. Он лихорадочно старался определить, что именно и в каких пределах известно следствию, в чем его могут уличить неопровержимо и что пока находится в области предположений. Как адвокат он понимал и видел, что в той части, которая относится к Светлане Суховой, его алиби, подготовленное им не лучшим образом, ничего не стоит и, как он и опасался, было легко опровергнуто. Сейчас коренным был вопрос: жива ли Светлана? Если она даст показания, все остальные доказательства его вины обретут силу неопровержимых. Но, несмотря ни на что, он страстно желал, чтобы она осталась жива. Он наизусть помнил статьи Уголовного кодекса и знал, что за покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления его осудят не мягче, чем за совершенное убийство. Однако тут вступало в действие другое грозное обстоятельство. Марков упомянул Карла Шлегеля, оберштурмфюрера СС. Это значит, что контрразведчикам известно его, Кутепова, военное прошлое, ради сокрытия которого он был готов на что угодно, и, как вырисовывается теперь, совершенно зря. История с этим проклятым негативом, из-за которого он проник в квартиру Дмитриевых, только навредила ему. Зачем же еще смерть? Светлана должна жить, пусть живет! Слова полковника Маркова, что Кутепов усугубляет свою вину, не говоря чистосердечно всю правду, пытаясь запутать и затянуть следствие, постепенно становились для Кутепова той истиной, не признать которую может лишь безумец или тупой дебил. Двое суток он не спал и ничего не ел, только пил воду. На третьи сутки попросил тюремное начальство сообщить полковнику Маркову, что Кутепов намерен дать показания… У Маркова в кабинете были Павел и Семенов. На двух круглых столиках у стены Кутепов, войдя, заметил разложенные ключи и замки, которые проходят по делу как вещественные доказательства, и то, что было взято у него при аресте. Увидев Павла, Кутепов приостановился и несколько секунд смотрел на него в глубокой задумчивости. — Вы решили говорить? — спросил Марков, когда Кутепов после повторного приглашения сел на указанный ему стул. — Да. Я расскажу все с полной откровенностью. Я готов помочь следствию всем, что в моих силах. — От вас требуется только правда. — Разрешите мне задать один вопрос? — совсем несвойственным ему тоном, умоляюще сказал Кутепов. — Пожалуйста. — Сухова жива? — Да. Кутепов как бы весь обмяк. — С чего же мы начнем? — сказал Марков. — Давайте-ка с самого начала. На кого вы работали и как все это произошло? — В пятьдесят третьем году, осенью, я имел несчастье согласиться на сотрудничество с одним человеком, дал обещание оказывать ему кое-какие услуги. Он работал тогда в каком-то посольстве в Москве. До прошлого года меня не тревожили, а в январе я получил привет от того человека, и мне поручили все это дело, которое теперь столь печально кончилось. — Справившись с первым волнением, Кутепов обрел дар свободно льющейся, складной речи. Марков, вероятно, счел это угрожающим симптомом и остановил поток: — Прошу вас быть конкретным. Что это за человек? Имя? — Он представился как Арнольд. — Каким образом вы познакомились? Почему он вам представился? — Он знал меня. — Откуда? — У нас были общие знакомые. — С войны? — Понимаете, какая вещь… — Мы облегчим вашу задачу. — Марков вынул из папки служебный формуляр бывшего гауптмана. Кутепов вскользь бросил взгляд на желтый лист и заговорил быстро, как будто только и ждал, чтобы ему сделали напоминание. — Да-да, идет оттуда. Обстоятельства, к сожалению, сложились столь неблагоприятно… — Об этом вы расскажете в другое время, — опять остановил его Марков. — Чьим преемником был Арнольд? — Я служил под командованием оберштурмфюрера СС Карла Шлегеля, вы о нем упоминали в прошлый раз. А у него был друг Хайнц Вессель из разведки. Он приезжал из Берлина. — Вессель вас завербовал? — Если это так называется… — Хорошо. Кто передал вам привет от Арнольда? И как? — Он не назвал себя. Только пароль. Мы говорили какой-нибудь час. Он прекрасно знает русский. — О чем шла речь? — Он сказал, что мне надо завязать дружеские отношения с двумя подругами — Светланой Суховой и Галиной Нестеровой. Дал их адреса. — Для чего познакомиться? — О конечной цели не упоминалось. Он сказал, я буду время от времени получать инструкции. Так оно и было. — Каким же образом мыслилось завязать дружбу? — Это зависело от моей предприимчивости. Вы понимаете, при колоссальной разнице в возрасте мне не приходилось рассчитывать на что-то такое… В общем, надо было проявлять изобретательность. — Во имя бескорыстной дружбы? — Я должен был расположить их к себе, сделаться, так сказать, духовным наставником. Чтобы они чувствовали необходимость во мне. — В каком направлении вы должны были их наставлять? — Не хочу себя выгораживать, я говорю вам все абсолютно откровенно, но этот человек был очень циничен. Он сказал, надо искать в людях червоточинку, а если ее нет — постараться, чтобы она завелась. — Как же вы приступили к выполнению задания? — Сначала наблюдал за ними. У меня образовалось много свободного времени, когда вышел на пенсию. — Что значит — наблюдали? — Часто заходил в универмаг, где работала Сухова. Иногда сопровождал их по улицам. — Они могли насторожиться. — Какие подозрения может вызвать безобидный старик? И потом — они беспечны. — В чем состоял ваш план? — Познакомиться, а потом использовать маленькие человеческие слабости. Ведь все любят получше одеться, особенно молодые женщины. — Вы делали подарки? — Да. — От имени итальянского инженера? Здесь Кутепов впервые ответил с задержкой: ему потребовалось время, чтобы по достоинству оценить степень осведомленности людей, ведущих следствие. Наконец он сказал: — Этот итальянец появился случайно. Он прислал посылку Светлане, и тогда у меня возникла идея использовать, так сказать, сам факт его существования. Я подал идею, ее одобрили и даже развили. Я, видите ли, вошел во вкус, мне нравилось, я словно ставил психологический опыт. Но он мог провалиться в самом начале. — Почему? — Я попал в объектив фотоаппарата другу Суховой, молодому человеку по фамилии Дмитриев. — Подруги видели вас на карточке? — Да, но не обратили внимания на сходство. Карточка небольшая, я был там немного не в фокусе. Я говорю — они очень беспечны. По-моему, Светлана даже не заметила пропажу этой карточки и письма от итальянца. — Вы их украли? — Если угодно так квалифицировать. — Вы так боялись этих фотокарточек, что не побоялись проникнуть в квартиру Дмитриевых. Чтобы идти на такой риск, нужны серьезные причины. Они только в прошлом? — Не совсем. И в настоящем тоже. Нельзя оставлять собственный портрет на руках у людей, против которых злоумышляешь. — Вы что же, с первого шага знали, что кончится уголовным преступлением? — Нет, нет, упаси бог! — воскликнул Кутепов. — Я вообще не предполагал, к чему все это приведет. Но в июне ко мне опять приехал из Москвы этот человек, я изложил ему в подробностях все, что узнал сам, — ну, взаимоотношения между молодыми людьми, немножко об их характерах. Сказал и об итальянце и что можно скомбинировать с его помощью, отдал ему письмо итальянца. Тогда-то он мне и посоветовал обязательно заручиться каким-нибудь предметом, принадлежавшим Дмитриеву. — Вам так и сказали — предмет должен годиться для совершения убийства? Кутепов замахал руками. — Нет, нет! Просто с появлением итальянца возникали определенные коллизии. Знаете — треугольник… Дмитриев — юноша горячий… Если что произойдет — могут заподозрить и его… — Это ваши собственные соображения? — Я только описывал ситуацию. Решения принимал этот человек. — Он так и не сказал своего имени? — Нет. Мы больше не виделись. — Дальше вы действовали самостоятельно? — Я регулярно получал инструкции. — Кто их передавал? — Делалось довольно просто. Мне звонили по телефону. Голос был всегда один и тот же, но кто говорил, я не знаю. Только не тот. Называлось несколько цифр, и я знал, что они означают. Я ехал на железнодорожный вокзал, находил нужный бокс в автоматических камерах хранения, набирал нужный номер и брал оставленную для меня сумку или чемодан. Чаще — сумку. Обычно было и письмо. — Шифрованное? — Употреблялась тайнопись. — Это и были так называемые посылки из Италии? — Да. — Сколько их было? — Три. Но, кроме посылок, был еще довольно дорогой перстень. — Для кого? — Просили устроить так, чтобы он попал к матери Галины Нестеровой. Она обожает драгоценности. Я устроил. — Подарили? — Нет. Но она уплатила за него до смешного мало. — Сам Пьетро Маттинелли больше посылок не присылал? — Если бы присылал, я бы знал. Сухова от меня ничего не скрывала. — Скажите, кто же был главным объектом — Сухова или Нестерова? — Сейчас я могу заявить совершенно определенно: Нестерова. Вернее, ее отец. — Почему вы так уверены? — Все шло в этом направлении. Я понял, в чем дело, когда получил приказ сделать слепки ключей квартиры Нестеровых и выяснить, есть ли у него сейф. Академика в городе всякий знает, но я постарался вникнуть поглубже и выяснил, что главная его работа не подлежит широкой огласке, это нанесло бы ущерб государству. — Что вы имеете в виду? — Вообще. Его научные работы. Ничего конкретного я, поверьте, не узнал. Это невозможно. — Вы достали слепки? — Да. И мне велено было сделать по ним ключи. — А от несгораемого ящика? — Этого мне не удалось. — Что с ключами? — Я останавливался в гостинице «Минск». Двадцать седьмого мая пришел в номер человек от них, назвался, представьте, Ваней. У него был ко мне пароль. Он потребовал ключи, и я их отдал. — И от своей машины? — Я все делал, как приказывали. — И письмо Светланы к Маттинелли? — Да. Так было велено. — Хорошо, скажите теперь вот что. Вы, насколько можно понять, воздействовали больше на Сухову. Почему? — Посылки можно было привозить только ей, ведь именно за ней ухаживал итальянец. К тому же я очень скоро заметил, что в этой паре Светлана — Галя верховодит Светлана. — Как же вы решились на убийство? — Я попытался привлечь ее к работе от имени Маттинелли. Все делалось под маркой Маттинелли. — Ну и что же? — Я в ней ошибся. Она отказалась. Но главное — все испортил приезд итальянца. Видно, его не ожидали. Мне пришлось спешить, а когда торопишься — сами знаете… Она бы увиделась с итальянцем, и всему конец. — Письмо Маттинелли было нужно, чтобы узнать его почерк… Для чего понадобилось письмо Светланы? — Это, вероятно, приберегалось для шантажа. — Вам советовали держать в руках Светлану, чтобы воздействовать на Галину Нестерову. По-вашему, это достаточно мощный рычаг? — Светлана действительно имела на подругу очень большое влияние. Но было не только это. Вероятно, намечалось что-то еще. Во всяком случае, меня просили сказать подругам, что у меня есть племянник и что он скоро приедет. Предполагалось подружить его с Галей. — Он не приехал? — Не успел, как видите. — А кто он такой? — Я же его не видел. Марков встал, подошел к столику, где было сложено то, что обнаружили при задержании у Кутепова. В паузе задал вопрос Семенов: — Вам не говорили, для кого понадобится ваш автомобиль? — Для племянника. — Стоянку сами подбирали? — Я долго работал юрисконсультом в тресте «Оргтехстрой», меня все там знают. И после я тоже часто пользовался их стоянкой, так что искать не пришлось. — На машине, между прочим, номера вы сменили. Для чего — понятно. Чтобы милиция не нашла. А откуда новые? — Взял у знакомого. — Как так? — Он в больнице, пролежит долго, да и неизвестно, поднимется ли, подозревают рак. Просил присмотреть за его машиной. У него хороший гараж. — С его согласия взяли? — Нет, он не знает. — Это что же, все экспромтом делалось? — Я же говорю — делал, как приказывали. — Вы себя все-таки непоследовательно ведете, Виктор Андреевич, — жестко заметил Павел. — Начали с того, что, мол, буду откровенным, готов помочь следствию и так далее. А из вас приходится по капле выжимать. Кутепов испуганно взглянул на него. — Извините, я не умышленно. Какие-то детали ускользают. — Может, вспомните еще что-нибудь из деталей? Виктор Андреевич действительно вспомнил. — Ну, например, меня просили сделать доверенность на мою машину. — На чье имя? — Если не ошибаюсь — Никитин. — Уже с новым номером? — Да. — Вы заранее все рассчитали. — Это было нетрудно. Мною руководили. — Куда вы девали разводной ключ? — Бросил в реку. — Значит, рассчитывали, что все равно подозревать станут Дмитриева? — Я только выполнял инструкции. Марков вернулся на свое место. В руке он держал половинку рубля. — Откуда это у вас и для чего? — Это пароль. Мне дал его так называемый Ваня. Тогда, в гостинице. — Пароль к кому? — Двадцать седьмого июня я должен был поехать в Тбилиси, пойти в гостиницу «Руставели» и там встретить одного человека. У него вторая половинка рубля. — Что за человек? Как бы вы друг друга нашли? — Ваня показывал мне фотографию. Даже две. Фас и в профиль. — У вас хорошая память на лица? — Благодаря профессии. — Кутепов повернулся к Павлу. — По-моему, мне показывали ваш портрет. Сказанное Кутеповым составлялось с тем, что сказал Павлу так называемый Ваня, подобно двум половинкам рубля. — Похож? — спросил Марков. — Сразу можно узнать, — подтвердил Кутепов. Марков обратился к Павлу: — Объясни гражданину Кутепову, для чего вас хотели познакомить. — Простите за бесцеремонность, у вас, кажется, золотые зубы? — спросил Павел, наклоняясь к Кутепову. — Ваня просил меня взять их у вас. — Довольно мрачная шутка, — печально сказал Кутепов. Маркову не понравилась форма, в которую Павел облек свое объяснение. — Шутка действительно сомнительная, но Ваня предложил ликвидировать вас, — сказал Марков. — Сегодня разговор пока закончим. Вам дадут бумагу. Напишите все подробно, всю свою жизнь.ГЛАВА 22 Что значит жить без рации
Линда Николаевна, конечно же, нисколько не пожалела о пропаже старого кожаного портфеля — невелика потеря. Но она видела, что ее жилец совершенно иначе отнесся к исчезновению «Спидолы». А так как она достаточно проницательна, чтобы отличить подлинные чувства и причины чужого недовольства от мнимых, она не поверила Брокману, что «Спидола» безумно дорога была ему просто как отличный приемник. Отсюда напрашивался вывод: «Спидола» служила ему для связи, недаром же он ни на минуту не расставался с нею. О своих наблюдениях Линда Николаевна Брокману, разумеется, не сообщала. Она терпеливо ждала, что же будет дальше, с удовольствием предвидя, что пропажа средства связи заставит ее жильца чаще прибегать к ее помощи. Линда Николаевна, как известно, жаждала более активной деятельности. Восьмого и девятого июня Брокман отдыхал, то есть ел и спал, а когда не спал, то все равно лежал на кровати поверх одеяла, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Много раз он прокручивал в уме всю свою поездку в город К., минута за минутой, шаг за шагом, не упуская ни малейшей детали. Ему припоминались даже такие дурацкие мелочи, как нацарапанная в одной из телефонных будок, из которых он звонил, надпись «Сонька дура» или валявшийся на обочине желтый абажур, который он увидел по дороге к мосту через реку. Он помнил все свои маршруты и мог бы повторить каждый поворот с того момента, как выехал со стоянки треста «Оргтехстрой», до возвращения на нее. Он был уверен, что слежки за ним не велось — он бы ее обязательно заметил. Но он не имел права так же уверенно считать кражу «Спидолы» делом случая. Украли не у кого-нибудь, а у него… Что получается, если принять такую раскладку: эта сероглазая все подстроила специально, а потом угостила его мармеладом со снотворным? Ерунда получается. Если сероглазая была к нему приставлена, значит, он с самого первого шага был на крючке. Значит, за ним следили, но он ничего не смог обнаружить, хотя проверялся предельно строго, а потом вдруг ни с того ни с сего решили ему прямо сказать: мы за тобой не только следим, но и все про тебя знаем. Иначе эту кражу расценивать было невозможно. Зачем же так грубо разрушать собственную постройку? Такой вариант представлялся Брокману чистой фантазией. Он обдумывал вопрос и с другой стороны. Предположим, все это затеяно с целью лишить его рации. Но никто, кроме Линды, не знает, что у него была «Спидола». Недаром с этим приемником ему Монах столько морочил голову, объясняя, как тщательно он обязан скрывать факт его существования. Правда, тот тип из редакции видел «Спидолу», но Линде Николаевне верить можно: он давно работает в газете завхозом и никакого отношения к контрразведчикам не имеет. И наконец, был третий вариант, основанный, как и оба первых, на допущении, что контрразведка расшифровала его до поездки в город К. Ему позволили проникнуть в квартиру Нестерова, найти там все, что нужно, — может быть, подсунув липу, но опять-таки специально устроили кражу, чтобы он обо всем знал. Тут уж налицо полная нелепость. Он бы перестал себя уважать, если бы считал такие обороты возможными. Размышления кончились тем, что Брокман нашел у себя легкие признаки неврастении и постановил считать возникшие сомнения и опасения вредными для его здоровья, а следовательно, и для дела. В сумерки девятого июня Брокман пригласил Линду Николаевну в свою комнату для важного разговора — что он будет важным, она поняла, увидев окна закрытыми и зашторенными, несмотря на чудесный теплый вечер. — Вы знаете в Москве Первую Брестскую улицу? — спросил он. — Она идет от площади Маяковского к Белорусскому вокзалу параллельно улице Горького. — Так… Я сам ее, правда, не знаю, но там на левой стороне, если идти от площади Маяковского, и ближе к ней, а не к вокзалу должен быть кирпичный дом, из которого выселили жильцов, а рядом с ним пустырь от сломанного дома, пустая площадка. Запомните все точно. — Да, да, я слушаю внимательно. — Вы возьмете вот это. — Брокман показал пустую картонную коробочку от сигарет «Столичные» с оторванной крышкой. С первого дня своего пребывания у Линды Николаевны он курил «Столичные». — В ней ничего нет, как видите, но, пожалуйста, не сомните ее в сумочке. — Хорошо. — Дальше. Вот два телефона. — Он показал клочок газеты, где на полях были записаны номера. — На память надеяться не надо, поэтому возьмите, но ни в коем случае не потеряйте. Вернете мне. — Не беспокойтесь. — Приедете на площадь Маяковского и из автомата позвоните по первому телефону. Вам ответит мужской голос. Вы скажете: «Я набрала два девять один сорок три тринадцать?» Это второй телефон, который здесь записан. Вам ответят: «Нет, последние цифры — тридцать один». Если ответ будет другой, позвоните еще раз. Но это вряд ли. Запоминаете? — Да, да, продолжайте. — Звонить вы должны ровно в двенадцать… Ну, плюс-минус две-три минуты… — Понятно. — Дальше. Погуляйте полчаса, а потом идите на Первую Брестскую. Пройдете через пустырь и на нем выбросите эту коробочку. Лучше поближе к середине. И незаметно. — Понимаю. — Потом походите по этой улице. Пустую пачку с оторванной крышкой вряд ли кто-нибудь возьмет, а вы все-таки последите… Ветром может унести, а этого быть не должно. — Но вдруг будет дождь? — сказала Линда Николаевна. — Она размокнет. — Это не страшно. Слушайте дальше. Между половиной первого и часом дня где-то недалеко остановится машина. На ней будет дипломатический номер. Выйдет мужчина с собакой. Когда он пойдет на пустырь прогуляться, исчезайте оттуда и сразу домой. Линда Николаевна испытывала такое чувство, словно всю эту сцену — как они сидят вдвоем в сумерках при зашторенных окнах и ведут тайный разговор — видела со стороны и будто она молода, как этот бесстрашный мужественный красавец, посылающий свою верную помощницу в путь, полный опасностей и коварных ловушек. Ах, как она ждала этого возвышающего душу мгновения! Но Брокман продолжал прозаически: — Вы одеваетесь… очень… как бы это сказать… шикарно. — Он имел в виду не по летам, но это было несправедливо. Линда Николаевна одевалась со вкусом; к тому же она знала, что выглядит моложе своих шестидесяти, и точно соблюдала меру, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. Зачем старить себя еще и платьем? — Хорошо, я надену один свой старенький костюм, — покорно согласилась она, но при этом посмотрела так, словно хотела сказать: «Какая разница, в чем я буду?» В субботу, 10 июня, Линда Николаевна приехала в Москву и все сделала так, как велел ее повелитель. И все получилось так, как он описывал, кроме одного. Она ожидала увидеть дипломата с каким-нибудь холеным большим псом вроде дога или доберман-пинчера, а он вышел из машины с таксой на руках. Правда, такса была холеная, но когда дипломат поставил ее на тротуар и пошел к пустырю, это выглядело немножко несолидно. Но зато очень естественно для дела, которое тут совершалось: заботливый хозяин прогуливает свою собачку. Дипломат поднял с земли оставленную Линдой Николаевной пустую сигаретную коробку, погулял с таксой на поводке по пустырю минуты три. Линда Николаевна издалека наблюдала за ним, пока он не сел в машину, и тем нарушила данную ей инструкцию, но это было пустячное нарушение. Вернувшись домой, она отчиталась перед Брокманом и, отдавая бумажку с телефонами, сказала: — Между прочим, я их прекрасно запомнила. — Тем лучше, — сказал Брокман. — Постарайтесь не забыть, они вам еще пригодятся. Прошла неделя, и в следующую субботу Линда Николаевна снова поехала в Москву, но не для того, чтобы оставить или взять какое-то послание, а лишь позвонить по тому же телефону. На сей раз была небольшая вариация. Раньше она спрашивала: «Я набрала два девять один сорок три тринадцать?» Ей ответил мужской голос: «Нет, последние цифры — тридцать один». Сейчас ее последними цифрами пароля были тридцать один, а ответными — тринадцать. А дальше Брокман велел сказать: «Извините, пожалуйста» — и запомнить слово в слово, что будет сказано ей в ответ. Она услышала в трубке уже знакомый голос, обладатель которого после обмена паролями сказал: «Ничего, со всяким бывает». Когда Линда Николаевна передала Брокману эти слова, он заметно повеселел. Это, в свою очередь, обрадовало ее, потому что со дня возвращения из города К. ее обожаемый жилец выглядел весьма сурово, что создавало в доме неуютную атмосферу. Через три дня Линда Николаевна снова отправилась в Москву звонить по тому же телефону. Условия оставались те же, что в первый раз, с одной разницей: на ее вопрос о набранном телефоне ей должны ответить не «тридцать один» и не «тринадцать», а назвать совсем другие цифры. Какие именно — Брокман не знал. Он сказал, что могут сказать любое число, даже трехзначное. — Учтите, — прибавил он, — за этими цифрами вы теперь едете. Зарубите их себе на носу. Не расслышите — переспросите. И больше никаких разговоров. По поводу «зарубите на носу» она смертельно обиделась бы на кого угодно, а на своего жильца обижаться не могла. Она съездила в Москву и привезла для Брокмана цифры 67. Это было в среду, 21 июня. А в пятницу — новое задание. Утром за завтраком Брокман спросил: — Сколько в Москве почтовых отделений, как по-вашему? — Понятия не имею. Может, триста, может, пятьсот. — Она не понимала, почему это его интересует, но тут же все объяснилось. — А где находится шестьдесят седьмое? — Я же не в Москве живу. Да и никто из москвичей, кроме почтовых работников, таких вещей тоже не знает. — Ну, это неважно. Спросите в справочном бюро. Линда Николаевна, конечно, сразу связала это почтовое отделение с цифрами, привезенными ею из Москвы, и ждала, что будет дальше. Брокман допил свой кофе и сказал: — Завтра поедете в Москву. В шестьдесят седьмом почтовом отделении на ваше имя до востребования будет письмо или открытка. Надо получить. Для этого требуется документ? — Конечно. Почтовое отделение № 67 оказалось близко от Курского вокзала — в доме № 29 по улице Чкалова. Действительно, на имя Л. Н. Стачевской там лежала открытка. В ней было написано:«Дорогая Л. Н.! Буду в столице проездом 1 июля всего на два дня. Мне нужен коричневый плащ или зонт (желательно японский, автоматический), а времени для покупок не будет. Если не трудно, купите для меня. Сообщите, когда можно встретиться. Заранее благодарен. Ваш Н. А. Воробьев».(Тут авторы считают своим долгом напомнить читателям о сделанном в самом начале предупреждении насчет того, что среди участников этой истории очень много людей с птичьими фамилиями. Вот и еще одна, но это уже последняя.) Вполне безобидная открытка, и содержание самое банальное. Но Линда Николаевна понимала, что в ней заключены важные сведения, имеющие прямое отношение к какой-то операции, в которой она сама пока участвует в качестве простого курьера. Это слегка ущемляло ее самолюбие, ей хотелось большего. Вероятно, Брокман каким-то образом сумел почувствовать ее недовольство и счел, что злоупотребляет своей властью, так часто используя старого человека на побегушках, поэтому, прочитав открытку, он сказал: — Вы извините, Линда Николаевна, вам из-за меня приходится по жаре мотаться… — Не переживайте, не развалюсь. Мне это на пользу… До 30 июня Линда Николаевна сидела дома, а в тот день Брокман продиктовал открытку, которую просил бросить в почтовый ящик, но не здесь, а опять-таки в Москве. Она заложила открытку в книгу, которую взяла на дорогу. Открытка содержала такой текст:
«Дорогой Н. А.! Вашу открытку получила. Просимых вещей не покупала, купим вместе, я вам помогу. Встретимся в час дня».И подпись Л. С. Адрес на открытке:
«Москва, 167 почтовое отделение, до востребования, Воробьеву Н. А.»Линда Николаевна порадовалась собственной сообразительности, когда поняла, что услышанное ею по телефону число 67 сообщило ее жильцу не только номер почтового отделения, где следует получить корреспонденцию, но и номер того отделения, куда надо послать ответную открытку. Простым добавлением единицы количество информации удваивается. Интересно, как расшифровываются другие числа и слова открытки? Линда Николаевнанадеялась, что и это ей со временем станет ясно. Открытку она бросила в почтовый ящик на площади у Курского вокзала. 4 июля 1972 года, во вторник, в почтовое отделение № 167, находящееся в доме № 56 на Ленинградском проспекте, зашел утром мужчина лет сорока, среднего роста, неприметной наружности. Предъявив в окно выдачи корреспонденции паспорт на имя Воробьева, он получил открытку и направился к станции метро «Аэропорт», но уехать на метро ему было не суждено: у дома № 60 его остановил, козырнув, молодой человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. — Прошу предъявить документы. Воробьев этого не ожидал и на минуту растерялся. Машинально достал паспорт, в который была вложена открытка, протянул его лейтенанту, но в последнее мгновение выдернул открытку. Лейтенант долго рассматривал паспорт. Наконец спокойно сказал: — Карточка переклеена, гражданин Воробьев. — Ерунда какая-то. — Воробьев ненатурально усмехнулся. — Это ваш паспорт? — спросил лейтенант. — Конечно, мой. — Тогда придется вас немного задержать. Прошу. — Лейтенант показал рукой на желтую милицейскую «Волгу», стоявшую у тротуара. Он ключом открыл правую дверцу, распахнул ее для Воробьева. Затем обежал машину, сел за руль. Воробьев в это время успел незаметно выбросить открытку в окно, для чего чуть приспустил стекло. Но лейтенант заметил, вышел, подобрал открытку, ничего при этом не сказав, снова сел за руль, и они поехали. — Куда вы меня везете? — В отделение… В отделении милиции разыгралась такая сценка. Лейтенант привел Воробьева к заместителю начальника по уголовному розыску, отдал ему паспорт и доложил: — Товарищ майор! Гражданин Воробьев задержан мною у станции метро «Аэропорт». Есть схожесть с рецидивистом, объявленным во всесоюзный розыск. При задержании пытался выбросить вот это. — Лейтенант положил на стол открытку. Майор тоже долго разглядывал паспорт, потом самого Воробьева, потом читал открытку. А после этого сказал: — Карточка заменена. Как вы это объясните? Воробьев произнес слова, которых ни тот, ни другой милиционер не ожидали. — Это все ерунда. Вы не имеете права меня задерживать. Я иностранный подданный. Турист. Живу в гостинице «Украина». Можете проверить. А паспорт этот не мой. — Понятно, что не ваш, мы тоже так думаем, — сказал майор. — Поэтому объясните нам, как он у вас оказался. — У меня его не было. Впервые вижу. Лейтенант все подстроил. — Вот это да! — в восхищении сказал лейтенант. Майор позвонил кому-то по телефону, объяснил ситуацию и сказал напоследок: «Хорошо, жду», — положил трубку и обратился к Воробьеву: — Мы вас задержим. До выяснения. — Я требую соединить меня с посольством. Вы не имеете права меня арестовывать. — Не волнуйтесь, ваши права не пострадают, все будет по закону. Присядьте. — Майор показал на стул у окна. Но Воробьев садиться не захотел. Он начал ходить перед столом от стены к стене. Майор и лейтенант разговаривали о чем-то, не обращая на него внимания. Через полчаса приехал Семенов. Он увез Воробьева.
ГЛАВА 23 Решение
Новый начальник отдела генерал Петр Иванович Лукин, сменивший умершего от инфаркта генерала Сергеева, своего давнего товарища и соратника, в общих чертах знал операцию «Резидент», начавшуюся много лет назад и теперь достигшую той степени развития, когда требовалось принять решение: либо продолжать ее, либо свернуть. Генерал условился с полковником Марковым, что Марков сам определит срок подробного доклада, чтобы окончательно все обсудить и выработать линию дальнейшего поведения. 3 июля Марков попросил генерала назначить доклад на следующий день. 4 июля в кабинете Лукина собрались в 11 часов Марков и Синицын. Они захватили с собой комнатный кинопроектор, небольшой экран, коробку с кинопленкой. Марков принес две толстые папки с бумагами. Был еще чемоданчик, который они не открывали. Павел повесил экран на стену поверх висевшей там географической карты, напротив поставил на стол проектор и рядом с ним положил коробку с узкой кинопленкой. Лукин пригласил всех садиться и сказал: — Начнем. Марков напомнил историю дела и, закончив введение, предложил: — Я думаю, Петр Иванович, для краткости остановимся только на узловых моментах и не будем трогать, так сказать, соединительную ткань. — Для краткости, но не в ущерб? — Конечно, — заверил Марков. — Кое-что мы вам и покажем. Но эпизоды на разных пленках, кусочками, так что будут частые перерывы. — Ничего. Кто у вас за киномеханика? — Синицын. — Ну, мы ему «сапожника» кричать не будем. Но сначала, Владимир Гаврилович, помогите мне, пожалуйста, от навязчивых дум избавиться. Никак не могу одну загадку решить. — С удовольствием, Петр Иванович, если это в моих силах. — Я, конечно, не так глубоко в этом деле сижу, могу кое-чего не понимать, но не кажется ли вам, что выдача Кутепова Бекасу выглядит странно? — Тут надо учитывать два обстоятельства, — сказал Марков. — Во-первых, Кутепов никого не может выдать. У него была односторонняя связь, он даже толком не может объяснить, кто давал ему приказания. Все, что от него требовалось, он сделал — его можно убрать. — Вы думаете, они всерьез полагают, что Бекас может его убить? — Это уже второе обстоятельство. Они с самого начала не до конца доверяли Бекасу. Но и полной уверенности, что Бекас контрразведчик, тоже нет. Выдать Кутепова — значит развязать сразу два узла. Им важно, чтобы Кутепов был выключен из действия, а вместе с ним и Бекас. А как это произойдет, не имеет значения. — Но Кутепов все-таки знает довольно много. И через него же идет нитка к академику Нестерову. — Обратите внимание: Кутепов должен встретиться с Бекасом через месяц. За этот месяц, вероятно, рассчитывали сделать все, что нужно. Во всяком случае, основную часть. — Если так, то все понятно. — Между прочим, — добавил Марков, — этот точно определенный срок — месяц — заставляет предполагать, что Брокман заслан тоже на определенный срок. На короткий. — Ну хорошо, — сказал Лукин. — Показывайте ваше кино. Марков дал знак, Павел зарядил проектор пленкой. — Движение после долгой спячки возобновилось с того дня, как Уткин взял расчет на работе, — начал Марков. — До этого мы знали из донесений Михаила Тульева, что разведцентр готовит к засылке серьезного агента, даже опасного, судя по его прошлому. Совпадение во времени давало основания полагать, что активность Уткина, несколько лет жившего абсолютно спокойно, связана с этим агентом. Уткин неожиданно для нас поехал к жене Тульева. А так как Тульев имел отношение к подготовке агента, мы должны были предположить, что поездка Уткина нужна им для проверки. Во-первых, лишний раз проверить Тульева, который так и не освободился от подозрений со стороны Себастьяна. Во-вторых, установить, не ведется ли за Уткиным наблюдение. Синицын, покажите первую пленку. — При генерале Марков называл Павла на «вы». Павел включил проектор. На полотне замелькали кадры, запечатлевшие поездку Уткина к Марии. Когда эпизод окончился, Марков продолжал: — Обратите внимание — у него «Спидола» и чемоданчик. Видите, он держится так, словно специально подставляется, чтобы его обязательно заметили. При этом мы не должны быть на сто процентов уверены, что он не обнаружил наблюдения. Даже один процент сомнения обязывал считать допустимым, что Уткин расшифровал Синицына или его помощника. А если не сам Уткин, то кто-то другой, контролировавший его поездку. Мы так и считали. Потом учли еще одно обстоятельство: коль скоро разведцентр в лице Себастьяна не доверяет Тульеву, значит, его жену считают способной сообщить нам о визите Уткина. Из этого следовал вывод: Уткина действительно могут нам подставлять специально. В таком случае главное для них — не проверка Тульева, а что-то другое. Но, может быть, они таким образом проверяли и надежность легенды Уткина. Он жил много лет в полном бездействии, зарабатывая стаж и репутацию. Для кого и для чего? Теперь ясно, что не для себя. Скорее всего для Брокмана. Но в конце концов разведцентр предпочел, вероятно, перестраховаться и не использовать нажитое Уткиным доброе имя — нового Уткина нет, мы бы его нашли очень быстро. Из этого видно, какое значение они придают задаче Брокмана. Марков посмотрел на Павла, тот сменил пленку в проекторе. — Дальнейшее поведение Уткина подтверждает, что в его задачу совершенно не входило действовать скрытно. Сейчас вы увидите это, Петр Иванович. И опять обратите внимание на радиоприемник. Павел снова включил аппарат. Эта пленка была длиннее. Она показывала Уткина в Москве на вокзале, входящим в вагон, выходящим из вагона. На экране двигался здоровый, довольный жизнью человек, кажется, не помышлявший ни о чем, кроме предстоящего отдыха. С ним всегда была «Спидола» — или в руке, или на ремешке через плечо. Марков комментировал: — Уткин приехал в Батуми двенадцатого мая. Нам было известно, что семнадцатого туда прибывает круизный теплоход «Олимпик». На экране шли кадры, снятые у дома, где жил Уткин. — Остановите, — сказал Марков Павлу. Кадр показывал парадное, куда входил Уткин, сидящих на скамейке стариков и кусок тротуара, по которому шли прохожие — их было много. — Дом большой, стоит на бойком месте, — продолжал Марков. — Говорю не в оправдание, Петр Иванович, но это существенно. — А в чем вы должны оправдываться? — спросил Лукин. — Скоро поймете. Синицын, зарядите пленку за семнадцатое мая. Павел еще плохо освоил киноаппаратуру, поэтому менял пленку довольно долго. Марков объяснял: — Мы, конечно, считали, что Уткин ждет «Олимпика», чтобы встретить кого-то. Исходя из того, что он демонстративно пренебрегает элементарной конспирацией, следовало предположить, что тот, кого он встретит, будет лишь фигурой для отвода глаз. Иначе вся эта игра в открытую не имеет никакого смысла. Но именно на этом мы и просчитались. Началось с того, что Уткин безвыходно засел дома. Он только раз посетил порт, чтобы посмотреть, где швартуются суда. Такая резкая перемена в поведении сбивала с толку и заставляла усомниться в правильности прежних выводов. Может быть, мы напрасно считали, что Уткин умышленно все делает напоказ? — Марков обернулся к Павлу: — У вас готово? — Да. — Впрочем, погодите. — Марков протянул генералу фотокарточки, на которых был изображен Брокман. — Прислал Михаил Тульев, снимки сделаны в Швейцарии, на курорте Гштаад. Это Брокман — агент, которого с участием Тульева готовили к засылке. Дав генералу разглядеть снимки, Марков сказал Павлу: — Пускайте. Минут пять они смотрели, как Уткин вышел из дому, пришел на морской вокзал, как с трапа сходят туристы. Затем в кадре появился Брокман, затем Уткин и Брокман встретились и Уткин передал Брокману «Спидолу». — Стоп, — сказал Марков на крупном плане и обратился к генералу: — Скажите, Петр Иванович, этот турист похож на Брокмана? — Безусловно похож, — сказал Лукин. — Но это не Брокман. — Это уже в оправдание? — спросил Лукин. — Я должен обратить ваше внимание, что разведцентр в этой операции все построил на отвлекающих маневрах. Итальянец, Алексей Дмитриев, Уткин — все это для того, чтобы увести нас в другую сторону. Наконец, подмена Брокмана. Не менее важна «Спидола». Эти два отвлекающих фактора сработали как магнит, притянули к себе. Ведь мы знали о Брокмане, ждали именно его. Человек, которого они подобрали, не абсолютный двойник Брокмана, но это быстро разберешь, если поставить рядышком живых или их портреты, а идентифицировать живого человека, которого прежде не видел, по фотопортрету, — дело не такое простое, как кажется. Ну и «Спидола», конечно, сильно все усложнила. Уткину все-таки удалось сыграть отвлекающую роль. — Вы в третий раз говорите о «Спидоле», — сказал Лукин. — Сейчас объясню. Это рация, и она лежала в тайнике на Златоустовской улице в доме номер двадцать семь, в том городе, где жил Уткин. Он взял ее оттуда, ко выходил в эфир только один раз, незадолго до поездки к жене Тульева. И больше не расставался с нею. «Спидола» была особой его приметой, яркой меткой. К тому же Уткин и в Батуми выходил в эфир. Вы только что видели пленку — «Спидолу» Уткин передал человеку, которого мы принимали за Брокмана. У нас не было сомнений, что это именно та «Спидола». Уткин много лет прожил на виду, и никто не видел, чтобы он покупал какой-нибудь радиоприемник, а уж «Спидолу»-то обязательно бы заметили. — А она тоже подменена? — Да. — Нетрудно сообразить: с настоящей «Спидолой» ушел настоящий Брокман, — сказал Лукин. — Вот именно. На то, чтобы добраться до морского вокзала и потом вернуться с мнимым Брокманом домой, Уткину потребовался час с небольшим. За это время в его комнате успел побывать настоящий Брокман. Он и взял рацию. За домом велось наблюдение. За этот же час в парадное и из парадного вошло и вышло более двадцати человек. Брокман изменил внешность, на свою фотографию был не похож. Стрижка совсем другая. Приклеил усы. Все происходило слишком скоротечно. С «Олимпика» сходили группами. Брокман был в третьей. — Когда же обнаружились подмены? — спросил Лукин. Вместо ответа Марков попросил Павла пустить пленку. Это был момент возвращения мнимого Брокмана и Уткина на теплоход. Они подошли к трапу, предъявили пограничникам пропуска и поднялись по трапу. У квази-Брокмана на ремешке через плечо висела «Спидола». — Когда они ушли из квартиры, был разговор с хозяйкой, — сказал Марков. — Она сообщила, что в отсутствие квартиранта заходил его друг Володя, но пробыл всего несколько минут. В комнате Уткина осталось кое-что из его вещей. — А настоящий Брокман так и ушел? — Да. Но мы нашли его след. До Тбилиси он ехал сначала на попутной легковой, потом на грузовике. Оба водителя опознали своего пассажира по фотоснимкам. Далее, мы нашли проводницу вагона, в котором ехал Брокман. Он приехал в Москву. Активный розыск был начат с восемнадцатого мая, но в Москве, конечно, он проскочить успел. Правда, мы знали, что из Москвы на дальних поездах и на самолетах Брокман не уезжал. Автомобильный транспорт тоже был под контролем. Обнаружен он двадцать восьмого мая. Как вы знаете, это произошло в связи с делом Кутепова, о котором я вам докладывал. Выход на Брокмана сделан, так сказать, с другого конца, и это ускорило поиск. — Значит, у нас все-таки есть одно «белое пятно», — подытожив изложенное Марковым, сказал Лукин. — Да, десять дней, которые прожил Брокман бесконтрольно в доме Стачевской. — И эта пресловутая «Спидола» у него? — спросил Лукин. Впервые подал голос Павел Синицын: — Нет, Петр Иванович, она уже у нас. — Он открыл чемоданчик, вынул рацию. — Конфисковали, значит? — Изъяли, Петр Иванович, — сказал Марков. — Иного выхода не было. Требовалось лишить его радиосвязи, чтобы действовал контактным способом. Радиокод они сменили, расшифровать пока не удалось. — А как удалось со «Спидолой»? — Мы попросили завхоза редакции, в которой подрабатывает Стачевская, навестить ее дом, и он сказал, что видел «Спидолу». После этого решено было рацию изъять. А потом лейтенант Ковалева и старший лейтенант Жаров организовали все довольно удачно. — Рискованно, — подумав, сказал Лукин. — У него наверняка зародились подозрения. Доложит в центр, там сообразят, что бумаги Нестерова — бутафория. — Не могут они поверить, что мы сначала столько усилий положили ради этой бутафории, а потом одним вопиюще неуклюжим ходом испортили себе всю комбинацию. — Грубовато, конечно, но, пожалуй, в этом-то и соль, а? — Должно сработать, — убежденно сказал Марков. — Будем надеяться. Мне вот что не совсем ясно, Владимир Гаврилович. Зачем Кутепов эту девушку убить хотел? — Ну, во-первых, он ее боялся. Вербовал — отказалась. Приезжает итальянец — все раскрывается. Во-вторых, ее смерть должна была произвести весьма сильное впечатление на Галину Нестерову. Цепочка понятная. Нестеров очень любит свою дочь. Представьте, если отцу скажут: или помогайте нам, или с вашей дочкой случится то же, что и с ее подругой. — Вы полагаете, Нестерова в покое не оставят? — Одной поездкой Брокмана дело может и не ограничиться. Кутепов на допросе, например, заявил, что ему велели подготовить подруг к встрече с каким-то племянником. Наверное, имелся в виду Брокман. Мамочка Галины Нестеровой тоже оскоромилась — ей дорогой перстень Кутепов продал за бесценок. — У Брокмана, считаете, других задач нет? — Мы не все знаем, Петр Иванович, — ответил Марков совершенно теми же словами, которые произнес однажды в разговоре с Павлом. — Пока не все. — Он посмотрел на часы. — Но буквально в эти самые минуты выяснится одно дело… Появился ходок из-за рубежа. — К Брокману? — Да. Но разрешите, Петр Иванович, покончить сначала с тем, что уже есть. Сейчас мы покажем вам, к кому обратился Брокман, когда остался без «Спидолы». Павел успел освоиться с проектором и теперь исполнял обязанности киномеханика хорошо. На экране возникла площадь Маяковского. Затем в кадр вошла Линда Николаевна. Она набирает номер в будке телефона-автомата. Идет по Первой Брестской. Достает из сумочки сигаретную коробку, роняет ее на землю посреди пустыря. А вот и автомобиль с дипломатическим номером. Мужчина приятной наружности с таксой на руках поднимается из-за руля, гуляет с таксой по пустырю, наклоняется, подбирает коробочку. И уезжает. — Старый лис, — сказал Марков. — Сотрудник известного вам посольства. — Знаете его? — спросил Лукин. — В шестьдесят шестом работал в Чехословакии, потом недолго в Польше, потом куда-то исчез, а с шестьдесят девятого — в Москве. — У нас за ним что-нибудь числится? — Одна нитка определенно к нему вела, да оборвалась. Это еще два года назад было. Косвенных данных уже порядочно набралось. Но он осторожный. Тут вот впервые попался. Скорей всего Брокман передал ему микропленку с нестеровскими формулами… Посмотрим дальше. На экране — вход в почтовое отделение № 67. Появляется Линда Николаевна. — До этого она звонила по тому же телефону. Вероятно, тут Брокман работает уже по пожарному варианту — «Спидолы»-то нет. Стачевская получила открытку. А тридцатого июня сама отправила открытку. Ей писал некто Воробьев, и она послала открытку Воробьеву. — Это и есть ходок к Брокману? — Да. Приехал с туристской группой. С ним работает майор Семенов — земляк Кутепова. — Марков опять посмотрел на часы. — Воробьева задержали? — спросил Лукин. — Да. — Пугаете вы их, Владимир Гаврилович. — Ничего. Все обставлено незатейливо, но правдоподобно. Сказано, что похож на разыскиваемого рецидивиста. А паспорт оказался с изъяном. Судя по открыткам, тут какое-то спешное дело. Группа Воробьева послезавтра улетает. Значит, сегодня он открытку получил, а само дело назначено на завтра. У Брокмана связи нет, до него не успеет дойти. В кабинет вошел секретарь генерала. — Владимир Гаврилович, вас спрашивает майор Семенов, — обратился он к Маркову. — Говорит, что вы велели звонить, если срочно. Марков взял трубку белого аппарата. — Семенов? Слушаю вас… Где вы?.. Везите сюда. — И, закончив разговор, Марков сказал генералу: — Сейчас Семенов привезет Воробьева. Мы с ним потолкуем у меня, а потом я вам доложу. Там что-то непростое. — Хорошо, — сказал Лукин. — Жду вас. Воробьев, который в группе по своему иностранному паспорту значился как Блиндер, ни в чем не стал запираться. Семенов рассказал, что Воробьев сделался податливым с того мгновения, когда из его чемодана извлекли четыре разноцветных длинных тюбика, в каких продается зубная паста. Надписи на них были немецкие и действительно сообщали, что тюбики содержат зубную пасту. Семенов хотел отвернуть колпачок на одном и выдавить для пробы себе на ладонь его содержимое. Тюбики оказались запаянными, но Воробьев закричал так, словно его пырнули ножом. Несколько раз повторил: «Нельзя! Нельзя» — и заявил: пусть его отвезут к ответственному работнику КГБ, он все расскажет. И вот он сидит перед Марковым. А на столе между ними четыре разноцветных тюбика. — Почему вы так перепугались? — спросил Марков. — Мне строго приказано: ни при каких обстоятельствах они не должны быть вскрыты. — А что в них, по-вашему? — Не знаю. Марков вызвал помощника. Тюбики отправили в химическую лабораторию. — Кому вы это привезли? — спросил Марков у Воробьева. — Я должен встретиться с женщиной, ее зовут Линда Николаевна. — Где? Когда? — Завтра в час дня на сквере у памятника Пушкину. — Вы писали ей открытку? — Нет. Только получил от нее. — Знакомы? — Нет. — Она сама должна к вам подойти? — Да. У меня должен быть коричневый плащ. — И что же, вы должны отдать тюбики ей? — Нет. Она должна сказать: «Поедемте ко мне домой» — и привезти к человеку, которому это послано. Мне приказано отдать только ему, из рук в руки. — И все? — Говорили, что он может тоже что-нибудь мне передать. — А вы его знаете? — Нет. — Как его фамилия? — Никитин. — Как фамилия вашего шефа? — Самого главного? — спросил Воробьев. — Да. — Не знаю. Я там недавно. Между собой его зовут Манк — по-английски значит Монах. — А тот, кому предназначены тюбики, знает вас? — Не могу ничего сказать. Марков поднял телефонную трубку, набрал номер. — Подготовьте сообщение в МИД, что господин Блиндер до выяснения задержан нами за нарушение паспортного режима. Марков, видя, что Воробьев-Блиндер при его последних словах явно воспрянул духом, сказал ему, кладя трубку на место: — Сейчас я имею право пообещать вашему посольству. Мы еще не знаем, что содержится в тюбиках. — И после паузы добавил: — Но вы, пожалуй, отпущены не будете. Совещание у генерала Лукина возобновилось в три часа дня. Марков захватил с собой магнитофон с лентой, на которой был записан допрос Воробьева. Прослушав запись и посмотрев паспорт Воробьева, Лукин сказал: — Если я вас правильно понимаю, мы сейчас пришли к развилке, Владимир Гаврилович? — Совершенно верно. — А когда химики дадут анализ? — Зависит от сложности вещества. — Но сегодня по крайней мере? — Обещают. — Ладно. Какие же мысли? — По-моему, настал момент решить вопрос принципиально: продолжать или кончать операцию «Резидент», — сказал Марков. — Если продолжать — что будет? — Без всяких анализов ясно, что Воробьев привез для Брокмана не зубную пасту. Можно заменить содержимое тюбиков. Воробьев согласится до конца исполнить свою миссию под нашим контролем — в этом сомнений нет. Потом посмотреть, что сделает с тюбиками Брокман. Но вообще Брокмана нам надо обезвредить. Его связи выявлены, больше через него ничего не получишь. — Значит, предпочтительно другое решение — кончать? — Да, — твердо ответил Марков. — Тогда формулы академика Нестерова будут выброшены в корзину? — Не обязательно. Формулы Брокман добыл до приезда Воробьева. Мы потеряли из виду Брокмана на десять дней, с семнадцатого до двадцать восьмого мая. Он ездил к Нестерову пятого июня. Они вполне реально рассчитывают, что раньше двадцать седьмого июня, когда назначена встреча Кутепова и Бекаса, мы о Нестерове ничего знать не могли. Так что все естественно. — Хорошо, — сказал Лукин. — Сворачиваем операцию. Что это влечет за собой? — Провал Брокмана автоматически бьет по Михаилу Тульеву. За предыдущие годы мы взяли несколько агентов разведцентра по данным, которые сообщил Тульев. Себастьян уже давно пытается по этим данным и по этим провалам, так сказать, высчитать Тульева. С Брокманом же Тульев связан прямо. Тут у Себастьяна сомнений уже не останется. — А как же с «белым пятном»? Что делал Брокман в те десять дней, пока был бесконтролен? Мы этого можем не узнать, если даже и возьмем его. — Да, лишнего на себя наговаривать никто не будет. — Он, видно, с характером, — сказал Лукин. — И с биографией, — добавил Марков. — Можно попытаться, конечно… — Что — попытаться? — Послать кого-нибудь вместо Воробьева. Павел, во все продолжение беседы скромно помалкивавший, покашлял при последних словах в кулак. — Нет, тебе нельзя, — не глядя на него и забыв свое официальное «вы», сказал Марков. — О твоем существовании Брокман наверняка знает. И потом ты с Кутеповым завязан. — Судя по всему, Воробьев никаких полномочий не имеет, — сказал Лукин. — Да, — согласился Марков, — но заманчиво и поблефовать немножко. Брокман может что-нибудь передать Воробьеву. — Опасно, — сказал Лукин. — Опасность, конечно, есть. Очень странный пароль для встречи. Как в детской игре. Коричневый плащ, и больше ничего. Коричневые плащи не в одном экземпляре шьются. — Есть еще что-то, — вставил Синицын, — какая-нибудь примета, которую знает Брокман. — Вероятно. И еще известно, что эта Линда должна сказать: «Поедемте ко мне домой». — Если решаем сворачивать, то послать кого-нибудь к Брокману не помешает, — сказал Лукин. — Но человек должен быть решительный. — Майор Семенов управится. Как ваше мнение, майор Синицын? — Марков опять обращался к Павлу на «вы». — Вообще-то подходит, — сказал Павел с несколько ревнивой интонацией. Лукин ее уловил. — А в частности? За Павла ответил Марков: — Майор Синицын хочет сказать, что он сделал бы это лучше. Лукин и Марков посмеялись немного, но Павел остался при своем мнении. — Его надо подстраховать, — сказал он серьезно. — Не помешает, — сказал Лукин. — А где Семенов, Владимир Гаврилович? — Позвать? — Надо познакомиться. Марков попросил секретаря генерала вызвать майора Семенова. Когда он явился, Марков представил его Лукину. Садясь в кресло, Лукин сказал: — По руке вижу — сила есть. А если стрелять? — Обучен, товарищ генерал, — проговорил Семенов. — Меня зовут Петр Иванович, — заметил Лукин. — Мы все обучены, хотя мне, по правде сказать, кроме как в тире, стрелять не приходилось. И вряд ли придется. И вообще не наше это дело. А тут, представьте, невероятный случай — дело может дойти до стрельбы. — Если надо, не промахнусь, — сказал Семенов. — Тут не в тире, не на стрельбище, — сказал Марков. — С Брокманом состязаться будете. Важно, кто быстрее. А он был профессиональным убийцей, зарабатывал этим на жизнь. — На реакцию никогда не жаловался, Владимир Гаврилович. Я и с парашютом прыгал. — С парашютом и Брокман прыгал, но не стоит сейчас о технике говорить. У нас будут такие патрончики — Синицын объяснит их действие. Потом все уточним. — Мы, кажется, слегка забежали вперед, Владимир Гаврилович, — сказал Лукин. — Да, надо получить результаты анализа. — Марков посмотрел на Павла, на Семенова и сказал им: — Вы пока свободны. Идите ко мне, прикиньте насчет завтрашнего дня. И заберите все это. — Он показал на проектор и прочее принесенное ими в кабинет Лукина. Когда Павел и Семенов ушли, Марков сказал генералу: — Не с легкой душой, Петр Иванович, говорил я о Тульеве. — Насчет отзыва? — Да. Сколько сил потрачено. И место у него — не каждому дано, не в любой день устроишь. Конечно, все давно окупилось, но терять жаль. — А провал Брокмана обязательно означает провал Тульева? — Я сказал — автоматически. Может быть, это не совсем так. Но риск для него увеличится сильно. — А он согласен рискнуть? Вы с ним эту тему не обсуждали? — Он-то согласен. Но пока Себастьян на месте, Тульев все время будет ходить по острию ножа. Правда, уже не первый год у них толкуют, что Себастьяна уберут, а он все не убирается. Лукин встал, прошелся по кабинету, снова сел. — Владимир Гаврилович, ну, а если положа руку на сердце? — Все-таки я бы отозвал. Он и приедет не пустой. И здесь будет очень полезен. — Тогда нечего колебаться. Кончаем «Резидента». Марков, казалось, хотел больше для себя, чем для Лукина, сделать собственные выводы еще доказательнее. — К тому же вот какое соображение, Петр Иванович: ему уже пятьдесят лет, для шефов разведцентра он прежней ценности уже не имеет — не на все годится. А по цене и место за столом. — А нельзя ли устроить так, чтобы он не все узы с ними рвал? Чтобы из штата, как говорится, ушел, а внештатно остался? При условии, конечно, что его не совсем лишат доверия. — Мы по этому вопросу тоже с ним обменивались. Тут трудно что-нибудь предвидеть. Во всяком случае, если мы сейчас окончательно решим его отзывать, то он там попросит не отставку, а длительный отпуск. Так сказать, за свой счет. А оставаться после пожара с Брокманом все-таки слишком рискованно. Под горячую руку Себастьяну попадет — и прощайте… — У вас с ним связь быстрая? — Относительно. — А с переправой как? — Это он сам все обеспечивает. Нам надо знать только точку и время. — Ладно. Через час доложим по начальству. Думаю, наше решение одобрят. — Хорошо, Петр Иванович. Около шести часов вечера Марков получил результаты анализов вещества, заключенного в тюбиках из-под зубной пасты. При всем своем научно-объективном бесстрастии они имели, мягко выражаясь, страшноватый смысл: содержимое тюбиков, само по себе безвредное, в сочетании с определенными химическими соединениями дает отравляющие вещества широкого спектра действия, обладающие исключительной силой даже в водных растворах ничтожной концентрации и длительное время не подвергающиеся распаду. В кабинете у генерала Лукина вновь собрались на совещание Марков, Синицын и Семенов. В качестве консультанта присутствовал в самом начале сотрудник химической лаборатории, который ушел, сделав подробные комментарии к результатам анализа. Было ясно: если содержимое тюбиков может служить одной из составных частей отравляющего вещества, то вторая часть находится у Брокмана. Никто, разумеется, не рассчитывал, что эту вторую часть удастся у Брокмана найти и отобрать, что он по доброй воле вдруг возьмет и все расскажет, но подмена Воробьева Семеновым была окончательна решена. Брокмана все равно надо арестовать в ближайшее время. Нелишне поэтому сделать попытку общения с ним еще на воле: вдруг выяснятся какие-то детали, которые могут оказаться полезными в будущем. На паспорт Воробьева (он, кстати, был не фальшивый; как установили, подлинный владелец, будучи пьяным, годом раньше потерял свой паспорт) наклеили карточку Семенова. Павел объяснил Семенову действие патронов с газом, обездвиживающим человека на полчаса, и показал, как пользоваться оружием. — Но учти, — сказал при этом Павел, — у Брокмана тоже есть что-нибудь такое или еще почище. Между прочим, это на Западе приобретено. Насчет прихлопнуть человека там, знаешь, стандарт высокий. Так что все дело в быстроте — кто первый. У Воробьева-Блиндера был позаимствован его коричневый плащ. В карман плаща положили тюбики, которые теперь содержали настоящую зубную пасту, но не заграничную, а производства московской фабрики «Свобода». Марков, Синицын и Семенов втроем составили план — каким образом Синицын должен завтра страховать Семенова. Они отлично сознавали, что план этот, в сущности, абстрактен, так как в нем невозможно учесть главнейший фактор — то, что предпочтет делать сам Брокман. По этому поводу Павел сказал: «План — не догма: перевыполнишь — ругать не будут».ГЛАВА 24 Домой!
В его переписке с Марковым эта тема — возвращение в Советский Союз — возникала и раньше. Михаил покривил бы душой, если бы стал уверять, что у него нет желания вернуться и что при этом личные интересы не имеют для него ровно никакого значения. Жена и сын, которых он любил и которых не видел восемь лет, были его единственными на свете родными людьми, как у них единственным родным был он. При таком положении хуже, чем он, мог бы почувствовать себя лишь его сын Сашка, оставленный им еще в пеленках, а теперь ходящий в школу. Но он, к счастью, пока достаточно мал, чтобы не задумываться о пагубном действии долгой разлуки. Марии тоже плохо, но с нею Саша. Как ни поверни, а им все же легче. Они живут вдвоем, они дома… Оценивая объективно свое положение в разведцентре, Михаил не мог назвать его блестящим. Монах, разумеется, не посвящал его и в сотую долю своих разработок, более того, порою в силу профессиональной привычки как бы невзначай подбрасывал ему заведомо ложные сведения, но при этом Монах не лишал его своего чисто человеческого благорасположения. Себастьян же, отсутствовавший более полугода, вернувшись, не замедлил показать Тульеву, что по-прежнему не доверяет ему. Михаила вскоре отстранили от участия в подготовке агентуры и вновь посадили в аналитический отдел — копаться в агентурных донесениях, провинциальных газетах и записях радиоперехвата. И ближайшая перспектива не обещала улучшений. Короче говоря, Михаил Тульев созрел для отзыва. Особенно остро он начал испытывать потребность вернуться с тех пор, как перестал встречать Карла Брокмана. Ему, конечно, никто не докладывал, когда и куда исчез из центра Брокман, но это и так было понятно. Слишком много нервов стоила Михаилу вся эта эпопея с Брокманом, чтобы он мог со спокойной душой рисовать в воображении, что способен натворить в Советском Союзе хладнокровный наемный убийца, убийца его собственного отца. Он помнил, как Монах в прошлогодней беседе ни с того ни с сего упомянул Владимира Уткина и сказал, что у него надежная легенда. Если Уткин насиживал место для Брокмана, если Брокман использует его легенду — тогда все в порядке: у Владимира Гавриловича не будет затруднений и Брокману не позволят показать свое умение убивать. Но может быть и иначе. Себастьян — организатор опытный, знает, что в их деле наиболее очевидное — не наиболее надежное. Ни один подчиненный не рискнет побиться об заклад, что сумеет угадать истинные намерения Себастьяна, хотя бы в самом нехитром и маловажном предприятии. А тут дело вполне серьезное. Если Брокмана оставить без присмотра — это даром не пройдет. Михаил сделал все, что было в его силах и возможностях, чтобы облегчить Маркову обнаружение Брокмана, — даже фотопортреты его переслал. Но сознание этого не могло подавить и обезболить сознания собственного бессилия в момент, когда его присутствие на месте событий могло бы, вероятно, оказаться решающим. Будучи именно в таком далеком от уравновешенности состоянии духа, встретил Михаил в воскресенье, 21 мая, Владимира Уткина, с которым виделся в первый и единственный раз восемь лет назад в Одессе, точнее, в одесском аэропорту. И вот он, Уткин, стоит на обочине шоссе, наверное, ждет попутную машину, чтобы съездить в город, откуда возвращается Михаил. Значит, не успел еще получить в банке заработанное за восемь лет, иначе уже обзавелся бы собственным автомобилем. Михаил с разрешения Монаха пользовался для своих редких поездок его старым «мерседесом». Сегодня с утра он отправился в город, чтобы проверить, нет ли в условленной точке того обычного знака, которым его извещали, что для него получена корреспонденция «оттуда». Знака не было, и Михаил сидел за баранкой с таким видом, с каким, наверное, возвращается после многодневных тысячекилометровых автогонок несчастливый спортсмен, хотя от города до их резиденции было по спидометру всего двадцать семь километров… Уткин стоял на шоссе недалеко от съезда к усадьбе Центра. Михаил притормозил перед поворотом, Уткин, глядевший в противоположную сторону, обернулся на него, и тут-то Михаил его и узнал — по глазам, по носу, по веснушкам. Не то что машиной обзавестись, но еще и одежду новую не успел купить. У Михаила даже сердце екнуло: совсем свежий человек «оттуда», еще, должно быть, пыль на ботинках российская, а в карманах — табачные крошки от папирос. Михаил отлично помнил, как там, в одесском аэропорту, когда менялся с Уткиным плащами, оставил ему початую коробку «Казбека». Может, Уткин после так и привык к папиросам?.. Михаил остановился перед развилкой, вышел из машины, достал сигарету и закурил, глядя из-под бровей на Уткина. Между ними было метров десять. Уткин тоже смотрел на него, и, кажется, воспоминание наконец шевельнулось в нем. Они были одни на дороге. По этому шоссе и вообще никогда оживленного движения не происходило, а сегодня к тому же воскресенье — ни единой машины. — Трудно здесь? — спросил Михаил вполголоса. — Узнаешь сам, — широко улыбнувшись, ответил Уткин. Это был фрагмент их разговора, происходившего в Одессе. Только в тот раз вопрос задал Уткин, а Тульев ему ответил так: «Узнаешь сам. Зачем тебя заранее пугать или, наоборот, успокаивать? Прыгнул в воду — плыви, а то утонешь…» Они сошлись, подали друг другу руки. — Давно? — спросил Михаил. — Вчера. — Рад тебя видеть, Уткин. — Улыбка Михаила была непритворной. Он действительно испытывал в этот миг настоящую радость. Но все же в нем работала тайная мысль. Сотрудникам Центра категорически запрещалось откровенничать между собой, но чем черт не шутит… Тут как-никак имелись сближающие обстоятельства. — Я тоже очень рад, — сказал Уткин. — В город собрался? — Не мешало бы. — Сегодня все закрыто — воскресенье. Ты, наверное, в магазин хочешь? — Да так, вообще… Не грех бы и по баночке… — Я с удовольствием. Садись. В машине Уткин спросил: — Это твоя? — Нет, Монаха. Беру, когда надо. У него другая есть, новая. — Ты, значит, с начальством на равных? Разуверять Уткина было неразумно. Михаил сказал с достаточной небрежностью: — Не целуемся, конечно, но жить можно. Михаил развернулся и быстро набрал скорость. — Куда думаешь? — спросил Уткин. — Куда хочешь. Можем в «Континенталь». Бывал там? — Уже не помню… Мне, понимаешь, пока шляться не велели. — Тогда надо где потише. Сегодня наших в городе много. Михаил показал на приборную панель, приложил палец к губам. Уткин понял, покрутил в воздухе пальцем: мол, записывать могут? Михаил кивнул, и до города, минут десять, они промолчали. Свернув на кольцевую дорогу, Михаил обогнул город и на тихой окраинной улице, застроенной трехэтажными кирпичными домами, остановился недалеко от маленького пансионата «Луиза», в ресторане которого он изредка обедал, когда слишком приедались кушанья их казенной столовой. Как он и ожидал, в крошечном, на шесть столиков, зале не было ни души. Хозяин, с которым Михаил был знаком, пожилой вдовец, сказал, что сам обслужит их. Но есть они пока не хотели. Сели за столик у задернутого гардиной окна, и Михаил сказал: — Что будем? Покрепче? — Нет, давай винца, — сказал Уткин. — Мозельского. Не очень кислого. Хозяин пошел за вином. — Водка надоела? — усмехнувшись, спросил Михаил. — Я там не злоупотреблял. — Примерный труженик? — А что? На Доске почета висел. — Долго же ты куковал. — Без малого восемь лет… Лучший техник районного телефонного узла… — Вообще-то работенка не пыльная, — сказал Михаил. — Это верно. — А отсюда не дергали? — Это был первый вопрос по существу, и Михаил с надеждой ждал, что Уткин не уклонится от прямого ответа. — Только раз. Под самый конец, — без всякого колебания откликнулся Уткин. Михаил понял, что правил разведцентра Уткин придерживаться не будет. Восемь лет постоянной бдительности чего-нибудь стоят. Должен же человек когда-нибудь расслабиться. Однако, чтобы не насторожить Уткина, Михаил торопить события не стал. Хозяин принес вино, фрукты и жареный миндаль в вазочке. Они выпили, Михаил дожевал миндаля, слушая, как он повизгивает на зубах. Полковник Марков в одном из своих писем рассказал Михаилу, что Уткин посещал его жену Марию, и сейчас Михаила подмывало спросить, как она выглядит, какое впечатление произвела. Но этого, конечно, делать было нельзя. Оставалось надеяться, что Уткин сам заведет разговор — не под влиянием алкоголя (от этого легкого вина человек, знакомый с водкой, особенно не опьянеет), а просто поддавшись благодушному настроению. — Кто там не был, нас не поймет, — тихо сказал Михаил. — Точно. Еще помолчали. И снова первым заговорил Михаил: — Да-а… Восемь лет — не восемь дней. — Вообще-то я думал, хуже будет, — сказал Уткин. — А оно ничего страшного. Тягомотина, конечно. — Ну, это ты немножко забыл, наверно, — добродушно возразил Михаил. — Я тебя тогда в Одессе увидал, думаю: парень, как бычок на веревочке, на бойню ведут. — Это верно, дрожь в коленках была. Но недолго. А потом жил — не думал. Если б не эти чертовы «Спидолы», вообще забыть можно, кто я такой. — Почему «Спидолы»? Я тебе одну оставлял. Уткин и думать не хотел ни о каких секретах и запретах. Говорил просто, все как есть. Да и какие особенные секреты своего восьмилетнего бездействия мог он выдать человеку, который все это время прожил в штабе Центра и который настолько близок к начальству, что пользуется его автомобилем, как своим собственным? — Их у меня две было. Вторую велели достать потихоньку, купил у одного психа. А потом твою прятал, а вторую напоказ таскал. — Для чего? — А черт его знает. Режиссеры здесь сидели, я их не спрашивал. Еще попили винца. Михаил сказал: — Ты меня не бойся — не из болтливых. — А какие у нас тайны? — удивился Уткин. — Я там сидел как пень. Только в Батуми шевелился, да и то все по расписанию. Никакой самостоятельности. — Менялись так же, как тогда? — Не совсем. Кто-то сошел, я вместо него на корабль, а кто — в глаза не видел. Вообще там какая-то игра была. Но я — пешка. — Все мы пешки, — вздохнул Михаил. — Может, коньячку выпьем? — Ему и взаправду захотелось рюмку чего-нибудь покрепче. — Давай. Они просидели еще часа полтора, но оставались трезвыми. Уткин рассказал подробности батумской переправы, а под конец добавил, что купленную «Спидолу» привез с собой и она стоит у него в комнате, но, кажется, он ее сегодня выбросит — так она ему надоела. О своей поездке к Марии он не обмолвился ни словом — значит, это было под специальным запретом. Себастьянова рука… Когда решили уходить, Михаил подозвал хозяина. Уткин протянул Михаилу деньги, но Михаил сжал его руку вместе с бумажками и убрал ее со стола, расплатился своими. Рассудив, что во избежание нареканий Уткину лучше непоявляться на виду в обществе Тульева, они расстались на шоссе — Михаил высадил его недалеко от поворота к их резиденции. Михаил больше не искал встречи с Уткиным — ничего существенного узнать от него он уже не рассчитывал. Однако в среду, 24 мая. Монах позвал Михаила вечером к себе, и там он увидел Уткина. — Думаю, вам будет приятно друг на друга поглядеть, — сказал Монах, когда они поздоровались. Потом Уткин рассказывал Монаху то, что Михаил от него слышал в воскресенье. Из этого можно было заключить, что по возвращении он докладывал не Монаху, а Себастьяну. А это, в свою очередь, лишь подтверждало неутешительный для Михаила факт: Себастьян снова взял вожжи в свои руки. Для чего Монаху потребовалось слушать отчет Уткина при нем, Михаиле, понять было трудно. Быть может, Монах хотел таким образом показать, что партия Уткина сыграна от начала до конца на глазах у Михаила? А может быть, Монаху просто скучно было сидеть целый вечер с Уткиным наедине?.. Возвращение Уткина, все, что Михаил от него услышал, делало бесспорным один вывод: сейчас там, в Советском Союзе, совершается серьезная акция. Иначе восьмилетнее прозябание Уткина надо признать абсолютно бесцельным. Думая об этом, Михаил начинал нервничать, так как был уверен, что все происходящее обязательно должно отразиться и на нем. Каждый день он брал из гаража «мерседес» Монаха и ездил в город, но знаков о прибытии корреспонденции из Москвы все не было. Так прошло полтора месяца. И наконец он увидел знак, а вскоре получил послание Маркова, которое было длиннее прежних. Но самое главное, самое радостное для Михаила содержалось уже в первой строчке — его отзывали. На следующий день он попросил Себастьяна принять его по личному вопросу: кадрами центрального аппарата Себастьян ведал теперь на единовластных началах, освобождая шефа, как он выражался, от стирки грязного белья. Он не любил старых сотрудников, которые в силу долголетнего знакомства с Монахом могли при необходимости обращаться непосредственно к нему. Тульевых, и отца и сына, как знали все сотрудники, Себастьян не просто не любил — он их ненавидел. Соблюдая субординацию в первый раз со времени воцарения Себастьяна, Михаил рассчитывал польстить его самолюбию и тем облегчить свою задачу. Но расчет не оправдался. Себастьян встретил его вежливо, поинтересовался здоровьем, а когда услышал, что Тульеву надоело работать в аналитическом отделе, он сухо заявил: — Но у нас нет для вас другого места. — В таком случае прошу разрешить долгосрочный отпуск, — сказал Михаил. — Вы совсем недавно были в отпуске, и даже весьма долго, — возразил Себастьян. С Брокманом в Швейцарию Михаил ездил по личному распоряжению Монаха, и Себастьяну истинная сторона дела не была известна, но он все же сказал: — Это нельзя считать отпуском. — Почему же? — Я работал. — Не знаю. Официально вы числились в отпуске. — Я устал. Может человек получить отпуск, если настоятельно в нем нуждается? Себастьян, почувствовав чужое раздражение, сам сделался спокойнее. — Сколько вы хотите? — Хотя бы полгода. — Это слишком много. — На оплату я не претендую. Себастьян усмехнулся: — Еще бы! Полгода с оплатой — это, знаете ли… — Благодарю вас, — сказал Михаил с облегчением. — Я хотел бы уехать через два дня. — Где вы намереваетесь остановиться? — Пока в Париже. — Сообщите мне оттуда свой адрес. И весь последующий ваш маршрут я должен знать. — Хорошо. Себастьян не стал лицемерно желать ему приятного отдыха и тем самым заставил Михаила испытать к нему уважение — единственный раз за всю историю их взаимоотношений. Михаил знал, что парижский адрес и липовый маршрут его воображаемого отпускного путешествия не обманут Себастьяна. Он все проверит и убедится в обмане. Но тут ничего нельзя было поделать. Его ждали в Москве с таким же нетерпением, с каким он туда стремился. 14 июля Михаил приехал в Париж, в город, где всякому, кто желает раствориться и замести следы, сделать это не составляет особого труда. А 16 июля он исчез из Парижа.ГЛАВА 25 Свидание с Брокманом
Любой мало-мальски проницательный наблюдатель, если бы он задался праздной целью классифицировать Линду Николаевну Стачевскую по типу характера, должен был бы признать, что она принадлежит к тому редкому в наше время, уже давно вымершему племени людей, которых называют авантюристами высокого полета, — племени, яркими представителями которого были, скажем, Григорий Отрепьев и подобные прочие самозванцы — его предтечи и его эпигоны, от раба Клемента, выдававшего себя за своего умерщвленного хозяина Агриппу Постума и пытавшегося отобрать власть у римского императора Тиберия, до корнета Савина, чуть не севшего на болгарский троп. Из женщин можно назвать хотя бы так называемую княжну Тараканову и столь же злополучную Мата Хари. История не сохранила данных относительно того, делали или не делали две вышеупомянутые прекрасные дамы утреннюю зарядку. Зато мы точно знаем, что Линда Николаевна ее делала регулярно на протяжении трех времен года — осени, зимы и весны. Летом же физзарядку она заменяла работой в саду и цветниках. Всякая регулярность, за исключением немногих особых случаев, — признак педантизма, а педантизм, согласитесь, не гармонирует с авантюризмом. Тем не менее в Линде Николаевне эти несочетаемые качества все-таки сочетались, и, может быть, именно потому она в отличие от своих знаменитых предшественниц сумела благополучно дожить до преклонных лет. 5 июля 1972 года Линда Николаевна, встав в половине шестого утра, в шесть занималась своим обычным делом — работала в саду. День обещая быть очень жарким. Небо с утра уже потеряло голубизну и стало сизо-стальным. Обильно политые с вечера грядки, на которых росли пионы, флоксы, настурции и гладиолусы, несмотря на ранний час, уже успели высохнуть, и земля сделалась серой. Линда Николаевна, выдергивая из грядок появившиеся за ночь стрелки чужеродной травы, думала о том, что цветам придется трудно нынешним летом. Но вскоре думы о судьбе цветов сменились другими, более важными. Она вновь и вновь, как делала это все последнее время, повторяла мысленно маршруты и действия, предпринятые ею по заданию ее обожаемого жильца, оценивала их значение, сопоставляла и пыталась вывести прогноз на ближайшее будущее. Главной исходной позицией и доминантой этих вычислений было, о чем нетрудно догадаться, ее собственное участие в предстоящих событиях. Как известно, Линда Николаевна жаждала активной деятельности, не ограниченной примитивными курьерскими обязанностями. Обостренная сознанием опасности восприимчивость позволяла ей читать в душе и мыслях жильца, как в открытой книге. И она давно уже высчитала, что близится срок, когда он доверит ей настоящее дело. Оставалось только чуть потерпеть, неизбежное произойдет. Оно может прийти в любой день… Вот почему в то безветренное солнечное утро 5 июля Линда Николаевна не была удивлена, увидев вышедшего к ней в сад Брокмана, хотя часы показывали всего лишь начало седьмого. Никогда не просыпавшийся ранее семи, сейчас Брокман был уже выбрит, умыт и свеж. Впрочем, Линда Николаевна, окинув его одобрительным взглядом, успела заметить в выражении его лица нетерпение и озабоченность. К тому же в углу рта у него дымилась сигарета, и это говорило о беспокойном состоянии духа, ибо прежде он никогда не курил до завтрака. Поглядев на сизое безоблачное небо, на припылившиеся листья яблонь и, наконец, на Линду Николаевну, Брокман сказал: — Градусов на тридцать денек будет. — Если не больше, — откликнулась Линда Николаевна. — Вы куда-нибудь собираетесь? — Я — нет. А вам придется съездить в Москву. Линда Николаевна развязала на пояснице тесемки клеенчатого фартука и сняла его. Она помнила наизусть содержимое открытки, которую писала под диктовку неведомому ей Воробьеву. Поэтому спросила как о само собой разумеющемся: — В час дня надо быть на Пушкинской площади? — Да. — Тогда лучше не терять времени. Я приготовлю завтрак. — Идемте на минутку ко мне. В своей комнате Брокман достал из пиджака, висевшего в шкафу, бумажник, а из бумажника — фотокарточку. Дал ее Линде Николаевне. — Запомните его. Это был портрет уже известного нам Воробьева-Блиндера. Ничем не примечательное лицо. — Он довольно высокого роста, немного выше вас, — сказал Брокман, убирая возвращенную Линдой Николаевной карточку. — У него с собой коричневый плащ. Сразу заметите, даже в толпе… Сегодня дождя не предвидится, вряд ли все будут с плащами. — В сквере у Пушкина толпы не бывает. — Еще лучше… — И никакого пароля? — спросила Линда Николаевна. — Какой же еще пароль, если вы видели портрет? — А если это окажется не он? — Не забегайте вперед, все объясню, — сказал Брокман. — Значит, так. Видите, что ждет этот человек, подходите и без всяких паролей говорите: «Поедемте ко мне домой». Привезете его ко мне, но не сюда, а к рынку, на автобусную станцию. Я буду там. Во сколько вы можете приехать? — Нужно посмотреть расписание. Линда Николаевна принесла расписание пригородных поездов, и они вместе его посмотрели. Получалось, что Линда Николаевна с Воробьевым могут прибыть на электричке в 15.53. — До рынка десять минут пешком, — сказала Линда Николаевна. — Буду ждать с четырех. Приведете его к автобусной станции и уходите. Меня не увидите — не волнуйтесь, я его сам увижу. Брокман закурил новую сигарету. — А теперь насчет другого варианта. Может прийти и не этот человек, но фамилия у него должна быть такая же. Подойдите и спросите: «Вы товарищ Воробьев?» Он скажет: «Да». Вы спрашиваете: «Давно меня ждете?» Он должен ответить: «Ровно семнадцать минут». Это и есть пароль. — Все понятно, — сказала Линда Николаевна. — Но если он, этот другой Воробьев, скажет мне совсем не такие слова? Брокман загасил сигарету в пепельнице и улыбнулся. — Тогда — прошу прощения. Это будет очень плохо. Линда Николаевна не нуждалась в уточнениях, почему это плохо и кто пострадает в первую очередь. Она думала не о себе, она беспокоилась о нем. — А вдруг меня все-таки привезут сюда? Куда мне их вести? Домой? — В доме — как в ловушке, — сказал он. — Лучше на автостанцию. — Как я дам знать, что это чужой? Он подумал немного, потом спросил: — Вы возьмете с собой какую-нибудь сумочку? — Обязательно. — Если вас все-таки привезут сюда, давайте условимся так: держите сумочку в правой руке. Если все нормально — в левой, а нет — в правой. — Хорошо. — Ждать я буду до половины пятого. — Это непредусмотрительно, — возразила Линда Николаевна. — Электричка может и опоздать. Брокман и раньше имел возможность убедиться в преданности и исполнительности Линды Николаевны. Сейчас она ему показывала, что умеет быть хладнокровной и расчетливой. — Верно, — согласился он. — Давайте установим крайний срок — пять часов. Потом Линда Николаевна приготовила завтрак, они поели, она помыла посуду — все как в обычный день. И до самого ее ухода они больше ни словом не обмолвились о предстоящем. Необычным было лишь его напутствие. — С богом, — сказал Брокман, пожав ей руку. — Лучше с сумочкой в левой руке, — сказала она и открыла дверь.Семенов пришел на сквер Пушкинской площади без десяти час. Он был в светлом костюме из тонкой летней ткани, в синей рубахе без галстука. Через руку переброшен коричневый плащ Воробьева-Блиндера, в карманах которого, в каждом по два, лежали тюбики с зубной пастой. Он волновался. Он знал, что издали за ним наблюдают двое верных товарищей, которые скорее погибнут сами, чем дадут погибнуть ему, но от этого волновался еще больше. Во-первых, никакая опасность здесь, в центре Москвы, в ясный летний день ему не угрожала. Во-вторых, он и сам может за себя постоять. И таким образом получалось, что невидимое присутствие товарищей его только смущало — он чувствовал себя неловко, словно новичок-любитель на сцене. Если бы своих не было, он бы не испытывал стеснения. Все иные, случайные свидетели того, что должно было здесь разыграться, не в счет, так как они не имели о происходящем никакого понятия. Семенов прохаживался на площадке за памятником Пушкину. В такую жару на самом солнцепеке это мог делать лишь человек, пришедший на свидание. Но, странная вещь, с ним вместе тут прохаживалось множество людей, мужчин и женщин. И вообще весь сквер, почти лишенный тени, был многолюден в этот час, на скамейках не видно свободных мест. Линду Николаевну он знал по кадрам, снятым скрытой кинокамерой, и мог бы заметить ее издали, но Семенов умышленно не смотрел по сторонам, чтобы нечаянно себя не выдать неосторожным взглядом. Поэтому ее появление действительно было для него в какой-то мере неожиданным. Однако он отметил, что подошла она не ровно в час, а в пять минут второго. Он не знал, что перед тем она его внимательно разглядывала. Подойдя, Линда Николаевна сказала: — Извините, вы товарищ Воробьев? Он сказал: — Да. Она сделала паузу и спросила: — Давно меня ждете? Он смущенно пожал плечами. — Да как вам сказать?.. Минут десять-пятнадцать. Линда Николаевна, до этого глядевшая ему в глаза, посмотрела как-то вбок. — Извините, я, кажется, ошиблась. И пошла своей величественной походкой в сторону Моссовета. Она не произнесла слов, предназначенных настоящему Воробьеву: «Поедемте ко мне домой». Как сказал бы Павел Синицын, тут и ежу было понятно, что Линда Николаевна без труда расшифровала подмену. Каким образом она это сделала, гадать было не время. На такой случай у Семенова имелся план действий, предоставлявший ему довольно широкую инициативу. Семенов пригладил волосы рукой — это был знак тем, кто наблюдал за встречей: «Я раскрыт». Линду Николаевну он догнал у Елисеевского магазина. Увидев его рядом с собой, она замедлила шаг, как будто ожидая, что он ее обгонит и уйдет вперед, но Семенов сказал: — Нам надо поторопиться, Линда Николаевна… Может, вернемся на площадь, попробуем взять такси? Линда Николаевна, ничего не отвечая, остановилась, повернулась и так же величественно зашагала в обратную сторону. Семенов, обретший было свою обычную уверенность, опять почувствовал некоторое стеснение, но уже иного рода. Спокойствие и высокомерие этой пожилой женщины были так подчеркнуты, что он начинал испытывать раздражение. Будь она помоложе, он бы сумел быстро сбить с нее спесь, но из почтения к возрасту приходилось соблюдать ритуал, выглядевший в сложившейся ситуации насилием над здравым смыслом. Так рассуждал Семенов, пока они шли к стоянке такси, расположенной напротив кинотеатра «Россия». К сожалению, он не мог знать, что творилось в голове и душе Линды Николаевны. Его вводила в заблуждение личина невозмутимости, а меж тем под нею вовсе не было спокойствия. И не отвечала Линда Николаевна на его попытку начать разговор не из одного только высокомерия, скопированного ею с лучших берлинских образцов 1941–1942 годов. Растерявшись неожиданно для себя, она старалась собраться с мыслями. Хотя она сама, первая, при обсуждении с Брокманом этой поездки допускала именно такой, наихудший для нее вариант и рассматривала его последствия с неподдельным хладнокровием, но то было у нее дома, с глазу на глаз с ее боготворимым жильцом. Одно дело — представить себе собственные действия умозрительно и совсем другое — действовать в реальной обстановке. Словом, Линда Николаевна была выбита из колеи и старалась поскорее вернуть себе присутствие духа. Семенов искал верный тон, чтобы побыстрее снять собственную напряженность и взяться за самое существо дела, которое свело его с этой спесивой особой. На улице в потоке людей не очень-то удобно вести конфиденциальный разговор, но кое-что все же сказать можно. — Я знаю расписание ваших электричек, — миролюбиво сказал Семенов, когда они подошли к стоянке, где человек пять-шесть ожидали такси. Линда Николаевна и на этот раз промолчала. Семенов иного и не ожидал. — Нам нужно успеть на тринадцать пятьдесят восемь, — сказал он уже вполне благодушно. Она молчала. Тогда он спросил строго: — Нас ждут к определенному часу? Или как придется? — Это все равно, — изрекла наконец Линда Николаевна, и Семенов тотчас понял, что она врет, и сразу ей об этом сказал: — Неправда. — Если вы все знаете, зачем спрашивать? — Я знаю много, но не все. И вам и мне будет лучше, если вы станете говорить правду. Со стороны они, наверно, были похожи на тетку с племянником, обсуждающих какую-то семейную неприятность. — Я даже не знаю, с кем имею честь… — Она сказала это слишком громко, так, что могли слышать стоявшие рядом. Семенов наклонился к ней. — Говорите, пожалуйста, тише. Я покажу вам документы, только чуть позже. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Линда Николаевна, если пожелает, может устроить вот тут, на стоянке, истерику, выйдет публичный скандал, и тогда все задуманное полетит к чертям. Но, к счастью, она органически не была способна на истерику, даже деланную. Подошла их очередь. Оба поместились на заднее сиденье. — Курский вокзал, — сказал Семенов шоферу. Потом он показал Линде Николаевне свое служебное удостоверение. До вокзала, куда приехали без десяти два, они молчали. Семенов купил себе билет (Линда Николаевна сказала, что у нее билет есть, но забыла сказать, что она ради экономии времени купила, отправляясь в Москву, билет и для Воробьева). Едва вошли в электричку — она тронулась. Вагоны были полупустые, и они сели в третьем от хвоста, у окна на теневой стороне, друг против друга. — Мы пойдем к вам домой? — спросил Семенов, возобновляя прерванный разговор. — Дома у меня делать нечего, там никого нет. — Я ведь серьезно, Линда Николаевна. Мы же с вами вроде договорились. Вот теперь Линда Николаевна была спокойна уже по-настоящему. Словно что-то для себя окончательно решила и не испытывала колебаний. Но и Семенов обрел то ровное настроение, которое сам он называл рабочим. — Я тоже не шучу, — сказала она. — Где должна произойти встреча? — У рынка. На автобусной станции. — Во сколько? — От четырех до пяти. Линда Николаевна говорила чистую правду, и ей было хорошо и спокойно. — Чтобы не задавать лишних вопросов, может, вы сами объясните, как все это должно произойти? — сказал Семенов. — Ничего особенного. Я вас приведу к станции и уйду. А он вас сам увидит и подойдет. — И больше никаких паролей? — Нет, представьте. Про сумочку она говорить не собиралась. — С вокзала мы на чем поедем? — поинтересовался он. — Там рядом. Она откровенно его разглядывала, а это всякому неприятно. — На мне что-нибудь написано? — спросил Семенов. — Да нет, — отвернувшись к окну, сказала она. — Рядовой труженик. — Кстати, как это вы определили, что я не тот, кого вы ждали? — Не так отвечали. — А как нужно? — Многого хотите. — Но это не имеет значения, раз уж мы едем вместе. — Как знать… Она смотрела в окно, и Семенов тоже позволил себе разглядеть ее хорошенько. Моложавость облика все же не могла обмануть — перед ним сидела старая женщина. Но держалась и выглядела она великолепно. Светло-лиловый костюм из плотного крученого шелка, дымчатая кружевная кофта со стоячим воротничком, скрывающим шею. На голове серая шляпа из рисовой соломки с пучком лиловых цветков… Серая кожаная сумочка лежала у Линды Николаевны на коленях, поддерживаемая обеими руками… Рассматривал он Линду Николаевну не из пустого любопытства. Детали одежды, как известно даже школьникам, тоже могут служить условными знаками для посвященного. Простейшее рассуждение: если она ведет на — свидание к Брокману его, контрразведчика, то у них должен быть какой-то знак, которым она даст Брокману сигнал об опасности. Но какой? Может, у нее есть миниатюрный передатчик для работы на близком расстоянии? — Разрешите, я посмотрю вашу сумочку, — сказал Семенов. Не меняя позы, она отдала сумочку. Ничего похожего на радиоаппаратуру он не обнаружил. Говорить больше было не о чем. Оставшиеся полтора часа в жарком вагоне показались бы в другое время невыносимо скучными. Но у каждого из них было о чем подумать, и два десятка станций мелькнули быстро, словно электричка шла без остановок. В 15.53 они приехали. От вокзала Линда Николаевна повела Семенова по прямой тихой улице, обсаженной по бокам старыми липами и застроенной невысокими, в большинстве двухэтажными домами дореволюционной архитектуры. Потом повернули на улицу с оживленным автомобильным движением, и еще метров за сто Семенов увидел деревянную арку с выцветшими красными буквами: «Колхозный рынок». Слева от арки — полукруглая площадь, заставленная автобусами, и в глубине ее — белый павильон автостанции. — Где он будет? — спросил Семенов. — Не знаю. Я вам уже объяснила. Семенов все еще безуспешно ломал голову над вопросом: каким образом Линда Николаевна сообщит Брокману, что ведет чужого? Платочек, что ли, достанет из сумочки? Или шляпу снимет? Строя предположения, Семенов тут же их и отвергал, ругая себя нехорошими словами. Если у них условлен знак, то непременно такой, чтобы не был заметен постороннему. Семенов ни на секунду не сомневался, что знак есть, но не мог его найти. Он шагал рядом с Линдой Николаевной, искоса на нее поглядывая. До рынка оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда ему пришла мысль, что единственной вещью, которая может служить сигналом, нужно считать сумочку. Ничего другого нет. Линда Николаевна держала ее в правой руке — от самого вокзала. Семенов решил так: если она, придя на рыночную площадь, переложит сумочку из правой руки в левую, он прикажет этого не делать. И наоборот: если Линда Николаевна не станет этого делать, он прикажет взять сумочку в левую руку. Дошли до рыночной арки, которая была на той стороне улицы, и остановились, чтобы пропустить машины. И тут Семенов сказал: — Возьмите сумку в левую руку. Линда Николаевна как бы не расслышала, следя за потоком транспорта. — Я говорю: возьмите вашу сумочку в левую руку, — повторил Семенов. — Что это вы нервный такой? — спросила Линда Николаевна. — Прошу вас, — уже сквозь зубы сказал Семенов. Она взяла сумочку в левую руку. Поток машин прервался. Они пересекли улицу и пошли мимо арки, потом краем площади по ее широкой дуге — справа магазинчики и мастерские, слева заставленная автобусами, пышущая масляно-бензинным смрадом асфальтовая жаровня. — Где мы с вами должны расстаться? — тихо спросил Семенов. — Вон там, на автовокзале. — Вы отсюда идите прямо к себе домой. Так будет лучше. — Неужели одну отпускаете? — Вопрос Линды Николаевны был полон иронии. — Не беспокойтесь, у вас будет подходящая компания. Только очень прошу: когда мы расстанемся, сумочку из руки в руку не перекладывайте. Она ничего не ответила. У здания автовокзала Семенов остановился в тени широкого козырька над входом, а Линда Николаевна продолжала путь по дугообразному тротуару, окаймлявшему площадь. Вслед за ней пошел один из товарищей Семенова. Отойдя метров на двадцать, она все-таки взяла сумочку в правую руку. Семенов провожал ее злым взглядом, пока она не достигла улицы и не скрылась за угловым домом. Он переглянулся с другим своим товарищем. Тот дал знак, что понял. Тут же он услышал за спиной спокойный голос: — Товарищ Воробьев? Обернувшись, он увидел перед собой Брокмана и спросил: — Вы Никитин? Вместо ответа Брокман сам задал вопрос: — Привезли для меня что-нибудь? Семенов похлопал по карману переброшенного через руку плаща. — Четыре тюбика. И кое-что на словах. Где бы нам поговорить? — Отойдем. Брокман повел его за автовокзал. Семенов, следуя в двух шагах сзади, обратил внимание, что Брокман был налегке. В руке свернутая трубкой клеенчатая сумка, но не совсем пустая, что-то в нее было завернуто. Обогнув здание, они очутились на маленькой, посыпанной песком площадке, окруженной чахлыми молоденькими тополями, не дававшими тени. — Отдать? — спросил Семенов. — Подожди, не здесь. Что такое ты хочешь передать на словах? Семенов опять похлопал по карманам плаща. — С этим надо обращаться осторожно. — Хорошо. Что еще? — Там волнуются — от тебя нет сообщений. — Кто волнуется? — Монах. — Та-а-ак… Все? — Сказано: ты должен что-то передать. — Что именно? В интонациях Брокмана слышалась двусмысленность. Не поймешь, то ли он принимает этот разговор всерьез, то ли просто не мешает валять дурака. Но дело начато — надо пробовать дальше. — Какие-то расчеты ждут, — сказал Семенов. — А о чем речь, не знаю. Брокман задумчиво поглядел на него. — Так-так-так… Вот что, Воробьев, прокатимся за город. Минут через десять они ехали в душном, скрипящем и стонущем автобусе по шоссе к селу Пашину, недалеко от которого Брокман в мае заложил под дубом тайник. Сошли на той же остановке и зашагали к лесу. Брокман шел сзади. — Мы далеко? — спросил Семенов, когда до леса оставалось совсем ничего. — У меня, знаешь, времени в обрез. — Пошли дальше, — сказал Брокман и показал рукой, чтобы Семенов, как и прежде, следовал впереди. Семенов заметил: сумки в руке у него уже нет, вероятно, бросил по дороге, но рука не пустая, что-то зажато в кулаке. — Ты что, конвоируешь меня? — пошутил Семенов. — Давай-давай. Надо было кончать… Продолжение не имело смысла. Брокман вел его в лес не для того, чтобы делиться секретами. Семенов дал сигнал своему товарищу, а сам резко швырнул свернутый плащ в лицо Брокману, чтобы ослепить, приемом дзюдо свалил его на землю. Подоспевший товарищ помог обезоружить Брокмана и скрутить ему руки.
ГЛАВА 26 Очная ставка
Как и следовало ожидать, на допросах Брокман признался только в том, чему имелись убедительные доказательства. Происходило это постепенно, от меньшего к большему. Причем полковник Марков с самого начала придерживался такой тактики: задавая вопросы, он как бы исходил из того, что допрашиваемый обязательно должен от всего отказываться, а на каждый отрицательный ответ тут же предлагал ему совместно разобраться, почему ответ неверен и в чем заключается слабость позиции допрашиваемого. Подобная система требует много времени и терпения, зато не оставляет места недомолвкам и неясностям. В основе тактики, избранной Марковым, лежало преднамеренное самоограничение: допрашивая Брокмана, он не использовал для его изобличения никаких сведений, полученных ранее от Михаила Тульева. Это ставило обе стороны в равные условия, и, таким образом, каждое добытое признание было результатом открытой борьбы и потому имело особую доказательную силу. Если бы Маркову сказали, что одним из мотивов, побудивших его избрать именно такой образ действий, послужило желание показать самому себе, что он по-прежнему предпочитает идти по линии не наименьшего, а наибольшего сопротивления и тем самым успокоить свое профессиональное самолюбие, задетое батумским эпизодом, — если бы кто-то высказал такое мнение, Марков, положа руку на сердце, наверное, не стал бы его опровергать. Но все-таки главным мотивом его действий было совсем другое, гораздо более важное соображение; предвидя поведение Брокмана, он берег факты, собранные Михаилом Тульевым, для последнего удара. Пусть Брокман пропитается иллюзией, будто следствию известен только маленький отрезок его жизни — с 28 мая по 5 июля 1972 года. Тем сильнее он почувствует шаткость своего положения, когда перед ним выложат всю его жизнь и когда сам Тульев поглядит ему в глаза. А пока следствие развивалось таким порядком. Для начала Брокман заявил, что послан в Советский Союз с единственным заданием — дождаться и встретить человека по фамилии Воробьев, который должен передать ему нечто, а он, Брокман, это нечто должен спрятать в укромном месте, например, закопать в землю. О содержимом тюбиков он не имеет никакого понятия. Допускает ли, что это «нечто» может быть химическим или биологическим средством войны? Об этом он не задумывался. При Брокмане найден пистолет, стреляющий оперенными иглами, острия которых несут смертельный яд. Для чего ему нужен был пистолет? Для самообороны. А микрофотоаппарат? Так, на всякий случай. А домашний секач, завернутый в клеенчатую сумку? Для того, чтобы с его помощью сделать ямку в земле и закопать посылку, — это был правдивый ответ. Когда Брокману показали «Спидолу», он заявил, что впервые ее видит. На вопрос, считает ли он неопровержимыми данные дактилоскопической экспертизы, Брокман ответил утвердительно. Марков спросил: «Держали вы когда-нибудь этот приемник в руках?» Брокман сказал: «Нет». Тогда у него взяли отпечатки пальцев и ладоней и в его присутствии проявили на корпусе «Спидолы» оставленные на ней следы, которых было очень много. Затем на экране совместили отпечатки со «Спидолы» и отпечатки Брокмана. Они совпали так точно, что Брокман, перебив эксперта, начавшего давать технические объяснения, признал, что «Спидола» с 17 мая по 6 июня находилась у него. После такого водевильного пролога Марков показал Брокману документальный фильм о его приезде в город К. и посещении квартиры академика Нестерова. Брокман признал, что у него было не одно, а два задания. Затем Марков показал ему кадры, на которых была запечатлена Линда Николаевна Стачевская и дипломат с таксой. Брокман заявил, что ничего по этому поводу сказать не может, так как не имеет к этому никакого отношения. Ему совершенно непонятен смысл действий его хозяйки и назначение пустой сигаретной коробки. На вопрос, куда девалась пленка, отснятая в квартире Нестерова, Брокман заявил, что она засветилась и он ее выбросил. На этом первый сеанс с Брокманом кончился. Линда Николаевна вела себя несколько иначе. На первом допросе она заявила, что является принципиальным противником Советской власти, которую считает незаконной, и готова нести за это любую ответственность, но никаких практических действий, наносящих ущерб государству, не совершала. На вопрос о Брокмане сказала, что познакомилась с ним случайно, а впоследствии, проникшись к нему симпатией, исполняла кое-какие мелкие его поручения. Сознавала ли она, что эти поручения связаны с его нелегальной деятельностью? Нет. Они, эти поручения, не заключали в себе ничего преступного. Получала ли она плату за свои услуги? Нет. Только за квартиру. Марков сказал, что контрразведке известно прошлое Линды Николаевны, и подтвердил это документами. Она от прошлого не отказывалась, но сделала оговорку, что и во время войны не совершила ни одного поступка, который мог бы служить основанием для суда над нею. Свое поведение она не считала изменой Родине — опять-таки по той причине, что не признавала Советскую власть законной. Марков сказал, что это экстравагантное объяснение служит великолепным доказательством того, что у нескольких управляемых на расстоянии маленьких диктаторов, управляющих маленькими государствами и не признающих Советский Союз, имеется в лице Линды Николаевны Стачевской верный союзник, но что ему, Маркову, это абсолютно неинтересно. Для Линды Николаевны тоже был организован документальный киносеанс. Однако это ее не разубедило: она продолжала утверждать, что исполняла поручения своего жильца, не усматривая в них ничего криминального. Чтобы избавить себя от лишней траты времени, Марков устроил Брокману и Линде Николаевне очную ставку и сделался свидетелем малоприятной сцены. Нет, он не обольщался относительно моральных качеств тех людей, против которых боролся по долгу чести и службы, по убеждению, но наблюдать вблизи неприкрытую человеческую скверну ему было противно. Линда Николаевна, увидев в кабинете Маркова своего жильца, постаралась не показать удивления, но огорчения не скрывала. Вероятно, у нее до последнего момента все-таки теплилась надежда, что ее сигнал тревоги (сумочка, переложенная в правую руку) был замечен и помог ему избежать встречи с мнимым Воробьевым, то есть с чекистом. Прежде всего Марков, которому помогали Семенов и Павел Синицын, уточнил и закрепил показания, касавшиеся встречи с Воробьевым. Тут Брокман и Линда Николаевна друг другу не противоречили и подробно изложили все детали, в том числе и о пароле, которого не знал Семенов. Затем Марков сказал, обращаясь к Брокману: — Итак, вы по-прежнему утверждаете, что Стачевская ездила в Москву и звонила в посольство по своей собственной инициативе? — Да, — отвечал Брокман. — Номер телефона вы ей не давали? — Нет. — Пустую сигаретную коробку, которую она бросила на Первой Брестской улице, вы ей не давали? — Нет. — Следовательно, эти действия Стачевская предприняла без всякого вашего участия? Вы о них ничего не знали? — Да, это так. Линда Николаевна сидела на стуле очень прямо, в струнку, глядя перед собой лихорадочно блестящими немигающими глазами. Но при последних словах Брокмана вся как бы оплыла. Плечи опустились, спина ссутулилась. — А что скажете на это вы, Линда Николаевна? — спросил Марков. — Все это ложь и пошлость, — голосом, полным брезгливости, отвечала она. — Такие формулировки хороши для романа, а мы пишем протокол очной ставки, — сказал Марков. — Ответьте на вопросы. Первый: почему вы звонили в посольство? — Меня просил этот гражданин. Но я не знала, куда и кому звоню. Вот так, в один миг, изменилось ее отношение к обожаемому жильцу, которого она именовала теперь «этот гражданин». — Кто сообщил вам телефон? — Он, конечно. — Вам ваш жилец известен под фамилией Никитин. Так его и называйте, — сказал Марков. — Хорошо. Номер телефона мне дал Никитин. — Где вы взяли пустую сигаретную коробку? — Мне ее дал Никитин. — Благодарю вас. — Марков вызвал конвойного, и Линда Николаевна покинула кабинет. Она даже не взглянула на своего бывшего повелителя. Она его презирала… Юридически эти показания Линды Николаевны на очной ставке в данный момент не имели такой силы, чтобы сбить Брокмана с его позиции в части, касающейся эпизода с дипломатом. Свои задания Линде Николаевне он давал наедине, без свидетелей, и утверждения Стачевской весили ровно столько же, сколько и утверждения Брокмана. А он категорически отрицал причастность к истории с сигаретной коробкой. Но впоследствии, когда дело Брокмана обретет контуры законченного строения, эта очная ставка ляжет в него необходимым кирпичиком. Сейчас Марков хотел побеседовать с Брокманом об эпизоде, которого Брокман не отрицал, — о посещении квартиры Нестерова. Тут были моменты, не вязавшиеся с представлениями Маркова о квалификации тех заочно знакомых ему деятелей разведцентра, которые разрабатывали операции против Советского Союза, и о методах, применяемых их агентами в повседневной практике. Откровенно говоря, Марков был до случая с Нестеровым более высокого мнения о разведцентре и его агентуре. Полезно было разобраться в деталях, чтобы понять, чем объясняются неувязки и сбои, которые он обнаружил в действиях Брокмана. — Скажите, Никитин, как вы сами считаете: в эпизоде с академиком Нестеровым у вас не было ошибок? — спросил Марков. Брокман еще не избавился от раздражения, вызванного свиданием с Линдой Николаевной, поэтому не мог сразу переключиться совсем на иную тему и иной тон. — Моя ошибка, что я сижу здесь, — сказал он довольно резко. — Это лирика. Такие слова более подходят Линде Николаевне, а вы мужчина, — заметил Марков. — Будем разговаривать конкретно. О поездке к Нестерову. — Я все сделал по обстановке. — Но вы действовали, мягко говоря, очень опрометчиво. Позвонили несколько раз по телефону, никто не отвечает — вы решили, что квартира пуста, можно идти. Но телефон мог быть просто неисправен. Вы даже не проверили на телефонной станции. А что касается звонка на работу — сами понимаете… — Да, это глупо. — И вообще, как же проникать в квартиру, не имея точных сведений, где ее хозяева? — С телефоном моя ошибка, но в остальном я все делал по инструкции. — В незнакомом городе без всякого помощника — как же так? — Я работал по аварийной схеме. Мне был приготовлен помощник, но он выпал. Почему — не знаю. — Фамилия помощника? — Кутепов. — Когда вы получили приказ работать по аварийной схеме? — Число не помню. Это было дня через три после того, как у меня оказались ключи. — Ключи Линда Николаевна доставила вам двадцать восьмого мая. А кто и как передал приказ? — По радио. Вероятно, квалификация разработчиков из разведцентра все-таки не понизилась. Аварийный вариант применяли вынужденно. Маркову было известно то, чего не знал Брокман: неожиданный приезд в город К. Пьетро Маттинелли заставил Кутепова спешить, и в спешке он совершил непоправимые ошибки. И выпал из операции, в которой должен был помогать Брокману. Кончики сходились. — Теперь скажите, Никитин, как вы должны были действовать не по аварийной схеме? Какая ставилась задача? — Задача одна — получить рукопись Нестерова, — сказал Брокман и замолчал. — Вы не ответили на первый вопрос, — напомнил Марков. — Ну, если бы все шло нормально, я разыгрывал бы из себя племянника Кутепова. Ухаживал бы за дочерью Нестерова. Подходы как будто были готовы. У Маркова опять возникло ощущение, что план разведцентра выглядит несолидно, если все расчеты строились на «племяннике». — Послушайте, Никитин, — сказал Марков, — вы отмежевываетесь от дипломата — я вам не мешаю. Но будьте же последовательны там, где вы сильно наследили. Вы о многом умалчиваете. Племянник, ухаживания — это, знаете ли, молочный кисель. Брокман усмехнулся. — Ладно, скажу. Племянник — тоже правда, но потом я и Кутепов должны были действовать по поручению иностранного разведчика. Он итальянец, девчонки его знают. И обе уже замазаны… — Вместе с ключами вам передали письмо Светланы Суховой. Для чего? — Обычный шантаж. Это никогда не мешает. — Вы надеялись получить рукописи Нестерова. А если бы он отказал? — Я мог применять силу. — Что это значит? — Что угодно. — Подождите, мы это запишем подробно, — сказал Марков и встал, чтобы взять из шкафа свежую кассету для магнитофона. А потом он услышал от Брокмана то, что уже слышал от Кутепова. И все концы этой истории окончательно сошлись… Казалось бы, после совершенно открытого разговора о Нестерове от Брокмана можно было ожидать большей открытости и во всем остальном. Но Марков на это не рассчитывал и был прав. На седьмой день после ареста Брокмана при очередном допросе Марков наконец тронул стержневую, самую страшную для Брокмана тему. Сказав, что для прояснения некоторых моментов необходимо вернуться к эпизоду с Воробьевым, Марков спросил: — Вы не подозревали, что в тюбиках может содержаться что-нибудь ядовитое? — Подозревать можно что угодно. — Спросим прямее: вы знали? — Нет. — Лабораторный анализ показал, что содержимое тюбиков — составная часть сильнодействующего, стойкого отравляющего вещества. Так сказать, одна из его половин. Наши химики знают приблизительный состав второй половины. Обе они сами по себе, отдельно друг от друга, почти абсолютно безвредны и обладают высокой инертностью. Только соединившись, они становятся страшными. — Я не химик, но охотно верю всему этому. — Тюбики Воробьев вез вам. Мы имеем право думать, что вторая половина была у вас. — Это вы на меня не нацепите, — решительно заявил Брокман. — Не знаю никаких половин. Ничего ни от кого не получал. Воробьев до меня не доехал. Дав ему выговориться, Марков продолжал: — Стачевская показала, что с девятнадцатого мая, то есть со дня вашего приезда к ней, и до четвертого июня, то есть до поездки к Нестерову, вы ни разу не отлучались из ее дома. Это верно? — Верно. — Стачевская добавила, что где-то между девятнадцатым и двадцать восьмым мая вы все-таки уходили из дому как-то днем и отсутствовали несколько часов. Это тоже верно? Брокман впервые ответил не сразу, а после короткой паузы: — Не помню. — А вы вспомните. Она еще снабдила вас закуской. Вы и секач с собой брали. — Не помню, — повторил Брокман. — Но вы по крайней мере помните свои слова по поводу того, почему при задержании у вас оказался этот секач? — Помню. — Повторите, пожалуйста. Я забыл их. — Чтобы зарыть то, что привез Воробьев. Если бы привез. Он прочно окопался за этим «если бы». И ничего тут не сделаешь… — А в тот, первый раз — для другой цели? Дров нарубить? — Не было того раза. Не ловите меня, гражданин начальник. Никогда Марков не позволял прорываться наружу чувствам, которые он испытывал по отношению к своим противникам. Он остался спокоен и сейчас. — Кто вас научил такому обращению — гражданин начальник? — У меня были хорошие инструкторы. — Прошу не употреблять этого выражения. Ваши начальники остались там. А насчет «того раза» мы еще побеседуем. Это было 12 июля. Вызванный на допрос 14-го, Брокман заявил, что больше никаких показаний давать не будет, так как все ему известное уже сообщил. Марков оставил Брокмана в покое. Он ждал Михаила Тульева, который вот-вот должен был вернуться после долгой жизни за рубежом. Не тревожимый привычными вызовами в кабинет полковника, Брокман начал проявлять нервозность.ГЛАВА 27 С поличным
Психологи и социологи, занимающиеся изучением различных пенитенциарных систем, принятых в разных странах в разные времена, расходятся — порою очень сильно — в оценке того или иного типа тюрем, установленного в них режима и эффективности разнообразных методов перевоспитания правонарушителей. Но все исследователи согласны в частном вопросе, касающемся одиночного заключения. Признавая его самым тяжким видом наказания и констатируя, что не все одинаково его переносят, специалисты установили прямую взаимосвязь между уровнем интеллекта заключенного и степенью приспособляемости к одиночному заключению. Чем ниже интеллект узника, тем быстрее и разрушительнее действует на его психику одиночка. Приученный к размышлениюум, удовлетворяющийся самопознанием дух несравненно более стойко переносит полное отсутствие контактов с людьми. Брокман не обладал высоким интеллектом. Выражаясь изящным слогом, сады его воображения заросли дремучим чертополохом и не плодоносили, а в темные заводи его души не проникал животворный солнечный свет. И хотя камера, где он содержался, скорее напоминала обыкновенную комнату — ничего лишнего, но все необходимое есть — и имела площадь не менее двенадцати квадратных метров, и несмотря на то, что предыдущая жизнь сделала из него законченного индивидуалиста, Брокман, запертый в четырех стенах впервые за тридцать семь лет своего существования, испытывал такое чувство, словно его телу тесно в собственной оболочке, и ощущал острую потребность хотя бы молчаливого общения с живым существом. Уже не с каждым днем, а буквально с каждым часом все нетерпеливее он ожидал, что его позовут на допрос. Но его не звали. Он начинал злиться, но тут же говорил себе: сам виноват, не надо было заявлять, что отказываешься давать дальше какие-нибудь показания. Он жалел, что, решив отращивать бороду, отказался от парикмахера, а менять решение считал малодушным. Он пробовал отвлечься, вызывая в памяти картинки из прежней жизни. Но картинки невозможно было остановить и разглядеть, они мелькали, наползали друг на друга и сливались в серое пятно. Он стал просыпаться по ночам по пять-шесть раз. Наконец — чего уж он никак не предполагал — от него ушел аппетит. Тут он понял, что может стать одним из тех неврастеников, которых, как сказано выше, презирал. Всегда тщательно заботившийся о своем здоровье, ибо хорошее здоровье при его профессии было первейшей необходимостью, Брокман с нараставшим беспокойством отмечал, что день ото дня все больше худеет. С ним произошла еще одна странность: ему противен стал дым табака, и он бросил курить. Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову, — в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким. Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности — одно напряжение. Дверь отворилась. В камеру вошел Михаил Тульев… Что испытал Брокман при этом появлении, словами передать невозможно. Михаил видел, как гладкий сухой лоб Брокмана вдруг покрылся крупными каплями пота, капли слились, и пот побежал вниз, на глаза, а Брокман смотрел не мигая, и его неподвижный взгляд был пуст. Михаил прикрыл за собою дверь и стал перед Брокманом в трех шагах. Так они стояли долго, не менее минуты. Наверное, если бы в это время раздался взрыв или к лицу Брокмана поднесли бы горящую спичку, он ничего бы не почувствовал, не услышал. Он был в шоке. — Здравствуй, — сказал Михаил. Брокман молчал. Михаил обошел его, сел на табуретку к столу. Брокман повернулся к нему, как манекен, и лицо у него было как у манекена. — Ты меня узнаешь? — спросил Михаил. — Мишле, — тусклым, совершенно без всякого выражения голосом сказал наконец Брокман. Он вспомнил фамилию, под которой Монах представил Михаила при их официальном знакомстве перед отъездом в Швейцарию. Настоящей фамилии Брокман, должно быть, так и не узнал. — Садись, поговорим, — сказал Михаил. Брокман послушно сел на койку, не сводя с него немигающих глаз. Михаил вынул из кармана сигареты — французские «Голуаз», крепкие, их он всегда предпочитал другим. Это была последняя пачка из привезенных им. — Кури. — Почему?.. — явно не услышав его, спросил Брокман. Понятно, что он хотел сказать: «Почему ты здесь?» Михаил сказал: — Я приехал домой. Брокман наконец вышел из шока. — Кто ты, Мишле? — спросил он почему-то шепотом. — Советский разведчик. — Ты работал на них? — Говори нормально, — сказал Михаил. — Успокойся. Что-то ты сдавать начал. — Ты советский? — Брокман никак не мог уложить это в своей голове. — Я уже сказал: ты плохо соображаешь. — Ох, кретины, какие кретины! — Облокотившись о колени, Брокман обхватил голову руками и застонал. — Ты сейчас, как в Гштааде, — сказал Михаил. — Помнишь, когда увидел тех типов, от Алоиза? Это подействовало на Брокмана так, словно ему дали понюхать нашатыря. — Зачем тебя ко мне прислали? — подняв голову, спросил он совсем другим тоном, уже готовый к сопротивлению. Михаил посмотрел на него, не скрывая презрения. — По делу. Но я и сам бы тебя навестил. — По-дружески? — усмехнулся Брокман. — Ты, оказывается, еще и свинья, — сказал Михаил. — Память у тебя хорошая, а Гштаад забыл? — Спасибо хочешь услышать? — Тебя бы уже давно черви съели, но я не об этом. — Михаил прикурил сигарету от зажигалки, затянулся раз, другой. Он хотел быть поспокойнее. Оторвал от пачки кусок плотной обертки, свернул на пальце кулечек — для пепла. И сказал: — Помнишь, ты рассказывал в Гштааде, как людей на тот свет спроваживал? — Я врал, фантазировал, — зло ответил Брокман. — Может, и так. Но про старика, которого железкой в висок, — это ты не врал. Фамилию его не помнишь? Брокман не понимал, почему вдруг речь зашла о каком-то старике, которого он когда-то убрал между делом и давно забыл о нем и думать и фамилию которого действительно не мог вспомнить. А когда Брокман чего-нибудь не понимал, он сразу терял почву под ногами. Он не знал, что говорить этому Мишле, который оказался совсем не Мишле. — Я тебе напомню, — сказал Михаил. — Фамилия старика была Тульев, Александр Тульев. Это мой отец. Брокман помолчал, соображая, и снова сник. — Но это чистая случайность… я же не знал… — Скотина. Последнее слово Михаил произнес тихо, как будто не для Брокмана, а для себя. И он совсем не ждал того, что произошло дальше. Брокман повалился на койку, закрыл лицо руками и заплакал. Он всхлипывал, плечи его вздрагивали. Михаил встал и начал ходить между столом и дверью, время от времени взглядывая на Брокмана, на его вздрагивающие плечи. Он был взволнован. Когда плачут такие, как Брокман, — это не пустяк, это не всякому дано увидеть. Не потому он лил слезы, что ему напомнили о давнем преступлении. Что для него какой-то старик, хотя бы и оказавшийся отцом человека, спасшего ему жизнь? Так, частный случай. Над всей своей изломанной, страшной жизнью плакал Брокман. И, как тогда, в курортном городке Гштааде, Михаил почувствовал к нему странную, смешанную с презрением, горькую жалость. И вновь, как тогда, подумал, что сам мог бы попасть в такое положение, не окажись к нему судьба чуть милостивее. Михаил остановился перед койкой. Брокман теперь не всхлипывал, он только тяжело дышал. — Не раскисай, — сказал Михаил. Брокман повернулся и лег лицом в подушку. — Я не квитаться с тобой пришел, — сказал Михаил. — Дело есть. — Говори, — совершенно спокойно, без всякого надрыва, отозвался Брокман. — Ты напрасно молчал на допросах. — Я не молчал. — Но главного не говорил. — Не знаю, что главное. — Врешь. — Чего ты хочешь? — Брокман сел. Лицо его было очень усталым. — Имей в виду: если человек добровольно сознается во всем на следствии, суд это учитывает. — При чем здесь суд?.. Тебя послал тот, который меня допрашивал? — Да. — Ему нужен мой тайник, понимаю. — Не только. — Ладно. Пусть вызовет.Брокман в присутствии Павла Синицына рассказал Маркову все, о чем умалчивал раньше, — и о тайнике, заложенном в лесу, и о том, что передал дипломату в сигаретной коробке пленку со снимками, сделанными в квартире академика Нестерова и в районе села Пашина, и со схемой местности, на которой помечен тайник. В конце его долгого рассказа Марков задал Брокману несколько вопросов. — То, что вез Воробьев, нужно было там же спрятать или в другом тайнике? — Где-нибудь недалеко. Но ни в коем случае не вместе. Я выбрал там подходящую точку. На схеме она тоже отмечена. — Дипломат понадобился, потому что вы лишились рации? — Пленку я все равно обязан был передать. У меня остался дубликат. — Где он? — Дома у Стачевской. Надо показать, сами не найдете. Там и письмо Суховой. — Дипломат вам нужен был лишь для этого? — Нет. Когда пропала рация, оставалась связь только через него. Было бы радио — не было бы открыток и всех этих телефонных переговоров. — Если бы все сошло благополучно с Воробьевым — что дальше? — Шестого июля Стачевская позвонила бы по телефону. — Дипломат и так знал, что Воробьев взят. У Воробьева был билет на самолет, его группа улетела пятого ночным рейсом. — Звонок был обязателен в любом случае. Раз не позвонила — значит, взяли и ее. — Стало быть, и вас? — Мой контрольный срок — десятое июля. — Тоже звонок? — Да. — А потом? — Потом бы меня списали. — Видите, что вы наделали своим молчанием. — Виноват. Марков посмотрел на часы — было без четверти девять. Начинало смеркаться. — Найдете тайник ночью? — Могу, — сказал Брокман. Марков отправил его в камеру, предупредив, что скоро за ним придут. — Да-а, Владимир Гаврилович, если бы этот подлец сразу все выложил, шестого июля можно было бы сочинить хороший сюжет, — сказал Павел. — Ты-то уж, пожалуйста, без «если бы». — Не скрывая досады, Марков бросил на стол карандаш, который вертел в пальцах. — Сколько езды до Пашина? — Тогда мы добрались за час с небольшим. — Семенов еще здесь? — Домой вернулся. — Захвати кого-нибудь. Поезжай с Брокманом. Проверь. Если тайник цел — не нарушайте. Отбери одну батарейку. Завтра с утра организуй там наблюдение. — Слушаюсь, Владимир Гаврилович. — На обратном пути заедете к Стачевской, возьмете пленку. — Понял, Владимир Гаврилович. Может, Михаила пригласить? — Ты же Марию вызвал. — Они с Сашкой еще не приехали. Завтра утром. — Ну, как знаешь… Только захочет ли он… — Захочет, Владимир Гаврилович.
Тайник Брокмана оказался в целости, Павел убедился в этом и оставил все, как было, взяв только одну батарейку — для анализа. У Маркова не было уверенности, что кто-то обязательно явится за спрятанными батарейками. Но он надеялся на это. Что давало надежду? Он рассуждал просто. Главное: со стороны тех, кто все это организовал, было бы неразумно оставлять содержимое тайника на произвол судьбы. Однако изъятие батареек связано с риском: можно попасть в засаду. Ставя себя на место противника, Марков пытался определить, какие соображения перевесят. И получалась такая картина. Во-первых, раз они послали Воробьева, значит, считали, что до пятого июля Брокман не был известен советской контрразведке. Во-вторых, арестованный Брокман не станет сообщать о тайнике — это равносильно самоубийству. Никаким иным путем о существовании тайника чекисты узнать не могут. В общем, исходя из этого, надежду свою Марков не считал беспочвенной. Господин с симпатичной таксой до 2 августа никуда из пределов Москвы не выезжал. 2-го он отправился за город, но совсем не в том направлении, где его ждали, — по Минскому шоссе. С ним в машине, кроме таксы, была молодая женщина. Километрах в пятидесяти от города они съехали на проселок, оставили машину и немного погуляли. А потом вернулись в Москву. 3 августа черный «мерседес» с тем же экипажем в девять часов утра свернул с кольцевой дороги на Горьковское шоссе, в десять миновал городок, где до недавнего времени жила Линда Николаевна, а в четверть одиннадцатого машина была в районе села Пашина. Дипломат поставил ее на лугу в тени большой скирды сена. Женщина взяла таксу за поводок и вышла из машины. Дипломат открыл лежавшую на сиденье большую спортивную сумку с наплечным ремнем, достал несколько фотографий — это были изображения местности, лежавшей перед его глазами: луг, окаймленный лесом. На одной из фотографий — опушка леса и высокий дуб, стоящий особняком. Потом он сличил местность с чертежом, лежавшим между карточками. Посмотрев снимки и чертеж, дипломат взял сумку и пошел следом за женщиной. Песик, в котором, вероятно, проснулся подавленный городским существованием охотничий инстинкт, тянул поводок так сильно, что женщине стоило труда идти шагом, а не бежать. До леса было не больше километра, но прежде чем дипломат увидел дерево, отмеченное на чертеже крестиком, им пришлось гулять долго. Павел Синицын связался с консульским управлением Министерства иностранных дел в начале десятого — сразу, как только стало ясно, что дипломат направился к тайнику. Чтобы соблюсти все правила, регламентирующие действия официальных представителей властей страны пребывания по отношению к лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, потребовалось время, но в половине одиннадцатого из Москвы по маршруту черного «мерседеса» уже выехали два автомобиля. В одном из них сидел Павел Синицын, в другом — сотрудник консульского управления и сотрудник посольства, соотечественник дипломата с собачкой. Отыскав дерево, под которым был тайник, дипломат велел женщине прогуляться в сторону шоссе, а сам, достав из сумки литой железный туристский топорик, приступил к делу. Дерн над ямкой, в которой покоились батарейки, был уложен так искусно, что он не скоро определил это место, дважды начиная копать не там, где нужно, но в конце концов нашел. Когда, откинув рыхлую, не успевшую слежаться землю, он увидел коробку, за спиной у него кто-то деликатно кашлянул. Дипломат, не поднимаясь с колен, оглянулся. Над ним стояли двое молодых людей, рослые, плотные. Они смотрели на него и молчали. Он положил топорик в сумку и хотел ее закрыть, но один из молодых людей сказал: — Просим вас, оставьте все, как есть. — Вы не имеете права ни задерживать меня, ни тем более обыскивать, — сказал он, вставая. — Мы знаем, — скромно согласился молодой человек. — Мы только убедительно просим вас оставаться на месте. Скоро сюда приедут другие люди, вы с ними и поговорите. Вид вежливых молодых людей не оставлял сомнений, что бросить все и уйти они ему не позволят, и дипломат, рассеянно поглядев в сторону шоссе, где на лугу гуляла женщина с таксой, сказал: — Мне нужно поговорить с женой. — Пожалуйста. Один из них сходил за его женой. Дипломат сказал ей, чтобы она шла к машине и ждала его там. Она была испугана, но старалась этого не показывать. Жена дипломата еще не успела достигнуть скирды, в тени которой стоял «мерседес», когда на шоссе появились две машины, шедшие на одинаковой скорости со стороны Москвы. Они свернули на луг прямо через кювет.
Всю дорогу Марии не давала покоя мысль: как-то встретятся сын с отцом? Саша знал отца по единственной фотографии, которую еще лет семь назад привез Марии по ее просьбе Павел. Мария карточку увеличила, отдала в ретушь и повесила портрет на стене в комнате сына. А получил ли Михаил карточку Саши, которую она передавала через Павла, и можно ли ему иметь ее при себе, Мария не знала. Долгие годы она по необходимости должна была скрывать от Саши правду об отце, придумывала всякие романтические истории о полной опасностей работе на Севере, но по мере того, как сын рос, делать это ей становилось все труднее. И все больше росло чувство невольной вины перед сыном. Особенно больно было, когда однажды Саша пришел со двора заплаканный и рассказал, что мальчишки, его дружки, не верят ему, говорят, что пусть он не сочиняет сказки про Север, что все это враки и никакого законного отца у него не было и нет. Мария постаралась объяснить ему, что эти недобрые мальчики только повторяют слова каких-то недобрых взрослых и не стоит обращать на них внимания. Она уверяла, что настанет день, и Саша обязательно увидит своего отца, и отец обнимет и поцелует его. И вот этот день настал, пришла эта долгожданная минута. Поезд щелкал колесами по стрелкам на подходе к Рижскому вокзалу. Саша, взявшись за поручень, привстал на приступке у окна, Мария стояла рядом, обняв его за плечи. Встречающих на перроне было мало. Мария увидела Михаила прежде, чем он увидел ее. Сердце у нее стучало часто-часто, она слышала этот стук. Во взгляде мужа, перебегающем от окна к окну, ей почудилась неуверенность и тревога — наверное, он боялся, что они не приедут, задержатся. Потом и Михаил увидел их, замахал рукой, улыбнулся и зашагал вровень с окном. И тогда Саша вдруг закричал: — Папа! Папа! И так плотно прижался к стеклу, что нос его сплюснулся и побелел. Поезд стал. Мария, опередив неторопливых соседей по вагону, следом за Сашей быстро пробралась к выходу. Михаил схватил правой рукой Сашу, левой взял у Марии чемодан. Она обняла Михаила и сына. Они стояли и все трое плакали. Пассажиры, проходившие мимо, поглядывали на них с неким снисходительным пониманием. Но пассажиры не могли их понять, потому что не знали, какой длинный путь пройден, прежде чем обнялись эти родные друг другу люди.
ГЛАВА 28 Рассказ Светланы Суховой
Нейрохирург, сделавший Светлане Суховой операцию на черепе и затем лечивший ее, был опытным врачом. Вначале он остерегался обнадеживать Веру Сергеевну скорым и полным выздоровлением ее дочери, потому что и сам был в нем не уверен. У него имелись основания сомневаться в возможности полного восстановления некоторых функции травмированного мозга. Правда, он рассчитывал на мощные компенсационные ресурсы молодого организма, но многое представлялось ему проблематичным. Однако на третьем месяце лечения стало ясно, что окончательной поправки ждать совсем недолго, о чем он и сообщил с великим удовольствием Вере Сергеевне. В первых числах августа к Светлане вернулись зрение и слух. Через неделю она стала говорить. До неузнаваемости исхудавшая за полтора месяца, в течение которых ее питали через вены, она быстро начала набирать вес. В конце августа ей позволили встать с постели. В середине сентября Вера Сергеевна взяла дочь из клиники. Домой они дошли пешком — так захотела Светлана… Для завершения дела Кутепова недоставало лишь показаний самой потерпевшей. Майор Семенов поговорил с врачом — тот заверил, что она готова давать показания, ее здоровью это не повредит. Пригласив подполковника Орлова к себе, Семенов послал за Светланой автомашину. Они не знали, как выглядела Светлана до случившегося, но сейчас увидели высокую, стройную девушку, может быть, излишне полную для своих лет. Смотрела она уверенно. Физическая травма явно не нанесла ей травмы психической. Беседа была долгой. Светлана рассказывала, Семенов и Орлов слушали, изредка вставляя вопросы. Вот основная часть рассказа Светланы. «Весну семьдесят второго мы с Галей Нестеровой ждали с таким нетерпением, прямо дни считали, когда станет тепло. У нас уже много отличных вещей было. Конечно, можно и зимой носить, но одно дело, когда ты идешь в замшевом костюме, а поверх надето зимнее пальто, и совсем другое, когда без пальто. Тут и аксессуары играют, а их у нас тоже хватало — Пьетро все выбирал со вкусом и в самых разных стилях. Виктор Андреевич за зиму еще три раза ездил в Италию и навез нам столько — не знали, куда девать, где прятать. Пришлось мне подключить Таню Балашову, нашу, из универмага. Она одна живет, без родителей, у нее и оставить можно и переодеться. Конечно, когда прятать приходится — это сплошное дерганье, но что делать? Продавать жалко было. Мы же не спекулянтки, правда? Все-таки наши мамочки что-то почуяли. Я своей врала, честно сознаюсь. Ну, она сначала верила, что я в долги влезаю, а потом сообразила: сколько же у меня должно накопиться долгов? И кто это такой добрый нашелся — тысячами дает, а когда получать будет, неизвестно. В конце концов я сочинила историю про пожилого поклонника. Предлагает пожениться. Все подарки от него. В общем, ничего, обошлось у меня с мамочкой, она у меня добрая, а вредной так и никогда не была, не то что Галкина мама. Но, оказалось, мы с Галкой зря на Ольгу Михайловну грешили, она в данном случае вела себя с большим понятием. Мы думали, объяснять ей насчет моего поклонника и почему он подарки из-за границы присылает — все равно что лапшу на уши вешать, как Леша выражается, то есть абсолютно бесполезно, не поймет. А она все прекрасно поняла, когда Галка ей мою историю рассказала. Да, я забыла про тот перстень. Галка наплела матери, что у одной ее знакомой студентки больны родители, надо ехать лечиться на целый год, а денег нет, вот они и решили продать перстень. Ольга Михайловна за семьсот рублей покупать не хотела, говорила, что это с ее стороны будет просто грабеж. Она очень хорошо в таких вещах разбирается, почти как настоящий ювелир. Но почему-то не пришло ей в голову спросить: чего ж эти бедные родители в скупку колечко не сдадут? А вообще-то она со странностями, могла об этом просто не подумать. В общем, она сказала, честнее будет предложить хотя бы девятьсот рублей, Галке спорить ни к чему, она взяла девятьсот, Виктору Андреевичу отдали семьсот — сколько просил. Две сотни оставили себе. У нас с Лешей тогда, между прочим, опять дружба начала налаживаться, хотя он, как увидит меня в заграничном, обязательно начнет подковыривать. Я этого не люблю. Сама умею. Но у него занятно получается, ему простить можно. Ну вот, я его пригласила погулять — на те деньги, конечно, — а он мне чуть по роже не съездил. И с тех пор опять разъехались. Если по-честному, то мне тоже, как и Галке, стыдно было из-за тех двух сотен, но только пока их в сумке таскала, а когда потратила — забыла и про перстень, и про эти несчастные рубли. Ну, думаю, никого же мы не обманывали. Виктор Андреевич сам семьсот запросил, Ольга Михайловна сама на девятьсот напросилась, разницу мы оприходовали — с кого спрашивать? Не выбрасывать же, когда тебе дают. Может, я не права, не знаю, но тогда об этом не рассуждала. Меня больше другое задевало. Сейчас скажу. Вот представьте себе. Живет девушка как девушка, не хуже других. И вдруг подходит к ней красивый молодой человек, иностранец, признается в любви и на следующий день уезжает. Он ей в общем-то до лампочки, несмотря на красоту, но он вдруг начинает посылки присылать в доказательство своей любви, а в письмах пишет, что просто умирает от тоски. И вот представьте, я тоже понемногу в него влюбилась. Выходит, за тряпки и за колечки? Никуда не денешься — значит, за тряпки. Я вам честно признаюсь — так оно и было, но вы можете верить, что я себя за это презирала. Я себя иногда спрашивала: сколько же ты стоишь? А когда человека можно оценить в рублях — неважно, в тысячах или там в миллионах, — это уже не человек, а так, предмет для продажи. Я никому о своих мыслях не говорила. Галка, знаю, тоже так думала, но тоже молчала. Так иногда буркнет что-нибудь, поворчит неопределенно, а вещи брала одинаково со мной. Тут мы обе хороши, ничего не попишешь. Но Виктор Андреевич меня всегда удивлял. Как будто у него такой аппарат был — для чтения мыслей. Он, например, все время нас уверял, что от любящего человека подарки принимать не грех и что вообще в большинстве случаев мужскую любовь можно измерить подарками. Если одни слова, а раскошелиться рука дрожит — значит, никакой любви нет. Грубо, конечно, но мне казалось, что доля правды в этом есть. А это успокаивало. Вот так побесишься, побесишься, а потом посидишь с Виктором Андреевичем за рюмочкой — и успокоишься. Только один раз подозрение у меня появилось. В конце апреля я получила от Пьетро письмо по почте, на универмаг, потому что домашнего адреса я ему не давала. Письмо брошено в Москве. Это было уже после третьей посылки. Читаю и ничего не пойму. Разговор такой, будто ничего между нами нет и не было. Просто вежливое послание девушке. Даже спрашивает, не совсем ли я его забыла. И про Виктора Андреевича ни гугу. А он же вроде специального курьера между нами. И пожалуйста, о нем ни звука, даже и привет не передает. А почерк тот же… Хотя какой почерк? Так, наверное, все первоклашки пишут. А в самом конце маленькими буквами написано, что приедет в Советский Союз и не позже двадцать третьего мая будет в нашем городе. Я сдуру показала это письмо Виктору Андреевичу. И вы знаете, первый раз тогда видела его расстроенным. Еще подумала: вот как можно обидеть человека. Мы тогда сидели и разговаривали в «Пирожковой», знаете, там столики прямо около тротуара стоят, на открытом воздухе. Виктор Андреевич мне бутылку «Байкала» взял, а себе минеральной, ничего спиртного там не продают, мне просто пить захотелось. А у меня как раз чулок поехал — о стул зацепила. Чтобы петля дальше не спустилась, надо прижечь, а Виктор Андреевич не курит. Я тоже давно бросила. Ну, я его и попросила у кого-нибудь стрельнуть. Он сходил через дорогу в ларек, принес пачку сигарет и спички. Я закурила, прижгла чулок и машинально раз-другой затянулась, даже тошно стало. И надо же, тут мимо проходил Витек, парнишка из нашего двора, Лешин адъютант. Ну и, конечно, увидел меня. А он не только глазастый, но и вредный иногда бывает. Рассказал моей матери. Та в слезы, у нее глаза на мокром месте. «Опять пьешь, опять куришь, не доведут тебя до добра такие знакомства» — и так далее. В общем, после той встречи мы с Виктором Андреевичем долго не виделись. Правда, звонил и мне и Галке, но, по-моему, он и сам встречаться не очень хотел. Вроде отпуск себе взял и нам тоже дал отдохнуть. В это время я пыталась с Лешей поговорить… Нет, конечно, чтобы наладить все как раньше — об этом смешно думать. Он сильно обиделся на меня, я знала. А у меня в голове один Пьетро… Но я думала: почему мы с ним должны быть врагами? Он славный. И мы же по-настоящему дружили… В общем, я к нему первая подошла, он с ребятами около нашего парадного стоял, а я с работы возвращалась. Позвала его в сторонку, чтобы не при всех говорить, а он: «Что, Светлана Алексеевна, старички уже надоели?» А ребята ржут, довольны. Да-а, такие дела… Ну а потом — это после майских праздников было — Виктор Андреевич опять пожелал нас видеть, катал на машине и про племянника рассказывал, о котором раньше говорил. Сказал, что скоро сюда приедет дней на пять повидать дядю. Очень он его Галке нахваливал, прямо сватал. Двадцатого мая Виктор Андреевич позвонил мне вечером домой и попросил разрешения повидать меня завтра, но без Галины, одну. Сказал, есть деловой разговор. Я подумала: опять едет в Италию. Мы встретились в половине девятого, еще светло было. Он ждал меня в своей машине на улице Тургенева, возле сквера. Поехали по Московскому шоссе, он сказал, посидим, если я захочу, в ресторане «Лесной», это километров двадцать от города, вы, наверное, знаете. Но в ресторан мы не попали… Мы до «Лесного» не доехали. Виктор Андреевич свернул на какое-то другое шоссе, потом на проселок и предложил выйти погулять. Ни о каких делах до той минуты он не заикался. Вообще всю дорогу не привычно как-то молчал. И вдруг… Чего угодно ждала, только не этого. Он говорит: — Должен вам сообщить, Светланочка, мы попали в очень неприятную историю. Спрашиваю: — Кто это мы? — Вы и я, — отвечает, — и отчасти Галя и ее мама тоже. Но в основном вы и я. — Объясните, — прошу его, а у самой все внутри дрожит, нехорошо даже. Ну он объяснил. — Как вы считаете, — говорит, — кто такой Пьетро Маттинелли? Он работал здесь в качестве инженера. Это верно, он и есть инженер. Но не только. Главная его работа носит секретный характер, понимаете? Вы удивлены? Я тоже был удивлен, но несколько раньше. И был так же напуган, как напуганы сейчас вы, моя дорогая. — Чего вы от меня хотите? — спрашиваю. — Зачем Я вам нужна? — Не мне вы нужны, — сказал он. — Я только исполняю волю других. — Но при чем здесь я? Он в тот момент совсем на себя не был похож. Буквально незнакомый человек со мной разговаривал, как будто первый раз его видела. Глаза злые, усмешечка такая и даже голос другой. Говорит: — Нет, дорогая девушка, сейчас я буду вопросы задавать. Вы сколько посылок получили? Если на деньги перевести — какую сумму это составит? Не считали или все-таки считали? А тот перстенек с изумрудом — он разве семьсот рублей стоит? И почему же вы его в скупку не сдали? Себе оставили или кому-нибудь уступили? Уж не почтенной ли Ольге Михайловне? Я молчала, потому что ответ на каждый свой вопрос он сам заранее знал, это ясно. А что я могла добавить? У меня просто язык отнялся. Он дальше: — Вы девушка умная, поэтому я обращаюсь к вашему разуму и прошу понять меня правильно. Ничего страшного не произойдет, если вы будете строго следовать моим наставлениям и хранить наши новые отношения в глубокой тайне. — Какие же у нас будут отношения? — спрашиваю. Он словно облегчение почувствовал, даже рассмеялся. И объясняет: — Все останется по-прежнему, не беспокойтесь. Но вы, как только мы с вами договоримся, будете не просто девушкой Светланой, которая очень нравится Пьетро Маттинелли, но его ценной сотрудницей. А руководить вами он будет через меня. Повторяю, все это не столь трагично, как может показаться на первый взгляд. — Но что я должна делать? — спрашиваю. — Ничего особенного. Это даже нельзя назвать делом. Вы имеете большое влияние на людей, которые вас знают. Вот это мы и будем использовать. До этого момента я была как оглушенная. Что-то спрашивала его, а в голове ничего не оставалось. Чувствую, творится что-то гадкое, подлое, а умом понять не могу. Но наконец-то до меня дошло. И злая я стала. И страшно сделалось. Даже подумала: может, все это просто шутка? Вот сейчас он кашлянет в кулак — он всегда так делал, когда собирался поострить, — и скажет, что разыгрывает меня. А он говорит: — Вы, Светланочка, скоро увидите: все прежние подарки — мелочь по сравнению с тем, что вы сможете иметь, если будете меня слушаться. Мне захотелось поскорее в город, домой, к маме. Так тошно, прямо сил нет. — Едем отсюда, — прошу его. Между прочим, уже давно стемнело, и жутковатым мне показалось то место. Он говорит: — Еще минуту, мы не закончили нашу беседу. Вы должны сказать либо да, либо нет. Но во всех случаях я теперь вынужден заручиться вашим обязательством никому ни о чем не рассказывать. — Расписку вам давать, что ли? — спрашиваю. — Это ненадежно, — сказал он. — Мы придумаем более верные гарантии. А сейчас я должен вас предупредить: о нашем разговоре вы не имеете права сообщать даже Пьетро. Сам он об этом спрашивать вас, разумеется, не будет. Тут только я подумала, какую же комедию целый год разыгрывал со мной этот Пьетро. И какой же надо быть сволочью и как нас с Галкой купили. Ненавидела я себя в ту минуту лютой ненавистью, как гадину последнюю. Губы себе все искусала до крови, чтобы не разреветься. — Поедемте отсюда, — прошу его. Но он не торопится. Решил ковать железо, пока горячо. Говорит с издевочкой: — Я понимаю, у вас незавидное положение, и чувствуете вы себя скверно, но что же поделаешь? Уверяю вас, дорогая Светланочка, уже завтра вам станет значительно легче, а через неделю вы поймете, что ровным счетом ничего не произошло. Ну какая из вас шпионка? Вы же еще, в сущности, ребенок, а те маленькие услуги, о которых я вас буду просить, они же безобидны, как детский поцелуй. Я застонала от тоски, и тут он добавил: — Но если вы кому-нибудь проговоритесь — знайте: это будет стоить жизни и вам, и вашей матери, и тому, кто узнает нашу тайну. До чего же ты докатилась, думаю. Если этот старый подонок не побоялся тебе в открытую говорить такие вещи — за кого же он тебя считает? Значит, уверен, что и ты гадина, которую за красивую тряпку можно с потрохами купить. Было бы что под руками, честное слово, я бы его убила. — Мы уедем отсюда в конце концов? Или я уйду! — кричу ему. Он мне руки больно сжал и говорит: — Потише. Я вам все сказал. И не сомневайтесь, все так и случится, если вы не пожелаете держать язык за зубами. Было уже, наверное, половина двенадцатого, когда мы приехали в город. Я хотела выйти из машины у первой трамвайной остановки, но он сказал: «Подвезу к дому». Ладно, думаю, все равно. Я уже решила, что надо делать. Приду, позвоню Лешке, попрошу зайти за мной, и вместе пойдем в КГБ, от нас десять минут пешком. Успокоилась, хотя очень курить захотелось. Мы ехали к моему дому со стороны гаражей. Там и у Леши есть гараж для мотоцикла — он называет стойло. И вот, не доезжая до этого места, машина вдруг заглохла. Он сказал, кончился бензин. Я вышла, он тоже и говорит: «Я вас провожу». Я говорю, не надо, а он меня догнал и идет сбоку. Там узенький асфальт положен, вдоль забора тянется. Он спрашивает тихим голосом: — Так мы договорились? Я молчу. — Светлана, вам же хуже будет, подумайте. Не выдержав, я говорю: — Сволочь проклятая, тебе в тюрьме место. Тут, наверное, он меня и ударил…». Отправив Светлану домой, Орлов и Семенов еще посидели в кабинете. Двойственное чувство вызвал у них ее рассказ. Им не понравилась манера изложения, но дело было не в лексиконе. — Вот и спрашивай после этого: осознала или не осознала? — сказал Орлов. — Не будем уподобляться резонерам. 1965–1978Олег Шмелев, Владимир Востоков С открытыми картами
ВМЕСТО ПРОЛОГА
История эта началась в 1961 году. Советской контрразведке удалось узнать, что в нашу страну заслан резидент одной из иностранных разведок, по фамилии Зароков (кличка — Надежда). Принимается решение: резидента при нелегальном переходе границы не арестовывать, дать ему возможность осесть на нашей территории, чтобы затем выявить его замыслы и связи. Для выполнения этой операции назначается контрразведчик старший лейтенант Павел Синицын. По замыслу руководителей операции, Павел под видом вора-рецидивиста (кличка — Бекас) входит в контакт с резидентом и, выдержав тщательную проверку, добивается его доверия. Вскоре Надежда через своего помощника Дембовича поручает Павлу привезти из глубинного района страны пробы земли и воды. Павел отправляется за пробами, добывает их и после предварительной обработки в специальной лаборатории передает Дембовичу. По ходу действия Павел оказывает услугу другому агенту этой же разведки, Леониду Кругу, нелегально возвращающемуся за границу, и вместе с ним оказывается за рубежом, в разведцентре той иностранной державы, которая заслала Надежду в СССР. Но у руководителей разведцентра закрадывается подозрение, что Бекас — специально подосланный советский разведчик. Его подвергают допросу на так называемом детекторе лжи, долго выдерживают в специальной тюрьме. Однако на этом проверка не кончается. Чтобы удостовериться в лояльности Павла, разведцентр организует через своего резидента в Москве — сотрудника посольства (кличка — Антиквар) доставку пробы земли и воды из того же района, где брал их Павел. Антиквар поручает это сделать находящемуся у него на связи агенту-валютчику Коке, который, в свою очередь, использует некоего Алика Ступина. Ступин, получив инструкции, едет к месту назначения. Но его задерживает как подозрительную личность местный охотник. Алик попадает в милицию, а затем в органы госбезопасности. Он во всем признается и выражает готовность искупить свою вину. Пробы земли и воды после соответствующей обработки доставляются Ступиным по назначению и переправляются на Запад. Анализ проб, сделанный в разведцентре, оказался аналогичным анализу проб, которые привез Павел. Подозрения исчезли, и зарубежная разведка включает Павла в игру. Разведцентр решает перебросить его в Советский Союз с заданием разыскать Надежду, который скрылся от преследования под именем Станислава Курнакова, и передать ему новую рацию и деньги. Павел отправляется на Родину, находит Надежду в городе К. и остается жить там. Надежда налаживает связь с центром, получает от своих шефов задание разведать важный объект под шифром «Уран-5». Первая половина задачи нашими контрразведчиками решена. Настало время приступить к выполнению второй. Надежду арестовывают. Павел под его именем остается в городе К., чтобы держать связь с заграничным разведцентром. На этом обрывается наша повесть «Ошибка резидента», выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1966 году. Предлагаемая вниманию читателей новая книга рассказывает о том, как развивалась операция дальше.
Глава I ВИЗИТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
С тех пор как старший лейтенант Павел Синицын, он же Бекас, поселился в городе К. и принял на себя обязанности резидента иностранной разведки Надежды, на протяжении полутора месяцев не случилось ничего. Зато в следующую же неделю возникло два новых обстоятельства, может быть, неравнозначных по важности, но свидетельствовавших об одном и том же, а именно: разведцентр неожиданно лишил Надежду своего доверия и счел необходимым учинить ему основательную проверку. Впрочем, правильнее будет сказать, что там, за кордоном, с некоторых пор стали сомневаться, действительно ли настоящий, а не подставной Надежда действует под этой кличкой. Строго говоря, у разведцентра могли быть некоторые причины для сомнений. Например, хозяева Надежды вправе были не слишком-то верить в то, что ему так легко удалось скрыться от советской контрразведки под именем Курнакова после далеко не безупречной операции по переправе Леонида Круга. А тот факт, что для налаживания связи с Надеждой им пришлось использовать Павла — Бекаса, вряд ли мог уменьшить беспокойство. Правда, контрольную открытку Надежда получил и связь между ним и разведцентром наладилась, но само по себе это никаких гарантий еще не давало. В общем, два обстоятельства, возникшие в начале августа 1963 года, заставили Павла, образно выражаясь, вновь застегнуться на все пуговицы. Сказать по чести, он в эти полтора месяца, после почти двухлетней непрерывной работы, позволил себе немного расслабиться. Но ему не трудно было быстро обрести хорошую форму — как-никак за плечами есть опыт. Полковник Марков через связного вызвал его на дачу в субботу. Павел думал, что просто хотят дать ему возможность провести воскресный денек среди товарищей, но оказалось, не так. — Свою ответную телеграмму помнишь? — спросил полковник, еще не дав Павлу сесть за стол. — Уран-пять… Нащупал подходы к объекту… — начал вспоминать Павел. Но Марков перебил его: — Так вот, дорогой товарищ Надежда, такого объекта не существует. В том квадрате, где они указали, нет никаких признаков объекта. Решительно никаких. И не предвидится в будущем. Было чему удивляться. — Для чего же им понадобилось это? Или у них были неверные сведения? — Давай поразмыслим. — Марков взял из тощей папки листок с машинописным текстом. — Вот их радиограмма. Что бросается в глаза, когда читаешь? Абсолютная категоричность. Никаких там «возможно», «по некоторым данным» и тому подобное. Эта категоричность, заметь себе, может быть основана только на данных космической разведки, и тут не сходятся концы с концами. Указанные в радиограмме квадраты — голая, безлесная равнина. При воздушной съемке подобной местности возможна ошибка, если снять ее один только раз и именно в тот момент, когда метеорологическая обстановка неблагоприятна. Многократные повторные съемки в различных условиях такую ошибку исключают. Значит, что же получается? Допустить, что серьезные люди в столь серьезном мероприятии вынесли безапелляционное суждение по одной-единственной съемке, было бы смешно. Значит, этот вариант отпадает, а вместе с ним и твой второй вопрос. — Остается первый, — сказал Павел. — Да. И на него нетрудно найти ответ. Они опасаются, что Надежда провалился и теперь вместо него подставлен другой. Этой радиограммой они предоставляют нам готовую возможность начать с ними игру, короче — снабжать их обильной дезой. — Так Марков для краткости именовал дезинформацию. — Потечет деза — стало быть, их подозрения правильны: Надежда взят. Все это становится похоже на игру с открытыми картами… — Без затей, но крепко. — Если все верно, мы на этом сыграем. Но пока это лишь догадки. Нужно ждать подтверждения. Думаю, они не ограничатся единственным способом проверки, коль уж их гложет червь недоверия. — Марков заметил комично-страдальческую гримасу Павла по поводу «червя недоверия» и прибавил: — Что, оскорбляю слух? Пустяки, потерпишь… Они улыбнулись друг другу, и Марков сказал прежним деловым тоном: — У тебя следующий сеанс с центром, кажется, в среду? — Да. — Думаю, скоро опять свидимся. Если будет что-нибудь необычное — сразу дай знать. — Слушаюсь, Владимир Гаврилович… После обеда в воскресенье Павел уехал к себе в К., в среду ночью за городом провел назначенный центром сеанс связи и принял радиограмму, содержание которой требовало срочного свидания с руководством. Радиограмма гласила: «Форсируйте «Уран-5». Ставьте нас в известность о всех предпринимаемых действиях. Сообщите свой домашний адрес и место службы. Слушаем вас в среду в этот час». Требование адреса вызвало у Павла тревогу. Надежда не успел сообщить центру о перемене местожительства. Откуда же им стало известно, что Курнаков по прежнему адресу больше не живет и в мастерской не работает? Кто-то, значит, узнавал в справочном бюро о Курнакове. Но там ничего сообщить не могли, потому что на новом месте Курнаков не прописан. Мелочь, казалось бы, но Павел в который уже раз имел случай оценить предусмотрительность Маркова. Это он решил, что месяца два-три нужно Курнакову — Бекасу пожить без прописки и без работы. Как видно из радиограммы, тот, кто разыскивал Курнакова, уже успел сообщить о своей неудаче в центр, и это, безусловно, усилило подозрения шефов Надежды. А что же с местом службы? Как они могли узнать, что Курнаков ушел из радиомастерской? Только одним путем: этот «кто-то» должен был зайти в радиомастерскую. Если разведцентр для проверки безопасности своего резидента столь торопливо идет на крайнее средство — посылает специального связного, — значит, дело серьезное. Тут оступаться нельзя… Прежде чем отправиться на дачу, где его ждал Марков, Павел зашел на почтамт и узнал, нет ли корреспонденции на его имя до востребования. Но ничего не было. Затем он посетил радиомастерскую. Напарник Надежды, курносый мастер Коля, встретил Павла как доброго знакомого. На заданный между делом вопрос, куда пропал их общий друг Стасик,Коля простодушно отвечал: — Ушел в отпуск по семейным обстоятельствам. — А никто им больше не интересовался? — Нет, — последовал ответ. Павел сделал вывод, что связной, приезжавший в К., знал Надежду в лицо: пришел, ничего не спрашивал, понаблюдал, убедился, что Надежды здесь нет, и убрался. Вечером в четверг Павел вновь встретился на даче с полковником Марковым. Прочтя полученную радиограмму, Марков обрадовался: его версия подтверждалась. Но радость тут же исчезла. — Теперь к Надежде должен явиться гость, иначе запрос об адресе не имеет смысла, — сказал Марков. — Это плохо. Впрочем, один гость уже успел посетить радиомастерскую и поинтересовался Курнаковым. — Марков имел в виду вчерашний визит Павла. — Да. Это точно… А нельзя ему пожить под моим присмотром в К.? Недели две-три. Тянуть с проверкой они, видимо, не будут, раз так торопятся… — Рискованно. Он еще не созрел. Марков долго прохаживался по комнате, сильно сутулясь, глядя в пол. Потом остановился перед Павлом. — Ничего не поделаешь. Придется тебе встречать гостя и выкручиваться. Гость Надежду пока не увидит, и это совсем расстроит наших партнеров. Но мы поправим им настроение одним правдивым сообщением. Давай-ка составим радиограмму. Через несколько минут на листке, вырванном из блокнота, было записано: «Косвенные данные, которые мною получены и точность которых я проверю в ближайшее время, заставляют думать, что ваши сведения по «Урану-5» неверны. Никаких свидетельств не только о большом, а и вообще о строительстве в указанных вами квадратах нет. Мой адрес: К., улица Подгорная, 5, дом Мамыкиных. Временно нигде не служу, ищу подходящее место. Надежда». …Павел вернулся в К., чтобы в следующую среду передать радиограмму разведцентру, а затем ему оставалось терпеливо ждать, что же произойдет дальше. …Однажды утром — это было на десятый день после отправки радиограммы — в ресторане московской гостиницы «Останкино» случилось маленькое происшествие. За длинным столом, накрытым для группы туристов из Западной Европы, когда все расселись, одно место оказалось незанятым. На это никто не обратил внимания, кроме пожилой дамы, весьма заметно молодящейся, которая занимала место рядом с пустующим креслом. Она подозвала гида и сказала, что герр Клюге почему-то не явился, — между прочим, вся группа давно с удовольствием наблюдала, как влюбленно эта не по летам экспансивная особа смотрит на туриста Клюге, который просил всех называть себя просто Эрихом, хотя тоже был не первой молодости. Гид не придал сообщению дамы никакого значения: мало ли бывает таких случаев. Может, человеку захотелось посмотреть на утреннюю Москву. «Но, — возразила она, — мы же собираемся на целый день в путешествие по каналу Москва — Волга, герр Клюге не успеет». Гид понимал, почему она так расстроена, но утешить мог лишь тем, что к их возвращению герр Клюге, безусловно, будет уже в гостинице. Далеко ли он может уехать?.. Но в этом гид ошибался: Клюге успел уехать от столицы довольно далеко. …В полдень Павел, неотлучно, как на дежурстве, сидевший дома последние трое суток, увидел в открытое окно идущего неторопливой походкой высокого мужчину в сером чесучовом костюме, в очках, с соломенной шляпой в руке. Он был похож на коренного москвича, который по приглашению знакомых приехал на дачу и разыскивает их, вспоминая, как ему описывали путь от станции… Мужчина в сером костюме искоса поглядывал на номера домов. Поравнявшись с № 5, остановился перед низким, до пояса, забором из штакетника. Павел вышел на крыльцо, потянулся сладко, будто только поднялся с постели, зевнул. — Здравствуйте! — услышал он очень приветливый голос. — Мое вам! — ответил Павел несколько удивленно, оборачиваясь к незнакомцу. — Чем могу? Тот слегка поклонился. — Это дом Мамыкиных? Не могу ли я видеть товарища Курнакова? — И, смущенный бесцеремонным разглядыванием, прибавил: — Я приехал из Москвы. Он живет здесь? — Живет-то он здесь, но сейчас его нет. Уехал, будет только завтра. А он вам зачем? — Да один наш общий друг просил его навестить. Я тут по делам, и… Павел грубо оборвал все более смущавшегося незнакомца: — Если что нужно, можете передать мне. Я тоже его друг. — Нет, нет, ничего не нужно, просто передайте привет с Большой Полянки. — Он как-то засуетился, несколько раз поправил очки, потом снял их, протер платком, опять надел. «Фотографирует, наверное», — подумал Павел. — Так вы не стесняйтесь, заходите, — пригласил он довольно грубоватым тоном. — Кинем по банке. Я еще не опохмелялся, а по-черному пить противно. — Простите, не понял… — искренне заинтересовался вежливый собеседник. — Что означает «по-черному»? — Это когда сидишь за столом вдвоем: сам и бутылка, а никого третьего нет. Незнакомец тихо рассмеялся, еще раз поклонился. — Спасибо, спасибо, я спешу. Передавайте горячий привет Курнакову. — Пока Стасик вернется, ваш привет уже остынет, будет чуть теплый. Они распрощались, и вежливый гражданин ушел так же неторопливо, как и пришел… Вечером, вернувшись в гостиницу «Останкино», герр Клюге встретил в холле даму из их туристской группы, свою всегдашнюю соседку по столу, — она пожертвовала поездкой на Московское море, надеясь, что Клюге явится хотя бы в середине дня, но он обманул ее ожидания. То ли оттого, что была раздражена, то ли ее действительно неприятно поразил костюм, которого до сего вечера она и вообще никто на Клюге не видел, но дама сочла необходимым сделать ему замечание. Павел в тот же вечер увиделся с полковником. Маркову его сообщение доставило большое удовольствие. — Мы им все-таки покажем Надежду. В недалеком будущем. А пока начнем закладывать хо-о-рошую мину. Время подошло, — сказал Марков. И заключил: — Да, это похоже на игру с открытыми картами, но не все карты будут открыты… Павел увез с собой новый текст телеграммы для передачи в разведцентр на следующей неделе: «Мною точно установлено, что ваши данные по «Урану-5» — блеф. Кажется, получил выход на объект аналогичного назначения. Ориентировочно расположен в квадрате КС 68–32. Понадобится разработка широкого плана действий. Получил привет с Большой Полянки, но не лично, а через Бекаса. Что это значит? Подобные контакты нежелательны в К. Если возникают сомнения и надобность видеть меня, дайте явку в Москву. Это безопаснее. Надежда».
Глава II ДИАЛОГИ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Вот выдержки из магнитофонной записи первичного допроса Надежды, который вел полковник Владимир Гаврилович Марков.
ИЗ ЛЕНТЫ № 4
Марков. Насколько можно понять из сказанного раньше, вы пользовались полным доверием у руководства центра… Надежда. У Монаха — да. Но не у Себастьяна. Марков. Почему? Надежда. С Монахом мы были так или иначе связаны на протяжении пятнадцати лет. Он делал карьеру на моих глазах. И к тому же мы почти одного возраста — он старше всего на два года. А Себастьян появился у нас в шестидесятом. Попал, как у вас говорят, в сложившийся коллектив. И вообще по характеру недоверчив. Поэтому он с первого дня на всех смотрел косо, не только на меня. Марков. В чем это проявлялось по отношению к вам? Надежда. Мне попадало рикошетом. Так, мелкие придирки. Себастьян питал неприязнь к моему отцу. Это он дал отцу кличку Одуванчик. Он презирает русских, особенно из тех, старых, из дворян. Злые языки говорили у нас, что сам Себастьян появился на свет в борделе тетушки Риверс в городе Мемфисе, штат Миссисипи. А отцом его был отставной капитан Страттерберк, описанный Уильямом Фолкнером, тот Страттерберк, который имел обыкновение не платить девицам за их услуги и из-за этого часто получал пинка в зад. Вот будто бы в результате одного из таких неоплаченных посещений и появился Себастьян. Этим и объясняли его злость. Он злится на весь белый свет. Но, простите, это между прочим… Марков. Он подданный Соединенных Штатов? Надежда. Как вы понимаете, в документы к нему я не заглядывал. Но все знали, что он прислан к нам Центральным разведывательным управлением Штатов. Это точно. Марков. Ну, хорошо, оставим пока Себастьяна… Вот вчера вы рассказывали о своих миссиях в странах Азии и Африки. Впоследствии мы остановимся на этом более подробно. А сейчас нас интересует одна, чисто техническая сторона дела. Каждый раз, как вы отправлялись на очередное задание, вам давалась явка или несколько явок, пароли… Помните ли вы их? Надежда. Кое-что помню. Что-то, вероятно, забылось. Но ведь явка и пароль даются на один раз. Как говорится, по употреблении выбросить… Марков. Разумеется. Но все же постарайтесь восстановить в памяти эти детали. Надежда перечисляет названия ряда азиатских и европейских городов, адреса явочных квартир, имена и фамилии, пароли. Марков. А был ли вам известен кто-нибудь из агентов, кого вы знали, так сказать, в частном порядке, а не потому, что вам дали явку и пароль в центре? Надежда. Я понял ваш вопрос. Отвечу подробно. Осведомленность такого рода правилами работы, конечно, не поощряется, но когда долго варишься в одном котле с одними и теми же людьми — я говорю: одни и те же, только в разных комбинациях, — то через пятнадцать лет накапливается целое собственное досье. Я знаю нескольких резидентов в разных странах. Если их уже не сменили. Кроме того, в некоторых местах центр держит постоянных агентов, которые никакой активной работы не ведут, а нужны так, про черный день. Мы их называем между собой якорями. Если, скажем, тебе когда-нибудь дали к нему явку, а в следующий раз посылают туда же, но явку не дают, все равно ты уже его знаешь, как старого знакомого. У меня, например, есть один такой, с сорок шестого барменом работает. Я у него неоднократно коктейли пил, в разные годы. Они просто сидят на месте и работают как обычные люди. Когда к ним приходят с паролем, они исполняют просьбу — и все, до следующего раза. Конечно, если подвернется какой-то из ряда вон выходящий случай, они могут проявить инициативу, но в принципе это от них не требуется… Марков. В европейских столицах у вас есть такие знакомые? Надежда. Были. Не уверен, сохранились ли они до сих пор. Но, в общем-то, по моим наблюдениям, этот контингент самый стабильный. Марков. Расскажите подробно о них. Надежда сообщает имена агентов, их особые приметы, дает краткие характеристики. Следуют названия городов, отелей, ресторанов, различных учреждений. Марков. Хорошо, этот вопрос ясен. Скажите, у вас осталась семья, дети? Надежда. Нет, это было совершенно невозможно. Здесь я нашел одну женщину, которую полюбил. У нее родился ребенок. Но вы же все знаете… (Следует долгая пауза.) Я могу задать вопрос? Марков. Пожалуйста. Надежда. Кто родился у Марии? Мальчик, девочка? Марков. Мальчик. Надежда. Как она его окрестила? Марков. Александром. Вы что, верующий? Надежда. Нет. Отец был верующий, в последние годы. Просто старый лексикон.
ИЗ ЛЕНТЫ № 7
Марков. Вы действительно любите Марию? Надежда. Да. Марков. Мария была в курсе вашей разведывательной деятельности? Надежда. Нет. Марков. Помимо ее поездки в Москву, какие еще ваши задания она выполняла? Надежда. Больше никаких. Марков. Почему вы решили убить сестру Михаила Зарокова? Надежда. Свидание с ней означало для меня провал. Марков. Если бы я сейчас спросил вас: как же вы могли пойти на это, как у вас поднялась рука? — ваш знакомый Бекас сказал бы, что это больше похоже на проповедь из цикла «Не убий». Но все же — как? Надежда. Я затрудняюсь… Надо было спасать свою жизнь… а при этом все средства хороши… Марков. Ну ладно… (Пауза.) Сестра Зарокова жива-здорова. Надежда. Что?! Что вы говорите?! (Пауза.) Не может быть! Марков. Да. А ваш наемник, Терентьев, расстрелян по приговору суда, но не за то, что он ехал убивать сестру Зарокова. Его расстреляли за прежние дела, как государственного преступника. Полагаю, вам это небезынтересно знать. А теперь скажите вот что: оговаривался ли при вашей засылке в Советский Союз такой вариант, что в случае угрозы неминуемого провала вы попросите центр организовать вашу переправу обратно за рубеж? Надежда. Да, такой вариант рассматривался, но лишь как самый крайний случай. Мне прямо было сказано, что на это я могу рассчитывать лишь после того, как мое пребывание в Союзе принесет ощутимые плоды. Подразумевалось, что я буду жить здесь долго, не менее пяти лет. Марков. Способы обратной переправы определялись? Надежда. В общих чертах. Называли два — морем и через сухопутную границу на Кольском полуострове. Марков. Вербовка агентов входила в ваши задачи? Надежда. По мере надобности. Если это потребуется для достижения поставленных целей. (Пауза.) Разрешите еще вопрос? Марков. Пожалуйста. Надежда. Нельзя мне увидеться с Марией? Марков. Будущее покажет. Надежда. Может быть, мне позволят написать ей? Марков. Напишите.
Глава III НУЖНЫ ДОЛЛАРЫ
Недоучившийся студент Алик Ступин, к своим двадцати семи годам сделавший блестящую подпольную карьеру спекулянта и валютчика, стараниями более матерого коллеги по прозвищу Кока, чуть было не стал предателем — пособником иностранной разведки. В этом, в сущности, вполне логичном развитии он прошел весь путь до крайней черты, а переступить черту ему не дали сотрудники госбезопасности. После памятной беседы в КГБ Алик Ступин резко переменил образ жизни и порвал все отношения с Кокой и прочими своими братьями по спекуляции. Он поступил на работу литсотрудником в многотиражку большого московского завода и начал пробовать себя в переводах с английского, которым владел довольно сносно. При воспоминаниях о тайном, пропитанном опасностью и иезуитством житье-бытье у него порою посасывало где-то в груди. Шальным, кружащим голову ветерком пробегала мысль: а не вернуть ли все? Но вспоминался разговор с усталым пожилым человеком там, на Дзержинке, ранним утром в не проветренном еще кабинете, и это сразу отрезвляло. В новую свою жизнь из старой Алик перенес лишь любовь к новейшим магнитофонным записям, к коллекционированию этикеток от спичечных коробок, а также тесную дружбу с Юлей Фокиной, которая, он знал, его обожает. О женитьбе они пока не говорили, но отношения их складывались таким образом, что они в любой момент могли стать мужем и женой. Юле было двадцать три, она только что окончила медицинский, но сумела каким-то образом избежать обязательного распределения и пока, по настоянию родителей, отдыхала от изнурительного учения в ожидании приличной вакансии в Москве. Впрочем, она была способным человеком, училась хорошо и не грешила особым легкомыслием. Одно только смущало Алика: она была знакомой престарелого Коки, он их и свел. Сама Юля объясняла знакомство с Кокой тем элементарным фактом, что жила с ним по соседству, на Большой Полянке, и, кроме всего прочего, говорила она, Кока же ей в дедушки годится. В конце концов Алик сумел подавить в себе зародыш ревности. Но тень Коки, как темной личности, имеющей связи с еще более темными, все-таки ложилась на их отношения. Алику противны были даже косвенные напоминания о старом пройдохе, а Юля была самым прямым и живым напоминанием. Но Юля ему очень нравилась, и с этим он уже ничего не мог поделать. Иногда она заезжала к Алику на работу, брала ключи от его квартиры и потом сидела одна у него дома, слушала магнитофон. В такие дни он любил приходить домой прямо с работы, не задерживаясь нигде. Было приятно знать, что Юля ждет, приготовила что-нибудь на ужин, и, когда он умоется, тут же сварит кофе, и он выпьет чашку, еще не садясь к столу, а опустившись в низкое кресло подле включенного магнитофона. Сначала это смущало его — слишком похоже на жизнь женатого человека, — но потом он подумал: а почему бы и нет? Если Юля и в замужестве останется такой, одно можно сказать: да здравствует семейная жизнь! Близкой подруги, как она сама выражалась, подруги на каждый день, у Юли раньше никогда не было. Но в последний месяц она очень сблизилась с некоей Риммой. Они были во многом похожи: обеим по двадцать три, обе высокие, прекрасно сложенные. Их вполне можно было принять даже за родных сестер. Знакомство их произошло в кафе-мороженое на улице Горького: Римма подошла к одиноко скучавшей Юле и попросила разрешения сесть за ее столик. С первых быстрых и острых изучающих взглядов они почувствовали обоюдную симпатию, а когда, съев по две порции мороженого, покидали кафе, обе уже и представить себе не могли, что больше не встретятся. Они обменялись телефонами и увиделись на следующий день. Через месяц они уже вообще удивлялись, как могли до этого жить друг без друга. И вот тогда-то Юля и решилась познакомить Римму со своим Аликом, а Римма Юлю — со своим Володей. Римма, между прочим, однажды обмолвилась, что ее Володя — редкий нелюдим да к тому же работает в каком-то сверхсекретном «ящике», то есть в номерном институте или на номерном заводе, хотя при людях, которых хорошо знает, может быть своим парнем. Одним словом, не было ничего удивительного в том, что как-то в солнечный сентябрьский вечер Алик Ступин, придя с работы, увидел у себя в квартире, кроме Юли, еще и другую молодую женщину, которая поразила его сходством с Юлей. Алик ничего бы не имел против этой милой дружбы — с тех пор они часто проводили время втроем, — и все бы было хорошо, если бы не один внезапный разговор. Это случилось вечером у него дома. Посреди какого-то малозначительного спора Юля сказала ни к селу, ни к городу: — Знаешь, Алик, а Риммин друг Володя едет за границу. — Сейчас многие ездят, — без энтузиазма откликнулся Алик. — Куда? — Брюссель. Служебная командировка. И кажется, всего вдвоем или втроем. Это не в стаде туристов. — Нда-а-а… — неопределенно протянул Алик. — Никаких идей на этот счет не возникает? — иронически спросила Юля. — Я считала, у тебя рефлексы отработаны. — Не понимаю, о чем речь? — Он мог бы нам кое-что привезти. — Например? — Например, французскую помаду и краску для ресниц. Брюссель — это почти Франция. — А ты говоришь почти как людоедка Эллочка. Зачем вам косметика? Об вас спички зажигать можно. — Не вечно же мы будем молодыми, как говорила моя бабушка. — Косметика долго не лежит, она портится. Или выдыхается. — Ничего, полежит. И если тебе приличные галстуки привезут, а нам кожаные пальто — разве плохо? — Юля начинала раздражаться из-за того, что Алик упорно не желал ее понять. — К чему ты клонишь? Говори прямо. — Нужно достать валюту. Теперь Алик взглянул на нее с некоторым изумлением: мол, ого, малютка, не ожидал от вас такой прыти. — Что значит «достать валюту»? Как будто это красная икра или билет на Райкина! Доставай! — Нет, ты определенно заторможен! — воскликнула обычно невозмутимая Юля. — Неужели до тебя не доходит? Ты же дружишь с Кокой, а Кока наверняка может достать, я знаю. Алика подбросило с кресла, словно он катапультировался. — Что?! — закричал он вне себя. — Что ты знаешь?! Не болтай ерунды! Нет, Юля, конечно, не была посвящена ни в настоящую Кокину, ни в бывшую Аликову подпольную деятельность, ни в их совместные махинации. Но она один раз была гостьей Коки, в его комнате, похожей больше на антикварно-посудный отдел комиссионного магазина, и она чисто женским чутьем угадала по всей обстановке, по воздуху Кокиного хрустального жилища, что старик зарабатывает себе на хлеб и на масло не продажей лотерейных билетов в метро и уж, во всяком случае, существует не на пенсию, как бы велика она ни была. Потому у нее само собой и произошло, если можно так выразиться, прямое замыкание этих двух понятий — «валюта» и «Кока». Алик разозлился не на шутку: — Не произноси в моем доме этого имени! Он мне не друг и никогда другом не был! — Ну что ты кричишь? Побереги нервы, — пробовала утихомирить его Юля. — Тебе не друг, так мне сосед. — Ну и целуйся со своим соседом! — Фу, фу! — Юля поморщилась. — Как быстро слетает с тебя респектабельность. — Обойдусь! — отрезал Алик. Юля встала, вздохнула, взяла со столика сумку, натянула перчатки. — И мы тоже обойдемся. — Повернулась к Римме: — Пойдем отсюда, а то он сейчас расплачется. Они были уже на лестнице, спускались потихоньку, когда Алик открыл дверь и крикнул им вдогонку: — Не советую! — Спасибо за бесплатный совет, — ответила Юля. …Юля, когда хотела, умела быть решительной и настойчивой. Уже на следующий день она по телефону договорилась с Николаем Николаевичем Казиным, то есть с Кокой, что послезавтра вместе с подругой навестит его вечером. Кока давненько не видел Юлю и очень обрадовался. Встретил он их наилюбезнейшим образом. При виде двух молодых красивых женщин глаза старого пройдохи засияли. Кока вдруг сделался суетлив, что вообще было ему несвойственно. Выставил из серванта на столик конфеты, фрукты, печенье, бутылку вина. Порывался найти еще что-то. Но подруги рассиживаться не собирались. Юля сразу приступила к делу: — Николай Николаевич, а мы к вам с просьбой… — Зачем так уж сразу, Юленька? — умоляюще произнес Кока. — Вы хотите сократить мне удовольствие? Не будем спешить, посидите, отдохните, вот вина выпьем, хорошее вино. Но Юля стояла на своем: — Я знаю, Николай Николаевич, приличия требуют сначала поинтересоваться здоровьем человека, а потом уж попросить в долг десятку. Но я считаю, что это-то как раз и неприлично. По-моему, надо делать наоборот. Так будет гораздо честнее. — Вам нужны деньги? — с готовностью откликнулся Кока. В его вопросе слышался и ответ: «Пожалуйста». — Да, но не рубли. — А что же? Копейки, сотни, тысячи? — пошутил Кока. — Нет, нам нужны доллары, — просто объяснила Юля. На лице у Коки по-прежнему сияла улыбка, но выражение глаз изменилось. Они сразу потухли. — Гм, доллары… — Кока пожевал губами. — Где же их взять, красавицы дорогие? — Он сделался поразительно похож на старую цыганку. — Они же на дороге не валяются. А? — Ну, Николай Николаевич, — взмолилась Юля, — вы же все знаете, все умеете. Помогите нам, мы вам будем так благодарны. Кока метнул на нее быстрый взгляд из-под бровей. — А на что же они вам, если не секрет? — Да понимаете… — Юля запнулась, посмотрела на Римму, молчавшую на протяжении всего этого разговора. — Вот она лучше объяснит… Скажи, Римма. Римма коротко рассказала, кто такой ее друг Володя, куда и зачем он едет. — Как его зовут? — поинтересовался Кока. Римма взглядом спросила Юлю, говорить ли. Та кивнула. — Борков, Владимир Борков, — сказала Римма. — А не боится Владимир Борков везти уголовно преследуемую валюту? Юля, почувствовав, что дело, кажется, идет на лад, заговорила быстро, торопливо: — Римма его еще ни о чем конкретно не просила… Но чего тут особенного?.. Многие так делают… — Ну уж многие! — заметил скептически Кока. — Скорее так делают очень немногие. — Николай Николаевич, миленький, ну сделайте для нас! Такой случай… Теперь и улыбка исчезла с лица Коки. Он стал серьезным. — Сколько же долларов видится вам в ваших снах? Римма и Юля переглянулись. Юля сказала: — Ну, двести… двести пятьдесят… — Это будет дорого стоить. — Ничего, сколько уж будет… Кока оглядел, прищурившись, сначала одну, потом другую и сказал почти сухо: — Ну, предположим… Однако должен вам сказать… Не обижайтесь… Словом, есть одно правило, которого я придерживаюсь уже давно. В подобных мероприятиях женщинам лучше не участвовать. Короче, этот человек… как вы сказали — Борков, да? Так вот, если вам нужны доллары, пусть Борков встретится со мной. Римма и Юля смотрели друг на друга с недоумением. Такого поворота они не ожидали. Римма слегка пожала плечами: мол, что же делать, придется соглашаться. Но Юля попробовала сначала возразить. — Но, Николай Николаевич, мы ведь уже принимаем, так сказать, некоторое участие… — И хватит, на этом оно и должно кончиться. — Кока снова улыбался. — Хорошо, — сказала Рима. — Он может к вам прийти? Когда? — Лучше не ко мне, а давайте, скажем… — Кока подумал. — Послезавтра в семь вечера на почтамте… на Кировской — знаете?.. Ну вот, вы придите вместе, я буду стоять у окошечка выдачи писем до востребования на букву «К». Вы ему меня покажите, а сами ступайте себе… Мы уж договоримся. Устраивает? — Вполне, — сказала Римма. …В назначенный час к Коке, стоявшему у окошечка, где выдавалась корреспонденция, подошел Владимир Борков. Кока не сомневался, что это именно он, потому что видел, как Римма и Юля вошли в зал вместе с ним и глазами показали ему на Коку. Это был молодой человек лет двадцати восьми, среднего роста, плотный, чернобровый, сероглазый, с темными, коротко стриженными волосами, зачесанными на косой пробор. Лицо твердое, тугое, с чуть заметным румянцем. Он производил впечатление человека, крепко стоящего на ногах, виден был характер. Смотрел прямо и приветливо. Но вместе с тем во взгляде его, как бы помимо воли, где-то в глубине глаз проскальзывало какое-то второе выражение, не то лукавое, не то дерзкое. Все успел приметить в одну минуту прожженный, видавший тысячи всяких видов подпольный делец Кока с Большой Полянки… Из почтамта они пошли в чайный магазин, что напротив и чуть наискосок. Переходя улицу, обо всем условились. Кока назвал сумму в рублях и сказал, что доллары при нем, а Борков ответил, что согласен и что деньги тоже при нем. Кока разъяснил, как они должны осуществить обмен. В чайном магазине он положил в карман Боркову доллары. А затем они пошли по Кировской к площади Дзержинского, завернули в посудный магазин, что на углу, и там Борков положил в карман Коке пачку двадцатипятирублевок. И на том они расстались… Кока и вообразить себе не мог, в какой клубок намотается эта нитка, кончик которой ему достался в руки взамен двухсот долларов…
Глава IV СКАНДАЛ В БРЮССЕЛЕ
Делегация, состоящая из трех специалистов по химическому машиностроению, улетала с Шереметьевского аэропорта. Никто из официальных лиц ее не провожал: обычное дело, обычная командировка, всякий протокол и торжественность были бы неуместны. Двоих провожали жены, а молодая высокая женщина, державшая под руку третьего, не была женой этого молодого человека, как догадывались по каким-то неуловимым признакам супруги. Двое из троих давно знали друг друга по совместной работе в научно-исследовательском институте. Это были солидные пятидесятилетние люди, один — доктор, другой — кандидат технических наук. Третий пришел к ним полгода назад, но успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Он инженер-конструктор, энергичен, оригинально мыслит в своей области и вообще вызывает симпатии как товарищ. Фамилия его Борков, Владимир Сергеевич. Его работа в институте началась с того, что он сделал ценное предложение, усовершенствовавшее целый цикл производства, и коллеги относились к нему с искренним уважением, несмотря на его молодость. Расцеловались у выхода из аэровокзала, женщины помахали на прощанье рукой, пассажиры вышли на перрон. Все как обычно. К вечеру того же дня делегация уже была в Брюсселе. Здесь их встретили чиновник бельгийского министерства иностранных дел и представитель крупного химического объединения — советская делегация намеревалась заключить договор на приобретение нескольких комплектов химического оборудования. Большой черный автомобиль остановился у отеля «Плаза». Это был не самый шикарный отель Брюсселя, но и не из дешевых, как раз подходящий для солидных деловых людей. Здесь уже были забронированы номера. Старшие поселились вместе в люксе, а молодой Борков получил номер на четвертом этаже. Условились, что два часа дается на приведение себя в порядок с дороги, а затем — ужинать здесь же, в ресторане отеля. Владимир Борков управился с ванной и бритьем в полчаса, меж тем как «старики» по привычке делать все основательно и не спеша растянули эту операцию на полный обусловленный срок. Сэкономленные полтора часа Борков использовал самым деловым образом. Сойдя по лестнице вниз, он подошел к портье с таким видом, как будто тот знает его невесть сколько лет, и совершенно по-свойски спросил на беглом французском языке, где здесь поближе и подешевле купить кое-что для женщин — ну, там духи, кремы, кожаные вещи. Портье, нисколько не удивившись — такие вопросы задавались ему часто, — объяснил, что неподалеку есть большой универсальный магазин «Бомарше», там найдется все необходимое. Борков предложил портье сигарету, но тот отказался, приложив руку к сердцу. Разговор этот занял пять минут. Взглянув на часы, Борков поблагодарил любезного портье и вышел на улицу. «Старики», вероятно, были бы изумлены, если бы увидели сейчас своего молодого коллегу. Сдержанность и скромность манер, которые считались его отличительной особенностью, улетучились бесследно. У него даже походка изменилась, стала не то чтобы расхлябанной, а какой-то ленивой. Казалось, он прислушивается к ритму улицы и старается попасть в ногу с нею. В магазине Борков прежде всего купил недорогой, но вместительный и приличный на вид чемодан, а затем начал методический обход прилавков. Через час Борков вернулся в гостиницу. Из номера он позвонил по телефону в люкс к «старикам». — Геннадий Павлович? Это я, Володя. Ну как, вы готовы? — Я готов, но вот Вениамин Александрович запонки никак не найдет. Боится, что забыл. У вас, случаем, нет ли запасных? — У меня одни, но сейчас я в рубахе, к которой запонки не нужны. Спускаюсь к вам. — Сделай одолжение, милок… А еще через полчаса они сели впятером за стол в ресторане — те двое встречавших тоже пришли, — и Владимир Борков снова был сдержанным и скромным. Выпили за успех торговли, плотно поужинали. Произошла деловая беседа. Гости интересовались техническими характеристиками оборудования, которое они собирались закупить, и бельгийский специалист не преминул отметить солидную профессиональную осведомленность молодого русского инженера Владимира Боркова. Разошлись в половине двенадцатого, условившись о расписании на завтра… Подходили к концу четвертые сутки деловых переговоров. Вечером после утомительной поездки и осмотра одного из крупнейших предприятий химического машиностроения советская делегация возвратилась в Брюссель. Приехали в гостиницу усталые, но довольные ходом переговоров. Владимир, пожелав «старикам» спокойной ночи, сам отнюдь не искал покоя. У себя в номере он первым долгом внимательно осмотрел чемодан и сразу определил, что его вскрывали. Вещи оказались на месте, уложены в том же порядке. Борков, стоя у окна, выкурил сигарету, потом надел плащ, спустился в лифте и вышел из отеля. Сыпал мелкий сеяный дождь, было довольно холодно. Борков поднял воротник. Улицы выглядели пустынно, и мигание бесчисленных реклам казалось странным в этом безлюдье — они подмигивали вхолостую, никому… Борков дошел до площади, на которой была стоянка автомобилей, и тут его догнал таксомотор. Водитель притормозил у тротуара и веселым, задорным голосом спросил: — Вам не надоело мокнуть? Может, сядете ко мне? — И открыл дверцу. — Великолепная идея! — в тон ему сказал Борков, усаживаясь рядом. — Такие мысли приходят в голову не часто. — Ну, для этого просто надо сделаться владельцем такси, — отвечал шофер, совсем молодой парень. — Куда прикажете? Борков назвал ночной ресторан. — Там можно согреться, — сказал шофер. Ехать было совсем недалеко, через несколько минут машина остановилась у ресторана. Борков расплатился. — Желаю вам выйти отсюда сухим, — сказал шофер на прощанье. — Спасибо, постараюсь… Борков снял плащ, кинул его небрежно на руку швейцару, распахнувшему перед ним дверь, задержался перед большим, в полстены, зеркалом в просторном холле, бегло оглядел себя, пригладил ладонью влажные волосы. Широкие двери, ведущие в зал, были плотно прикрыты. Из-за них доносилась приглушенная музыка — рояль и ударник. Едва Борков вошел в зал, возле него вырос метрдотель, появившийся откуда-то из бокового помещения, — высокий мужчина лет сорока, плотный, во фраке, с внешностью циркового шталмейстера. Он оценивающе, как-то единым взглядом охватил фигуру Боркова, спросил вежливо: — Вы один? — К сожалению… Зал был почти пуст, только за несколькими столиками сидело по два-три человека. — Похоже на заседание общества трезвости, — пошутил Борков мрачно, без улыбки. — О, не беспокойтесь, — сказал метрдотель, — тесно будет. Сейчас еще рано. Прошу прощения за вопрос: вы долго рассчитываете у нас посидеть? — Если будет весело, почему же не посидеть? — Тогда я вам рекомендую вон тот столик. Разрешите, я вас провожу. Он повел Боркова к столику в левом углу, ближе к эстраде, возле свободного пятачка, оставленного для танцев. — Здесь вам будет хорошо, — сказал любезный метрдотель. — Вы у нас впервые? — Это прозвучало скорее утвердительно, чем вопросительно. — Да. Командировка. — Как поживает Париж? — Разговаривая, метрдотель успел подозвать официантку, небольшую ростом девушку, очень живую, с блестящими черными глазами. — Как всегда, — сказал Борков, щелчком указательного пальца стряхивая пепел с сигареты в пепельницу. Метрдотель обратил внимание на этот жест. Так стряхивают пепел только русские. Сигарета у Боркова погасла. Он полез в карман пиджака, достал коробку спичек советского производства. Прикурил и быстро сунул коробок обратно в карман. Метрдотель проводил глазами его руку и сказал: — Вы говорите, как истый парижанин. Мне всегда приятно слышать такую речь, давно не был в Париже. Надеюсь, вам у нас понравится. Будете ужинать? — Конечно. — Я принесу вам карточку. Метрдотель услал куда-то девушку, сам подал Боркову карточку и, прежде чем отойти от столика, сказал почтительно: — Желаю как следует повеселиться. Если понадобится, можете позвать меня через официантку. — Благодарю. Борков принялся изучать цены. Зал меж тем наполнялся публикой. Слышался женский смех, двиганье стульев. Постепенно устанавливался ровный, слегка возбужденный гул, похожий на шум морской раковины, когда ее прикладываешь к уху. Официантки начали свое методическое снование. К роялю и ударнику прибавились саксофон, труба и контрабас, и тихие голоса инструментов смешивались, образуя какое-то меланхоличное бормотание. Борков заказал две порции джина, бутылку белого сухого вина и ананасный сок. Через пять минут официантка принесла заказ, поставила на стол вазочку со льдом, и Борков медленно отпил из бокала… Джаз начал свою программу. Вышла певица, на которой по традиции было очень много фальшивых драгоценностей и совсем мало платья. Она спела грустный романс, а потом веселую песенку о приключениях деревенского парня, впервые попавшего в большой город. Ей никто не хлопал, но она не обращала на это внимания. Публика была еще трезва, ночь только начинала раскачиваться. Борков окинул зал сквозь прищуренные веки. Незанятых столиков уже не осталось, только за его собственным пустовало три места. Большая люстра в центре зала погасла, сразу сделалось уютнее. Он выпил рюмку джина, закурил сигарету, и тут к его столику подошли в сопровождении метрдотеля две молодые женщины и с ними розовощекий господин лет пятидесяти, весьма добродушного вида, чем-то похожий на диккенсовского мистера Пикквика. Метрдотель сказал, обращаясь к Боркову: — Вы не против, если эти люди составят вам компанию? Мне больше некуда их посадить. — Пожалуйста, я не возражаю… — Надеюсь, мы не будем в тягость, — сказал мистер Пикквик, усаживаясь… Подошла официантка, приняла у них заказ. Другая официантка помогла ей обслужить новых клиентов, и вскоре стол был уставлен бутылками и всевозможными закусками. В первые полчаса общий разговор не завязывался. Мистер Пикквик, сидя между своими дамами, угощал их, не забывая и о себе, а Борков исподтишка изучал соседей, стараясь определить, в каких отношениях они меж собой находятся. Похоже было, что мистер Пикквик более близок с блондинкой, особой, как видно, жизнерадостной и доброй. Вторая, черноволосая и темноглазая, выглядела как будто расстроенной, была задумчива и сидела с отсутствующим видом. Но, по мере того как пустели бутылки, картина чудесным образом менялась. Блондинка постепенно теряла свой заряд бодрости и впадала в уныние, а брюнетка становилась все веселее. Приблизительно в половине второго начали танцевать. Борков, видя, что мистер Пикквик уже минут пять с жаром шепчет в ухо окончательно расклеившейся блондинке и совсем оставил без внимания вторую свою спутницу, осмелился пригласить задумчивую брюнетку на танец. Она охотно согласилась. Оркестр играл твист из репертуара битлзов. Разговаривать Боркову не пришлось, ибо сей танец создан не для интимных бесед с партнершей, тем более что на площадке было тесно и следовало быть внимательным, чтобы не сбить кого-нибудь. Но познакомиться они успели — брюнетку звали Жозефиной. Борков старался, и, кажется, у него получалось недурно. Во всяком случае, он не заметил неодобрения в глазах Жозефины. После танца по пути к столику они задали друг другу вполне естественный вопрос: кто откуда? Жозефина была испанка. Она не удивилась, что Борков из Парижа. Ну, а когда отдышались, сама собой возникла потребность вместе выпить. Раз, другой и третий. А затем к ним присоединился и мистер Пикквик, которому, наконец, удалось развеять мрачное настроение блондинки, но не удалось уговорить ее на дальнейшее питие. Она велела принести ей кофе и надолго умолкла. Джаз гремел беспрерывно. Воздух в зале стал синим от табачного дыма. Официантки как-то поблекли от суеты, от шума, от духоты. Но Борков ничего не замечал, он видел только матово-белое лицо и большие, темные, как вишни, глаза. Жозефина пьянела все больше. В половине третьего блондинка решительно заявила, что пора уходить. Мистер Пикквик не очень сопротивлялся, он лишь заметил, подмигнув Боркову: — Я готов, дорогая, но, по-моему, Жозефина только-только разбежалась… — Это ее дело, — неожиданно резко сказала блондинка. — Мы идем. — Она поднялась. — Расплачивайся. Пикквик попросил счет, расплатился за троих, пожелал Жозефине и Боркову скоротать время до утра повеселее и покинул их. Жозефина молча помахала ему рукой. Они посидели вдвоем час или полтора. — Надоело, — наконец сказала Жозефина. — Надо домой. Можете меня проводить. Дальнейшее происходило для Боркова как бы в тумане. — Вы далеко живете? — Нет. Совсем рядом. На втором этаже этого дома. В какой-то момент Борков почувствовал, что знакомство с Жозефиной не обязательно должно ограничиться совместным сидением за этим столом в шумном, многолюдном зале. И как только он это сообразил, его действия приобрели некую чисто автоматическую целесообразность. Так нередко бывает у очень нетрезвых людей. Попросив у Жозефины извинения, он ненадолго оставил ее одну. Не совсем твердые ноги сами подвели его к метрдотелю, стоявшему, как капитан на вахте, возле выхода из зала. — Можно вас, на два слова? — сказал Борков. — Но хорошо бы не здесь. — К вашим услугам, — откликнулся метрдотель. — Пройдемте сюда, в мою контору. Свернули в довольно широкий коридор, ведущий к буфету, и через несколько шагов метрдотель толкнул дверь справа. Борков очутился в небольшой комнате, где стояли старый кожаный диван с низкой спинкой, стол под цветной скатертью и два обтянутых кожей стула. Старомодный круглый абажур торшера бросал на стол пятно мягкого света. — Слушаю вас, — сказал метрдотель, прикрывая дверь. Борков замялся было, но лишь на секунду. — Скажите… Вы знаете эту женщину? — И да и нет. Я вижу ее здесь не первый раз, но не представлен. При мне ее называли Жозефиной. Она остановилась у нас на втором этаже. — Вы славный парень, — совсем пьяным голосом сказал Борков. — Как вас зовут? Меня — Владимир. — Мое имя — Филипп. — Будем знакомы. Борков вернулся к своему столику. Жозефина красила губы. Они оставили недопитые бутылки и недоеденные закуски на столе. Официантка почему-то забыла подать Боркову счет, а он тоже не вспомнил, что необходимо перед уходом расплатиться. Перед номером на втором этаже Жозефина и Борков остановились. Жозефина достала из сумочки ключ, вставила его в скважину замка и, сделав два поворота, посмотрела на Боркова. — Разрешите откланяться, — сказал он, — желаю спокойной ночи. Жозефина удивилась: — Вы не зайдете?.. Борков колебался. Но распахнутая дверь заставляла принять решение. — Хорошо, но только на одну минуту… Они вошли в отлично обставленный номер. — Присаживайтесь. И не бойтесь, я вас долго не задержу, — сказала Жозефина, опускаясь на тахту. Выпили, а потом Борков читал ей по-испански стихи Лорки и по-французски Бодлера, расхаживая перед тахтой, а она покуривала сигарету и время от времени поглядывала на него с усмешкой. Наконец Борков, простившись, покинул номер. Ему не следовало пить этот последний бокал: до своей гостиницы он добрался в состоянии предельного опьянения. …Утром он проснулся оттого, что кто-то толкнул его в бок. К своему изумлению, Борков увидел рядом с собой в постели Жозефину. Она лежала с закрытыми глазами. Не успел Борков сообразить, что с ним и где он находится, как в дверь постучали. Он отодвинулся от Жозефины и крикнул: — Кто там? — Полиция, откройте! Борков вскочил с постели. Жозефина села, прикрываясь одеялом. — Это за мной. — Быстро в ванную! — приказал Борков. Жозефина убежала, схватив в охапку свою одежду. Стук в дверь повторился. — Одну секунду. Оденусь. Борков открыл дверь. Вошли двое. — Просим извинения. Полиция разыскивает важного преступника. С вашего разрешения мы осмотрим комнату, — сказал один из полицейских и тут же прошел в ванную. Оттуда он появился вместе с Жозефиной. — Нам придется исполнить кое-какие формальности, — сказал полицейский Боркову. — Произошло недоразумение, я прошу немедленно связать меня с посольством, — заявил Борков. — Сначала несколько вопросов, господин Борков. Где вы былиэтой ночью? Борков назвал ресторан. — Вы были в обществе этой дамы? — Да… То есть мы сидели за одним столиком. — Когда вы привели ее сюда? — Я не приводил ее. Как она очутилась здесь, мне совершенно непонятно. Повторяю, это недоразумение, я прошу связать меня с посольством. — Рассказывайте сказки! Кто может подтвердить, что вы вернулись в свой номер один? То, что произошло дальше, было похоже на финальную сцену из плохой детективной пьесы. Дверь растворилась, на пороге стоял метрдотель Филипп. Он сказал: — Это мог бы сделать я, господин инспектор. — Кто вы такой? — Метрдотель. Меня зовут Филипп. Прошу убедиться… — И он предъявил какой-то документ. — Мосье Владимир — мой друг, прошу поверить его объяснениям. А что касается этой дамы… — Мы обязаны составить протокол, — перебил его полицейский. — Какая вам разница, где вы задержали эту аферистку? — возразил Филипп и незаметно сунул полицейскому в карман какие-то бумажки, вероятно, деньги. — Ладно, — произнес миролюбиво инспектор, глядя на Боркова. — Извините за беспокойство. — И к Жозефине: — Прошу следовать с нами. Полицейские и Жозефина покинули комнату. — Как же это вы так неосторожно… — сказал Филипп, когда они остались одни. — Ведь вы даже не успели расплатиться за ужин, и мне, видите, пришлось прийти сюда. — Извините меня, Филипп… Я вам бесконечно благодарен… Все это как во сне… Ничего не могу понять… Сколько я вам должен? Филипп назвал сумму. Борков достал деньги, отсчитал сколько положено. — Приведите себя в порядок. У русских есть очень хорошая пословица: «Все, что делается, делается к лучшему», — так, кажется? — Филипп улыбался. — Да-да… — растерянно ответил Борков. Филипп посоветовал не расстраиваться и исчез. …В девять часов утра Борков зашел в номер к «старикам», и они отправились завтракать в кафе при отеле. «Старики» ничего не заметили, хотя их младший товарищ выглядел невыспавшимся. Этот день был у них свободен — хозяева предоставили им возможность отдохнуть и осмотреться. «Старики» собирались походить по музеям, а Борков сказал, что хочет заказать телефонный разговор с Москвой и будет сидеть у себя в номере. Его пробовали отговаривать: мол, лучше звонить ночью, — но Борков настоял на своем. Условились встретиться в три часа за обедом и разошлись. Поднявшись в номер, Борков переоделся в спортивный шерстяной костюм, взял кипу газет, купленных накануне и лег на кровать поверх одеяла. Он читал, пока не начало щипать глаза, а потом задремал. Неожиданный телефонный звонок заставил его вскочить, но сразу взять трубку он не решился. Размеренные звонки повторялись с полминуты, прежде чем Борков протянул к телефону руку. — Алло, вас слушают. — Это Филипп, — громко раздалось в трубке. — Я разговариваю с Владимиром? — Да, Филипп. Я ждал вашего звонка. Я кое-что потерял. — Не беспокойтесь, все у меня. Борков вздохнул облегченно, спросил: — Когда мне можно вас увидеть? — Могу приехать к вам в отель. — Нет, нет, — поспешно возразил Борков. — Лучше где-нибудь в другом месте. — Тогда сделаем так, — подумав, сказал Филипп. — Из отеля идите направо до угла, потом еще раз свернете направо и увидите кинотеатр. Я буду ждать у входа в кассы. Скажем, через час. Вас устраивает? — Да, вполне. Борков оделся, положил в портфель бутылку «Особой московской» и две стограммовые банки зернистой игры. Но тут же передумал и завернул водку и икру в бумагу. Подходя к кинотеатру, он увидел Филиппа — тот пересекал улицу. И хотя метрдотель был сейчас не во фраке, а в отлично сшитом костюме и в шляпе, Борков узнал его тотчас по осанке. У касс они сошлись. — Отдать вам тут же? — спросил Филипп. — Да, но как-нибудь тихо. — Пройдемся. Они двинулись по переулку, который вел к одной из главных магистралей города. — Я принес вам кое-что в подарок, — сказал Борков, кивнув на пакет. — Не стоит… — Прошу вас, не отказывайтесь. Здесь всего лишь выпивка и закуска. Наша, из России. — Ну хорошо, ради нашего знакомства, — согласился Филипп. — Давайте этот пакет и держите свою книжечку. Пакет перекочевал в руки к Филиппу, а в ладони у Боркова очутилось его служебное удостоверение.
ИЗ МАГНИТОФОННОЙ ЛЕНТЫ № 18
Марков. На прошлом допросе вы говорили о ряде известных вам американских школ по подготовке агентуры, забрасываемой на территорию стран народной демократии и в Советский Союз. Тогда же вы упомянули о существовании специальной школы по подготовке разведчиков, расположенной в Гармиш-Партенкирхене. Расскажите, что вы знаете об этой школе? Надежда. Американская разведка широко использует территорию Западной Германии для подготовки не только своей агентуры, забрасываемой в страны народной демократии и в Советский Союз, но и для подготовки легальных разведчиков. Для этих целей она создала разветвленную сеть специальных школ. Одна из них, готовящая легальных разведчиков, именуется школой языковой подготовки. Она находится в Гармиш-Партенкирхене. Марков. Вам известно, кто эту школу возглавляет? Надежда. До моей заброски в Советский Союз ее возглавлял подполковник Сандерс. К сожалению, больше об этой школе я ничего не знаю. Марков. В записной книжке, изъятой у вас при аресте, имеется пометка «Об-ль пятьдесят пять». Расшифруйте эту запись. Надежда. По делам службы мне часто приходилось бывать в городе Оберурзель. С этим городом меня многое связывает. Последний раз я там был в пятьдесят пятом году, о чем и свидетельствует запись. Марков. Какие учреждения вы там посещали и с какой целью? Надежда. Приезжал я только в одно учреждение — в американскую разведывательную школу. Марков. Расскажите, что вам о ней известно. Надежда. В Оберурзеле, примерно в девяти километрах от Франкфурта-на-Майне, по Хоермаркштрассе, на территории лагеря «Камп-Кинг», размещался крупный американский разведывательный орган, проводящий активную разведывательную деятельность против Советского Союза с территории Западной Германии. Организован он был американцами в сорок восьмом году. Назывался тогда «Разведывательный центр Европейского командования» номер семь тысяч семьсот семь. Насколько мне известно, он имел следующие отделы и секции: отдел военной разведки, отдел политической разведки, отдел технической разведки, отдел безопасности, специальный отдел, секцию документации, отдел военной полиции, отдел кадров, отдел гражданского персонала, отдел снабжения и транспорта. Общее число сотрудников «Камп-Кинга» составляло свыше двухсот человек. Точно сказать не могу. В лагерь доставлялись люди, бежавшие с территории ГДР, и лица из других стран народной демократии. Они подвергались тщательному допросу и обработке, а после фильтрации некоторые из них вербовались и при лагере обучались основным методам шпионской работы. Срок обучения рассчитан на два-три месяца, после этого агентура направлялась в разведывательные школы в Роттах, Батвисзее и других местах. Мои командировки в этот лагерь были связаны с подбором агентуры для последующего использования главным образом против Советского Союза. Марков. К этому вопросу мы еще специально вернемся, а сейчас продолжайте показания по «Камп-Кингу». Надежда. «Камп-Кинг» расположен в лесу. Лагерь занимал тогда территорию более одного квадратного километра, был огорожен высоким забором из металлических прутьев и колючей проволокой и круглосуточно охранялся. В ночное время освещался прожекторами. Всего на территории было, кажется, двенадцать одноэтажных деревянных бараков, одно четырехэтажное здание и несколько двухэтажных вилл — в них размещалась наиболее ценная агентура. Отдельные здания имели американские названия, например, Нью-Йорк, Аляска. По Хоермаркштрассе, напротив лагеря, имелось еще несколько вилл, которые раньше служили домами отдыха для престарелых учительниц. Потом эти дома были заняты разведорганом, и в них передерживалась агентура. Марков. Что вам известно о руководящем составе этого органа? Надежда. Из числа официальных американских сотрудников я знал начальника — полковника Феллоуса, его заместителя полковника Эммериха, начальников отделов: административного — подполковника Бардтлетта, контроля — майора Муррея, службы связи — Кассиди, Бракснейера — сотрудника отделения военной разведки, офицера разведки майора Брауна, лейтенанта Фокса, Джекобса Джонсона. Марков. Существует ли в данное время лагерь «Камп-Кинг»? Если да, то какой орган службы там сейчас дислоцируется? Надежда. Лагерь «Камп-Кинг» по-прежнему продолжает функционировать. Если не ошибаюсь, сейчас там размещен штаб пятьсот тринадцатой группы военной разведки сухопутной армии США в Европе. Марков. Кто этот штаб возглавляет? Не запомнили? Надежда. Кажется, полковник Дэвис. Марков. Какие функции, по-вашему, выполняет штаб? Надежда. Штаб, насколько мне известно, руководит подразделениями, которые ведут разведывательную и контрразведывательную работу, направленную против социалистических стран, и главным образом против СССР. Марков. Что вам еще известно о деятельности американских разведорганов, расположенных на территорий Западной Германии? Надежда. Там активно действовала американская разведслужба под названием «Ми-Ай-Ди». Так она именовалась до моей заброски сюда. По данным моих друзей, мне известно, что Ми-Ай-Ди занималась главным образом сбором военной информации по Советскому Союзу и странам народной демократии, особенно ГДР. Серьезное значение придается также научно-технической, промышленной и экономической информации. В меньшей степени проявляется интерес к вопросам политического характера. Что касается Советского Союза, то данные о нем получают в основном от вернувшихся немецких военнопленных, немецких научных специалистов, изменников. Главная квартира Ми-Ай-Ди, как мне говорили, находится в Вашингтоне. Ей подчиняются, с одной стороны, аппараты военных и военно-морских атташе во всех странах, а также сотрудники военной разведки, работающие там под прикрытием посольства и других представительств. С другой стороны, ею направляются усилия и всех органов военной контрразведки, в частности по Германии. Разведслужба Ми-Ай-Ди на территории Западной Германии тогда являлась крупнейшим разведывательным центром по сравнению с другими американскими разведслужбами. Управление Ми-Ай-Ди в Западной Германии насчитывало около сорока отделов, выступающих под условными наименованиями «Джи» — один, два, три и так далее. Разведывательный отдел выступал под названием «Джи-два», возглавлялся генералом Филипсом, а до пятьдесят четвертого года был генерал Макклюр. С генералом Макклюром я был знаком, он часто навещал моего отца. Марков. Известно ли вам что-либо о практической деятельности отдела «Джи-два»? Надежда. Этот отдел, насколько я знаю, вел работу в двух направлениях: во-первых — систематизация данных в военной и других областях. Эти данные получались путем опроса известной категории лиц (бывшие военнопленные, беженцы, специалисты); во-вторых — непосредственная агентурная работа самой разведки на территории ГДР и в других странах народной демократии. Эта деятельность в основном ведется через Западный Берлин. С учетом этих двух видов работы разведывательное управление подразделялось на два сектора — гласный и негласный, то есть агентурный. Объединялись оба сектора в оперативном отделе, возглавляемом полковником Вильсоном. Последний подчинялся непосредственно генералу Филипсу. Гласный сектор направлял деятельность лагеря «Камп-Кинг», возглавляемого полковником Феллоусом. Последнему подчинялся также лагерь в Ханау, который возглавлял сержант Мэттьюз. Мне пришлось бывать и там. Агентурный сектор во главе с полковником Карлином и его заместителем полковником Юсом имел в своем подчинении пятьсот двадцать вторую группу военной разведки в Берлине. Мы с ней были связаны. Начальник группы полковник Халлман. У нее есть филиал во Франкфурте, по Фелькерштрассе, двадцать восемь, во главе с капитаном Ольшевским. Для связи с гласным сектором от отдела «Джи-два» (в городе Гейдельберге) в лагерь «Камп-Кинг» был прикомандирован мистер Карлссон. Последний также осуществлял наблюдение за опросной группой Вилтона в Берлине и занимался агентурной работой. В своей деятельности Карлссон непосредственно отчитывался перед полковником Карлином, а в административном отношении выполнял указания капитана Тэйлора, начальника отдела по учету и систематизации материалов в лагере «Камп-Кинг». Основным источником получения сведений и базой вербовки агентуры Ми-Ай-Ди является лагерь «Камп-Кинг». Здесь концентрировались обычно лица, поступавшие в Западный Берлин и переходившие через демаркационную линию из ГДР в Западную Германию. Последняя категория людей опрашивалась предварительно в лагерях Ханау и Гиссен. Опрос беженцев, заявителей и тому подобных в Западном Берлине осуществлялся группой Вилтона. Лица, подлежащие опросу, поступали из находящегося здесь лагеря в районе Мариенфельде. Марков. Знаете ли вы что-либо о технике обработки и систематизации поступающих материалов в лагере «Кэмп-Кинг»? Надежда. Кое-что знаю. Независимо от места поступления того или иного лица на него заполнялась карточка-формуляр белого цвета, включая в себя установочные данные агента, его приметы, род деятельности и сведения из области, о которой он может предоставить информацию. Все эти карточки затем поступали в лагерь «Камп-Кинг» для оценки. Там на них, в зависимости от ценности, ставится гриф один-а, два-а, три-а, четыре-а. Наиболее интересными лицами считались объекты, идущие под грифом один-а. В отношении таких людей нижестоящим подразделениям давались указания, чтобы их направили для опроса в лагерь «Камп-Кинг». Из Западного Берлина они доставлялись специальными самолетами Ми-Ай-Ди, курсирующими по средам каждую неделю. В «Камп-Кинге» кандидатуры классифицировались во время опросов по линиям разведки, и о тех из них, которые представляли оперативный интерес по военно-воздушной, военно-морской или другим линиям, ставились в известность связные офицеры данных разведслужб при лагере. Отобранных лиц последние направляли для дополнительного опроса в свои опросные пункты. Например, по линии военно-воздушной разведки — в город Бад-Зоден. На всех опрашиваемых заполнялись желтые формуляры, которые классифицировались в зависимости от представленных материалов и вставлялись в картотеку лагеря. В ней в то время насчитывалось около пятидесяти тысяч точек. На завербованную агентуру в лагере имелась картотека, которая хранилась у мистера Трауттмасдорфа. В общей сложности в ней насчитывалось около трехсот агентов. Картотека составлялась в восьми экземплярах и распределялась следующим образом: экземпляр первый — пятьсот тринадцатой группе военной разведки (лагерь «Камп-Кинг»); экземпляры два и три — в Си-Ай-Си (города Оффенбах и Нюрнберг); экземпляры четыре и пять — пятьсот двадцать второй группе военной разведки (Франкфурт — Берлин); экземпляр шестой — управлению ЦРУ во Франкфурте; экземпляр седьмой — отделу Ми-Ай-Ди в Гейдельберге; экземпляр восьмой — управлению армейской разведки. Заполнение и рассылка такого количества карточек вызывались необходимостью избежать использования одной и той же агентуры в разведывательных и контрразведывательных целях. Марков. Можно подумать, что вы имели непосредственное отношение к заполнению карточек на агентуру. Объясните, откуда вам известны такие подробности? Надежда. Вы почти угадали. Будучи в лагере при выполнении задания по отбору нужной нам агентуры, я в течение трех с лишним месяцев имел неограниченную возможность наблюдать за всем процессом технического оформления агентуры. Через мои руки тогда прошла не одна тысяча документов… Вы мне не верите? Марков. Продолжайте давать показания. Надежда. Все, что я здесь говорю, — сущая правда… Как видно из вышесказанного, лагерь «Камп-Кинг» фактически являлся поставщиком агентуры для всех американских разведслужб в Западной Германии, включая ЦРУ. Подтверждающим фактом является также следующее: в Западном Берлине по Клей-Аллее, сто сорок шесть, в одном здании работали представители Ми-Ай-Ди (пятьсот двадцать вторая группа), военно-воздушной и военно-морской разведки, а также и некоторые работники ЦРУ. Здесь же располагалась и опросная группа Вилтона. Марков. Этот вопрос ясен. Не знаете ли, где сейчас работает генерал Макклюр? Когда последний раз вы с ним встречались? Надежда. Последний раз с генералом Макклюром я встречался в пятьдесят втором году в Мюнхене. Он приезжал тогда инспектировать одну из американских разведшкол. Точно не помню какую. Либо школу разведки военной полиции и специального оружия, находившуюся в городе Обераммергау, или же школу по подготовке специальных войск по ведению борьбы с партизанами, дислоцировавшуюся в городе Вадтельц. Я тогда должен был ехать в Африку, и наша встреча была короткой. На прощанье он дал мне свой адрес. Марков. Вот список зашифрованных адресов из вашей записной книжки, изъятой при аресте. Скажите, кому они принадлежат. Надежда расшифровывает адреса. На этом допрос был прерван.
Глава V СМОТРИНЫ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
Михаил Тульев, бывший Надежда, сильно изменился за три с половиной месяца, минувшие со дня ареста. В своем превращении он прошел через несколько этапов — от состояния крайней подавленности до полного душевного равновесия. Наблюдая череду этих последовательных изменений, полковник Марков находил наглядное подтверждение давно открытой истины, что для спокойствия духа человеку необходима прежде всего определенность положения, как бы плачевно оно ни было. Страшнее же всего неизвестность. Как ни вышколен был профессиональный разведчик Тульев двадцатью годами опаснейшего риска, но внимательный человек наверняка приметил бы натяжку и нервозность, если бы понаблюдал его в обличье Зарокова или Курнакова. Ведь под маской всегда остается свое собственное лицо. Теперь перед Марковым сидел человек без маски, и человек этот был спокоен. Ничто не напоминало о его прошлом. — Газеты, журналы вам дают регулярно? — спросил Владимир Гаврилович. — Да, спасибо. Я читаю и книги. Уже лет пятнадцать не читал, если не больше. — Не было времени? — Не в том дело. Не было подходящего состояния души. Марков пододвинул на край стола лист бумаги с тремя строчками машинописного текста. — Вот также любопытное чтение. Тульев пробежал глазами по строчкам. «Надежде. Вам надлежит быть 2 ноября сего года от 17.00 до 17.15 (время московское) в Третьяковской галерее, зал Верещагина. Следующий сеанс связи — 9 ноября в те же часы». — Захотели на вас посмотреть, — сказал Марков. — А отказывать мы не имеем права. Тульев встал со стула, вытянулся по-солдатски во весь рост. — Если вы мне доверите… — Подождите, — остановил его Марков. — Садитесь и слушайте. Тульев повиновался. — Насчет доверия мы еще вообще побеседуем. Вы, наверное, обратили внимание, что наши встречи с некоторых пор не похожи на допросы, но не о том сейчас речь. — Марков сложил лист с радиограммой вдвое, сунул его в стол. — Рискую задеть ваше самолюбие, но скажу. Предположим, я вам не очень верю, но в галерею вы все равно пойдете. Провалить нас вам не удастся, потому что скорее всего к вам никто не подойдет. На вас просто посмотрят издалека, живы ли вы, существуете ли до сих пор. Вас мои рассуждения не обижают? — Нет, я бы рассуждал так же, — без всякой наигранности ответил Тульев. — Ну вот, собственно, мы и договорились. Как сказал бы опять-таки ваш знакомый Бекас, это слегка напоминает смотрины, только не так торжественно. И вы уж постарайтесь быть скромным. — Я вас не подведу, — просто сказал Тульев. — Рад буду, если не ошибусь… Но хочу спросить: вам не кажутся неосторожными действия ваших бывших шефов? Такие чрезвычайные меры… А может, не верят вам? — Не думаю. — Правильно, — согласился Марков. — Они подозревают, что вас подменили. Ну что же, вот вам случай на деле доказать чистосердечность ваших слов. Тульев снова вытянулся перед Марковым и стоял молча. — Завтра обсудим детали. — Марков нажал кнопку звонка. Вошел сержант. — Проводите.
Второго ноября без четверти пять такси, везшее Михаила Тульева, въехало со стороны набережной в узкий Лаврушинский переулок и остановилось перед Третьяковской галереей. Тульев расплатился, захлопнул дверцу, кинул под колесо погасший окурок и, взглянув на часы, поспешил к входу, обгоняя многочисленных посетителей. Покупка билета и сдача пальто в гардеробе отняли десять минут, расспросы о расположении залов — минуту. В зал, где висели картины Верещагина, Тульев вошел, тяжело дыша, словно бежал бог весть откуда, чтобы только взглянуть на груду человеческих черепов «Апофеоза войны». Но через минуту он был похож на обыкновенного неторопливого любителя живописи. Пять минут протекло, десять — никто к нему не подошел, не заговорил. В четверть шестого он покинул Третьяковку, дошел до станции метро «Новокузнецкая» и, как было заранее предусмотрено, приехал на вокзал. Но ехал он не один, а под надежной негласной охраной московских контрразведчиков. Не исключалось, что за Тульевым могла быть организована слежка со стороны Антиквара. Так оно и получилось. Тульева сопровождал от самой галереи, не отпуская от себя на большое расстояние, пожилой мужчина, полный, коренастый, с лицом пьяницы. Этот человек — как потом было установлено, по фамилии Акулов — исполнял свое дело не очень-то квалифицированно, и обмануть его не составляло большого труда. Тульев, по всем правилам конспирации, по дороге периодически проверялся, но делал это больше для вида, вернее, для Акулова. Акулов бросил наблюдение за Тульевым, когда убедился, что тот, купив билет, сел в вагон поезда, идущего в город К. Надо полагать, больше от него ничего не требовалось. Теперь Тульев остался в окружении своих законных телохранителей. Допускалась возможность, что за ним могло вестись поэтапное контрнаблюдение, поэтому имелось в виду доставить Тульева на прежнюю его квартиру в городе К. Он пробыл там недолго — всего два дня. Итак, смотрины состоялись и были односторонними. Теперь надо было предполагать, что разведцентр сделает из всей этой проверки какие-то выводы и при назначенном внеочередном сеансе связи облечет их в форму инструкций. Но сколь ни был готов Марков к новшествам со стороны своего зарубежного противника, радиограмма от 9 ноября звучала несколько неожиданно. Она была пространна и проникнута несвойственной таким посланиям задушевностью. Но вслед за похвалами Надежде и сочувствием в его тяжелой миссии следовали два важных пункта строго делового плана. Во-первых, центр предлагал сменить шифр для радиопереговоров. Во-вторых, указывал способ передачи нового шифра. Вот как это произойдет. Надежда должен 10 декабря подойти к табачному киоску, в котором работает человек по фамилии Акулов (особые приметы сообщались), предъявить ему пароль (который также сообщался) и от него получить пачку папирос с микропленкой, содержащей таблицы шифра. Центр ожидал, что первым посланием Надежды, зашифрованным по-новому, будет его доклад о всей работе, проделанной за время пребывания в городе К. Судя но этой радиограмме, центр начинал менять отношение к своему резиденту, возвращал ему доверие.
Глава VI ПИСЬМО К МАРИИ
Мария долго вертела письмо, изредка посматривая на посетителя, молодого человека, принесшего его, и недоумевала: откуда это и не ошибка ли? Она уже и забыла, когда в последний раз получала письма. Но на конверте стоял и ее адрес и ее фамилия. С каким-то странным предчувствием вскрыла она этот толстый синий конверт. «Здравствуй, Мария!» — прочла она на первом листке. Фиолетовые строчки поплыли, словно размытые волной: почерк был знакомый. Мария перевернула толстенную пачку листков и на последнем увидела подпись «Михаил». Мария ничего не видела, ничего не слышала, будто в столбняке. И стояла так несколько минут, пока Сашка не заворочался в своей кроватке. Она склонилась над ним, но мальчик уже опять спал спокойно. О том, что в комнате есть посторонний, Мария совсем забыла. Она подошла к окну, еще раз прочла первую строку, начала было читать дальше, но поняла, что лучше все-таки сесть… Опустилась на тахту и поднесла письмо близко к глазам, хотя никогда близорукой не была. «Здравствуй, Мария! Мне разрешили написать тебе. И вот пишу. Не знаю, примешь ты это письмо или нет. Буду надеяться, что примешь. В моем положении и после всего, что произошло, я не имею права просить прощения. Глупо будет также умолять, чтобы ты поняла меня, вернее — мои действия. Их ни понять, ни простить нельзя. Но все же, если сможешь, прочти до конца. Это уничтожит неопределенность и неизвестность между нами. Моя задача сейчас простая. Я должен рассказать тебе, кто я такой на самом деле. Но ты не должна никому говорить про это письмо. Никому. Так просят тебя товарищи, которые разрешили мне писать. Прошу и я. Я и теперь еще не все и не до конца могу сказать и открыть, поскольку некоторые факты, касающиеся лично меня, касаются также других лиц и других дел. Но что можно — скажу. Это хорошо продуманное письмо. Здесь я пишу правду и прошу мне верить. Зовут меня Михаил. Фамилию настоящую пока сказать не могу. Подробности нашей семейной жизни не интересны, я их опускаю, но в детстве моем был один важный момент. С тринадцати лет мой отец начал внушать мне ненависть к большевикам. Он всегда отделял Россию от большевиков, Россия — это одно, а большевики — другое. Слова у него не расходились с делом — он всегда работал против того, кого ненавидел. Я любил его и верил ему беззаветно. Когда умерла мать, отец взял меня с собой. С тех пор я никогда и нигде не принадлежал себе. У меня никогда не было дома, жены и детей. Был только отец, которого я видел редко, но очень любил. Теперь и его нет. О нем я скажу еще несколько слов ниже. В двадцать лет я уже был почти готов к самостоятельной работе, оставалось еще попрактиковаться кое в чем. О войне лучше не вспоминать. Если бы можно было, я вычеркнул бы те годы из календаря. Когда Гитлера разбили, многие остались без хозяина и без стойла. Но есть надо, по возможности — вкуснее. Голодных в Европе тогда было много. И грязных также. А еду и душистое мыло могли предложить только американцы. Они и предлагали — тем, кто не отказывался. У нас с отцом выбора не было. Правда, после войны отец немного по-иному стал относиться к большевикам, хотя он не хотел в этом признаться даже самому себе. Но я видел это очень хорошо. Теперь жалею, что перемена взглядов никак не отразилась на его служебной биографии. Он сменил лишь кучера, но бежал в той же упряжке. А я всегда был там, где отец. (Пожалуйста, не думай, что я пишу так в свое оправдание. Сочувствия не ищу, его не может быть. Но искажать истину не хочу. Так все было на самом деле.) После войны немало пришлось помотаться по свету. Я никогда не хныкал и привык действовать, не жалея о последствиях. Прежде чем приехать в Советский Союз, пришлось взять другое имя. Вернее — фамилию, имена у нас совпадали. Под этой фамилией ты меня и знаешь: Зароков. На советской земле я впервые по-настоящему ощутил, что я русский. Моя жизнь в твоем городе тебе в основном известна. Потом я вынужден был срочно уехать, снова сменить имя. Поверь, что я много думал о тебе, не хотел оставлять тебя. Но иначе было невозможно. Без тебя я прожил на свободе год. Если можно считать свободой существование человека вроде меня. За этот год я многое понял и многому научился. Меня предупредили, что это письмо прочтешь не только ты. Но человек, который будет моим цензором, знает обо мне в десять раз больше, чем мне позволено здесь изложить. Поэтому я могу не стесняться своих слов и хочу немного поговорить о нас с тобой. Прежде чем начать, должен сказать одну вещь. Против ожиданий, со мной обошлись мягко. Но в момент ареста (в июле этого года) и после у меня было достаточно случаев испытать за свою участь если не страх, то беспокойство, оснований для этого я успел заработать более чем достаточно. Поверь, что я даже в самые мрачные минуты не забывал тебя. Я виноват перед тобой, что выдавал себя не за того, кто я есть на самом деле. К тому же ты по моей просьбе ездила в Москву. Но если взять нас с тобой просто как двух людей, женщину и мужчину, в этом я тебе никогда не лгал. И у меня всегда была уверенность, что ты любишь меня. Знаю, ты бы не могла полюбить, если бы я открылся перед тобой. Я искал любви обманным путем. Но неужели ты не сможешь простить? Мне известно, что у нас родился ребенок (недавно мне сказали, что ты назвала его Александром). Если бы ты только знала, как я был обрадован и как счастлив сейчас! Помнишь, тебе подбросили деньги? Это я посылал. А ты отнесла их в милицию. Понимаю, что иначе тебе поступить было немыслимо. Мне не обидно за это. Деньги были нечистые. Но я кусаю себе пальцы, когда вижу, что не могу ничем тебе помочь. Сейчас прошу об одном: если в твоем сердце осталось ко мне хоть что-то с тех времен, напиши о себе, о нашем ребенке. Если еще не все для меня потеряно в твоей душе, я постараюсь вернуть прежнюю любовь. Мне сейчас сорок два. Я на родине моих предков. Вырвался из заколдованного круга. У меня хватит сил и воли изменить свою судьбу. И здесь есть люди, готовые помочь мне в этом, хотя я этого не заслуживаю. У меня во всем свете остался единственный человек, которого я считаю (самовольно) родным. Это ты. Отец кончил свои дни печально. Я знаю, что те, на кого он работал почти всю жизнь, выбросили его за борт без жалости. Этого простить нельзя. Не подумай, что плачусь, стараюсь вызвать жалость. Но если лишусь и тебя — плохо мне будет. Очень плохо. Надеюсь все же получить от тебя ответ. Буду считать дни. Напиши, пожалуйста! Очень прошу. Может случиться, что ты никогда больше не захочешь меня видеть. Но ведь у нас есть сын. И никто не отнимет у меня права когда-нибудь заслужить его уважение. Я тебя люблю. Если разрешаешь, обнимаю и целую, как прежде. Жду. Михаил». Молодой человек взял письмо у Марии и ушел. Мария не спала всю ночь. А утром, когда уже рассвело, села писать ответ. Человек, который вручил ей письмо, сказал, что если она захочет послать что-нибудь автору письма, она может это сделать через областное управление КГБ.
Глава VII ПОДРУЧНЫЙ
Каких только профессий не бывает на белом свете! В каждой большой общественной русской бане есть работники, которых называют нелепым словом «пространщики». В их обязанности входит следить за порядком в пространстве между длинными диванами в предбаннике. Кондрат Степанович Акулов был заурядным пространщиком, но должность свою исполнял с любовью. Он никогда не забывал помочь распарившемуся гражданину развернуть простыню и вытереться, у него постоянно имелся запас березовых веников: для случайных посетителей — уже использованные, для постоянных — свеженькие. А если кто-нибудь, не боясь унести из бани вместе с легким паром и добротную ангину, желал выпить голышом кружку холодного пива, то Кондрат Акулов охотно бегал в буфет. Когда же румяный и стерильно чистый гражданин одевался, Кондрат складывал и упаковывал смененное белье. От гривенников и двугривенных не отказывался, но если получал только «спасибо», тоже не проявлял недовольства. Дело в том, что у Акулова была другая специальность, гораздо серьезнее основной. И, как станет понятно из последующего, для исполнения побочных обязанностей главным удобным моментом в его работе было то обстоятельство, что пространщик имеет свободный и законный доступ к вещам своих клиентов. Несокрушимая вежливость, добронравие и ровный характер создали Кондрату авторитет среди сослуживцев и постоянных клиентов. Короче говоря, при виде Кондрата хотелось незамедлительно воспользоваться готовой на такой случай формулировкой: не место красит человека, а человек место. Тем сильнее было бы изумление сослуживцев и клиентов, узнай они о Кондрате всю подноготную. Начать хотя бы с того, что из трех анкетных признаков — Ф. И. О. — ему по праву принадлежали только Ф. и О. — фамилия и отчество, а И. было чужое. Как и почему это произошло, мы узнаем позже, а пока при описании его жизненной истории будем пользоваться настоящим именем. До 1941 года Василий Акулов жил в деревне недалеко от Смоленска. У него был брат годом моложе, которого звали Кондратом (деревенские балагуры сочинили для местного употребления пословицу: «не всякий Кондрат Василию брат», имея в виду неуживчивость и замкнутость старшего из братьев). Мать с отцом умерли чуть не в один день весной тридцать первого года, когда Василию было восемнадцать. Брат вскоре женился на двадцатилетней вдове: в дом нужна была хозяйка. Василий обходился холостяком, невесту не искал. Жили втроем, работали в колхозе, держали огород, с которого выгодно приторговывали, благо под боком был большой город. Как только началась война, братьев призвали в армию. В запасном учебном полку они два месяца служили вместе, а потом попали в разные части. Кондрат сразу отправился на передовую и погиб в сорок втором в бою. Василий Акулов долго кантовался, как тогда говорили, в тыловых подразделениях, а в сорок третьем году, уже во время наступления, дезертировал. Отсиделся месяц в лесу, а когда передовая отодвинулась далеко на запад, рискнул пробраться в родную деревню. Но там даже печных труб не осталось: немцы спалили деревню дотла, а трубы разобрали погорельцы на кирпичи. Тогда Акулов вернулся в лес, выкопал в глухой чаще большую нору с двумя лазами и стал жить диким зверем. Страх, который заставил его дезертировать, теперь не давал показаться на люди. Ему повезло спервоначала, потому что вскоре подошла осень. Он накопал на колхозном поле картошки, насушил грибов, рябины и черники. Думал запастись и мясом, потому что винтовка и патроны у него сохранились, можно было настрелять дичины. Но стрелять он боялся: услышат. Решил, что будет ставить силки. Ближе к зиме насобирал сухого валежника, натолкал в нору. А чтобы было чем развести огонь, сплел из сухого мха трут, отыскал несколько камешков, которые давали хорошую искру, а под кресало приспособил обломок штыка. Капитально подготовился Акулов к зимовке. Одно мучило в первое время — не было соли. Но к этому он скоро привык. А что до блох, которые в великом множестве облюбовали вместе с Акуловым его теплую песчаную нору, то им он был даже рад — все не один. Чтобы не ослепнуть в темноте, он положил себе за правило каждый день хоть раз вылезать на поверхность. Но иногда не угадывал время и высовывался ночью. В общем, худо ли, хорошо ли, но прозимовал Акулов, дождался весны. Голод выгнал его из норы и заставил пойти на разведку — искать, где есть поближе человечье жилье. Весну и лето жил воровством — по ночам делал робкие набеги на близлежащие деревеньки. Ходить и ползать он выучился тише любого зверя, да голод и страх кого хочешь научат. Но что было там воровать? Сами отощали так, что от ветра качались. Потом опять накатила сытная осень, и Акулов опять подготовился к зиме. Шевелилась у него порой тяжкая мысль — пойти, отдать себя в руки властей, покаяться. Но темный страх — темнее, чем его блошиная, провонявшая нора, — всегда побеждал. Еще лето, еще осень, еще зима. Наступил 1946 год. Уже объявлена была амнистия, но Акулов ничего про то знать не мог, он не знал даже, что война давно кончилась, и неизвестно, сколько бы лет сидел он под землей и дальше, если бы не случилась беда. Произошло это весной, в мае. Однажды среди дня Акулов выполз наверх размять поясницу. Оборванный, мятый, с лохматыми волосами до плеч, с сивой всклокоченной бородой, закопченный до чугунной черноты, был он дик и отвратителен. Почесываясь, мычал и тихонько повизгивал, словно уж ничего человеческого не осталось в нем. Он и сам-то о себе в мыслях говорил: «Животная»… Разогнулся Акулов, поднял кудлатую голову и глазам своим не поверил. Шагах в десяти от него, прислонившись к березе, стоит баба, щупленькая такая, но лицо милое. В красной юбке, в черной кофте нараспашку, на голове белый платок, через руку держит пузатое лукошко. Нестарая баба, можно сказать, молодая. Какого рожна ей в этой чащобе понадобилось, бог ведает. Небось шишки на самовар собирала, да далече забрела. Стоит и смотрит на него, будто в столбняке. Рот открыла, а закрыть не может. Видать, такой уж страшный он был, коли мог испугать даже бабу, насмотревшуюся на войну… Давно отвык Акулов соображать побыстрее, но тут завертелось у него в голове. Подумал: «Прибить на месте». Винтовка в лазу, только нагнуться да руку протянуть. Но тут же решил: «Это успеется, баба крепко стоит, как примерзла». Он двинулся к ней, ступая неслышно, по-звериному. В глаза не глядел, боялся спугнуть. Только шею белую видел… Изнасиловав, Акулов поднялся и неслышно зашагал к норе. Он не торопился, не боялся, что она уйдет — сильно напугалась, так ни слова и не проронила. Где ж ей уйти… Достал Акулов винтовку, щелкнул затвором, загнал патрон в патронник, но вспомнил, что стрелять нельзя, разрядил винтовку. Можно и прикладом… Обернулся, а бабы-то уж нет. Все-таки ушла. И вот тут-то его объял ужас. Расскажет, кого и где повстречала и что он с нею сделал, непременно расскажет… И что тогда будет? Он теперь не только дезертир. Еще и насильник. Стенки не миновать… Осталось одно — бежать от этой норы. Куда — он еще не знал, но бежать как можно дальше, пока баба не успела дойти до своей деревни… Акулов держал путь на север. В пятидесяти километрах от Смоленска лежала большая деревня, где жила единственная его родня — тетка Лиза. Если жива еще, примет, он ее уговорит. Ему бы хоть дня два у нее побыть, обстричь волосы на голове, побриться да мурло отмыть. Не может же он в эдаком обличье скрываться от властей, враз арестуют. Да и обносился — дальше некуда… С отвычки трудно дались Акулову эти километры, но страх не позволял ему отдыхать. Через сутки пришел к теткиной деревне. С опушки выглядел ее избу — цела стоит, только покосилась. Отлежался до темноты, а как увидел, что в избе вздули керосиновую лампу, по-пластунски пополз через огороды. На счастье, тетка оказалась одна — невестка еще не вернулась с пашни. Племянника она, конечно, сразу-то не признала, а когда уразумела, кто перед ней, стала горько плакать. И все вопрошала: да как же, да откуда? Он наврал чего-то пожалостней, она поверила. Невестка, когда пришла да послушала, тоже поверила. В долгом разговоре за малиновым чаем узнал Акулов, что война кончилась, и обрадовался. Прожил он у тетки неделю, а потом забоялся. Надо было уходить: на одном месте долго сидеть ему теперь заказано. Главное же — документ бы правильный достать… С одеждой Акулову повезло — обрядили его в костюм теткиного сына. Тот с войны не пришел, не было по нем и похоронной — может, в плену сгинул, может, пропал без вести. Все пришлось Акулову впору — и пиджак, и брюки, и сапоги, и рубашки. Отмылся, постригли его, побрили сердобольные бабы, дали двести рублей на дорогу, и побрел он кружным путем на железнодорожную маленькую станцию. По дороге созрел у него план, как разжиться документами, хоть какими ни на есть, лишь бы были настоящие, с печатью. Хитрости у Акулова не убавилось, даром что три года кротом жил. Вспомнил он, что давным-давно, когда был еще мальчонкой, случались с ним раза два или три припадки, которых никто из домашних понять и объяснить не мог, а доктора тогда в их деревне не было. Налетал ветерок, обдавало холодным потом, и он брякался посредине горницы, закусывая язык. Бабка определила: падучая. Значит, пропал парень, это уж до гробовой доски. А оно случилось так раз-другой и больше не накатывало. Осталось только что-то смутное и тошнотное в памяти, как пьяный сон. И вот осенило Василия Акулова в трудную минуту, придумал верный ход. Пять суток трясся в пустых товарных вагонах, три эшелона сменил, заехал в Брянск. Там разузнал, где поблизости — ну, не далее как километров за двести — есть психиатрическая больница, купил билет, сидячее место и поехал. Дальше получилось, как по-писаному. Не ожидал Акулов, что так легко все выйдет. …Вагон набит до невозможности — как посмотришь, обязательно подумаешь: зря в России говорят, будто вагоны не резиновые. Сидит себе с краю, на кончике скамьи, хмурый дядька, с соседскими ребятишками не заигрывает, толкнут — не огрызается. Что-то свое думает. Поезд начиняет притормаживать, к выходу потянулись пассажиры, что попрытче, с чайниками и без чайников. Подъезжают к большой станции, стоянка будет долгая. И вдруг хмурый дядька, на удивление сидящим рядом ребятишкам, как-то чудно выгибается, клацает и скрипит зубами, а потом встает и сразу плахой валится в проходе, чуть не сбивает кого-то. Опять выгибается дугой, на губах пена… — Эй, проводник! Сюда поди, сюда! — несутся по вагону крики. Но проводник является только после того, как поезд стал. А дядьку все корежит и бьет, никак его с полу не поднять. Кто-то из пассажиров сбегал на вокзал, привел медсестру. Та посмотрела с интересом, пульс пощупала и дала команду: — А ну, мужчины! Надо помочь, идемте за носилками. Через десять минут припадочного унесли в вокзал, поставили тяжелые госпитальные носилки на ножках-каблучках в медпункте на пол. Еще через десять минут поезд ушел дальше, а припадочный остался. Куда ему ехать, он и тут никак в себя не придет… Деловитая медсестра целый час сидела на телефоне в кабинете начальника вокзала, но все же дозвонилась в психиатрическую лечебницу, что расположена в районе села Вишенки. Оттуда выслали машину. В лечебнице поставили диагноз, который не вызывал сомнений: эпилепсия. Данные анамнеза — со слов больного — подтверждали это. Страдает припадками с ранней юности. Последний — в поезде — был особенно сильным. Больной сам никогда не обращался к врачам, потому что знает: эпилепсию не лечат. Попадал несколько раз в психиатрические диспансеры, но не по своей воле, а вот так же, вовремя припадка, добрые люди подбирали и относили… Всякий человек, попадающий в больницу, должен иметь документы, но у этого их не оказалось. Скорее всего, они или вытряхнулись из кармана, когда упал в вагоне, или их кто-то у него взял. Зарегистрировали его как гражданина Акулова. Две недели он пробыл в лечебнице и даром хлеб не ел. Уже на второй день почувствовал себя вполне хорошо, как это и бывает часто у эпилептиков, а на третий предложил свою помощь на кухне — носил от колодца воду, колол дрова. Правда, слаб был, часто отдыхал, по работал старательно. Персоналу он понравился. Его не гнали из больницы, но он сам через две недели пришел к главному врачу и попросился на выписку. Каждый покидающий лечебное учреждение подобного рода получает справку о том, что означенный гражданин с такого-то по такое-то число находился на лечении там-то по такому-то поводу. Получил ее и Василий Акулов, который отныне сделался Кондратом и помолодел на один год: он решил принять имя погибшего брата, ибо это было удобно во всех отношениях. Теперь необходимо было получить паспорт. Акулов отправился в Ч. В городском отделении милиции его выслушали сочувственно. История с пропажей документов показалась правдивой и убедительной. А главное, кто же не пожалеет человека, страдающего таким тяжким недугом? Узнав, что Акулов намеревается пожить в Ч., горотдел милиции помог ему устроиться рабочим в горкоммунхоз. А пока все-таки отправили запрос к нему на родину, жил ли там Кондрат Акулов и кто он такой. Через три недели пришла бумага, подтвердившая все сведения, сообщенные Акуловым о его брате. В бумаге говорилось, что Кондрат Акулов был призван в армию и с тех пор о нем ничего неизвестно. В милиции насторожились, но, решив пока не задавать вопросов, послали в военкомат, где Акулову выдали белый билет. И, наконец, он получил новенький паспорт. В сорок девятом году Акулов перебрался в Москву, надоумил его один грамотный человек пойти в дворники. Занятие незавидное и пыльное, зато прописка и жилье. Поселился Акулов в полуподвальной комнате недалеко от Никитских ворот и зажил тихой жизнью. Десять лет орудовал он метлой и скребком, и дни его текли безмятежно. В собственной душе Акулов копаться не любил, а если у него когда-нибудь и была совесть, то во время дезертирства и обитания в норе она так надежно сгнила, что теперь его совсем не беспокоила. Шестидесятый год был переломным в деловой карьере Акулова. Во-первых, он перешел работать в баню. Во-вторых, тут-то и подцепил его Кока. Досконально разобраться, каким образом слепилась их дружба, Акулов бы не смог. Николай Николаевич (Акулов звал Коку по имени и отчеству, а Кока Акулова просто Кондратом) был в бане постоянным клиентом, мылся регулярно раз в пять дней, всегда с веничком, из парной по два часа не вылезал. И место у него было свое, постоянное, на угловом диване во владениях пространщика Акулова. Началось с разговоров насчет того, что, мол, старость не радость, и так далее. Оказалось, что и Кока, вроде Кондрата, закоренелый холостяк. Однажды Николай Николаевич не погнушался, пожаловал к Кондрату в гости. Выпили, разговорились по душам. Кока в порыве откровенности доверил Кондрату большую тайну: что занимается он противозаконными делами, посредничает между спекулянтами. Видно, тонкий нюх был у Коки, быстро раскусил он, кто таков Акулов, знал, перед кем раскрываться. Ну, откровенность за откровенность, и Акулов тоже рассказал о себе. Кондрату льстило доверительное отношение Коки. Еще бы! Николай Николаевич, по всему видать, не чета ему, Кондрату, а теперь вот получается, что они вроде одного поля ягода… Дружба крепла, и как-то Кока попросил Кондрата об услуге: надо было передать маленькую коробочку с серьгами, как сказал Кока, одному человеку, который придет в баню мыться и скажет Кондрату условное словечко. Передать незаметно — например, сунуть в грязное белье, когда Кондрат будет помогать этому человеку собираться домой. Кока отблагодарил Кондрата, хотя тот пробовал отказываться, — дескать, уважу как друга. Сосчитав деньги, Акулов поразился: в пять секунд заработал двухмесячный оклад. Такие поручения Кока давал не часто, дело приходилось иметь все время с одним и тем же человеком, пожилым и солидным вроде самого Николая Николаевича, похожим по виду на профессора, и потому Кондрат не испытывал особых опасений. А платил емуНиколай Николаевич каждый раз по двухмесячной зарплате — не шутка. Иногда посылки шли в обратном направлении — от «профессора» к Николаю Николаевичу. «Профессор» никогда с Кондратом не заговаривал. В самый первый раз сказал три слова кряду — те, что Николай Николаевич велел Кондрату запомнить накануне; и с тех пор как язык проглотил. 23 ноября 1963 года в час дня «профессор» пришел мыться. По тому, как он взглянул, Акулов понял, что опять будет посылка Николаю Николаевичу. В два часа Акулов уже помогал ему вытираться, а затем собрал грязное белье, простыню, мыльницу, завернул все в большой пергаментный лист и уложил в портфель. И во время этих несложных манипуляций успел взять в руки обычную передачу. Это была маленькая коробочка, в каких продаются перстни или сережки, плотно обернутая белым медицинским пластырем. В тот же день вскоре после пяти явился Николай Николаевич. Кондрат вложил коробочку в его банный чемодан. А уходя, Николай Николаевич сказал, что навестит Кондрата дома 27-го вечером, попозже. И правда, 27 ноября пришел. Кондрат устроил угощение, но Николай Николаевич от всего отказался. Разговор был недолгий, но весьма серьезный. Кока объявил, что Акулову надо сменить работу. Другие пространщики уже косо смотрят на их отношения. Кока договорился с кем надо, и Кондрат будет работать в табачном киоске. Через неделю Кондрат Акулов водворился в одном из табачных киосков на Садовом кольце. 9 декабря под вечер к нему явился Кока и сказал следующее. Завтра к киоску подойдет человек, который скажет Кондрату: «Вы в Оружейных банях никогда не работали? Мне знакомо ваше лицо». На что Кондрат должен ответить: «Может быть, вы меня видели здесь?» Кондрат передаст ему коробку папирос «Казбек». Михаил Тульев подъехал на такси в пять часов вечера. Сказал Акулову пароль, услышал ответ и попросил продать ему пачку «Казбека». Так он получил новый шифр.
Глава VIII КОКА НАПРАШИВАЕТСЯ В ГОСТИ
Юля не усмотрела ничего необыкновенного в том, что Кока вдруг позвонил ей по телефону, хотя раньше никогда этого не делал, да и номера своего Юля ему не давала. Номер, впрочем, можно узнать через справочную. И сам разговор не показался ей неожиданным, если принять в расчет роль Коки в истории с долларами. — Ну как, наш общий знакомый вернулся? — Давно уже. — Все в порядке? — Чудесно! — воскликнула Юля от души. — Мы с Риммой так вам благодарны, Николай Николаевич! Все хотели позвонить или зайти к вам, честное слово, но, знаете как… дела всякие… — Вам, Юленька, я могу простить что угодно. Как поживает Римма? — Спасибо, у нее все хорошо. — А у кого не хорошо? — Не понимаю вас. — Да нет, я шучу. Вы так акцентировали это «у нее», а я такой неисправимый софист-формалист, всегда придираюсь к словам… Видитесь с Риммой? — Очень часто, почти каждый день. — Так вот вдвоем и ходите? — Почему вдвоем? Мы бываем и втроем. — С Аликом? — Нет. — Юля замялась. — Его я давно не встречала. — Что так? Кончилось? — Да ничего особенного и не начиналось. Он стал не тот. — Хуже? — Пожалуй, лучше. Кока расхохотался от удовольствия. — Великолепно! Так было, так будет! Чем мужчина несчастнее и неприютнее, тем милее он женщине. Но что же все-таки случилось с Аликом? — Ничего особенного. Работает, переводами балуется. Просто я думала, что он ко мне относится немного иначе. — Ну, по-моему, вы ему очень нравились… — Не знаю. К тому же он, кажется, трус. — Это уже серьезный довод, — с иронической серьезностью заключил Кока. — Но бог с ним, с Аликом. Поговорим лучше о вас. Так кто же с вами ходит третий? Наш знакомый? — Разумеется. — Ну да, понятно, этот… как его зовут? Забыл. — Владимир. — Да, да, Владимир, Вот память стала! Склероз, склероз! И фамилию ведь говорили вы… — Борков, — напомнила Юля. — Владимир Борков. — Так, вы говорите, командировка была удачная? — Чудесная! Благодаря вам, Николай Николаевич. — Смотрите, вот я возьму и поймаю вас на слове — мол, долг платежом красен и тому подобное. Как там Маяковский говорил? Мне бы только любви немножечко да десятка два папирос… Но я бескорыстен, я не курю, и я стар. Но это, кажется, звучит пошловато… Юле почудилось, что Кока и впрямь расстроился, и ей стало жаль его. — Скучно вам, Николай Николаевич? — спросила она с искренним участием. — Я привык. — Кока вздохнул. — Так уж все одно к одному складывается, да еще погода, прости меня, грешного… — Он как бы стряхнул нежданно набежавшую тоску и вернулся к шутливому тону: — Нюни распустил… Не слушайте меня, Юленька, все это гнилые интеллигенты придумали, комплексы всякие… Скажите, милая, вы что сегодня вечером делаете? — Римма меня будет ждать часов в семь. — Где? — У себя дома. — А потом? — Посидим, музыку послушаем. Володя должен прийти. Обещал принести кое-что почитать. — А вы правда хотели бы отблагодарить меня? — Я же вам говорю, мы просто… — Подождите, — перебил Кока, — у вас есть прекрасный случай это доказать. — Например? — Пригласите меня в гости к Римме. Если это удобно. Ей-богу, погибаю с тоски сегодня. — Ой, ну о чем тут говорить! С удовольствием, Николай Николаевич, Римма будет рада. — Ну и отлично. — Так вы запишите ее адрес, — начала было Юля, но тут же поправила себя: — А хотя зачем это? Мы же с вами соседи. Знаете что? Вы мне ровно в шесть позвоните и ждите меня на углу против церкви. Годится? — Замечательное словечко! Конечно, годится! Сейчас четыре. Значит, через два часа… …Римма действительно обрадовалась, увидев Юлю не одну, а с Кокой. Обитала она в небольшой, метров шестнадцати, скромно обставленной комнате. Квартира была двухкомнатная, за стеной жили молодые муж с женой. Едва Юля развернула принесенные Кокой покупки, явился Борков. Он сразу узнал Коку и, здороваясь, сказал, что очень рад встрече, но Кока отлично видел, что это не совсем так. От него не ускользнула мимолетная гримаса — смесь неприятного удивления и досады, — мелькнувшая на лице у молодого человека, когда он, целуя руку Юле, покосился на сидевшего в кресле Коку. Пока Римма и Юля собирали на стол, Кока разговорился с Борковым о его поездке за границу. Кока сидел, а Владимир похаживал вдоль стены, курил сигарету и стряхивал время от времени пепел в бронзовую туфельку, которую держал в руке. — Вам пришлось побывать только в Брюсселе? — спрашивал Кока. — Да, все дела устроили в основном там. — Понравилось? Как провели время? — Как вам сказать? — пожал плечами Борков. — Следовало бы ответить: плохо. Но сформулируем так: плохо, но мало. Коке понравился ответ. — Веселый городишко? — Особенно некогда было веселиться. Программа насыщенная, с утра до ночи переговоры. — Так ни разу и не развеялись? Боркову было явно неудобно, его угнетала эта тема, отвечал он нехотя. — Почему же? В кино ходили, в музеи… — В магазины, конечно, заглядывали? — переменил фронт догадливый Кока. — Изобилие? — Насчет этого? — Борков дернул себя за галстук, потом за борт пиджака. — Да-а, конечно! — Как публика одета? Борков быстро оглядел Коку и сказал: — Представьте себе, довольно скромно. Все очень хорошо сшито, но ничто не бросается в глаза. Вот вы, пожалуй, на брюссельской улице сошли бы за брюссельца. — Женщины? Борков улыбнулся — впервые с тех пор, как вошел. — Наши лучше, можете поверить. Кока не упустил случая сказать комплимент. — Если вы сравнивали с Риммой, то понятно… Вы меня простите, что я устраиваю вечер вопросов и ответов, но скажите, Владимир… Владимир… — Кока пощелкал пальцами. — Сергеевич, — подсказал Борков. — Но это ни к чему. Просто Володя. — Ну хорошо, Володя… Интересно сравнить цены. — Видите ли, смотря на что. Шерстяные и кожаные вещи стоят довольно дорого. Всякие лавсаны и перлоны очень дешевы. Так называемые предметы роскоши очень дороги. Вот видите мой галстук, например? Кока поманил его поближе, деловито пощупал галстук. В это время в комнату вошла Юля, достала из шкафа тарелки, а уходя, задержалась в дверях, заинтересованная разговором. — Сколько? — Угадайте. — Не берусь. — Десять долларов. — Не может быть! Борков был доволен эффектом. — Цент в цент. Но, правда, это уже считается недешевый галстук. А мне, между прочим, рассказывали, что бывают и по семьдесят, и даже по сто долларов. — Разврат! — воскликнул Кока и рассмеялся. — Загнивают империалисты, а? — Да уж загнивают, — согласился Борков. Юля покачала головой и вышла. — Не собираетесь больше никуда? — Теперь вряд ли удастся. — Почему? Кока спросил это без особого ударения, мимоходом, но если бы Борков знал его лучше, он бы понял, что вопрос задан неспроста. — Нашему институту режим сменили. — Что значит «сменили режим»? — Ну, теперь мы пэ-я. — Почтовый ящик? — Да. — Зарплата прибавится? — Может быть. — Вы живете один? — Здесь? Один. Родные в Саратове. — У вас телефон есть? — Не личный. В квартире. — Разрешите мне записать? На всякий случай, а? А вы запишите мой. — С удовольствием. Они продиктовали друг другу номера телефонов. Тут Римма и Юля принесли с кухни и поставили на стол тарелки с закусками, кофейник. Римма сказала: — Просим… В одиннадцатом часу Кока стал прощаться. Когда он ушел, Юля сказала Боркову: — Володя, зачем ты дурачил старика? По-моему, галстук у тебя польский, и купил ты его в Столешниковом переулке за рупь тридцать. Борков рассмеялся. — Точно! Но ему так хотелось, чтобы это был десятидолларовый галстук. Пусть потешится.
Глава IX ПРЕДАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Если бы речь шла, скажем, о ботаническом саде, предметом нашего рассказа были бы благоухающие цветы и благоуханный труд тех, кто их выращивает. Но наш предмет совсем иного свойства. Работа контрразведчиков менее всего походит на приятную деятельность цветоводов, и здесь, увы, другие краски, другие запахи. Такова уж специфика работы, что приходится иметь дело не только с честными людьми, но очень часто и с мразью, и от этого никуда не денешься. Поскольку Николай Николаевич Казин, с легкой руки Алика Ступила фигурирующий в деле под кличкой Кока, начинает играть все более важную роль, нелишне будет заглянуть в его пахучую биографию, чтобы понять, откуда он такой взялся. Прямо скажем, что экземпляр редкий, может быть, один на миллион, и любопытно будет проследить его развитие. Честные люди, соприкасаясь с таким экземпляром, испытывают чувство глубокого омерзения, но все же именно оттого, что они честные и порядочные, бессознательно порой ищут ему хоть какое-нибудь оправдание, высказывая классическое «ведь не всегда же он был таким»… И тут уместно предположить: а может, всегда? Но оставим предположения, поместим эту реликтовую бациллу на предметный стол микроскопа и хорошенько разглядим ее. Биография у Коки поистине феерическая. Родился он 31 декабря 1900 года. Позже, когда пробовал сочинять стихи символистского толка, он усматривал в том факте, что рожден на рубеже двух веков, нечто мистическое, считал это предзнаменованием необычайной судьбы. Трудно сказать, сколько тут мистики, но вот факт: мать и отец, подобно Алику Ступину, звали своего сына Кокой и никак иначе. Родители его были из московских городских мещан. Отец служил в банке, жили они обеспеченно. Мать, натура нервная и болезненная, шесть месяцев в году сидела дома, мучаясь мигренями, а шесть проводила в Крыму. Там, в ялтинском частном санатории, она и скончалась летом пятнадцатого года, когда уже была в разгаре мировая война. Отец носил траур до осени, а затем по протекции устроил сына в петроградское Владимирское юнкерское училище и сошелся без венчания с богатой купчихой. Жестокая по отношению к новичкам юнкерская среда сначала испугала Коку, но он скоро приспособился, найдя покровителей в лице двух старших юнкеров, из унтер-офицеров, которые уже понюхали службы в армии. Он добился их расположения элементарным подкупом, отдавая часть денег, присылаемых отцом. В благодарность за это они били его при случае только сами, не позволяя бить другим. А заслуживал он битья часто, потому что фискалил. И уже в этом проявилось его раннее призвание. В 1917 году юнкера восстали против Советов. Рано утром 11 ноября, когда рота Владимирского юнкерского училища, в которой числился Кока, выступила для захвата телефонной станции, он в момент какого-то замешательства нырнул в проходной двор, бросил там винтовку и был таков. Еще до рассвета он пробрался на квартиру к той знакомой отца, через которую ему пересылались деньги. Она приняла в нем материнское участие, помогла переобмундироваться в гражданское платье, а через неделю Кока решил любыми средствами уехать в Москву — боялся, что его как бывшего юнкера в Петрограде обязательно схватят. Конец ноября застал Коку в отцовской московской квартире, где хозяйничала теперь их служанка. Напуганный Петроградом, целый месяц просидел Кока, не показывая носа на улицу. Отца в то время в Москве не было, купчиха увезла его куда-то на Волгу, где имела собственные пароходы. Но черт с ними, с юнкерами. Можно сделать натяжку и не вменять Коке в особую вину то, что он их бросил. Одним прекрасным утром в квартиру, где изнывал от неопределенности юный Кока, ввалился здоровенный мужик в новом тулупе, с угольно-черной курчавой бородкой — посланный отцом служащий купчихи. Он явился спасать Коку. Через неделю они добрались до Сызрани, где Коку ждал отец с купчихой, а оттуда вчетвером, одевшись попроще и потеплее, пустились в дальнее путешествие на восток: отец наметил конечным пунктом Харбин. На железных дорогах в ту пору творился невообразимый хаос, двигались в день по версте, с муками и слезами, а на станции Татарской, что между Омском и нынешним Новосибирском, их совместным мытарствам пришел конец. Ночью на темную станцию, где они в числе множества себе подобных ждали оказии, налетели конные бандиты. Купчиха, когда главный бандит с железнодорожным фонарем в руке вошел и зычно крикнул: «Пра-а-шу пардону!» — сунула Коке тяжелый кожаный мешок с медными планками и застежками, шепнула: «Спрячь за пазуху и тикай отсюда, схоронись где-нибудь, а как эти уберутся — придешь». Бандиты уже принялись весело за работу, а Кока, охватив руками живот, мелким шагом двинулся к выходу, где стоял вожак банды со своим телохранителем. Этот последний остановил его: «Куды-ы!» Но вожак осветил фонарем Кокину физиономию и молвил: «Пропустить шкета! С перепугу…» И Кока выскользнул на улицу… Напрасно отец вне себя матерился сквозь зубы и называл сына гаденышем, напрасно купчиха стонала и заламывала руки — Кока к ним не вернулся. К утру он успел уйти верст за пятнадцать, нанял в большом селе сани и двинул на запад, к Омск. Так свершилось его второе предательство. В Омске, где он прожил месяц на квартире у отлученного от церкви дьяка, Кока приобрел привычку курить и потерял невинность. Совратила его дьякова дочка, числившаяся в девицах, а курить научил сам дьяк. В купчихином мешке оказалось семьсот золотых монет, десятки. Проявив рассудительность не по летам, Кока заказал себе у портнихи, знакомой дьяка, специальную стеганую душегрейку на вате, а потом, таясь от хозяев, собственноручно зашил монеты малыми порциями в ватные подушечки этой ловко придуманной им одежки. Диковинно тяжелая получилась душегрейка, но своя ноша не в тягость, и он как надел ее, так уж больше и не снимал, пока не добрался до Казани. Здесь судьба свела его с бывшим студентом Петроградского института путей сообщения, которого звали Герман, который был на три года старше Коки и так же, как и он, милостью гражданской войны оказался совершенно свободным и самостоятельным гражданином. Познакомились они на базаре. Кока желал купить револьвер, а Герман желал его продать. Они друг другу сразу понравились и с базара ушли вместе. С момента этой купли-продажи их можно считать друзьями по оружию. Герман оказался горячим приверженцем анархических идей Бакунина, а практическим толкователем их считал батьку Махно. У Коки в голове царила идейная каша, он не разбирался в политике и был вроде того кота, который ходит сам по себе. Но пламенный анархист Герман в две ночи распропагандировал его, и Кока, обретя, таким образом, стройное мировоззрение, последовал за Германом на юг, к Азовскому морю, где гуляла махновская вольница. Самого батьку они не увидели, но вождь махновского отряда, на который им посчастливилось нарваться, тоже оказался вполне красивой и зажигательной фигурой. Герман и Кока целовали знамя, после чего были приняты под спасительную сень его. Им приказали добыть себе коней, но поскольку Кока все равно в седле держаться не умел (хотя и учился в юнкерском, где верховая езда была специальным предметом), лошадь ему была без надобности. Его зачислили в помощники к писарю, который ездил вместе со своей канцелярией в цыганской кибитке, а Герман выменял коня у старого махновца за карманные серебряные часы с двумя Кокиными казанскими золотыми десятками в придачу. Недолго послужил Кока махновскому знамени. Веские причины заставили его и на сей раз прибегнуть к измене — теперь уже двойной, ибо он предавал одновременно знамя и друга Германа, которому в Казани клялся на крови. Братья-анархисты, когда настали жаркие летние дни, дивились, глядя на Коку: что за малохольный, мол, писаренок? Тут с голого пот в три ручья, а он парится в ватной жилетке. А вскоре после того, как обнаружил Кока на себе угрожающее внимание братьев, их отряд, дотоле промышлявший идиллическим грабежом мирных украинцев, русских и евреев, наскочил на красную конницу и еле унес ноги. Кока сообразил, что ему будет во всех отношениях лучше, если он прекратит бороться во имя матери порядка — анархии, и темной ночкой задал стрекача. Заметим в скобках, что Герману, на свою беду, еще придется повстречать Коку. …Как ветер сметает оторвавшиеся от дерева листья в овраг, так всех сорвавшихся с насиженного места неприкаянных сметало тогда в Одессу-маму. Коку, хотя и тяжел он был в золотой душегрейке, тоже подхватило этим ветром и вынесло прямо на Приморский бульвар. Он поселился в меблированных комнатах в доме, принадлежавшем хозяину с немецкой фамилией, но похожему больше на турка. На второй или на третий день по приезде воспоминания о дьяковой дочке распалили молодое воображение Коки, он обратился за советом к хозяину, и тот познакомил его с особой, носившей французскую фамилию, но изъяснявшейся почему-то на чистейшем вологодском диалекте. Если прибавить к этому, что зрелая особа, залучив его к себе в дурно пахнущий терем на окраине, в первый же час спела под гитару подряд три романса об африканских страстях, то не покажется удивительным ералаш, возникший в голове у Коки. Потом ему под видом коньяка был поднесен закрашенный чаем свекольный самогон, и не успел Кока додумать мысль о подделках, как был уже одурманен и лежал в постели без штанов и, главное, без душегрейки. Растолкали его среди ночи не женские руки. И голос, приказавший в темноте убираться подальше, тоже не принадлежал женщине. Душегрейку ему вернули, но она была теперь первозданно легкой, такой, как ее сшила портниха в Омске. На рассвете Кока прибрел к дому турка, разбудил его и потребовал объяснений. Но тот взбеленился и спросил у Коки документы, которых, разумеется, не было. И хозяин вышвырнул его на улицу. Кока плакал жгучими злыми слезами, испытав на своей шкуре, что такое обман и предательство. Но это научило его лишь одному: предавай всегда первый. Прокляв Одессу, Кока решил пробираться на север, в Москву. Но попал туда только через год. От Одессы до Киева и от Киева до Харькова не было села и города, куда не заглянул бы Кока на своем тернистом пути в бывшую белокаменную. Жил он все это время спекуляцией. Тогда-то и зародилась в нем жилка, определившая на многие последующие годы его способ существования. Период с двадцатого по тридцатый год не поддается более или менее подробному описанию, потому что был слишком калейдоскопичен. Достаточно перечислить должности и профессии, в которых пробовал свои силы возмужавший Кока, чтобы оценить многогранность его дарования. Он был рассыльным в книжном издательстве; ассистентом оператора на киностудии; сочинял и дважды напечатал стихи и однажды в кафе поэтов выпросил у Маяковского книжку с автографом (которой не упускал случая похвастаться, будучи стариком); во время нэпа служил секретарем какого-то мудреного товарищества на паях; потом давал уроки музыки нэпманшам, хотя сам умел играть по памяти только вальс «Амурские волны», а нот не знал и слуха не имел; выступал в качестве конферансье на эстраде и работал страховым агентом; был оценщиком в комиссионном магазине и театральным кассиром. Профессии менялась, но оставался неизменным общий фон — спекуляция на черном рынке. В начале тридцатых годов Кока понял, что надо обзаводиться прочным служебным положением, и поступил в строительный трест юрисконсультом, предварительно заручившись хорошо подделанной справкой, что окончил когда-то три курса юридического факультета. Специалистов даже с незаконченным высшим образованием тогда крайне не хватало и в зубы коню не смотрели. А в знании законов и в расторопности Коке отказать было нельзя. К тому времени он поселился в комнате на Большой Полянке и зажил степенной холостой жизнью. До 1938 года все протекало прекрасно. Но вот в наркомат, где работал юрисконсультом Кока, пришел — кто бы мог подумать! — тот самый Герман, анархист и махновец. Правда, с тех пор, как изменчивый Кока разорвал в приазовских степях их добровольный союз, скрепленный кровью в Казани, Герман прошел очень длинный путь и давно забыл свои полудетские увлечения. Разочаровавшись в анархизме, он покинул махновцев, встретил в скитаниях умных людей и пошел за ними твердо и сознательно. Эти люди оказались большевиками. Герман командовал эскадроном в буденновской коннице, потом его назначили командиром полка. Он был трижды изрублен шашкой в кавалерийских атаках, несколько раз ранен пулями и осколками. В двадцатом году его приняли в партию. Разумеется, он не скрывал в анкетах свои анархические увлечения. Герман не узнал сначала Коку, но тот напомнил, и друзья обнялись по-мужски, крест-накрест. Кока через неделю написал заявление в партком наркомата о махновском прошлом Германа. Германа арестовали, а Кока заслужил, таким образом, репутацию бдительного работника. Нет, Кока не считал свой донос бесчестным поступком. Он был уверен, что всего-навсего упредил события, так как, по его глубокому убеждению, иначе Герман написал бы донос на него. Ничего не поделаешь: каждый судит о других по самому себе, меряет всех своей собственной меркой. Итак, которое же по счету предательство совершил Кока? Не будем мелочными, ибо главное предательство впереди. Промежуток между 1938 и 1959 годами пуст по части измен. Надо лишь отметить, что в этот период Кока сильно разбогател на подпольных махинациях с иконами, золотыми монетами царской чеканки, брильянтами и, наконец, валютой. 1959 год достойно украсил биографию Коки. Летом он познакомился на почве общего интереса к драгоценным камням с респектабельнейшим атташе по вопросам культуры посольства одного из западноевропейских государств. С тем самым, который теперь занесен советской контрразведкой в дело под кличкой Антиквар. Сей Антиквар недолго обхаживал Коку. Они оба были стреляные воробьи, им не требовалось прощупывать друг друга с помощью пробных шаров, наивных, как голубые и розовые детские шарики. Антиквар готов был платить, а от Коки ожидалось не столь уж много. Однако мы погрешили бы против истины, если бы стали утверждать, что Кока согласился исполнять невинные на первый взгляд поручения Антиквара из одной только неуемной жажды денег. У него и своих к тому времени вполне хватало. Вульгарно купить его можно было в тридцатом году, когда он смотрел на мир голодными глазами, но не в пятьдесят девятом. Нет, Кока действовал по убеждению, продавался, так сказать, по идейным соображениям. И к тому же он, видимо, соскучился — давно никого не предавал. Ничего не попишешь: мы предупреждали, что это экземпляр совершенно уникальный. Может быть, какую-то роль сыграла здесь также пощечина, полученная Кокой пятью годами раньше. Герман вышел из заключения реабилитированный, разыскал Коку и хотел его убить. Но он был стар не по летам и очень слаб, с Кокой ему бы не справиться, и он удовлетворился одной пощечиной. И имел еще наглость сказать на прощание, что если Кока рассчитывал задавить его своим доносом, погасить веру во все, почитаемое Германом как святыня — веру в человека, в народ и в партию, — то он, Кока, ошибся. В общем, какие мотивы были основными, а какие побочными — неважно. Важно то, что Кока прошел иудиной тропой до конца. И причитающиеся ему сребреники получал исправно.
Глава X НА СЛУЖБЕ У АНТИКВАРА
Деятельность Коки на службе у Антиквара поначалу носила сугубо прозаический характер. Хронометраж одного дня даст об этой деятельности достаточное представление. Однажды Антиквар попросил Коку вот о чем. Надо несколько раз съездить в пригород Москвы, где расположен большой номерной завод, и просто послушать, о чем говорят рабочие. На территорию завода Коку, конечно, не пустят, но недалеко от главной проходной есть большая закусочная, у завода имеется также отдел кадров и бюро пропусков, куда не возбраняется заходить кому угодно. Что же Кока должен там делать? Ровным счетом ничего. Только слушать, запоминать, а вернувшись домой, составить подробную записку обо всем услышанном. Кока отправился на завод рано утром и начал с бюро пропусков. В довольно большом помещении бюро было много народу. Возле окошка стояла очередь, у застекленной телефонной будки — тоже. Стены подпирали маявшиеся в ожидании мужчины и женщины, вероятно, командированные. Кока со скучающим видом встал возле будки. — Алло, алло! Мне главного технолога… Девушка!.. Мне начальника вашего… Я ж издалека, второй день торчу здесь без толку… За блоками… Да, с объекта номер пять… А когда он будет?.. Ну все равно, закажите хоть пропуск… Взъерошенный молодой человек вышел из будки, а его место занял представительный дядя. — Три-семнадцать, пожалуйста… Товарищ Ермолин? Это опять я, Прохоров. Что же получается, товарищ Ермолин? Мы просили головки бэ-ка-эр-восемь, а вы нам выписали пэ-ка-эр-восемь. Что? Нет, вы напутали… Но это же минутное дело… Да? Ну хорошо, спасибо… Что?.. Да уж постараемся. Затем говорил военный. — Четыре-десять… Алло, Леонид Петрович вернулся? Соедините меня с ним, пожалуйста… Леонид Петрович? Это майор Сухинин. Да-да… Пусковые прошли успешно… Я по другому поводу… Да, закажите, пожалуйста… Зовут Сергей Константинович… Спасибо. Следующий — высокий подтянутый молодой человек с усиками. — Главного инженера… Алло, Галина Алексеевна? Здравствуйте, это я, Гончаров… Главный у себя? Да, соедините… Дмитрий Михайлович, здравствуйте, это Гончаров с Волги, из ящика двадцать — девяносто три. У нас по тысяча первому изделию есть предложение… Да, прислали меня обсудить. Хорошо. Есть! У будки стоять дольше показалось Коке неудобным, к тому же его внимание привлекла встреча друзей. Два веселых парня столкнулись в дверях, начали на радостях хлопать друг друга по плечу, прямо на самом проходе, но их попросили отойти в сторону. Кока подвинулся к ним поближе. — Ну, здорово! — Здорово! — Ты откуда? — С десятой площадки. А ты? — С шестой. — Жарковато? — Соль добываем со спины. — Давай меняться. — Ты что, замерз? — В сентябре при минусе живем. Замерзнешь… — Пусковые были? — Порядок. Точность — единичка. — Везет вам! А у нас отложили. — Что такое? — Да ерунда в общем-то. Утечка кислорода… Тут мимо них прошел от окошка к дверям пожилой человек. Он заметил не останавливаясь: — Эй, молодцы, растрещались, как сороки… Оба взглянули на него, потом друг на друга, и один сказал: — Ладно, Шурка. Ты уже с пропуском? В третий цех? Я тоже туда. Дождешься меня? — О чем речь! И они разошлись. А Кока направился в отдел кадров. Выяснив там, каких специальностей рабочие требуются заводу, он пошел в кафе-закусочную. Был день получки, и, закончив смену, молодые парни компаниями, больше по трое, заходили, шумно рассаживались, брали в буфете «закусь», распечатывали под столом захваченную с собой злодейку с наклейкой (на стене красовался запрет, запечатленный желтыми буквами на черном стекле: «Приносить и распивать крепкие спиртные напитки строго воспрещается»), выпивали и, прежде чем разойтись, немного говорили по душам. Например, Кока запомнил, а придя к себе, записал такой коротенький разговор. — Нет, Васыль, мне обидно. В прошлом году на монтаже «Сибири» почти в полтора раза больше платили. — Так сейчас же упростили монтаж? — На два узла. — Хотя бы на два. Но чего тебе горевать? Ее скоро совсем с производства снимут. — Иди ты! — Честно. — А что будет? — Не знаю. Говорят, для самонаводящихся. — Хорошо бы… Казалось бы, ну чего тут важного? Но Кока понимал, что эти отрывочные, разрозненные сведения, попав на стол опытных специалистов и аналитиков, могут приобрести огромную ценность. Ведь умеют же ученые по одной-единственной косточке воссоздать весь скелет какого-нибудь птеродактиля или динозавра. Во всяком случае, Антиквар оставался неизменно доволен составляемыми Кокой записками. Пока их взаимоотношения были исключительно торговыми, Антиквар не боялся свободно встречаться с Кокой. Но, завербовав Коку, он сделался осторожным. И прежде всего велел Коке подыскать кого-нибудь понадежнее и поудобнее для связи. Таким образом на арене появился молчаливый пространщик Кондрат Акулов. Удобнее трудно придумать. Самое последнее задание Антиквара заключалось в том, что Кока должен разыскать в Москве одного человека и навести о нем как можно более подробные справки. Фамилия — Борков, зовут — Владимир Сергеевич. Антиквар не дал Коке адреса Боркова, хотя и знал, где Борков живет. Так полагалось для контроля. Когда Кока по телефону сказал Юле, что забыл имя и фамилию знакомого Риммы, для которого он доставал доллары, — это был тот редкий случай, когда Кока говорил правду. Получив от Антиквара записку и прочитав ее, он начал мучительно вспоминать, когда и где мог слышать эту или очень похожую фамилию. В последний год у него действительно, кажется, развился склероз, он стал забывать даже имена своих самых старинных клиентов. Он только знал, что фамилия «Борков» напоминает ему о чем-то недавнем. Услыхав от Юли, что друга Риммы зовут Владимир Борков, Кока сначала испытал радость удачи, а затем глубоко задумался. Что же это значит? Каким образом и в какой связи стало известно его шефу имя человека, которому Кока полтора месяца назад продал двести долларов? Неужели еще возможны на свете такие невероятные совпадения? И случайность ли это? Но Кока прекрасно понимал и чтил диалектику. Он понимал, что все на свете имеет свои причины, надо лишь проявить терпение, чтобы докопаться до них. Кока был тертый калач. В любых делах, с любым партнером он всегда строго придерживался одного правила, которое давало ему преимущество и которое он сам сформулировал так: если умеешь считать до десяти, останавливайся на девятке. Твердо усвоив закон, что в нынешний век сильнее тот, кто лучше информирован, он старался быть осведомленнее своих партнеров, но не показывал им этого. И в данном случае он не собирался делать исключения. Не по-хозяйски было бы с его стороны выкладывать Антиквару сразу все. Поэтому Кока в своем сообщении лаконично доложил, что Борков им разыскан и что он постепенно начнет собирать о нем сведения. Однако, прибавил Кока в конце, это весьма не просто и не скоро делается. Антиквар в ответном шифрованном письме, переданном, как всегда, через Кондрата Акулова, уведомлял, что они должны в ближайшее время встретиться в подходящих условиях с глазу на глаз, чтобы обсудить серьезный вопрос, не терпящий отлагательства.
Глава XI ГРИМ ДЛЯ БЫВШЕГО ЛАГЕРЯ
Этот обширный лесной край прорезала единственная железная дорога, прямая как стрела. Она была похожа сверху на голый ствол с одинокой ветвью, потому что от дороги отходила единственная ветка, дугообразная, терявшаяся где-то в густых лесных дебрях. На конце этой ветки, если смотреть с большой высоты, висело нечто буро-ржавое, напоминавшее прошлогоднюю сосновую шишку. А если у кого была охота прошагать по ветке между двумя рыжими рельсами по источенным, полусгнившим шпалам до самого ее окончания, тот мог увидеть несколько неожиданную картину. Железнодорожный путь упирался в забор из колючей проволоки, со сторожевыми вышками на углах, которые издали казались скворечниками, а пространство, огороженное забором, было застроено длинными деревянными бараками. Тлен и запустение царили вокруг. Здесь когда-то содержались военнопленные, бывшие офицеры гитлеровской армии, в подавляющем большинстве из войск СС. Они работали на лесозаготовках и могли считать, что им повезло. Отнюдь не все, что было, для нас поросло быльем, однако пленные давным-давно отпущены по домам, и лагерь, оставленный за ненадобностью на произвол ветра и дождя, заполонили буйные кусты и травы. Бараки осели и покосились, крыши сделались как решето. И вдруг в один прекрасный день к лагерю подъехала мотодрезина, к которой была прицеплена платформа, нагруженная строительными материалами. Из вагончика спрыгнули на полотно люди в спецовках. Их было немного, всего пять человек. Обследовав лагерь, они принялись за работу. Сначала напилили в лесу бревен, сделали подпорки для бараков. Затем приступили к починке крыш — вместо безнадежно проржавевших листов настилали новые. И в довершение покрасили крыши зеленой краской. После этого подправили сторожевые вышки и приступили к очистке всей территории от густых зарослей. В ход пошли пилы, косы и топоры. Пять дней трудилась бригада, а пошабашив, взглянула на дело рук своих и осталась довольна. Случись тут посторонний наблюдатель, он был бы немало озадачен. Что за чертовщина? Кажется, эти люди намеревались реставрировать заброшенный лагерь. Но тогда почему же они сделали все на скорую руку, тяп-ляп? Подлатали крыши, подперли готовые рассыпаться бараки, расчистили землю — и убрались. Нет, всерьез так ничего не восстанавливают. Недоумение возросло бы еще больше, если бы после этого наблюдатель обнаружил, что на заброшенной железнодорожной ветке появился старенький маневровый паровоз и с ним пять изношенных пульмановских вагонов. А через несколько дней на этом паровозе был доставлен к лагерю человек, привезший с собой четыре небольших металлических ящика. Он вырыл между бараками четыре неглубокие ямки, положил в них эти ящики и присыпал их сверху слоем земли. И уехал. А паровоз с вагонами вернулся. Если же нашему наблюдателю пришлось повоевать во время Великой Отечественной войны, то у него в конце концов, несомненно, возникли бы определенные ассоциации. Он подумал бы о широко распространенном на войне способе, при помощи которого сбивали с толку авиаразведку противника. Например, делалось так. На огромной поляне расположились огневые позиции дальнобойной артиллерии резерва главного командования. Подъезды и подходы к батарее тщательно замаскированы, землянки личного состава укрыты в лесу, над каждым орудием растянута громадная маскировочная сеть. В недалеком соседстве, тоже на поляне, стоят такие же по размерам орудия, но деревянные. Они тоже замаскированы как будто, но маскировка носит следы намеренной небрежности. Фашистский самолет-разведчик — его звали «рамой» или «костылем» — прилетит, покружит над плохо замаскированной деревянной батареей, сообщит по радио своим артиллеристам данные для стрельбы. Через десять минут на ложную позицию обрушивается беглый огонь крупнокалиберных стволов. Пилот «рамы» смотрит с неба, засекает попадания и радуется: через полчаса можно считать батарею несуществующей. К ночи, глядишь, нисколько не пострадавшая настоящая батарея подает свой смертоносный голос. А специально выделенная команда между тем превращается в орудийный завод: люди делают новые орудия — деревянные, конечно. Потом выбирают новую полянку и устанавливают на ней свои гигантские игрушки. И опять прилетает «рама»… Подобным же образом поступали в авиации. Для отвода глаз рядом с подлинным аэродромом создавался фальшивый. И очень часто эта простейшая военная хитрость сберегала жизнь летчикам и машинам. Труд, затраченный на создание ложных артиллерийских позиций и аэродромов, даже если это и казалось иному ленивому солдату пустой блажью начальства, всегда оправдывал себя сторицей. То, что было сделано с заброшенным лагерем военнопленных, напоминало старый военный прием. Дряхлые бараки были, если можно так выразиться, омоложены посредством косметического грима. Был имитирован ряд производственных зданий с характерными признаками объекта оборонного значения. Подновлена территория и железнодорожная ветка. А замаскированные радиоэлектронные установки и специальные закладки будут, когда это нужно, издавать сигналы, излучать волны, и их обязательно засекут и зафиксируют те, кому этого очень уж хочется. Одним словом, все было так, как бывает в действительности, с той лишь разницей, что никакого развернутого производства здесь нет и не предвидится. Американские спутники-шпионы периодически облетывают земной шар. Их особенно интересует территория Советского Союза. Онивооружены сложнейшей аппаратурой, способной отмечать и фиксировать мощными фотокамерами малейшие строения на земной поверхности и все, что на ней находится. Лагерь военнопленных располагался именно в том квадрате, в котором был помечен стратегически важный объект, указанный в последней радиограмме, переданной Павлом в разведцентр от имени Надежды. Загримированный вскоре после отправки этой радиограммы по приказу полковника Маркова лагерь представлял теперь собой вместе с железнодорожной веткой вполне подходящий объект не только для космической разведки. Можно было, предполагать, что иностранный разведцентр не оставит без внимания столь важное сообщение Надежды и перепроверит его. Какими бы точными и всепроникающими ни представлялись небесные автоматические шпионы, оснащенные самыми последними достижениями науки и техники, все-таки живой человеческий глаз во многих случаях бывает вернее и нужнее. Вот почему Антиквар, вызвав Коку на свидание, убедительно просил его совершить дальнюю поездку и снабдил фотоаппаратом, смонтированным в роговых очках. Кока не ожидал подобного поручения, он думал, что речь пойдет о дальнейшем изучении Владимира Боркова и, между прочим, так и сказал шефу. Но тот ответил, что Борковым они займутся — и очень серьезно — несколько позже, а сейчас необходимо ехать. Инструкции были короткие и несложные. Антиквар нарисовал схему железной дороги, пометил на ней две станции, между которыми от дороги отходит влево ветка. Кока должен выбрать такой поезд, чтобы он следовал по этому участку в светлое время суток, — вообще-то можно сфотографировать и ночью, но днем надежнее. Заранее предвиделись затруднения: на помеченных станциях, вероятно, дальние поезда не задерживаются, пролетают их с ходу. Через стекло фотографировать нельзя, даже если окна в поезде будут незамерзшие. Следовательно, придется Коке проявить изобретательность, придумать что-либо, исходя из обстановки. Антиквар без особого труда научил Коку пользоваться фотоаппаратом. Чтобы сделать снимок, надо нажать пальцем медную головку шпильки, соединяющей правую дужку с оправой стекол. Вторичный нажим переводит пленку на следующий кадр. Всего в пленке пятьдесят кадров, но Кока, наверное, успеет сделать всего два-три…
15 декабря Кока выехал на восток. Поезд был выбран удачный: он проходил нужный участок около одиннадцати часов утра. Как и предвидел шеф, Кока испытал при съемке неудобство. Окна в мягком вагоне были не просто замерзшие — их стекла покрылись пухлой изморозью толщиной, пожалуй, в палец. Двадцать минут простоял Кока в ледяном тамбуре, чтобы не пропустить ветку, отходящую влево от дороги. Каждые пятнадцать-двадцать секунд открывал дверь, очень боясь при этом, что вагон качнется и его сдует. Мимо все время шастали туда-сюда пассажиры, в ресторан менее общительные, из ресторана — более. Один, увидев, что Кока открывает, дверь, поинтересовался: «Вы что, папаша, прыгать собираетесь? Не советую. Холодно там». Кока в сердцах проклинал шефа, думал о том, что тот совершенно не знает жизни и, посылая его в эту поездку, не учитывал реальных возможностей. Ну разве может здравомыслящий человек рассчитывать, что из поезда, несущегося со скоростью восемьдесят километров в час по бескрайней лесной глуши, покрытой белым саваном снега, удастся заметить ничем не обозначенную железнодорожную ветку? И кто должен заметить? Человек, впервые едущий по этой дороге. И не просто заметить, а еще и успеть сфотографировать. И стоя не на твердой земле, а в тамбуре немилосердно раскачивающегося вагона при открытой двери, под обжигающим ветром. Но Кока всегда был везучим. Он вовремя открыл дверь, увидел ветку и на ней вдали паровоз и сделал три снимка. В Москву он вернулся 22 декабря с выполненным заданием и жестоким насморком: стояние в тамбуре не обошлось даром. Антиквар отобрал у него очки, поблагодарил и сказал, что, к сожалению, они вынуждены чаще видеться в последнее время. Это не улучшает конспирации, но ничего не поделаешь: необходимо вскорости встретиться еще раз, а потом в течение долгого периода не видеть друг друга, довольствуясь связью через Кондрата.
Глава XII ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО
«Здравствуй, Михаил! Твое письмо и обрадовало меня и огорчило. Что с тобой произошло? Когда ты так неожиданно исчез, я подумала: значит, попал в какую-то нехорошую историю, связался с преступниками. И не хотелось в это верить, а другого объяснения у меня не было. Да и все у нас решили так же, почти все. Зла я на тебя не держала, но обидно было до слез, что ты меня обманывал. Ни одной женщине не пожелаю пройти через то, через что прошла я. До самого Сашкиного рождения ходила, как побитая собачонка, глаз от земли не поднимала. Потом понемногу стала оживать, а тут ты о себе напомнил. Нет, не подумай, я тебя не забывала никогда, но эта посылка денег меня покоробила. Грубо все вышло, нечисто, не по-людски. Деньги твой посланец подбросил в коляску, в детскую Сашкину коляску. Я после этого Сашку перестала в ней возить. Я знала, что деньги от тебя. Больше не от кого было. И после этого окончательно уверилась, что ты связался с нечестной компанией. Потому что честные люди так не поступают. Ну ладно, тут дело ясное. У тебя своя голова на плечах, ты давно уже не мальчик и можешь распоряжаться своей судьбой, как считаешь лучше. Не мне тебя учить. Самое обидное в другом. Зачем ты меня обманывал, лгал по мелочам? Вот ты говорил, будто живешь в плохоньком домишке на окраине, это была неправда. А история с моей поездкой в Москву? Я ведь тогда была глупая и наивная, верила тебе целиком. У меня мелькнула догадка, что не все так просто, как ты объяснил, но тебе я доверялась больше, чем себе. А теперь ты просишь извинения за эту поездку. Значит, врал? Вот что обидно. Меня всегда учили: говори только правду, даже самую горькую. Ты поступал иначе. Не считай это упреками, но высказать тебе все я должна. И покончим с этим. Расскажу о Сашке. Можешь радоваться: он очень похож на тебя, теперь это уже видно. И нос, и глаза, и лоб совершенно твои. Моего, конечно, нет ничего. Очень живой и веселый мальчик. Растет нормально, на редкость спокойный, очень редко плачет и особенно не капризничает. Соседки даже удивлялись. Крепкий, здоровый, ничем пока не болел. В общем, все отлично, только вот не знаю, правильно ли я ему отчество дала — Михайлович. Фамилия-то у него настоящая, моя, а вправду ли ты Михаил? Может, тебя зовут по-другому? Но ничего, переживем. Раз записала Михайловичем — пусть так и будет. Ты для меня останешься тем Михаилом, которого я знала. Думаю, тебе будет интересно послушать, как реагировали на твое исчезновение в парке. Начальник долго не хотел верить: мол, как же так, образцовый работник и прочее. Слива, чью машину ты взял (помнишь его?), горячо тебя благодарил (в кавычках, конечно). За разбитую машину с него не вычитали, но она ведь была новенькая, а пришлось сдавать в ремонт. Мне пришлось проглотить несколько сплетен на наш с тобой счет. Чего только не болтали! К счастью, сплетников у нас не так уж много, им быстро заткнули рты. Ребята отнеслись ко мне по-товарищески. Сашку, между прочим, шутя зачислили в парк, в первую колонну. Ну вот, кажется, я написала все, что могло интересовать тебя. Теперь поговорим о том, что не дает покоя мне. Твое письмо пришло не по почте, его принес нарочный. Он сказал: если я пожелаю ответить, то должна передать свой ответ в областное управление КГБ. Из этого не трудно сделать и заключение. Не такая уж я дура, чтобы не сообразить. Ты арестован, но за что? Что же такое должен натворить человек, чтобы его забрали в КГБ? Неужели ты предатель? Или, боже упаси, шпион? Это не укладывается у меня в голове. Откровенно скажу тебе: готова была простить и уже простила авансом, если бы ты оказался замешан в какую-то уголовщину. Я уверена была, что ты по своей доброй воле не можешь сделаться вором или бандитом, а если сделался, то виноваты тут какие-то твои темные дружки, старые связи, которые ты не мог разорвать по каким-то причинам. Нет, ты не можешь быть предателем и тем более шпионом. Но тон твоего письма меня смущает, что-то очень плохое и неладное произошло. Но что? Такие вопросы, догадываюсь, не имею права задавать. Разве что самой себе. Кто же ты все-таки есть на самом деле? То вдруг мне кажется, что ты почему-то не наш, а вроде бы иностранец, так, во всяком случае, вытекало из твоего письма. Потом с отцом какая-то непонятная история. Нет, я совсем запуталась и ничего не понимаю. К сожалению, твое письмо не у меня и по этой причине я не могу вновь к нему вернуться и уже в более спокойной обстановке еще раз все взвесить. Понятно одно: ты был не тот, за кого выдавал себя. Неужели ты и со мной просто так, по-человечески, был двуличным? И все твои слова, которые говорились только для меня, были игрой? Это было бы слишком подло. Не хочу скрывать. Я отношусь к тебе теперь уже не так, как прежде, но ты мне не чужой и никогда чужим не сделаешься. Я хочу с тобой встретиться. Возможно ли это? Может быть, мне попросить в КГБ о свидании? Если тебе разрешат написать еще раз, объясни, как мне поступить. Ведь если позволили послать это письмо, то, наверное, отношение к тебе не такое уж плохое. Разузнай все и постарайся ответить. Буду ждать с нетерпением. Я сейчас в таком состоянии, сама себя не узнаю. Даже Сашка чувствует, как я мечусь. Но постараюсь найти равновесие. Что еще написать? Сначала не хотела, но потом подумала, что ты должен это знать, хотя тебе будет неприятно. Дом, в котором ты жил, сгорел. Дотла. И в нем погиб твой хозяин, старик (кажется, его фамилия Дембович). Я несколько раз ходила на пожарище, но потом там на калитку повесили замок. Участок так и пустует с тех пор. Посылаю тебе фотокарточку Саши. Здесь ему ровно год. Передай от меня большое спасибо тем, кто разрешил нашу переписку. Живу я нормально. Лишнего не имею, а все необходимое есть. Не жалуюсь. Желаю тебе самого лучшего. Главное — будь хоть теперь честным перед людьми и перед самим собой. Мария».
Глава XIII БРЮССЕЛЬСКИЙ ШЛЕЙФ
Кока и Антиквар встретились на Москве-реке. Первым прибыл на лед Кока. Он был похож на заправского, видавшего виды рыбака и ничем, кроме большой и совершенно новой заячьей шапки, заметной издалека даже на туманной, бело-сизой полосе заснеженной реки, не отличался от остальных любителей подледного лова, ревниво сидевших каждый над своей лункой. Кока выбрал удобное место — под довольно высоким берегом, с которого свисала надо льдом старая ива, — наверное, ее узкие листья летом купались в воде. Пробуравив коловоротом две лунки, он наладил мормышки и устроился поудобнее на складном своем парусиновом стульчике. Все это мероприятие не доставляло ему удовольствия, он вообще никогда не ловил рыбу ни на удочку, ни на блесну, а подледный лов был ему тем более чужд, и потому весь этот камуфляж, предложенный Антикваром, представлялся Коке излишним и неудобным. Кока ради этой встречи должен был покинуть теплую постель, уютную комнату и сейчас торчать здесь, на этом проклятом морозе. Антиквар явился раньше, чем ожидал Кока. Он остановился невдалеке, пробил себе лунку, сел на такой же, как у Николая Николаевича, парусиновый стульчик и опустил в черную воду мормышку. Сидели, смотрели в лунки, издалека интересовались успехом соседей, которым попадались окуньки величиной с мизинец. Прежде чем подойти к Коке, Антиквар по пути к нему останавливался у нескольких рыбаков и подолгу задерживался около них, интересуясь ходом клева. И наконец, подошел к Коке. А Кока к тому времени окончательно замерз и был зол. — Здравствуйте и не сердитесь, — сказал Антиквар. — Что вам удалось узнать? — Работает в научно-исследовательском институте. По вывеске институт принадлежит Союзглавхимкомплекту, но не так давно его сделали номерным, и вывеска — просто ширма, — отвечал Кока таким тоном, словно тема разговора была ему до смерти скучна. — Как вы сказали? Союз… хим… Что это обозначает? — Это главк. Главное управление Совета народного хозяйства. Занимается вопросами комплектования оборудованием предприятий химической промышленности. Лицо у Антиквара стало сосредоточенным, как будто он разгадывал замысловатый ребус. — Мне трудно запомнить, — сказал он. — Вы потом напишите это на бумаге. Кока вяло улыбнулся и потер озябшие руки. — По-моему, союзкомплект вам будет неинтересен. Я же говорю: это лишь вывеска. Институт занимается другими делами. — Какими? Кока пожал плечами. — А вам не кажется наивным ваш вопрос? Если бы я это знал, зачем тогда нужен этот парень? — Но, может быть, вам известно в общих чертах? — Увы… — Хорошо. Что вы еще выяснили? — Он холост. Ухаживает за красивой молодой женщиной. Живет один. Имею его телефон. — Выпивает? — Не могу пока сказать. Не знаю. — Член партии? — Тоже не знаю. — Надо все это выяснить. И еще один важный момент. Проверьте его по местожительству. Поговорите с соседями. Только осторожно. — Хорошо, постараюсь. Кока в душе подсмеивался над своим собеседником. Он знал о Владимире Боркове пока не так уж много, но, во всяком случае, гораздо больше, чем показывал Антиквару. Он по-прежнему придерживался правила: если умеешь считать до десяти — останавливайся на девятке. И чувствовал себя перед лицом партнера уверенно, как вооруженный до зубов и закованный в броню конквистадор перед обнаженным индейцем, у которого в руке жалкое тростниковое копье. Уж что-что, а сопоставлять факты и делать из этого выводы Кока умел. Сейчас у него в руках были два факта. Первый: он, Кока, продал Владимиру Боркову перед поездкой последнего в Брюссель двести долларов. Второй: по возвращении из Брюсселя им заинтересовалась иностранная разведка. Поначалу Кока задал себе вопрос: случайно ли это совпадение? Теперь, по тщательном рассмотрении, он категорически отвечал: нет, не случайно, а вполне закономерно. Но сразу вставал другой вопрос: на чем основана эта закономерность? Однако тут для Коки все было предельно просто: на свойствах человеческой натуры. В данном случае у Коки не вызывала сомнений элементарная схема: Борков, отправляясь за границу в служебную командировку, купил доллары. В Брюсселе, имея лишние деньги, дал себе волю и, вероятно, попал в какую-то скандальную историю, связанную с вином и женщинами, — те, кто ищет легкомысленных любителей развлечений, чтобы использовать их в своих целях, каким-то образом заполучили материал, компрометирующий Боркова. Дальше, по логике вещей, в схеме должен значиться шантаж, и лучшим доказательством в пользу такого вывода служит тот факт, что вот они вдвоем с Антикваром находятся сейчас на рыбалке. Дело, которое начинал Антиквар, Кока про себя назвал «Брюссельским шлейфом». Он подумал: интересно, какое выражение лица будет у его партнера, если вдруг ни с того, ни с сего произнести название этого города? Скорее всего, лицо его выразит крайнюю степень глупого удивления. Заманчиво было бы поглядеть… Но Кока не таков. Он не собирается ради секундного удовольствия обесценивать перед шефом свои собственные услуги. Антиквар выпил из термоса несколько глотков горячего кофе и, наконец, прервал молчание. — Слушайте внимательно, Николай Николаевич, — сказал он, вытирая платком губы. — Этот Борков мне нужен. От него потребуются некоторые сведения. — А он знает о том, что нужен вам? Или, как в старом анекдоте, осталось только уговорить Ротшильда? Но Антиквар не принял иронического тона. — Будет знать. Вы ему об этом сами и сообщите. — Но захочет ли он? — Вероятно, захочет. — За деньги? — Деньги тоже кое-что значат. Но сначала выслушайте меня. — Да, я весь внимание. — У меня имеются кое-какие документы. Вот они. — И он вложил Коке в валенок аккуратный пакет из целлофана. Кока внутренне ликовал. Ну, конечно, все идет как по нотам! — Вы встретитесь с Борковым, — продолжал Антиквар. — Где — по вашему усмотрению. Обязательно в уединенном месте, потому что вам придется демонстрировать документы Боркову… «Объясняет, как маленькому», — с неприязнью подумал Кока. — …Ему будет неприятно увидеть эти документы. Они его могут скомпрометировать, если станут известны, предположим, органам госбезопасности или его начальству по службе. — Шантаж, — несколько разочарованно определил Кока. — Да, разумеется, — отрезал Антиквар. — А тот мальчик… как его?.. который ездил по вашей просьбе за пробами земли… Это что — не шантаж? — То — другая масть. У нас с Аликом Ступиным были деловые связи. — Я вас не понимаю, — сердито сказал Антиквар. — Вы потеряли желание сотрудничать с нами? — Нет, почему же, — поспешил возразить Кока. — Просто я предвижу, что такие методы в отношении этого Боркова могут оказаться неподходящими. Это не Алик Ступин. Гораздо сложнее. — Простые методы всегда надежны. И, во всяком случае, мы сначала должны их испробовать, а затем уже выбрасывать, если они не дадут желаемых результатов. — Ладно, прошу прощения, — сказал Кока. — Считайте, что виноват мелкий окунь. Антиквар был недоволен. Заговорил отрывисто, рублеными фразами: — Мы затягиваем время. У вас сегодня не по погоде игривое настроение. Вы забыли, что с некоторых пор наши встречи перестали быть частыми. Это в наших общих интересах. Я вас просто не узнаю. — Я же сказал: больше не буду. — Ну так вот. У вас в валенке несколько фотографий. На них изображен Борков. Его снимали в Брюсселе, куда он ездил по делам службы. Вы, конечно, догадываетесь, что к службе изображенные моменты не имеют ни малейшего отношения. — Антиквар взглянул на Коку. — Да, — сказал Кока. — Это элементарно. — Покажите фотографии не сразу. Сначала объясните ему, что вам известно кое-что о его похождениях в Брюсселе. Поиграйте с ним, посмотрите, с какого бока лучше подойти. Может случиться, что до фотографий дело при первом свидании не дойдет, они останутся у вас в резерве. Предложите ему работать с вами за наличный расчет. От него потребуйте немного — только сведения в рамках его личных служебных обязанностей. — Он спросит, кем я уполномочен… — Заинтересованными лицами. — Но если он потребует, так сказать, официальных полномочий? — Какие же еще полномочия, если вы ему подробно напомните его брюссельские похождения? — раздраженно спросил Антиквар. — Все и так должно быть понятно. Вы же не святой дух — каким же образом вам стало известно то, что произошло в Брюсселе? Тут только Кока осознал, что его озабоченность по поводу полномочий действительно должна казаться шефу совершенно излишней. Он не осведомлен о связи Коки с Борковым на почве долларов. Сам же Кока был уверен, что Борков, когда зайдет речь о Брюсселе, рассудит примерно так: «Старик берет меня на пушку. Продал мне доллары. Он знал, что я еду за границу. А поведение молодого человека с деньгами в кармане можно представить себе каким угодно, было бы воображение». К тому же Кока вспомнил, что при встрече с Борковым в доме у Риммы он задавал Боркову двусмысленные вопросы. Поэтому у Коки были все основания беспокоиться о полномочиях. Мысленно ругнув себя тугодумом, Кока сказал: — А если он категорически откажется? — Тогда предъявите фотографии. Между прочим, на одной из них — репродукция его служебного удостоверения. — Удостоверение ему теперь уже наверняка сменили. У института другой режим. — Кока слегка задумался. — Понимаете, у меня какое-то двойственное ко всему этому отношение. — Именно? Кока опять забыл, что шеф не знает о долларах, и чуть было не ляпнул о своих впечатлениях от встреч с Борковым. Он хотел сказать, что, с одной стороны, Борков кажется ему вполне подходящим объектом для обработки, но, с другой стороны… — Никогда нельзя определить заранее, как они себя поведут, такие люди, — сказал Кока. — Он может пойти и заявить в Комитет госбезопасности. — Думаю, что не пойдет. — Почему вы так уверены? — Стиль поведения за границей у Боркова был достаточно красноречив. Он завяз по уши. — Ну, знаете ли, молодой человек может по легкомыслию закутить и слегка поскользнуться. И не придать этому особого значения. Но когда речь идет о нарушении гражданского долга, они рассуждают несколько иначе. — Речь идет также о его карьере. Кока прищурился. — Ах, дорогой шеф, у нас в понятие о карьере вкладывают немножечко не тот смысл, к которому привыкли вы. Русский человек может плюнуть на любую самую роскошную карьеру в самый неожиданный момент. И потом, видите ли, сейчас не те времена. — Вы опасаетесь, что он донесет? — Не «донесет», а просто исполнит свой естественный долг. — А пример Пеньковского? — Вот именно, пример… — Я могу назвать другие имена, — сказал Антиквар, и по тону чувствовалось, что он вот-вот взорвется. — Их наберется немало. И не надо приплетать сюда национальные особенности характера. — Исключения только подтверждают правило, — меланхолично заметил Кока. И тут Антиквар не выдержал. — Послушайте, милейший Николай Николаевич. Как прикажете вас понимать? Уж не хотите ли вы меня распропагандировать? — Он даже побледнел от гнева. Бросив взгляд через плечо, продолжал совсем тихим шепотом: — Нашли место для дискуссий! Кока сник. Вид у него был виноватый. — Мне кажется, — произнес он примиряюще, — мы пускаемся в опасную комбинацию. Поэтому надо исходить из худшего. Кто же предупредит нас, если не мы сами? Антиквар смягчился. Потрогав леску пальцами, сказал: — Мы впервые разговариваем в повышенном тоне. Надеюсь, впредь этого не будет. Вы правы, безусловно, предстоящее дело требует осторожности. Я не буду вас торопить. Приглядитесь к этому человеку получше. Понаблюдайте за ним. В людях, по-моему, вы разбираетесь, определить его характер вам будет не сложно. И подходящий момент для решительного разговора выбрать сумеете. — Он откашлялся, сделал паузу. — Риск есть, но не такой уж большой… — Сколько времени вы мне дадите? — спросил Кока. — Не будем устанавливать сроки. Но чем быстрее, тем лучше. Скажем, в пределах этой зимы. — Связь та же? — Кока имел в виду Акулова. — Да. Но если вам понадобится передать что-нибудь срочное, позвоните по телефону, который я вам дам. Звонить надо из автомата. Наберите номер и подождите, пока снимут трубку. Когда снимут, ничего не говорите и позвоните еще раз. Держите трубку до пятого гудка. И после этого разъединяйтесь. Таким образом я буду знать, что мне следует срочно явиться к Акулову. — Хорошо. Напоследок Антиквар сказал: — Попробуйте вовлечь его в свои коммерческие дела. Такая возможность есть? Кока подумал минуту и ответил: — Можно попробовать. Если он даст себя затянуть… — Если, если, — буркнул Антиквар. — С вами сегодня просто нет сил разговаривать. Скажите прямо: я что, мало вам плачу? — Ладно, не сердитесь. Не в деньгах суть… Просто я не такой оптимист, как вы.
Глава XIV ПОЕЗДКА С СЮРПРИЗОМ
Когда Павел вошел в камеру к Надежде, тот лежал, закинув руки за голову. Надежда поднялся рывком, сел на краю кровати. Он уже привык к почти ежедневным приходам Павла и, как всегда, был обрадован. Павел обещал принести какую-то интересную книгу, но в руках держал лишь маленький сверток. — Все откладывается, — сказал Павел, заметив разочарование на лице Надежды. — Нам предстоит небольшое путешествие. — Куда? — насторожился Надежда. — Едем в Ленинград. Встряхнись и побрейся. — Павел положил сверток на стол. — Воспользуйся моим прибором. — С чего это вдруг? — Пора проветриться. — Павел присел на кровать рядом с Надеждой. — И потом, скажу откровенно, мне словесная агитация надоела. Тебе еще нет? — Мне — нет, — серьезно ответил Надежда. Павел быстро взглянул на него и сказал совсем другим тоном: — Мы взрослые люди. Я был бы последним глупцом, если бы думал, что ты не понимаешь моей задачи. Я хочу, чтобы ты коренным образом изменил свой взгляд на некоторые вещи. И вообще на жизнь. Ты же понимаешь это? Надежда молча кивнул головой. — Ну вот, — продолжал Павел, — теперь я хочу, чтобы ты своими глазами увидел кое-что. Как говорится, для закрепления пройденного. Думаю, оценишь откровенность… — Давно ценю. — Тогда брейся. Они выехали в Ленинград «Красной стрелой». У них было двухместное купе. Павел занял нижнюю полку. Они улеглись, едва экспресс миновал притихшие на ночь, укрытые пухлым снегом пригороды Москвы. Но сон не шел. Вагон мягко покачивало. Темное купе то и дело освещалось матовым, как бы лунным, светом пролетавших за окном маленьких станций, и во время этих вспышек Павел видел, как клубится под потолком голубой туман, — Надежда курил. Павла уже начала охватывать дремота, когда он услышал тихий голос сверху: — А почему именно в Ленинград? Павел повернулся со спины на правый бок, положил голову на согнутую руку и сонно ответил: — Хороший город. — Я знаю, что хороший. Отец рассказывал. Рисовал мне грифелем на черной дощечке улицы и дома. Он там родился. — Он тебе рисовал Петроград, а не Ленинград. — Разве перестроили? — Нет. Центр остался по-старому. Дело не в архитектуре. — Его же сильно бомбили… — И обстреливали тоже. Но это все зализали. — Отец читал в газетах, будто во время войны шпиль Адмиралтейства специально укрывали, чтобы не пострадал от осколков. И даже конную статую царя Николая тоже. Он не верил. Это правда? — Да. Все статуи укрывали. Только не себя. — Ты был тогда в Ленинграде? — Тогда я еще под стол пешком ходил. Под руководством мамаши в столице нашей Родины. Но после войны каждый год хоть разок, но езжу. — Родственники есть? Павлу было уже не до сна. Он откинул одеяло. — Дай-ка папиросу. Закурив, снова лег, поставил пепельницу себе на грудь и сказал: — Мой отец в семнадцатом году был матросом на Балтике. А погиб под Пулковом. В январе сорок четвертого. Когда блокаду снимали. — Он был профессиональный военный? — Кадровый, ты хочешь сказать? Нет. До войны строил мосты. А воевал заместителем командира полка по политчасти. Раньше это называлось — комиссар. Надежда долго молчал, затем спросил несвойственным ему робким тоном: — Ты ему памятник на могиле поставил? — Могила братская. Без меня поставили. — Офицер — в братской? — не скрыл удивления Надежда. — Погибшие в бою званий и чинов не имеют, — строго, как эпитафию, произнес Павел. — Если бы каждому убитому и умершему от голода ленинградцу отдельную могилу — земли не хватит. — И прибавил после долгой паузы: — А не поспать ли нам? В Питер прибудем рано… Проводник разбудил их без пятнадцати восемь. Зимнее утро только занималось. Наскоро умывшись, они выпили по стакану горячего чая и вышли в коридор, стали у окна. Впереди по ходу поезда в белесой дымке восхода угадывались размытые силуэты огромного города. Под стук колес быстро пробежали полчаса, и вот уж экспресс, враз умерив свой ход, вкрадчиво втянулся под сводчатую крышу вокзала. Пассажиры «Стрелы» — почти все они ехали налегке, с портфелями или в крайнем случае с небольшими чемоданами — неторопливо покидали перрон. Уютом и спокойствием веяло от этой толпы. Едва ступив на порог города, люди уже были словно в родном доме. Павел и Надежда пошли в вокзальную парикмахерскую. Они ничего не брали в дорогу, ни портфелей, ни чемоданов, и это помогло им сразу почувствовать себя тоже как дома. Побрившись, вышли из вокзала, постояли на площади. День выдался редкостным для зимнего Ленинграда. Крепкий сухой мороз скрипел под ногами, сверкал ослепительными кристаллами в чистом, свежем снегу, выпавшем ночью. Небо нежно голубело. Казалось, наступает какой-то праздник — до того весело выглядела площадь и широкий Невский проспект, убегающий от площади вдаль, к золотой игле Адмиралтейства. — Ничего на ум не приходит? — спросил Павел, взглянув в сосредоточенное и вместе с тем как будто растерянное лицо Надежды. — Стихи… — сказал тот задумчиво. — Вспоминаю стихи. И не могу ничего вспомнить. — Ладно. — Павел хлопнул Надежду по плечу. — Давай-ка для начала позавтракаем. Они зашли в молочное кафе на Невском. Съели по яичнице, выпили по стакану сливок и по две чашки кофе. Надежда ел без аппетита, но торопливо, словно стараясь побыстрее покончить с необходимой формальностью. — Так, — сказал Павел бодро, когда они покинули кафе. — Теперь надо обеспечить жилье. Айда в гостиницу. Надежда взял его за рукав. — Слушай, Паша… — Он замялся. — Только куда-нибудь такое, чтобы не было иностранцев… — Чего захотел! — рассмеялся Павел. — Тут круглый год туристы со всего света. Да что они тебе?! — Просто так… Не знаю… — Ну, ну! Это мы понять можем. Ладно. Поедем в «Россию». Далековато, но зато новенькая, туристским духом еще не пропиталась. Павел хотел взять такси, но Надежда упросил поехать общим городским транспортом. Тогда Павел предложил воспользоваться метрополитеном. Однако Надежда предпочитал ехать по поверхности, чтобы можно было смотреть на город. Поэтому сели в троллейбус. Свободных мест в гостинице, по обыкновению, не оказалось, но Павел пошептался с администратором, и им дали прекрасный номер на двоих на шестом этаже. В номере они пробыли недолго. Не раздеваясь, почистили друг другу щеткой пальто, отдали ключ дежурной по этажу и сбежали вниз. — Ну так что? — спросил Павел, шагая чуть впереди Надежды. — Город в нашем распоряжении. Не начать ли с Эрмитажа? — Я хочу видеть все, — сказал Надежда голосом, совсем не знакомым Павлу. Он был взволнован. — Положим, это невозможно, но что успеем, то наше. — Сколько мы тут пробудем? — Три дня. Надежду, кажется, огорчил столь короткий срок, но все же эти три дня были еще впереди. Четыре часа они ходили по тихим залам Эрмитажа, пока не ощутили ту непреодолимую, совершенно особую усталость, которая появляется только в музеях. После этого бродили по Невскому, по набережной Невы, на резком ветру, дувшем с залива, и утомление как-то незаметно растворилось в морском воздухе. Обедали в ресторане недалеко от Гостиного двора, и на этот раз Надежда ел с аппетитом. Потом отправились в оперный театр. Вечером шел балет «Спартак». Билетов, разумеется, в кассе не было, и Павлу пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы выдавить у администратора два места в ложе, забронированной какой-то сверхжелезной броней. Надежда во весь спектакль не обменялся с Павлом ни единым словом. Всю дорогу к гостинице он молчал, глубоко уйдя в себя и нимало не смущаясь тем, что это может показаться невежливым его спутнику. Лишь когда улеглись в постель и погасили свет, Павел услышал, как Надежда словно в полусне произнес негромко: — Враг номер один. — Ты о чем? — спросил Павел. Надежда ответил не сразу. — Там, откуда я приехал, все это вместе взятое называется «враг номер один». — Подходящее название, — усмехнулся Павел. На следующее утро за завтраком они составили план похода по знаменательным местам Ленинграда. Надежда думал, что план этот рассчитан на два оставшихся дня, но Павел сказал: — Все это мы должны выполнить сегодня. — Но ты же говорил, едем на три дня… — Завтра будут другие дела. Какие именно, Павел не объяснил, а Надежда спросить постеснялся. Надежда вообще с того мгновения, как они ступили на перрон вокзала, все делал вроде бы затаив дыхание, как будто боялся спугнуть диковинную птицу. С девяти утра до десяти вечера они не присели ни на минуту. Не ели, редко курили и почти не разговаривали. Только смотрели и слушали. Иногда, правда, Павел комментировал кое-что в своей иронической манере, но это не влияло на состояние Надежды. Из домика Петра отправились в Петропавловскую крепость, а оттуда, надышавшись настоянным на холодном камне воздухом казематов, поехали в светлый Смольный. Затем был Казанский собор, где они долго стояли над прахом фельдмаршала Кутузова. А после собора — Пискаревское кладбище, по которому они ходили, сняв шапки. Когда покидали кладбище, Павел сказал, что где-то здесь среди многих десятков тысяч погребенных лежит и его отец. Надежда приостановился, посмотрел на Павла, хотел молвить что-то, но не нашел слов. Вернувшись в центр, они хотели подняться на Исаакий, но, к сожалению, он уже был закрыт, и, поужинав в великолепном ресторане гостиницы «Астория», они поехали к себе, чтобы пораньше лечь спать. Даже Павел устал от беспрерывного хождения и обилия впечатлений, а о Надежде и говорить не приходилось. Больше года он вел малоподвижный образ жизни, и теперь с непривычки еле держался на ногах. В половине одиннадцатого Надежда разобрал постель и лег. Павел вышел из номера, объяснив, что надо уладить кое-какие дела с администратором. Отсутствовал он минут двадцать, а когда вернулся, Надежда уже спал глубоким сном… Проснувшись утром, Надежда не обнаружил Павла в номере. На столе лежала записка: «Буду в девять». Он побрился, потом оделся, спустился в вестибюль за газетами и снова поднялся к себе в номер. Он сидел у стола и читал, когда в дверь постучали. Надежда вздрогнул. Кто бы это мог быть? Павел входил без стука. Может, просто ошиблись номером? Стук повторился, робкий, тихий. — Да, войдите! Надежда поднялся, шагнул к двери. В этот момент она отворилась. На пороге стояла Мария. Газета выпала из рук Надежды. Он застыл, подавшись вперед. Мария смотрела на него прищурившись, словно издалека. Ты? — не веря глазам, только и мог сказать Надежда. Мария закрыла дверь. — Как видишь… — Где же Саша? — спросил Надежда, все еще не двигаясь с места. — Дома оставила. Он с подругой моей, с Леной. Не хотелось мучить, я ведь самолетом… Надежда, наконец, вышел из столбняка. Приблизившись, он обнял Марию и прижался лицом к ее густым каштановым волосам. Потом они сидели в обнимку на его застеленной кровати. — Ну как ты, что ты? — спрашивал Надежда. — Рассказывай. — Сначала ты. — Нет, я больше не выдержу. Рассказывай. Мария вспомнила эти два года, показавшиеся ей десятью, и были моменты в ее рассказе, когда Надежда опускал голову. Мария прерывала себя, без нужды утирала платком нос, говорила: «Вот так, значит» — и продолжала. Выслушав, Надежда долго сидел понурившись. — А как твои дела? — прервала молчание Мария. Он медленно повернулся к ней. — Я все сказал тебе в письме. Все, что имел право. — Что же теперь? — Не знаю. Если мне поверят до конца… — и осекся. — Это возможно? Зависит от тебя? — Не имею права молить об этом. Если бы заглянули в душу, поверили бы… Без этого жить незачем… — Что ты говоришь, Миша? — Нет, накладывать на себя руки не собираюсь. Чепуха. Старое. — Он прошелся перед нею, пинком отодвинул стоявший на дороге стул. — Мне двадцати лет не хватит, чтобы рассчитаться по всем счетам. Эх, Мария, Мария! Как мне хорошо сейчас, если бы ты только знала. Надежда поднял ее, притянул к себе, поцеловал в губы… В три часа явился Павел. Он говорил с Марией как с давнишней знакомой, никакой неловкости между всеми троими не ощущалось совершенно. — Спасибо вам за все, — сказала Мария. — Пустяки. — Нет, это не пустяки. — Ладно. Сдаюсь. А теперь, увы, пора расставаться. Вот билет на самолет, отлет в семнадцать часов. — Так быстро?! — воскликнул Надежда и посмотрел испуганно на Марию. — У вас еще все впереди, — ответил Павел. — Да, да… это верно… мне пора… там ведь Сашок, наверное, заждался… — смущенно сказала Мария. — Такси у подъезда. Я подожду в машине. — И Павел покинул номер. Через двадцать минут Надежда и Мария подошли к такси. Они поехали провожать Марию на аэродром. Прощание не было грустным. — До скорой? — спросила Мария, поставив ногу на нижнюю ступеньку трапа. — Может, до скорой… — ответил Надежда. — Я люблю тебя. И Сашку люблю… Слышишь?! — Да, да… Павел с Надеждой уехали в тот же вечер на поезде. В пути не разговаривали. Уже в Москве, когда шли по перрону, Надежда, глядя под ноги, произнес глухим прокуренным голосом: — Слушай, Павел… Не знаю, как сказать тебе… — Ладно, — откликнулся Павел. — Когда-нибудь скажешь…
Глава XV ПАРТНЕРЫ, ДОСТОЙНЫЕ ДРУГ ДРУГА
На следующий день после встречи с Антикваром Кока приступил к выполнению полученного задания. Справочное бюро через тридцать минут снабдило интересующим его адресом, а уже через час он звонил в квартиру, где жил Борков. Дверь долго не открывалась. Наконец недовольный старческий голос: — Вам кого? — Я из Госстраха, можно на минутку? — Страхи, госстрахи… — открывая дверь, беззлобно передразнил старичок, седенький, в аккуратной жилетке с меховой подпушкой. Старичок строго оглядел Коку и, картинно наклонившись, жестом руки пригласил его в комнату. — Милости просим, сударь. Я вас слушаю. — Николай Николаевич, — представился Кока. — Дмитрий Сергеевич, — ответил старичок. Кока пространно разъяснял цель и задачи государственного страхования, рассказал о выгодах для граждан, пользующихся его услугами. Красноречие Коки подействовало на Дмитрия Сергеевича, и он охотно застраховал не только свою собственную, но и жизнь своей супруги Татьяны Ивановны. Когда формальности были закончены, Кока поинтересовался соседом по квартире. — Живет тут один молодой человек, — ответил Дмитрий Сергеевич. — Он дома? — Нет, на работе, придет поздно, сказал, партийное собрание. — Досадно. — А вы что, сударь, получаете с охвата? — Конечно. — Ну, тогда не печальтесь. Володя Борков страховаться все равно не будет — молод и здоров. — Знакомая фамилия. Он давно здесь живет? — Раньше меня въехал. — Не беспокоит? — Да всякое бывает. — Что — пьет, шумит? — Бывает, говорю… Татьяна Ивановна его воспитывает. — И помогает? — Не всегда. — Ну, извините, Дмитрий Сергеевич, за беспокойство. Благодарю вас. До свидания. — До свидания, сударь. Кока для вида зашел в соседнюю квартиру, а затем, довольный своим визитом, покинул дом. Бланки Госстраха, взятые им у знакомого, оказались как нельзя кстати и помогли успешно решить задачу. Однако проверка Боркова на этом не заканчивалась. Теперь Кока искал нового случая для встречи с ним. Благовидный предлог подвернулся сам собой. 15 января 1964 года Кока встретил возле дома Юлю, разговорились, и Юля сказала, между прочим, что в субботу, 18 января, у нее день рождения. Коке не стоило труда получить от нее приглашение. Восемнадцатого ровно в семь вечера Кока явился к Юле домой. Из гостей он был первый. Юля познакомила его со своими родителями, которые были заметно удивлены, что у их дочери такой пожилой друг. Юля коротко объяснила, что Кока живет по соседству, и, кроме того, их связывают общие друзья, — она имела в виду Римму и Боркова. Родители, по видимости, были удовлетворены этим разъяснением. Однако Кока видел, что он не очень-то им приглянулся. Кока вручил Юле подарок — серебряный браслет старинной работы, редкую вещь, долго хранившуюся в его коллекции. Юля была в восторге. К восьми гости, наконец, собрались. Пришло человек пятнадцать, все — молодые люди. Были среди них и Римма с Борковым. Кока сел за стол рядом с Риммой, по правую руку от нее. По левую занял место Владимир. Он был серьезен и не слишком разговорчив. Казалось, какая-то забота лежит у него на душе. Но тост следовал за тостом, становилось все веселее и непринужденнее, и Кока, который позволил себе выпить лишь совсем немного сухого вина, замечал, что Борков постепенно оттаивает. По робкой просьбе Юлиных родителей договорились за столом не курить, выходить в коридор или на кухню. Вскоре курильщики начали отлучаться по очереди на несколько минут. Увидев, что Борков достал из кармана сигареты и зажигалку, Кока, попросив извинения у Юли и Риммы, поднялся из-за стола. — Душно там, — сказал он Боркову, когда тот появился следом за ним в коридоре. — Да, жарковато, — согласился Борков, закурив и выпустив клуб дыма к потолку. — Как поживаете, Володя? — задал банальный вопрос Кока. — Давненько вас не видел… — Да по-разному. Вернее, жизнь в полоску. — Простите?.. — не понял Кока. — Ну, полоска красная, потом полоска черная, потом опять красная. С переменным успехом, в общем. — Полагаю, так даже интереснее. — Возможно. Но лучше было бы без черных полосок. — А отчего же они появляются? — Да по разным причинам. — На работе нелады? — Всякое бывает и на работе. У нас иначе нельзя. Век такой. — А вы, если не секрет, кем служите? — Это не секрет. Я инженер-конструктор. Придумываю разные машины и приборы. — Много получаете? Кока опасался, что Борков сочтет его вопросы назойливыми, но тот как будто не придавал этому мимолетному разговору в коридоре ровно никакого значения и отвечал с уже знакомой Коке ленивой иронией. — Человек так устроен — ему всегда мало, сколько ни получай. Не мне вас просвещать. — Я спросил не из простого любопытства, — сказал Кока серьезно. — Вы мне симпатичны, и вот у меня появилась мысль — не могу ли я быть вам полезен. — В чем? — со вздохом спросил Борков. — Валюта мне больше не понадобится, за границу не собираюсь. — Я не валюту имею в виду. — Что же тогда? — Мне нужна помощь в одном деле. Для вас это было бы вроде сверхурочной работы. Оплата, уверяю, очень даже неплохая. Борков посмотрел на него долгим взглядом и сказал: — С вами опасно связываться. Вы же валютчик, но, простите, старый человек. А я молодой специалист, мне еще жить да жить. Молодому специалисту из «почтового ящика» лучше не иметь дел с валютчиками. Кока подумал, что его шеф, пожалуй, был все-таки прав, когда рассуждал по поводу карьеры. — Я не навязываюсь, — произнес он, словно бы искренне разочарованный. — То, что я собирался вам предложить, не имеет к валюте никакого отношения. А насчет того, что я стар, вы правы. — Не хотел вас обидеть, — сказал Борков. — Простите. — Ничего, я не из обидчивых. Но жалко, что вы отказываетесь. Могли бы прилично заработать. — Криминал вэтом есть? — спросил Борков. Кока усмехнулся. — Отчасти. — В чем должна заключаться моя помощь? — Думаю, понадобятся ваши знания. Как инженера. Борков был слегка удивлен. — Если есть криминал, то при чем здесь инженерные знания? Отмычки делать, что ли? — Зачем же так примитивно? Я со взломщиками не вожусь. — Не скажете же вы, что у вас там частное конструкторское бюро или подпольная фабрика. — Нечто в этом духе, — улыбнулся Кока. — И каковы же будут мои обязанности? — О деталях я пока ничего говорить не буду. Плохо разбираюсь в технике. Мне важно ваше принципиальное согласие. А детали — ерунда. — Но я-то нужен вам именно для деталей? — Да. Но я уверен, вы как раз тот человек, который справится с делом. Тут из комнаты, где шумело веселое застолье, выглянула Юля. — Володя! — крикнула она. — Как не совестно? Ушли на целый час. А ну-ка кончайте курить. — Так продолжим наш разговор после? — тихо спросил Кока, беря Боркова под руку и направляясь к распахнутой двери. — Можно продолжить, — ответил Борков. — Я вам позвоню на днях. — Хорошо. Только попозже вечером… Кока оставил компанию, когда веселье было в самом разгаре… В четверг 23 января, около девяти часов вечера, Кока позвонил по телефону-автомату Боркову домой. — Я думал, вы уже отказались от своего проекта, — сказал Борков. — Что вы, наоборот! — воскликнул Кока. — Чем больше размышляю на эту тему, тем больше убеждаюсь, что я прав. — Узнали о деталях? — Кое-что. — Ну так выкладывайте. — Это не для телефона. Могу я к вам сейчас заехать? — Лучше бы на нейтральной почве… — Давайте увидимся где-нибудь в ресторане. — Сегодня не могу, — решительно отказался Борков. — Придется пить, а у нас завтра с утра ответственное совещание, нужно быть в форме. — Когда мне вас потревожить? — Как вам будет удобнее… Однако через два дня, позвонив, Кока снова услышал отказ. На сей раз Борков не мог встретиться потому, что у него сидела Римма. На протяжении января Кока сделал еще две попытки, но Борков продолжал водить его за нос. Старик уже испытывал желание прекратить бесполезные окольные заходы и взять Боркова, что называется, за жабры напоминанием о Брюсселе. Решил позвонить в последний раз, и тут вдруг Борков согласился увидеться. Он дал Коке адрес своего приятеля и сказал, что им там будет удобно все обсудить. В назначенный час Кока приехал на Большую Грузинскую улицу, нашел нужный дом и поднялся по темной узкой лестнице на четвертый этаж — дом был старый, без лифта. Отдышавшись, надавил кнопку звонка два раза, как велел Борков. Тот сам открыл ему. Свидание продолжалось долго и окончилось к полному удовольствию Коки. Вначале он посетовал, что Борков напрасно тянул время, не давая согласия. На это Борков ответил: — Хотел проверить, насколько серьезны ваши намерения. Думал, вы так это, сгоряча, а потом остынете. Теперь вижу — ошибся. Кока оценил расчетливость и здравомыслие Боркова. Он даже сказал, что Борков — вполне достойный партнер, несмотря на завидную молодость. — Еще неизвестно, каким партнером я окажусь, — возразил Борков. — Излагайте. Кока достал из кармана кожаный кошелек, порылся в нем и извлек золотую десятирублевую монету царской чеканки. Повертел ее в пальцах, подбросил на ладони — она сверкала как маленькое прирученное солнышко. Кока любовался ею. Может быть, в этот момент ему вспоминалась далекая юность, бандиты на станции Татарка и тяжелый мешок купчихи, недолгая жизнь среди махновцев и коварная одесская девица с французской фамилией и вологодским выговором… Наконец Кока поднял глаза на Боркова. — Прежде всего мне нужна ваша консультация. Вот держите эту штучку. Разглядите ее хорошенько. Борков взял монету. — Ну, десятка. — Вы так пренебрежительно говорите, как будто каждый день размениваете по сто золотых рублей. — Нет, первый раз держу в руках. Какой же из меня консультант? — Посмотрите, что там написано по торцу монеты, — попросил Кока. Борков прочел вслух: — Золотник, семьдесят восемь, запятая, двадцать четыре доли чистого золота. Ну и что? — Каким образом нанесена на монету эта надпись? Борков подумал минуту. — Возможны несколько способов. Какой применялся в данном случае — не знаю. — Так, так, так, — оживился Кока. — Вы знакомы с этой областью? — Весьма поверхностно. — Ну, а если бы вас попросили изготовить штамп? — Это очень сложно. Нужны специальные материалы и инструменты. — Предположим, в вашем распоряжении будет все, что необходимо… — В домашних условиях такую работу выполнить трудно. — Говорит, в Китае пробовали в домашних условиях варить чугун, — пошутил Кока. — Пробовали, — подтвердил Борков. — Но тем чугуном можно было только орехи колоть. Да и то земляные. — Уверяю вас, Володя, мне известны кустари, которые на дому умеют изготовлять более сложные агрегаты. И буквально из ничего. — У меня нет такого опыта. Обратитесь к кустарям, раз они вам известны. Кока покивал головой. — Да, но как раз машинку для накатки надписи на монету они сделать не могут. У вас же целый институт под рукой, там же, вероятно, есть всякие мастерские, лаборатория… — Интересное у вас представление об институтах. Это же не частная лавочка. — Но подспорье для частной деятельности, — возразил Кока. Ему, как и его собеседнику, начинало надоедать это затянувшееся препирательство. — Короче говоря, я хочу попросить вас, чтобы вы изготовили штамп. Боркова этот деловой тон тоже устраивал больше. — Что я буду иметь? — спросил он. — Ну, скажем, на автомобиль. Вам нравится «Москвич»? Борков не ожидал, что речь пойдет о такой крупной сумме. Он сказал: — Вы подозрительно щедры. — Не бойтесь, я внакладе не останусь. — Сроки? — Важнее качество, а не сроки. Но быстрее — всегда лучше. Борков закурил. Поднявшись из-за стола, взъерошил свои короткие волосы, начал вышагивать по комнате из угла в угол. Кока не мешал ему думать. — Послушайте, Николай Николаевич, — остановившись, начал Борков, — штамп вам нужен не для того, чтобы колоть орехи?.. — Безусловно. — Он должен быть употреблен по прямому назначению, то есть для производства золотых монет? — Да. — Но зачем нужно золото превращать в монету? Ведь оно от этого не повысится в цене, а труда на чеканку придется положить немало. — Монету можно продать дороже, чем такое же по весу количество золота. — Настолько дороже, что чеканка рентабельна? — Да. Иначе не нашлось бы человека, чтобы заниматься этим хлопотливым делом. Борков присел к столу. — Ну хорошо. Попробую сделать машинку. На этом мое участие в вашем предприятии кончится? — Конечно, больше от вас ничего не требуется. — А попробовать машинку нужно же. — Вы получите от меня монеты и опробуете. Почему вас этот вопрос так беспокоит? — Я не хочу иметь дело ни с какими вашими компаньонами. Это же чистая уголовщина. — Милый Володя, поверьте, риск совсем невелик. Вы представляете себе, какого сорта люди будут покупателями самодельных монет? — Какие-то подпольные миллионеры, наверное… — Именно! Так неужели вы думаете, что такой покупатель вдруг захочет сдать продавца монет в милицию? — Все равно, — сказал Борков. — Не совсем понимаю, для чего нужно людям, имеющим золото и желающим его продать, превращать это золото в монету. — Я же вам говорю, что монета стоит дороже. И вообще штучным товаром торговать легче. Но Кока, как всегда, говорил не всю правду. Борков попросил денег на производственные расходы по изготовлению штампа. Кока дал ему триста рублей и еще пятьсот в качестве задатка.
Глава XVI «МОНЕТНЫЙ ДВОР»
Изучая связи Николая Николаевича Казина, контрразведчики годом раньше вышли на одно узкое сообщество людей, которое показалось им по меньшей мере необычным. Прежде всего поражала пестрота состава. Один из них, пятидесятилетний мужчина, семьянин, отец двух детей, имел высшее техническое образование и работал заместителем заведующего лабораторией твердых сплавов в большом институте. Второму было тридцать лет, он жил холостяком, имел на иждивении мать и работал гравером в комбинате бытового обслуживания. Третий числился инвалидом, получал на этом основании небольшую пенсию, а в далеком прошлом был известен Московскому уголовному розыску и блатному миру как высококвалифицированный фармазонщик и кукольник с непонятной, но довольно экзотической кличкой Звон-на-небе или просто Звон, что уже не так экзотично. В миру же его звали Антон Иванович Пушкарев. Выйдя в последний раз из тюрьмы перед самой войной, Пушкарев «завязал», сочтя, вероятно, что возраст уже не позволяет заниматься прежними делами, — ему сравнялось тогда сорок пять — и переквалифицировался в спекулянты. Не брезговал и краденым, но с тех пор в руки закона не попадался. Четвертым в этом тесном содружестве был Кока, который его, собственно, и сколотил. Собирались они всегда у Пушкарева, занимавшего двухкомнатную квартиру в районе улицы Обуха, недалеко от Курского вокзала. Лаборант и Гравер, как именовали двух первых товарищи, занимавшиеся этой группой, приходили к Пушкареву всегда со свертками в руках. Иногда также и Кока являлся на сборище с ношей — туго набитым портфелем. Весь шестьдесят третий год группа собиралась регулярно раз в неделю, по субботам. Лишь Кока пропустил несколько свиданий. Что роднило столь разных во всех отношениях людей? Для чего они сходились вместе по субботам? Сначала предположили, что компания собирается ради пульки. Просиживали они у Пушкарева часа по три-четыре — как раз столько, чтобы разыграть «разбойника». Состояла компания из четырех или — когда Кока отсутствовал — из троих: именно столько необходимо игроков для преферанса. А в приносимых свертках могла бы быть выпивка и закуска, что, как известно, преферансу не противопоказано. Но скоро выяснилось, что друзья Коки не подвержены страсти к азартным играм. С помощью некоторых технических средств установили, что содержимым пакетов Гравера и Лаборанта и вместительного Кокиного портфеля, когда они приходили к Пушкареву, почти всегда были металлические предметы. Возникла версия, что в дом Пушкарева проносятся части какой-то машины. Затем стало известно, что Лаборант остается на работе и ставит какие-то опыты со сплавами, а с недавнего времени почему-то заинтересовался далекой от его основной специальности областью — гальваникой. В мастерской у Гравера была обнаружена разбитая гипсовая форма с оттиском лицевой стороны десятирублевой золотой монеты. Ее нашли в куче мусора в углу. Видно, Гравер не очень заботился о конспирации и посчитал достаточным расколоть форму на несколько крупных кусков, растереть же ее в порошок поленился. Три эти факта, сведенные воедино, позволяли выдвинуть правдоподобно и довольно убедительно выглядевшую версию, а именно: четверо во главе с Кокой всерьез намерены заняться изготовлением металлических денег. Что привело каждого из членов этой корпорации к мысли организовать собственный монетный двор? Относительно Коки вопрос был ясен. В свете всей его предыдущей деятельности это новое предприятие выглядело совершенно закономерно. Как выражаются театральные критики, тут все было в образе, Кока оставался верен себе. Сама идея выпуска золотых монет выкристаллизовалась у него уже давно, в процессе общения с подпольными дельцами, которые опасались держать нечестно нажитые деньги в Государственном банке и страстно желали обратить их в благородный металл. То один, то другой прибегал к посредничеству Коки с просьбой найти царские монеты — почему-то именно такая «расфасовка» пользовалась наибольшим доверием. Коке не всегда удавалось удовлетворить заявки, добывать настоящие царские монеты становилось все труднее. Поэтому однажды у него и явилась естественная и счастливая мысль: а нельзя ли наладить производство этих монет на дому? Перед ним открывалась обширная и почти абсолютно безопасная сфера приложения сил. Подделывать, скажем, советские деньги, находящиеся в обращении, Кока никогда ни за что и себе бы не позволил и другим бы не посоветовал. Этот путь быстро привел бы на скамью подсудимых. А фабрикация царских монет — совсем другой коленкор. Тут обе стороны — определяющая спрос и создающая предложение — одинаково преступны и обе действуют тайно, не вторгаясь грубо в область государственной финансовой жизнедеятельности. Возможность разоблачения со стороны представителей спроса практически мизерно мала. Есть, правда, возможность получить когда-нибудь по морде, но это, как считал Кока, нисколько не снижало рентабельности задуманного предприятия. Главное было — не нарываться на частнопрактикующих зубных техников, которые делают людям золотые протезы. Почему именно их следовало опасаться, станет понятно из последующего. Итак, идея была налицо. Для ее воплощения требовались исполнители со специальными знаниями и техническим опытом. А поскольку Николай Николаевич Казин обладал идеальным нюхом на все, что было с душком и червоточиной, то ему вскоре удалось разыскать подходящих соратников. Гравера Кока раскусил и обработал в два счета. Путь Гравера в монетный двор был сложен. К слову сказать, молодой товарищ из опергруппы, занимавшийся расследованием этого дела, все никак не мог понять, почему сей человек стал преступником. Воспитанный на общих положениях о связи социальной среды с формированием личности, об отношении бытия к сознанию, он был поражен эволюцией Гравера. Старшие коллеги пытались ему как-то втолковать, что, кроме социальной среды, надо принимать во внимание и чисто человеческие особенности индивидуума, но объяснения их были невнятны и неубедительны. Они-то сами сознавали, что в таких ситуациях научно ничего не объяснишь, но им хотелось уберечь молодого товарища от преждевременного, хотя в конце концов и неизбежного, профессионального скептицизма. Гравер окончил два курса Московского художественного института имени Сурикова. На третьем преподаватели ему объявили, что он совершенно не в ладах с перспективой и с рисунком и что живописца из него не получится. Вообще-то, полагалось бы сказать это еще на первом курсе, а вернее — до приема в институт. Но, как говорится, бывает в отдельных случаях… Гравер, оскорбившись, перешел в Строгановское Высшее художественное училище. Как раз в то время повсюду вспыхнула любовь к русской иконописи. И тогда же в России начали культивироваться отшумевшие моды Запада — подобно тому, как нам иногда присылают из разных стран ботинки таких фасонов, которые там уже никто не носит. Гравер был себе на уме. Он начал писать картины, которые, по его замыслу, должны были выглядеть революционно на фоне многометровых фотографических живописных композиций, имевших признание до тех пор. Своим коньком он считал обратную перспективу. Новаторством служило также бросающееся в глаза искажение пропорций живой натуры, что Граверу, в силу полного незнания анатомии человеческого тела, удавалось очень легко. И хотя картины ясно показывали, что и обратная перспектива находится для Гравера за семью печатями, он при попутном ветре сумел обогнать в славе многих по-настоящему талантливых, серьезных художников. Но потом вдруг ветер переменился, и все увидели, что картины Гравера писаны бездарной рукой, что они, попросту говоря, барахло. Гравер сильно обозлился и, склонный к аффектации, принял решение, по примеру Льва Толстого, опроститься. Таким образом появился он в граверной мастерской комбината бытового обслуживания, где все его творчество сводилось к вырезыванию дарственных надписей на металлических пластинках, часах, кольцах и прочих ювелирных изделиях, которые обычно служат подарками на свадьбах, юбилеях и в дни рождения. Вкусив от славы, а затем уйдя в безвестность, неудавшийся художник жаждал материального благополучия. На этом и сыграл Кока, вовлекая Гравера в компаньоны. Специалисту по граверным работам в его проекте отводилась немаловажная роль — изготовление форм и чеканов. Лаборант попался Коке случайно, явившись в комиссионный магазин с набором старинных бронзовых статуэток французского скульптора-анималиста Кэна. Кока по обыкновению пришел понюхать, не найдется ли чего-нибудь интересного среди сдаваемых на комиссию вещей. Лаборант имел импозантную внешность и удрученное выражение лица. Странно было видеть этого высокого представительного мужчину с густой проседью в великолепной гриве черных волос стоящим в унылой очереди. Наметанный глаз сразу мог определить, что гражданина в дорогом, хорошо сшитом костюме заставили прийти сюда какие-то чрезвычайные обстоятельства. В самом деле, сколько он мог получить за своих бронзовых лошадок, мулов и ослов? Ну, самое большее, сто пятьдесят рублей. И за такую ничтожную сумму отдавать ценные для любителя произведения искусства? Так как Николая Николаевича Казина, словно гиену на падаль, тянуло к людям, испытывающим затруднения (а вдруг из этого можно извлечь пользу?), то не прошло и пяти минут, а они уже были знакомы. Статуэтки у гражданина не приняли, и это повергло его почти что в отчаяние. Вышли из магазина вместе. Кока, не задумываясь, предложил ему взаймы, и тот после недолгих колебаний согласился взять с условием вернуть при первой возможности. Он попытался было вручить Коке бронзу в качестве заклада, но Кока не любил таскать тяжести и отказался. Они обменялись телефонами. Лаборант, чтобы у Коки не было сомнений, показал свое служебное удостоверение. Когда при более близком знакомстве Кока узнал, что специальностью Лаборанта являются металлические сплавы, он решил привлечь его к осуществлению своего проекта. Ловцу нестойких и, употребляя распространенный в торговле термин, уцененных человеческих душ было нетрудно найти у Лаборанта слабую струну. Тот оказался поистине патологически невоздержанным юбочником, постоянно был запутан в каких-то сложных любовных историях и страдал на этой почве от недостатка денег. Тут лежали все его главные интересы и помыслы, да плюс к тому он был обременен, как уже говорилось, семьей. Одним словом, заманчивые золотые дали, раскрытые перед ним Кокой, не просто привлекли — они околдовали его. Обязанности Лаборанта в корпорации определялись четко: найти способ производства монет-заготовок, из которых затем можно фабриковать фальшивые золотые десятирублевки. Вовлекая Владимира Боркова, Кока говорил, что собирается делать монеты из чистого золота. Но он, конечно, врал, иначе Кока не был бы Кокой. Лаборант и Гравер получили задание изготовить такую монету, которая была бы точной копией настоящей десятки по весу, размерам и внешнему виду, но состояла бы на три четверти из неблагородного металла и содержала только одну четверть золота, — надо сказать, Кока проявил известную щедрость по отношению к будущим покупателям, скалькулировав столь по-божески. Золото должно покрывать внутреннюю металлическую болванку достаточно надежным слоем, чтобы царская водка не могла выявить подделки. Что касается четвертого участника, Пушкарева, то о его возможностях и способностях Коке было известно еще со времен нэпа — судьба не однажды сводила их на различных перекрестках. Пушкарев обеспечивал корпорацию помещением для монетного двора. Его прошлый опыт фармазонщика также мог пригодиться при реализации продукции. Сам Кока взял на себя заготовку сырья, то есть золота, и общее идейное руководство. Таковы были структура монетного двора и его личный состав. В течение года компаньоны проделали большую работу. Лаборант проявил подлинную изобретательность и после упорных усилий сумел найти подходящий сплав для сердцевины и метод нанесения на нее ровного слоя золота. Метод был гальваническим. Гравер изготовил безупречные штампы. Затем они вместе с Лаборантом сконструировали целый литейный цех в миниатюре для непрерывной массовой отливки заготовок и гальваническую ванну, в которой на сердцевину будет наращиваться слой золота. Много времени отнял станок для чеканки, но в конце концов было найдено очень удачное решение. Долго носили Гравер и Лаборант разрозненные детали оборудования. Им помогал Кока. Это оказалось самой нудной частью работы. Хорошо еще, что в парадном, где жил Пушкарев, с незапамятных времен валялась настоящая чугунная обливная ванна, а то бы худо им пришлось с доставкой главного узла для гальванического цеха. Такую махину ни в портфеле, ни под мышкой не принесешь. Настал день, когда компаньоны в глубоком сердечном волнении склонили головы над блестящим золотым кружочком. Он был точь-в-точь как настоящая десятка. Только… Только одного не хватало. Как ни бились Лаборант с Гравером, они не в силах были найти способ выбить по торцу монеты надпись: «1 золотник 78,74 доли чистого золота». А без этого все их предыдущие достижения не стоили и гроша. Казалось бы, по сравнению с уже преодоленными трудностями эта машинка — сущие пустяки. Однако Лаборант, как самый технически грамотный среди компаньонов, должен был огорчить своих друзей, что решение вставшей проблемы, пожалуй, будет самым затруднительным делом. Без содействия специалиста, имеющего опыт в конструировании аналогичных приспособлений, тут никак не обойтись. Предприятию грозила смерть еще в утробном состоянии. Глядеть на это спокойно Кока был не в силах, и он начал лихорадочные поиски выхода. Тут-то милостивая судьба и поставила на его дороге инженера-конструктора Боркова. Вербуя его в свою корпорацию, Кока убивал двух зайцев — выполнял задание Антиквара и выводил из тупика монетный двор. Такого успеха он давно уже не добивался. Однако не так-то просто было заполучить от Боркова эту машинку. Кока злился на медлительность, Борков объяснял задержку объективными причинами. Спустя месяц после беседы Коки с Борковым в доме его приятеля на Большой Грузинской Борков вручил Коке небольшой, с обыкновенную нетолстую книгу, но необыкновенно тяжелый сверток, и Кока, попрощавшись с несвойственной ему торопливостью, поспешил к Пушкареву. Тотчас были вызваны Лаборант и Гравер. Машинку опробовали. Через несколько дней Кока встретился с Борковым. Он был явно расстроен. Машинка для дела оказалась непригодной, сделанные на штампе надписи не умещались по торцу монеты. К тому же они были очень нечеткими, особенно цифры. Борков был раздосадован. — Что вы говорите?! Неужели произошла ошибка в расчетах? — Выходит, так. — Может быть, сгодится все-таки? — Если ничего не смыслите, лучше помолчите, — разозлился Кока. — Сколько вам потребуется времени для переделки? — Учитывая некоторый опыт, недели три… — Многовато. Но ладно. Через три недели зайду. Прошу повнимательнее. Вскоре, еще до получения от Боркова новой машинки, компания Коки продала первую партию фальшивых монет приезжему из Тбилиси. Было похоже, что Коке удалось приобрести машинку каким-то другим путем. Теперь работники ОБХСС считали, что «монетный двор» окончательно созрел для ликвидации и внесли на этот счет предложение. Но представители КГБ решительно воспротивились. По оперативным соображениям на данной стадии преждевременно подвергать фальшивомонетчиков аресту. Арестовать Коку — значило провалить всю задуманную полковником Марковым операцию… Соображения сотрудников КГБ были одобрены. Было подтверждено, что Кокой по-прежнему должен заниматься вплотную только КГБ. Если бы знал Кока, с какой тщательностью контрразведчики оберегали его от давно заслуженной кары! Но он об этом и не подозревал, как и о многом другом.
Глава XVII БОРКОВ ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР
Умолчав о подробностях истории «монетного двора» и о своей собственной в нем роли, Кока во всем остальном не поскупился на детали, и его отчет шефу получился весьма красочным. Он считал, что Владимир Борков, изготовивший хотя и не пригодившуюся машинку, но тем не менее сделавшийся соучастником преступной группы, отныне готов для вербовки. Антиквар рекомендовал не оттягивать. Когда Кока по телефону попросил о встрече, Борков, ждавший гонорара за работу, быстро согласился. Они опять увиделись на Большой Грузинской. Кока положил свою инкрустированную белым металлом палку на стул, снял тяжелое меховое пальто, повесил его на гвоздь, вбитый к дверь, и не торопясь подошел к столу, за которым, скрестив руки на груди, сидел невесело глядевший Борков. — Ну-с, молодой человек, я ваш неоплатный должник, — тоном доброго дедушки, привезшего внуку гостинцы, начал Кока. — Вы отлично потрудились, а каждый труд должен быть вознагражден. Борков усмехнулся, но заговорил мрачным голосом: — Но ведь машинка-то еще у меня. Смотрю на вас и думаю: если у вас попросить взаймы, вы, пожалуй, дадите, но сначала произнесете речь о вреде алкоголя и об испорченности молодого поколения. Кока театрально всплеснул руками. — Неужели похож на этакого нудного старикашку?! Ай-я-яй! Никогда не предполагал. — Кока плавным движением опустил руку во внутренний карман пиджака и двумя пальцами, оттопырив мизинец, извлек небольшой пакетик пергаментной бумаги. — Вам не надо просить у меня в долг. Вы их заработали. Первый ваш образец все же пригодился. Мир, к счастью, не без дураков. — И он положил пакетик перед Борковым. — Двадцатипятирублевыми устроит? Здесь ровно тысяча. Борков, не изменяя позы, метнул быстрый взгляд на деньги. — Вы называли, кажется, другую сумму. — Совершенно верно, — подтвердил Кока. — Но не волнуйтесь, в следующую встречу вы получите еще столько же. У меня сейчас просто нет при себе. — Лучше было бы сразу, — недовольно бросил Борков. — Неужели вам не хочется больше меня видеть? — Кока явно поддразнивал его и не скрывал этого. Борков развернул пакет, взглянул на деньги, спрятал их в карман и сказал: — Бросьте вы этот дурацкий тон, Николай Николаевич. Не идет. Чего вам от меня еще нужно? — Помилуй бог, Володя! — воскликнул Кока. — Я просто предполагал, что на этом наша дружба не кончится. У нас могут и в будущем найтись общие интересы. — Какая там дружба! — Борков махнул рукой. — Что между нами общего? — Мы уже дважды были полезны друг другу. — Ну и хватит. Неужели не понятно?! — Я бы так категорически не отказывался. У меня вы всегда найдете возможность заработать на карманные расходы. Есть много способов. — На карманные расходы. Например? Кока опустил глаза, долго рассматривал свои коротко остриженные ногти, наконец произнес: — Боюсь говорить. Боюсь, не так поймете. — Да уж пойму. До сих пор получалось. — Ну хорошо. — Кока как бы собрался с духом. — Вы можете, например, раз в два-три месяца составлять для меня коротенький отчет, что вам приходилось делать на работе, лично вам. За хорошую плату… Борков съежился при этих словах, но тут же принял злой и презрительный вид. Наступило долгое молчание. Борков смотрел на Коку, плотно сжав губы, словно решив не отвечать вообще. Это выглядело как предложение убираться к чертовой матери. Но Кока не отступал. — Что же вы скажете? — Вы, Николай Николаевич, сошли с ума. Обратитесь к психиатру. — Это ничуть не страшнее, чем ваша машинка. Борков порывисто встал, отшвырнул стул ногой и почти закричал: — Ах, уже машинка — моя?! Не ваша, нет! Моя! — Он стоял над Кокой со сжатыми кулаками. Переход от полного спокойствия к бурной вспышке был так неожидан, что старик на мгновение растерялся. — Не волнуйтесь, Володя, — сказал он примирительно. — Я не вкладывал в свои слова никакого особого смысла. — Это шантаж! — по-прежнему громко выкрикнул Борков. — Вы провокатор! На кого вы работаете, старая сволочь?! Кока вздрогнул, как от пощечины. — Я не заслужил… — начал было он, но Борков не дал договорить. — Посмотрим! Я сейчас возьму тебя за шиворот и отвезу на Лубянку. — Сказав это, Борков сразу успокоился. — А ну-ка, одевайся, дорогой мой вербовщик, я тебя сейчас завербую куда надо. Кока почувствовал, что наступил решающий момент. Он тоже поднялся и встал перед Борковым. — Хорошо, мы пойдем. Но вы не учитываете одного важного обстоятельства. — Не валяйте дурака, — отмахнулся Борков. — Обстоятельства яснее ясного. — Может быть, нам лучше обсудить все мирно, без крика? — Одевайтесь! — приказал Борков. Тогда Кока сел и невозмутимым голосом заговорил монотонно, как будто читал вслух чужую речь. — Должен предупредить вас о следующем. Мне известно все, что случилось с вами в Брюсселе. Я, конечно, скажу там, куда вы меня собираетесь вести, и о Брюсселе, и о долларах, и о сделанной вами машинке. После этого, надеюсь, ваша судьба будет ненамного слаще моей. Учитывая все это, вы должны понять, что ваше намерение непродуманно, более того — безрассудно. Борков склонился над Кокой, опершись рукой о спинку его стула. — При чем здесь Брюссель, старая крыса? — Я не крыса и не сволочь, — задыхаясь, прошептал Кока. — Ты щенок! Я этого не забуду. Ты еще пожалеешь, что оскорблял меня. На, смотри! С этими словами Кока вынул из того же кармана, что и деньги, другой пакет — в плотной черной фотографической бумаге — и швырнул его на стол. Борков развернул пакет, извлек из него пачку фотографий и начал медленно перебирать их. Кока следил за ним с неприкрытым злорадством, угадывая по выражению лица, какую он карточку рассматривает в данный момент. Вот он, Борков, сидит с женщиной за столиком в ресторане, они смотрят, улыбаясь, друг на друга, с поднятыми бокалами в руках. Борков и женщина танцуют. Они же в номере гостиницы. Пьют вино. Борков крупным планом — пьяное лицо. На низкой кровати лежит Борков и рядом с ним в постели та же женщина. Женщина обнимает и целует Боркова. Борков и женщина. Оба раздетые. Борков в трусах стоит около кровати и смотрит на дверь, а женщина держит в руках дамские принадлежности. У кровати стоит растерянный Борков, рядом женщина с растрепанными волосами и двое полицейских в форме. Борков и Филипп. Борков отсчитывает деньги. Улица Брюсселя в яркий солнечный день. Метрдотель Филипп и Борков идут по тротуару плечом к плечу. Филипп смотрит прямо в объектив. Борков повернулся к своему спутнику и что-то говорит ему, протягивает большой сверток, который держит в левой руке. Вид у Боркова помятый и растерянный. Точно такой же кадр, только теперь пакет держит Филипп. Он протягивает Боркову белый маленький конверт, стараясь делать это незаметно. Но жест отлично виден. И наконец, последнее — репродукция служебного удостоверения Боркова в натуральную величину. — Та-а-ак… — протянул Борков, сложив фотографии. — Сначала вы всучили мне доллары, а теперь шантажируете Брюсселем. Издалека зашли… Кока уже окончательно оправился. К нему вернулась прежняя уверенность. — Не говорите ерунды, — презрительно заметил он. — Не я вас искал, вы сами меня нашли, когда вам понадобилась валюта. Подозревать в предумышленности скорее можно вас, а не меня. — Откуда же фотографии? — Это другой вопрос. — Не считайте меня дурачком. Таких совпадений не бывает. Значит, снабдили долларами, а потом на всякий случай сообщили туда, на запад, что едет, мол, подходящий субъект. Так, что ли? Только теперь, после того как Борков высказал свои предположения насчет заранее подготовленного шантажа, у Коки исчезли его собственные подозрения относительно Боркова и этого поразительного совпадения. Он с облегчением почувствовал, что не испытывает больше к Боркову прежнего смутного недоверия. — Что вы действительно субъект — согласен. Остальное — чепуха, — сказал Кока. — Кто дал вам фотографии? — снова спросил Борков, но уже тихим усталым голосом. — Ишь, чего захотели! — Кока даже развеселился. Он, кажется, начинал испытывать к Боркову нечто вроде сочувствия. — Вы еще не раздумали вести меня на Лубянку? — Она от вас не уйдет, — мрачно откликнулся Борков. — И от вас тоже. — Наверное. Но я устал с вами разговаривать. Давайте кончать. — Я с самого начала хотел, чтобы мы договорились побыстрее. Но у вас же амбиция… — Кока будто бы оправдывался. — Мое предложение вы уже слыхали. Слово за вами. — Что именно интересует вас в моей работе? — Все, что вам приходится делать. — Я должен излагать в письменном виде? — Да. — И передавать вам? — Да. Борков хлопнул ладонью по столу. — Не пойдет. — Почему? — удивился Кока. — С вами я больше общаться на хочу. — Но почему же? — Вы валютчик и фальшивомонетчик. Да еще и шпион. Слишком много для одного человека. Вас быстро разоблачат. Во второй раз Коке представилась возможность оценить рассудительность молодого партнера. И подивиться в душе, как может это редкое для молодых людей качество уживаться у Боркова с легкомыслием. — Откуда вдруг такая щепетильность? — деланно обиделся он. — Какая вам разница? — Если я должен кому-то передавать какие-то сведения, то предпочитаю иметь дело с человеком, который не на виду у милиции. — Что вы, что вы! Я чист, я вне всякой опасности в этом смысле. — Трудно сказать. Может быть, за вами давно следят. Одним словом, не хочу. — Но это уж просто каприз. — Кока пожал плечами. — Как вы не понимаете! — горячо воскликнул Борков. — Это что, игрушки, по-вашему? Или у вас и правда старческий маразм? И так я уже, к сожалению, слишком часто появлялся на вашей орбите. — Одно с другим совершенно не связано, — заверил Кока. — Нет, я еще раз говорю: с вами никаких дел. Если бы записать эту беседу, как записывают на электрокардиограмме биение сердца, получилась бы ломаная линия, то взбирающаяся круто в гору, то стремительно падающая вниз. Как ни старался Кока, Борков был непреклонен. Дав согласие доставлять интересующие Коку сведения, он категорически отказывался поддерживать с ним впредь какие-нибудь отношения. Кока предложил держать связь через третье лицо (имея в виду Кондрата Акулова), но и этот вариант Боркова не устраивал. Ситуация еще больше осложнилась, когда к концу разговора Борков, измученный сомнениями, завел речь о том самом, что Кока при встрече со своим шефом на рыбалке называл полномочиями. Он потребовал доказательств, что Кока действительно связан с иностранной разведкой. Старик пробовал возражать: какие же еще нужны доказательства связи, если перед Борковым лежат эти фотографии? Но Борков заупрямился и сказал, что если уж его хотят купить, то пусть покупает сам хозяин, а не перекупщик. Кока видел, что переубедить Боркова не удастся. Разошлись, договорившись о том, что в ближайшие дни Кока известит Боркова о согласии с его условиями или они расстанутся навсегда.
Глава XVIII ОПАСЕНИЯ АНТИКВАРА
Николай Николаевич, отчитываясь перед шефом о работе с Борковым, был объективен, не преувеличивал свои достижения, но и не умалял их. Он считал — и шеф с этим согласился, — что основное сделано. Однако, перечисляя причины, по которым Борков отказался сотрудничать с ним, Николай Николаевич, разумеется, опустил валютный мотив. И это, как будет видно из дальнейшего, имело серьезные последствия. Антиквару, если он не собирался бросать дело на полпути, оставалось лишь одно — предстать перед Борковым. Когда были определены дата и место встречи, Кока увиделся с Борковым «для уточнения деталей», как он выразился. Во время короткого разговора Кока трижды повторил убедительную просьбу: Борков, в их общих интересах, ни в коем случае не должен говорить человеку, с которым встретится, что он покупал у Коки доллары. Борков обещал исполнить эту просьбу. Антиквар не сразу решился на свидание с Борковым. Он колебался, опасаясь прямого контакта с совершенно незнакомой личностью, перед которой ему придется выступать открыто в качестве представителя иностранной разведки. Но соблазн заполучить в свое распоряжение по-настоящему ценного агента победил. Борков — не Николай Николаевич Казин. Тот хоть и ловок, но нигде не работает, не имеет общественного положения. Стариком можно пользоваться как мальчиком на побегушках, и только. А тут человек в расцвете сил, работающий в секретном учреждении и, судя по всему, с отличными данными для скорого продвижения по служебной лестнице. Ему не правилось, что встречаться с Борковым придется на той же квартире, где происходили свидания Боркова с Кокой, но ничего лучшего придумать не удалось. Субботним вечером 7 марта Антиквар пешком пришел на Большую Грузинскую улицу. Борков с первого взгляда произвел на него благоприятное впечатление. Молодой человек немного нервничал, но старался не выдавать этого перед гостем. Его сдержанность и серьезность вполне отвечали важности момента. Фундамент, заложенный Николаем Николаевичем, избавлял Антиквара от длинных предисловий, и он сразу, как только они расположились за столом друг против друга, приступил к делу. — Нам нужно поговорить о многом, а времени у меня мало, — сказал Антиквар, поглядев на часы. — Чтобы не разбрасываться, давайте поступим так: сначала я буду спрашивать, а вы будете отвечать. Затем наоборот. Хорошо? — Согласен. — Скажите, вы член партии? — Да. — Так. Какой у вас оклад? — Сто семьдесят. Плюс премии. — Недурно, кажется? — Денег всегда мало. — Положение на службе прочное? — Да, вполне. — Дело перспективное? — Думаю. Лаконичностью ответов собеседник все более располагал к себе Антиквара. — Ваша работа имеет какое-нибудь отношение к военным усилиям? — К обороне, — мимоходом поправил Борков. — Самое непосредственное. Затем Антиквар предложил Боркову коротко рассказать о своей жизни. Биография была небогатая, ее изложение заняло пять минут. И опять последовали вопросы. — Вам знакомо общее направление деятельности вашего института? — Да. — У него есть объекты на периферии? — Есть. Несколько. — Вам приходится бывать на них? В командировки посылают? — Довольно часто. Раз пять-шесть в год. — Режим на ваших предприятие строгий? Не обыскивают в проходной? — Ну что вы! Конечно, нет. — Вы лично имеете доступ к совершенно секретным документам? — Да. Положительно Антиквар начинал испытывать радость, какую приносит человеку только очень большая удача. Но тут он задал вопрос, который резко переломил настроение. И не только настроение. Этот момент можно считать поворотным пунктом в развитии событий. — Почему вы не желаете иметь отношений с Николаем Николаевичем? Антиквар спросил об этом между прочим, для разрядки, чтобы не замешивать тесто слишком густо. Борков впервые ответил пространно, и то, что он сказал, мгновенно сделало Антиквара мрачным и настороженным. — С ним опасно, — убежденно, как о хорошо продуманном, заявил Борков. — Во-первых, он валютчик. Я это знаю потому что сам пользовался его услугами. Когда наметилась поездка в Брюссель, я искал доллары. Меня свели с Николаем Николаевичем, и он быстро достал мне двести долларов… Сразу стало ясно, кто он такой… А сейчас за валютчиками охотятся и госбезопасники и обэхээсники… Вы понимаете, чем это грозит? У Антиквара пресекло дыхание, будто его схватили за горло. Спокойное течение беседы, размеренный ход мыслей до этого создали настроение, которое можно было назвать благодушным. И вдруг все смешалось в голове у Антиквара, словно винт, на котором держалось равновесие, выдернули одним рывком. Ему показалось, что он просто ослышался. — Николай Николаевич давал вам доллары?! — Да. Двести. — Он заранее знал о вашей поездке в Брюссель? — Да. Антиквар снял очки, прикрыл глаза ладонью, словно его раздражал свет люстры. — Вы не знали об этом? — тихо спросил Борков. Антиквар молчал. Он, кажется, совсем забыл о присутствии собеседника. — Мне не нравятся такие совпадения, — сказал Борков. Антиквар не реагировал. Как шахматист, восстанавливающий в памяти вслепую, без доски, сыгранную партию, он воспроизводил историю своего знакомства с Николаем Николаевичем Казиным. Слова Боркова о долларах были полной неожиданностью, свидетельствовали о двуличии Коки и ставили Антиквара перед неприятной необходимостью — решить, кто он такой, этот хитрый старик. И кто такой сидящий перед ним инженер Борков. Когда Антиквар давал задание найти Боркова и навести о нем справки, Николай Николаевич ничем не выдал, что уже знает этого человека. Только очень тренированный лжец способен вести такую игру. Кто завязывал узел? Что здесь — умысел или необыкновенное стечение обстоятельств? Если это из разряда поражающих воображение, но не столь уж редких в жизни случайностей, то умолчание Николая Николаевича можно было легко объяснить: он хотел набить себе цену. Альтернатива выглядела страшно: кто-то один из двоих — Казин или Борков — действует по тщательно разработанному плану. — Могу я задать вам вопрос? Голос Боркова не вывел Антиквара из задумчивости, и отвечал он механически. — Да, пожалуйста. — Хотелось бы знать, кто вы… — Сотрудник одного посольства… — От дружелюбного тона не осталось и следа. Антиквар надел очки и спросил совсем неприязненно: — Для вас это имеет значение? — Да. В таком случае я должен сказать вам то же, что и Николаю Николаевичу. — Я еще ничего не предлагал, — проворчал Антиквар. Он понял, что ведет себя недостойно перед этим едва оперившимся птенцом, и тут же опять сделался любезным. — Я пришел просто познакомиться… — Это звучало примирительно, но, заметив ироническую улыбку Боркова, Антиквар добавил с насмешкой: — Вы очень неясно к себе относитесь. — Такой дипломат, как вы, еще хуже, чем валютчик, — сказал Борков. — Почему же? — Спросите у Пеньковского. Антиквар покачал головой. — Ах, вот оно что! Ну, конечно, конечно… Он вспомнил, что и Николай Николаевич называл на рыбалке фамилию Пеньковского, и готов бы считать, что это тоже не случайно. Но отогнал навязчивую мысль — эта одиозная фигура была сейчас злобой дня, ее поминали по разнымповодам все… — Значит, мы с Николаем Николаевичем вас не устраиваем, — подвел итог Антиквар. — Ну хорошо… Можно поддерживать тесные отношения и никогда не встречаться лично. Такой вариант вам подходит? — Это было бы лучше всего. Антиквар вынул из пиджака коричневый бумажник, блокнот и авторучку. И сказал сухо: — Поскольку мы понимаем друг друга с полуслова, давайте перейдем на язык деловых людей. Вот деньги — здесь не так много. Вот ручка и блокнот. Напишите на чистом листе следующее: «Аванс получил». И распишитесь. Борков колебался. Он переводил взгляд с блокнота на бумажник, с бумажника на блокнот и кусал губы. Наконец спросил: — Зачем расписка? — Наша гарантия — деньги. С вашей стороны должна быть какая-то гарантия? Борков взял авторучку, раскрыл блокнот, положил его поперек. — Почерк менять не следует, — предупредил Антиквар. — Распишитесь, пожалуйста, как вы обычно это делаете. Посмотрев на сделанную Борковым запись, он спрятал блокнот и ручку и поднялся со стула. — Я ухожу. Вам придется встретиться еще только раз со мной или с Николаем Николаевичем. Чтобы условиться, каким образом мы будем держать связь. — Когда это произойдет? — спросил Борков. Вид у него был подавленный. Антиквар надел свое бобриковое пальто, дешевую шапку-ушанку. — В ближайшее время. До свидания. — Антиквар поклонился. — Всего хорошего, Я вас провожу. — Нет, нет. — До двери… Антиквар, выйдя на свежий воздух и. оставшись наедине с собой, вновь смутно ощутил нависшую над ним опасность. Он не мог отделаться от возникшего там, в комнате, откуда только что вышел, противного чувства. Он представлялся самому себе водителем машины, который крутит баранку и вдруг обнаруживает, что рулевое управление отказало и машина на полной скорости несется сама по себе. Ему было невмоготу бездействие, хотелось немедленно предпринять какие-то меры, чтобы опасения, заползшие в душу, были бы подтверждены или развеяны. Остановившись под фонарем, он снял с одной руки перчатку, пошарил в кармане пальто, сгреб звякнувшую мелочь, поднес ее на ладони к глазам. Двухкопеечная монета нашлась. На углу, где Большая Грузинская пересекает улицу Горького, Антиквар зашел в будку телефона-автомата. Кока поразился, услышав голос шефа, и сразу сообразил, что произошло нечто серьезное. Было десять часов вечера, он уже собирался ложиться спать, намотавшись за день, но хотя слова шефа и звучали безобидно, однако вся усталость мигом слетела. — Примите, пожалуйста, заказ на междугородный разговор, — сказал Антиквар. — Плохо слышу. Повторите, — ответил Кока. — Мне срочно нужен разговор с Баку. — Вы ошиблись. Это частная квартира. — Извините. Впервые за их знакомство Антиквар прибег к вызову Коки на экстренную явку. Пароль звал Коку срочно явиться в заранее обусловленное место. Они, тщательно проверяясь, встретились через час на центральном телеграфе. В переговорном зале, как всегда, было много народу. Антиквар заговорил со сдержанным негодованием, сквозь зубы: — Вы знали этого субъекта задолго до того, как услышали его имя из моих уст. Вы продавали ему валюту. Как это понимать? Кока вздохнул, почувствовав облегчение оттого, что игра в молчанку кончилась. — Все-таки доложил, подлец, — молвил он как бы про себя. — А я, старый дурень, унижался, просил не говорить… Антиквар посмотрел на него так, будто Кока вырос перед ним из-под земли, но ничего не сказал. Кока начал объяснять сбивчиво, спотыкаясь. Он моментально смекнул, какую паутину подозрений мог сплести шеф из истории с долларами. Может быть, впервые в жизни Кока был искренен до конца и рассказал все в мельчайших подробностях. — Нам обоим есть над чем подумать, — бесстрастно резюмировал Антиквар, когда Кока умолк. — Я вас разыщу. Они разошлись. Исповедь Коки успокоила Антиквара. Она была, несомненно, правдива. В этом убеждала незаметная с виду, но очень красноречивая деталь: Кока не скрыл, что упрашивал Боркова молчать о долларах, об их знакомстве. То, что Борков не сдержал слова и выложил все, когда его никто не тянул за язык, Антиквар расценил как плохо замаскированную уловку. Борков хотел поднять свои акции. Иной расшифровки Антиквар вообразить не мог. Все остальное не выдерживало критики. Но версия о заранее разработанном плане все-таки не отпала. Антиквар на первом же задании решил устроить Боркову проверку.
Глава XIX ПРИЗРАК ПАНИКИ
После разговора с Борковым Антиквар потребовал от Коки максимум осторожности. По этому поводу он прочитал целую лекцию о методах конспирации. Вот почему Кока впервые отказался от услуг домашнего телефона и все переговоры, касающиеся его дел и связей, отныне вел из телефона-автомата. — Володю можно? — Кока говорил из автоматной будки на площади Пушкина. — Он в больнице, а кто его спрашивает? — ответил Коке знакомый голос Дмитрия Михайловича, старичка в меховом жилете. — Это его товарищ. А что с ним случилось? — Вчера ночью увезла «Скорая помощь». Отравление. У Коки от услышанного перехватило дыхание. — В какую больницу, куда он помещен? — В Первую градскую. А кто спрашивает? — Благодарю вас! — и Кока осторожно повесил трубку. На душе стало как-то сразу пусто. Что же делать? Во-первых, надо немедленно сообщить шефу. Во-вторых, во-вторых… А вот что надо было делать во-вторых, Кока решить не мог. Спускаясь вниз по улице Горького, он на всякий случай проверил, нет ли за ним слежки и, убедившись, что ее нет, немного успокоился. Что могло произойти с Борковым? Ведь шеф говорил ему, что Борков без особых волнений принял предложение о сотрудничестве и даже проявил похвальную осторожность во взаимоотношениях. Что это за отравление — случайное или преднамеренное? Допустим — случайное. Тогда все в порядке и нет повода для беспокойства. А если преднамеренное? Тогда что? Тогда тоже нет особых поводов для волнений, во всяком случае, для него. Все естественно. Моральная подавленность. Страх перед расплатой. И решение созрело. Теперь только бы остался живой. Пусть волнуется шеф. И надо как можно скорее довести до его сведения эту новость… Кока посмотрел на часы. Он и не заметил, как очутился у своего дома. Поднялся на третий этаж, долго возился у двери, пока сумел открыть все четыре хитроумных замка. Быстро разделся, достал из тайника принадлежности для тайнописи. Тщательно выводя буквы, написал шифрованное сообщение. Потом для профилактики выпил двадцать пять капель валокордина, вышел на улицу и сел в такси. На счетчике было около рубля, когда Кока приказал остановить такси. Расплатившись с шофером, вышел из автомашины. Несколько минут медленно шел по незнакомой улице. Остановился около почтового ящика и опустил письмо. Обратно Кока возвращался городским транспортом. Через два дня он получил у киоскера Акулова ответ шефа. Тот предлагал немедленно узнать в больнице, что произошло с Бордовым, и навестить его. Если это попытка самоубийства, постараться успокоить и при этом не стесняться в обещаниях материальных благ. Затем срочно сообщить о результатах через Акулова, а тайнописью впредь пользоваться только в остро необходимых случаях. …В справочном Первой градской Коке сказали, что Борков поступил с отравлением от принятого им в большом количестве барбамила. Сейчас состояние улучшилось и для жизни опасности нет. Коку к больному Боркову не допустили. У него уже находился какой-то посетитель, а двоих сразу нельзя. Надо дождаться, когда тот посетитель возвратится. И Кока, возмущенный такими порядками, сидел и ждал. Сидел час. Сидел два. За это время он, однако, успел приметить, что стоявшая в очереди впереди него молодая женщина уже успела возвратиться, а он все ждет и ждет. Когда она ушла, Коку осенила идея. Он подошел к гардеробной, назвал фамилию больного, которого навещала эта женщина — он слышал, как она назвала фамилию, — и, получив халат, поднялся на третий этаж. Кока увидел Боркова лежащим в коридоре. Рядом на табуретке сидела Римма. Она тихо говорила что-то. Кока отвернулся, прошел мимо и, воспользовавшись вторым ходом, покинул хирургическое отделение больницы. Он не хотел попадаться на глаза Римме. Свидание с Борковым не состоялось. О разговоре в таких условиях не могло быть и речи. Но Кока был рад: сомнения исчезли, и Борков теперь не внушал ему подозрений. Скорее наоборот. Этот случай говорил в его пользу. …В первый же вечер по выходе Боркова из больницы Кока позвонил ему на квартиру, попросил встречи. Борков после некоторого раздумья согласился. Встретились они на площади Маяковского у памятника. Борков похудел, был вял, бледен. Кока предложил зайти в ресторан «София». Борков не возражал, ему было все равно. В ресторане, выбрав столик в углу, подальше от людей, они сели. Сделали заказ. Борков от водки отказался. Кока не настаивал, он понимал, что пить ему сейчас нельзя. — Что произошло? — Ничего. Ерунда, — поморщившись, ответил Борков. — Меня просили передать искреннее соболезнование по поводу случившегося, и вот это вам для восстановления здоровья. — Кока положил перед Борковым конверт, в котором лежало пятьсот рублей. Борков и глазом не повел. Он был совершенно безучастен к тому, что здесь происходило. — Нельзя так опускать руки. Нужно встряхнуться, все не так уж плохо, — сказал Кока. Борков продолжал смотреть в одну точку. Затем поднял глаза на Коку, коротко произнес: — Боюсь… Кока оживился. — Ну разве можно так! Даже при переходе улицы риск бывает велик — можно попасть под машину и расстаться с жизнью. А у нас с вами пока все шло хорошо, так и пойдет. Надо только соблюдать меры предосторожности. А барбамил что ж? Он всегда под рукой… Ну, ваше здоровье. — Кока чокнулся с пустой рюмкой Боркова. — Перед вами могут открыться блестящие перспективы. — Кока кивнул куда-то вбок. — Пью за это. — На что намекаете? — спросил Борков — Советский Союз составляет ведь только одну шестую часть суши, не правда ли? — Обождите, — сказал Борков. — Я, пожалуй, тоже выпью. Он быстро налил в рюмку водки, чокнулся с Кокой и опрокинул ее в рот. Кока улыбался ободряюще. Нечто вроде улыбки промелькнуло и на лице у Боркова, но она была иного рода… …Через месяц Владимир Борков получил от Антиквара задание составить письменный обзор работы периферийных объектов института. Основными пунктами обзора должно быть: а) расположение и наиболее характерные ориентиры на местности; б) фамилии начальников и ведущих конструкторов; в) характеристика выпускаемой продукции. Боркову были даны средства тайнописи — блокнот карманного формата и карандаш. Когда обзор будет готов, Борков должен поступить следующим образом. Купить чемодан и наполнить его вещами — неважно какими, лишь бы они были тоже купленными, новыми. В числе вещей обязательно должно быть несколько предметов из магазина канцелярских товаров — блокнот, тетрадка, перья и тому подобное. Дело в том, что блокнот, врученный Боркову, по виду был в точности такой, какие выпускаются одной из московских фабрик с наклеенным на корочке настоящим фабричным ярлычком. Если чемодан попадет не по назначению, блокнот с тайнописью вряд ли обратит на себя внимание среди других письменных принадлежностей. …К середине апреля обзор был готов. В воскресенье, девятнадцатого, Борков отправился в ГУМ, купил чемодан умопомрачительной расцветки, затем прошелся вдоль прилавков на втором этаже, и к концу похода чемодан заполнился разнообразными швейными изделиями и канцелярскими принадлежностями. Выйдя из магазина, Владимир направился к площади Дзержинского. По пути была аптека, и он зашел в нее, чтобы купить зубную пасту — у него дома паста кончилась. В отделе штучных товаров он несколько минут постоял над застекленной витриной, рассматривая лекарства, а потом подошел к кассе, выбил чек и получил у продавца пасту, а также — странное дело — два флакончика валерьянки. Пасту сунул в карман плаща, а валерьянку спрятал в чемодан. Тут же он переложил из пиджака в чемодан и блокнот с тайнописью. Затем он действовал точно по полученным от Антиквара инструкциям. Путь его лежал на Комсомольскую площадь. Из метро он отправился прямо к автоматическим багажным камерам Рязанского вокзала. Отыскав свободную ячейку, Борков поставил в нее чемодан, набрал на диске четырехзначный номер — шифрованный ключ к ячейке, опустил в щелку пятнадцатикопеечную монету и закрыл дверцу. Как делают все пассажиры, пользующиеся камерами-автоматами, Борков записал номер ячейки и набранное число. Для этого он отошел в сторону, чтобы кто-нибудь не увидел, заглянув ему через плечо, цифры шифра. После этого спустился в метро и по телефону-автомату позвонил Коке. Не называя себя, он четко, с расстановкой продиктовал подряд семь цифр — номер ячейки и шифр и еще добавил двойку. Условленный способ кодирования был простейшим, но сложнее тут и не требовалось. Борков смотрел в бумажку с многозначным числом, но, перечисляя записанные цифры, он каждую из них увеличивал на единицу: тройку называл четверкой, ноль — единицей и так далее. В конце была двойка. По инструкции он должен был оставить чемодан на одном из трех вокзалов Комсомольской площади. Единица обозначала Ленинградский, двойка — Рязанский, тройка — Ярославский. …Через неделю пришла радиограмма на имя Надежды. Она была краткой: «К вам обратится с просьбой наше доверенное лицо. Окажите всю посильную помощь». Далее сообщался пароль и ответ. Михаил Тульев и Павел выехали в город К. Они вновь поселились в том домике, куда Тульев-Надежда перевез свои вещи, но где ему так и не удалось пожить, потому что как раз в день переезда он был арестован. Без малого год минул с той поры. А что такое год? Долгий это срок или короткий? Месяц, день, час, минута — они одинаковы для всех людей только как условная мера времени. Но для жизни у каждого человека — своя особая мера. И каждый когда-нибудь неизбежно открывает для себя давно открытую истину, что год может пролететь быстро, как один день, а иной день тянется долго, как целый год. Чем измерить время, проведенное Михаилом Тульевым под арестом? Какой календарь годится человеку, который тысячу раз прогнал себя по ступенькам своего прошлого — вниз-вверх, вниз-вверх — в поисках своей потерянной души? Тысячу раз он прожил заново собственную жизнь — от первого детского воспоминания, расцвеченного яркими, еще не высохшими красками, до неосуществленной попытки самоубийства. И все то злое, совершенное им там, в прожитом, что когда-то вызывало лишь легкие мимолетные укоры совести, тысячекратно повторенное предстало теперь — только теперь! — в своем истинном значении. И человек ужаснулся своей прежней слепоте и жестокосердию. Внешне он мало изменился, только смуглое лицо его побледнело без солнца, да плечи стали немного сутулиться, когда он задумывался. Но Павел видел большую перемену. Надежда-Тульев прежде был нервен и норовист без нужды, как пассажир на узловой пересадочной станции, ожидающий поезда и боящийся его прозевать. И вместе с тем в облике его было нечто хищное, ястребиное. Теперь от него веяло спокойной сосредоточенностью, а черты лица сгладились и подобрели — как бы размытые прибоем бесконечных раздумий. Так морские волны обкатывают и зализывают острые грани осколка. Павел спал крепко — даже тяжкая поступь проходящего под окнами многотонного грузовика не могла его разбудить, — но обладал способностью мгновенно просыпаться от тихого шума в комнате. И часто по ночам он просыпался оттого, что Тульев чиркал спичкой, закуривая. Павел не испытывал к нему недоверия и не боялся с его стороны какой-нибудь неразумной выходки, хотя, ставя порой себя на его место, думал, что сам он, пожалуй, в подобной ситуации не растерялся бы и попробовал дать тягу. Однако тут же возражал самому себе: да, но для этого нужно, чтобы человек крепко верил в свое дело. Михаил же Тульев поставил жирный крест на всем, что когда-то считал своим делом, вдребезги разбил идолов, которым прежде поклонялся. Однажды ощутив себя человеком без будущего, он страстно желал теперь лишь одного: утвердиться в жизни, почувствовать свою необходимость на земле. Они сами готовили себе горячую пищу, и это помогало убивать время в ожидании гостя. В магазин ходили по очереди, чтобы кто-то один всегда был дома. Тульев много читал, пользуясь довольно богатой библиотекой хозяев. Иногда Павел просил его позаниматься с ним английским языком, которым Тульев владел в совершенстве. Так прошло восемь дней. На девятый день утром пожаловал долгожданный гость. Им оказался Кока. Увидев его через открытое окно, Павел предупредил Михаила и ушел в другую комнату, затворив за собой дверь. Кока постучал. Войдя, поздоровался и сразу сказал пароль, а услышав ответ, попросил дать ему напиться — утро стояло жаркое. Михаил предложил чаю — они с Павлом только что позавтракали, чай был горячий, — и Кока с благодарностью согласился выпить чашку-другую. Пил он вприкуску, не торопясь. Интересовался житьем Михаила, исподтишка его разглядывал. — Вы что же, нигде не работаете? — Работаю. Взял неделю за свой счет. Тульев под фамилией Курнакова числился шофером в транспортном грузовом управлении, которое занималось дальними перевозками. Это было сделано еще в феврале — на случай новой проверки со стороны центра. — В одиночестве обитаете? — Есть товарищ. — Я хотел сказать — не женаты? — Пока нет. — Ну и правильно. — Я тоже так думаю. Утолив жажду, Кока приступил к цели своего приезда. Перед Надеждой появилась рукопись, отпечатанная на портативной машинке, — это была копия обзора, составленного Борковым. — Нас не могут подслушать? — спросил Кока. — Нет. Все в порядке. Но береженого и бог бережет. Они вышли из дома в сад, сели на скамейку. — Тогда прошу минуту внимания. — Кока положил ладонь на рукопись. — Вы прочтете это и увидите, что здесь названо несколько объектов. Вам нужно проверить сообщаемые данные, но объектов слишком много, все охватить будет непосильно, поэтому возьмите какой-нибудь один. На ваше усмотрение. Что вам будет удобнее. Просили передать, что дело спешное. Надежда взял рукопись, перелистал ее. Он был мрачен и недоволен. — Некстати вся эта затея. И что значит — спешно? — Срок не называли, но пожелание такое, чтобы по возможности быстрее. Здесь есть и недалекие объекты. — Суть не в расстояниях, — сказал Надежда с досадой. — Ну хорошо. Каким образом нужно передать, когда будет готово? — Сказано, что вы сами назначите дату и способ. Через разведцентр. Надежда с минуту подумал и спросил: — Этот человек в табачной лавке жив-здоров? Надежен? — Да. — Тогда скажите тому, кто вас послал, что воспользуемся киоскером. Пусть его предупредят. — В этом нет необходимости. Он постоянно действующий. — Тем лучше… Кока отказался от обеда, сказав, что спешит. Павел и Надежда через неделю уехали в Москву. Владимир Гаврилович Марков, узнав о посещении Надежды Кокой, был удовлетворен, ибо события в основном развивались нормально. Хотелось бы, конечно, поторопить их, но искусственность тут была категорически запрещена. Он бы погрешил против жизненной правды, если бы Надежда исполнил просьбу Антиквара слишком скоро. Это позволило бы Антиквару почувствовать фальшь. Вот почему только в июле Павел посетил киоск, где работал Кондрат Акулов, и оставил ему микропленку, на которой было сфотографировано написанное рукой Надежды сообщение об одном из объектов, упомянутых в обзоре Владимира Боркова. Антиквар, прочтя сообщение Надежды и сравнив его с данными Боркова, испытал ужас. Похожее чувство охватывает человека, который входит в темную комнату и инстинктивно осознает вдруг, что в ней затаился и ждет кто-то чужой. Надежда утверждал, что данные Боркова правильны только в части, касающейся координат объекта. Во всем остальном они — чистая липа. Надежда сообщал истинные имена и фамилии начальника и главного инженера интересующего разведцентр объекта и сведения о подлинном характере выпускаемой им продукции. Опасения Антиквара усилились. Значит, Владимир Борков подставлен ему контрразведкой. А может быть, и не подставлен? Может, пошел, покаялся и его решили использовать для засылки дезинформации? Такой вариант тоже не исключался. Иначе имеет ли смысл контрразведке оставлять на свободе Коку и не тревожить его самого, атташе иностранного посольства? Состояние Антиквара было почти паническое. Он составил пространную депешу для центра, отослал ее и с нетерпением ждал ответа. Он не знал, как вести себя в дальнейшем с Борковым и Николаем Николаевичем, а пока в целях предосторожности решил прекратить с ними всякую связь. От Надежды в разведцентр тогда же ушла радиограмма, в которой сообщалось, что он рассчитывает заполучить в недалеком будущем документы чрезвычайной важности, для передачи которых необходим самый верный и надежный канал. Разведцентр в ответной радиограмме, начинавшейся словами «К неукоснительному исполнению», категорически приказывал Надежде прекратить какое бы то ни было общение с лицами, ранее входившими в контакт с ним, а относительно передачи ценных материалов сообщал, что о способе Надежда будет уведомлен дополнительно. Антиквар также вскоре получил от центра инструкции. К удивлению, ему предлагалось продолжать связь с Борковым. Дезинформация, будучи разоблаченной, тоже приносит известную пользу. А безопасность Антиквара как разведчика, замаскированного под дипломата, не вызывает сомнений, поскольку он служит каналом для этой дезинформации. Так рассуждали в центре.
Глава XX КРАТКИЙ ОБЩИЙ ОТЧЕТ
ВЛАДИМИР БОРКОВ — ПОЛКОВНИКУ МАРКОВУ
«Полагая, что история знакомства Риммы с Юлей вам известна, опускаю этот момент и перехожу к фактам, касающимся меня непосредственно. Как и предполагалось, К. не отказался снабдить меня долларами. Насколько удалось заметить, он не испытывал при этом никаких колебаний и подозрений на мой счет. Здесь сыграло большую роль то обстоятельство, что К. давно знает Юлию и, безусловно, верит ее рекомендации. В Брюсселе сложилось не все так, как было задумано. Несмотря на кратковременность моей командировки, первые дни никто мной не интересовался. Стало очевидным, что наш расчет на то, что К. обязательно должен доложить А. о взятых мною у него долларах, а последний, в свою очередь, поставит об этом в известность разведцентр и таким образом я окажусь в их поле зрения — не оправдался. Вынужден был перейти на запасной вариант, и действовать в зависимости от складывающейся обстановки. Метрдотеля по имени Филипп я нашел в первое же посещение ночного ресторана. Описание его внешности, полученное мною из показаний Надежды в Москве, оказалось очень точным. Обратить на себя его внимание не составило труда. Как распорядитель он по обязанности принимает каждого ресторанного посетителя лично, и я не составил исключения. То, что я советский гражданин, удалось показать довольно мягко, с помощью жеста (с первых шагов я выдал себя за француза). Мне не пришлось навязываться Филиппу, я только облегчил ему подход. Филипп действовал быстро и решительно, но появление его подручной — Жозефины — было обставлено аккуратно и не могло бы насторожить человека непредвзятого. Во всем, что последовало дальше, ничего оригинального не случилось, обе стороны шли друг другу навстречу. Думаю, что номер гостиницы, куда привела меня Жозефина (все адреса и названия различных заведений даю в приложении), специально оборудован для приемов, подобных оказанному мне. Только после выпитого у нее бокала вина я почувствовал действие снотворного. Очевидно, его доза была ударной. Но я все же сумел уйти из ее номера. С трудом добрался до своей гостиницы. Остальное помнится как во сне. Утром я обнаружил в своей комнате Жозефину. Вскоре пришли полицейские. Назревал скандал. Однако в роли спасителя появился Филипп. И все уладилось. Я не заметил, как и когда меня фотографировали, а меж тем качество фотографий, которые мне пришлось видеть у К., и планы кадров говорят об отличных, удобных условиях съемки. Жозефина провела свою партию легко и естественно. Я тоже не испытывал особых затруднений, хотя в отдельных случаях можно было бы действовать мягче. Но поскольку рыбка уже заглотнула крючок, я не очень беспокоился, где и когда ее вытащить. После визита Жозефины у меня исчезли служебное удостоверение, карточка, на которой я был снят с матерью, и пропуск в институтскую поликлинику. Как и ожидал, все эти документы с соблюдением конспирации мне вернул Филипп (они были изъяты у Жозефины). Попыток к вербовке меня Филипп не предпринимал, несмотря на благоприятную для этого обстановку. Очевидно, было решено последний ход сделать в Москве. Это нечто новое в их тактике. При первой встрече с К. по возвращении из Брюсселя (она произошла в доме Риммы) я склонен был предполагать, что он уже получил задание начать мою обработку. Такое заключение напрашивалось потому, что некоторые вопросы К., заданные мне в разговоре, звучали двусмысленно, как будто ему уже было кое-что известно. Но это оказалось ошибочным впечатлением. И наоборот, когда К. предложил мне принять участие в фабрикации фальшивых золотых монет, я думал, что он уже не будет выступать в качестве представителя разведки. Разумеется, слишком опрометчиво для человека, занимающегося шпионажем, быть замешанным в уголовном преступлении. Это чистосердечное заблуждение очень помогло мне естественно провести эпизод, во время которого К. услышал от меня отказ сотрудничать с ним как агентом разведки. (Подробности моих бесед с К. и А. опускаю, поскольку беседы записаны на магнитофонную ленту. Я прослушивал ее — запись хорошая.) Уславливаясь затем о свидании моем с А., К. несколько раз повторил настоятельную просьбу, чтобы я не сообщал А. о долларах. Это убеждало, что в глазах К. я оставался пока вне подозрений. В противном случае он не осмелился бы скрывать от А. факт нашего знакомства до моей поездки в Брюссель. Так как в мою задачу входило возбудить у А. сомнения, я при свидании сказал о своих связях с К. на валютной почве. А. трудно переваривал эту новость. Плохо владел собой. Его отношение ко мне сразу изменилось. Однако при повторной встрече я не мог заметить недоверия. Полученный от вас обзор я переписал в блокнот, врученный мне А. Затем поступил точно, как велел А., — купил чемодан, заполнил его кое-какими вещами и положил туда блокнот. Чемодан отвез и сдал в автоматическую камеру хранения на Рязанском вокзале и по телефону сообщил К. шифр камеры. Больше ни К., ни А. я не видел. С их стороны попыток слежки за мной не наблюдал. Это же подтверждает и наша оперативная служба. Деньги в советских знаках, полученные от К. и А., прилагаю. Лейтенант В. Кустов (Борков). 14 июля 1964 года».
Кустов, сидевший молча напротив полковника, видел, что он в прекрасном настроении. Заметив, что отчет дочитан до точки, Кустов сказал: — Простите, Владимир Гаврилович, не упомянул одну деталь. — Что именно? — Я в чемодан, кроме всего прочего, валерьяновых капель положил, два пузырька. — Это зачем еще? — удивился полковник. — Полагаю, ему пригодится. Полковник нахмурился, но Кустов понимал, что это не всерьез. — Ты, я вижу, вроде Павла Синицына, — сказал Владимир Гаврилович ворчливо. — Фантазеры… — Виноват, товарищ полковник. — Не лень было в аптеку ходить? — Так ведь по дороге… — Ладно. Кончилась твоя миссия в этом деле. — Полковник встал, протянул Кустову руку. — Спасибо, Володя. За исключением отдельных шероховатостей, все было отлично, хотя это и первый твой блин. — Служу Советскому Союзу, товарищ полковник, — серьезно произнес Кустов. — Вопросы и просьбы есть? — Да. Владимир Гаврилович, прошу отметить Римму, извините, Риту Терехову… Она заслуживает этого. — Согласен. Рита хорошо выполнила задачу… Теперь нам нужно подумать над одним вопросом и, главное, быстро решить его… — Да, Владимир Гаврилович… — Всех ли мы знаем людей, на которых опирается Антиквар, и до конца ли мы его вытряхнули? — Думаю, да. — Почему? — Вряд ли можно допустить, чтобы Антиквар за столь непродолжительное время пребывания в нашей стране мог иметь на связи более трех агентов. — Вот в этом нам как раз следует хорошенько убедиться и быть уверенными, что после него не останется никаких корней… Подумайте и вы с Павлом, как это лучше сделать, а завтра после обеда обменяемся мнениями. Кустов покинул кабинет. Владимир Гаврилович положил руку на трубку внутреннего телефона, но раздумал звонить, полистал лежавшее перед ним дело и сказал тихо: — Ну что ж, теперь пора открывать карты. И вот что произошло в воскресенье девятого августа.
Глава XXI ВСЕМУ ПРИХОДИТ КОНЕЦ
Антиквар с некоторых пор стал ощущать за собой упорную слежку. Он был опытным разведчиком, да к тому же следившие не особенно щепетильничали, это входило в их планы, так что заметить слежку не составляло труда. А после того, как стало очевидным, что Борков является агентом советской контрразведки, слежка имела достаточные объяснения, и Антиквар находил ее в порядке вещей. Сидя за рулем, он посматривал поочередно в зеркальца — над ветровым стеклом и сбоку. Миновав центральную часть города, повернул к Серпуховке, через Каширское шоссе выскочил на кольцевую автостраду. Там он надеялся быстро покончить со слежкой. Мотор его машины легко давал сто восемьдесят километров в час, а скорость на автостраде не ограничивается. Как только он миновал Добрынинскую площадь, на колесо ему села светло-бежевая «Волга», которую он мельком отметил в столпотворении автомобилей еще при въезде на Каменный мост. В зеркало хорошо было видно, что в машине, кроме шофера, на заднем диване сидят двое. Антиквар попробовал оторваться от бежевой после очередного светофора, рассчитав так, чтобы пересечь линию в момент, когда зеленый свет сменится желтым. У него получилось все очень удачно, но «Волга» не отстала, проехав на желтый свет, хотя могла и должна была затормозить, потому что была в момент переключения света метрах в семи от пешеходной дорожки. Антиквару стало совершенно ясно, что это хвост, и злой спортивный азарт овладел им. Достигнув лепестковой развязки, которой соединялось шоссе и кольцевая автострада, он взглянул в зеркальце, убедился, что «Волга» тут как тут, и по отлогому широкому подъему рывком въехал на автостраду. Сразу сбавил газ, потому что «Волга» отстала, — ему хотелось поиграть с нею, он был уверен в своем моторе и знал, что уйдет от преследования, когда пожелает. «Волга» настигла его и уже собиралась обогнать, не боясь того, что он развернется и уйдет обратно, так как движение на кольце одностороннее, встречная полоса отделена широким газоном. Антиквар дал «Волге» поравняться с собой и вдавил акселератор до упора. Машина у него была очень приемистая, с места за несколько секунд развивала едва ли не сто километров, и «Волга» моментально осталась далеко позади, словно колеса у нее вертелись вхолостую. Антиквар больше не смотрел на преследователей, он знал, что его не достанут. Он съехал с кольца на Ярославское шоссе и через пятнадцать минут был у Колхозной площади. Немного не доезжая до нее, свернул вправо, выбрал тихий переулок, поставил машину, запер двери и пешком пошел на площадь. Здесь взял такси и велел шоферу ехать не торопясь на Новодевичье кладбище. Было пять минут второго. Антиквар не раз посещал Новодевичье и хорошо разбирался, если можно так выразиться, в его географии и административном делении. Он гулял по аллеям с видом завсегдатая, медленной походкой, заложив руки за спину, глядя одинаково рассеянно на лица встречавшихся ему людей и на пышные надгробия. Он был одет в серый легкий костюм и белую рубашку апаш. В петлице лацкана сидел маленький треугольный значок, через плечо висела «Лейка» в черном чехле. Без пяти два Антиквар остановился перед могилой с очень красивым памятником, перевесил фотоаппарат на шею, вынул его из чехла и снял заднюю крышку. Ему необходимо было показать, будто с аппаратом что-то не ладится. Мимо проходили люди, тихо, стараясь не шаркать и говорить шепотом. Антиквар не обращал ни на кого внимания, словно и вправду целиком сосредоточился на неполадке в аппарате. На его часах было две минуты третьего, когда рядом остановился Акулов. — Поглядите под ноги, — тихо сказал он и отошел в сторону. Антиквар посмотрел под ноги — на чистом песке лежала кассета с торчащим кончиком пленки. Ее за секунду до этого бросил Акулов. Антиквар нагнулся, чтобы взять кассету, но в тот же миг чья-то нога в черном башмаке на толстой подошве накрыла ее, едва не прищемив Антиквару пальцы. Он, вздрогнув, поднял голову. Перед Акуловым и Антикваром стояли четверо молодых — лет по тридцати — мужчин в летних светлых костюмах. Тот, кто наступил на кассету, уже держал ее в руке. — Что за хулиганство! — возмутился Антиквар. — Средь бела дня… Другой из четверки, вероятно, старший, вынул бордовую книжечку, предъявил ее Антиквару. — Подполковник Шатов. Мы из Комитета госбезопасности. Вам и ему, — подполковник кивнул на Акулова, — придется пойти с нами. — В чем дело? — спокойно спросил Антиквар. — Вам придется последовать за нами, — повторил Шатов. Антиквар торопливо полез в карман, но Шатов уже на него не смотрел, отдавая распоряжения, как их везти. Тут вставил слово Акулов: — Ну что вы, ребята! Я-то тут при чем? — Ладно, — бросил ему уже менее вежливо человек с кассетой. — Вы и ваш знакомый поедете с нами. — Да ты что! Я его первый раз вижу! — Вы подбросили пленку, а он собирался ее взять… — Это моя кассета, — вступился Антиквар. — Она чистая, можете убедиться. Я протестую. Это провокация. — Хорошо, разберемся. А сейчас прошу следовать за нами. Их группа уже обратила на себя внимание, находившиеся поблизости люди начинали останавливаться. — Я подчиняюсь силе, — сказал Антиквар и первым зашагал по дорожке, на ходу пряча «Лейку» в чехол. За воротами сели в две машины — одна из них была той самой светло-бежевой «Волгой», которая преследовала Антиквара, пока не потеряла его на кольце. Они остановились возле одного из ближних отделений милиции. Трое провели Антиквара и Акулова прямо в кабинет начальника отделения. Четвертый уехал куда-то на бежевой машине. Подполковник Шатов предложил Акулову сесть на диван, а Антиквара пригласил к столу. Наконец Антиквару удалось предъявить свои документы — карточку дипломата. — Я требую немедленно связать меня с посольством, — заявил Антиквар. — Наши желания совпадают. Сейчас мы вызовем представителя Министерства иностранных дел, и он займется этим, — ответил подполковник. Антиквар глядел хмуро и всем своим видом давал понять, что ситуация представляется ему идиотской. Акулов впал в прострацию. Через несколько минут в кабинет вошел четвертый член группы, пропустив впереди себя пожилого человека в синем халате, у которого в руках были два пластмассовых бачка для проявления фотопленки, а под мышкой черный мешок. В широкий карман халата был засунут третий бачок. Шатов уступил место за столом. Человек в синем халате разложил свое хозяйство, затем поместил бачки в мешок. Мешок этот был особого рода, служил как бы переносной темной комнатой для обработки пленки. Он был светонепроницаемым, по бокам у него имелись два ввода — рукава, снабженные резиновыми манжетами, плотно охватывающими руку. Подобными мешками, только меньших размеров, пользуются фотокорреспонденты в командировках для зарядки кассет. Фотолаборант устроился поудобнее, взял кассету, отобранную у Антиквара, и засунул в мешок обе руки. Пошуршав там недолго, он вынул кассету — уже пустую, — передал ее Шатову. Это была обыкновенная эбонитовая кассета фирмы «Agfa» с цветной яркой наклейкой. Шатов достал из кармана перочинный нож с набором самых разнообразных лезвий, пододвинул стул к окну и расположился на подоконнике. Оглядев внимательно кассету, отклеил этикетку — под ней ничего не оказалось. Затем снял крышку, долго ее рассматривал. Крышка, казалось, возбудила в нем какие-то подозрения, но он пока отложил ее в сторону и с помощью ножа разломил корпус кассеты на две части. Исследовав их, снова взял крышку. Фотолаборант за это время успел проявить пленку: В кабинете царило напряженное молчание. Оно казалось противоестественным в этом небольшом, с обычную жилую комнату, помещении, собравшем восемь человек. Фотолаборант медленно поворачивал пленку за конец оси, выступавшей над бачком, Шатов скреб ножом о крышечку кассеты, и эти звуки резали Антиквару слух. Акулов сидел, безучастный ко всему происходящему. Наконец фотолаборант кончил дело. Ополоснув пленку, он посмотрел ее на свет и лаконично известил: — Пустая. Шатов прервал свое занятие, обернулся к фотолаборанту. — Благодарю вас. Просушите и дайте мне. Можете быть свободны. Фотолаборант отнес куда-то бачки, вылил их содержимое, а затем собрал все в мешок и оставил кабинет. Шатов продолжал исследовать крышечку, действуя на нервы Антиквару скрипом и скрежетом. — Ну вот, полный порядок, — неожиданно сказал он громко, и Антиквар вздрогнул. Шатов перешел к столу, взял из подставки лист бумаги и стряхнул на него крошечную полоску фотопленки — длиной в полсантиметра, а шириной не более двух миллиметров. — Микрофотография, — с удовлетворением констатировал Шатов и пригласил Антиквара: — Прошу убедиться. Но тот лишь метнул быстрый острый взгляд исподлобья, поверх очков и не пошевелился. — Что вы можете заявить по этому поводу? — спросил Шатов. — Это провокация… Вскоре прибыл сотрудник Министерства иностранных дел и, выслушав сообщение подполковника Шатова, посмотрел дипломатическую карточку Антиквара. Затем снял трубку и неторопливо стал набирать номер на диске телефона. — Это консульский отдел посольства? С вами говорит сотрудник Министерства иностранных дел Овчинников. В вашем посольстве есть атташе… — Он назвал фамилию. — Так. Необходимо, чтобы представитель посольства приехал в отделение милиции… — последовал номер отделения и адрес. — Да, прямо сейчас. Пожалуйста, мы ждем. — Я требую отпустить меня. Вы не имеете права… — сказал Антиквар. — Вот сейчас приедет представитель вашего посольства, ознакомится со всем происшедшим, и тогда мы решим, как с вами быть. А пока составим протокол. Сейчас мы еще не знаем, что содержит эта пленочка, однако факт есть факт — вы хотели ее получить от этого гражданина. Вот это мы и зафиксируем. Писание протокола заняло пятнадцать минут. Когда он был готов, Овчинников предложил Антиквару прочесть и подписать его. Антиквар бегло просмотрел написанное и категорически заявил: — Я не распишусь на этом. — Почему? — спросил Овчинников. — Что-нибудь неверно? — Да. Никто не подбрасывал кассету. Она принадлежит мне. А этого человека я вижу впервые. — Вы будете подписывать? — последовал вопрос к Акулову. — Что вы, гражданин начальник! — встрепенулся тот. — Я себе не враг! — Вам это не поможет. Обоим, — вставил Шатов. Он не был раздражен, говорил спокойно. — Ладно, подпишем мы вместе с представителем Министерства иностранных дел товарищем Овчинниковым. — Я могу быть свободен? — спросил Антиквар. — Надо дождаться консула. — Не ломайте комедию! — Это не комедия. Тут в дверь постучали, и появился высокий мужчина лет тридцати пяти. — Что случилось? Почему вы задержали дипломата? — спросил консул. — Этот дипломат злоупотребляет своим положением. Он был задержан в момент приема секретных материалов от гражданина Акулова, — объяснил Овчинников. — Ложь! Этого гражданина я вижу впервые. Я протестую. Это неслыханно… — вскочив со своего места, резко заговорил Антиквар. — Чем вы можете подтвердить свои обвинения? — спросил консул. — Многим! — вмешался в разговор подполковник Шатов. — В качестве первого доказательства мы можем прокрутить кинопленку, на которой можно увидеть встречи вашего дипломата с арестованным нами гражданином Казиным, которого он привлек к шпионской работе. Несколько позже мы сможем показать вам его сегодняшнюю встречу на Новодевичьем кладбище с гражданином Акуловым. Товарищ Воркин, прошу организовать показ фильма. — Не надо, — бросил сквозь зубы Антиквар. — Мы можем идти? — спросил консул. — Теперь — да, — последовал ответ. Всю дорогу до своего посольства Антиквар никак не мог прийти в чувство от оглушительного удара, который был нанесен так неожиданно. Его жгла досада на самого себя, на разведцентр, на всю эту глупейшую затею с Борковым и с передачей пленки. В одно мгновение все полетело к чертям. Оказалось, что советской контрразведке вовсе не интересно держать его нетревоженным во имя засылки дезинформации. Гроша ломаного не стоят хитроумные расчеты разведцентра. Оставалось проверить, действительно ли Кока арестован и что с Борковым. …Трубку на том конце сняли сразу. — Алло, вас слушают, — сказал нежный женский голос. Не произнеся ни слова, женщина, звонившая из автомата, нажала на рычаг, но тут же подумала, что могла соединиться неправильно, и снова опустила монету в щелку, набрала аккуратно номер. Ей было известно, что по этому телефону никто, кроме мужчины, отвечать не может. На сей раз ответил низкий мужской голос. Женщина спросила: — Это Николай Николаевич? — Нет. — Можно его к телефону? — Его нет. — Он что, вышел? — Да. — Надолго? — Не знаю. А кто его спрашивает? — Знакомая. Когда он будет? — Неизвестно. Как вас зовут? Что ему передать? — допытывался сочный баритон. — Ничего. Я еще позвоню. — Ну звоните, звоните… По телефону Боркова ответили, что он уехал в длительную командировку. Когда служащие посольства, из числа иностранцев, по просьбе Антиквара звонившие Коке и Боркову — в первом случае горничная, а во второмповар, — рассказали о своих переговорах, Антиквару стало совсем плохо. Чтобы проверить, насколько глубоко копнули контрразведчики тайную жизнь Николая Николаевича Казина, оставалось узнать, целы ли его сообщники-фальшивомонетчики. Адрес Пушкарева Кока с неохотой, но все же дал Антиквару в свое время. Полуподвальная квартира в переулке рядом с улицей Обуха оказалась опечатанной. В тот же день Антиквар составил для передачи в разведцентр обстоятельное донесение обо всем случившемся и отослал его с дипломатической почтой… Десятое и одиннадцатое августа оказались днями оживленных радиопереговоров. Разведцентр прислал следующую шифровку: «Надежде. Операция провалена. Обусловьте с Бекасом связь, предложите ему выехать в другой город, желательно в Сибирь. Сами немедленно уходите на юг, в Николаев или Одессу. Сохраните дубликат пленки. Слушаем вас непрерывно». Ответ гласил: «Кажется, обнаружил слежку. Выезжаю в Одессу. Жду указаний». И наконец, приказ центра: «Будьте готовы к переправе. Слушайте нас двадцатого августа и затем каждый следующий день в течение недели в 23 часа 10 минут. В эфир больше не выходите. Радиопередатчик спрячьте». …22 августа поздним вечером на даче под Москвой сидели полковник Марков, Павел и Михаил Тульев. Прощальная беседа подходила к концу. Перечитав еще раз радиограмму, в которой детально излагалось, как должна совершаться переброска Надежды за границу, Владимир Гаврилович сказал: — Ваши бывшие хозяева испугались, что связь с Кокой вас погубит. Вы опять обретаете ценность в их глазах. Ради этого мы трудились, и хорошо, что не напрасно. Владимир Гаврилович не упомянул, каким важным звеном в цепочке была роль Боркова-Кустова, о существовании которого Михаилу Тульеву знать было не обязательно. Но без этого звена вся операция контрразведчиков по разоблачению Антиквара и Коки выглядела бы для разведцентра непонятно и подозрительно. И вряд ли бы Тульева отозвали из СССР. За окном сверкнула зарница, потом послышался дальний гром, а может быть, это поезд прогрохотал по мосту — километрах в полутора от дачи проходила железная дорога. Полковник продолжал, обращаясь к Тульеву: — Ну что же. Кажется, мы обо всем договорились… Впрочем, если чувствуете хоть малейшую неуверенность, еще не поздно все повернуть, можно найти приличную отговорку. Вы и здесь будете полезны. Полковник сказал это только во имя одного: чтобы между ними не оставалось решительно ничего недоговоренного, никаких недомолвок. Михаил Тульев был взволнован и, как всегда в такие моменты, заговорил отрывисто. — Остаться сейчас — жить в долгу. Я слишком много задолжал России. Мне с ними надо расквитаться. — Месть будет вам плохим попутчиком. — Это не месть. Деловые соображения. Они сами когда-то учили меня этому. — В таком случае — прочь колебания. Вопросы и просьбы будут? — Нет, Владимир Гаврилович. С Павлом мы уже обо всем договорились, — ответил Тульев. — Можешь быть спокоен. Все будет исполнено, — откликнулся Павел. — Я знаю. И хочу, чтобы и вы были спокойны. Спасибо вам за все. — В таком случае у нас говорят: ни пуха, ни пера, — закончил полковник Марков.
Прошло несколько дней. Поезд увозил Михаила Тульева в Киев, когда посольство, в штате которого состоял Антиквар, получило от МИДа ноту. В ноте сообщалось, что атташе имярек, изобличенный в шпионской деятельности, направленной против Советского Союза, объявляется персоной нон грата и лишается права дальнейшего пребывания на территории нашей страны (в доказательство приводились факты: задания, дававшиеся завербованному им Николаю Николаевичу Казину, контакт с Кондратом Акуловым, попытка получить от него микропленку и пр.). Атташе предлагалось покинуть страну пребывания в 24 часа. Пробыв недолго в Киеве, Тульев выехал в Одессу.
Глава XXII ЧЕРНОЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Это был славный и веселый пароход, который, если быть точным, именовался турбоэлектроходом. И вез он в своих каютах и на своих трех палубах веселых, жизнерадостных людей — туристов из европейских стран. Там, у себя на родине, они отличались друг от друга профессией, доходами, партийной принадлежностью. Да и на пароходе существовали различия: кто-то обитал в роскошных каютах-люкс, а кто-то во втором и третьем классе. Но все-таки, сделавшись в одно прекрасное утро туристами, люди обрели некую общую черту, которая сразу сгладила и затушевала разобщавшие их в обыденной жизни социальные грани и трещины, — правда, лишь на время круиза. Черта эта чисто туристская — острое любопытство и интерес к новым краям. Да, вообще-то пароход был славный и веселый. Он совершал рейс вдоль берегов Черного моря. Он швартовался в Сухуми, Сочи, Ялте, спуская по трапу на солнечный берег яркую, пеструю, смеющуюся толпу своих трехсот пассажиров. Но к Одессе он подходил невеселым. Почему? Были две основные причины. Во-первых, в Ялте он задержался против расписания на десять часов по вине одной немолодой, но легкомысленной пары, которая, отправившись в Массандру, отдала такую щедрую дань великолепным марочным мускатам, что ее потом искали целую ночь. Это опоздание украло десять часов из срока, отпущенного на Одессу, а ведь в Одессе есть что посмотреть. Поэтому туристы были расстроены, а злополучная пара заперлась в своей каюте, пережидая, пока гнев собратьев остынет. Во-вторых, Одесса встречала пароход сильным дождем и неожиданным для этого времени года холодным ветром. А меж тем давно известно, что ни на кого дождь и прочие атмосферные невзгоды не действуют так удручающе, как на туристов. Пароход должен был ошвартоваться у пассажирского причала Одесского порта ранним утром, а ошвартовался вечером. Больше всех сокрушались те, кто рассчитывал попасть на спектакль в оперный театр, — представление там давно началось. Их досада не поддавалась описанию, но и у остальных настроение было не лучше. Наконец долгожданный миг настал: трап спущен, на борт поднялись офицер-пограничник с помощниками, карантинный инспектор и представитель «Интуриста». Опоздание, дождь, нетерпение туристов поневоле скомкали обычную процедуру, через которую проходят иностранные суда. Офицер-пограничник и два его помощника в широких плащах-накидках пристроились у трапа, повернувшись спиной к ветру, к косым струям дождя. Один из пограничников держал полированный ящичек, бережно укрывая его полой плаща. Сходили группами, и порядок был такой: старший группы предъявлял пограничникам список и сдавал паспорта. Пограничник складывал паспорта в ящичек. Затем мимо него к трапу проходили члены группы. Каждому пограничник вручал пропуск на берег, оставляя себе контрольный талон. В общем процедура довольно необременительная, если бы не эта проклятая погода… На причале туристов ждали комфортабельные автобусы, но, несмотря на дождь, большинство отказалось ими воспользоваться. Они попросили вести их к лестнице — к той самой лестнице, каждую ступень которой сделал знаменитой на весь мир эйзенштейновский «Броненосец «Потемкин». Но оставим двести девяносто девять пассажиров парохода на попечение гостеприимного города, а сами последуем за трехсотым туристом, который сразу же, едва его группа вышла на Дерибасовскую, откололся и незаметно исчез. Он интересен во многих отношениях. Во время путешествия он вел себя странно для туриста — сказался больным и лежал один в своей каюте в первом классе. Не сходил на берег, не прельщался танцами и хоровым пением, ни с кем не вступал в контакт, делая исключение лишь для старшего своей группы, с которым, судя по их отношениям, был давно знаком. Никто из пассажиров не мог бы описать его и вообще внешность хотя бы мало-мальски достоверно. Турист торопился и нервничал, потому что опаздывал. Его утешала мысль, что тот, кто ждет свидания, догадался справиться в морском порту о задержке парохода. Он никак не мог найти такси — не было свободных машин в этот дождливый вечер. В конце концов по совету прохожего сел в автобус и через полчаса приехал в аэропорт. В зале ожидания на первом этаже в низких темных креслах с изогнутыми металлическими подлокотниками сидели серьезные и унылые авиапассажиры: самолеты не выпускались. Обойдя зал и не обнаружив того, кто был ему нужен, турист по широкой пологой лестнице поднялся во второй ярус и, окинув взглядом двойной ряд кресел, стоявших спинками друг к другу, сразу увидел его. Лицо было хорошо ему знакомо и в фас и в профиль. Турист уверенно подошел к читавшему книгу человеку в спросил громко, не стесняясь сидящих поблизости: — Простите, вы не Уткина ждете? Тот поднял глаза. — Алексей Иванович? Очень рад. Я уж заждался. — Да я не виноват. Обстоятельства… Тульев встал с кресла. — Все равно спешить некуда. Идемте покурим… Они спустились вниз, в туалет. Зашли в кабину. Но здесь долго говорить было крайне неудобно: в гулком, выложенном кафелем подвале даже шорох был отчетливо слышен из конца в конец. Непрерывно входили и выходили люди. — Все спокойно? — шепотом спросил Тульев. — Да. Давай поменяемся одеждой. Поменялись костюмами и плащами. Затем Тульев дал своему партнеру билет до Москвы на рейс, который из-за непогоды откладывался на неопределенное время, а от него получил пропуск на туристский пароход. Затем они вышли из туалета и поднялись на второй этаж. Перед входом в ресторан был просторный холл, одна стена которого, стеклянная сверху донизу, глядела на перрон. Они остановились в углу и, прижавшись лбами к стеклу, будто стараясь рассмотреть мокнущие на бетоне самолеты, начали тихий разговор. — Почему задержался? — спросил Тульев. — Опоздали на десять часов. — Ладно, к делу. — Ты должен быть у входа в морской порт к одиннадцати. — Уткин посмотрел на свои часы. Это был советский хронометр «Спортивные». — Сейчас восемь, времени хватит. Подойдешь к старшему в группе. Вы друг друга знаете — это Виктор Круг. — Как же, приятели, — заметил Тульев. — Чем он тебе насолил? — Долго рассказывать. Что дальше? — Наша группа должна была посетить филатовский глазной институт, но из-за опоздания это отменили. Походят по городу, а потом должны ужинать в каком-то ресторане. Так что раньше одиннадцати они в порту не будут, можешь не спешить. — Уж больно мы с тобой на близнецов не похожи, — с иронией сказал Тульев. — Не беспокойся. Никто из этих горластых баранов на пароходе меня больше одного раза в лицо не видел. А на паспорте фото твое. Я ни разу на берег не сходил. И вообще сейчас, наверное, пограничники в паспорта не очень-то внимательно вглядываются — погода такая… — Как меня зовут? — Карл Шлехтер. — Кто я такой? — Художник из Гамбурга. — Подходяще. — Послушай, что тут у тебя произошло? — спросил Уткин. — Такую горячку пороли, гнали меня сюда, как на пожар. — Лишние вещи говоришь, — жестко осадил его Тульев. — Ты сюда надолго? — А это не лишнее? — Ладно. Квиты. — Где рация? — Подробный план у тебя в кармане. Там все описано. — Трудно здесь? — Узнаешь сам. Зачем тебя заранее пугать или, наоборот, успокаивать. Прыгнул в воду — плыви, а то утонешь… Скажи лучше, каков порядок прохода на судно. — Это просто. Сдаешь пограничнику пропуск, получаешь паспорт, и все. — Когда отваливает посудина? — В девять утра завтра. — В советские порты заходит? — Прямо на Босфор. Мы идем из Сухуми. — Хорошо. Помолчали. Тульев, плотно прикусив мундштук папиросы, смотрел на размытые дождем, похожие на обсосанные леденцы, разноцветные огни рулежных дорожек и взлетной полосы, редким пунктиром расчертившие раннюю темноту вечера. Уткин не мог уловить по его лицу, о чем он сейчас думает. Казалось бы, человек должен радоваться, а он словно окаменел. — Долго здесь пробыл? — спросил Уткин совсем тихо. — Три года. Уткин посмотрел на погасшую папиросу Тульева. — Давай мне твое курево — на пароходе советские папиросы тебе ни к чему. Тульев неожиданно улыбнулся. — Верно. А я и не подумал. Он вынул пачку «Казбека». Уткин закурил и сказал: — У меня в каюте есть американские сигареты. — Номер каюты какой? — Семнадцатая, по правому борту. Да Круг тебе покажет, он по соседству. Еще постояли молча, а затем Тульев резко повернулся. — Пора. Проводи меня вниз. У выхода они подождали, пока не пришел автобус из города. — Ну счастливо, — сказал Тульев… — Твой самолет будет, наверное, утром. Следи. Объявят рейс по радио. Или узнавай в справочном. — Счастливо, передавай привет нашим. Они пожали друг другу руки, и Тульев вышел под дождь. Уткин смотрел, как он быстро пересек полоску мокрого асфальта и прыжком вскочил в раскрытую дверь автобуса. Автобус тут же тронулся… Когда Тульев доехал до центра города, дождь прекратился, и на пустынных дотоле улицах как-то сразу стало оживленно, будто людям до смерти надоело сидеть в четырех стелах. Час он убил в кафе на Дерибасовской. Когда входил, посетителей можно было пересчитать по пальцам, выходить уже пришлось под присмотром швейцара, который стерег дверь, закрытую ввиду отсутствия мест. У кафе стояла длинная очередь. Тульев пешком отправился в порт. Дорогу спрашивать не было необходимости: до Приморского бульвара его довели пароходные разноголосые гудки, а там уж заблудиться невозможно. Было еще рано. Тульев остановился на бульваре у парапета и смотрел на раскинувшийся внизу целый город на воде, прислушиваясь, как ворочается и дышит вечный работяга-порт. Воды совсем не было видно. Суда самых разных назначений и очертаний — от невзрачного угольщика до белоснежного океанского лайнера — столпились в гавани бок о бок, будто сошлись на какую-то деловую встречу. И по гулу, витавшему над ним, можно было угадать, что здесь не собираются спать, что во всю ночь корабли не сомкнут глаз. Не хотелось уходить отсюда. Ночной порт вливал такую бодрость, что человеку, наглядевшемуся на него, казалось нелепым, что вот сейчас он пойдет и ляжет в кровать, чтобы уснуть скучным сухопутным сном. Человек впитывал всем существом своим густое дыхание порта, и у него слегка кружилась голова, словно ему дали глотнуть столетнего рома из фляги, которую пускали по кругу матросы пиратского парусника… Тульев спустился по лестнице, медленно подошел к воротам порта. Было без двадцати одиннадцать. Пришлось побродить, почитать расписания, объявления. В пять минут двенадцатого он издалека услышал громкий женский смех, шарканье ног. К воротам приближалась толпа туристов. По всему было видно, что они неплохо провели время. Тульев напряженно выглядывал в толпе Виктора Круга. Его не было, и Тульев испугался. Но вдруг донесся голос Круга — он крикнул по-немецки: — Подождите меня все у входа! А затем Тульев увидел его. Круг просто отстал, шел позади, как пастух за стадом. Так ему было удобнее заметить Тульева и показать себя. Тульев пристроился в хвост растянувшейся толпы, затем чуть отстал и, повернувшись вполоборота, ждал, когда Круг приблизится. — С нами бог, — шепнул он, поравнявшись с Тульевым. Он хотел дать понять, что волновался за Тульева. Но это получилось неубедительно. — С нами бог, — повторил Тульев. Он давно не говорил по-немецки и сейчас услышал себя словно со стороны, как будто тот человек, который полчаса назад стоял у парапета на бульваре, так там и остался и смотрит вслед человеку, удаляющемуся в чрево порта, чтобы сесть на пароход. — Все гладко? — спросил Круг. — До сих пор — да. Надо еще подняться на борт. — Это сойдет, не нервничай. — Я спокоен. Но глупо будет споткнуться на последнем метре. — Давай догоним их. Они прибавили шагу. К турбоэлектроходу, на белом боку которого, как сабля, висел трап, подошли веселой гурьбой. Тут же явились пограничники во главе с офицером. Они встали перед трапом. Круг взял список и начал вызывать туристов. Туристы по одному подходили, отдавали пограничникам пропуск, те сличали его с контрольным талоном, внимательно смотрели в паспорт и жестом показывали, что можно подниматься по трапу. Уже человек двадцать прошло через контроль, когда Круг произнес обычным своим бодрым голосом: — Шлехтер! Тульев обошел стоявших перед ним двух дам, протянул пограничникам пропуск. Взгляд на контрольный талон, взгляд в паспорт, быстрый взгляд в лицо. Все в порядке. Тульев ступил на борт. Хотелось курить, но папиросы были отданы Уткину, а уткинские сигареты в каюте. Разыскивать «свою» каюту, наводя справки у прислуги, было бы смешно. Он решил подождать невдалеке от трапа, пока не поднимется Круг.
ЭПИЛОГ
Через четыре месяца полковник Владимир Гаврилович Марков получил первое сообщение от Тульева, пришедшее в Москву далеким кружным путем. Дешифрованное и перепечатанное на машинке, оно занимало целых двадцать страниц. Марков отчеркнул красным карандашом то место, где Тульев писал о приеме, оказанном ему за границей, о своем теперешнем положении: «Встретить меня центр послал Виктора Круга. Это был рассчитанный жест, который сразу насторожил. Круг всегда был соперником и даже открытым врагом моего отца и, возлагая на него эту миссию, центр давал понять свое отношение ко мне. На полное доверие рассчитывать не приходилось. При первом же обстоятельном разговоре (еще на корабле) я спросил у Круга, что с отцом. Он сказал, что старик умер. С того момента я счел наиболее благоразумным не скрывать своей крайней неприязни к Кругу. Психологически это было правильно. После нескольких открытых стычек я заметил, что первоначальное его настроение по отношению ко мне начало изменяться. Налет подозрения постепенно исчезал. Шеф принял меня тотчас по прибытии. Присутствовал американец Себастьян. Длинной беседы не было. Шеф ограничился общими фразами о самочувствии, сказал, что рад меня видеть целым и невредимым. Себастьян молчал. Я передал им микропленку. Меня поселили рядом с резиденцией шефа. Три дня отдыхал. Затем пропустили через детектор. Набор вопросов свидетельствовал о том, что они испытывают насчет меня серьезные сомнения. Было несколько вопросов о Бекасе. Отвечал, как условились. Техника допроса мне хорошо известна. Думаю, что это испытание пошло в мой актив. На девятый день вызвал шеф к себе на квартиру. Это уже кое о чем говорило. У него опять сидел американец. Шеф сказал, что с микропленки сделаны отпечатки. Предварительный анализ показал, что, кажется, меня можно поздравить — материалы ценные. Только после этого возник вопрос об источнике информации. Сообщил согласно плану операции. Интерес к Бекасу сразу возрос. Действую в этом направлении. Когда американец ушел, мы с шефом выпили. Вспомнил о моем отце, много теплых слов говорил о нем. Потом начал ругать Себастьяна и его хозяев из ЦРУ. Говорил, что они грубы и неотесанны, но ссориться с ними невыгодно, потому что у них много денег. Затем речь пошла о моем пребывании в СССР. Еще будучи совершенно трезвым, шеф признался, что их аналитическая служба давно признала меня недостойным полного доверия, что здесь ходили обо мне самые противоречивые толки. Положение несколько изменилось, когда центр получил мою телеграмму, в которой я сообщил о ложности данных по объекту «Уран-5». Это почти восстановило мою репутацию, но только почти. Та радиограмма центра, которая предписывала мне приступить к операции «Уран-5», содержала заведомо неправильные координаты и была чисто проверочной. Я, таким образом, выдержал экзамен. Шеф в порыве откровенности без обиняков заявил, что в решении моей судьбы главную роль сыграл провал Казина и Антиквара. Не будь его, центр ни при каких обстоятельствах не решился бы отозвать меня из России. Далее шеф рассказал, что в провале Антиквара и Казина виноваты ротозеи (в том числе и Себастьян), которые, хотя и высказывали сомнение, но не раскусили вовремя некоего Владимира Боркова. Его подцепили в Брюсселе как будущего кандидата на вербовку, в Москве завербовали, а он оказался советским контрразведчикам. По этому поводу Себастьян, как говорил шеф, скрежетал зубами и называл агентов центра молокососами. Его, кажется, отзывают отсюда. Я осторожно высказал сомнение — разумно ли было подвергать риску Антиквара, посылая к нему на встречу Акулова, когда можно было подключить к этому делу более надежного человека. Шеф одобрительно отнесся к моим рассуждениям, заметив при этом, что они не от хорошей жизни вынуждены были поручить передачу моей микропленки Акулову. Больше было некому. На прощанье шеф сказал мне: «Благодари этого проклятого Боркова. Если бы не он, не сидеть бы тебе здесь и не пить этот великолепный коньяк». Из нашего разговора возникла вполне отчетливая схема, объяснившая мне ход событий, которые оказывали решающее влияние на умонастроение центра и заставляли его действовать так, а не иначе. Причем из недомолвок шефа я понял, что центр в данном случае отнесся к своим собственным ошибкам на редкость самокритично и намерен сделать из этого серьезные выводы. Итак, вот схема. Стечение обстоятельств вынудило центр свести меня с Казиным и через него с Антикваром. Казин и Антиквар завербовали Боркова — ошибка, как полагают в центре, из категории фатальных несчастий. Борков провалил Антиквара и Казина — естественный результат. Через Казина и Антиквара контрразведка должна выйти на меня. Так как я располагаю ценными сведениями и еще могу принести пользу, меня следует вызволять из беды. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что я имею теперь возможность время от времени пить коньяк в обществе своего шефа. Сейчас все складывается как нельзя лучше. Думаю, что меня пошлют, как мы с вами и договорились, в одно из разведывательных подразделений НАТО…» Владимир Гаврилович перечитал это место еще раз, захлопнул папку. Не все развивалось именно так, как было задумано, но в общем получилось неплохо.
РОСТИСЛАВ САМБУК Сокровища «Третьего Рейха»
ОТ АВТОРА
Более тридцати лет прошло после окончания второй мировой войны — срок не такой уж и малый, и кое–кто на Западе склонен забыть ужасающие преступления нацизма. В последнее время в газетах сообщалось, что ФРГ вступила в завершающую стадию борьбы вокруг вопроса о том, продолжать ли по истечении тридцати лет с момента образования западногерманского государства преследования за убийства, совершенные гитлеровскими нацистами и военными преступниками. Большинство оппозиционной консервативной группировки ХДС/ХСС считает, что следует «подвести черту под прошлым». Но нельзя забывать, что в соответствии с конвенцией ООН все военные преступления и преступления против человечества должны подлежать наказанию и впредь. Одним из отвратительных порождений «третьего рейха» стала организация СС. Начавши в двадцатых годах с нескольких сотен человек, СС, этот союз профессиональных головорезов и фашистских «аристократов», в конце 1944 года насчитывал более миллиона членов. Нацизм был неотъемлем от СС, и нацистский аппарат постепенно поглощался эсэсовской организацией. Гестапо и полиция находились в руках Гиммлера и его помощников, сначала Гейдриха, потом Кальтенбруннера, разведкой руководил Шелленберг, во главе партийного аппарата стоял эсэсовский генерал Борман. В армии войска СС уже с 1943 года составляли около половины танковых и танково–гренадерских дивизий — основной ударной силы вермахта. После разгрома гитлеровского рейха Нюрнбергский трибунал осудил СС как организацию преступную. Многие эсэсовские палачи были казнены и осуждены. Но скольким удалось избежать возмездия! Используя награбленные сокровища, спрятанные в тайниках и положенные в сейфы банков нейтральных стран, бывшие эсэсовцы начали возрождать неонацизм в Европе, создавать преступные организации и корпорации, которые широко использовали террор и насилие в борьбе со своими политическими противниками, не гнушались самыми грязными и преступными методами для личного обогащения. Чего стоят только последние сообщения прессы! Вот лишь два из них. Бывший врач Освенцима, кровавый преступник Иозеф Менгель стал специальным советником диктатора Парагвая Стресснера, помогает карателям в уничтожении индейских племен. Он возглавляет организацию «Шпине» («Паук»), в сопровождении четырех телохранителей появляется в столице Парагвая, имеет виллу в Сан–Антонио. Или такой факт. В марте 1979 года генеральная прокуратура ФРГ сообщила об аресте пятерых неонацистов по обвинению в подготовке террористического акта в отношении председателя СДПГ Вилли Брандта. А сколько неонацистских тайных складов оружия обнаружено в последнее время! А недавний взрыв телевизионной станции перед показом антифашистского фильма! Нет, не сидят сложа руки ушедшие от наказания гитлеровские преступники! Работая над этой книгой, автор ознакомился с многочисленными материалами, свидетельствующими о кровавых действиях бывших палачей в послевоенной Европе, об их смычке с мафией, гангстерами, политическими и финансовыми дельцами. В основу романа положены достоверные факты, хотя документальным назвать произведение, конечно, нельзя. В середине шестидесятых годов на страницах многих западноевропейских газет появились сообщения о преступной деятельности бывшего полковника ВВС США Кальвина Коллриджа Гранта, занимавшегося работорговлей. Одно время он был личным пилотом шейха Хижи Селаспи в Омане, поставлял ему в гарем девушек. Потом Грант познакомился с известной международной авантюристкой Кристиной Вест, имевшей в Танжере заведение, поставленное на широкую ногу, — «Белую виллу». Грант вывез для своей компаньонки три партии девушек из Западной Европы, и только случайно одной из них удалось выбросить письмо, в котором сообщалось о преступлениях американского полковника. Вообще торговля девушками приобрела в Европе характер хорошо поставленного бизнеса. «В одной только Франции ежегодно исчезает от 12 до 15 тысяч женщин, и полиция не находит никаких следов, которые позволили хотя бы начать розыски. Аналогичные цифры приводит в своих отчетах английская полиция. Можно предположить, что значительная часть этих женщин скрыта теперь под аравийской чадрой», — пишет в своей книге «Под аравийской чадрой» известный датский путешественник Иорген Бич. Естественно, что этим черным бизнесом занимаются хорошо организованные банды преступников. Одну из них возглавил гитлеровский преступник, бывший гауптман армии Роммеля, известный на Аравийском полуострове под именем Ибн–Мустафы. Этот голубоглазый капитан–работорговец устроил свой штаб в старой крепости высоко в горах Тибести. Весной 1966 года о его преступных действиях писала аденская газета «Эйдн кроникл». Документальную основу имеют в книге и главы, рассказывающие о продаже девушек в гаремы ближневосточных шейхов. Швейцарский еженедельник «Швейцер иллюстрирте» писал, что белые женщины в гаремах шейхов и султанов являются своего рода символом могущества и знатности шейха, визитной карточкой его богатства. Тем более нет ничего удивительного в том, что многие шейхи готовы платить за белую девушку до 12 тысяч фунтов стерлингов. «Торговля живым товаром, — заключает еженедельник, — по–прежнему продолжается. И корни ее гнездятся как в легкомыслии, так и в нищете». И совершенно правы авторы статьи в журнале «Молодой коммунист» Г.Еремин и И.Филатов (1967, № 1), уточняя, что корни этого бизнеса гнездятся в системе, которая дает возможность разным авантюристам творить свое грязное дело. Подобные факты стали обычным явлением в мире социальной несправедливости, разнузданной пропаганды наживы и низменных инстинктов, разлагающих души молодого поколения. Документальные данные положены и в основу второй и третьей частей романа, повествующих о розыске эсэсовских сокровищ, спрятанных в тайниках так называемой «Альпийской крепости» фюрера и хранящихся в сейфах швейцарских банков. Никто не знает, сколько сокровищ из припрятанных эсэсовскими бандами найдены, какие суммы сняты с зашифрованных счетов. Нам известно только, что уже через шесть лет после войны эсэсовские организации были совершенно легальны в ФРГ. И кто, как не они, возглавил неонацистское движение в стране? Во главе этого движения стали бывший эсэсовский генерал из личного штаба Гиммлера Мейнберг, бывший статс–секретарь Геббельса Науманн, нацистский военный диктатор Берлина в июле 1944 года Ремер и другие. Вот что писал Науманн фашистским функционерам: «Давайте работать неустанно, день за днем. Объединимся теснее, чем когда–либо, создадим тайное общество из нескольких сотен людей, и мы будем представлять силу, стоящую пока на заднем плане, но которая в свое время совершенно открыто выступит за претворение в жизнь идеалов, проповедуемых нами. Мы хотим этого, и мы развили далее идеи национал–социализма». Трудно откровеннее и циничнее высказаться! Борьба с рецидивами фашизма, о неофашизмом, с его преступной идеологией — дело всех честных людей мира. И автор надеется, что его книга найдет свое место в этой борьбе.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДЬЯВОЛЫ ИЗ «ВЕСЕЛОГО АДА»
Кельнер принес еще одну бутылку виски, привычным движением откупорил ее и наполнил рюмку. Сделал он это ловко, с любезной улыбкой, и все же Грейту показалось, что кельнер взглянул на него осуждающе. Возможно, он имел на это основание: даже в таких кабаках редко встретишь человека, который в одиночку так быстро напивался. Но какое дело этому замызганному немчуре, кто, сколько и как пьет? Грейт хотел было разозлиться, но лишь двинул резко на край стола переполненную пепельницу. Пил и курил сигарету за сигаретой, бросая окурки прямо на стол. Бар с громким названием «Веселый ад» был второразрядным. Раньше Грейт не позволил бы себе наведаться в такое сомнительное заведение, но сегодня оно вполне устраивало полковника: пусто, темно и тихо. Грейт выпил еще виски, захотелось воды, и он позвал кельнера, чтобы тот принес содовой. Кельнер проскользнул между столиками бесшумно и плавно, словно выполнял урок фигурного катания на льду. Ловко подкатился к соседнему столику, поставил бутылки и тарелки с закусками, стал передвигать фужеры. У Грейта пересохло в горле, он раздраженно смотрел, как возится кельнер; мог бы раньше принести ему сифон — минутное дело! — в порядочном ресторане никогда не заставили бы клиента ждать так долго. Впрочем, кельнер наверняка старался обслужить немца, белокурого розовощекого господина в шикарном светлом костюме… Вонючие немецкие свиньи! Осмелился бы кто–нибудь из них так обойтись с американцем два–три года назад? А теперь даже президент Соединенных Штатов заигрывает с ними. Эта мысль окончательно разозлила Грейта, он стукнул кулаком по столу и закричал: — Кельнер, содовой! — Несу… — поклонился тот издалека, однако не бросился с сифоном к столику Грейта сразу, а улыбнулся белокурому немцу и что–то тихо сказал ему, очевидно, оскорбительное для Грейта, поскольку немец громко и нагло засмеялся. Полковник вперил в него тяжелый взгляд, но розовощекий не смотрел в его сторону, что–то объяснял своей даме. Немец почему–то сразу не понравился Грейту. Мягкие и правильные черты лица и почти детская розоватость щек могли только подкупать, однако как раз именно это и раздражало полковника. Он вдруг почувствовал, что начинает пьянеть. Хотел еще раз позвать кельнера, но тот уже изгибался между столиками, держа сифон в услужливо протянутых руках. Гнев Грейта сразу утих, он лишь проворчал что–то, подставляя стакан под тугую струю содовой. Вода немного отрезвила его, и он снова налил из бутылки, но запах виски почему–то показался неприятным. Хотелось посидеть спокойно, но самодовольный шваб уже нарушил его душевное равновесие. «Это все нервы», — подумал он. Да, известие об отставке все же подкосило его, хотя Грейт давно готовился к этому. После того как он высказал генералу Блеккеру то, что думал о нем, Грейт ждал этого известия и свыкся с ним, мало того, пытался даже заблаговременно подготовить себе почву в Штатах, и все же какая–то боль засела в сердце. Сам факт, что он сидит в «Веселом аду» и дует виски, разве не свидетельствует о полной деградации полковника Кларенса Грейта? Грейт усмехнулся, налил содовой, но, подумав, добавил виски. Завтра сдает дела и после этого вылетит домой. Он соскучился по Штатам, и возвращение на родину в какой–то мере компенсирует его неприятности. Кроме того, будут деньги, чтобы открыть мастерскую по ремонту автомобилей или приобрести мотель. Сбудутся ли эти мечты? Можно, правда, наняться летчиком–испытателем — там неплохо платят, и полковника Кларенса Грейта взяли бы. Но мало кто из испытателей протягивает три–четыре года. Сколько его однополчан сгорели на «стар–файерах» и «боингах»? Мимо столика прошмыгнул кельнер, и те двое за спиной замолчали. Наверно, расплатились и собираются уходить… Внезапно Грейт почувствовал, что кто–то стоит у него за спиной, чьи–то глаза уставились в его затылок. Ощущение было такое, словно кто–то поднял кольт и держит палец на спусковом крючке. Если бы это случилось в Техасе, Грейт был бы уже под столом с выхваченным из кармана пистолетом, но здесь, в самом сердце Европы… Полковник притворился, что уронил спичку; медленно наклонился за ней, скосив глаза, увидел в двух шагах ноги в желтых ботинках. Он мог бы дотянуться до них, дернуть на себя так, чтобы человек пробил себе затылок о грязный пол, но, медленно выпрямившись, остался сидеть на стуле, лишь обернулся. Так и есть, розовощекий! Стоит усмехается, засунув руки в карманы пиджака. — Что надо? — У вас замечательная выдержка, полковник Грейт! — Что надо? — повторил, взявшись за спинку стула, Грейт. Розовощекий шагнул в сторону, вынул руки из карманов, подчеркивая этим миролюбие своих намерений, и учтиво поклонился. — Франц Хаген к вашим услугам. — Не нужны мне ваши услуги… — оборвал его полковник. Хаген не обратил на это внимания. Сел напротив Грейта, приветливо улыбаясь. Полковника злила и эта улыбка, и развязность его манер… Шрам на лбу Грейта побелел, что свидетельствовало о крайнем душевном возбуждении. — Мне не нравится, когда всякий лезет, куда его не просят… Я не потерплю!.. — На вашем месте я поступил бы так же, — перебил его Хаген. — Но жаль, у меня нет иного выхода, а дело важное, поэтому я позволил себе потревожить вас. Впрочем, я не отниму у вас много времени, и, если мои предложения не заинтересуют вас, можете прервать разговор.
Это было логично, и Грейт вынужден был оценить аргументы Хагена.
Тот сел против света, и полковник мог хорошо рассмотреть его. Первое впечатление оказалось ошибочным: немец был не таким уж юным. Молодил его розовый цвет щек, лицо же прорезали морщины, а глаза запали глубоко и выглядели усталыми, как у мужчины, который перешагнул сорокалетний рубеж.
— Какие могут быть предложения? Я не желаю слушать разные предложения… — пробормотал Грейт почти машинально. — Откуда вы знаете меня?
— Я знаю даже, на какой рейс у вас заказан билет в Нью–Йорк, — усмехнулся Хаген. — Мои друзья когда–то имели с вами дело… — Заметив, что полковник удивленно поднял брови, пояснил: — Ну запчасти для автомашин, горючее и некоторые другие мелочи… Мне рекомендовали вас как делового человека, а это в наше время наилучшая рекомендация.
Грейт иронично прищурил глаза. Он не любил краснобаев, а этот, кажется, болтун. Однако не остановил немца, и тот произнес негромко:
— Я хочу предложить весьма выгодный бизнес, зная вас как личность решительную, которая может не обращать внимания на моральную сторону дела…
— Что вам надо? — спросил Грейт.
— Ваш профессиональный опыт, ваша сила, ваш ум, — не раздумывая, ответил агент.
— Это не так уж мало!
— За все это вам платят мелочь, а я предлагаю тридцать тысяч долларов в месяц.
Грейт посмотрел на немца как на сумасшедшего. Жулик или шантажист? Но тот смотрел спокойно, даже снисходительно, и продолжал так, словно речь шла о мелочи:
— Впрочем, все зависит от вас, при должной оперативности и находчивости можно увеличить эту сумму…
Грейт откинулся на спинку стула и рассмеялся.
— Не делайте из меня дурака, как вас там!.. Я не люблю шуток.
Розовые щеки Хагена сделались совсем пунцовыми.
— Я предлагаю, а ваше дело — принять мое предложение либо отклонить. Естественно, наш разговор не для третьих ушей, в конце концов, беседуем мы без свидетелей, и вам трудно будет доказать что–либо. — Хаген налил виски в рюмки, сказал резко: — Я не сумасшедший и не собираюсь предлагать вам чистить сейфы городского банка. Для этого существуют, — он скривил губы, — более солидные корпорации. К тому же есть много способов менее рискованно зарабатывать деньги. Один из них я и хочу предложить вам…
Грейт ни словом не отреагировал на это.
— Завидую вашей выдержке, мистер Грейт, — бросил Хаген после паузы. — Это еще больше побуждает меня к сотрудничеству с вами. Предлагаю вам месте личного пилота шейха Хижи Селаспи…
— Не морочьте мне голову!.. — оборвал его Грейт. — Самый глупый шейх Востока научился уже считать деньги и знает, что за тридцать тысяч долларов он купит не одного пилота, а минимум десять.
— Пусть так, — согласился Хаген. — Но слушайте меня внимательно, — немец понизил голос и, наклонившись над столиком, поманил пальцем Грейта. — Вы представляете, полковник, сколько стоит в Аравии красивая европейская девушка?
— Нет.
— За двадцатилетнюю смазливую девчонку с хорошей фигурой да еще со средним образованием, — деловито продолжал Хаген, — можно получить не менее двенадцати тысяч фунтов. Красивые белые девушки в гареме считаются как бы символом могущества и знатности шейха, если хотите, его визитной карточкой.
— Лично я, — равнодушно произнес Грейт, — не дал бы за самую красивую блондинку и тридцати долларов.
— Когда речь идет о престиже, — вздохнул немец, — на Востоке платят бешеные деньги…
— Но я не вижу связи между вашим предложением и ценами на девушек…
— Неужели вы ничего не поняли? Я хотел сказать, Что обязанности личного пилота шейха состоят не только в управлении самолетом…
— Так, так, — начал понимать Грейт. — Стало быть, вербовка и доставка живого товара на Ближний Восток?
Хаген удовлетворенно потер руки:
— Вы недалеки от истины.
Грейт решительно отодвинул от себя рюмку:
— Но это же, насколько мне известно, преследуется законом?
— Игра стоит свеч, — сказал Хаген твердо. — Опытный белый солдат получает в Африке…
— Мне известно, сколько получает солдат в Африке, — перебил Грейт, — однако каждый считает деньги только лишь в собственном кармане…
— Вот именно, — подхватил Хаген и спросил: — Насколько я понял, вам пришлось по душе мое предложение? В общих чертах, так сказать.
Грейт не ответил, лишь пощелкал ногтем по рюмке.
— Значит, так, — принял его молчание за согласие Хаген, — я буду откровенным и познакомлю вас с характером деятельности нашей фирмы, если не будете протестовать против такого названия. Личный пилот Селаспи — чистой воды фикция. Я уже оплатил стоимость самолета шейха, но есть договоренность, что официально он и дальше будет принадлежать ему. Так удобнее — в нашем мире, разделенном многочисленными границами, это облегчит перелет из одной страны в другую и поможет быстро улаживать некоторые формальности. — Хаген на мгновение заколебался, но все же предложил: — Вы можете стать моим полноправным компаньоном, заплатив половину стоимости самолета. Если у вас нет сейчас свободных денег, я подожду. Два–три выгодных рейса окупят все затраты.
— Какой самолет? — коротко спросил Грейт.
— «Дуглас», двухмоторный.
— В каком состоянии?
— Техники уверяют, что лучше и не мечтать.
— Самолет здесь?
— К сожалению… — развел руками Хаген, — я вынужден был оставить его в Сицилии. Оттуда мы можем без особых трудностей переправить партию девушек.
— Неужели они сами хотят попасть в гаремы?
— Ну что вы! — даже удивился Хаген наивности Грейта. — Мы заключаем с ними контракт на какую–нибудь работу. Главное — быстро и бесшумно посадить их в самолет. Потом они в наших руках, и есть немало способов, чтобы взнуздать непокорных.
Грейту захотелось выплеснуть в лицо немцу остатки виски. Уже было поднял рюмку, но рука почему–то остановилась, он только переставил рюмку ближе к себе.
— А раньше вы с кем, э–э… работали?
Лицо Хагена затуманилось.
— У меня был чудесный компаньон. Ас! Сам Геринг любил и уважал его. Может, слыхали: Ганс фон Шомбург, подполковник, известный летчик–истребитель?
Грейт покачал головой, буркнул что–то невыразительное.
— Глупая смерть, — с сожалением сказал Хаген. — Купался в море, не рассчитал силы и утонул.
«И ты сейчас в безвыходном положении, — подумал Грейт. — Кто же тебе указал на меня?» Спросил совсем о другом:
— Вы тоже воевали против нас?
— Почти все мужчины Германии во время войны носили мундиры. Я, правда, непосредственно в боевых операциях не участвовал. Так, тыловая служба… Надеюсь, вы без предубеждения относитесь к людям, которые в прошлом служили в войсках СС?
— Попались бы вы мне сразу после войны!.. — сжал громадный кулак Грейт. — Но все проходит. Вы офицер?
— Гауптштурмфюрер СС! — ответил Хаген четко, и полковнику показалось: сейчас вытянется перед ним с поднятой рукой.
— Плевать! — внезапно выдохнул Грейт со злостью. — Наплевать на все! Выпьем, гауптштурмфюрер!
Однажды летчик, земляк Грейта, которого они освободили из плена, узнал одного из своих бывших палачей — эсэсовца из лагерной охраны. Они передали этого оберштурмфюрера в руки правосудия, но не прошло и полугода, как Грейт встретил его во франкфуртском ресторане. Подумал, что тот убежал. Позвал полицию, поднял шум и только опозорился: в комендатуре объяснили, что бывший эсэсовец оправдан судом и сейчас полноправный гражданин Западной Германии, владелец металлообрабатывающего завода и активно сотрудничает с американской администрацией…
Полковник пристально посмотрел на Хагена:
— Вы, наверно,до тонкости изучили это дело с юридической, так сказать, стороны. Не могли бы в общих чертах познакомить меня?
Хаген удобнее устроился на стуле и начал рассказывать:
— …На Аравийском полуострове в иных богатых княжествах и султанатах даже по сей день существует рабство. Да, сейчас, во второй половине двадцатого столетия! И рабы не только арабы–туземцы, но и французы, англичане, итальянки, шведки и немки… И их дети рабы. Рабов используют как секретарей, слуг, охранников, рабы работают на полях и нефтяных промыслах, на тайных копях, где добывают золото, неучтенные залежи которого составляют один из источников доходов аравийских набобов. И естественно, много рабынь в гаремах.
Хаген будто бы слышал о таком случае: один из правителей богатой арабской страны заболел и отправился лечиться в Вену. Когда здоровье его величества немного поправилось, он снял один из самых фешенебельных отелей города и выписал более ста своих наложниц. Вся Вена, говорят, бегала смотреть на них. Но человек, ездящий на «роллс–ройсе» с подвеской, все детали которой сделаны из золота, может позволить себе и не такое. Что ему стоит заплатить несколько тысяч за понравившуюся девушку!
— А впрочем, это, лирическое отступление. — Хаген пересел на стул, стоящий рядом со стулом Грейта, фамильярно похлопал полковника по руке. — Вот так–то, мой дорогой полковник, даже вашим миллиардерам не снилась такая жизнь. Извините, снова отошел от сути. О чем же шла речь? О живом товаре? Вы ошибаетесь, полковник, если думаете, что мы с вами уникальная фирма. Агенты аравийских рабовладельцев, разыскивая красивых девчонок для гаремов, разъезжают не только по странам Африки, Среднего и Ближнего Востока. Вы, наверное, не слыхали, да и откуда вам знать, что каждый год в Европе исчезает много девушек, в том числе и пятнадцатилетних. И ни одному полицейскому еще не удалось напасть на их след.
Хаген рассказал о том, что начались нежелательные разговоры в специальных комиссиях ООН, дошло до того, что некоторые наиболее активные парламентарии сделали запрос своим правительствам. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Женеве была созвана конференция, на которой обсуждались вопросы, связанные с торговлей рабами. Больше пятидесяти государств приняли участие в работе конференции. Франция и Англия предложили принять конвенцию, по которой перевозка рабов морем расценивалась бы как морской разбой, а суда, заподозренные в этом преступлении, предлагалось задерживать и тщательно обыскивать. Слава богу, нашлись у шейхов влиятельные защитники. Соединенные Штаты Америки так и не высказались по этому вопросу. Все знали почему; США не хотели портить отношения с королем Саудовской Аравии, поскольку у них была военная база в Дахране. А интересы американских нефтяных монополий в Аравии? Это тоже нужно было иметь в виду. И конференция приняла довольно невыразительную, расплывчатую декларацию: «Рабство — постыдное явление».
— Это коротко история вопроса, если позволите, — сказал Хаген. — С того времени многое переменилось, и вывозить наш товар теперь опаснее. Хотя, — подмигнул, — нет худа без добра: цены на девчонок значительно выросли.
— Сколько вы делаете рейсов в год? — спросил полковник. — В среднем?
— Не делите шкуру неубитого медведя! — засмеялся, поняв его, Хаген. — Обыкновенная арифметика здесь неуместна.
— Я должен взвесить все, — заупрямился Грейт, — я хотел бы хоть приблизительно прикинуть…
— На один рейс уходит не меньше трех месяцев, — не дал ему закончить Хаген. — Самолет возьмет до пятнадцати девушек. Включите накладные расходы, полковник, которые составят приблизительно двадцать процентов…
— А если увеличить число рейсов?
Немец улыбнулся:
— У вас железная хватка! Мой предыдущий компаньон при всех его положительных качествах немного ленился, а с вами, вижу, мы найдем общий язык. Честно говоря, не так уж приятно все время оглядываться назад, мне хочется скорее обеспечить свою семью и пожить, ни о чем не думая.
— У вас есть семья?
— Жена и сын, — не без гордости сообщил Хаген, — сын закончил университет.
— Прекрасно, — без энтузиазма одобрил Грейт. — Вы верите в бога?
— Какое это имеет значение? — уклонился Хаген от ответа. — Я жду вашего решения…
— Я должен подумать, мистер Хаген, вы получите ответ завтра.
— Хорошо, — согласился немец, — но я вынужден предупредить вас, что этот разговор…
— Вы имеете дело с джентльменом!
— Я позвоню вам.
— Мой телефон…
— Я знаю номер.
— Поразительная осведомленность!
— С таким предложением я не мог обратиться к первому встречному.
— А если я сообщу в полицию?
— Ну и что? — пожал плечами Хаген. — Вы не знаете даже моего настоящего имени, и в полиции только посмеются над вами.
— А вы осторожный человек.
— Возможно, вам тоже придется привыкать к этому. — Хаген поднялся. — Если не возражаете, я позвоню в пять…
Кельнер, поймав его взгляд, метнулся между столиками. Грейт тоже сразу расплатился, вышел из «Веселого ада», но домой не поехал. Долго бродил по франкфуртским улицам. Вокруг струился поток — смеялись, разговаривали люди, а Грейт шел и не видел всего этого, останавливался на перекрестках, извинялся, нечаянно толкнув кого–нибудь, и, казалось, это не он шествует мимо блестящих витрин, во всяком случае, не тот полковник Кларенс Грейт, каким он был еще несколько часов назад: стыдился самого себя, невольно морщился, последними словами ругал розовощекого немца. Считал себя подонком и даже сжимал от гнева кулаки, но все же знал, наверняка знал (хотя и давал себе торжественную клятву послать завтра Хагена ко всем чертям), что согласится, что, по сути, уже согласился и лишь выторговал для себя небольшую отсрочку. Эти тридцать, сорок, пятьдесят тысяч долларов не давали ему покоя, превращались в триста, пятьсот тысяч, маячили миллионом — целым миллионом!
Дома Грейт выдвинул ящик письменного стола, перебрал бумаги, сжег ненужные. Спать не хотелось, сидел и курил, пересматривая фотографии в толстом кожаном альбоме. В основном фронтовые друзья: сколько пережито с ними!
Капитан Ричард Эмори возле своего «либерейтора». Улыбается и не знает, что уже не вернется на аэродром. Его сбили немецкие истребители над Нормандией; Ричард так и не успел сбросить бомбы, его «либерейтор» врезался в землю и взорвался — от Эмори не осталось даже горстки пепла.
А вот лейтенант Джон Тодд — этого фашисты сбивали дважды, но лейтенанту везло: один раз дотянул до передовой и выбросился на парашюте, второй — несколько дней плутал по прифронтовой зоне, скрываясь от немецких патрулей, пока не добрался до своих. Счастливчик этот Тодд: уже давно в Штатах, женился, работает в какой–то фирме. Вначале писал, но время рвет самые крепкие связи.
От этой мысли сделалось грустно. Тогда, особенно во время дружеских вечеринок, они обещали беречь фронтовую дружбу. Что осталось от этих клятв? Приятные воспоминания и легкий налет грусти…
Особенно много фотографий майора Райли Дэймса. Когда–то они учились вместе, потом и служили. Во время налета на Пенемюнде Дэймса сбили. Он попал в концлагерь, откуда англичане освободили его уже в конце войны.
Грейт вспомнил, как впервые увидел Райли: вернулся после вылета и брел тропинкой, вытоптанной парнями, к столовой. Райли шел навстречу, и Грейт вначале не узнал его — худой, кожа на лице желтая и дряблая, только глаза светятся…
Вспомнив эту встречу, полковник раздраженно швырнул альбом. Он еще не уяснил причину своего раздражения, но смотреть на Райли было неловко и тоскливо, словно тот упрекал Грейта. А может, это просто показалось полковнику и было результатом нервного напряжения, в котором он пребывал последние дни?
И все же чувство неловкости не исчезало, и это продолжало раздражать Грейта, будто он провинился перед кем–то и вынужден оправдываться. В глубине души он знал, что именно раздражает его, но не давал этой мысли разрастись, отбрасывал ее, настраиваясь на веселый лад. Даже начал мурлыкать песенку из оперетты. Но лицо Райли — желтое и сморщенное — стояло перед глазами как живой укор, а рядом с ним розовощекое, самодовольное лицо немца.
Что бы сказал ему сейчас Райли?
Предатель!
Грейт разделся и залез под одеяло. Спать, только спать. Прочь мысли! Вспомнил молитву, которую ежедневно творил дед. День их семьи всегда начинался с молитвы.
Вдруг он отчетливо увидел своего деда. Старик стоял в конце длинного стола, торжественный, в черном сюртуке, и сердито смотрел на Грейта. Протянул руку, ткнул в него пальцем, сказал твердо и безжалостно: «Предатель!»
Грейт почувствовал себя мальчишечкой, потупился, хотел оправдаться, но не нашел слов. Только смотрел в глаза деда не мигая, и тот не выдержал, отвел взгляд. Эта маленькая победа не принесла Грейту удовлетворения, наоборот, еще больше растравила его. Воспоминания о родном доме всегда приносили ему боль и стыд, и щека начинала дергаться, словно от только что полученной оплеухи.
В двенадцать лет жизнь казалась Кларенсу Грейту исполненной удивительного смысла и гармонии. Кроме него, в семье не было детей, и Кларенс ни с кем не делил материнскую ласку и отцовское внимание. Отец и дед его были квакерами, семья Грейтов жила скромно, носила строгого покроя костюмы, вставала с молитвою и заканчивала день хвалою господу. Дед Кларенса еще пахал землю, а отец приобрел магазин в городе, и соседи первыми снимали перед ним шляпы. Это радовало Кларенса, хотя дед постоянно втолковывал ему, что земные хлопоты мимолетные и являются лишь шагом к жизни вечной, но эта вечная жизнь казалась каким–то маревом, а реальность — друг Джек, предстоящая рыбалка на озере, фокстерьер, которого подарили ему в день рождения…
Кларенс твердо верил, что бог слышит его и давно присматривается к нему. Все это делало в детстве Грейта немного непохожим на ровесников: он редко участвовал в школьных проказах, старательно учился, глядел учителям в глаза, что вызывало насмешки одноклассников.
У Грейта был всего лишь один друг. Джек жил по соседству, он учился классом старше, его родители были тоже квакерами, и Кларенс, лишенный детской дружбы, тянулся к Джеку, признавая его авторитет почти во всем.
В тот день Кларенс, как всегда после школы, отодвинул доску в заборе, разделявшем их усадьбы, позвал фокстерьера и тихонько свистнул. Как правило, Джек свистел в ответ — он мог быть где–то рядом, в своем саду или во дворе, помогая отцу справляться по хозяйству. Кларенс свистнул еще раз, но так и не получил ответа, пошел через смородиновые кусты к дому. И сразу чуть не натолкнулся на Джека.
— Я звал тебя… — и осекся, встретившись с взглядом Джека.
Таким злым он видел друга впервые: Кларенс успел подумать, как это неприятно, когда тебя так буравят глаза. Он сделал шаг к товарищу и повторил:
— Я звал тебя, Джек. А ты, наверное, не слышал…
Он все еще не верил, что Джек вот так может смотреть на него, и был уверен, что тот улыбнется, как всегда, и они пойдут на озеро. Даже вынул из кармана металлическую коробочку из–под конфет, потряс ею.
— Вот, — сказал дружелюбно Кларенс, — утром я накопал червяков…
Джек шагнул вперед. Кларенсу показалось, что тот заинтересовался червяками, и протянул коробочку, но Джек внезапно размахнулся и ударил его по щеке. Это было невероятно и так неожиданно! Кларенс даже не отшатнулся, а только уронил коробочку, и она, раскрывшись, покатилась по дорожке.
— За что? — спросил он друга.
— И ты еще спрашиваешь! — с ненавистью выкрикнул Джек. — Вон отсюда! И если я еще раз увижу твой поганый нос…
Он подступил к Кларенсу, фокстерьер оскалился и зарычал.
— Святоша подлый!.. — процедил сквозь зубы Джек. — И все вы такие!.. — Он повернулся и пошел сквозь смородиновые кусты. Кларенс хотел догнать его, но сдержался и только спросил:
— Что случилось, Джек?
Мальчик остановился.
— Что случилось? Спроси у своего папочки… — И исчез за кустами.
Кларенс стоял и смотрел, как извиваются на желтом песке красные черви. «Спроси у папочки…» Но ведь его отец всегда жил в согласии с отцом Джека: они вместе ходили в молитвенный дом, и Кларенс знал, что отец Джека когда–то помог Грейтам стать на ноги.
Кларенс поднял доску и пролез в свою усадьбу.
Отец появился вместе с дедом перед самым ужином. Кларенс выбежал им навстречу, но отец, всегда ласковый с сыном, приказал:
— Оставь нас, сынок…
Наверно, они поссорились, потому что дед раскраснелся, а у отца был виноватый вид.
Дед не вышел к ужину, сидели за столом втроем — отец, мать и Кларенс. Перед ужином дед всегда читал молитву, а сегодня его заменил отец.
Во время ужина отец вел с матерью нудный разговор о хозяйстве, Кларенсу так и не удалось спросить о Джеке. Однако отец догадался, в чем дело, он всегда читал его мысли. Поужинав, сам спросил, что случилось. Услышав рассказ Кларенса, рассердился:
— Не обращай внимания! Это дьявол вселился в Джека. — Немного подумав, счел необходимым пояснить: — Я вынужден был приобрести их магазин. Понимаешь, его все равно кто–нибудь купил бы, так почему не мы?
Кларенс почувствовал неуверенность в словах отца, какое–то заискивание, хотел расспросить, почему соседи продали магазин, но отец быстро встал и поднялся на второй этаж, в библиотеку, где по вечерам имел привычку писать письма. Спустя несколько минут послышались голоса: Кларенс понял, что отец разговаривает с дедом. Он тихо поднялся на второй этаж, любопытство взяло верх, и Кларенс стал за дверью и вытянул шею, чтобы лучше слышать, о чем беседуют взрослые.
Дед говорил разгневанно:
— Вместо того чтобы протянуть ему руку помощи, ты добил его…
— Не все ли равно, кто купил бы магазин?
— Оставь! Не лицемерь хоть сам перед собой! Можно было поручиться, чтобы векселя его не опротестовали…
— Наша фирма не занимается благотворительностью…
— Кто помог тебе приобрести наш магазин?
— Стивенсон тогда заработал на этом.
— Не ври хоть мне! — закричал дед. — Ты опутал Стивенсона как паук, ты заманил его перспективой больших денег и быстро затянул петлю, когда он сунул туда голову. Хотя бы подумал, что он твой сосед, твой ближний и твой христианский долг не топить, а вытащить его…
…Грейт потянулся в кровати, сон не проходил, и он подумал, что, может, это не снится ему, но дед стоял точно живой, можно было дотронуться до старика, погладить по лицу. Полковник протянул руку, хотел что–то сказать, но пропал голос. А дед уже не смотрел на него, лицо его скривила гримаса боли, он схватился за сердце и выкрикнул с отчаянием:
— Иуда!
Это словно хлестнуло Грейта, обожгло, он заметался в кровати.
Утром, как ни пытался, не мог связать воедино отдельные картины ночного видения. Что–то мелькало перед глазами, и было мерзкое чувство, будто тебя побили. Потом подумал, что все это сущий вздор и не следует забивать себе голову сентиментальными пустяками. Все идеи и переживания не стоят десятидолларовой бумажки. Именно эта бумажка правит миром.
Грейт соскочил с кровати.
К чертям все! Не стоит обращать внимания на глупости.
***
Грейт говорил лениво, поскольку надо же было перемолвиться хотя бы словом с человеком, который полдня качался в гамаке рядом с тобой.
— Десять долларов за бутылку холодного пива…
Хаген не отозвался: продолжал качаться, словно и не слышал полковника.
Грейт обозлился и хотел швырнуть в немца пустую бутылку из–под какой–то здешней сладковатой бурды, да поленился поднять руку. Хватит! Не хочет поддерживать разговор, и не надо. Чуть пошевелился, удобнее укладываясь, но злость пересилила. Сел и сказал резко:
— Вы слышите меня, Франц?
Теперь он уже точно знал, кто его компаньон. Хаген — это одно из вымышленных прозвищ, на самом же деле Франц Ангел, гауптштурмфюрер СС, бывший комендант одного из концлагерей где–то там, на Востоке, в Польше или в Западной Украине. Сам Ангел признался ему не без гордости, что в коммунистических странах дали бы немало, чтобы напасть на его след, однако полковник лишь пожал плечами: не все ли равно Грейту, болтается гауптштурмфюрер на веревке или занимается торговлей в аравийских пустынях?
— Вы же знаете, Кларенс, — Ангел сел в гамаке. — Последнюю бутылку пива выпили позавчера. А здесь его не достанешь и за сотню…
— Проклятая страна!.. Скоро и денег не захочешь!..
Полковник покривил душою. Успех первого рейса окрылил его, и сейчас он агитировал Ангела скорее вернуться в Европу за очередной партией девушек. Но немец был осторожным, он полагал, что не следует мозолить глаза агентам Интерпола*["3], и они уже почти месяц поджаривались в небольшом селении на побережье Персидского залива вблизи Абу–Даби. Сняли приличную виллу с садом и целыми днями валялись в тени, спасаясь от неимоверной пятидесятиградусной жары.
— Вылетаем через три–четыре дня, — вдруг сообщил Ангел.
Грейт даже вскочил от неожиданности.
— У вас семь пятниц на неделе.
— Нет, просто утром я получил письмо. Следовало подумать, прежде чем решать.
— Выгодное предложение?
— Есть заказ для Танжера, — объяснил Ангел. — Там у меня старые связи с владельцами ночных кабаре. Платят, правда, меньше, но зато без мороки. За месяц обернемся.
Полковник лежал, уставив глаза в небо. Равнодушно следил за скоростным истребителем, который прорезал голубизну. Впервые увидев белый след в этом безоблачном просторе, удивился: сотни километров пустынь, убогие хижины туземцев, караван верблюдов — и самые современные реактивные истребители? Неужели шейхи и султаны имеют военную авиацию? Хотел было спросить у Ангела, но кстати вспомнил о военной базе своих соотечественников в Дархане.
Теперь Грейт знал, что американские и английские самолеты поднимаются также с аэродромов, размещенных возле Аш–Шарджа, Низви, на островах Бахрейн. Нефть требует охраны, и шейхи должны знать, кто защищает их независимость…
Полковник вспомнил первую встречу с одним из шейхов. Этот шейх держался как настоящий властелин. Он посмотрел на Грейта презрительно, и полковник с удовольствием подумал, что в южных штатах этого черномазого только за один такой взгляд белые американцы довесили бы на первом суку.
Шейх сказал что–то одному из советников.
— Их высочество, — перевел тот, — предупреждает, что его интересуют только красивые и молодые девушки, ибо его гарем самый большой и самый лучший на всем побережье Персидского залива.
Ангел, склонившись в почтительном поклоне, ответил:
— Я знаю вкусы их высочества и привез для него самых лучших девушек Европы. Розы Сицилии — красивейшие женщины чудесного острова, славящегося женской красотой. Покажи ему Веронику, — шепнул Грейту.
Полковник растерялся. Вероника была самой невзрачной из этой партии, но бесцеремонной и наглой. Когда Ангел объяснил, зачем их привезли на Ближний Восток, она первая поняла, что плакать бесполезно и ее судьба во многом зависит от нее самой.
Шейх предложил за Веронику крупную сумму.
Потом шейху показали Джулию. И эта была, по мысли Грейта, из второсортных: худенькая, в чем только душа держалась. Тогда в Сицилии, когда она впервые появилась у них в конторе, он посмотрел на нее пренебрежительно и хотел сразу отослать, но Ангел не согласился.
— Экземпляр на любителя, — пояснил потом. — За такого волчонка можно взять больше, чем за кралю типа Брижит Бардо.
Действительно, Джулия чем–то напоминала волчонка. Глаза блестящие, отдают синевой, смотрит серьезно, постоянно злится на всех, зубки мелкие, беленькие, острые, зазеваешься — укусит. Другие девушки, узнав, куда их везут, плакали и причитали, а эта забилась в угол и поблескивала волчьими глазами. Хотела выброситься из самолета.
— Ха–ха! — смеялся тогда Ангел. — Ты у меня пойдешь первым сортом. Таких, как ты, в гареме утихомирят за неделю.
Только тогда Джулия не выдержала и заплакала. Кусала себе руки, билась головой о борт так, что пришлось связать. Пока помощник Ангела Густав — туповатый, с бычьим затылком ротенфюрер из бывшей лагерной охраны — успокаивал ее, успела до крови расцарапать себе лицо, хотела изуродовать себя. Когда уже лежала связанная, Ангел подсел к ней и объяснил, что ничего ей не поможет, просто продадут в служанки, о возвращении в Европу не может быть и речи.
Грейт вел самолет и ничего этого не видел, однако Франц рассказал после, что проклятая девчонка не слушала его и кусала до крови губы. Все вспоминала мать и сестер, которым обещала высылать деньги.
Ангел был прав: шейху Джулия понравилась. Смотрела гордо, и только теперь Грейт понял всю привлекательность девушки. Что–то похожее на жалость шевельнулось у него в душе.
Однажды, хватив лишнего, Грейт поделился с Ангелом своими мыслями о Джулии; Франц не сразу понял, кого полковник имеет в виду, а потом стал подтрунивать нал компаньоном, обвиняя его в сентиментальности. Полковник знал, что он никогда не был сентиментальным, просто ему нравились личности сильные и независимые, сам считал себя таким, поэтому и запомнил эту девушку.
Может, все–таки не следовало продавать Джулию? Тем более что «конкурс красавиц», как назвали они свою авантюру в Сицилии, прошел у них более или менее успешно.
Они приехали в небольшой городок Трапани под видом столичных негоциантов. На следующий день Ангел поместил в местной газете краткое объявление: «Представитель большого магазина женской одежды в Риме приглашает девушек Трапани на работу манекенщицами. Условие: отличная фигура и внешность, не старше 24 лет, среднее образование».
Утром они пришли в контору, снятую накануне, увидели десятков шесть девушек, которые штурмовали их полдня: все хотели получить работу. Грейт и Ангел выбрали пятнадцать самых красивых, и на следующий день с сиракузского аэродрома поднялся самолет, пилотируемый бывшим полковником американской армии Кларенсом Грейтом…
— Куда летим? — после долгого молчания спросил Грейт Ангела.
— Во Францию.
— Оттуда до Танжера рукой подать, — одобрил Грейт.
— Славная штука самолет…
Грейт только пожал плечами: не привык слышать прописные истины из уст Франца. Однако он бы не удивился, если бы проследил за ходом мысли немца. Несколько лет назад Ангелу приходилось переправлять свой живой товар по только ему одному известным караванным путям, через пустыни Северной Африки и далее на шхунах через Красное море. На путь, который сейчас измеряется часами, затрачивались недели, не говоря уже об опасности.
Ангел зябко пожал плечами, вспомнив, как однажды их шхуну встретил египетский сторожевик. Слава богу, его заметили сразу, как только он появился на горизонте.
Ангел знал, что по существующему международному праву их могут обвинить в работорговле только в том случае, если застукают вместе с живым товаром. Поэтому он долго не раздумывал. Хорошо, что подготовились они заранее. «Козочек», как любил называть девушек Ангел, по очереди поднимали на палубу, быстро, без лишней суеты заталкивали в специально приготовленные для этой цели мешки с камнями и бросали за борт. Когда сторожевик приблизился к шхуне, рулевой беззаботно вертел штурвал, двое матросов резались в карты, а пассажиры — Ангел и Густав — болтались без дела на палубе, с интересом наблюдая за маневрами военного египетского судна.
По первому требованию сторожевика шхуна легла в дрейф.
Ангел, растянувшись на складной кровати под тентом на юте, с отвращением смотрел за действиями египетских моряков. Они были ему глубоко антипатичны — смуглые парни с длинными арабскими носами. Без году неделя как получили независимость, а поднялись на шхуну как хозяева. Они поставили на палубе часового, а сами стали шарить по трюмам. Ищите, ищите, вам не найти ни одной улики.
Ангел вспомнил, как визжала и кусалась девушка, которой он немного симпатизировал, — официантка из Бордо Лиана. Она сразу догадалась, для чего ей заломили назад руки, для чего двое матросов держат длинный как матрац мешок, и умоляла Ангела:
— Мосье, дорогой мосье Франц! Не топите меня! Я так хочу жить… Не топите меня, дорогой мосье, я согласна на все, никто не услышит от меня ни одного слова, дорогой, добрый мосье!..
Ангелу самому не хотелось топить ее, за девушку можно было получить большие деньги, но он не имел права рисковать. Завязывая мешок, слышал еще:
— Мосье, мой добрый мосье… — И потом, когда ее уже несли к борту, вдруг: — Чудовище, выродок, проклинаю тебя!.. Прок…
За бортом булькнуло, Ангел сразу забыл Лиану, ее умоляющий взгляд и последнее проклятие. Как забывал всегда все неприятное, когда носил черный мундир и фуражку с черепом…
***
Все, что ему ни поручали, Ангел делал старательно, и эсэсовское начальство всегда оставалось довольно гауптштурмфюрером. Поэтому, наверно, и доверило сооружение секретного объекта в Польше, дав в его распоряжение целую строительную команду и неограниченное число военнопленных.
И все же Ангелу было трудно: не хватало строительных материалов, колючей проволоки, электроэнергии, машин. Не хватало всего, кроме пленных, но пользы от них было мало — мерли как мухи, а гауптштурмфюрер спешил и выжимал из них все возможное и даже невозможное. На этом строительстве другой сломал бы себе голову, а вот Ангел сумел закончить его в срок.
Принимала объект комиссия из Берлина во главе с группенфюрером СС. Моложавый, ненамного старше Ангела, любимчик самого Гиммлера, он бегло осмотрел бараки, поинтересовался системой охраны, надежностью проволочной ограды, особое внимание обратил на газовые камеры и крематории. Долго расспрашивал Ангела, что–то подсчитывал и сказал:
— Учтите, уже сейчас нужно начать работы по расширению объекта. Рассчитываем на вашу энергию и инициативу. Я доложу рейхсфюреру СС о вашем усердии.
Ангел не подвел группенфюрера. За три года, когда он был комендантом, лагерь вырос почти вдвое, а высокие трубы крематориев день и ночь выбрасывали густой черный дым.
Коттеджи офицеров СС, подчиненных Ангелу, стояли почти напротив главных ворот, над которыми гауптштурмфюрер приказал вывести готической вязью: «Труд делает свободным». Однако сам комендант не захотел жить так близко от колючей проволоки, и его семья разместилась в особняке за полкилометра от лагеря — небольшой лесок закрывал от глаз и дым, и сторожевые вышки, которые, считал Ангел, портили окружающий пейзаж. Дома Ангел забывал о заботах коменданта, здесь ничего не напоминало о крематориях, здесь он выращивал цветы и овощи, здесь у него родился сын, названный в честь деда Карлом.
Гауптштурмфюрер любил свой дом и заботился о нем. Он провел для себя условную черту, которая разделяла его жизнь на две части: ту, что связана с присмотром за тысячами людей, отправкой их в газовые камеры, и другую, где он отдыхал, — коттедж со светлыми, просторными комнатами, красивая любящая жена, здоровый сын, цветник перед домом и огород за ним, двое–трое друзей, карты и шахматы по вечерам, иногда поездки в Варшаву или Берлин.
Почти никогда, как бы ни опаздывал, Ангел не пользовался служебной машиной — ходил на работу и с работы пешком, считая эти моционы полезными для здоровья. Возвращаясь из лагеря, успевая забыть обо всем, что оставалось там, за лесом, в лагере, снимая в передней мундир, как бы становился добропорядочным; дескать, то, что за проволокой, вынужденное и временное — пока идет война, а человек, становящийся во время войны солдатом, выполняет приказы начальства.
«Так надо, это необходимо фюреру и рейху!» Это убеждение Ангел пытался привить подчиненным.
И все же, как он ни старался дома отгородиться от того, что было там, за лесом, сделать это ему не удавалось. Оно постоянно напоминало о себе, нарушая покой и установленный распорядок. Черный дым, стлавшийся низко над землей, когда ветер дул на запад, проникал через лес, обволакивая виллу и оставляя следы копоти на подоконниках, — даже розы и гвоздики не могли заглушить его тяжелый запах.
Хуже всего было то, что иногда Францу снились кошмарные сны. Да и не только сны: лагерные сцены стояли перед глазами.
Такие, как сегодня. Он видел большие испуганные детские глаза, без слез, сухие, полные страха и надежды. Этот мальчик, наверно, знал, что его ждет, осознай черту между жизнью и смертью, не хотел умирать…
Ангел шел к лесу, замедляя шаг, надеясь, что природа, как всегда, успокоит его, освободит от неприятных воспоминаний.
Вот уже и ручей, делящий лес наполовину. Через него перекинута доска, прогибающаяся под грузным телом гауптштурмфюрера. Сколько раз ему предлагали построить здесь мостик, но Ангел привык к доске. Ангел всегда останавливался на середине доски, ощущая, как пружинит она под ногами.
Сегодня Ангел задержался над ручейком дольше обычного, покачался на доске, но облегчение не пришло, и испуганные детские глаза не исчезали из памяти.
Гауптштурмфюрер прыгнул на тот берег, остановился и снова вспомнил всю сцену. Сегодня прибыл эшелон с женщинами и детьми, кажется, из Сербии, во всяком случае, с Балкан. В это время проводилась так называемая селекция. Со взрослыми было ясно: у эсэсовцев большой опыт, и они еще издалека определяли, кому налево, а кому направо, в газовую камеру. А для детей на высоте метра двадцати сантиметров над землей устанавливали планку: кто проходил под ней свободно, шел направо, в газовую камеру.
Этот, с испуганными глазами (смышленый, наверно, чертенок!), шел, приподнявшись на цыпочки и вытянув худую шею.
Ангел знал такие хитрости, и в последний момент, когда мальчик задел планку маковкой и торжествующе шагнул влево, остановил его стеком, указывая, куда надо идти — в сторону газовых камер. Именно тогда гауптштурмфюрер увидел сухие, без слез глаза, тогда услыхал и вопль женщины, которая упала на колени, протягивая руки…
Ангел вдруг остановился: понял, что тревожило его и почему запомнились глаза мальчишки. Они напоминали ему глаза сына. Вообще Карл был чем–то похож на этого маленького серба. Ангел с облегчением засмеялся: его сыну уготована иная судьба, и он собственной грудью защитит его от житейских невзгод.
…Сегодня Ангел нарушил обычный распорядок и, прежде чем снять мундир, заглянул к Беате. Поцеловав жену, постоял над кроваткой сына: Карл спал, подложив обе руки под голову. Разрумянился, дышал тихо, чуть посапывая и смешно оттопырив верхнюю губу.
— Обедать, обедать… — захлопотала Беата. — Сегодня у нас фасолевый суп и жареная курица с капустой. Иди умывайся…
Ангел с облегчением снял мундир и залез в ванну.
— Достань пива из холодильника! — крикнул Беате, намыливаясь. — И поставь на стол коньяк. У нас сегодня обедает доктор Вундерлих.
Беате нравилось принимать гостей, а особенно доктора Вундерлиха, которому она симпатизировала.
Как–то доктор Вундерлих показывал Ангелу и ей женщин, на которых проводил свои эксперименты по стерилизации. Беата расспрашивала доктора, осматривала женщин, брезгливо морщилась, глядя на двадцатилетних девушек, из которых Вундерлих за полгода делал безобразных старух, а потом долго мыла руки.
— Когда дотрагиваюсь до них, — скривила губы, — у меня возникает чувство, что никогда не отмоюсь…
Вундерлих проводил их до главного входа. Ангел еще издалека увидел у ворот толпу в черных мундирах, но понял, что происходит, только подойдя вплотную. Эсэсовцы, заметив коменданта, вытянулись по стойке «смирно», давая проход. В конце этого коридора стояла молоденькая девушка, совершенно обнаженная. Стояла, глядя прямо перед собой и, наверно, ничего не видя.
Девушка была белокурая, белолицая, со светло–зелеными глазами. Ангел на секунду подумал, что она могла бы стать олицетворением нордической красоты, и с Любопытством направился к девушке. Однако, вспомнив, что держит под руку жену, инстинктивно замедлил шаг и чуть скосил глаза, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на нее эта сцена.
Беата отвечала на приветствия знакомых офицеров, словно и не заметила живой статуи на фоне ворот. А молодых эсэсовцев, очевидно, забавляла необычная ситуация.
Ангел сделал шаг в сторону, чтобы обойти девушку, но Беата прошествовала прямо, будто впереди стояла не нагая женщина, а манекен. Тогда Франц подвел жену к девушке, остановился, поднял стек и дотронулся до девичьих грудей.
— Она неплохо сложена… — провел стеком по линиям бедер.
Беата отступила на шаг, разглядывая девушку.
— Хороша… — согласилась без энтузиазма. — Молодая и красивая, вот только ноги толстоваты… За что ее наказали?
От группы эсэсовцев отделился совсем юный унтерштурмфюрер, сказал с усмешкой:
— У нее вызывающий взгляд, фрау Ангел!
— А–а… — приняла как должное Беата и тотчас утратила интерес к девушке, обернулась к доктору, протянув руку для поцелуя.
Вечер прошел неплохо, у Ангела не испортилось настроение даже после проигрыша доктору Вундерлиху партии в шахматы.
Беата ушла укладывать Карла спать, и тут вдруг Вундерлих перевел разговор на щекотливую тему. Сделал он это не без опасения.
— Меня волнует это новое сокращение линии фронта, — сказал доктор, исподлобья взглянув на Ангела. — Они уже подошли к польской границе и…
Ангел молчал.
Взвешивал, стоит ли поддерживать разговор, поскольку догадывался, куда гнет доктор, что тревожило его и лишало обычной осторожности. Знал: лучше промолчать или отделаться незначительной репликой, но какая–то темная сила подтолкнула его, и он сказал:
— Русские могут прийти сюда очень скоро, и я удивляюсь нашему руководству, которое заблаговременно не думает искать выход, чтобы… — и сразу остановился, словно дотронулся до раскаленного железа, глянул на Вундерлиха растерянно.
Но рубикон уже был перейден, и доктор закончил его мысль:
— Я также думаю, что следовало бы… Если хотите, замести следы. Русские и поляки кричат на весь мир о крематориях, и мне не хотелось бы, чтобы мое имя упоминалось на суде.
«Они повесят нас, не задумываясь и не устраивая судебной комедии», — подумал Ангел, а сказал совсем иное:
— Возможно, наши тревоги напрасны, русских не допустят так близко к границам рейха.
— Дай бог, — вздохнул Вундерлих. Перегнулся через стол к Ангелу и спросил с надеждой: — Как вы думаете, ведь нас трудно обвинить: мы солдаты, а солдат выполняет приказ?
Для гауптштурмфюрера этот вопрос был решен давно: достал надежные документы на другое имя и намеревался исчезнуть, не дожидаясь, пока о нем позаботится начальство. Но об этом не знала даже Беата.
— Не думаю, что есть особые причины для беспокойства. Наш дух и наша сила неодолимы, и временные неудачи на фронте не должны поколебать нас. — Почувствовал, что слова эти прозвучали фальшиво, но произнес их вполне искренне, поскольку вспомнил недавний случай там, за проволокой, который давал ему основание для таких суждений. — Я не могу поверить в стойкость славян — раб никогда не преодолеет рабской психологии.
— Ну, — возразил Вундерлих, — это уже давно опровергнуто историей.
Ангелу не хотелось спорить, но он все же рассказал доктору о случае с двумя русскими военнопленными.
Несколько дней сеял мелкий дождь, землю развезло, и даже проложенные вдоль лагерных улиц красные кирпичные дорожки покрылись слоем липкой желтой глины. Комендант производил свой ежедневный обход скорее для поддержания порядка, нежели из–за необходимости. Шел медленно, подняв капюшон блестящего плаща, казалось, ни к чему не присматривался, но замечал и запоминал все. Проходя мимо уборной, услышал такое, что даже его удивило: кто–то смеялся весело и задорно. Остановился, чтобы посмотреть кто.
В черном отверстии двери появились двое: молодой, с широким открытым лицом, высокий и, наверно, сильный, и пожилой седой человек с глубоко посаженными темными усталыми глазами. Молодой, шедший сзади, что–то говорил седому, и тот дружелюбно посмеивался. Вдруг, заметив коменданта, седой дернул молодого за руку, предупреждая, — лица их окаменели. Но было поздно. Гауптштурмфюрер подозвал их к себе и спросил:
— Русские?
— Яволь! — вытянулся молодой.
Гауптштурмфюрер пошлепал носком сапога по грязи. Последнее время он все чаще и чаще думал о русских, и, может, это стало причиной того, что вдруг гнев застлал ему глаза, перехватил дыхание — Ангел поднял руку со стеком. Если бы ударил хоть раз, то уже бил бы и бил, пока не стало бы легче или не обессилел. И все же остановился в последний момент, заставил себя остановиться.
Эмоции были противопоказаны работникам лагеря, эмоции позволялись дома, а здесь была работа, которую Ангел считал ответственной и деликатной. В лагере надлежало всегда поддерживать порядок. Порядок во всем, начиная с чистоты в газовых камерах и кончая непременно покорным выражением лица всех узников.
Эмоции препятствовали этому порядку, эмоции могли привести к хаосу — Ангел сдержался и опустил стек. Стоял, с интересом глядя на двух военнопленных. Он хотел уже отпустить их, но вспомнил, что такой поступок тоже диктовался бы эмоциями и стал бы выражением некой нездоровой расслабленности. Собственно, следовало бы записать их номера для немедленного отправления в газовые камеры. Ангел уже потянулся за блокнотиком, но не захотел снимать перчатку — дождь хлестал. Он усмехнулся и приказал молодому:
— А ну дай ему понюхать это…
Ангел показал, что и как надо делать, размазывая подметкой сапога вонючую кашицу глины и нечистот.
Молодой военнопленный смотрел на Ангела, будто не понимая, что ему приказывают, — пауза затягивалась, и комендант уже решил записать их номера, как вдруг молодой перевел взгляд на своего седого товарища.
Ангел улыбнулся. Седой опытнее этого парня и понимает, чем все это может кончиться. Стоило ему пошевелиться, сказать хотя бы слово, и их судьба была бы решена. Но седой не сказал ничего, а молодой схватил его за воротник, нагнул так, что тот стал на колени, и стал тыкать лицом в грязь. Раз… и два… Но не очень сильно.
Ангел приказал:
— Сильнее!.. Не жалей его!..
И тогда молодой стал тыкать быстрее, грязь разжижилась, и брызги разлетались вокруг.
— Хватит! — приказал наконец Ангел.
Лица седого не было видно — какое–то месиво из грязи и крови. Он не вытирался, стоял не двигаясь, только тяжело дышал и смотрел пустыми водянистыми глазами.
— А теперь ты его… — указал Ангел на молодого, и седой, не раздумывая, начал тыкать парня в грязь. — Отомсти!
Вдруг ему сделалось противно от этой покорности; подумал, что же двигает этими людьми, грязными, распластанными у его ног, что же двигает ими и почему они послушны? Очевидно, русским на фронте просто везет и, наверно, их скоро остановят. Он сразу утратил интерес к этим двоим. Пошел, уже не обращая внимания на дождь и грязь, — все равно сапоги запачкались…
Потом он пожалел, что не записал их номера. Два или три дня всматривался в лица военнопленных, отыскивая тех русских. Но выражение покорности и пустые глаза узников делали их лица удивительно похожими, и по ночам, когда Ангелу снились страшные сны, тысячи лиц сливались в одно, оно росло и росло, грязное, измазанное вонючей жижей, смешанной с кровью, — одно лицо во всем лагере. Но ночами у этого лица не было покорного выражения, глаза смотрели дерзко, однажды Ангел увидел в них даже ненависть. Хотел ударить по ним — черным, большим, сверлящим, но рука не поднималась, даже не смог заслониться ладонью от жгучего жара этих глаз — кричал и метался во сне.
***
Дождь утих, но тучи сгущались, и было такое чувство, что вот–вот кто–то выжмет их как губку, и по еще не просохшему асфальту снова зажурчат мутные ручейки, а по ним изо всей силы хлестнут, оставляя пузыри, потоки светлой теплой дождевой воды.
В детстве Анри в одних трусах носился по лужам, зажмурив глаза, подставлял лицо под тугие струи и пил всласть дождевую воду. Она медленно набиралась во рту, он глотал, чтобы снова жадно подставить губы под струи.
И сейчас у Анри было такое настроение: прыгал бы, ощущая пятками водяную упругость, и смеялся, протягивая к небу мокрые ладони. Все время улыбался, сам не зная отчего, широко и счастливо, и прохожие, видя его улыбку, уступали ему дорогу: было ясно — счастлив человек оттого, что идет с такой красивой девушкой.
Они сели на набережной Сены. Анри снял пиджак и накинул на плечи Генриетте — девушка стала как бы ближе ему: он хотел сказать это, но только бросал камешки в реку и следил за кругами, расходившимися по темной воде.
Совсем близко прошел катер, он тащил против течения баржу, тяжело стуча моторами, а баржа плыла за ним тихо, нагруженная так, что, казалось, вода вот–вот хлынет через борта. Она виделась Анри неуклюжей, толстой женщиной, которую тащит по жизни работяга муж, и он, смеясь, сказал об этом Генриетте.
Генриетта посмотрела на него задумчиво, помолчала и ответила, как показалось Анри, совершенно невпопад:
— Завтра мы еще увидимся, а послезавтра я уеду…
— Куда? — испугался Анри, не поняв ее.
Генриетта бросила камешек в воду, подождала, пока исчезнут круги, и попросила:
— Не надо расспрашивать, милый, я напишу тебе… Это уже была катастрофа — ему хотелось переубеждать, спорить, но он только сказал растерянно:
— Я же люблю тебя…
Она засмеялась.
— И я тебя.
— Так что же?..
Генриетта приложила палец к его губам, и Анри понял: она уже все решила, и теперь поздно ее уговаривать. Но что все–таки она надумала?
Анри начал издалека:
— Я мог бы помочь или хотя бы посоветовать…
Генриетта оборвала его:
— Все уже решено, милый…
Для своих двадцати семи лет Анри Севиль занимал довольно солидное положение в одном из левых парижских журналов. Читатели давно оценили его острые политические обозрения. И не только читатели. Редактор одного из нашумевших, но не очень разборчивых изданий уже подсылал к Севилю своего сотрудника прозондировать, не клюнет ли тот на гонорар, вдвое больший, нежели платит жалкий левый журнальчик.
Анри слушал маститого коллегу внимательно. Тот, не получив сразу отказа, стал рисовать перспективу, которая открылась бы перед Севилем, и очень расстроился, когда Анри категорически отказался.
Анри засмеялся, представив, какими глазами посмотрит на него Генриетта, если он согласится. Ему стало весело: из–за Генриетты можно отказаться и от мировой славы. Так он и сказал ей вечером в бистро возле редакции, где они встретились. И сразу предложил переселиться в его небольшую квартирку на бульваре Араго.
Признание Генриетте не было результатом эмоциональной вспышки или минутного порыва. Анри все продумал и взвесил. Вероятно, ему,женившись, придется преодолевать, особенно вначале, некоторые материальные трудности, но уже была договоренность с главным редактором о повышении зарплаты в будущем году, что обеспечивало ему и Генриетте прожиточный минимум.
И вдруг такое…
В сердцах Анри швырнул камешек до середины Сены, но Генриетта, все поняв, прижалась к плечу Анри щекой. Он не мог сердиться, если она просила помилования, и, не выдержав, поцеловал ее влажные, чуть раскрытые губы. Генриетта ответила, и они долго целовались, прикрывшись пиджаком и ни на кого не обращая внимания.
Они целовались бы еще и еще, но туча вдруг прорвалась дождем. Генриетта, оторвавшись от Анри, подставила зацелованные губы под капли. Дождь хлестал по ее лицу, и она смеялась и глотала дождевую воду совсем по–детски, прихлебывая.
Они промокли, но Генриетте не было холодно. Анри и подавно. Он не заметил бы и настоящей бури, лишь бы было хорошо Генриетте. Вдруг она опомнилась, схватила его за руку и потянула к зданию, где в подъездах прятались застигнутые непогодой одинокие прохожие.
Полная женщина, которая и в подъезде не складывала зонтик, пропустила их, посмотрев недовольно и даже осуждающе. Наверное, она имела на это основание: их поведение было безрассудным, но сегодня Анри плевал на мнение всего Парижа: стояли и смеялись, наблюдая, как льется с них вода, как бежит со щек, с ушей, с подбородка…
Потом Генриетта опустила глаза и покраснела: прозрачная блузка прилипла к телу. Девушка прикрылась пиджаком Анри, но это не помогло: юбка облепила бедра, и Анри казалось, что — мужчины, прятавшиеся от дождя в подъезде, только и делают, что смотрят на них. Он заслонил девушку, Генриетта поняла все и посмотрела благодарно.
А дождь лил и лил, и не было ему конца.
Генриетта вытерла лицо платочком, который сразу промок, выжала воду из подола. Потом ей стало холодно — Анри увидел, как у нее покрылась гусиной кожей шея. Через три дома светились окна бистро, Анри уже хотел предложить перебежать туда, но вспомнил, что за углом, совсем недалеко, живет Серж Дубровский. Севиль был в гостях у Дубровского несколько раз; они не то чтобы дружили, а симпатизировали друг другу; Сергей, корреспондент советского агентства печати, часто заходил в их редакцию — они не только перебрасывались двумя–тремя словами либо делились новостями, но и не один час просидели за чашкой кофе в соседнем ресторанчике.
Вначале Генриетта заколебалась: удобно ли заходить в такую пору, но Анри быстро переубедил ее, и они побежали под ливнем.
Через несколько минут уже звонили в квартиру Дубровского.
Хозяин открыл сразу, будто ждал кого–то. Смотрел на Генриетту с любопытством и немного удивленно, а когда разглядел, улыбнулся широко:
— Боже мой! Что же вы стоите? Проходите…
Генриетта взглянула на лужу у ног, но Сергей уже затащил их в прихожую. Он дал Генриетте свой халат, а Анри — пижаму. Мокрые вещи развесили в ванной. Дубровский включил электрический камин и предложил девушке с ногами залезть на широкую и мягкую тахту.
Генриетта согрелась и почувствовала себя здесь хорошо. Сергей понравился ей — высокий, наверно, сильный и добродушный, но не простой, какими обычно бывают очень добрые люди: она ощущала за его силой энергию, а за мягкостью проницательность.
Дубровский подвинул к тахте столик с кофе и сигаретами. Они заговорили наперебой о погоде, о политическом курсе Франции, о войне и фашистском концлагере, где был Дубровский, он там принимал активное участие в Сопротивлении, и снова о погоде — дождь и дождь! Уже никто не помнил, как от дождя перешли к обсуждению премьеры в «Комеди франсэз» и так же, мимоходом, обругали новый итальянский фильм…
— А дождь прекратился… — Генриетта подошла к окну, выглянула. — Да, перестал. Уже почти двенадцать, и гости, наверно, надоели хозяину…
Сергею не хотелось, чтоб они уходили, но, увидев, как заторопились, взял шляпу, чтобы проводить их.
***
…Море осталось позади, и самолет снизился. Генриетта посмотрела в иллюминатор. Где–то далеко под крылом промелькнули убогие хижины, отары овец. Потом потянулись однообразные желто–зеленые заросли какого–то кустарника. Самолет сделал круг и пошел на посадку.
Генриетта осторожно вынула из–под блузки письмо и положила его во внутренний карман жакета. Самолет несколько раз сильно тряхнуло, и вскоре он остановился.
Генриетта еще раз посмотрела в иллюминатор на окружающие кустарники и спокойно направилась к выходу. Другие девушки прильнули к иллюминаторам, испуганно глядя на людей, выбежавших из–за кустов. Генриетта этого не видела — стояла возле двери и смотрела, как от кабины пилота между сидений приближался розовощекий человек в хорошо скроенном костюме. Думала, как могла так попасться в ловушку, но не впадала в панику, поскольку это означало бы гибель, а шансы на спасение давали только выдержка и сила духа.
Розовощекий приближался, а она смотрела на него, как смотрят обычные пассажиры на члена экипажа: без особого интереса, но и не отчужденно. Он подмигнул ей по–дружески, хотел пошлепать по щеке.
Генриетта спокойно отвела его руку, и он не обиделся. Вежливо попросил перейти на другое место.
На мгновение Генриетте стало страшно. Отступила в глубь салона и села на чей–то чемодан. Подумала: сейчас появится тот, который вел самолет, «полковник Кларенс», как назвал его розовощекий. Возможно, это было вымышленное имя, но все равно Генриетта уже никогда не забудет его, как и разговор, который она случайно подслушала в самолете. И пока пилот еще не вышел из кабины, снова осмыслила все, что произошло, — от посадки на самолет под Марселем до его приземления около этих опаленных солнцем кустарников.
…Две недели тому назад Генриетта прочитала в «Пари суар» объявление, в котором приглашались красивые девушки на работу экскурсоводами в Северную Африку. Контракт — на год, два и три. Генриетта позвонила по указанному номеру, и ее пригласили в контору на Жак–Доллан. Там и встретил ее розовощекий, отрекомендовавшийся Жаном Дюбуи — доверенной личностью большой туристской фирмы. Он рассказал об условиях работы, показавшихся Генриетте блестящими, просмотрел ее документы и спросил, знает ли она иностранные языки. Генриетта назвала только итальянский и английский, хотя немного знала и немецкий.
— На вашем месте я поступил бы так же, — перебил его Хаген. — Но жаль, у меня нет иного выхода, а дело важное, поэтому я позволил себе потревожить вас. Впрочем, я не отниму у вас много времени, и, если мои предложения не заинтересуют вас, можете прервать разговор.
Это было логично, и Грейт вынужден был оценить аргументы Хагена.
Тот сел против света, и полковник мог хорошо рассмотреть его. Первое впечатление оказалось ошибочным: немец был не таким уж юным. Молодил его розовый цвет щек, лицо же прорезали морщины, а глаза запали глубоко и выглядели усталыми, как у мужчины, который перешагнул сорокалетний рубеж.
— Какие могут быть предложения? Я не желаю слушать разные предложения… — пробормотал Грейт почти машинально. — Откуда вы знаете меня?
— Я знаю даже, на какой рейс у вас заказан билет в Нью–Йорк, — усмехнулся Хаген. — Мои друзья когда–то имели с вами дело… — Заметив, что полковник удивленно поднял брови, пояснил: — Ну запчасти для автомашин, горючее и некоторые другие мелочи… Мне рекомендовали вас как делового человека, а это в наше время наилучшая рекомендация.
Грейт иронично прищурил глаза. Он не любил краснобаев, а этот, кажется, болтун. Однако не остановил немца, и тот произнес негромко:
— Я хочу предложить весьма выгодный бизнес, зная вас как личность решительную, которая может не обращать внимания на моральную сторону дела…
— Что вам надо? — спросил Грейт.
— Ваш профессиональный опыт, ваша сила, ваш ум, — не раздумывая, ответил агент.
— Это не так уж мало!
— За все это вам платят мелочь, а я предлагаю тридцать тысяч долларов в месяц.
Грейт посмотрел на немца как на сумасшедшего. Жулик или шантажист? Но тот смотрел спокойно, даже снисходительно, и продолжал так, словно речь шла о мелочи:
— Впрочем, все зависит от вас, при должной оперативности и находчивости можно увеличить эту сумму…
Грейт откинулся на спинку стула и рассмеялся.
— Не делайте из меня дурака, как вас там!.. Я не люблю шуток.
Розовые щеки Хагена сделались совсем пунцовыми.
— Я предлагаю, а ваше дело — принять мое предложение либо отклонить. Естественно, наш разговор не для третьих ушей, в конце концов, беседуем мы без свидетелей, и вам трудно будет доказать что–либо. — Хаген налил виски в рюмки, сказал резко: — Я не сумасшедший и не собираюсь предлагать вам чистить сейфы городского банка. Для этого существуют, — он скривил губы, — более солидные корпорации. К тому же есть много способов менее рискованно зарабатывать деньги. Один из них я и хочу предложить вам…
Грейт ни словом не отреагировал на это.
— Завидую вашей выдержке, мистер Грейт, — бросил Хаген после паузы. — Это еще больше побуждает меня к сотрудничеству с вами. Предлагаю вам месте личного пилота шейха Хижи Селаспи…
— Не морочьте мне голову!.. — оборвал его Грейт. — Самый глупый шейх Востока научился уже считать деньги и знает, что за тридцать тысяч долларов он купит не одного пилота, а минимум десять.
— Пусть так, — согласился Хаген. — Но слушайте меня внимательно, — немец понизил голос и, наклонившись над столиком, поманил пальцем Грейта. — Вы представляете, полковник, сколько стоит в Аравии красивая европейская девушка?
— Нет.
— За двадцатилетнюю смазливую девчонку с хорошей фигурой да еще со средним образованием, — деловито продолжал Хаген, — можно получить не менее двенадцати тысяч фунтов. Красивые белые девушки в гареме считаются как бы символом могущества и знатности шейха, если хотите, его визитной карточкой.
— Лично я, — равнодушно произнес Грейт, — не дал бы за самую красивую блондинку и тридцати долларов.
— Когда речь идет о престиже, — вздохнул немец, — на Востоке платят бешеные деньги…
— Но я не вижу связи между вашим предложением и ценами на девушек…
— Неужели вы ничего не поняли? Я хотел сказать, Что обязанности личного пилота шейха состоят не только в управлении самолетом…
— Так, так, — начал понимать Грейт. — Стало быть, вербовка и доставка живого товара на Ближний Восток?
Хаген удовлетворенно потер руки:
— Вы недалеки от истины.
Грейт решительно отодвинул от себя рюмку:
— Но это же, насколько мне известно, преследуется законом?
— Игра стоит свеч, — сказал Хаген твердо. — Опытный белый солдат получает в Африке…
— Мне известно, сколько получает солдат в Африке, — перебил Грейт, — однако каждый считает деньги только лишь в собственном кармане…
— Вот именно, — подхватил Хаген и спросил: — Насколько я понял, вам пришлось по душе мое предложение? В общих чертах, так сказать.
Грейт не ответил, лишь пощелкал ногтем по рюмке.
— Значит, так, — принял его молчание за согласие Хаген, — я буду откровенным и познакомлю вас с характером деятельности нашей фирмы, если не будете протестовать против такого названия. Личный пилот Селаспи — чистой воды фикция. Я уже оплатил стоимость самолета шейха, но есть договоренность, что официально он и дальше будет принадлежать ему. Так удобнее — в нашем мире, разделенном многочисленными границами, это облегчит перелет из одной страны в другую и поможет быстро улаживать некоторые формальности. — Хаген на мгновение заколебался, но все же предложил: — Вы можете стать моим полноправным компаньоном, заплатив половину стоимости самолета. Если у вас нет сейчас свободных денег, я подожду. Два–три выгодных рейса окупят все затраты.
— Какой самолет? — коротко спросил Грейт.
— «Дуглас», двухмоторный.
— В каком состоянии?
— Техники уверяют, что лучше и не мечтать.
— Самолет здесь?
— К сожалению… — развел руками Хаген, — я вынужден был оставить его в Сицилии. Оттуда мы можем без особых трудностей переправить партию девушек.
— Неужели они сами хотят попасть в гаремы?
— Ну что вы! — даже удивился Хаген наивности Грейта. — Мы заключаем с ними контракт на какую–нибудь работу. Главное — быстро и бесшумно посадить их в самолет. Потом они в наших руках, и есть немало способов, чтобы взнуздать непокорных.
Грейту захотелось выплеснуть в лицо немцу остатки виски. Уже было поднял рюмку, но рука почему–то остановилась, он только переставил рюмку ближе к себе.
— А раньше вы с кем, э–э… работали?
Лицо Хагена затуманилось.
— У меня был чудесный компаньон. Ас! Сам Геринг любил и уважал его. Может, слыхали: Ганс фон Шомбург, подполковник, известный летчик–истребитель?
Грейт покачал головой, буркнул что–то невыразительное.
— Глупая смерть, — с сожалением сказал Хаген. — Купался в море, не рассчитал силы и утонул.
«И ты сейчас в безвыходном положении, — подумал Грейт. — Кто же тебе указал на меня?» Спросил совсем о другом:
— Вы тоже воевали против нас?
— Почти все мужчины Германии во время войны носили мундиры. Я, правда, непосредственно в боевых операциях не участвовал. Так, тыловая служба… Надеюсь, вы без предубеждения относитесь к людям, которые в прошлом служили в войсках СС?
— Попались бы вы мне сразу после войны!.. — сжал громадный кулак Грейт. — Но все проходит. Вы офицер?
— Гауптштурмфюрер СС! — ответил Хаген четко, и полковнику показалось: сейчас вытянется перед ним с поднятой рукой.
— Плевать! — внезапно выдохнул Грейт со злостью. — Наплевать на все! Выпьем, гауптштурмфюрер!
Однажды летчик, земляк Грейта, которого они освободили из плена, узнал одного из своих бывших палачей — эсэсовца из лагерной охраны. Они передали этого оберштурмфюрера в руки правосудия, но не прошло и полугода, как Грейт встретил его во франкфуртском ресторане. Подумал, что тот убежал. Позвал полицию, поднял шум и только опозорился: в комендатуре объяснили, что бывший эсэсовец оправдан судом и сейчас полноправный гражданин Западной Германии, владелец металлообрабатывающего завода и активно сотрудничает с американской администрацией…
Полковник пристально посмотрел на Хагена:
— Вы, наверно,до тонкости изучили это дело с юридической, так сказать, стороны. Не могли бы в общих чертах познакомить меня?
Хаген удобнее устроился на стуле и начал рассказывать:
— …На Аравийском полуострове в иных богатых княжествах и султанатах даже по сей день существует рабство. Да, сейчас, во второй половине двадцатого столетия! И рабы не только арабы–туземцы, но и французы, англичане, итальянки, шведки и немки… И их дети рабы. Рабов используют как секретарей, слуг, охранников, рабы работают на полях и нефтяных промыслах, на тайных копях, где добывают золото, неучтенные залежи которого составляют один из источников доходов аравийских набобов. И естественно, много рабынь в гаремах.
Хаген будто бы слышал о таком случае: один из правителей богатой арабской страны заболел и отправился лечиться в Вену. Когда здоровье его величества немного поправилось, он снял один из самых фешенебельных отелей города и выписал более ста своих наложниц. Вся Вена, говорят, бегала смотреть на них. Но человек, ездящий на «роллс–ройсе» с подвеской, все детали которой сделаны из золота, может позволить себе и не такое. Что ему стоит заплатить несколько тысяч за понравившуюся девушку!
— А впрочем, это, лирическое отступление. — Хаген пересел на стул, стоящий рядом со стулом Грейта, фамильярно похлопал полковника по руке. — Вот так–то, мой дорогой полковник, даже вашим миллиардерам не снилась такая жизнь. Извините, снова отошел от сути. О чем же шла речь? О живом товаре? Вы ошибаетесь, полковник, если думаете, что мы с вами уникальная фирма. Агенты аравийских рабовладельцев, разыскивая красивых девчонок для гаремов, разъезжают не только по странам Африки, Среднего и Ближнего Востока. Вы, наверное, не слыхали, да и откуда вам знать, что каждый год в Европе исчезает много девушек, в том числе и пятнадцатилетних. И ни одному полицейскому еще не удалось напасть на их след.
Хаген рассказал о том, что начались нежелательные разговоры в специальных комиссиях ООН, дошло до того, что некоторые наиболее активные парламентарии сделали запрос своим правительствам. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Женеве была созвана конференция, на которой обсуждались вопросы, связанные с торговлей рабами. Больше пятидесяти государств приняли участие в работе конференции. Франция и Англия предложили принять конвенцию, по которой перевозка рабов морем расценивалась бы как морской разбой, а суда, заподозренные в этом преступлении, предлагалось задерживать и тщательно обыскивать. Слава богу, нашлись у шейхов влиятельные защитники. Соединенные Штаты Америки так и не высказались по этому вопросу. Все знали почему; США не хотели портить отношения с королем Саудовской Аравии, поскольку у них была военная база в Дахране. А интересы американских нефтяных монополий в Аравии? Это тоже нужно было иметь в виду. И конференция приняла довольно невыразительную, расплывчатую декларацию: «Рабство — постыдное явление».
— Это коротко история вопроса, если позволите, — сказал Хаген. — С того времени многое переменилось, и вывозить наш товар теперь опаснее. Хотя, — подмигнул, — нет худа без добра: цены на девчонок значительно выросли.
— Сколько вы делаете рейсов в год? — спросил полковник. — В среднем?
— Не делите шкуру неубитого медведя! — засмеялся, поняв его, Хаген. — Обыкновенная арифметика здесь неуместна.
— Я должен взвесить все, — заупрямился Грейт, — я хотел бы хоть приблизительно прикинуть…
— На один рейс уходит не меньше трех месяцев, — не дал ему закончить Хаген. — Самолет возьмет до пятнадцати девушек. Включите накладные расходы, полковник, которые составят приблизительно двадцать процентов…
— А если увеличить число рейсов?
Немец улыбнулся:
— У вас железная хватка! Мой предыдущий компаньон при всех его положительных качествах немного ленился, а с вами, вижу, мы найдем общий язык. Честно говоря, не так уж приятно все время оглядываться назад, мне хочется скорее обеспечить свою семью и пожить, ни о чем не думая.
— У вас есть семья?
— Жена и сын, — не без гордости сообщил Хаген, — сын закончил университет.
— Прекрасно, — без энтузиазма одобрил Грейт. — Вы верите в бога?
— Какое это имеет значение? — уклонился Хаген от ответа. — Я жду вашего решения…
— Я должен подумать, мистер Хаген, вы получите ответ завтра.
— Хорошо, — согласился немец, — но я вынужден предупредить вас, что этот разговор…
— Вы имеете дело с джентльменом!
— Я позвоню вам.
— Мой телефон…
— Я знаю номер.
— Поразительная осведомленность!
— С таким предложением я не мог обратиться к первому встречному.
— А если я сообщу в полицию?
— Ну и что? — пожал плечами Хаген. — Вы не знаете даже моего настоящего имени, и в полиции только посмеются над вами.
— А вы осторожный человек.
— Возможно, вам тоже придется привыкать к этому. — Хаген поднялся. — Если не возражаете, я позвоню в пять…
Кельнер, поймав его взгляд, метнулся между столиками. Грейт тоже сразу расплатился, вышел из «Веселого ада», но домой не поехал. Долго бродил по франкфуртским улицам. Вокруг струился поток — смеялись, разговаривали люди, а Грейт шел и не видел всего этого, останавливался на перекрестках, извинялся, нечаянно толкнув кого–нибудь, и, казалось, это не он шествует мимо блестящих витрин, во всяком случае, не тот полковник Кларенс Грейт, каким он был еще несколько часов назад: стыдился самого себя, невольно морщился, последними словами ругал розовощекого немца. Считал себя подонком и даже сжимал от гнева кулаки, но все же знал, наверняка знал (хотя и давал себе торжественную клятву послать завтра Хагена ко всем чертям), что согласится, что, по сути, уже согласился и лишь выторговал для себя небольшую отсрочку. Эти тридцать, сорок, пятьдесят тысяч долларов не давали ему покоя, превращались в триста, пятьсот тысяч, маячили миллионом — целым миллионом!
Дома Грейт выдвинул ящик письменного стола, перебрал бумаги, сжег ненужные. Спать не хотелось, сидел и курил, пересматривая фотографии в толстом кожаном альбоме. В основном фронтовые друзья: сколько пережито с ними!
Капитан Ричард Эмори возле своего «либерейтора». Улыбается и не знает, что уже не вернется на аэродром. Его сбили немецкие истребители над Нормандией; Ричард так и не успел сбросить бомбы, его «либерейтор» врезался в землю и взорвался — от Эмори не осталось даже горстки пепла.
А вот лейтенант Джон Тодд — этого фашисты сбивали дважды, но лейтенанту везло: один раз дотянул до передовой и выбросился на парашюте, второй — несколько дней плутал по прифронтовой зоне, скрываясь от немецких патрулей, пока не добрался до своих. Счастливчик этот Тодд: уже давно в Штатах, женился, работает в какой–то фирме. Вначале писал, но время рвет самые крепкие связи.
От этой мысли сделалось грустно. Тогда, особенно во время дружеских вечеринок, они обещали беречь фронтовую дружбу. Что осталось от этих клятв? Приятные воспоминания и легкий налет грусти…
Особенно много фотографий майора Райли Дэймса. Когда–то они учились вместе, потом и служили. Во время налета на Пенемюнде Дэймса сбили. Он попал в концлагерь, откуда англичане освободили его уже в конце войны.
Грейт вспомнил, как впервые увидел Райли: вернулся после вылета и брел тропинкой, вытоптанной парнями, к столовой. Райли шел навстречу, и Грейт вначале не узнал его — худой, кожа на лице желтая и дряблая, только глаза светятся…
Вспомнив эту встречу, полковник раздраженно швырнул альбом. Он еще не уяснил причину своего раздражения, но смотреть на Райли было неловко и тоскливо, словно тот упрекал Грейта. А может, это просто показалось полковнику и было результатом нервного напряжения, в котором он пребывал последние дни?
И все же чувство неловкости не исчезало, и это продолжало раздражать Грейта, будто он провинился перед кем–то и вынужден оправдываться. В глубине души он знал, что именно раздражает его, но не давал этой мысли разрастись, отбрасывал ее, настраиваясь на веселый лад. Даже начал мурлыкать песенку из оперетты. Но лицо Райли — желтое и сморщенное — стояло перед глазами как живой укор, а рядом с ним розовощекое, самодовольное лицо немца.
Что бы сказал ему сейчас Райли?
Предатель!
Грейт разделся и залез под одеяло. Спать, только спать. Прочь мысли! Вспомнил молитву, которую ежедневно творил дед. День их семьи всегда начинался с молитвы.
Вдруг он отчетливо увидел своего деда. Старик стоял в конце длинного стола, торжественный, в черном сюртуке, и сердито смотрел на Грейта. Протянул руку, ткнул в него пальцем, сказал твердо и безжалостно: «Предатель!»
Грейт почувствовал себя мальчишечкой, потупился, хотел оправдаться, но не нашел слов. Только смотрел в глаза деда не мигая, и тот не выдержал, отвел взгляд. Эта маленькая победа не принесла Грейту удовлетворения, наоборот, еще больше растравила его. Воспоминания о родном доме всегда приносили ему боль и стыд, и щека начинала дергаться, словно от только что полученной оплеухи.
В двенадцать лет жизнь казалась Кларенсу Грейту исполненной удивительного смысла и гармонии. Кроме него, в семье не было детей, и Кларенс ни с кем не делил материнскую ласку и отцовское внимание. Отец и дед его были квакерами, семья Грейтов жила скромно, носила строгого покроя костюмы, вставала с молитвою и заканчивала день хвалою господу. Дед Кларенса еще пахал землю, а отец приобрел магазин в городе, и соседи первыми снимали перед ним шляпы. Это радовало Кларенса, хотя дед постоянно втолковывал ему, что земные хлопоты мимолетные и являются лишь шагом к жизни вечной, но эта вечная жизнь казалась каким–то маревом, а реальность — друг Джек, предстоящая рыбалка на озере, фокстерьер, которого подарили ему в день рождения…
Кларенс твердо верил, что бог слышит его и давно присматривается к нему. Все это делало в детстве Грейта немного непохожим на ровесников: он редко участвовал в школьных проказах, старательно учился, глядел учителям в глаза, что вызывало насмешки одноклассников.
У Грейта был всего лишь один друг. Джек жил по соседству, он учился классом старше, его родители были тоже квакерами, и Кларенс, лишенный детской дружбы, тянулся к Джеку, признавая его авторитет почти во всем.
В тот день Кларенс, как всегда после школы, отодвинул доску в заборе, разделявшем их усадьбы, позвал фокстерьера и тихонько свистнул. Как правило, Джек свистел в ответ — он мог быть где–то рядом, в своем саду или во дворе, помогая отцу справляться по хозяйству. Кларенс свистнул еще раз, но так и не получил ответа, пошел через смородиновые кусты к дому. И сразу чуть не натолкнулся на Джека.
— Я звал тебя… — и осекся, встретившись с взглядом Джека.
Таким злым он видел друга впервые: Кларенс успел подумать, как это неприятно, когда тебя так буравят глаза. Он сделал шаг к товарищу и повторил:
— Я звал тебя, Джек. А ты, наверное, не слышал…
Он все еще не верил, что Джек вот так может смотреть на него, и был уверен, что тот улыбнется, как всегда, и они пойдут на озеро. Даже вынул из кармана металлическую коробочку из–под конфет, потряс ею.
— Вот, — сказал дружелюбно Кларенс, — утром я накопал червяков…
Джек шагнул вперед. Кларенсу показалось, что тот заинтересовался червяками, и протянул коробочку, но Джек внезапно размахнулся и ударил его по щеке. Это было невероятно и так неожиданно! Кларенс даже не отшатнулся, а только уронил коробочку, и она, раскрывшись, покатилась по дорожке.
— За что? — спросил он друга.
— И ты еще спрашиваешь! — с ненавистью выкрикнул Джек. — Вон отсюда! И если я еще раз увижу твой поганый нос…
Он подступил к Кларенсу, фокстерьер оскалился и зарычал.
— Святоша подлый!.. — процедил сквозь зубы Джек. — И все вы такие!.. — Он повернулся и пошел сквозь смородиновые кусты. Кларенс хотел догнать его, но сдержался и только спросил:
— Что случилось, Джек?
Мальчик остановился.
— Что случилось? Спроси у своего папочки… — И исчез за кустами.
Кларенс стоял и смотрел, как извиваются на желтом песке красные черви. «Спроси у папочки…» Но ведь его отец всегда жил в согласии с отцом Джека: они вместе ходили в молитвенный дом, и Кларенс знал, что отец Джека когда–то помог Грейтам стать на ноги.
Кларенс поднял доску и пролез в свою усадьбу.
Отец появился вместе с дедом перед самым ужином. Кларенс выбежал им навстречу, но отец, всегда ласковый с сыном, приказал:
— Оставь нас, сынок…
Наверно, они поссорились, потому что дед раскраснелся, а у отца был виноватый вид.
Дед не вышел к ужину, сидели за столом втроем — отец, мать и Кларенс. Перед ужином дед всегда читал молитву, а сегодня его заменил отец.
Во время ужина отец вел с матерью нудный разговор о хозяйстве, Кларенсу так и не удалось спросить о Джеке. Однако отец догадался, в чем дело, он всегда читал его мысли. Поужинав, сам спросил, что случилось. Услышав рассказ Кларенса, рассердился:
— Не обращай внимания! Это дьявол вселился в Джека. — Немного подумав, счел необходимым пояснить: — Я вынужден был приобрести их магазин. Понимаешь, его все равно кто–нибудь купил бы, так почему не мы?
Кларенс почувствовал неуверенность в словах отца, какое–то заискивание, хотел расспросить, почему соседи продали магазин, но отец быстро встал и поднялся на второй этаж, в библиотеку, где по вечерам имел привычку писать письма. Спустя несколько минут послышались голоса: Кларенс понял, что отец разговаривает с дедом. Он тихо поднялся на второй этаж, любопытство взяло верх, и Кларенс стал за дверью и вытянул шею, чтобы лучше слышать, о чем беседуют взрослые.
Дед говорил разгневанно:
— Вместо того чтобы протянуть ему руку помощи, ты добил его…
— Не все ли равно, кто купил бы магазин?
— Оставь! Не лицемерь хоть сам перед собой! Можно было поручиться, чтобы векселя его не опротестовали…
— Наша фирма не занимается благотворительностью…
— Кто помог тебе приобрести наш магазин?
— Стивенсон тогда заработал на этом.
— Не ври хоть мне! — закричал дед. — Ты опутал Стивенсона как паук, ты заманил его перспективой больших денег и быстро затянул петлю, когда он сунул туда голову. Хотя бы подумал, что он твой сосед, твой ближний и твой христианский долг не топить, а вытащить его…
…Грейт потянулся в кровати, сон не проходил, и он подумал, что, может, это не снится ему, но дед стоял точно живой, можно было дотронуться до старика, погладить по лицу. Полковник протянул руку, хотел что–то сказать, но пропал голос. А дед уже не смотрел на него, лицо его скривила гримаса боли, он схватился за сердце и выкрикнул с отчаянием:
— Иуда!
Это словно хлестнуло Грейта, обожгло, он заметался в кровати.
Утром, как ни пытался, не мог связать воедино отдельные картины ночного видения. Что–то мелькало перед глазами, и было мерзкое чувство, будто тебя побили. Потом подумал, что все это сущий вздор и не следует забивать себе голову сентиментальными пустяками. Все идеи и переживания не стоят десятидолларовой бумажки. Именно эта бумажка правит миром.
Грейт соскочил с кровати.
К чертям все! Не стоит обращать внимания на глупости.
***
Грейт говорил лениво, поскольку надо же было перемолвиться хотя бы словом с человеком, который полдня качался в гамаке рядом с тобой.
— Десять долларов за бутылку холодного пива…
Хаген не отозвался: продолжал качаться, словно и не слышал полковника.
Грейт обозлился и хотел швырнуть в немца пустую бутылку из–под какой–то здешней сладковатой бурды, да поленился поднять руку. Хватит! Не хочет поддерживать разговор, и не надо. Чуть пошевелился, удобнее укладываясь, но злость пересилила. Сел и сказал резко:
— Вы слышите меня, Франц?
Теперь он уже точно знал, кто его компаньон. Хаген — это одно из вымышленных прозвищ, на самом же деле Франц Ангел, гауптштурмфюрер СС, бывший комендант одного из концлагерей где–то там, на Востоке, в Польше или в Западной Украине. Сам Ангел признался ему не без гордости, что в коммунистических странах дали бы немало, чтобы напасть на его след, однако полковник лишь пожал плечами: не все ли равно Грейту, болтается гауптштурмфюрер на веревке или занимается торговлей в аравийских пустынях?
— Вы же знаете, Кларенс, — Ангел сел в гамаке. — Последнюю бутылку пива выпили позавчера. А здесь его не достанешь и за сотню…
— Проклятая страна!.. Скоро и денег не захочешь!..
Полковник покривил душою. Успех первого рейса окрылил его, и сейчас он агитировал Ангела скорее вернуться в Европу за очередной партией девушек. Но немец был осторожным, он полагал, что не следует мозолить глаза агентам Интерпола*["3], и они уже почти месяц поджаривались в небольшом селении на побережье Персидского залива вблизи Абу–Даби. Сняли приличную виллу с садом и целыми днями валялись в тени, спасаясь от неимоверной пятидесятиградусной жары.
— Вылетаем через три–четыре дня, — вдруг сообщил Ангел.
Грейт даже вскочил от неожиданности.
— У вас семь пятниц на неделе.
— Нет, просто утром я получил письмо. Следовало подумать, прежде чем решать.
— Выгодное предложение?
— Есть заказ для Танжера, — объяснил Ангел. — Там у меня старые связи с владельцами ночных кабаре. Платят, правда, меньше, но зато без мороки. За месяц обернемся.
Полковник лежал, уставив глаза в небо. Равнодушно следил за скоростным истребителем, который прорезал голубизну. Впервые увидев белый след в этом безоблачном просторе, удивился: сотни километров пустынь, убогие хижины туземцев, караван верблюдов — и самые современные реактивные истребители? Неужели шейхи и султаны имеют военную авиацию? Хотел было спросить у Ангела, но кстати вспомнил о военной базе своих соотечественников в Дархане.
Теперь Грейт знал, что американские и английские самолеты поднимаются также с аэродромов, размещенных возле Аш–Шарджа, Низви, на островах Бахрейн. Нефть требует охраны, и шейхи должны знать, кто защищает их независимость…
Полковник вспомнил первую встречу с одним из шейхов. Этот шейх держался как настоящий властелин. Он посмотрел на Грейта презрительно, и полковник с удовольствием подумал, что в южных штатах этого черномазого только за один такой взгляд белые американцы довесили бы на первом суку.
Шейх сказал что–то одному из советников.
— Их высочество, — перевел тот, — предупреждает, что его интересуют только красивые и молодые девушки, ибо его гарем самый большой и самый лучший на всем побережье Персидского залива.
Ангел, склонившись в почтительном поклоне, ответил:
— Я знаю вкусы их высочества и привез для него самых лучших девушек Европы. Розы Сицилии — красивейшие женщины чудесного острова, славящегося женской красотой. Покажи ему Веронику, — шепнул Грейту.
Полковник растерялся. Вероника была самой невзрачной из этой партии, но бесцеремонной и наглой. Когда Ангел объяснил, зачем их привезли на Ближний Восток, она первая поняла, что плакать бесполезно и ее судьба во многом зависит от нее самой.
Шейх предложил за Веронику крупную сумму.
Потом шейху показали Джулию. И эта была, по мысли Грейта, из второсортных: худенькая, в чем только душа держалась. Тогда в Сицилии, когда она впервые появилась у них в конторе, он посмотрел на нее пренебрежительно и хотел сразу отослать, но Ангел не согласился.
— Экземпляр на любителя, — пояснил потом. — За такого волчонка можно взять больше, чем за кралю типа Брижит Бардо.
Действительно, Джулия чем–то напоминала волчонка. Глаза блестящие, отдают синевой, смотрит серьезно, постоянно злится на всех, зубки мелкие, беленькие, острые, зазеваешься — укусит. Другие девушки, узнав, куда их везут, плакали и причитали, а эта забилась в угол и поблескивала волчьими глазами. Хотела выброситься из самолета.
— Ха–ха! — смеялся тогда Ангел. — Ты у меня пойдешь первым сортом. Таких, как ты, в гареме утихомирят за неделю.
Только тогда Джулия не выдержала и заплакала. Кусала себе руки, билась головой о борт так, что пришлось связать. Пока помощник Ангела Густав — туповатый, с бычьим затылком ротенфюрер из бывшей лагерной охраны — успокаивал ее, успела до крови расцарапать себе лицо, хотела изуродовать себя. Когда уже лежала связанная, Ангел подсел к ней и объяснил, что ничего ей не поможет, просто продадут в служанки, о возвращении в Европу не может быть и речи.
Грейт вел самолет и ничего этого не видел, однако Франц рассказал после, что проклятая девчонка не слушала его и кусала до крови губы. Все вспоминала мать и сестер, которым обещала высылать деньги.
Ангел был прав: шейху Джулия понравилась. Смотрела гордо, и только теперь Грейт понял всю привлекательность девушки. Что–то похожее на жалость шевельнулось у него в душе.
Однажды, хватив лишнего, Грейт поделился с Ангелом своими мыслями о Джулии; Франц не сразу понял, кого полковник имеет в виду, а потом стал подтрунивать нал компаньоном, обвиняя его в сентиментальности. Полковник знал, что он никогда не был сентиментальным, просто ему нравились личности сильные и независимые, сам считал себя таким, поэтому и запомнил эту девушку.
Может, все–таки не следовало продавать Джулию? Тем более что «конкурс красавиц», как назвали они свою авантюру в Сицилии, прошел у них более или менее успешно.
Они приехали в небольшой городок Трапани под видом столичных негоциантов. На следующий день Ангел поместил в местной газете краткое объявление: «Представитель большого магазина женской одежды в Риме приглашает девушек Трапани на работу манекенщицами. Условие: отличная фигура и внешность, не старше 24 лет, среднее образование».
Утром они пришли в контору, снятую накануне, увидели десятков шесть девушек, которые штурмовали их полдня: все хотели получить работу. Грейт и Ангел выбрали пятнадцать самых красивых, и на следующий день с сиракузского аэродрома поднялся самолет, пилотируемый бывшим полковником американской армии Кларенсом Грейтом…
— Куда летим? — после долгого молчания спросил Грейт Ангела.
— Во Францию.
— Оттуда до Танжера рукой подать, — одобрил Грейт.
— Славная штука самолет…
Грейт только пожал плечами: не привык слышать прописные истины из уст Франца. Однако он бы не удивился, если бы проследил за ходом мысли немца. Несколько лет назад Ангелу приходилось переправлять свой живой товар по только ему одному известным караванным путям, через пустыни Северной Африки и далее на шхунах через Красное море. На путь, который сейчас измеряется часами, затрачивались недели, не говоря уже об опасности.
Ангел зябко пожал плечами, вспомнив, как однажды их шхуну встретил египетский сторожевик. Слава богу, его заметили сразу, как только он появился на горизонте.
Ангел знал, что по существующему международному праву их могут обвинить в работорговле только в том случае, если застукают вместе с живым товаром. Поэтому он долго не раздумывал. Хорошо, что подготовились они заранее. «Козочек», как любил называть девушек Ангел, по очереди поднимали на палубу, быстро, без лишней суеты заталкивали в специально приготовленные для этой цели мешки с камнями и бросали за борт. Когда сторожевик приблизился к шхуне, рулевой беззаботно вертел штурвал, двое матросов резались в карты, а пассажиры — Ангел и Густав — болтались без дела на палубе, с интересом наблюдая за маневрами военного египетского судна.
По первому требованию сторожевика шхуна легла в дрейф.
Ангел, растянувшись на складной кровати под тентом на юте, с отвращением смотрел за действиями египетских моряков. Они были ему глубоко антипатичны — смуглые парни с длинными арабскими носами. Без году неделя как получили независимость, а поднялись на шхуну как хозяева. Они поставили на палубе часового, а сами стали шарить по трюмам. Ищите, ищите, вам не найти ни одной улики.
Ангел вспомнил, как визжала и кусалась девушка, которой он немного симпатизировал, — официантка из Бордо Лиана. Она сразу догадалась, для чего ей заломили назад руки, для чего двое матросов держат длинный как матрац мешок, и умоляла Ангела:
— Мосье, дорогой мосье Франц! Не топите меня! Я так хочу жить… Не топите меня, дорогой мосье, я согласна на все, никто не услышит от меня ни одного слова, дорогой, добрый мосье!..
Ангелу самому не хотелось топить ее, за девушку можно было получить большие деньги, но он не имел права рисковать. Завязывая мешок, слышал еще:
— Мосье, мой добрый мосье… — И потом, когда ее уже несли к борту, вдруг: — Чудовище, выродок, проклинаю тебя!.. Прок…
За бортом булькнуло, Ангел сразу забыл Лиану, ее умоляющий взгляд и последнее проклятие. Как забывал всегда все неприятное, когда носил черный мундир и фуражку с черепом…
***
Все, что ему ни поручали, Ангел делал старательно, и эсэсовское начальство всегда оставалось довольно гауптштурмфюрером. Поэтому, наверно, и доверило сооружение секретного объекта в Польше, дав в его распоряжение целую строительную команду и неограниченное число военнопленных.
И все же Ангелу было трудно: не хватало строительных материалов, колючей проволоки, электроэнергии, машин. Не хватало всего, кроме пленных, но пользы от них было мало — мерли как мухи, а гауптштурмфюрер спешил и выжимал из них все возможное и даже невозможное. На этом строительстве другой сломал бы себе голову, а вот Ангел сумел закончить его в срок.
Принимала объект комиссия из Берлина во главе с группенфюрером СС. Моложавый, ненамного старше Ангела, любимчик самого Гиммлера, он бегло осмотрел бараки, поинтересовался системой охраны, надежностью проволочной ограды, особое внимание обратил на газовые камеры и крематории. Долго расспрашивал Ангела, что–то подсчитывал и сказал:
— Учтите, уже сейчас нужно начать работы по расширению объекта. Рассчитываем на вашу энергию и инициативу. Я доложу рейхсфюреру СС о вашем усердии.
Ангел не подвел группенфюрера. За три года, когда он был комендантом, лагерь вырос почти вдвое, а высокие трубы крематориев день и ночь выбрасывали густой черный дым.
Коттеджи офицеров СС, подчиненных Ангелу, стояли почти напротив главных ворот, над которыми гауптштурмфюрер приказал вывести готической вязью: «Труд делает свободным». Однако сам комендант не захотел жить так близко от колючей проволоки, и его семья разместилась в особняке за полкилометра от лагеря — небольшой лесок закрывал от глаз и дым, и сторожевые вышки, которые, считал Ангел, портили окружающий пейзаж. Дома Ангел забывал о заботах коменданта, здесь ничего не напоминало о крематориях, здесь он выращивал цветы и овощи, здесь у него родился сын, названный в честь деда Карлом.
Гауптштурмфюрер любил свой дом и заботился о нем. Он провел для себя условную черту, которая разделяла его жизнь на две части: ту, что связана с присмотром за тысячами людей, отправкой их в газовые камеры, и другую, где он отдыхал, — коттедж со светлыми, просторными комнатами, красивая любящая жена, здоровый сын, цветник перед домом и огород за ним, двое–трое друзей, карты и шахматы по вечерам, иногда поездки в Варшаву или Берлин.
Почти никогда, как бы ни опаздывал, Ангел не пользовался служебной машиной — ходил на работу и с работы пешком, считая эти моционы полезными для здоровья. Возвращаясь из лагеря, успевая забыть обо всем, что оставалось там, за лесом, в лагере, снимая в передней мундир, как бы становился добропорядочным; дескать, то, что за проволокой, вынужденное и временное — пока идет война, а человек, становящийся во время войны солдатом, выполняет приказы начальства.
«Так надо, это необходимо фюреру и рейху!» Это убеждение Ангел пытался привить подчиненным.
И все же, как он ни старался дома отгородиться от того, что было там, за лесом, сделать это ему не удавалось. Оно постоянно напоминало о себе, нарушая покой и установленный распорядок. Черный дым, стлавшийся низко над землей, когда ветер дул на запад, проникал через лес, обволакивая виллу и оставляя следы копоти на подоконниках, — даже розы и гвоздики не могли заглушить его тяжелый запах.
Хуже всего было то, что иногда Францу снились кошмарные сны. Да и не только сны: лагерные сцены стояли перед глазами.
Такие, как сегодня. Он видел большие испуганные детские глаза, без слез, сухие, полные страха и надежды. Этот мальчик, наверно, знал, что его ждет, осознай черту между жизнью и смертью, не хотел умирать…
Ангел шел к лесу, замедляя шаг, надеясь, что природа, как всегда, успокоит его, освободит от неприятных воспоминаний.
Вот уже и ручей, делящий лес наполовину. Через него перекинута доска, прогибающаяся под грузным телом гауптштурмфюрера. Сколько раз ему предлагали построить здесь мостик, но Ангел привык к доске. Ангел всегда останавливался на середине доски, ощущая, как пружинит она под ногами.
Сегодня Ангел задержался над ручейком дольше обычного, покачался на доске, но облегчение не пришло, и испуганные детские глаза не исчезали из памяти.
Гауптштурмфюрер прыгнул на тот берег, остановился и снова вспомнил всю сцену. Сегодня прибыл эшелон с женщинами и детьми, кажется, из Сербии, во всяком случае, с Балкан. В это время проводилась так называемая селекция. Со взрослыми было ясно: у эсэсовцев большой опыт, и они еще издалека определяли, кому налево, а кому направо, в газовую камеру. А для детей на высоте метра двадцати сантиметров над землей устанавливали планку: кто проходил под ней свободно, шел направо, в газовую камеру.
Этот, с испуганными глазами (смышленый, наверно, чертенок!), шел, приподнявшись на цыпочки и вытянув худую шею.
Ангел знал такие хитрости, и в последний момент, когда мальчик задел планку маковкой и торжествующе шагнул влево, остановил его стеком, указывая, куда надо идти — в сторону газовых камер. Именно тогда гауптштурмфюрер увидел сухие, без слез глаза, тогда услыхал и вопль женщины, которая упала на колени, протягивая руки…
Ангел вдруг остановился: понял, что тревожило его и почему запомнились глаза мальчишки. Они напоминали ему глаза сына. Вообще Карл был чем–то похож на этого маленького серба. Ангел с облегчением засмеялся: его сыну уготована иная судьба, и он собственной грудью защитит его от житейских невзгод.
…Сегодня Ангел нарушил обычный распорядок и, прежде чем снять мундир, заглянул к Беате. Поцеловав жену, постоял над кроваткой сына: Карл спал, подложив обе руки под голову. Разрумянился, дышал тихо, чуть посапывая и смешно оттопырив верхнюю губу.
— Обедать, обедать… — захлопотала Беата. — Сегодня у нас фасолевый суп и жареная курица с капустой. Иди умывайся…
Ангел с облегчением снял мундир и залез в ванну.
— Достань пива из холодильника! — крикнул Беате, намыливаясь. — И поставь на стол коньяк. У нас сегодня обедает доктор Вундерлих.
Беате нравилось принимать гостей, а особенно доктора Вундерлиха, которому она симпатизировала.
Как–то доктор Вундерлих показывал Ангелу и ей женщин, на которых проводил свои эксперименты по стерилизации. Беата расспрашивала доктора, осматривала женщин, брезгливо морщилась, глядя на двадцатилетних девушек, из которых Вундерлих за полгода делал безобразных старух, а потом долго мыла руки.
— Когда дотрагиваюсь до них, — скривила губы, — у меня возникает чувство, что никогда не отмоюсь…
Вундерлих проводил их до главного входа. Ангел еще издалека увидел у ворот толпу в черных мундирах, но понял, что происходит, только подойдя вплотную. Эсэсовцы, заметив коменданта, вытянулись по стойке «смирно», давая проход. В конце этого коридора стояла молоденькая девушка, совершенно обнаженная. Стояла, глядя прямо перед собой и, наверно, ничего не видя.
Девушка была белокурая, белолицая, со светло–зелеными глазами. Ангел на секунду подумал, что она могла бы стать олицетворением нордической красоты, и с Любопытством направился к девушке. Однако, вспомнив, что держит под руку жену, инстинктивно замедлил шаг и чуть скосил глаза, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на нее эта сцена.
Беата отвечала на приветствия знакомых офицеров, словно и не заметила живой статуи на фоне ворот. А молодых эсэсовцев, очевидно, забавляла необычная ситуация.
Ангел сделал шаг в сторону, чтобы обойти девушку, но Беата прошествовала прямо, будто впереди стояла не нагая женщина, а манекен. Тогда Франц подвел жену к девушке, остановился, поднял стек и дотронулся до девичьих грудей.
— Она неплохо сложена… — провел стеком по линиям бедер.
Беата отступила на шаг, разглядывая девушку.
— Хороша… — согласилась без энтузиазма. — Молодая и красивая, вот только ноги толстоваты… За что ее наказали?
От группы эсэсовцев отделился совсем юный унтерштурмфюрер, сказал с усмешкой:
— У нее вызывающий взгляд, фрау Ангел!
— А–а… — приняла как должное Беата и тотчас утратила интерес к девушке, обернулась к доктору, протянув руку для поцелуя.
Вечер прошел неплохо, у Ангела не испортилось настроение даже после проигрыша доктору Вундерлиху партии в шахматы.
Беата ушла укладывать Карла спать, и тут вдруг Вундерлих перевел разговор на щекотливую тему. Сделал он это не без опасения.
— Меня волнует это новое сокращение линии фронта, — сказал доктор, исподлобья взглянув на Ангела. — Они уже подошли к польской границе и…
Ангел молчал.
Взвешивал, стоит ли поддерживать разговор, поскольку догадывался, куда гнет доктор, что тревожило его и лишало обычной осторожности. Знал: лучше промолчать или отделаться незначительной репликой, но какая–то темная сила подтолкнула его, и он сказал:
— Русские могут прийти сюда очень скоро, и я удивляюсь нашему руководству, которое заблаговременно не думает искать выход, чтобы… — и сразу остановился, словно дотронулся до раскаленного железа, глянул на Вундерлиха растерянно.
Но рубикон уже был перейден, и доктор закончил его мысль:
— Я также думаю, что следовало бы… Если хотите, замести следы. Русские и поляки кричат на весь мир о крематориях, и мне не хотелось бы, чтобы мое имя упоминалось на суде.
«Они повесят нас, не задумываясь и не устраивая судебной комедии», — подумал Ангел, а сказал совсем иное:
— Возможно, наши тревоги напрасны, русских не допустят так близко к границам рейха.
— Дай бог, — вздохнул Вундерлих. Перегнулся через стол к Ангелу и спросил с надеждой: — Как вы думаете, ведь нас трудно обвинить: мы солдаты, а солдат выполняет приказ?
Для гауптштурмфюрера этот вопрос был решен давно: достал надежные документы на другое имя и намеревался исчезнуть, не дожидаясь, пока о нем позаботится начальство. Но об этом не знала даже Беата.
— Не думаю, что есть особые причины для беспокойства. Наш дух и наша сила неодолимы, и временные неудачи на фронте не должны поколебать нас. — Почувствовал, что слова эти прозвучали фальшиво, но произнес их вполне искренне, поскольку вспомнил недавний случай там, за проволокой, который давал ему основание для таких суждений. — Я не могу поверить в стойкость славян — раб никогда не преодолеет рабской психологии.
— Ну, — возразил Вундерлих, — это уже давно опровергнуто историей.
Ангелу не хотелось спорить, но он все же рассказал доктору о случае с двумя русскими военнопленными.
Несколько дней сеял мелкий дождь, землю развезло, и даже проложенные вдоль лагерных улиц красные кирпичные дорожки покрылись слоем липкой желтой глины. Комендант производил свой ежедневный обход скорее для поддержания порядка, нежели из–за необходимости. Шел медленно, подняв капюшон блестящего плаща, казалось, ни к чему не присматривался, но замечал и запоминал все. Проходя мимо уборной, услышал такое, что даже его удивило: кто–то смеялся весело и задорно. Остановился, чтобы посмотреть кто.
В черном отверстии двери появились двое: молодой, с широким открытым лицом, высокий и, наверно, сильный, и пожилой седой человек с глубоко посаженными темными усталыми глазами. Молодой, шедший сзади, что–то говорил седому, и тот дружелюбно посмеивался. Вдруг, заметив коменданта, седой дернул молодого за руку, предупреждая, — лица их окаменели. Но было поздно. Гауптштурмфюрер подозвал их к себе и спросил:
— Русские?
— Яволь! — вытянулся молодой.
Гауптштурмфюрер пошлепал носком сапога по грязи. Последнее время он все чаще и чаще думал о русских, и, может, это стало причиной того, что вдруг гнев застлал ему глаза, перехватил дыхание — Ангел поднял руку со стеком. Если бы ударил хоть раз, то уже бил бы и бил, пока не стало бы легче или не обессилел. И все же остановился в последний момент, заставил себя остановиться.
Эмоции были противопоказаны работникам лагеря, эмоции позволялись дома, а здесь была работа, которую Ангел считал ответственной и деликатной. В лагере надлежало всегда поддерживать порядок. Порядок во всем, начиная с чистоты в газовых камерах и кончая непременно покорным выражением лица всех узников.
Эмоции препятствовали этому порядку, эмоции могли привести к хаосу — Ангел сдержался и опустил стек. Стоял, с интересом глядя на двух военнопленных. Он хотел уже отпустить их, но вспомнил, что такой поступок тоже диктовался бы эмоциями и стал бы выражением некой нездоровой расслабленности. Собственно, следовало бы записать их номера для немедленного отправления в газовые камеры. Ангел уже потянулся за блокнотиком, но не захотел снимать перчатку — дождь хлестал. Он усмехнулся и приказал молодому:
— А ну дай ему понюхать это…
Ангел показал, что и как надо делать, размазывая подметкой сапога вонючую кашицу глины и нечистот.
Молодой военнопленный смотрел на Ангела, будто не понимая, что ему приказывают, — пауза затягивалась, и комендант уже решил записать их номера, как вдруг молодой перевел взгляд на своего седого товарища.
Ангел улыбнулся. Седой опытнее этого парня и понимает, чем все это может кончиться. Стоило ему пошевелиться, сказать хотя бы слово, и их судьба была бы решена. Но седой не сказал ничего, а молодой схватил его за воротник, нагнул так, что тот стал на колени, и стал тыкать лицом в грязь. Раз… и два… Но не очень сильно.
Ангел приказал:
— Сильнее!.. Не жалей его!..
И тогда молодой стал тыкать быстрее, грязь разжижилась, и брызги разлетались вокруг.
— Хватит! — приказал наконец Ангел.
Лица седого не было видно — какое–то месиво из грязи и крови. Он не вытирался, стоял не двигаясь, только тяжело дышал и смотрел пустыми водянистыми глазами.
— А теперь ты его… — указал Ангел на молодого, и седой, не раздумывая, начал тыкать парня в грязь. — Отомсти!
Вдруг ему сделалось противно от этой покорности; подумал, что же двигает этими людьми, грязными, распластанными у его ног, что же двигает ими и почему они послушны? Очевидно, русским на фронте просто везет и, наверно, их скоро остановят. Он сразу утратил интерес к этим двоим. Пошел, уже не обращая внимания на дождь и грязь, — все равно сапоги запачкались…
Потом он пожалел, что не записал их номера. Два или три дня всматривался в лица военнопленных, отыскивая тех русских. Но выражение покорности и пустые глаза узников делали их лица удивительно похожими, и по ночам, когда Ангелу снились страшные сны, тысячи лиц сливались в одно, оно росло и росло, грязное, измазанное вонючей жижей, смешанной с кровью, — одно лицо во всем лагере. Но ночами у этого лица не было покорного выражения, глаза смотрели дерзко, однажды Ангел увидел в них даже ненависть. Хотел ударить по ним — черным, большим, сверлящим, но рука не поднималась, даже не смог заслониться ладонью от жгучего жара этих глаз — кричал и метался во сне.
***
Дождь утих, но тучи сгущались, и было такое чувство, что вот–вот кто–то выжмет их как губку, и по еще не просохшему асфальту снова зажурчат мутные ручейки, а по ним изо всей силы хлестнут, оставляя пузыри, потоки светлой теплой дождевой воды.
В детстве Анри в одних трусах носился по лужам, зажмурив глаза, подставлял лицо под тугие струи и пил всласть дождевую воду. Она медленно набиралась во рту, он глотал, чтобы снова жадно подставить губы под струи.
И сейчас у Анри было такое настроение: прыгал бы, ощущая пятками водяную упругость, и смеялся, протягивая к небу мокрые ладони. Все время улыбался, сам не зная отчего, широко и счастливо, и прохожие, видя его улыбку, уступали ему дорогу: было ясно — счастлив человек оттого, что идет с такой красивой девушкой.
Они сели на набережной Сены. Анри снял пиджак и накинул на плечи Генриетте — девушка стала как бы ближе ему: он хотел сказать это, но только бросал камешки в реку и следил за кругами, расходившимися по темной воде.
Совсем близко прошел катер, он тащил против течения баржу, тяжело стуча моторами, а баржа плыла за ним тихо, нагруженная так, что, казалось, вода вот–вот хлынет через борта. Она виделась Анри неуклюжей, толстой женщиной, которую тащит по жизни работяга муж, и он, смеясь, сказал об этом Генриетте.
Генриетта посмотрела на него задумчиво, помолчала и ответила, как показалось Анри, совершенно невпопад:
— Завтра мы еще увидимся, а послезавтра я уеду…
— Куда? — испугался Анри, не поняв ее.
Генриетта бросила камешек в воду, подождала, пока исчезнут круги, и попросила:
— Не надо расспрашивать, милый, я напишу тебе… Это уже была катастрофа — ему хотелось переубеждать, спорить, но он только сказал растерянно:
— Я же люблю тебя…
Она засмеялась.
— И я тебя.
— Так что же?..
Генриетта приложила палец к его губам, и Анри понял: она уже все решила, и теперь поздно ее уговаривать. Но что все–таки она надумала?
Анри начал издалека:
— Я мог бы помочь или хотя бы посоветовать…
Генриетта оборвала его:
— Все уже решено, милый…
Для своих двадцати семи лет Анри Севиль занимал довольно солидное положение в одном из левых парижских журналов. Читатели давно оценили его острые политические обозрения. И не только читатели. Редактор одного из нашумевших, но не очень разборчивых изданий уже подсылал к Севилю своего сотрудника прозондировать, не клюнет ли тот на гонорар, вдвое больший, нежели платит жалкий левый журнальчик.
Анри слушал маститого коллегу внимательно. Тот, не получив сразу отказа, стал рисовать перспективу, которая открылась бы перед Севилем, и очень расстроился, когда Анри категорически отказался.
Анри засмеялся, представив, какими глазами посмотрит на него Генриетта, если он согласится. Ему стало весело: из–за Генриетты можно отказаться и от мировой славы. Так он и сказал ей вечером в бистро возле редакции, где они встретились. И сразу предложил переселиться в его небольшую квартирку на бульваре Араго.
Признание Генриетте не было результатом эмоциональной вспышки или минутного порыва. Анри все продумал и взвесил. Вероятно, ему,женившись, придется преодолевать, особенно вначале, некоторые материальные трудности, но уже была договоренность с главным редактором о повышении зарплаты в будущем году, что обеспечивало ему и Генриетте прожиточный минимум.
И вдруг такое…
В сердцах Анри швырнул камешек до середины Сены, но Генриетта, все поняв, прижалась к плечу Анри щекой. Он не мог сердиться, если она просила помилования, и, не выдержав, поцеловал ее влажные, чуть раскрытые губы. Генриетта ответила, и они долго целовались, прикрывшись пиджаком и ни на кого не обращая внимания.
Они целовались бы еще и еще, но туча вдруг прорвалась дождем. Генриетта, оторвавшись от Анри, подставила зацелованные губы под капли. Дождь хлестал по ее лицу, и она смеялась и глотала дождевую воду совсем по–детски, прихлебывая.
Они промокли, но Генриетте не было холодно. Анри и подавно. Он не заметил бы и настоящей бури, лишь бы было хорошо Генриетте. Вдруг она опомнилась, схватила его за руку и потянула к зданию, где в подъездах прятались застигнутые непогодой одинокие прохожие.
Полная женщина, которая и в подъезде не складывала зонтик, пропустила их, посмотрев недовольно и даже осуждающе. Наверное, она имела на это основание: их поведение было безрассудным, но сегодня Анри плевал на мнение всего Парижа: стояли и смеялись, наблюдая, как льется с них вода, как бежит со щек, с ушей, с подбородка…
Потом Генриетта опустила глаза и покраснела: прозрачная блузка прилипла к телу. Девушка прикрылась пиджаком Анри, но это не помогло: юбка облепила бедра, и Анри казалось, что — мужчины, прятавшиеся от дождя в подъезде, только и делают, что смотрят на них. Он заслонил девушку, Генриетта поняла все и посмотрела благодарно.
А дождь лил и лил, и не было ему конца.
Генриетта вытерла лицо платочком, который сразу промок, выжала воду из подола. Потом ей стало холодно — Анри увидел, как у нее покрылась гусиной кожей шея. Через три дома светились окна бистро, Анри уже хотел предложить перебежать туда, но вспомнил, что за углом, совсем недалеко, живет Серж Дубровский. Севиль был в гостях у Дубровского несколько раз; они не то чтобы дружили, а симпатизировали друг другу; Сергей, корреспондент советского агентства печати, часто заходил в их редакцию — они не только перебрасывались двумя–тремя словами либо делились новостями, но и не один час просидели за чашкой кофе в соседнем ресторанчике.
Вначале Генриетта заколебалась: удобно ли заходить в такую пору, но Анри быстро переубедил ее, и они побежали под ливнем.
Через несколько минут уже звонили в квартиру Дубровского.
Хозяин открыл сразу, будто ждал кого–то. Смотрел на Генриетту с любопытством и немного удивленно, а когда разглядел, улыбнулся широко:
— Боже мой! Что же вы стоите? Проходите…
Генриетта взглянула на лужу у ног, но Сергей уже затащил их в прихожую. Он дал Генриетте свой халат, а Анри — пижаму. Мокрые вещи развесили в ванной. Дубровский включил электрический камин и предложил девушке с ногами залезть на широкую и мягкую тахту.
Генриетта согрелась и почувствовала себя здесь хорошо. Сергей понравился ей — высокий, наверно, сильный и добродушный, но не простой, какими обычно бывают очень добрые люди: она ощущала за его силой энергию, а за мягкостью проницательность.
Дубровский подвинул к тахте столик с кофе и сигаретами. Они заговорили наперебой о погоде, о политическом курсе Франции, о войне и фашистском концлагере, где был Дубровский, он там принимал активное участие в Сопротивлении, и снова о погоде — дождь и дождь! Уже никто не помнил, как от дождя перешли к обсуждению премьеры в «Комеди франсэз» и так же, мимоходом, обругали новый итальянский фильм…
— А дождь прекратился… — Генриетта подошла к окну, выглянула. — Да, перестал. Уже почти двенадцать, и гости, наверно, надоели хозяину…
Сергею не хотелось, чтоб они уходили, но, увидев, как заторопились, взял шляпу, чтобы проводить их.
***
…Море осталось позади, и самолет снизился. Генриетта посмотрела в иллюминатор. Где–то далеко под крылом промелькнули убогие хижины, отары овец. Потом потянулись однообразные желто–зеленые заросли какого–то кустарника. Самолет сделал круг и пошел на посадку.
Генриетта осторожно вынула из–под блузки письмо и положила его во внутренний карман жакета. Самолет несколько раз сильно тряхнуло, и вскоре он остановился.
Генриетта еще раз посмотрела в иллюминатор на окружающие кустарники и спокойно направилась к выходу. Другие девушки прильнули к иллюминаторам, испуганно глядя на людей, выбежавших из–за кустов. Генриетта этого не видела — стояла возле двери и смотрела, как от кабины пилота между сидений приближался розовощекий человек в хорошо скроенном костюме. Думала, как могла так попасться в ловушку, но не впадала в панику, поскольку это означало бы гибель, а шансы на спасение давали только выдержка и сила духа.
Розовощекий приближался, а она смотрела на него, как смотрят обычные пассажиры на члена экипажа: без особого интереса, но и не отчужденно. Он подмигнул ей по–дружески, хотел пошлепать по щеке.
Генриетта спокойно отвела его руку, и он не обиделся. Вежливо попросил перейти на другое место.
На мгновение Генриетте стало страшно. Отступила в глубь салона и села на чей–то чемодан. Подумала: сейчас появится тот, который вел самолет, «полковник Кларенс», как назвал его розовощекий. Возможно, это было вымышленное имя, но все равно Генриетта уже никогда не забудет его, как и разговор, который она случайно подслушала в самолете. И пока пилот еще не вышел из кабины, снова осмыслила все, что произошло, — от посадки на самолет под Марселем до его приземления около этих опаленных солнцем кустарников.
…Две недели тому назад Генриетта прочитала в «Пари суар» объявление, в котором приглашались красивые девушки на работу экскурсоводами в Северную Африку. Контракт — на год, два и три. Генриетта позвонила по указанному номеру, и ее пригласили в контору на Жак–Доллан. Там и встретил ее розовощекий, отрекомендовавшийся Жаном Дюбуи — доверенной личностью большой туристской фирмы. Он рассказал об условиях работы, показавшихся Генриетте блестящими, просмотрел ее документы и спросил, знает ли она иностранные языки. Генриетта назвала только итальянский и английский, хотя немного знала и немецкий.
 Розовощекий предложил Генриетте контракт на три года, но она согласилась только на годовой. Подписала, небрежно глянув на текст договора, поскольку Дюбуи выдал ей аванс и было неудобно вчитываться — фирма, которая не скупится на королевский аванс, не может быть несолидною. Тем более что розовощекий посоветовал:
— Прочитайте внимательно, мадемуазель, нам бы не хотелось, чтобы потом возникли недоразумения. Мы привыкли выполнять свои обязательства, но требуем этого и от вас.
— Я не ищу легкого хлеба, — только ответила она и расписалась.
Дюбуи вручил ей билет на поезд до Марселя и объяснил, где и когда должна быть, чтобы не опоздать на самолет, которым фирма переправит ее и других новых работниц в Северную Африку.
Впервые все они собрались в десять часов утра у отеля «Наполеон». Пятнадцать разных по характеру, взглядам, нравам, но все молодые и красивые.
Кто–то из марсельских пижонов, пораженный такой картиной, не выдержал и предложил:
— Пташки, возьмите меня с собой. А еще лучше оставайтесь здесь. Гарантирую всем шумный успех, а сегодня — веселый вечер…
Он попробовал протолкнуться к дверцам автобуса, в который садились девушки, но споткнулся о своевременно подставленную ногу хмурого верзилы в надвинутой на лоб шляпе.
— Я тебе покажу «пташки»… — прошипел верзила, и пижона как ветром сдуло.
— Поехали, Густав! — позвал верзилу Дюбуи.
Тот сел за руль, и автобус рванул с места. Ловко маневрируя, Густав вывел машину на автостраду, и через четверть часа будущие экскурсоводы уже поднимались в самолет.
Генриетте пришлось сидеть в хвосте, и ее сразу затошнило. Вскоре сделалось совсем плохо, и она бросилась в туалет. Там и услыхала разговор, который огорошил ее. И все же она нашла в себе силы ничем не выдать себя и внимательно слушала, стараясь не пропустить ни одного слова.
Разговаривали в тамбуре по–немецки и не очень опасались — были уверены, что никто из пассажирок не понимает их.
— Нас ждет грузовик и пять легковых машин, — сказал какой–то мужчина за дверью туалета. Генриетта сразу же узнала голос Дюбуи. — Разгрузимся, и вы, полковник, сразу посадите самолет в Танжере. Таможенникам на радость…
— Не забудьте прислать в аэропорт машину, — проговорил полковник на ломаном немецком языке. Потом попросил: — Налейте мне виски, Франц.
— Но вы же ведете самолет, Кларенс…
— Сейчас я включил автопилот… Глоток спиртного никогда не помешает.
Уже начало этого разговора насторожило Генриетту, почему Дюбуи из Жана вдруг превратился в Франца? И тут она припомнила, что уже при первом знакомстве заметила у него иностранный акцент, но мосье служил в Африке, и это не показалось странным. Но при чем здесь таможенники?..
— Вы же знаете, я спокойно отношусь к прошлому, — произнес Франц.
— Это пока не заденет вас лично, — отпарировал полковник. — И ваших дел в…
У Генриетты оборвалось сердце: полковник произнес это слово спокойно и безразлично, так, как она говорила о Париже, Лионе, Гамбурге, Лондоне. Но это слово стало символом смерти — только недавно она слышала его из уст Сержа Дубровского.
Франц сказал недовольно:
— Я же просил вас…
— Вы стали пугливы. Нас никто не слышит, а если бы и услыхали…
— И все–таки…
После паузы полковник спросил:
— Когда вы скажете девчонкам о перемене их профессии?
— Не люблю откладывать. Лучше сейчас.
— Я взгляну на приборы и приду посмотреть спектакль.
Сразу все стихло. Генриетта осторожно выскользнула из туалета и чуть не столкнулась с розовощеким. Тот посмотрел на нее подозрительно, спросил по–немецки:
— Что вам тут нужно?
Генриетта сообразила, что не следует выдавать свое знание немецкого, и только пожала плечами.
— Сядьте на свое место, мадемуазель, — приказал тот уже по–французски.
В конце самолета стоял Густав, широко расставив ноги и заложив руки за спину.
Франц прошел вперед, заглянул в кабину — оттуда вышел человек еще выше Густава и наверняка сильнее.
«Полковник», — поняла Генриетта. Она сидела возле иллюминатора, спрятавшись за спинку кресла, и ждала. Догадывалась: сейчас произойдет нечто страшное.
— Минутку внимания, девушки, — захлопал в ладоши розовощекий. — Я должен сделать довольно срочное и, может, для некоторых неприятное сообщение… — Вынул из кармана какие–то бланки, помахал ими над головой. — Знаете, что это такое? Точные копии договоров, которые вы подписали с нашей фирмой. Обратите внимание на пункт шестнадцатый… — Бросил бланки передним девушкам. — Вчитайтесь в него внимательно, мои козочки. Понятно? Кто из вас нарушит договор — заплатит пятьсот тысяч франков! — Улыбнулся доброжелательно и сказал мягко, ласково, словно сообщал что–нибудь успокоительное: — Но это так… Просто для формы, мои дорогие, чтобы вы поняли, что нет смысла брыкаться и показывать коготки. Но что поделаешь, наша фирма имеет уже достаточно экскурсоводов, мне сообщили об этом уже в последнюю минуту, и вам придется как–то по–другому обслуживать клиентов… В ночных кабаре Танжера… Вы поняли меня, козочки?..
Ровно гудели моторы, никто из пассажиров не проронил ни слова. Потом девушка, сидевшая за Генриеттой, сказала тихо и как бы с удивлением:
— Какой мерзавец!
А другая, не поднимаясь, произнесла спокойно:
— Вы плохой шутник, мосье Жан…
— Если вы так воспринимаете мою откровенность, то я молчу… Но прошу учесть, мы не церемонимся с непокорными!
Теперь поняли все. Кто–то заплакал, а высокая брюнетка, что сидела в первом ряду, зло бросила розовощекому в лицо скомканный договор и истерично закричала:
— Вы негодяй!.. Мы пожалуемся! Вы не имеете права!..
— Имеем, козочки… Обратите внимание на пункт четырнадцатый: фирма может использовать вас на других работах. Вам ясно, мадемуазель? На других работах…
— Подлец! — Девушка закрыла лицо руками и заплакала.
— Вам не удастся нас обмануть! — Вскочила ее соседка и двинулась на Франца с поднятыми кулаками. — Мы заявим в полицию!
Полковник сделал шаг вперед, и девушка отступила, словно натолкнулась на непреодолимую стену.
— Вот что, райские птички, — произнес грозно полковник, — я с вами не собираюсь разводить церемоний! Я здесь и полиция и закон! Кто не будет повиноваться, голову сверну!..
— Так точно… — подтвердил Франц. — Однако должен напомнить вам, козочки, что мы предлагаем прекрасные условия. Можете получить вдвое, а то и втрое больше, чем обусловлено контрактом. За три года можно заработать приличную сумму. Вернетесь в свой Париж богатыми невестами… Решайте, фирма гарантирует полную секретность.
— Какой мерзавец! — не выдержала соседка Генриетты, рванулась вдоль сидений, занесла над головой сумочку, но Франц перехватил ее руку, толкнул в грудь. Девушка зашаталась, но удержалась на ногах, ухватившись за спинку кресла, затем плюнула Францу в лицо.
Франц поднял руку; еще мгновение, и ударил бы — даже пощечина принесла бы ему удовлетворение, — но сдержался.
— Я припомню это вам, мадемуазель… — процедил со злобой, вытираясь. — Густав! Наведи порядок!
Тот протиснулся в узком проходе, положил девушке на плечи руки, легко подмял ее, завернув руки назад, и бросил в кресло, да так, что она ударилась головой о бок Генриетты.
— Ну? — спросил Густав. — Кому еще не нравится?
Все молчали.
— Ничего, козочки, привыкнете, — сказал розовощекий благодушно. — У вас будут прекрасные условия: отдельная комната, хороший портной, вкусная еда… Вам просто повезло, мои дорогие…
Генриетта приподнялась.
— Чего тебе? — задержал ее Франц. — Куда?
Генриетта только указала в сторону туалета.
— А–а, — розовощекий пропустил ее, но, когда она взялась уже за ручку двери, остановил резким окриком: — Стой!
Заглянул сам в туалет, осмотрел все тщательно. Генриетта оперлась о стенку, вынула платок из сумки, зажала рот.
— Иди! — подтолкнул ее Франц, и Генриетта склонилась над умывальником, закашлялась.
Ангел постоял несколько секунд и прикрыл дверь.
Девушка, продолжая кашлять, быстро вынула из сумочки блокнот, прыгающим почерком набросала несколько строк, вырвала страничку, сунула в конверт и написала адрес. Заклеив конверт, сунула его под блузку и вышла из туалета.
Спутницы сидели тихо, с ужасом поглядывали на Густава, прохаживающегося между креслами.
Генриетта упала на свое кресло и посмотрела в иллюминатор. Далеко внизу, где морская синь сливалась с синевой неба, проступала темная полоса, самолет уже шел на посадку.
Франц спрыгнул на землю первым. Генриетта видела, как он делал кому–то знаки, размахивая руками. Скоро из–за кустов медленно выползли легковые автомашины.
Франц оглянулся и позвал:
— Выходите, мадемуазель Лейе!
Сказал как добрый знакомый, который сейчас подаст руку и поможет сойти по трапу.
— О багаже не волнуйтесь, его привезет грузовик.
Генриетта зашла за хвост самолета, осмотрелась вокруг. Окна в машинах закрыты шторами. Она сломала ветку куста, глянула исподлобья: не смотрит ли кто? Затаив дыхание, вытащила конверт, чтобы наколоть его на длинную колючку, но не успела сделать это: рядом затормозила длинная серая машина. Прикрыла конверт сумочкой и первой влезла в машину, чтобы занять место с краю.
Автомашины уже отъезжали, когда Франц плюхнулся на первое сиденье. Ехали по выбоинам, раскачиваясь в разные стороны.
Выбрав удобный момент, Генриетта надавила коленом на рукоятку — дверца открылась, и конверт упал в щель.
— Закройте двери, — резко обернулся Ангел. — Бежать тут некуда!
Генриетта выдержала его взгляд.
***
Сергей брился в ванной, когда зазвонил телефон. Дубровский, выключив электробритву, поспешил к письменному столу. Вначале ничего не понял — какой–то взволнованный голос сообщал о письме ив Танжера… о несчастье…
— Извините, ничего не пойму. Кто это?
— Боже мой, это же я, Анри!.. Анри Севиль. Только что получил письмо от Генриетты… из Танжера… Она попала в беду, и я хотел бы… Ты сейчас будешь дома? Беру такси…
Сергей немного постоял возле стола, но, так ничего и не сообразив, возвратился в ванную.
Анри буквально ворвался к нему, растрепанный и небритый, галстук перекосился — всегда аккуратный и подтянутый Анри. Дрожащими руками совал Сергею грязный, помятый конверт и, казалось, вот–вот заплачет или закричит от отчаяния.
Дубровский тут же, в прихожей, пробежал глазами письмо. Корявые буквы, строчки расползлись в разные стороны:
«Спасайте, ради бога, спасайте! Если это письмо не дойдет по адресу, обозначенному на конверте, передайте его полиции. Мое имя Генриетта Лейе. Человек, который назвал себя Жаном Дюбуи, завербовал в Париже меня и еще четырнадцать девушек на работу в Африку. Вылетели самолетом с аэродрома близ Марселя. Нас собираются продать в ночные кабаре. Дюбуи и полковник Кларенс. Настоящее имя Дюбуи — Франц. Во время войны он служил в концентрационном лагере в Польше. Среднего роста, розовощекий. Наш самолет держит курс на Танжер. Это все, что я знаю. Кто бы вы ни были, спасайте нас!»
— Я ничего не знаю! И вообще ничего не понимаю… — чуть не плакал Анри.
— Она, наверно, выбросила письмо где–нибудь по дороге или передала с кем–нибудь.
— Я получил его час назад…
— Вот что, — рассердился Дубровский, — поплакать ты всегда успеешь. — Подал Анри бритву. — Брейся и будем решать, что и как делать.
Очевидно, решительность Дубровского подействовала на Севиля. Покорно включил бритву и стал бриться, выжидающе глядя на Сергея.
Тот размышлял вслух:
— Итак, приблизительно пятнадцатого мая Генриетта Лейе подписала контракт и попала в руки гангстеров, которые вывезли из Франции пятнадцать девушек для продажи в ночные кабаре Танжера. Можно установить, какой самолет вылетал примерно в это время из района Марселя. Хотя вряд ли этот Франц и полковник Кларенс, как называет их Генриетта, оставили свои визитные карточки…
Внезапно Дубровский, задохнувшись, сел на тахту.
— Розовощекий… розовощекий… — беззвучно двигал губами. — И служил в лагере в Польше…
Он потер лоб, словно старался отогнать зловещие видения, но перед глазами не исчезали сторожевые вышки с пулеметами, ограда из колючей проволоки, мрачные кирпичные бараки.
… С неба сеял холодный и мелкий дождь. Они — это Владимир Игнатьевич Заболотный, работник из белорусского города Мозыря, и он, Сергей Дубровский, который всего лишь полгода назад был старшим сержантом, но, попав в плен, стал заключенным этого лагеря смерти — человек под номером 110182.
Седоголовый Владимир Игнатьевич специально вызвал в уборную Сергея как одного из участников лагерного Сопротивления, и теперь они разговаривали, не боясь третьих ушей. Все в лагере жили надеждой, что терпеть осталось не так уж много. Только что Заболотный принес подтверждение этому: там, на востоке, началось новое наступление, и советские войска подошли к границам Польши.
Дубровский смотрел на серое дождливое небо, и ему вдруг послышался гул канонады, он обрадовался, словно это и на самом деле была канонада, вытянул шею, насторожил уши.
И засмеялся…
Заболотный вдруг схватил его за руку, и Сергей взглянул на него удивленно. Но сразу посмотрел туда, куда показывал глазами Владимир Игнатьевич, и осекся.
На красной кирпичной дорожке, ведущей к баракам, стоял офицер в блестящем плаще. Стоял неподвижно, казалось, не смотрел на них, но поманил пальцем, и они пошли к нему, сразу сникнув.
Сергей узнал офицера еще издалека, поскольку привык видеть эту фигуру, когда заключенные строились на лагерном плацу и тот стоял чуть поодаль от остальных офицеров в черном — вершитель судеб, гауптштурмфюрер СС, комендант лагеря.
Невысокий, толстый, он проигрывал рядом со своими подчиненными, даже манера держать руки в карманах и переступать с ноги на ногу делала его каким–то домашним в сравнении с крепкими надзирателями, белой вороной в черной стае. И сейчас, когда Сергей имел возможность рассмотреть коменданта вблизи, он произвел на него такое же впечатление: розовощекий, как ребенок, и нет ничего грозного во взгляде. Даже улыбается.
Они стояли перед ним — двое мужчин в мокрой полосатой одежде, которая делала их жалкими.
Офицер разглядывал их с любопытством и, Сергею показалось, без злобы: поймал даже веселую искорку в его глазах. Он смотрел на розовые щеки, видел, как двигаются губы коменданта — яркие, пухлые, знал, что эсэсовец что–то говорит, но ничего не понимал и даже не слышал его голоса.
Но почему офицер тычет стеком в грудь Заболотного?
Комендант пошлепал носком сапога по жидкой грязи и спросил нетерпеливо:
— Понял?..
Только теперь Дубровский уяснил, чего добиваются от него, вернее, Сергей понимал это и раньше, понимал все время и слышал, просто казалось, что не слышал, словно были слова и не было их. Он успел даже подумать, что может дотянуться не только до розовых щек (интересно, на самом ли деле они такие бархатные, как кажется?), но и до комендантского горла. Он сделает это быстрее, нежели тот успеет защититься, и, пожалуй, у него хватит сил, чтобы одним рывком разорвать хрящи гортани.
Это желание было настолько сильным, что почувствовал, как онемели кончики пальцев; но все же пересилил себя, а может, просто взял верх инстинкт самосохранения, который заставлял заключенных втягивать голову в плечи и горбиться при виде эсэсовцев, — шагнул назад, ибо не мог сделать то, что заставлял эсэсовец, даже под угрозой самого большого наказания.
И в это мгновение встретился глазами с Заболотным.
Они смотрели друг другу в глаза, может быть, один миг, а может, и больше. Владимир Игнатьевич не подал ему ни одного знака, даже не моргнул; зрачки его расширились, и серые глаза сделались черными. Он приказывал глазами, и Сергей понял его. Поднял руку и увидел, как послушно согнулся Заболотный, не ждал, пока пригнут его к земле, сам стал на колени, погрузив лицо в грязь.
Дубровский прижал его совсем легко и сразу отпустил, но немец толкнул Сергея сапогом в бок и приказал: «Сильнее! Не жалей его!»
Сергей не мог сделать этого, но почувствовал, как от его совсем легкого толчка Заболотный так шлепнулся в грязь, что полетели брызги, — теперь он вполне понял Владимира Игнатьевича и начал тыкать быстрее. Видел только носки сапог коменданта и знал, что тот следит внимательно: толкал Заболотного по–настоящему, но все же вполсилы — хорошо, что комендант не знал, не мог знать, какая сила еще таилась в Сергее.
«Хватит…» — наконец послышался приказ.
Сергей отвернулся, чтобы не видеть окровавленного лица Заболотного, — не мог, не имел права смотреть на него, потому что мог выдать себя, наверняка выдал бы — нервы уже не выдерживали: заплакал бы от отчаяния либо бросился на розовощекого…
Если бы комендант в этот момент смог заглянуть ему в глаза, возможно, уловил бы в них мгновенную улыбку. Сергей застыл в ожидании: видел только комендантские сапоги, нетерпеливо переступающие на месте; это предвещало нечто недоброе, и в самом деле немец выкрикнул зло: «Отомсти ему!..»
На затылок Сергею легла мокрая и холодная рука, грязь потекла по шее. Владимир Игнатьевич надавил ему на затылок, и Дубровский понял, что Заболотный благодарит и подбадривает его. Это взволновало Сергея, какой–то нерв оборвался, он всхлипнул, сам бросился в грязь, бился лицом о землю, стараясь хоть немного приглушить ту боль, что рвалась изнутри с рыданиями.
Сколько прошло времени, не помнил — бился, как в эпилептическом припадке, но вдруг его грубо одернули и остановили. Сергей открыл глаза, заметил, как из носа в кровавую лужу капает жидкая грязь, и капли почему–то красные, никак кровавые. Откуда кровь? Сразу понял и вытер рукавом лицо. Увидев черную спину коменданта, который, не оглядываясь, шагал по кирпичной дорожке, поднял глаза и встретился взглядом с Заболотным.
Лицо Владимира Игнатьевича напоминало кровавое месиво, все в липкой грязи — виднелись только глаза, смотрящие, как всегда, с хитринкой. Он вынул из кармана какую–то тряпку, вытер лицо Сергею и стал вытираться сам.
— Спасибо тебе, парень, не плачь, глупый, еще раз говорю: спасибо… — сказал Заболотный.
Но Сергей всхлипнул, хотя и знал, что самое страшное уже позади и Владимир Игнатьевич прав: стоило ему не послушать коменданта, и этот день стал бы для него последним. А они надеялись выжить, умереть здесь было легко, смерть подстерегала на каждом шагу — непроизвольно Сергей взглянул в сторону крематория, над которым клубилась черная туча, — действительно, сегодня им повезло…
Дубровский осознавал это, но не мог перебороть боль, вырывавшуюся из него хриплыми рыданиями, — эта боль не утихла даже по сей день, хотя после войны уже прошло много лет.
Иногда Сергей получал письма от Заболотного, который работал где–то под своим Мозырем. Сергей знал, что тогда они спасли жизнь друг другу, но раковая опухоль позора все же жила в нем, и он временами даже задыхался от нестерпимой боли, вспоминая вонючую грязь, блестящие комендантские сапоги, и думал, что, может, лучше было тогда умереть…
И сейчас, только вспомнив розовощекого, почувствовал, как знакомая боль пронизала сердце.
Приземистый комендант в блестящих сапогах. Розовощекий человек с улыбкой добряка. Весь мир впоследствии узнал о нем. Гауптштурмфюрер СС Франц Ангел.
Внимательно прочитав письмо еще раз, Дубровский искоса взглянул на Анри. Тот еще брился, для удобства подперев языком щеку. Наверно, прошло несколько секунд, а Сергей пережил, казалось, вновь все лихолетье.
Отложил письмо и сказал:
— Необходимо срочно обратиться к полиции. Есть там знакомые?
Севиль неопределенно хмыкнул:
— Я могу попросить наших уголовных репортеров…
— Не нужно… — Дубровский уже вертел телефонный диск. — Соедините меня, пожалуйста, с комиссаром Диаром. Доброе утро, комиссар. Вас беспокоит Дубровский. Помните, мы встречались в клубе… вынужден напомнить о себе. Наберитесь терпенья, я прочитаю вам один документ.
Сергей познакомил комиссара с письмом Генриетты.
— Минутку! — забубнил в трубке голос Диара. — Я сейчас позвоню одному человеку… — И через некоторое время: — Вы слушаете меня, мосье Дубровский? Сейчас вам следует подъехать на улицу Поль–Валери. Интерпол. Знаете, где это? Комиссар Фошар ждет вас.
Над стареньким и совсем не фешенебельным особняком на Поль–Валери развевался флаг Международной организации уголовной полиции, которую обычно называют одним словом — Интерпол. Дубровский увидел этот флаг издалека: на голубом фоне разбегались во все стороны серебристые лучи, знаменуя, очевидно, силу правосудия. Может, этот флаг произвел впечатление и на Анри, так как тот приободрился и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь.
Их провели в кабинет комиссара сразу. Поднялись по узкой лесенке, миновали темный коридор со скрипучими от времени половицами, и полицейский открыл перед ними дверь кабинета.
У Фошар а сидел еще кто–то. Сергей неприветливо взглянул на него: хотел поговорить с комиссаром с глазу на глаз. Видно, Фошар перехватил этот взгляд, так как сразу представил присутствующего:
— Комиссар Люсьен Бонне, господа. Он будет расследовать ваше дело. Меня просил господин Диар, Бонне — моя правая рука, господа…
Комиссар Бонне совсем не был похож на детективов из популярных полицейских романов — высоких, статных, с пронзительным взглядом холодных серых глаз. Не напоминал он и сименоновского Мегрэ с неизменной трубкой. Дубровского даже поразила его скромность и, как бы сказать, несоответствие со сложившимися представлениями о сыщиках. Люсьену Бонне можно было дать самое большое лет сорок, даже меньше, наверно, так и было на самом деле, потому что на его лице не залегла еще ни одна морщинка, а на макушке торчал задиристый вихор.
Бонне улыбнулся, и его улыбка опять–таки разочаровала Дубровского. Он улыбался не по правилам — как улыбается человек, который искренне симпатизирует вам, — и это отступление от правил, какое первоначально огорчило Дубровского и даже немного смутило (возможно, комиссар хотел отделаться от них и вместо опытного полицейского волка подсунул желторотого новичка), все же растопило его недоверие, и Сергей сердечно ответил на крепкое пожатие руки комиссара, не без удовольствия отметив, что Бонне силы не занимать.
Фошар угостил их кофе, и Анри долго и путано рассказывал историю своего знакомства с Генриеттой Лейе, нервничал, вздыхал, смущался и недоговаривал.
Когда Анри закончил, Дубровский счел необходимым добавить, что он, наверно, знает одного из преступников, это Франц Ангел, бывший гауптштурмфюрер GC и военный преступник, комендант большого концентрационного лагеря в Польше, где во время войны уничтожена не одна сотня тысяч невинных людей.
Комиссар остановил его:
— Нас не интересует прошлое Ангела, кем бы он там ни был. Розыск эсэсовских преступников не входит в компетенцию Интерпола.
— Но вы же не могли не слышать этого имени… Франц Ангел… На Нюрнбергском процессе его фамилию называли не один раз, и Ангела не внесли в списки разыскиваемых военных преступников только потому, что где–то нашли документы, свидетельствовавшие о его смерти.
Комиссар посмотрел на Дубровского отчужденно:
— Этот факт имеет значение… Хотя вряд ли солидная газета напечатает сейчас материал об Ангеле, опираясь на такие сомнительные н бездоказательные вещи, как намеки в письме мадемуазель Лейе.
— Я видел Ангела так, как вижу сейчас вас, и думаю, что Генриетта Лейе не ошибается. У Ангела есть примета — розовые щеки. Понимаете, у солидного человека детские розовые щеки. Генриетта сразу обратила на это внимание.
— Если бы сам Гитлер сейчас поднялся из могилы и встретился мне на Елисейских полях, — сказал Фошар, — я не имел бы права его задержать. Интерпол расследует только уголовные преступления. Третий параграф нашего устава запрещает вмешиваться в любое дело, если речь идет о политике, религии, обороне государства или о проблемах расовой дискриминации. Далее, — комиссар постучал пальцами по письму Генриетты и продолжил: — Не дай бог, чтобы известия об этом проникли в прессу. Это будет равносильно предупреждению преступников. Они уйдут в такое подполье…
— Я не уверен, — вмешался комиссар Бонне, — что и без этого наш путь будет устлан розами. Может быть, Танжер у них вообще перевалочный пункт? Я ищу их там, а они давно уже на Ближнем Востоке или черт знает где… Людей с розовыми щеками немало, а этот Ангел давно уже имеет надежные документы, и попробуй докажи, что это и есть он…
— Да, — подтвердил Дубровский, — он отличался осторожностью, и жаль, что мы не имеем его фотографии.
— Это усложняет дело, — нахмурился Фошар. Немного подумал и спросил: — Вы говорите, что видели Ангела в лагере. Узнали бы его сейчас?
Сергей на мгновение зажмурил глаза. Разве может он когда–нибудь забыть тот день? Блестящий плащ, по которому стекают дождевые капли, толстый комендант и его улыбка… Кивнул уверенно.
— Я узнал бы его среди тысячи.
Комиссар смотрел на Сергея задумчиво. Предложил сразу, будто речь шла о поездке в Нанси или Руан:
— Не смогли бы вы слетать с комиссаром Бонне в Танжер? Мы решим все формальности и…
Дубровский сразу согласился:
— Я должен связаться с Москвой, но, думаю, в агентстве, где я работаю, не возразят. Для вас Ангел только уголовный преступник, для нас все это значительно важнее.
Анри, который не встревал в разговор и сидел с таким видом, словно удивлялся, как можно интересоваться мелочами, когда речь идет о его невесте, вдруг сказал:
— Я полечу тоже!
Фошар удивленно пожал плечами.
— Мы не можем запретить вам, летите в любой город, но учитывайте, мосье Севиль, интересы следствия. Это не прогулка — преследование преступников часто связано с осложнениями.
— Понимаю ваше положение, комиссар, — отозвался Севиль, — но ведь речь идет о моей невесте. Я полечу в Танжер как частное лицо, — кивнул в сторону Бонне, — но полиция в любую минуту может рассчитывать на меня.
— Аргумент, что и говорить… убедительный… — проворчал Фошар. — Повторяю, это ваше личное дело. Я хотел бы только предостеречь, чтобы вы не прибегали к частному розыску. Это только напортит. Впрочем, вы, может быть, и пригодитесь комиссару. — Фошар встал, заканчивая разговор. — Мосье Бонне, надеюсь, найдет с вами общий язык, господа…
В другом кабинете Анри спросил Бонне:
— Когда отправимся?
— Два дня на подготовку мне хватит.
— Два дня! — в отчаянии схватился за голову Севиль. — Вы шутите, мосье!
— Танжерскую полицию мы проинструктируем уже сегодня, — успокоил его Бонне. — А мне необходимо ознакомиться с архивами. Не исключено, что этот Ангел оставил какие–нибудь следы и у нас. Продает девушек, а это чистой воды уголовщина.
— Когда основана ваша организация? — спросил Дубровский. — Возможно, я проявляю поразительную неосведомленность, но не приходилось иметь дела…
— Даже опытные полицейские репортеры проявляют такую неосведомленность, — заметил Бонне. — Интерпол мог быть создан еще до первой мировой войны. В четырнадцатом году сыщики уголовной полиции собрались на свой первый международный конгресс в Монако. Но, к сожалению, началась война, а война не способствует объединению даже полицейских. Новая встреча произошла только через девять лет в Вене. Тогда же, в двадцать третьем году, была основана Международная комиссия уголовной полиции — мать нашей организации. Однако эта мать, — Бонне саркастически улыбнулся, — умерла еще младенцем. Штаб Интерпола тогда находился в Вене. После оккупации австрийской столицы гитлеровцами Гейдрих конфисковал все архивы Интерпола и перевез их в Берлин. Вы понимаете, господа, для чего?
— Чтобы гестапо использовало преступников… — ответил Сергей, хотя вопрос был скорее риторичным и Бонне собирался сам ответить на него.
— Со шпионско–диверсионной целью, конечно, — уточнил тот. — Фашисты поставили точку на Интерполе.
— И он возродился уже после войны? — спросил Дубровский.
— Сама жизнь потребовала возобновления нашей деятельности, — ответил Бонне. — Война принесла не только разруху. После сорок пятого года кривая преступности неуклонно пошла в гору. Частые ограбления банков, стремление гангстеров сбыть украденные ценности и найти пристанище за границей стран, в которых они действовали, заставили правительства искать новые формы борьбы с преступностью. В результате и была создана Международная организация уголовной полиции. Сейчас в нее входят государства Западной Европы, страны Северной и Южной Америки, а также Африки и Азии. В каждой стране–участнице создано национальное бюро Интерпола. Кажется, все, господа. А теперь я должен покинуть вас. Я закажу на всех билеты на самолет и сообщу вам дату вылета.
***
Несколько дней Севиль, Бонне и Дубровский бродили по Танжеру. Бонне иногда таинственно исчезал куда–то на два–три часа, но от всех прямых и косвенных вопросов Анри отделывался либо шутками, либо отмалчивался.
Дубровский был терпеливее Друга, хотя, ставя себя на место Анри, целиком оправдывал его: кто и когда из влюбленных отличался рассудительностью?
Слонялись они, с легкой руки комиссара, по ресторанам и пивным. Бонне заводил длинные разговоры с кельнерами, шутил с девушками–официантками.
Сегодня утром он опоздал на завтрак и, не ожидая вопроса Анри, объяснил:
— У нас есть время, можете не спешить и спокойно пить свой кофе.
— Скоро вы доконаете меня, — ворчливо начал Анри. — Я не вижу смысла в ваших ресторанных путешествиях. По мне так…
— Вы не комиссар полиции, а журналист, Анри, — отмахнулся Бонне, — и это накладывает отпечаток на склад вашего характера. Но, смею вас заверить, в нашем деле поспешность излишня…
— Я слышал уже это от всех знакомых полицейских, и каждый говорит об этом так, как будто открыл Америку.
Дубровскому нравился открытый характер комиссара и его простодушие, правда, немного смущала прямолинейность и ограниченность Бонне в делах, не связанных со служебными обязанностями, но хорошо было, что Люсьен имел голову на плечах, а это, как известно, присуще не каждому полицейскому комиссару. Кроме того, был он человеком честным, на которого можно положиться в трудную минуту, и, безусловно, храбрым.
— Я уже объяснил вам, Анри, — сказал Бонне, — что мы находимся в независимом государстве и дело розыска преступников — прерогатива марокканской полиции. Я помогаю ей с согласия министра внутренних дел. Только помогаю! — засмеялся. — Ну а вы уже помогаете мне.
— Не много ли помощников? — спросил Дубровский.
— Разве ж в этом дело?.. — сокрушенно покачал головой Бонне. — Если бы я сейчас встретил этого Ангела, смог бы только раскланяться с ним. Необходимо прежде доказать его преступление, иначе он только посмеется над нами. Любой прокурор не выдаст вам ордер на его арест.
— Известный военный преступник, — пожал плечами Дубровский. — На его совести тысячи жертв…
— А его нет в списках военных преступников. Кроме того, вам уже говорили, что Интерпол не занимается такими преступлениями.
— Убить одного человека — преступление уголовное, оно в вашей компетенции. Убить сотни тысяч…
Бонне замахал руками.
— У меня есть инструкции, Серж, и я не имею права нарушать их.
— Что будем делать сегодня? — оборвал перепалку Анри.
— Пока что мы не сделали ни одного неверного шага, — ответил уверенно Бонне. — Но ведь мы только начали игру и разыграли довольно известный дебют. Комбинации впереди, и никто не гарантирован от ошибки.
Анри положил руку на колено Бонне.
— Тебя, Люсьен, — показал на кельнера, делающего какие–то знаки.
— Да, — поднялся комиссар, — извините, мосье Серж, мы потом закончим наш разговор.
Он вернулся через несколько минут, держа в руках конверт. Вынул из него несколько листков. Сказал, разглядывая их:
— Дело осложняется тем, господа, что содержатели городских притонов, — искоса посмотрел на Дубровского, — и здесь вы, мосье Серж, к сожалению, правы, поддерживают контакты с отдельными представителями местных органов власти…
— Скажите прямо, Люсьен, купили полицию! — отрубил Анри.
Бонне поморщился.
— Несколько прямолинейно, но смысл в этом есть. Именно поэтому я должен был действовать тихо и осторожно… Если бы они почувствовали, что мы наступаем им на хвост, я имею в виду шайку, которая вывезла сюда французских девушек, спрятали бы концы в воду. Поэтому в городском полицейском управлении, а мы целиком зависим от него, я главным образом нажимал на формальную сторону дела и держался так, будто верю каждому их слову и полагаюсь только на их усилия… — Комиссар отодвинул недопитый мартини и налил себе воды. — В то же время надежные люди работали по моим заданиям, да и дни, проведенные нами в злачных местах, господа, не были напрасными. Вот, — положил на стол небольшой листок, — список самых дорогих притонов Танжера и его окрестностей. Мои друзья выбрали, повторяю, самые фешенебельные, поскольку именно с их владельцами могли иметь дело люди, у которых есть возможность самолетом вывозить девушек из Европы. Нет необходимости объяснять почему?
Анри нетерпеливо замахал руками.
— Дальше, дальше, Люсьен…
— Ясно, самые шикарные из них вынуждены постоянно обновлять контингент. У нас есть список — в нем помечены заведения, где в последние два месяца появились новые девушки. Это самый важный для нас сейчас список, господа. Отели «Мадрид», «Розовая вилла», «Синий берег», ночной клуб «Игривые куколки», ресторан «Жемчужина» и другие. У нас есть и их адреса. Список, как видите, не очень большой, и это сужает круг наших поисков. Я не могу утверждать, что мы идем верным путем. — Бонне вынул авторучку. — Допишем сюда казино «Девушки в красных чулках». Мне посоветовал посетить его один кельнер. Помните, вчера вечером обслуживал нас? Еще ночное кабаре «Цветок Востока». Кажется, пока все…
— Ну и?.. — выжидающе уставился на него Анри.
— Категорически прошу вас не действовать по собственной инициативе, — твердо ответил комиссар. — Небольшой просчет может испортить все. По этим притонам пойду я сам.
Анри не сдавался:
— Но ведь в них можно попасть только по вечерам и, если считать по одному в день, то…
— Иного выхода нет.
— Я и Серж могли б… Неужели вы думаете, что у нас не хватит такта и осторожности, чтобы разведать…
— Вы бывали в здешних притонах, мосье? — резко оборвал его Бонне. — Я уверен, что нет. Вас раскусят сразу, а вы знаете, что происходит там с непрошеными гостями? Не спешите, Севиль, и учтите, это не совет, а приказ.
— Я могу не спешить, — сник Анри, — но Генриетта…
— Мы сможем помочь ей, если будем рассудительными. Именно поэтому я просил бы вас и в дальнейшем шататься по ресторанам и бистро. Можно и по самым низкосортным. Вряд ли в городской полиции верят, что вы — журналисты, наверняка считают еще агентами Интерпола. Разговаривайте, расспрашивайте, интересуйтесь чем хотите — это напустит дыма и успокоит кого надо. А сейчас мы продолжим наши походы, господа…
Они шли по улицам европейской части города, рассматривая витрины. Держались теневой стороны, но и здесь донимала жара. Дубровский шагал по краю панели, не обращая внимания на то, что рядом двигался сплошной поток машин. Шел, безразлично глядя на машины, перегонявшие его.
Завизжали тормоза — впереди вспыхнул красный свет светофора. Мягко зашуршав шинами, мимо Сергея проплыл серый «мерседес» и остановился впереди. Что–то привлекло к нему внимание Дубровского — очевидно, знакомое лицо человека на заднем сиденье. Подойдя, Сергей стал так, чтобы не попасть на глаза пассажиру. Подумал, хорошо, что не встретился с ним взглядом. Глаза выдали бы его, не могли не выдать — в «мерседесе» сидел Франц Ангел.
Сергей узнал его сразу, не было никакого сомнения — чуть было не бросился к машине, чтобы открыть дверцу, вытащить Ангела, держать, пока не соберется толпа, Сергей ни за что не выпустил бы Ангела…
Боже мой, где же Бонне?
Неужели уйдет тот, розовощекий? Ангел совсем не изменился, будто годы не властны над ним. Может, только округлился, как говорят, стал солиднее.
Где жеБонне?
Заметил Анри возле витрины, а рядом и комиссара. И что они нашли там интересного?
Бонне сразу определил: что–то случилось.
— Чем вы взволнованы, Серж?
Дубровский оглянулся. Так и есть, зажегся зеленый свет светофора, и машины двинулись. Сергей потянул за собой комиссара.
— Вот видите серый «мерседес» за перекрестком?.. — Задохнулся. — Там Франц Ангел…
Бонне сжал его руку выше локтя.
— Вы не ошиблись?
— Франц Ангел, — повторил Дубровский, — точно.
Из–за угла вынырнул красный «пежо». Бонне поднял руку.
— Быстрее, — подтолкнул к дверце Анри, — быстрее, черт вас возьми!..
«Пежо» успел проскочить перекресток при зеленом свете.
— Впереди серый «мерседес». Нужно его догнать! — приказал Бонне шоферу. — Кстати, — повернулся к Дубровскому, — вы запомнили номер?
— Сто пятьдесят пять — тридцать семь.
— «Мерседес»! — хмыкнул шофер. — Господа знают, сколько лошадиных сил у «мерседеса»?
— Мы не на шоссе и не устраиваем гонки. — Бонне показал шоферу пять долларов. — Получишь, если догонишь.
«Пежо» на самом деле был старым — скрипел и тарахтел всеми своими деталями, но водитель ловко маневрировал в транспортном потоке, оставляя позади даже «форды» и «шевроле». Но серый «мерседес», казалось, растворился в воздухе — может быть, давно свернул в одну из боковых улиц, и скоро даже Сергею, который никак не мог примириться с поражением, стало понятно: им не догнать Франца Ангела.
Бонне попросил остановить «пежо» возле тенистого сквера, где заметил пустую скамейку. Сели, покурили, помолчали. Комиссар подбодрил Сергея:
— И все же сегодня день большой удачи, мосье Дубровский, и я на вашем месте не вешал бы носа. Будем считать, что мы почти установили главное: девушек из Франции на самом деле вывез бывший эсэсовец Франц Ангел. Следовательно, мадемуазель Генриетта Лейе не ошиблась. Это хорошо, поскольку я, честно говоря, не был окончательно убежден, что все в ее письме подтвердится. Правда, с точки зрения юридической присутствие Ангела в Танжере еще не есть доказательство его вины. Он может утверждать, что живет здесь давно и во Франции был черт знает когда. У нас же есть только письмо мадемуазель Лейе. Письмо не доказательство. Но сейчас я не сомневаюсь: Генриетта в Танжере. Мы найдем ее, а затем возьмем этого старого эсэсовского пройдоху. «Мерседес» сто пятьдесят–тридцать семь, — пробормотал в раздумье. — Что же, господа, это уже след…
***
Серый «мерседес» принадлежал владельцу ресторана «Сфинкс», где собирались члены клуба «Ветераны фельдмаршала Роммеля». Постороннему человеку проникнуть туда было почти невозможно, но чиновник из городского полицейского управления пообещал уладить это дело. Его агент был своим человеком в «Сфинксе», он и взялся сопровождать туда Бонне и Дубровского, которые должны были только играть роль немецких коммерсантов, ищущих рынки сбыта в Африке.
Анри надулся, но комиссар сразу же положил конец его притязаниям:
— С вашим типично французским носом, мосье Севиль, не то что на порог, за квартал от «Сфинкса» появляться нельзя. Ветераны сразу же раскусят и вышвырнут нас вместе с вами как паршивых котят.
«Сфинкс» размещался в здании, перегораживающем не длинную, но довольно широкую улицу, создавая тупик. С одной стороны вдоль улицы тянулась чугунная ограда, за ней — то ли парк, то ли сад с роскошной белокаменной виллой в глубине. Напротив — жилые четырех–и пятиэтажные дома без магазинов и кафе, в таких живут чиновники и коммерсанты среднего достатка. Улица слабо освещена, без неоновых реклам. Да и вывеска ресторана не светилась красным или белым светом, не зазывала посетителей, словно хозяин не был заинтересован в клиентах. Наверняка мало кто догадался бы, что здесь ресторан: только подойдя ближе, можно было прочитать скромную вывеску «Сфинкс».
Швейцар взял у Бонне и Дубровского шляпы и поклонился их спутнику с полуфамильярной улыбкой, как старому знакомому.
В большом вестибюле вокруг столиков, заваленных журналами и газетами, сидели в низких мягких креслах члены клуба. Дым от сигар и сигарет висел под потолком, в вестибюле было шумно, и на вновь прибывших почти никто не обратил внимания.
Бонне сразу проследовал в угол к свободному столику. По соседству расположился пожилой человек в черном сюртуке с аккуратной бабочкой, подпиравшей его подбородок. Мужчина сидел прямо, словно не в удобном кресле, а на твердом стуле с высокой спинкой; держал перед собой газету в вытянутых руках, как бы демонстрируя свою дальнозоркость. Бросил недовольный взгляд на Бонне и Дубровского и еле заметно ответил на вежливый поклон их спутника.
— Бывший оберст фон Рунке, — объяснил тот шепотом, когда они расположились за столиком, — живет неизвестно за счет чего, но амбиции хоть отбавляй.
Сергей посмотрел на оберста с любопытством. Ему приходилось встречаться с такими типами: фамильная гордость не позволяла им заниматься каким–нибудь незначительным делом или стать мелким коммерсантом, а на другое не хватало либо ума, либо образования, либо еще чего–нибудь.
Они сами утюжили свои уже изрядно поношенные костюмы, жили воспоминаниями, смотрели на мир с высоты своего оберстского величия и мечтали о будущем, когда можно будет наконец выбросить надоевший гражданский сюртук и снова напялить мундир с крестами. Они мечтали о войне: каждый мнил себя стратегом не в масштабах полка или батальона — собравшись вместе, они критиковали действия командующих армиями или фронтами, у каждого была своя единственно правильная концепция, и каждый был уверен, что он на месте этого командующего никогда бы не ошибся; они планировали грядущую войну (конечно, с «восточными» ордами) и были твердо убеждены, что скоро появится новый фюрер, намного умнее предыдущего (если бы тот больше слушал кадровых военных и немного меньше доверял эсэсовским генералам), который обязательно вспомнит и позовет их. Нет, сейчас они не проиграют. Они не проиграли бы и раньше ту злосчастную войну на Востоке, если бы…
Дубровскому показалось, что сейчас фон Рунке отложит газету и начнет подробно объяснять ему причины неудачи блицкрига против Советского Союза. Но оберст не отрывался от газеты, и Сергей с интересом стал разглядывать зал.
Раскрытые двери прямо перед их столиком вели к ярко освещенному бару: всю стену там занимали полки с бутылками, у высокой стойки стояли и сидели посетители. Из бара, как объяснил им полицейский агент, можно было попасть в ресторан. Там играл небольшой оркестр, и в зал с черного хода впускались женщины; оказывается, «Сфинкс» имел свой контингент проверенных девушек.
Сергей внимательно рассмотрел присутствующих в вестибюле мужчин. Ангела среди них не было, но Дубровского все время не покидало ощущение, что розовощекий где–то здесь, рядом, возможно, в баре, казалось, сейчас он появится в дверях, самоуверенный, довольный собой, своим костюмом, только что выпитым фужером мартини, беседой с каким–нибудь Рунке или другим ветераном африканской кампании.
И на самом деле, светлый прямоугольник дверей закрыла чья–то фигура — лица мужчины не было видно, только контуры тела вырисовывались на фоне разноцветных бутылок, и у Дубровского даже перехватило дыхание от неожиданности: неужели Ангел? Наклонился к Бонне, но вдруг понял, что ошибся: человек, стоящий в дверях, был крупнее Ангела.
Агент полиции расценил мимолетное движение Сергея как вопрос и объяснил:
— Хозяин заведения Шаттих…
Он не успел закончить, так как Шаттих поднял руку и произнес громко:
— Скоро, господа, наступит годовщина нашей славной победы над английскими войсками под Аль–Аламейном. Прошу не расходиться. С минуты на минуту мы ждем генерала Лехтенберга, который прочтет небольшую лекцию и поделится воспоминаниями.
В зале одобрительно загудели: очевидно, генерал Лехтенберг был популярен среди собравшихся.
— Пока не началась лекция, — заметил Бонне, — нам следует перебраться в ресторан. Ангел — деловой человек, и воспоминания ветерана вряд ли интересуют его.
Они пошли в бар, сопровождаемые пристальным взглядом фон Рунке.
— Пахнет мертвечиной… — поморщился Бонне. — Они напоминают мне привидения, вставшие из гробов, эти недобитые фашисты.
Комиссар еле разминулся в коридоре с толстым, почти квадратным человеком. Бонне оглянулся на него. Сказал пренебрежительно:
— И этот был роммелевским офицером?
— Одни свято верят, что бывшие нацисты стали паиньками, — возразил Дубровский, — а другим выгодно, чтобы верили в это. Известная сказка про волка в овечьей шкуре. Этот толстопузый, возможно, страшнее волка.
— Им больше не удастся захватить власть, — отмахнулся Бонне.
Сергей неожиданно для самого себя сказал резко:
— Вот так вы махали руками, когда Гитлер шел к власти. А опомнились, когда он был уже в Париже.
— Может быть, в этом есть резон, — согласился Бонне без энтузиазма, — мне самому приходилось брать на мушку таких, но со временем все забывается. И слава богу, потому что жизнь превратилась бы в сплошной ад. Представьте себе: вы каждое утро просыпаетесь с мыслью о концлагере… Каждое утро…
— Ну зачем же преувеличивать, — остановил его Сергей. — Хотя, — добавил, — воспоминания о лагере вызывают у меня злобу, а доброй порции злости каждому из нас не мешало бы иметь…
Они вошли в зал ресторана, длинный и мрачный. Бонне заметил, что коридор вел вниз, и понял, что там подвальное или полуподвальное помещение.
В зале сидели только одинокие посетители. К Бонне, который шел впереди, метнулся кельнер, но комиссар еле заметным движением руки остановил его и направился к столику у входа. Две девушки, сидящие рядом, понимающе переглянулись, одна поднялась и хотела занять свободный стул рядом с комиссаром, но тот сказал:
— Если ты мне понадобишься, как тебя?.. Ирен? Прекрасно, мой бутончик, я позову тебя.
Девушка недовольно фыркнула и отошла.
Оркестр заиграл что–то веселое, и Дубровский пошел танцевать с Ирен — так легче было рассмотреть всех посетителей. Когда вернулся, Бонне по его лицу понял: Ангела в «Сфинксе» нет. Но это не смутило комиссара.
— Было бы удивительно, если бы мы сразу нашли его, — подбодрил он Сергея, — однако здесь буквально пахнет им. Думаю, что сегодняшний вечер не пропадет даром.
Оркестранты пошли отдыхать, и в зале установилась тишина, та особенная тишина, какая наступает сразу за смолкшей музыкой. Слышались только приглушенные голоса да скрип стульев.
Бойне маленькими глотками отпивал вино и старался уловить обрывки разговоров.
Наискось от них мужчина с бледным лицом и словно приклеенной к нему черной аккуратно подстриженной бородкой настойчиво доказывал что–то своему соседу:
— Я не могу быть спокойным, пока миру угрожает сионистская экспансия, вы должны понять меня, мой дорогой друг. Мир сошел с ума — его необходимо вылечить или смести. Америка, приютившая их, когда–нибудь будет плакать кровавыми слезами…
— Несколько прямолинейно… — возразил его сосед. — Мы немного поспешили во время войны и поплатились за это. После победы крематории перерабатывали бы значительно больше, и можно было бы систематически увеличивать их пропускные, так сказать, возможности…
Бонне покачал головой:
— Кажется, вы были правы, — наклонился к Дубровскому, — под этими гражданскими пиджаками… — Отхлебнул вина и добавил совсем другим тоном: — Вы оставайтесь здесь, а я попробую побродить…
Комиссар двинулся вдоль стены к двери, что вела в туалет. Вымыл руки, с удовольствием вытер их свежим, сухим, даже тепловатым полотенцем. Огляделся и уже хотел возвращаться, но вдруг заметил приоткрытые двери.
Узкий коридор с цементным полом сразу сворачивал направо. За поворотом — ступеньки, ведущие вверх, затем снова коридор, довольно узкий. Несколько лампочек, почти не дающих света, и снова закрытые двери. Комиссар постоял перед ними, прислушиваясь, и проскользнул боком в узкую щель.
За дверями было темно, Бонне подождал, пока привыкли глаза. Наверно, здесь был холл второго этажа: почти во весь пол ковер, несколько кресел, узкие зашторенные окна. Из холла ступеньки вели куда–то наверх, справа еле обозначалась в темноте еще одна дверь. Комиссар осторожно подергал — закрыта. Решил подняться по лестнице и уже направился к ней, как вдруг какой–то звук привлек его внимание. Бонне остановился на мгновение, прислушиваясь: да, сомнения не было — шаги в коридоре. На секунду комиссар заколебался: можно было прикинуться пьяным, мол, попал сюда случайно, но сразу понял, что это ничего не даст. Его просто вышвырнут из «Сфинкса» — на их миссии можно будет поставить точку.
Бросился к ступенькам, но остановился на полдороге: куда ведут они? А шаги приближались, и уже можно было различить голоса…
Бонне стал за штору, стараясь втиснуться в оконный проем. От набившейся в нос пыли чуть не чихнул, но пересилил себя и не без иронической улыбки подумал о весьма полезной традиции украшать комнаты шторами.
Дверь открылась, и кто–то приказал громко:
— Включите свет, Фриц!
Голос показался комиссару знакомым, ему понадобилась секунда или две, чтобы убедиться: хозяин «Сфинкса» Шаттих.
Щелкнул выключатель — Бонне затаил дыхание: чувствовал, трое или двое стоят совсем рядом.
— Вот этот чек, — докатился хозяйский бас уже издалека, — вы передадите известной вам особе. Окончательный расчет за тех девочек.
Теперь у Бонне на самом деле перехватило дыхание. Осторожно выглянул из–за шторы. Отсюда он видел только часть комнаты, куда вошли Шаттих и Фриц. Вероятно, это был кабинет хозяина «Сфинкса». Шаттих доставал что–то из сейфа.
Фриц стоял к Бонне почти спиной, но профессиональная привычка запоминать и распознавать людей по характерному жесту, осанке, манере одеваться позволила комиссару узнать в нем метра из ресторана.
Шаттих закрыл сейф. Бонне видел только его руку, поворачивающую ключ. Подумал, о каких девушках идет речь? И есть ли здесь связь с Ангелом?
— А может, — вдруг заговорил Фриц, — еще попридержать чек? Девчонки будут в Южной Африке дня через три, и мы будем иметь полную гарантию…
— Вы удивляете меня, — возразил хозяин, — имеем дело с солидными людьми, через полчаса они уезжают, и вы еле успеете передать им чек…
— Я воспользуюсь вашей машиной.
— Хорошо! Не теряйте времени.
Оба направились к дверям, Бонне втянул голову за штору.
— И вот что, Фриц… — продолжал Шаттих. — Кто из наших девчонок был в контакте с француженками? Кажется, Фанни и Элеонора? Проследите за ними. Вообще пусть они исчезнут с глаз. На всякий случай, пока не получим ответ из Южной Африки.
Шаттих закрыл кабинет, выключил свет, и наконец Бонне осмелился переступить с ноги на ногу. Но прятался за шторой еще несколько минут, прислушиваясь к затихающим голосам.
Постоял возле дверей, вглядываясь в темную даль коридора, пробежал его и, сунув руки в карманы, неуверенной походкой подвыпившего направился в зал.
Дубровский встретил Бонне вопросительным взглядом — видно, прочитал что–то на лице комиссара. Бонне сделал успокаивающий жест — мол, ничего не случилось. Он успел уже все продумать.
Комиссар не сомневался, что Шаттих имел в виду девчонок, вывезенных Ангелом из Франции. Во–первых, еще сегодня Ангел ездил в машине Шаттиха, во–вторых, в разговоре с Фрицем упоминалась партия француженок, которую вывезли куда–то в Южную Африку и за которую Шаттих платил деньги. Действительно, Ангел сейчас покидает Танжер, Бонне взглянул на часы — осталось минут двадцать. Вряд ли полиция сумеет задержать Ангела — двадцать минут, и у них всего–навсего словесный портрет…»
Итак, Ангел пока выскальзывает из рук Интерпола, но не стоит говорить об этом Дубровскому, зачем портить человеку настроение? Через три дня девушки будут в Южной Африке, и главное, конечно, — освободить их. Затем можно будет поискать и Ангела…
Бонне оглянулся на Ирен, подмигнул ей, и девушка подсела к их столику.
Дубровский ничего не спросил, только смотрел удивленно. Бонне похлопал его по колену — мол, знаю, что делаю, — и налил девушке полную рюмку. Она выпила до дна, затем вторую, третью, и после третьей комиссар узнал, что Элеонору только что позвал куда–то Фриц — метрдотель, а Фанни исчезла час назад с богатым клиентом.
Бонне попросил счет. Ирен рассчитывала на другое, попробовала обидеться, но ассигнация, которую положил в ее сумочку Бонне, вполне удовлетворила ее, и девушка проводила щедрых посетителей до вестибюля.
***
Ангел поставил машину так, чтобы хорошо просматривались все подходы к отелю. Еще вчера он взял у хозяйки кабаре «Игривые куколки» мадам Блюто «форд» старого выпуска — обшарпанную машину неопределенного зеленоватого цвета с занавесками на окнах. Усевшись на заднем сиденье вместе с Грейтом, Франц откинулся на спинку.
— Они уже позавтракали и сейчас выйдут…
— Вы шустрый, — пробормотал полковник, — но, слово чести, не нравится мне вся эта история, и я хотел бы быть сейчас подальше от Танжера.
— У вас прямолинейно–воровской характер, Кларенс. Желание навострить лыжи свойственно всем, начиная от жалкого карманного воришки, но высший класс — спокойно следить за ходами противника и смеяться над ним. Я не возражал бы против обеда в компании этого комиссара Интерпола и распил бы с ним «ару бутылок.
— Врете вы все, — лениво возразил полковник. — Рисуетесь, а вообще–то согласны со мной.
— Не люблю оставлять должников, — объяснил Ангел. — Подождем еще несколько дней, мадам Блюто рассчитается с нами и… Кажется, Танжер тоже надоел мне.
— Мерзостное место! — согласился полковник. — Неужели у этой старой карги нет денег?
— Можно рассчитаться с ней, так сказать, условно…
— Я же говорил вам: только наличными, — прервал Ангел полковника. — Люблю, когда доллары лежат у меня в кармане. Знаю тысячу случаев, когда банк не оплачивал самые надежные чеки.
— Именно поэтому я подыскал покупателей на наш самолет.
— Вы серьезно? Но ведь это единственное средство…
— Чаще летать на Ближний Восток? Вы это хотите сказать? — Полковник не ответил. — Мы купим новый самолет, Кларенс, лучше этого. «Дуглас» — не пачка сигарет, и я не уверен, что шпики не докопались, кому на самом деле принадлежит этот самолет.
— Надежная машина, привык к ней. Да черт с ней. — Грейт уперся подбородком в спинку переднего сиденья. Сказал, будто жалуясь: — Где–то мы сплоховали… Сам по себе Интерпол не напал бы на наш след, и слава богу, что у ваших знакомых такие связи с полицией.
— Нам бы получить свои деньги, а там пусть Мадам Блюто выпутывается как знает.
— Деловая женщина, — похвалил Грейт.
— Жаловалась, что несколько девчонок оказались с характером. Но она с ними церемониться не будет — перепродаст не без выгоды, конечно.
— Каждый хочет получить свой процент, — согласился полковник, — а мадам Блюто все же рискует. Она говорила мне…
— Минуту, — перебил его Ангел, — вот он! Видите! Белая сорочка и темный галстук… Комиссар Бонне. Вы видите его, Кларенс?
— Как вас.
— С ним прилетели два журналиста. Француз и русский. Допустим, что они тоже замаскированные агенты Интерпола, но такого не было, чтобы в игру впутывался русский. Ведь они никогда не сотрудничают с нашей полицией.
— Я вижу подле комиссара только одного, — перебил Грейт.
— Да, черненький и длинноносый. Типичный француз. Садятся в такси…
— Значит, русский уже ушел или остался в отеле.
— Черт с ним! Мы пустили их по фальшивому следу, и я показал вам комиссара, Кларенс, так, на всякий случай.
— Не нравится мне вся эта история. Русский журналист?.. — Полковник подумал. — Скажите, Франц, вы хорошо замели следы на Востоке?
Мысли об эсэсовском прошлом всегда тревожили Ангела. Ответил нехотя:
— Есть документы, свидетельствующие, что я погиб во время авиационного налета. Правду знает только моя семья и кое–кто из бывших руководителей имперской безопасности. Я жалею, что в минуту откровенности проговорился вам, Кларенс. Для всех я только Хаген, Франц Хаген, и никто другой!..
— Будьте осторожней, Франц, — похлопал его по плечу полковник. — Эти русские журналисты обладают нюхом на политику, и не всплыло ли что–либо на поверхность из вашей биографии?
Ангел съежился.
Он сам думал об этом, но отгонял пугливые мысли. Они снова наплывали, и ему становилось страшно — сам себе не признавался, что боится, бодрился, но где–то в душе сосало, и сердце начинало ныть, словно от перемены погоды. Так бывало с ним в первые годы после войны, когда плохо спал и чуть ли не в каждом встречном видел шпика. Затем все стало забываться… Однако, в самом деле, при чем здесь русский?
Ангел всегда ощущал неприязнь к Советскому Союзу. Не только потому, что русские победили. В конечном итоге он устроился лучше, чем это могло быть в. случае победы рейха. Ну, дослужился бы до штандартенфюрера, может быть, генерала СС. И что?.. Красивая форма и уважение подчиненных, а деньги? Сейчас он не променял бы свой банковский счет в Цюрихе на десять генеральских мундиров — еще год–два, и желанный отдых, членство в солидной корпорации, всеобщее уважение, семейное счастье…
Но зачем здесь русский журналист?
Зная, что эта мысль все равно не даст ему покоя, он засмеялся нарочито бодро. Перешел на переднее сиденье, включил мотор.
— Погодите, Хаген, — остановил его полковник, и в словах, произнесенных совсем просто, Ангел почувствовал иронию, хотя сам минуту назад просил называть его только Хагеном.
— Ну?..
— Ко всем чертям гарантии городской полиции. Я знаю, чего стоят эти гарантии, и хочу позаботиться сам о себе. Нам необходимо сегодня же покинуть отель и снять где–нибудь небольшую виллу. На окраине города, чтобы я видел все вокруг, а меня не видели.
На этот раз Ангел не стал возражать полковнику.
— Дельная мысль, Кларенс. Мадам Блюто устроит нам это через несколько часов. — Он рванул «форд» с места так, что полковник ударился головой о спинку сиденья. Когда выехали на центральную магистраль, посоветовал: — В отель возвращаться не следует. Густав сам перевезет вещи.
— Вы сейчас куда?
— К «Игривым куколкам».
Полковник произнес решительно:
— Высадите меня, поброжу по городу. Я позвоню мадам и узнаю наш новый адрес.
Грейт завернул в первый же ресторан, сел у стойки бара и заказал стакан виски со льдом. Полковник выпил много и явно опьянел. Долго стоял в вестибюле, покачиваясь и уставившись на швейцара. Тому надоел пьяный посетитель, и он спросил, не нужно ли чего–нибудь господину, может быть, такси? Но полковник погрозил швейцару пальцем и вышел на улицу.
Грейт посмотрел на часы. Фью, скоро вечер! Лучше всего в его положении хорошо выспаться. Поискал глазами телефонную будку и набрал номер «Игривых куколок».
— Мадам Блюто? Целую ваши ручки… Мой друг Франц должен был оставить у вас адрес. Вы помогли ему? Вы — наша добрая фея, мадам Блюто… Нет, я еще не совсем пьяный и говорю вполне твердо… Да, записываю. Диктуйте…
***
Откровенно говоря, Бонне не хотелось снова идти в «Сфинкс», но он все–таки пошел, имея намерение выведать что–нибудь о путях и способах транспортировки девушек из Танжера в Южную Африку.
Ирен встретила его как старого знакомого и не оскорбилась, когда Бонне, узнав, что ее соседку по столу зовут Фанни, отдал предпочтение последней. Скоро Ирен позвали к другому столику. Бонне заказал коктейли, но Фанни захотела виски.
Комиссар начал издалека: мол, он любитель похождений и неравнодушен к французским девушкам, но в Танжере их почему–то мало. Фанни повертела головой и сказала такое, что Бонне, настроившийся на дипломатический разговор, чуть не подпрыгнул на стуле.
— Я сама удивляюсь… Недавно здесь, — неопределенно показала пальцем в потолок, — были чудесные девушки из Франции, я успела даже подружиться с некоторыми из них, их вдруг увезли…
Бонне уже овладел собой.
— Не может быть! — воскликнул. — Неужели в Танжере не любят хорошеньких девушек?
— Это не мое дело, — осмотрительно отступила Фанни, — и вы об этом никому не говорите. Потому что у меня, — тревожно оглянулась, — могут быть большие неприятности.
— Почему? — небрежно бросил Бонне. — Девчонки зарабатывают где хотят, и никого это не должно интересовать. Ты откуда? — сжал локоть девушки. — Где тот инкубатор, в котором появляются на свет такие чудесные экземпляры?
Этот плоский комплимент понравился Фанни, и она фамильярно похлопала комиссара по щеке.
— Под Бременом, мой милый.
— Я непременно побываю там, — пообещал Бонне.
— Раньше я не видела тебя в «Сфинксе»…
— Я здесь ненадолго по делам.
— А затем куда?
— Конго, Сенегал…
— Говорят, там есть неплохие местечки.
— Хочешь туда?
— Мне и здесь хорошо, — надула губы девушка. — Туда отправляют второй сорт.
— Неужели те француженки тоже второй? Куда их? — быстро спросил Бонне.
— Кажется, в Солсбери…
— Я тан буду скоро. Где их найти? Может, кому–нибудь передать привет?
— Ну, ну, — Фанни помахала пальцем у него перед носом: — Я и так наговорила лишнего.
Бонне прикинулся удивленным.
— Не морочь мне голову и не делай таинственного лица, — сказал небрежно. — Они полетели на самолете?
— Мне об этом не докладывали, — засмеялась Фанни, и комиссар понял, что она в самом деле не знает этого. Можно было считать разговор оконченным, Бонне сидел только для того, чтобы его короткий визит и беседа с Фанни не показались подозрительными: помнил, как вчера Шаттих приказывал изолировать девушку.
Они обменивались с Фанни короткими, ничего не значащими репликами. Бонне имел для таких случаев несколько десятков стандартных фраз и комплиментов, которые тешили женское самолюбие и не давали затухнуть разговору. Затем извинился и пошел в холл. Встретил метрдотеля в дверях, они обменялись взглядами. Фриц вежливо уступил дорогу, но взгляд его был тяжелый и недобрый.
Бонне незаметно оглянулся и заметил, что метр подзывает кельнера. Задержался у стойки бара.
Кельнер, выслушав Фрица, проскользнул между столиками к Фанни. Когда Бонне вернулся, девушка встретила его неприветливо, а кельнер все время торчал за спиной.
Фанни допила виски и поднялась.
— Подожди меня, — сказала уходя, но сумочку не оставила, и комиссар понял: Фриц изолировал девушку от него. «Что же, тем лучше», — подумал и рассчитался.
Швейцар, заметив Бонне, сразу же вышел на улицу и, наверно, растворился в темноте, ибо комиссар не заметил его. Двинулся вдоль ограды, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. Из сада доносился аромат цветов, Бонне шел медленно, посмеиваясь, — вспомнил цветы, что росли у дома матери. Вдруг позади зашумел мотор, свет от фар на секунду осветил улицу, что–то заскрежетало.
Комиссар метнулся к ограде, прыгнул на нее. Рядом, чуть не задев его, промчалась левыми колесами по тротуару машина, вильнула, съезжая на мостовую, и исчезла за углом.
Комиссар перепрыгнул через ограду. Пополз в кустах, притаился, вынув пистолет.
Никого, только стрекочут цикады…
Затем от «Сфинкса», не выключая подфарников, медленно проехала еще одна машина. Бонне показалось, что за рулем сидел Фриц. Итак, они раскусили его, охотятся за ним, и он только чудом не погиб под колесами машины. В ушах Бонне все еще стоял жуткий скрежет металла — так скрипят автомобильные тормоза, когда водитель резко нажимает на педаль.
Но почему он затормозил?
Бонне потер лоб ладонью, засмеялся и спрятал пистолет. Сел прямо на траву, опершись спиной о ствол дерева. И это он, Люсьен Бонне, комиссар полиции, один из лучших парижских детективов? Мальчишка, пижон, его чуть не одурачили, нахально, позорно…
Выходит, они сразу раскусили его и разыграли все как по нотам. Конечно, Шаттих с Фрицем могли и убрать его, но не захотели создавать шума. Интерпол не прощает такие вещи. Вот почему водитель машины, наверно, швейцар «Сфинкса» в последние секунды нажал на тормоза. Если бы у него было задание задавить Бонне, наверняка дал бы газ и сбил комиссара.
Да, все логично. Шаттих узнал, кто на самом деле пришел в «Сфинкс». Он и Ангел знают, зачем приехал комиссар Интерпола в Танжер, и сделали все, чтобы Бонне пошел по ложному следу. Он, комиссар, детектив с огромным опытом, стоял за шторой и думал, что фортуна на его стороне, а эти негодяи, наверно, смотрели на его ноги, выглядывающие из–под шторы, и в душе смеялись.
Солсбери…
Что ж, неплохая версия — он проглотил наживку вместе с крючком. Потом они для уверенности подсунули ему Фанни и, наконец (прекрасный ход конем), прикинулись, что заподозрили его, — две встречи с Фрицем, когда он вначале шептался с швейцаром и словно ненароком показывал ему на комиссара глазами.
И последний аккорд — инсценировка убийства. Мол, Фанни проговорилась, и Интерпол напал на след девушек, вывезенных из Франции. И он как набитый дурак полетел бы завтра в Солсбери, а Ангел, смеясь и потирая руки, закончил бы свои дела в Танжере, замел бы следы — и ищи ветра в поле…
***
Дубровский предложил пойти вечером в клуб журналистов, но Анри отказался. Сказал, что у него есть срочное задание для своего журнала. Безделье угнетало его — он пошел побродить по приморским кварталам, рассчитывая немного развеяться. Но вышло наоборот. Песни и музыка, доносившиеся из дешевых ресторанов, волновали — поймал такси и решил тоже поехать в клуб журналистов, — не захотелось возвращаться в мрачный номер отеля.
Таксист запетлял по узким извилистым улочкам и наконец выскочил на центральную магистраль, залитую светом реклам. Когда уже подъезжали к клубу, Анри неожиданно спросил водителя:
— Вы знаете, где ночной клуб «Игривые куколки»?
Спросил так, без определенной цели; еще секунду назад не было и мысли об этом ночном притоне, и сам рассердился на себя, что мог подумать об этом, — у них же был договор с Бонне, и не имело смысла нарушать его, но все же он приказал шоферу:
— Отвезите меня туда…
Анри подумал об «Игривых куколках» потому, что клуб этот размещался на отшибе, почти за городом, а комиссар пошел сегодня к «Девушкам в красных чулках».
Ехали минут пятнадцать по крутому берегу моря. Анри видел огни кораблей, стоящих на рейде, слышал шум прибоя, но все это не успокаивало.
Ночной клуб «Игривые куколки» возвышался в парке у берега — четырехэтажное белое здание с освещенными окнами. Рядом — стоянка машин.
Анри вышел из такси и уверенно направился к стеклянным дверям, за которыми маячила фигура швейцара в форменной одежде — коренастый человек, настоящий вышибала, какими и представлял себе Анри людей подобной профессии.
Анри, прикинувшись пьяным, остановился и сказал уверенно:
— Ты что, не узнаешь? А–а, — засмеялся, — я побрил бороду, и ты не можешь меня узнать… — Вынул из кармана банкнот. — Но ты всегда узнаешь это и, наверно, знаешь разницу между десятью и пятьюдесятью франками.
Анри подмигнул швейцару, тот жадно посмотрел на пятидесятифранковый банкнот, но не взял. Севиль попробовал развеять его подозрение:
— Я же старый клиент!
Швейцар заколебался, но не стронулся с места.
— Не могу… Приказано пропускать только по особому разрешению мадам.
— Неужели, — сделал вид, что не поверил, Анри. — Раньше ведь не было этого? Зачем такие строгости?
— Будто не знаете: выступают новые девушки… Очень большой наплыв…
У Севиля загорелись глаза: а может, Генриетта здесь? Придя в себя, проворчал:
— Если новенькие, так старым посетителям уже и нельзя… Где же справедливость?
Швейцар только руками развел. Анри снова помахал ассигнацией.
— Пятьдесят монет, парень… Не зря же я ехал сюда!.. И такси отпустил.
Швейцар только покачал головой. Анри спрятал деньги. Хотел было уже уйти, но задержался и спросил словно ненароком:
— И хорошенькие есть среди новеньких?
Швейцар хитро подмигнул.
— Приходите через месяц.
— Через месяц… через месяц, — надул губы Севиль.
— Не пожалеете! Говорят, куколки из самого Парижа, мосье, — доверительно сказал швейцар, но, поняв, что сболтнул лишнее, спохватился: — Однако точно не знаю…
У Севиля перехватило дух: Генриетта здесь! Но ни о чем больше не стал расспрашивать, чтобы случайно не встревожить швейцара.
— Эх, — сказал разочарованно. — Была надежда познакомиться с красивой девушкой…
Повернулся и чуть не столкнулся с коренастым мужчиной. Постоял в освещенном квадрате перед подъездом. Конечно, сделал ошибку, отпустив такси: до центра города около десяти километров, а свободную машину здесь разве найдешь?
Часы показывали начало первого, Анри медленно двинулся вдоль берега, надеясь на попутную машину. В конце концов, какое это имеет значение — все равно через полтора–два часа доберется до отеля.
…Грейт чуть не столкнулся с Севилем, вначале подумал, что ему показалось: неужели тот самый француз, которого он видел вместе с полицейским агентом? Полковник опешил. Значит, конец, в клубе облава! А может, пока не поздно… Только почему играет оркестр? Оглянулся — проклятый француз идет вдоль стоянки машин.
— Эй ты! — позвал швейцара. — Почему пустил этого?.. — и показал на Севиля.
— Что вы! — возмутился швейцар. — Я здесь не первый день и знаю порядок. У меня не пройдет ни один посторонний…
— Но ты разговаривал с ним… О чем?
Швейцар пожал плечами.
— Ни о чем… Ну о девочках из Франции.
— Ты! — выдохнул зло полковник, схватив швейцара за грудь. — Ты знаешь, что наделал? Это же полицейский шпик… Мадам Блюто спустит с тебя три шкуры!
Швейцар отвел руки полковника.
— Но я видел, — произнес твердо, — я видел, француз пошел пешком. Он еще недалеко и…
Полковник размышлял несколько секунд.
— Догони! И того… Только тихо!.. Возьми с собой Жозефа.
…Анри услыхал, что его догоняют. Какие–то люди шли быстро, не прячась, громко разговаривали. И все же на всякий случай Анри сошел с дороги, притаился за деревом.
Те двое приблизились к дереву, и один вдруг сказал:
— Он здесь!
Второй направился к Севилю.
— Ты почему не расплатился, паршивая свинья? Сбежать решил?
Севиль узнал швейцара.
— Вы же не пустили меня…
— Не ври!
Второй зашел ему за спину. Анри хотел проскочить на дорогу, но швейцар ударил его в лицо. Севиль пошатнулся, и тогда второй резко пнул его ногой в живот. Чувствуя, что падает в бездну, Анри замахал руками, чтобы удержаться, но тело перевесило, и он закричал в отчаянии, ударился обо что–то плечом, затем головой. Боль пронизала его — Анри протянул руки, чтобы задержаться, но ободрал пальцы. Еще раз ударился коленом, увидел море, боль снова пронизала его — и все…
Двое осторожно подошли к обрыву. Швейцар посмотрел вниз, лучом фонарика ощупал берег. Луч вырвал из темноты скрюченное тело.
— Готов.
— Надо бы проверить, — заколебался Жозеф.
Швейцар направил луч фонарика на отвесную стену.
— Здесь сам черт голову сломает. Начнется прилив, его смоет… Полиции никогда в жизни не докопаться.
— Э–э, — вздохнул Жозеф. — Шел пьяный, оступился… Полиция уже привыкла к этому…
— Погоди… — швейцар осветил фонариком место, где произошла драка. Сказал с удовлетворением: — Камень, следов не осталось.
Они посидели на вершине, покурили. Затем снова свет фонаря выхватил из темноты безжизненное тело внизу, на берегу.
— Все. Пойдем, — предложил Жозеф. — У меня насморк, а ветер с океана.
— Пойдем, — согласился швейцар, хотя ему не очень хотелось возвращаться. Знал: мадам шутить не любит, и, хотя они и исправили свою ошибку, неприятностей не избежать.
***
Мадам Блюто нервно затянулась дымом, погасила сигарету и спросила полковника:
— Так что же нам делать?
Грейт ответил категорично:
— Если полиция подозревает что–то и к утру не дождется своего агента, перетрясет всю виллу. А вы можете положиться на всех своих куколок?
— Они у меня опутаны со всех сторон, и с точки зрения закона…
— А пресса? — отрезвил ее полковник. — Вы знаете, какой шум вокруг всей этой истории поднимет пресса?
Розовощекий предложил Генриетте контракт на три года, но она согласилась только на годовой. Подписала, небрежно глянув на текст договора, поскольку Дюбуи выдал ей аванс и было неудобно вчитываться — фирма, которая не скупится на королевский аванс, не может быть несолидною. Тем более что розовощекий посоветовал:
— Прочитайте внимательно, мадемуазель, нам бы не хотелось, чтобы потом возникли недоразумения. Мы привыкли выполнять свои обязательства, но требуем этого и от вас.
— Я не ищу легкого хлеба, — только ответила она и расписалась.
Дюбуи вручил ей билет на поезд до Марселя и объяснил, где и когда должна быть, чтобы не опоздать на самолет, которым фирма переправит ее и других новых работниц в Северную Африку.
Впервые все они собрались в десять часов утра у отеля «Наполеон». Пятнадцать разных по характеру, взглядам, нравам, но все молодые и красивые.
Кто–то из марсельских пижонов, пораженный такой картиной, не выдержал и предложил:
— Пташки, возьмите меня с собой. А еще лучше оставайтесь здесь. Гарантирую всем шумный успех, а сегодня — веселый вечер…
Он попробовал протолкнуться к дверцам автобуса, в который садились девушки, но споткнулся о своевременно подставленную ногу хмурого верзилы в надвинутой на лоб шляпе.
— Я тебе покажу «пташки»… — прошипел верзила, и пижона как ветром сдуло.
— Поехали, Густав! — позвал верзилу Дюбуи.
Тот сел за руль, и автобус рванул с места. Ловко маневрируя, Густав вывел машину на автостраду, и через четверть часа будущие экскурсоводы уже поднимались в самолет.
Генриетте пришлось сидеть в хвосте, и ее сразу затошнило. Вскоре сделалось совсем плохо, и она бросилась в туалет. Там и услыхала разговор, который огорошил ее. И все же она нашла в себе силы ничем не выдать себя и внимательно слушала, стараясь не пропустить ни одного слова.
Разговаривали в тамбуре по–немецки и не очень опасались — были уверены, что никто из пассажирок не понимает их.
— Нас ждет грузовик и пять легковых машин, — сказал какой–то мужчина за дверью туалета. Генриетта сразу же узнала голос Дюбуи. — Разгрузимся, и вы, полковник, сразу посадите самолет в Танжере. Таможенникам на радость…
— Не забудьте прислать в аэропорт машину, — проговорил полковник на ломаном немецком языке. Потом попросил: — Налейте мне виски, Франц.
— Но вы же ведете самолет, Кларенс…
— Сейчас я включил автопилот… Глоток спиртного никогда не помешает.
Уже начало этого разговора насторожило Генриетту, почему Дюбуи из Жана вдруг превратился в Франца? И тут она припомнила, что уже при первом знакомстве заметила у него иностранный акцент, но мосье служил в Африке, и это не показалось странным. Но при чем здесь таможенники?..
— Вы же знаете, я спокойно отношусь к прошлому, — произнес Франц.
— Это пока не заденет вас лично, — отпарировал полковник. — И ваших дел в…
У Генриетты оборвалось сердце: полковник произнес это слово спокойно и безразлично, так, как она говорила о Париже, Лионе, Гамбурге, Лондоне. Но это слово стало символом смерти — только недавно она слышала его из уст Сержа Дубровского.
Франц сказал недовольно:
— Я же просил вас…
— Вы стали пугливы. Нас никто не слышит, а если бы и услыхали…
— И все–таки…
После паузы полковник спросил:
— Когда вы скажете девчонкам о перемене их профессии?
— Не люблю откладывать. Лучше сейчас.
— Я взгляну на приборы и приду посмотреть спектакль.
Сразу все стихло. Генриетта осторожно выскользнула из туалета и чуть не столкнулась с розовощеким. Тот посмотрел на нее подозрительно, спросил по–немецки:
— Что вам тут нужно?
Генриетта сообразила, что не следует выдавать свое знание немецкого, и только пожала плечами.
— Сядьте на свое место, мадемуазель, — приказал тот уже по–французски.
В конце самолета стоял Густав, широко расставив ноги и заложив руки за спину.
Франц прошел вперед, заглянул в кабину — оттуда вышел человек еще выше Густава и наверняка сильнее.
«Полковник», — поняла Генриетта. Она сидела возле иллюминатора, спрятавшись за спинку кресла, и ждала. Догадывалась: сейчас произойдет нечто страшное.
— Минутку внимания, девушки, — захлопал в ладоши розовощекий. — Я должен сделать довольно срочное и, может, для некоторых неприятное сообщение… — Вынул из кармана какие–то бланки, помахал ими над головой. — Знаете, что это такое? Точные копии договоров, которые вы подписали с нашей фирмой. Обратите внимание на пункт шестнадцатый… — Бросил бланки передним девушкам. — Вчитайтесь в него внимательно, мои козочки. Понятно? Кто из вас нарушит договор — заплатит пятьсот тысяч франков! — Улыбнулся доброжелательно и сказал мягко, ласково, словно сообщал что–нибудь успокоительное: — Но это так… Просто для формы, мои дорогие, чтобы вы поняли, что нет смысла брыкаться и показывать коготки. Но что поделаешь, наша фирма имеет уже достаточно экскурсоводов, мне сообщили об этом уже в последнюю минуту, и вам придется как–то по–другому обслуживать клиентов… В ночных кабаре Танжера… Вы поняли меня, козочки?..
Ровно гудели моторы, никто из пассажиров не проронил ни слова. Потом девушка, сидевшая за Генриеттой, сказала тихо и как бы с удивлением:
— Какой мерзавец!
А другая, не поднимаясь, произнесла спокойно:
— Вы плохой шутник, мосье Жан…
— Если вы так воспринимаете мою откровенность, то я молчу… Но прошу учесть, мы не церемонимся с непокорными!
Теперь поняли все. Кто–то заплакал, а высокая брюнетка, что сидела в первом ряду, зло бросила розовощекому в лицо скомканный договор и истерично закричала:
— Вы негодяй!.. Мы пожалуемся! Вы не имеете права!..
— Имеем, козочки… Обратите внимание на пункт четырнадцатый: фирма может использовать вас на других работах. Вам ясно, мадемуазель? На других работах…
— Подлец! — Девушка закрыла лицо руками и заплакала.
— Вам не удастся нас обмануть! — Вскочила ее соседка и двинулась на Франца с поднятыми кулаками. — Мы заявим в полицию!
Полковник сделал шаг вперед, и девушка отступила, словно натолкнулась на непреодолимую стену.
— Вот что, райские птички, — произнес грозно полковник, — я с вами не собираюсь разводить церемоний! Я здесь и полиция и закон! Кто не будет повиноваться, голову сверну!..
— Так точно… — подтвердил Франц. — Однако должен напомнить вам, козочки, что мы предлагаем прекрасные условия. Можете получить вдвое, а то и втрое больше, чем обусловлено контрактом. За три года можно заработать приличную сумму. Вернетесь в свой Париж богатыми невестами… Решайте, фирма гарантирует полную секретность.
— Какой мерзавец! — не выдержала соседка Генриетты, рванулась вдоль сидений, занесла над головой сумочку, но Франц перехватил ее руку, толкнул в грудь. Девушка зашаталась, но удержалась на ногах, ухватившись за спинку кресла, затем плюнула Францу в лицо.
Франц поднял руку; еще мгновение, и ударил бы — даже пощечина принесла бы ему удовлетворение, — но сдержался.
— Я припомню это вам, мадемуазель… — процедил со злобой, вытираясь. — Густав! Наведи порядок!
Тот протиснулся в узком проходе, положил девушке на плечи руки, легко подмял ее, завернув руки назад, и бросил в кресло, да так, что она ударилась головой о бок Генриетты.
— Ну? — спросил Густав. — Кому еще не нравится?
Все молчали.
— Ничего, козочки, привыкнете, — сказал розовощекий благодушно. — У вас будут прекрасные условия: отдельная комната, хороший портной, вкусная еда… Вам просто повезло, мои дорогие…
Генриетта приподнялась.
— Чего тебе? — задержал ее Франц. — Куда?
Генриетта только указала в сторону туалета.
— А–а, — розовощекий пропустил ее, но, когда она взялась уже за ручку двери, остановил резким окриком: — Стой!
Заглянул сам в туалет, осмотрел все тщательно. Генриетта оперлась о стенку, вынула платок из сумки, зажала рот.
— Иди! — подтолкнул ее Франц, и Генриетта склонилась над умывальником, закашлялась.
Ангел постоял несколько секунд и прикрыл дверь.
Девушка, продолжая кашлять, быстро вынула из сумочки блокнот, прыгающим почерком набросала несколько строк, вырвала страничку, сунула в конверт и написала адрес. Заклеив конверт, сунула его под блузку и вышла из туалета.
Спутницы сидели тихо, с ужасом поглядывали на Густава, прохаживающегося между креслами.
Генриетта упала на свое кресло и посмотрела в иллюминатор. Далеко внизу, где морская синь сливалась с синевой неба, проступала темная полоса, самолет уже шел на посадку.
Франц спрыгнул на землю первым. Генриетта видела, как он делал кому–то знаки, размахивая руками. Скоро из–за кустов медленно выползли легковые автомашины.
Франц оглянулся и позвал:
— Выходите, мадемуазель Лейе!
Сказал как добрый знакомый, который сейчас подаст руку и поможет сойти по трапу.
— О багаже не волнуйтесь, его привезет грузовик.
Генриетта зашла за хвост самолета, осмотрелась вокруг. Окна в машинах закрыты шторами. Она сломала ветку куста, глянула исподлобья: не смотрит ли кто? Затаив дыхание, вытащила конверт, чтобы наколоть его на длинную колючку, но не успела сделать это: рядом затормозила длинная серая машина. Прикрыла конверт сумочкой и первой влезла в машину, чтобы занять место с краю.
Автомашины уже отъезжали, когда Франц плюхнулся на первое сиденье. Ехали по выбоинам, раскачиваясь в разные стороны.
Выбрав удобный момент, Генриетта надавила коленом на рукоятку — дверца открылась, и конверт упал в щель.
— Закройте двери, — резко обернулся Ангел. — Бежать тут некуда!
Генриетта выдержала его взгляд.
***
Сергей брился в ванной, когда зазвонил телефон. Дубровский, выключив электробритву, поспешил к письменному столу. Вначале ничего не понял — какой–то взволнованный голос сообщал о письме ив Танжера… о несчастье…
— Извините, ничего не пойму. Кто это?
— Боже мой, это же я, Анри!.. Анри Севиль. Только что получил письмо от Генриетты… из Танжера… Она попала в беду, и я хотел бы… Ты сейчас будешь дома? Беру такси…
Сергей немного постоял возле стола, но, так ничего и не сообразив, возвратился в ванную.
Анри буквально ворвался к нему, растрепанный и небритый, галстук перекосился — всегда аккуратный и подтянутый Анри. Дрожащими руками совал Сергею грязный, помятый конверт и, казалось, вот–вот заплачет или закричит от отчаяния.
Дубровский тут же, в прихожей, пробежал глазами письмо. Корявые буквы, строчки расползлись в разные стороны:
«Спасайте, ради бога, спасайте! Если это письмо не дойдет по адресу, обозначенному на конверте, передайте его полиции. Мое имя Генриетта Лейе. Человек, который назвал себя Жаном Дюбуи, завербовал в Париже меня и еще четырнадцать девушек на работу в Африку. Вылетели самолетом с аэродрома близ Марселя. Нас собираются продать в ночные кабаре. Дюбуи и полковник Кларенс. Настоящее имя Дюбуи — Франц. Во время войны он служил в концентрационном лагере в Польше. Среднего роста, розовощекий. Наш самолет держит курс на Танжер. Это все, что я знаю. Кто бы вы ни были, спасайте нас!»
— Я ничего не знаю! И вообще ничего не понимаю… — чуть не плакал Анри.
— Она, наверно, выбросила письмо где–нибудь по дороге или передала с кем–нибудь.
— Я получил его час назад…
— Вот что, — рассердился Дубровский, — поплакать ты всегда успеешь. — Подал Анри бритву. — Брейся и будем решать, что и как делать.
Очевидно, решительность Дубровского подействовала на Севиля. Покорно включил бритву и стал бриться, выжидающе глядя на Сергея.
Тот размышлял вслух:
— Итак, приблизительно пятнадцатого мая Генриетта Лейе подписала контракт и попала в руки гангстеров, которые вывезли из Франции пятнадцать девушек для продажи в ночные кабаре Танжера. Можно установить, какой самолет вылетал примерно в это время из района Марселя. Хотя вряд ли этот Франц и полковник Кларенс, как называет их Генриетта, оставили свои визитные карточки…
Внезапно Дубровский, задохнувшись, сел на тахту.
— Розовощекий… розовощекий… — беззвучно двигал губами. — И служил в лагере в Польше…
Он потер лоб, словно старался отогнать зловещие видения, но перед глазами не исчезали сторожевые вышки с пулеметами, ограда из колючей проволоки, мрачные кирпичные бараки.
… С неба сеял холодный и мелкий дождь. Они — это Владимир Игнатьевич Заболотный, работник из белорусского города Мозыря, и он, Сергей Дубровский, который всего лишь полгода назад был старшим сержантом, но, попав в плен, стал заключенным этого лагеря смерти — человек под номером 110182.
Седоголовый Владимир Игнатьевич специально вызвал в уборную Сергея как одного из участников лагерного Сопротивления, и теперь они разговаривали, не боясь третьих ушей. Все в лагере жили надеждой, что терпеть осталось не так уж много. Только что Заболотный принес подтверждение этому: там, на востоке, началось новое наступление, и советские войска подошли к границам Польши.
Дубровский смотрел на серое дождливое небо, и ему вдруг послышался гул канонады, он обрадовался, словно это и на самом деле была канонада, вытянул шею, насторожил уши.
И засмеялся…
Заболотный вдруг схватил его за руку, и Сергей взглянул на него удивленно. Но сразу посмотрел туда, куда показывал глазами Владимир Игнатьевич, и осекся.
На красной кирпичной дорожке, ведущей к баракам, стоял офицер в блестящем плаще. Стоял неподвижно, казалось, не смотрел на них, но поманил пальцем, и они пошли к нему, сразу сникнув.
Сергей узнал офицера еще издалека, поскольку привык видеть эту фигуру, когда заключенные строились на лагерном плацу и тот стоял чуть поодаль от остальных офицеров в черном — вершитель судеб, гауптштурмфюрер СС, комендант лагеря.
Невысокий, толстый, он проигрывал рядом со своими подчиненными, даже манера держать руки в карманах и переступать с ноги на ногу делала его каким–то домашним в сравнении с крепкими надзирателями, белой вороной в черной стае. И сейчас, когда Сергей имел возможность рассмотреть коменданта вблизи, он произвел на него такое же впечатление: розовощекий, как ребенок, и нет ничего грозного во взгляде. Даже улыбается.
Они стояли перед ним — двое мужчин в мокрой полосатой одежде, которая делала их жалкими.
Офицер разглядывал их с любопытством и, Сергею показалось, без злобы: поймал даже веселую искорку в его глазах. Он смотрел на розовые щеки, видел, как двигаются губы коменданта — яркие, пухлые, знал, что эсэсовец что–то говорит, но ничего не понимал и даже не слышал его голоса.
Но почему офицер тычет стеком в грудь Заболотного?
Комендант пошлепал носком сапога по жидкой грязи и спросил нетерпеливо:
— Понял?..
Только теперь Дубровский уяснил, чего добиваются от него, вернее, Сергей понимал это и раньше, понимал все время и слышал, просто казалось, что не слышал, словно были слова и не было их. Он успел даже подумать, что может дотянуться не только до розовых щек (интересно, на самом ли деле они такие бархатные, как кажется?), но и до комендантского горла. Он сделает это быстрее, нежели тот успеет защититься, и, пожалуй, у него хватит сил, чтобы одним рывком разорвать хрящи гортани.
Это желание было настолько сильным, что почувствовал, как онемели кончики пальцев; но все же пересилил себя, а может, просто взял верх инстинкт самосохранения, который заставлял заключенных втягивать голову в плечи и горбиться при виде эсэсовцев, — шагнул назад, ибо не мог сделать то, что заставлял эсэсовец, даже под угрозой самого большого наказания.
И в это мгновение встретился глазами с Заболотным.
Они смотрели друг другу в глаза, может быть, один миг, а может, и больше. Владимир Игнатьевич не подал ему ни одного знака, даже не моргнул; зрачки его расширились, и серые глаза сделались черными. Он приказывал глазами, и Сергей понял его. Поднял руку и увидел, как послушно согнулся Заболотный, не ждал, пока пригнут его к земле, сам стал на колени, погрузив лицо в грязь.
Дубровский прижал его совсем легко и сразу отпустил, но немец толкнул Сергея сапогом в бок и приказал: «Сильнее! Не жалей его!»
Сергей не мог сделать этого, но почувствовал, как от его совсем легкого толчка Заболотный так шлепнулся в грязь, что полетели брызги, — теперь он вполне понял Владимира Игнатьевича и начал тыкать быстрее. Видел только носки сапог коменданта и знал, что тот следит внимательно: толкал Заболотного по–настоящему, но все же вполсилы — хорошо, что комендант не знал, не мог знать, какая сила еще таилась в Сергее.
«Хватит…» — наконец послышался приказ.
Сергей отвернулся, чтобы не видеть окровавленного лица Заболотного, — не мог, не имел права смотреть на него, потому что мог выдать себя, наверняка выдал бы — нервы уже не выдерживали: заплакал бы от отчаяния либо бросился на розовощекого…
Если бы комендант в этот момент смог заглянуть ему в глаза, возможно, уловил бы в них мгновенную улыбку. Сергей застыл в ожидании: видел только комендантские сапоги, нетерпеливо переступающие на месте; это предвещало нечто недоброе, и в самом деле немец выкрикнул зло: «Отомсти ему!..»
На затылок Сергею легла мокрая и холодная рука, грязь потекла по шее. Владимир Игнатьевич надавил ему на затылок, и Дубровский понял, что Заболотный благодарит и подбадривает его. Это взволновало Сергея, какой–то нерв оборвался, он всхлипнул, сам бросился в грязь, бился лицом о землю, стараясь хоть немного приглушить ту боль, что рвалась изнутри с рыданиями.
Сколько прошло времени, не помнил — бился, как в эпилептическом припадке, но вдруг его грубо одернули и остановили. Сергей открыл глаза, заметил, как из носа в кровавую лужу капает жидкая грязь, и капли почему–то красные, никак кровавые. Откуда кровь? Сразу понял и вытер рукавом лицо. Увидев черную спину коменданта, который, не оглядываясь, шагал по кирпичной дорожке, поднял глаза и встретился взглядом с Заболотным.
Лицо Владимира Игнатьевича напоминало кровавое месиво, все в липкой грязи — виднелись только глаза, смотрящие, как всегда, с хитринкой. Он вынул из кармана какую–то тряпку, вытер лицо Сергею и стал вытираться сам.
— Спасибо тебе, парень, не плачь, глупый, еще раз говорю: спасибо… — сказал Заболотный.
Но Сергей всхлипнул, хотя и знал, что самое страшное уже позади и Владимир Игнатьевич прав: стоило ему не послушать коменданта, и этот день стал бы для него последним. А они надеялись выжить, умереть здесь было легко, смерть подстерегала на каждом шагу — непроизвольно Сергей взглянул в сторону крематория, над которым клубилась черная туча, — действительно, сегодня им повезло…
Дубровский осознавал это, но не мог перебороть боль, вырывавшуюся из него хриплыми рыданиями, — эта боль не утихла даже по сей день, хотя после войны уже прошло много лет.
Иногда Сергей получал письма от Заболотного, который работал где–то под своим Мозырем. Сергей знал, что тогда они спасли жизнь друг другу, но раковая опухоль позора все же жила в нем, и он временами даже задыхался от нестерпимой боли, вспоминая вонючую грязь, блестящие комендантские сапоги, и думал, что, может, лучше было тогда умереть…
И сейчас, только вспомнив розовощекого, почувствовал, как знакомая боль пронизала сердце.
Приземистый комендант в блестящих сапогах. Розовощекий человек с улыбкой добряка. Весь мир впоследствии узнал о нем. Гауптштурмфюрер СС Франц Ангел.
Внимательно прочитав письмо еще раз, Дубровский искоса взглянул на Анри. Тот еще брился, для удобства подперев языком щеку. Наверно, прошло несколько секунд, а Сергей пережил, казалось, вновь все лихолетье.
Отложил письмо и сказал:
— Необходимо срочно обратиться к полиции. Есть там знакомые?
Севиль неопределенно хмыкнул:
— Я могу попросить наших уголовных репортеров…
— Не нужно… — Дубровский уже вертел телефонный диск. — Соедините меня, пожалуйста, с комиссаром Диаром. Доброе утро, комиссар. Вас беспокоит Дубровский. Помните, мы встречались в клубе… вынужден напомнить о себе. Наберитесь терпенья, я прочитаю вам один документ.
Сергей познакомил комиссара с письмом Генриетты.
— Минутку! — забубнил в трубке голос Диара. — Я сейчас позвоню одному человеку… — И через некоторое время: — Вы слушаете меня, мосье Дубровский? Сейчас вам следует подъехать на улицу Поль–Валери. Интерпол. Знаете, где это? Комиссар Фошар ждет вас.
Над стареньким и совсем не фешенебельным особняком на Поль–Валери развевался флаг Международной организации уголовной полиции, которую обычно называют одним словом — Интерпол. Дубровский увидел этот флаг издалека: на голубом фоне разбегались во все стороны серебристые лучи, знаменуя, очевидно, силу правосудия. Может, этот флаг произвел впечатление и на Анри, так как тот приободрился и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь.
Их провели в кабинет комиссара сразу. Поднялись по узкой лесенке, миновали темный коридор со скрипучими от времени половицами, и полицейский открыл перед ними дверь кабинета.
У Фошар а сидел еще кто–то. Сергей неприветливо взглянул на него: хотел поговорить с комиссаром с глазу на глаз. Видно, Фошар перехватил этот взгляд, так как сразу представил присутствующего:
— Комиссар Люсьен Бонне, господа. Он будет расследовать ваше дело. Меня просил господин Диар, Бонне — моя правая рука, господа…
Комиссар Бонне совсем не был похож на детективов из популярных полицейских романов — высоких, статных, с пронзительным взглядом холодных серых глаз. Не напоминал он и сименоновского Мегрэ с неизменной трубкой. Дубровского даже поразила его скромность и, как бы сказать, несоответствие со сложившимися представлениями о сыщиках. Люсьену Бонне можно было дать самое большое лет сорок, даже меньше, наверно, так и было на самом деле, потому что на его лице не залегла еще ни одна морщинка, а на макушке торчал задиристый вихор.
Бонне улыбнулся, и его улыбка опять–таки разочаровала Дубровского. Он улыбался не по правилам — как улыбается человек, который искренне симпатизирует вам, — и это отступление от правил, какое первоначально огорчило Дубровского и даже немного смутило (возможно, комиссар хотел отделаться от них и вместо опытного полицейского волка подсунул желторотого новичка), все же растопило его недоверие, и Сергей сердечно ответил на крепкое пожатие руки комиссара, не без удовольствия отметив, что Бонне силы не занимать.
Фошар угостил их кофе, и Анри долго и путано рассказывал историю своего знакомства с Генриеттой Лейе, нервничал, вздыхал, смущался и недоговаривал.
Когда Анри закончил, Дубровский счел необходимым добавить, что он, наверно, знает одного из преступников, это Франц Ангел, бывший гауптштурмфюрер GC и военный преступник, комендант большого концентрационного лагеря в Польше, где во время войны уничтожена не одна сотня тысяч невинных людей.
Комиссар остановил его:
— Нас не интересует прошлое Ангела, кем бы он там ни был. Розыск эсэсовских преступников не входит в компетенцию Интерпола.
— Но вы же не могли не слышать этого имени… Франц Ангел… На Нюрнбергском процессе его фамилию называли не один раз, и Ангела не внесли в списки разыскиваемых военных преступников только потому, что где–то нашли документы, свидетельствовавшие о его смерти.
Комиссар посмотрел на Дубровского отчужденно:
— Этот факт имеет значение… Хотя вряд ли солидная газета напечатает сейчас материал об Ангеле, опираясь на такие сомнительные н бездоказательные вещи, как намеки в письме мадемуазель Лейе.
— Я видел Ангела так, как вижу сейчас вас, и думаю, что Генриетта Лейе не ошибается. У Ангела есть примета — розовые щеки. Понимаете, у солидного человека детские розовые щеки. Генриетта сразу обратила на это внимание.
— Если бы сам Гитлер сейчас поднялся из могилы и встретился мне на Елисейских полях, — сказал Фошар, — я не имел бы права его задержать. Интерпол расследует только уголовные преступления. Третий параграф нашего устава запрещает вмешиваться в любое дело, если речь идет о политике, религии, обороне государства или о проблемах расовой дискриминации. Далее, — комиссар постучал пальцами по письму Генриетты и продолжил: — Не дай бог, чтобы известия об этом проникли в прессу. Это будет равносильно предупреждению преступников. Они уйдут в такое подполье…
— Я не уверен, — вмешался комиссар Бонне, — что и без этого наш путь будет устлан розами. Может быть, Танжер у них вообще перевалочный пункт? Я ищу их там, а они давно уже на Ближнем Востоке или черт знает где… Людей с розовыми щеками немало, а этот Ангел давно уже имеет надежные документы, и попробуй докажи, что это и есть он…
— Да, — подтвердил Дубровский, — он отличался осторожностью, и жаль, что мы не имеем его фотографии.
— Это усложняет дело, — нахмурился Фошар. Немного подумал и спросил: — Вы говорите, что видели Ангела в лагере. Узнали бы его сейчас?
Сергей на мгновение зажмурил глаза. Разве может он когда–нибудь забыть тот день? Блестящий плащ, по которому стекают дождевые капли, толстый комендант и его улыбка… Кивнул уверенно.
— Я узнал бы его среди тысячи.
Комиссар смотрел на Сергея задумчиво. Предложил сразу, будто речь шла о поездке в Нанси или Руан:
— Не смогли бы вы слетать с комиссаром Бонне в Танжер? Мы решим все формальности и…
Дубровский сразу согласился:
— Я должен связаться с Москвой, но, думаю, в агентстве, где я работаю, не возразят. Для вас Ангел только уголовный преступник, для нас все это значительно важнее.
Анри, который не встревал в разговор и сидел с таким видом, словно удивлялся, как можно интересоваться мелочами, когда речь идет о его невесте, вдруг сказал:
— Я полечу тоже!
Фошар удивленно пожал плечами.
— Мы не можем запретить вам, летите в любой город, но учитывайте, мосье Севиль, интересы следствия. Это не прогулка — преследование преступников часто связано с осложнениями.
— Понимаю ваше положение, комиссар, — отозвался Севиль, — но ведь речь идет о моей невесте. Я полечу в Танжер как частное лицо, — кивнул в сторону Бонне, — но полиция в любую минуту может рассчитывать на меня.
— Аргумент, что и говорить… убедительный… — проворчал Фошар. — Повторяю, это ваше личное дело. Я хотел бы только предостеречь, чтобы вы не прибегали к частному розыску. Это только напортит. Впрочем, вы, может быть, и пригодитесь комиссару. — Фошар встал, заканчивая разговор. — Мосье Бонне, надеюсь, найдет с вами общий язык, господа…
В другом кабинете Анри спросил Бонне:
— Когда отправимся?
— Два дня на подготовку мне хватит.
— Два дня! — в отчаянии схватился за голову Севиль. — Вы шутите, мосье!
— Танжерскую полицию мы проинструктируем уже сегодня, — успокоил его Бонне. — А мне необходимо ознакомиться с архивами. Не исключено, что этот Ангел оставил какие–нибудь следы и у нас. Продает девушек, а это чистой воды уголовщина.
— Когда основана ваша организация? — спросил Дубровский. — Возможно, я проявляю поразительную неосведомленность, но не приходилось иметь дела…
— Даже опытные полицейские репортеры проявляют такую неосведомленность, — заметил Бонне. — Интерпол мог быть создан еще до первой мировой войны. В четырнадцатом году сыщики уголовной полиции собрались на свой первый международный конгресс в Монако. Но, к сожалению, началась война, а война не способствует объединению даже полицейских. Новая встреча произошла только через девять лет в Вене. Тогда же, в двадцать третьем году, была основана Международная комиссия уголовной полиции — мать нашей организации. Однако эта мать, — Бонне саркастически улыбнулся, — умерла еще младенцем. Штаб Интерпола тогда находился в Вене. После оккупации австрийской столицы гитлеровцами Гейдрих конфисковал все архивы Интерпола и перевез их в Берлин. Вы понимаете, господа, для чего?
— Чтобы гестапо использовало преступников… — ответил Сергей, хотя вопрос был скорее риторичным и Бонне собирался сам ответить на него.
— Со шпионско–диверсионной целью, конечно, — уточнил тот. — Фашисты поставили точку на Интерполе.
— И он возродился уже после войны? — спросил Дубровский.
— Сама жизнь потребовала возобновления нашей деятельности, — ответил Бонне. — Война принесла не только разруху. После сорок пятого года кривая преступности неуклонно пошла в гору. Частые ограбления банков, стремление гангстеров сбыть украденные ценности и найти пристанище за границей стран, в которых они действовали, заставили правительства искать новые формы борьбы с преступностью. В результате и была создана Международная организация уголовной полиции. Сейчас в нее входят государства Западной Европы, страны Северной и Южной Америки, а также Африки и Азии. В каждой стране–участнице создано национальное бюро Интерпола. Кажется, все, господа. А теперь я должен покинуть вас. Я закажу на всех билеты на самолет и сообщу вам дату вылета.
***
Несколько дней Севиль, Бонне и Дубровский бродили по Танжеру. Бонне иногда таинственно исчезал куда–то на два–три часа, но от всех прямых и косвенных вопросов Анри отделывался либо шутками, либо отмалчивался.
Дубровский был терпеливее Друга, хотя, ставя себя на место Анри, целиком оправдывал его: кто и когда из влюбленных отличался рассудительностью?
Слонялись они, с легкой руки комиссара, по ресторанам и пивным. Бонне заводил длинные разговоры с кельнерами, шутил с девушками–официантками.
Сегодня утром он опоздал на завтрак и, не ожидая вопроса Анри, объяснил:
— У нас есть время, можете не спешить и спокойно пить свой кофе.
— Скоро вы доконаете меня, — ворчливо начал Анри. — Я не вижу смысла в ваших ресторанных путешествиях. По мне так…
— Вы не комиссар полиции, а журналист, Анри, — отмахнулся Бонне, — и это накладывает отпечаток на склад вашего характера. Но, смею вас заверить, в нашем деле поспешность излишня…
— Я слышал уже это от всех знакомых полицейских, и каждый говорит об этом так, как будто открыл Америку.
Дубровскому нравился открытый характер комиссара и его простодушие, правда, немного смущала прямолинейность и ограниченность Бонне в делах, не связанных со служебными обязанностями, но хорошо было, что Люсьен имел голову на плечах, а это, как известно, присуще не каждому полицейскому комиссару. Кроме того, был он человеком честным, на которого можно положиться в трудную минуту, и, безусловно, храбрым.
— Я уже объяснил вам, Анри, — сказал Бонне, — что мы находимся в независимом государстве и дело розыска преступников — прерогатива марокканской полиции. Я помогаю ей с согласия министра внутренних дел. Только помогаю! — засмеялся. — Ну а вы уже помогаете мне.
— Не много ли помощников? — спросил Дубровский.
— Разве ж в этом дело?.. — сокрушенно покачал головой Бонне. — Если бы я сейчас встретил этого Ангела, смог бы только раскланяться с ним. Необходимо прежде доказать его преступление, иначе он только посмеется над нами. Любой прокурор не выдаст вам ордер на его арест.
— Известный военный преступник, — пожал плечами Дубровский. — На его совести тысячи жертв…
— А его нет в списках военных преступников. Кроме того, вам уже говорили, что Интерпол не занимается такими преступлениями.
— Убить одного человека — преступление уголовное, оно в вашей компетенции. Убить сотни тысяч…
Бонне замахал руками.
— У меня есть инструкции, Серж, и я не имею права нарушать их.
— Что будем делать сегодня? — оборвал перепалку Анри.
— Пока что мы не сделали ни одного неверного шага, — ответил уверенно Бонне. — Но ведь мы только начали игру и разыграли довольно известный дебют. Комбинации впереди, и никто не гарантирован от ошибки.
Анри положил руку на колено Бонне.
— Тебя, Люсьен, — показал на кельнера, делающего какие–то знаки.
— Да, — поднялся комиссар, — извините, мосье Серж, мы потом закончим наш разговор.
Он вернулся через несколько минут, держа в руках конверт. Вынул из него несколько листков. Сказал, разглядывая их:
— Дело осложняется тем, господа, что содержатели городских притонов, — искоса посмотрел на Дубровского, — и здесь вы, мосье Серж, к сожалению, правы, поддерживают контакты с отдельными представителями местных органов власти…
— Скажите прямо, Люсьен, купили полицию! — отрубил Анри.
Бонне поморщился.
— Несколько прямолинейно, но смысл в этом есть. Именно поэтому я должен был действовать тихо и осторожно… Если бы они почувствовали, что мы наступаем им на хвост, я имею в виду шайку, которая вывезла сюда французских девушек, спрятали бы концы в воду. Поэтому в городском полицейском управлении, а мы целиком зависим от него, я главным образом нажимал на формальную сторону дела и держался так, будто верю каждому их слову и полагаюсь только на их усилия… — Комиссар отодвинул недопитый мартини и налил себе воды. — В то же время надежные люди работали по моим заданиям, да и дни, проведенные нами в злачных местах, господа, не были напрасными. Вот, — положил на стол небольшой листок, — список самых дорогих притонов Танжера и его окрестностей. Мои друзья выбрали, повторяю, самые фешенебельные, поскольку именно с их владельцами могли иметь дело люди, у которых есть возможность самолетом вывозить девушек из Европы. Нет необходимости объяснять почему?
Анри нетерпеливо замахал руками.
— Дальше, дальше, Люсьен…
— Ясно, самые шикарные из них вынуждены постоянно обновлять контингент. У нас есть список — в нем помечены заведения, где в последние два месяца появились новые девушки. Это самый важный для нас сейчас список, господа. Отели «Мадрид», «Розовая вилла», «Синий берег», ночной клуб «Игривые куколки», ресторан «Жемчужина» и другие. У нас есть и их адреса. Список, как видите, не очень большой, и это сужает круг наших поисков. Я не могу утверждать, что мы идем верным путем. — Бонне вынул авторучку. — Допишем сюда казино «Девушки в красных чулках». Мне посоветовал посетить его один кельнер. Помните, вчера вечером обслуживал нас? Еще ночное кабаре «Цветок Востока». Кажется, пока все…
— Ну и?.. — выжидающе уставился на него Анри.
— Категорически прошу вас не действовать по собственной инициативе, — твердо ответил комиссар. — Небольшой просчет может испортить все. По этим притонам пойду я сам.
Анри не сдавался:
— Но ведь в них можно попасть только по вечерам и, если считать по одному в день, то…
— Иного выхода нет.
— Я и Серж могли б… Неужели вы думаете, что у нас не хватит такта и осторожности, чтобы разведать…
— Вы бывали в здешних притонах, мосье? — резко оборвал его Бонне. — Я уверен, что нет. Вас раскусят сразу, а вы знаете, что происходит там с непрошеными гостями? Не спешите, Севиль, и учтите, это не совет, а приказ.
— Я могу не спешить, — сник Анри, — но Генриетта…
— Мы сможем помочь ей, если будем рассудительными. Именно поэтому я просил бы вас и в дальнейшем шататься по ресторанам и бистро. Можно и по самым низкосортным. Вряд ли в городской полиции верят, что вы — журналисты, наверняка считают еще агентами Интерпола. Разговаривайте, расспрашивайте, интересуйтесь чем хотите — это напустит дыма и успокоит кого надо. А сейчас мы продолжим наши походы, господа…
Они шли по улицам европейской части города, рассматривая витрины. Держались теневой стороны, но и здесь донимала жара. Дубровский шагал по краю панели, не обращая внимания на то, что рядом двигался сплошной поток машин. Шел, безразлично глядя на машины, перегонявшие его.
Завизжали тормоза — впереди вспыхнул красный свет светофора. Мягко зашуршав шинами, мимо Сергея проплыл серый «мерседес» и остановился впереди. Что–то привлекло к нему внимание Дубровского — очевидно, знакомое лицо человека на заднем сиденье. Подойдя, Сергей стал так, чтобы не попасть на глаза пассажиру. Подумал, хорошо, что не встретился с ним взглядом. Глаза выдали бы его, не могли не выдать — в «мерседесе» сидел Франц Ангел.
Сергей узнал его сразу, не было никакого сомнения — чуть было не бросился к машине, чтобы открыть дверцу, вытащить Ангела, держать, пока не соберется толпа, Сергей ни за что не выпустил бы Ангела…
Боже мой, где же Бонне?
Неужели уйдет тот, розовощекий? Ангел совсем не изменился, будто годы не властны над ним. Может, только округлился, как говорят, стал солиднее.
Где жеБонне?
Заметил Анри возле витрины, а рядом и комиссара. И что они нашли там интересного?
Бонне сразу определил: что–то случилось.
— Чем вы взволнованы, Серж?
Дубровский оглянулся. Так и есть, зажегся зеленый свет светофора, и машины двинулись. Сергей потянул за собой комиссара.
— Вот видите серый «мерседес» за перекрестком?.. — Задохнулся. — Там Франц Ангел…
Бонне сжал его руку выше локтя.
— Вы не ошиблись?
— Франц Ангел, — повторил Дубровский, — точно.
Из–за угла вынырнул красный «пежо». Бонне поднял руку.
— Быстрее, — подтолкнул к дверце Анри, — быстрее, черт вас возьми!..
«Пежо» успел проскочить перекресток при зеленом свете.
— Впереди серый «мерседес». Нужно его догнать! — приказал Бонне шоферу. — Кстати, — повернулся к Дубровскому, — вы запомнили номер?
— Сто пятьдесят пять — тридцать семь.
— «Мерседес»! — хмыкнул шофер. — Господа знают, сколько лошадиных сил у «мерседеса»?
— Мы не на шоссе и не устраиваем гонки. — Бонне показал шоферу пять долларов. — Получишь, если догонишь.
«Пежо» на самом деле был старым — скрипел и тарахтел всеми своими деталями, но водитель ловко маневрировал в транспортном потоке, оставляя позади даже «форды» и «шевроле». Но серый «мерседес», казалось, растворился в воздухе — может быть, давно свернул в одну из боковых улиц, и скоро даже Сергею, который никак не мог примириться с поражением, стало понятно: им не догнать Франца Ангела.
Бонне попросил остановить «пежо» возле тенистого сквера, где заметил пустую скамейку. Сели, покурили, помолчали. Комиссар подбодрил Сергея:
— И все же сегодня день большой удачи, мосье Дубровский, и я на вашем месте не вешал бы носа. Будем считать, что мы почти установили главное: девушек из Франции на самом деле вывез бывший эсэсовец Франц Ангел. Следовательно, мадемуазель Генриетта Лейе не ошиблась. Это хорошо, поскольку я, честно говоря, не был окончательно убежден, что все в ее письме подтвердится. Правда, с точки зрения юридической присутствие Ангела в Танжере еще не есть доказательство его вины. Он может утверждать, что живет здесь давно и во Франции был черт знает когда. У нас же есть только письмо мадемуазель Лейе. Письмо не доказательство. Но сейчас я не сомневаюсь: Генриетта в Танжере. Мы найдем ее, а затем возьмем этого старого эсэсовского пройдоху. «Мерседес» сто пятьдесят–тридцать семь, — пробормотал в раздумье. — Что же, господа, это уже след…
***
Серый «мерседес» принадлежал владельцу ресторана «Сфинкс», где собирались члены клуба «Ветераны фельдмаршала Роммеля». Постороннему человеку проникнуть туда было почти невозможно, но чиновник из городского полицейского управления пообещал уладить это дело. Его агент был своим человеком в «Сфинксе», он и взялся сопровождать туда Бонне и Дубровского, которые должны были только играть роль немецких коммерсантов, ищущих рынки сбыта в Африке.
Анри надулся, но комиссар сразу же положил конец его притязаниям:
— С вашим типично французским носом, мосье Севиль, не то что на порог, за квартал от «Сфинкса» появляться нельзя. Ветераны сразу же раскусят и вышвырнут нас вместе с вами как паршивых котят.
«Сфинкс» размещался в здании, перегораживающем не длинную, но довольно широкую улицу, создавая тупик. С одной стороны вдоль улицы тянулась чугунная ограда, за ней — то ли парк, то ли сад с роскошной белокаменной виллой в глубине. Напротив — жилые четырех–и пятиэтажные дома без магазинов и кафе, в таких живут чиновники и коммерсанты среднего достатка. Улица слабо освещена, без неоновых реклам. Да и вывеска ресторана не светилась красным или белым светом, не зазывала посетителей, словно хозяин не был заинтересован в клиентах. Наверняка мало кто догадался бы, что здесь ресторан: только подойдя ближе, можно было прочитать скромную вывеску «Сфинкс».
Швейцар взял у Бонне и Дубровского шляпы и поклонился их спутнику с полуфамильярной улыбкой, как старому знакомому.
В большом вестибюле вокруг столиков, заваленных журналами и газетами, сидели в низких мягких креслах члены клуба. Дым от сигар и сигарет висел под потолком, в вестибюле было шумно, и на вновь прибывших почти никто не обратил внимания.
Бонне сразу проследовал в угол к свободному столику. По соседству расположился пожилой человек в черном сюртуке с аккуратной бабочкой, подпиравшей его подбородок. Мужчина сидел прямо, словно не в удобном кресле, а на твердом стуле с высокой спинкой; держал перед собой газету в вытянутых руках, как бы демонстрируя свою дальнозоркость. Бросил недовольный взгляд на Бонне и Дубровского и еле заметно ответил на вежливый поклон их спутника.
— Бывший оберст фон Рунке, — объяснил тот шепотом, когда они расположились за столиком, — живет неизвестно за счет чего, но амбиции хоть отбавляй.
Сергей посмотрел на оберста с любопытством. Ему приходилось встречаться с такими типами: фамильная гордость не позволяла им заниматься каким–нибудь незначительным делом или стать мелким коммерсантом, а на другое не хватало либо ума, либо образования, либо еще чего–нибудь.
Они сами утюжили свои уже изрядно поношенные костюмы, жили воспоминаниями, смотрели на мир с высоты своего оберстского величия и мечтали о будущем, когда можно будет наконец выбросить надоевший гражданский сюртук и снова напялить мундир с крестами. Они мечтали о войне: каждый мнил себя стратегом не в масштабах полка или батальона — собравшись вместе, они критиковали действия командующих армиями или фронтами, у каждого была своя единственно правильная концепция, и каждый был уверен, что он на месте этого командующего никогда бы не ошибся; они планировали грядущую войну (конечно, с «восточными» ордами) и были твердо убеждены, что скоро появится новый фюрер, намного умнее предыдущего (если бы тот больше слушал кадровых военных и немного меньше доверял эсэсовским генералам), который обязательно вспомнит и позовет их. Нет, сейчас они не проиграют. Они не проиграли бы и раньше ту злосчастную войну на Востоке, если бы…
Дубровскому показалось, что сейчас фон Рунке отложит газету и начнет подробно объяснять ему причины неудачи блицкрига против Советского Союза. Но оберст не отрывался от газеты, и Сергей с интересом стал разглядывать зал.
Раскрытые двери прямо перед их столиком вели к ярко освещенному бару: всю стену там занимали полки с бутылками, у высокой стойки стояли и сидели посетители. Из бара, как объяснил им полицейский агент, можно было попасть в ресторан. Там играл небольшой оркестр, и в зал с черного хода впускались женщины; оказывается, «Сфинкс» имел свой контингент проверенных девушек.
Сергей внимательно рассмотрел присутствующих в вестибюле мужчин. Ангела среди них не было, но Дубровского все время не покидало ощущение, что розовощекий где–то здесь, рядом, возможно, в баре, казалось, сейчас он появится в дверях, самоуверенный, довольный собой, своим костюмом, только что выпитым фужером мартини, беседой с каким–нибудь Рунке или другим ветераном африканской кампании.
И на самом деле, светлый прямоугольник дверей закрыла чья–то фигура — лица мужчины не было видно, только контуры тела вырисовывались на фоне разноцветных бутылок, и у Дубровского даже перехватило дыхание от неожиданности: неужели Ангел? Наклонился к Бонне, но вдруг понял, что ошибся: человек, стоящий в дверях, был крупнее Ангела.
Агент полиции расценил мимолетное движение Сергея как вопрос и объяснил:
— Хозяин заведения Шаттих…
Он не успел закончить, так как Шаттих поднял руку и произнес громко:
— Скоро, господа, наступит годовщина нашей славной победы над английскими войсками под Аль–Аламейном. Прошу не расходиться. С минуты на минуту мы ждем генерала Лехтенберга, который прочтет небольшую лекцию и поделится воспоминаниями.
В зале одобрительно загудели: очевидно, генерал Лехтенберг был популярен среди собравшихся.
— Пока не началась лекция, — заметил Бонне, — нам следует перебраться в ресторан. Ангел — деловой человек, и воспоминания ветерана вряд ли интересуют его.
Они пошли в бар, сопровождаемые пристальным взглядом фон Рунке.
— Пахнет мертвечиной… — поморщился Бонне. — Они напоминают мне привидения, вставшие из гробов, эти недобитые фашисты.
Комиссар еле разминулся в коридоре с толстым, почти квадратным человеком. Бонне оглянулся на него. Сказал пренебрежительно:
— И этот был роммелевским офицером?
— Одни свято верят, что бывшие нацисты стали паиньками, — возразил Дубровский, — а другим выгодно, чтобы верили в это. Известная сказка про волка в овечьей шкуре. Этот толстопузый, возможно, страшнее волка.
— Им больше не удастся захватить власть, — отмахнулся Бонне.
Сергей неожиданно для самого себя сказал резко:
— Вот так вы махали руками, когда Гитлер шел к власти. А опомнились, когда он был уже в Париже.
— Может быть, в этом есть резон, — согласился Бонне без энтузиазма, — мне самому приходилось брать на мушку таких, но со временем все забывается. И слава богу, потому что жизнь превратилась бы в сплошной ад. Представьте себе: вы каждое утро просыпаетесь с мыслью о концлагере… Каждое утро…
— Ну зачем же преувеличивать, — остановил его Сергей. — Хотя, — добавил, — воспоминания о лагере вызывают у меня злобу, а доброй порции злости каждому из нас не мешало бы иметь…
Они вошли в зал ресторана, длинный и мрачный. Бонне заметил, что коридор вел вниз, и понял, что там подвальное или полуподвальное помещение.
В зале сидели только одинокие посетители. К Бонне, который шел впереди, метнулся кельнер, но комиссар еле заметным движением руки остановил его и направился к столику у входа. Две девушки, сидящие рядом, понимающе переглянулись, одна поднялась и хотела занять свободный стул рядом с комиссаром, но тот сказал:
— Если ты мне понадобишься, как тебя?.. Ирен? Прекрасно, мой бутончик, я позову тебя.
Девушка недовольно фыркнула и отошла.
Оркестр заиграл что–то веселое, и Дубровский пошел танцевать с Ирен — так легче было рассмотреть всех посетителей. Когда вернулся, Бонне по его лицу понял: Ангела в «Сфинксе» нет. Но это не смутило комиссара.
— Было бы удивительно, если бы мы сразу нашли его, — подбодрил он Сергея, — однако здесь буквально пахнет им. Думаю, что сегодняшний вечер не пропадет даром.
Оркестранты пошли отдыхать, и в зале установилась тишина, та особенная тишина, какая наступает сразу за смолкшей музыкой. Слышались только приглушенные голоса да скрип стульев.
Бойне маленькими глотками отпивал вино и старался уловить обрывки разговоров.
Наискось от них мужчина с бледным лицом и словно приклеенной к нему черной аккуратно подстриженной бородкой настойчиво доказывал что–то своему соседу:
— Я не могу быть спокойным, пока миру угрожает сионистская экспансия, вы должны понять меня, мой дорогой друг. Мир сошел с ума — его необходимо вылечить или смести. Америка, приютившая их, когда–нибудь будет плакать кровавыми слезами…
— Несколько прямолинейно… — возразил его сосед. — Мы немного поспешили во время войны и поплатились за это. После победы крематории перерабатывали бы значительно больше, и можно было бы систематически увеличивать их пропускные, так сказать, возможности…
Бонне покачал головой:
— Кажется, вы были правы, — наклонился к Дубровскому, — под этими гражданскими пиджаками… — Отхлебнул вина и добавил совсем другим тоном: — Вы оставайтесь здесь, а я попробую побродить…
Комиссар двинулся вдоль стены к двери, что вела в туалет. Вымыл руки, с удовольствием вытер их свежим, сухим, даже тепловатым полотенцем. Огляделся и уже хотел возвращаться, но вдруг заметил приоткрытые двери.
Узкий коридор с цементным полом сразу сворачивал направо. За поворотом — ступеньки, ведущие вверх, затем снова коридор, довольно узкий. Несколько лампочек, почти не дающих света, и снова закрытые двери. Комиссар постоял перед ними, прислушиваясь, и проскользнул боком в узкую щель.
За дверями было темно, Бонне подождал, пока привыкли глаза. Наверно, здесь был холл второго этажа: почти во весь пол ковер, несколько кресел, узкие зашторенные окна. Из холла ступеньки вели куда–то наверх, справа еле обозначалась в темноте еще одна дверь. Комиссар осторожно подергал — закрыта. Решил подняться по лестнице и уже направился к ней, как вдруг какой–то звук привлек его внимание. Бонне остановился на мгновение, прислушиваясь: да, сомнения не было — шаги в коридоре. На секунду комиссар заколебался: можно было прикинуться пьяным, мол, попал сюда случайно, но сразу понял, что это ничего не даст. Его просто вышвырнут из «Сфинкса» — на их миссии можно будет поставить точку.
Бросился к ступенькам, но остановился на полдороге: куда ведут они? А шаги приближались, и уже можно было различить голоса…
Бонне стал за штору, стараясь втиснуться в оконный проем. От набившейся в нос пыли чуть не чихнул, но пересилил себя и не без иронической улыбки подумал о весьма полезной традиции украшать комнаты шторами.
Дверь открылась, и кто–то приказал громко:
— Включите свет, Фриц!
Голос показался комиссару знакомым, ему понадобилась секунда или две, чтобы убедиться: хозяин «Сфинкса» Шаттих.
Щелкнул выключатель — Бонне затаил дыхание: чувствовал, трое или двое стоят совсем рядом.
— Вот этот чек, — докатился хозяйский бас уже издалека, — вы передадите известной вам особе. Окончательный расчет за тех девочек.
Теперь у Бонне на самом деле перехватило дыхание. Осторожно выглянул из–за шторы. Отсюда он видел только часть комнаты, куда вошли Шаттих и Фриц. Вероятно, это был кабинет хозяина «Сфинкса». Шаттих доставал что–то из сейфа.
Фриц стоял к Бонне почти спиной, но профессиональная привычка запоминать и распознавать людей по характерному жесту, осанке, манере одеваться позволила комиссару узнать в нем метра из ресторана.
Шаттих закрыл сейф. Бонне видел только его руку, поворачивающую ключ. Подумал, о каких девушках идет речь? И есть ли здесь связь с Ангелом?
— А может, — вдруг заговорил Фриц, — еще попридержать чек? Девчонки будут в Южной Африке дня через три, и мы будем иметь полную гарантию…
— Вы удивляете меня, — возразил хозяин, — имеем дело с солидными людьми, через полчаса они уезжают, и вы еле успеете передать им чек…
— Я воспользуюсь вашей машиной.
— Хорошо! Не теряйте времени.
Оба направились к дверям, Бонне втянул голову за штору.
— И вот что, Фриц… — продолжал Шаттих. — Кто из наших девчонок был в контакте с француженками? Кажется, Фанни и Элеонора? Проследите за ними. Вообще пусть они исчезнут с глаз. На всякий случай, пока не получим ответ из Южной Африки.
Шаттих закрыл кабинет, выключил свет, и наконец Бонне осмелился переступить с ноги на ногу. Но прятался за шторой еще несколько минут, прислушиваясь к затихающим голосам.
Постоял возле дверей, вглядываясь в темную даль коридора, пробежал его и, сунув руки в карманы, неуверенной походкой подвыпившего направился в зал.
Дубровский встретил Бонне вопросительным взглядом — видно, прочитал что–то на лице комиссара. Бонне сделал успокаивающий жест — мол, ничего не случилось. Он успел уже все продумать.
Комиссар не сомневался, что Шаттих имел в виду девчонок, вывезенных Ангелом из Франции. Во–первых, еще сегодня Ангел ездил в машине Шаттиха, во–вторых, в разговоре с Фрицем упоминалась партия француженок, которую вывезли куда–то в Южную Африку и за которую Шаттих платил деньги. Действительно, Ангел сейчас покидает Танжер, Бонне взглянул на часы — осталось минут двадцать. Вряд ли полиция сумеет задержать Ангела — двадцать минут, и у них всего–навсего словесный портрет…»
Итак, Ангел пока выскальзывает из рук Интерпола, но не стоит говорить об этом Дубровскому, зачем портить человеку настроение? Через три дня девушки будут в Южной Африке, и главное, конечно, — освободить их. Затем можно будет поискать и Ангела…
Бонне оглянулся на Ирен, подмигнул ей, и девушка подсела к их столику.
Дубровский ничего не спросил, только смотрел удивленно. Бонне похлопал его по колену — мол, знаю, что делаю, — и налил девушке полную рюмку. Она выпила до дна, затем вторую, третью, и после третьей комиссар узнал, что Элеонору только что позвал куда–то Фриц — метрдотель, а Фанни исчезла час назад с богатым клиентом.
Бонне попросил счет. Ирен рассчитывала на другое, попробовала обидеться, но ассигнация, которую положил в ее сумочку Бонне, вполне удовлетворила ее, и девушка проводила щедрых посетителей до вестибюля.
***
Ангел поставил машину так, чтобы хорошо просматривались все подходы к отелю. Еще вчера он взял у хозяйки кабаре «Игривые куколки» мадам Блюто «форд» старого выпуска — обшарпанную машину неопределенного зеленоватого цвета с занавесками на окнах. Усевшись на заднем сиденье вместе с Грейтом, Франц откинулся на спинку.
— Они уже позавтракали и сейчас выйдут…
— Вы шустрый, — пробормотал полковник, — но, слово чести, не нравится мне вся эта история, и я хотел бы быть сейчас подальше от Танжера.
— У вас прямолинейно–воровской характер, Кларенс. Желание навострить лыжи свойственно всем, начиная от жалкого карманного воришки, но высший класс — спокойно следить за ходами противника и смеяться над ним. Я не возражал бы против обеда в компании этого комиссара Интерпола и распил бы с ним «ару бутылок.
— Врете вы все, — лениво возразил полковник. — Рисуетесь, а вообще–то согласны со мной.
— Не люблю оставлять должников, — объяснил Ангел. — Подождем еще несколько дней, мадам Блюто рассчитается с нами и… Кажется, Танжер тоже надоел мне.
— Мерзостное место! — согласился полковник. — Неужели у этой старой карги нет денег?
— Можно рассчитаться с ней, так сказать, условно…
— Я же говорил вам: только наличными, — прервал Ангел полковника. — Люблю, когда доллары лежат у меня в кармане. Знаю тысячу случаев, когда банк не оплачивал самые надежные чеки.
— Именно поэтому я подыскал покупателей на наш самолет.
— Вы серьезно? Но ведь это единственное средство…
— Чаще летать на Ближний Восток? Вы это хотите сказать? — Полковник не ответил. — Мы купим новый самолет, Кларенс, лучше этого. «Дуглас» — не пачка сигарет, и я не уверен, что шпики не докопались, кому на самом деле принадлежит этот самолет.
— Надежная машина, привык к ней. Да черт с ней. — Грейт уперся подбородком в спинку переднего сиденья. Сказал, будто жалуясь: — Где–то мы сплоховали… Сам по себе Интерпол не напал бы на наш след, и слава богу, что у ваших знакомых такие связи с полицией.
— Нам бы получить свои деньги, а там пусть Мадам Блюто выпутывается как знает.
— Деловая женщина, — похвалил Грейт.
— Жаловалась, что несколько девчонок оказались с характером. Но она с ними церемониться не будет — перепродаст не без выгоды, конечно.
— Каждый хочет получить свой процент, — согласился полковник, — а мадам Блюто все же рискует. Она говорила мне…
— Минуту, — перебил его Ангел, — вот он! Видите! Белая сорочка и темный галстук… Комиссар Бонне. Вы видите его, Кларенс?
— Как вас.
— С ним прилетели два журналиста. Француз и русский. Допустим, что они тоже замаскированные агенты Интерпола, но такого не было, чтобы в игру впутывался русский. Ведь они никогда не сотрудничают с нашей полицией.
— Я вижу подле комиссара только одного, — перебил Грейт.
— Да, черненький и длинноносый. Типичный француз. Садятся в такси…
— Значит, русский уже ушел или остался в отеле.
— Черт с ним! Мы пустили их по фальшивому следу, и я показал вам комиссара, Кларенс, так, на всякий случай.
— Не нравится мне вся эта история. Русский журналист?.. — Полковник подумал. — Скажите, Франц, вы хорошо замели следы на Востоке?
Мысли об эсэсовском прошлом всегда тревожили Ангела. Ответил нехотя:
— Есть документы, свидетельствующие, что я погиб во время авиационного налета. Правду знает только моя семья и кое–кто из бывших руководителей имперской безопасности. Я жалею, что в минуту откровенности проговорился вам, Кларенс. Для всех я только Хаген, Франц Хаген, и никто другой!..
— Будьте осторожней, Франц, — похлопал его по плечу полковник. — Эти русские журналисты обладают нюхом на политику, и не всплыло ли что–либо на поверхность из вашей биографии?
Ангел съежился.
Он сам думал об этом, но отгонял пугливые мысли. Они снова наплывали, и ему становилось страшно — сам себе не признавался, что боится, бодрился, но где–то в душе сосало, и сердце начинало ныть, словно от перемены погоды. Так бывало с ним в первые годы после войны, когда плохо спал и чуть ли не в каждом встречном видел шпика. Затем все стало забываться… Однако, в самом деле, при чем здесь русский?
Ангел всегда ощущал неприязнь к Советскому Союзу. Не только потому, что русские победили. В конечном итоге он устроился лучше, чем это могло быть в. случае победы рейха. Ну, дослужился бы до штандартенфюрера, может быть, генерала СС. И что?.. Красивая форма и уважение подчиненных, а деньги? Сейчас он не променял бы свой банковский счет в Цюрихе на десять генеральских мундиров — еще год–два, и желанный отдых, членство в солидной корпорации, всеобщее уважение, семейное счастье…
Но зачем здесь русский журналист?
Зная, что эта мысль все равно не даст ему покоя, он засмеялся нарочито бодро. Перешел на переднее сиденье, включил мотор.
— Погодите, Хаген, — остановил его полковник, и в словах, произнесенных совсем просто, Ангел почувствовал иронию, хотя сам минуту назад просил называть его только Хагеном.
— Ну?..
— Ко всем чертям гарантии городской полиции. Я знаю, чего стоят эти гарантии, и хочу позаботиться сам о себе. Нам необходимо сегодня же покинуть отель и снять где–нибудь небольшую виллу. На окраине города, чтобы я видел все вокруг, а меня не видели.
На этот раз Ангел не стал возражать полковнику.
— Дельная мысль, Кларенс. Мадам Блюто устроит нам это через несколько часов. — Он рванул «форд» с места так, что полковник ударился головой о спинку сиденья. Когда выехали на центральную магистраль, посоветовал: — В отель возвращаться не следует. Густав сам перевезет вещи.
— Вы сейчас куда?
— К «Игривым куколкам».
Полковник произнес решительно:
— Высадите меня, поброжу по городу. Я позвоню мадам и узнаю наш новый адрес.
Грейт завернул в первый же ресторан, сел у стойки бара и заказал стакан виски со льдом. Полковник выпил много и явно опьянел. Долго стоял в вестибюле, покачиваясь и уставившись на швейцара. Тому надоел пьяный посетитель, и он спросил, не нужно ли чего–нибудь господину, может быть, такси? Но полковник погрозил швейцару пальцем и вышел на улицу.
Грейт посмотрел на часы. Фью, скоро вечер! Лучше всего в его положении хорошо выспаться. Поискал глазами телефонную будку и набрал номер «Игривых куколок».
— Мадам Блюто? Целую ваши ручки… Мой друг Франц должен был оставить у вас адрес. Вы помогли ему? Вы — наша добрая фея, мадам Блюто… Нет, я еще не совсем пьяный и говорю вполне твердо… Да, записываю. Диктуйте…
***
Откровенно говоря, Бонне не хотелось снова идти в «Сфинкс», но он все–таки пошел, имея намерение выведать что–нибудь о путях и способах транспортировки девушек из Танжера в Южную Африку.
Ирен встретила его как старого знакомого и не оскорбилась, когда Бонне, узнав, что ее соседку по столу зовут Фанни, отдал предпочтение последней. Скоро Ирен позвали к другому столику. Бонне заказал коктейли, но Фанни захотела виски.
Комиссар начал издалека: мол, он любитель похождений и неравнодушен к французским девушкам, но в Танжере их почему–то мало. Фанни повертела головой и сказала такое, что Бонне, настроившийся на дипломатический разговор, чуть не подпрыгнул на стуле.
— Я сама удивляюсь… Недавно здесь, — неопределенно показала пальцем в потолок, — были чудесные девушки из Франции, я успела даже подружиться с некоторыми из них, их вдруг увезли…
Бонне уже овладел собой.
— Не может быть! — воскликнул. — Неужели в Танжере не любят хорошеньких девушек?
— Это не мое дело, — осмотрительно отступила Фанни, — и вы об этом никому не говорите. Потому что у меня, — тревожно оглянулась, — могут быть большие неприятности.
— Почему? — небрежно бросил Бонне. — Девчонки зарабатывают где хотят, и никого это не должно интересовать. Ты откуда? — сжал локоть девушки. — Где тот инкубатор, в котором появляются на свет такие чудесные экземпляры?
Этот плоский комплимент понравился Фанни, и она фамильярно похлопала комиссара по щеке.
— Под Бременом, мой милый.
— Я непременно побываю там, — пообещал Бонне.
— Раньше я не видела тебя в «Сфинксе»…
— Я здесь ненадолго по делам.
— А затем куда?
— Конго, Сенегал…
— Говорят, там есть неплохие местечки.
— Хочешь туда?
— Мне и здесь хорошо, — надула губы девушка. — Туда отправляют второй сорт.
— Неужели те француженки тоже второй? Куда их? — быстро спросил Бонне.
— Кажется, в Солсбери…
— Я тан буду скоро. Где их найти? Может, кому–нибудь передать привет?
— Ну, ну, — Фанни помахала пальцем у него перед носом: — Я и так наговорила лишнего.
Бонне прикинулся удивленным.
— Не морочь мне голову и не делай таинственного лица, — сказал небрежно. — Они полетели на самолете?
— Мне об этом не докладывали, — засмеялась Фанни, и комиссар понял, что она в самом деле не знает этого. Можно было считать разговор оконченным, Бонне сидел только для того, чтобы его короткий визит и беседа с Фанни не показались подозрительными: помнил, как вчера Шаттих приказывал изолировать девушку.
Они обменивались с Фанни короткими, ничего не значащими репликами. Бонне имел для таких случаев несколько десятков стандартных фраз и комплиментов, которые тешили женское самолюбие и не давали затухнуть разговору. Затем извинился и пошел в холл. Встретил метрдотеля в дверях, они обменялись взглядами. Фриц вежливо уступил дорогу, но взгляд его был тяжелый и недобрый.
Бонне незаметно оглянулся и заметил, что метр подзывает кельнера. Задержался у стойки бара.
Кельнер, выслушав Фрица, проскользнул между столиками к Фанни. Когда Бонне вернулся, девушка встретила его неприветливо, а кельнер все время торчал за спиной.
Фанни допила виски и поднялась.
— Подожди меня, — сказала уходя, но сумочку не оставила, и комиссар понял: Фриц изолировал девушку от него. «Что же, тем лучше», — подумал и рассчитался.
Швейцар, заметив Бонне, сразу же вышел на улицу и, наверно, растворился в темноте, ибо комиссар не заметил его. Двинулся вдоль ограды, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. Из сада доносился аромат цветов, Бонне шел медленно, посмеиваясь, — вспомнил цветы, что росли у дома матери. Вдруг позади зашумел мотор, свет от фар на секунду осветил улицу, что–то заскрежетало.
Комиссар метнулся к ограде, прыгнул на нее. Рядом, чуть не задев его, промчалась левыми колесами по тротуару машина, вильнула, съезжая на мостовую, и исчезла за углом.
Комиссар перепрыгнул через ограду. Пополз в кустах, притаился, вынув пистолет.
Никого, только стрекочут цикады…
Затем от «Сфинкса», не выключая подфарников, медленно проехала еще одна машина. Бонне показалось, что за рулем сидел Фриц. Итак, они раскусили его, охотятся за ним, и он только чудом не погиб под колесами машины. В ушах Бонне все еще стоял жуткий скрежет металла — так скрипят автомобильные тормоза, когда водитель резко нажимает на педаль.
Но почему он затормозил?
Бонне потер лоб ладонью, засмеялся и спрятал пистолет. Сел прямо на траву, опершись спиной о ствол дерева. И это он, Люсьен Бонне, комиссар полиции, один из лучших парижских детективов? Мальчишка, пижон, его чуть не одурачили, нахально, позорно…
Выходит, они сразу раскусили его и разыграли все как по нотам. Конечно, Шаттих с Фрицем могли и убрать его, но не захотели создавать шума. Интерпол не прощает такие вещи. Вот почему водитель машины, наверно, швейцар «Сфинкса» в последние секунды нажал на тормоза. Если бы у него было задание задавить Бонне, наверняка дал бы газ и сбил комиссара.
Да, все логично. Шаттих узнал, кто на самом деле пришел в «Сфинкс». Он и Ангел знают, зачем приехал комиссар Интерпола в Танжер, и сделали все, чтобы Бонне пошел по ложному следу. Он, комиссар, детектив с огромным опытом, стоял за шторой и думал, что фортуна на его стороне, а эти негодяи, наверно, смотрели на его ноги, выглядывающие из–под шторы, и в душе смеялись.
Солсбери…
Что ж, неплохая версия — он проглотил наживку вместе с крючком. Потом они для уверенности подсунули ему Фанни и, наконец (прекрасный ход конем), прикинулись, что заподозрили его, — две встречи с Фрицем, когда он вначале шептался с швейцаром и словно ненароком показывал ему на комиссара глазами.
И последний аккорд — инсценировка убийства. Мол, Фанни проговорилась, и Интерпол напал на след девушек, вывезенных из Франции. И он как набитый дурак полетел бы завтра в Солсбери, а Ангел, смеясь и потирая руки, закончил бы свои дела в Танжере, замел бы следы — и ищи ветра в поле…
***
Дубровский предложил пойти вечером в клуб журналистов, но Анри отказался. Сказал, что у него есть срочное задание для своего журнала. Безделье угнетало его — он пошел побродить по приморским кварталам, рассчитывая немного развеяться. Но вышло наоборот. Песни и музыка, доносившиеся из дешевых ресторанов, волновали — поймал такси и решил тоже поехать в клуб журналистов, — не захотелось возвращаться в мрачный номер отеля.
Таксист запетлял по узким извилистым улочкам и наконец выскочил на центральную магистраль, залитую светом реклам. Когда уже подъезжали к клубу, Анри неожиданно спросил водителя:
— Вы знаете, где ночной клуб «Игривые куколки»?
Спросил так, без определенной цели; еще секунду назад не было и мысли об этом ночном притоне, и сам рассердился на себя, что мог подумать об этом, — у них же был договор с Бонне, и не имело смысла нарушать его, но все же он приказал шоферу:
— Отвезите меня туда…
Анри подумал об «Игривых куколках» потому, что клуб этот размещался на отшибе, почти за городом, а комиссар пошел сегодня к «Девушкам в красных чулках».
Ехали минут пятнадцать по крутому берегу моря. Анри видел огни кораблей, стоящих на рейде, слышал шум прибоя, но все это не успокаивало.
Ночной клуб «Игривые куколки» возвышался в парке у берега — четырехэтажное белое здание с освещенными окнами. Рядом — стоянка машин.
Анри вышел из такси и уверенно направился к стеклянным дверям, за которыми маячила фигура швейцара в форменной одежде — коренастый человек, настоящий вышибала, какими и представлял себе Анри людей подобной профессии.
Анри, прикинувшись пьяным, остановился и сказал уверенно:
— Ты что, не узнаешь? А–а, — засмеялся, — я побрил бороду, и ты не можешь меня узнать… — Вынул из кармана банкнот. — Но ты всегда узнаешь это и, наверно, знаешь разницу между десятью и пятьюдесятью франками.
Анри подмигнул швейцару, тот жадно посмотрел на пятидесятифранковый банкнот, но не взял. Севиль попробовал развеять его подозрение:
— Я же старый клиент!
Швейцар заколебался, но не стронулся с места.
— Не могу… Приказано пропускать только по особому разрешению мадам.
— Неужели, — сделал вид, что не поверил, Анри. — Раньше ведь не было этого? Зачем такие строгости?
— Будто не знаете: выступают новые девушки… Очень большой наплыв…
У Севиля загорелись глаза: а может, Генриетта здесь? Придя в себя, проворчал:
— Если новенькие, так старым посетителям уже и нельзя… Где же справедливость?
Швейцар только руками развел. Анри снова помахал ассигнацией.
— Пятьдесят монет, парень… Не зря же я ехал сюда!.. И такси отпустил.
Швейцар только покачал головой. Анри спрятал деньги. Хотел было уже уйти, но задержался и спросил словно ненароком:
— И хорошенькие есть среди новеньких?
Швейцар хитро подмигнул.
— Приходите через месяц.
— Через месяц… через месяц, — надул губы Севиль.
— Не пожалеете! Говорят, куколки из самого Парижа, мосье, — доверительно сказал швейцар, но, поняв, что сболтнул лишнее, спохватился: — Однако точно не знаю…
У Севиля перехватило дух: Генриетта здесь! Но ни о чем больше не стал расспрашивать, чтобы случайно не встревожить швейцара.
— Эх, — сказал разочарованно. — Была надежда познакомиться с красивой девушкой…
Повернулся и чуть не столкнулся с коренастым мужчиной. Постоял в освещенном квадрате перед подъездом. Конечно, сделал ошибку, отпустив такси: до центра города около десяти километров, а свободную машину здесь разве найдешь?
Часы показывали начало первого, Анри медленно двинулся вдоль берега, надеясь на попутную машину. В конце концов, какое это имеет значение — все равно через полтора–два часа доберется до отеля.
…Грейт чуть не столкнулся с Севилем, вначале подумал, что ему показалось: неужели тот самый француз, которого он видел вместе с полицейским агентом? Полковник опешил. Значит, конец, в клубе облава! А может, пока не поздно… Только почему играет оркестр? Оглянулся — проклятый француз идет вдоль стоянки машин.
— Эй ты! — позвал швейцара. — Почему пустил этого?.. — и показал на Севиля.
— Что вы! — возмутился швейцар. — Я здесь не первый день и знаю порядок. У меня не пройдет ни один посторонний…
— Но ты разговаривал с ним… О чем?
Швейцар пожал плечами.
— Ни о чем… Ну о девочках из Франции.
— Ты! — выдохнул зло полковник, схватив швейцара за грудь. — Ты знаешь, что наделал? Это же полицейский шпик… Мадам Блюто спустит с тебя три шкуры!
Швейцар отвел руки полковника.
— Но я видел, — произнес твердо, — я видел, француз пошел пешком. Он еще недалеко и…
Полковник размышлял несколько секунд.
— Догони! И того… Только тихо!.. Возьми с собой Жозефа.
…Анри услыхал, что его догоняют. Какие–то люди шли быстро, не прячась, громко разговаривали. И все же на всякий случай Анри сошел с дороги, притаился за деревом.
Те двое приблизились к дереву, и один вдруг сказал:
— Он здесь!
Второй направился к Севилю.
— Ты почему не расплатился, паршивая свинья? Сбежать решил?
Севиль узнал швейцара.
— Вы же не пустили меня…
— Не ври!
Второй зашел ему за спину. Анри хотел проскочить на дорогу, но швейцар ударил его в лицо. Севиль пошатнулся, и тогда второй резко пнул его ногой в живот. Чувствуя, что падает в бездну, Анри замахал руками, чтобы удержаться, но тело перевесило, и он закричал в отчаянии, ударился обо что–то плечом, затем головой. Боль пронизала его — Анри протянул руки, чтобы задержаться, но ободрал пальцы. Еще раз ударился коленом, увидел море, боль снова пронизала его — и все…
Двое осторожно подошли к обрыву. Швейцар посмотрел вниз, лучом фонарика ощупал берег. Луч вырвал из темноты скрюченное тело.
— Готов.
— Надо бы проверить, — заколебался Жозеф.
Швейцар направил луч фонарика на отвесную стену.
— Здесь сам черт голову сломает. Начнется прилив, его смоет… Полиции никогда в жизни не докопаться.
— Э–э, — вздохнул Жозеф. — Шел пьяный, оступился… Полиция уже привыкла к этому…
— Погоди… — швейцар осветил фонариком место, где произошла драка. Сказал с удовлетворением: — Камень, следов не осталось.
Они посидели на вершине, покурили. Затем снова свет фонаря выхватил из темноты безжизненное тело внизу, на берегу.
— Все. Пойдем, — предложил Жозеф. — У меня насморк, а ветер с океана.
— Пойдем, — согласился швейцар, хотя ему не очень хотелось возвращаться. Знал: мадам шутить не любит, и, хотя они и исправили свою ошибку, неприятностей не избежать.
***
Мадам Блюто нервно затянулась дымом, погасила сигарету и спросила полковника:
— Так что же нам делать?
Грейт ответил категорично:
— Если полиция подозревает что–то и к утру не дождется своего агента, перетрясет всю виллу. А вы можете положиться на всех своих куколок?
— Они у меня опутаны со всех сторон, и с точки зрения закона…
— А пресса? — отрезвил ее полковник. — Вы знаете, какой шум вокруг всей этой истории поднимет пресса?
 Мадам улыбнулась.
— От этого я только выиграю. Бесплатная реклама «Игривых куколок».
— А на нас вам наплевать?
— Хорошо, — согласилась Блюто, — мы тем временем перебросим новеньких к «Девочкам в красных чулках». Даже полиции неизвестно, что половина этих девок мои…
— Вы — кладезь мудрости, мадам, — расцвел в улыбке Грейт.
Блюто позвонила по телефону и распорядилась:
— Три машины во двор. И ту, что возит продукты, ну фургон. Как нет шофера? Придет только утром? Ну ладно, я сама поведу ее.
…Ночью в коридоре загремело, и в комнату Генриетты ворвался надсмотрщик.
— Собирайся! — завопил он, сорвав с девушки одеяло.
У Генриетты оборвалось сердце. Значит, мадам сдержала свое слово: ее ждут притоны Южной Африки!
— Я никуда не пойду, ваша мадам не имеет права…
— Я тебе покажу право! — стащил ее с кровати надзиратель. — Одевайся, или пойдешь так?..
Генриетта знала: в «Игривых куколках» не бросают слов на ветер, и надела халат. Все равно она не покорится, что бы ни ждало ее. Уже неделя, как ей давали только хлеб да воду, два раза в присутствии мадам секли розгами, она искусала себе пальцы от позора и отчаяния, но не смирилась.
А как другие?
Незадолго до того, как большинство девушек их партии покорилось мадам Блюто, Генриетту перевели в отдельную комнату, и она не знала, что произошло с другими девушками. Мадам сказала, что все уже подписали контракт и работают в ночном кабаре, она приводила к ней Жюстину и еще нескольких девушек, шикарно разодетых, раскрашенных, с модными прическами. Те улыбались ей несколько виновато, но Генриетта не хотела их слушать, кричала, ругалась. Блюто била ее по щекам и запирала снова.
И вот наконец осуществила свои обещания.
Генриетта вышла в темный коридор. Решила: она не даст издеваться над собой, лучше уж умереть…
Перед подъездом стоял фургон. На него облокотилась Мелани, рядом курили полковник и мадам Блюто. Мадам сказала полковнику:
— Если у вас возникнут осложнения, возвращайтесь к рыжему…
Грейт не дослушал, повернулся к девушкам.
— Быстрее! — показал на фургон.
Надсмотрщик втолкнул Мелани и Генриетту в машину. Генриетта прижалась к Мелани, чувствуя, что нет у нее сейчас на свете ближе и родней человека.
— А мне сказали, что ты… — не договорила. — Я не верила, не могла поверить им…
— Сидите молча! — приказал надзиратель, но девушки продолжали перешептываться, и надсмотрщик был вынужден смириться с этим.
— Ты видела Жюстину? — спросила Мелани.
— Ее приводили ко мне. Она не устояла перед мадам.
— Какая мерзавка!
— Не надо так, просто она оказалась слабее нас.
— Нас, наверно, продали.
— Конечно, зачем бы вывозили ночью, тайно, в фургоне, — сказала Генриетта.
Надзиратель зажег фонарик. Что–то хотел сделать, но передумал и отделался угрозой:
— Приедем, вы у меня еще пожалеете!
— Дурак ты… Мне уже ничего не страшно! — воскликнула Мелани, но прижалась к Генриетте, и та поняла: смелость подруги напускная, Мелани боится так же, как и она.
Фургон недолго ехал по асфальту, скоро его начало бросать на выбоинах, затем несколько крутых поворотов, и завизжали тормоза. Надзиратель взглянул.
— Можно выходить, мадам? — спросил. Та буркнула что–то, и надзиратель открыл дверцу. — Быстрей!
Фургон стоял посреди какого–то двора. Вдали серел двухэтажный коттедж, а рядом протянулось низкое строение, напоминающее гараж. Надзиратель звякнул ключами, открыл двери двух боксов. К одному подтолкнул Генриетту. Мелани указал на соседний.
— Заходите, курочки… — пригласил ехидно. — Теперь здесь будет ваш курятник.
Мадам Блюто постучала кулаком по капоту. Пригрозила:
— Перед дальней дорогой… Даю вам три дня на размышление… А потом уже будет поздно…
***
Вода все поднималась и скоро начала лизать щеки Анри. Севиль раскрыл глаза, перевернулся лицом кверху. Волна набежала, смочила волосы, и это окончательно привело его в сознание. И все же сразу не сообразил, где он и что случилось. Близко, над самой головой, кажется, протяни руку — и достанешь звезды, блестящие и огромные. Их много, они мерцают и перемешаются. Анри впервые в жизни увидел, как двигаются звезды, плывут где–то в просторе, плывут безостановочно, и от этого кружится голова. Кружится и болит.
Слева темнела отвесная стена. Анри долго соображал, откуда и зачем она здесь, и вдруг вспомнил, чуть не потерял сознание, но заставил себя подняться, хотя тело не слушалось его.
Через силу сделал несколько шагов, оперся плечом о стену и поднял камень. Может быть, они уже спускаются сюда, чтобы добить его, — он будет бороться до последнего.
Проходили минуты, но ни один звук не нарушал тишины — только шумело море, накатываясь на берег.
Анри устал стоять, сполз, держась левой рукой за стену, правая не слушалась и болела. Поднял ее немного и сморщился от боли: может, сломана. Поднес часы к уху — стучат. Долго всматривался, пока разобрался в положении стрелок. Неужели в самом деле три часа ночи? Он вышел из «Игривых куколок» где–то около двенадцати или в начале первого… Может, стоят часы?
Но они шли нормально, и наконец Анри понял все и с отчаянием посмотрел на отвесную стену. Ему не преодолеть ее…
Вспомнил о Генриетте. Это воспоминание придало ему сил, и Анри пошел вдоль берега, надеясь найти тропинку, которая вывела бы его наверх. Лез по камням, брел по грудь в воде, а то и плыл. Но все его усилия были напрасны: берег все так же нависал над водой крутыми скалами, и, казалось, нет им конца.
Севиль устал. Рука болела все сильнее, и ноги отказывались идти. В довершение ко всему, огибая очередную скалу, он потерял ботинок и почти сразу же разбил ногу об острый камень.
Анри полз, протискивая тело между камнями, со стонами и чуть не плача от боли.
Перебираясь с камня на камень, вдруг увидел, как недалеко в море что–то вспыхнуло, будто кто–то зажег спичку или на секунду включил фонарик. Прислушался — ни звука. Может, показалось? И все же, ни на что не надеясь, закричал:
— Эй, кто там? Спасите!..
В ответ кто–то крикнул на незнакомом языке и направил на берег луч фонаря.
— Спасите! — уже что было силы закричал Анри и замахал руками.
Его заметили с лодки. Послышался плеск весел, и спустя некоторое время лодка приблизилась к берегу.
Его снова осветили фонарем, и лодка уткнулась носом о камень совсем рядом. Кто–то протянул руку, и Анри, еще не веря своему счастью, в изнеможенииперевалился через борт. Рыбаки–марокканцы с любопытством смотрели на него. Анри жестами объяснил им, что упал со скалы, — они цокали языками и недоверчиво улыбались.
— Танжер… — сказал Анри и показал в сторону города.
Рыбаки поняли его, заговорили о чем–то быстро, качая головами. Анри протянул им несколько монет.
— Танжер! — повторил он.
— О–о! — Рыбаки сразу же сели на весла и погнали лодку к городу. Высадили Анри у порта, разыскали такси, рассказав что–то водителю. Тот немного понимал по–французски. Севиль объяснил ему, что хочет поговорить по телефону, и позвонил Дубровскому: не мог же появиться в отеле в таком виде.
Серж спросил взволнованно:
— Где ты и что случилось? Бонне поднял на ноги полицию…
Анри не дал ему договорить:
— Я сейчас приеду в отель, ты жди меня напротив, вынеси только мой костюм и ботинки.
— Что с тобой?
— Время не ждет… — Анри повесил трубку.
Через четверть часа он был уже возле отеля, где его ждали Дубровский и Бонне,
…Анри лежал в кровати, возле него пристроился на стуле Сергей, а Бонне, заложив руки за спину, ходил по комнате. Видно было, что комиссар нервничал и еле сдерживал гнев. Анри уже успел рассказать обо всем.
— Необходимо положить тебя в больницу. Рука рукою, а возможно, что–нибудь повреждено еще внутри, — сказал Дубровский.
— Вряд ли, — возразил Севиль утомленно. — Я бы почувствовал…
Бонне остановился возле кровати. Произнес категорично:
— Утром мы положим вас в частную больницу. Чтобы никто не знал, что вам удалось спастись.
Анри удивленно поднял брови.
— Зачем? — не понял. — Сейчас вы произведете налет на «Игривых куколок», и я уверен…
— А–а… — махнул рукой Бонне и снова начал ходить по комнате. — Вы сами не понимаете, что натворили.
Севиль расстроился.
— Мне удалось установить, — начал с досадой, — что в «Игривых куколках» находятся девушки, вывезенные из Франции.
— Мы установили бы это на день–два позже и сразу же накрыли всю банду… А теперь…
— Они же убеждены, что я погиб, и вряд ли всполошились.
— Здесь ваша первая ошибка. — Бонне оседлал стул, оперся подбородком о спинку. — Имеем дело со старыми волками, мадам Блюто наверняка упрятала девушек, да так, что днем с огнем не найдем.
Дубровский смотрел на комиссара с интересом.
— Вы абсолютно логично мыслите, Люсьен, — заметил он. — Насколько я понимаю, предлагаете блокировать ночной клуб и выяснить, там наши девушки или их уже вывезли.
— Я этого не говорил, — запротестовал Бонне, — но вы угадали ход моих мыслей. Кроме того, пока Ангел не знает, что мы установили надзор за клубом, он спокойно будет общаться с мадам Блюто. И с вашей помощью, Серж, мы узнаем, где они с полковником живут. Сейчас я позвоню моему другу в полицейское управление, он поможет мне разработать детальный план операции. — Вскочил со стула, забегал по комнате, уставившись в пол, будто там остались следы преступников. — Сейчас все зависит от нашей оперативности и умения законспирироваться, — продолжал весело, — поскольку играть придется не с простачками. Мне нравится эта игра. А вам, Серж?
Дубровский не согласился:
— Никогда в жизни не хотел бы сталкиваться с такими типами.
— Но ведь вы можете стать знаменитостью! Если этот Ангел на самом деле тот Ангел, газеты поднимут шум, а вы — первооткрыватель.
— Я хотел бы, чтобы восторжествовала правда…
— Не говорите., слава есть слава, и ваша журналистская звезда быстро пойдет в гору. Это будет сенсация: русский журналист сам, можно сказать, собственноручно задержал известного эсэсовца.
— Которого, может быть, уже нет в Танжере.
— Да, — спустился на землю Бонне. — Не будем терять времени. Иду в полицию, а вы позаботьтесь об Анри. Вот телефон… Договоритесь с врачом, чтобы он несколько дней никому не говорил о своем пациенте.
***
Бригада дорожных рабочих, созданная из переодетых полицейских, приступила к ремонту шоссе вблизи «Игривых куколок». Это не вызывало подозрения — мэрия давно собиралась отремонтировать дорогу, и сама мадам Блюто уже несколько раз просила городских чиновников ускорить эту работу.
На шоссе поставили знаки ограничения скорости, начали возить щебень, а Бонне и Дубровский устроились в небольшой палатке на возвышенности, откуда хорошо просматривались все подходы к клубу.
С утра вилла казалась пустой — никакого движения. Только около девяти из города прибыли два небольших фургона. Бонне вооружился биноклем и наблюдал, как из грузовиков выгружали мясо, колбасы, ящики с напитками. Порожние фургоны сразу же вернулись в Танжер. Еще до этого шоссе заполнили жители окрестных сел — пешеходы и велосипедисты, которые везли и несли в город на продажу фрукты и овощи. Кое–кто заворачивал и к «Игривым куколкам», видно, постоянные снабженцы.
Около десяти из гаража выехал «форд» старого выпуска. Шофер поставил машину перед главным входом и сам ушел в дом. Ждать пришлось недолго: в машину сели двое, и она двинулась по направлению к городу.
Бонне тихо позвал полицейского, рассыпавшего гравий по асфальту.
— Махмуд, задержи этот «форд» на минуту…
Когда машина поравнялась с палаткой, Махмуд выскочил на середину шоссе, махнул красным флажком. Машина остановилась.
Сергей, прилипший к окошку, вздрогнул: за рулем сидел Ангел.
— Он, — прошептал, — Франц Ангел…
— Второй, наверно, полковник Кларенс… — Бонне нажал на спуск микрофотоаппарата.
«Форд» снова двинулся: старая, обшарпанная зеленоватая машина, в каких, как правило, ездят люди среднего достатка. Комиссар нагнулся к микрофону.
— Марван, Марван, слышишь меня? Сейчас в Танжер выехал зеленый «форд» под номером триста тридцать семь — шестьдесят восемь. Установите наблюдение! В машине двое. Узнайте, куда они едут и где живут. Все…
«Форд» уже давно исчез за поворотом, а Бонне и Сергей все еще смотрели ему вслед. Затем комиссар толкнул Дубровского локтем в бок, подмигнул.
— Порядок! — сказал весело. — Я знаю Марвана, он вцепится в них, как репейник в хвост шелудивого пса. Можете считать, Серж, что вы не зря побывали в Танжере.
— У нас говорят: «Не хвались, идя на рать…»
— От Марвана им не уйти, — успокоил Бонне. — Хитрый и умный, бестия, прирожденный агент уголовной полиции.
…На вилле начинались повседневные хлопоты. Заспанные, полуодетые девушки бегали на кухню. Во дворе шоферы мыли две легковые машины — роскошный «мустанг» последнего выпуска и маленький красный «фольксваген». Затем из гаража выполз задним ходом «пикап», постоял у кухни и шмыгнул со двора не в Танжер, а по дороге, ведущей в поселок. Бонне пошевелился:
— Махмуд, эй, Махмуд, возьми мотоцикл и проследи за этим «пикапом». Только осторожно, не выдай себя.
Махмуд рванулся вдогонку не шоссейной, а грунтовой дорогой, наискось, подняв за собой шлейф желтой пыли.
— Махмуд знает здесь каждую тропку, — сказал Бонне удовлетворенно, — и никто его не заподозрит.
«Пикап» вернулся через час, а за ним и Махмуд. Поставив мотоцикл, присел возле палатки, сообщил:
— Там усадьба, и господин комиссар может представить, что прекрасная усадьба. Забор высокий, дом красивый. Два этажа, а перед зданием цветник. Гараж на три машины…
— Что «пикап»? — вышел из терпения Бонне.
— Пока я нашел дыру в заборе… — развел руками Махмуд. — Видел, как выносили из гаража корзины. Совсем пустые корзины, бросили их в кузов «пикапа», и он поехал.
Бонне спросил заинтересованно:
— Какие корзины, Махмуд? Что в них носят?
— Ну что?.. — не нашелся сразу тот. — С такими хозяйки ходят на рынок. Все носят.
— Значит, говоришь, пустые корзины из гаража… — раздумчиво протянул Бонне. — А тебе не показалось, что «пикап» вез их туда полными?
— Я подумал об этом, господин комиссар.
— Вот что, Махмуд. Подгони сюда мотоцикл, повезешь меня к той усадьбе. А вам, — повернулся к Дубровскому, — придется поскучать.
…Мотоцикл оставили в кустах за дорогой, и Махмуд показал Бонне дыру в заборе, через которую можно было заглянуть во двор. Комиссару это место не понравилось — первому попавшемуся прохожему видно, что кто–то любопытный прилип к ограде. Они обошли вокруг усадьбы, забор везде был высоким и без щелей. Бонне что–то недовольно ворчал себе под нос и замолчал, увидев неподалеку несколько густых деревьев. Остановился подле крайнего и попросил Махмуда:
— Подсади–ка!
Самого Махмуда не нужно было подсаживать — полез на дерево за комиссаром как кошка.
Отсюда двор был как на ладони. Пустынно, ни одной живой души. Но цветы вокруг росли буйно, следовательно, их поливали. И «пикап» доставил корзины, очевидно, с продуктами, вряд ли его посылали сюда за пустыми.
Они просидели на дереве с полчаса, Махмуд вертелся нетерпеливо, и Бонне должен был призвать его к порядку.
— Но ведь господин комиссар сам видит, что там нет ничего интересного, — стал тот оправдываться. — Пусто…
— Это–то и интересно, — возразил Бонне, — и если бы ты был дальновиднее, Махмуд, сидел бы тихо как мышь.
И на самом деле, их терпение скоро было вознаграждено. Из дома вышел человек в комбинезоне. Постоял возле цветника, внимательно осмотрел двор, затем подошел к гаражу и заглянул в маленькое окошечко. Недовольно покачал головой, открыл дверь, ступил за порог. Пробыл в гараже несколько минут, вынес что–то завернутое в бумагу и исчез в доме.
— Очень хотел бы я заглянуть в это окошечко, — зашевелился Бонне.
— Если господин комиссар прикажет, я сделаю это, — с готовностью предложил Махмуд.
— И испортишь мне всю обедню…
— Зачем же? — засмеялся тот тихо. — Никто меня не заметит. За клумбой можно проползти, а потом спрятаться за стеной.
— Но если из дома заметят тебя, поймут, что полиция следит за ними, и позвонят в «Игривые куколки». А это ни к чему… А в гараже, может быть, никого и нет…
— Не заметят! — заверил Махмуд. — Господин комиссар поможет мне только перелезть через забор…
— В конце концов, у нас нет другого выхода, — вздохнул Бонне и стал спускаться с дерева.
Комиссар не видел, как полз Махмуд между клумбами, потому что лежал в кустах и прислушивался. Если Махмуда обнаружат, поднимут шум… Но все было тихо» только трещали цикады однотонно и нудно.
Прошлой ночью Бонне ни на минуту не сомкнул глаз и сейчас еле сдерживал сон.
Махмуд появился внезапно: Бонне не услыхал ни шагов, ни малейшего шелеста листьев, просто какая–то тень мелькнула, и полицейский распластался рядом с ним. Уже по выражению его лица комиссар понял: что–то случилось.
Сон сняло как рукой. Спросил:
— Там есть кто–то?
— Женщины…
— Ты видел их? Подал какой–нибудь знак?
Махмуд засмеялся тихо и довольно.
— Я знаю женщин. Они бы устроили шум, и были бы неприятности. Я стоял и слушал…
— И что?
— Было плохо слышно. Одна из них пела по–французски, я знаю французский язык — не так ли, господин? — но не очень понял…
Бонне больше не сомневался.
— Французские девушки… — процедил сквозь зубы. — Заперты в гараже… — перебежал к мотоциклу, включил рацию. — Марван. Вы слышите меня, Марван? Срочно наряд полиции. Усадьба на двенадцатом километре от «Игривых куколок». Вы поняли меня, Марван? Как с пассажирами «форда»?.. Особняк на бульваре Наполеона? Вы молодец, Марван! Я уверен, их не выпустят. В особняке есть телефон? Вы понимаете меня с полуслова, Марван, я вам признателен…
Полицейская машина прибыла через час. Махмуд снова перелез через забор и открыл ворота.
Бонне постучал в дверь дома. Высокий марокканец выскользнул на крыльцо. Увидев полицейских, бросился назад, но комиссар преградил ему путь.
— Спокойно! — ткнул пистолетом в грудь.
Тот сразу поднял руки. Бонне обыскал его, извлек из кармана ключи.
— Кто еще есть в доме?
— Я один.
— Телефон.
— Здесь, в прихожей.
— А кто в гараже?
Высокий мужчина засуетился.
— Мадам наказала их и велела мне присматривать… Я не мог ослушаться, я служу у мадам Блюто… Если девушки капризничают, мадам наказывает их…
— Открой! — протянул ему ключи комиссар.
— Но мадам сердится, я могу сделать это только в ее присутствии.
Бонне молча подтолкнул его, и надсмотрщик больше не сопротивлялся. Открыл дверь гаража и первым вошел туда.
— Свет! — скомандовал Бонне.
Надсмотрщик включил свет. Узкое помещение с цементным полом. В углу — деревянные нары с какими–то тряпками. Под ними — девушка. Бонне поспешил успокоить ее:
— Полиция… Мы из полиции, не бойтесь нас…
Девушка смотрела испуганно. Наверно, все еще не верила. Вдруг надзиратель, на мгновение оставшись за спиной комиссара, рванулся к выходу. Он успел бы выскочить и закрыть за собой дверь, но поскользнулся, задержался и чуть не упал. Комиссар скрутил ему руки, щелкнул наручниками.
— К стене! — приказал. — Лицом к стене. Не оглядываться! — Подозвал из дома полицейского. — Последи за ним!
Только сейчас девушка начала все понимать.
— Вы правда из полиции? — вскочила с места.
— Комиссар Бонне, — отрекомендовался тот. — А вы из партии, вывезенной самолетом из Марселя?
Девушка заплакала.
— Неужели?.. Неужели это правда? Мы уже потеряли всякую надежду…
— Не знаете ли Генриетту Лейе?
— Боже мой, она здесь, рядом! — Девушка показала на стенку.
Тяжелые деревянные двери, обитые железом, поддались с трудом. Бонне решительно переступил порог.
— Мы из полиции, мадемуазель Лейе… — начал и осекся. Бросился вперед, вытаскивая нож. Неужели они опоздали?
Проволока, на которой висело тело, не поддавалась, комиссар пилил ее, ругаясь сквозь зубы. Наконец перерезал. Осторожно положил Генриетту на пол, опустился рядом на колени. Зачем–то делал искусственное дыхание, хотя руки ее были уже холодными. Поняв, что уже все кончено, встал и снял шляпу. Девушка за его спиной плакала. Бонне выпроводил ее из гаража. Что же, ему не привыкать к таким ситуациям. Было только жаль Анри, которого он уже успел полюбить. Подозвал полицейского.
— Девушку и этого, — кивнул на надзирателя, — отправьте в город. Вызовите врача. А мы к «Игривым куколкам».
***
Спальня Грейта была на втором этаже. Он уже разделся, но никак не мог уснуть, ворочался с боку на бок, наконец не выдержал и встал. Посмотрел в окно — у Ангела еще горел свет, и Грейт прямо в пижаме спустился к нему выпить и поболтать.
Ангел сидел в глубоком кресле под торшером и что–то подправлял карандашом в рисунке на большом листе картона. Пристрастие Ангела к рисованию казалось Грейту мальчишеством, он всегда высмеивал это и сейчас не удержался, чтобы не поиздеваться.
— Вы работаете так, словно хотите выставиться. Но за вашу мазню не дадут и цента, а вы же практичный человек, Франц.
Ангел не ответил. Прищурив глаза, рассматривал рисунок и, кажется, был доволен. Полковник взглянул ему через плечо: длинная улица, здания, машины, люди у витрин…
— Я своим «Контаксом» сделаю лучше, — пробормотал. — Ив цвете…
Ангел произнес с сожалением:
— Если бы не отец, я мог бы стать художником. Он был таким же ограниченным человеком, как и вы, Кларенс, и порол меня за рисунки.
— Вы неблагодарное существо! Скажите спасибо отцу, что теперь не нищий.
— Конечно, — согласился Ангел, — и все же в человеке живет стремление к прекрасному.
— Ну и покупайте это прекрасное за доллары, — засмеялся Грейт. — Нынче за десяток монет можно объесться этим вашим прекрасным.
— Зачем же так грубо? — оборвал его Ангел. — Когда я покончу с делами, буду только рисовать. Вам нравится современная живопись?
— Это что? Штучки, в которых ничего не разберешь?..
— И мне не нравится, — вздохнул Ангел. — Люблю старых мастеров: умели показать человека… Во время войны у меня было столько натуры…
— Это в концлагере? — ехидно заметил полковник, но Ангел не обратил внимания на его тон.
— Да, я мог создать чудесные портреты. Вы не представляете, сколько разных лиц прошло мимо меня. Галерея заключенных! Я мог бы стать знаменитым, Кларенс…
— Такую натуру вы можете купить и сейчас за бесценок.
— Э–э, нет… Там у человека все было обнажено.
— Вы не стали бы знаменитым художником, Франц. Вы бы сошли с ума…
Ангел улыбнулся. Что понимает этот полковник? Тот, кто не потерял рассудок, отправляя каждый день сотни людей в крематорий, обладает стойкой психикой. Но о чем продолжает говорить Грейт?
— Есть еще одна причина, помешавшая вам. — Полковник налил себе виски, отхлебнул. — Конечно, я не разбираюсь в этом, но вы сами выдали себя, Франц. Я редко когда бывал на ныставках, но заметил: людей большей частью привлекают портреты сильных личностей. А вы видели в лагере лишь покорность. Ничего не вышло бы, Франц. Между прочим, это одна из ваших ошибок, и не только именно ваших, но и вашего фюрера и всей вашей компании. Всех вы не могли уничтожить — хотели оставить покорных и бессловесных, говорили, людей низшей расы. — Полковник допил виски. — Вас ловко дурачили, Франц.
Ангел произнес вдруг почти торжественно:
— Тринадцать из пятнадцати девчонок, вывезенных нами из Франции, уже покорились мадам Блюто. Все же грубая сила где–то нужна, и вы знаете это не хуже меня… — Бросил картину на стол и решительно поднялся. — Эта покорность обеспечивает успех нашему с вами делу.
Полковник вздрогнул. Он вдруг подумал о том, что тревожило его в последнее время: внешняя покорность девчонок, за которой скрывается протест. И где–то это прорвется, где–то кто–то обведет их вокруг пальца.
— Вы счастливчик, Франц, — сказал Грейт, — а я никак не могу не помнить о расплате.
— Э–э, пустяк! Если думать об этом, меня бы не хватило и на неделю… — Это было сказано так, что полковник понял: Ангел не соврал. Да и правда, страх перед расплатой раздавил бы Франца за несколько дней, если бы он позволил себе хоть на минуту расслабиться. Но как может Ангел не думать о расплате? И можно ли вообще не думать? Если можно, то что это: сила или легкомыслие? Так и не решив что, Грейт с любопытством уставился на Франца. А тот продолжал: — Если бы мы с вами, полковник, были сделаны из обыкновенного человеческого теста, нас бы одолевали обычные сомнения, терзания и черт знает что. Мы бы захлебнулись в эмоциях, разве не так? — Грейт не ответил, но Ангелу и не требовалось его подтверждения. Разглагольствовал дальше: — Мы с вами не люди, Кларенс, мы с вами тоже своего рода куколки, и судьба решает за нас. Кто–нибудь дернет за нитку, и мы пляшем.
— Вы куколка?.. — ткнул в него пальцем Грейт. — Не смешите меня! Вы — дьявол, Ангел, сущий дьявол. Еще тогда, во время нашего первого свидания в том франкфуртском ресторанчике, как его?.. Ага, вспомнил, в «Веселом аду», я оценил вас…
— Прекрасно, — рассмеялся Ангел, — мне это нравится. Мы с вами — дьяволы из «Веселого ада»…
Зазвонил телефон. Ангел снял трубку:
— Кто это?
— Звонят из полиции… — говорил кто–то по–французски с сильным акцентом. — По поручению мадам Блюто…
— Вы говорите по–английски? — перебил Ангел.
— О–о, гораздо лучше, чем по–французски, — отозвался тот. — Слушайте меня внимательно. Только что на «Игривых куколок» сделала налет полиция. Мадам Блюто успела позвонить сюда. Можете мне верить. Ваши телефонные разговоры записываются, только сейчас я отключил аппарат. Ваш особняк блокирован. Одна полицейская машина на бульваре, а еще две отрезали отступление через сад. Есть ордер на ваш арест. Все, я спешу…
— Подождите! — заорал Ангел. — А что с Блюто?
— Ее арестовали.
В трубке щелкнуло, и Ангел со злостью бросил ее.
— Плохие дела, Кларенс… — Щеки его побелели, и это было настолько удивительно, что полковник улыбнулся. Ангела передернуло. — Я не шучу!
Грейт положил руку на его плечо.
— Я слышал все. Но у нас еще есть время…
— Полиция окружила здание.
— Попробуем прорваться. — Полковник окинул взглядом комнату. — Сейчас вы, Франц, подойдете к. окну и начнете раздеваться, потом выключите свет.
— Зачем?
— Делайте что вам говорят! — прикрикнул Грейт.
Ангел пожал плечами, но подошел к окну, снимая пиджак. Затем потянулся к торшеру, выключил свет.
— Я понял вас, — прошептал в темноте, — полицейские подумают, что мы легли спать.
Грейт слегка отодвинул штору, выглядывая. Подозвал Ангела.
— Видите, где их машина? — ткнул пальцем. — Метров за пятьдесят от дома…
— Да, все выходы отрезаны.
— Позовите Густава! — Полковник незаметно перешел на начальственный тон.
Ангел выбежал в прихожую. На цыпочках пробежал по коридору и тихо позвал:
— Густав… Ты слышишь меня, Густав?
Тот валялся на диване, рассматривая иллюстрированные журналы. Мгновенно вскочил.
— Чего вам?
— Иди–ка сюда. И тише…
Полковник снимал с себя пижаму прямо в коридоре.
— Нас окружили, Густав! — Тот потянулся к заднему карману. — Нет, подожди… Сейчас попробуем незаметно сесть в машину. Ты откроешь ворота. За нами пойдет полицейский «паккард», ты задержишь его. Автоматная очередь по шинам… Отходи, где–нибудь пережди ночь, а завтра позвони рыжему, он тебя устроит.
Густав кивнул и вытащил из–за шкафа автомат. Занял позицию у выхода из дома.
— Никаких вещей! — предупредил Грейт Ангела. — Только деньги, бумаги, и посмотрите, чтобы не осталось ничего, что могло бы навести их на наш след.
— Я не такой дурак… И не держу у себя ничего компрометирующего.
— Не вздумайте только включить свет в своей комнате.
Ангел обиженно хмыкнул:
— Я не ребенок.
Грейт побежал к себе на второй этаж. Решил не выключать свет и передвигался по комнате так, чтобы его тень не падала на окна. Пробрался на корточках от шкафа к столу, внимательно осмотрел содержимое чемоданов, отобрал все бумаги, фотографии, документы, оставил только белье и одежду. Проверил карманы в костюмах и плаще, натянул поверх сорочки спортивную куртку, надел ботинки на толстой каучуковой подошве. Пистолет положил во внутренний карман куртки. Еще раз внимательно осмотрел комнату и спустился к Ангелу.
Франц собирался, присвечивая карманным фонариком. Грейт посмотрел на окна. Ангел тщательно закрыл их шторами.
Полковник подождал немного, недовольно наблюдая за сборами Франца. Наконец не выдержал:
— У нас не так уж много времени…
— Если бы у вас было столько бумаг! — огрызнулся Ангел, но уже через несколько минут сообщил: — Все!
Стоял с небольшим саквояжем и выжидательно смотрел на Грейта. Тот приказал:
— Выйдем черным ходом. К машине ползти. Я открываю дверцу, вы, Франц, садитесь со мной. Ты, Густав, бежишь к воротам и открываешь их, как только я заведу мотор.
«Форд» стоял среди газонов, на бетонированной дорожке, ведущей к гаражу. Доползли к «форду» и немного полежали между машиной и газоном. Здесь вряд ли. кто мог их заметить — надо было подойти вплотную, чтобы увидеть их.
Полковник поднялся на локти, осторожно вставил ключ в замок, и тот щелкнул тихо, почти неслышно. Но Ангелу показалось, что кто–то выстрелил у него над ухом из пистолета. Даже приподнялся, чтобы бежать, не зная куда и как, но бежать…
— Тихо, вы… — сердито прошептал полковник. Он присел перед дверцами, открывая их. Тяжело навалился животом на сиденье, даже пружины заскрипели. Ангел забрался в машину следом за Грейтом. Согнувшись под щитком приборов, приказал Густаву:
— Давай к воротам!
Тому не надо было повторять: скользнул между газонами как уж и сразу исчез с глаз.
Мотор зарычал сердито и громко — на всю улицу; он заглушил скрип ворот. «Форд» словно прыгнул в черный проем, заревел еще сильнее и, ударявшись крылом о столб, выскочил на улицу.
«Паккард» двинулся за ним сразу, мягко и неслышно, словно пантера. Рев мотора «форда» заглушил остальные звуки» и полицейская машина катилась будто по инерции, даже автоматная очередь в этом гуле показалась нереальной. Затем автомат отозвался еще раз, более уверенно, и «паккард» сразу метнулся в сторону, остановился вздрагивая.
Густав не мог не попасть — когда–то с завязанными глазами лишь по звуку сражал человека на расстоянии пятидесяти метров, был уверен, что прошил шину «паккарда» первой же очередью, и стрелял второй раз для страховки. Убегая, старался держаться ближе к деревьям, чтобы не зацепила случайная пуля.
Ему стреляли вслед, но это не волновало Густава: эти полицейские плохо стреляют, а в такой темноте да еще из пистолета. Стреляя, они потеряли время, и Густав, метнувшись в переулок, знал, что его уже не догонят.
В самом деле, выстрел раздался где–то далеко на перекрестке. Густав спрятал автомат под пиджак и позволил себе перейти на быстрый шаг — начинались людные кварталы, и не хотелось привлекать внимания прохожих.
Он остановил первое же такси и приказал отвезти себя в противоположный конец города. Там дождался другой машины. Она довезла его до портового кабака, где Густав и пробыл до утра.
***
Вильгельма Крюгера можно было назвать олицетворением добропорядочности. Низкорослый, тучный, но подвижный, он носился пулей из угла в угол комнаты и говорил удовлетворенно:
— Вы правильно сделали, что пришли ко мне, поскольку более надежного укрытия вам не найти во всем городе. Единственный, кто знает об этом, — мадам Блю–то. Но она не заинтересована, господа, выдавать вас. Если вы улизнете, старой ведьме будет гораздо легче выкрутиться: не она же вывозила девчонок из Франции. — Подкатился почти вплотную к Ангелу, произнес сладко: — Так что с этой стороны позиции ваши безупречны. Но вы уверены в том, что оторвались от преследователей?
Крюгер обращался главным образом к Ангелу, будто от того одного зависело решение всех вопросов, и Грейту, который в последнее время чувствовал себя хозяином положения, это не очень понравилось. Счел необходимым вмешаться в разговор и произнес с достоинством:
— Мы не мальчишки, мистер Крюгер, и знаем, чем это пахнет… «Форд» бросили в противоположном конце города и добрались к вам на такси.
— О–о! Пусть извинит меня господин полковник, я никогда не сомневался в его умении заметать следы, — сказал Крюгер так, что трудно было понять, говорит он это серьезно или иронизирует. — Итак, наши позиции и с этой стороны безупречны. Однако, насколько я понимаю, вас не прельщает длительное пребывание в этом городе, хотя я считаю Танжер городом не только приличным, но и перспективным со всех сторон. Если бы эти местные обезьяны не совали свои грязные носы в наши дела… Но, господа, это, в конце концов, тема для другого разговора. А вам необходимо как можно быстрее смыться отсюда. Правильно я думаю, господа?
Ангел вздохнул, и Грейт понял, что у его компаньона все еще трясутся поджилки. Поэтому и решил взять на себя инициативу в переговорах.
— Мы покроем все затраты, мистер Крюгер, и надеемся, что за деньги в этой мерзкой стране…
— Не всегда… не всегда… — покачал головой толстяк и остановился перед Грейтом. — Сейчас, наверно, полиция блокировала все выходы из города, а мы, — вздохнул сокрушенно, — к сожалению, не можем купить всю полицию… Там есть ортодоксы, которые считают Марокко чуть ли не великой державой, понимаете, какая наглость, господа! С этими аборигенами трудно договориться, и я не в силах гарантировать вам ничего, полковник, кроме собственного гостеприимства, конечно.
Ангел зябко повел плечами.
— Но мы ведь не можем обременять вас… — счел необходимым вмешаться.
Крюгер расплылся в улыбке.
— Мы с вами старые коллеги, и мой долг протянуть вам руку помощи.
Грейту показалась подозрительной такая любезность, но он ничего не сказал. Решил выждать: пусть договариваются между собой, он вмешается лишь в случае крайней необходимости. Как–никак, а Крюгер был когда–то (если можно поверить в это, глядя на такую добродушную бочку, которая перекатывалась по комнате) штандартенфюрером СС, служил где–то в управлении имперской безопасности, следовательно, имеет голову на плечах и опыт выпутываться из сложных ситуаций.
— И все же, — Крюгер потер пухлые руки, — услуга за услугу. Это будет справедливо, господа…
Грейт насторожился: вот оно, главное, интересно, какую цену загнет этот проклятый мыльный пузырь? А Крюгер продолжал:
— Мы вывезем вас, господа, из Танжера в Испанию. В Мадриде встретитесь с господином Робертом Штайнбауэром. — Грейт удивленно поднял голову: во время войны он слышал имя этого эсэсовского офицера. — По его поручению вам придется совершить одно путешествие…
Полковник забыл, что решил не вмешиваться. Сказал запальчиво:
— У нас свои планы, мистер Крюгер, и мы не собираемся их ломать ради ваших мадридских знакомых.
Крюгер посмотрел на Грейта, словно впервые увидел, и полковник понял, почему этот мыльный пузырь, этот резиновый мяч, как он в мыслях называл Крюгера, имел чин штандартенфюрера СС. В глазах Крюгера Грейт прочитал презрение, холод, торжество и еще черт знает что — так, говорят, змея смотрит на свою жертву.
— Я не заставляю вас, мистер полковник, — криво улыбнулся Крюгер. — Я не имею права заставлять никого. Но поскольку ваши планы расходятся с нашими, вам придется поискать другое убежище. Я, правда, не выдам вас полиции, но и палец о палец не ударю, чтобы вывезти вас из Танжера.
Но полковник уже закусил удила.
— Я не потерплю никаких ультиматумов, мистер Крюгер, и по мне уж лучше иметь дело с полицией, чем… — хотел сказать «бывшем эсэсовцем», но вовремя вспомнил прошлое Ангела и осекся. — Чем с таким…..
— Вы хотите сказать — прохвостом?.. — Крюгер опять забегал по комнате. — Я не обижусь, полковник, поскольку я деловой человек и привык не обижаться на гм… на резкости во время спора…
— Минутку, Кларенс, — вступил в разговор Ангел. Начинался торг, а это была стихия Ангела, и Грейт здесь мог только напортить. Ангел понимал, что их карта в игре с Крюгером бита, и единственно, что они могут сделать, — дороже продаться. — Минутку, Кларенс, — повторил он, — прошу извинить, только мне хочется внести некоторую ясность. О каком путешествии идет речь, дорогой герр Крюгер?
Крюгер сел на край стула. Он знал, что закончится именно этим, но не мог скрыть удовлетворения. Всегда приятно, когда жертва начинает просить снисхождения. В такие минуты, черт возьми, начинаешь как–то больше уважать себя.
Произнес туманно:
— Я не имею права открывать вам все карты, господа, могу только сообщить, что путешествие это недолгое и очень перспективное. Вы будете полноправными членами корпорации и получите по двадцать процентов от чистой прибыли. А в целом сумма может достичь нескольких миллионов…
— Хотите загрести жар чужими руками? — сказал Грейт, но сказал так, по инерции, так как слова Крюгера удивили его и заставили совсем по–иному взглянуть на предложение «мыльного пузыря».
Ангел произнес быстро:
— Мы согласны. Да, мы с полковником согласны. Как вы думаете переправить нас в Испанию?
— Здесь у меня нет секретов, — засмеялся Крюгер. — Наша организация, которую возглавляет господин Штайнбауэр, имеет прочные связи с ОАС*["4]. Вы слыхали об ОАС, господа?
— Кто же не слыхал об этих молодчиках? — проворчал полковник.
— Жизнь заставит вас относиться к ним с большим уважением, — многозначительно заметил Крюгер. — Именно они вывезут вас из Танжера.
— Собственно, для меня, — не изменил тона полковник, — безразлично, ОАС или другая чертовщина. Мне. опротивело в Марокко, и здесь уже не до выбора.
Но Ангел поинтересовался:
— И когда вы собираетесь организовать это?
Крюгер только развел руками, и Грейт удивился, какие коротенькие руки у него, совсем непропорциональные.
— Мне необходимо связаться с одним человеком. Несколько дней вам придется отдохнуть у меня. Прошу только не выходить из комнат. Здесь работают свои люди, но за всеми не уследишь. Еду вам будут приносить сюда, а если понадобится, звоните портье. Скажете: из номера Фрица Лазенгера.
***
Бонне зашел в особняк на бульваре Наполеона, насвистывая бравурный марш, хотя ему совсем не было весело. Сержанта Марвана, который вел наблюдение за объектом, этот марш допек больше, чем самый грозный разнос, и он униженно застыл на пороге.
Комиссар заметил это сразу.
— Не могу же я хвалить вас, Марван, — сказал, — вы проворонили их… — Подумав, приказал: — А сейчас, сержант, займитесь «фордом». Машина не иголка, и я уверен, что вы найдете ее.
Отсылая Марвана, Бонне имел в виду не только поиски машины, в которой преступники могли что–нибудь забыть. Марван с его виновато–обиженным видом все время почему–то попадался в поле зрения, а комиссару необходимо было сосредоточиться.
Начал обыск с комнаты Ангела. Не спеша перебирал вещи в чемодане. Этот бывший эсэсовец отличался аккуратностью — костюмы развешены в шкафу, пижама сложена, идеально отглаженные носовые платки. А в чемодане полный беспорядок… Выходит, преступники спешили. Вывод напрашивался сам собою — их предупредили.
Кто бы это мог сделать? И как?.. По телефону? Исключено: все разговоры, которые вели жители особняка, записаны. Но ведь Марван и двое с поста за садом утверждают, что никто не заходил и не выходил из дома.
И все–таки преступников предупредили…
Кто и как?
«Вот это и есть первая загадка», — подумал, но не стал ломать над ней голову комиссар.
Выбросил все из чемодана Ангела, простучал его, хотя был уверен, что ничего не найдет: немец ровно ничего не оставил бы в тайнике. В костюмах проверил карманы, потом сел в кресло под торшером, придвинул к себе рисунки на белом картоне. Наверно, рисовал Ангел: на картоне лежал отточенный карандаш. Бонне провел черту на рисунке — не нужно было быть экспертом, чтобы убедиться: рисовали именно этим карандашом.
Итак, Ангел любит рисовать. Рисунки неплохие, совсем неплохие. А уличный продавец фруктов с большой корзиной, наполненной бананами, просто замечательно схвачен.
Бонне вздохнул, отложил рисунки и поднялся на второй этаж. Тот факт, что Ангел рисует, смутил его, но уже на лестнице комиссар снова начал насвистывать марш. Свист помогал ему сосредоточиться. Черт с ним, с Ангелом, всякое бывает, он сам знал громил, нежно любивших своих детей…
В комнате полковника все было разбросано — брюки валялись на кровати, стул, на котором висел пиджак, был опрокинут, а одна домашняя туфля попала почему–то на стол и красовалась рядом с откупоренной бутылкой бренди.
По пиджаку и брюкам комиссар легко установил рост полковника — приблизительно сто девяносто сантиметров. В открытом баре отсвечивали полные бутылки виски, коньяка, вермута, даже русской водки. Полковник любил выпить, курил сигареты «Кемел», собственно, это все, что узнал Бонне в результате обыска.
Оставалась еще комната слуги. Марван видел его, когда полковник и Ангел возвращались с ужина, — за рулем «форда» сидел коренастый мужчина в спортивной куртке и берете — он и стрелял по шинам, задержав их «паккард».
Слуга почти не имел вещей: белье, несколько сорочек — вот и все. На тумбочке возле кровати Бонне обнаружил пузырек с приклеенным рецептом. Подумал: если лекарство куплено здесь, в Танжере, завтра же они разыщут аптеку, а там и врача, выписавшего рецепт. Если человек продолжает болеть, он снова обратится к врачу, как правило, к этому же.
Бонне взял пузырек, решив проконсультироваться с медиками.
Обыск больше ничего не дал — фактически ни одной ниточки, которая позволила бы выйти на след преступников.
Бонне поехал в отель. Сел на заднее сиденье, вытянулся, закрыв глаза, и ни о чем не думал. Хотелось спать, голова была тяжелой.
Уснул сразу же, как только дотронулся до подушки.
***
Бонне отпустил машину и шел пешком, не спеша и почтительно уступая дорогу встречным прохожим. Их было мало — обычная зеленая улица европейской части города. Здесь редко встречались магазины: жилые кварталы, застроенные двух–и трехэтажными виллами. Напротив одной из них комиссар остановился. Прочитал табличку: «Доктор медицины Виктор Лаперуз». Позвонил.
Доктор Лаперуз сразу узнал свой рецепт. Он запомнил даже больного: воспаление десен, и довольно серьезное. Мужчина говорил по–немецки и только немного знал французский. Может ли он опять прийти к врачу? Да, они договорились встретиться дней через пять–шесть. Когда это? Завтра или послезавтра. Доктор понимает, что визит комиссара полиции не для третьих ушей? Да, доктор понял это, и Бонне откланялся.
Разговор с доктором хоть и дал кое–что, но не настроил Бонне на оптимистический лад. Маловероятно, чтобы немец слуга снова пришел к доктору Лаперузу. Один шанс из сотни, может, и того нет, и все же следует последить за виллой доктора. Пост необходимо поручить Марвану — один раз он уже упустил их, теперь вцепится мертвой хваткой.
Комиссар повернул к скверу, сел в тени. Ему не давал покоя разговор с Мелани. Когда они с Сержем Дубровским беседовали с ней, расспрашивая о днях, проведенных в «Игривых куколках», Мелани вдруг вспомнила о случайно услышанном разговоре. Она точно помнила слова мадам Блюто, сказанные полковнику: «Если возникнут какие–либо осложнения, возвращайтесь к рыжему…» Это было ночью. Мелани сажали в «пикап», на котором мадам вывезла их из «Игривых куколок».
К рыжему… А кто он? Не разыскивать же всех рыжих в Танжере, хотя, наверно, их не так уж и много.
К сожалению, в полицейском управлении нет картотеки, где жители города подразделялись бы по цвету волос. Хотя в картотеке мог значиться преступник под кличкой Рыжий. Вчера Бонне попросил пересмотреть картотеку, но это не дало желанных результатов.
Комиссар написал прутиком на песке дорожки: «Рыжий»…
Мадам Блюто сказала: «Возвращайтесь к рыжему…» Итак, преступники когда–то уже жили у какого–то рыжего. Это мог быть и отель, и частная вилла. Но что их заставило переехать в особняк на бульваре Наполеона?
Бонне знал, что не может сейчас ответить ни на один из этих вопросов, но не мог выбросить их из головы. Наконец поднялся, решительно стер надпись на песке и направился в полицейское управление.
Мадам улыбнулась.
— От этого я только выиграю. Бесплатная реклама «Игривых куколок».
— А на нас вам наплевать?
— Хорошо, — согласилась Блюто, — мы тем временем перебросим новеньких к «Девочкам в красных чулках». Даже полиции неизвестно, что половина этих девок мои…
— Вы — кладезь мудрости, мадам, — расцвел в улыбке Грейт.
Блюто позвонила по телефону и распорядилась:
— Три машины во двор. И ту, что возит продукты, ну фургон. Как нет шофера? Придет только утром? Ну ладно, я сама поведу ее.
…Ночью в коридоре загремело, и в комнату Генриетты ворвался надсмотрщик.
— Собирайся! — завопил он, сорвав с девушки одеяло.
У Генриетты оборвалось сердце. Значит, мадам сдержала свое слово: ее ждут притоны Южной Африки!
— Я никуда не пойду, ваша мадам не имеет права…
— Я тебе покажу право! — стащил ее с кровати надзиратель. — Одевайся, или пойдешь так?..
Генриетта знала: в «Игривых куколках» не бросают слов на ветер, и надела халат. Все равно она не покорится, что бы ни ждало ее. Уже неделя, как ей давали только хлеб да воду, два раза в присутствии мадам секли розгами, она искусала себе пальцы от позора и отчаяния, но не смирилась.
А как другие?
Незадолго до того, как большинство девушек их партии покорилось мадам Блюто, Генриетту перевели в отдельную комнату, и она не знала, что произошло с другими девушками. Мадам сказала, что все уже подписали контракт и работают в ночном кабаре, она приводила к ней Жюстину и еще нескольких девушек, шикарно разодетых, раскрашенных, с модными прическами. Те улыбались ей несколько виновато, но Генриетта не хотела их слушать, кричала, ругалась. Блюто била ее по щекам и запирала снова.
И вот наконец осуществила свои обещания.
Генриетта вышла в темный коридор. Решила: она не даст издеваться над собой, лучше уж умереть…
Перед подъездом стоял фургон. На него облокотилась Мелани, рядом курили полковник и мадам Блюто. Мадам сказала полковнику:
— Если у вас возникнут осложнения, возвращайтесь к рыжему…
Грейт не дослушал, повернулся к девушкам.
— Быстрее! — показал на фургон.
Надсмотрщик втолкнул Мелани и Генриетту в машину. Генриетта прижалась к Мелани, чувствуя, что нет у нее сейчас на свете ближе и родней человека.
— А мне сказали, что ты… — не договорила. — Я не верила, не могла поверить им…
— Сидите молча! — приказал надзиратель, но девушки продолжали перешептываться, и надсмотрщик был вынужден смириться с этим.
— Ты видела Жюстину? — спросила Мелани.
— Ее приводили ко мне. Она не устояла перед мадам.
— Какая мерзавка!
— Не надо так, просто она оказалась слабее нас.
— Нас, наверно, продали.
— Конечно, зачем бы вывозили ночью, тайно, в фургоне, — сказала Генриетта.
Надзиратель зажег фонарик. Что–то хотел сделать, но передумал и отделался угрозой:
— Приедем, вы у меня еще пожалеете!
— Дурак ты… Мне уже ничего не страшно! — воскликнула Мелани, но прижалась к Генриетте, и та поняла: смелость подруги напускная, Мелани боится так же, как и она.
Фургон недолго ехал по асфальту, скоро его начало бросать на выбоинах, затем несколько крутых поворотов, и завизжали тормоза. Надзиратель взглянул.
— Можно выходить, мадам? — спросил. Та буркнула что–то, и надзиратель открыл дверцу. — Быстрей!
Фургон стоял посреди какого–то двора. Вдали серел двухэтажный коттедж, а рядом протянулось низкое строение, напоминающее гараж. Надзиратель звякнул ключами, открыл двери двух боксов. К одному подтолкнул Генриетту. Мелани указал на соседний.
— Заходите, курочки… — пригласил ехидно. — Теперь здесь будет ваш курятник.
Мадам Блюто постучала кулаком по капоту. Пригрозила:
— Перед дальней дорогой… Даю вам три дня на размышление… А потом уже будет поздно…
***
Вода все поднималась и скоро начала лизать щеки Анри. Севиль раскрыл глаза, перевернулся лицом кверху. Волна набежала, смочила волосы, и это окончательно привело его в сознание. И все же сразу не сообразил, где он и что случилось. Близко, над самой головой, кажется, протяни руку — и достанешь звезды, блестящие и огромные. Их много, они мерцают и перемешаются. Анри впервые в жизни увидел, как двигаются звезды, плывут где–то в просторе, плывут безостановочно, и от этого кружится голова. Кружится и болит.
Слева темнела отвесная стена. Анри долго соображал, откуда и зачем она здесь, и вдруг вспомнил, чуть не потерял сознание, но заставил себя подняться, хотя тело не слушалось его.
Через силу сделал несколько шагов, оперся плечом о стену и поднял камень. Может быть, они уже спускаются сюда, чтобы добить его, — он будет бороться до последнего.
Проходили минуты, но ни один звук не нарушал тишины — только шумело море, накатываясь на берег.
Анри устал стоять, сполз, держась левой рукой за стену, правая не слушалась и болела. Поднял ее немного и сморщился от боли: может, сломана. Поднес часы к уху — стучат. Долго всматривался, пока разобрался в положении стрелок. Неужели в самом деле три часа ночи? Он вышел из «Игривых куколок» где–то около двенадцати или в начале первого… Может, стоят часы?
Но они шли нормально, и наконец Анри понял все и с отчаянием посмотрел на отвесную стену. Ему не преодолеть ее…
Вспомнил о Генриетте. Это воспоминание придало ему сил, и Анри пошел вдоль берега, надеясь найти тропинку, которая вывела бы его наверх. Лез по камням, брел по грудь в воде, а то и плыл. Но все его усилия были напрасны: берег все так же нависал над водой крутыми скалами, и, казалось, нет им конца.
Севиль устал. Рука болела все сильнее, и ноги отказывались идти. В довершение ко всему, огибая очередную скалу, он потерял ботинок и почти сразу же разбил ногу об острый камень.
Анри полз, протискивая тело между камнями, со стонами и чуть не плача от боли.
Перебираясь с камня на камень, вдруг увидел, как недалеко в море что–то вспыхнуло, будто кто–то зажег спичку или на секунду включил фонарик. Прислушался — ни звука. Может, показалось? И все же, ни на что не надеясь, закричал:
— Эй, кто там? Спасите!..
В ответ кто–то крикнул на незнакомом языке и направил на берег луч фонаря.
— Спасите! — уже что было силы закричал Анри и замахал руками.
Его заметили с лодки. Послышался плеск весел, и спустя некоторое время лодка приблизилась к берегу.
Его снова осветили фонарем, и лодка уткнулась носом о камень совсем рядом. Кто–то протянул руку, и Анри, еще не веря своему счастью, в изнеможенииперевалился через борт. Рыбаки–марокканцы с любопытством смотрели на него. Анри жестами объяснил им, что упал со скалы, — они цокали языками и недоверчиво улыбались.
— Танжер… — сказал Анри и показал в сторону города.
Рыбаки поняли его, заговорили о чем–то быстро, качая головами. Анри протянул им несколько монет.
— Танжер! — повторил он.
— О–о! — Рыбаки сразу же сели на весла и погнали лодку к городу. Высадили Анри у порта, разыскали такси, рассказав что–то водителю. Тот немного понимал по–французски. Севиль объяснил ему, что хочет поговорить по телефону, и позвонил Дубровскому: не мог же появиться в отеле в таком виде.
Серж спросил взволнованно:
— Где ты и что случилось? Бонне поднял на ноги полицию…
Анри не дал ему договорить:
— Я сейчас приеду в отель, ты жди меня напротив, вынеси только мой костюм и ботинки.
— Что с тобой?
— Время не ждет… — Анри повесил трубку.
Через четверть часа он был уже возле отеля, где его ждали Дубровский и Бонне,
…Анри лежал в кровати, возле него пристроился на стуле Сергей, а Бонне, заложив руки за спину, ходил по комнате. Видно было, что комиссар нервничал и еле сдерживал гнев. Анри уже успел рассказать обо всем.
— Необходимо положить тебя в больницу. Рука рукою, а возможно, что–нибудь повреждено еще внутри, — сказал Дубровский.
— Вряд ли, — возразил Севиль утомленно. — Я бы почувствовал…
Бонне остановился возле кровати. Произнес категорично:
— Утром мы положим вас в частную больницу. Чтобы никто не знал, что вам удалось спастись.
Анри удивленно поднял брови.
— Зачем? — не понял. — Сейчас вы произведете налет на «Игривых куколок», и я уверен…
— А–а… — махнул рукой Бонне и снова начал ходить по комнате. — Вы сами не понимаете, что натворили.
Севиль расстроился.
— Мне удалось установить, — начал с досадой, — что в «Игривых куколках» находятся девушки, вывезенные из Франции.
— Мы установили бы это на день–два позже и сразу же накрыли всю банду… А теперь…
— Они же убеждены, что я погиб, и вряд ли всполошились.
— Здесь ваша первая ошибка. — Бонне оседлал стул, оперся подбородком о спинку. — Имеем дело со старыми волками, мадам Блюто наверняка упрятала девушек, да так, что днем с огнем не найдем.
Дубровский смотрел на комиссара с интересом.
— Вы абсолютно логично мыслите, Люсьен, — заметил он. — Насколько я понимаю, предлагаете блокировать ночной клуб и выяснить, там наши девушки или их уже вывезли.
— Я этого не говорил, — запротестовал Бонне, — но вы угадали ход моих мыслей. Кроме того, пока Ангел не знает, что мы установили надзор за клубом, он спокойно будет общаться с мадам Блюто. И с вашей помощью, Серж, мы узнаем, где они с полковником живут. Сейчас я позвоню моему другу в полицейское управление, он поможет мне разработать детальный план операции. — Вскочил со стула, забегал по комнате, уставившись в пол, будто там остались следы преступников. — Сейчас все зависит от нашей оперативности и умения законспирироваться, — продолжал весело, — поскольку играть придется не с простачками. Мне нравится эта игра. А вам, Серж?
Дубровский не согласился:
— Никогда в жизни не хотел бы сталкиваться с такими типами.
— Но ведь вы можете стать знаменитостью! Если этот Ангел на самом деле тот Ангел, газеты поднимут шум, а вы — первооткрыватель.
— Я хотел бы, чтобы восторжествовала правда…
— Не говорите., слава есть слава, и ваша журналистская звезда быстро пойдет в гору. Это будет сенсация: русский журналист сам, можно сказать, собственноручно задержал известного эсэсовца.
— Которого, может быть, уже нет в Танжере.
— Да, — спустился на землю Бонне. — Не будем терять времени. Иду в полицию, а вы позаботьтесь об Анри. Вот телефон… Договоритесь с врачом, чтобы он несколько дней никому не говорил о своем пациенте.
***
Бригада дорожных рабочих, созданная из переодетых полицейских, приступила к ремонту шоссе вблизи «Игривых куколок». Это не вызывало подозрения — мэрия давно собиралась отремонтировать дорогу, и сама мадам Блюто уже несколько раз просила городских чиновников ускорить эту работу.
На шоссе поставили знаки ограничения скорости, начали возить щебень, а Бонне и Дубровский устроились в небольшой палатке на возвышенности, откуда хорошо просматривались все подходы к клубу.
С утра вилла казалась пустой — никакого движения. Только около девяти из города прибыли два небольших фургона. Бонне вооружился биноклем и наблюдал, как из грузовиков выгружали мясо, колбасы, ящики с напитками. Порожние фургоны сразу же вернулись в Танжер. Еще до этого шоссе заполнили жители окрестных сел — пешеходы и велосипедисты, которые везли и несли в город на продажу фрукты и овощи. Кое–кто заворачивал и к «Игривым куколкам», видно, постоянные снабженцы.
Около десяти из гаража выехал «форд» старого выпуска. Шофер поставил машину перед главным входом и сам ушел в дом. Ждать пришлось недолго: в машину сели двое, и она двинулась по направлению к городу.
Бонне тихо позвал полицейского, рассыпавшего гравий по асфальту.
— Махмуд, задержи этот «форд» на минуту…
Когда машина поравнялась с палаткой, Махмуд выскочил на середину шоссе, махнул красным флажком. Машина остановилась.
Сергей, прилипший к окошку, вздрогнул: за рулем сидел Ангел.
— Он, — прошептал, — Франц Ангел…
— Второй, наверно, полковник Кларенс… — Бонне нажал на спуск микрофотоаппарата.
«Форд» снова двинулся: старая, обшарпанная зеленоватая машина, в каких, как правило, ездят люди среднего достатка. Комиссар нагнулся к микрофону.
— Марван, Марван, слышишь меня? Сейчас в Танжер выехал зеленый «форд» под номером триста тридцать семь — шестьдесят восемь. Установите наблюдение! В машине двое. Узнайте, куда они едут и где живут. Все…
«Форд» уже давно исчез за поворотом, а Бонне и Сергей все еще смотрели ему вслед. Затем комиссар толкнул Дубровского локтем в бок, подмигнул.
— Порядок! — сказал весело. — Я знаю Марвана, он вцепится в них, как репейник в хвост шелудивого пса. Можете считать, Серж, что вы не зря побывали в Танжере.
— У нас говорят: «Не хвались, идя на рать…»
— От Марвана им не уйти, — успокоил Бонне. — Хитрый и умный, бестия, прирожденный агент уголовной полиции.
…На вилле начинались повседневные хлопоты. Заспанные, полуодетые девушки бегали на кухню. Во дворе шоферы мыли две легковые машины — роскошный «мустанг» последнего выпуска и маленький красный «фольксваген». Затем из гаража выполз задним ходом «пикап», постоял у кухни и шмыгнул со двора не в Танжер, а по дороге, ведущей в поселок. Бонне пошевелился:
— Махмуд, эй, Махмуд, возьми мотоцикл и проследи за этим «пикапом». Только осторожно, не выдай себя.
Махмуд рванулся вдогонку не шоссейной, а грунтовой дорогой, наискось, подняв за собой шлейф желтой пыли.
— Махмуд знает здесь каждую тропку, — сказал Бонне удовлетворенно, — и никто его не заподозрит.
«Пикап» вернулся через час, а за ним и Махмуд. Поставив мотоцикл, присел возле палатки, сообщил:
— Там усадьба, и господин комиссар может представить, что прекрасная усадьба. Забор высокий, дом красивый. Два этажа, а перед зданием цветник. Гараж на три машины…
— Что «пикап»? — вышел из терпения Бонне.
— Пока я нашел дыру в заборе… — развел руками Махмуд. — Видел, как выносили из гаража корзины. Совсем пустые корзины, бросили их в кузов «пикапа», и он поехал.
Бонне спросил заинтересованно:
— Какие корзины, Махмуд? Что в них носят?
— Ну что?.. — не нашелся сразу тот. — С такими хозяйки ходят на рынок. Все носят.
— Значит, говоришь, пустые корзины из гаража… — раздумчиво протянул Бонне. — А тебе не показалось, что «пикап» вез их туда полными?
— Я подумал об этом, господин комиссар.
— Вот что, Махмуд. Подгони сюда мотоцикл, повезешь меня к той усадьбе. А вам, — повернулся к Дубровскому, — придется поскучать.
…Мотоцикл оставили в кустах за дорогой, и Махмуд показал Бонне дыру в заборе, через которую можно было заглянуть во двор. Комиссару это место не понравилось — первому попавшемуся прохожему видно, что кто–то любопытный прилип к ограде. Они обошли вокруг усадьбы, забор везде был высоким и без щелей. Бонне что–то недовольно ворчал себе под нос и замолчал, увидев неподалеку несколько густых деревьев. Остановился подле крайнего и попросил Махмуда:
— Подсади–ка!
Самого Махмуда не нужно было подсаживать — полез на дерево за комиссаром как кошка.
Отсюда двор был как на ладони. Пустынно, ни одной живой души. Но цветы вокруг росли буйно, следовательно, их поливали. И «пикап» доставил корзины, очевидно, с продуктами, вряд ли его посылали сюда за пустыми.
Они просидели на дереве с полчаса, Махмуд вертелся нетерпеливо, и Бонне должен был призвать его к порядку.
— Но ведь господин комиссар сам видит, что там нет ничего интересного, — стал тот оправдываться. — Пусто…
— Это–то и интересно, — возразил Бонне, — и если бы ты был дальновиднее, Махмуд, сидел бы тихо как мышь.
И на самом деле, их терпение скоро было вознаграждено. Из дома вышел человек в комбинезоне. Постоял возле цветника, внимательно осмотрел двор, затем подошел к гаражу и заглянул в маленькое окошечко. Недовольно покачал головой, открыл дверь, ступил за порог. Пробыл в гараже несколько минут, вынес что–то завернутое в бумагу и исчез в доме.
— Очень хотел бы я заглянуть в это окошечко, — зашевелился Бонне.
— Если господин комиссар прикажет, я сделаю это, — с готовностью предложил Махмуд.
— И испортишь мне всю обедню…
— Зачем же? — засмеялся тот тихо. — Никто меня не заметит. За клумбой можно проползти, а потом спрятаться за стеной.
— Но если из дома заметят тебя, поймут, что полиция следит за ними, и позвонят в «Игривые куколки». А это ни к чему… А в гараже, может быть, никого и нет…
— Не заметят! — заверил Махмуд. — Господин комиссар поможет мне только перелезть через забор…
— В конце концов, у нас нет другого выхода, — вздохнул Бонне и стал спускаться с дерева.
Комиссар не видел, как полз Махмуд между клумбами, потому что лежал в кустах и прислушивался. Если Махмуда обнаружат, поднимут шум… Но все было тихо» только трещали цикады однотонно и нудно.
Прошлой ночью Бонне ни на минуту не сомкнул глаз и сейчас еле сдерживал сон.
Махмуд появился внезапно: Бонне не услыхал ни шагов, ни малейшего шелеста листьев, просто какая–то тень мелькнула, и полицейский распластался рядом с ним. Уже по выражению его лица комиссар понял: что–то случилось.
Сон сняло как рукой. Спросил:
— Там есть кто–то?
— Женщины…
— Ты видел их? Подал какой–нибудь знак?
Махмуд засмеялся тихо и довольно.
— Я знаю женщин. Они бы устроили шум, и были бы неприятности. Я стоял и слушал…
— И что?
— Было плохо слышно. Одна из них пела по–французски, я знаю французский язык — не так ли, господин? — но не очень понял…
Бонне больше не сомневался.
— Французские девушки… — процедил сквозь зубы. — Заперты в гараже… — перебежал к мотоциклу, включил рацию. — Марван. Вы слышите меня, Марван? Срочно наряд полиции. Усадьба на двенадцатом километре от «Игривых куколок». Вы поняли меня, Марван? Как с пассажирами «форда»?.. Особняк на бульваре Наполеона? Вы молодец, Марван! Я уверен, их не выпустят. В особняке есть телефон? Вы понимаете меня с полуслова, Марван, я вам признателен…
Полицейская машина прибыла через час. Махмуд снова перелез через забор и открыл ворота.
Бонне постучал в дверь дома. Высокий марокканец выскользнул на крыльцо. Увидев полицейских, бросился назад, но комиссар преградил ему путь.
— Спокойно! — ткнул пистолетом в грудь.
Тот сразу поднял руки. Бонне обыскал его, извлек из кармана ключи.
— Кто еще есть в доме?
— Я один.
— Телефон.
— Здесь, в прихожей.
— А кто в гараже?
Высокий мужчина засуетился.
— Мадам наказала их и велела мне присматривать… Я не мог ослушаться, я служу у мадам Блюто… Если девушки капризничают, мадам наказывает их…
— Открой! — протянул ему ключи комиссар.
— Но мадам сердится, я могу сделать это только в ее присутствии.
Бонне молча подтолкнул его, и надсмотрщик больше не сопротивлялся. Открыл дверь гаража и первым вошел туда.
— Свет! — скомандовал Бонне.
Надсмотрщик включил свет. Узкое помещение с цементным полом. В углу — деревянные нары с какими–то тряпками. Под ними — девушка. Бонне поспешил успокоить ее:
— Полиция… Мы из полиции, не бойтесь нас…
Девушка смотрела испуганно. Наверно, все еще не верила. Вдруг надзиратель, на мгновение оставшись за спиной комиссара, рванулся к выходу. Он успел бы выскочить и закрыть за собой дверь, но поскользнулся, задержался и чуть не упал. Комиссар скрутил ему руки, щелкнул наручниками.
— К стене! — приказал. — Лицом к стене. Не оглядываться! — Подозвал из дома полицейского. — Последи за ним!
Только сейчас девушка начала все понимать.
— Вы правда из полиции? — вскочила с места.
— Комиссар Бонне, — отрекомендовался тот. — А вы из партии, вывезенной самолетом из Марселя?
Девушка заплакала.
— Неужели?.. Неужели это правда? Мы уже потеряли всякую надежду…
— Не знаете ли Генриетту Лейе?
— Боже мой, она здесь, рядом! — Девушка показала на стенку.
Тяжелые деревянные двери, обитые железом, поддались с трудом. Бонне решительно переступил порог.
— Мы из полиции, мадемуазель Лейе… — начал и осекся. Бросился вперед, вытаскивая нож. Неужели они опоздали?
Проволока, на которой висело тело, не поддавалась, комиссар пилил ее, ругаясь сквозь зубы. Наконец перерезал. Осторожно положил Генриетту на пол, опустился рядом на колени. Зачем–то делал искусственное дыхание, хотя руки ее были уже холодными. Поняв, что уже все кончено, встал и снял шляпу. Девушка за его спиной плакала. Бонне выпроводил ее из гаража. Что же, ему не привыкать к таким ситуациям. Было только жаль Анри, которого он уже успел полюбить. Подозвал полицейского.
— Девушку и этого, — кивнул на надзирателя, — отправьте в город. Вызовите врача. А мы к «Игривым куколкам».
***
Спальня Грейта была на втором этаже. Он уже разделся, но никак не мог уснуть, ворочался с боку на бок, наконец не выдержал и встал. Посмотрел в окно — у Ангела еще горел свет, и Грейт прямо в пижаме спустился к нему выпить и поболтать.
Ангел сидел в глубоком кресле под торшером и что–то подправлял карандашом в рисунке на большом листе картона. Пристрастие Ангела к рисованию казалось Грейту мальчишеством, он всегда высмеивал это и сейчас не удержался, чтобы не поиздеваться.
— Вы работаете так, словно хотите выставиться. Но за вашу мазню не дадут и цента, а вы же практичный человек, Франц.
Ангел не ответил. Прищурив глаза, рассматривал рисунок и, кажется, был доволен. Полковник взглянул ему через плечо: длинная улица, здания, машины, люди у витрин…
— Я своим «Контаксом» сделаю лучше, — пробормотал. — Ив цвете…
Ангел произнес с сожалением:
— Если бы не отец, я мог бы стать художником. Он был таким же ограниченным человеком, как и вы, Кларенс, и порол меня за рисунки.
— Вы неблагодарное существо! Скажите спасибо отцу, что теперь не нищий.
— Конечно, — согласился Ангел, — и все же в человеке живет стремление к прекрасному.
— Ну и покупайте это прекрасное за доллары, — засмеялся Грейт. — Нынче за десяток монет можно объесться этим вашим прекрасным.
— Зачем же так грубо? — оборвал его Ангел. — Когда я покончу с делами, буду только рисовать. Вам нравится современная живопись?
— Это что? Штучки, в которых ничего не разберешь?..
— И мне не нравится, — вздохнул Ангел. — Люблю старых мастеров: умели показать человека… Во время войны у меня было столько натуры…
— Это в концлагере? — ехидно заметил полковник, но Ангел не обратил внимания на его тон.
— Да, я мог создать чудесные портреты. Вы не представляете, сколько разных лиц прошло мимо меня. Галерея заключенных! Я мог бы стать знаменитым, Кларенс…
— Такую натуру вы можете купить и сейчас за бесценок.
— Э–э, нет… Там у человека все было обнажено.
— Вы не стали бы знаменитым художником, Франц. Вы бы сошли с ума…
Ангел улыбнулся. Что понимает этот полковник? Тот, кто не потерял рассудок, отправляя каждый день сотни людей в крематорий, обладает стойкой психикой. Но о чем продолжает говорить Грейт?
— Есть еще одна причина, помешавшая вам. — Полковник налил себе виски, отхлебнул. — Конечно, я не разбираюсь в этом, но вы сами выдали себя, Франц. Я редко когда бывал на ныставках, но заметил: людей большей частью привлекают портреты сильных личностей. А вы видели в лагере лишь покорность. Ничего не вышло бы, Франц. Между прочим, это одна из ваших ошибок, и не только именно ваших, но и вашего фюрера и всей вашей компании. Всех вы не могли уничтожить — хотели оставить покорных и бессловесных, говорили, людей низшей расы. — Полковник допил виски. — Вас ловко дурачили, Франц.
Ангел произнес вдруг почти торжественно:
— Тринадцать из пятнадцати девчонок, вывезенных нами из Франции, уже покорились мадам Блюто. Все же грубая сила где–то нужна, и вы знаете это не хуже меня… — Бросил картину на стол и решительно поднялся. — Эта покорность обеспечивает успех нашему с вами делу.
Полковник вздрогнул. Он вдруг подумал о том, что тревожило его в последнее время: внешняя покорность девчонок, за которой скрывается протест. И где–то это прорвется, где–то кто–то обведет их вокруг пальца.
— Вы счастливчик, Франц, — сказал Грейт, — а я никак не могу не помнить о расплате.
— Э–э, пустяк! Если думать об этом, меня бы не хватило и на неделю… — Это было сказано так, что полковник понял: Ангел не соврал. Да и правда, страх перед расплатой раздавил бы Франца за несколько дней, если бы он позволил себе хоть на минуту расслабиться. Но как может Ангел не думать о расплате? И можно ли вообще не думать? Если можно, то что это: сила или легкомыслие? Так и не решив что, Грейт с любопытством уставился на Франца. А тот продолжал: — Если бы мы с вами, полковник, были сделаны из обыкновенного человеческого теста, нас бы одолевали обычные сомнения, терзания и черт знает что. Мы бы захлебнулись в эмоциях, разве не так? — Грейт не ответил, но Ангелу и не требовалось его подтверждения. Разглагольствовал дальше: — Мы с вами не люди, Кларенс, мы с вами тоже своего рода куколки, и судьба решает за нас. Кто–нибудь дернет за нитку, и мы пляшем.
— Вы куколка?.. — ткнул в него пальцем Грейт. — Не смешите меня! Вы — дьявол, Ангел, сущий дьявол. Еще тогда, во время нашего первого свидания в том франкфуртском ресторанчике, как его?.. Ага, вспомнил, в «Веселом аду», я оценил вас…
— Прекрасно, — рассмеялся Ангел, — мне это нравится. Мы с вами — дьяволы из «Веселого ада»…
Зазвонил телефон. Ангел снял трубку:
— Кто это?
— Звонят из полиции… — говорил кто–то по–французски с сильным акцентом. — По поручению мадам Блюто…
— Вы говорите по–английски? — перебил Ангел.
— О–о, гораздо лучше, чем по–французски, — отозвался тот. — Слушайте меня внимательно. Только что на «Игривых куколок» сделала налет полиция. Мадам Блюто успела позвонить сюда. Можете мне верить. Ваши телефонные разговоры записываются, только сейчас я отключил аппарат. Ваш особняк блокирован. Одна полицейская машина на бульваре, а еще две отрезали отступление через сад. Есть ордер на ваш арест. Все, я спешу…
— Подождите! — заорал Ангел. — А что с Блюто?
— Ее арестовали.
В трубке щелкнуло, и Ангел со злостью бросил ее.
— Плохие дела, Кларенс… — Щеки его побелели, и это было настолько удивительно, что полковник улыбнулся. Ангела передернуло. — Я не шучу!
Грейт положил руку на его плечо.
— Я слышал все. Но у нас еще есть время…
— Полиция окружила здание.
— Попробуем прорваться. — Полковник окинул взглядом комнату. — Сейчас вы, Франц, подойдете к. окну и начнете раздеваться, потом выключите свет.
— Зачем?
— Делайте что вам говорят! — прикрикнул Грейт.
Ангел пожал плечами, но подошел к окну, снимая пиджак. Затем потянулся к торшеру, выключил свет.
— Я понял вас, — прошептал в темноте, — полицейские подумают, что мы легли спать.
Грейт слегка отодвинул штору, выглядывая. Подозвал Ангела.
— Видите, где их машина? — ткнул пальцем. — Метров за пятьдесят от дома…
— Да, все выходы отрезаны.
— Позовите Густава! — Полковник незаметно перешел на начальственный тон.
Ангел выбежал в прихожую. На цыпочках пробежал по коридору и тихо позвал:
— Густав… Ты слышишь меня, Густав?
Тот валялся на диване, рассматривая иллюстрированные журналы. Мгновенно вскочил.
— Чего вам?
— Иди–ка сюда. И тише…
Полковник снимал с себя пижаму прямо в коридоре.
— Нас окружили, Густав! — Тот потянулся к заднему карману. — Нет, подожди… Сейчас попробуем незаметно сесть в машину. Ты откроешь ворота. За нами пойдет полицейский «паккард», ты задержишь его. Автоматная очередь по шинам… Отходи, где–нибудь пережди ночь, а завтра позвони рыжему, он тебя устроит.
Густав кивнул и вытащил из–за шкафа автомат. Занял позицию у выхода из дома.
— Никаких вещей! — предупредил Грейт Ангела. — Только деньги, бумаги, и посмотрите, чтобы не осталось ничего, что могло бы навести их на наш след.
— Я не такой дурак… И не держу у себя ничего компрометирующего.
— Не вздумайте только включить свет в своей комнате.
Ангел обиженно хмыкнул:
— Я не ребенок.
Грейт побежал к себе на второй этаж. Решил не выключать свет и передвигался по комнате так, чтобы его тень не падала на окна. Пробрался на корточках от шкафа к столу, внимательно осмотрел содержимое чемоданов, отобрал все бумаги, фотографии, документы, оставил только белье и одежду. Проверил карманы в костюмах и плаще, натянул поверх сорочки спортивную куртку, надел ботинки на толстой каучуковой подошве. Пистолет положил во внутренний карман куртки. Еще раз внимательно осмотрел комнату и спустился к Ангелу.
Франц собирался, присвечивая карманным фонариком. Грейт посмотрел на окна. Ангел тщательно закрыл их шторами.
Полковник подождал немного, недовольно наблюдая за сборами Франца. Наконец не выдержал:
— У нас не так уж много времени…
— Если бы у вас было столько бумаг! — огрызнулся Ангел, но уже через несколько минут сообщил: — Все!
Стоял с небольшим саквояжем и выжидательно смотрел на Грейта. Тот приказал:
— Выйдем черным ходом. К машине ползти. Я открываю дверцу, вы, Франц, садитесь со мной. Ты, Густав, бежишь к воротам и открываешь их, как только я заведу мотор.
«Форд» стоял среди газонов, на бетонированной дорожке, ведущей к гаражу. Доползли к «форду» и немного полежали между машиной и газоном. Здесь вряд ли. кто мог их заметить — надо было подойти вплотную, чтобы увидеть их.
Полковник поднялся на локти, осторожно вставил ключ в замок, и тот щелкнул тихо, почти неслышно. Но Ангелу показалось, что кто–то выстрелил у него над ухом из пистолета. Даже приподнялся, чтобы бежать, не зная куда и как, но бежать…
— Тихо, вы… — сердито прошептал полковник. Он присел перед дверцами, открывая их. Тяжело навалился животом на сиденье, даже пружины заскрипели. Ангел забрался в машину следом за Грейтом. Согнувшись под щитком приборов, приказал Густаву:
— Давай к воротам!
Тому не надо было повторять: скользнул между газонами как уж и сразу исчез с глаз.
Мотор зарычал сердито и громко — на всю улицу; он заглушил скрип ворот. «Форд» словно прыгнул в черный проем, заревел еще сильнее и, ударявшись крылом о столб, выскочил на улицу.
«Паккард» двинулся за ним сразу, мягко и неслышно, словно пантера. Рев мотора «форда» заглушил остальные звуки» и полицейская машина катилась будто по инерции, даже автоматная очередь в этом гуле показалась нереальной. Затем автомат отозвался еще раз, более уверенно, и «паккард» сразу метнулся в сторону, остановился вздрагивая.
Густав не мог не попасть — когда–то с завязанными глазами лишь по звуку сражал человека на расстоянии пятидесяти метров, был уверен, что прошил шину «паккарда» первой же очередью, и стрелял второй раз для страховки. Убегая, старался держаться ближе к деревьям, чтобы не зацепила случайная пуля.
Ему стреляли вслед, но это не волновало Густава: эти полицейские плохо стреляют, а в такой темноте да еще из пистолета. Стреляя, они потеряли время, и Густав, метнувшись в переулок, знал, что его уже не догонят.
В самом деле, выстрел раздался где–то далеко на перекрестке. Густав спрятал автомат под пиджак и позволил себе перейти на быстрый шаг — начинались людные кварталы, и не хотелось привлекать внимания прохожих.
Он остановил первое же такси и приказал отвезти себя в противоположный конец города. Там дождался другой машины. Она довезла его до портового кабака, где Густав и пробыл до утра.
***
Вильгельма Крюгера можно было назвать олицетворением добропорядочности. Низкорослый, тучный, но подвижный, он носился пулей из угла в угол комнаты и говорил удовлетворенно:
— Вы правильно сделали, что пришли ко мне, поскольку более надежного укрытия вам не найти во всем городе. Единственный, кто знает об этом, — мадам Блю–то. Но она не заинтересована, господа, выдавать вас. Если вы улизнете, старой ведьме будет гораздо легче выкрутиться: не она же вывозила девчонок из Франции. — Подкатился почти вплотную к Ангелу, произнес сладко: — Так что с этой стороны позиции ваши безупречны. Но вы уверены в том, что оторвались от преследователей?
Крюгер обращался главным образом к Ангелу, будто от того одного зависело решение всех вопросов, и Грейту, который в последнее время чувствовал себя хозяином положения, это не очень понравилось. Счел необходимым вмешаться в разговор и произнес с достоинством:
— Мы не мальчишки, мистер Крюгер, и знаем, чем это пахнет… «Форд» бросили в противоположном конце города и добрались к вам на такси.
— О–о! Пусть извинит меня господин полковник, я никогда не сомневался в его умении заметать следы, — сказал Крюгер так, что трудно было понять, говорит он это серьезно или иронизирует. — Итак, наши позиции и с этой стороны безупречны. Однако, насколько я понимаю, вас не прельщает длительное пребывание в этом городе, хотя я считаю Танжер городом не только приличным, но и перспективным со всех сторон. Если бы эти местные обезьяны не совали свои грязные носы в наши дела… Но, господа, это, в конце концов, тема для другого разговора. А вам необходимо как можно быстрее смыться отсюда. Правильно я думаю, господа?
Ангел вздохнул, и Грейт понял, что у его компаньона все еще трясутся поджилки. Поэтому и решил взять на себя инициативу в переговорах.
— Мы покроем все затраты, мистер Крюгер, и надеемся, что за деньги в этой мерзкой стране…
— Не всегда… не всегда… — покачал головой толстяк и остановился перед Грейтом. — Сейчас, наверно, полиция блокировала все выходы из города, а мы, — вздохнул сокрушенно, — к сожалению, не можем купить всю полицию… Там есть ортодоксы, которые считают Марокко чуть ли не великой державой, понимаете, какая наглость, господа! С этими аборигенами трудно договориться, и я не в силах гарантировать вам ничего, полковник, кроме собственного гостеприимства, конечно.
Ангел зябко повел плечами.
— Но мы ведь не можем обременять вас… — счел необходимым вмешаться.
Крюгер расплылся в улыбке.
— Мы с вами старые коллеги, и мой долг протянуть вам руку помощи.
Грейту показалась подозрительной такая любезность, но он ничего не сказал. Решил выждать: пусть договариваются между собой, он вмешается лишь в случае крайней необходимости. Как–никак, а Крюгер был когда–то (если можно поверить в это, глядя на такую добродушную бочку, которая перекатывалась по комнате) штандартенфюрером СС, служил где–то в управлении имперской безопасности, следовательно, имеет голову на плечах и опыт выпутываться из сложных ситуаций.
— И все же, — Крюгер потер пухлые руки, — услуга за услугу. Это будет справедливо, господа…
Грейт насторожился: вот оно, главное, интересно, какую цену загнет этот проклятый мыльный пузырь? А Крюгер продолжал:
— Мы вывезем вас, господа, из Танжера в Испанию. В Мадриде встретитесь с господином Робертом Штайнбауэром. — Грейт удивленно поднял голову: во время войны он слышал имя этого эсэсовского офицера. — По его поручению вам придется совершить одно путешествие…
Полковник забыл, что решил не вмешиваться. Сказал запальчиво:
— У нас свои планы, мистер Крюгер, и мы не собираемся их ломать ради ваших мадридских знакомых.
Крюгер посмотрел на Грейта, словно впервые увидел, и полковник понял, почему этот мыльный пузырь, этот резиновый мяч, как он в мыслях называл Крюгера, имел чин штандартенфюрера СС. В глазах Крюгера Грейт прочитал презрение, холод, торжество и еще черт знает что — так, говорят, змея смотрит на свою жертву.
— Я не заставляю вас, мистер полковник, — криво улыбнулся Крюгер. — Я не имею права заставлять никого. Но поскольку ваши планы расходятся с нашими, вам придется поискать другое убежище. Я, правда, не выдам вас полиции, но и палец о палец не ударю, чтобы вывезти вас из Танжера.
Но полковник уже закусил удила.
— Я не потерплю никаких ультиматумов, мистер Крюгер, и по мне уж лучше иметь дело с полицией, чем… — хотел сказать «бывшем эсэсовцем», но вовремя вспомнил прошлое Ангела и осекся. — Чем с таким…..
— Вы хотите сказать — прохвостом?.. — Крюгер опять забегал по комнате. — Я не обижусь, полковник, поскольку я деловой человек и привык не обижаться на гм… на резкости во время спора…
— Минутку, Кларенс, — вступил в разговор Ангел. Начинался торг, а это была стихия Ангела, и Грейт здесь мог только напортить. Ангел понимал, что их карта в игре с Крюгером бита, и единственно, что они могут сделать, — дороже продаться. — Минутку, Кларенс, — повторил он, — прошу извинить, только мне хочется внести некоторую ясность. О каком путешествии идет речь, дорогой герр Крюгер?
Крюгер сел на край стула. Он знал, что закончится именно этим, но не мог скрыть удовлетворения. Всегда приятно, когда жертва начинает просить снисхождения. В такие минуты, черт возьми, начинаешь как–то больше уважать себя.
Произнес туманно:
— Я не имею права открывать вам все карты, господа, могу только сообщить, что путешествие это недолгое и очень перспективное. Вы будете полноправными членами корпорации и получите по двадцать процентов от чистой прибыли. А в целом сумма может достичь нескольких миллионов…
— Хотите загрести жар чужими руками? — сказал Грейт, но сказал так, по инерции, так как слова Крюгера удивили его и заставили совсем по–иному взглянуть на предложение «мыльного пузыря».
Ангел произнес быстро:
— Мы согласны. Да, мы с полковником согласны. Как вы думаете переправить нас в Испанию?
— Здесь у меня нет секретов, — засмеялся Крюгер. — Наша организация, которую возглавляет господин Штайнбауэр, имеет прочные связи с ОАС*["4]. Вы слыхали об ОАС, господа?
— Кто же не слыхал об этих молодчиках? — проворчал полковник.
— Жизнь заставит вас относиться к ним с большим уважением, — многозначительно заметил Крюгер. — Именно они вывезут вас из Танжера.
— Собственно, для меня, — не изменил тона полковник, — безразлично, ОАС или другая чертовщина. Мне. опротивело в Марокко, и здесь уже не до выбора.
Но Ангел поинтересовался:
— И когда вы собираетесь организовать это?
Крюгер только развел руками, и Грейт удивился, какие коротенькие руки у него, совсем непропорциональные.
— Мне необходимо связаться с одним человеком. Несколько дней вам придется отдохнуть у меня. Прошу только не выходить из комнат. Здесь работают свои люди, но за всеми не уследишь. Еду вам будут приносить сюда, а если понадобится, звоните портье. Скажете: из номера Фрица Лазенгера.
***
Бонне зашел в особняк на бульваре Наполеона, насвистывая бравурный марш, хотя ему совсем не было весело. Сержанта Марвана, который вел наблюдение за объектом, этот марш допек больше, чем самый грозный разнос, и он униженно застыл на пороге.
Комиссар заметил это сразу.
— Не могу же я хвалить вас, Марван, — сказал, — вы проворонили их… — Подумав, приказал: — А сейчас, сержант, займитесь «фордом». Машина не иголка, и я уверен, что вы найдете ее.
Отсылая Марвана, Бонне имел в виду не только поиски машины, в которой преступники могли что–нибудь забыть. Марван с его виновато–обиженным видом все время почему–то попадался в поле зрения, а комиссару необходимо было сосредоточиться.
Начал обыск с комнаты Ангела. Не спеша перебирал вещи в чемодане. Этот бывший эсэсовец отличался аккуратностью — костюмы развешены в шкафу, пижама сложена, идеально отглаженные носовые платки. А в чемодане полный беспорядок… Выходит, преступники спешили. Вывод напрашивался сам собою — их предупредили.
Кто бы это мог сделать? И как?.. По телефону? Исключено: все разговоры, которые вели жители особняка, записаны. Но ведь Марван и двое с поста за садом утверждают, что никто не заходил и не выходил из дома.
И все–таки преступников предупредили…
Кто и как?
«Вот это и есть первая загадка», — подумал, но не стал ломать над ней голову комиссар.
Выбросил все из чемодана Ангела, простучал его, хотя был уверен, что ничего не найдет: немец ровно ничего не оставил бы в тайнике. В костюмах проверил карманы, потом сел в кресло под торшером, придвинул к себе рисунки на белом картоне. Наверно, рисовал Ангел: на картоне лежал отточенный карандаш. Бонне провел черту на рисунке — не нужно было быть экспертом, чтобы убедиться: рисовали именно этим карандашом.
Итак, Ангел любит рисовать. Рисунки неплохие, совсем неплохие. А уличный продавец фруктов с большой корзиной, наполненной бананами, просто замечательно схвачен.
Бонне вздохнул, отложил рисунки и поднялся на второй этаж. Тот факт, что Ангел рисует, смутил его, но уже на лестнице комиссар снова начал насвистывать марш. Свист помогал ему сосредоточиться. Черт с ним, с Ангелом, всякое бывает, он сам знал громил, нежно любивших своих детей…
В комнате полковника все было разбросано — брюки валялись на кровати, стул, на котором висел пиджак, был опрокинут, а одна домашняя туфля попала почему–то на стол и красовалась рядом с откупоренной бутылкой бренди.
По пиджаку и брюкам комиссар легко установил рост полковника — приблизительно сто девяносто сантиметров. В открытом баре отсвечивали полные бутылки виски, коньяка, вермута, даже русской водки. Полковник любил выпить, курил сигареты «Кемел», собственно, это все, что узнал Бонне в результате обыска.
Оставалась еще комната слуги. Марван видел его, когда полковник и Ангел возвращались с ужина, — за рулем «форда» сидел коренастый мужчина в спортивной куртке и берете — он и стрелял по шинам, задержав их «паккард».
Слуга почти не имел вещей: белье, несколько сорочек — вот и все. На тумбочке возле кровати Бонне обнаружил пузырек с приклеенным рецептом. Подумал: если лекарство куплено здесь, в Танжере, завтра же они разыщут аптеку, а там и врача, выписавшего рецепт. Если человек продолжает болеть, он снова обратится к врачу, как правило, к этому же.
Бонне взял пузырек, решив проконсультироваться с медиками.
Обыск больше ничего не дал — фактически ни одной ниточки, которая позволила бы выйти на след преступников.
Бонне поехал в отель. Сел на заднее сиденье, вытянулся, закрыв глаза, и ни о чем не думал. Хотелось спать, голова была тяжелой.
Уснул сразу же, как только дотронулся до подушки.
***
Бонне отпустил машину и шел пешком, не спеша и почтительно уступая дорогу встречным прохожим. Их было мало — обычная зеленая улица европейской части города. Здесь редко встречались магазины: жилые кварталы, застроенные двух–и трехэтажными виллами. Напротив одной из них комиссар остановился. Прочитал табличку: «Доктор медицины Виктор Лаперуз». Позвонил.
Доктор Лаперуз сразу узнал свой рецепт. Он запомнил даже больного: воспаление десен, и довольно серьезное. Мужчина говорил по–немецки и только немного знал французский. Может ли он опять прийти к врачу? Да, они договорились встретиться дней через пять–шесть. Когда это? Завтра или послезавтра. Доктор понимает, что визит комиссара полиции не для третьих ушей? Да, доктор понял это, и Бонне откланялся.
Разговор с доктором хоть и дал кое–что, но не настроил Бонне на оптимистический лад. Маловероятно, чтобы немец слуга снова пришел к доктору Лаперузу. Один шанс из сотни, может, и того нет, и все же следует последить за виллой доктора. Пост необходимо поручить Марвану — один раз он уже упустил их, теперь вцепится мертвой хваткой.
Комиссар повернул к скверу, сел в тени. Ему не давал покоя разговор с Мелани. Когда они с Сержем Дубровским беседовали с ней, расспрашивая о днях, проведенных в «Игривых куколках», Мелани вдруг вспомнила о случайно услышанном разговоре. Она точно помнила слова мадам Блюто, сказанные полковнику: «Если возникнут какие–либо осложнения, возвращайтесь к рыжему…» Это было ночью. Мелани сажали в «пикап», на котором мадам вывезла их из «Игривых куколок».
К рыжему… А кто он? Не разыскивать же всех рыжих в Танжере, хотя, наверно, их не так уж и много.
К сожалению, в полицейском управлении нет картотеки, где жители города подразделялись бы по цвету волос. Хотя в картотеке мог значиться преступник под кличкой Рыжий. Вчера Бонне попросил пересмотреть картотеку, но это не дало желанных результатов.
Комиссар написал прутиком на песке дорожки: «Рыжий»…
Мадам Блюто сказала: «Возвращайтесь к рыжему…» Итак, преступники когда–то уже жили у какого–то рыжего. Это мог быть и отель, и частная вилла. Но что их заставило переехать в особняк на бульваре Наполеона?
Бонне знал, что не может сейчас ответить ни на один из этих вопросов, но не мог выбросить их из головы. Наконец поднялся, решительно стер надпись на песке и направился в полицейское управление.
 Тихие жилые кварталы остались позади — Бонне вышел на широкую улицу. Раньше он никогда не был тут, но, взглянув на улицу, подумал, что все же видел ее. Комиссар замедлил шаги. Да, он когда–то видел этот современный киоск с цветами, и деревья за ним, и столб с объявлениями. Так бывает иногда с человеком: попадает впервые в город, но кажется, что уже ходил по его улицам или просто видел их во сне… Но это туманные, отрывистые воспоминания, а здесь Бонне точно знал, что такой киоск с цветами он видел совсем недавно. Возможно, именно такой есть и на другой улице? Но он видел и киоск, и столб с объявлениями…
И Бонне вспомнил. Остановился, еще не веря в возможность такого совпадения, хотя в этом не было ничего удивительного: эту улицу нарисовал Ангел на одном из своих картонов.
Бонне достал сигареты, щелкнул зажигалкой, на секунду закрыл глаза, вспоминая рисунок Ангела. И там, как и сейчас, на первом плане киоск с цветами, но рисунок сделан с иной точки, как бы рисовали сверху.
Комиссар поискал глазами, откуда можно увидеть такую панораму. Справа — универсальный магазин, напротив — банк. За магазином, вплотную к нему, возвышалась семиэтажная громада отеля. Из его окон и открывалась панорама улицы.
Комиссар бросил недокуренную сигарету на панель. Может, Ангел живет здесь?.. Еще раз скользнул взглядом по стеклянным этажам отеля и повернул назад…
Своим фасадом отель выходил на другую улицу, и для того, чтобы подойти к парадному входу, нужно было обойти чуть ли не квартал. Бонне повернул за угол, посмотрел на зеркальные двери отеля и присвистнул от неожиданности: с вывески отеля кричал золотистый петух.
И отель назывался «Рыжий петух».
«Возвращайтесь к рыжему», — сказала мадам Блюто полковнику. Следовательно, они здесь!
Бонне захотелось сразу же зайти в отель, взглянуть в карточки проживающих. Нет, это не сделал бы даже неопытный агент. Нужно произвести в отеле неожиданную проверку. Ночью либо на рассвете, пока все спят и не ожидают полицейского налета. Только теперь следует быть более осторожным — про объект налета должны знать лишь он и начальник полиции.
***
В четыре часа утра две большие полицейские машины и легковой «паккард» остановились возле «Рыжего петуха». Через несколько минут отель был окружен.
Начальник полиции приказал сержанту:
— Без моего разрешения никого не выпускать!
Портье, спавший в маленькой комнате за стойкой, увидев полицейских, схватил телефонную трубку. Бонне бесцеремонно нажал на рычаг.
— Но я должен оповестить хозяина отеля господина Крюгера.
— Позвонишь немного позже….. — твердо произнес начальник полиции.
— Хозяин уволит меня с работы…
— Без разговоров! — прервал спор начальник. — Дай мне карточки клиентов!
Портье завозился под столом, и никто не обратил внимания, как он незаметно нажал на замаскированную кнопку. Только после этого передал начальнику полиции ящики с карточками.
— Есть незарегистрированные? — кратко спросил тот.
— У нас первоклассный отель, господин, и мы хорошо знаем порядки.
— Девушки?
— А где ж их нет?
— И то правда, — согласился шеф и обернулся к Бонне: — Я пересмотрю это хозяйство, а вы…
Комиссар понимающе кивнул.
— Мы пойдем в номера… — Протянул руку к портье. — Ключи от незанятых номеров? Вы будете сопровождать меня…..
Полицейские заняли посты на этажах. Портье постучал в дверь первого номера.
***
Ангел и Грейт занимали две маленькие комнаты за рестораном. Собственно, не комнаты, а каморки, но приходилось мириться и с этим. Неудобства компенсировались тем, что комнаты были хорошо замаскированы и человек, не знающий расположения номеров в «Рыжем петухе», не сразу сообразил бы, что в нише за помещением, где переодевались певицы, есть еще одни двери.
Грейт спал, когда к нему постучали. Повернулся на другой бок, но постучали еще раз. Полковник сел на кровати, спросил недовольно:
— Кто там?
Услыхал голос слуги, который приносил им пищу:
— Откройте…
Грейт поискал ногами шлепанцы, посмотрел на часы. Черт бы его побрал: было условлено, что их разбудят в восемь, а сейчас начало пятого. В восемь Крюгер должен был заехать за ними.
Полковник зевнул и открыл дверь. Проворчал:
— Зачем такая спешка? — Однако, увидев испуганное лицо слуги, спросил: — Что случилось, Мартин?
— В отеле полицейская облава!..
Полковник отступил на шаг.
— Какая облава?..
На пороге второй комнаты появился Ангел.
— Быстрее за мной, — сказал Мартин, — у нас еще есть шанс…
— Что тыпридумал?
— Одевайтесь — и вниз!
Полковнику не надо было повторять: пижама полетела прямо на пол, застегнул только две пуговицы сорочки и потянулся за брюками. Но почему Ангел торчит на пороге?
— Вы что, не слышали? — сердито бросил шепотом. — Черт, куда девались ботинки? — Нагнулся, вытащил их из–под кровати. — Быстрее, Франц, сейчас здесь будет полиция!
Когда Грейт оделся, Ангел еще застегивал пуговицы сорочки. Потянулся за пиджаком, забыв снять пижамные брюки. А Мартин нетерпеливо переступал с ноги на ногу у порога. Полковник подтолкнул Ангела — черт с ними, с брюками, можно и в пижамных!
Мартин сделал знак следовать за ним. На цыпочках прошли коридор, спустились по крутым ступенькам. Мартин открыл какую–то дверь, и они попали в коридор, который вел из кухни к мусоропроводу. Остановились перед большими, обитыми железом дверьми. Рядом — узкое грязное зарешеченное окно. Мартин выглянул и сразу отпрянул. Полковник тоже потянулся к окну, но слуга сделал предостерегающий жест.
— Там полиция!
— Какого же черта? — Это прошипел полковник, но Мартин объяснил:
— Портье включил секретную сигнализацию и разбудил меня. Я успел позвонить хозяину… Ждите, вот и они…
На улице остановилась машина, какие–то мужчины на высоких тонах стали ругаться. Мартин осторожно выглянул в окно и зашептал:
— Дай бог… дай бог…
Грейт оперся плечом о влажную холодную стену. Нащупал пистолет в кармане. Надо попробовать прорваться.
— У тебя есть ключ? — спросил у Мартина, кивнув на дверь.
— Да.
— Сколько там полицейских?
За стеной снова послышались голоса, загудел мотор, и машина стала разворачиваться.
Мартин вглядывался в окно, стекло которого было затянуто паутиной. Заскрипели петли тяжелых железных дверей. Мартин инстинктивно отпрянул от окна, но затем снова прильнул к нему. Несколько секунд смотрел, потом выпрямился и отер пот со лба.
— Ну теперь все в порядке…
Полковник встал на его место, выглянул. Увидел капот грузовика, а на противоположной стороне улицы–полицейского.
— Что ты мелешь! — ткнул пальцем в окно. — Там…
— Спокойно! — оборвал его Мартин. И это было настолько неестественно для всегда выдержанного и вежливого слуги, что полковник остолбенел. — Сейчас я все объясню… Машину прислал хозяин. Это мусорщики, их пропустила полиция, они сейчас зайдут сюда, и вы натянете их комбинезоны.
— Ну и что ж… — не понял Ангел, но полковник только отмахнулся от него.
Мартин встал возле дверей, открыл их, осторожно выглянул в щель.
Мусорщики гремели ящиками, и этот грохот ворвался в коридор, как–то подбодрив всех троих. Полковник, не ожидая напоминания, стягивал с себя куртку. Увидев, что Ангел бессмысленно смотрит на него, взорвался:
— А вам что, нужно особое приглашение?
Тот дрожащими руками стал расстегивать пуговицы.
В коридор вбежал один из мусорщиков. Глянул на полковника, словно примеряясь — был немного ниже Грейта, но в конце концов какое это имело значение? — сбросил комбинезон и потянулся за брюками полковника.
Грейт вынул из куртки бумажник, сунул в комбинезон, на ходу застегиваясь.
— Ну? — нетерпеливо протянул руку.
— Что? — не понял мусорщик.
— Кепи…
Тот сорвал с головы кепи. Полковник посмотрел на Ангела.
— Быстрее… — выскользнул за двери. Схватил большую урну с мусором и потащил к машине.
Второй мусорщик стал помогать ему.
— Ключ в машине, — шепнул Грейту. — Хозяин ждет на проспекте… третий квартал…
Грейт, не отвечая, вырвал у него урну, и мусорщик исчез за дверью…
Полицейский, казалось, посмотрел на полковника подозрительно, но Грейт не спеша высыпал мусор в машину, спокойно повернулся к полицейскому спиной л двинулся обратно.
Ангела еще не было в мусоросборнике, и Грейт ругал его последними словами. Осталось еще три урны — он поднял одну из них и понес на вытянутых руках, не чувствуя тяжести, поскольку боялся выпачкаться. Но вовремя сообразил, что настоящий мусорщик никогда не станет так нести урну — он уже привык и к вони, и к грязи, это для него работа, а на работе следует экономить силы. Схватил урну удобнее, приловчился и высыпал мусор одним движением. Стукнул даже по дну урны и потащил ее небрежно, держа за одну ручку.
Ангел ждал его, зажав под пазухой саквояж. Полковник вспылил:
— Вы что! Не понимаете?.. — Выхватил саквояж, бросил в урну, засыпал мусором. — Тащите ту, — показал еще на одну урну, — высыпайте — и сразу в кабину… Я сам оттащу урны назад…
Но Ангел проявил выдержку. Пока Грейт таскал пустые урны обратно, Франц утрамбовывал мусор, правда, стараясь держаться к полицейскому спиной. Пусть тот стоял метрах в пятнадцати и не мог хорошо разглядеть его — береженого и бог бережет…
Полковник шел из мусоросборника медленно, хотя хотелось бежать. Обошел машину сзади и сел за руль. Только сейчас почувствовал себя увереннее.
Ангел стал на подножку. Сообразил, что машина пройдет почти рядом с полицейским, а стоя на подножке, можно повернуться к нему спиной. Кроме того, видел, что так делают мусорщики: им некогда рассиживаться — до следующего дома два шага…
Машина, развернувшись, выехала на улицу. Полицейский только посмотрел на нее, пропуская. Полковник включил скорость, нажал на акселератор. Сейчас поворот — и все!
В последний момент Ангел оглянулся и увидел: полицейский бежит следом за ними, вытаскивая пистолет и что–то крича.
***
Когда мусорщики стали возражать, что у полиции, мол, свои дела, а у них свои, сержант вызвал шефа. Тот распорядился:
— Пусть работают. Только проследите, чтобы был порядок…
Полицейский, стоящий возле мусоросборника, понял это указание правильно: два мусорщика приехали, два и уедут. Он безразлично наблюдал, как таскают урны. Перед этим заглянул в мусоросборник — там никого не было — и перешел на противоположную сторону улицы. От машины и урн исходила вонь. Кроме того, не все ли равно, где стоять: он не выпустит из здания никого — только этих двоих, в комбинезонах.
Полицейский хорошо видел, как мусорщики вытаскивали последние урны. Один сел за руль, второй стал на подножку. Машина прошла мимо него чуть ли не вплотную. Он скользнул взглядом по спине мусорщика, по его ногам и вдруг заметил, что тот как–то странно обут: в мягких комнатных тапочках.
Полицейский понял: здесь что–то не так. Закричал:
— Стой!
Но машина рванула вперед и уже поворачивала за угол. Выхватил пистолет и успел выстрелить, целясь в шины, но не попал.
Сержант выскочил из вестибюля.
— Ты стрелял?
— Мусорщики!.. — только и произнес полицейский. — Надо догонять!
Он бросился к мусоросборнику, заглянул за урны — никого. Ударил плечом дверь, ведущую в помещение, — закрыта. Выбежал на улицу и увидел, что сержант уже садится в машину.
…Бонне, услыхав выстрел, подбежал к окну. Номер, в котором он находился, был на втором этаже, и, увидев, что сержант бежит к полицейскому «паккарду», комиссар открыл окно, перекинул тело через подоконник и прыгнул. Подошвы ног обожгло, но боль сразу отпустила, Бонне перебежал улицу и бросился на заднее сиденье «паккарда», затормозившего возле него. За ним в машину ввалился полицейский, поднявший тревогу.
«Паккард» на повороте заскрипел тормозами: переулок короткий, и неизвестно было, куда повернули «мусорщики».
Сержант высунулся по грудь из окна машины, позвал постового. Тот показал направо.
Пока «паккард» набирал скорость, полицейский успел рассказать, что случилось.
Бонне громко выругался.
— Проворонили, — заключил. — Эх, второй раз проворонили!..
— Не все еще потеряно… — попробовал возразить сержант. Рассчитывал, что какие–то шансы у них еще остались.
Они не знали, куда повернули «мусорщики», шофер вел машину наугад, поворачивая из переулка в переулок, — наверно, так вертелись и те, стараясь как можно быстрее замести следы.
Минут через пятнадцать они заметили на проспекте брошенную «мусорщиками» машину. «Паккард» затормозил почти рядом с ней, и Бонне, посвистывая, обошел вокруг грузовика. Обратил внимание на следы шин, оставленные грузовиком от резкого торможения.
— Очевидно, — констатировал с досадой, — здесь их ждали. Эта улица ведет к порту? — спросил сержанта.
— Да.
— Сколько километров?
— Около двух.
Бонне бросился к «паккарду».
— У них есть минут семь–восемь форы. А если там им придется ждать?..
Комиссар не закончил свою мысль, но все поняли его. Бонне не подгонял шофера, тот и так делал все, что мог.
На рейде виднелись два сухогрузных судна, у пирса замер белый английский теплоход, черную маслянистую воду бороздили буксиры. На безлюдной набережной стоял серый длинный «понтиак». В нем сидел низенький толстый человек.
«Паккард» остановился впритык.
— Господин Крюгер, если не ошибаюсь? — спросил комиссар, выходя из машины.
Толстяк расплылся в улыбке.
— К вашим услугам… Вильгельм Крюгер… С кем имею честь?
Стоял, не закрывая дверцы, ухмыляясь, смотрел на Бонне и, казалось, весь светился добродушием.
Комиссар посмотрел на море. Из порта, оставляя пенистый след, выходил приземистый военный корабль. Французский флаг трепетал над кормой.
— Неужели?.. — выдохнул Бонне. — Неужели?..
Увидел торжество на лице толстяка и все понял. Преступники бежали на французском военном судне, на корабле, принадлежавшем его стране, а он ничего не мог сделать.
Обернулся к Крюгеру с любезной улыбкой — не хотел показывать толстяку своих истинных чувств.
— Мы вынуждены были произвести в вашем отеле небольшую проверку.
— Каждому свое… — двусмысленно ответил толстяк. — И что вы нашли?
— К сожалению…
— Ай–ай… — сокрушенно покачал головой Крюгер. — Кого–нибудь упустили? — Он явно издевался над комиссаром, а тот не мог даже обругать его.
— Я потрясен вашими способностями, господин Крюгер!
— Благодарю… Кажется, ваше имя Бонне? Слышал много похвального… — Толстяк сел в машину. — Чудесная погода, не так ли, комиссар? Сегодня приятно совершить небольшую морскую прогулку, — засмеялся победно. — Я вам не нужен? Заходите, у нас неплохая кухня, и я всегда буду рад вас видеть…
«Понтиак» медленно двинулся. Даже то, что толстяк не рванул с места, свидетельствовало о его торжестве.
Бонне снова взглянул на море. Сторожевик сделался совсем маленьким. Скоро он превратился в точку на горизонте, а затем совсем слился с ним.
Воздух над океаном чистый и прозрачный, а Бонне плохо видел — от гнева слезились глаза. Толстяк поставил ему сегодня мат.
Бонне вздохнул и направился к «паккарду». Надо набираться терпения: может быть, ему и удастся когда–нибудь отыграться.
Тихие жилые кварталы остались позади — Бонне вышел на широкую улицу. Раньше он никогда не был тут, но, взглянув на улицу, подумал, что все же видел ее. Комиссар замедлил шаги. Да, он когда–то видел этот современный киоск с цветами, и деревья за ним, и столб с объявлениями. Так бывает иногда с человеком: попадает впервые в город, но кажется, что уже ходил по его улицам или просто видел их во сне… Но это туманные, отрывистые воспоминания, а здесь Бонне точно знал, что такой киоск с цветами он видел совсем недавно. Возможно, именно такой есть и на другой улице? Но он видел и киоск, и столб с объявлениями…
И Бонне вспомнил. Остановился, еще не веря в возможность такого совпадения, хотя в этом не было ничего удивительного: эту улицу нарисовал Ангел на одном из своих картонов.
Бонне достал сигареты, щелкнул зажигалкой, на секунду закрыл глаза, вспоминая рисунок Ангела. И там, как и сейчас, на первом плане киоск с цветами, но рисунок сделан с иной точки, как бы рисовали сверху.
Комиссар поискал глазами, откуда можно увидеть такую панораму. Справа — универсальный магазин, напротив — банк. За магазином, вплотную к нему, возвышалась семиэтажная громада отеля. Из его окон и открывалась панорама улицы.
Комиссар бросил недокуренную сигарету на панель. Может, Ангел живет здесь?.. Еще раз скользнул взглядом по стеклянным этажам отеля и повернул назад…
Своим фасадом отель выходил на другую улицу, и для того, чтобы подойти к парадному входу, нужно было обойти чуть ли не квартал. Бонне повернул за угол, посмотрел на зеркальные двери отеля и присвистнул от неожиданности: с вывески отеля кричал золотистый петух.
И отель назывался «Рыжий петух».
«Возвращайтесь к рыжему», — сказала мадам Блюто полковнику. Следовательно, они здесь!
Бонне захотелось сразу же зайти в отель, взглянуть в карточки проживающих. Нет, это не сделал бы даже неопытный агент. Нужно произвести в отеле неожиданную проверку. Ночью либо на рассвете, пока все спят и не ожидают полицейского налета. Только теперь следует быть более осторожным — про объект налета должны знать лишь он и начальник полиции.
***
В четыре часа утра две большие полицейские машины и легковой «паккард» остановились возле «Рыжего петуха». Через несколько минут отель был окружен.
Начальник полиции приказал сержанту:
— Без моего разрешения никого не выпускать!
Портье, спавший в маленькой комнате за стойкой, увидев полицейских, схватил телефонную трубку. Бонне бесцеремонно нажал на рычаг.
— Но я должен оповестить хозяина отеля господина Крюгера.
— Позвонишь немного позже….. — твердо произнес начальник полиции.
— Хозяин уволит меня с работы…
— Без разговоров! — прервал спор начальник. — Дай мне карточки клиентов!
Портье завозился под столом, и никто не обратил внимания, как он незаметно нажал на замаскированную кнопку. Только после этого передал начальнику полиции ящики с карточками.
— Есть незарегистрированные? — кратко спросил тот.
— У нас первоклассный отель, господин, и мы хорошо знаем порядки.
— Девушки?
— А где ж их нет?
— И то правда, — согласился шеф и обернулся к Бонне: — Я пересмотрю это хозяйство, а вы…
Комиссар понимающе кивнул.
— Мы пойдем в номера… — Протянул руку к портье. — Ключи от незанятых номеров? Вы будете сопровождать меня…..
Полицейские заняли посты на этажах. Портье постучал в дверь первого номера.
***
Ангел и Грейт занимали две маленькие комнаты за рестораном. Собственно, не комнаты, а каморки, но приходилось мириться и с этим. Неудобства компенсировались тем, что комнаты были хорошо замаскированы и человек, не знающий расположения номеров в «Рыжем петухе», не сразу сообразил бы, что в нише за помещением, где переодевались певицы, есть еще одни двери.
Грейт спал, когда к нему постучали. Повернулся на другой бок, но постучали еще раз. Полковник сел на кровати, спросил недовольно:
— Кто там?
Услыхал голос слуги, который приносил им пищу:
— Откройте…
Грейт поискал ногами шлепанцы, посмотрел на часы. Черт бы его побрал: было условлено, что их разбудят в восемь, а сейчас начало пятого. В восемь Крюгер должен был заехать за ними.
Полковник зевнул и открыл дверь. Проворчал:
— Зачем такая спешка? — Однако, увидев испуганное лицо слуги, спросил: — Что случилось, Мартин?
— В отеле полицейская облава!..
Полковник отступил на шаг.
— Какая облава?..
На пороге второй комнаты появился Ангел.
— Быстрее за мной, — сказал Мартин, — у нас еще есть шанс…
— Что тыпридумал?
— Одевайтесь — и вниз!
Полковнику не надо было повторять: пижама полетела прямо на пол, застегнул только две пуговицы сорочки и потянулся за брюками. Но почему Ангел торчит на пороге?
— Вы что, не слышали? — сердито бросил шепотом. — Черт, куда девались ботинки? — Нагнулся, вытащил их из–под кровати. — Быстрее, Франц, сейчас здесь будет полиция!
Когда Грейт оделся, Ангел еще застегивал пуговицы сорочки. Потянулся за пиджаком, забыв снять пижамные брюки. А Мартин нетерпеливо переступал с ноги на ногу у порога. Полковник подтолкнул Ангела — черт с ними, с брюками, можно и в пижамных!
Мартин сделал знак следовать за ним. На цыпочках прошли коридор, спустились по крутым ступенькам. Мартин открыл какую–то дверь, и они попали в коридор, который вел из кухни к мусоропроводу. Остановились перед большими, обитыми железом дверьми. Рядом — узкое грязное зарешеченное окно. Мартин выглянул и сразу отпрянул. Полковник тоже потянулся к окну, но слуга сделал предостерегающий жест.
— Там полиция!
— Какого же черта? — Это прошипел полковник, но Мартин объяснил:
— Портье включил секретную сигнализацию и разбудил меня. Я успел позвонить хозяину… Ждите, вот и они…
На улице остановилась машина, какие–то мужчины на высоких тонах стали ругаться. Мартин осторожно выглянул в окно и зашептал:
— Дай бог… дай бог…
Грейт оперся плечом о влажную холодную стену. Нащупал пистолет в кармане. Надо попробовать прорваться.
— У тебя есть ключ? — спросил у Мартина, кивнув на дверь.
— Да.
— Сколько там полицейских?
За стеной снова послышались голоса, загудел мотор, и машина стала разворачиваться.
Мартин вглядывался в окно, стекло которого было затянуто паутиной. Заскрипели петли тяжелых железных дверей. Мартин инстинктивно отпрянул от окна, но затем снова прильнул к нему. Несколько секунд смотрел, потом выпрямился и отер пот со лба.
— Ну теперь все в порядке…
Полковник встал на его место, выглянул. Увидел капот грузовика, а на противоположной стороне улицы–полицейского.
— Что ты мелешь! — ткнул пальцем в окно. — Там…
— Спокойно! — оборвал его Мартин. И это было настолько неестественно для всегда выдержанного и вежливого слуги, что полковник остолбенел. — Сейчас я все объясню… Машину прислал хозяин. Это мусорщики, их пропустила полиция, они сейчас зайдут сюда, и вы натянете их комбинезоны.
— Ну и что ж… — не понял Ангел, но полковник только отмахнулся от него.
Мартин встал возле дверей, открыл их, осторожно выглянул в щель.
Мусорщики гремели ящиками, и этот грохот ворвался в коридор, как–то подбодрив всех троих. Полковник, не ожидая напоминания, стягивал с себя куртку. Увидев, что Ангел бессмысленно смотрит на него, взорвался:
— А вам что, нужно особое приглашение?
Тот дрожащими руками стал расстегивать пуговицы.
В коридор вбежал один из мусорщиков. Глянул на полковника, словно примеряясь — был немного ниже Грейта, но в конце концов какое это имело значение? — сбросил комбинезон и потянулся за брюками полковника.
Грейт вынул из куртки бумажник, сунул в комбинезон, на ходу застегиваясь.
— Ну? — нетерпеливо протянул руку.
— Что? — не понял мусорщик.
— Кепи…
Тот сорвал с головы кепи. Полковник посмотрел на Ангела.
— Быстрее… — выскользнул за двери. Схватил большую урну с мусором и потащил к машине.
Второй мусорщик стал помогать ему.
— Ключ в машине, — шепнул Грейту. — Хозяин ждет на проспекте… третий квартал…
Грейт, не отвечая, вырвал у него урну, и мусорщик исчез за дверью…
Полицейский, казалось, посмотрел на полковника подозрительно, но Грейт не спеша высыпал мусор в машину, спокойно повернулся к полицейскому спиной л двинулся обратно.
Ангела еще не было в мусоросборнике, и Грейт ругал его последними словами. Осталось еще три урны — он поднял одну из них и понес на вытянутых руках, не чувствуя тяжести, поскольку боялся выпачкаться. Но вовремя сообразил, что настоящий мусорщик никогда не станет так нести урну — он уже привык и к вони, и к грязи, это для него работа, а на работе следует экономить силы. Схватил урну удобнее, приловчился и высыпал мусор одним движением. Стукнул даже по дну урны и потащил ее небрежно, держа за одну ручку.
Ангел ждал его, зажав под пазухой саквояж. Полковник вспылил:
— Вы что! Не понимаете?.. — Выхватил саквояж, бросил в урну, засыпал мусором. — Тащите ту, — показал еще на одну урну, — высыпайте — и сразу в кабину… Я сам оттащу урны назад…
Но Ангел проявил выдержку. Пока Грейт таскал пустые урны обратно, Франц утрамбовывал мусор, правда, стараясь держаться к полицейскому спиной. Пусть тот стоял метрах в пятнадцати и не мог хорошо разглядеть его — береженого и бог бережет…
Полковник шел из мусоросборника медленно, хотя хотелось бежать. Обошел машину сзади и сел за руль. Только сейчас почувствовал себя увереннее.
Ангел стал на подножку. Сообразил, что машина пройдет почти рядом с полицейским, а стоя на подножке, можно повернуться к нему спиной. Кроме того, видел, что так делают мусорщики: им некогда рассиживаться — до следующего дома два шага…
Машина, развернувшись, выехала на улицу. Полицейский только посмотрел на нее, пропуская. Полковник включил скорость, нажал на акселератор. Сейчас поворот — и все!
В последний момент Ангел оглянулся и увидел: полицейский бежит следом за ними, вытаскивая пистолет и что–то крича.
***
Когда мусорщики стали возражать, что у полиции, мол, свои дела, а у них свои, сержант вызвал шефа. Тот распорядился:
— Пусть работают. Только проследите, чтобы был порядок…
Полицейский, стоящий возле мусоросборника, понял это указание правильно: два мусорщика приехали, два и уедут. Он безразлично наблюдал, как таскают урны. Перед этим заглянул в мусоросборник — там никого не было — и перешел на противоположную сторону улицы. От машины и урн исходила вонь. Кроме того, не все ли равно, где стоять: он не выпустит из здания никого — только этих двоих, в комбинезонах.
Полицейский хорошо видел, как мусорщики вытаскивали последние урны. Один сел за руль, второй стал на подножку. Машина прошла мимо него чуть ли не вплотную. Он скользнул взглядом по спине мусорщика, по его ногам и вдруг заметил, что тот как–то странно обут: в мягких комнатных тапочках.
Полицейский понял: здесь что–то не так. Закричал:
— Стой!
Но машина рванула вперед и уже поворачивала за угол. Выхватил пистолет и успел выстрелить, целясь в шины, но не попал.
Сержант выскочил из вестибюля.
— Ты стрелял?
— Мусорщики!.. — только и произнес полицейский. — Надо догонять!
Он бросился к мусоросборнику, заглянул за урны — никого. Ударил плечом дверь, ведущую в помещение, — закрыта. Выбежал на улицу и увидел, что сержант уже садится в машину.
…Бонне, услыхав выстрел, подбежал к окну. Номер, в котором он находился, был на втором этаже, и, увидев, что сержант бежит к полицейскому «паккарду», комиссар открыл окно, перекинул тело через подоконник и прыгнул. Подошвы ног обожгло, но боль сразу отпустила, Бонне перебежал улицу и бросился на заднее сиденье «паккарда», затормозившего возле него. За ним в машину ввалился полицейский, поднявший тревогу.
«Паккард» на повороте заскрипел тормозами: переулок короткий, и неизвестно было, куда повернули «мусорщики».
Сержант высунулся по грудь из окна машины, позвал постового. Тот показал направо.
Пока «паккард» набирал скорость, полицейский успел рассказать, что случилось.
Бонне громко выругался.
— Проворонили, — заключил. — Эх, второй раз проворонили!..
— Не все еще потеряно… — попробовал возразить сержант. Рассчитывал, что какие–то шансы у них еще остались.
Они не знали, куда повернули «мусорщики», шофер вел машину наугад, поворачивая из переулка в переулок, — наверно, так вертелись и те, стараясь как можно быстрее замести следы.
Минут через пятнадцать они заметили на проспекте брошенную «мусорщиками» машину. «Паккард» затормозил почти рядом с ней, и Бонне, посвистывая, обошел вокруг грузовика. Обратил внимание на следы шин, оставленные грузовиком от резкого торможения.
— Очевидно, — констатировал с досадой, — здесь их ждали. Эта улица ведет к порту? — спросил сержанта.
— Да.
— Сколько километров?
— Около двух.
Бонне бросился к «паккарду».
— У них есть минут семь–восемь форы. А если там им придется ждать?..
Комиссар не закончил свою мысль, но все поняли его. Бонне не подгонял шофера, тот и так делал все, что мог.
На рейде виднелись два сухогрузных судна, у пирса замер белый английский теплоход, черную маслянистую воду бороздили буксиры. На безлюдной набережной стоял серый длинный «понтиак». В нем сидел низенький толстый человек.
«Паккард» остановился впритык.
— Господин Крюгер, если не ошибаюсь? — спросил комиссар, выходя из машины.
Толстяк расплылся в улыбке.
— К вашим услугам… Вильгельм Крюгер… С кем имею честь?
Стоял, не закрывая дверцы, ухмыляясь, смотрел на Бонне и, казалось, весь светился добродушием.
Комиссар посмотрел на море. Из порта, оставляя пенистый след, выходил приземистый военный корабль. Французский флаг трепетал над кормой.
— Неужели?.. — выдохнул Бонне. — Неужели?..
Увидел торжество на лице толстяка и все понял. Преступники бежали на французском военном судне, на корабле, принадлежавшем его стране, а он ничего не мог сделать.
Обернулся к Крюгеру с любезной улыбкой — не хотел показывать толстяку своих истинных чувств.
— Мы вынуждены были произвести в вашем отеле небольшую проверку.
— Каждому свое… — двусмысленно ответил толстяк. — И что вы нашли?
— К сожалению…
— Ай–ай… — сокрушенно покачал головой Крюгер. — Кого–нибудь упустили? — Он явно издевался над комиссаром, а тот не мог даже обругать его.
— Я потрясен вашими способностями, господин Крюгер!
— Благодарю… Кажется, ваше имя Бонне? Слышал много похвального… — Толстяк сел в машину. — Чудесная погода, не так ли, комиссар? Сегодня приятно совершить небольшую морскую прогулку, — засмеялся победно. — Я вам не нужен? Заходите, у нас неплохая кухня, и я всегда буду рад вас видеть…
«Понтиак» медленно двинулся. Даже то, что толстяк не рванул с места, свидетельствовало о его торжестве.
Бонне снова взглянул на море. Сторожевик сделался совсем маленьким. Скоро он превратился в точку на горизонте, а затем совсем слился с ним.
Воздух над океаном чистый и прозрачный, а Бонне плохо видел — от гнева слезились глаза. Толстяк поставил ему сегодня мат.
Бонне вздохнул и направился к «паккарду». Надо набираться терпения: может быть, ему и удастся когда–нибудь отыграться.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЭСЭСОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ
Сеялся нудный дождь. Офицеры промокли, но держались бодро: выправка выдавала их, хотя все они были одеты в шинели с солдатскими погонами. Самые проверенные собрались здесь — сто пятьдесят офицеров СС, которым поручалось сопровождать шесть колонн грузовиков, направлявшихся в Австрию. Человек в плаще со знаками различия группенфюрера СС говорил глухо, да и дождь мешал слушать, и все же офицеры слышали каждое слово: — Господа, вам поручается весьма ответственное задание: сопровождать крайне важный транспорт. Дорога контролируется войсками… Каждая колонна охраняется танковым подразделением… Не сводите глаз с водителей!.. В случае опасности приказываю подорвать машины… Расходились суровые и сосредоточенные. Воздух дрожал от гула дизелей, и, казалось, холодная, сырая ночь на каждом шагу готовит западню. Смотрели на шоферов подозрительно, хотя у каждого из них был немалый стаж службы в зондеркомандах, еще раз проверяли металлические ящики. На ящиках — ни одной надписи, только порядковые номера. Офицеров заверили, что там — стратегический груз, необходимый для завершения нового секретного оружия, которое должно будет обеспечить перелом в уже проигранной войне. Поэтому так тщательно осматривали груз, уточняли систему сигнализации, еще раз инструктировали шоферов. Двинулись….. Вой грузовиков, грохот танковых моторов….. Двинулись, не зная, что везут совсем не стратегический груз, а сокровища Рейхсбанка и секретные документы главного управления имперской безопасности, В длинных свинцовых контейнерах лежали слитки золота, в коротких — фальшивые банкноты. Миллиарды фальшивых фунтов стерлингов, изготовленные в Заксенхаузене, — они могли торпедировать всю экономику Великобритании. В квадратных ящиках, на которых стояла литера В, сохранялись секретнейшие документы, стоившие дороже золота: списки агентов гестапо во всех странах мира, бумаги с номерами зашифрованных счетов в международных банках, списки людей, которые могли получить по этим счетам сказочные суммы. Один из офицеров имел при себе реестр, подписанный генералом Фрейлихом: «166 миллионов 250 тысяч швейцарских франков; 299 миллионов 18 тысяч 300 американских долларов; 31 миллиард 351 миллион 250 тысяч марок в золотых слитках; 2 миллиона 949 тысяч 100 марок в бриллиантах; 93 миллиона 450 тысяч марок — коллекции марок и произведения искусства; 5 миллионов 425 тысяч марок — наркотики…» Вообще богатства, лежащие в грузовиках, оценивались примерно в пять миллиардов двести миллионов долларов. Но об этом станет известно позже, во время Нюрнбергского процесса, а пока… …Грузовики стояли почти вплотную друг к другу, и воздух не дрожал от рева могучих дизелей. Тишина, которая наступила, казалась гнетущей, коварной. Дорога, круто поднимавшаяся в гору, была вплоть до поворота, почти на километр, забита машинами. Офицер с головного грузовика спрыгнул в кювет, сорвал несколько ярко–желтых, горьковато пахнущих цветов. Пожевал стебелек, вздохнул. Сказал шоферу: — Такого еще не было. Кажется, будем загорать долго… Из–за переднего грузовика вышел эсэсовец в длинном плаще, за ним еще несколько в черных мундирах. — Груз из Баварии? — спросил он. Офицер в солдатской шинели вылез из кювета. — Я не имею права, оберштурмбаннфюрер… Эсэсовец не дослушал его: — Начальника колонны ко мне! — Начальника колонны вперед!.. — покатилось от машины к машине. Он уже бежал, высокий, худощавый, солдатская шинель еле прикрывала колени, и от этого он казался еще более высоким и долговязым. Оберштурмбаннфюрер ждал его не двигаясь и, когда начальник колонны остановился напротив и отдал честь, вынул из кармана бумагу. — Приказ начальника главного управления имперской безопасности Кальтенбруннера. Вам надлежит вместе с офицерами и солдатами, сопровождающими грузовики, занять позицию в трех километрах отсюда у реки. Перережьте дорогу и обороняйте ее. Груз передайте моим людям! Офицер внимательно изучил бумагу. — Слушаюсь, оберштурмбаннфюрер! Тот стал обходить машины, присматриваясь к номерам на ящиках, делал какие–то пометки в записной книжке. Возле машин остались лишь люди, одетые в гражданское. Длинный свинцовый ящик привлек особое внимание офицера. Он похлопал обтянутой черной лайкой рукой по ящику, показал на соседние:
— Эти пять ко мне в машину. — Подумал и, ткнув на контейнеры, обозначенные буквой В, добавил: — И эти тоже.
«Опель–адмирал» оберштурмбаннфюрера, чуть не съехав в кювет, пробился к колонне. Эсэсовцы бросили в багажник длинные ящики, на заднее сиденье положили еще несколько квадратных. Оберштурмбаннфюрер обернулся к офицеру, сопровождающему его:
— Вам все понятно, Иоган?
— Да.
— Сделайте это ночью. До озера Топлиц осталось недалеко, и эти машины, — показал на грузовики, — можно пустить под откос. Затопите ящики как можно дальше от берега. Впрочем, там будет Келлер, и он покажет где…
Шофер открыл переднюю дверцу.
— В Зальцбург! — приказал оберштурмбаннфюрер.
…Он сидел сейчас в гостиной комфортабельной квартиры на мадридской улице Кастельон де ла Плана. Такой же подтянутый и энергичный, как почти двадцать лет назад, когда он встретил грузовики с ценностями «третьего рейха», возраст выдавали только морщинки на лбу и седина. Седина смягчила острые терты лица: никто, встретившись с ним впервые, не подумал бы, что это один из бывших помощников самого Кальтенбруннера. Костюм от лучшего мадридского портного подчеркивал его спортивную фигуру, белоснежная сорочка, казалось, хвасталась своей чистотой, да и все вокруг свидетельствовало о богатстве хозяина квартиры: мягкие кресла, пушистый ковер во весь пол, бар с рядами бутылок чуть ли не со всего мира.
Хозяин сидел, свободно вытянув ноги и откинувшись на спинку кресла, курил сигару, исподлобья смотрел на своих собеседников, словно хотел понять, на что они годны.
Ангел почти ничего не пил, был начеку: знал о волчьих привычках оберштурмбаннфюрера СС Роберта Штайнбауэра.
Уже около часа сидели они в гостиной на Кастельон де ла Плана, а хозяин, казалось, и забыл о деловой стороне встречи. Штайнбауэр интересовался деталями их путешествия, проявляя потрясающую осведомленность, и полковник, громко смеясь, рассказывал о трюке Крюгера с мусорщиками.
Полковник тоже ощущал, что вся эта словесная эквилибристика является лишь преамбулой серьезного делового разговора — не случайно же Крюгер договаривался с оасовцами и сам лично привез Ангела и Грейта в танжерский порт. Но, собственно, не он был заинтересован в деловой части разговора, а этот седой сибарит, и Грейт спокойно подливал себе джин, слегка разбавляя его тоником.
Грейт не очень–то верил в россказни Крюгера о чуть ли не туристском путешествии, да еще и с миллионным вознаграждением, и догадывался, что седоголовый эсэсовец будет нажимать на них, но дешево продать себя он, Грейт, не собирается. Вот и наслаждался комфортом квартиры Штайнбауэра, удивляясь, почему краснеет и вертится на стуле Ангел. Правда, для Ангела Штайнбауэр все–таки бывшее начальство, но плевать вообще на начальство — и нынешнее и бывшее, если у тебя полный кошелек.
Полковник потянулся за сигарой. Штайнбауэр курил настоящие гаванские, и не какие–нибудь второсортные, а по пять долларов за штуку. Это возвысило Штайнбауэра в глазах Грейта, и он улыбнулся ему.
— Где вы достаете гаванские? Сейчас после событий на Кубе это настоящая редкость.
— Живем не одним днем, — ответил тот уклончиво, и Грейт подумал: этот делец умеет–таки заглядывать в будущее. Он знал, что Штайнбауэр возглавляет мадридскую фирму, поставившую свыше четверти всех материалов, закупленных американцами в Западной Европе на строительство военных баз в Испании: сборные ангары, стальные конструкции, трубы и прочее. А тот, кто поддерживает контакты с американцами, по мысли Грейта, не лишен ума.
— Крюгер говорил о какой–то поездке, — небрежно вставил полковник, глянув, как отреагирует Штайнбауэр.
Тот повернулся к Грейту всем корпусом, выдержал его взгляд и уверенно продолжал:
— Я не хочу, чтобы между нами были какие–либо недомолвки, господа, и поэтому предлагаю открытую игру. Мы выбрали вас потому, что гауптштурмфюрера я знаю давно, а о вас, — улыбнулся Грейту, — о вашей энергии и находчивости наслышался от Крюгера.
— Мне это льстит, мистер Штайнбауэр, — склонил голову полковник. — Однако слова в наше время…
— Самый дешевый товар, — закончил тот. — И я согласен с вами. Именно поэтому вынужден предупредить вас, что наш разговор не для третьих ушей…
— Вы могли бы и не предупреждать, — наконец подал голос Ангел.
— О–о! В вашей скромности я уверен! — отрезал Штайнбауэр, и Грейт подумал, что Ангел у него на хорошем крючке. — И все же я еще раз повторяю это, ибо наша организация…
Полковник удивленно вытянулся.
— Организация?
— Вы могли убедиться в этом. Ведь французский военный корабль…
— А–а… — понял Грейт. — ОАС и другие.
— Именно так! — подтвердил Штайнбауэр. — Однако мы уклонились немного, господа… Вы, наверно, слыхали о сокровищах, спрятанных во время нашего отступления в Австрийских Альпах. Должен проинформировать вас, что слухи о них если и преувеличены, то ненамного. Мы, правда, не имели тогда времени, чтобы спрятать все так, как надо, и некоторые тайники потом были раскрыты — частично случайно, частично из–за нашей спешки и, сейчас я могу признать это, из–за самоуверенности, граничащей с небрежностью. Но значительная часть ценностей все еще лежит в штольнях и озерах Австрии. К некоторым тайникам уже потеряны ключи, но не ко всем. Мне известны два тайника, в которых хранятся слитки золота и другие ценности. Я сам оборудовал эти тайники и принял меры, чтобы их не раскрыли… — Штайнбауэр сделал паузу, отпил лимонад из стакана. Он пил только воду и никогда не употреблял спиртного. Ни тогда, когда служил в СС, ни сейчас. Все делал на трезвую голову и редко когда ошибался.
Тогда он и на самом деле принял меры, чтобы ни одна живая душа не нашла тайников. Оборудовала их специальная команда из Заксенхаузена: десять специалистов — маляры, штукатуры, инженеры–строители. Под наблюдением ротенфюрера СС из отдела самого Штайнбауэра и двух эсэсовцев. После того как ящики были спрятаны, всех десятерых расстреляли. Оберштурбаннфюрер сам руководил операцией. А через несколько часов передал ротенфюрера и эсэсовцев специальной группе — их также расстреляли в его присутствии.
Штайнбауэр вздохнул и продолжил:
— В одном из тайников спрятано не только золото, но и документы, которым нет цены. Если мы станем владельцами этих бумаг, получим ключи от шифров секретных счетов в швейцарских и западногерманских банках. Вы понимаете, что это означает, господа?
Грейт давно уже отставил стакан и слушал не отрываясь. Спросил:
— Почему же вы за столько лет не попытались достать это золото?
— Дело в том, что вывезти столько золота из любой страны не так просто. Конечно, не будем преувеличивать сложность операции, но все же это не развлекательная прогулка по Альпам. Учтите и то, что у меня после войны сохранились э–э… кое–какие суммы и настоятельной потребности в этом золоте не было. Сейчас другой разговор. Возросшие масштабы деятельности нашей организации и некоторые другие факторы требуют все больших сумм, и консервация ценностей и банковских счетов нынче ни к чему.
— Скажите, — бесцеремонно прервал его Грейт, — уже пытались достать это золото?
— Вы немного опередили меня, полковник, — мягко улыбнулся Штайнбауэр. — Несколько месяцев тому назад один человек по фамилии Дорнбергер должен был раскрыть тайник и вывезти ценности, но… — развел руками, — он оказался типичным ослом. Контейнеры с золотом спрятаны в подвалах замка зальцбургского архиепископа. Замок средневековый, в подземных ходах сам черт запутается, и тайник можно искать, — довольно потер руки, — и сто лет… К сожалению, там, где я спрятал золото, сейчас находится одна из комнат книгохранилища. Разные древние манускрипты, рукописи, пергаменты и прочие глупости… Этот Дорнбергер действовал как идиот, его сразу задержали и обвинили в попытке выкрасть какие–то книги. Два года тюрьмы, господа, и я считаю, что он легко отделался. Однако Дорнбергеру известно расположение тайника, и черт его знает, какая муха укусит его… Как ни досадно, австрийские тюрьмы, естественно, охраняются, и ликвидировать этого осла не очень просто.
Грейт спросил прямо:
— Во–первых, я хотел бы знать, о какой сумме идет речь? В целом. И на что могу рассчитывать лично я?
Штайнбауэр ответил не раздумывая:
— Надеюсь, вы понимаете, что здесь не может быть уравниловки. Кроме того, я финансирую нашу э–э… операцию, обеспечиваю вас необходимыми документами, явками… Я уже не говорю о транспортировке золота из Австрии. Очевидно, придется арендовать самолет, поэтому, — нагнулся к Грейту, — мы и остановились на ва64 дорогой полковник. Короче, я не собираюсь торговаться и считаю, что двадцать процентов от общей суммы вам будет достаточно.
— И это составит?
— В подвалах зальцбургского замка я спрятал пять контейнеров с золотом, каждый из них весит сто килограммов.
Полковник быстро подсчитал:
— Полтонны… Приблизительно шестьсот тысяч долларов. Итак?
— На вашу долю сто двадцать тысяч.
— А второй тайник?
— Сейчас трудно дать точный ответ. Дело в том, что…
Штайнбауэр на мгновение закрыл глаза. Боже мой, как быстро летит время: сколько лет прошло с того холодного декабрьского дня сорок четвертого года, а он помнит все до малейших деталей, словно это случилось вчера…
Погода мерзкая: дождь с мокрым снегом, дождь и туман — единственная отрада, что ни одна английская или американская свинья не появится в небе и можно спокойно ехать по городу, не боясь воздушной тревоги. Он сидит за рулем мощной спортивной машины — тогда он еще был молод и любил сам водить машину, несмотря на то, что был одним из прославленных эсэсовских офицеров рейха и занимал секретную должность в главном управлении имперской безопасности.
Вот и нужное здание на окраине Страсбурга. Чугунная ограда, от ворот — асфальтированная дорожка к дому. Два эсэсовца проверяют документы. Впереди — бронированный «хорх» Кальтенбруннера. Лица своего шефа Штайнбауэр не видит, но отлично представляет, как смотрит Кальтенбруннер на часовых: спокойно и пронзительно. Наверно, нет в Германии эсэсовца, который с первого взгляда не узнал бы шефа главного управления имперской безопасности, но порядок есть порядок, и Кальтенбруннер сам приказал бы расстрелять часовых, если бы они не проверили у него документы.
«Хорх» медленно двинулся, и Штайнбауэр подъехал к воротам. Пока эсэсовцы изучали его документы, оглянулся и помахал рукой оберштурмбаннфюреру — пассажиру «опель–адмирала», остановившегося сзади почти вплотную к его машине.
Штайнбауэр всегда симпатизировал этому человеку: чувствовал, что он один из немногих, кто не завидует ему. А это не так просто — не завидовать любимцу фюрера, обладателю высших наград рейха. Они с Эйхманом не были друзьями, только иногда перебрасывались несколькими словами, Штайнбауэр с удовольствием обедал вместе с оберштурмбаннфюрером за одним столом в маленькой столовой для избранных. У Адольфа всегда было много работы, может, он не имел времени завидовать кому–либо, а может, знал, что большинство работников главного управления имперской безопасности завидуют ему, Адольфу Эйхману, поскольку с ник считается сам Гиммлер и его знает и ценит даже фюрер.
Штайнбауэр подождал Эйхмана перед входом в вестибюль, они вошли в зал вместе и сели рядом — всегда приятно сидеть рядом с человеком, понимающим тебя и перед которым нет необходимости скрываться.
Шеф гестапо Мюллер издали поклонился им, хотя и Штайнбауэр и Эйхман были всего лишь оберштурмбаннфюрерами СС — чин не очень–то большой, примерно то же, что подполковник в армии. Но что такое чин, если сам фюрер подарил Штайнбауэру собственную фотографию с дарственной надписью.
Зал постепенно заполнялся. Были люди, которых Штайнбауэр видел впервые, преимущественно уже пожилые, в строгого покроя сюртуках. Даже генералы СС подобострастно жали им руки.
— Крупп!.. — объяснил Эйхман, когда сам Кальтенбруннер пошел навстречу одному из черных сюртуков.
Наверно, в ту самую минуту родилась у Штайнбауэра зависть к этим внешне неприметным и сдержанным людям — настоящим хозяевам не только его, а даже рейхсминистров; зависть, все время движущая им и наконец сделавшая человеком, словно две капли воды похожим на те черные сюртуки — хозяином одной из влиятельнейших фирм в Испании.
Но тогда его мысли не забегали так далеко, и он представлял будущее совсем не таким розовым. Советские армии вышли уже к границе Германии; и многие понимали, что война Гитлером проиграна. Эти собрались здесь, на окраине Страсбурга, чтобы спасти награбленное: потом, рассчитывали они, на месте разгромленного «третьего рейха» можно будет построить четвертый рейх.
Секретное совещание вел Кальтенбруннер. Решался вопрос, как быть со всем тем богатством, прибывшим в Берлин из оккупированных стран — из частных коллекций и музеев, из концентрационных лагерей, как распорядиться с золотом, купленным в нейтральных странах за фальшивые фунты стерлингов, и, наконец, самими фальшивыми фунтами?
Фактически делили добычу.
Штайнбауэр притих. Не удивлялся тому, как быстро и четко все решалось, его ошеломили суммы, которые делились среди присутствующих. Счет шел на миллионы. Герингу — восемь с половиной миллионов марок, Геббельсу — приблизительно столько же. Кальтенбруннер получил счет на имя Артура Шейдлера — три миллиона. Не обошли и Штайнбауэра — миллион.
Затем обсуждали оперативный план, систему псевдонимов и шифры, способы вывоза капиталов за границу — в основном в испанские, швейцарские, латиноамериканские банки.
Рассчитывали на то, что банкиры нейтральных стран гарантируют тайну вкладов — даже полиции они не дают сведений о размерах счетов любого клиента. Кроме того, эти банки не интересуются происхождением капиталов, фактически они не зависят от правительств своих стран.
Кальтенбруннер лично вел протокол совещания. Он знал, что доверять здесь нельзя никому. Поэтому персональные шифры счетов получили только самые доверенные лица. В основном ценности были положены на зашифрованные счета с условием: вклад может получить лицо, знающее шесть цифр. Определяли людей, которые знали бы по две цифры шифра, но не были знакомы друг с другом. Списки этих людей, так называемых «троек», хранились вместе с самыми секретными документами в главном управлении имперской безопасности.
…Как всегда, воспоминания растревожили Штайнбауэра. Не потому, что было жаль бывших коллег — каждому свое, одних ждала виселица, других, как и его, обеспеченная и сытая жизнь, — просто судьба еще одного контейнера, закопанного в забое старой шахты, не давала ему покоя.
В контейнере хранились списки «троек». Штайнбауэр знал, что найти второй его тайник, оборудованный в старой шахте, практически невозможно, и все же сомнения мучили его. Иногда казалось, горные породы сдвинулись и совсем завалили шахту, временами представлял, как кто–то случайно начал копать именно на этом месте. Понимал: это глупости, один случай из миллиона, но все же его бросало в холод, и кончики пальцев начинали чесаться, словно обмороженные.
Давно уже нужно было достать тот проклятый контейнер, но все откладывал с года на год.
В Австрии ему появляться было небезопасно: много кто еще помнил там его, даже пресса иногда вспоминала имя Штайнбауэра в связи с таинственным и бесследным исчезновением федерального президента Микласа накануне того дня, когда гитлеровцы оккупировали Австрию. Доверять же долю контейнера еще кому–нибудь Штайнбауэр не хотел — был слишком осторожен и понимал, что тайна, которую знают двое, уже не тайна. Все колебался, пока не разыскал Дорнбергера. Ему мог довериться. Но выяснилось, Дорнбергеру не хватило ума тихо и осторожно раскрыть хотя бы один из двух тайников. А жаль: через год исполнится двадцать лет со времени страсбургского распределительного совещания, а по закону деньги, лежащие на зашифрованных счетах, становятся собственностью банка, если в течение двадцати лет никто не явится за ними. Поэтому и решил сейчас довериться Ангелу и этому американскому полковнику.
Ангел побоится предать. Он и полковник — достойная пара, стоят один другого. Да и не позарятся на золото, это каких–нибудь шестьсот тысяч, а если извлечь списки «троек», запахнет миллионами. Без его же, Штайнбауэра, помощи не смогут собрать «тройки», во всяком случае, если даже и попытаются, то тут им и конец придет. Он возглавляет организацию бывших эсэсовцев, и его рука достанет предателей везде. Грейт и Ангел не могут не понимать это.
Штайнбауэр решил не таиться и рассказал компаньонам о содержимом второго тайника. Грейт забыл о джине, а Ангел пересел ближе к Штайнбауэру, ел его глазами, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Мы достанем этот контейнер, если даже придется перекопать все штреки той шахты! — воскликнул полковник решительно.
— Мне нравится ваш оптимизм, — сказал Штайнбауэр.
— Но ведь вы знаете, что в Танжере у нас были неприятности с полицией, — вставил Ангел. — Может, полиция разыскивает нас и теперь. Там был агент Интерпола, а это всегда опасно.
Штайнбауэр не замедлил ответить:
— Вы получите настоящие испанские паспорта и вылетите прямым рейсом из Мадрида в Вену. История с девчонками вряд ли заинтересовала международную полицию настолько, что она объявит розыск в других странах. На всякий случай не останавливайтесь в отелях. У меня есть в Австрии свои люди, вы получите пароль и свяжетесь с ними.
— Я слыхал об этих сокровищах, — не удержался Грейт. — Среди офицеров оккупационных войск сразу после войны ходили об этом легенды.
— Кое–кто из ваших коллег, — криво усмехнулся Штайнбауэр, — неплохо нагрел на них руки.
— Это вы затопили ящики с ценностями в озере Топлиц? — спросил полковник.
Штайнбауэр кивнул.
— Я приказал бросить их туда, поскольку не было другого выхода. Дорога в горы была забита машинами, а противник висел у нас на хвосте…
— Недавно на озере работала экспедиция. Кажется, ее организовал журнал «Штерн»?
— Эти журналисты суют свой нос куда не следует… — буркнул Штайнбауэр. — Нам пришлось пережить несколько неприятных дней. Там, на дне, валяются ящики с документами, о которых лучше не вспоминать. К счастью, они подняли контейнер с фальшивыми фунтами стерлингов и, пока мы успели принять меры, достали только один ящик с архивами управления имперской безопасности. Эти документы так и не были опубликованы, хотя кое у кого руки чесались сделать это.
— Издатель «Штерна» ваш человек? — поинтересовался Ангел.
— Не совсем. Мы использовали другие способы…
— Такие? — засмеялся Грейт, подняв кулак.
— Там, недалеко от Зальцбурга, — повернулся к нему Штайнбауэр, — живет член нашей организации, его фамилия Хетель. Это он пояснил начальнику экспедиции, что кое–кто может не дожить до конца месяца.
— И тот поверил?
— Должен был, — нахмурился Штайнбауэр. — Много их было, охотников до чужого. И где они? Могли утонуть или сорваться со скалы.
— Хетель? — вдруг оживился Ангел. — Штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель?
— Вы знаете его? — насторожился Штайнбауэр.
— Нет, но слыхал о нем. Много раз.
— Сейчас Хетель сделался учителем. Парадокс. Вольфганг Хетель — и воспитание сорванцов… Я дал ему деньги, и он, когда его наконец выпустили из тюрьмы, открыл под Зальцбургом частную школу. Вблизи озера Топлиц. С того времени ни одна попытка пошарить по дну озера не увенчалась успехом…
— Почему же вы не поручили ему? — начал Грейт.
Штайнбауэр понял его с полуслова:
— Я знаю Хетеля, может, лучше, чем он знает сам себя. У него большие связи среди членов нашей организации, и, возможно, он попробовал бы сам найти ключ к шифрам. Это одна из причин, почему вы поедете в Австрию вдвоем. Вам, полковник, пальца в рот не клади, да и господин Ангел стреляная птица. Хетеля вы используете, но не доверяйте ему. Между прочим, у нас будет еще много времени, чтобы обговорить детали. Отдыхайте, господа, и ни о чем не думайте.
***
Дубровский сидел в пустом зале маленького бистро недалеко от площади Сен Андре дез Арт. Только что ему позвонил комиссар Бонне, и они договорились встретиться здесь.
Комиссар ничего особенного не сказал, просто спросил, не найдется ли у Сергея свободная минута, но было в его тоне что–то, встревожившее Дубровского, и он заторопился:
— Что–нибудь новое, Люсьен? О наших?
— У вас профессиональный журналистский недостаток, — заметил Бонне, — хотите знать все сразу. Подождите. Мне приятно увидеться с вами, поговорить и, если не возражаете, выпить бутылку вина.
Сергей занял столик в углу возле окна, чтобы увидеть Бонне издалека. Комиссар обещал выехать сразу: от Поль–Валери до этого бистро добираться минут сорок, следовательно, «ситроен» комиссара вот–вот должен вынырнуть из–за угла.
Прошло полмесяца, как они вернулись из Танжера. Анри отправился куда–то в глушь Нормандии, подальше от людских глаз и людского любопытства, Сергей и Бонне встретились через день–два после возвращения; затем нахлынули срочные дела, обычная журналистская суета, и Дубровский все реже вспоминал танжерские приключения.
Задумавшись, Дубровский прозевал «ситроен» комиссара и увидел Бонне уже в дверях: тот заметил Сергея еще с улицы, так как проследовал с порога прямо к нему, широко улыбаясь и еще издали протягивая руку. Дубровский решил проявить выдержку и не расспрашивать комиссара. Но тот, отпив красного терпкого вина, прищурившись, начал сам:
— Интересная новость, мосье Серж. Я не хотел говорить по телефону, ибо не получил бы удовольствия видеть выражение вашего лица. Вам нравится это вино? — почмокал губами, с удовольствием отметив, как насторожился Дубровский. — Неплохое вино, хотя сравнительно дешевое. Я давно не пил его и поэтому назначил свидание именно в этом бистро. У хозяина всегда есть несколько бочек для настоящих ценителей, кто его знает, где он достает его… Упадок мелких хозяйств приведет к тому, что вино из Бургундии не отличишь от бурды… — неожиданно Бонне засмеялся довольно. — Проявляете выдержку? Но если вы узнаете, что Ангела…
— Арестовали?
— К сожалению, нет, — сокрушенно покачал головой Бонне. — Только видели, но снова упустили.
— Где?
— Вчера в Вене. Дубровский нахмурился.
— Он или нечистая сила, или просто везет мерзавцу!
— И то и другое… — подмигнул Бонне. — Как они нас обвели в «Рыжем петухе»?
— Что в Вене?
— Завтра утром я вылетаю туда, — объяснил комиссар. — Ангела видели возле станции проката машин. Полицейский узнал его, но не успел задержать: тот уже сидел в такси…
— Думаете, там и полковник?
— Его зовут Кларенс Грейт.
— Так быстро узнали…
— Вы недооцениваете возможности Интерпола и современные средства связи. Полковник Кларенс Грейт служил в американских оккупационных войсках в Западной Германии, а в начале года вышел в отставку.
— Прекрасная компания, — скривился Дубровский. — Наверно, этот Грейт бомбил немецкие города, а Ангел укоротил век не одному американцу. Сейчас же они нашли общий язык.
— Людям свойственно забывать прошлое.
— Иногда я удивляюсь вам, Люсьен. Неужели не понимаете, какое горе принес нам всем фашизм? Сколько лет были гитлеровцы во Франции?
— Я полицейский, и для меня превыше всего закон. Но не думайте, что мы спим спокойно, если фашистские генералы гуляют на свободе! Война оставила след в душе каждого из нашего поколения. Этот американский полковник — типичный подонок, Серж, ибо перелезть с одной стороны баррикады на другую может только подонок.
— Они дельцы, и война только временно развела их. Думаю, что этот, как вы сказали, Грейт легко исповедовал бы национал–социализм, если бы это было ему выгодно.
— Люди гибнут за металл… — усмехнулся Бонне. — Но думаю, Ангелу и Грейту недолго осталось гулять. Они разозлили меня… Я был в маки, Серж, и мы воевали с бошами. Я не коммунист, и ваш аскетизм не может служить мне идеалом, но мы смело дрались с фашистами. Ну, я не сбрасываю со счетов и обыкновенную ненависть к оккупантам, подсознательный процесс — этим были заражены почти все французы. Но в маки шли самые смелые или, если хотите, самые идейные — среди нас больше всех было коммунистов, и я успел подружиться со многими, хотя, повторяю, не разделяю их взглядов.
— Вы говорите это так, словно извиняетесь.
— Но вы ведь коммунист, и мне не хочется обидеть вас.
— Мне приходится встречаться с такими закоренелыми реакционерами, что я воспринимаю вас как левого.
— А–а… — махнул рукой Бонне. — Наверно, так оно и есть. Но держите это в секрете, чтобы не проведало мое начальство.
— Когда вы были в маки, вы не думали об этом.
— Тогда все казалось проще… Здесь я, а там боши. А теперь, когда я встречаюсь с группой западногерманских туристов, точно знаю, что один из лих или два бывшие нацисты, но они все одинаково улыбаются, и попробуй узнать, кто из них о чем думает…
— Единственный выход: создать в ФРГ такие условия, чтобы никто из бывших гитлеровцев не мог поднять головы.
— Это уже из сферы высокой политики.
— Вы сами противоречите себе.
— Возможно, — согласился Бонне. — Но знаете, мне будет гораздо легче, если я поймаю Ангела. Думаю, его будут судить не как уголовного преступника.
— Если не передадут властям ФРГ…
— Он продавал французских девушек и будет доставлен во Францию.
— Итак, вы завтра вылетаете? — перевел разговор Дубровский.
Бонне хитро прищурился.
— Я знаю, что вы сейчас скажете,
— Не нужно быть ясновидящим.
— С удовольствием встречусь с вами в Вене. Я был уверен, что вы догоните меня, поэтому и позвонил.
Дубровский грустно посмотрел на часы.
— К сожалению, сам я не могу решить таких вопросов. Должен обратиться в посольство. Наше агентство, кажется, сейчас не имеет корреспондента в Австрии, а если и имеет, все равно, долго уговаривать мне никого не придется. Ангел стоит того, чтобы поохотиться за ним, подобный материал нечасто попадает в прессу, не так ли?
— Сенсация номер один! Я вам говорил уже когда–то, что ваше журналистское реноме…
— Пострадает, если вы не поймаете Ангела.
— У меня чешутся руки, а это — хорошая примета. Если хотите, могу довезти вас до посольства.
***
«Каравеллу» подтянули почти вплотную к зданию венского аэровокзала — гигантскому сооружению из бетона и стекла.
Бонне быстро сбежал по трапу и остановился, оглядываясь вокруг. К нему подошел человек в гражданском и спросил:
— Если не ошибаюсь, комиссар Бонне? — Бонне протянул руку. — Нам сообщили, что вы прилетаете этим рейсом. Инспектор Петер Кноль. Вам предстоит работать со мной.
Инспектор Кноль понравился Бонне. Высокий, на голову выше его самого, наверняка сильный и немного простодушный, поскольку у людей хитрых и скрытных редко бывает такой вздернутый нос и мягкая линия подбородка. Спросил:
— Вы заказали гостиницу? Я хотел бы отвезти вещи и сразу же заняться делом.
— Машина ждет нас. Вы будете жить в «Амбассадоре». В центре, но улица тихая, к тому же окна выходят во двор.
Глядя, как на автокарах везут горы чемоданов, Бонне спросил:
— В Австрии сейчас много туристов?
— Сезон в разгаре…
Бонне вздохнул: Ангелу и Грейту легче затеряться в пестрой разноликой толпе. Конечно, если они еще в Австрии и Вена небыла для них перевалочным пунктом…
Получили чемодан, и носильщик провел их через служебный ход к полицейскому «мерседесу». Кноль сел за руль. Ехали молча, только иногда инспектор называл улицы, объясняя, мимо какого монумента или архитектурного памятника проезжали.
— Как вы узнали, что Ангел пользовался прокатной машиной? — спросил инспектора Бонне.
— Он взял такси напротив конторы по прокату автомашин. Полицейский, увидев, что не сможет задержать Ангела, зашел в контору и расспросил хозяина.
— Плохо, — сказал Бонне сокрушенно. — Он мог…
— Спугнуть хозяина?.. — понял его Кноль. — К счастью, полицейский оказался сообразительным. Он сказал, что расследует мелкое дорожное происшествие, поинтересовался только что возвращенными машинами и узнал, что розовощекий клиент сдал «крейслер», который брал за два дня до этого.
— Надеюсь, за этой конторой установлено наблюдение?
— Сразу же. Мы не входили больше в контакт с хозяином, ожидая вас.
Бонне незаметно скосил глаза на инспектора: Кноль все больше нравился ему. Попросил:
— Вот что, инспектор, необходимо проанализировать объявления в прессе. Предложения для работы девушкам. Эти типы объявляют, что нужны девушки для работы продавщицами, официантками, манекенщицами Стандартные требования: симпатичная внешность, не старше двадцати–двадцати четырех лет…
— Газеты не только венские?
— Конечно. Как правило, такие бандиты предпочитают вершить свои делишки в провинции.
— Там более наивные девушки?
— И меньше шансов встретиться с полицией…
— В этом есть смысл, — согласился Кноль. — Завтра получите информацию.
— Пусть будет завтра… — сказал комиссар. — А сегодня мы устроимся в отеле и после аудиенции у вашего начальства начнем работу.
— Мой шеф примет вас в половине первого… — Кноль затормозил возле подъезда.
Зеркальные двери, респектабельный швейцар — все свидетельствовало о фешенебельности «Амбассадора».
Ровно в половине первого Бонне встретился с шефом Кноля, молчаливым пожилым полицейским чиновником. Беседа носила сугубо формальный характер, однако Бонне остался доволен: шеф дал им с Кнолем полную свободу действий.
Выйдя из кабинета, Бонне предложил инспектору сразу же поехать в прокатную контору. Она располагалась на тенистой улице, застроенной старыми трех–и четырехэтажными зданиями. Улица эта ответвлялась от магистрали, переходящей за городом в шоссе с односторонним движением.
Кноль приткнул «мерседес» почти вплотную к рекламному щиту, который предлагал пользоваться услугами конторы господина Шрюбберса. Бонне открыл дверцу. Подняв глаза, увидел на панели в двух шагах от «мерседеса» полицейского. Удивился: когда они подъезжали, его не было.
Кноль объяснил:
— Я предупредил сержанта Урбана. Может, вы хотите расспросить его?
Комиссар поблагодарил кивком — честное слово, это не инспектор, а целый клад. Спросил у полицейского:
— Где вы видели этого типа?
Урбан показал на место метрах в тридцати от перекрестка.
— Я стоял там… Он вышел от Шрюбберса и сразу же остановил такси. Проехал мимо меня, и я узнал его… — Урбан вынул из кармана фотографию, показал Бонне. Комиссар с удовольствием взял открытку, вспомнив, как фотографировал Ангела на пыльной дороге под Танжером: всегда приятно увидеть дело рук своих. Кивнул сержанту, чтобы тот продолжал. — Но, к сожалению, такси вклинилось в поток машин, и я не смог догнать его. Сразу же позвонил в комиссариат, чтобы задержали такси…
— Его задержали через час, — добавил Кноль, — но Ангела уже не было. Таксист рассказал, что пассажира, остановившего его возле конторы Шрюбберса, он высадил где–то у оперного театра и не обратил внимания, куда тот пошел…
Бонне вернул сержанту фото.
— Вряд ли снова встретите его. Ангел человек осторожный и не ходит дважды по одному и тому же адресу. А сейчас, — Бонне круто повернулся, — в контору. Надеюсь, господин Шрюбберс там?
— Он предпочитает сам вести дела с клиентами, — пояснил сержант.
— Это вы хорошо придумали: дорожное происшествие… — похвалил Бонне. — Итак, версия остается той же, господа, мы расследуем дорожное происшествие. И я никакой не комиссар, а эксперт… Это оправдает мой акцент…
Хозяин конторы господин Шрюбберс был похож не на солидного коммерсанта, а на гаражного слесаря. Сидел не в конторе, а болтался по гаражу в довольно–таки замасленном комбинезоне. Везде совал свой нос, ругался с механиками в, кажется, знал болезни каждой из полусотни своих машин. Был хитер, ибо из разговора с сержантом кое–что понял и заявил:
— Я сам осмотрел тот «крейслер», господа, и, клянусь честью, он не был в аварии. Даже царапинки на нем нет. Вы можете сами убедиться в этом… — Шрюбберс шмыгнул в узкий проход между машинами и позвал туда полицейских. — Вот этот «крейслер», пожалуйста, можете даже обнюхать его, ничего не найдете.
Бонне обошел вокруг красивого двухцветного — спелая вишня и слоновая кость — лимузина. Спросил:
— Вы помните клиента, который последним ездил на этом драндулете?
— У меня нет драндулетов, — обиделся Шрюбберс. — Этот «крейслер» стоит…
— Извините, это действительно прекрасная машина.
— То–то же, — блеснул глазами хозяин, — и поэтому ее берут люди, у которых есть здесь кое–что… — показал пальцем на карман пиджака. — Да я и сам не дам ее какому–нибудь прощелыге. После разговора с сержантом я заглянул в свою книгу, господа, хотя, собственно, мог бы этого и не делать… — Сдвинул на затылок берет. — Здесь еще кое–что есть, и память не подводит… Этим «крейслером» пользовался господин Вейзенфельс. Иоахим Вейзенфельс, испанский подданный, турист, решивший полюбоваться нашими Альпами. Прекрасный отдых, господа, могу порекомендовать хороший пансионат в Штирии. Чистый воздух, вкусная еда и прочие красоты…
Бонне метнул на Шрюбберса такой взгляд, что поток его красноречия мгновенно иссяк.
— Сколько километров намотал этот Вейзенфельс?
— Восемьсот восемнадцать.
— Не так уж и много… — пробормотал Бонне под нос и потянул на себя дверцу «крейслера». — Машину мыли? — повернулся он к Шрюбберсу, хотя и без того было ясно, что над «крейслером» поработала не одна пара рук.
— У меня пока что гараж, а не сарай! — буркнул хозяин. — Попробовали бы поставить на место грязный аппарат…
Комиссар залез в «крейслер». Сел, вдыхая специфический запах машины. Действительно, Шрюбберс любит порядок и, видно, заставляет своих работников чуть ли не вылизывать автомобили. И все же на всякий случай попросил Кноля:
— Проверьте, нет ли отпечатков пальцев…
Тот завозился возле окон, проверил руль. Бойне ощупал сиденья, заглянул под них.
— Чистите машину пылесосом? — спросил Шрюбберса. — Так и знал… Откройте, пожалуйста, багажник.
Запасное колесо, комплект инструментов… Больше в багажнике ничего и не должно было быть. Комиссар зачем–то вынул заводную рукоятку, насос.
— Шина не спускала? — повернулся вдруг к Шрюбберсу.
Тот пожал плечами и позвал слесаря. Выяснилось, что запасным колесом действительно воспользовались.
Бонне отвинтил гайку, державшую запаску, поднял колесо. Пусто, только в щели кусочек грязной газеты. Комиссар потянулся за ним и вынул. Спросил у слесаря:
— Помните клиента, сдававшего вам эту машину?
Тот кивнул не задумываясь. Не мог забыть: клиенты, берущие напрокат машины такого класса, как правило, дают не меньше пятидесяти шиллингов чаевых, а этот вынул только десятку из набитого деньгами бумажника.
— Не могли бы вы вспомнить, что говорил вам этот клиент?
Слесарь отвел глаза.
— Вы из полиции?
— Да.
— Этот клиент сразу показался мне подозрительным, — растянул губы слесарь в угодливой улыбке. — Вот такой бумажник, — показал руками, преувеличив вдвое, — и глаза бегают. Наверняка аферист…
— Костюм хороший?
— Темно–зеленый в мелкую клетку. Только что от портного…
— У вас отличная память, — подбодрил Бонне. — Могу поспорить, что вы не забыли даже цвет его шляпы.
— Темно–серая, — оживился слесарь. — И если господину интересно, он носит оригинальный галстук. Знаете, такой узенький, плетеный, они в моде сейчас.
— Так о чем вы с ним говорили? — напомнил Бонне.
Слесарь придвинулся к комиссару, прошептал доверительно:
— Я сразу раскусил его. Точно, гангстер… Все после возвращения рассказывают о поездке, не скрывая, куда ездили, а этот как воды в рот набрал.
— Так все время и молчал? — не поверил Бонне.
— Почему же, — возразил слесарь, — хвалил наши дороги.
— Однако наткнулся на гвоздь!
— Я тоже засомневался — на автобане шину не проколешь… Спросил… Оказывается, они останавливались в каком–то мотеле, а там рядом строительство, ну и напоролись на что–то острое.
— В каком мотеле? — насторожился Бонне.
— Погодите… — слесарь потер лоб, оставив на нем грязные пятна. — Что–то он говорил, но не помню…
— Подумайте. Это очень важно!
Слесарь еще раз потер лоб.
— Он говорил, что было мокро и он выпачкался, потому что самому пришлось менять колесо… Стойте, кажется, мотель «Черный дрозд»… Конечно, как я мог забыть? Тогда еще подумал: разве дрозды бывают белые?
— Еще бы, это все равно, что красный воробей, — поддержал слесаря Бонне. — Следовательно, он там останавливался?
— Не знаю. Больше ничего он не сказал, отправился к хозяину расплачиваться…
— И на том спасибо, — произнес комиссар небрежно, будто слесарь ничего не раскрыл ему. Но сразу же подсластил пилюлю: — Интересно было поговорить с вами… Сигарету? — вынул из кармана пачку.
— О–о, французские! — Слесарь вытер руки ветошью, осторожно взял сигарету, положил за ухо. — Здесь курить нельзя, я потом…
Бонне подмигнул, и слесарь совсем растаял: свой человек, хоть и полицейский! Комиссар спросил у Кноля:
— Вы слыхали о мотеле «Мерный дрозд»?
— Какой же это мотель?.. — усмехнулся инспектор. — Придорожный ресторанчик.
— Где?
— На магистрали Вена–Зальцбург. Вернее, немного в стороне. Там проходит дорога к озеру — прекрасный пляж, привлекающий туристов, — вот и возник этот «Дрозд». Ресторанчик и несколько комнат для отдыха.
Комиссар протянул Кнолю грязный кусок газеты.
— Напечатано на днях, — показал он дату. — Не могли бы вы определить, что это за газета?
Кноль внимательно осмотрел газетный клочок, зачем–то даже посмотрел сквозь него на свет.
— Кажется, «Зальцбургер нахритен», но категорически утверждать не могу.
— Дайте на экспертизу, — попросил комиссар. — И вот что: возьмите напрокат этот «крейслер». Он понадобится нам на несколько дней.
***
Двухэтажный кирпичный домик, крытый красной черепицей, вырисовывался ярким пятном на фоне зеленого склона. Дорога делала здесь крутой поворот и спускалась к небольшому селению, за которым раскинулось на километр–полтора прозрачное озеро.
Черный дрозд, нарисованный на вывеске дома, пел свою бесконечную песню, не обращая внимания ни на машины, выбрасывающие смрадный перегар, ни на транзисторную истерику, ни на удивленные восклицания туристов, которые, глядя на село и озеро, громко сетовали на современную цивилизацию, оторвавшую их от такой природы.
Кноль остановил «крейслер» так, чтобы машину было видно из дома. Они с Бонне покурили минут пять, но никто из «Черного дрозда» не вышел к ним, хотя посетителей там, по всей видимости, было мало — перед отелем стояли только два одинаковых «фольксвагена» да потрепанная микролитражка то ли итальянского, то ли французского происхождения.
— Ну что ж… — проворчал наконец Бонне. — Двинулись!
Он медленно вышел из машины, постоял немного, потягиваясь и делая вид, что изучает окрестный пейзаж, пропустил вперед Кноля и остановился на пороге «Черного дрозда».
Небольшой полутемный и прохладный зал был пуст. Кноль присел у стойки, за которой стояла барменша, и заказал кружку пива. Жажда не мучила Бонне, и он попросил виски со льдом. Устроился немного в стороне, чтобы видеть дворик перед домом и не выпускать из виду барменшу.
Инспектор выпил свою кружку пива и попросил налить вторую. Это понравилось женщине. Бонне заметил на ее бледном лице что–то похожее на улыбку. Кноль счел возможным начать разговор.
— Вы из Мюнхена? — Кноль мог бы и не спрашивать — барменшу выдавал баварский акцент. Женщина не ответила, глянув подозрительно. И тогда Кноль, слегка вздохнув, бросил пробный камень: — Если бы нас не разделяли границы…
— Австрийцы сами виноваты в этом! — оживилась барменша. — Нас ждало большое будущее, и вы получили бы свой кусок пирога, если бы… — безнадежно махнула рукой.
— Нельзя стричь всех под одну гребенку!..
— Все сейчас стали умными! — отрезала барменша.
Инспектор отхлебнул пива.
— «Черный дрозд» принадлежит вам? — спросил после паузы.
— Угу, — кивнула головой барменша.
— А это кто? — показал на портрет дородного мужчины над верхним рядом бутылок.
— Муж.
— Жив?
— Если бы мой муж был жив, я не сидела бы здесь…
— СС? — заинтересованно блеснул глазами Кноль. — Какое вам дело? — грубо оборвала его женщина. — Пейте свое пиво и не суйте нос в чужие дела.
— Но ведь я мог служить вместе с ним…
— Под его началом были тысячи и тысячи, — немного смягчилась женщина. — Группенфюрер!
— О–о! — даже свистнул Кноль. — Налейте еще.
— Это ваш «крейслер»? — спросила хозяйка, ставя кружку.
— Неплохая машина… — неопределенно ответил Кноль. — Вы уже видели ее?
— У нас часто останавливаются венцы, — уклонилась от прямого ответа хозяйка.
— Есть свободные комнаты?
— Вам две?
— Да.
— К сожалению, осталась только одна, но большая — окнами на озеро.
— Сколько всего у вас комнат?
— Девять номеров — три двухкомнатных.
— Много туристов? Есть иностранные? Хозяйка глянула на Кноля подозрительно, но инспектор смотрел добродушно.
— Иностранные туристы предпочитают знаменитые курорты, — произнесла с огорчением, но сразу же взяла себя в руки и добавила равнодушно: — Машину можете поставить во дворе под навесом. Хорошая у вас машина… Венский номер… — Пошевелила губами, будто считала, и вдруг запнулась. Села, посмотрела исподлобья на Кноля, глянула искоса на Бонне. Повторила вопрос: — Машина ваша?
— Рылом не вышел! — пошутил инспектор. — Взял напрокат…
— А–а, — с облегчением вздохнула хозяйка, но смотрела настороженно.
Бонне понял, что она хорошо помнит двухцветный «крейслер» и узнала номер. Но через несколько минут комиссар пришел к выводу, что ошибся: хозяйка разговаривала с Кнолем приветливо, секундное волнение, охватившее ее, когда увидела номер «крейслера», еще ничего не означало. Однако ее спокойствие могло быть ловкой маскировкой: если хозяйка заподозрила их и знает, где Грейт и Ангел, она может предупредить Ангела, и тогда уловкам Бонне грош цена.
А если все же попробовать?
Бонне пересел ближе к барменше и заговорил:
— Нам назначил встречу в «Черном дрозде» один из моих друзей. Несколько дней назад он приезжал сюда на этом же «крейслере». Посмотрите еще раз на машину — таких немного, ошибиться трудно.
— Как зовут вашего друга? — спросила хозяйка, посмотрев на Бонне проницательно.
Комиссар произнес уклончиво:
— Иногда мы вынуждены менять имена… Он должен ждать меня здесь. Точнее, он с приятелем, американцем. Такой верзила. А мой друг, наоборот, среднего роста, с розовыми щеками…
Хозяйка отозвалась равнодушно:
— Я не видела таких. Может, они остановились в селе.
— И эта машина вам незнакома? — кивнул Бонне на «крейслер».
— Сейчас развелось столько марок… — вздохнула хозяйка. — Но такую вижу впервые.
Бонне вспомнил, как она запнулась, когда увидела номер «крейслера», и понял, что соврала.
— Ну что ж, — сокрушенно покачал головой, — возможно, они задержались. Подождем день–два… Можно взглянуть на комнату?
— Конечно… — поднялась хозяйка.
Она первой направилась к выходу и, не оглядываясь, вышла в коридор, заканчивающийся лестницей.
Бонне двинулся за ней, но внезапно остановился, незаметно подмигнул инспектору и сказал громко:
— Я догоню вас. Забыл в машине… — не досказав, что именно забыл, выскользнул в зал, поспешно прошел к дверям и преградил путь молоденькой красивой девушке. Та с любопытством посмотрела на Бонне, но сразу же опустила глаза и стала перебирать край фартука.
— Боже мой! — воскликнул Бонне с деланным пафосом. — Если бы я раньше знал, что в «Черном дрозде» такие горничные, никогда не проезжал бы мимо! Как тебя зовут?
Та блеснула глазами.
— Розмари.
Бонне вздохнул.
— И имя и красота!.. Жаль, что такой бутончик может увять в этой дыре.
— Летом здесь много туристов, — возразила девушка, — и бывает весело…
— У тебя сегодня свободный вечер? — Взгляды, которые девушка бросала на него, подсказали комиссару, что вряд ли стоит церемониться с ней.
Горничная заколебалась. Обернулась на «крейслер», снова посмотрела на Бонне.
Комиссар торжествовал: все время он ждал, не заинтересуется ли кто–нибудь машиной. Перед тем как зайти в бар, девушка обошла клумбу и заглянула в «крейслер».
— Вечером я занята, — ответила Розмари. — Сегодня утром ко мне приехали родственники…
— Случайно не в этом «крейслере»?
— Откуда вы знаете?
Бонне не дал ей опомниться:
— Господин Иоахим Вейзенфельс с другом? Какие же они ваши родственники?!
Девушка растерялась.
— Дело в том, что в этом «крейслере» приехали мы! — продолжал Бонне.
— С Эдгаром?
«Эдгар?.. Наверно, так сейчас зовут полковника…» — подумал комиссар и на всякий случай спросил:
— Ты уже соскучилась по нему?..
Девушка игриво опустила глаза.
— С ним весело…
— Эдгар всегда был настоящим мужчиной! — сказал Бонне грубовато. — Поедешь с нами к нему?
— В Якобсдорф? — вырвалось у девушки, но она сразу сникла, глянула недоверчиво и даже испуганно. Но Бонне смотрел открыто и доброжелательно. Это успокоило ее. — Не говорите только фрау Вессель… Она съест меня!
— Ты предупредишь фрау Вессель, что дома гости, и будешь ждать нас за поворотом. Пожалуй, не нужно, чтобы она все знала.
— Сегодня мало посетителей, и фрау Вессель управится в баре сама. Я пойду и договорюсь с ней.
Но Бонне не мог отпустить от себя девушку ни на секунду.
— Подожди! Они сейчас спустятся… — Пропустил горничную в зал. — Помни. Ты выйдешь первой и будешь ждать нас…
Девушка кивнула и заторопилась убрать столики. Бонне взял газету и сел у стойки. Хлопнула дверь, и Кноль сказал громко:
— Хорошая комната, и у меня нет возражении…
Бонне отложил газету.
— Вы же знаете мои вкусы. Если вам нравится, то мне и подавно. — Следя краем глаза за горничной, которая несла пустые кружки, добавил: — Жара… Вот бы искупаться в озере…
Поставив кружки, горничная перегнулась через стойку к хозяйке. Сказала просительно:
— У меня к вам, фрау…
— Ну? — перебила ее фрау Вессель. — Что еще нужно твоему отцу…
— О–о нет, фрау! — соврала беззастенчиво. — Маме что–то плохо, и я должна посидеть с ней… Сердце! И фельдшер сказал, что…
— Не одно, так другое. Лишь бы отлынивать.
— Не ведь посетителей в баре совсем мало, и я думаю…
— Она думает! Работала бы лучше. Только ради твоей матери…
— Спасибо, фрау Вессель, — обрадовалась девушка. — Когда ей станет легче, я прибегу. — Сбросила фартук, повесила в шкаф. — Мама будет благодарна вам.
Девушка чуть заметно глянула на Бонне и выскользнула из зала. Комиссар посидел еще несколько минут. Потянулся и переспросил инспектора:
— Так как вам мое предложение?
— Выкупаться? С удовольствием.
— Вот и хорошо… — Бонне обернулся к фрау Вессель. — Если нас будут искать…
— Они подождут здесь.
— Хорошо. Когда у вас обед?
— С четырех до пяти.
— Мы не задержимся, — пообещал комиссар.
Розмари ждала их за поворотом. Бонне успел предупредить Кноля, и тот затормозил, увидев девушку. К сожалению, он не знал, как проехать в Якобсдорф, и начал дипломатично:
— Эти сельские дороги настолько однообразны, что я никак не могу сориентироваться.
— Розмари знает здесь каждую тропинку, — подбодрил его Бонне, — и с ее помощью…
Асфальтированная лента поворачивала к озеру. Прямо шла дорога, покрытая щебенкой.
— Нам туда? — показал на проселок инспектор.
— Да… — Девушка пожала плечами. — Но как вы добрались сюда из Якобсдорфа?
— В объезд… — туманно объяснил Кноль.
— Это же далеко, а напрямик всего тридцать километров, — заметила Розмари.
— А какая дорога! — буркнул Кноль.
Они миновали село, и Бонне положил руку на плечо инспектора, предлагая остановиться. Повернулся к Розмари.
— Хватит шутить! — сказал строго. — Мы из полиции!
Девушка схватилась за ручку дверцы.
— Что вам надо от меня?
— Сейчас ты покажешь нам дом, где живут Вейзенфелье и Эдгар, — решительно произнес Бонне.
Девушка задумалась.
— Я скажу вам адрес, а вы отпустите меня.
Бонне чуть не рассмеялся: хитрость, граничащая с наивностью. Взял девушку за локоть.
— Ты не выйдешь из машины, пока мы не разрешим.
— Хорошо, — согласилась девушка. — Якобсдорф, Зеештрассе, семнадцать. Дом Клюпфслев… Но что сделал Эдгар?
— Ничего особенного, — объяснил Бонне. — Дорожное происшествие.
— А–а… — с облегчением вздохнула девушка. — Штраф?
Комиссар подмигнул Кнолю.
— Наверно, штраф, — закончил Бонне. — Вызывайте!
Инспектор взял микрофон, включил рацию, вмонтированную под сиденьем.
— «Форд» — четырнадцать… «Форд» — четырнадцать… Слышите меня? Ждем вас около Якобсдорфа. Маршрут, — склонился над картой, — через Гейденольдендорф… Понятно?
***
Знакомые журналисты устроили Дубровскому встречу с Фридрихом Гартенфельдом на второй день после приезда Сергея в Вену. Дубровского интересовал этот человек, так много сделавший для розыска бывших военных преступников. Картотека, которую Гартенфельд собрал фактически собственными усилиями, считалась одной из самых полных в Западной Европе. За несколько минут Гартенфельд мог найти данные о прошлой и нынешней деятельности как высокопоставленных лиц «третьего рейха», так и различных карателей, палачей, агентов и провокаторов.
Гартенфельд оказался худощавым и подвижным человеком с большими, темными, выпуклыми глазами, смотрящими живо и проницательно. Он сразу приступил к делу:
— Итак, вас интересует Ангел… Франц Ангел, гауптштурмфюрер СС, комендант лагеря смерти…
— Да, он был комендантом.
Гартенфельд не мог не заметить нарочито спокойного тона Дубровского:
— Вы были в этом лагере? Так я и знал. — Гартенфельд вынул из ящика конверт, помахал им в воздухе. — Это дело Ангела… Меня предупредили, что вы интересуетесь этой личностью, и я немного подготовился. Однако сразу должен вас немного разочаровать: как ни странно, но Ангелу удалось ловко замести следы, ведь о его гибели свидетельствуют факты на первый взгляд неопровержимые. В официальной прессе Германии опубликовано сообщение о смерти гауптштурмфюрера СС Франца Ангела во время бомбежки польского городка советскими летчиками. Действительно, в то время в городке дислоцировалась большая танковая часть, по которой и был нанесен удар вашими соотечественниками.
— Я помню то утро, — подтвердил Сергей. — Городок бомбили почти час. Многие заключенные молили бога, чтобы зацепило и нас: смерти никто не боялся, но во время бомбежки можно было и бежать…
— Бомба разорвалась в нескольких метрах от машины коменданта лагеря, когда он возвращался из городка. Вот, пожалуйста, даже документальное подтверждение этого факта. — Гартенфельд положил перед Дубровским вырезку из газеты. — Фотография сделана сразу же после налета. Перевернутая машина, виден номер, смотрите, воронка и даже труп. Изуродованный, конечно, взрыв бомбы — это не детская забава. Собственно говоря, нет повода для сомнений, ваши войска только вошли в Польшу, и эсэсовцы еще не заметали следов. Факт смерти Ангела ни у кого не вызвал подозрения. Гауптштурмфюрера, так сказать, списали. Имя его упоминалось на Нюрнбергском процессе, но что поделаешь — с мертвого ничего не возьмешь. Судили заместителя Ангела, и вы знаете, его казнили. Все это было настолько правдоподобно, что мне и в голову не приходило покопаться в этой истории. Правда, был один факт… Изучая архивные материалы, связанные с изготовлением фальшивых фунтов стерлингов, я натолкнулся на сведения о том, что связь между Штайнбауэром — вы, конечно, слышали это имя? — и его итальянскими агентами по сбыту фальшивых фунтов осуществлял человек, очень похожий на Франца Ангела. Но я не придал этому значения: наверно, у каждого человека есть двойник… Кроме того, к сожалению, гауптштурмфюрер был исключительно предусмотрительным человеком, — даже у меня нет ни одной его фотографии.
Дубровский вынул из бумажника снимок, положил перед Гартенфельдом.
— Ликвидируем это белое пятно. Снимок сделан три недели назад в Танжере.
Гартенфельд схватил фотографию так, как ребенок хватает новую игрушку.
— Неужели три недели назад? Вы уверены, что это Ангел? Где гарантия?
— Гарантия — это я… — позволил себе шутку Сергей. — Я видел гауптштурмфюрера СС Франца Ангела в лагере так близко, как вижу сейчас вас, а три недели назад мы выследили его в Танжере… Если же добавить еще этот документ, — показал Гартенфельду фотокопию письма Генриетты, — то доказательств будет достаточно…
— Ого! — только и сказал Гартенфельд, ознакомившись с письмом. — Но чем я могу быть вам полезен? Вы знаете больше меня.
— Сейчас Франц Ангел в Австрии.
— Не может быть!
— По его следам идет Интерпол.
Дубровский кратко рассказал, как они напали на след Ангела и Грейта и как ловко выскользнули преступники.
— Пока мы здесь беседуем, — произнес Гартенфельд, — ваш комиссар мог уже арестовать Ангела. Но мы не позволим судить его как уголовного преступника. Мы поднимем на ноги всю левую печать мира — Ангел заслуживает виселицы, и мы должны будем добиться, чтобы его повесили!
— Они могут снова обвести полицию вокруг пальца, — возразил Дубровский.
— Могут… — сказал Гартенфельд взволнованно, подергал себя за кончик носа и спросил у Сергея: — Вы уверены, что они охотятся за австрийскими девушками?.. Вряд ли… В Австрии это делать значительно сложнее, чем там, во Франции или Италии. У нас женщины больше заняты в производстве, да и вообще образ жизни, черты характера австриячек… Все это дополнительные трудности, а такие волки, как Ангел и Грейт, безусловно, взвешивают все и действуют там, где удобнее. Итак, последний раз вы видели их в Танжере, и бежали они от вас на французском судне… Так, так… От Марокко до Испании — один шаг, а оберштурмбаннфюрер СС Роберт Штайнбауэр, вероятно, бывший шеф Ангела, сейчас живет в Мадриде… Любопытное стечение обстоятельств, господин Дубровский. Как вы считаете?
***
Увидев строения Якобсдорфа, Кноль остановил «крейслер» на обочине под развесистой яблоней.
Бонне вышел из машины, несколько раз присел, разминаясь, сорвал зеленое яблоко, надкусил и бросил.
— Хелло, фрейлейн! — позвал он Розмари. — Не хотите ли подышать свежим воздухом?
Девушка не ответила. Забилась в угол и сидела насупившись.
Кноль показал комиссару на черную машину, перевалившую через холм за полем.
— Наш!..
Полицейский «форд» шел на большой скорости, подняв целую тучу пыли. Затормозил рядом с «крейслером», и четверо полицейских в гражданском выскочили из машины.
Бонне подошел к ним и кратко объяснил:
— Ангел и Грейт живут в Якобсдорфе, Зеештрассе, семнадцать. Пока мы ехали, фрейлейн, — он кивнул на Розмари, — рассказала, что это двухэтажный особняк с чугунной оградой. За ним усадьба, выходящая на другую улицу.
— Перекрыть отход с тыла, — понял сержант с «форда». — А вы будете брать их…
— Когда стемнеет, — уточнил Бонне.
…Дом Клюпфелей почти ничем не отличался от двух десятков других на этой улице: высокая красная черепичная крыша, узкие окна, перед домом цветник, несколько декоративных кустов. Дверь дома открыта, словно приветливо приглашает внутрь, рядом на скамейке сидит полный лысый человек, читает газету.
Бонне не рискнул сам подойти к дому, послал Кноля. Инспектор прошел мимо, ни на секунду не задерживаясь, и свернул на соседнюю улицу.
— У меня такое впечатление, — сказал Бонне, — что в доме никого нет. Окна на втором этаже открыты, на балконе спит доберман–пинчер. Тихо и спокойно…
— Подождем немного, — решил комиссар.
— Если они уехали совсем, мы напрасно теряем время. Если вернутся, мы встретим их с радостью.
— С радостью, говорите? — тихо засмеялся Бонне. — Как брат брата?..
Они подошли к киоску, выпили кока–колы и покурили. Стемнело. Кноль вышел на перекресток.
— Свет на первом этаже, — доложил, — остальные окна темные, может быть, на самом деле никого нет.
— Ну что ж, — вздохнул Бонне. — Идем…
Он подозвал сержанта, приказал ему держаться поблизости и в случае тревоги ворваться в особняк.
Пошли с Кнолем медленно, громко разговаривая, как будто два солидных бюргера возвращаются домой. У калитки дома номер семнадцать задержались, Кноль хотел было уже нажать кнопку звонка, но Бонне опередил его — толкнул калитку, и она открылась бесшумно: хозяин был аккуратный и регулярно смазывал петли.
На крыльце Бонне оглянулся. Увидев сержанта с полицейским на той стороне улицы, позвонил, поскольку дверь в дом уже была заперта.
— Кто там? — послышалось за дверью. — Иду, иду…
Клюпфель открыл, не переспрашивая. Не испугался, смотрел поверх очков вопросительно.
— Что нужно господам?
— Полиция!
— Пожалуйста… — засуетился, пропуская в дом полицейских. — Чем могу служить?
Бонне быстро прошел мимо.
— Включите свет! — приказал. Увидел лестницу на второй этаж, начал быстро подниматься.
— Там никого нет! — крикнул ему вдогонку хозяин. — Остерегайтесь собаки!
Действительно, за дверью хрипло залаял пес.
— Уберите!.. — Бонне пропустил вперед Клюпфеля. Тот пролез в дверь, поймал добермана за ошейник. В комнатах никого не было.
— Где Вейзенфельс и Эдгар? — спросил Бонне хозяина.
Тот улыбнулся понимающе:
— Жена повезла их на станцию. Они жили у нас, а сейчас едут в Зальцбург.
Бонне спросил:
— Есть у вас телефон? Какой номер вашей машины?
— В гостиной, — показал на первый этаж хозяин. — «Фольксваген», восемнадцать–триста сорок один…
— Сообщите городской полиции, Кноль! — крикнул комиссар. — Вы слышали?
— Конечно. Здесь никого нет.
Бонне обошел комнаты, заглянул в шкафы. Следов поспешных сборов не было, хотя… Бонне измерил взглядом Клюпфеля и достал из шкафа костюм. Хороший костюм из светлой ткани, однако брюки достали бы Клюпфелю до шеи.
— Чей?
— О–о! — удивился Клюпфель. — Герр Себолд забыл свои вещи…
Комиссар заглянул в ванну.
— Это тоже герра Себолда? — Он вытащил из–под полотенца дорожный несессер.
— Это мой, — запротестовал Клюпфель.
— «Сделано в Испании», — прочитал Бонне.
— Ну и что же? — притворился, что не понял, хозяин.
— Конечно, — согласился комиссар, — в Австрии много импортных товаров. Но не думаю, что сюда импортируют зубную пасту. — Открыл тюбик, выжал немного, понюхал. — Свежая…
— Сейчас несессеры так похожи один на другой, — стал оправдываться Клюпфель, — я мог и спутать…
— Когда уехали ваши жильцы?
— Около шести.
«Мы оставили «Черный дрозд» в пять часов четырнадцать минут», — подумал Бонне и спросил хозяина:
— А когда идет поезд в Зальцбург?
— Ушел четверть часа назад.
«Не врет, — понял комиссар, — все это легко проверить».
— Сейчас двадцать одна минута десятого… До станции двадцать минут езды. Что же они делали там почти три часа?
Клюпфель улыбнулся нагло:
— Я сам говорил им — не спешите… Но жена заупрямилась, что–то ей нужно было купить в магазине на станции. А знаете, как возражать женам…
Бонне не слушал его. Размышлял. Вряд ли здесь могло быть случайное стечение обстоятельств. Наверно, их предупредила фрау Вессель. Значит, они с Кнолем допустили ошибку. Когда и какую?
***
Фрау Вессель, машинально вытирая стойку, думала: позвонить в Якобсдорф сразу или дождаться Хетеля?
Вчера она сообщила Хетелю в письме, что два человека, прибывших из Испании, интересуются им, и получила ответ: герр Хетель посетит «Черный дрозд» завтра. Вначале она покажет Хетелю этих двоих новеньких из «крейслера», и пусть сам герр Вольфганг решает, как поступить. А пока она проследит за пассажирами «крейслера» — черт знает, может, это полицейские шпики, но почему второй говорит с акцентом? Может, Штайнбауэр на самом деле послал их вдогонку? Если это так, то они должны были бы знать пароль…
Фрау Вессель вздохнула и посмотрела на портрет мужа. Тот разобрался бы в этой ситуации сразу, у него был нюх, и он разоблачил не одного врага «третьего рейха». Бедный Клаус, принял цианистый калий, испугался петли. Дурак, уже вышел бы из тюрьмы. На Хетеля навешали столько обвинений, что никто не сомневался — присудят к смертной казни, а он уже третий год на воле, есть деньги, уважение людей.
Но почему они приехали на том же «крейслере», что и господин Вейзенфельс? Может, все же позвонить в Якобсдорф? Но, наверно, день ничего не решит. На этом фрау Вессель успокоилась. Увидев в дверях посетителя, улыбнулась.
— Пива! — крикнул тот еще с порога. — Жара, я выпью, кажется, бочку!
Этот Штригель, хотя и хороший механик, все же был болтуном, а таких людей хозяйка «Черного дрозда» никогда не уважала.
Выпив кружку, Штригель подвинул ее фрау Вессель, чтобы она налила еще, и сказал:
— На вашем месте я бы поговорил с Розмари. Она начинает путаться с кем угодно. Только что видел, как ее посадили в роскошную машину — двухцветный американский «крейслер»…
— Это мои жильцы, — объяснила фрау Вессель, — они поехали на озеро.
— На озеро, — налево, — возразил Штригель, — они же поехали в село.
— У Розмари заболела мать, и девушка могла попросить подвезти…
— Странно, — удивился Штригель, — вы, фрау Вессель, добрая душа, но я на вашем месте не доверял бы этой девчонке. Она обманула вас, ее мать здорова, я только что видел ее в магазине.
Хозяйка больше не слушала его. Налила пива, поставила перед Штригелем кружку, а сама подумала: «Напарнику Вейзенфельса понравилась Розмари, он даже приезжал за ней, и проклятая девчонка знает, где они живут. Дорога на Якобсдорф — через село, боже мой, неужели они уже на пути туда?»
Посмотрела на часы — двадцать минут шестого, — они отъехали пять минут назад. Немного успокоилась — еще есть время. Фрау Клюпфель — надежный человек, она устроит все как следует…
— Подождите, мне нужно срочно позвонить… — сказала фрау Вессель Штригелю.
…Бонне спустился на первый этаж: Клюпфель, закрыв собаку, пошел за ним. Зазвонил телефон, и Кноль взял трубку. Выслушав, он доложил:
— «Фольксвагена» под номером восемнадцать–триста сорок один на станции не было!
Бонне взглянул на Клюпфеля. Тот произнес с издевкой:
— А вы не допускаете, что жена высадила их в селе? Я ведь говорил, собиралась заглянуть в магазин… Могла передумать и не поехала на станцию. А они добрались автобусом.
Комиссар ничего не ответил. Стоял перед Клюпфелем, видел, как тот не может скрыть торжества, и думал, что розыск усложняется — теперь Ангел и Грейт знают: полиция напала на их след, и постараются сделать все возможное, чтобы замести его.
***
Хетель оставил машину на платной стоянке и отправился в ресторан «Райский уголок» пешком. Даже претенциозное название не спасало эту паршивую харчевню, и Хетель подумал, что с удовольствием подложил бы сюда, в этот мрачный зал, адскую машину, чтобы потикала немного и рванула ко всем чертям — и жуликоватого хозяина–макаронника из Рима, и грязные столики, и подозрительных посетителей. Так им и нужно, если не уважают свои желудки и довольствуются кухней сеньора Модзолетти!
Однако сам все же пришел сюда, хотя и знал, что будет есть и невкусный бульон, и твердые, как подметки, лангеты. Такие он не ел даже в тюрьме; там за деньги всегда можно было договориться о приличной пище.
Хетель вздохнул и подумал, что все–таки на воле лучше, и черт с ними, с лангетами Модзолетти, в конце концов, он ест их второй раз и, даст бог, последний.
Господин библиотекарь или, как он сам себя называл, хранитель рукописей зальцбургского архиепископа Георг Циммер еще не пришел, и Хетель занял его любимый столик — в углу, где зимой не дуло и была видна вся площадка перед рестораном.
Георг Циммер любил есть не спеша и разглядывать, что происходит на улице. Собственно говоря, во время обеда да вечером он только и общался с внешним миром. Всю свою сознательную жизнь господин Циммер проводил наедине с книгами и был вполне доволен своей судьбой. К женщинам оставался равнодушен и ни разу не улыбнулся даже самой красивой официантке «Райского уголка» Эмме, которая вот уже три года постоянно обслуживала его.
Георг Циммер больше всего в жизни ценил древний манускрипт, а среди его авторов не было женщин, и это определяло от начала и до конца его линию отношений с женским полом. Зарплаты ему вполне хватало на лучшую еду в «Райском уголке», а также на костюм — один на два года, да на разную мелочь. Квартира у него была служебная. — комната над подвалом, где хранились рукописи. Это удовлетворяло и администрацию, экономившую на зарплате сторожа, и его самого; если бы не посещение «Райского уголка», Георг Циммер неделями не выходил бы из замка.
Завоевать доверие Циммера было трудно. Можно было или подобрать к нему ключ, или совсем убрать — иного выхода ни Ангел, ни Грейт не видели, поскольку в одной из комнат нынешнего книгохранилища Штайнбауэр в свое время оборудовал тайник.
Идеальным было бы, конечно, войти в доверие к Циммеру, достать ключ и ночью, когда старик спит, раскрыть тайник и вывезти золото. Днем в подвал лезть безнадежно: у Циммера четыре или пять помощников, туда–сюда снуют любители старины, которым даже запах пергамента доставляет удовольствие.
Ангел и Грейт безвыездно сидели в Альт–Аусзее, маленьком местечке под Зальцбургом, где у Хетеля была частная школа. Жили в особняке Хетеля — никто не знал о них, кроме старой служительницы да Петера — эсэсовца, охранника и правой руки Хетеля, который служил когда–то под началом штурмбаннфюрера и чуть ли не молился на него.
Известие о том, что полиция напала на их след в Австрии, не на шутку расстроило Ангела. Особенно разозлился он, когда узнал, что детективы приезжали на двухцветном «крейслере», который они с Грейтом брали напрокат. И все из–за тщеславия полковника. Грейт, когда увидел «крейслер», чуть не умер — последняя модель, точно такая, о какой он Мечтал. Обошел вокруг машины, сел за руль и не захотел выходить. Ангел подсчитал, что за прокат «крейслера» придется платить вчетверо дороже, чем за «фиат» или «фольксваген», но Грейта словно что–то укусило. Заявил упрямо:
— Я доплачу свои, если вы уж такой скупой.
И вот получили… Слава богу, что хозяйка отеля своевременно раскусила этих субъектов.
Фрау Клюпфель отвезла их до Зальцбурга. Там пересели в такси, на котором добрались до села по соседству с Альт–Аусзее. Фрау Клюпфель за это время позвонила Хетелю, и тот встретил их в пивном зале. Отсюда до частной школы Хетеля — десять минут езды. Дождались темноты, чтобы любопытные глаза не заметили, что у хозяина школы гости. В конце концов, если бы кто–нибудь подсмотрел, тоже не страшно — к Хетелю иногда заезжали старые друзья, но береженого, говорят, и бог бережет. Именно поэтому они решили, что Ангелу и Грейту не стоит высовывать нос из дома и что библиотекарем должен заняться сам Хстель.
На следующее утро Хетель поехал в Зальцбург и целый день просидел, перелистывая странички манускриптов и присматриваясь к Циммеру и его коллегам.
За два дня Хетель более или менее изучил расположение помещений книгохранилища и успел познакомиться с его работниками. С некоторыми он заводил разговор о Циммере и убедился, что все с уважением относятся к шефу и склонны не замечать его странности. Вообще, решил Хетель, все здесь немного чокнутые. Он выбрал минуту и обратился с вопросом к самому Циммеру, но тот не принял его всерьез и направил Хетеля к своему помощнику. За эти два дня удалось установить, что Циммер — чрезвычайно пунктуальный человек и выходит из библиотеки только два раза в день — в «Райский уголок». И еще (это ему, смеясь, рассказал один из библиотекарей): у их шефа есть слабость — он лейблист.
Хетелю неловко было уточнять, что это такое, он только запомнил это необычное слово и засмеялся, подмигнув библиотекарю: вот, мол, какой старик, никогда не ждал от него такого, да и кто мог подумать. Однако в душе обрадовался: лейблист — это, наверно, член какой–нибудь секты или, дай бог, если оправдались бы его подозрения, тайного общества развратников. Если это так, Циммер у них в кармане, он сам откроет им двери и поможет грузить контейнеры…
Хетель побежал в обыкновенную библиотеку, чтобы заглянуть в справочник. Нашел нужное слово и разочарованно закрыл книгу. Лейблист, оказывается, собиратель обыкновенных гостиничных наклеек на чемоданах или на стеклах машин.
Вечером, рассказывая об этом, удивился, почему Ангел так обрадовался, что даже заерзал на стуле. Но тот ничего не стал объяснять и только попросил:
— Закажите мне телефонный разговор с Цюрихом… Хотя не нужно телефонных разговоров, лучше дам телеграмму и желательно не из Альт–Аусзее. Срочно!.. Заводите свою машину, Вольфганг.
— На вашем месте я бы все же рассказал… — начал недовольно полковник, но Ангел только отмахнулся. Закончив писать, показал листок Хетелю. Только после этого объяснил:
— Мой сын тоже лейблист. Мы телеграфируем ему, и он пришлет нам две–три сотни красивых наклеек, после чего вы, — обратился он к Хетелю, — имея на руках такое, с позволения сказать, богатство, попробуете познакомиться с этим старым козлом Циммером. Врите ему все, что угодно, меняйтесь наклейками — сердце коллекционера мягкое, как воск, и за день–два вы станете лучшими друзьями!
Это предположение Ангела оправдалось. Получив из Цюриха бандероль с наклейками, Хетель встретил Циммера в коридоре и спросил:
— Я слыхал, у вас одна из самых больших в Австрии коллекций наклеек? У меня есть экземпляры, побывавшие в ваших руках, но я не имел чести переписываться с вами и вообщетолько недавно приехал сюда…
Циммер посмотрел на него недоверчиво:
— Я знаю всех знаменитых лейблистов мира. Извините, с кем имею честь?
— Отто Ренненкампф, коммерсант. — Увидев, как пожал плечами старик, Хетель быстро вынул из кармана и раскрыл перед носом Циммера коробочку с наклейками. — Здесь есть интересные экземпляры, — пошевелил наклейки, — и я был бы благодарен вам, если бы вы согласились посмотреть…
Библиотекаря не нужно было уговаривать: уткнулся носом в коробочку, пальцы быстро забегали, перебирая разноцветные бумажки.
— Посмотрите, господин Ренненкампф, какая красивая наклейка… В моей коллекции около пятнадцати тысяч наклеек, а этой нет. Отель «Монако» на Гранд–канале в Венеции… Хотите, я вам дам за нее две или три латиноамериканские?
Хетель слегка вздохнул. Ответил:
— Имею таких две… Могу вам подарить.
— У меня сегодня счастливый день! — обрадовался Циммер. — Однако я не могу принять подарок. Только обмен, дорогой коллега, только обмен…
— В моей коллекции широко представлен Ближний Восток, — как бы между прочим заметил Хетель. На самом же деле он внимательно следил, какое впечатление произведут эти слова: Ангел предупреждал, что его сын в свое время просил достать наклейки из аравийских стран; их очень мало, и за ними гоняются все лейблисты. И действительно, Циммер глянул на него недоверчиво. Сказал:
— Я истратил не один десяток шиллингов на письма, чтобы добыть хоть что–нибудь из Саудовской Аравии или Йемена. Но, очевидно, там просто нет наклеек — почти все мои письма остались без ответа.
— Ну, вам до встречи со мной просто не везло, — засмеялся Хетель.
— Я буду иметь счастье взглянуть на вашу уникальную коллекцию? — спросил Циммер.
Хетель весь подобрался, словно готовился к прыжку: сейчас главное — не оплошать. Произнес, будто речь шла о незначительной услуге:
— Завтра во второй половине дня я приеду в Зальцбург. Вечер у меня будет свободен. Мне тоже хотелось бы познакомиться с вашей коллекцией.
— Моя холостяцкая квартира… — заколебался Циммер.
— Какое это имеет значение! — махнул рукой Хетель.
— Тогда прошу вас завтра вечером на чашку кофе, — решительно предложил библиотекарь. — Мы можем встретиться в ресторане «Райский уголок». Я ужинаю в половине восьмого, и после ужина, если вас устроит…
— Я готов смотреть на ваши наклейки и в двенадцать, — грубо польстил Хетель, но старик воспринял это как должное.
— Да, моя коллекция — одна из лучших в мире! Завтра ровно в восемь. Честь имею.
Хетель снял очки и медленно протер их платком. Он всегда делал так, когда хотел сосредоточиться, — как бы отгораживался от внешнего мира какой–то полупрозрачной пленкой, люди и предметы становились расплывчатыми, нереальными, словно привидения, и ничто не мешало думать. Размышлял: завтра он попадет в квартиру Циммера. Ключ! Ему больше ничего не надо — ключ!
Вечером он обсудил с Ангелом и Грейтом возможные варианты завтрашнего разговора. Вернее, прикидывали различные ситуации, в которые мог попасть Хетель. Все зависело от того, где носит Циммер ключ. Если в кармане брюк, все их хитрости — пустое дело, и следует искать иной способ проникновения в библиотеку.
Ангел все время вертелся на стуле, ему явно хотелось что–то предложить, но он не отваживался или не мог сформулировать свою мысль. Так вертится ученик за партой — вроде и знает урок, но страшно поднять Руку.
Хетель несколько минут наблюдал за Ангелом, затем не выдержал:
— Здесь все свои, Франц, и, если вы хотите предложить что–то, валяйте.
Очевидно, Ангелу действительно требовалось поощрение: он еще раз повернулся на стуле и, глядя мимо Хетеля, предложил:
— А если этого библиотекаря того? — рубанул воздух ладонью.
Хетель блеснул стеклами очков и спросил вкрадчиво:
— И это должен сделать я?
Ангел не ответил прямо. Сказал, словно раздумывая:
— Есть немало способов незаметно убирать людей…
— Не выйдет! — вдруг выкрикнул Хетель. — Я не собираюсь идти на каторгу!
Ангел назидательно поднял палец.
— Я имел в виду, что с вашим опытом… — Поморщился и произнес твердо: — Вы не ребенок, Хетель, и если не будет иного выхода!..
— Господа… господа… — вмешался Грейт. — К чему столько эмоций? Может, завтра у нас будет ключ…
— Действительно, — сразу успокоился Ангел, — все наши споры не стоят выеденного яйца…
Хетель был уверен, что Ангел замял этот разговор из чисто тактических соображений: нужно ли обострять отношения, если все еще впереди. Но он твердо знал, что не пойдет на «мокрое дело». Не потому, что это противоречило его принципам или он боялся, просто Хетель всегда умел трезво оценивать обстановку и определять, стоит ли рисковать. Охотясь за Циммером, он уже успел наследить: дважды встречался с библиотекарем в ресторане, и кто знает, не обратит ли полиция внимания на эти встречи, если она начнет устанавливать круг знакомых Циммера.
Нет, пусть Ангел сам идет на это, если хочет. Этот чертов Франц получит вдвое или втрое больше, чем он, Хетель, так пусть и рискует!
…Хетель так ушел в мысли, что увидел Циммера, когда библиотекарь уже приближался к нему. Машинально посмотрел на часы — ровно половина восьмого, секунда в секунду. Так и сказал Циммеру:
— По вас можно проверять часы…
— Я ценю свое и ваше время, — ответил Циммер, расстилая на коленях салфетку.
Официантка уже несла на подносе ему ужин. Циммер ел быстро и молча, только опорожнив тарелку, спросил:
— Вы принесли?
Хетель похлопал рукой по портфелю. Сказал, будто признался в чем–то запрещенном:
— Мне сегодня снилась ваша коллекция. Наклейки превращались в отели, которые наваливались на меня со всех сторон — отели, отели и отели…
От «Райского уголка» до библиотеки три квартала. Они миновали их быстро, не разговаривая. Обошли площадь, замощенную еще в средневековье, и остановились под высокой и широкой аркой. Дверь в книгохранилище была обита железом.
Циммер остановился, расстегнул плащ, полез в задний карман брюк. Настроение у Хетеля сразу испортилось. Он смотрел на библиотекаря с ненавистью и жалел, что тот не попался в его руки раньше. Даже не заметил, как щелкнул замок, увидел ключ только тогда, когда Циммер вынул его из замочной скважины: большой, с фигурной ручкой — и как только он помещается в кармане?
Пропустив Хетеля вперед, библиотекарь закрыл дверь и спрятал ключ снова в карман.
Настроение у него окончательно испортилось, мелькнула даже мысль, что предложение Ангела о ликвидации этого старого черта не так уж и бессмысленно.
Циммер угостил его кофе, сам только глотнул один раз и забыл о чашке, разложил на письменном столе наклейки и перебирал их, словно раскладывал пасьянс, который может сойтись раз в жизни. Черты лица его обострились, глаза блестели.
— Вам нравятся эти наклейки? — спросил Хетель.
Циммер посмотрел на него, словно впервые увидел, но Хетель подошел к столу и сам переложил несколько цветных квадратиков. Да, он хозяин этого богатства, и Циммер должен считаться с этим.
Библиотекарь посмотрел на этого наглеца в выпуклых очках, хотел возмутиться, но врожденная деликатность пересилила — сказал вежливо и даже просительно:
— Я могу предложить вам в обмен редкие экземпляры. Конечно, я понимаю вас, и было бы наглостью вести разговор обо всем этом, — обвел рукой вокруг стола, — но если у вас есть дубли…
Хетель снова переложил наклейки.
— Отберите то, что вам больше всего нравится.
Видно, Циммер давно решил, что взять, потому что сдвинул в кучку в центре стола несколько наклеек. Заколебался, но все же добавил туда еще несколько.
Хетель с удовольствием отдал бы ему весь этот бумажный хлам, лишь бы только несколько секунд подержать в руках злополучный ключ. Но, словно жалея, перебрал наклейки, вздохнул.
— Хорошо, я могу поступиться ими, если у вас действительно найдется что–либо на обмен.
Циммер почти торжественно подошел к огромному шкафу, вмонтированному в стену, вынул несколько одинаковых по форме и размерам деревянных ящиков.
— Посмотрите–ка сюда, — подозвал он Хетеля. И когда тот стал перебирать бумажные квадратики: круги, треугольники, объяснил: — Вы третий или четвертый человек, получивший допуск к моей коллекции.
— Я счастлив, коллега, — пробормотал Хетель, незаметно глянув на часы. Черт, уже прошел час, как они разбирают идиотские бумажки, он видит, как выпирает ключ из кармана Циммера, но этот ключ так же далек от него, как и тогда, когда он находился в Альт–Аусзее.
Хетель незаметно зевнул и, отобрав наобум полтора десятка наклеек, спросил:
— Вам не очень жаль будет расстаться с ними? — Заметив, как печально вытягивается лицо у Циммера, предложил: — Завтра или послезавтра мы можем встретиться еще. Я пересмотрю свою коллекцию и, думаю, найду интересные дубли.
Циммер засуетился.
— Конечно… конечно, дорогой коллега… Я с удовольствием… Как всегда, в «Райском уголке»…
Хетель шел за ним по плохо освещенному коридору и думал, что стоит ударить сейчас старого чудака по голове и все — ключ у тебя…
Не страшно, если даже успеет крикнуть: здесь такие стены, что никто не услышит. Пожалел, что не взял с собой ничего тяжелого, но сразу опомнился: необходимо взвешивать свои поступки. Да и ситуация совсем не та. Когда–то они открыто маршировали по венским улицам, полиция боялась их и закрывала глаза даже на то, что иногда приходилось пристукнуть какого–нибудь из наиболее активных коммунистов.
Циммер вынул ключ и стал вставлять его в замочную скважину. Хетель переступил с ноги на ногу и вдруг застонал, схватился за сердце. Библиотекарь удивленно посмотрел на него.
Хетель отступил, опершись о стену, прохрипел:
— Воды… принесите мне воды…
Циммер приблизился к нему, поддержал.
— У меня есть валидол… Я сейчас…
Хетель следил за ним из–за опущенных век. Неужели библиотекарь вспомнит о ключе? Если вспомнит, он убьет его. И сделает это без сожаления, так как чаша терпения его переполнилась…
— Скорее… валидол… — выдавил сквозь зубы.
Циммер побежал по коридору, не оглядываясь. Хетель прыгнул к двери, прикрыл ее спиной, нащупал ключ. Черт, как все просто получилось! Быстро сделал слепок ключа.
В конце коридора грохнули двери — Циммер возвращался. Хетель снова прислонился к стене, принял валидол, но от предложения библиотекаря немного побежать отказался.
— Мне сейчас необходим свежий воздух. Посижу на бульваре. Нет, спасибо, не нужно провожать. Уже лучше, все в порядке.
Шел медленно, потому что библиотекарь стоял в дверях и смотрел ему вслед, и, только повернув за угол, заспешил к машине.
Ангел и Грейт смотрели телевизор. Хетель постоял на пороге, улыбаясь. Полковник, как всегда, развалился в кресле возле столика с бутылками — виски или джина, все равно что, он весь день пил что–нибудь. Ангел полулежал на диване, подложив под бок подушку, и следил за событиями на экране.
Они, казалось, искренне волновали его.
Хетель кашлянул. Полковник повернулся к нему вместе с креслом. Ангел недовольно поморщился, но все же любопытство пересилило, он выключил телевизор. И сразу заторопился:
— Ну… ну… как у вас?
— Завтра у нас будет ключ. — Хетель показал слепок. — Еще минута, и я бы сорвался. Этот старый хрыч довел меня до точки.
Ангел внимательно оглядел слепок. Похвалил:
— Чистая работа. Как вам удалось?
— Эх, — Хетель налил себе полстакана, — случай.
Полковник бросил ему в стакан несколько кубиков льда.
— Пейте и рассказывайте!
Ангел, выслушав рассказ, спросил:
— Сколько времени тратит Циммер на ужин?
— Минут пятнадцать–двадцать.
— Сколько нужно идти от библиотеки до ресторана?
— Минут семь–восемь.
— Туда и обратно — четырнадцать, всего полчаса, — подсчитал Ангел. — Мало!
— Да, — подтвердил полковник, — за полчаса тайник не раскрыть. А без шума не обойтись. Придется вам, Вольфганг, задержать Циммера.
Хетель подумал, что Ангел и Грейт, пока он возится с библиотекарем, могут извлечь золото и дать стрекача, но, поразмыслив, пришел к выводу, что сделать это невозможно: они успеют только разбить ломом пол перетащить же тяжелые контейнеры из подвала вдвоем не под силу.
— Я покажу ему наклейки в ресторане, и он будет сидеть, пока не пересмотрит их. Могу гарантировать вам еще полчаса.
— Хватит, — согласился Грейт. — Сделаем так. Мы раскрываем тайник и сидим там до двенадцати. В двенадцать вы подгоняете машину к библиотеке, и мы открываем вам. Дайте мне план подвала, Франц.
Ангел поморщился, но все же полез в карман. Уже достал бумажник, но в последнюю секунду раздумал и спрятал его обратно. Сказал решительно:
— Я покажу его вам перед самым началом операции.
— Боитесь? — рассердился полковник.
— Вы же не показали мне схему расположений тайника в штольне. И я не в претензии на вас.
Дело в том, что Штайнбауэр сделал хитрый ход: чтобы партнеры контролировали друг друга и не забыли о взаимной зависимости, дал Ангелу план тайника в замке, а Грейту — в штольне… Подозревал, что Ангел, достав списки «троек», может сговориться с Хетелем и обмануть его. Конфиденциально поговорив с полковником, предупредил его, чтобы тот не давал списки никому ни на минуту.
Грейт засмеялся.
— Вы начинаете бояться собственной тени, мой дорогой Франц. Но бог с вами… Нарисуйте мне, — повернулся он к Хетелю, — хотя бы приблизительную схему расположения библиотечных помещений.
Хетель начал чертить. Полковник внимательно смотрел через его плечо, иногда только уточняя детали. Затем удовлетворенно повертел головой.
— Главное в том, что нам не придется проходить мимо комнаты библиотекаря. Насколько я понял, от входных дверей до нее метров двадцать пять, да еще и коридор делает поворот. Вы согласны с этим, Франц?
Ангел, изучивший схему так, что, кажется, с завязанными глазами нашел бы тайник, пробормотал:
— Безусловно. К библиотекарю направо от входа, а нам налево.
— Поедем на двух машинах, — сказал полковник. — На вашем «опеле», Вольфганг, и еще на какой–нибудь. Может, взять грузовик?
— Зачем? — возразил Хетель. — Грузовик — это заметно.
— Полтонны золота и трое нас — этого не выдержит ни одна легковая машина.
— Возьмем еще «фольксваген». Контейнеры загрузим в «опель» и…
— Я поведу машину сам, — Ангел испугался, что Хетель сможет угнать машину с золотом.
— Конечно, — не отреагировал на подтекст Хетель. — Мы поставим ее в гараж вместе с контейнерами.
— Нет, — категорически возразил Ангел и показал на угол комнаты, — золото будет лежать здесь!
— Через три–четыре дня, когда получим телеграмму от Штайнбауэра, опять придется переносить его в машину.
— Контейнеры будут лежать здесь! — повторил Ангел. — И не надо уговаривать меня!
— Никто вас не уговаривает, — пожал плечами Хетель, — делайте как хотите. Кстати, Штайнбауэр будет телеграфировать сюда?
— Мы не знали, как сложатся обстоятельства, — объяснил Грейт, — и договорились, что телеграмму адресуют на почту в Блю–Альм. Это, кажется, недалеко отсюда? На имя вашего слуги, Штайнбауэр уже в Берне, ему потребуется три–четыре дня, чтобы решить вопрос с самолетом.
— Самолет сядет в районе штольни?
— Недалеко от нее, в Долине ландышей, — там есть неплохая площадка.
— Ваш слесарь надежный человек, Вольфганг? — спросил Ангел Хетеля.
— Он сделает ключ лучше оригинала.
— Я не об этом…
— Здесь не держат ненадежных людей!
***
Эту скамейку они увидели издалека и, не сговариваясь, направились к ней.
Развесистое дерево склонилось, создав нечто похожее на шатер, и они с удовольствием разместились под зеленым навесом. Но оказывается, сами нарушили покой хозяйки зеленой кроны: над их головами сердито зацокала белка.
Дубровский, уже успевший побывать чуть ли не во всех уголках Пратера и изучивший традиции его обитателей, вынул из кармана несколько орешков. Белочка, распушив хвост, застыла на ветке. Сергей протянул ей орешки на ладони. Она схватила один и побежала по стволу прятать. Через несколько секунд спустилась за другим орешком, потом еще за одним…
— Человек… тот бы взял сразу все, — задумчиво произнес Бонне, наблюдая за белкой.
— Вам окончательно испортили настроение, — засмеялся Дубровский, — и я не знаю, что будет, если вы не поймаете Ангела на этой неделе…
Бонне утомленно махнул рукой.
— Ни одного просвета, — признался, — мы окончательно потеряли след.
Сергей подбросил на ладони орешки. Рыжая шубка белочки мелькнула за стволом. Зверек выглянул из–за ствола, настороженно смотрел черными бусинками глаз.
— Она не так уж и проста, как вы думаете, — Сергей поднес белочке орешек. — И не успокоится, пока не выманит все. Вы слыхали о Фридрихе Гартенфельде? — спросил он внезапно.
— Тот, что собирает сведения о нацистах?
— Да… — неопределенно пробормотал Дубровский. Вдруг поставил вопрос ребром: — Как идет розыск?
— Изучаем объявления в прессе. Все связанное с наймом девушек на работу. В Вене и провинциальных городах. Полиция работает вполне оперативно, и, думаю, ни одно подозрительное сообщение не останется без внимания.
Дубровский отдал белочке последние орешки, вытер руки и откинулся на спинку скамейки.
— Кажется мне, вы идете по ложному пути, — сказал, доверительно толкнув колено Бонне. — Я не случайно назвал имя Фридриха Гартенфельда. Он обратил внимание на некоторые детали, которые могут пригодиться нам.
Бонне не выразил особого интереса, наверное, из вежливости:
— Я никогда не отказывался от советов и охотно выслушаю вас. — И все же не удержался, чтобы не подколоть: — Тем более что есть сейчас свободное время…
— И можете спуститься до дилетантского уровня, — отпарировал Дубровский.
Бонне оживился. Шутливо толкнул локтем Сергея в бок.
— Мы достаточно знаем друг друга, чтобы не обижаться на мелочи. Давайте выслушаем концепцию вашего Гартенфельда.
— Она заслуживает внимания. — Сергей не принял шутливого тона Люсьена и говорил серьезно, даже сердито. — Есть данные, что Ангел после своей, так сказать, смерти работал под руководством Роберта Штайнбауэра…
— Это того, который?..
— Фашистский герой, — подтвердил Сергей. — Когда–то он здесь, в Австрийских Альпах, прятал эсэсовские сокровища. Его задержали местные патриоты, передали американской военной администрации, с которой он быстро нашел общий язык. Так вот Гартенфельд сообщил мне, что в последнее время в районе Зальцбурга, совсем недалеко от знаменитого озера Топлиц, замечена активизация бывших эсэсовцев. Он связывает это с тем, что скоро пройдет двадцатилетний срок сохранения ценностей на зашифрованных счетах в банках, — очевидно, эсэсовцы спешат подобрать ключи к этим счетам. Кто–то ищет, а кто–то стоит на страже. Поинтересуйтесь в полиции — вам расскажут о нескольких загадочных убийствах именно в этих местах.
— И вы считаете, что Ангел и Грейт, — уловил ход мыслей Сергея Бонне, — охотятся сейчас за гитлеровскими сокровищами? Не думаю. Их бизнес более прибыльный и имеет под собой, как бы это сказать… реальную основу.
— Не спешите, — удержал его Сергей. — Мы точно знаем, что Ангела и Грейта вывезли из Танжера оасовцы. Куда, по–вашему?
— Девяносто девять процентов из ста — в Испанию, — ни на секунду не задумался Бонне.
— Да, в Испанию, — удовлетворенно покачал головой Дубровский. — В Мадриде же, на улице Кастелон де ля Плана — это точно зафиксировано у Гартенфельда, — живет бывший шеф Ангела и нынешний руководитель эсэсовской организации, тесно связанной с ОАС — Роберт Штайнбауэр. Не он ли организовал их побег из Танжера?
— Что–то в этом есть, — задумчиво произнес Бонне. — Но в моей практике случалось столько неожиданных обстоятельств…
— Это еще не все, — продолжал дальше Дубровский. — Через несколько недель наши герои появляются именно в Австрии — Штайнбауэру сюда нельзя совать носа. Не думаете ли вы, что Ангел и Грейт получили от него задание? И что здесь не какая–то авантюристическая охота, а трезвый расчет, поскольку Штайнбауэр сам создавал тайники в Австрийских Альпах.
— Погодите, — задвигался Бонне, — мне нравится эта версия. Знаете, где мы потеряли след этих мерзавцев? Есть такое небольшое курортное местечко Якобсдорф — километров пятьдесят от Зальцбурга.
— Вот здесь и точка! — торжественно заявил Дубровский.
— Таких точек, мосье Серж, я понаставил за свою жизнь черт знает сколько. А потом выясняется, что точка — не точка, а знак вопроса. И все же я отправлюсь в Зальцбург. В конце концов мне все равно, где выжидать: в Вене, Зальцбурге или возле самого озера Топлиц. Поедем со мной?
— Я все время только и мечтаю об этом, — обрадовался Сергей.
***
Циммер запер дверь и направился в «Райский уголок». Все трое — Ангел, Грейт и Хетель, — сидя в «опеле», напряженно смотрели ему вслед. Они поставили машину за «фольксвагеном», на котором должны были доехать ночью домой, и Циммер не мог заметить их.
Библиотекарь исчез за углом, и Хетель подогнал «опель» к входным дверям почти впритык, закрыв их машиной от любопытных глаз. Двери открылись сразу, Ангел и Грейт, захватив ломик, кирку и еще кое–какой инструмент, исчезли в здании.
Хетель поставил «опель» на место и поспешил к библиотекарю. Он рассчитал время точно и появился в ресторане, когда Циммер уже заканчивал ужин. Библиотекарь оживился, увидев его, и, кажется, стал есть быстрее, но пока не отложил салфетку, так ни о чем и не спросил. А Хетель не спешил: медленно пил кофе и болтал что–то о циклонах и цунами, стерших с лица земли где–то в Японии несколько поселков.
— Надеюсь, вы не с пустыми руками? — наконец прервал его болтовню Циммер.
— Я солидный коллекционер, — деланно обиделся Хетель, — и мы договорились…
Библиотекарь встал.
— Пошли.
— Куда? — обозлился Хетель. — Посидим здесь, господин Циммер, я хочу угостить вас. Кофе с коньяком. Или вы не употребляете?
— Я уже выпил свой кофе и никогда не пью второй раз. — Циммер не садился. — Я не привык улаживать дела в ресторане.
— Боже мой, какие же это дела? — попробовал отшутиться Хетель. — Просмотреть наклейки… — забыл, как серьезно относится Циммер к наклейкам, и, лишь увидев протестующий жест библиотекаря, поправился: — Конечно, я с удовольствием зайду к вам, но посидите за компанию, а чтобы вам не было скучно, посмотрите пока вот это. — Вынул на портфеля папку с наклейками. — Здесь есть такое, что, клянусь, вам еще не попадало в руки.
Очевидно, библиотекарь заколебался — слишком большой был соблазн. Поставил трость, но сразу же взял ее обратно.
— С вашим сердцем нельзя пить столько кофе, — сказал он. — И не в моих правилах, господин Ренненкампф, задерживаться в ресторане по любому поводу. Жду вас у себя дома. Честь имею…
Говорят, в такие моменты сжимается сердце и холодеют руки. У Хетеля почему–то заболел живот. Старая дохлая крыса этот Циммер. Сейчас он вернется домой, может заподозрить что–нибудь и позвонит в полицию. Быстро спрятал папку в портфель.
— Подождите, господин Циммер, ради вашей коллекции я готов навсегда отказаться не только от коньяка, но и от кофе.
Они пойдут вместе, он попробует задержать библиотекаря по дороге, в крайнем случае помешает позвонить в полицию.
Хетель попробовал остановить старика у магазинных витрин, но Циммер либо заупрямился, либо на самом деле был рабом привычки: шел, опираясь на трость, не глядя по сторонам, прямой и напыщенный, будто не какой–нибудь паршивый библиотекарь, а по меньшей мере министр.
— Куда вы так спешите? — Хетель в конце концов повысил голос. Это прозвучало грубо, как окрик.
Библиотекарь удивленно остановился, но сразу смягчился:
— Я забыл о вашем сердце, извините.
Теперь он шел медленно, приноравливаясь к Хетелю, но что можно было выиграть на этом? Минуту, две, это в конце концов не имело значения…
У Хетеля на самом деле подгибались ноги, дрожали колени, не потому, что он боялся, а от злости и растерянности — не знал, что предпринять и что произойдет сейчас: хуже всего, когда не предугадать очередные два шага…
Так они дошли до дверей, и Циммер открыл их. Хетель шел по коридору, специально топая ногами и прислушиваясь. Либо его шаги заглушали все вокруг, либо там, внизу, уже раскрыли тайник — тишина и только отзвук его шагов по каменному полу. Вспомнил: у Циммера в комнате лежит ковер, если прикрыть дверь и громко разговаривать, вряд ли старый олух что–нибудь услышит.
Библиотекарь поставил трость в угол, и Хетель сразу забросал его словами.
Есть ли у господина Циммера кубинские наклейки, не старые, когда Гавана чуть ли не вся состояла из отелей, таким грош цена, а как представлена у него новая, кастровская Куба; там сейчас совсем новые названия отелей, и если у господина Циммера нет таких, то пожалуйста. Извлек коробочку с наклейками и говорил, говорил…
Вот этот отель раньше назывался «Империал» — Хетель выдумал это, потому что оставалось еще пятнадцать минут и нужно было морочить голову Циммеру. Кажется, никогда в жизни не говорил так громко и быстро и не импровизировал так отчаянно. Так вот, этот отель назывался раньше «Империал», а сейчас, сидите, называется «Гавана». Такая прекрасная синяя наклейка…
Когда–то он сам был в Гаване — не приходилось ли господину Циммеру путешествовать по тем странам? Поразительно ласковое, теплое море, и пальмы над самым морем.
А сколько музыки, женщин — белых и черных, но одинаково прекрасных. Господин библиотекарь, наверно, не интересуется женщинами, но там, на Кубе, он непременно переменил бы свои взгляды, о–о, там нельзя не обращать внимания на женщин, ибо это сама поэзия, а без поэзии невозможна жизнь!
Может, господин Циммер иначе смотрит на поэзию?
Сейчас, правда, поэзией называют словесные безделицы, лишь бы было больше шума, а где звучание, ритм, если хотите, сентиментальная основа поэзии?
Циммер смотрел на него ошеломленно, все порывался вставить хоть бы слово, но Хетель не останавливался, ибо знал: остановится — точка; тишина — это провал. Сейчас он убедился, что Ангел и Грейт еще не закончили работу, несколько раз слыхал глухие удары где–то далеко внизу, очевидно, их услышал и Циммер, потому что морщился и даже поднял руку, чтобы Хетель хоть на минуту прекратил свою болтовню, но старый дурак не знал, что эта болтовня спасает и его: если Хетель остановится, пробьет последний час библиотекаря — они никогда в жизни не откажутся от золота, замурованного в подвале, а свидетелей не должно быть. И их не будет!
— Вот вам образец современной поэзии, господин библиотекарь:
Здесь, где светит алюминий.
Ты найдешь мои следы…
— Тише! — вдруг закричал библиотекарь, подняв к его носу кулаки.
И Хетель на самом деле замолчал. Давно уже хотел замолчать, бесконечный поток слов мучил его самого — он замолчал, прислушиваясь, как и библиотекарь, к тишине. Они оба ясно услышали глухие удары в подвале.
— Вы слышите? — спросил Циммер. — Что это может быть?
Хетель пожал плечами и сделал последнюю попытку спасти — нет, не старого хрыча, в конце концов, наплевать на этого болвана и олуха, он сам подложил под себя мину, но полиция будет вдвое настырнее, расследуя убийство, — и он возразил:
— Вам послышалось, коллега. И еще прошу вас обратить внимание на этот внешне незаметный треугольник. Уникальный отель…
— Вы можете помолчать? — заорал Циммер. Лицо его покраснело, глаза блестели, Хетель понял, что ему уже не заговорить старика, и замолчал.
Циммер прислушался.
— Там кто–то есть! — сказал уверенно, показывая пальцем на пол. — Но все мои сослуживцы ушли, следовательно, там чужие и нужно сообщить в полицию. У нас хранятся старинные рукописи и оригиналы, которым нет цены, и, может быть…
— Ну что вы, коллега, сразу беспокоить полицию, — возразил Хетель. — По–моему, вам послышалось.
— Нет, вы послушайте. Ведь это могут быть грабители!
— Пустяки! — как можно естественнее засмеялся Хетель. — Вы знаете, какой резонанс в этих замках? Может, где–нибудь по соседству в подвале производят ремонтные работы, а создается впечатление, что работают у вас под ногами. Это довольно распространенное явление слухового обмана, одно время я интересовался акустикой и знаю, что так бывает.
Безапелляционный тон Хетеля не успокоил старика, он вышел в коридор, ведущий в книгохранилище. Хетель последовал за ним.
Они повернули еще в один коридор, за ним начинались крутые ступеньки. Циммер остановился, нащупывая выключатель, и в это время снизу, совсем близко, мигнул луч фонарика.
— Вы видели? — прошептал Циммер.
— Ничего я не видел, — засмеялся Хетель зло. — У вас сегодня галлюцинации, дорогой коллега!
— Неужели вы на самом деле ничего не видели?
В подвале мигнуло еще и послышался треск. Циммер сделал шаг назад, но Хетель загородил ему дорогу.
— Позвольте! — Старик толкнул Хетеля плечом. — Там что–то происходит, и я должен позвонить…
— Никуда ты уже не позвонишь! — Хетель оттолкнул библиотекаря, тот зашатался, но удержался на ногах.
— Это какое–то недоразумение.
— Старый дурак! — Хетеля охватила злоба. — И нужно же было тебе совать свой грязный нос в наши дела!
— Позвольте… — Библиотекарь стал обо всем догадываться, но еще не потерял надежды. — Позвольте мне пройти, и я…
— Ты уже не позвонишь в полицию! — Хетель изловчился, чтобы сбить старика одним ударом, но тот разгадал его намерение, отшатнулся, протянул длинные сухие руки и схватил Хетеля за грудь.
— Негодяй! — закричал пронзительно и тонко. Тряхнул, что было силы, у Хетеля дернулась голова и соскочили очки. Инстинктивно отступил, очки хрустнули под ногами. Расставил руки, чтобы закрыть Циммеру дорогу, и сразу схватил его — библиотекарь пытался прошмыгнуть возле стены.
— Ну и гад! — выругался Хетель, схватив Циммера за плечо. Прижал его к стене, ударил снизу в живот, но библиотекарь защищался отчаянно, царапался и кусался. Тогда Хетель собрал все силы–и толкнул старика влево, туда, где начинались крутые ступеньки. Циммер успел схватить за пиджак Хетеля, однако тот ударил его ногой в пах и толкнул еще раз, наверно, библиотекарь падал спиной и ударился головой о каменную ступеньку, так как не успел даже крикнуть: только глухой стук — и тишина.
Хетель видел лишь мерцание света и тени.
— Франц, — позвал он, — это я! Пришлось пристукнуть старую обезьяну, она пришла раньше и обнаружила вас!
Заплясал луч карманного фонарика. Внизу тихо выругались.
— Все равно не успели бы уложиться в час, — отозвался Ангел, — так или иначе должны были что–то предпринять. Спускайтесь сюда.
— Но я почти ничего не вижу, — пожаловался Хетель. — Он сорвал с меня очки.
Совсем рядом послышались тяжелые шаги, и Грейт сказал ворчливо:
— Кажется, вы лишили его жизни, Вольфганг. Да, сердце не бьется…
— Найдите мои очки! — неожиданно обозлился Хетель. — И не сочувствуйте мне, будто вы не рады, что я развязал вам руки!
— Да, у тебя не было иного выхода, — заявил Грейт.
— У нас! — вдруг закричал Хетель. — Представьте себе, у нас! Вам не удастся переложить вину за убийство только на меня!
— Спокойно! — тряхнул его за плечо Ангел. — Вы же не баба, Вольфганг, и попадали не в такие ситуации, а слава богу…
— Правда, — сразу же успокоился Хетель. — Ваша, правда, Франц. Вы нашли очки?
— От ваших очков осталась одна оправа, — сообщил Ангел.
— Этого мне только не хватало, — буркнул Хетель. — Ну да черт с ними! Как у вас дела?
— Штайнбауэр поработал на славу. Этот тайник нужно было рвать динамитом, — пожаловался Ангел. С нас уже сошло семь потов.
— Помогите мне убрать труп, — предложил Грейт, и Ангел загремел по ступенькам лестницы вниз. — Кладите его сюда, в сторону, чтобы не мешал выносить контейнеры. И посмотрите, нет ли крови.
— Какое это имеет значение?
— Попробуем навести полицию на ложный след. Ведь библиотекарь сам мог найти тайник, вынуть золото и скрыться.
— Прекрасная идея, Кларенс! — обрадовался Ангел. — Труп мы где–нибудь спрячем, необходимо только произвести беспорядок в комнате библиотекаря, забрать кое–какие вещи. Откуда полиция узнает, что в тайнике было золото?
— Не все ли равно, золото или что–нибудь другое? Тайник есть тайник, в нем не прячут консервные банки. Теперь за дело, господа. И прошу: никаких следов. Работать в перчатках и осторожно. Вы, Вольфганг, вытаскивайте обломки кирпича и бетона.
Они поработали еще около часа, пока не добрались к контейнерам. Долбя ломом, Грейт вспоминал недобрым словом Штайнбауэра — так было легче работать. Наконец он изловчился и, подложив лом под свинцовый ящик, приподнял его. Ангел и Хетель ухватились за контейнер и поставили его на попа.
— Ну–ка, старая гвардия, — приказал Грейт, — я беру спереди, а вы вдвоем сзади. Осилите?
«Старая гвардия» осилила с трудом, правда, на узкой лестнице было неудобно, и они несколько раз останавливались, но все же наконец осторожно положили контейнер возле входных дверей.
— Сначала мы с Вольфгангом перетащим все золото сюда, — приказал Грейт, незаметно взявший на себя роль распорядителя, — потом вынесем труп, подгоним машину и сразу погрузимся. А вы, Франц, пока наведите «порядок» в квартире. Только осторожно, не оставляйте отпечатков пальцев. И вообще, чтоб все было естественно…
Ангел не возражал: в самом деле, Грейту пришла неплохая идея — полиция должна будет, хотя бы на первых порах, попасть на этот крючок. Начал с обследования письменного стола Циммера. Приятно иметь дело с аккуратным человеком — в ящиках идеальный порядок: кроме денег, документы, письма… Бегло просмотрел письма — старик имел дело только с лейблистами. Подумал: вряд ли человек, обнаруживший клад, станет заниматься этим барахлом? Деньги и документы взял, вынул из комода выглаженные сорочки и белье, снял с вешалки плащ и шляпу. Подумал немного и открыл шкаф, где хранились наклейки. Коллеги, зная увлечение этого старика и увидя, что нет части коллекции, придут к мысли, что сам библиотекарь ограбил тайник и исчез: действительно, кто из грабителей позарится на такое барахло? Выгреб из ящичков наклейки, набил ими портфель Циммера — кстати, будет хороший подарок сыну…
Ангел остался доволен делом рук своих и вышел в коридор. Грейт и Хетель тащили контейнер, и Вольфганг ругался сквозь зубы, проклиная своих недальновидных коллег, не догадавшихся упаковать золото в меньшие ящики.
Когда Грейт, осторожно открыв двери, выглянул на улицу, была глухая ночь. Сеялся мелкий дождь, и в этой части города, малолюдной днем, не было ни души. Кларенс пропустил Ангела, выскользнул за ним сам.
Ангел поставил вплотную к «опелю» маленький «фольксваген».
— Четыре ящика — в «опель», а один — в «фольксваген», — распорядился Грейт.
Ангел хотел было возразить, но, встретившись глазами с полковником, осекся. На самом деле, почему в машину Грейта — одно золото, а в мою — труп?
— Посмотрите, — Кларенс кивнул головой направо, — нет ли там кого? Не хватало того, чтобы увидели…
Ангел вкрадчивыми шагами скользнул вдоль здания, не обращая внимания на дождевые потоки, льющиеся с крыши. Выглянул за угол и успокаивающе махнул рукой.
Грейт втиснул тело старика между передним и задним сиденьями, прикрыл плащом и только после этого разрешил Хетелю залезть в «фольксваген». Закрывая двери, подумал, все ли сделано там, внутри, и случайно не забыли ли чего. Понимал: если и вспомнит о каком–нибудь недосмотре, все равно не вернется — им уже овладело чувство, свойственное, наверное, всем преступникам и известное в мире под названием «рвать когти», стремление как можно быстрее покинуть место преступления.
Подал сигнал Ангелу и сел за руль «фольксвагена».
Они уже миновали первые кварталы центра, а Грейт все вспоминал, не оплошали ли где–нибудь. Он сам замел все следы, забрал инструмент, осмотрел ступеньки лестницы, нет ли на них следов крови. И в комнате Ангел все сделал как полагается — произвел легкий беспорядок, вызванный якобы срочным отъездом.
Да, все прекрасно, вряд ли может быть лучше в их положении. Сейчас только надо избавиться от трупа.
Как и договаривались, за мостом он просигналил фарами «опелю» и обогнал его. Сейчас Ангел должен был ехать за «фольксвагеном»: Хетель отлично знал здешние места — глубокое озеро в полукилометре от дороги, крутые берега, и, если они не найдут камень, который надо будет привязать к ногам Циммера, можно разбить один из контейнеров. Свинцовый ящик — достаточный вес, чтобы навечно удержать старого олуха на дне.
Переспросил у Хетеля:
— Значит, говорите, третий поворот направо? Сейчас мы подъезжаем к нему. Начинается лес, это здесь? — Получив утвердительный ответ, ругнулся: — Черт, ведь знаете, что ничего не стоите без очков, так берегите их! В следующий раз и голову потеряете, а заказать новую будет гораздо труднее…
…Весь день отсыпались. После обеда их разбудил слуга Хетеля, принесший вечерние газеты.
— Интересно, — схватил всю пачку газет Ангел, — сейчас мы узнаем, что пишет пресса.
— Читайте вслух. — Грейт положил ноги на спинку кровати. — Налейте мне полстакана виски, не получаю удовольствия от газет без спиртного. И разбавьте немного содовой. Достаточно, спасибо.
Как и следовало ожидать, вечерние газеты посвятили загадочному случаю в архиепископском замке первые страницы.
— «Таинственное исчезновение хранителя древних манускриптов», — с удовольствием прочитал Ангел. И прокомментировал: — Вы молодец, Кларенс, все идет так, как вы предвидели. Они пишут, что библиотекарь ограбил тайник и с группой сообщников вывез ценности.
— Почему с группой сообщников? — не понял Хетель. — Мы не оставили следов.
— Я удивляюсь вашей тупости, Вольфганг. — Виски ударило Грейту в голову, да и после ночи, когда пришлось играть первую скрипку, держался высокомерно. — Даже вы, а вы для меня, извините, не эталон мужчин, легко справились с этим тщедушным типом — Циммером. Мы с Францем работали два часа, чтобы вскрыть тайник. Библиотекарю понадобилось бы несколько дней, и я не знаю, справился ли бы он. Полицейские и журналисты сразу сообразили, что к чему.
— «Эсэсовские сокровища в книгохранилище…» — читал далее Ангел.
— А откуда они знают, что эсэсовские? — недовольно поморщился Хетель.
— Не прикидывайтесь глупым теленком! — засмеялся Грейт. — Так о чем они пишут?
Ангел быстро просмотрел газеты.
— Полиция пока что отказалась делать окончательный вывод. Все считают, что Циммер, на протяжении многих лет работая в книгохранилище, кое–что разнюхал и по ночам искал сокровища. Потом договорился с кем–то, вскрыл тайник и исчез в неизвестном направлении.
Хетель облегченно вздохнул.
— Пусть ищут Циммера.
— И да поможет им бог! — скривил губы в улыбке Ангел.
***
— Любопытные новости, господин комиссар!
Бонне оторвал глаза от бумаги. Кноль стоял на пороге и улыбался. Инспектор редко улыбался, и эта улыбка, безусловно, предвещала что–то необычное.
Комиссар отодвинул папку.
— У вас такой взгляд, словно вы нашли клад.
— Не я, а другие, — уточнил Кноль. — И я удивлен вашей прозорливостью. Вы приказали информировать вас о всех слухах и фактах, связанных с розыском эсэсовских сокровищ. — Позвольте доложить: час назад в подвалах замка зальцбургского архиепископа обнаружен раскрытый ночью тайник.
— Пошли! — Бонне потянулся за шляпой. — Надеюсь, посторонних туда не допускали?
— Полицейский инспектор ждет нас. Правда, его атакуют журналисты, но он знает свое дело.
Бонне надвинул шляпу на лоб.
— Мне не хотелось бы, чтобы моя фотография появилась в газетах, — объяснил. — И фамилия. Я эксперт, и все.
Еще издалека они увидели толпу возле библиотечных ворот. К счастью, шел дождь, и Бонне поднял воротник плаща, закрываясь от фотовспышек. Один нахальный репортер попробовал было проскользнуть в помещение между ним и Кнолем, но полицейский в последний момент отстранил его.
В комнате Циммера их ждал энергичного вида человек.
— Инспектор уголовной полиции Барц, — представил его Кноль.
— Час назад нам позвонил один из служащих библиотеки, — начал докладывать Барц. — Ежедневно ровно в восемь хранитель рукописей и оригиналов Циммер открывал им двери, но в это утро они обнаружили их закрытыми. Стали стучать, но напрасно. Через двадцать минут позвонили нам. Пришлось взломать замок. В одной из подвальных комнат замка мы нашли вскрытый тайник, оборудованный под полом. В комнате библиотекаря следы спешного отъезда. Помощник Циммера, господин Шварц — он ждет в соседней комнате, — показывает, что его шеф был человеком чрезвычайно пунктуальным и аккуратным, даже до педантичности. Из этого можно сделать вывод, что Циммер, работавший здесь несколько лет, обнаружил тайник и вывез то, что было замуровано в подвале.
Они спустились в подвал, и комиссар долго стоял на пороге комнаты, разглядывая взломанный пол.
— Отпечатки пальцев? — спросил у инспектора Барца.
— Здесь не обнаружили. Мы уже осмотрели комнату библиотекаря, и все, что нашли, отправили в лабораторию.
Комиссар кивнул и боком проскользнул в комнату. Присел над вскрытым полом, позвал Кноля. Поднял обломок цемента, валявшийся рядом, показал на след от контейнера.
— Все было сделано умело. Свинцовые контейнеры заложены кирпичом и залиты цементом. А сверху обыкновенный деревянный пол. Сто лет ищи — не найдешь.
— Однако нашли, — возразил Кноль.
Бонне пробормотал в ответ что–то невыразительное. Вынул складной метр, стал измерять след от контейнера.
— Определяете размеры ящиков? — догадался Кноль.
— На моем месте вы бы сделали то же самое, — удовлетворенно покачал головой Бонне. Он долго ползал по полу, изучал чуть ли не каждый обломок кирпича. Наконец, стряхнув пыль с брюк, констатировал: — Сейчас мне хотелось бы осмотреть коридор. — Попросил инспектора Барца: — Там темновато, не могли бы вы усилить свет?
— Минутку, — ответил тот. — У нас есть рефлекторы.
— Только осторожно, — предупредил Бонне, — не затопчите следы!
— Мои люди знают дело! — сказал инспектор с достоинством.
Через несколько минут в коридоре вспыхнули рефлекторы. Бонне внимательно, метр за метром, разглядывал пол и стены. Несколько раз хмыкнул. На лестнице что–то привлекло его внимание. Попросил направить туда свет, встал на колени и едва не обнюхал камень. Вынул нож, что–то аккуратно снял со ступеньки и завернул в бумагу. Поднялся полестнице, снова присел и стал собирать какой–то мусор в ладонь, посвистывая от удовольствия. Завернул найденное в бумагу, попросил Кноля:
— Спросите у этого… ну, помощника Циммера, не носил ли его шеф очки?
Инспектор вернулся, когда Бонне, стоя на коленях, разглядывал пол.
— Говорит, что у Циммера было отличное зрение.
— Ага… — Бонне будто пропустил это известие мимо ушей. — Посмотрите–ка сюда, инспектор.
Кноль опустился на колени.
— Следы металла… — потрогал пальцем, — свинец. От ящика?
— Да, — Бонне тихо засмеялся, — от ящика с золотом.
— Вы считаете, что в тайнике было золото?
— Уверен. Возможно, платина. Но я читал, что эсэсовцы вывозили в «Альпийскую крепость» золото в слитках.
— В свинцовых контейнерах могли быть бумаги… важные документы или фальшивые деньги… Они это тоже вывозили.
— Ну, какой дурак замуровывал бы фальшивые деньги!
— А документы?
— Мы знаем с вами размеры ящиков, хранившихся в тайнике. Если бы в них были бумаги, даже старый библиотекарь без особого труда дотащил бы их к выходу. Я осмотрел пол. Он весь в свинцовых царапинах. Они ставили ящики и отдыхали… Итак…
— Контейнеры очень тяжелые?
— В них было золото. Никакой дурак не сооружал бы тайник для ящиков с чугуном.
— Погодите… — Кноль стал что–то подсчитывать, уставившись в потолок и беззвучно шевеля губами. Наконец произнес: — Там было пять ящиков. Это мы установили точно по следам. Если отбросить вес контейнеров, то каждый из них вмещал не менее ста килограммов золота.
— Это же полтонны!
— Боже мой, — схватился за голову Кноль. — Пятьсот килограммов золота! Примерно семнадцать миллионов шиллингов!
— А сейчас я хочу посмотреть на комнату Циммера, — не разделил его возбуждения комиссар. — И поговорить с господином Шварцем.
Бонне пристроился в кресле рядом с помощником Циммера, маленьким бледным человечком, предложил ему сигарету, но тот отказался:
— Герр Циммер сам не курил и не любил курящих. А эта работа устраивала меня. Пришлось бросить.
— Вижу, вы хорошо знаете характер своего шефа. Расскажите о его привычках.
— Герр Циммер жил только работой и требовал этого от нас. Человек суровый, но справедливый. Он был влюблен в старинные рукописи и мог часами просматривать какой–нибудь манускрипт. Редко бывал в городе, посещал только дважды в день «Райский уголок». Это ресторан, совсем рядом.
— К нему кто–нибудь приходил? Родственники, приятели?
— Герр Циммер не имел ни родственников, ни приятелей, это подтвердит каждый, кто с ним работал.
— Увлечения?..
— Разве только лейблистика?
— Что это такое?
— Коллекционирование наклеек отелей. Герр Циммер говорил, что он один из известнейших лейблистов мира.
— Где же его коллекция? — оглянулся комиссар на инспектора Барца.
Тот кивнул на шкаф, вмонтированный в стену, и объяснил:
— Мы обследовали его. Циммер просматривал коллекцию перед тем, как исчезнуть. Взял с собою, судя по описи, значительную часть этого барахла.
Бонне открыл шкаф.
Десятки небольших ящичков: строгая классификация — континенты, страны. И каталог. Георг Циммер и на самом деле был педант: каждая наклейка — страна, город, название отеля занесены в специальную книгу. Почерк у Циммера мелкий, аккуратный, буквы написаны четко.
Комиссар углубился в каталог, иногда сверяя записи с наличием наклеек в коробочках. Эта работа, наверно, нравилась ему, он даже подвинул стул и заглянул на верхнюю полку шкафа. Будто забыл и о Кноле, и об инспекторе Барце. Последний наблюдал за комиссаром со снисходительной улыбкой — так отцы смотрят на ребенка, который шалит. Наконец все же не выдержал.
— Господин комиссар, — спросил с чуть спрятанной иронией, — вы случайно не этот… как его… — щелкнул пальцами, — лейблист?
— Нет, — ответил Бонне, не оглядываясь. — Нет, дорогой инспектор, я не коллекционирую наклейки и вообще ничего не коллекционирую, но привык с уважением относиться к чужим чудачествам, поскольку предпочитаю иметь дело с чудаками. Они всегда дают криминалисту гораздо больше, чем люди, ничем не увлекающиеся. Чудака я вижу на расстоянии — и его портрет, и его привычки, и, если хотите, его образ мышления. А что еще нужно криминалисту?
Произнеся эту длинную тираду, Бонне спрыгнул со стула, посмотрел на Барца с укором, словно удивлялся его нелюбопытству.
Но инспектор не сдавался.
— О чем же рассказали вам наклейки?
Бонне развел руками:
— Трудно сказать, инспектор, вы провели осмотр места происшествия безукоризненно, и ваша версия, что Циммер вскрыл тайник и исчез вместе с сообщниками, заслуживает внимания.
— Иной не может быть! — самоуверенно заявил инспектор.
— Э–э–э… всегда что–то бывает… — начал комиссар, но смолк, будто сам оборвал себя. — У меня нет оснований выдвигать что–либо другое.
— Так можно допустить к месту происшествия журналистов?
— Да, мы уже уезжаем. Или у вас другие мысли, инспектор Кноль?
Длинный свинцовый ящик привлек особое внимание офицера. Он похлопал обтянутой черной лайкой рукой по ящику, показал на соседние:
— Эти пять ко мне в машину. — Подумал и, ткнув на контейнеры, обозначенные буквой В, добавил: — И эти тоже.
«Опель–адмирал» оберштурмбаннфюрера, чуть не съехав в кювет, пробился к колонне. Эсэсовцы бросили в багажник длинные ящики, на заднее сиденье положили еще несколько квадратных. Оберштурмбаннфюрер обернулся к офицеру, сопровождающему его:
— Вам все понятно, Иоган?
— Да.
— Сделайте это ночью. До озера Топлиц осталось недалеко, и эти машины, — показал на грузовики, — можно пустить под откос. Затопите ящики как можно дальше от берега. Впрочем, там будет Келлер, и он покажет где…
Шофер открыл переднюю дверцу.
— В Зальцбург! — приказал оберштурмбаннфюрер.
…Он сидел сейчас в гостиной комфортабельной квартиры на мадридской улице Кастельон де ла Плана. Такой же подтянутый и энергичный, как почти двадцать лет назад, когда он встретил грузовики с ценностями «третьего рейха», возраст выдавали только морщинки на лбу и седина. Седина смягчила острые терты лица: никто, встретившись с ним впервые, не подумал бы, что это один из бывших помощников самого Кальтенбруннера. Костюм от лучшего мадридского портного подчеркивал его спортивную фигуру, белоснежная сорочка, казалось, хвасталась своей чистотой, да и все вокруг свидетельствовало о богатстве хозяина квартиры: мягкие кресла, пушистый ковер во весь пол, бар с рядами бутылок чуть ли не со всего мира.
Хозяин сидел, свободно вытянув ноги и откинувшись на спинку кресла, курил сигару, исподлобья смотрел на своих собеседников, словно хотел понять, на что они годны.
Ангел почти ничего не пил, был начеку: знал о волчьих привычках оберштурмбаннфюрера СС Роберта Штайнбауэра.
Уже около часа сидели они в гостиной на Кастельон де ла Плана, а хозяин, казалось, и забыл о деловой стороне встречи. Штайнбауэр интересовался деталями их путешествия, проявляя потрясающую осведомленность, и полковник, громко смеясь, рассказывал о трюке Крюгера с мусорщиками.
Полковник тоже ощущал, что вся эта словесная эквилибристика является лишь преамбулой серьезного делового разговора — не случайно же Крюгер договаривался с оасовцами и сам лично привез Ангела и Грейта в танжерский порт. Но, собственно, не он был заинтересован в деловой части разговора, а этот седой сибарит, и Грейт спокойно подливал себе джин, слегка разбавляя его тоником.
Грейт не очень–то верил в россказни Крюгера о чуть ли не туристском путешествии, да еще и с миллионным вознаграждением, и догадывался, что седоголовый эсэсовец будет нажимать на них, но дешево продать себя он, Грейт, не собирается. Вот и наслаждался комфортом квартиры Штайнбауэра, удивляясь, почему краснеет и вертится на стуле Ангел. Правда, для Ангела Штайнбауэр все–таки бывшее начальство, но плевать вообще на начальство — и нынешнее и бывшее, если у тебя полный кошелек.
Полковник потянулся за сигарой. Штайнбауэр курил настоящие гаванские, и не какие–нибудь второсортные, а по пять долларов за штуку. Это возвысило Штайнбауэра в глазах Грейта, и он улыбнулся ему.
— Где вы достаете гаванские? Сейчас после событий на Кубе это настоящая редкость.
— Живем не одним днем, — ответил тот уклончиво, и Грейт подумал: этот делец умеет–таки заглядывать в будущее. Он знал, что Штайнбауэр возглавляет мадридскую фирму, поставившую свыше четверти всех материалов, закупленных американцами в Западной Европе на строительство военных баз в Испании: сборные ангары, стальные конструкции, трубы и прочее. А тот, кто поддерживает контакты с американцами, по мысли Грейта, не лишен ума.
— Крюгер говорил о какой–то поездке, — небрежно вставил полковник, глянув, как отреагирует Штайнбауэр.
Тот повернулся к Грейту всем корпусом, выдержал его взгляд и уверенно продолжал:
— Я не хочу, чтобы между нами были какие–либо недомолвки, господа, и поэтому предлагаю открытую игру. Мы выбрали вас потому, что гауптштурмфюрера я знаю давно, а о вас, — улыбнулся Грейту, — о вашей энергии и находчивости наслышался от Крюгера.
— Мне это льстит, мистер Штайнбауэр, — склонил голову полковник. — Однако слова в наше время…
— Самый дешевый товар, — закончил тот. — И я согласен с вами. Именно поэтому вынужден предупредить вас, что наш разговор не для третьих ушей…
— Вы могли бы и не предупреждать, — наконец подал голос Ангел.
— О–о! В вашей скромности я уверен! — отрезал Штайнбауэр, и Грейт подумал, что Ангел у него на хорошем крючке. — И все же я еще раз повторяю это, ибо наша организация…
Полковник удивленно вытянулся.
— Организация?
— Вы могли убедиться в этом. Ведь французский военный корабль…
— А–а… — понял Грейт. — ОАС и другие.
— Именно так! — подтвердил Штайнбауэр. — Однако мы уклонились немного, господа… Вы, наверно, слыхали о сокровищах, спрятанных во время нашего отступления в Австрийских Альпах. Должен проинформировать вас, что слухи о них если и преувеличены, то ненамного. Мы, правда, не имели тогда времени, чтобы спрятать все так, как надо, и некоторые тайники потом были раскрыты — частично случайно, частично из–за нашей спешки и, сейчас я могу признать это, из–за самоуверенности, граничащей с небрежностью. Но значительная часть ценностей все еще лежит в штольнях и озерах Австрии. К некоторым тайникам уже потеряны ключи, но не ко всем. Мне известны два тайника, в которых хранятся слитки золота и другие ценности. Я сам оборудовал эти тайники и принял меры, чтобы их не раскрыли… — Штайнбауэр сделал паузу, отпил лимонад из стакана. Он пил только воду и никогда не употреблял спиртного. Ни тогда, когда служил в СС, ни сейчас. Все делал на трезвую голову и редко когда ошибался.
Тогда он и на самом деле принял меры, чтобы ни одна живая душа не нашла тайников. Оборудовала их специальная команда из Заксенхаузена: десять специалистов — маляры, штукатуры, инженеры–строители. Под наблюдением ротенфюрера СС из отдела самого Штайнбауэра и двух эсэсовцев. После того как ящики были спрятаны, всех десятерых расстреляли. Оберштурбаннфюрер сам руководил операцией. А через несколько часов передал ротенфюрера и эсэсовцев специальной группе — их также расстреляли в его присутствии.
Штайнбауэр вздохнул и продолжил:
— В одном из тайников спрятано не только золото, но и документы, которым нет цены. Если мы станем владельцами этих бумаг, получим ключи от шифров секретных счетов в швейцарских и западногерманских банках. Вы понимаете, что это означает, господа?
Грейт давно уже отставил стакан и слушал не отрываясь. Спросил:
— Почему же вы за столько лет не попытались достать это золото?
— Дело в том, что вывезти столько золота из любой страны не так просто. Конечно, не будем преувеличивать сложность операции, но все же это не развлекательная прогулка по Альпам. Учтите и то, что у меня после войны сохранились э–э… кое–какие суммы и настоятельной потребности в этом золоте не было. Сейчас другой разговор. Возросшие масштабы деятельности нашей организации и некоторые другие факторы требуют все больших сумм, и консервация ценностей и банковских счетов нынче ни к чему.
— Скажите, — бесцеремонно прервал его Грейт, — уже пытались достать это золото?
— Вы немного опередили меня, полковник, — мягко улыбнулся Штайнбауэр. — Несколько месяцев тому назад один человек по фамилии Дорнбергер должен был раскрыть тайник и вывезти ценности, но… — развел руками, — он оказался типичным ослом. Контейнеры с золотом спрятаны в подвалах замка зальцбургского архиепископа. Замок средневековый, в подземных ходах сам черт запутается, и тайник можно искать, — довольно потер руки, — и сто лет… К сожалению, там, где я спрятал золото, сейчас находится одна из комнат книгохранилища. Разные древние манускрипты, рукописи, пергаменты и прочие глупости… Этот Дорнбергер действовал как идиот, его сразу задержали и обвинили в попытке выкрасть какие–то книги. Два года тюрьмы, господа, и я считаю, что он легко отделался. Однако Дорнбергеру известно расположение тайника, и черт его знает, какая муха укусит его… Как ни досадно, австрийские тюрьмы, естественно, охраняются, и ликвидировать этого осла не очень просто.
Грейт спросил прямо:
— Во–первых, я хотел бы знать, о какой сумме идет речь? В целом. И на что могу рассчитывать лично я?
Штайнбауэр ответил не раздумывая:
— Надеюсь, вы понимаете, что здесь не может быть уравниловки. Кроме того, я финансирую нашу э–э… операцию, обеспечиваю вас необходимыми документами, явками… Я уже не говорю о транспортировке золота из Австрии. Очевидно, придется арендовать самолет, поэтому, — нагнулся к Грейту, — мы и остановились на ва64 дорогой полковник. Короче, я не собираюсь торговаться и считаю, что двадцать процентов от общей суммы вам будет достаточно.
— И это составит?
— В подвалах зальцбургского замка я спрятал пять контейнеров с золотом, каждый из них весит сто килограммов.
Полковник быстро подсчитал:
— Полтонны… Приблизительно шестьсот тысяч долларов. Итак?
— На вашу долю сто двадцать тысяч.
— А второй тайник?
— Сейчас трудно дать точный ответ. Дело в том, что…
Штайнбауэр на мгновение закрыл глаза. Боже мой, как быстро летит время: сколько лет прошло с того холодного декабрьского дня сорок четвертого года, а он помнит все до малейших деталей, словно это случилось вчера…
Погода мерзкая: дождь с мокрым снегом, дождь и туман — единственная отрада, что ни одна английская или американская свинья не появится в небе и можно спокойно ехать по городу, не боясь воздушной тревоги. Он сидит за рулем мощной спортивной машины — тогда он еще был молод и любил сам водить машину, несмотря на то, что был одним из прославленных эсэсовских офицеров рейха и занимал секретную должность в главном управлении имперской безопасности.
Вот и нужное здание на окраине Страсбурга. Чугунная ограда, от ворот — асфальтированная дорожка к дому. Два эсэсовца проверяют документы. Впереди — бронированный «хорх» Кальтенбруннера. Лица своего шефа Штайнбауэр не видит, но отлично представляет, как смотрит Кальтенбруннер на часовых: спокойно и пронзительно. Наверно, нет в Германии эсэсовца, который с первого взгляда не узнал бы шефа главного управления имперской безопасности, но порядок есть порядок, и Кальтенбруннер сам приказал бы расстрелять часовых, если бы они не проверили у него документы.
«Хорх» медленно двинулся, и Штайнбауэр подъехал к воротам. Пока эсэсовцы изучали его документы, оглянулся и помахал рукой оберштурмбаннфюреру — пассажиру «опель–адмирала», остановившегося сзади почти вплотную к его машине.
Штайнбауэр всегда симпатизировал этому человеку: чувствовал, что он один из немногих, кто не завидует ему. А это не так просто — не завидовать любимцу фюрера, обладателю высших наград рейха. Они с Эйхманом не были друзьями, только иногда перебрасывались несколькими словами, Штайнбауэр с удовольствием обедал вместе с оберштурмбаннфюрером за одним столом в маленькой столовой для избранных. У Адольфа всегда было много работы, может, он не имел времени завидовать кому–либо, а может, знал, что большинство работников главного управления имперской безопасности завидуют ему, Адольфу Эйхману, поскольку с ник считается сам Гиммлер и его знает и ценит даже фюрер.
Штайнбауэр подождал Эйхмана перед входом в вестибюль, они вошли в зал вместе и сели рядом — всегда приятно сидеть рядом с человеком, понимающим тебя и перед которым нет необходимости скрываться.
Шеф гестапо Мюллер издали поклонился им, хотя и Штайнбауэр и Эйхман были всего лишь оберштурмбаннфюрерами СС — чин не очень–то большой, примерно то же, что подполковник в армии. Но что такое чин, если сам фюрер подарил Штайнбауэру собственную фотографию с дарственной надписью.
Зал постепенно заполнялся. Были люди, которых Штайнбауэр видел впервые, преимущественно уже пожилые, в строгого покроя сюртуках. Даже генералы СС подобострастно жали им руки.
— Крупп!.. — объяснил Эйхман, когда сам Кальтенбруннер пошел навстречу одному из черных сюртуков.
Наверно, в ту самую минуту родилась у Штайнбауэра зависть к этим внешне неприметным и сдержанным людям — настоящим хозяевам не только его, а даже рейхсминистров; зависть, все время движущая им и наконец сделавшая человеком, словно две капли воды похожим на те черные сюртуки — хозяином одной из влиятельнейших фирм в Испании.
Но тогда его мысли не забегали так далеко, и он представлял будущее совсем не таким розовым. Советские армии вышли уже к границе Германии; и многие понимали, что война Гитлером проиграна. Эти собрались здесь, на окраине Страсбурга, чтобы спасти награбленное: потом, рассчитывали они, на месте разгромленного «третьего рейха» можно будет построить четвертый рейх.
Секретное совещание вел Кальтенбруннер. Решался вопрос, как быть со всем тем богатством, прибывшим в Берлин из оккупированных стран — из частных коллекций и музеев, из концентрационных лагерей, как распорядиться с золотом, купленным в нейтральных странах за фальшивые фунты стерлингов, и, наконец, самими фальшивыми фунтами?
Фактически делили добычу.
Штайнбауэр притих. Не удивлялся тому, как быстро и четко все решалось, его ошеломили суммы, которые делились среди присутствующих. Счет шел на миллионы. Герингу — восемь с половиной миллионов марок, Геббельсу — приблизительно столько же. Кальтенбруннер получил счет на имя Артура Шейдлера — три миллиона. Не обошли и Штайнбауэра — миллион.
Затем обсуждали оперативный план, систему псевдонимов и шифры, способы вывоза капиталов за границу — в основном в испанские, швейцарские, латиноамериканские банки.
Рассчитывали на то, что банкиры нейтральных стран гарантируют тайну вкладов — даже полиции они не дают сведений о размерах счетов любого клиента. Кроме того, эти банки не интересуются происхождением капиталов, фактически они не зависят от правительств своих стран.
Кальтенбруннер лично вел протокол совещания. Он знал, что доверять здесь нельзя никому. Поэтому персональные шифры счетов получили только самые доверенные лица. В основном ценности были положены на зашифрованные счета с условием: вклад может получить лицо, знающее шесть цифр. Определяли людей, которые знали бы по две цифры шифра, но не были знакомы друг с другом. Списки этих людей, так называемых «троек», хранились вместе с самыми секретными документами в главном управлении имперской безопасности.
…Как всегда, воспоминания растревожили Штайнбауэра. Не потому, что было жаль бывших коллег — каждому свое, одних ждала виселица, других, как и его, обеспеченная и сытая жизнь, — просто судьба еще одного контейнера, закопанного в забое старой шахты, не давала ему покоя.
В контейнере хранились списки «троек». Штайнбауэр знал, что найти второй его тайник, оборудованный в старой шахте, практически невозможно, и все же сомнения мучили его. Иногда казалось, горные породы сдвинулись и совсем завалили шахту, временами представлял, как кто–то случайно начал копать именно на этом месте. Понимал: это глупости, один случай из миллиона, но все же его бросало в холод, и кончики пальцев начинали чесаться, словно обмороженные.
Давно уже нужно было достать тот проклятый контейнер, но все откладывал с года на год.
В Австрии ему появляться было небезопасно: много кто еще помнил там его, даже пресса иногда вспоминала имя Штайнбауэра в связи с таинственным и бесследным исчезновением федерального президента Микласа накануне того дня, когда гитлеровцы оккупировали Австрию. Доверять же долю контейнера еще кому–нибудь Штайнбауэр не хотел — был слишком осторожен и понимал, что тайна, которую знают двое, уже не тайна. Все колебался, пока не разыскал Дорнбергера. Ему мог довериться. Но выяснилось, Дорнбергеру не хватило ума тихо и осторожно раскрыть хотя бы один из двух тайников. А жаль: через год исполнится двадцать лет со времени страсбургского распределительного совещания, а по закону деньги, лежащие на зашифрованных счетах, становятся собственностью банка, если в течение двадцати лет никто не явится за ними. Поэтому и решил сейчас довериться Ангелу и этому американскому полковнику.
Ангел побоится предать. Он и полковник — достойная пара, стоят один другого. Да и не позарятся на золото, это каких–нибудь шестьсот тысяч, а если извлечь списки «троек», запахнет миллионами. Без его же, Штайнбауэра, помощи не смогут собрать «тройки», во всяком случае, если даже и попытаются, то тут им и конец придет. Он возглавляет организацию бывших эсэсовцев, и его рука достанет предателей везде. Грейт и Ангел не могут не понимать это.
Штайнбауэр решил не таиться и рассказал компаньонам о содержимом второго тайника. Грейт забыл о джине, а Ангел пересел ближе к Штайнбауэру, ел его глазами, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Мы достанем этот контейнер, если даже придется перекопать все штреки той шахты! — воскликнул полковник решительно.
— Мне нравится ваш оптимизм, — сказал Штайнбауэр.
— Но ведь вы знаете, что в Танжере у нас были неприятности с полицией, — вставил Ангел. — Может, полиция разыскивает нас и теперь. Там был агент Интерпола, а это всегда опасно.
Штайнбауэр не замедлил ответить:
— Вы получите настоящие испанские паспорта и вылетите прямым рейсом из Мадрида в Вену. История с девчонками вряд ли заинтересовала международную полицию настолько, что она объявит розыск в других странах. На всякий случай не останавливайтесь в отелях. У меня есть в Австрии свои люди, вы получите пароль и свяжетесь с ними.
— Я слыхал об этих сокровищах, — не удержался Грейт. — Среди офицеров оккупационных войск сразу после войны ходили об этом легенды.
— Кое–кто из ваших коллег, — криво усмехнулся Штайнбауэр, — неплохо нагрел на них руки.
— Это вы затопили ящики с ценностями в озере Топлиц? — спросил полковник.
Штайнбауэр кивнул.
— Я приказал бросить их туда, поскольку не было другого выхода. Дорога в горы была забита машинами, а противник висел у нас на хвосте…
— Недавно на озере работала экспедиция. Кажется, ее организовал журнал «Штерн»?
— Эти журналисты суют свой нос куда не следует… — буркнул Штайнбауэр. — Нам пришлось пережить несколько неприятных дней. Там, на дне, валяются ящики с документами, о которых лучше не вспоминать. К счастью, они подняли контейнер с фальшивыми фунтами стерлингов и, пока мы успели принять меры, достали только один ящик с архивами управления имперской безопасности. Эти документы так и не были опубликованы, хотя кое у кого руки чесались сделать это.
— Издатель «Штерна» ваш человек? — поинтересовался Ангел.
— Не совсем. Мы использовали другие способы…
— Такие? — засмеялся Грейт, подняв кулак.
— Там, недалеко от Зальцбурга, — повернулся к нему Штайнбауэр, — живет член нашей организации, его фамилия Хетель. Это он пояснил начальнику экспедиции, что кое–кто может не дожить до конца месяца.
— И тот поверил?
— Должен был, — нахмурился Штайнбауэр. — Много их было, охотников до чужого. И где они? Могли утонуть или сорваться со скалы.
— Хетель? — вдруг оживился Ангел. — Штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель?
— Вы знаете его? — насторожился Штайнбауэр.
— Нет, но слыхал о нем. Много раз.
— Сейчас Хетель сделался учителем. Парадокс. Вольфганг Хетель — и воспитание сорванцов… Я дал ему деньги, и он, когда его наконец выпустили из тюрьмы, открыл под Зальцбургом частную школу. Вблизи озера Топлиц. С того времени ни одна попытка пошарить по дну озера не увенчалась успехом…
— Почему же вы не поручили ему? — начал Грейт.
Штайнбауэр понял его с полуслова:
— Я знаю Хетеля, может, лучше, чем он знает сам себя. У него большие связи среди членов нашей организации, и, возможно, он попробовал бы сам найти ключ к шифрам. Это одна из причин, почему вы поедете в Австрию вдвоем. Вам, полковник, пальца в рот не клади, да и господин Ангел стреляная птица. Хетеля вы используете, но не доверяйте ему. Между прочим, у нас будет еще много времени, чтобы обговорить детали. Отдыхайте, господа, и ни о чем не думайте.
***
Дубровский сидел в пустом зале маленького бистро недалеко от площади Сен Андре дез Арт. Только что ему позвонил комиссар Бонне, и они договорились встретиться здесь.
Комиссар ничего особенного не сказал, просто спросил, не найдется ли у Сергея свободная минута, но было в его тоне что–то, встревожившее Дубровского, и он заторопился:
— Что–нибудь новое, Люсьен? О наших?
— У вас профессиональный журналистский недостаток, — заметил Бонне, — хотите знать все сразу. Подождите. Мне приятно увидеться с вами, поговорить и, если не возражаете, выпить бутылку вина.
Сергей занял столик в углу возле окна, чтобы увидеть Бонне издалека. Комиссар обещал выехать сразу: от Поль–Валери до этого бистро добираться минут сорок, следовательно, «ситроен» комиссара вот–вот должен вынырнуть из–за угла.
Прошло полмесяца, как они вернулись из Танжера. Анри отправился куда–то в глушь Нормандии, подальше от людских глаз и людского любопытства, Сергей и Бонне встретились через день–два после возвращения; затем нахлынули срочные дела, обычная журналистская суета, и Дубровский все реже вспоминал танжерские приключения.
Задумавшись, Дубровский прозевал «ситроен» комиссара и увидел Бонне уже в дверях: тот заметил Сергея еще с улицы, так как проследовал с порога прямо к нему, широко улыбаясь и еще издали протягивая руку. Дубровский решил проявить выдержку и не расспрашивать комиссара. Но тот, отпив красного терпкого вина, прищурившись, начал сам:
— Интересная новость, мосье Серж. Я не хотел говорить по телефону, ибо не получил бы удовольствия видеть выражение вашего лица. Вам нравится это вино? — почмокал губами, с удовольствием отметив, как насторожился Дубровский. — Неплохое вино, хотя сравнительно дешевое. Я давно не пил его и поэтому назначил свидание именно в этом бистро. У хозяина всегда есть несколько бочек для настоящих ценителей, кто его знает, где он достает его… Упадок мелких хозяйств приведет к тому, что вино из Бургундии не отличишь от бурды… — неожиданно Бонне засмеялся довольно. — Проявляете выдержку? Но если вы узнаете, что Ангела…
— Арестовали?
— К сожалению, нет, — сокрушенно покачал головой Бонне. — Только видели, но снова упустили.
— Где?
— Вчера в Вене. Дубровский нахмурился.
— Он или нечистая сила, или просто везет мерзавцу!
— И то и другое… — подмигнул Бонне. — Как они нас обвели в «Рыжем петухе»?
— Что в Вене?
— Завтра утром я вылетаю туда, — объяснил комиссар. — Ангела видели возле станции проката машин. Полицейский узнал его, но не успел задержать: тот уже сидел в такси…
— Думаете, там и полковник?
— Его зовут Кларенс Грейт.
— Так быстро узнали…
— Вы недооцениваете возможности Интерпола и современные средства связи. Полковник Кларенс Грейт служил в американских оккупационных войсках в Западной Германии, а в начале года вышел в отставку.
— Прекрасная компания, — скривился Дубровский. — Наверно, этот Грейт бомбил немецкие города, а Ангел укоротил век не одному американцу. Сейчас же они нашли общий язык.
— Людям свойственно забывать прошлое.
— Иногда я удивляюсь вам, Люсьен. Неужели не понимаете, какое горе принес нам всем фашизм? Сколько лет были гитлеровцы во Франции?
— Я полицейский, и для меня превыше всего закон. Но не думайте, что мы спим спокойно, если фашистские генералы гуляют на свободе! Война оставила след в душе каждого из нашего поколения. Этот американский полковник — типичный подонок, Серж, ибо перелезть с одной стороны баррикады на другую может только подонок.
— Они дельцы, и война только временно развела их. Думаю, что этот, как вы сказали, Грейт легко исповедовал бы национал–социализм, если бы это было ему выгодно.
— Люди гибнут за металл… — усмехнулся Бонне. — Но думаю, Ангелу и Грейту недолго осталось гулять. Они разозлили меня… Я был в маки, Серж, и мы воевали с бошами. Я не коммунист, и ваш аскетизм не может служить мне идеалом, но мы смело дрались с фашистами. Ну, я не сбрасываю со счетов и обыкновенную ненависть к оккупантам, подсознательный процесс — этим были заражены почти все французы. Но в маки шли самые смелые или, если хотите, самые идейные — среди нас больше всех было коммунистов, и я успел подружиться со многими, хотя, повторяю, не разделяю их взглядов.
— Вы говорите это так, словно извиняетесь.
— Но вы ведь коммунист, и мне не хочется обидеть вас.
— Мне приходится встречаться с такими закоренелыми реакционерами, что я воспринимаю вас как левого.
— А–а… — махнул рукой Бонне. — Наверно, так оно и есть. Но держите это в секрете, чтобы не проведало мое начальство.
— Когда вы были в маки, вы не думали об этом.
— Тогда все казалось проще… Здесь я, а там боши. А теперь, когда я встречаюсь с группой западногерманских туристов, точно знаю, что один из лих или два бывшие нацисты, но они все одинаково улыбаются, и попробуй узнать, кто из них о чем думает…
— Единственный выход: создать в ФРГ такие условия, чтобы никто из бывших гитлеровцев не мог поднять головы.
— Это уже из сферы высокой политики.
— Вы сами противоречите себе.
— Возможно, — согласился Бонне. — Но знаете, мне будет гораздо легче, если я поймаю Ангела. Думаю, его будут судить не как уголовного преступника.
— Если не передадут властям ФРГ…
— Он продавал французских девушек и будет доставлен во Францию.
— Итак, вы завтра вылетаете? — перевел разговор Дубровский.
Бонне хитро прищурился.
— Я знаю, что вы сейчас скажете,
— Не нужно быть ясновидящим.
— С удовольствием встречусь с вами в Вене. Я был уверен, что вы догоните меня, поэтому и позвонил.
Дубровский грустно посмотрел на часы.
— К сожалению, сам я не могу решить таких вопросов. Должен обратиться в посольство. Наше агентство, кажется, сейчас не имеет корреспондента в Австрии, а если и имеет, все равно, долго уговаривать мне никого не придется. Ангел стоит того, чтобы поохотиться за ним, подобный материал нечасто попадает в прессу, не так ли?
— Сенсация номер один! Я вам говорил уже когда–то, что ваше журналистское реноме…
— Пострадает, если вы не поймаете Ангела.
— У меня чешутся руки, а это — хорошая примета. Если хотите, могу довезти вас до посольства.
***
«Каравеллу» подтянули почти вплотную к зданию венского аэровокзала — гигантскому сооружению из бетона и стекла.
Бонне быстро сбежал по трапу и остановился, оглядываясь вокруг. К нему подошел человек в гражданском и спросил:
— Если не ошибаюсь, комиссар Бонне? — Бонне протянул руку. — Нам сообщили, что вы прилетаете этим рейсом. Инспектор Петер Кноль. Вам предстоит работать со мной.
Инспектор Кноль понравился Бонне. Высокий, на голову выше его самого, наверняка сильный и немного простодушный, поскольку у людей хитрых и скрытных редко бывает такой вздернутый нос и мягкая линия подбородка. Спросил:
— Вы заказали гостиницу? Я хотел бы отвезти вещи и сразу же заняться делом.
— Машина ждет нас. Вы будете жить в «Амбассадоре». В центре, но улица тихая, к тому же окна выходят во двор.
Глядя, как на автокарах везут горы чемоданов, Бонне спросил:
— В Австрии сейчас много туристов?
— Сезон в разгаре…
Бонне вздохнул: Ангелу и Грейту легче затеряться в пестрой разноликой толпе. Конечно, если они еще в Австрии и Вена небыла для них перевалочным пунктом…
Получили чемодан, и носильщик провел их через служебный ход к полицейскому «мерседесу». Кноль сел за руль. Ехали молча, только иногда инспектор называл улицы, объясняя, мимо какого монумента или архитектурного памятника проезжали.
— Как вы узнали, что Ангел пользовался прокатной машиной? — спросил инспектора Бонне.
— Он взял такси напротив конторы по прокату автомашин. Полицейский, увидев, что не сможет задержать Ангела, зашел в контору и расспросил хозяина.
— Плохо, — сказал Бонне сокрушенно. — Он мог…
— Спугнуть хозяина?.. — понял его Кноль. — К счастью, полицейский оказался сообразительным. Он сказал, что расследует мелкое дорожное происшествие, поинтересовался только что возвращенными машинами и узнал, что розовощекий клиент сдал «крейслер», который брал за два дня до этого.
— Надеюсь, за этой конторой установлено наблюдение?
— Сразу же. Мы не входили больше в контакт с хозяином, ожидая вас.
Бонне незаметно скосил глаза на инспектора: Кноль все больше нравился ему. Попросил:
— Вот что, инспектор, необходимо проанализировать объявления в прессе. Предложения для работы девушкам. Эти типы объявляют, что нужны девушки для работы продавщицами, официантками, манекенщицами Стандартные требования: симпатичная внешность, не старше двадцати–двадцати четырех лет…
— Газеты не только венские?
— Конечно. Как правило, такие бандиты предпочитают вершить свои делишки в провинции.
— Там более наивные девушки?
— И меньше шансов встретиться с полицией…
— В этом есть смысл, — согласился Кноль. — Завтра получите информацию.
— Пусть будет завтра… — сказал комиссар. — А сегодня мы устроимся в отеле и после аудиенции у вашего начальства начнем работу.
— Мой шеф примет вас в половине первого… — Кноль затормозил возле подъезда.
Зеркальные двери, респектабельный швейцар — все свидетельствовало о фешенебельности «Амбассадора».
Ровно в половине первого Бонне встретился с шефом Кноля, молчаливым пожилым полицейским чиновником. Беседа носила сугубо формальный характер, однако Бонне остался доволен: шеф дал им с Кнолем полную свободу действий.
Выйдя из кабинета, Бонне предложил инспектору сразу же поехать в прокатную контору. Она располагалась на тенистой улице, застроенной старыми трех–и четырехэтажными зданиями. Улица эта ответвлялась от магистрали, переходящей за городом в шоссе с односторонним движением.
Кноль приткнул «мерседес» почти вплотную к рекламному щиту, который предлагал пользоваться услугами конторы господина Шрюбберса. Бонне открыл дверцу. Подняв глаза, увидел на панели в двух шагах от «мерседеса» полицейского. Удивился: когда они подъезжали, его не было.
Кноль объяснил:
— Я предупредил сержанта Урбана. Может, вы хотите расспросить его?
Комиссар поблагодарил кивком — честное слово, это не инспектор, а целый клад. Спросил у полицейского:
— Где вы видели этого типа?
Урбан показал на место метрах в тридцати от перекрестка.
— Я стоял там… Он вышел от Шрюбберса и сразу же остановил такси. Проехал мимо меня, и я узнал его… — Урбан вынул из кармана фотографию, показал Бонне. Комиссар с удовольствием взял открытку, вспомнив, как фотографировал Ангела на пыльной дороге под Танжером: всегда приятно увидеть дело рук своих. Кивнул сержанту, чтобы тот продолжал. — Но, к сожалению, такси вклинилось в поток машин, и я не смог догнать его. Сразу же позвонил в комиссариат, чтобы задержали такси…
— Его задержали через час, — добавил Кноль, — но Ангела уже не было. Таксист рассказал, что пассажира, остановившего его возле конторы Шрюбберса, он высадил где–то у оперного театра и не обратил внимания, куда тот пошел…
Бонне вернул сержанту фото.
— Вряд ли снова встретите его. Ангел человек осторожный и не ходит дважды по одному и тому же адресу. А сейчас, — Бонне круто повернулся, — в контору. Надеюсь, господин Шрюбберс там?
— Он предпочитает сам вести дела с клиентами, — пояснил сержант.
— Это вы хорошо придумали: дорожное происшествие… — похвалил Бонне. — Итак, версия остается той же, господа, мы расследуем дорожное происшествие. И я никакой не комиссар, а эксперт… Это оправдает мой акцент…
Хозяин конторы господин Шрюбберс был похож не на солидного коммерсанта, а на гаражного слесаря. Сидел не в конторе, а болтался по гаражу в довольно–таки замасленном комбинезоне. Везде совал свой нос, ругался с механиками в, кажется, знал болезни каждой из полусотни своих машин. Был хитер, ибо из разговора с сержантом кое–что понял и заявил:
— Я сам осмотрел тот «крейслер», господа, и, клянусь честью, он не был в аварии. Даже царапинки на нем нет. Вы можете сами убедиться в этом… — Шрюбберс шмыгнул в узкий проход между машинами и позвал туда полицейских. — Вот этот «крейслер», пожалуйста, можете даже обнюхать его, ничего не найдете.
Бонне обошел вокруг красивого двухцветного — спелая вишня и слоновая кость — лимузина. Спросил:
— Вы помните клиента, который последним ездил на этом драндулете?
— У меня нет драндулетов, — обиделся Шрюбберс. — Этот «крейслер» стоит…
— Извините, это действительно прекрасная машина.
— То–то же, — блеснул глазами хозяин, — и поэтому ее берут люди, у которых есть здесь кое–что… — показал пальцем на карман пиджака. — Да я и сам не дам ее какому–нибудь прощелыге. После разговора с сержантом я заглянул в свою книгу, господа, хотя, собственно, мог бы этого и не делать… — Сдвинул на затылок берет. — Здесь еще кое–что есть, и память не подводит… Этим «крейслером» пользовался господин Вейзенфельс. Иоахим Вейзенфельс, испанский подданный, турист, решивший полюбоваться нашими Альпами. Прекрасный отдых, господа, могу порекомендовать хороший пансионат в Штирии. Чистый воздух, вкусная еда и прочие красоты…
Бонне метнул на Шрюбберса такой взгляд, что поток его красноречия мгновенно иссяк.
— Сколько километров намотал этот Вейзенфельс?
— Восемьсот восемнадцать.
— Не так уж и много… — пробормотал Бонне под нос и потянул на себя дверцу «крейслера». — Машину мыли? — повернулся он к Шрюбберсу, хотя и без того было ясно, что над «крейслером» поработала не одна пара рук.
— У меня пока что гараж, а не сарай! — буркнул хозяин. — Попробовали бы поставить на место грязный аппарат…
Комиссар залез в «крейслер». Сел, вдыхая специфический запах машины. Действительно, Шрюбберс любит порядок и, видно, заставляет своих работников чуть ли не вылизывать автомобили. И все же на всякий случай попросил Кноля:
— Проверьте, нет ли отпечатков пальцев…
Тот завозился возле окон, проверил руль. Бойне ощупал сиденья, заглянул под них.
— Чистите машину пылесосом? — спросил Шрюбберса. — Так и знал… Откройте, пожалуйста, багажник.
Запасное колесо, комплект инструментов… Больше в багажнике ничего и не должно было быть. Комиссар зачем–то вынул заводную рукоятку, насос.
— Шина не спускала? — повернулся вдруг к Шрюбберсу.
Тот пожал плечами и позвал слесаря. Выяснилось, что запасным колесом действительно воспользовались.
Бонне отвинтил гайку, державшую запаску, поднял колесо. Пусто, только в щели кусочек грязной газеты. Комиссар потянулся за ним и вынул. Спросил у слесаря:
— Помните клиента, сдававшего вам эту машину?
Тот кивнул не задумываясь. Не мог забыть: клиенты, берущие напрокат машины такого класса, как правило, дают не меньше пятидесяти шиллингов чаевых, а этот вынул только десятку из набитого деньгами бумажника.
— Не могли бы вы вспомнить, что говорил вам этот клиент?
Слесарь отвел глаза.
— Вы из полиции?
— Да.
— Этот клиент сразу показался мне подозрительным, — растянул губы слесарь в угодливой улыбке. — Вот такой бумажник, — показал руками, преувеличив вдвое, — и глаза бегают. Наверняка аферист…
— Костюм хороший?
— Темно–зеленый в мелкую клетку. Только что от портного…
— У вас отличная память, — подбодрил Бонне. — Могу поспорить, что вы не забыли даже цвет его шляпы.
— Темно–серая, — оживился слесарь. — И если господину интересно, он носит оригинальный галстук. Знаете, такой узенький, плетеный, они в моде сейчас.
— Так о чем вы с ним говорили? — напомнил Бонне.
Слесарь придвинулся к комиссару, прошептал доверительно:
— Я сразу раскусил его. Точно, гангстер… Все после возвращения рассказывают о поездке, не скрывая, куда ездили, а этот как воды в рот набрал.
— Так все время и молчал? — не поверил Бонне.
— Почему же, — возразил слесарь, — хвалил наши дороги.
— Однако наткнулся на гвоздь!
— Я тоже засомневался — на автобане шину не проколешь… Спросил… Оказывается, они останавливались в каком–то мотеле, а там рядом строительство, ну и напоролись на что–то острое.
— В каком мотеле? — насторожился Бонне.
— Погодите… — слесарь потер лоб, оставив на нем грязные пятна. — Что–то он говорил, но не помню…
— Подумайте. Это очень важно!
Слесарь еще раз потер лоб.
— Он говорил, что было мокро и он выпачкался, потому что самому пришлось менять колесо… Стойте, кажется, мотель «Черный дрозд»… Конечно, как я мог забыть? Тогда еще подумал: разве дрозды бывают белые?
— Еще бы, это все равно, что красный воробей, — поддержал слесаря Бонне. — Следовательно, он там останавливался?
— Не знаю. Больше ничего он не сказал, отправился к хозяину расплачиваться…
— И на том спасибо, — произнес комиссар небрежно, будто слесарь ничего не раскрыл ему. Но сразу же подсластил пилюлю: — Интересно было поговорить с вами… Сигарету? — вынул из кармана пачку.
— О–о, французские! — Слесарь вытер руки ветошью, осторожно взял сигарету, положил за ухо. — Здесь курить нельзя, я потом…
Бонне подмигнул, и слесарь совсем растаял: свой человек, хоть и полицейский! Комиссар спросил у Кноля:
— Вы слыхали о мотеле «Мерный дрозд»?
— Какой же это мотель?.. — усмехнулся инспектор. — Придорожный ресторанчик.
— Где?
— На магистрали Вена–Зальцбург. Вернее, немного в стороне. Там проходит дорога к озеру — прекрасный пляж, привлекающий туристов, — вот и возник этот «Дрозд». Ресторанчик и несколько комнат для отдыха.
Комиссар протянул Кнолю грязный кусок газеты.
— Напечатано на днях, — показал он дату. — Не могли бы вы определить, что это за газета?
Кноль внимательно осмотрел газетный клочок, зачем–то даже посмотрел сквозь него на свет.
— Кажется, «Зальцбургер нахритен», но категорически утверждать не могу.
— Дайте на экспертизу, — попросил комиссар. — И вот что: возьмите напрокат этот «крейслер». Он понадобится нам на несколько дней.
***
Двухэтажный кирпичный домик, крытый красной черепицей, вырисовывался ярким пятном на фоне зеленого склона. Дорога делала здесь крутой поворот и спускалась к небольшому селению, за которым раскинулось на километр–полтора прозрачное озеро.
Черный дрозд, нарисованный на вывеске дома, пел свою бесконечную песню, не обращая внимания ни на машины, выбрасывающие смрадный перегар, ни на транзисторную истерику, ни на удивленные восклицания туристов, которые, глядя на село и озеро, громко сетовали на современную цивилизацию, оторвавшую их от такой природы.
Кноль остановил «крейслер» так, чтобы машину было видно из дома. Они с Бонне покурили минут пять, но никто из «Черного дрозда» не вышел к ним, хотя посетителей там, по всей видимости, было мало — перед отелем стояли только два одинаковых «фольксвагена» да потрепанная микролитражка то ли итальянского, то ли французского происхождения.
— Ну что ж… — проворчал наконец Бонне. — Двинулись!
Он медленно вышел из машины, постоял немного, потягиваясь и делая вид, что изучает окрестный пейзаж, пропустил вперед Кноля и остановился на пороге «Черного дрозда».
Небольшой полутемный и прохладный зал был пуст. Кноль присел у стойки, за которой стояла барменша, и заказал кружку пива. Жажда не мучила Бонне, и он попросил виски со льдом. Устроился немного в стороне, чтобы видеть дворик перед домом и не выпускать из виду барменшу.
Инспектор выпил свою кружку пива и попросил налить вторую. Это понравилось женщине. Бонне заметил на ее бледном лице что–то похожее на улыбку. Кноль счел возможным начать разговор.
— Вы из Мюнхена? — Кноль мог бы и не спрашивать — барменшу выдавал баварский акцент. Женщина не ответила, глянув подозрительно. И тогда Кноль, слегка вздохнув, бросил пробный камень: — Если бы нас не разделяли границы…
— Австрийцы сами виноваты в этом! — оживилась барменша. — Нас ждало большое будущее, и вы получили бы свой кусок пирога, если бы… — безнадежно махнула рукой.
— Нельзя стричь всех под одну гребенку!..
— Все сейчас стали умными! — отрезала барменша.
Инспектор отхлебнул пива.
— «Черный дрозд» принадлежит вам? — спросил после паузы.
— Угу, — кивнула головой барменша.
— А это кто? — показал на портрет дородного мужчины над верхним рядом бутылок.
— Муж.
— Жив?
— Если бы мой муж был жив, я не сидела бы здесь…
— СС? — заинтересованно блеснул глазами Кноль. — Какое вам дело? — грубо оборвала его женщина. — Пейте свое пиво и не суйте нос в чужие дела.
— Но ведь я мог служить вместе с ним…
— Под его началом были тысячи и тысячи, — немного смягчилась женщина. — Группенфюрер!
— О–о! — даже свистнул Кноль. — Налейте еще.
— Это ваш «крейслер»? — спросила хозяйка, ставя кружку.
— Неплохая машина… — неопределенно ответил Кноль. — Вы уже видели ее?
— У нас часто останавливаются венцы, — уклонилась от прямого ответа хозяйка.
— Есть свободные комнаты?
— Вам две?
— Да.
— К сожалению, осталась только одна, но большая — окнами на озеро.
— Сколько всего у вас комнат?
— Девять номеров — три двухкомнатных.
— Много туристов? Есть иностранные? Хозяйка глянула на Кноля подозрительно, но инспектор смотрел добродушно.
— Иностранные туристы предпочитают знаменитые курорты, — произнесла с огорчением, но сразу же взяла себя в руки и добавила равнодушно: — Машину можете поставить во дворе под навесом. Хорошая у вас машина… Венский номер… — Пошевелила губами, будто считала, и вдруг запнулась. Села, посмотрела исподлобья на Кноля, глянула искоса на Бонне. Повторила вопрос: — Машина ваша?
— Рылом не вышел! — пошутил инспектор. — Взял напрокат…
— А–а, — с облегчением вздохнула хозяйка, но смотрела настороженно.
Бонне понял, что она хорошо помнит двухцветный «крейслер» и узнала номер. Но через несколько минут комиссар пришел к выводу, что ошибся: хозяйка разговаривала с Кнолем приветливо, секундное волнение, охватившее ее, когда увидела номер «крейслера», еще ничего не означало. Однако ее спокойствие могло быть ловкой маскировкой: если хозяйка заподозрила их и знает, где Грейт и Ангел, она может предупредить Ангела, и тогда уловкам Бонне грош цена.
А если все же попробовать?
Бонне пересел ближе к барменше и заговорил:
— Нам назначил встречу в «Черном дрозде» один из моих друзей. Несколько дней назад он приезжал сюда на этом же «крейслере». Посмотрите еще раз на машину — таких немного, ошибиться трудно.
— Как зовут вашего друга? — спросила хозяйка, посмотрев на Бонне проницательно.
Комиссар произнес уклончиво:
— Иногда мы вынуждены менять имена… Он должен ждать меня здесь. Точнее, он с приятелем, американцем. Такой верзила. А мой друг, наоборот, среднего роста, с розовыми щеками…
Хозяйка отозвалась равнодушно:
— Я не видела таких. Может, они остановились в селе.
— И эта машина вам незнакома? — кивнул Бонне на «крейслер».
— Сейчас развелось столько марок… — вздохнула хозяйка. — Но такую вижу впервые.
Бонне вспомнил, как она запнулась, когда увидела номер «крейслера», и понял, что соврала.
— Ну что ж, — сокрушенно покачал головой, — возможно, они задержались. Подождем день–два… Можно взглянуть на комнату?
— Конечно… — поднялась хозяйка.
Она первой направилась к выходу и, не оглядываясь, вышла в коридор, заканчивающийся лестницей.
Бонне двинулся за ней, но внезапно остановился, незаметно подмигнул инспектору и сказал громко:
— Я догоню вас. Забыл в машине… — не досказав, что именно забыл, выскользнул в зал, поспешно прошел к дверям и преградил путь молоденькой красивой девушке. Та с любопытством посмотрела на Бонне, но сразу же опустила глаза и стала перебирать край фартука.
— Боже мой! — воскликнул Бонне с деланным пафосом. — Если бы я раньше знал, что в «Черном дрозде» такие горничные, никогда не проезжал бы мимо! Как тебя зовут?
Та блеснула глазами.
— Розмари.
Бонне вздохнул.
— И имя и красота!.. Жаль, что такой бутончик может увять в этой дыре.
— Летом здесь много туристов, — возразила девушка, — и бывает весело…
— У тебя сегодня свободный вечер? — Взгляды, которые девушка бросала на него, подсказали комиссару, что вряд ли стоит церемониться с ней.
Горничная заколебалась. Обернулась на «крейслер», снова посмотрела на Бонне.
Комиссар торжествовал: все время он ждал, не заинтересуется ли кто–нибудь машиной. Перед тем как зайти в бар, девушка обошла клумбу и заглянула в «крейслер».
— Вечером я занята, — ответила Розмари. — Сегодня утром ко мне приехали родственники…
— Случайно не в этом «крейслере»?
— Откуда вы знаете?
Бонне не дал ей опомниться:
— Господин Иоахим Вейзенфельс с другом? Какие же они ваши родственники?!
Девушка растерялась.
— Дело в том, что в этом «крейслере» приехали мы! — продолжал Бонне.
— С Эдгаром?
«Эдгар?.. Наверно, так сейчас зовут полковника…» — подумал комиссар и на всякий случай спросил:
— Ты уже соскучилась по нему?..
Девушка игриво опустила глаза.
— С ним весело…
— Эдгар всегда был настоящим мужчиной! — сказал Бонне грубовато. — Поедешь с нами к нему?
— В Якобсдорф? — вырвалось у девушки, но она сразу сникла, глянула недоверчиво и даже испуганно. Но Бонне смотрел открыто и доброжелательно. Это успокоило ее. — Не говорите только фрау Вессель… Она съест меня!
— Ты предупредишь фрау Вессель, что дома гости, и будешь ждать нас за поворотом. Пожалуй, не нужно, чтобы она все знала.
— Сегодня мало посетителей, и фрау Вессель управится в баре сама. Я пойду и договорюсь с ней.
Но Бонне не мог отпустить от себя девушку ни на секунду.
— Подожди! Они сейчас спустятся… — Пропустил горничную в зал. — Помни. Ты выйдешь первой и будешь ждать нас…
Девушка кивнула и заторопилась убрать столики. Бонне взял газету и сел у стойки. Хлопнула дверь, и Кноль сказал громко:
— Хорошая комната, и у меня нет возражении…
Бонне отложил газету.
— Вы же знаете мои вкусы. Если вам нравится, то мне и подавно. — Следя краем глаза за горничной, которая несла пустые кружки, добавил: — Жара… Вот бы искупаться в озере…
Поставив кружки, горничная перегнулась через стойку к хозяйке. Сказала просительно:
— У меня к вам, фрау…
— Ну? — перебила ее фрау Вессель. — Что еще нужно твоему отцу…
— О–о нет, фрау! — соврала беззастенчиво. — Маме что–то плохо, и я должна посидеть с ней… Сердце! И фельдшер сказал, что…
— Не одно, так другое. Лишь бы отлынивать.
— Не ведь посетителей в баре совсем мало, и я думаю…
— Она думает! Работала бы лучше. Только ради твоей матери…
— Спасибо, фрау Вессель, — обрадовалась девушка. — Когда ей станет легче, я прибегу. — Сбросила фартук, повесила в шкаф. — Мама будет благодарна вам.
Девушка чуть заметно глянула на Бонне и выскользнула из зала. Комиссар посидел еще несколько минут. Потянулся и переспросил инспектора:
— Так как вам мое предложение?
— Выкупаться? С удовольствием.
— Вот и хорошо… — Бонне обернулся к фрау Вессель. — Если нас будут искать…
— Они подождут здесь.
— Хорошо. Когда у вас обед?
— С четырех до пяти.
— Мы не задержимся, — пообещал комиссар.
Розмари ждала их за поворотом. Бонне успел предупредить Кноля, и тот затормозил, увидев девушку. К сожалению, он не знал, как проехать в Якобсдорф, и начал дипломатично:
— Эти сельские дороги настолько однообразны, что я никак не могу сориентироваться.
— Розмари знает здесь каждую тропинку, — подбодрил его Бонне, — и с ее помощью…
Асфальтированная лента поворачивала к озеру. Прямо шла дорога, покрытая щебенкой.
— Нам туда? — показал на проселок инспектор.
— Да… — Девушка пожала плечами. — Но как вы добрались сюда из Якобсдорфа?
— В объезд… — туманно объяснил Кноль.
— Это же далеко, а напрямик всего тридцать километров, — заметила Розмари.
— А какая дорога! — буркнул Кноль.
Они миновали село, и Бонне положил руку на плечо инспектора, предлагая остановиться. Повернулся к Розмари.
— Хватит шутить! — сказал строго. — Мы из полиции!
Девушка схватилась за ручку дверцы.
— Что вам надо от меня?
— Сейчас ты покажешь нам дом, где живут Вейзенфелье и Эдгар, — решительно произнес Бонне.
Девушка задумалась.
— Я скажу вам адрес, а вы отпустите меня.
Бонне чуть не рассмеялся: хитрость, граничащая с наивностью. Взял девушку за локоть.
— Ты не выйдешь из машины, пока мы не разрешим.
— Хорошо, — согласилась девушка. — Якобсдорф, Зеештрассе, семнадцать. Дом Клюпфслев… Но что сделал Эдгар?
— Ничего особенного, — объяснил Бонне. — Дорожное происшествие.
— А–а… — с облегчением вздохнула девушка. — Штраф?
Комиссар подмигнул Кнолю.
— Наверно, штраф, — закончил Бонне. — Вызывайте!
Инспектор взял микрофон, включил рацию, вмонтированную под сиденьем.
— «Форд» — четырнадцать… «Форд» — четырнадцать… Слышите меня? Ждем вас около Якобсдорфа. Маршрут, — склонился над картой, — через Гейденольдендорф… Понятно?
***
Знакомые журналисты устроили Дубровскому встречу с Фридрихом Гартенфельдом на второй день после приезда Сергея в Вену. Дубровского интересовал этот человек, так много сделавший для розыска бывших военных преступников. Картотека, которую Гартенфельд собрал фактически собственными усилиями, считалась одной из самых полных в Западной Европе. За несколько минут Гартенфельд мог найти данные о прошлой и нынешней деятельности как высокопоставленных лиц «третьего рейха», так и различных карателей, палачей, агентов и провокаторов.
Гартенфельд оказался худощавым и подвижным человеком с большими, темными, выпуклыми глазами, смотрящими живо и проницательно. Он сразу приступил к делу:
— Итак, вас интересует Ангел… Франц Ангел, гауптштурмфюрер СС, комендант лагеря смерти…
— Да, он был комендантом.
Гартенфельд не мог не заметить нарочито спокойного тона Дубровского:
— Вы были в этом лагере? Так я и знал. — Гартенфельд вынул из ящика конверт, помахал им в воздухе. — Это дело Ангела… Меня предупредили, что вы интересуетесь этой личностью, и я немного подготовился. Однако сразу должен вас немного разочаровать: как ни странно, но Ангелу удалось ловко замести следы, ведь о его гибели свидетельствуют факты на первый взгляд неопровержимые. В официальной прессе Германии опубликовано сообщение о смерти гауптштурмфюрера СС Франца Ангела во время бомбежки польского городка советскими летчиками. Действительно, в то время в городке дислоцировалась большая танковая часть, по которой и был нанесен удар вашими соотечественниками.
— Я помню то утро, — подтвердил Сергей. — Городок бомбили почти час. Многие заключенные молили бога, чтобы зацепило и нас: смерти никто не боялся, но во время бомбежки можно было и бежать…
— Бомба разорвалась в нескольких метрах от машины коменданта лагеря, когда он возвращался из городка. Вот, пожалуйста, даже документальное подтверждение этого факта. — Гартенфельд положил перед Дубровским вырезку из газеты. — Фотография сделана сразу же после налета. Перевернутая машина, виден номер, смотрите, воронка и даже труп. Изуродованный, конечно, взрыв бомбы — это не детская забава. Собственно говоря, нет повода для сомнений, ваши войска только вошли в Польшу, и эсэсовцы еще не заметали следов. Факт смерти Ангела ни у кого не вызвал подозрения. Гауптштурмфюрера, так сказать, списали. Имя его упоминалось на Нюрнбергском процессе, но что поделаешь — с мертвого ничего не возьмешь. Судили заместителя Ангела, и вы знаете, его казнили. Все это было настолько правдоподобно, что мне и в голову не приходило покопаться в этой истории. Правда, был один факт… Изучая архивные материалы, связанные с изготовлением фальшивых фунтов стерлингов, я натолкнулся на сведения о том, что связь между Штайнбауэром — вы, конечно, слышали это имя? — и его итальянскими агентами по сбыту фальшивых фунтов осуществлял человек, очень похожий на Франца Ангела. Но я не придал этому значения: наверно, у каждого человека есть двойник… Кроме того, к сожалению, гауптштурмфюрер был исключительно предусмотрительным человеком, — даже у меня нет ни одной его фотографии.
Дубровский вынул из бумажника снимок, положил перед Гартенфельдом.
— Ликвидируем это белое пятно. Снимок сделан три недели назад в Танжере.
Гартенфельд схватил фотографию так, как ребенок хватает новую игрушку.
— Неужели три недели назад? Вы уверены, что это Ангел? Где гарантия?
— Гарантия — это я… — позволил себе шутку Сергей. — Я видел гауптштурмфюрера СС Франца Ангела в лагере так близко, как вижу сейчас вас, а три недели назад мы выследили его в Танжере… Если же добавить еще этот документ, — показал Гартенфельду фотокопию письма Генриетты, — то доказательств будет достаточно…
— Ого! — только и сказал Гартенфельд, ознакомившись с письмом. — Но чем я могу быть вам полезен? Вы знаете больше меня.
— Сейчас Франц Ангел в Австрии.
— Не может быть!
— По его следам идет Интерпол.
Дубровский кратко рассказал, как они напали на след Ангела и Грейта и как ловко выскользнули преступники.
— Пока мы здесь беседуем, — произнес Гартенфельд, — ваш комиссар мог уже арестовать Ангела. Но мы не позволим судить его как уголовного преступника. Мы поднимем на ноги всю левую печать мира — Ангел заслуживает виселицы, и мы должны будем добиться, чтобы его повесили!
— Они могут снова обвести полицию вокруг пальца, — возразил Дубровский.
— Могут… — сказал Гартенфельд взволнованно, подергал себя за кончик носа и спросил у Сергея: — Вы уверены, что они охотятся за австрийскими девушками?.. Вряд ли… В Австрии это делать значительно сложнее, чем там, во Франции или Италии. У нас женщины больше заняты в производстве, да и вообще образ жизни, черты характера австриячек… Все это дополнительные трудности, а такие волки, как Ангел и Грейт, безусловно, взвешивают все и действуют там, где удобнее. Итак, последний раз вы видели их в Танжере, и бежали они от вас на французском судне… Так, так… От Марокко до Испании — один шаг, а оберштурмбаннфюрер СС Роберт Штайнбауэр, вероятно, бывший шеф Ангела, сейчас живет в Мадриде… Любопытное стечение обстоятельств, господин Дубровский. Как вы считаете?
***
Увидев строения Якобсдорфа, Кноль остановил «крейслер» на обочине под развесистой яблоней.
Бонне вышел из машины, несколько раз присел, разминаясь, сорвал зеленое яблоко, надкусил и бросил.
— Хелло, фрейлейн! — позвал он Розмари. — Не хотите ли подышать свежим воздухом?
Девушка не ответила. Забилась в угол и сидела насупившись.
Кноль показал комиссару на черную машину, перевалившую через холм за полем.
— Наш!..
Полицейский «форд» шел на большой скорости, подняв целую тучу пыли. Затормозил рядом с «крейслером», и четверо полицейских в гражданском выскочили из машины.
Бонне подошел к ним и кратко объяснил:
— Ангел и Грейт живут в Якобсдорфе, Зеештрассе, семнадцать. Пока мы ехали, фрейлейн, — он кивнул на Розмари, — рассказала, что это двухэтажный особняк с чугунной оградой. За ним усадьба, выходящая на другую улицу.
— Перекрыть отход с тыла, — понял сержант с «форда». — А вы будете брать их…
— Когда стемнеет, — уточнил Бонне.
…Дом Клюпфелей почти ничем не отличался от двух десятков других на этой улице: высокая красная черепичная крыша, узкие окна, перед домом цветник, несколько декоративных кустов. Дверь дома открыта, словно приветливо приглашает внутрь, рядом на скамейке сидит полный лысый человек, читает газету.
Бонне не рискнул сам подойти к дому, послал Кноля. Инспектор прошел мимо, ни на секунду не задерживаясь, и свернул на соседнюю улицу.
— У меня такое впечатление, — сказал Бонне, — что в доме никого нет. Окна на втором этаже открыты, на балконе спит доберман–пинчер. Тихо и спокойно…
— Подождем немного, — решил комиссар.
— Если они уехали совсем, мы напрасно теряем время. Если вернутся, мы встретим их с радостью.
— С радостью, говорите? — тихо засмеялся Бонне. — Как брат брата?..
Они подошли к киоску, выпили кока–колы и покурили. Стемнело. Кноль вышел на перекресток.
— Свет на первом этаже, — доложил, — остальные окна темные, может быть, на самом деле никого нет.
— Ну что ж, — вздохнул Бонне. — Идем…
Он подозвал сержанта, приказал ему держаться поблизости и в случае тревоги ворваться в особняк.
Пошли с Кнолем медленно, громко разговаривая, как будто два солидных бюргера возвращаются домой. У калитки дома номер семнадцать задержались, Кноль хотел было уже нажать кнопку звонка, но Бонне опередил его — толкнул калитку, и она открылась бесшумно: хозяин был аккуратный и регулярно смазывал петли.
На крыльце Бонне оглянулся. Увидев сержанта с полицейским на той стороне улицы, позвонил, поскольку дверь в дом уже была заперта.
— Кто там? — послышалось за дверью. — Иду, иду…
Клюпфель открыл, не переспрашивая. Не испугался, смотрел поверх очков вопросительно.
— Что нужно господам?
— Полиция!
— Пожалуйста… — засуетился, пропуская в дом полицейских. — Чем могу служить?
Бонне быстро прошел мимо.
— Включите свет! — приказал. Увидел лестницу на второй этаж, начал быстро подниматься.
— Там никого нет! — крикнул ему вдогонку хозяин. — Остерегайтесь собаки!
Действительно, за дверью хрипло залаял пес.
— Уберите!.. — Бонне пропустил вперед Клюпфеля. Тот пролез в дверь, поймал добермана за ошейник. В комнатах никого не было.
— Где Вейзенфельс и Эдгар? — спросил Бонне хозяина.
Тот улыбнулся понимающе:
— Жена повезла их на станцию. Они жили у нас, а сейчас едут в Зальцбург.
Бонне спросил:
— Есть у вас телефон? Какой номер вашей машины?
— В гостиной, — показал на первый этаж хозяин. — «Фольксваген», восемнадцать–триста сорок один…
— Сообщите городской полиции, Кноль! — крикнул комиссар. — Вы слышали?
— Конечно. Здесь никого нет.
Бонне обошел комнаты, заглянул в шкафы. Следов поспешных сборов не было, хотя… Бонне измерил взглядом Клюпфеля и достал из шкафа костюм. Хороший костюм из светлой ткани, однако брюки достали бы Клюпфелю до шеи.
— Чей?
— О–о! — удивился Клюпфель. — Герр Себолд забыл свои вещи…
Комиссар заглянул в ванну.
— Это тоже герра Себолда? — Он вытащил из–под полотенца дорожный несессер.
— Это мой, — запротестовал Клюпфель.
— «Сделано в Испании», — прочитал Бонне.
— Ну и что же? — притворился, что не понял, хозяин.
— Конечно, — согласился комиссар, — в Австрии много импортных товаров. Но не думаю, что сюда импортируют зубную пасту. — Открыл тюбик, выжал немного, понюхал. — Свежая…
— Сейчас несессеры так похожи один на другой, — стал оправдываться Клюпфель, — я мог и спутать…
— Когда уехали ваши жильцы?
— Около шести.
«Мы оставили «Черный дрозд» в пять часов четырнадцать минут», — подумал Бонне и спросил хозяина:
— А когда идет поезд в Зальцбург?
— Ушел четверть часа назад.
«Не врет, — понял комиссар, — все это легко проверить».
— Сейчас двадцать одна минута десятого… До станции двадцать минут езды. Что же они делали там почти три часа?
Клюпфель улыбнулся нагло:
— Я сам говорил им — не спешите… Но жена заупрямилась, что–то ей нужно было купить в магазине на станции. А знаете, как возражать женам…
Бонне не слушал его. Размышлял. Вряд ли здесь могло быть случайное стечение обстоятельств. Наверно, их предупредила фрау Вессель. Значит, они с Кнолем допустили ошибку. Когда и какую?
***
Фрау Вессель, машинально вытирая стойку, думала: позвонить в Якобсдорф сразу или дождаться Хетеля?
Вчера она сообщила Хетелю в письме, что два человека, прибывших из Испании, интересуются им, и получила ответ: герр Хетель посетит «Черный дрозд» завтра. Вначале она покажет Хетелю этих двоих новеньких из «крейслера», и пусть сам герр Вольфганг решает, как поступить. А пока она проследит за пассажирами «крейслера» — черт знает, может, это полицейские шпики, но почему второй говорит с акцентом? Может, Штайнбауэр на самом деле послал их вдогонку? Если это так, то они должны были бы знать пароль…
Фрау Вессель вздохнула и посмотрела на портрет мужа. Тот разобрался бы в этой ситуации сразу, у него был нюх, и он разоблачил не одного врага «третьего рейха». Бедный Клаус, принял цианистый калий, испугался петли. Дурак, уже вышел бы из тюрьмы. На Хетеля навешали столько обвинений, что никто не сомневался — присудят к смертной казни, а он уже третий год на воле, есть деньги, уважение людей.
Но почему они приехали на том же «крейслере», что и господин Вейзенфельс? Может, все же позвонить в Якобсдорф? Но, наверно, день ничего не решит. На этом фрау Вессель успокоилась. Увидев в дверях посетителя, улыбнулась.
— Пива! — крикнул тот еще с порога. — Жара, я выпью, кажется, бочку!
Этот Штригель, хотя и хороший механик, все же был болтуном, а таких людей хозяйка «Черного дрозда» никогда не уважала.
Выпив кружку, Штригель подвинул ее фрау Вессель, чтобы она налила еще, и сказал:
— На вашем месте я бы поговорил с Розмари. Она начинает путаться с кем угодно. Только что видел, как ее посадили в роскошную машину — двухцветный американский «крейслер»…
— Это мои жильцы, — объяснила фрау Вессель, — они поехали на озеро.
— На озеро, — налево, — возразил Штригель, — они же поехали в село.
— У Розмари заболела мать, и девушка могла попросить подвезти…
— Странно, — удивился Штригель, — вы, фрау Вессель, добрая душа, но я на вашем месте не доверял бы этой девчонке. Она обманула вас, ее мать здорова, я только что видел ее в магазине.
Хозяйка больше не слушала его. Налила пива, поставила перед Штригелем кружку, а сама подумала: «Напарнику Вейзенфельса понравилась Розмари, он даже приезжал за ней, и проклятая девчонка знает, где они живут. Дорога на Якобсдорф — через село, боже мой, неужели они уже на пути туда?»
Посмотрела на часы — двадцать минут шестого, — они отъехали пять минут назад. Немного успокоилась — еще есть время. Фрау Клюпфель — надежный человек, она устроит все как следует…
— Подождите, мне нужно срочно позвонить… — сказала фрау Вессель Штригелю.
…Бонне спустился на первый этаж: Клюпфель, закрыв собаку, пошел за ним. Зазвонил телефон, и Кноль взял трубку. Выслушав, он доложил:
— «Фольксвагена» под номером восемнадцать–триста сорок один на станции не было!
Бонне взглянул на Клюпфеля. Тот произнес с издевкой:
— А вы не допускаете, что жена высадила их в селе? Я ведь говорил, собиралась заглянуть в магазин… Могла передумать и не поехала на станцию. А они добрались автобусом.
Комиссар ничего не ответил. Стоял перед Клюпфелем, видел, как тот не может скрыть торжества, и думал, что розыск усложняется — теперь Ангел и Грейт знают: полиция напала на их след, и постараются сделать все возможное, чтобы замести его.
***
Хетель оставил машину на платной стоянке и отправился в ресторан «Райский уголок» пешком. Даже претенциозное название не спасало эту паршивую харчевню, и Хетель подумал, что с удовольствием подложил бы сюда, в этот мрачный зал, адскую машину, чтобы потикала немного и рванула ко всем чертям — и жуликоватого хозяина–макаронника из Рима, и грязные столики, и подозрительных посетителей. Так им и нужно, если не уважают свои желудки и довольствуются кухней сеньора Модзолетти!
Однако сам все же пришел сюда, хотя и знал, что будет есть и невкусный бульон, и твердые, как подметки, лангеты. Такие он не ел даже в тюрьме; там за деньги всегда можно было договориться о приличной пище.
Хетель вздохнул и подумал, что все–таки на воле лучше, и черт с ними, с лангетами Модзолетти, в конце концов, он ест их второй раз и, даст бог, последний.
Господин библиотекарь или, как он сам себя называл, хранитель рукописей зальцбургского архиепископа Георг Циммер еще не пришел, и Хетель занял его любимый столик — в углу, где зимой не дуло и была видна вся площадка перед рестораном.
Георг Циммер любил есть не спеша и разглядывать, что происходит на улице. Собственно говоря, во время обеда да вечером он только и общался с внешним миром. Всю свою сознательную жизнь господин Циммер проводил наедине с книгами и был вполне доволен своей судьбой. К женщинам оставался равнодушен и ни разу не улыбнулся даже самой красивой официантке «Райского уголка» Эмме, которая вот уже три года постоянно обслуживала его.
Георг Циммер больше всего в жизни ценил древний манускрипт, а среди его авторов не было женщин, и это определяло от начала и до конца его линию отношений с женским полом. Зарплаты ему вполне хватало на лучшую еду в «Райском уголке», а также на костюм — один на два года, да на разную мелочь. Квартира у него была служебная. — комната над подвалом, где хранились рукописи. Это удовлетворяло и администрацию, экономившую на зарплате сторожа, и его самого; если бы не посещение «Райского уголка», Георг Циммер неделями не выходил бы из замка.
Завоевать доверие Циммера было трудно. Можно было или подобрать к нему ключ, или совсем убрать — иного выхода ни Ангел, ни Грейт не видели, поскольку в одной из комнат нынешнего книгохранилища Штайнбауэр в свое время оборудовал тайник.
Идеальным было бы, конечно, войти в доверие к Циммеру, достать ключ и ночью, когда старик спит, раскрыть тайник и вывезти золото. Днем в подвал лезть безнадежно: у Циммера четыре или пять помощников, туда–сюда снуют любители старины, которым даже запах пергамента доставляет удовольствие.
Ангел и Грейт безвыездно сидели в Альт–Аусзее, маленьком местечке под Зальцбургом, где у Хетеля была частная школа. Жили в особняке Хетеля — никто не знал о них, кроме старой служительницы да Петера — эсэсовца, охранника и правой руки Хетеля, который служил когда–то под началом штурмбаннфюрера и чуть ли не молился на него.
Известие о том, что полиция напала на их след в Австрии, не на шутку расстроило Ангела. Особенно разозлился он, когда узнал, что детективы приезжали на двухцветном «крейслере», который они с Грейтом брали напрокат. И все из–за тщеславия полковника. Грейт, когда увидел «крейслер», чуть не умер — последняя модель, точно такая, о какой он Мечтал. Обошел вокруг машины, сел за руль и не захотел выходить. Ангел подсчитал, что за прокат «крейслера» придется платить вчетверо дороже, чем за «фиат» или «фольксваген», но Грейта словно что–то укусило. Заявил упрямо:
— Я доплачу свои, если вы уж такой скупой.
И вот получили… Слава богу, что хозяйка отеля своевременно раскусила этих субъектов.
Фрау Клюпфель отвезла их до Зальцбурга. Там пересели в такси, на котором добрались до села по соседству с Альт–Аусзее. Фрау Клюпфель за это время позвонила Хетелю, и тот встретил их в пивном зале. Отсюда до частной школы Хетеля — десять минут езды. Дождались темноты, чтобы любопытные глаза не заметили, что у хозяина школы гости. В конце концов, если бы кто–нибудь подсмотрел, тоже не страшно — к Хетелю иногда заезжали старые друзья, но береженого, говорят, и бог бережет. Именно поэтому они решили, что Ангелу и Грейту не стоит высовывать нос из дома и что библиотекарем должен заняться сам Хстель.
На следующее утро Хетель поехал в Зальцбург и целый день просидел, перелистывая странички манускриптов и присматриваясь к Циммеру и его коллегам.
За два дня Хетель более или менее изучил расположение помещений книгохранилища и успел познакомиться с его работниками. С некоторыми он заводил разговор о Циммере и убедился, что все с уважением относятся к шефу и склонны не замечать его странности. Вообще, решил Хетель, все здесь немного чокнутые. Он выбрал минуту и обратился с вопросом к самому Циммеру, но тот не принял его всерьез и направил Хетеля к своему помощнику. За эти два дня удалось установить, что Циммер — чрезвычайно пунктуальный человек и выходит из библиотеки только два раза в день — в «Райский уголок». И еще (это ему, смеясь, рассказал один из библиотекарей): у их шефа есть слабость — он лейблист.
Хетелю неловко было уточнять, что это такое, он только запомнил это необычное слово и засмеялся, подмигнув библиотекарю: вот, мол, какой старик, никогда не ждал от него такого, да и кто мог подумать. Однако в душе обрадовался: лейблист — это, наверно, член какой–нибудь секты или, дай бог, если оправдались бы его подозрения, тайного общества развратников. Если это так, Циммер у них в кармане, он сам откроет им двери и поможет грузить контейнеры…
Хетель побежал в обыкновенную библиотеку, чтобы заглянуть в справочник. Нашел нужное слово и разочарованно закрыл книгу. Лейблист, оказывается, собиратель обыкновенных гостиничных наклеек на чемоданах или на стеклах машин.
Вечером, рассказывая об этом, удивился, почему Ангел так обрадовался, что даже заерзал на стуле. Но тот ничего не стал объяснять и только попросил:
— Закажите мне телефонный разговор с Цюрихом… Хотя не нужно телефонных разговоров, лучше дам телеграмму и желательно не из Альт–Аусзее. Срочно!.. Заводите свою машину, Вольфганг.
— На вашем месте я бы все же рассказал… — начал недовольно полковник, но Ангел только отмахнулся. Закончив писать, показал листок Хетелю. Только после этого объяснил:
— Мой сын тоже лейблист. Мы телеграфируем ему, и он пришлет нам две–три сотни красивых наклеек, после чего вы, — обратился он к Хетелю, — имея на руках такое, с позволения сказать, богатство, попробуете познакомиться с этим старым козлом Циммером. Врите ему все, что угодно, меняйтесь наклейками — сердце коллекционера мягкое, как воск, и за день–два вы станете лучшими друзьями!
Это предположение Ангела оправдалось. Получив из Цюриха бандероль с наклейками, Хетель встретил Циммера в коридоре и спросил:
— Я слыхал, у вас одна из самых больших в Австрии коллекций наклеек? У меня есть экземпляры, побывавшие в ваших руках, но я не имел чести переписываться с вами и вообщетолько недавно приехал сюда…
Циммер посмотрел на него недоверчиво:
— Я знаю всех знаменитых лейблистов мира. Извините, с кем имею честь?
— Отто Ренненкампф, коммерсант. — Увидев, как пожал плечами старик, Хетель быстро вынул из кармана и раскрыл перед носом Циммера коробочку с наклейками. — Здесь есть интересные экземпляры, — пошевелил наклейки, — и я был бы благодарен вам, если бы вы согласились посмотреть…
Библиотекаря не нужно было уговаривать: уткнулся носом в коробочку, пальцы быстро забегали, перебирая разноцветные бумажки.
— Посмотрите, господин Ренненкампф, какая красивая наклейка… В моей коллекции около пятнадцати тысяч наклеек, а этой нет. Отель «Монако» на Гранд–канале в Венеции… Хотите, я вам дам за нее две или три латиноамериканские?
Хетель слегка вздохнул. Ответил:
— Имею таких две… Могу вам подарить.
— У меня сегодня счастливый день! — обрадовался Циммер. — Однако я не могу принять подарок. Только обмен, дорогой коллега, только обмен…
— В моей коллекции широко представлен Ближний Восток, — как бы между прочим заметил Хетель. На самом же деле он внимательно следил, какое впечатление произведут эти слова: Ангел предупреждал, что его сын в свое время просил достать наклейки из аравийских стран; их очень мало, и за ними гоняются все лейблисты. И действительно, Циммер глянул на него недоверчиво. Сказал:
— Я истратил не один десяток шиллингов на письма, чтобы добыть хоть что–нибудь из Саудовской Аравии или Йемена. Но, очевидно, там просто нет наклеек — почти все мои письма остались без ответа.
— Ну, вам до встречи со мной просто не везло, — засмеялся Хетель.
— Я буду иметь счастье взглянуть на вашу уникальную коллекцию? — спросил Циммер.
Хетель весь подобрался, словно готовился к прыжку: сейчас главное — не оплошать. Произнес, будто речь шла о незначительной услуге:
— Завтра во второй половине дня я приеду в Зальцбург. Вечер у меня будет свободен. Мне тоже хотелось бы познакомиться с вашей коллекцией.
— Моя холостяцкая квартира… — заколебался Циммер.
— Какое это имеет значение! — махнул рукой Хетель.
— Тогда прошу вас завтра вечером на чашку кофе, — решительно предложил библиотекарь. — Мы можем встретиться в ресторане «Райский уголок». Я ужинаю в половине восьмого, и после ужина, если вас устроит…
— Я готов смотреть на ваши наклейки и в двенадцать, — грубо польстил Хетель, но старик воспринял это как должное.
— Да, моя коллекция — одна из лучших в мире! Завтра ровно в восемь. Честь имею.
Хетель снял очки и медленно протер их платком. Он всегда делал так, когда хотел сосредоточиться, — как бы отгораживался от внешнего мира какой–то полупрозрачной пленкой, люди и предметы становились расплывчатыми, нереальными, словно привидения, и ничто не мешало думать. Размышлял: завтра он попадет в квартиру Циммера. Ключ! Ему больше ничего не надо — ключ!
Вечером он обсудил с Ангелом и Грейтом возможные варианты завтрашнего разговора. Вернее, прикидывали различные ситуации, в которые мог попасть Хетель. Все зависело от того, где носит Циммер ключ. Если в кармане брюк, все их хитрости — пустое дело, и следует искать иной способ проникновения в библиотеку.
Ангел все время вертелся на стуле, ему явно хотелось что–то предложить, но он не отваживался или не мог сформулировать свою мысль. Так вертится ученик за партой — вроде и знает урок, но страшно поднять Руку.
Хетель несколько минут наблюдал за Ангелом, затем не выдержал:
— Здесь все свои, Франц, и, если вы хотите предложить что–то, валяйте.
Очевидно, Ангелу действительно требовалось поощрение: он еще раз повернулся на стуле и, глядя мимо Хетеля, предложил:
— А если этого библиотекаря того? — рубанул воздух ладонью.
Хетель блеснул стеклами очков и спросил вкрадчиво:
— И это должен сделать я?
Ангел не ответил прямо. Сказал, словно раздумывая:
— Есть немало способов незаметно убирать людей…
— Не выйдет! — вдруг выкрикнул Хетель. — Я не собираюсь идти на каторгу!
Ангел назидательно поднял палец.
— Я имел в виду, что с вашим опытом… — Поморщился и произнес твердо: — Вы не ребенок, Хетель, и если не будет иного выхода!..
— Господа… господа… — вмешался Грейт. — К чему столько эмоций? Может, завтра у нас будет ключ…
— Действительно, — сразу успокоился Ангел, — все наши споры не стоят выеденного яйца…
Хетель был уверен, что Ангел замял этот разговор из чисто тактических соображений: нужно ли обострять отношения, если все еще впереди. Но он твердо знал, что не пойдет на «мокрое дело». Не потому, что это противоречило его принципам или он боялся, просто Хетель всегда умел трезво оценивать обстановку и определять, стоит ли рисковать. Охотясь за Циммером, он уже успел наследить: дважды встречался с библиотекарем в ресторане, и кто знает, не обратит ли полиция внимания на эти встречи, если она начнет устанавливать круг знакомых Циммера.
Нет, пусть Ангел сам идет на это, если хочет. Этот чертов Франц получит вдвое или втрое больше, чем он, Хетель, так пусть и рискует!
…Хетель так ушел в мысли, что увидел Циммера, когда библиотекарь уже приближался к нему. Машинально посмотрел на часы — ровно половина восьмого, секунда в секунду. Так и сказал Циммеру:
— По вас можно проверять часы…
— Я ценю свое и ваше время, — ответил Циммер, расстилая на коленях салфетку.
Официантка уже несла на подносе ему ужин. Циммер ел быстро и молча, только опорожнив тарелку, спросил:
— Вы принесли?
Хетель похлопал рукой по портфелю. Сказал, будто признался в чем–то запрещенном:
— Мне сегодня снилась ваша коллекция. Наклейки превращались в отели, которые наваливались на меня со всех сторон — отели, отели и отели…
От «Райского уголка» до библиотеки три квартала. Они миновали их быстро, не разговаривая. Обошли площадь, замощенную еще в средневековье, и остановились под высокой и широкой аркой. Дверь в книгохранилище была обита железом.
Циммер остановился, расстегнул плащ, полез в задний карман брюк. Настроение у Хетеля сразу испортилось. Он смотрел на библиотекаря с ненавистью и жалел, что тот не попался в его руки раньше. Даже не заметил, как щелкнул замок, увидел ключ только тогда, когда Циммер вынул его из замочной скважины: большой, с фигурной ручкой — и как только он помещается в кармане?
Пропустив Хетеля вперед, библиотекарь закрыл дверь и спрятал ключ снова в карман.
Настроение у него окончательно испортилось, мелькнула даже мысль, что предложение Ангела о ликвидации этого старого черта не так уж и бессмысленно.
Циммер угостил его кофе, сам только глотнул один раз и забыл о чашке, разложил на письменном столе наклейки и перебирал их, словно раскладывал пасьянс, который может сойтись раз в жизни. Черты лица его обострились, глаза блестели.
— Вам нравятся эти наклейки? — спросил Хетель.
Циммер посмотрел на него, словно впервые увидел, но Хетель подошел к столу и сам переложил несколько цветных квадратиков. Да, он хозяин этого богатства, и Циммер должен считаться с этим.
Библиотекарь посмотрел на этого наглеца в выпуклых очках, хотел возмутиться, но врожденная деликатность пересилила — сказал вежливо и даже просительно:
— Я могу предложить вам в обмен редкие экземпляры. Конечно, я понимаю вас, и было бы наглостью вести разговор обо всем этом, — обвел рукой вокруг стола, — но если у вас есть дубли…
Хетель снова переложил наклейки.
— Отберите то, что вам больше всего нравится.
Видно, Циммер давно решил, что взять, потому что сдвинул в кучку в центре стола несколько наклеек. Заколебался, но все же добавил туда еще несколько.
Хетель с удовольствием отдал бы ему весь этот бумажный хлам, лишь бы только несколько секунд подержать в руках злополучный ключ. Но, словно жалея, перебрал наклейки, вздохнул.
— Хорошо, я могу поступиться ими, если у вас действительно найдется что–либо на обмен.
Циммер почти торжественно подошел к огромному шкафу, вмонтированному в стену, вынул несколько одинаковых по форме и размерам деревянных ящиков.
— Посмотрите–ка сюда, — подозвал он Хетеля. И когда тот стал перебирать бумажные квадратики: круги, треугольники, объяснил: — Вы третий или четвертый человек, получивший допуск к моей коллекции.
— Я счастлив, коллега, — пробормотал Хетель, незаметно глянув на часы. Черт, уже прошел час, как они разбирают идиотские бумажки, он видит, как выпирает ключ из кармана Циммера, но этот ключ так же далек от него, как и тогда, когда он находился в Альт–Аусзее.
Хетель незаметно зевнул и, отобрав наобум полтора десятка наклеек, спросил:
— Вам не очень жаль будет расстаться с ними? — Заметив, как печально вытягивается лицо у Циммера, предложил: — Завтра или послезавтра мы можем встретиться еще. Я пересмотрю свою коллекцию и, думаю, найду интересные дубли.
Циммер засуетился.
— Конечно… конечно, дорогой коллега… Я с удовольствием… Как всегда, в «Райском уголке»…
Хетель шел за ним по плохо освещенному коридору и думал, что стоит ударить сейчас старого чудака по голове и все — ключ у тебя…
Не страшно, если даже успеет крикнуть: здесь такие стены, что никто не услышит. Пожалел, что не взял с собой ничего тяжелого, но сразу опомнился: необходимо взвешивать свои поступки. Да и ситуация совсем не та. Когда–то они открыто маршировали по венским улицам, полиция боялась их и закрывала глаза даже на то, что иногда приходилось пристукнуть какого–нибудь из наиболее активных коммунистов.
Циммер вынул ключ и стал вставлять его в замочную скважину. Хетель переступил с ноги на ногу и вдруг застонал, схватился за сердце. Библиотекарь удивленно посмотрел на него.
Хетель отступил, опершись о стену, прохрипел:
— Воды… принесите мне воды…
Циммер приблизился к нему, поддержал.
— У меня есть валидол… Я сейчас…
Хетель следил за ним из–за опущенных век. Неужели библиотекарь вспомнит о ключе? Если вспомнит, он убьет его. И сделает это без сожаления, так как чаша терпения его переполнилась…
— Скорее… валидол… — выдавил сквозь зубы.
Циммер побежал по коридору, не оглядываясь. Хетель прыгнул к двери, прикрыл ее спиной, нащупал ключ. Черт, как все просто получилось! Быстро сделал слепок ключа.
В конце коридора грохнули двери — Циммер возвращался. Хетель снова прислонился к стене, принял валидол, но от предложения библиотекаря немного побежать отказался.
— Мне сейчас необходим свежий воздух. Посижу на бульваре. Нет, спасибо, не нужно провожать. Уже лучше, все в порядке.
Шел медленно, потому что библиотекарь стоял в дверях и смотрел ему вслед, и, только повернув за угол, заспешил к машине.
Ангел и Грейт смотрели телевизор. Хетель постоял на пороге, улыбаясь. Полковник, как всегда, развалился в кресле возле столика с бутылками — виски или джина, все равно что, он весь день пил что–нибудь. Ангел полулежал на диване, подложив под бок подушку, и следил за событиями на экране.
Они, казалось, искренне волновали его.
Хетель кашлянул. Полковник повернулся к нему вместе с креслом. Ангел недовольно поморщился, но все же любопытство пересилило, он выключил телевизор. И сразу заторопился:
— Ну… ну… как у вас?
— Завтра у нас будет ключ. — Хетель показал слепок. — Еще минута, и я бы сорвался. Этот старый хрыч довел меня до точки.
Ангел внимательно оглядел слепок. Похвалил:
— Чистая работа. Как вам удалось?
— Эх, — Хетель налил себе полстакана, — случай.
Полковник бросил ему в стакан несколько кубиков льда.
— Пейте и рассказывайте!
Ангел, выслушав рассказ, спросил:
— Сколько времени тратит Циммер на ужин?
— Минут пятнадцать–двадцать.
— Сколько нужно идти от библиотеки до ресторана?
— Минут семь–восемь.
— Туда и обратно — четырнадцать, всего полчаса, — подсчитал Ангел. — Мало!
— Да, — подтвердил полковник, — за полчаса тайник не раскрыть. А без шума не обойтись. Придется вам, Вольфганг, задержать Циммера.
Хетель подумал, что Ангел и Грейт, пока он возится с библиотекарем, могут извлечь золото и дать стрекача, но, поразмыслив, пришел к выводу, что сделать это невозможно: они успеют только разбить ломом пол перетащить же тяжелые контейнеры из подвала вдвоем не под силу.
— Я покажу ему наклейки в ресторане, и он будет сидеть, пока не пересмотрит их. Могу гарантировать вам еще полчаса.
— Хватит, — согласился Грейт. — Сделаем так. Мы раскрываем тайник и сидим там до двенадцати. В двенадцать вы подгоняете машину к библиотеке, и мы открываем вам. Дайте мне план подвала, Франц.
Ангел поморщился, но все же полез в карман. Уже достал бумажник, но в последнюю секунду раздумал и спрятал его обратно. Сказал решительно:
— Я покажу его вам перед самым началом операции.
— Боитесь? — рассердился полковник.
— Вы же не показали мне схему расположений тайника в штольне. И я не в претензии на вас.
Дело в том, что Штайнбауэр сделал хитрый ход: чтобы партнеры контролировали друг друга и не забыли о взаимной зависимости, дал Ангелу план тайника в замке, а Грейту — в штольне… Подозревал, что Ангел, достав списки «троек», может сговориться с Хетелем и обмануть его. Конфиденциально поговорив с полковником, предупредил его, чтобы тот не давал списки никому ни на минуту.
Грейт засмеялся.
— Вы начинаете бояться собственной тени, мой дорогой Франц. Но бог с вами… Нарисуйте мне, — повернулся он к Хетелю, — хотя бы приблизительную схему расположения библиотечных помещений.
Хетель начал чертить. Полковник внимательно смотрел через его плечо, иногда только уточняя детали. Затем удовлетворенно повертел головой.
— Главное в том, что нам не придется проходить мимо комнаты библиотекаря. Насколько я понял, от входных дверей до нее метров двадцать пять, да еще и коридор делает поворот. Вы согласны с этим, Франц?
Ангел, изучивший схему так, что, кажется, с завязанными глазами нашел бы тайник, пробормотал:
— Безусловно. К библиотекарю направо от входа, а нам налево.
— Поедем на двух машинах, — сказал полковник. — На вашем «опеле», Вольфганг, и еще на какой–нибудь. Может, взять грузовик?
— Зачем? — возразил Хетель. — Грузовик — это заметно.
— Полтонны золота и трое нас — этого не выдержит ни одна легковая машина.
— Возьмем еще «фольксваген». Контейнеры загрузим в «опель» и…
— Я поведу машину сам, — Ангел испугался, что Хетель сможет угнать машину с золотом.
— Конечно, — не отреагировал на подтекст Хетель. — Мы поставим ее в гараж вместе с контейнерами.
— Нет, — категорически возразил Ангел и показал на угол комнаты, — золото будет лежать здесь!
— Через три–четыре дня, когда получим телеграмму от Штайнбауэра, опять придется переносить его в машину.
— Контейнеры будут лежать здесь! — повторил Ангел. — И не надо уговаривать меня!
— Никто вас не уговаривает, — пожал плечами Хетель, — делайте как хотите. Кстати, Штайнбауэр будет телеграфировать сюда?
— Мы не знали, как сложатся обстоятельства, — объяснил Грейт, — и договорились, что телеграмму адресуют на почту в Блю–Альм. Это, кажется, недалеко отсюда? На имя вашего слуги, Штайнбауэр уже в Берне, ему потребуется три–четыре дня, чтобы решить вопрос с самолетом.
— Самолет сядет в районе штольни?
— Недалеко от нее, в Долине ландышей, — там есть неплохая площадка.
— Ваш слесарь надежный человек, Вольфганг? — спросил Ангел Хетеля.
— Он сделает ключ лучше оригинала.
— Я не об этом…
— Здесь не держат ненадежных людей!
***
Эту скамейку они увидели издалека и, не сговариваясь, направились к ней.
Развесистое дерево склонилось, создав нечто похожее на шатер, и они с удовольствием разместились под зеленым навесом. Но оказывается, сами нарушили покой хозяйки зеленой кроны: над их головами сердито зацокала белка.
Дубровский, уже успевший побывать чуть ли не во всех уголках Пратера и изучивший традиции его обитателей, вынул из кармана несколько орешков. Белочка, распушив хвост, застыла на ветке. Сергей протянул ей орешки на ладони. Она схватила один и побежала по стволу прятать. Через несколько секунд спустилась за другим орешком, потом еще за одним…
— Человек… тот бы взял сразу все, — задумчиво произнес Бонне, наблюдая за белкой.
— Вам окончательно испортили настроение, — засмеялся Дубровский, — и я не знаю, что будет, если вы не поймаете Ангела на этой неделе…
Бонне утомленно махнул рукой.
— Ни одного просвета, — признался, — мы окончательно потеряли след.
Сергей подбросил на ладони орешки. Рыжая шубка белочки мелькнула за стволом. Зверек выглянул из–за ствола, настороженно смотрел черными бусинками глаз.
— Она не так уж и проста, как вы думаете, — Сергей поднес белочке орешек. — И не успокоится, пока не выманит все. Вы слыхали о Фридрихе Гартенфельде? — спросил он внезапно.
— Тот, что собирает сведения о нацистах?
— Да… — неопределенно пробормотал Дубровский. Вдруг поставил вопрос ребром: — Как идет розыск?
— Изучаем объявления в прессе. Все связанное с наймом девушек на работу. В Вене и провинциальных городах. Полиция работает вполне оперативно, и, думаю, ни одно подозрительное сообщение не останется без внимания.
Дубровский отдал белочке последние орешки, вытер руки и откинулся на спинку скамейки.
— Кажется мне, вы идете по ложному пути, — сказал, доверительно толкнув колено Бонне. — Я не случайно назвал имя Фридриха Гартенфельда. Он обратил внимание на некоторые детали, которые могут пригодиться нам.
Бонне не выразил особого интереса, наверное, из вежливости:
— Я никогда не отказывался от советов и охотно выслушаю вас. — И все же не удержался, чтобы не подколоть: — Тем более что есть сейчас свободное время…
— И можете спуститься до дилетантского уровня, — отпарировал Дубровский.
Бонне оживился. Шутливо толкнул локтем Сергея в бок.
— Мы достаточно знаем друг друга, чтобы не обижаться на мелочи. Давайте выслушаем концепцию вашего Гартенфельда.
— Она заслуживает внимания. — Сергей не принял шутливого тона Люсьена и говорил серьезно, даже сердито. — Есть данные, что Ангел после своей, так сказать, смерти работал под руководством Роберта Штайнбауэра…
— Это того, который?..
— Фашистский герой, — подтвердил Сергей. — Когда–то он здесь, в Австрийских Альпах, прятал эсэсовские сокровища. Его задержали местные патриоты, передали американской военной администрации, с которой он быстро нашел общий язык. Так вот Гартенфельд сообщил мне, что в последнее время в районе Зальцбурга, совсем недалеко от знаменитого озера Топлиц, замечена активизация бывших эсэсовцев. Он связывает это с тем, что скоро пройдет двадцатилетний срок сохранения ценностей на зашифрованных счетах в банках, — очевидно, эсэсовцы спешат подобрать ключи к этим счетам. Кто–то ищет, а кто–то стоит на страже. Поинтересуйтесь в полиции — вам расскажут о нескольких загадочных убийствах именно в этих местах.
— И вы считаете, что Ангел и Грейт, — уловил ход мыслей Сергея Бонне, — охотятся сейчас за гитлеровскими сокровищами? Не думаю. Их бизнес более прибыльный и имеет под собой, как бы это сказать… реальную основу.
— Не спешите, — удержал его Сергей. — Мы точно знаем, что Ангела и Грейта вывезли из Танжера оасовцы. Куда, по–вашему?
— Девяносто девять процентов из ста — в Испанию, — ни на секунду не задумался Бонне.
— Да, в Испанию, — удовлетворенно покачал головой Дубровский. — В Мадриде же, на улице Кастелон де ля Плана — это точно зафиксировано у Гартенфельда, — живет бывший шеф Ангела и нынешний руководитель эсэсовской организации, тесно связанной с ОАС — Роберт Штайнбауэр. Не он ли организовал их побег из Танжера?
— Что–то в этом есть, — задумчиво произнес Бонне. — Но в моей практике случалось столько неожиданных обстоятельств…
— Это еще не все, — продолжал дальше Дубровский. — Через несколько недель наши герои появляются именно в Австрии — Штайнбауэру сюда нельзя совать носа. Не думаете ли вы, что Ангел и Грейт получили от него задание? И что здесь не какая–то авантюристическая охота, а трезвый расчет, поскольку Штайнбауэр сам создавал тайники в Австрийских Альпах.
— Погодите, — задвигался Бонне, — мне нравится эта версия. Знаете, где мы потеряли след этих мерзавцев? Есть такое небольшое курортное местечко Якобсдорф — километров пятьдесят от Зальцбурга.
— Вот здесь и точка! — торжественно заявил Дубровский.
— Таких точек, мосье Серж, я понаставил за свою жизнь черт знает сколько. А потом выясняется, что точка — не точка, а знак вопроса. И все же я отправлюсь в Зальцбург. В конце концов мне все равно, где выжидать: в Вене, Зальцбурге или возле самого озера Топлиц. Поедем со мной?
— Я все время только и мечтаю об этом, — обрадовался Сергей.
***
Циммер запер дверь и направился в «Райский уголок». Все трое — Ангел, Грейт и Хетель, — сидя в «опеле», напряженно смотрели ему вслед. Они поставили машину за «фольксвагеном», на котором должны были доехать ночью домой, и Циммер не мог заметить их.
Библиотекарь исчез за углом, и Хетель подогнал «опель» к входным дверям почти впритык, закрыв их машиной от любопытных глаз. Двери открылись сразу, Ангел и Грейт, захватив ломик, кирку и еще кое–какой инструмент, исчезли в здании.
Хетель поставил «опель» на место и поспешил к библиотекарю. Он рассчитал время точно и появился в ресторане, когда Циммер уже заканчивал ужин. Библиотекарь оживился, увидев его, и, кажется, стал есть быстрее, но пока не отложил салфетку, так ни о чем и не спросил. А Хетель не спешил: медленно пил кофе и болтал что–то о циклонах и цунами, стерших с лица земли где–то в Японии несколько поселков.
— Надеюсь, вы не с пустыми руками? — наконец прервал его болтовню Циммер.
— Я солидный коллекционер, — деланно обиделся Хетель, — и мы договорились…
Библиотекарь встал.
— Пошли.
— Куда? — обозлился Хетель. — Посидим здесь, господин Циммер, я хочу угостить вас. Кофе с коньяком. Или вы не употребляете?
— Я уже выпил свой кофе и никогда не пью второй раз. — Циммер не садился. — Я не привык улаживать дела в ресторане.
— Боже мой, какие же это дела? — попробовал отшутиться Хетель. — Просмотреть наклейки… — забыл, как серьезно относится Циммер к наклейкам, и, лишь увидев протестующий жест библиотекаря, поправился: — Конечно, я с удовольствием зайду к вам, но посидите за компанию, а чтобы вам не было скучно, посмотрите пока вот это. — Вынул на портфеля папку с наклейками. — Здесь есть такое, что, клянусь, вам еще не попадало в руки.
Очевидно, библиотекарь заколебался — слишком большой был соблазн. Поставил трость, но сразу же взял ее обратно.
— С вашим сердцем нельзя пить столько кофе, — сказал он. — И не в моих правилах, господин Ренненкампф, задерживаться в ресторане по любому поводу. Жду вас у себя дома. Честь имею…
Говорят, в такие моменты сжимается сердце и холодеют руки. У Хетеля почему–то заболел живот. Старая дохлая крыса этот Циммер. Сейчас он вернется домой, может заподозрить что–нибудь и позвонит в полицию. Быстро спрятал папку в портфель.
— Подождите, господин Циммер, ради вашей коллекции я готов навсегда отказаться не только от коньяка, но и от кофе.
Они пойдут вместе, он попробует задержать библиотекаря по дороге, в крайнем случае помешает позвонить в полицию.
Хетель попробовал остановить старика у магазинных витрин, но Циммер либо заупрямился, либо на самом деле был рабом привычки: шел, опираясь на трость, не глядя по сторонам, прямой и напыщенный, будто не какой–нибудь паршивый библиотекарь, а по меньшей мере министр.
— Куда вы так спешите? — Хетель в конце концов повысил голос. Это прозвучало грубо, как окрик.
Библиотекарь удивленно остановился, но сразу смягчился:
— Я забыл о вашем сердце, извините.
Теперь он шел медленно, приноравливаясь к Хетелю, но что можно было выиграть на этом? Минуту, две, это в конце концов не имело значения…
У Хетеля на самом деле подгибались ноги, дрожали колени, не потому, что он боялся, а от злости и растерянности — не знал, что предпринять и что произойдет сейчас: хуже всего, когда не предугадать очередные два шага…
Так они дошли до дверей, и Циммер открыл их. Хетель шел по коридору, специально топая ногами и прислушиваясь. Либо его шаги заглушали все вокруг, либо там, внизу, уже раскрыли тайник — тишина и только отзвук его шагов по каменному полу. Вспомнил: у Циммера в комнате лежит ковер, если прикрыть дверь и громко разговаривать, вряд ли старый олух что–нибудь услышит.
Библиотекарь поставил трость в угол, и Хетель сразу забросал его словами.
Есть ли у господина Циммера кубинские наклейки, не старые, когда Гавана чуть ли не вся состояла из отелей, таким грош цена, а как представлена у него новая, кастровская Куба; там сейчас совсем новые названия отелей, и если у господина Циммера нет таких, то пожалуйста. Извлек коробочку с наклейками и говорил, говорил…
Вот этот отель раньше назывался «Империал» — Хетель выдумал это, потому что оставалось еще пятнадцать минут и нужно было морочить голову Циммеру. Кажется, никогда в жизни не говорил так громко и быстро и не импровизировал так отчаянно. Так вот, этот отель назывался раньше «Империал», а сейчас, сидите, называется «Гавана». Такая прекрасная синяя наклейка…
Когда–то он сам был в Гаване — не приходилось ли господину Циммеру путешествовать по тем странам? Поразительно ласковое, теплое море, и пальмы над самым морем.
А сколько музыки, женщин — белых и черных, но одинаково прекрасных. Господин библиотекарь, наверно, не интересуется женщинами, но там, на Кубе, он непременно переменил бы свои взгляды, о–о, там нельзя не обращать внимания на женщин, ибо это сама поэзия, а без поэзии невозможна жизнь!
Может, господин Циммер иначе смотрит на поэзию?
Сейчас, правда, поэзией называют словесные безделицы, лишь бы было больше шума, а где звучание, ритм, если хотите, сентиментальная основа поэзии?
Циммер смотрел на него ошеломленно, все порывался вставить хоть бы слово, но Хетель не останавливался, ибо знал: остановится — точка; тишина — это провал. Сейчас он убедился, что Ангел и Грейт еще не закончили работу, несколько раз слыхал глухие удары где–то далеко внизу, очевидно, их услышал и Циммер, потому что морщился и даже поднял руку, чтобы Хетель хоть на минуту прекратил свою болтовню, но старый дурак не знал, что эта болтовня спасает и его: если Хетель остановится, пробьет последний час библиотекаря — они никогда в жизни не откажутся от золота, замурованного в подвале, а свидетелей не должно быть. И их не будет!
— Вот вам образец современной поэзии, господин библиотекарь:
Здесь, где светит алюминий.
Ты найдешь мои следы…
— Тише! — вдруг закричал библиотекарь, подняв к его носу кулаки.
И Хетель на самом деле замолчал. Давно уже хотел замолчать, бесконечный поток слов мучил его самого — он замолчал, прислушиваясь, как и библиотекарь, к тишине. Они оба ясно услышали глухие удары в подвале.
— Вы слышите? — спросил Циммер. — Что это может быть?
Хетель пожал плечами и сделал последнюю попытку спасти — нет, не старого хрыча, в конце концов, наплевать на этого болвана и олуха, он сам подложил под себя мину, но полиция будет вдвое настырнее, расследуя убийство, — и он возразил:
— Вам послышалось, коллега. И еще прошу вас обратить внимание на этот внешне незаметный треугольник. Уникальный отель…
— Вы можете помолчать? — заорал Циммер. Лицо его покраснело, глаза блестели, Хетель понял, что ему уже не заговорить старика, и замолчал.
Циммер прислушался.
— Там кто–то есть! — сказал уверенно, показывая пальцем на пол. — Но все мои сослуживцы ушли, следовательно, там чужие и нужно сообщить в полицию. У нас хранятся старинные рукописи и оригиналы, которым нет цены, и, может быть…
— Ну что вы, коллега, сразу беспокоить полицию, — возразил Хетель. — По–моему, вам послышалось.
— Нет, вы послушайте. Ведь это могут быть грабители!
— Пустяки! — как можно естественнее засмеялся Хетель. — Вы знаете, какой резонанс в этих замках? Может, где–нибудь по соседству в подвале производят ремонтные работы, а создается впечатление, что работают у вас под ногами. Это довольно распространенное явление слухового обмана, одно время я интересовался акустикой и знаю, что так бывает.
Безапелляционный тон Хетеля не успокоил старика, он вышел в коридор, ведущий в книгохранилище. Хетель последовал за ним.
Они повернули еще в один коридор, за ним начинались крутые ступеньки. Циммер остановился, нащупывая выключатель, и в это время снизу, совсем близко, мигнул луч фонарика.
— Вы видели? — прошептал Циммер.
— Ничего я не видел, — засмеялся Хетель зло. — У вас сегодня галлюцинации, дорогой коллега!
— Неужели вы на самом деле ничего не видели?
В подвале мигнуло еще и послышался треск. Циммер сделал шаг назад, но Хетель загородил ему дорогу.
— Позвольте! — Старик толкнул Хетеля плечом. — Там что–то происходит, и я должен позвонить…
— Никуда ты уже не позвонишь! — Хетель оттолкнул библиотекаря, тот зашатался, но удержался на ногах.
— Это какое–то недоразумение.
— Старый дурак! — Хетеля охватила злоба. — И нужно же было тебе совать свой грязный нос в наши дела!
— Позвольте… — Библиотекарь стал обо всем догадываться, но еще не потерял надежды. — Позвольте мне пройти, и я…
— Ты уже не позвонишь в полицию! — Хетель изловчился, чтобы сбить старика одним ударом, но тот разгадал его намерение, отшатнулся, протянул длинные сухие руки и схватил Хетеля за грудь.
— Негодяй! — закричал пронзительно и тонко. Тряхнул, что было силы, у Хетеля дернулась голова и соскочили очки. Инстинктивно отступил, очки хрустнули под ногами. Расставил руки, чтобы закрыть Циммеру дорогу, и сразу схватил его — библиотекарь пытался прошмыгнуть возле стены.
— Ну и гад! — выругался Хетель, схватив Циммера за плечо. Прижал его к стене, ударил снизу в живот, но библиотекарь защищался отчаянно, царапался и кусался. Тогда Хетель собрал все силы–и толкнул старика влево, туда, где начинались крутые ступеньки. Циммер успел схватить за пиджак Хетеля, однако тот ударил его ногой в пах и толкнул еще раз, наверно, библиотекарь падал спиной и ударился головой о каменную ступеньку, так как не успел даже крикнуть: только глухой стук — и тишина.
Хетель видел лишь мерцание света и тени.
— Франц, — позвал он, — это я! Пришлось пристукнуть старую обезьяну, она пришла раньше и обнаружила вас!
Заплясал луч карманного фонарика. Внизу тихо выругались.
— Все равно не успели бы уложиться в час, — отозвался Ангел, — так или иначе должны были что–то предпринять. Спускайтесь сюда.
— Но я почти ничего не вижу, — пожаловался Хетель. — Он сорвал с меня очки.
Совсем рядом послышались тяжелые шаги, и Грейт сказал ворчливо:
— Кажется, вы лишили его жизни, Вольфганг. Да, сердце не бьется…
— Найдите мои очки! — неожиданно обозлился Хетель. — И не сочувствуйте мне, будто вы не рады, что я развязал вам руки!
— Да, у тебя не было иного выхода, — заявил Грейт.
— У нас! — вдруг закричал Хетель. — Представьте себе, у нас! Вам не удастся переложить вину за убийство только на меня!
— Спокойно! — тряхнул его за плечо Ангел. — Вы же не баба, Вольфганг, и попадали не в такие ситуации, а слава богу…
— Правда, — сразу же успокоился Хетель. — Ваша, правда, Франц. Вы нашли очки?
— От ваших очков осталась одна оправа, — сообщил Ангел.
— Этого мне только не хватало, — буркнул Хетель. — Ну да черт с ними! Как у вас дела?
— Штайнбауэр поработал на славу. Этот тайник нужно было рвать динамитом, — пожаловался Ангел. С нас уже сошло семь потов.
— Помогите мне убрать труп, — предложил Грейт, и Ангел загремел по ступенькам лестницы вниз. — Кладите его сюда, в сторону, чтобы не мешал выносить контейнеры. И посмотрите, нет ли крови.
— Какое это имеет значение?
— Попробуем навести полицию на ложный след. Ведь библиотекарь сам мог найти тайник, вынуть золото и скрыться.
— Прекрасная идея, Кларенс! — обрадовался Ангел. — Труп мы где–нибудь спрячем, необходимо только произвести беспорядок в комнате библиотекаря, забрать кое–какие вещи. Откуда полиция узнает, что в тайнике было золото?
— Не все ли равно, золото или что–нибудь другое? Тайник есть тайник, в нем не прячут консервные банки. Теперь за дело, господа. И прошу: никаких следов. Работать в перчатках и осторожно. Вы, Вольфганг, вытаскивайте обломки кирпича и бетона.
Они поработали еще около часа, пока не добрались к контейнерам. Долбя ломом, Грейт вспоминал недобрым словом Штайнбауэра — так было легче работать. Наконец он изловчился и, подложив лом под свинцовый ящик, приподнял его. Ангел и Хетель ухватились за контейнер и поставили его на попа.
— Ну–ка, старая гвардия, — приказал Грейт, — я беру спереди, а вы вдвоем сзади. Осилите?
«Старая гвардия» осилила с трудом, правда, на узкой лестнице было неудобно, и они несколько раз останавливались, но все же наконец осторожно положили контейнер возле входных дверей.
— Сначала мы с Вольфгангом перетащим все золото сюда, — приказал Грейт, незаметно взявший на себя роль распорядителя, — потом вынесем труп, подгоним машину и сразу погрузимся. А вы, Франц, пока наведите «порядок» в квартире. Только осторожно, не оставляйте отпечатков пальцев. И вообще, чтоб все было естественно…
Ангел не возражал: в самом деле, Грейту пришла неплохая идея — полиция должна будет, хотя бы на первых порах, попасть на этот крючок. Начал с обследования письменного стола Циммера. Приятно иметь дело с аккуратным человеком — в ящиках идеальный порядок: кроме денег, документы, письма… Бегло просмотрел письма — старик имел дело только с лейблистами. Подумал: вряд ли человек, обнаруживший клад, станет заниматься этим барахлом? Деньги и документы взял, вынул из комода выглаженные сорочки и белье, снял с вешалки плащ и шляпу. Подумал немного и открыл шкаф, где хранились наклейки. Коллеги, зная увлечение этого старика и увидя, что нет части коллекции, придут к мысли, что сам библиотекарь ограбил тайник и исчез: действительно, кто из грабителей позарится на такое барахло? Выгреб из ящичков наклейки, набил ими портфель Циммера — кстати, будет хороший подарок сыну…
Ангел остался доволен делом рук своих и вышел в коридор. Грейт и Хетель тащили контейнер, и Вольфганг ругался сквозь зубы, проклиная своих недальновидных коллег, не догадавшихся упаковать золото в меньшие ящики.
Когда Грейт, осторожно открыв двери, выглянул на улицу, была глухая ночь. Сеялся мелкий дождь, и в этой части города, малолюдной днем, не было ни души. Кларенс пропустил Ангела, выскользнул за ним сам.
Ангел поставил вплотную к «опелю» маленький «фольксваген».
— Четыре ящика — в «опель», а один — в «фольксваген», — распорядился Грейт.
Ангел хотел было возразить, но, встретившись глазами с полковником, осекся. На самом деле, почему в машину Грейта — одно золото, а в мою — труп?
— Посмотрите, — Кларенс кивнул головой направо, — нет ли там кого? Не хватало того, чтобы увидели…
Ангел вкрадчивыми шагами скользнул вдоль здания, не обращая внимания на дождевые потоки, льющиеся с крыши. Выглянул за угол и успокаивающе махнул рукой.
Грейт втиснул тело старика между передним и задним сиденьями, прикрыл плащом и только после этого разрешил Хетелю залезть в «фольксваген». Закрывая двери, подумал, все ли сделано там, внутри, и случайно не забыли ли чего. Понимал: если и вспомнит о каком–нибудь недосмотре, все равно не вернется — им уже овладело чувство, свойственное, наверное, всем преступникам и известное в мире под названием «рвать когти», стремление как можно быстрее покинуть место преступления.
Подал сигнал Ангелу и сел за руль «фольксвагена».
Они уже миновали первые кварталы центра, а Грейт все вспоминал, не оплошали ли где–нибудь. Он сам замел все следы, забрал инструмент, осмотрел ступеньки лестницы, нет ли на них следов крови. И в комнате Ангел все сделал как полагается — произвел легкий беспорядок, вызванный якобы срочным отъездом.
Да, все прекрасно, вряд ли может быть лучше в их положении. Сейчас только надо избавиться от трупа.
Как и договаривались, за мостом он просигналил фарами «опелю» и обогнал его. Сейчас Ангел должен был ехать за «фольксвагеном»: Хетель отлично знал здешние места — глубокое озеро в полукилометре от дороги, крутые берега, и, если они не найдут камень, который надо будет привязать к ногам Циммера, можно разбить один из контейнеров. Свинцовый ящик — достаточный вес, чтобы навечно удержать старого олуха на дне.
Переспросил у Хетеля:
— Значит, говорите, третий поворот направо? Сейчас мы подъезжаем к нему. Начинается лес, это здесь? — Получив утвердительный ответ, ругнулся: — Черт, ведь знаете, что ничего не стоите без очков, так берегите их! В следующий раз и голову потеряете, а заказать новую будет гораздо труднее…
…Весь день отсыпались. После обеда их разбудил слуга Хетеля, принесший вечерние газеты.
— Интересно, — схватил всю пачку газет Ангел, — сейчас мы узнаем, что пишет пресса.
— Читайте вслух. — Грейт положил ноги на спинку кровати. — Налейте мне полстакана виски, не получаю удовольствия от газет без спиртного. И разбавьте немного содовой. Достаточно, спасибо.
Как и следовало ожидать, вечерние газеты посвятили загадочному случаю в архиепископском замке первые страницы.
— «Таинственное исчезновение хранителя древних манускриптов», — с удовольствием прочитал Ангел. И прокомментировал: — Вы молодец, Кларенс, все идет так, как вы предвидели. Они пишут, что библиотекарь ограбил тайник и с группой сообщников вывез ценности.
— Почему с группой сообщников? — не понял Хетель. — Мы не оставили следов.
— Я удивляюсь вашей тупости, Вольфганг. — Виски ударило Грейту в голову, да и после ночи, когда пришлось играть первую скрипку, держался высокомерно. — Даже вы, а вы для меня, извините, не эталон мужчин, легко справились с этим тщедушным типом — Циммером. Мы с Францем работали два часа, чтобы вскрыть тайник. Библиотекарю понадобилось бы несколько дней, и я не знаю, справился ли бы он. Полицейские и журналисты сразу сообразили, что к чему.
— «Эсэсовские сокровища в книгохранилище…» — читал далее Ангел.
— А откуда они знают, что эсэсовские? — недовольно поморщился Хетель.
— Не прикидывайтесь глупым теленком! — засмеялся Грейт. — Так о чем они пишут?
Ангел быстро просмотрел газеты.
— Полиция пока что отказалась делать окончательный вывод. Все считают, что Циммер, на протяжении многих лет работая в книгохранилище, кое–что разнюхал и по ночам искал сокровища. Потом договорился с кем–то, вскрыл тайник и исчез в неизвестном направлении.
Хетель облегченно вздохнул.
— Пусть ищут Циммера.
— И да поможет им бог! — скривил губы в улыбке Ангел.
***
— Любопытные новости, господин комиссар!
Бонне оторвал глаза от бумаги. Кноль стоял на пороге и улыбался. Инспектор редко улыбался, и эта улыбка, безусловно, предвещала что–то необычное.
Комиссар отодвинул папку.
— У вас такой взгляд, словно вы нашли клад.
— Не я, а другие, — уточнил Кноль. — И я удивлен вашей прозорливостью. Вы приказали информировать вас о всех слухах и фактах, связанных с розыском эсэсовских сокровищ. — Позвольте доложить: час назад в подвалах замка зальцбургского архиепископа обнаружен раскрытый ночью тайник.
— Пошли! — Бонне потянулся за шляпой. — Надеюсь, посторонних туда не допускали?
— Полицейский инспектор ждет нас. Правда, его атакуют журналисты, но он знает свое дело.
Бонне надвинул шляпу на лоб.
— Мне не хотелось бы, чтобы моя фотография появилась в газетах, — объяснил. — И фамилия. Я эксперт, и все.
Еще издалека они увидели толпу возле библиотечных ворот. К счастью, шел дождь, и Бонне поднял воротник плаща, закрываясь от фотовспышек. Один нахальный репортер попробовал было проскользнуть в помещение между ним и Кнолем, но полицейский в последний момент отстранил его.
В комнате Циммера их ждал энергичного вида человек.
— Инспектор уголовной полиции Барц, — представил его Кноль.
— Час назад нам позвонил один из служащих библиотеки, — начал докладывать Барц. — Ежедневно ровно в восемь хранитель рукописей и оригиналов Циммер открывал им двери, но в это утро они обнаружили их закрытыми. Стали стучать, но напрасно. Через двадцать минут позвонили нам. Пришлось взломать замок. В одной из подвальных комнат замка мы нашли вскрытый тайник, оборудованный под полом. В комнате библиотекаря следы спешного отъезда. Помощник Циммера, господин Шварц — он ждет в соседней комнате, — показывает, что его шеф был человеком чрезвычайно пунктуальным и аккуратным, даже до педантичности. Из этого можно сделать вывод, что Циммер, работавший здесь несколько лет, обнаружил тайник и вывез то, что было замуровано в подвале.
Они спустились в подвал, и комиссар долго стоял на пороге комнаты, разглядывая взломанный пол.
— Отпечатки пальцев? — спросил у инспектора Барца.
— Здесь не обнаружили. Мы уже осмотрели комнату библиотекаря, и все, что нашли, отправили в лабораторию.
Комиссар кивнул и боком проскользнул в комнату. Присел над вскрытым полом, позвал Кноля. Поднял обломок цемента, валявшийся рядом, показал на след от контейнера.
— Все было сделано умело. Свинцовые контейнеры заложены кирпичом и залиты цементом. А сверху обыкновенный деревянный пол. Сто лет ищи — не найдешь.
— Однако нашли, — возразил Кноль.
Бонне пробормотал в ответ что–то невыразительное. Вынул складной метр, стал измерять след от контейнера.
— Определяете размеры ящиков? — догадался Кноль.
— На моем месте вы бы сделали то же самое, — удовлетворенно покачал головой Бонне. Он долго ползал по полу, изучал чуть ли не каждый обломок кирпича. Наконец, стряхнув пыль с брюк, констатировал: — Сейчас мне хотелось бы осмотреть коридор. — Попросил инспектора Барца: — Там темновато, не могли бы вы усилить свет?
— Минутку, — ответил тот. — У нас есть рефлекторы.
— Только осторожно, — предупредил Бонне, — не затопчите следы!
— Мои люди знают дело! — сказал инспектор с достоинством.
Через несколько минут в коридоре вспыхнули рефлекторы. Бонне внимательно, метр за метром, разглядывал пол и стены. Несколько раз хмыкнул. На лестнице что–то привлекло его внимание. Попросил направить туда свет, встал на колени и едва не обнюхал камень. Вынул нож, что–то аккуратно снял со ступеньки и завернул в бумагу. Поднялся полестнице, снова присел и стал собирать какой–то мусор в ладонь, посвистывая от удовольствия. Завернул найденное в бумагу, попросил Кноля:
— Спросите у этого… ну, помощника Циммера, не носил ли его шеф очки?
Инспектор вернулся, когда Бонне, стоя на коленях, разглядывал пол.
— Говорит, что у Циммера было отличное зрение.
— Ага… — Бонне будто пропустил это известие мимо ушей. — Посмотрите–ка сюда, инспектор.
Кноль опустился на колени.
— Следы металла… — потрогал пальцем, — свинец. От ящика?
— Да, — Бонне тихо засмеялся, — от ящика с золотом.
— Вы считаете, что в тайнике было золото?
— Уверен. Возможно, платина. Но я читал, что эсэсовцы вывозили в «Альпийскую крепость» золото в слитках.
— В свинцовых контейнерах могли быть бумаги… важные документы или фальшивые деньги… Они это тоже вывозили.
— Ну, какой дурак замуровывал бы фальшивые деньги!
— А документы?
— Мы знаем с вами размеры ящиков, хранившихся в тайнике. Если бы в них были бумаги, даже старый библиотекарь без особого труда дотащил бы их к выходу. Я осмотрел пол. Он весь в свинцовых царапинах. Они ставили ящики и отдыхали… Итак…
— Контейнеры очень тяжелые?
— В них было золото. Никакой дурак не сооружал бы тайник для ящиков с чугуном.
— Погодите… — Кноль стал что–то подсчитывать, уставившись в потолок и беззвучно шевеля губами. Наконец произнес: — Там было пять ящиков. Это мы установили точно по следам. Если отбросить вес контейнеров, то каждый из них вмещал не менее ста килограммов золота.
— Это же полтонны!
— Боже мой, — схватился за голову Кноль. — Пятьсот килограммов золота! Примерно семнадцать миллионов шиллингов!
— А сейчас я хочу посмотреть на комнату Циммера, — не разделил его возбуждения комиссар. — И поговорить с господином Шварцем.
Бонне пристроился в кресле рядом с помощником Циммера, маленьким бледным человечком, предложил ему сигарету, но тот отказался:
— Герр Циммер сам не курил и не любил курящих. А эта работа устраивала меня. Пришлось бросить.
— Вижу, вы хорошо знаете характер своего шефа. Расскажите о его привычках.
— Герр Циммер жил только работой и требовал этого от нас. Человек суровый, но справедливый. Он был влюблен в старинные рукописи и мог часами просматривать какой–нибудь манускрипт. Редко бывал в городе, посещал только дважды в день «Райский уголок». Это ресторан, совсем рядом.
— К нему кто–нибудь приходил? Родственники, приятели?
— Герр Циммер не имел ни родственников, ни приятелей, это подтвердит каждый, кто с ним работал.
— Увлечения?..
— Разве только лейблистика?
— Что это такое?
— Коллекционирование наклеек отелей. Герр Циммер говорил, что он один из известнейших лейблистов мира.
— Где же его коллекция? — оглянулся комиссар на инспектора Барца.
Тот кивнул на шкаф, вмонтированный в стену, и объяснил:
— Мы обследовали его. Циммер просматривал коллекцию перед тем, как исчезнуть. Взял с собою, судя по описи, значительную часть этого барахла.
Бонне открыл шкаф.
Десятки небольших ящичков: строгая классификация — континенты, страны. И каталог. Георг Циммер и на самом деле был педант: каждая наклейка — страна, город, название отеля занесены в специальную книгу. Почерк у Циммера мелкий, аккуратный, буквы написаны четко.
Комиссар углубился в каталог, иногда сверяя записи с наличием наклеек в коробочках. Эта работа, наверно, нравилась ему, он даже подвинул стул и заглянул на верхнюю полку шкафа. Будто забыл и о Кноле, и об инспекторе Барце. Последний наблюдал за комиссаром со снисходительной улыбкой — так отцы смотрят на ребенка, который шалит. Наконец все же не выдержал.
— Господин комиссар, — спросил с чуть спрятанной иронией, — вы случайно не этот… как его… — щелкнул пальцами, — лейблист?
— Нет, — ответил Бонне, не оглядываясь. — Нет, дорогой инспектор, я не коллекционирую наклейки и вообще ничего не коллекционирую, но привык с уважением относиться к чужим чудачествам, поскольку предпочитаю иметь дело с чудаками. Они всегда дают криминалисту гораздо больше, чем люди, ничем не увлекающиеся. Чудака я вижу на расстоянии — и его портрет, и его привычки, и, если хотите, его образ мышления. А что еще нужно криминалисту?
Произнеся эту длинную тираду, Бонне спрыгнул со стула, посмотрел на Барца с укором, словно удивлялся его нелюбопытству.
Но инспектор не сдавался.
— О чем же рассказали вам наклейки?
Бонне развел руками:
— Трудно сказать, инспектор, вы провели осмотр места происшествия безукоризненно, и ваша версия, что Циммер вскрыл тайник и исчез вместе с сообщниками, заслуживает внимания.
— Иной не может быть! — самоуверенно заявил инспектор.
— Э–э–э… всегда что–то бывает… — начал комиссар, но смолк, будто сам оборвал себя. — У меня нет оснований выдвигать что–либо другое.
— Так можно допустить к месту происшествия журналистов?
— Да, мы уже уезжаем. Или у вас другие мысли, инспектор Кноль?
 Кноль не возражал. Они протолкались сквозь толпу репортеров и сели в машину.
— Едем, Кноль, — попросил инспектор Бонне, — мне необходимо проконсультироваться с экспертами.
— Я знал, что вы что–то нашли, — Кноль рванул машину. — Если не секрет?..
— Ну, какие могут быть от вас секреты? Я почти уверен, что Циммера убили.
Кноль инстинктивно затормозил.
— А вы не преувеличиваете?
— Я сказал «почти», — пояснил Бонне. — Окончательно мы выясним это, когда поймаем преступников или найдем труп библиотекаря.
— На чем основывается ваше предположение?
— Все говорят, что Георг Циммер был педантичным и аккуратным. Так оно и есть. Если бы вы заглянули в каталог наклеек, окончательно убедились бы в этом. У библиотекаря был пунктик, которому он посвятил полжизни. Он один из лучших лейблистов мира! Допустим даже, что старик нашел тайник. Была ли у него необходимость раскрывать его и убегать без подготовки? Считаю, что такой человек, как Циммер, убегая, первым делом захватил бы с собой коллекцию.
— Но обстоятельства могли сложиться так, что сообщники Циммера спешили. Учтите, вывезти за границу или реализовать здесь примерно полтонны золота — дело непростое.
— Я ждал этого возражения, — удовлетворенно произнес Бонне, — и сам возражал себе. Действительно, Циммер мог спешить, он схватил деньги, документы, успел бросить в чемодан часть своей коллекции. Можно допустить, что библиотекарь так и сделал, — инспектору Барцу не откажешь в логике, — однако есть одна деталь, перечеркивающая эту версию. Я изучил каталог Циммера и сверил записи с тем, что осталось. И вы представляете, что не взял с собой старый чудак? Циммер оставил самую ценную часть своей коллекции, кстати, она лежала на верхней полочке, а захватил почему–то наклейки, которые не имеют в каталоге пометки «редкий экземпляр».
Инспектор лишь пожал плечами.
— Вы преподали сегодня нам хороший урок по криминалистике, — ответил он. — Но зачем вам эксперты?
— Вы обратили внимание, что преступники странно заметали следы?
— Да.
— Сделать это в полутемном коридоре нелегко. На одной из ступенек я обнаружил след крови и кусочек кожи с волосами. Похоже, человек ударился головой о ступеньку. А над лестницей в щели между камнями вот что… — Бонне развернул перед инспектором кусок бумаги.
— Разбитое стекло?
— Насколько я понимаю, остатки очков. Мне необходимо проконсультироваться с экспертом–окулистом. Может, очки принадлежали преступнику. Мы установим диоптрию стекла, а дальше…
— А дальше что бог даст?
— Вот именно. Отвезите меня в лабораторию, а сами поработайте над связями Циммера. С кем он встречался в последнее время? Шварц называл какой–то ресторан «Райский уголок». Расспросите там.
— Можете положиться на меня, господин комиссар…. Эксперту–окулисту не. потребовалось много времени, чтобы установить, что очки принадлежали человеку, который не может обойтись без них — потеря почти восьмидесяти процентов зрения. Уже к концу дня полиция установила наблюдение над всеми оптическими магазинами и мастерскими в Зальцбурге и в окрестностях. К тому же Кноль и Барц узнали от официантки «Райского уголка», что ее постоянный клиент господин Циммер в последнее время дважды встречался в ресторане с человеком в очках. Девушка оказалась наблюдательной, и Бонне получил даже словесный портрет предполагаемого преступника: человек лет сорока пяти, низкого роста, лысый, курносый, лицо круглое. Носит выпуклые очки в роговой оправе.
А еще через день в одном из оптических магазинов приобрел точно такие же очки, какие предположил окулист, владелец частной школы в селе Альт–Аусзее Вольфганг Хетель. Бывший штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель, не так давно освобожденный из тюрьмы, где отбывал срок за военные преступления.
Официантка «Райского уголка», которой показали его фото, опознала посетителя ресторана, встречавшегося с Георгом Циммером.
***
Дубровский ходил по комнате, заложив руки за спину, а Бонне лежал на диване и следил за ним хитрыми глазами.
— Вы напоминаете мне тигра в клетке, — наконец нарушил молчание комиссар. — Но от ваших эмоций ничего не зависит, и дело не сдвинется. Все должно идти своим ходом.
Сергей остановился возле дивана.
— Я уверен, — сказал он как можно серьезней, — что в этом деле не обошлось без Ангела и Грейта. Я также уверен, что они сейчас в Альт–Аусзее. Необходимо произвести налет на дом Хетеля. Ну подумайте: Хетель живет здесь вот уже два года. Если бы он раньше знал о тайнике, то давно вскрыл бы его или по крайней мере попытался бы это сделать. Есть только один вариант — к нему прибыли люди, знающие о тайнике, и Хетель помог им увезти сокровища. Эти люди — посланцы Штайнбауэра, Ангел и Грейт. Разве это не ясно, Люсьен?
Бонне лениво поднялся.
— Если бы я писал репортаж, — заметил ехидно, — эта версия вдохновила бы меня на две–три странички. Но в каком идиотском положении окажемся мы, если у Хетеля никого не будет?
— Но ведь он убил Циммера!
— Кто это вам сказал? — деланно удивился Бонне. — Как кто? Вы.
— Я только допускаю, что Хетель — возможный убийца. Но, к сожалению, еще не могу доказать это.
— А разбитые очки и его подозрительные встречи с библиотекарем?
— Очки — это еще не доказательство. Может быть, их потерял другой человек. Мог это сделать и сам Хетель — ведь мы установили, что он посещал книгохранилище.
— Формалистика, — пренебрежительно махнул рукой Дубровский.
— Не формалистика, а закон. В конце концов, — Бонне сел на диване, сунув ноги в мягкие тапочки, — если бы у меня и были доказательства преступления Хетеля, я не спешил бы. Думаю, что и без Ангела здесь не обошлось. Теплая компания бывших эсэсовцев — другие руки вряд ли дотянулись бы к их сокровищам. Но хорошо, если Ангел и Грейт прячутся у Хетеля. А если нет? Мы берем Хетеля, а его люди предупреждают других преступников. Они благодарят нас за спешку и исчезают в неизвестном направлении. Да еще и смеются над полицейскими пентюхами. Я уже не говорю о золоте, благополучно исчезающем вместе с ними.
— У вас железная логика, Люсьен, — отступил Дубровский, — но чувствуешь себя последним дураком, зная, что преступники гуляют на свободе рядом с тобой.
— Это у вас с непривычки. — Бонне стал обуваться. — Я только что из Альт–Аусзее. Прекрасное местечко в предгорье. Хрупкая мечта моего детства. Маленький домик с садиком, цветы, много цветов, радующих взор с ранней весны вплоть до морозов. И я с лопатой, выращиваю огурцы или что–нибудь другое — шампиньоны. Когда выйду на пенсию, непременно отыщу местечко, похожее на Альт–Аусзее.
— Ну и что в Альт–Аусзее? — нетерпеливо перебил Дубровский.
— Порядок, — подмигнул комиссар, — полный порядок. Там Кноль, а где Кноль, не может быть ничего, кроме порядка. Все входы и выходы дома Хетеля блокированы, а за самим владельцем школы установлено наблюдение. За каждым его шагом следит Кноль, а этот инспектор, скажу вам без преувеличения, имеет голову на плечах и только случайно еще не стал комиссаром.
***
Кнолю снилось золото.
Маленькие слитки, величиной с кулак, разрастались в огромные глыбы, превращались в валуны: Кноль блуждал среди них, старался поднять, но они не давались, он хотел отковырнуть от них хотя бы кусочек, но не было даже складного ножика, и инспектор в бессилии зло царапал ногтями желтую блестящую поверхность валунов, старался даже откусить, лизал, ощущая во рту необычайно приятный привкус. Этот кошмар мучил Кноля до утра. Валуны вдруг вытянулись в столбы, точно телеграфные, инспектор почему–то лез на них, срывался и снова лез.
Проснулся на рассвете. Голова болела, во рту было сухо. Выпил тепловатой воды из графина и еще долго лежал под одеялом, закрыв глаза. Хотелось плакать от жалости к самому себе — тридцать четыре года уже за плечами, а чего достиг? Как был жалкой букашкой, так и остался ею — задрипанный инспектор полиции — он, Петер Кноль, который чувствовал себя на голову выше начальника венского полицейского управления. Но у него не было связей, и его постоянно обходили по службе: даже те, кто учился у него, уже были либо комиссарами, либо занимали солидные посты в министерстве внутренних дел. Они пренебрежительно здоровались с Кнолем, хотя одной его головы достаточно было на десяток этих чиновников. У них роскошные машины и дачи, а его зарплаты хватает только на скромную двухкомнатную квартиру и обеды в средних ресторанах.
Кноль ненавидит их, ненавидит и презирает, это иногда прорывалось и не могло пройти незамеченным мимо зорких глаз начальства, которое, используя служебную исполнительность инспектора, все же обходило его при очередных вакансиях. В конце концов, Кноль пережил бы это — знал, что рано или поздно непременно станет комиссаром, а там несколько успешных дел, газетная реклама, и черт его знает чем это все кончится. Однако с ним случилось то, что случается и с полицейскими инспекторами: Кноль влюбился.
Гертруда пела в ресторане, где Кноль обедал. Она была тоненькая и смуглая, носила платья с глубокими декольте. Пела грудным голосом, пританцовывая стройными ножками.
Кноль засмотрелся на нее, Гертруда заметила это и, несколько раз глянув на него, даже улыбнулась и помахала рукой. В перерыве она спросила у метра, что это за чудак уставился на нее, и, узнав, что инспектор Интерпола, задумалась. Ей уже надоела жизнь с короткими любовными связями, грязными номерами в меблированных комнатах, ежевечерними коктейлями в сомнительных компаниях — хотелось чего–то постоянного, а у инспектора была приятная внешность, и он был молод.
Гертруда не удивилась, увидев, что инспектор ждет ее возле ресторана. Другого, кто понравился бы ей даже меньше, чем Кноль, она в тот же вечер пустила бы к себе в кровать, но с инспектором распрощалась у дома, только пожав ему руку, и он был уверен, что Гертруда одна из ресторанных певиц, сохранивших целомудрие.
Они уже встречались два месяца, а Гертруда все думала, стоит ли выходить замуж за Кноля. Гертруда представляла свое будущее более импозантным: комфортабельная квартира, норковая шуба и хотя бы «опель–рекорд».
Кноль догадывался, о чем мечтает Гертруда, но что он мог сделать?
Сейчас, лежа под одеялом и уткнувшись лицом в подушку, инспектор пытался представить Гертруду, но видел только ее глаза — зеленоватые, хитрые глаза, все время меняющиеся, они дразнили его и притягивали.
Кноль решительно отбросил одеяло и отправился умываться. Старательно чистил зубы и долго тер шею и лицо. Вышел на улицу, постоял немного. Рядом толстяк поднимал железную штору на дверях кафе. Кноль спросил его, есть ли у них телефон, и, дождавшись, когда хозяин исчез в кухне, набрал номер.
— Позовите, пожалуйста, господина Вольфганга Хетеля, — попросил Кноль. — Кто говорит? Это не имеет значения… — Вытер потное лицо. — Господин Хетель? С вами говорит инспектор полиции Кноль. Что же вы молчите, господин Хетель? Я думаю, вам будет интересно поговорить со мной. Да… Да… поговорить. Жду вас в кафе. Как называется эта улица? Ну, напротив отеля «Амзее», вы должны знать… Только не делайте глупостей, господин Хетель, предупреждаю, вы и ваши коллеги, да, да, ваши коллеги, окружены. И мы следим за каждым вашим шагом. Десять минут вам хватит? Прекрасно, меня это устраивает.
Кноль сел так, чтобы видеть всю улицу, ведущую к школе Хетеля. От школы три–четыре минуты ходьбы, но сейчас у них переполох. Он точно знал, что вся компания собралась у Хетеля. Все началось со вчерашнего разговора с хозяином магазинчика напротив школы. Кноль сказал ему, что изучает торговую конъюнктуру в маленьких городах — хочет сам открыть где–нибудь магазинчик, и этим расположил к себе болтливого тол? стяка. Тот долго жаловался на застой в торговле и привередливость клиентов. Взять хотя бы владельца школы господина Хетеля. Всегда пил коньяк и обыкновенный немецкий шнапс, а сейчас подавай ему виски и даже джин. Хорошо, что он в тот день ездил в Зальцбург и успел к вечеру привезти ящик этих напитков, но разве так делают. Он уже более десяти лет изучает вкусы своих клиентов и почти точно знает, когда и что они купят. В Альт–Аусзее никто никогда не пил джин, и вдруг такое. И не одну или две бутылки, а давай сразу пол–ящика. Он мог бы подумать, что господин Хетель обезумел, но ведь такой солидный, респектабельный человек.
— А может, у него намечается банкет или какой–нибудь семейный праздник? — спросил инспектор.
— Я знаю дни именин всех моих клиентов, — с гордостью ответил толстяк… — И примерно знаю, что они будут заказывать.
— Однако вы не знаете, когда и к кому приедут гости, — возразил Кноль. — Я уверен, что у этого… как его… Хетеля сейчас кто–то в гостях.
— Я сам так считал, — отмахнулся толстяк. — Неделю назад видел, как господин Хетель привез каких–то двух незнакомцев. Вечером я выключил свет и собирался закрывать магазин: он привез их в своем «опеле». Утром я спросил господина Хетеля, не нужно ли чего–нибудь его гостям, а он сказал, что они уже уехали.
— Да, — согласился Кноль, — какое кому дело, кто и что пьет. Лишь бы пилось и покупалось! Кстати, — поинтересовался между прочим, — господин Хетель сам заказывал спиртное?
— Он отправил шофера в Зальцбург, — объяснил толстяк, — господин Хетель знает, что у меня нет джина. Да и откуда ему быть? Но шофер увидел, что я еду в город, и попросил меня. А сам, — подмигнул, — к какой–то фрейлейн. Этому шоферу пальца в рот не клади — настоящий жеребец!
Кноль подумал, что хорошо иметь дело с дураками. Хетель — мудрый, предусмотрел даже мелочи, но вот что значит иметь ленивого слугу и болтливого лавочника напротив дома…
«Но они могли смыться сразу после вскрытия тайника, — подумал Кноль, — и сейчас у Хетеля никого нет».
Кноль просидел у толстяка весь вечер, купив бутылку коньяка, и они выпили ее вдвоем. Весь вечер инспектор наблюдал за окнами дома Хетеля.
— Господин Хетель женат? — поинтересовался Кноль между двумя рюмками.
— Его, — доверительно наклонился к Кнолю толстяк, — совсем недавно выпустили из тюрьмы… понимаете, он был эсэсовцем… Еще не успел жениться.
— Зачем же ему такая вилла? Живет ведь один?
— Господин Хетель — влиятельнейший горожанин Альт–Аусзее, и ему неприлично жить в каком–нибудь коттеджике.
Когда стемнело и на вилле зажгли свет, Кноль заметил у окна второго этажа две человеческие фигуры. Он не мог ошибиться: один задергивал штору, а второй стоял в глубине комнаты. Шофер в это время мыл машину возле гаража. Следовательно, «гости» Хетеля еще не отбыли…
…Увидев в конце улицы Хетеля, Кноль заерзал на стуле. Сейчас решалась его судьба — может быть, на всю жизнь, и от его воли и собранности зависит все. Сел прямо, прижавшись к спинке стула и положив руки на пластиковую поверхность столика. Только слегка дрожали пальцы. Кноль заметил это и снял руки со стола: ничто не должно выдавать его волнения.
Когда Хетель вошел в кафе, инспектор многозначительно показал ему глазами на хозяина. Хетель понял его — не обращая внимания на инспектора, подошел к стойке, заказал кофе.
— И принесите мне «Кемел», — попросил он лавочника. Знал, что в кафе таких сигарет нет, табачная лавка, где можно купить американские сигареты, далековато, но хозяин не посмеет отказать в желании одному из важнейших граждан города.
В самом деле, тот подал кофе, извинился.
Хетель кивнул, и хозяин вышел. С чашкой в руках Хетель подошел к столику инспектора. Они не поздоровались, не произнесли ни одного слова, только смотрели друг на друга выжидающе, холодно и, кажется, равнодушно, но со скрытой ненавистью и злобой.
Наконец Кноль начал:
— Я уже говорил вам, герр Хетель, что вы окружены. Мы можем арестовать вас хоть сейчас, и все зависит от меня. Обвиняют вас в убийстве Георга Циммера и в ограблении тайника.
Хетель попробовал проявить выдержку: глотнул кофе и даже улыбнулся.
— Здесь какое–то недоразумение, господин инспектор. Я всего лишь владелец школы и редко когда отлучаюсь из Альт–Аусзее.
— Не будем терять время, Хетель! — оборвал его Кноль. — Поскольку время работает против нас, против вас и меня. Может случиться так, что спустя несколько часов вас не спасет уже ничто. Пока же я могу помочь вам.
— Сколько? — выдохнул Хетель нервно.
Кноль сложил руки на груди.
— Три миллиона шиллингов! — произнес твердо.
— Вы сошли с ума, инспектор! — взвизгнул Хетель.
Кноль немного помолчал. Нагнулся над столом, уставившись на Хетеля.
— Это мое последнее слово! Даю вам полчаса на размышление. Полчаса, и ни одной минуты больше. Если через полчаса я не получу чек, мы возьмем вас. Обязательно возьмем…
— Но ведь три миллиона шиллингов!.. — чуть не заплакал Хетель. — Это же грабеж!
В голосе Кноля прозвучала ирония:
— По моим подсчетам, вы вытащили из тайника не менее пятисот килограммов золота. Что такое три миллиона шиллингов по сравнению с этим?
Хетель решительно поднялся.
— У нас нет другого выхода, — признался наконец. — Но какие у вас гарантии?
— Мы будем связаны одной веревочкой, — понял его Кноль. — Однако учтите, мне приходилось иметь дело с фальшивыми чеками, и, прежде чем отпустить вас, я проверю…
— Ну что вы! — деланно обиделся Хетель. — Вы получите чек на венский банк.
— Я проверю его в Зальцбурге.
— Как хотите, — пожал плечами Хетель. — Но я должен посоветоваться. Как вам удалось выследить нас? — спросил вдруг.
— Не теряйте времени, Хетель. Буду ждать вас на улице. И знайте: все ваши телефоны, кроме того, по которому я звонил, по моему приказу контролируются.
Когда Хетель ушел, инспектор в изнеможении оперся локтями о стол. Посидел так минуту. Наконец успокоился, выпил чашку холодного кофе. Подошел к телефону, набрал номер и сразу услыхал Бонне.
— Докладывает инспектор Кноль. Вчера вечером шофер Хетеля Петер Шульц ездил в Блю–Альм и спрашивал, есть ли телеграмма на его имя. Да, наверное, жду указаний… Остальное по–старому, господин комиссар. Я познакомился с лавочником, обслуживающим Хетеля, и сегодня попробую заглянуть в его гроссбухи. Понимаете, не увеличил ли он продажу спиртного владельцу школы. Ученикам вряд ли дают шнапс, а вот двум взрослым, да еще обреченным на одиночество, ничего не остается, как пить. Почтовые чиновники предупреждены, и мы ознакомимся с телеграммой, как только ока придет. Вам, пожалуй, нет необходимости приезжать сюда. Я уже говорил, что каждый новый человек в таком городке вызывает интерес. Я жду вас вечером, когда стемнеет. Спасибо, комиссар, но пока что я еще ничего не сделал.
Кноль повесил трубку и облизал губы. Интересно, почему они сохнут, когда он волнуется?
Вышел из кафе и направился к дому Хетеля.
Агент, который вел наблюдение за парадным входом в коттедж, делал вид, будто проверяет телефонные провода. Кноль, подозвав его, приказал:
— Передайте Курту, пусть обратит внимание на тех, кто будет сопровождать учеников после занятий. И предупредите его, что преступники могут загримироваться. Я здесь посмотрю вместо вас…
Курт вел наблюдение за выходом из школы. Агент должен был сделать крюк, и Кноль знал, пока тот вернется, он успеет встретиться с Хетелем.
Хетель появился на улице через несколько минут. Они свернули в безлюдный тупичок. Хетель отдал чек и спросил:
— Когда мы можем выехать? Хотелось еще выяснить…
— Я только выпущу вас из виллы, и все! — ответил Кноль решительно. — И не надейтесь на то, что в дальнейшем я буду покрывать…
Хетель произнес многозначительно:
— Однако сейчас вам будет выгоднее, если я и мои коллеги не попадем в руки полиции. Я могу ручаться только за себя, инспектор, я буду молчать, но вот они…
— Не берите меня на пушку, Хетель! Чек на предъявителя, и я не собираюсь сам получать деньги. В крайнем случае меня могут обвинить в небрежности, — спрятал чек в бумажник. — Я переживу это.
— А у вас все продумано, — сказал Хетель с почтением. — Приятно иметь дело с деловым человеком. Так когда же?
— Я позвоню вам часа через два.
— А нельзя ли скорее?
Кноль не выдержал, чтобы не подколоть:
— Я понимаю вашу нетерпеливость… И все же вам придется набраться терпения.
— Чек у вас, вы можете получить деньги и…
— Не судите по себе!
— Хорошо. — Хетель решил, что не стоит возражать. — Мы будем готовы через час.
— Я могу пропустить только одну машину, — предупредил Кноль. — Через полчаса полиция будет знать ее номер.
Хетель наморщил лоб.
— И за все это три миллиона? — спросил язвительно.
— Да, я продешевил, — парировал Кноль. — Еще две минуты — и я потребую четыре. И вы заплатите четыре.
— Но мы ведь уже договорились… И с нетерпением будем ждать звонка.
Кноль успел съездить в Зальцбург и вернуться обратно почти за два часа. Убедился, что чек настоящий, и дал распоряжение перевести три миллиона шиллингов в Вену на счет Гертруды Хунке. Прошел главную улицу Альт–Аусзее, свернул на другую, ведшую к вилле Хе–теля. Метрах в сорока от дома в ряду других машин стоял серый «мерседес». Кноль сел на переднее сиденье.
— Вы можете пойти пообедать, сержант, — отпустил полицейского, который наблюдал за парадным входом в виллу. — Возьмите с собой Герхарда. Я подменю вас. Только не задерживайтесь, даю вам сорок минут.
— Слушаюсь! — обрадовался сержант. — Герхард доложил вам? Этот тип Хетель утром выходил из виллы. Был в кафе «Амзее», но в это время там сидели вы, и мы ограничились наблюдением с улицы.
— Разумеется, сержант, — похвалил Кноль. — Идите, надеюсь, сорок минут вам хватит.
Когда сержант свернул за угол, Кноль выскочил из «мерседеса» к телефонной будке.
— Хетель?.. Можете выезжать. Грузовиком? Хорошо, хоть самим чертом. Вначале я буду преследовать вас на сером «мерседесе». Предупреждаю, через полчаса полиция будет знать номер вашей машины.
Хетель буркнул в ответ что–то невыразительное и повесил трубку.
— Кноль сел за руль «мерседеса», закурил сигарету, но, сделав несколько затяжек, швырнул ее в окно. Смотрел, как открываются ворота усадьбы Хетеля. Оттуда выскочил полуторатонный желтый «фиат», свернул на главную улицу, сразу набрав скорость, направился в сторону зальцбургского шоссе.
Инспектор двинулся за ним. Улыбнулся. В кабине грузовика только Хетель, а еще двое лежат в кузове. Наверно, они будут петлять по объездным путям, автобан для них — смерть: через полчаса полиция перекроет его.
Кноль ехал за «фиатом» километра четыре, потом, резко нажав на тормоза, поставил машину на обочину.
Интересно, куда они рванули? Через шесть километров поворот в горы. На их месте он поехал бы только в горы. Там можно переждать где–нибудь на ферме у знакомого. Конечно, если есть такой знакомый. Знакомые всегда помогут — везде нужно иметь друзей. Почему у него мало друзей? Ну и наплевать. Сейчас у них с Гертрудой есть деньги, много денег, а чем больше денег, тем больше друзей. Правда, цена таким друзьям — тьфу, но об этом скоро забываешь, начинаешь считать друзьями даже прихлебателей — и так до первого крутого поворота.
Куда деваются друзья, когда тебе плохо?
Посмотрел на часы — прошло двадцать шесть минут. Вынул из кармана длинный гвоздь, вогнал его в заднее колесо. Зашипело. Инспектор подождал еще несколько минут, сел за руль. Включил радио.
— Внимание, внимание! — начал уверенно. — «Форд» — семнадцатый и «форд» — восемнадцатый!.. Из ворот виллы вышел желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один–тридцать пять… За рулем подопечный… Начинаю преследование… Идет в сторону Зальцбурга. «Семнадцатому» следовать за ним. «Восемнадцатый» занимает мое место, ведет наблюдение за виллой. Понятно?
— Вы слышите меня, инспектор? — захрипел динамик. — Говорит «форд» — семнадцатый… Вас понял, иду следом!
Кноль рванул «мерседес». Машина пошла ровно, но через километр шина спустила окончательно, «мерседес» начало заносить. Кноль схватился за микрофон.
— «Форд» — семнадцатый! — выкрикнул, имитируя волнение. — У меня спустила шина! Быстрее, черт побери, быстрее!.. — Инспектор проехал еще немного на ободе, вильнул так, что машина чуть не съехала передними колесами в кювет. — Всем полицейским постам! — произнес громко и почти торжественно: — Говорит инспектор Кноль. Слушайте приказ: задержите желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один–тридцать пять! Шофера и пассажиров арестовать!
Выключил мотор и выпрыгнул. Из–за поворота на бешеной скорости вынырнул черный «форд». Кноль поднял руку, машина затормозила так, что запахло горелой резиной. Инспектор бросился на заднее сиденье.
— Давай быстрее! — приказал. — У меня спустило колесо, и они ушли вперед! — Похлопал по плечу полицейского, сидящего рядом с шофером. — Попрошу микрофон! Повторяю приказ всем патрулям: задержать желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один — тридцать пять! Водителя и пассажиров арестовать!
Мелькнул знак разъезда.
— Налево, — приказал Кноль. — Прямо Зальцбург, там их задержат и без нас. В горах им нечего делать. Очевидно, попытаются ехать малолюдными боковыми дорогами, может быть, в окрестных селах у них есть явки…
— Сколько их? — переспросил шофер.
— Водитель и двое в кузове… Знать бы… — Кноль вздохнул. — Мы бы спокойно взяли их ночью…
Стрелка спидометра перешла цифры сто тридцать. Впереди виднелось село. Немного уменьшив скорость, промчались через него, и снова сто тридцать…
Еще одно село, но желтый грузовик словно корова языком слизала.
— Может быть, они подались в горы, — высказал предположение полицейский.
— Только потратили время!.. — буркнул Кноль. — Возвращаемся.
***
Когда Кноль положил трубку, Ангел, собиравшийся завтракать, чуть не пролил молоко.
— Что с вами, Вольфганг? — встревожился Ангел.
Хетель стоял, вытаращив глаза, лицо его покраснело, и руки безвольно повисли.
— Что произошло, Вольфганг? — Ангел поставил бутылку с молоком, подскочил к Хетелю, тронул его за плечо.
— Полиция… Мы окружены… — промямлил Хетель.
Полковник оторвался от омлета.
— Что вы болтаете? — скривился недовольно. — Какая полиция?
Но Хетель уже пришел в себя.
— Звонил какой–то инспектор полиции Кноль. Предупредил, что мы окружены, и назначил мне встречу в кафе возле отеля.
Ангел попятился и споткнулся о стул.
— Вы ничего не перепутали?
— Я же не сумасшедший!
— А если провокация? — высказал предположение полковник.
— Если даже провокация, надо идти! — решительно сказал Хетель. — Давайте все взвесим. Представим, что все это правда. Следовательно, мы окружены и нам каюк. Инспектор, если бы у него не было своего интереса, не звонил бы нам. Понятно? Надо идти. Если провокатор что–то разнюхал и шантажирует нас, все равно надо идти и договориться с ним.
— Я поддерживаю вас, Вольфганг! — сказал полковник.
— Тем более, — напомнил Хетель, — что он сказал: «Вы и ваши коллеги окружены». Понимаете? «Вы и ваши коллеги…»
— Да–а–а… — как–то неестественно певуче произнес Ангел. — Кажется, мы попали в неприятную историю!..
— Не паникуйте, Франц, — оборвал его Грейт. — А вы, Вольфганг, идите. У нас есть золото, и мы можем купить десяток полицейских агентов!
— Замолчите! — неожиданно одернул Ангел. — Поторгуйтесь с ним, Вольфганг, у каждого инспектора полиции есть граница желаний.
— Не будем терять время, господа. — Хетель потянулся за пиджаком. — Я смогу разобраться на месте.
Ангел засуетился над своим саквояжем, а Грейт, стоя за занавеской, наблюдал за Хетелем. Вольфганг держался прекрасно: шел, ничем не выдавая волнения, даже остановился и сорвал какой–то цветок, понюхал и двинулся дальше.
Грейт поднялся на второй этаж в свою спальню; Ангел прав — нужно собирать чемодан и быть наготове.
Хетель вернулся минут через двадцать.
Грейт и Ангел ждали в холле, совсем готовые в дорогу. Ангел даже держал в руках плащ. Хетель, увидев их сосредоточенные лица, не мог сдержать улыбку. Однако играть на нервах не стал. Произнес коротко:
— Его условия — три миллиона шиллингов!
Грейт свистнул:
— Ничего себе аппетит!
Ангел же только повертел головой и постучал пальцем по лбу:
— Он случайно не того?
Хетель сел в кресло, снял и протер очки. Протирал и не знал, что именно вот такие стеклышки виновны в том, что их выследили. Хетель, не понимая того, что совершает глупость, зашел в аптеку в Альт–Аусзее — знакомый аптекарь тысячу раз здоровался с ним на улице и в кафе, симпатичный такой седой старикан, — он ему подобрал очки сразу, улыбнулся на прощание и поблагодарил, но незамедлительно позвонил в полицию.
Конечно, герр Хетель важный и уважаемый человек, он не может впутаться в какую–либо некрасивую историю, но порядок есть порядок: его попросили из полиции, и он выполнил их просьбу.
Хетель надел очки.
— Да, три миллиона шиллингов, — подтвердил он. — Полицейский не уступил ни одного шиллинга. Я считаю — надо платить.
Ангел сел напротив Хетеля и приказал:
— Расскажите все по порядку.
— Мы встретились в кафе наедине, — начал Хетель. — Я полностью исключаю шантаж, господа. Инспектор Кноль осведомлен так, как может быть осведомлена только полиция. Он даже подсчитал, сколько золота могло быть в тайнике. Он знает также, что мы, — Хетель сделал ударение на последнем слове, — убили Георга Циммера. И обвиняет нас в этом…
— Да… это не шутки… — первым нарушил молчание Грейт. — И что он обещает?
— Через два часа после получения чека он выпустит одну машину и даст нам полчаса. Через полчаса полиция будет знать номер этой машины.
— Полчаса!.. — в отчаянии поднял Ангел руки вверх. — Что мы можем сделать за полчаса?
Хетель сказал рассудительно:
— Полчаса — это и мало и много. Смотря, как их использовать…
— За это время мы успеем сделать только километров сорок. Потом полиция перекроет дороги — и конец, — заметил Грейт.
— Мы еще успеем обсудить, как действовать. — Хетель постучал ногтем указательного пальца по часам. — Через шесть минут я должен дать ответ.
— Не ответ, а чек на три миллиона шиллингов, — уточнил Грейт. — У вас есть счет в банке — выписывайте… Потом рассчитаемся.
Но Хетель был деловым человеком.
— Зачем же потом? Разве у вас нет счетов? Каждый из вас даст мне чеки — эквивалентно в фунтах или долларах, я не буду возражать и против франков, господа! — на те банки, где у вас есть вклады. Хе–хе… Я же знаю, что фальшивых чеков вы не держите… Ибо нам не хватает только еще обвинения в изготовлении фальшивых бумаг…
Грейт поморщился, но вынул чековую книжку.
— Миллион шиллингов, — пошевелил губами. — Сколько это будет в долларах?
— Почему только миллион? — даже подскочил Хетель. — Я не знаю, как вы договаривались со Штайнбауэром, но моя часть, очевидно, значительно меньше ваших. Так что я плачу пятьсот тысяч, вы — каждый по миллиону двести пятьдесят.
— Мы не убивали, Хетель! — прошипел. — И, если нас арестуют, попробуем доказать это… Каждый платит по миллиону…
Хетель помахал пальцем перед самым его носом. Сказал злорадно:
— Если нас арестуют, то все мои грехи побледнеют по сравнению с вашими. И вы это знаете сами, Франи!
Ангел втянул голову в плечи.
— Вы вульгарный вымогатель, да черт с вами!
— Учтите еще одну деталь, — сказал Хетель, искоса глядя, как Грейт замер над чековой книжкой. — Сейчас мне придется вывозить вас отсюда, а вы сами подсчитали, что полчаса — это не так уж и много. Придется искать выход, а что сделаешь без денег?
— Это справедливо. — Полковник выписал чек. — Идите и быстрей возвращайтесь, Вольфганг. — Когда Хетель ушел, Грейт с досадой сказал Ангелу: — Фортуна что–то стала отворачиваться от нас… Попадаем то в одну, то в другую историю!
— Но мы же удачно выпутывались, — возразил Ангел.
— На два–три дня нам нужно уйти в подполье, — нахмурился Грейт, — пока придет телеграмма. В крайнем случае в горах перейдем швейцарскую границу. Всегда можно договориться с контрабандистами, если заплатить им.
— А золото? — въедливо спросил Ангел.
— Конечно, жаль золота, — согласился полковник, — но свободу я ценю намного дороже, чем центнер самого дорогого металла.
— Посмотрим, — неопределенно ответил Ангел, решив для себя, что только в крайнем случае расстанется со слитками.
Они ждали Хетеля, не выходя из холла. Не завтракали — совсем не было аппетита, — почти не разговаривали, только курили сигарету за сигаретой, перебрасываясь короткими репликами. Сейчас все зависело от Хетеля, у них ведь не было больше явок, Поэтому, когда Вольфганг вернулся, Ангел спросил льстиво:
— Что нового, мой друг?
— Все наши телефоны, кроме одного, контролируются, — объяснил Хетель. — Но все же я позвонил из автомата в «Черный дрозд». Фрау Вессель поможет нам. А пока, — кивнул на контейнеры, сваленные в углу и прикрытые ковром, — это в грузовик! Черным ходом! Только бы с улицы не заметили никакой суеты. Черным ходом, господа, Петер уже поставил там грузовик…
— Но что может сделать фрау Вессель? — встревожился Ангел. — Ведь в «Черном дрозде» была полиция, и фрау Вессель наведет на нас агентов…
— Не волнуйтесь, мой друг! — Хетель отплатил Ангелу его же монетой. — Фрау Вессель обведет вокруг пальца десяток агентов.
Они быстро погрузили контейнеры и накрыли их брезентом.
Хетель ушел инструктировать Петера. Ангел лежал на диване, уставившись в потолок, а полковник ходил по комнате. Нерешительно остановился возле бара и достал бутылку, откупорил и понюхал, но все же поставил обратно. Черт с ним, с джином, сегодня надо быть абсолютно трезвым. Плюхнулся в кресло, положив ноги на журнальный столик. Тишина стала угнетать его. Сказал, лишь бы не молчать:
— Отсюда до Унтеркримля километров сто пятьдесят… От Унтеркримля двенадцать километров до штольни, завтра выкопаем контейнер, а послезавтра, дай бог, придет телеграмма. Интересно, какой самолет прилетит за нами?
— Какая разница? Лишь бы подняться в воздух, — хладнокровно сказал Ангел.
— Вы профан в технике, Франц, а меня беспокоит, сможет ли он взлететь с грузом в полтонны и с тремя людьми на борту?
— Почему с тремя? Летчик, мы договорились об этом, будет обеспечен документами и останется здесь, а самолет поднимете вы.
— Я же и говорю: три, — объяснил Грейт. — Я, вы и Хетель.
— Хетель может перейти границу и так, — с досадою отмахнулся Ангел. — Вы об этом не думайте.
Полковник удивленно посмотрел на него.
— Ну что вы… Если будет хотя бы малейшая возможность, мы возьмем его, — успокоил его Ангел.
Зазвонил телефон. Ангел даже подскочил на диване.
— Быстрее Хетеля!.. — от нервного напряжения он почти заикался. — П–позовите же… Кларенс…
Но Хетеля не нужно было звать. Вольфганг снял трубку параллельного аппарата. Он появился в дверях мгновенно:
— Быстрее! Сейчас каждая секунда на вес золота.
…Грейт устроился так, что, лежа в кузове под брезентом, через щель наблюдал за дорогой. Видел и серый «мерседес», шедший за ними почти вплотную, и инспектора, который ободрал их сегодня на три миллиона. Потом «мерседес» отстал, Грейт хотел на ходу перелезть в кабину, но раздумал: Хетель непременно снизит скорость, и они потеряют минуту–две. А каждая минута сейчас весит очень много.
Хетель срезал поворот, не сбавляя скорости. Полковник сам любил рискованную езду и похвалил Хетеля — ничего не скажешь, водитель классный, чувствует машину.
Километра за четыре от перекрестка начался небольшой лесок. Внезапно Хетель резко затормозил. Грейт забеспокоился — не случилось ли чего? — но его отбросило под брезент, машину стало трясти на выбоинах.
Грейт высунул голову. Вот оно что — Вольфганг свернул с шоссе и ехал по узкой лесной дороге. Почти сразу снова круто повернул и остановился в густом кустарнике.
Полковник отбросил брезент и увидел старенький обшарпанный «пикап» и фрау Вессель рядом с ним.
«Так вот что задумал Хетель!..» — понял он.
— Рад видеть вас, фрау Вессель! — улыбнулся Грейт, выпрыгивая из грузовика. — Быстрее, Франц!
Перегрузили контейнеры за несколько минут. В маленьком кузове «пикапа» осталось совсем мало места. Туда лег Ангел, и Грейт накрыл его и ящики брезентом. Сам сел с Хетелем в кабину.
— Прощайте, фрау Вессель!
Женщина сама подняла и закрыла борт грузовика. Села за руль и задним ходом выехала на шоссе. Взглянула на часы: через девять минут за желтым грузовиком начнет охоту полиция…
Фрау Вессель доехала до развилки и повернула в сторону Зальцбурга. Через несколько километров в небольшом поселке свернула на тихую зеленую улочку, поставила машину в тупичок, посмотрела, нет ли кого поблизости, и, дождавшись, пока какой–то прохожий исчез за углом, направилась к автобусной остановке.
***
В комнате стояла тишина, было слышно, как билась в окно муха.
Кноль не мог отвести взгляда от мухи — глупая, рядом открыта форточка, поднимись выше и лети себе. Подумал: а он сам? Не напоминает ли мошку, запутавшуюся в паутине? Теперь его опутывают все больше и больше, пока окончательно не лишат воли, стремлений, наконец, самого желания защищаться и даже жить. Усмехнулся: до того, вероятно, не дойдет. Его не возьмут голыми руками, и — у него есть жизненная цель — Гертруда; ради нее он будет хитрым, изворотливым, он разорвет паутину, какой бы крепкой она ни была.
Бонне расценил улыбку инспектора по–своему.
— Вы либо преступник, Кноль, либо дурак. В последнее я не верю, так как работал с вами. Остается первое.
Кноль поднял ладонь, и этот жест можно былообъяснить либо как просьбу помиловать, либо как желание отстраниться от комиссара, остановить его.
— Я ошибся, комиссар, — сказал Кноль, глядя перед собой на ту же муху. — Поверьте, я ошибся. Разве вы никогда не ошибались?
— Я бы поверил вам, Кноль, но слишком много ошибок и даже непонятных поступков для такого опытного работника, как вы.
Узнав, что преступникам неимоверным способом удалось прорвать блокаду виллы Хетеля, Бонне вместе с шефом полиции земли Зальцбург выехал в Альт–Аусзее. Они прибыли туда после того, как Кноль окончательно потерял следы хетелевского грузовика. Бонне стал выяснять: почему? Комиссар за всю свою практику не помнил, чтобы полиция в таких случаях испытывала поражение.
Бонне казнил себя: как мог он поддаться на уговоры Кноля и остаться в Зальцбурге? Хотя аргументы инспектора были убедительными, комиссар сам понимал, что оставаться ему в таком маленьком городке, где все видно как на ладони, не очень разумно. Ведь преступники могли знать его в лицо, может, поэтому и удалось им обвести комиссара вокруг пальца в Танжере, случайно увидеть и скрыться?
Из рапорта Кноля следовало, что побег преступников стал возможным лишь в результате фатального стечения обстоятельств: инспектор подменил двух полицейских, которые пошли обедать, именно в это время преступники выехали на грузовике, он стал преследовать их, но проклятый гвоздь… В конце концов, никто не застрахован от того, что в его машине спустит баллон!
Комиссар предложил шефу полиции допросить полицейских, ведших наблюдение за виллой и школой. И тут выяснились обстоятельства, заставившие Бонне посмотреть на дело совсем другими глазами.
Первое: инспектор Кноль утром завтракал в кафе, куда заходил Хетель. Затем преступник вернулся домой, но скоро опять вышел в город. За несколько минут до этого Кноль снял с поста агента, ведшего наблюдение за главным выходом из виллы.
Комиссар спросил инспектора, почему он так поступил и не логичнее было бы ему самому связаться с постом у школы?
Кноль признал, что допустил ошибку. Сейчас он понимает, что ему самому следовало переговорить с агентами, дежурившими у школы.
— О чем вы говорили с Хетелем в кафе? — спросил внезапно Бонне.
Кноль только пожал плечами. Здесь, в городке, есть три кафе, он зашел в ближайшее — должен же и полицейский завтракать, — в это время туда зашел и Хетель. Но хозяин кафе может подтвердить, что он, Кноль, не перемолвился с преступником ни одним словом.
Комиссар уже знал: да, Хетель попросил чашечку кофе и сигареты. Таких сигарет в кафе не было, и хозяин, чтобы угодить важному посетителю, побежал за ними. Таким образом, некоторое время инспектор и Хетель находились в кафе одни. Не считает ли сам инспектор Кноль такую ситуацию подозрительной?
Кноль согласился. На месте комиссара он думал бы так же. И вообще, это для него, инспектора, — сплошная цепь каких–то злосчастных стечений обстоятельств. Понятно, что тень падает на него, но пускай комиссар и уважаемый шеф полиции земли Зальцбург поймут: он сделал все, чтобы обнаружить и задержать преступников, и не его вина, что им удалось бежать.
Комиссар обернулся к Кнолю, сказал жестко:
— Можете обижаться, но я должен сказать: вы, Кноль, прохвост!
— Я отстраняю вас от выполнения обязанностей, — вмешался шеф полиции. — Отправляйтесь в Зальцбург и ждите там моего распоряжения.
Инспектор вытянулся и, четко повернувшись, вышел из комнаты.
Шеф полиции уверенно сказал:
— Он сговорился с Хетелем и получил от него не одну сотню тысяч. Но доказать это будет трудно.
— Если мы не задержим преступников, — заметил Бонне.
— Они не станут свидетельствовать против него в любом случае, — с досадой ответил шеф. — Как правило, преступники не выдают полицейских, помогавших им.
— Э–э, всякое бывает, — возразил Бонне. — А впрочем, это ваше дело, и я не хочу морочить себе голову. Если Ангелу и Грейту еще раз удастся провести меня, я сделаюсь или фаталистом, или уйду в отставку. Мне нужен способный помощник. Кого вы могли бы порекомендовать?
— Сержанта Грейзля. Молодой, но смышленый.
— А–а… — вспомнил Бонне, — это такой светлый и немного курносый. Он мне почему–то запомнился.
Шеф полиции поехал в Зальцбург, а Бонне долго лежал на узкой гостиничной кровати, размышляя.
Сейчас у них оставалось одно звено цепи — телеграмма, которая должна прийти на почту Блю–Альм.
Но не предупредил ли преступников Кноль? То, что инспектор сговорился с ними, не вызывало у Бонне никаких сомнений. Не прошли без его внимания и чуть заметные ироничные нотки в ответах Кноля. Мы, мол, оба смекалистые люди и видим друг друга насквозь, однако комиссар должен понять, что никакой суд не докажет вины инспектора, есть только косвенные доказательства, так сказать, намеки на преступление, а он, Кноль, плевать хотел на намеки…
Да черт с ним, с инспектором…
Бонне попробовал сосредоточиться. О чем же он думал? Предупредил ли Кноль преступников, что полиция интересуется телеграммой, которая должна прийти в соседний городок на имя слуги Хетеля? Если предупредил, то и это звено цепи потеряно. Правда, в зависимости от того, что ждут преступники от телеграммы. Комиссар догадывался: речь пойдет о вывозе золота за границу. Но у Ангела и Грейта может быть и запасной вариант…
Так ничего и не решив, Бонне вышел на улицу…
***
За Унтеркримлем Хетель съехал с асфальтированного шоссе на обычную мощеную дорогу. Остановив «пикап» вблизи ручейка, сбегавшего по крутому склону, долго пил холодную родниковую воду, прихлебывая прямо из ручья, и щурился от удовольствия. Напившись, сел на поросшую мхом каменную глыбу, сказал весело:
— Можете благодарить бога! Сюда не сунет носа ни один полицейский.
Ангел выглянул из–под брезента, посматривая недоверчиво. Кругом горные склоны, где–то далеко в долине краснеют крыши Унтеркримля, выше — серая извилина шоссе, по которому ползут машины, а здесь — небо и зеленые склоны, журчит вода в ручейке, и поют птицы. Ангел расчувствовался: жизнь, оказывается, продолжается, а они не замечают ее красот в погоне за житейскими благами!
Грейт опустил голову в холодную воду, фыркал и отплевывался умываясь. Смыв дорожную пыль, вытерся платком, спросил:
— Фрау Вессель не оставила пакета с бутербродами? Я съел бы слона…
Сейчас все вспомнили, что даже не завтракали. Но в «пикапе» не было ни крошки съестного.
Теперь ехали медленно, оглядываясь по сторонам. Люди селились здесь редко — небольшие усадьбы, разбросанные в зеленом море. А дорога вилась между склонами, забираясь еще выше. Казалось, уже ничего не будет, кроме неба и каменных глыб, но и там жили люди — за поворотом недалеко от дороги стоял аккуратный кирпичный коттедж с мансардой. Из трубы поднимался дым.
Хетель остановил машину.
— Я пойду на разведку. Вы чудаки–туристы, я вожу вас, вам надоели мотели и кемпинги, хотите экзотики и одиночества…
— Идите, Вольфганг, и не забудьте сразу договориться о жарком. Больше картошки и мяса, можно, правда, и яичницу. В конце концов, все, что угодно, кроме травы… — пошутил Грейт.
Хетель, не дослушав полковника, двинулся к усадьбе. Грейт, выйдя из кабины, оперся о крыло, спросил Ангела:
— У вас не растряслись кишки? Дорога такая, что я головой чуть не пробил потолок этой колымаги.
Ангел не ответил. Разглядывал коттедж. Наконец вынес приговор:
— Здесь нам было бы неплохо. Место пустынное и всего в десяти километрах от Унтеркримля.
Полковник вынул из бумажника карту:
— И только четыре километра от штольни…
— Что–то Хетеля не видно, — заволновался Ангел. — Может, никого нет и он разыскивает хозяев?
— А дым?
— Ваша правда. Вероятно, Вольфганг договаривается.
Хетель вышел из коттеджа через несколько минут.
Грейт пытался по его виду догадаться, не потерпел ли он неудачу, но Вольфганг ничем не проявил ни разочарования, ни удовольствия: шел, уставившись в тропинку, будто она пролегла над кручей. Перепрыгнув кювет, блеснул очками.
— Договорился, — сказал кратко.
У полковника отлегло от сердца. И все же победила осторожность:
— Кто там живет?
Хетель, садясь за руль, объяснил:
— Одна женщина со старым отцом. Недавно у нее умер муж. У нее есть сын, учится где–то там, — кивнул на долину, — и редко проведывает их. Я снял две комнаты мансарды. Ничего, чистенькие…
Хозяйка ждала их возле открытых ворот. Дородная, полноватая женщина лет под пятьдесят, смотрит приветливо и улыбается. Грейту она понравилась. Выпрыгнул из машины, помог ей прикрыть ворота. Поинтересовался:
— Как с обедом, фрау?..
— Шварцвеллер, — представилась женщина. — Но я не рассчитывала на гостей…
— Если у вас найдется полтора десятка яиц и кусок грудинки, — заявил Грейт с энтузиазмом, — то мы будем спасены!
— Конечно, найдется. Есть еще сыр, колбаса и молоко.
— Сойдет, — милостиво похвалил Грейт. Оглянулся па друзей: — Фрау Шварцвеллер угостит нас прекрасным обедом. Забирайте чемоданы, Франц, и пойдем устраиваться.
Но Ангел не двигался с места. Стоял, опершись на машину. Похлопал по накрытым брезентом контейнерам:
— Вначале…
— Плюньте, — заявил полковник категорично, — ничего не случится.
Ангел уперся.
— У нас здесь небольшой багаж, — объяснил хозяйке, — и мне хотелось бы…
— Закатить машину в сарай? — догадалась та. — Надо только расчистить место. Я сейчас.
— Мы сами, — остановил ее Грейт. — А вы лучше подумайте об обеде.
Они быстро освободили место в сарае и загнали в него «пикап».
***
«Аукцион состоится четвертого сентября. Прошу прислать представителя. Лаусон».
Бонне еще раз прочитал телеграмму из Берна, адресованную Петеру Шульцу. Петер Шульц — слуга Хетеля. Значит, у них что–то назначено на четвертое сентября. Сегодня — второе, остается два дня…
Позвал сержанта Грейзля.
— Давайте машину, поедем.
— Если не ошибаюсь, в Блю–Альм? — осмелился спросить сержант. Это он привез утром копию телеграммы и был рад, что угодил комиссару.
Не успели они поставить свой «мерседес» на центральной площади Блю–Альма, как загудел сигнал и Грейзль включил рацию.
— Докладывает седьмой… Докладывает седьмой… Петер выехал из Аль–Аусзее. Красный «фольксваген» сто три–восемьдесят… Иду за ним…
Бонне посмотрел на часы.
— Я еще успею выпить кофе…
Пил кофе и машинально жевал булочку. Попросил утренние газеты. На первой странице «Фольксштимме» сразу увидел портреты трех «красавчиков».
Ангел выглядит рассерженным и даже злым, у Грейта деловой вид, смотрит куда–то в сторону, словно ему стыдно глядеть собеседнику в глаза, Хетеля же нельзя понять: спрятался за стекла очков — типичный провинциальный учитель. Внизу заметка, в которой рассказывается о преступниках. Бонне быстро пробежал ее глазами. Так и есть, главный удар направлен против Ангела — палач, комендант концлагеря, — ну что ж, политические акценты не повредят, а остальное все верно; обращение к населению с просьбой опознать преступников и немедленно сообщить полиции.
Молодец Дубровский, поработал оперативно! Он приехал в Альт–Аусзее вчера утром и поднял комиссара с постели. Пока Бонне умывался, сидел возле ванной и говорил:
— Ну, комиссар, чем вы можете объяснить очередное исчезновение преступников? Скажете, снова фатальное стечение обстоятельств? Так всегда можно оправдаться, а Ангел смеется над вашими полицейскими ухищрениями.
— Вы упрощаете, Серж, — высунул голову из ванной комиссар. — Они были в западне, и если бы не этот мерзавец Кноль…
Дубровский безнадежно махнул рукой.
— Сегодня Кноль, завтра какой–нибудь Браун. Но преступники где–то в Австрии, а вы не знаете — где. Хотите, мы обратимся к населению?
Бонне немного подумал.
— Теперь это уместно, — признался. — Возможно, они засели в горах и ищут способы перехода через границу. Да, теперь это уместно…
Дубровский быстро отбыл — и вот результат. Даже правые газеты «Нойе прессе» и «Зальцбургер нахрихтен» не смогли обойти этого дела, правда, подали его совсем с иных позиций, делая ударение на убийстве библиотекаря, но портреты тоже дали.
Комиссар отложил газеты и пошел к «мерседесу».
— Сейчас они будут здесь, — сообщил сержант, будто Бонне и сам не знал этого.
Красный «фольксваген» остановился в переулке за почтой. Петер Шульц не сразу вышел из машины. Посидел немного, но, никого не заметив, пошел на почту. Получив телеграмму, прочитал и порвал на мелкие клочки, незаметно бросил их в корзину. Вышел из почты, постоял на пороге, оглядываясь, потом сел в «фольксваген» и стал петлять по городу, убеждаясь, не повис ли кто на хвосте.
Бонне смеялся: все было предусмотрено, и Шульц мог ездить до последней капли бензина — из Блю–Альм только три выезда, и каждый из них контролируется полицией.
Скоро Шульц успокоился и остановился возле бензоколонки. Бонне взял микрофон.
— Внимание! Всем постам быть наготове! Очевидно, он выедет на автобан. «Форд» — семнадцатый, идите вперед и ждите на перекрестке возле автобана.
Предвидение комиссара оправдалось: Шульц повернул на шоссе, ведущее к автобану. «Мерседес» комиссара шел за ним на расстоянии километра. Бонне был уверен, что Шульц поедет в горы, и удивился, услышав. вдруг:
— Шеф, это «форд» — семнадцатый. Наш подопечный взял курс на Вену. Иду за ним.
Комиссар с минуту размышлял. Затем приказал:
— Идите за Шульцем на расстоянии. Не будьте настырным, но и не упускайте его из виду. Главное, не пропустите, когда он будет сворачивать с автобана.
Через некоторое время снова взволнованный голос:
— Я «форд» — семнадцатый. Подопечный съехал с автобана. Дорога к отелю «Черный дрозд». Иду за нам…
«Вот оно что! — понял Бонне. — Фрау Вессель…»
«Мерседес» скатился с автобана, и комиссар приказал поставить его на обочине. Вызвал полицейскую машину:
— «Форд» — семнадцатый, что с подопечным?
— Купается в озере.
— Прекрасно, не спускайте с него глаз.
Комиссар приказал проехать еще с километр и поставить «мерседес» в кустах поблизости от дороги. Повернулся к Грейзлю:
— Слушайте внимательно, сержант. Сейчас вы зайдете в отель «Черный дрозд». Пейте кофе, пиво, коньяк, что хотите! Но не напивайтесь. Скоро там будет Шульц. Если вам удастся услышать, о чем он станет говорить с хозяйкой отеля, это будет просто замечательно. А если нет, не страшно. Важно проверить, встретится ли Шульц с хозяйкой «Черного дрозда».
Не было необходимости приказывать Грейзлю дважды. Выскользнул из машины и пошел по тропинке вдоль шоссе, напевая веселую песенку. Даже пошатывался немного, будто работник из Вены, что сберег немного шиллингов и сейчас просаживает их, не думая о завтрашнем дне.
Шульц купался и загорал на озере почти час. Затем оделся и, бросив «фольксваген» на стоянке, двинулся еле заметной тропинкой в кустах к «Черному дрозду».
В «форде» — семнадцатом заволновались, но Бонне приказал агентам сидеть спокойно и ждать указаний.
Грейзль появился красный, потный, тяжело дышал, словно бежал. От него несло пивом, и Бонне подумал, что и он не отказался бы от кружки.
Сержант заговорил шепотом, будто их могли здесь подслушать:
— Они говорили о чем–то, но я не смог услышать… Шульц сел возле стойки и сказал ей всего несколько слов. Я подошел, но они замолчали. Шульц взял кружку и сел в углу, они больше ни о чем не говорили, хозяйка вышла, и ее место заняла девушка. Такая красивая блондинка.
— Розмари, — догадался комиссар.
— Да, ее зовут Розмари. Я вышел в туалет, там есть окно во двор, и заметил, что хозяйка выводит из бокса машину. Белый «фиат», двести тридцать три — сорок четыре. Я сразу прибежал сюда…
— Вы правильно поступили, Грейзль. Сейчас сидите и отдыхайте.
Бонне взял микрофон. Скомандовал:
— «Форд» — семнадцатый, продолжайте следить за подопечным. Наверно, он возвратится в Альт–Аусзее… Где вы, «форд» — восемнадцатый? Будьте наготове. Я иду за белым «фиатом»… Займите позицию при выезде на автобан. Возьмите «фиат» на себя, поскольку женщина за рулем знает меня.
Маленький белый «фиат» проехал мимо через несколько секунд и, пока Бонне выводил свою тяжелую машину из кустов, был уже на развилке. Постоял немного и вклинился в поток машин, мчавшихся в сторону гор. Объехал Зальцбург и свернул на шоссе, ведущее в Унтер крим ль.
— Так я и знал… — сквозь зубы цедил Бонне, сдерживая «мерседес», чтобы не попасть в поле зрения фрау Вессель. — Они сидят в горах, ждут вестей. И мы их…
— Арестуем? — то ли удивленно, то ли радостно спросил сержант. Это прозвучало так комично, что Бонне не выдержал и громко рассмеялся.
— Конечно, если появится такая необходимость. Впереди появились домики города. «Унтеркримль», прочитал Бонне. И тут же услыхал голос агента с «форда»:
— «Фиат» остановился на площади… Из него вышла женщина, направляется к ресторану. Ждем приказа…
— Идите за ней, — приказал Бонне. — Идите и смотрите, что она будет там делать.
Фрау Вессель задержалась в ресторане недолго, выпила чашку кофе, перемолвилась несколькими словами с женщиной, стоящей за стойкой, и снова села за руль. «Фиат» развернулся и выехал на дорогу, ведущую в Зальцбург.
Фрау Вессель больше не интересовала комиссара. И все же он приказал двоим агентам с «форда» проследить за ней до «Черного дрозда».
Двух других оставил в Унтеркримле.
Было такое чувство, что попал в глубокий погреб: темно, влажно, тихо, и кажется, что кто–то смотрит на тебя из темноты, сейчас подставит ножку или схватит за воротник.
Грейт вспомнил Тома Сойера и его приключения в пещере. Вообще он мало читал, но Тома Сойера помнил. В детстве даже старался копировать Тома, тем более что ровесники преклонялись перед физической силой Кларенса и считали его своим вожаком.
Грейт представил себе маленький городок, в котором родился. Он въедет в него на шикарном открытом лимузине, чтобы все видели: приехал Кларенс Грейт, у которого, говорят, уже не один миллион…
Он зайдет в бар на центральной улице и угостит всех присутствующих. Пусть его отец не лил и держал своих детей в железном кулаке. Сын полковник, миллионер, отцовские наставления для него чепуха, да и кто сейчас придерживается их? Равенство, воздержание, любовь к ближнему? Сжимай кулак и круши вокруг — все зависит от силы твоей руки!
Грейт сжал кирку и рубанул по влажной стене штрека. Затем присел прямо на землю — стоять, согнувшись в низком проходе, было неудобно. Взял план штольни и еще раз сверился с ним. Следующий поворот направо, от него семь шагов — и копать…
Штайнбауэр не поленился, спрятал контейнер на полутораметровой глубине, придется как следует попотеть. Но спешить некуда: впереди целый день — они предупредили фрау Шварцвеллер, что идут в горы и, возможно, не вернутся до обеда. Взяли с собой бутерброды и несколько бутылок пива. Пиво — это все, что они позволяли себе. Грейт хотел было, чтобы хозяйка села на велосипед и махнула в ближайшую лавку за шнапсом, но Хетель запретил:
— Начнутся разговоры: кто у вас и откуда. Фрау Шварцвеллер скажет лавочнику, тот еще кому–нибудь, и пошло–поехало… Неужели нельзя прожить и дня без спиртного?
— Если бы день! — вздохнул полковник. — Еще неизвестно, сколько придется сидеть в этой проклятой дыре…
Утром Хетель попросил у хозяйки кирку и две лопаты, сказал: они хотят облазить окрестные горы, не попадется ли какой–нибудь ценный минерал; они уже насобирали этих минералов за лето до черта, полмашины загрузили контейнерами с камнями (сказал на всякий случай, поскольку фрау Шварцвеллер могла увидеть что–то в кузове «пикапа», так лучше самому объяснить, чтобы ее не мучило любопытство).
К сожалению, у них был только один карманный фонарик, Хетель поколебался немного, однако попросил у хозяйки фонарь, с которым она вечером ходила к корове: говорят, здесь есть пещеры и заброшенные штольни…
Теперь Грейт шел впереди, освещая путь карманным фонариком, а Хетель с Ангелом немного отстали. Они давно бы уже сели отдохнуть, но этот буйвол Грейт не знал усталости, отставать же не хотелось. Когда полковник наконец остановился, Ангел спросил его недовольно:
— Куда вы спешите?
— Я? Спешу?.. — удивился Грейт. — Я только и делаю, что приноравливаюсь к вам. Кстати, мы прошли под землей всего метров двести…
— А пять километров по горам без отдыха?
— Ну уж и пять! Не будет и четырех, — возразил полковник.
— Кто как считает, — засмеялся Хетель. — По моим ногам — все восемь
— Осталось два десятка шагов! — торжественно произнес Грейт.
Ангел забыл об усталости.
— Покажите схему! — придвинулся к полковнику. Кларенс протянул бумагу.
— Смотрите, четвертый поворот направо. Это он! — ткнул пальцем в темноту. — А за ним сразу…
Ангел нетерпеливо водил пальцем по схеме.
— Вот здесь, где крестик?
— Угу.
Вдруг Ангел оттолкнул Грейта и проскользнул между ним и влажной стеной штрека. Полковник поморщился.
— У нас много времени, Франц, не спешите.
Но Ангел не слушал его. Остановился на повороте, поднял фонарь.
— Идите сюда! Сколько шагов до поворота?
Полковник подсчитал. Провел киркой черту и попросил Хетеля отмерить. Полковник первый ударил киркой, загнав ее в грунт чуть не наполовину.
Они с Ангелом по очереди расковыривали каменистую породу, затем Франца подменил Хетель. Он быстро устал, и полковник отнял у него кирку. Махал и махал, словно не знал устали. Наконец остановился, но только для того, чтобы взять лопату.
— Отойдите–ка… — попросил партнеров. Отбросил землю — образовалась яма по колено.
Теперь копали по очереди. Каменистый грунт не поддавался лопате, приходилось сначала разбивать его киркой, а уже потом выгребать.
Ангел вспотел, ругал сквозь зубы Штайнбауэра, которому вздумалось так глубоко закопать контейнер.
— Конечно, он сам не махал киркой… Было кому махать… Потом заткнул рот — и все…
— Как вы понимаете: заткнул рот? — поинтересовался Грейт.
— Есть много способов, полковник, и один из них состоит в том, что человек сам себе выкапывает могилу.
Грейт на секунду остановился, поднял лопату, словно защищаясь, но сразу опустил ее.
— Да, ваши парни были мастера на такие дела. — Рубанул киркой еще раз, остановился и отер рукавом мокрый лоб. — Мы уже прошли полтора метра…
— Не может быть! — заволновался Ангел. — Вы правильно рассчитали повороты? Дайте мне план.
— Он у вас! — рассердился Грейт. — Посчитайте еще раз!
— Спокойно, господа, — вмешался Хетель. — Полковник не ошибся, я тоже считал повороты, чтобы не запутаться. И это действительно четвертый поворот направо.
Полковник ударил кайлом. Отгреб землю. Пробормотал:
— Смотря как мерить… Может, здесь и на самом деле нет полутора метров?
Он поработал еще с четверть часа — теперь всем стало ясно, что контейнера нет: под землей торчала только голова Грейта, а полковник вымахал, слава богу, почти до двух метров.
Грейт вылез из ямы, напоминавшей порядочную воронку. Посидел немного. Ангел и Хетель стояли у него за спиной молча. Полковник отдышался. Потом засмеялся.
— Штайнбауэр почти моего роста, — произнес сквозь смех. — И шаг у него мой. А я ориентировался на вас. Нужно копать еще на метр дальше. Подождите, пока я отдохну.
Работа пошла быстрее. Один махал кайлом, а другой, стоя в яме, выбрасывал осыпавшуюся землю. И все же прошло не меньше часа, пока яма углубилась еще на метр.
— Сейчас подойдите и посветите мне! — скомандовал полковник.
Ангел и Хетель стояли у него за спиной. Хетель поднял фонарь, и Грейт, отбросив мягкую осыпающуюся, землю, стал углублять яму. Вдруг лопата вошла в грунт только до половины, врезавшись во что–то твердое.
Полковник разгреб землю.
— Кажется, он! — воскликнул радостно. Ангел стал на колени, нагнулся.
— Посветите же! — дернул Хетеля за штанину. Тот опустил фонарь. Грейт быстро снял верхний слой земли — сейчас не было никаких сомнений: перед ними был контейнер.
Полковник разгреб землю руками, подсунул лопату под ящик, налег всем корпусом и вытащил контейнер. Похлопал ладонью по матовой свинцовой поверхности.
— Вот он, голубчик… — засмеялся. — Долгонько же ты ждал нас!
Поднял и положил на край ямы. Оперся руками, чтобы выпрыгнуть, но что–то больно ударило его в спину, и выстрел резанул ухо. Он еще держался за край ямы, но мышцы ослабели, и руки не слушались его. Хотел оглянуться — что случилось! — но голова перевесила, опустился на корточки и ткнулся лицом в землю…
Где–то в спине, под сердцем, остановилась боль, она разрасталась, становилась нестерпимой, нельзя было пошевелиться, даже дышать.
— На одного меньше… — услыхал за спиной.
«Неужели Ангел? Да, голос Франца. Неужели это он стрелял? «На одного меньше…»
Ангел не хочет делиться с ним, ну и ладно, бери все, но зачем же стрелять? Он же спас его в Танжере. «Боже мой, Франц, неужели ты не помнишь этого?»
— Что ж, это справедливо… — похвалил Хетель.
— Это наше добро, мы заплатили за него слишком дорого, чтобы американская свинья получила хоть пфенниг.
Ангел хрипло засмеялся.
— Каждый падок до чужого. Этот Грейт опротивел мне, я вынужден был терпеть его, но сейчас… Что ж вы стоите? Берите лопату, закапаем его!
«Я еще живой!..» — хотел сказать полковник, но язык не слушался его. На спину «осыпалась земля, боль снова прокатилась волной по всему телу и застыла где–то у лба, на висках.
…Ангел оглянулся вокруг, не осталось ли чего, взял под мышку ящик и повернулся к выходу.
— У нас к вам просьба, фрау Шварцвеллер, — сказал Ангел за завтраком. — Не могли бы вы съездить в Унтеркримль? Мы договорились с нашим другом, что он сообщит в кафе «Горный орел», где и когда мы сможем встретиться.
Они объяснили фрау Шварцвеллер, что Грейт должен был отлучиться на несколько дней.
— Хорошо, — согласилась женщина, — я только управлюсь по хозяйству.
— Скажите хозяйке «Горного орла», что вас послал Пауль Мюллер. Запомнили, Пауль Мюллер?
Ангел вышел из–за стола. Вместе с Хетелем они поднялись в свои комнаты и принялись рассортировывать добытые документы. Большую папку (разные секретные бумаги главного управления имперской безопасности, не имеющие для них никакой ценности и только дающие повод для шума в левой прессе), положили в портфель, чтобы потом сжечь в горах.
Ангел незаметно ощупал внутренний карман пиджака (ночью, убедившись, что Хетель спит, он встал и, захватив с собой небольшую пачку документов, вышел в туалет, отобрал при слабом свете лампочки листок, положил его в конверт). Сейчас, вдруг словно вспомнив что–то, остановил Хетеля:
— Две минутки, Вольфганг, я только напишу несколько строк домой.
Присел к столу и действительно написал несколько строк. Достал конверт и засунул в него письмо. Написав адрес, заклеил, подержал так, чтобы Хетель убедился — письмо на самом деле домой. Затем завернул в газету небольшую пачку документов и положил ее в карман. Хетель смотрел на него настороженно.
— Я знаю нескольких офицеров, значащихся в списках Кальтенбруннера…
— Что вы хотите этим сказать? — не отказал себе в удовольствии немного поиздеваться Ангел.
Хетель смутился.
— Ничего… Так, мы встречались… Теперь, возможно, я не узнал бы их…
Ангел смотрел на Хетеля и понимал, что волнует его. Обдумывал: можно было бы, конечно, отправить и Вольфганга туда, откуда никто не возвращается, но сумеет ли он один договориться с офицерами СС, которым доверена тайна шифров. Ведь даже высшее эсэсовское руководство не сомневается, что он, гауптштурмфюрер СС Франц Ангел, погиб. Нет, Хетель незаменим. Он уже намекнул, что согласен послать ко всем чертям Штайнбауэра, и только необходимо обдумать открывающиеся перспективы. Главное: дотянется ли до них рука Штайнбауэра? Пилота можно купить — он высадит их где–нибудь в горном районе Северной Италии. Там у Ангела есть еще старые друзья, которые помогали ему сбывать фальшивые фунты стерлингов. С их помощью они продадут золото и начнут разыскивать эсэсовцев, которым доверены составные части шифра.
Внизу послышались радостные восклицания — смеялась фрау Шварцвеллер, и какой–то человек отвечал ей. Ангел встал за дверью, вытянув из кармана пистолет.
— Посмотрите–ка, что там такое! — приказал Хетелю.
Хетель протянул руку.
— Дайте пистолет…
Ангел хотел было уже отдать, но передумал. Открыл дверь, прислушался, спрятал оружие.
— Только бы он не сунул свой нос в «пикап»… — заволновался Хетель.
— Будем следить.
— Надо сделать так, чтобы он не отлучался отсюда. Болтнет еще где–нибудь…
— Да, его приезд усложняет дело, — согласился Ангел. — Пойдем посмотрим, что это за щенок.
Ганс Шварцвеллер плескался возле умывальника во дворе, когда на крыльцо вышли Ангел и Хетель. Мать успела предупредить его, что сдала верхние комнаты. Ганс сразу заметил постояльцев, но почему–то смутился — был в одних трусах и сделал вид, что не заметил их. Продолжал умываться, будто ничего не случилось, но из–под руки незаметно еще раз глянул на постояльцев и упустил мыло в таз. Низко наклонился над тазом, вылавливая скользкий обмылок. Слава богу, что не встретился с ними глазами!
Сегодня утром Ганс купил «Фольксштимме» и по дороге успел просмотреть газету. На первой странице пария привлекли три портрета. Подпись под одним из них гласила, что это бывший штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель. Фамилия будто знакомая, вначале не мог вспомнить — откуда, но потом вспомнил и обругал себя, что забыл даже на миг: об эсэсовском офицере Вольфганге Хетеле рассказывал покойный отец, и этот рассказ настолько поразил Ганса, что он мог повторить его слово в слово.
У отца собрались друзья. Говорили обо всем на свете, и неожиданно кто–то вспомнил, что читал в газете: бывший гитлеровский преступник Вольфганг Хетель вышел из тюрьмы и поселился в Альт–Аусзее. И тогда отец рассказал эту историю — все примолкли и слушали его, забыв о шнапсе и еде, а мать стояла в дверях и вытирала глаза концом фартука…
«Это было весной сорок пятого. Все знали, что война кончается, русские уже стояли на Одере, но здесь было еще много немцев, даже слишком много — все время по дорогам двигались колонны грузовиков, появились роскошные легковые машины, — не было и дня, чтобы я не увидел «хорх», «мерседес» или «опель–адмирал». Это означало: нашими местами заинтересовалось высокое начальство. По слухам, где–то в горах создают резиденцию для Гитлера и якобы сам рейхсфюрер СС Гиммлер уже здесь. Потом мы узнали, что это был не Гиммлер, а Кальтенбруннер, но какое это имело значение? Все равно эсэсовцы зверствовали: сгоняли людей с насиженных мест, мобилизовывали на работу, заставляли копать противотанковые рвы, сооружать блиндажи и разные укрытия. И везде висели приказы, распоряжения. И везде угроза: за невыполнение — смертная казнь.
Наша усадьба, как видите, стоит в стороне, но дошла очередь и до нас. Эльзу с отцом заставили выехать в двадцать четыре часа, а меня мобилизовали на строительство оборонных сооружений.
Копали противотанковые рвы в долине. Это была тяжелая, изнурительная работа, и к вечеру мы все валились от усталости. Да еще, как назло, зачастили холодные дожди со снегом, развезенная сотнями ног земля превратилась в жидкую грязь, в отдельных местах она доходила до колен, обувь у всех раскисла, начались болезни — представляете, как приходилось мне с моей болячкой, которую выкашливаю и по сей день?
Нас было немного более сотни — жителей окрестных мест, командовал нами унтершарфюрер СС Врук. Когда я вспоминаю эсэсовцев, все они представляются в образе этого Врука и еще одного, о котором, собственно говоря, и пойдет разговор. Но вначале о Вруке.
Представьте себе человека, довольно высокого и широкого в плечах, почти с квадратным лицом и маленькими глазками. Врук издевался над нами, как хотел. Мало того, что мы работали от зари до зари с коротким перерывом на обед, унтершарфюрер на протяжении дня отбирал десяток–полтора людей, которые, на его взгляд, плохо работали, и давал им дополнительное задание на вечер.
Один раз нас подняли раньше, чем всегда. Но чудеса: мы не услыхали вруковской ругани. Вначале обрадовались, решив, что он заболел или отбыл по делам. Но все оказалось значительно хуже. Нас построили прямоугольником. Подъехали машины, из нее вышли три офицера. Впереди — штурмбаннфюрер СС в выпуклых очках. Он остановился там, где прямоугольник прерывался, и сказал:
— Сегодня ночью в противотанковом рву убит унтершарфюрер СС Врук. Это сделал кто–то из вас. Преступник должен сейчас выйти из строя. Если он не согласится, будет расстрелян каждый десятый.
Все молчали, и слышно было, как дождь сечет по лужам.
Штурмбаннфюрер подождал немного и продолжал:
— Я даю вам три минуты.
Посмотрел на часы, обернулся к офицерам и о чем–то заговорил с ними.
Мы стояли, переступая с ноги на ногу, и тоже ждали. Я стоял справа от штурмбаннфюрера, совсем рядом с ним, смотрел, как засмеялся вдруг — удовлетворенно и самоуверенно. Только тогда до меня дошло сказанное им, и я пришел в ужас. Ведь расстреляют каждого десятого. Я незаметно скосил глаза и стал считать — я был десятый. Я пересчитывал дважды или трижды, но ошибки не было: я был десятый!
Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я стал считать, но вдруг до меня дошло, что я стою справа от штурмбаннфюрера, а считать, наверно, начнут с другой стороны. Нас же всех — сто семь (это я знал точно — получали хлеб и приварок каждый день на сто семь человек).
Итак, я уже не десятый.
Тогда я обрадовался. Потом мне стало стыдно и за испуг, и за последующую радость, мне стыдно за это и сейчас, я никому не говорил об этом, вам впервые, может, мне сейчас будет легче — все эти годы точил меня червячок и что–то лежало здесь, под сердцем, грязное и колючее: вспомню — и болит…
Но тогда я думал только об одном: откуда начнет считать штурмбаннфюрер?
Он повернулся к нам, поднес руку с часами чуть ли не к носу, резко опустил ее и произнес:
— Три минуты прошло. Но это слишком просто — расстрелять каждого десятого. Десять человек из ста — это всего десять шансов из ста, что будет расстрелян преступник. Это несправедливо, не так ли, господа?
Он обращался к нам, будто мы имели право согласиться с ним или возразить; мы могли только стоять и молчать, мы были целиком в его власти.
Штурмбаннфюрер продолжал дальше:
— Сделаем так, господа. Если вы доверяете мне, я сам отберу эту злосчастную десятку. Конечно, мне трудно гарантировать, что преступник непременно попадет в нее.
Он издевался над нами, а мы переступали с ноги на ногу и молчали — сто семь мокрых, голодных и бесправных людей.
— Ваше молчание расцениваю как согласие, — продолжал штурмбаннфюрер. — Прошу смотреть мне в глаза, я попробую по глазам догадаться, кто из вас мог совершить это страшное преступление.
Офицеры рассмеялись. Очевидно, им понравился этот спектакль.
Штурмбаннфюрер двинулся вдоль строя. Он начал с противоположной стороны, медленно, не обращая внимания на грязь, она чавкала, и брызги летели на его блестящие сапоги. Все мы слышали это чавканье, потому что каждый шаг мог принести смерть одному из нас.
Наконец чавканье прекратилось: штурмбаннфюрер остановился перед пожилым человеком в промокшей, с обвислыми полями шляпе. Я знал его — автослесарь из Унтеркримля.
Неужели он первый?
Штурмбаннфюрер постоял немного напротив него и вдруг сказал:
— У тебя нездоровый вид лица, и ты, наверно, скоро все равно умрешь… — махнул рукой и пошел дальше.
Он ошибся — этот слесарь живет и сейчас, я видел его на прошлой неделе, когда ездил за продуктами в город.
Первым, кого отобрал штурмбаннфюрер, был совсем еще молодой парень — думаю, ему не стукнуло и двадцати трех, он сильно хромал и поэтому не попал в армию.
Эсэсовец приказал ему выйти из строя, заметив:
— Тысячи твоих ровесников полегли на поле боя, и будет справедливо, если и ты составишь им компанию.
Нужно отдать должное парню: он держался достойно — стоял, уставившись в небо, может, молился, а может, просто любовался хоть и серым, но все же прекрасным небом.
Затем штурмбаннфюрер извлек из строя еще одного человека, старого учителя–пенсионера из Унтеркримля. В конце концов, молодых среди нас и не должно было быть — дома остались либо дети, либо инвалиды. Так вот — очередь дошла до учителя. Мудрый был старик и гордый, никогда не слыхали мы от него жалоб, хотя и ему доставалось.
— У тебя глаза вора, — сказал штурмбаннфюрер. — Ты мог убить Врука!
И вдруг учитель ответил громко, так, что мы все услышали:
— К сожалению, я не убивал, я говорю «к сожалению», потому что сейчас убил бы непременно!
Офицер поднял руку, словно хотел ударить, но сдержался. Только добавил:
— Значит, я не ошибся.
Третий, кого он отобрал, вдруг упал на колени и начал вопить:
— Я не убивал, господин офицер, поверьте мне, я не убивал!.. Я всегда сочувствовал национал–социалистам, господин офицер. Не трогайте меня… Я мирный человек, я не мог убить!..
Вы должны помнить его: старый Шумахер, огородник, он всегда продавал ранние овощи. Хотел схватиться за сапог штурмбаннфюрера, но офицер оттолкнул его и пошел дальше.
Шумахер, как стоял на коленях, так и пополз за офицером, но два эсэсовца подхватили его под руки и оттащили в сторону, к длинному сараю с кирпичной стеной.
Когда штурмбаннфюрер приблизился ко мне, отобрано было уже девять — оставался один, и мне почему–то казалось: последним буду я. Не скажу, что это было чувство из приятных, сделалось страшно, и тело обмякло, словно в живот тебе влили изрядное количество свинца.
Штурмбаннфюрер встретился со мной взглядом и остановился. Глаза его закрывали выпуклые стекла, и трудно было определить, насмехается он над тобой или раздумывает, кому подарить последнюю пулю. Но я чувствовал, что мне, я видел, как блеснули стекла, не глаза, а стекла очков, он уже поднял руку, чтобы указать на меня, и я собрал все силы, чтобы не упасть, а выступить вперед мужественно, как и подобает настоящему мужчине, но штурмбаннфюрер понял меня: может, ему хотелось, чтобы его упрашивали, трепетали от страха. Он показал не на меня, а на паренька, стоявшего рядом со мной, пятнадцатилетнего мальчишку, который сразу расплакался. Слезы текли у него по щекам, он не хотел выходить из шеренги, но эсэсовцы вытащили его, а штурмбаннфюрер смотрел на меня и, кажется, читал мои мысли.
Я сказал ему тогда прямо, по–человечески, не кричал и не умолял, а попросил, ну так, как попросил бы вас:
— Отпустите его и возьмите меня…
— О–о, — ответил штурмбаннфюрер, — я не хочу принимать от вас такой жертвы. Я никогда не изменяю своим решениям, но обещаю: при случае непременно расстреляю и вас.
Мы не видели больше штурмбаннфюрера, но я узнал, что это был Вольфганг Хетель, один из любимцев Кальтенбруннера. Этот Хетель принимал участие еще в венских событиях перед аншлюсом…»
Ганс хорошо помнил и слова, которыми отец закончил свой рассказ: «Тем хуже для нашей страны, если такие, как Хетель, снова на свободе…»
И вот сейчас штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель стоит на крыльце его дома, дома его отца, стоит и даже улыбается.
Наконец Ганс поймал мыло. Вылил на себя ковш холодной воды. На мгновение перехватило дух. Поставил ковш и, будто впервые увидев постояльцев, вежливо поклонился им.
— Мать говорила о вас, но я думал, что вы отдыхаете.
— Ничего, ничего, юноша, — остановил его Ангел. — Я могу только позавидовать вам, в нашем возрасте появляются разные радикулиты, а для вас холодная вода — здоровье.
Ганс стал растираться полотенцем. Думал: надо немедленно сообщить полиции. Но как это сделать, чтобы они ничего не заподозрили? Громко позвал мать и, когда та выглянула в окно кухни, спросил, хватает ли ей продуктов.
Фрау Шварцвеллер засуетилась: конечно, надо съездить в Унтеркримль, сделать покупки, и так уже стыдно перед уважаемыми господами за то, чем она их потчует.
Ганс слушал не перебивая. Вот если бы мать сама предложила ему съездить в город, он еще поартачился бы немного, мол, только с дороги, но потом согласился бы.
Вдруг увидел: из кармана куртки, которую положил на скамейку под крыльцом, торчит номер «Фольксштимме» — свежий номер с портретами преступников. Уже не слышал, о чем говорит мать, перекинув через плечо полотенце, попятился к куртке. Стараясь не смотреть на нее, улыбался тем, что на крыльце, взял брюки, бросив на куртку полотенце, снова посмотрел на Хетеля, не заметил ли его маневр, и только после этого–спросил мать, заказывала ли она продукты у местного лавочника? Фрау Шварцвеллер объяснила, что тот привезет заказанное только послезавтра, а сейчас она съездит в город.
— А может, я съезжу сам?
Мать не успела еще ответить, как вмешался Ангел:
— А мы рассчитывали на вас, юноша. Фрау Шварцвеллер говорила, что вы прекрасно знаете окрестные места и покажете нам живописные уголки.
Мать сразу поддержала Ангела:
— Покажи им, сынок, форельное озеро.
Ангел спросил осторожно:
— Сколько отсюда до Долины ландышей?
Там должен был сесть самолет, и Ангел сам хотел осмотреть место посадки.
— Километра три.
— Вот и хорошо, — поддержал Франца Хетель. — За два часа мы обернемся.
Гансу ничего не оставалось, как согласиться.
— Минутку, господа, — попросил, — я только переоденусь.
Он ушел в комнату, где лежал дед. Старик теперь редко поднимался с кровати, болезни мучили его. Ганс думал, что постояльцы останутся на крыльце, но Хетель пошел за ним и встал в дверях кухни.
Парень разыскал старые брюки в шкафу, оторвал пару пуговиц и попросил громко:
— Пришей мне, мама, пуговицы.
— Давай свои брюки, — проворчала мать, проходя в комнату. — Как маленький, все на тебе горит.
Она прикрыла за собой дверь, но Ганс был уверен, что Хетель подслушивает, поэтому произнес громко:
— Я нашел только одну пуговицу, вторую поищи в шкафу.
Вырвал листок из школьной тетради. Черт, где же карандаши? Нашел наконец на столике возле кровати деда. Быстро писал, говоря совсем другое — для Хетеля:
— Мы пойдем в Долину ландышей через гребень, кратчайшим путем. Можно было бы подъехать и на машине, автобус проходит, по–моему, в десять тридцать две, но вряд ли господам будет приятно трястись в автобусе… — Сжал матери руку, положил палец на губы, призывая к осторожности. Та посмотрела удивленно. — А впрочем, я спрошу их… — сказал громко, показывая матери записку.
«Быстрее вполицию, у нас Вольфганг Хетель», — прочитала. Удивленно вытаращила глаза, но Ганс не дал ей хотя бы одним звуком выдать себя:
— Где мои старые ботинки? Вечно я их ищу, и всегда их кто–то забросит бог знает куда!
Спрашивал мать глазами: поняла ли? Та кивнула, но смотрела испуганно. Ганс разорвал записку, бросил в печь.
— Я возьму с собой флягу. Она на кухне? — натянув брюки, надел ботинки и, громыхая, чтобы Хетель успел отойти от двери, направился на кухню.
Хетель стоял посередине коридора, заложив руки за спину. Разговор между фрау Шварцвеллер и сыном успокоил его.
— Вы готовы, юноша? — спросил у Ганса приветливо.
— Уже идем. Я только возьму воды, может, захочется пить.
***
Полицейский просунул голову в дверь, всем своим видом показывая: случилось что–то важное. Сказал почему–то шепотом:
— Важные новости, господин комиссар, — и пропустил в комнату пожилую женщину. — Расскажите, госпожа, что у вас произошло.
Та развела руками.
— Сын написал: зайди в полицию. У нас Вольфганг Хетель…
— Хетель? — Комиссар обежал вокруг стола. — Вы сказали, Вольфганг Хетель?
— Так мне написал сын…
Фрау Шварцвеллер рассказывала. Бонне слушал внимательно. Выслушав, уточнил:
— Говорите, что третий, высокий, не пришел вчера?
— Они взяли кирку и лопаты… Обратно вернулись двое, третий уехал в Зальцбург. Он должен был что–то передать им через хозяйку «Горного орла».
— Сколько вам нужно времени, чтобы уладить дела в Унтеркримле? — спросил Бонне.
— Бог с ними, с делами, — отмахнулась фрау Шварцвеллер.
— Нет, — возразил Бонне, — они могли не пойти в Долину ландышей и следят сейчас за дорогой, когда и с кем вы вернетесь. Делайте покупки и садитесь в автобус. Если Хетель дома, передайте ему, что в «Горном орле» вам сказали: «Аукцион состоится четвертого сентября». И еще: если их нет дома, то дайте нам какой–нибудь знак.
Фрау Шварцвеллер сразу сообразила, что от нее требуется.
— Я раздвину занавески на кухонном окне, — пообещала. — Если смотреть с дороги, крайнее окно справа.
Четыре агента вместе с Бонне заняли места в автобусе, шедшем вдоль усадьбы Шварцвеллеров. Внимательно смотрели вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили. Да и что может быть подозрительного, если даже больной дед вышел во двор погреть старческие кости — сидел в шезлонге и дремал.
Комиссар попросил водителя остановиться за поворотом, где над дорогой нависла отвесная стена. Она закрывала шоссе от посторонних глаз — Бонне и один из агентов, выйдя из автобуса, забрались в кустарник. Здесь и сам черт не заметил бы их.
Сержант Грейзль с другим полицейским сделали большой круг и отрезали преступникам путь в долину. Возле поворота в лесочке стоял черный «форд» — немного вперед выдвинулась третья группа агентов. Дом Шварцвеллеров взяли в кольцо.
Вот–вот вернется фрау Шварцвеллер.
Бонне раздвинул кусты и выглянул. Грузовая машина остановилась напротив дома: так и есть, приехала хозяйка. Шофер помог внести ей ящик с пивом во двор, помахал рукой и уехал. Фрау Шварцвеллер вошла в дом. Спустя несколько секунд открыла кухонное окно, раздвинула занавески.
Комиссар прикинул: от дороги до усадьбы можно незаметно добраться только при условии, если сделать крюк метров в двести и переползти между грядками. Решил: стоит рискнуть. Показал агенту, что делать.
Бонне первый пополз через огород. Добрались до сарая. С тыльной стороны дом прикрывали две яблони; двери черного хода, как они и договорились с фрау Шварцвеллер, открыты. Комиссар прошмыгнул под яблонями, агент — за ним. Столкнулись в узком коридорчике, тяжело дыша.
***
Самолет мог сесть в Долине ландышей. Ангел обошел все полянки, будто любовался цветами. Собрал букет.
— Для фрау Шварцвеллер…
Возвращались снова через гребень. На перевале, с которого хорошо просматривалась усадьба Шварцвеллеров и все окрестности, передохнули. Ангел успокоился: в тени возле крыльца дремал старик, фрау Шварцвеллер набрала соду из колонки, понесла ведра пи кухню.
Кноль не возражал. Они протолкались сквозь толпу репортеров и сели в машину.
— Едем, Кноль, — попросил инспектор Бонне, — мне необходимо проконсультироваться с экспертами.
— Я знал, что вы что–то нашли, — Кноль рванул машину. — Если не секрет?..
— Ну, какие могут быть от вас секреты? Я почти уверен, что Циммера убили.
Кноль инстинктивно затормозил.
— А вы не преувеличиваете?
— Я сказал «почти», — пояснил Бонне. — Окончательно мы выясним это, когда поймаем преступников или найдем труп библиотекаря.
— На чем основывается ваше предположение?
— Все говорят, что Георг Циммер был педантичным и аккуратным. Так оно и есть. Если бы вы заглянули в каталог наклеек, окончательно убедились бы в этом. У библиотекаря был пунктик, которому он посвятил полжизни. Он один из лучших лейблистов мира! Допустим даже, что старик нашел тайник. Была ли у него необходимость раскрывать его и убегать без подготовки? Считаю, что такой человек, как Циммер, убегая, первым делом захватил бы с собой коллекцию.
— Но обстоятельства могли сложиться так, что сообщники Циммера спешили. Учтите, вывезти за границу или реализовать здесь примерно полтонны золота — дело непростое.
— Я ждал этого возражения, — удовлетворенно произнес Бонне, — и сам возражал себе. Действительно, Циммер мог спешить, он схватил деньги, документы, успел бросить в чемодан часть своей коллекции. Можно допустить, что библиотекарь так и сделал, — инспектору Барцу не откажешь в логике, — однако есть одна деталь, перечеркивающая эту версию. Я изучил каталог Циммера и сверил записи с тем, что осталось. И вы представляете, что не взял с собой старый чудак? Циммер оставил самую ценную часть своей коллекции, кстати, она лежала на верхней полочке, а захватил почему–то наклейки, которые не имеют в каталоге пометки «редкий экземпляр».
Инспектор лишь пожал плечами.
— Вы преподали сегодня нам хороший урок по криминалистике, — ответил он. — Но зачем вам эксперты?
— Вы обратили внимание, что преступники странно заметали следы?
— Да.
— Сделать это в полутемном коридоре нелегко. На одной из ступенек я обнаружил след крови и кусочек кожи с волосами. Похоже, человек ударился головой о ступеньку. А над лестницей в щели между камнями вот что… — Бонне развернул перед инспектором кусок бумаги.
— Разбитое стекло?
— Насколько я понимаю, остатки очков. Мне необходимо проконсультироваться с экспертом–окулистом. Может, очки принадлежали преступнику. Мы установим диоптрию стекла, а дальше…
— А дальше что бог даст?
— Вот именно. Отвезите меня в лабораторию, а сами поработайте над связями Циммера. С кем он встречался в последнее время? Шварц называл какой–то ресторан «Райский уголок». Расспросите там.
— Можете положиться на меня, господин комиссар…. Эксперту–окулисту не. потребовалось много времени, чтобы установить, что очки принадлежали человеку, который не может обойтись без них — потеря почти восьмидесяти процентов зрения. Уже к концу дня полиция установила наблюдение над всеми оптическими магазинами и мастерскими в Зальцбурге и в окрестностях. К тому же Кноль и Барц узнали от официантки «Райского уголка», что ее постоянный клиент господин Циммер в последнее время дважды встречался в ресторане с человеком в очках. Девушка оказалась наблюдательной, и Бонне получил даже словесный портрет предполагаемого преступника: человек лет сорока пяти, низкого роста, лысый, курносый, лицо круглое. Носит выпуклые очки в роговой оправе.
А еще через день в одном из оптических магазинов приобрел точно такие же очки, какие предположил окулист, владелец частной школы в селе Альт–Аусзее Вольфганг Хетель. Бывший штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель, не так давно освобожденный из тюрьмы, где отбывал срок за военные преступления.
Официантка «Райского уголка», которой показали его фото, опознала посетителя ресторана, встречавшегося с Георгом Циммером.
***
Дубровский ходил по комнате, заложив руки за спину, а Бонне лежал на диване и следил за ним хитрыми глазами.
— Вы напоминаете мне тигра в клетке, — наконец нарушил молчание комиссар. — Но от ваших эмоций ничего не зависит, и дело не сдвинется. Все должно идти своим ходом.
Сергей остановился возле дивана.
— Я уверен, — сказал он как можно серьезней, — что в этом деле не обошлось без Ангела и Грейта. Я также уверен, что они сейчас в Альт–Аусзее. Необходимо произвести налет на дом Хетеля. Ну подумайте: Хетель живет здесь вот уже два года. Если бы он раньше знал о тайнике, то давно вскрыл бы его или по крайней мере попытался бы это сделать. Есть только один вариант — к нему прибыли люди, знающие о тайнике, и Хетель помог им увезти сокровища. Эти люди — посланцы Штайнбауэра, Ангел и Грейт. Разве это не ясно, Люсьен?
Бонне лениво поднялся.
— Если бы я писал репортаж, — заметил ехидно, — эта версия вдохновила бы меня на две–три странички. Но в каком идиотском положении окажемся мы, если у Хетеля никого не будет?
— Но ведь он убил Циммера!
— Кто это вам сказал? — деланно удивился Бонне. — Как кто? Вы.
— Я только допускаю, что Хетель — возможный убийца. Но, к сожалению, еще не могу доказать это.
— А разбитые очки и его подозрительные встречи с библиотекарем?
— Очки — это еще не доказательство. Может быть, их потерял другой человек. Мог это сделать и сам Хетель — ведь мы установили, что он посещал книгохранилище.
— Формалистика, — пренебрежительно махнул рукой Дубровский.
— Не формалистика, а закон. В конце концов, — Бонне сел на диване, сунув ноги в мягкие тапочки, — если бы у меня и были доказательства преступления Хетеля, я не спешил бы. Думаю, что и без Ангела здесь не обошлось. Теплая компания бывших эсэсовцев — другие руки вряд ли дотянулись бы к их сокровищам. Но хорошо, если Ангел и Грейт прячутся у Хетеля. А если нет? Мы берем Хетеля, а его люди предупреждают других преступников. Они благодарят нас за спешку и исчезают в неизвестном направлении. Да еще и смеются над полицейскими пентюхами. Я уже не говорю о золоте, благополучно исчезающем вместе с ними.
— У вас железная логика, Люсьен, — отступил Дубровский, — но чувствуешь себя последним дураком, зная, что преступники гуляют на свободе рядом с тобой.
— Это у вас с непривычки. — Бонне стал обуваться. — Я только что из Альт–Аусзее. Прекрасное местечко в предгорье. Хрупкая мечта моего детства. Маленький домик с садиком, цветы, много цветов, радующих взор с ранней весны вплоть до морозов. И я с лопатой, выращиваю огурцы или что–нибудь другое — шампиньоны. Когда выйду на пенсию, непременно отыщу местечко, похожее на Альт–Аусзее.
— Ну и что в Альт–Аусзее? — нетерпеливо перебил Дубровский.
— Порядок, — подмигнул комиссар, — полный порядок. Там Кноль, а где Кноль, не может быть ничего, кроме порядка. Все входы и выходы дома Хетеля блокированы, а за самим владельцем школы установлено наблюдение. За каждым его шагом следит Кноль, а этот инспектор, скажу вам без преувеличения, имеет голову на плечах и только случайно еще не стал комиссаром.
***
Кнолю снилось золото.
Маленькие слитки, величиной с кулак, разрастались в огромные глыбы, превращались в валуны: Кноль блуждал среди них, старался поднять, но они не давались, он хотел отковырнуть от них хотя бы кусочек, но не было даже складного ножика, и инспектор в бессилии зло царапал ногтями желтую блестящую поверхность валунов, старался даже откусить, лизал, ощущая во рту необычайно приятный привкус. Этот кошмар мучил Кноля до утра. Валуны вдруг вытянулись в столбы, точно телеграфные, инспектор почему–то лез на них, срывался и снова лез.
Проснулся на рассвете. Голова болела, во рту было сухо. Выпил тепловатой воды из графина и еще долго лежал под одеялом, закрыв глаза. Хотелось плакать от жалости к самому себе — тридцать четыре года уже за плечами, а чего достиг? Как был жалкой букашкой, так и остался ею — задрипанный инспектор полиции — он, Петер Кноль, который чувствовал себя на голову выше начальника венского полицейского управления. Но у него не было связей, и его постоянно обходили по службе: даже те, кто учился у него, уже были либо комиссарами, либо занимали солидные посты в министерстве внутренних дел. Они пренебрежительно здоровались с Кнолем, хотя одной его головы достаточно было на десяток этих чиновников. У них роскошные машины и дачи, а его зарплаты хватает только на скромную двухкомнатную квартиру и обеды в средних ресторанах.
Кноль ненавидит их, ненавидит и презирает, это иногда прорывалось и не могло пройти незамеченным мимо зорких глаз начальства, которое, используя служебную исполнительность инспектора, все же обходило его при очередных вакансиях. В конце концов, Кноль пережил бы это — знал, что рано или поздно непременно станет комиссаром, а там несколько успешных дел, газетная реклама, и черт его знает чем это все кончится. Однако с ним случилось то, что случается и с полицейскими инспекторами: Кноль влюбился.
Гертруда пела в ресторане, где Кноль обедал. Она была тоненькая и смуглая, носила платья с глубокими декольте. Пела грудным голосом, пританцовывая стройными ножками.
Кноль засмотрелся на нее, Гертруда заметила это и, несколько раз глянув на него, даже улыбнулась и помахала рукой. В перерыве она спросила у метра, что это за чудак уставился на нее, и, узнав, что инспектор Интерпола, задумалась. Ей уже надоела жизнь с короткими любовными связями, грязными номерами в меблированных комнатах, ежевечерними коктейлями в сомнительных компаниях — хотелось чего–то постоянного, а у инспектора была приятная внешность, и он был молод.
Гертруда не удивилась, увидев, что инспектор ждет ее возле ресторана. Другого, кто понравился бы ей даже меньше, чем Кноль, она в тот же вечер пустила бы к себе в кровать, но с инспектором распрощалась у дома, только пожав ему руку, и он был уверен, что Гертруда одна из ресторанных певиц, сохранивших целомудрие.
Они уже встречались два месяца, а Гертруда все думала, стоит ли выходить замуж за Кноля. Гертруда представляла свое будущее более импозантным: комфортабельная квартира, норковая шуба и хотя бы «опель–рекорд».
Кноль догадывался, о чем мечтает Гертруда, но что он мог сделать?
Сейчас, лежа под одеялом и уткнувшись лицом в подушку, инспектор пытался представить Гертруду, но видел только ее глаза — зеленоватые, хитрые глаза, все время меняющиеся, они дразнили его и притягивали.
Кноль решительно отбросил одеяло и отправился умываться. Старательно чистил зубы и долго тер шею и лицо. Вышел на улицу, постоял немного. Рядом толстяк поднимал железную штору на дверях кафе. Кноль спросил его, есть ли у них телефон, и, дождавшись, когда хозяин исчез в кухне, набрал номер.
— Позовите, пожалуйста, господина Вольфганга Хетеля, — попросил Кноль. — Кто говорит? Это не имеет значения… — Вытер потное лицо. — Господин Хетель? С вами говорит инспектор полиции Кноль. Что же вы молчите, господин Хетель? Я думаю, вам будет интересно поговорить со мной. Да… Да… поговорить. Жду вас в кафе. Как называется эта улица? Ну, напротив отеля «Амзее», вы должны знать… Только не делайте глупостей, господин Хетель, предупреждаю, вы и ваши коллеги, да, да, ваши коллеги, окружены. И мы следим за каждым вашим шагом. Десять минут вам хватит? Прекрасно, меня это устраивает.
Кноль сел так, чтобы видеть всю улицу, ведущую к школе Хетеля. От школы три–четыре минуты ходьбы, но сейчас у них переполох. Он точно знал, что вся компания собралась у Хетеля. Все началось со вчерашнего разговора с хозяином магазинчика напротив школы. Кноль сказал ему, что изучает торговую конъюнктуру в маленьких городах — хочет сам открыть где–нибудь магазинчик, и этим расположил к себе болтливого тол? стяка. Тот долго жаловался на застой в торговле и привередливость клиентов. Взять хотя бы владельца школы господина Хетеля. Всегда пил коньяк и обыкновенный немецкий шнапс, а сейчас подавай ему виски и даже джин. Хорошо, что он в тот день ездил в Зальцбург и успел к вечеру привезти ящик этих напитков, но разве так делают. Он уже более десяти лет изучает вкусы своих клиентов и почти точно знает, когда и что они купят. В Альт–Аусзее никто никогда не пил джин, и вдруг такое. И не одну или две бутылки, а давай сразу пол–ящика. Он мог бы подумать, что господин Хетель обезумел, но ведь такой солидный, респектабельный человек.
— А может, у него намечается банкет или какой–нибудь семейный праздник? — спросил инспектор.
— Я знаю дни именин всех моих клиентов, — с гордостью ответил толстяк… — И примерно знаю, что они будут заказывать.
— Однако вы не знаете, когда и к кому приедут гости, — возразил Кноль. — Я уверен, что у этого… как его… Хетеля сейчас кто–то в гостях.
— Я сам так считал, — отмахнулся толстяк. — Неделю назад видел, как господин Хетель привез каких–то двух незнакомцев. Вечером я выключил свет и собирался закрывать магазин: он привез их в своем «опеле». Утром я спросил господина Хетеля, не нужно ли чего–нибудь его гостям, а он сказал, что они уже уехали.
— Да, — согласился Кноль, — какое кому дело, кто и что пьет. Лишь бы пилось и покупалось! Кстати, — поинтересовался между прочим, — господин Хетель сам заказывал спиртное?
— Он отправил шофера в Зальцбург, — объяснил толстяк, — господин Хетель знает, что у меня нет джина. Да и откуда ему быть? Но шофер увидел, что я еду в город, и попросил меня. А сам, — подмигнул, — к какой–то фрейлейн. Этому шоферу пальца в рот не клади — настоящий жеребец!
Кноль подумал, что хорошо иметь дело с дураками. Хетель — мудрый, предусмотрел даже мелочи, но вот что значит иметь ленивого слугу и болтливого лавочника напротив дома…
«Но они могли смыться сразу после вскрытия тайника, — подумал Кноль, — и сейчас у Хетеля никого нет».
Кноль просидел у толстяка весь вечер, купив бутылку коньяка, и они выпили ее вдвоем. Весь вечер инспектор наблюдал за окнами дома Хетеля.
— Господин Хетель женат? — поинтересовался Кноль между двумя рюмками.
— Его, — доверительно наклонился к Кнолю толстяк, — совсем недавно выпустили из тюрьмы… понимаете, он был эсэсовцем… Еще не успел жениться.
— Зачем же ему такая вилла? Живет ведь один?
— Господин Хетель — влиятельнейший горожанин Альт–Аусзее, и ему неприлично жить в каком–нибудь коттеджике.
Когда стемнело и на вилле зажгли свет, Кноль заметил у окна второго этажа две человеческие фигуры. Он не мог ошибиться: один задергивал штору, а второй стоял в глубине комнаты. Шофер в это время мыл машину возле гаража. Следовательно, «гости» Хетеля еще не отбыли…
…Увидев в конце улицы Хетеля, Кноль заерзал на стуле. Сейчас решалась его судьба — может быть, на всю жизнь, и от его воли и собранности зависит все. Сел прямо, прижавшись к спинке стула и положив руки на пластиковую поверхность столика. Только слегка дрожали пальцы. Кноль заметил это и снял руки со стола: ничто не должно выдавать его волнения.
Когда Хетель вошел в кафе, инспектор многозначительно показал ему глазами на хозяина. Хетель понял его — не обращая внимания на инспектора, подошел к стойке, заказал кофе.
— И принесите мне «Кемел», — попросил он лавочника. Знал, что в кафе таких сигарет нет, табачная лавка, где можно купить американские сигареты, далековато, но хозяин не посмеет отказать в желании одному из важнейших граждан города.
В самом деле, тот подал кофе, извинился.
Хетель кивнул, и хозяин вышел. С чашкой в руках Хетель подошел к столику инспектора. Они не поздоровались, не произнесли ни одного слова, только смотрели друг на друга выжидающе, холодно и, кажется, равнодушно, но со скрытой ненавистью и злобой.
Наконец Кноль начал:
— Я уже говорил вам, герр Хетель, что вы окружены. Мы можем арестовать вас хоть сейчас, и все зависит от меня. Обвиняют вас в убийстве Георга Циммера и в ограблении тайника.
Хетель попробовал проявить выдержку: глотнул кофе и даже улыбнулся.
— Здесь какое–то недоразумение, господин инспектор. Я всего лишь владелец школы и редко когда отлучаюсь из Альт–Аусзее.
— Не будем терять время, Хетель! — оборвал его Кноль. — Поскольку время работает против нас, против вас и меня. Может случиться так, что спустя несколько часов вас не спасет уже ничто. Пока же я могу помочь вам.
— Сколько? — выдохнул Хетель нервно.
Кноль сложил руки на груди.
— Три миллиона шиллингов! — произнес твердо.
— Вы сошли с ума, инспектор! — взвизгнул Хетель.
Кноль немного помолчал. Нагнулся над столом, уставившись на Хетеля.
— Это мое последнее слово! Даю вам полчаса на размышление. Полчаса, и ни одной минуты больше. Если через полчаса я не получу чек, мы возьмем вас. Обязательно возьмем…
— Но ведь три миллиона шиллингов!.. — чуть не заплакал Хетель. — Это же грабеж!
В голосе Кноля прозвучала ирония:
— По моим подсчетам, вы вытащили из тайника не менее пятисот килограммов золота. Что такое три миллиона шиллингов по сравнению с этим?
Хетель решительно поднялся.
— У нас нет другого выхода, — признался наконец. — Но какие у вас гарантии?
— Мы будем связаны одной веревочкой, — понял его Кноль. — Однако учтите, мне приходилось иметь дело с фальшивыми чеками, и, прежде чем отпустить вас, я проверю…
— Ну что вы! — деланно обиделся Хетель. — Вы получите чек на венский банк.
— Я проверю его в Зальцбурге.
— Как хотите, — пожал плечами Хетель. — Но я должен посоветоваться. Как вам удалось выследить нас? — спросил вдруг.
— Не теряйте времени, Хетель. Буду ждать вас на улице. И знайте: все ваши телефоны, кроме того, по которому я звонил, по моему приказу контролируются.
Когда Хетель ушел, инспектор в изнеможении оперся локтями о стол. Посидел так минуту. Наконец успокоился, выпил чашку холодного кофе. Подошел к телефону, набрал номер и сразу услыхал Бонне.
— Докладывает инспектор Кноль. Вчера вечером шофер Хетеля Петер Шульц ездил в Блю–Альм и спрашивал, есть ли телеграмма на его имя. Да, наверное, жду указаний… Остальное по–старому, господин комиссар. Я познакомился с лавочником, обслуживающим Хетеля, и сегодня попробую заглянуть в его гроссбухи. Понимаете, не увеличил ли он продажу спиртного владельцу школы. Ученикам вряд ли дают шнапс, а вот двум взрослым, да еще обреченным на одиночество, ничего не остается, как пить. Почтовые чиновники предупреждены, и мы ознакомимся с телеграммой, как только ока придет. Вам, пожалуй, нет необходимости приезжать сюда. Я уже говорил, что каждый новый человек в таком городке вызывает интерес. Я жду вас вечером, когда стемнеет. Спасибо, комиссар, но пока что я еще ничего не сделал.
Кноль повесил трубку и облизал губы. Интересно, почему они сохнут, когда он волнуется?
Вышел из кафе и направился к дому Хетеля.
Агент, который вел наблюдение за парадным входом в коттедж, делал вид, будто проверяет телефонные провода. Кноль, подозвав его, приказал:
— Передайте Курту, пусть обратит внимание на тех, кто будет сопровождать учеников после занятий. И предупредите его, что преступники могут загримироваться. Я здесь посмотрю вместо вас…
Курт вел наблюдение за выходом из школы. Агент должен был сделать крюк, и Кноль знал, пока тот вернется, он успеет встретиться с Хетелем.
Хетель появился на улице через несколько минут. Они свернули в безлюдный тупичок. Хетель отдал чек и спросил:
— Когда мы можем выехать? Хотелось еще выяснить…
— Я только выпущу вас из виллы, и все! — ответил Кноль решительно. — И не надейтесь на то, что в дальнейшем я буду покрывать…
Хетель произнес многозначительно:
— Однако сейчас вам будет выгоднее, если я и мои коллеги не попадем в руки полиции. Я могу ручаться только за себя, инспектор, я буду молчать, но вот они…
— Не берите меня на пушку, Хетель! Чек на предъявителя, и я не собираюсь сам получать деньги. В крайнем случае меня могут обвинить в небрежности, — спрятал чек в бумажник. — Я переживу это.
— А у вас все продумано, — сказал Хетель с почтением. — Приятно иметь дело с деловым человеком. Так когда же?
— Я позвоню вам часа через два.
— А нельзя ли скорее?
Кноль не выдержал, чтобы не подколоть:
— Я понимаю вашу нетерпеливость… И все же вам придется набраться терпения.
— Чек у вас, вы можете получить деньги и…
— Не судите по себе!
— Хорошо. — Хетель решил, что не стоит возражать. — Мы будем готовы через час.
— Я могу пропустить только одну машину, — предупредил Кноль. — Через полчаса полиция будет знать ее номер.
Хетель наморщил лоб.
— И за все это три миллиона? — спросил язвительно.
— Да, я продешевил, — парировал Кноль. — Еще две минуты — и я потребую четыре. И вы заплатите четыре.
— Но мы ведь уже договорились… И с нетерпением будем ждать звонка.
Кноль успел съездить в Зальцбург и вернуться обратно почти за два часа. Убедился, что чек настоящий, и дал распоряжение перевести три миллиона шиллингов в Вену на счет Гертруды Хунке. Прошел главную улицу Альт–Аусзее, свернул на другую, ведшую к вилле Хе–теля. Метрах в сорока от дома в ряду других машин стоял серый «мерседес». Кноль сел на переднее сиденье.
— Вы можете пойти пообедать, сержант, — отпустил полицейского, который наблюдал за парадным входом в виллу. — Возьмите с собой Герхарда. Я подменю вас. Только не задерживайтесь, даю вам сорок минут.
— Слушаюсь! — обрадовался сержант. — Герхард доложил вам? Этот тип Хетель утром выходил из виллы. Был в кафе «Амзее», но в это время там сидели вы, и мы ограничились наблюдением с улицы.
— Разумеется, сержант, — похвалил Кноль. — Идите, надеюсь, сорок минут вам хватит.
Когда сержант свернул за угол, Кноль выскочил из «мерседеса» к телефонной будке.
— Хетель?.. Можете выезжать. Грузовиком? Хорошо, хоть самим чертом. Вначале я буду преследовать вас на сером «мерседесе». Предупреждаю, через полчаса полиция будет знать номер вашей машины.
Хетель буркнул в ответ что–то невыразительное и повесил трубку.
— Кноль сел за руль «мерседеса», закурил сигарету, но, сделав несколько затяжек, швырнул ее в окно. Смотрел, как открываются ворота усадьбы Хетеля. Оттуда выскочил полуторатонный желтый «фиат», свернул на главную улицу, сразу набрав скорость, направился в сторону зальцбургского шоссе.
Инспектор двинулся за ним. Улыбнулся. В кабине грузовика только Хетель, а еще двое лежат в кузове. Наверно, они будут петлять по объездным путям, автобан для них — смерть: через полчаса полиция перекроет его.
Кноль ехал за «фиатом» километра четыре, потом, резко нажав на тормоза, поставил машину на обочину.
Интересно, куда они рванули? Через шесть километров поворот в горы. На их месте он поехал бы только в горы. Там можно переждать где–нибудь на ферме у знакомого. Конечно, если есть такой знакомый. Знакомые всегда помогут — везде нужно иметь друзей. Почему у него мало друзей? Ну и наплевать. Сейчас у них с Гертрудой есть деньги, много денег, а чем больше денег, тем больше друзей. Правда, цена таким друзьям — тьфу, но об этом скоро забываешь, начинаешь считать друзьями даже прихлебателей — и так до первого крутого поворота.
Куда деваются друзья, когда тебе плохо?
Посмотрел на часы — прошло двадцать шесть минут. Вынул из кармана длинный гвоздь, вогнал его в заднее колесо. Зашипело. Инспектор подождал еще несколько минут, сел за руль. Включил радио.
— Внимание, внимание! — начал уверенно. — «Форд» — семнадцатый и «форд» — восемнадцатый!.. Из ворот виллы вышел желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один–тридцать пять… За рулем подопечный… Начинаю преследование… Идет в сторону Зальцбурга. «Семнадцатому» следовать за ним. «Восемнадцатый» занимает мое место, ведет наблюдение за виллой. Понятно?
— Вы слышите меня, инспектор? — захрипел динамик. — Говорит «форд» — семнадцатый… Вас понял, иду следом!
Кноль рванул «мерседес». Машина пошла ровно, но через километр шина спустила окончательно, «мерседес» начало заносить. Кноль схватился за микрофон.
— «Форд» — семнадцатый! — выкрикнул, имитируя волнение. — У меня спустила шина! Быстрее, черт побери, быстрее!.. — Инспектор проехал еще немного на ободе, вильнул так, что машина чуть не съехала передними колесами в кювет. — Всем полицейским постам! — произнес громко и почти торжественно: — Говорит инспектор Кноль. Слушайте приказ: задержите желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один–тридцать пять! Шофера и пассажиров арестовать!
Выключил мотор и выпрыгнул. Из–за поворота на бешеной скорости вынырнул черный «форд». Кноль поднял руку, машина затормозила так, что запахло горелой резиной. Инспектор бросился на заднее сиденье.
— Давай быстрее! — приказал. — У меня спустило колесо, и они ушли вперед! — Похлопал по плечу полицейского, сидящего рядом с шофером. — Попрошу микрофон! Повторяю приказ всем патрулям: задержать желтый грузовой «фиат» номер сто тридцать один — тридцать пять! Водителя и пассажиров арестовать!
Мелькнул знак разъезда.
— Налево, — приказал Кноль. — Прямо Зальцбург, там их задержат и без нас. В горах им нечего делать. Очевидно, попытаются ехать малолюдными боковыми дорогами, может быть, в окрестных селах у них есть явки…
— Сколько их? — переспросил шофер.
— Водитель и двое в кузове… Знать бы… — Кноль вздохнул. — Мы бы спокойно взяли их ночью…
Стрелка спидометра перешла цифры сто тридцать. Впереди виднелось село. Немного уменьшив скорость, промчались через него, и снова сто тридцать…
Еще одно село, но желтый грузовик словно корова языком слизала.
— Может быть, они подались в горы, — высказал предположение полицейский.
— Только потратили время!.. — буркнул Кноль. — Возвращаемся.
***
Когда Кноль положил трубку, Ангел, собиравшийся завтракать, чуть не пролил молоко.
— Что с вами, Вольфганг? — встревожился Ангел.
Хетель стоял, вытаращив глаза, лицо его покраснело, и руки безвольно повисли.
— Что произошло, Вольфганг? — Ангел поставил бутылку с молоком, подскочил к Хетелю, тронул его за плечо.
— Полиция… Мы окружены… — промямлил Хетель.
Полковник оторвался от омлета.
— Что вы болтаете? — скривился недовольно. — Какая полиция?
Но Хетель уже пришел в себя.
— Звонил какой–то инспектор полиции Кноль. Предупредил, что мы окружены, и назначил мне встречу в кафе возле отеля.
Ангел попятился и споткнулся о стул.
— Вы ничего не перепутали?
— Я же не сумасшедший!
— А если провокация? — высказал предположение полковник.
— Если даже провокация, надо идти! — решительно сказал Хетель. — Давайте все взвесим. Представим, что все это правда. Следовательно, мы окружены и нам каюк. Инспектор, если бы у него не было своего интереса, не звонил бы нам. Понятно? Надо идти. Если провокатор что–то разнюхал и шантажирует нас, все равно надо идти и договориться с ним.
— Я поддерживаю вас, Вольфганг! — сказал полковник.
— Тем более, — напомнил Хетель, — что он сказал: «Вы и ваши коллеги окружены». Понимаете? «Вы и ваши коллеги…»
— Да–а–а… — как–то неестественно певуче произнес Ангел. — Кажется, мы попали в неприятную историю!..
— Не паникуйте, Франц, — оборвал его Грейт. — А вы, Вольфганг, идите. У нас есть золото, и мы можем купить десяток полицейских агентов!
— Замолчите! — неожиданно одернул Ангел. — Поторгуйтесь с ним, Вольфганг, у каждого инспектора полиции есть граница желаний.
— Не будем терять время, господа. — Хетель потянулся за пиджаком. — Я смогу разобраться на месте.
Ангел засуетился над своим саквояжем, а Грейт, стоя за занавеской, наблюдал за Хетелем. Вольфганг держался прекрасно: шел, ничем не выдавая волнения, даже остановился и сорвал какой–то цветок, понюхал и двинулся дальше.
Грейт поднялся на второй этаж в свою спальню; Ангел прав — нужно собирать чемодан и быть наготове.
Хетель вернулся минут через двадцать.
Грейт и Ангел ждали в холле, совсем готовые в дорогу. Ангел даже держал в руках плащ. Хетель, увидев их сосредоточенные лица, не мог сдержать улыбку. Однако играть на нервах не стал. Произнес коротко:
— Его условия — три миллиона шиллингов!
Грейт свистнул:
— Ничего себе аппетит!
Ангел же только повертел головой и постучал пальцем по лбу:
— Он случайно не того?
Хетель сел в кресло, снял и протер очки. Протирал и не знал, что именно вот такие стеклышки виновны в том, что их выследили. Хетель, не понимая того, что совершает глупость, зашел в аптеку в Альт–Аусзее — знакомый аптекарь тысячу раз здоровался с ним на улице и в кафе, симпатичный такой седой старикан, — он ему подобрал очки сразу, улыбнулся на прощание и поблагодарил, но незамедлительно позвонил в полицию.
Конечно, герр Хетель важный и уважаемый человек, он не может впутаться в какую–либо некрасивую историю, но порядок есть порядок: его попросили из полиции, и он выполнил их просьбу.
Хетель надел очки.
— Да, три миллиона шиллингов, — подтвердил он. — Полицейский не уступил ни одного шиллинга. Я считаю — надо платить.
Ангел сел напротив Хетеля и приказал:
— Расскажите все по порядку.
— Мы встретились в кафе наедине, — начал Хетель. — Я полностью исключаю шантаж, господа. Инспектор Кноль осведомлен так, как может быть осведомлена только полиция. Он даже подсчитал, сколько золота могло быть в тайнике. Он знает также, что мы, — Хетель сделал ударение на последнем слове, — убили Георга Циммера. И обвиняет нас в этом…
— Да… это не шутки… — первым нарушил молчание Грейт. — И что он обещает?
— Через два часа после получения чека он выпустит одну машину и даст нам полчаса. Через полчаса полиция будет знать номер этой машины.
— Полчаса!.. — в отчаянии поднял Ангел руки вверх. — Что мы можем сделать за полчаса?
Хетель сказал рассудительно:
— Полчаса — это и мало и много. Смотря, как их использовать…
— За это время мы успеем сделать только километров сорок. Потом полиция перекроет дороги — и конец, — заметил Грейт.
— Мы еще успеем обсудить, как действовать. — Хетель постучал ногтем указательного пальца по часам. — Через шесть минут я должен дать ответ.
— Не ответ, а чек на три миллиона шиллингов, — уточнил Грейт. — У вас есть счет в банке — выписывайте… Потом рассчитаемся.
Но Хетель был деловым человеком.
— Зачем же потом? Разве у вас нет счетов? Каждый из вас даст мне чеки — эквивалентно в фунтах или долларах, я не буду возражать и против франков, господа! — на те банки, где у вас есть вклады. Хе–хе… Я же знаю, что фальшивых чеков вы не держите… Ибо нам не хватает только еще обвинения в изготовлении фальшивых бумаг…
Грейт поморщился, но вынул чековую книжку.
— Миллион шиллингов, — пошевелил губами. — Сколько это будет в долларах?
— Почему только миллион? — даже подскочил Хетель. — Я не знаю, как вы договаривались со Штайнбауэром, но моя часть, очевидно, значительно меньше ваших. Так что я плачу пятьсот тысяч, вы — каждый по миллиону двести пятьдесят.
— Мы не убивали, Хетель! — прошипел. — И, если нас арестуют, попробуем доказать это… Каждый платит по миллиону…
Хетель помахал пальцем перед самым его носом. Сказал злорадно:
— Если нас арестуют, то все мои грехи побледнеют по сравнению с вашими. И вы это знаете сами, Франи!
Ангел втянул голову в плечи.
— Вы вульгарный вымогатель, да черт с вами!
— Учтите еще одну деталь, — сказал Хетель, искоса глядя, как Грейт замер над чековой книжкой. — Сейчас мне придется вывозить вас отсюда, а вы сами подсчитали, что полчаса — это не так уж и много. Придется искать выход, а что сделаешь без денег?
— Это справедливо. — Полковник выписал чек. — Идите и быстрей возвращайтесь, Вольфганг. — Когда Хетель ушел, Грейт с досадой сказал Ангелу: — Фортуна что–то стала отворачиваться от нас… Попадаем то в одну, то в другую историю!
— Но мы же удачно выпутывались, — возразил Ангел.
— На два–три дня нам нужно уйти в подполье, — нахмурился Грейт, — пока придет телеграмма. В крайнем случае в горах перейдем швейцарскую границу. Всегда можно договориться с контрабандистами, если заплатить им.
— А золото? — въедливо спросил Ангел.
— Конечно, жаль золота, — согласился полковник, — но свободу я ценю намного дороже, чем центнер самого дорогого металла.
— Посмотрим, — неопределенно ответил Ангел, решив для себя, что только в крайнем случае расстанется со слитками.
Они ждали Хетеля, не выходя из холла. Не завтракали — совсем не было аппетита, — почти не разговаривали, только курили сигарету за сигаретой, перебрасываясь короткими репликами. Сейчас все зависело от Хетеля, у них ведь не было больше явок, Поэтому, когда Вольфганг вернулся, Ангел спросил льстиво:
— Что нового, мой друг?
— Все наши телефоны, кроме одного, контролируются, — объяснил Хетель. — Но все же я позвонил из автомата в «Черный дрозд». Фрау Вессель поможет нам. А пока, — кивнул на контейнеры, сваленные в углу и прикрытые ковром, — это в грузовик! Черным ходом! Только бы с улицы не заметили никакой суеты. Черным ходом, господа, Петер уже поставил там грузовик…
— Но что может сделать фрау Вессель? — встревожился Ангел. — Ведь в «Черном дрозде» была полиция, и фрау Вессель наведет на нас агентов…
— Не волнуйтесь, мой друг! — Хетель отплатил Ангелу его же монетой. — Фрау Вессель обведет вокруг пальца десяток агентов.
Они быстро погрузили контейнеры и накрыли их брезентом.
Хетель ушел инструктировать Петера. Ангел лежал на диване, уставившись в потолок, а полковник ходил по комнате. Нерешительно остановился возле бара и достал бутылку, откупорил и понюхал, но все же поставил обратно. Черт с ним, с джином, сегодня надо быть абсолютно трезвым. Плюхнулся в кресло, положив ноги на журнальный столик. Тишина стала угнетать его. Сказал, лишь бы не молчать:
— Отсюда до Унтеркримля километров сто пятьдесят… От Унтеркримля двенадцать километров до штольни, завтра выкопаем контейнер, а послезавтра, дай бог, придет телеграмма. Интересно, какой самолет прилетит за нами?
— Какая разница? Лишь бы подняться в воздух, — хладнокровно сказал Ангел.
— Вы профан в технике, Франц, а меня беспокоит, сможет ли он взлететь с грузом в полтонны и с тремя людьми на борту?
— Почему с тремя? Летчик, мы договорились об этом, будет обеспечен документами и останется здесь, а самолет поднимете вы.
— Я же и говорю: три, — объяснил Грейт. — Я, вы и Хетель.
— Хетель может перейти границу и так, — с досадою отмахнулся Ангел. — Вы об этом не думайте.
Полковник удивленно посмотрел на него.
— Ну что вы… Если будет хотя бы малейшая возможность, мы возьмем его, — успокоил его Ангел.
Зазвонил телефон. Ангел даже подскочил на диване.
— Быстрее Хетеля!.. — от нервного напряжения он почти заикался. — П–позовите же… Кларенс…
Но Хетеля не нужно было звать. Вольфганг снял трубку параллельного аппарата. Он появился в дверях мгновенно:
— Быстрее! Сейчас каждая секунда на вес золота.
…Грейт устроился так, что, лежа в кузове под брезентом, через щель наблюдал за дорогой. Видел и серый «мерседес», шедший за ними почти вплотную, и инспектора, который ободрал их сегодня на три миллиона. Потом «мерседес» отстал, Грейт хотел на ходу перелезть в кабину, но раздумал: Хетель непременно снизит скорость, и они потеряют минуту–две. А каждая минута сейчас весит очень много.
Хетель срезал поворот, не сбавляя скорости. Полковник сам любил рискованную езду и похвалил Хетеля — ничего не скажешь, водитель классный, чувствует машину.
Километра за четыре от перекрестка начался небольшой лесок. Внезапно Хетель резко затормозил. Грейт забеспокоился — не случилось ли чего? — но его отбросило под брезент, машину стало трясти на выбоинах.
Грейт высунул голову. Вот оно что — Вольфганг свернул с шоссе и ехал по узкой лесной дороге. Почти сразу снова круто повернул и остановился в густом кустарнике.
Полковник отбросил брезент и увидел старенький обшарпанный «пикап» и фрау Вессель рядом с ним.
«Так вот что задумал Хетель!..» — понял он.
— Рад видеть вас, фрау Вессель! — улыбнулся Грейт, выпрыгивая из грузовика. — Быстрее, Франц!
Перегрузили контейнеры за несколько минут. В маленьком кузове «пикапа» осталось совсем мало места. Туда лег Ангел, и Грейт накрыл его и ящики брезентом. Сам сел с Хетелем в кабину.
— Прощайте, фрау Вессель!
Женщина сама подняла и закрыла борт грузовика. Села за руль и задним ходом выехала на шоссе. Взглянула на часы: через девять минут за желтым грузовиком начнет охоту полиция…
Фрау Вессель доехала до развилки и повернула в сторону Зальцбурга. Через несколько километров в небольшом поселке свернула на тихую зеленую улочку, поставила машину в тупичок, посмотрела, нет ли кого поблизости, и, дождавшись, пока какой–то прохожий исчез за углом, направилась к автобусной остановке.
***
В комнате стояла тишина, было слышно, как билась в окно муха.
Кноль не мог отвести взгляда от мухи — глупая, рядом открыта форточка, поднимись выше и лети себе. Подумал: а он сам? Не напоминает ли мошку, запутавшуюся в паутине? Теперь его опутывают все больше и больше, пока окончательно не лишат воли, стремлений, наконец, самого желания защищаться и даже жить. Усмехнулся: до того, вероятно, не дойдет. Его не возьмут голыми руками, и — у него есть жизненная цель — Гертруда; ради нее он будет хитрым, изворотливым, он разорвет паутину, какой бы крепкой она ни была.
Бонне расценил улыбку инспектора по–своему.
— Вы либо преступник, Кноль, либо дурак. В последнее я не верю, так как работал с вами. Остается первое.
Кноль поднял ладонь, и этот жест можно былообъяснить либо как просьбу помиловать, либо как желание отстраниться от комиссара, остановить его.
— Я ошибся, комиссар, — сказал Кноль, глядя перед собой на ту же муху. — Поверьте, я ошибся. Разве вы никогда не ошибались?
— Я бы поверил вам, Кноль, но слишком много ошибок и даже непонятных поступков для такого опытного работника, как вы.
Узнав, что преступникам неимоверным способом удалось прорвать блокаду виллы Хетеля, Бонне вместе с шефом полиции земли Зальцбург выехал в Альт–Аусзее. Они прибыли туда после того, как Кноль окончательно потерял следы хетелевского грузовика. Бонне стал выяснять: почему? Комиссар за всю свою практику не помнил, чтобы полиция в таких случаях испытывала поражение.
Бонне казнил себя: как мог он поддаться на уговоры Кноля и остаться в Зальцбурге? Хотя аргументы инспектора были убедительными, комиссар сам понимал, что оставаться ему в таком маленьком городке, где все видно как на ладони, не очень разумно. Ведь преступники могли знать его в лицо, может, поэтому и удалось им обвести комиссара вокруг пальца в Танжере, случайно увидеть и скрыться?
Из рапорта Кноля следовало, что побег преступников стал возможным лишь в результате фатального стечения обстоятельств: инспектор подменил двух полицейских, которые пошли обедать, именно в это время преступники выехали на грузовике, он стал преследовать их, но проклятый гвоздь… В конце концов, никто не застрахован от того, что в его машине спустит баллон!
Комиссар предложил шефу полиции допросить полицейских, ведших наблюдение за виллой и школой. И тут выяснились обстоятельства, заставившие Бонне посмотреть на дело совсем другими глазами.
Первое: инспектор Кноль утром завтракал в кафе, куда заходил Хетель. Затем преступник вернулся домой, но скоро опять вышел в город. За несколько минут до этого Кноль снял с поста агента, ведшего наблюдение за главным выходом из виллы.
Комиссар спросил инспектора, почему он так поступил и не логичнее было бы ему самому связаться с постом у школы?
Кноль признал, что допустил ошибку. Сейчас он понимает, что ему самому следовало переговорить с агентами, дежурившими у школы.
— О чем вы говорили с Хетелем в кафе? — спросил внезапно Бонне.
Кноль только пожал плечами. Здесь, в городке, есть три кафе, он зашел в ближайшее — должен же и полицейский завтракать, — в это время туда зашел и Хетель. Но хозяин кафе может подтвердить, что он, Кноль, не перемолвился с преступником ни одним словом.
Комиссар уже знал: да, Хетель попросил чашечку кофе и сигареты. Таких сигарет в кафе не было, и хозяин, чтобы угодить важному посетителю, побежал за ними. Таким образом, некоторое время инспектор и Хетель находились в кафе одни. Не считает ли сам инспектор Кноль такую ситуацию подозрительной?
Кноль согласился. На месте комиссара он думал бы так же. И вообще, это для него, инспектора, — сплошная цепь каких–то злосчастных стечений обстоятельств. Понятно, что тень падает на него, но пускай комиссар и уважаемый шеф полиции земли Зальцбург поймут: он сделал все, чтобы обнаружить и задержать преступников, и не его вина, что им удалось бежать.
Комиссар обернулся к Кнолю, сказал жестко:
— Можете обижаться, но я должен сказать: вы, Кноль, прохвост!
— Я отстраняю вас от выполнения обязанностей, — вмешался шеф полиции. — Отправляйтесь в Зальцбург и ждите там моего распоряжения.
Инспектор вытянулся и, четко повернувшись, вышел из комнаты.
Шеф полиции уверенно сказал:
— Он сговорился с Хетелем и получил от него не одну сотню тысяч. Но доказать это будет трудно.
— Если мы не задержим преступников, — заметил Бонне.
— Они не станут свидетельствовать против него в любом случае, — с досадой ответил шеф. — Как правило, преступники не выдают полицейских, помогавших им.
— Э–э, всякое бывает, — возразил Бонне. — А впрочем, это ваше дело, и я не хочу морочить себе голову. Если Ангелу и Грейту еще раз удастся провести меня, я сделаюсь или фаталистом, или уйду в отставку. Мне нужен способный помощник. Кого вы могли бы порекомендовать?
— Сержанта Грейзля. Молодой, но смышленый.
— А–а… — вспомнил Бонне, — это такой светлый и немного курносый. Он мне почему–то запомнился.
Шеф полиции поехал в Зальцбург, а Бонне долго лежал на узкой гостиничной кровати, размышляя.
Сейчас у них оставалось одно звено цепи — телеграмма, которая должна прийти на почту Блю–Альм.
Но не предупредил ли преступников Кноль? То, что инспектор сговорился с ними, не вызывало у Бонне никаких сомнений. Не прошли без его внимания и чуть заметные ироничные нотки в ответах Кноля. Мы, мол, оба смекалистые люди и видим друг друга насквозь, однако комиссар должен понять, что никакой суд не докажет вины инспектора, есть только косвенные доказательства, так сказать, намеки на преступление, а он, Кноль, плевать хотел на намеки…
Да черт с ним, с инспектором…
Бонне попробовал сосредоточиться. О чем же он думал? Предупредил ли Кноль преступников, что полиция интересуется телеграммой, которая должна прийти в соседний городок на имя слуги Хетеля? Если предупредил, то и это звено цепи потеряно. Правда, в зависимости от того, что ждут преступники от телеграммы. Комиссар догадывался: речь пойдет о вывозе золота за границу. Но у Ангела и Грейта может быть и запасной вариант…
Так ничего и не решив, Бонне вышел на улицу…
***
За Унтеркримлем Хетель съехал с асфальтированного шоссе на обычную мощеную дорогу. Остановив «пикап» вблизи ручейка, сбегавшего по крутому склону, долго пил холодную родниковую воду, прихлебывая прямо из ручья, и щурился от удовольствия. Напившись, сел на поросшую мхом каменную глыбу, сказал весело:
— Можете благодарить бога! Сюда не сунет носа ни один полицейский.
Ангел выглянул из–под брезента, посматривая недоверчиво. Кругом горные склоны, где–то далеко в долине краснеют крыши Унтеркримля, выше — серая извилина шоссе, по которому ползут машины, а здесь — небо и зеленые склоны, журчит вода в ручейке, и поют птицы. Ангел расчувствовался: жизнь, оказывается, продолжается, а они не замечают ее красот в погоне за житейскими благами!
Грейт опустил голову в холодную воду, фыркал и отплевывался умываясь. Смыв дорожную пыль, вытерся платком, спросил:
— Фрау Вессель не оставила пакета с бутербродами? Я съел бы слона…
Сейчас все вспомнили, что даже не завтракали. Но в «пикапе» не было ни крошки съестного.
Теперь ехали медленно, оглядываясь по сторонам. Люди селились здесь редко — небольшие усадьбы, разбросанные в зеленом море. А дорога вилась между склонами, забираясь еще выше. Казалось, уже ничего не будет, кроме неба и каменных глыб, но и там жили люди — за поворотом недалеко от дороги стоял аккуратный кирпичный коттедж с мансардой. Из трубы поднимался дым.
Хетель остановил машину.
— Я пойду на разведку. Вы чудаки–туристы, я вожу вас, вам надоели мотели и кемпинги, хотите экзотики и одиночества…
— Идите, Вольфганг, и не забудьте сразу договориться о жарком. Больше картошки и мяса, можно, правда, и яичницу. В конце концов, все, что угодно, кроме травы… — пошутил Грейт.
Хетель, не дослушав полковника, двинулся к усадьбе. Грейт, выйдя из кабины, оперся о крыло, спросил Ангела:
— У вас не растряслись кишки? Дорога такая, что я головой чуть не пробил потолок этой колымаги.
Ангел не ответил. Разглядывал коттедж. Наконец вынес приговор:
— Здесь нам было бы неплохо. Место пустынное и всего в десяти километрах от Унтеркримля.
Полковник вынул из бумажника карту:
— И только четыре километра от штольни…
— Что–то Хетеля не видно, — заволновался Ангел. — Может, никого нет и он разыскивает хозяев?
— А дым?
— Ваша правда. Вероятно, Вольфганг договаривается.
Хетель вышел из коттеджа через несколько минут.
Грейт пытался по его виду догадаться, не потерпел ли он неудачу, но Вольфганг ничем не проявил ни разочарования, ни удовольствия: шел, уставившись в тропинку, будто она пролегла над кручей. Перепрыгнув кювет, блеснул очками.
— Договорился, — сказал кратко.
У полковника отлегло от сердца. И все же победила осторожность:
— Кто там живет?
Хетель, садясь за руль, объяснил:
— Одна женщина со старым отцом. Недавно у нее умер муж. У нее есть сын, учится где–то там, — кивнул на долину, — и редко проведывает их. Я снял две комнаты мансарды. Ничего, чистенькие…
Хозяйка ждала их возле открытых ворот. Дородная, полноватая женщина лет под пятьдесят, смотрит приветливо и улыбается. Грейту она понравилась. Выпрыгнул из машины, помог ей прикрыть ворота. Поинтересовался:
— Как с обедом, фрау?..
— Шварцвеллер, — представилась женщина. — Но я не рассчитывала на гостей…
— Если у вас найдется полтора десятка яиц и кусок грудинки, — заявил Грейт с энтузиазмом, — то мы будем спасены!
— Конечно, найдется. Есть еще сыр, колбаса и молоко.
— Сойдет, — милостиво похвалил Грейт. Оглянулся па друзей: — Фрау Шварцвеллер угостит нас прекрасным обедом. Забирайте чемоданы, Франц, и пойдем устраиваться.
Но Ангел не двигался с места. Стоял, опершись на машину. Похлопал по накрытым брезентом контейнерам:
— Вначале…
— Плюньте, — заявил полковник категорично, — ничего не случится.
Ангел уперся.
— У нас здесь небольшой багаж, — объяснил хозяйке, — и мне хотелось бы…
— Закатить машину в сарай? — догадалась та. — Надо только расчистить место. Я сейчас.
— Мы сами, — остановил ее Грейт. — А вы лучше подумайте об обеде.
Они быстро освободили место в сарае и загнали в него «пикап».
***
«Аукцион состоится четвертого сентября. Прошу прислать представителя. Лаусон».
Бонне еще раз прочитал телеграмму из Берна, адресованную Петеру Шульцу. Петер Шульц — слуга Хетеля. Значит, у них что–то назначено на четвертое сентября. Сегодня — второе, остается два дня…
Позвал сержанта Грейзля.
— Давайте машину, поедем.
— Если не ошибаюсь, в Блю–Альм? — осмелился спросить сержант. Это он привез утром копию телеграммы и был рад, что угодил комиссару.
Не успели они поставить свой «мерседес» на центральной площади Блю–Альма, как загудел сигнал и Грейзль включил рацию.
— Докладывает седьмой… Докладывает седьмой… Петер выехал из Аль–Аусзее. Красный «фольксваген» сто три–восемьдесят… Иду за ним…
Бонне посмотрел на часы.
— Я еще успею выпить кофе…
Пил кофе и машинально жевал булочку. Попросил утренние газеты. На первой странице «Фольксштимме» сразу увидел портреты трех «красавчиков».
Ангел выглядит рассерженным и даже злым, у Грейта деловой вид, смотрит куда–то в сторону, словно ему стыдно глядеть собеседнику в глаза, Хетеля же нельзя понять: спрятался за стекла очков — типичный провинциальный учитель. Внизу заметка, в которой рассказывается о преступниках. Бонне быстро пробежал ее глазами. Так и есть, главный удар направлен против Ангела — палач, комендант концлагеря, — ну что ж, политические акценты не повредят, а остальное все верно; обращение к населению с просьбой опознать преступников и немедленно сообщить полиции.
Молодец Дубровский, поработал оперативно! Он приехал в Альт–Аусзее вчера утром и поднял комиссара с постели. Пока Бонне умывался, сидел возле ванной и говорил:
— Ну, комиссар, чем вы можете объяснить очередное исчезновение преступников? Скажете, снова фатальное стечение обстоятельств? Так всегда можно оправдаться, а Ангел смеется над вашими полицейскими ухищрениями.
— Вы упрощаете, Серж, — высунул голову из ванной комиссар. — Они были в западне, и если бы не этот мерзавец Кноль…
Дубровский безнадежно махнул рукой.
— Сегодня Кноль, завтра какой–нибудь Браун. Но преступники где–то в Австрии, а вы не знаете — где. Хотите, мы обратимся к населению?
Бонне немного подумал.
— Теперь это уместно, — признался. — Возможно, они засели в горах и ищут способы перехода через границу. Да, теперь это уместно…
Дубровский быстро отбыл — и вот результат. Даже правые газеты «Нойе прессе» и «Зальцбургер нахрихтен» не смогли обойти этого дела, правда, подали его совсем с иных позиций, делая ударение на убийстве библиотекаря, но портреты тоже дали.
Комиссар отложил газеты и пошел к «мерседесу».
— Сейчас они будут здесь, — сообщил сержант, будто Бонне и сам не знал этого.
Красный «фольксваген» остановился в переулке за почтой. Петер Шульц не сразу вышел из машины. Посидел немного, но, никого не заметив, пошел на почту. Получив телеграмму, прочитал и порвал на мелкие клочки, незаметно бросил их в корзину. Вышел из почты, постоял на пороге, оглядываясь, потом сел в «фольксваген» и стал петлять по городу, убеждаясь, не повис ли кто на хвосте.
Бонне смеялся: все было предусмотрено, и Шульц мог ездить до последней капли бензина — из Блю–Альм только три выезда, и каждый из них контролируется полицией.
Скоро Шульц успокоился и остановился возле бензоколонки. Бонне взял микрофон.
— Внимание! Всем постам быть наготове! Очевидно, он выедет на автобан. «Форд» — семнадцатый, идите вперед и ждите на перекрестке возле автобана.
Предвидение комиссара оправдалось: Шульц повернул на шоссе, ведущее к автобану. «Мерседес» комиссара шел за ним на расстоянии километра. Бонне был уверен, что Шульц поедет в горы, и удивился, услышав. вдруг:
— Шеф, это «форд» — семнадцатый. Наш подопечный взял курс на Вену. Иду за ним.
Комиссар с минуту размышлял. Затем приказал:
— Идите за Шульцем на расстоянии. Не будьте настырным, но и не упускайте его из виду. Главное, не пропустите, когда он будет сворачивать с автобана.
Через некоторое время снова взволнованный голос:
— Я «форд» — семнадцатый. Подопечный съехал с автобана. Дорога к отелю «Черный дрозд». Иду за нам…
«Вот оно что! — понял Бонне. — Фрау Вессель…»
«Мерседес» скатился с автобана, и комиссар приказал поставить его на обочине. Вызвал полицейскую машину:
— «Форд» — семнадцатый, что с подопечным?
— Купается в озере.
— Прекрасно, не спускайте с него глаз.
Комиссар приказал проехать еще с километр и поставить «мерседес» в кустах поблизости от дороги. Повернулся к Грейзлю:
— Слушайте внимательно, сержант. Сейчас вы зайдете в отель «Черный дрозд». Пейте кофе, пиво, коньяк, что хотите! Но не напивайтесь. Скоро там будет Шульц. Если вам удастся услышать, о чем он станет говорить с хозяйкой отеля, это будет просто замечательно. А если нет, не страшно. Важно проверить, встретится ли Шульц с хозяйкой «Черного дрозда».
Не было необходимости приказывать Грейзлю дважды. Выскользнул из машины и пошел по тропинке вдоль шоссе, напевая веселую песенку. Даже пошатывался немного, будто работник из Вены, что сберег немного шиллингов и сейчас просаживает их, не думая о завтрашнем дне.
Шульц купался и загорал на озере почти час. Затем оделся и, бросив «фольксваген» на стоянке, двинулся еле заметной тропинкой в кустах к «Черному дрозду».
В «форде» — семнадцатом заволновались, но Бонне приказал агентам сидеть спокойно и ждать указаний.
Грейзль появился красный, потный, тяжело дышал, словно бежал. От него несло пивом, и Бонне подумал, что и он не отказался бы от кружки.
Сержант заговорил шепотом, будто их могли здесь подслушать:
— Они говорили о чем–то, но я не смог услышать… Шульц сел возле стойки и сказал ей всего несколько слов. Я подошел, но они замолчали. Шульц взял кружку и сел в углу, они больше ни о чем не говорили, хозяйка вышла, и ее место заняла девушка. Такая красивая блондинка.
— Розмари, — догадался комиссар.
— Да, ее зовут Розмари. Я вышел в туалет, там есть окно во двор, и заметил, что хозяйка выводит из бокса машину. Белый «фиат», двести тридцать три — сорок четыре. Я сразу прибежал сюда…
— Вы правильно поступили, Грейзль. Сейчас сидите и отдыхайте.
Бонне взял микрофон. Скомандовал:
— «Форд» — семнадцатый, продолжайте следить за подопечным. Наверно, он возвратится в Альт–Аусзее… Где вы, «форд» — восемнадцатый? Будьте наготове. Я иду за белым «фиатом»… Займите позицию при выезде на автобан. Возьмите «фиат» на себя, поскольку женщина за рулем знает меня.
Маленький белый «фиат» проехал мимо через несколько секунд и, пока Бонне выводил свою тяжелую машину из кустов, был уже на развилке. Постоял немного и вклинился в поток машин, мчавшихся в сторону гор. Объехал Зальцбург и свернул на шоссе, ведущее в Унтер крим ль.
— Так я и знал… — сквозь зубы цедил Бонне, сдерживая «мерседес», чтобы не попасть в поле зрения фрау Вессель. — Они сидят в горах, ждут вестей. И мы их…
— Арестуем? — то ли удивленно, то ли радостно спросил сержант. Это прозвучало так комично, что Бонне не выдержал и громко рассмеялся.
— Конечно, если появится такая необходимость. Впереди появились домики города. «Унтеркримль», прочитал Бонне. И тут же услыхал голос агента с «форда»:
— «Фиат» остановился на площади… Из него вышла женщина, направляется к ресторану. Ждем приказа…
— Идите за ней, — приказал Бонне. — Идите и смотрите, что она будет там делать.
Фрау Вессель задержалась в ресторане недолго, выпила чашку кофе, перемолвилась несколькими словами с женщиной, стоящей за стойкой, и снова села за руль. «Фиат» развернулся и выехал на дорогу, ведущую в Зальцбург.
Фрау Вессель больше не интересовала комиссара. И все же он приказал двоим агентам с «форда» проследить за ней до «Черного дрозда».
Двух других оставил в Унтеркримле.
Было такое чувство, что попал в глубокий погреб: темно, влажно, тихо, и кажется, что кто–то смотрит на тебя из темноты, сейчас подставит ножку или схватит за воротник.
Грейт вспомнил Тома Сойера и его приключения в пещере. Вообще он мало читал, но Тома Сойера помнил. В детстве даже старался копировать Тома, тем более что ровесники преклонялись перед физической силой Кларенса и считали его своим вожаком.
Грейт представил себе маленький городок, в котором родился. Он въедет в него на шикарном открытом лимузине, чтобы все видели: приехал Кларенс Грейт, у которого, говорят, уже не один миллион…
Он зайдет в бар на центральной улице и угостит всех присутствующих. Пусть его отец не лил и держал своих детей в железном кулаке. Сын полковник, миллионер, отцовские наставления для него чепуха, да и кто сейчас придерживается их? Равенство, воздержание, любовь к ближнему? Сжимай кулак и круши вокруг — все зависит от силы твоей руки!
Грейт сжал кирку и рубанул по влажной стене штрека. Затем присел прямо на землю — стоять, согнувшись в низком проходе, было неудобно. Взял план штольни и еще раз сверился с ним. Следующий поворот направо, от него семь шагов — и копать…
Штайнбауэр не поленился, спрятал контейнер на полутораметровой глубине, придется как следует попотеть. Но спешить некуда: впереди целый день — они предупредили фрау Шварцвеллер, что идут в горы и, возможно, не вернутся до обеда. Взяли с собой бутерброды и несколько бутылок пива. Пиво — это все, что они позволяли себе. Грейт хотел было, чтобы хозяйка села на велосипед и махнула в ближайшую лавку за шнапсом, но Хетель запретил:
— Начнутся разговоры: кто у вас и откуда. Фрау Шварцвеллер скажет лавочнику, тот еще кому–нибудь, и пошло–поехало… Неужели нельзя прожить и дня без спиртного?
— Если бы день! — вздохнул полковник. — Еще неизвестно, сколько придется сидеть в этой проклятой дыре…
Утром Хетель попросил у хозяйки кирку и две лопаты, сказал: они хотят облазить окрестные горы, не попадется ли какой–нибудь ценный минерал; они уже насобирали этих минералов за лето до черта, полмашины загрузили контейнерами с камнями (сказал на всякий случай, поскольку фрау Шварцвеллер могла увидеть что–то в кузове «пикапа», так лучше самому объяснить, чтобы ее не мучило любопытство).
К сожалению, у них был только один карманный фонарик, Хетель поколебался немного, однако попросил у хозяйки фонарь, с которым она вечером ходила к корове: говорят, здесь есть пещеры и заброшенные штольни…
Теперь Грейт шел впереди, освещая путь карманным фонариком, а Хетель с Ангелом немного отстали. Они давно бы уже сели отдохнуть, но этот буйвол Грейт не знал усталости, отставать же не хотелось. Когда полковник наконец остановился, Ангел спросил его недовольно:
— Куда вы спешите?
— Я? Спешу?.. — удивился Грейт. — Я только и делаю, что приноравливаюсь к вам. Кстати, мы прошли под землей всего метров двести…
— А пять километров по горам без отдыха?
— Ну уж и пять! Не будет и четырех, — возразил полковник.
— Кто как считает, — засмеялся Хетель. — По моим ногам — все восемь
— Осталось два десятка шагов! — торжественно произнес Грейт.
Ангел забыл об усталости.
— Покажите схему! — придвинулся к полковнику. Кларенс протянул бумагу.
— Смотрите, четвертый поворот направо. Это он! — ткнул пальцем в темноту. — А за ним сразу…
Ангел нетерпеливо водил пальцем по схеме.
— Вот здесь, где крестик?
— Угу.
Вдруг Ангел оттолкнул Грейта и проскользнул между ним и влажной стеной штрека. Полковник поморщился.
— У нас много времени, Франц, не спешите.
Но Ангел не слушал его. Остановился на повороте, поднял фонарь.
— Идите сюда! Сколько шагов до поворота?
Полковник подсчитал. Провел киркой черту и попросил Хетеля отмерить. Полковник первый ударил киркой, загнав ее в грунт чуть не наполовину.
Они с Ангелом по очереди расковыривали каменистую породу, затем Франца подменил Хетель. Он быстро устал, и полковник отнял у него кирку. Махал и махал, словно не знал устали. Наконец остановился, но только для того, чтобы взять лопату.
— Отойдите–ка… — попросил партнеров. Отбросил землю — образовалась яма по колено.
Теперь копали по очереди. Каменистый грунт не поддавался лопате, приходилось сначала разбивать его киркой, а уже потом выгребать.
Ангел вспотел, ругал сквозь зубы Штайнбауэра, которому вздумалось так глубоко закопать контейнер.
— Конечно, он сам не махал киркой… Было кому махать… Потом заткнул рот — и все…
— Как вы понимаете: заткнул рот? — поинтересовался Грейт.
— Есть много способов, полковник, и один из них состоит в том, что человек сам себе выкапывает могилу.
Грейт на секунду остановился, поднял лопату, словно защищаясь, но сразу опустил ее.
— Да, ваши парни были мастера на такие дела. — Рубанул киркой еще раз, остановился и отер рукавом мокрый лоб. — Мы уже прошли полтора метра…
— Не может быть! — заволновался Ангел. — Вы правильно рассчитали повороты? Дайте мне план.
— Он у вас! — рассердился Грейт. — Посчитайте еще раз!
— Спокойно, господа, — вмешался Хетель. — Полковник не ошибся, я тоже считал повороты, чтобы не запутаться. И это действительно четвертый поворот направо.
Полковник ударил кайлом. Отгреб землю. Пробормотал:
— Смотря как мерить… Может, здесь и на самом деле нет полутора метров?
Он поработал еще с четверть часа — теперь всем стало ясно, что контейнера нет: под землей торчала только голова Грейта, а полковник вымахал, слава богу, почти до двух метров.
Грейт вылез из ямы, напоминавшей порядочную воронку. Посидел немного. Ангел и Хетель стояли у него за спиной молча. Полковник отдышался. Потом засмеялся.
— Штайнбауэр почти моего роста, — произнес сквозь смех. — И шаг у него мой. А я ориентировался на вас. Нужно копать еще на метр дальше. Подождите, пока я отдохну.
Работа пошла быстрее. Один махал кайлом, а другой, стоя в яме, выбрасывал осыпавшуюся землю. И все же прошло не меньше часа, пока яма углубилась еще на метр.
— Сейчас подойдите и посветите мне! — скомандовал полковник.
Ангел и Хетель стояли у него за спиной. Хетель поднял фонарь, и Грейт, отбросив мягкую осыпающуюся, землю, стал углублять яму. Вдруг лопата вошла в грунт только до половины, врезавшись во что–то твердое.
Полковник разгреб землю.
— Кажется, он! — воскликнул радостно. Ангел стал на колени, нагнулся.
— Посветите же! — дернул Хетеля за штанину. Тот опустил фонарь. Грейт быстро снял верхний слой земли — сейчас не было никаких сомнений: перед ними был контейнер.
Полковник разгреб землю руками, подсунул лопату под ящик, налег всем корпусом и вытащил контейнер. Похлопал ладонью по матовой свинцовой поверхности.
— Вот он, голубчик… — засмеялся. — Долгонько же ты ждал нас!
Поднял и положил на край ямы. Оперся руками, чтобы выпрыгнуть, но что–то больно ударило его в спину, и выстрел резанул ухо. Он еще держался за край ямы, но мышцы ослабели, и руки не слушались его. Хотел оглянуться — что случилось! — но голова перевесила, опустился на корточки и ткнулся лицом в землю…
Где–то в спине, под сердцем, остановилась боль, она разрасталась, становилась нестерпимой, нельзя было пошевелиться, даже дышать.
— На одного меньше… — услыхал за спиной.
«Неужели Ангел? Да, голос Франца. Неужели это он стрелял? «На одного меньше…»
Ангел не хочет делиться с ним, ну и ладно, бери все, но зачем же стрелять? Он же спас его в Танжере. «Боже мой, Франц, неужели ты не помнишь этого?»
— Что ж, это справедливо… — похвалил Хетель.
— Это наше добро, мы заплатили за него слишком дорого, чтобы американская свинья получила хоть пфенниг.
Ангел хрипло засмеялся.
— Каждый падок до чужого. Этот Грейт опротивел мне, я вынужден был терпеть его, но сейчас… Что ж вы стоите? Берите лопату, закапаем его!
«Я еще живой!..» — хотел сказать полковник, но язык не слушался его. На спину «осыпалась земля, боль снова прокатилась волной по всему телу и застыла где–то у лба, на висках.
…Ангел оглянулся вокруг, не осталось ли чего, взял под мышку ящик и повернулся к выходу.
— У нас к вам просьба, фрау Шварцвеллер, — сказал Ангел за завтраком. — Не могли бы вы съездить в Унтеркримль? Мы договорились с нашим другом, что он сообщит в кафе «Горный орел», где и когда мы сможем встретиться.
Они объяснили фрау Шварцвеллер, что Грейт должен был отлучиться на несколько дней.
— Хорошо, — согласилась женщина, — я только управлюсь по хозяйству.
— Скажите хозяйке «Горного орла», что вас послал Пауль Мюллер. Запомнили, Пауль Мюллер?
Ангел вышел из–за стола. Вместе с Хетелем они поднялись в свои комнаты и принялись рассортировывать добытые документы. Большую папку (разные секретные бумаги главного управления имперской безопасности, не имеющие для них никакой ценности и только дающие повод для шума в левой прессе), положили в портфель, чтобы потом сжечь в горах.
Ангел незаметно ощупал внутренний карман пиджака (ночью, убедившись, что Хетель спит, он встал и, захватив с собой небольшую пачку документов, вышел в туалет, отобрал при слабом свете лампочки листок, положил его в конверт). Сейчас, вдруг словно вспомнив что–то, остановил Хетеля:
— Две минутки, Вольфганг, я только напишу несколько строк домой.
Присел к столу и действительно написал несколько строк. Достал конверт и засунул в него письмо. Написав адрес, заклеил, подержал так, чтобы Хетель убедился — письмо на самом деле домой. Затем завернул в газету небольшую пачку документов и положил ее в карман. Хетель смотрел на него настороженно.
— Я знаю нескольких офицеров, значащихся в списках Кальтенбруннера…
— Что вы хотите этим сказать? — не отказал себе в удовольствии немного поиздеваться Ангел.
Хетель смутился.
— Ничего… Так, мы встречались… Теперь, возможно, я не узнал бы их…
Ангел смотрел на Хетеля и понимал, что волнует его. Обдумывал: можно было бы, конечно, отправить и Вольфганга туда, откуда никто не возвращается, но сумеет ли он один договориться с офицерами СС, которым доверена тайна шифров. Ведь даже высшее эсэсовское руководство не сомневается, что он, гауптштурмфюрер СС Франц Ангел, погиб. Нет, Хетель незаменим. Он уже намекнул, что согласен послать ко всем чертям Штайнбауэра, и только необходимо обдумать открывающиеся перспективы. Главное: дотянется ли до них рука Штайнбауэра? Пилота можно купить — он высадит их где–нибудь в горном районе Северной Италии. Там у Ангела есть еще старые друзья, которые помогали ему сбывать фальшивые фунты стерлингов. С их помощью они продадут золото и начнут разыскивать эсэсовцев, которым доверены составные части шифра.
Внизу послышались радостные восклицания — смеялась фрау Шварцвеллер, и какой–то человек отвечал ей. Ангел встал за дверью, вытянув из кармана пистолет.
— Посмотрите–ка, что там такое! — приказал Хетелю.
Хетель протянул руку.
— Дайте пистолет…
Ангел хотел было уже отдать, но передумал. Открыл дверь, прислушался, спрятал оружие.
— Только бы он не сунул свой нос в «пикап»… — заволновался Хетель.
— Будем следить.
— Надо сделать так, чтобы он не отлучался отсюда. Болтнет еще где–нибудь…
— Да, его приезд усложняет дело, — согласился Ангел. — Пойдем посмотрим, что это за щенок.
Ганс Шварцвеллер плескался возле умывальника во дворе, когда на крыльцо вышли Ангел и Хетель. Мать успела предупредить его, что сдала верхние комнаты. Ганс сразу заметил постояльцев, но почему–то смутился — был в одних трусах и сделал вид, что не заметил их. Продолжал умываться, будто ничего не случилось, но из–под руки незаметно еще раз глянул на постояльцев и упустил мыло в таз. Низко наклонился над тазом, вылавливая скользкий обмылок. Слава богу, что не встретился с ними глазами!
Сегодня утром Ганс купил «Фольксштимме» и по дороге успел просмотреть газету. На первой странице пария привлекли три портрета. Подпись под одним из них гласила, что это бывший штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель. Фамилия будто знакомая, вначале не мог вспомнить — откуда, но потом вспомнил и обругал себя, что забыл даже на миг: об эсэсовском офицере Вольфганге Хетеле рассказывал покойный отец, и этот рассказ настолько поразил Ганса, что он мог повторить его слово в слово.
У отца собрались друзья. Говорили обо всем на свете, и неожиданно кто–то вспомнил, что читал в газете: бывший гитлеровский преступник Вольфганг Хетель вышел из тюрьмы и поселился в Альт–Аусзее. И тогда отец рассказал эту историю — все примолкли и слушали его, забыв о шнапсе и еде, а мать стояла в дверях и вытирала глаза концом фартука…
«Это было весной сорок пятого. Все знали, что война кончается, русские уже стояли на Одере, но здесь было еще много немцев, даже слишком много — все время по дорогам двигались колонны грузовиков, появились роскошные легковые машины, — не было и дня, чтобы я не увидел «хорх», «мерседес» или «опель–адмирал». Это означало: нашими местами заинтересовалось высокое начальство. По слухам, где–то в горах создают резиденцию для Гитлера и якобы сам рейхсфюрер СС Гиммлер уже здесь. Потом мы узнали, что это был не Гиммлер, а Кальтенбруннер, но какое это имело значение? Все равно эсэсовцы зверствовали: сгоняли людей с насиженных мест, мобилизовывали на работу, заставляли копать противотанковые рвы, сооружать блиндажи и разные укрытия. И везде висели приказы, распоряжения. И везде угроза: за невыполнение — смертная казнь.
Наша усадьба, как видите, стоит в стороне, но дошла очередь и до нас. Эльзу с отцом заставили выехать в двадцать четыре часа, а меня мобилизовали на строительство оборонных сооружений.
Копали противотанковые рвы в долине. Это была тяжелая, изнурительная работа, и к вечеру мы все валились от усталости. Да еще, как назло, зачастили холодные дожди со снегом, развезенная сотнями ног земля превратилась в жидкую грязь, в отдельных местах она доходила до колен, обувь у всех раскисла, начались болезни — представляете, как приходилось мне с моей болячкой, которую выкашливаю и по сей день?
Нас было немного более сотни — жителей окрестных мест, командовал нами унтершарфюрер СС Врук. Когда я вспоминаю эсэсовцев, все они представляются в образе этого Врука и еще одного, о котором, собственно говоря, и пойдет разговор. Но вначале о Вруке.
Представьте себе человека, довольно высокого и широкого в плечах, почти с квадратным лицом и маленькими глазками. Врук издевался над нами, как хотел. Мало того, что мы работали от зари до зари с коротким перерывом на обед, унтершарфюрер на протяжении дня отбирал десяток–полтора людей, которые, на его взгляд, плохо работали, и давал им дополнительное задание на вечер.
Один раз нас подняли раньше, чем всегда. Но чудеса: мы не услыхали вруковской ругани. Вначале обрадовались, решив, что он заболел или отбыл по делам. Но все оказалось значительно хуже. Нас построили прямоугольником. Подъехали машины, из нее вышли три офицера. Впереди — штурмбаннфюрер СС в выпуклых очках. Он остановился там, где прямоугольник прерывался, и сказал:
— Сегодня ночью в противотанковом рву убит унтершарфюрер СС Врук. Это сделал кто–то из вас. Преступник должен сейчас выйти из строя. Если он не согласится, будет расстрелян каждый десятый.
Все молчали, и слышно было, как дождь сечет по лужам.
Штурмбаннфюрер подождал немного и продолжал:
— Я даю вам три минуты.
Посмотрел на часы, обернулся к офицерам и о чем–то заговорил с ними.
Мы стояли, переступая с ноги на ногу, и тоже ждали. Я стоял справа от штурмбаннфюрера, совсем рядом с ним, смотрел, как засмеялся вдруг — удовлетворенно и самоуверенно. Только тогда до меня дошло сказанное им, и я пришел в ужас. Ведь расстреляют каждого десятого. Я незаметно скосил глаза и стал считать — я был десятый. Я пересчитывал дважды или трижды, но ошибки не было: я был десятый!
Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я стал считать, но вдруг до меня дошло, что я стою справа от штурмбаннфюрера, а считать, наверно, начнут с другой стороны. Нас же всех — сто семь (это я знал точно — получали хлеб и приварок каждый день на сто семь человек).
Итак, я уже не десятый.
Тогда я обрадовался. Потом мне стало стыдно и за испуг, и за последующую радость, мне стыдно за это и сейчас, я никому не говорил об этом, вам впервые, может, мне сейчас будет легче — все эти годы точил меня червячок и что–то лежало здесь, под сердцем, грязное и колючее: вспомню — и болит…
Но тогда я думал только об одном: откуда начнет считать штурмбаннфюрер?
Он повернулся к нам, поднес руку с часами чуть ли не к носу, резко опустил ее и произнес:
— Три минуты прошло. Но это слишком просто — расстрелять каждого десятого. Десять человек из ста — это всего десять шансов из ста, что будет расстрелян преступник. Это несправедливо, не так ли, господа?
Он обращался к нам, будто мы имели право согласиться с ним или возразить; мы могли только стоять и молчать, мы были целиком в его власти.
Штурмбаннфюрер продолжал дальше:
— Сделаем так, господа. Если вы доверяете мне, я сам отберу эту злосчастную десятку. Конечно, мне трудно гарантировать, что преступник непременно попадет в нее.
Он издевался над нами, а мы переступали с ноги на ногу и молчали — сто семь мокрых, голодных и бесправных людей.
— Ваше молчание расцениваю как согласие, — продолжал штурмбаннфюрер. — Прошу смотреть мне в глаза, я попробую по глазам догадаться, кто из вас мог совершить это страшное преступление.
Офицеры рассмеялись. Очевидно, им понравился этот спектакль.
Штурмбаннфюрер двинулся вдоль строя. Он начал с противоположной стороны, медленно, не обращая внимания на грязь, она чавкала, и брызги летели на его блестящие сапоги. Все мы слышали это чавканье, потому что каждый шаг мог принести смерть одному из нас.
Наконец чавканье прекратилось: штурмбаннфюрер остановился перед пожилым человеком в промокшей, с обвислыми полями шляпе. Я знал его — автослесарь из Унтеркримля.
Неужели он первый?
Штурмбаннфюрер постоял немного напротив него и вдруг сказал:
— У тебя нездоровый вид лица, и ты, наверно, скоро все равно умрешь… — махнул рукой и пошел дальше.
Он ошибся — этот слесарь живет и сейчас, я видел его на прошлой неделе, когда ездил за продуктами в город.
Первым, кого отобрал штурмбаннфюрер, был совсем еще молодой парень — думаю, ему не стукнуло и двадцати трех, он сильно хромал и поэтому не попал в армию.
Эсэсовец приказал ему выйти из строя, заметив:
— Тысячи твоих ровесников полегли на поле боя, и будет справедливо, если и ты составишь им компанию.
Нужно отдать должное парню: он держался достойно — стоял, уставившись в небо, может, молился, а может, просто любовался хоть и серым, но все же прекрасным небом.
Затем штурмбаннфюрер извлек из строя еще одного человека, старого учителя–пенсионера из Унтеркримля. В конце концов, молодых среди нас и не должно было быть — дома остались либо дети, либо инвалиды. Так вот — очередь дошла до учителя. Мудрый был старик и гордый, никогда не слыхали мы от него жалоб, хотя и ему доставалось.
— У тебя глаза вора, — сказал штурмбаннфюрер. — Ты мог убить Врука!
И вдруг учитель ответил громко, так, что мы все услышали:
— К сожалению, я не убивал, я говорю «к сожалению», потому что сейчас убил бы непременно!
Офицер поднял руку, словно хотел ударить, но сдержался. Только добавил:
— Значит, я не ошибся.
Третий, кого он отобрал, вдруг упал на колени и начал вопить:
— Я не убивал, господин офицер, поверьте мне, я не убивал!.. Я всегда сочувствовал национал–социалистам, господин офицер. Не трогайте меня… Я мирный человек, я не мог убить!..
Вы должны помнить его: старый Шумахер, огородник, он всегда продавал ранние овощи. Хотел схватиться за сапог штурмбаннфюрера, но офицер оттолкнул его и пошел дальше.
Шумахер, как стоял на коленях, так и пополз за офицером, но два эсэсовца подхватили его под руки и оттащили в сторону, к длинному сараю с кирпичной стеной.
Когда штурмбаннфюрер приблизился ко мне, отобрано было уже девять — оставался один, и мне почему–то казалось: последним буду я. Не скажу, что это было чувство из приятных, сделалось страшно, и тело обмякло, словно в живот тебе влили изрядное количество свинца.
Штурмбаннфюрер встретился со мной взглядом и остановился. Глаза его закрывали выпуклые стекла, и трудно было определить, насмехается он над тобой или раздумывает, кому подарить последнюю пулю. Но я чувствовал, что мне, я видел, как блеснули стекла, не глаза, а стекла очков, он уже поднял руку, чтобы указать на меня, и я собрал все силы, чтобы не упасть, а выступить вперед мужественно, как и подобает настоящему мужчине, но штурмбаннфюрер понял меня: может, ему хотелось, чтобы его упрашивали, трепетали от страха. Он показал не на меня, а на паренька, стоявшего рядом со мной, пятнадцатилетнего мальчишку, который сразу расплакался. Слезы текли у него по щекам, он не хотел выходить из шеренги, но эсэсовцы вытащили его, а штурмбаннфюрер смотрел на меня и, кажется, читал мои мысли.
Я сказал ему тогда прямо, по–человечески, не кричал и не умолял, а попросил, ну так, как попросил бы вас:
— Отпустите его и возьмите меня…
— О–о, — ответил штурмбаннфюрер, — я не хочу принимать от вас такой жертвы. Я никогда не изменяю своим решениям, но обещаю: при случае непременно расстреляю и вас.
Мы не видели больше штурмбаннфюрера, но я узнал, что это был Вольфганг Хетель, один из любимцев Кальтенбруннера. Этот Хетель принимал участие еще в венских событиях перед аншлюсом…»
Ганс хорошо помнил и слова, которыми отец закончил свой рассказ: «Тем хуже для нашей страны, если такие, как Хетель, снова на свободе…»
И вот сейчас штурмбаннфюрер СС Вольфганг Хетель стоит на крыльце его дома, дома его отца, стоит и даже улыбается.
Наконец Ганс поймал мыло. Вылил на себя ковш холодной воды. На мгновение перехватило дух. Поставил ковш и, будто впервые увидев постояльцев, вежливо поклонился им.
— Мать говорила о вас, но я думал, что вы отдыхаете.
— Ничего, ничего, юноша, — остановил его Ангел. — Я могу только позавидовать вам, в нашем возрасте появляются разные радикулиты, а для вас холодная вода — здоровье.
Ганс стал растираться полотенцем. Думал: надо немедленно сообщить полиции. Но как это сделать, чтобы они ничего не заподозрили? Громко позвал мать и, когда та выглянула в окно кухни, спросил, хватает ли ей продуктов.
Фрау Шварцвеллер засуетилась: конечно, надо съездить в Унтеркримль, сделать покупки, и так уже стыдно перед уважаемыми господами за то, чем она их потчует.
Ганс слушал не перебивая. Вот если бы мать сама предложила ему съездить в город, он еще поартачился бы немного, мол, только с дороги, но потом согласился бы.
Вдруг увидел: из кармана куртки, которую положил на скамейку под крыльцом, торчит номер «Фольксштимме» — свежий номер с портретами преступников. Уже не слышал, о чем говорит мать, перекинув через плечо полотенце, попятился к куртке. Стараясь не смотреть на нее, улыбался тем, что на крыльце, взял брюки, бросив на куртку полотенце, снова посмотрел на Хетеля, не заметил ли его маневр, и только после этого–спросил мать, заказывала ли она продукты у местного лавочника? Фрау Шварцвеллер объяснила, что тот привезет заказанное только послезавтра, а сейчас она съездит в город.
— А может, я съезжу сам?
Мать не успела еще ответить, как вмешался Ангел:
— А мы рассчитывали на вас, юноша. Фрау Шварцвеллер говорила, что вы прекрасно знаете окрестные места и покажете нам живописные уголки.
Мать сразу поддержала Ангела:
— Покажи им, сынок, форельное озеро.
Ангел спросил осторожно:
— Сколько отсюда до Долины ландышей?
Там должен был сесть самолет, и Ангел сам хотел осмотреть место посадки.
— Километра три.
— Вот и хорошо, — поддержал Франца Хетель. — За два часа мы обернемся.
Гансу ничего не оставалось, как согласиться.
— Минутку, господа, — попросил, — я только переоденусь.
Он ушел в комнату, где лежал дед. Старик теперь редко поднимался с кровати, болезни мучили его. Ганс думал, что постояльцы останутся на крыльце, но Хетель пошел за ним и встал в дверях кухни.
Парень разыскал старые брюки в шкафу, оторвал пару пуговиц и попросил громко:
— Пришей мне, мама, пуговицы.
— Давай свои брюки, — проворчала мать, проходя в комнату. — Как маленький, все на тебе горит.
Она прикрыла за собой дверь, но Ганс был уверен, что Хетель подслушивает, поэтому произнес громко:
— Я нашел только одну пуговицу, вторую поищи в шкафу.
Вырвал листок из школьной тетради. Черт, где же карандаши? Нашел наконец на столике возле кровати деда. Быстро писал, говоря совсем другое — для Хетеля:
— Мы пойдем в Долину ландышей через гребень, кратчайшим путем. Можно было бы подъехать и на машине, автобус проходит, по–моему, в десять тридцать две, но вряд ли господам будет приятно трястись в автобусе… — Сжал матери руку, положил палец на губы, призывая к осторожности. Та посмотрела удивленно. — А впрочем, я спрошу их… — сказал громко, показывая матери записку.
«Быстрее вполицию, у нас Вольфганг Хетель», — прочитала. Удивленно вытаращила глаза, но Ганс не дал ей хотя бы одним звуком выдать себя:
— Где мои старые ботинки? Вечно я их ищу, и всегда их кто–то забросит бог знает куда!
Спрашивал мать глазами: поняла ли? Та кивнула, но смотрела испуганно. Ганс разорвал записку, бросил в печь.
— Я возьму с собой флягу. Она на кухне? — натянув брюки, надел ботинки и, громыхая, чтобы Хетель успел отойти от двери, направился на кухню.
Хетель стоял посередине коридора, заложив руки за спину. Разговор между фрау Шварцвеллер и сыном успокоил его.
— Вы готовы, юноша? — спросил у Ганса приветливо.
— Уже идем. Я только возьму воды, может, захочется пить.
***
Полицейский просунул голову в дверь, всем своим видом показывая: случилось что–то важное. Сказал почему–то шепотом:
— Важные новости, господин комиссар, — и пропустил в комнату пожилую женщину. — Расскажите, госпожа, что у вас произошло.
Та развела руками.
— Сын написал: зайди в полицию. У нас Вольфганг Хетель…
— Хетель? — Комиссар обежал вокруг стола. — Вы сказали, Вольфганг Хетель?
— Так мне написал сын…
Фрау Шварцвеллер рассказывала. Бонне слушал внимательно. Выслушав, уточнил:
— Говорите, что третий, высокий, не пришел вчера?
— Они взяли кирку и лопаты… Обратно вернулись двое, третий уехал в Зальцбург. Он должен был что–то передать им через хозяйку «Горного орла».
— Сколько вам нужно времени, чтобы уладить дела в Унтеркримле? — спросил Бонне.
— Бог с ними, с делами, — отмахнулась фрау Шварцвеллер.
— Нет, — возразил Бонне, — они могли не пойти в Долину ландышей и следят сейчас за дорогой, когда и с кем вы вернетесь. Делайте покупки и садитесь в автобус. Если Хетель дома, передайте ему, что в «Горном орле» вам сказали: «Аукцион состоится четвертого сентября». И еще: если их нет дома, то дайте нам какой–нибудь знак.
Фрау Шварцвеллер сразу сообразила, что от нее требуется.
— Я раздвину занавески на кухонном окне, — пообещала. — Если смотреть с дороги, крайнее окно справа.
Четыре агента вместе с Бонне заняли места в автобусе, шедшем вдоль усадьбы Шварцвеллеров. Внимательно смотрели вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили. Да и что может быть подозрительного, если даже больной дед вышел во двор погреть старческие кости — сидел в шезлонге и дремал.
Комиссар попросил водителя остановиться за поворотом, где над дорогой нависла отвесная стена. Она закрывала шоссе от посторонних глаз — Бонне и один из агентов, выйдя из автобуса, забрались в кустарник. Здесь и сам черт не заметил бы их.
Сержант Грейзль с другим полицейским сделали большой круг и отрезали преступникам путь в долину. Возле поворота в лесочке стоял черный «форд» — немного вперед выдвинулась третья группа агентов. Дом Шварцвеллеров взяли в кольцо.
Вот–вот вернется фрау Шварцвеллер.
Бонне раздвинул кусты и выглянул. Грузовая машина остановилась напротив дома: так и есть, приехала хозяйка. Шофер помог внести ей ящик с пивом во двор, помахал рукой и уехал. Фрау Шварцвеллер вошла в дом. Спустя несколько секунд открыла кухонное окно, раздвинула занавески.
Комиссар прикинул: от дороги до усадьбы можно незаметно добраться только при условии, если сделать крюк метров в двести и переползти между грядками. Решил: стоит рискнуть. Показал агенту, что делать.
Бонне первый пополз через огород. Добрались до сарая. С тыльной стороны дом прикрывали две яблони; двери черного хода, как они и договорились с фрау Шварцвеллер, открыты. Комиссар прошмыгнул под яблонями, агент — за ним. Столкнулись в узком коридорчике, тяжело дыша.
***
Самолет мог сесть в Долине ландышей. Ангел обошел все полянки, будто любовался цветами. Собрал букет.
— Для фрау Шварцвеллер…
Возвращались снова через гребень. На перевале, с которого хорошо просматривалась усадьба Шварцвеллеров и все окрестности, передохнули. Ангел успокоился: в тени возле крыльца дремал старик, фрау Шварцвеллер набрала соду из колонки, понесла ведра пи кухню.
 Ангел шел впереди, держа в руке букет. Хетель остановился у колонки, хотел напиться, но фрау Шварцвеллер выглянула из окна, позвала:
— Идите в кухню, господа, я привезла ящик пива.
Хетель взбежал на крыльцо вслед за Ангелом. Интересно, какие новости у фрау Шварцвеллер? В коридора кто–то навалился на него, вывернул руки назад. Услышал, как пронзительно и испуганно закричал Ангел. Рванулся, но вдруг почувствовал на запястьях железные кольца наручников.
Бонне обыскал Ангела, извлек из кармана пистолет, документы и деньги. Ангел смотрел на него ошалело: неужели тот самый полицейский комиссар из Интерпола, который стал преследовать их еще в Танжере? Это окончательно ошеломило его — больше он уже ничего не соображал, тупо смотрел на комиссара, но не видел его. Вдруг вспомнил — ведь комиссар сказал: «Спокойно, герр Ангел!»
Значит, они знают, кто он! Сейчас уже ничто не по может ему…
Дубровский выскочил из полицейской машины, остановившейся у въезда в усадьбу Шварцвеллеров. Увидел Ангела и уже не мог оторвать от него взгляда: весь мир словно растворился в каком–то тумане, вернее, Сергей видел и Бонне, стоявшего за спиной Ангела, и женщину на крыльце с испуганным лицом, и полицейских, бегущих к дому, но все это существовало отдельно от Ангела и вне его — человека, который неестественно выставил вперед руки в наручниках и тупо смотрел куда–то в горы.
Дубровский тысячу раз в разных вариантах представлял себе встречу с Ангелом, сегодня был тысяча первый вариант. В предыдущие разы так или иначе Ангел выглядел загнанным волком с гримасой боли или страха на лице, а сейчас он стоял совсем спокойный и отчужденный от всего в мире, будтр вся эта возня во дворе не касалась его.
Несомненно, Сергей торжествовал победу, не мог не торжествовать, однако раньше это событие представлялось ему более весомым и значительным, может, потому, что раньше комендант концлагеря был для него воплощением самого мрачного в мире, а увидел фигуру в наручниках с бледным лицом мертвеца.
Сергею сделалось гадко, даже немного затошнило — так бывает, когда откуда–то повеет трупным запахом. Но внезапно что–то похожее на прозрение промелькнуло на лице Ангела, он встретился взглядом с Дубровским, — веки у него задрожали, и он поднял руки, прикрывая лицо. Но смотрел сквозь пальцы — на расстоянии в несколько шагов Сергей заметил, как расширились зрачки Ангела. Дубровский понял — Ангел узнал его.
Да, Ангел узнал. Все эти годы старался не вспоминать тех — тысячи и тысячи в полосатой одежде, — но все же они иногда возникали в памяти и почему–то представали в образах двух человек, которых он когда–то встретил возле лагерной уборной. И вот один из них сейчас надвигается на него — а может, это галлюцинация? — да нет, руки скованы, рядом полицейские с пистолетами, а тот надвигается, как надвигались на него в снах тысячи полутрупов с костлявыми руками: сейчас схватит за горло и станет душить — перехватило дыхание, и сердце будто остановилось.
Ангел закрылся ладонью, но не мог отвести взгляда, смотрел, как загипнотизированный, и не дышал. Наконец втянул в себя воздух, но острая боль пронизала легкие, будто их заполнил едкий дым крематориев, отступил и закричал пронзительно и жалобно, как если бы его уже подвели к виселице. Знал, что никого не растрогает и расплата неминуема, но упал на колени, бился лицом о землю, кусал до крови пальцы — даже боль от укусов казалась приятной и сладкой в сравнении с тем, что надвигалось на него, затуманивало мозг страхом и трясло. Имя этому было — смерть.
Ангел шел впереди, держа в руке букет. Хетель остановился у колонки, хотел напиться, но фрау Шварцвеллер выглянула из окна, позвала:
— Идите в кухню, господа, я привезла ящик пива.
Хетель взбежал на крыльцо вслед за Ангелом. Интересно, какие новости у фрау Шварцвеллер? В коридора кто–то навалился на него, вывернул руки назад. Услышал, как пронзительно и испуганно закричал Ангел. Рванулся, но вдруг почувствовал на запястьях железные кольца наручников.
Бонне обыскал Ангела, извлек из кармана пистолет, документы и деньги. Ангел смотрел на него ошалело: неужели тот самый полицейский комиссар из Интерпола, который стал преследовать их еще в Танжере? Это окончательно ошеломило его — больше он уже ничего не соображал, тупо смотрел на комиссара, но не видел его. Вдруг вспомнил — ведь комиссар сказал: «Спокойно, герр Ангел!»
Значит, они знают, кто он! Сейчас уже ничто не по может ему…
Дубровский выскочил из полицейской машины, остановившейся у въезда в усадьбу Шварцвеллеров. Увидел Ангела и уже не мог оторвать от него взгляда: весь мир словно растворился в каком–то тумане, вернее, Сергей видел и Бонне, стоявшего за спиной Ангела, и женщину на крыльце с испуганным лицом, и полицейских, бегущих к дому, но все это существовало отдельно от Ангела и вне его — человека, который неестественно выставил вперед руки в наручниках и тупо смотрел куда–то в горы.
Дубровский тысячу раз в разных вариантах представлял себе встречу с Ангелом, сегодня был тысяча первый вариант. В предыдущие разы так или иначе Ангел выглядел загнанным волком с гримасой боли или страха на лице, а сейчас он стоял совсем спокойный и отчужденный от всего в мире, будтр вся эта возня во дворе не касалась его.
Несомненно, Сергей торжествовал победу, не мог не торжествовать, однако раньше это событие представлялось ему более весомым и значительным, может, потому, что раньше комендант концлагеря был для него воплощением самого мрачного в мире, а увидел фигуру в наручниках с бледным лицом мертвеца.
Сергею сделалось гадко, даже немного затошнило — так бывает, когда откуда–то повеет трупным запахом. Но внезапно что–то похожее на прозрение промелькнуло на лице Ангела, он встретился взглядом с Дубровским, — веки у него задрожали, и он поднял руки, прикрывая лицо. Но смотрел сквозь пальцы — на расстоянии в несколько шагов Сергей заметил, как расширились зрачки Ангела. Дубровский понял — Ангел узнал его.
Да, Ангел узнал. Все эти годы старался не вспоминать тех — тысячи и тысячи в полосатой одежде, — но все же они иногда возникали в памяти и почему–то представали в образах двух человек, которых он когда–то встретил возле лагерной уборной. И вот один из них сейчас надвигается на него — а может, это галлюцинация? — да нет, руки скованы, рядом полицейские с пистолетами, а тот надвигается, как надвигались на него в снах тысячи полутрупов с костлявыми руками: сейчас схватит за горло и станет душить — перехватило дыхание, и сердце будто остановилось.
Ангел закрылся ладонью, но не мог отвести взгляда, смотрел, как загипнотизированный, и не дышал. Наконец втянул в себя воздух, но острая боль пронизала легкие, будто их заполнил едкий дым крематориев, отступил и закричал пронзительно и жалобно, как если бы его уже подвели к виселице. Знал, что никого не растрогает и расплата неминуема, но упал на колени, бился лицом о землю, кусал до крови пальцы — даже боль от укусов казалась приятной и сладкой в сравнении с тем, что надвигалось на него, затуманивало мозг страхом и трясло. Имя этому было — смерть.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗАШИФРОВАННЫЙ СЧЕТ
Тревожные мысли преследовали его, не давали спать. Теперь Карл знал, кто он на самом деле — сын гауптштурмфюрера СС Франца Ангела, коменданта одного из гитлеровских лагерей смерти, военного преступника, процесс над которым натворил столько шума в прессе. Карл узнал об этом случайно, увидев портрет отца в газетах. Конечно, это мог быть и не отец, а всего лишь похожий на него человек, но мать подтвердила; Франц Ангел — его отец. Так началась новая полоса, в жизни Карла Хагена. Раньше все было просто, спокойно и понятно. Его отец Франц Хаген давно уже разошелся с матерью. Занимался какой–то коммерцией то ли в Африке, то ли на Ближнем Востоке — изредка из тех районов приходили письма, — и только раз в два–три года они проводили вместе летние каникулы, но Карл не знал заранее, где и когда отец назначит им встречу: на Канарских островах или на раскаленных пляжах Персидского залива. Никогда отец не встречался с ним в Европе; сейчас Карл понял почему: оберегал их от своего прошлого и настоящего, а может, боялся, что через них полиция нападет на его след. Он был осторожный, Франц Ангел. Читая материалы судебного процесса, Карл поражался отцовской прозорливости, умению заглядывать далеко вперед и рассчитывать черт знает сколько ходов в своей всегда предельно запутанной и рискованной игре. Только благодаря такой осторожности журналисты до сих пор не вышли на семью Ангела, Карлу становилось жутко от мысли об этом, хотя иногда, в минуты душевного смятения, хотелось плюнуть на все и всенародно признаться: да, это его отец Франц Ангел! Ну и что ж! Вначале Карл был уверен, что отец действовал не по собственному желанию, а выполнял приказ: знал его как человека учтивого и кроткого, который без принуждения вряд ли уничтожал бы людей. Но разве это оправдание? Карл жадно читал материалы процесса, пытаясь обнаружить факты, которые подтверждали бы невиновность отца. И не обнаруживал. Не потому, что Франц Ангел признавал себя виновным во всем — он вел себя на процессе не агрессивно, но и не как человек, который примирился с поражением и вымаливает себе прощение, — хитрил и выворачивался, но так и не мог привести в свое оправдание ни одного убедительного факта. Иногда Карлу казалось, что сам он имеет их достаточно. Читая в газетах рассказы свидетелей о том, как отец стеком подталкивал детей в газовые камеры, вспомнил девочку, с какой тот играл на пляже в Лас–Пальмасе на Канарах. Наверно, она была мулаткой, эта черненькая четырехлетняя девчонка, с толстыми негритянскими губами. Отец высоко подбрасывал девчонку и ловил ее, они смеялись и затем обсыпали друг друга песком. Разве мог такой человек равнодушно смотреть, как умирают дети? Эта картина — отец подбрасывает мулатку — зримо стояла перед глазами. Другая же, когда он подталкивал детей к газовым камерам, расплывалась и казалась выдуманной, как и вообще выдуманным весь этот процесс. Однако отец не возражал против фактов. Он пытался только лишь использовать их в своих интересах. Но разве можно хоть чем–нибудь смягчить вину за смерть детей? Карл понимал: в одном человеке несовместимы гуманность и равнодушие, вражеское, даже звериное, отношение к себе подобным. Значит, отец прикидывался, лицемерил, так сказать, играл на публику, хотел завоевать сыновнюю симпатию. Но какая же неподдельная ласка светилась в его глазах, когда возился с мулаткой! А перед этим продавал девушек в гаремы аравийских властелинов. Эту половину жизни Франца Ангела, когда он после войны продавал девушек в гаремы, отодвинули на процессе на второй план не потому, что выглядела бледно на фоне дыма крематориев, а потому, что Ангел умело спрятал концы в воду, и обвинить его можно было только в продаже партии француженок. Теперь Карл знал, каким бизнесом занимался отец на Ближнем Востоке, почему они так редко виделись и почему отец так нежно относился к матери, хотя и развелся с ней. Мать только теперь подтвердила Карловы догадки: фиктивный развод. В этом также проявилась отцовская предусмотрительность — не хотел, чтобы тень пала на семью. Мать понимала тревогу сына, хотя у нее были твердые взгляды, сформировавшиеся, как понимал Карл, еще когда жила рядом с концлагерем. Она почти не разговаривала с сыном во время процесса, но однажды, поймав Карлов тревожный и вопросительный взгляд, попробовала успокоить его. — Если бы мы победили, — произнесла убедительно, — все, что сделал твой отец, квалифицировалось бы как доблесть. Он был дисциплинированным офицером и выполнял волю своего начальства. Мы проиграли, и твой отец — одна из жертв нашего поражения. У Карла округлились глаза. Он знал, что мать — практичная женщина, более того, как говорили знакомые, — деловая, но вместе с тем она всегда была обходительна с соседями, нежна к нему, вообще считалась уважаемой женщиной — и вдруг такое! Очевидно, мать почувствовала, что переборщила, поскольку сразу же пошла на попятную: — Думаю, твоему отцу было нелегко… Тогда он как бы замкнулся в себе и… И вообще все это похоже на кошмарный сон… Но Карл понял, что мать так же лицемерила с ним, как и отец. Однажды за завтраком у них с матерью состоялся разговор о деньгах. Карл спросил: — Сколько у тебя в банке? Беата наливала себе кофе. Рука ее слегка задрожала, однако мать не пролила кофе, нацедила полную чашку и спокойно поставила кофейник. Взглянула на Карла из–под опущенных ресниц. — Зачем тебе, мой милый?
— Так… Просто интересно… Я спросил про деньги лишь для того, чтобы знать, от чего я отказываюсь.
Он думал., что мать смутится, по крайней мере начнет его уговаривать или постарается уйти от этого разговора, но он плохо знал свою мать, он, журналист Карл Хаген, который, как и все молодые журналисты, считал себя человековедом.
Мать не отвела взгляд, но спросила тихо и мягко!
— А почему ты уверен, что есть от чего отказываться?
Такого поворота Карл не ожидал. Пожал плечами, ответил растерянно:
— Ну… Я считал, что у нас есть какие–то деньги… И отец намекал… — Вдруг осекся: он все же произнес это слово «отец», хотя только что отрекся от него. Но мать, к счастью, не заметила этого. Поправила скатерть и произнесла:
— Возможно, у меня и есть какие–то деньги, и я буду поддерживать тебя. Но ты сможешь рассчитывать на капитал только после моей смерти.
Беата давно приняла такое решение. Вернее, оно не было окончательным: убедившись в деловых способностях сына, она отдала бы ему капитал, ну, не весь, хотя бы часть, но не сейчас… Растранжирит деньги и сам потом пожалеет. Она, конечно, не бросит Карла на произвол судьбы, слава богу, на счету уже около трех миллионов долларов — им двоим хватит…
Внимательно посмотрела на сына — гордый и независимый. Эта мысль принесла удовлетворение, хотя, конечно, поведение Карла вызывало раздражение.
А Карл сидел, уставившись в пол, и не знал, что сказать. Он принял решение отречься от отцовских денег, поскольку от них на расстоянии пахло преступлением: каждый порядочный человек отказался бы от них, а Карл считал себя порядочным, более того, прогрессивным, иначе и быть не могло — он работал в либеральной бернской газете, вел театральные обозрения и, говорят, добился явных успехов на этом поприще: в театрах с ним считались, даже побаивались его острых рецензий. Но Карл сам себе не признался, что подтолкнуло его к сегодняшнему разговору с матерью. Вернее, он знал что — перспектива получить двадцать миллионов марок. Именно эта цифра была написана на клочке бумаги, вложенном в отцовское письмо, которое Карл получил однажды одновременно с сенсационным известием прессы об аресте Франца Ангела. В конверте также лежала записка: отец просил Карла сохранить этот клочок бумажки — и все.
Тогда Карл не придал значения этому письму. Равнодушно посмотрел: напечатанные на машинке три фамилии, пометки карандашом через весь листок.
«Наверно, деловая бумага», — подумал он. Немного удивился, почему отец прислал ее именно ему, ведь раньше никогда не посвящал сына в свои дела.
Карл спрятал письмо в стол и вспомнил о нем позже, когда процесс приближался к концу и стали известны некоторые подробности отцовской поездки в Австрию. Выяснилось, Франц Ангел нацелился на спрятанные в «Альпийской крепости» фюрера эсэсовские сокровища. И не без успеха. Журналисты пронюхали, что он со своими подручными нашел контейнер с секретными документами главного управления имперской безопасности, среди которых находились списки так называемых «троек».
Карл и раньше слыхал об этих «тройках». В конце сорок четвертого года эсэсовцы переправили часть награбленных ценностей в Швейцарию, положив значительные суммы на зашифрованные счета. Каждый член «тройки» знал две цифры из шести. И больше ничего! Списки «троек» в одном экземпляре хранились у шефа главного управления имперской безопасности обергруппенфюрера СС Эрнста Кальтенбруннера.
Одну из этих «троек» знал теперь бернский журналист Карл Хаген. Сомнений не было — отец успел изъять из контейнера документ и переслать его сыну.
Карл догадался об этом, сидя в редакции и читая очередной репортаж о процессе. Поняв, что имеет ключ к эсэсовским сокровищам, разволновался. Во–первых, мелькнула мысль: грязные деньги, необходимо немедленно сообщить об этом, отдать их. Но сразу остановил себя: зашифрованный счет… Банк — государство в государстве, он пошлет ко всем чертям того, кто не назовет все шесть цифр. Банк не интересует, кто положил деньги. Каждый из «тройки», обозначенной в списке, привлечет Карла к ответственности, только посмеется над ним: выдумка, бред, клевета!
Карл бросил работу и поспешил домой. С нетерпением вынул из конверта бумажку. Прочитал:
«Рудольф Зикс;
Людвиг Пфердменгес;
Иоахим Шлихтинг».
И наискосок (сейчас Карл понял) рукою Кальтенбруннера: «20 миллионов марок. Юлиус Бар и К°”.
Юлиус Бар и К°. Одна из самых солидных банковских контор в Цюрихе. И двадцать миллионов марок! Казалось, протяни руку и получишь…
Карл сидел, курил и, казалось, ни о чем не думал Призрак миллионов маячил перед ним, дразнил, убаюкивал, обещал неизведанные, какие–то совсем новые ощущения, хотелось сразу что–то предпринять и одновременно лень было подняться с кресла, блаженная истома наполнила его. Так бывает: радость ошеломляет, расслабляет, в такие минуты из человека можно вытянуть какое угодно обещание. Он посмеется над заклятым врагом и простит даже коварство.
Вдруг одна мысль поразила Карла. Она была такой элементарной, что Карл даже рассердился на себя. И действительно, стал уже строить розовые замки, протянул руку за миллионами, а вдруг первого же из списка — Рудольфа Зикса — уже нет в живых?
Карл поколебался немного и сжег список: эти фамилии все равно навечно врезались в память.
В тот вечер он заглянул в журналистский клуб. Сидел, сгорбившись, над столиком, тупо смотрел, как тают в стакане кубики льда. Эта мысль — Рудольф Зикс погиб или умер — сидела где–то в уголках мозга. Карл думал: это принесет ему облегчение, если Зикс и на самом деле умер, и так было трудно жить дальше, зная, что отец — палач, а тут еще перспектива эсэсовских миллионов… Разве можно назвать человека порядочным, если он протягивает за ними руку?
Карл был уверен: многие из тех, кто сидел за соседними столиками, пил коктейли, танцевал, только посмеялись бы над его сомнениями: человеку привалило счастье, а он колеблется! Но разве это не кража: прийти в банк, назвать шесть цифр и получить двадцать миллионов марок?
Возможно, все они сошлись бы на одном: человеку улыбнулось счастье. Да и он сам так настраивал себя: судьба, и только. Неисповедимы пути господни, каждому свое, и все равно через год или даже меньше деньги пропадут: с момента, когда их положили, уже пройдет двадцать лет, а ценности, что лежат на зашифрованном счету и за которыми на протяжении двадцати лет никто не явился, остаются собственностью банка.
Да и зачем позволять ожиревшему Юлиусу Бару с компанией присвоить еще двадцать миллионов?
С того вечера прошло уже немало времени — Франца Ангела под нажимом общественности казнили, мать успела приобрести на Женевском озере пансионат и с головой ушла в дела, а Карл все еще колебался. Теперь сомнения уже меньше мучили его: он не унаследовал от отца ничего, даже фамилии, а бумажка с «тройкой» могла попасть в руки кому–нибудь, да и вообще, если даже все из «тройки» живы и удастся их разыскать, захотят ли они назвать две свои цифры — ведь их, наверное, предупредили, что эти цифры являются тайной «третьего рейха».
Итак, дело с запиской представлялось сомнительным, однако, как ни странно, сама эта сомнительность привлекала Карла, как привлекают полные тревог и лишений дальние дороги.
Первая задача, которая встала перед Карлом, заключалась в том, чтобы разузнать, кто такие Рудольф Зикс, Людвиг Пфердменгес и Иоахим Шлихтинг. После разгрома «третьего рейха» прошло без малого двадцать лет, и фамилии даже известных в то время бонз нацистской партии уже начали стираться в памяти, на смену им пришли новые — моложе и энергичнее; уже фон Тадден возглавил неонацистское движение, а кто знал Таддена во времена фюрера? И кто знает теперь Рудольфа Зикса?
Разумеется, если бы Карл не сидел в Швейцарии, а посетил сборище бывших эсэсовцев где–нибудь в Дюссельдорфе или Гессене, там над ним только посмеялись бы.
Кто знает Рудольфа Зикса?
А кто не знает группенфюрера СС Рудольфа Зикса, бывшего командира корпуса СС, потом одного из руководящих деятелей главного управления имперской безопасности? Во времена «третьего рейха» каждый более или менее осведомленный человек, называя первые два десятка из эсэсовской верхушки, непременно вспомнил бы и Зикса.
Но Карл Хаген не посещал эсэсовские съезды и пошел по более трудному пути — перелистал папки старых газет и журналов, досконально изучил историю СС, познакомился со многими судебными процессами над нацистами в послевоенной Германии.
Зикса задержали в английской зоне оккупации. Его могли судить вместе с другими эсэсовскими генералами, но он заболел — в прессе промелькнуло сообщение, что врачи признали его психически больным. На этом след обрывался, Карлу удалось только установить, что младший брат Рудольфа — Ганс–Юрген Зикс живет в городе Загене, земля Верхний Рейн, и является владельцем довольно большой и перспективной фирмы готовой одежды.
На имя Иоахима Шлихтинга Карл наткнулся только раз: в связи с реорганизацией одного из гамбургских концернов сообщалось, что его директор Иоахим Шлихтинг подал в отставку, поскольку решил остаток дней своих провести в имении жены под Ганновером.
И ни одного упоминания о Людвиге Пфердменгесе…
Фактов было, собственно говоря, мало. Карл рассчитывал на большее, однако могло случиться, что он натолкнулся бы на извещение о смерти кого–нибудь из «тройки».
Карл позвонил Гюнтеру Велленбергу и назначил ему встречу в журналистском клубе.
Мысль о Гюнтере появилась еще раньше, Карл понимал, что может случиться всякое, и ему одному будет трудно: в таком рискованном деле поддержка или совет друга просто необходимы — кто знает, а вдруг придется разыскивать Людвига. Пфердменгеса даже в Южной Америке? Да и вдвоем веселее, тем более с Гюнтером — старым другом, человеком надежным и умным.
Гюнтера Велленберга хорошо знали в швейцарских театральных кругах, меньше — зрители, что Гюнтер объяснял косностью обывателей, нежеланием и неумением подняться к вершинам современного искусства.
Велленберг стал основателем и идейным руководителем нового экспериментального театра — театра, который не имел ни денег, ни помещения и давал представления в клубах и кафе. Труппа состояла преимущественно из молодых актеров, которые работали в солидных, со сложившимися традициями коллективах и собирались после спектаклей, чтобы огорошить посетителей ночных клубов необычным зрелищем.
Играли без декораций, театральных аксессуаров. Гримировались, стараясь подчеркнуть все уродливое, что есть в человеке, сами писали сцены и скетчи, иногда острые, иногда с нечеткой социальной окраской — копались в темных закоулках человеческой души, выворачивали, чернили ее, смеялись над любовью и верностью, считая себя чуть ли не революционерами, потому что зло бросали в лицо респектабельной публике, которая приходила на их ночные спектакли, все, что думали о ней, с определенной долей цинизма.
Карлу нравились поиски Велленберга, хотя он часто и не разделял взгляды друга, был умереннее. Иногда друзьям ссорились, но ненадолго. Через день–другой снова сходились, потому что тосковали друг без друга, каждый чем–то дополнял другого, даже споры и размолвки приносили обоим удовольствие…
…Гюнтер сидел на своем постоянном месте — справа от входа, пил кофе и просматривал журналы. Он всегда по вечерам пил много кофе. Карл удивлялся, как может человек выпить столько и потом спать, но Понтер лишь смеялся и объяснял, что все равно ведет ночной образ жизни, а до утра, когда он ложится, еще далеко, да и вообще кофе не мешает ему крепко спать.
Карл подсел к Гюнтеру, и тот отложил журналы, посмотрев вопросительно.
— Что случилось? Мне показалось, что ты был взволнован, когда звонил. Да и сейчас не в своей тарелке.
Так всегда: Гюнтер был неплохим психологом и умел заглядывать другу в душу. Иногда это раздражало Карла, он давал отпор Гюнтеру, даже иронизировал над его попытками сразу понять и оценить человека, но не мог не отдать другу должного — Гюнтер все же знал людей, замечал их уязвимые места и умел ловко играть на человеческих слабостях. Но даже менторский тон Гюнтера на этот раз не обидел Карла. Потому что знал: сейчас он ошеломит Гюнтера, будет играть с ним как захочет, и так будет по крайней мере в ближайшем будущем.
Сознание того, что он может облагодетельствовать друга, как–то поднимало Карла в собственных глазах, и он не отказал себе в удовольствии хоть немного поинтриговать Гюнтера.
— Ты прав, — ответил, — я действительно, кажется, не в своей тарелке. Однако с наслаждением посмотрю, как вытянется твоя самодовольная рожа, когда услышишь, что скажу. Я, правда, еще не решил, стоит ли открывать эту тайну, но если ты будешь хорошо себя вести…
Гюнтер смотрел недоверчиво, но то ли блеск глаз Карла, то ли его убежденность и взволнованность подтверждали, что говорит правду, и Гюнтер, отставив чашку с кофе, наклонился к Карлу.
— Ну?.. — спросил кратко. Карл не спеша закурил сигарету.
— Хотел бы ты иметь миллион?
Гюнтер засмеялся.
— Кельнер, кофе! — помахал рукой. — Миллион чего: долларов или фунтов стерлингов? Или ты хочешь подарить мне миллион швейцарских франков? Я не гордый и возьму любой валютой, даже в динарах или рупиях!
— Миллион западногерманских марок, — оборвал его Карл.
— Могу и в марках, — продолжал иронизировать Велленберг. — Прекрасная валюта, которую можно обменять в любом банке. Мечта моей жизни — миллион, я кланяюсь вам, о Ротшильд, за щедрый подарок!
— Подарка не будет, — быстро возразил Карл. — Деньги придется зарабатывать.
— Ха! — воскликнул Гюнтер зло. — Я могу работать всю жизнь и не заработаю миллиона. Если фортуна не захочет немножко побаловать меня…
— Может быть, она тебя уже балует, — засмеялся Карл. — Не могу ничего гарантировать, но послушай… — И стал рассказывать о существовании «тройки», скрыв, откуда он узнал о ней.
От иронии Гюнтера не осталось и следа.
— Ого! — вытаращил глаза. — И сколько лежит на твоем зашифрованном счету?
Карл знал, что Гюнтер спросит об этом. Он заранее продумал все возможные повороты разговора и решил не открываться до конца.
— Тебя устраивает миллион? — сказал так, чтобы положить конец нежелательным вопросам.
— Конечно… — Гюнтер понял, что его отодвигают на задний план, но не обиделся. Подумал: на месте Карла он поступил бы так же, возможно, не дал бы и миллиона, игра стоила свечи за сто, и за пятьдесят тысяч, даже меньше. Велленберг жадно глотнул горячий кофе, который принес кельнер. — А откуда?..
Карл нашел в себе силы, чтобы сказать спокойно и на первый взгляд безразлично:
— Данные, которые у меня есть, достоверны. Их переслал в письме мой отец. Ты, наверно, слыхал это имя — его звали Франц Ангел.
Слова слетели с его уст, и ничего не случилось: Гюнтер продолжал отхлебывать кофе, и в его глазах не было ни любопытства, ни удивления, он обладал выдержкой, этот Гюнтер Велленберг, или просто сумел сыграть, ведь на самом деле был талантливым драматическим актером. Но о чем бы ни думал Гюнтер, Карлу импонировала его выдержка — удивление, особенно сочувствие, были бы сейчас некстати.
Помолчав несколько секунд, продолжил, наигранно улыбаясь:
— Ты понимаешь, я не могу гордиться таким предком, но что поделаешь…
— Брось! — прервал его Гюнтер. — Давай лучше не говорить об этом. Что было, то было, меня не интересует источник твоей информации. Был бы твой отец хоть самим сатаною, это не повлияло бы на мое отношение к тебе!
Гюнтер протянул Карлу руку, тому показалось — несколько театрально, но все же от всего сердца пожал руку другу, словно присягал на верность. Спросил бы сейчас Гюнтер имена «тройки» — назвал бы, не задумываясь, но Гюнтер не спросил, хотя вопрос и вертелся у него на языке.
— Итак, мы договорились, — сказал Карл. — Я назову двоих из «тройки». Не потому, что не доверяю тебе, просто если ты будешь знать всех троих, тайна перестанет быть тайной. — Это прозвучало немного неубедительно, но Карл не мог придумать более подходящего аргумента. Он действительно доверял Гюнтеру, но какое–то подсознательное чувство подсказывало: не следует открываться до конца! Чтобы перевести разговор на другое, добавил деловым тоном: — Конечно, ты должен понимать, что нет никаких гарантий и вся наша… э–э… миссия может оказаться напрасной…
— Я не требую, чтобы ты дал мне расписку на миллион, — хрипло засмеялся Гюнтер. — Однако имей в виду: мои финансовые возможности…
Но Карл и без этого знал, что у Велленберга никогда не бывает денег.
— Затраты я беру на себя, — остановил его. — Может быть, все будет в порядке, и мы быстро… Однако на всякий случай у меня есть несколько тысяч франков.
— О–о! — удовлетворенно воскликнул Гюнтер.
Карл перегнулся к нему через столик, зашептал:
— Первым в списке стоит Рудольф Зикс. Бывший группенфюрер СС. Известно только, что его брат живет сейчас в Загене. Это недалеко от Кёльна. Мой «фольксваген» на ходу, если не возражаешь, послезавтра можно тронуться.
***
Ганс–Юрген Зикс ходил по кабинету, размахивая сигарой. Такая уж у него была привычка — обдумывая что–нибудь важное, мерить кабинет наискось неторопливыми шагами и вдыхать ароматный сигарный дым: все знали, если в кабинете господина Зикса накурено, хозяин принимает важное решение.
Визит швейцарского журналиста насторожил Зикса. К местным газетчикам уже давно привык. Им охотно давал интервью и вообще поддерживал контакты с газетами, рассчитывая, что упоминание в прессе его имени будет способствовать популяризации фирмы готовой одежды Ганса–Юргена Зикса, а без рекламы во второй половине двадцатого века тяжело продать и стакан газированной воды.
Господин Зикс ничем не выказал своей заинтересованности: продержал швейцарского журналиста с полчаса в приемной и встретил сухо, всем видом подчеркивая, что он человек деловой и не тратит время на пустословие. Но уже первые вопросы юноши, который назвался Карлом Хагеном, обеспокоили владельца фирмы и даже взволновали его — господину Гансу–Юргену Зиксу пришлось сделать усилие, чтобы отвечать ровно, доброжелательно и под конец улыбнуться и пожать журналисту руку.
Сейчас Зикс вспоминал все детали разговора — он на самом деле был важным и мог иметь совсем неожиданные последствия.
Журналиста интересовала совсем не фирма, не ее продукция и связи, он расспрашивал о старшем брате Ганса–Юргена — бывшем группенфюрере СС Рудольфе Зиксе. Конечно, наглеца можно было сразу выставить из кабинета, господин Зикс и хотел так сделать, но осторожность, как всегда, взяла верх (ну чего бы добился, выбросив журналиста?), и он вступил в игру, предложенную господином Хагеном: отвечал недомолвками на недомолвки, сам задавал неожиданные вопросы, старался вызвать журналиста на откровенность. Дело в том, что они с Рудольфом ждали из Южной Америки людей от обергруппенфюрера СС Либана, и появление швейцарского журналиста (возможно, и не журналиста) казалось очень и очень подозрительным.
Сейчас хозяин кабинета обновлял в памяти подробнейшие детали разговора.
Тот пройдоха с корреспондентским удостоверением знал, что Рудольф Зикс живет недалеко от города в имении и, как человек душевнобольной, не имеет никаких контактов с внешним миром. Собственно, такие сведения он мог получить даже у портье отеля, где остановился — ни для кого не секрет, когда–то в этом небольшом городе судьбу группенфюрера СС обсуждали на всех перекрестках, но со временем забыли: даже левые журналисты, которые в свое время пытались опровергнуть заключение врачей, давно уже угомонились (прошло ведь столько лет!), — и вдруг этот визитер из Швейцарии накануне прибытия людей Либана…
Непрошеный гость пытался убедить его, что начал писать книгу то ли по истории национал–социализма в Германии, то ли о бывших деятелях СС и что в связи с этим ему крайне необходимо увидеть господина Рудольфа Зикса, одного из высокопоставленных эсэсовских генералов, которые живут и поныне.
Другой на месте Ганса–Юргена Зикса поверил бы корреспонденту, однако у него был большой жизненный опыт, и он знал: настоящий проныра всегда обеспечит себе тыл и придумает такую версию, что и комар носа не подточит.
«Однако ж, — вполне резонно заметил Ганс–Юрген, — знает ли господин журналист, что Рудольф Зикс — человек больной, и контакты с ним разрешены только врачам да обслуживающему персоналу?»
Журналист ответил, что он в курсе дела, более того, знает, что группенфюрер иногда вспоминает много интересного, и, в конце концов, можно обратиться к врачебной помощи.
«Нет, — решительно встал Ганс–Юрген Зикс. — Я не могу дать разрешения на разговор с братом, ибо всякие воспоминания отрицательно влияют на его и без того расстроенную психику».
Гость откланялся. Он держался почтительно, но это еще больше насторожило господина Зикса.
Ганс–Юрген стал размышлять, что он потеряет, если пресса пронюхает о контактах их фирмы с людьми Либана?
Во–первых, они разнесут это по всему свету, что может повредить деловой репутации фирмы «Ганс–Юрген Зикс и К°”. Во–вторых, Рудольф и эти южноамериканцы будут обсуждать проблемы возвращения в Федеративную Республику Германии некоторых эмигрантов и их детей, что в конечном итоге способствовало бы активизации деятельности существующих и созданию новых реваншистских организаций. В–третьих, этот пункт, очевидно, следовало бы передвинуть на передний план, согласно предварительной договоренности именно через фирму «Ганс–Юрген Зикс и К°” в Западную Германию будут переправляться капиталы для финансирования этих организаций — эсэсовцы успели положить значительные суммы на счета южноамериканских банков.
Одни только проценты от этих операций разожгли аппетит хозяина фирмы, а он знал, что не ограничится одними процентами.
Итак, любая гласность могла привести к непоправимым моральным — Ганс–Юрген лицемерил даже в мыслях, ставя это на первое место, — и материальным потерям. Ведь и реваншистские организации, и новая партия фон Таддена, которую они поддерживали, — основа «четвертого рейха». А «четвертый рейх» необходимо будет одеть в мундиры, и Ганс–Юрген Зикс абсолютно не сомневался, что право на это получит фирма, которая способствовала утверждению этого рейха. Здесь уже пахло такими суммами, что и проценты с южноамериканских капиталов, и сверхпроценты казались мелкой разменной монетой!
Зикс позвонил секретарше и распорядился позвать Роршейдта.
Лишь переступив порог кабинета, Генрих Роршейдт понял, что его ждет какое–то важное поручение: резклй запах сигары ударил в нос, и Генрих с удовольствием втянул воздух — так замирает на мгновение гончая, почуяв запах дичи.
— В наш город приехал швейцарский журналист Карл Хаген… — начал Зикс.
— Это тип, который только что морочил вам голову? — перебил Роршейдт: он выполнял самые деликатные поручения хозяина и позволял себе некоторую фамильярность.
— Да. — Зикс внимательно смотрел на подручного, хотя созерцание его внешности никому не могло принести удовольствия: деформированный от многочисленных драк нос, толстые губы и пронзительно хитрые глаза под приплюснутым лбом. У Роршейдта была сила первобытного человека, звериная выдержка, он был неприхотливым, но самое главное — служил всю войну верно брату, сейчас ему, Гансу–Юргену Зиксу. — Эго–го журналиста… — Зикс выдержал паузу. Не потому, что ему тяжело было произнести следующие слова или вдруг совесть заговорила в нем, просто, давая такое распоряжение, невольно становишься соучастником, а всегда неприятно знать, что тебя может ждать вечная каторга.
К счастью, Генрих помог ему.
— Убрать? — спросил, словно речь шла о чем–то совсем обычном.
— Только тихо… — поморщился Зикс. — Не нужно шума!
— Попробуем сегодня вечером.
— Он остановился в отеле «Кинг». Генрих переступил с ноги на ногу.
— Все?
Зикс махнул рукой.
Хорошо, что Генриху ничего не нужно объяснять: сказал и забыл — как и раньше, ощущаешь себя порядочным человеком, который только в силу определенных обстоятельств немного согрешил…
***
Гюнтер предпочел ресторан с музыкальным автоматом, а у Карла заболела голова от оглушительной музыки, и он решил погулять по городу. Еще днем заметил: сразу за центральной городской площадью с неизменной ратушей начинался парк — сквозь зелень поблескивала вода, там был пруд или даже озеро.
Вначале парк напоминал все парки мира: газоны и клумбы, скамейки. Карл прошел мимо двух или трех пар влюбленных на скамейках — все, как и полагается в таких местах, но незаметно аллея превратилась в тропинку, которая извивалась между густых кустов, запахло свежестью, и слева за редкими деревьями открылось озеро.
Карлу захотелось посидеть на берегу. Солнце заходило, и на воде пролегла кровавая дорожка. Карл шел прямо к ней. Не мог оторвать взгляда от блестящей дрожащей полоски, казалось, сейчас и само солнце коснется воды, нырнет и погаснет. Перепрыгнул канаву и остановился недалеко от берега, оперся о ствол толстой вербы. Да, сегодняшний день, первый их день в Загене, складывался неудачно, хотя все могло быть и гораздо хуже. Швейцар, который принес их вещи в номер, на вопрос, знает ли он Зикса, лишь усмехнулся: «Здесь каждый второй работает на господина Зикса».
Но когда Гюнтер стал осторожно разузнавать, что он знает о бывшем группенфюрере СС, Швейцар ничего не рассказал.
Неподалеку от отеля они увидели бензоколонку и решили заправиться.
Заправившись, поехали в имение Зиксов и убедились, что попасть туда невозможно (настоящая тюремная стена с колючей проволокой и битым стеклом). Гюнтер заметил, что группенфюрер живет в обычных условиях — именно так отгораживались когда–то таинственные эсэсовские объекты.
Потом — посещение швейцарским журналистом господина Ганса–Юргена Зикса, и круг замкнулся.
Солнце уже село, и красная дорожка растворилась в воде, а Карл все стоял и думал, как им попасть за ограду. И ничего не мог придумать. Уже собрался возвращаться, но из–за кустов вышли двое и преградили ему дорогу.
Один спросил Карла:
— Это вы поставили машину у парковых ворот? Мы не можем заехать…
— Нет, я без машины…
— Не ври! — грозно произнес другой. — Я сам видел, как ты подъезжал.
— Однако вы ошибаетесь…
Первый, вдруг шагнув вперед, ударил Карла в подбородок.
— Вы что! — возмущенно крикнул юноша, поднял руки, чтобы защититься, но неизвестный нанес второй удар в солнечное сплетение. Карл задохнулся, но все же сам ударил мужчину коленом в пах. Тот только ойкнул и упал. Карл попробовал проскользнуть мимо него, но перед ним вырос другой — высокий, с длинными обезьяньими руками.
— Что вам нужно? — закричал Карл пронзительно. — Спасите!
— Молчи, падлюка!.. — зашипел высокий.
Карл попятился от него, но натолкнулся на второго. Тот схватил его сзади за руки, и в это мгновение высокий подскочил к нему: резкая боль пронзила Карла, он хотел вздохнуть и не мог, осел на землю, прикрыв руками лицо, и потерял сознание.
— Здорово ты его! — бросил Роршейдт высокому. — Сейчас нужно этого прощелыгу…
Вдруг где–то совсем близко заревела автомобильная сирена.
— Петер, сюда! — заорал кто–то в кустах. — Кто–то зовет на помощь!
Роршейдт зло выругался. Нагнулся и подхватил Карла под руки.
— Ну ты что?.. — взглянул на высокого. Тот понял и взял Карла за ноги. Пригнувшись, они побежали к берегу, зашли по пояс в воду и бросили тело в камыш.
— Если ты его не добил, — прошептал Роршейдт, — все равно ему конец!
…Каммхубель поставил свой «опель» у берега и забросил удочки. Сидел, глядя на неподвижные поплавки, рыба не клевала, но, честно говоря, он и не надеялся на улов, просто любил сидеть над озером перед заходом солнца, выкурить сигарету, смотреть на спокойную воду и ни о чем не думать. Точнее, мысли в такие минуты были ленивые и спокойные, какие–то затяжные — вода успокаивала, и все вокруг казалось таким прекрасным — лучше не могло быть на свете. Ну что можно сравнить с золотисто–красной дорожкой на воде и мягким шелестом камыша?
Кто–то пробирался в кустах, и Каммхубель недовольно поморщился: бывает, какой–нибудь незнакомец остановится за плечами, чуть ли не дышит в спину, уставится на поплавки да еще пытается завязать разговор и не знает, что ты залез в камыши именно для того, чтобы отдохнуть и от людей, и от разговоров. Единственная надежда, что никто не увидит его с берега. Каммхубель уже давно облюбовал это местечко за густой лозой, ветки которой переплетались с камышом.
Шаги затихли.
Каммхубель осторожно выглянул из своего убежища — какой–то молодой человек оперся спиной о дерево и любуется природой.
Каммхубель посидел еще немного, уставившись в поплавки, но было такое чувство, что кто–то сверлил взглядом спину. Не выдержав, он пошел к машине выпить пива и, когда подходил к своему «опелю», услышал шум, раздвинул кусты и увидел, как двое громил набросились на юношу. Первым движением было желание прийти на помощь, но в следующее мгновение Каммхубель сообразил, что это ничего не даст — поломают ребра и ему. Он бросился к машине и засигналил так, словно у «опеля» отказали тормоза и он несется по автостраде, выпрашивая дорогу.
Посигналив, Каммхубель вытащил из багажника заводную ручку и закричал:
— Петер, сюда!.. Кто–то зовет на помощь!
Выбежал на полянку, но под вербой уже никого не было. Каммхубель вытянул шею и увидел, как громилы тащили тело к озеру. Они бросили его в воду и быстро исчезли.
Не выпуская из рук железную ручку, Герхардт Каммхубель побежал к берегу. Зашел в озеро по грудь, пощупал вокруг руками, но ничего не нашел. Подвинулся дальше и натолкнулся на тело.
Каммхубель подхватил юношу и вытащил на берег. Он никогда не откачивал утопленников, но где–то читал или слышал об этом. Подержал тело вниз головой, изо рта хлынула вода, потом стал делать искусственное дыхание. Но юноша не подавал никаких признаков жизни, и Герхардт подумал, что его прикончили до того, как бросили в воду. И все же настойчиво поднимал и опускал руки, всматриваясь в посиневшее лицо.
Каммхубель привез Карла к себе домой. У него был небольшой двухэтажный дом из четырех комнат и кухни, построенный еще отцом, учителем гимназии Куртом Каммхубелем. Герхард Каммхубель тоже был учителем гимназии, но в отличие от отца доживал свой век один — жена умерла в концлагере, да и он сам чудом остался жив, пройдя все круги ада в Заксенхаузене.
Карл возвращался к жизни с такими муками, что хотелось закрыть глаза и снова впасть в небытие. Каммхубель дал ему выпить какого–то отвара и положил в кровать, пообещав перед этим позвонить в отель Гюнтеру, чтобы тот не волновался и не беспокоил местную полицию. Отвар был горький, и Карлу показалось, что его еще раз вырвет, но через несколько минут почувствовал облегчение и уснул.
Разбудили его воробьи, которые отчего–то расчирикались под открытым окном. Карл сел на кровати. Почувствовал себя лучше, хотя челюсть еще болела, а меж ребер проступали синяки. Ощупал ребра — кажется, целы.
Но кто же напал на него и с какой целью?
Карл не дал тем, на берегу, никакого повода для нападения, он не ссорился с ними, был вежливым. Иногда люди становятся драчливыми под действием алкоголя, но Карл мог головой поручиться: те двое были. трезвыми.
По всей вероятности, они следили за ним, с ним хотели покончить. И произошло это после его посещения господина Ганса–Юргена Зикса. Напрашивался еще один вывод: владелец фирмы не хотел, чтобы швейцарский журналист встретился с бывшим группенфюрером СС Рудольфом Зиксом. Не хотел — не то слово. Если пошел на уголовное преступление, были серьезные основания не допустить встречи Карла с группенфюрером.
А может быть, он все–таки ошибается и на него напали обыкновенные хулиганы?
Только сейчас Карл заметил на стуле рядом с кроватью сорочку и светлый костюм. Следовательно, Гюнтер уже успел позаботиться о нем.
Карл поднялся с кровати. Двери справа вели в ванну, открыл душ и долго стоял, с наслаждением ощущая, как холодная вода бодрит тело. Не услыхал, как в комнату вошел Гюнтер — увидел его уже в дверях ванной. Кивнул, будто ничего не случилось. Но Гюнтер смотрел взволнованно.
— Ты смотришь на меня как на чудо… — произнес Карл.
— Впервые вижу человека, который уже умер и живет. Ну и как на том свете?
— Не очень приятно…
— А я думал, — заметил Гюнтер, — тебя определили в рай! И пребывать бы тебе там вечно, если б не господин Герхард Каммхубель.
— Кто–кто?
— Господин Каммхубель, учитель местной гимназии.
— Он показался мне симпатичным.
— Не то слово, — поднял палец вверх Гюнтер, — он средоточие всяческих добродетелей!
Каммхубель ждал их за столом, застеленным белой скатертью. Смущаясь, Карл стал извиняться и благодарить, но Каммхубель улыбнулся так добро и благожелательно, что у парня отлегло от души.
— Аннет, — громко позвал хозяин. — Неси кофе, пока не остыл!
И снова Карл стал извиняться, что нарушил уклад жизни хозяина, но, увидев Аннет, замолчал, удивленный. Ждал появления жены учителя, а кофе принесла молоденькая девушка лет девятнадцати. Было в ней что–то такое, что сразу привлекает внимание, может, манера высоко держать голову — это свидетельствовало о решительности характера, о независимости. Любители легкого флирта стараются обходить таких, считая гордячками и недотрогами.
Аннет улыбнулась Карлу и, поставив кофейник, подала ему руку; посмотрела просто в глаза, без тени манерности, игривости, немного вопросительно, мол, что это еще за личность и чего стоит?
— Моя племянница, — представил Каммхубель девушку торжественно, и Карл понял, что старик любит Аннет и гордится ею.
Сели за стол. Несколько раз Карл перехватывал любопытные взгляды племянницы и немного смущался, зато Гюнтер чувствовал себя свободно, шутил, громко разговаривал: у него был хорошо поставленный голос, и он подчеркнуто демонстрировал это, как бы хотел привлечь внимание девушки.
Каммхубель ел быстро, искоса поглядывая на Карла. Тот понял это по–своему и снова стал извиняться, но учитель остановил его, спросив:
— Зачем тебе, мой милый?
— Так… Просто интересно… Я спросил про деньги лишь для того, чтобы знать, от чего я отказываюсь.
Он думал., что мать смутится, по крайней мере начнет его уговаривать или постарается уйти от этого разговора, но он плохо знал свою мать, он, журналист Карл Хаген, который, как и все молодые журналисты, считал себя человековедом.
Мать не отвела взгляд, но спросила тихо и мягко!
— А почему ты уверен, что есть от чего отказываться?
Такого поворота Карл не ожидал. Пожал плечами, ответил растерянно:
— Ну… Я считал, что у нас есть какие–то деньги… И отец намекал… — Вдруг осекся: он все же произнес это слово «отец», хотя только что отрекся от него. Но мать, к счастью, не заметила этого. Поправила скатерть и произнесла:
— Возможно, у меня и есть какие–то деньги, и я буду поддерживать тебя. Но ты сможешь рассчитывать на капитал только после моей смерти.
Беата давно приняла такое решение. Вернее, оно не было окончательным: убедившись в деловых способностях сына, она отдала бы ему капитал, ну, не весь, хотя бы часть, но не сейчас… Растранжирит деньги и сам потом пожалеет. Она, конечно, не бросит Карла на произвол судьбы, слава богу, на счету уже около трех миллионов долларов — им двоим хватит…
Внимательно посмотрела на сына — гордый и независимый. Эта мысль принесла удовлетворение, хотя, конечно, поведение Карла вызывало раздражение.
А Карл сидел, уставившись в пол, и не знал, что сказать. Он принял решение отречься от отцовских денег, поскольку от них на расстоянии пахло преступлением: каждый порядочный человек отказался бы от них, а Карл считал себя порядочным, более того, прогрессивным, иначе и быть не могло — он работал в либеральной бернской газете, вел театральные обозрения и, говорят, добился явных успехов на этом поприще: в театрах с ним считались, даже побаивались его острых рецензий. Но Карл сам себе не признался, что подтолкнуло его к сегодняшнему разговору с матерью. Вернее, он знал что — перспектива получить двадцать миллионов марок. Именно эта цифра была написана на клочке бумаги, вложенном в отцовское письмо, которое Карл получил однажды одновременно с сенсационным известием прессы об аресте Франца Ангела. В конверте также лежала записка: отец просил Карла сохранить этот клочок бумажки — и все.
Тогда Карл не придал значения этому письму. Равнодушно посмотрел: напечатанные на машинке три фамилии, пометки карандашом через весь листок.
«Наверно, деловая бумага», — подумал он. Немного удивился, почему отец прислал ее именно ему, ведь раньше никогда не посвящал сына в свои дела.
Карл спрятал письмо в стол и вспомнил о нем позже, когда процесс приближался к концу и стали известны некоторые подробности отцовской поездки в Австрию. Выяснилось, Франц Ангел нацелился на спрятанные в «Альпийской крепости» фюрера эсэсовские сокровища. И не без успеха. Журналисты пронюхали, что он со своими подручными нашел контейнер с секретными документами главного управления имперской безопасности, среди которых находились списки так называемых «троек».
Карл и раньше слыхал об этих «тройках». В конце сорок четвертого года эсэсовцы переправили часть награбленных ценностей в Швейцарию, положив значительные суммы на зашифрованные счета. Каждый член «тройки» знал две цифры из шести. И больше ничего! Списки «троек» в одном экземпляре хранились у шефа главного управления имперской безопасности обергруппенфюрера СС Эрнста Кальтенбруннера.
Одну из этих «троек» знал теперь бернский журналист Карл Хаген. Сомнений не было — отец успел изъять из контейнера документ и переслать его сыну.
Карл догадался об этом, сидя в редакции и читая очередной репортаж о процессе. Поняв, что имеет ключ к эсэсовским сокровищам, разволновался. Во–первых, мелькнула мысль: грязные деньги, необходимо немедленно сообщить об этом, отдать их. Но сразу остановил себя: зашифрованный счет… Банк — государство в государстве, он пошлет ко всем чертям того, кто не назовет все шесть цифр. Банк не интересует, кто положил деньги. Каждый из «тройки», обозначенной в списке, привлечет Карла к ответственности, только посмеется над ним: выдумка, бред, клевета!
Карл бросил работу и поспешил домой. С нетерпением вынул из конверта бумажку. Прочитал:
«Рудольф Зикс;
Людвиг Пфердменгес;
Иоахим Шлихтинг».
И наискосок (сейчас Карл понял) рукою Кальтенбруннера: «20 миллионов марок. Юлиус Бар и К°”.
Юлиус Бар и К°. Одна из самых солидных банковских контор в Цюрихе. И двадцать миллионов марок! Казалось, протяни руку и получишь…
Карл сидел, курил и, казалось, ни о чем не думал Призрак миллионов маячил перед ним, дразнил, убаюкивал, обещал неизведанные, какие–то совсем новые ощущения, хотелось сразу что–то предпринять и одновременно лень было подняться с кресла, блаженная истома наполнила его. Так бывает: радость ошеломляет, расслабляет, в такие минуты из человека можно вытянуть какое угодно обещание. Он посмеется над заклятым врагом и простит даже коварство.
Вдруг одна мысль поразила Карла. Она была такой элементарной, что Карл даже рассердился на себя. И действительно, стал уже строить розовые замки, протянул руку за миллионами, а вдруг первого же из списка — Рудольфа Зикса — уже нет в живых?
Карл поколебался немного и сжег список: эти фамилии все равно навечно врезались в память.
В тот вечер он заглянул в журналистский клуб. Сидел, сгорбившись, над столиком, тупо смотрел, как тают в стакане кубики льда. Эта мысль — Рудольф Зикс погиб или умер — сидела где–то в уголках мозга. Карл думал: это принесет ему облегчение, если Зикс и на самом деле умер, и так было трудно жить дальше, зная, что отец — палач, а тут еще перспектива эсэсовских миллионов… Разве можно назвать человека порядочным, если он протягивает за ними руку?
Карл был уверен: многие из тех, кто сидел за соседними столиками, пил коктейли, танцевал, только посмеялись бы над его сомнениями: человеку привалило счастье, а он колеблется! Но разве это не кража: прийти в банк, назвать шесть цифр и получить двадцать миллионов марок?
Возможно, все они сошлись бы на одном: человеку улыбнулось счастье. Да и он сам так настраивал себя: судьба, и только. Неисповедимы пути господни, каждому свое, и все равно через год или даже меньше деньги пропадут: с момента, когда их положили, уже пройдет двадцать лет, а ценности, что лежат на зашифрованном счету и за которыми на протяжении двадцати лет никто не явился, остаются собственностью банка.
Да и зачем позволять ожиревшему Юлиусу Бару с компанией присвоить еще двадцать миллионов?
С того вечера прошло уже немало времени — Франца Ангела под нажимом общественности казнили, мать успела приобрести на Женевском озере пансионат и с головой ушла в дела, а Карл все еще колебался. Теперь сомнения уже меньше мучили его: он не унаследовал от отца ничего, даже фамилии, а бумажка с «тройкой» могла попасть в руки кому–нибудь, да и вообще, если даже все из «тройки» живы и удастся их разыскать, захотят ли они назвать две свои цифры — ведь их, наверное, предупредили, что эти цифры являются тайной «третьего рейха».
Итак, дело с запиской представлялось сомнительным, однако, как ни странно, сама эта сомнительность привлекала Карла, как привлекают полные тревог и лишений дальние дороги.
Первая задача, которая встала перед Карлом, заключалась в том, чтобы разузнать, кто такие Рудольф Зикс, Людвиг Пфердменгес и Иоахим Шлихтинг. После разгрома «третьего рейха» прошло без малого двадцать лет, и фамилии даже известных в то время бонз нацистской партии уже начали стираться в памяти, на смену им пришли новые — моложе и энергичнее; уже фон Тадден возглавил неонацистское движение, а кто знал Таддена во времена фюрера? И кто знает теперь Рудольфа Зикса?
Разумеется, если бы Карл не сидел в Швейцарии, а посетил сборище бывших эсэсовцев где–нибудь в Дюссельдорфе или Гессене, там над ним только посмеялись бы.
Кто знает Рудольфа Зикса?
А кто не знает группенфюрера СС Рудольфа Зикса, бывшего командира корпуса СС, потом одного из руководящих деятелей главного управления имперской безопасности? Во времена «третьего рейха» каждый более или менее осведомленный человек, называя первые два десятка из эсэсовской верхушки, непременно вспомнил бы и Зикса.
Но Карл Хаген не посещал эсэсовские съезды и пошел по более трудному пути — перелистал папки старых газет и журналов, досконально изучил историю СС, познакомился со многими судебными процессами над нацистами в послевоенной Германии.
Зикса задержали в английской зоне оккупации. Его могли судить вместе с другими эсэсовскими генералами, но он заболел — в прессе промелькнуло сообщение, что врачи признали его психически больным. На этом след обрывался, Карлу удалось только установить, что младший брат Рудольфа — Ганс–Юрген Зикс живет в городе Загене, земля Верхний Рейн, и является владельцем довольно большой и перспективной фирмы готовой одежды.
На имя Иоахима Шлихтинга Карл наткнулся только раз: в связи с реорганизацией одного из гамбургских концернов сообщалось, что его директор Иоахим Шлихтинг подал в отставку, поскольку решил остаток дней своих провести в имении жены под Ганновером.
И ни одного упоминания о Людвиге Пфердменгесе…
Фактов было, собственно говоря, мало. Карл рассчитывал на большее, однако могло случиться, что он натолкнулся бы на извещение о смерти кого–нибудь из «тройки».
Карл позвонил Гюнтеру Велленбергу и назначил ему встречу в журналистском клубе.
Мысль о Гюнтере появилась еще раньше, Карл понимал, что может случиться всякое, и ему одному будет трудно: в таком рискованном деле поддержка или совет друга просто необходимы — кто знает, а вдруг придется разыскивать Людвига. Пфердменгеса даже в Южной Америке? Да и вдвоем веселее, тем более с Гюнтером — старым другом, человеком надежным и умным.
Гюнтера Велленберга хорошо знали в швейцарских театральных кругах, меньше — зрители, что Гюнтер объяснял косностью обывателей, нежеланием и неумением подняться к вершинам современного искусства.
Велленберг стал основателем и идейным руководителем нового экспериментального театра — театра, который не имел ни денег, ни помещения и давал представления в клубах и кафе. Труппа состояла преимущественно из молодых актеров, которые работали в солидных, со сложившимися традициями коллективах и собирались после спектаклей, чтобы огорошить посетителей ночных клубов необычным зрелищем.
Играли без декораций, театральных аксессуаров. Гримировались, стараясь подчеркнуть все уродливое, что есть в человеке, сами писали сцены и скетчи, иногда острые, иногда с нечеткой социальной окраской — копались в темных закоулках человеческой души, выворачивали, чернили ее, смеялись над любовью и верностью, считая себя чуть ли не революционерами, потому что зло бросали в лицо респектабельной публике, которая приходила на их ночные спектакли, все, что думали о ней, с определенной долей цинизма.
Карлу нравились поиски Велленберга, хотя он часто и не разделял взгляды друга, был умереннее. Иногда друзьям ссорились, но ненадолго. Через день–другой снова сходились, потому что тосковали друг без друга, каждый чем–то дополнял другого, даже споры и размолвки приносили обоим удовольствие…
…Гюнтер сидел на своем постоянном месте — справа от входа, пил кофе и просматривал журналы. Он всегда по вечерам пил много кофе. Карл удивлялся, как может человек выпить столько и потом спать, но Понтер лишь смеялся и объяснял, что все равно ведет ночной образ жизни, а до утра, когда он ложится, еще далеко, да и вообще кофе не мешает ему крепко спать.
Карл подсел к Гюнтеру, и тот отложил журналы, посмотрев вопросительно.
— Что случилось? Мне показалось, что ты был взволнован, когда звонил. Да и сейчас не в своей тарелке.
Так всегда: Гюнтер был неплохим психологом и умел заглядывать другу в душу. Иногда это раздражало Карла, он давал отпор Гюнтеру, даже иронизировал над его попытками сразу понять и оценить человека, но не мог не отдать другу должного — Гюнтер все же знал людей, замечал их уязвимые места и умел ловко играть на человеческих слабостях. Но даже менторский тон Гюнтера на этот раз не обидел Карла. Потому что знал: сейчас он ошеломит Гюнтера, будет играть с ним как захочет, и так будет по крайней мере в ближайшем будущем.
Сознание того, что он может облагодетельствовать друга, как–то поднимало Карла в собственных глазах, и он не отказал себе в удовольствии хоть немного поинтриговать Гюнтера.
— Ты прав, — ответил, — я действительно, кажется, не в своей тарелке. Однако с наслаждением посмотрю, как вытянется твоя самодовольная рожа, когда услышишь, что скажу. Я, правда, еще не решил, стоит ли открывать эту тайну, но если ты будешь хорошо себя вести…
Гюнтер смотрел недоверчиво, но то ли блеск глаз Карла, то ли его убежденность и взволнованность подтверждали, что говорит правду, и Гюнтер, отставив чашку с кофе, наклонился к Карлу.
— Ну?.. — спросил кратко. Карл не спеша закурил сигарету.
— Хотел бы ты иметь миллион?
Гюнтер засмеялся.
— Кельнер, кофе! — помахал рукой. — Миллион чего: долларов или фунтов стерлингов? Или ты хочешь подарить мне миллион швейцарских франков? Я не гордый и возьму любой валютой, даже в динарах или рупиях!
— Миллион западногерманских марок, — оборвал его Карл.
— Могу и в марках, — продолжал иронизировать Велленберг. — Прекрасная валюта, которую можно обменять в любом банке. Мечта моей жизни — миллион, я кланяюсь вам, о Ротшильд, за щедрый подарок!
— Подарка не будет, — быстро возразил Карл. — Деньги придется зарабатывать.
— Ха! — воскликнул Гюнтер зло. — Я могу работать всю жизнь и не заработаю миллиона. Если фортуна не захочет немножко побаловать меня…
— Может быть, она тебя уже балует, — засмеялся Карл. — Не могу ничего гарантировать, но послушай… — И стал рассказывать о существовании «тройки», скрыв, откуда он узнал о ней.
От иронии Гюнтера не осталось и следа.
— Ого! — вытаращил глаза. — И сколько лежит на твоем зашифрованном счету?
Карл знал, что Гюнтер спросит об этом. Он заранее продумал все возможные повороты разговора и решил не открываться до конца.
— Тебя устраивает миллион? — сказал так, чтобы положить конец нежелательным вопросам.
— Конечно… — Гюнтер понял, что его отодвигают на задний план, но не обиделся. Подумал: на месте Карла он поступил бы так же, возможно, не дал бы и миллиона, игра стоила свечи за сто, и за пятьдесят тысяч, даже меньше. Велленберг жадно глотнул горячий кофе, который принес кельнер. — А откуда?..
Карл нашел в себе силы, чтобы сказать спокойно и на первый взгляд безразлично:
— Данные, которые у меня есть, достоверны. Их переслал в письме мой отец. Ты, наверно, слыхал это имя — его звали Франц Ангел.
Слова слетели с его уст, и ничего не случилось: Гюнтер продолжал отхлебывать кофе, и в его глазах не было ни любопытства, ни удивления, он обладал выдержкой, этот Гюнтер Велленберг, или просто сумел сыграть, ведь на самом деле был талантливым драматическим актером. Но о чем бы ни думал Гюнтер, Карлу импонировала его выдержка — удивление, особенно сочувствие, были бы сейчас некстати.
Помолчав несколько секунд, продолжил, наигранно улыбаясь:
— Ты понимаешь, я не могу гордиться таким предком, но что поделаешь…
— Брось! — прервал его Гюнтер. — Давай лучше не говорить об этом. Что было, то было, меня не интересует источник твоей информации. Был бы твой отец хоть самим сатаною, это не повлияло бы на мое отношение к тебе!
Гюнтер протянул Карлу руку, тому показалось — несколько театрально, но все же от всего сердца пожал руку другу, словно присягал на верность. Спросил бы сейчас Гюнтер имена «тройки» — назвал бы, не задумываясь, но Гюнтер не спросил, хотя вопрос и вертелся у него на языке.
— Итак, мы договорились, — сказал Карл. — Я назову двоих из «тройки». Не потому, что не доверяю тебе, просто если ты будешь знать всех троих, тайна перестанет быть тайной. — Это прозвучало немного неубедительно, но Карл не мог придумать более подходящего аргумента. Он действительно доверял Гюнтеру, но какое–то подсознательное чувство подсказывало: не следует открываться до конца! Чтобы перевести разговор на другое, добавил деловым тоном: — Конечно, ты должен понимать, что нет никаких гарантий и вся наша… э–э… миссия может оказаться напрасной…
— Я не требую, чтобы ты дал мне расписку на миллион, — хрипло засмеялся Гюнтер. — Однако имей в виду: мои финансовые возможности…
Но Карл и без этого знал, что у Велленберга никогда не бывает денег.
— Затраты я беру на себя, — остановил его. — Может быть, все будет в порядке, и мы быстро… Однако на всякий случай у меня есть несколько тысяч франков.
— О–о! — удовлетворенно воскликнул Гюнтер.
Карл перегнулся к нему через столик, зашептал:
— Первым в списке стоит Рудольф Зикс. Бывший группенфюрер СС. Известно только, что его брат живет сейчас в Загене. Это недалеко от Кёльна. Мой «фольксваген» на ходу, если не возражаешь, послезавтра можно тронуться.
***
Ганс–Юрген Зикс ходил по кабинету, размахивая сигарой. Такая уж у него была привычка — обдумывая что–нибудь важное, мерить кабинет наискось неторопливыми шагами и вдыхать ароматный сигарный дым: все знали, если в кабинете господина Зикса накурено, хозяин принимает важное решение.
Визит швейцарского журналиста насторожил Зикса. К местным газетчикам уже давно привык. Им охотно давал интервью и вообще поддерживал контакты с газетами, рассчитывая, что упоминание в прессе его имени будет способствовать популяризации фирмы готовой одежды Ганса–Юргена Зикса, а без рекламы во второй половине двадцатого века тяжело продать и стакан газированной воды.
Господин Зикс ничем не выказал своей заинтересованности: продержал швейцарского журналиста с полчаса в приемной и встретил сухо, всем видом подчеркивая, что он человек деловой и не тратит время на пустословие. Но уже первые вопросы юноши, который назвался Карлом Хагеном, обеспокоили владельца фирмы и даже взволновали его — господину Гансу–Юргену Зиксу пришлось сделать усилие, чтобы отвечать ровно, доброжелательно и под конец улыбнуться и пожать журналисту руку.
Сейчас Зикс вспоминал все детали разговора — он на самом деле был важным и мог иметь совсем неожиданные последствия.
Журналиста интересовала совсем не фирма, не ее продукция и связи, он расспрашивал о старшем брате Ганса–Юргена — бывшем группенфюрере СС Рудольфе Зиксе. Конечно, наглеца можно было сразу выставить из кабинета, господин Зикс и хотел так сделать, но осторожность, как всегда, взяла верх (ну чего бы добился, выбросив журналиста?), и он вступил в игру, предложенную господином Хагеном: отвечал недомолвками на недомолвки, сам задавал неожиданные вопросы, старался вызвать журналиста на откровенность. Дело в том, что они с Рудольфом ждали из Южной Америки людей от обергруппенфюрера СС Либана, и появление швейцарского журналиста (возможно, и не журналиста) казалось очень и очень подозрительным.
Сейчас хозяин кабинета обновлял в памяти подробнейшие детали разговора.
Тот пройдоха с корреспондентским удостоверением знал, что Рудольф Зикс живет недалеко от города в имении и, как человек душевнобольной, не имеет никаких контактов с внешним миром. Собственно, такие сведения он мог получить даже у портье отеля, где остановился — ни для кого не секрет, когда–то в этом небольшом городе судьбу группенфюрера СС обсуждали на всех перекрестках, но со временем забыли: даже левые журналисты, которые в свое время пытались опровергнуть заключение врачей, давно уже угомонились (прошло ведь столько лет!), — и вдруг этот визитер из Швейцарии накануне прибытия людей Либана…
Непрошеный гость пытался убедить его, что начал писать книгу то ли по истории национал–социализма в Германии, то ли о бывших деятелях СС и что в связи с этим ему крайне необходимо увидеть господина Рудольфа Зикса, одного из высокопоставленных эсэсовских генералов, которые живут и поныне.
Другой на месте Ганса–Юргена Зикса поверил бы корреспонденту, однако у него был большой жизненный опыт, и он знал: настоящий проныра всегда обеспечит себе тыл и придумает такую версию, что и комар носа не подточит.
«Однако ж, — вполне резонно заметил Ганс–Юрген, — знает ли господин журналист, что Рудольф Зикс — человек больной, и контакты с ним разрешены только врачам да обслуживающему персоналу?»
Журналист ответил, что он в курсе дела, более того, знает, что группенфюрер иногда вспоминает много интересного, и, в конце концов, можно обратиться к врачебной помощи.
«Нет, — решительно встал Ганс–Юрген Зикс. — Я не могу дать разрешения на разговор с братом, ибо всякие воспоминания отрицательно влияют на его и без того расстроенную психику».
Гость откланялся. Он держался почтительно, но это еще больше насторожило господина Зикса.
Ганс–Юрген стал размышлять, что он потеряет, если пресса пронюхает о контактах их фирмы с людьми Либана?
Во–первых, они разнесут это по всему свету, что может повредить деловой репутации фирмы «Ганс–Юрген Зикс и К°”. Во–вторых, Рудольф и эти южноамериканцы будут обсуждать проблемы возвращения в Федеративную Республику Германии некоторых эмигрантов и их детей, что в конечном итоге способствовало бы активизации деятельности существующих и созданию новых реваншистских организаций. В–третьих, этот пункт, очевидно, следовало бы передвинуть на передний план, согласно предварительной договоренности именно через фирму «Ганс–Юрген Зикс и К°” в Западную Германию будут переправляться капиталы для финансирования этих организаций — эсэсовцы успели положить значительные суммы на счета южноамериканских банков.
Одни только проценты от этих операций разожгли аппетит хозяина фирмы, а он знал, что не ограничится одними процентами.
Итак, любая гласность могла привести к непоправимым моральным — Ганс–Юрген лицемерил даже в мыслях, ставя это на первое место, — и материальным потерям. Ведь и реваншистские организации, и новая партия фон Таддена, которую они поддерживали, — основа «четвертого рейха». А «четвертый рейх» необходимо будет одеть в мундиры, и Ганс–Юрген Зикс абсолютно не сомневался, что право на это получит фирма, которая способствовала утверждению этого рейха. Здесь уже пахло такими суммами, что и проценты с южноамериканских капиталов, и сверхпроценты казались мелкой разменной монетой!
Зикс позвонил секретарше и распорядился позвать Роршейдта.
Лишь переступив порог кабинета, Генрих Роршейдт понял, что его ждет какое–то важное поручение: резклй запах сигары ударил в нос, и Генрих с удовольствием втянул воздух — так замирает на мгновение гончая, почуяв запах дичи.
— В наш город приехал швейцарский журналист Карл Хаген… — начал Зикс.
— Это тип, который только что морочил вам голову? — перебил Роршейдт: он выполнял самые деликатные поручения хозяина и позволял себе некоторую фамильярность.
— Да. — Зикс внимательно смотрел на подручного, хотя созерцание его внешности никому не могло принести удовольствия: деформированный от многочисленных драк нос, толстые губы и пронзительно хитрые глаза под приплюснутым лбом. У Роршейдта была сила первобытного человека, звериная выдержка, он был неприхотливым, но самое главное — служил всю войну верно брату, сейчас ему, Гансу–Юргену Зиксу. — Эго–го журналиста… — Зикс выдержал паузу. Не потому, что ему тяжело было произнести следующие слова или вдруг совесть заговорила в нем, просто, давая такое распоряжение, невольно становишься соучастником, а всегда неприятно знать, что тебя может ждать вечная каторга.
К счастью, Генрих помог ему.
— Убрать? — спросил, словно речь шла о чем–то совсем обычном.
— Только тихо… — поморщился Зикс. — Не нужно шума!
— Попробуем сегодня вечером.
— Он остановился в отеле «Кинг». Генрих переступил с ноги на ногу.
— Все?
Зикс махнул рукой.
Хорошо, что Генриху ничего не нужно объяснять: сказал и забыл — как и раньше, ощущаешь себя порядочным человеком, который только в силу определенных обстоятельств немного согрешил…
***
Гюнтер предпочел ресторан с музыкальным автоматом, а у Карла заболела голова от оглушительной музыки, и он решил погулять по городу. Еще днем заметил: сразу за центральной городской площадью с неизменной ратушей начинался парк — сквозь зелень поблескивала вода, там был пруд или даже озеро.
Вначале парк напоминал все парки мира: газоны и клумбы, скамейки. Карл прошел мимо двух или трех пар влюбленных на скамейках — все, как и полагается в таких местах, но незаметно аллея превратилась в тропинку, которая извивалась между густых кустов, запахло свежестью, и слева за редкими деревьями открылось озеро.
Карлу захотелось посидеть на берегу. Солнце заходило, и на воде пролегла кровавая дорожка. Карл шел прямо к ней. Не мог оторвать взгляда от блестящей дрожащей полоски, казалось, сейчас и само солнце коснется воды, нырнет и погаснет. Перепрыгнул канаву и остановился недалеко от берега, оперся о ствол толстой вербы. Да, сегодняшний день, первый их день в Загене, складывался неудачно, хотя все могло быть и гораздо хуже. Швейцар, который принес их вещи в номер, на вопрос, знает ли он Зикса, лишь усмехнулся: «Здесь каждый второй работает на господина Зикса».
Но когда Гюнтер стал осторожно разузнавать, что он знает о бывшем группенфюрере СС, Швейцар ничего не рассказал.
Неподалеку от отеля они увидели бензоколонку и решили заправиться.
Заправившись, поехали в имение Зиксов и убедились, что попасть туда невозможно (настоящая тюремная стена с колючей проволокой и битым стеклом). Гюнтер заметил, что группенфюрер живет в обычных условиях — именно так отгораживались когда–то таинственные эсэсовские объекты.
Потом — посещение швейцарским журналистом господина Ганса–Юргена Зикса, и круг замкнулся.
Солнце уже село, и красная дорожка растворилась в воде, а Карл все стоял и думал, как им попасть за ограду. И ничего не мог придумать. Уже собрался возвращаться, но из–за кустов вышли двое и преградили ему дорогу.
Один спросил Карла:
— Это вы поставили машину у парковых ворот? Мы не можем заехать…
— Нет, я без машины…
— Не ври! — грозно произнес другой. — Я сам видел, как ты подъезжал.
— Однако вы ошибаетесь…
Первый, вдруг шагнув вперед, ударил Карла в подбородок.
— Вы что! — возмущенно крикнул юноша, поднял руки, чтобы защититься, но неизвестный нанес второй удар в солнечное сплетение. Карл задохнулся, но все же сам ударил мужчину коленом в пах. Тот только ойкнул и упал. Карл попробовал проскользнуть мимо него, но перед ним вырос другой — высокий, с длинными обезьяньими руками.
— Что вам нужно? — закричал Карл пронзительно. — Спасите!
— Молчи, падлюка!.. — зашипел высокий.
Карл попятился от него, но натолкнулся на второго. Тот схватил его сзади за руки, и в это мгновение высокий подскочил к нему: резкая боль пронзила Карла, он хотел вздохнуть и не мог, осел на землю, прикрыв руками лицо, и потерял сознание.
— Здорово ты его! — бросил Роршейдт высокому. — Сейчас нужно этого прощелыгу…
Вдруг где–то совсем близко заревела автомобильная сирена.
— Петер, сюда! — заорал кто–то в кустах. — Кто–то зовет на помощь!
Роршейдт зло выругался. Нагнулся и подхватил Карла под руки.
— Ну ты что?.. — взглянул на высокого. Тот понял и взял Карла за ноги. Пригнувшись, они побежали к берегу, зашли по пояс в воду и бросили тело в камыш.
— Если ты его не добил, — прошептал Роршейдт, — все равно ему конец!
…Каммхубель поставил свой «опель» у берега и забросил удочки. Сидел, глядя на неподвижные поплавки, рыба не клевала, но, честно говоря, он и не надеялся на улов, просто любил сидеть над озером перед заходом солнца, выкурить сигарету, смотреть на спокойную воду и ни о чем не думать. Точнее, мысли в такие минуты были ленивые и спокойные, какие–то затяжные — вода успокаивала, и все вокруг казалось таким прекрасным — лучше не могло быть на свете. Ну что можно сравнить с золотисто–красной дорожкой на воде и мягким шелестом камыша?
Кто–то пробирался в кустах, и Каммхубель недовольно поморщился: бывает, какой–нибудь незнакомец остановится за плечами, чуть ли не дышит в спину, уставится на поплавки да еще пытается завязать разговор и не знает, что ты залез в камыши именно для того, чтобы отдохнуть и от людей, и от разговоров. Единственная надежда, что никто не увидит его с берега. Каммхубель уже давно облюбовал это местечко за густой лозой, ветки которой переплетались с камышом.
Шаги затихли.
Каммхубель осторожно выглянул из своего убежища — какой–то молодой человек оперся спиной о дерево и любуется природой.
Каммхубель посидел еще немного, уставившись в поплавки, но было такое чувство, что кто–то сверлил взглядом спину. Не выдержав, он пошел к машине выпить пива и, когда подходил к своему «опелю», услышал шум, раздвинул кусты и увидел, как двое громил набросились на юношу. Первым движением было желание прийти на помощь, но в следующее мгновение Каммхубель сообразил, что это ничего не даст — поломают ребра и ему. Он бросился к машине и засигналил так, словно у «опеля» отказали тормоза и он несется по автостраде, выпрашивая дорогу.
Посигналив, Каммхубель вытащил из багажника заводную ручку и закричал:
— Петер, сюда!.. Кто–то зовет на помощь!
Выбежал на полянку, но под вербой уже никого не было. Каммхубель вытянул шею и увидел, как громилы тащили тело к озеру. Они бросили его в воду и быстро исчезли.
Не выпуская из рук железную ручку, Герхардт Каммхубель побежал к берегу. Зашел в озеро по грудь, пощупал вокруг руками, но ничего не нашел. Подвинулся дальше и натолкнулся на тело.
Каммхубель подхватил юношу и вытащил на берег. Он никогда не откачивал утопленников, но где–то читал или слышал об этом. Подержал тело вниз головой, изо рта хлынула вода, потом стал делать искусственное дыхание. Но юноша не подавал никаких признаков жизни, и Герхардт подумал, что его прикончили до того, как бросили в воду. И все же настойчиво поднимал и опускал руки, всматриваясь в посиневшее лицо.
Каммхубель привез Карла к себе домой. У него был небольшой двухэтажный дом из четырех комнат и кухни, построенный еще отцом, учителем гимназии Куртом Каммхубелем. Герхард Каммхубель тоже был учителем гимназии, но в отличие от отца доживал свой век один — жена умерла в концлагере, да и он сам чудом остался жив, пройдя все круги ада в Заксенхаузене.
Карл возвращался к жизни с такими муками, что хотелось закрыть глаза и снова впасть в небытие. Каммхубель дал ему выпить какого–то отвара и положил в кровать, пообещав перед этим позвонить в отель Гюнтеру, чтобы тот не волновался и не беспокоил местную полицию. Отвар был горький, и Карлу показалось, что его еще раз вырвет, но через несколько минут почувствовал облегчение и уснул.
Разбудили его воробьи, которые отчего–то расчирикались под открытым окном. Карл сел на кровати. Почувствовал себя лучше, хотя челюсть еще болела, а меж ребер проступали синяки. Ощупал ребра — кажется, целы.
Но кто же напал на него и с какой целью?
Карл не дал тем, на берегу, никакого повода для нападения, он не ссорился с ними, был вежливым. Иногда люди становятся драчливыми под действием алкоголя, но Карл мог головой поручиться: те двое были. трезвыми.
По всей вероятности, они следили за ним, с ним хотели покончить. И произошло это после его посещения господина Ганса–Юргена Зикса. Напрашивался еще один вывод: владелец фирмы не хотел, чтобы швейцарский журналист встретился с бывшим группенфюрером СС Рудольфом Зиксом. Не хотел — не то слово. Если пошел на уголовное преступление, были серьезные основания не допустить встречи Карла с группенфюрером.
А может быть, он все–таки ошибается и на него напали обыкновенные хулиганы?
Только сейчас Карл заметил на стуле рядом с кроватью сорочку и светлый костюм. Следовательно, Гюнтер уже успел позаботиться о нем.
Карл поднялся с кровати. Двери справа вели в ванну, открыл душ и долго стоял, с наслаждением ощущая, как холодная вода бодрит тело. Не услыхал, как в комнату вошел Гюнтер — увидел его уже в дверях ванной. Кивнул, будто ничего не случилось. Но Гюнтер смотрел взволнованно.
— Ты смотришь на меня как на чудо… — произнес Карл.
— Впервые вижу человека, который уже умер и живет. Ну и как на том свете?
— Не очень приятно…
— А я думал, — заметил Гюнтер, — тебя определили в рай! И пребывать бы тебе там вечно, если б не господин Герхард Каммхубель.
— Кто–кто?
— Господин Каммхубель, учитель местной гимназии.
— Он показался мне симпатичным.
— Не то слово, — поднял палец вверх Гюнтер, — он средоточие всяческих добродетелей!
Каммхубель ждал их за столом, застеленным белой скатертью. Смущаясь, Карл стал извиняться и благодарить, но Каммхубель улыбнулся так добро и благожелательно, что у парня отлегло от души.
— Аннет, — громко позвал хозяин. — Неси кофе, пока не остыл!
И снова Карл стал извиняться, что нарушил уклад жизни хозяина, но, увидев Аннет, замолчал, удивленный. Ждал появления жены учителя, а кофе принесла молоденькая девушка лет девятнадцати. Было в ней что–то такое, что сразу привлекает внимание, может, манера высоко держать голову — это свидетельствовало о решительности характера, о независимости. Любители легкого флирта стараются обходить таких, считая гордячками и недотрогами.
Аннет улыбнулась Карлу и, поставив кофейник, подала ему руку; посмотрела просто в глаза, без тени манерности, игривости, немного вопросительно, мол, что это еще за личность и чего стоит?
— Моя племянница, — представил Каммхубель девушку торжественно, и Карл понял, что старик любит Аннет и гордится ею.
Сели за стол. Несколько раз Карл перехватывал любопытные взгляды племянницы и немного смущался, зато Гюнтер чувствовал себя свободно, шутил, громко разговаривал: у него был хорошо поставленный голос, и он подчеркнуто демонстрировал это, как бы хотел привлечь внимание девушки.
Каммхубель ел быстро, искоса поглядывая на Карла. Тот понял это по–своему и снова стал извиняться, но учитель остановил его, спросив:
 — Вы знаете, кто на вас напал? Наверно, нет! Мне известно, что вы только вчера приехали в Заген и уже стали костью в горле господина Зикса.
— Почему вы так думаете? — удивился Карл.
— Потому что я знаю одного из двух, пытавшихся вас убить. Генрих Роршейдт, известный здесь многим. Говорят, был телохранителем или денщиком у старшего брата господина Зикса.
Карл переглянулся с Гюнтером. Каммхубель заметил это, сказал рассудительно:
— Я не знаю, что привело вас в наш небольшой городок и не стану расспрашивать, но сразу должен предупредить: в этом доме придерживаются вполне определенных взглядов. Мы не сочувствуем нацистам — наоборот, если вы… Моим человеческим долгом было помочь вам, а сейчас…
Это прозвучало несколько высокопарно, как–то старомодно, но Карл подумал, что Каммхубель имеет право так говорить, в конце концов, человеку не запрещено иметь те или иные взгляды. Они с Гюнтером тоже не сочувствуют нацистам, хотя знал бы этот немного допотопный учитель, кем был отец Карла, вероятно, не вытащил бы его из воды.
Карлу захотелось выйти из комнаты. Боялся взглянуть на Каммхубеля.
Ответил Гюнтер.
— Мы, господин учитель, — в его голосе прозвучали даже какие–то интимные нотки, — разделяем ваши взгляды, да и вообще, кто в наше разумное время может сочувствовать фашизму? Разве что подонки!
— Каждый фашист подонок… — проворчал Каммхубель.
— Вполне справедливо! И вчера мы имели возможность убедиться в этом еще раз.
— Да, этот Роршейдт очень опасен. Вам не следует оставаться в Загене.
Карл уже овладел собой и вмешался в разговор:
— Но у нас тут дело. Не стоило бы ехать из Швейцарии, чтобы сразу удрать.
— Конечно, — согласился Гюнтер, — мы, что бы ни случилось, доведем дело до конца!
Карл подумал, как были бы поражены хозяева дома, если бы он сейчас откровенно рассказал о цели их путешествия. Вероятно, учитель осудил бы их, а Аннет?
Искоса посмотрел на девушку — она улыбалась Гюнтеру, и на ее щеке появилась такая привлекательная и славная ямочка, что Карлу захотелось дотронуться до нее. Правда, видел он и не таких красавиц, у одной–ямочка, у другой — черные брови, у третьей…
Сказал быстро:
— Вчера я имел честь посетить господина Ганса–Юргена Зикса и просил разрешения на встречу с его братом Рудольфом. Боюсь, что покушение на меня — результат этого посещения.
Он замолк так же неожиданно, как и начал, — за столом воцарилась тишина. Карл смотрел на учителя и видел, что тот уставился на него выжидающе…
И снова на помощь пришел Гюнтер:
— Мы собираем материал о военных преступниках, а господин Зикс входил в эсэсовскую элиту. И до нас дошли слухи, что он вовсе не сумасшедший.
— Когда–то об этом писали в газетах, — заметил Каммхубель, — но пресса так ничего и не доказала. Да и дело это давнее…
— Это не оправдывает преступления.
— Боже мой, — с горечью произнес учитель, — конечно, однако последнее время у нас здесь, в Западной Германии, нельзя вспоминать старое. Мол, было, да быльем поросло, и нет причины ворошить грязное белье.
— Вы загенский старожил, — вкрадчиво начал Гюнтер, — и не могли бы подсказать способ встретиться с Рудольфом Зиксом?
Учитель задумался. Потом сказал поморщившись:
— Надо попробовать. Но дело это нелегкое и, вы уже имели возможность убедиться в этом, опасное.
— Мы готовы на все! — воскликнул Гюнтер. «Конечно, если речь идет о миллионе, — подумал
Карл, — можно рискнуть. Тем более что к группенфюреру пойду я…»
Если бы не было другого выхода, он пошел бы все равно — сейчас не только ради денег, а из–за принципа. Сказал уверенно:
— А не стоит ли припугнуть Зикса? Я бы мог опознать Роршейдта, да и вы свидетель.
Учитель подумал и возразил:
— Извините, но это имело бы смысл, если бы вас убили. Прокуратура не смогла бы отвертеться от дела. А сейчас в полиции только посмеются над вами. В Загене все связано с фирмой Зикса и подвластно ей.
— Вот видите, что вы натворили, спасая меня! — засмеялся Карл.
— Придется искупать свою вину, — в тон ему ответил Каммхубель. — Сегодня я переговорю с одним человеком. Но вам, господин Хаген, пока что не стоит появляться в городе. Во–первых, это сразу насторожит Зикса и вам вряд ли удастся, даже с моей помощью, увидеться с группенфюрером. Кроме того, Роршейдт может повторить попытку убрать вас — тогда вам не поможет сам господь бог. Оставайтесь у нас. Мы с Ан–нет приглашаем, если вас устроит наша небольшая обитель.
Карл посмотрел на девушку. Ему захотелось остаться–чувствовал себя у Каммхубеля удобно и спокойно, но как отнесется Аннет к предложению дяди? Не заметил на ее лице неудовольствия или фальшивой учтивости, смотрела открыто и, Карлу показалось, выжидающе, но, может, действительно только показалось, потому что ему хотелось понравиться девушке, и перспектива провести в обществе Аннет хотя бы день представлялась заманчивой.
— А не обременю я вас? — начал с традиционного — в таких случаях сомнения, которое одновременно было замаскированной формой согласия.
— Будете развлекать меня, — полушутя–полусерьезно заметила Аннет, и впервые в ее голосе Карл уловил игривые нотки, а он уже знал, что это означает заинтересованность, дружелюбие, по крайней мере, не безразличие.
— О, мы не позволим фрейлейн скучать! — вмешался Гюнтер.
Это было сказано так, словно он имел уже некоторые права на Аннет и милостиво соглашался на присутствие Карла. Карлу это не понравилось, но он не мог не отдать должного находчивости товарища, который так ловко оговорил и свое пребывание в доме Каммхубеля.
— Я поэксплуатирую вас. — Девушка встала из–за стола. — Вам придется кое–что сделать в садике, мы с дядей немного запустили его, и ваши руки здесь пригодятся!
— Буду счастлив работать под вашим руководством! — Карл хотел, чтобы эти слова прозвучали шутливо, но произнес их серьезно, и девушке, очевидно, понравилась именно эта серьезность, поскольку она посмотрела одобрительно.
— Так или иначе, а поработать придется. И по–настоящему! — сказала весело.
Карл перепрыгивал через ступеньки, считая их. Задумал: если выйдет парное число — все обойдется. Вот и последняя ступенька — а–а, черт, неужели и сегодня его поджидает беда?
Остановился ориентируясь. Первые двери направо от лестницы — к кабинету Рудольфа Зикса…
А если группенфюрер не один?..
Карл на цыпочках перебежал к дверям, прислушался. Тихо. Постоял немного, колеблясь, — в последнюю секунду стало то ли страшно, то ли нерешительность овладела им: стоял, держался за ручку дверей и не мог открыть.
Три дня он ждал этого момента. Садовник, старый, знакомый Каммхубеля, вначале и слушать не хотел о! том, чтобы провести постороннего в усадьбу Зиксов, но не мог устоять перед искушением получить полторы тысячи марок. Он открыл Карлу калитку у теплиц, тот рядом со стеной за кустами пролез к дому и черным ходом поднялся на второй этаж к двери кабинета.
Карл представил, как Гюнтер курит сигарету за сигаретой, сидя в «фольксвагене» недалеко от калитки. Гюнтер не торчал бы перед дверью, да и чего ему бояться? Ну учинит группенфюрер скандал, ну выбросят его отсюда, но вряд ли пойдут на убийство, побоятся. Может, обвинят в попытке украсть что–нибудь, но он всегда оправдается в полиции.
И Карл потянул дверь на себя.
Кабинет, большой и светлый. В дальнем углу, за столом, сидел пожилой человек, он оторвался от бумаг и уставился на Карла то ли удивленно, то ли выжидающе, — трудно было разглядеть издалека.
Карл с Гюнтером обсудили несколько вариантов атаки на группенфюрера. Они сейчас знали, что Рудольф Зикс совсем не больной, что его спас от тюрьмы брат, что Ганс–Юрген вряд ли бы сделал это, если б не жена Рудольфа, у которой был контрольный пакет акций фирмы. Они узнали также, что группенфюрер большую часть времени проводит в кабинете, только изредка выходит в сад, что он живет так, будто ничего не случилось на земле в течение двух десятилетий, словно и сейчас существуют фюрер, и «третий рейх», и управление имперской безопасности. Однако Карл не ожидал такого: за столом сидел человек в эсэсовском мундире.
Все варианты встречи вылетели у парня из головы, но пауза затягивалась, и группенфюрер сделал движение, как бы хотел позвонить: это подтолкнуло Карла, он выступил вперед, поднял руку, как видел в фильмах, воскликнул:
— Хайль Гитлер!
Рудольфа Зикса словно подбросило в кресле. Вытянулся с поднятой рукой, застыл на секунду–две, хотя Карлу показалось, значительно больше.
— Группенфюрер, я осмелился побеспокоить вас, поскольку у меня есть поручение государственной важности… — Теперь Карл мог сказать то, что они придумали с Гюнтером: он приехал из Испании от Штайнбауэра — эта фамилия называлась во время процесса над отцом.
Группенфюрер не дал ему закончить. Обошел вокруг стола и положил руки на плечи Карлу, будто встретил если не близкого родственника, то хорошего знакомого.
— Я рад, очень рад. Расскажите мне, как там у вас?
Он повел Карла к дивану, над которым висел большой портрет Гитлера. Разговор приобретал нежелательный характер, Зикс принял его за другого, но за кого? А фюрер смотрел со стены злорадно, словно издевался. Казалось, вот–вот ткнет пальцем и прикажет: «Взять его!»
Сели на диван. Карл примостился на краешке, насилу выжимая из себя слова:
— Я счастлив, что наконец имею возможность увидеть одного из столпов… О вас так много говорили, и для нас, молодежи…
Наверно, слушать это Зиксу было приятно, ибо смотрел на Карла приветливо и потирал тыльной стороной ладони подбородок.
Но не удержался и оборвал:
— Вы давно видели обергруппенфюрера Либана? За все время я получил от него только одно известие и думал… Но вдруг узнаю, что от Мартина должен приехать доверенный человек. Правда, я ждал кого–нибудь из старой гвардии. — На миг в его глазах промелькнули то ли подозрения, то ли испуг., а может, это только показалось Карлу, так как Зикс продолжал дальше: — Однако Мартину виднее…
Теперь Карл знал, за кого принял его группенфюрер, и решил не возражать ему… О Либане он читал — газеты оповещали, что тот скрывается где–то в Парагвае. Следовательно, надо сыграть роль посланца Мартина Либана — в свое время доверенного лица самого фюрера…
— Доктор Либан, — начал, глядя в глаза группенфюреру, — чувствует себя неплохо, хотя возраст иногда дает себя знать. Да и климат… Парагвайские леса с их тропическими крайностями изнуряют не только людей пожилых, даже нам бывает трудно. Но что поделаешь, все мы живем надеждой вернуться на родину и считаем, что это время не за горами…
— Но чем вы, юноша, можете доказать, что на самом деле являетесь посланцем оттуда?
У Карла не было иного выхода, как идти напролом. Сказал уверенно, уставившись в группенфюрера:
— Условия строжайшей конспирации, в которых пребывает шеф, не позволили мне привезти с собой каких–либо бумаг и документов. Но, инструктируя меня, господин Либан приказал передать следующее: вы знаете две цифры, которые в свое время назвал вам покойный обергруппенфюрер СС и начальник главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Это является государственной тайной «третьего рейха», которая известна сейчас трем лицам — господину Либану, вам и мне. Это и есть мой пароль.
Зикс внимательно следил за Карлом. Немного подумал и согласился:
— Да, это лучшее доказательство, лучшее, чем какой–нибудь документ. Итак, юноша, что поручил вам Либан? Если ваш приезд связан с переселением наших соотечественников на родину, то должен сообщить…
У Карла отлегло от сердца. Он смотрел в глаза Зикса со склеротическими прожилками и думал — этот старый болван в эсэсовской, форме сидит целыми днями в кабинете, целыми неделями или месяцами молчит, сейчас он захочет выговориться — и тогда уже его трудно будет остановить.
Произнес учтиво, но твердо:
— Извините, группенфюрер, вы должны назвать мне эти две цифры. Так приказал господин Либан.
Зикс посмотрел на него, как Карлу показалось, презрительно.
— Я с удовольствием сделаю это, если вы назовете мне пароль.
У Карла дернулась губа. Кальтенбруннер оказался предусмотрительным и поставил еще одну препону на их пути.
Сказал резко, как надлежит человеку, у которого есть определенные полномочия:
— Пароль знал только обергруппенфюрер Кальтенбруннер, он мертв и, к сожалению, унес тайну в могилу. Но деньги не должны пропасть, их нужно использовать для обновления великой Германии, — Карл сам не заметил, как голос его вдруг приобрел патетическое звучание, — для создания «четвертого рейха»!
Глаза Зикса округлились, стали светлыми и пустыми, Карлу показалось, что группенфюрер сейчас или заплачет от избытка чувств, или, наоборот, взовьется в экстазе и закричит: «хайль». Но Зикс заморгал и, придя в себя, ответил:
— Вы правы, юноша, деньги не должны пропасть, все до последней марки надо использовать. Передайте Либану: тридцать семь — мои цифры. Запомнили! Тридцать семь! И пароль следующему из «тройки»: «Видели ли вы черный тюльпан?» Понятно?
Карл кивнул.
— Господин Либан будет благодарен вам, группенфюрер, за то, что вы сохранили одну из важнейших тайн «третьего рейха».
— Это моя обязанность! — в тон ему произнес Зикс. И продолжил дальше по–деловому: — Передайте Мартину: мы подготовили почву для переселения первой партии соотечественников. В ближайшее время сможем принять тысячу человек. Подготовлено жилье, есть возможность устроить их на работу. Деньги, как и договорились, через каналы нашей фирмы. Кстати, вы видели моего брата? — внезапно глаза его стали пронзительными, потемнели, и Карл понял, что группенфюрер заподозрил его. «А что, — подумал, — если сейчас выскочить из кабинета? Успею ли убежать, пока старый пень забьет тревогу?»
Но решительно отбросил эту мысль. Объяснил:
— Он привез меня сюда. Без его разрешения, вы же знаете, ни один посторонний не может увидеть вас. Господин Ганс–Юрген Зикс задержался, — неуверенно махнул на двери, — но это к лучшему, так как у нас разговор не для третьих ушей. — Карл понял шаткость своих аргументов, но чем еще он мог убедить группенфюрера? Сказал уверенно: — Позор Германии, лучшие сыны которой находятся в эмиграции! Но это будет продолжаться недолго, мы наведем здесь порядок! — Вдруг ему стало стыдно, он покраснел и умолк.
Группенфюрер понял это по–своему. Подскочил, стоял над Карлом, высокий, торжественный.
— Мы вольем свежую кровь в вены нации! — воскликнул надменно. — Кое–кто уже успел ожиреть и не думает о будущем. Мы возьмем власть в свои руки, вначале через фон Таддена, мы позволим ему немного поиграть во власть, но нам нужен человек закаленный и с опытом («Ого, — подумал Карл, — не себя ли имеет в виду?»), мы возродим отряды СС и вермахт, тогда увидим, чего стоит Германия! — Группенфюрер подошел к столу, выдвинул ящик. — Вот тут, юноша, — торжественно указал пальцем, — детальный план создания «четвертого рейха»!
Карл поднялся.
— Не смею вас больше задерживать, группенфюрер. Я должен проконсультироваться с вашим братом относительно некоторых финансовых вопросов и, надеюсь, вечером или завтра, когда вам удобнее, мы продолжим разговор.
— Да… да… — неуверенно согласился Зикс. — Мне хотелось бы услышать от вас… Но, в самом деле, лучше вечером… Я позвоню, вас проведут.
— Не беспокойтесь, я знаю дорогу, — Карл уже шел к дверям. Остановился, склонил голову. — Имею честь!
Выскочив в сад, встретился с каким–то человеком. Тот поднял на него удивленные глаза, но Карл глянул свысока и с невозмутимым видом проследовал мимо клумбы. Человек бросился в дом. Карл проскочил под деревьями к кустам и побежал. Открывая калитку, услышал сзади возбужденные голоса.
Гюнтер увидел его еще издали и завел мотор. Ничего не спросил, рванул машину так, что Карла отбросило к спинке сиденья. «Фольксваген» выскочил на асфальтированную дорогу и помчался, срезая повороты, к дому Каммхубеля.
— Все в порядке! — наконец нарушил молчание Карл. — Я вытянул из него цифры.
Гюнтеру хотелось спросить, какие же, но сдержался. Карл машинально смотрел на дорогу. Возбуждение постепенно угасало.
— Машину сразу поставим в гараж, — сказал он после паузы. Там подняли тревогу, и следует переждать день–два. Придется просить учителя…
Гюнтер удовлетворенно хмыкнул.
***
«Фольксваген» загнали в бокс, оставив «опель» Каммхубеля на асфальтированной площадке перед гаражом — летом учитель часто ставил машину здесь, и это не могло вызвать никаких подозрений. Затем сидели в гостиной, и Карл рассказывал, как все было.
Главное было обойти разговор о цифрах, а без этого Зикс выглядел дураком, но дураком, судя по всему, он не был, и Карл подумал, как удачно воспользовался он незначительной репликой группенфюрера о Либане — в результате у него сейчас есть сенсационный материал, за который ухватится любая газета: во–первых, бывший группенфюрер СС Рудольф Зикс совсем не сумасшедший; во–вторых, раскрыты его связи с эсэсовцами в Южной Америке.
Внезапно ему пришла в голову тревожная мысль, он придвинулся к Каммхубелю и сказал взволнованно:
— А если пресса устроит шум вокруг Зиксов, те могут докопаться, кто помог журналистам, и расправиться с вами.
Но учитель не склонен был разделять тревогу Карла. Сказал, что прошел концлагеря, а это такая школа жизни, после которой не страшны никакие Зиксы.
Карл слушал его, а краем глаза видел, что Гюнтер наклонился к Аннет и что–то шепчет ей — девушка улыбнулась и кивнула. Гюнтер сразу встал и, извинившись, протянул Аннет руку — так, держась за руки, они и поднялись на второй этаж. Деревянные ступеньки скрипели, Аннет смеялась. Карлу показалось, игриво и поощрительно. Карл не изменил даже позы, боясь показаться невнимательным, как и раньше, смотрел на учителя, но слушал не его, а старался услышать, что делается на втором этаже.
Там стукнула дверь — тишина…
Карл еле подавил в себе желание оборвать на полуслове разговор и побежать на второй этаж. Представил, как они там шепчутся и, может быть, Гюнтер уже притянул к себе Аннет. Удержался, чтобы не побежать за Аннет, сказать что–нибудь оскорбительное. Хотя знал — никогда не сделает этого, и вдруг почувствовал себя слабым и униженным: это чувство собственной беспомощности было таким сильным, что захотелось либо плакать, либо жаловаться, либо еще больше унизить себя. Какая–то пустота образовалась вокруг, сейчас не испугался бы ничего: так бывает с человеком в минуты наибольшего подъема чувств или, наоборот, упадка, когда мозг туманят отчаяние и слезы.
Карл пошевелился, учитель заметил перемену в нем — замолчал на полуслове, смотрел выжидательно. И тогда Карл не выдержал, хотел остановиться, но было уже поздно, слова вылетели из него, и, странная вещь, он жег себя словами, а становилось легче:
— Я обманул вас… Мы выдумали, что хотим написать о Зиксе в газете. Мы обманули вас и, извините, сейчас уедем, потому что не можем оставаться в этом доме, мне стыдно смотреть вам в глаза, и вообще все это нечестно. Зикс знает часть шифра, по которому в банке можно получить деньги, много денег, и мы приехали сюда, чтобы выведать у него цифры, — вот и все. И вы помогли это сделать, мы использовали вас, а вы спасли меня. Я не могу спокойно смотреть вам в глаза, ибо считал себя порядочным человеком, а тут… Каммхубель смотрел на Карла с интересом.
— Значит, деньги… — сказал, растягивая слова. — И я — то, старый воробей, попа–ался…
— Да, деньги, — подтвердил Карл с каким–то отчаянием. Думал, сейчас учитель взорвется, накричит на него, но Каммхубель спросил совсем по–деловому:
— И много денег?
И снова у Карла мелькнула мысль, что не следует этого говорить, но остановиться уже не мог:
— Двадцать миллионов марок.
Каммхубель на секунду закрыл глаза. Помолчал и сказал неодобрительно:
— Большая сумма. И зачем вам столько денег?
Карл растерялся. Ответить на это было очень легко, он бы нашел, куда бросить эти миллионы, но смотрел в прищуренные, ироничные глаза Каммхубеля, и все объяснения казались банальными, даже не банальными, а пустыми и глупыми, ведь раньше, когда перед ним не стоял призрак миллионов, он тоже, главным образом на словах, презирал деньги, смеялся над денежными тузами, осуждал их поступки, продиктованные жаждой обогащения, иронизировал над причудами, порожденными богатством.
Каммхубель, так и не дождавшись ответа Карла, не стал говорить банальности, не встал и не указал на дверь, он задумался на несколько секунд, и Карлу хватило этого, чтобы хоть немного оправдаться.
— Но ведь деньги можно потратить по–разному, — начал не очень уверенно, — и я думал…
— Эсэсовские деньги! — оборвал учитель довольно резко. — Значит, награбленные. Вы догадываетесь, откуда эсэсовцы брали ценности?
Карл подумал об отце и кивнул утвердительно. Не мог не понять, куда клонит учитель, и решил опередить его:
— Но вы ведь не знаете, что эти двадцать миллионов, если не взять их сейчас, останутся швейцарским банкирам.
Каммхубель пожал плечами.
— Я не знаю, что делать, и не хочу ничего подсказывать вам, но, — поморщился, — чем–то это пахнет…
— Конечно, — согласился Карл. — Фактически ми воры и воруем… Точнее, не воруем, а нашли и не отдали…
— Та же форма кражи, — безжалостно отрезал учитель.
Эта реплика не понравилась Карлу: одно дело, когда сам казнишь себя, другое, когда кто–нибудь тычет тебя носом в грязь, а Каммхубель почти прямо сказал, что он, Карл Хаген, вор.
Но учитель сам понял, что допустил бестактность, он был деликатным и испугался, что обидел своего гостя, который и так, видимо, переживает и нервничает В парне что–то есть — человек эгоистичный, коварный так сразу не обнажил бы все свое нутро. Учителю хотелось сказать: «Брось, оставь эти неправедные деньги и вымой руки!» Но подумал: «А будет ли это правильно? Ведь двадцать миллионов марок можно использовать на гуманные цели».
— Ну хорошо, а как бы вы поступили, получив, например, эти эсэсовские миллионы? — спросил Карл.
Каммхубель не задумался и на секунду.
— Отдал бы какой–нибудь стране, которая пострадала в годы войны. Польше, например. Постройте, господа поляки, больницу, это ваши деньги, и мы возвращаем только часть…
— Коммунистам? — не поверил Карл. — Для укрепления тоталитарного режима?
— Вы были там?
— Нет, но…
— Не нужно «но»… Я сам читаю наши газеты и помню, что там пишут. Я не коммунист, туристом съездил в Польшу. Советую и вам.
— Никогда!
— Все же хотите получить деньги?
— Я живу в Швейцарии и хорошо знаю местных банкиров. Для них двадцать миллионов — один глоток. Да я не отдам им и марки. А потом? Потом решим, — закончил неуверенно.
Не хотелось возражать учителю — тот подсказал единственный честный выход из положения, — но Карл все же не мог уяснить себе, как, получив миллионы, сможет отказаться от них; в конце концов, его не очень волновала проблема, кому отдавать, коммунистам или благотворителям: все его естество восставало против самой постановки вопроса — отдавать, если он может приобрести себе черт знает что; почему–то представил Аннет в длинном, приземистом, неимоверно роскошном «крейслере», а себя за рулем, и никто не может догнать их — посмотрел на потолок, наверху тихо, и эта тишина потрясла его, спутала все мысли.
— Извините… — сделал попытку подняться.
Но от Каммхубеля трудно было отделаться. Учитель спросил его, знает ли он сейчас весь шифр, а если нет — кого нужно брать за грудки, и Карл ответил откровенно:
— Честно говоря, не представляю, что делать. Нам надо разыскать какого–то Людвига Пфердменгеса, а я не знаю, кем он был, кто есть и где он вообще.
— Людвиг Пфердменгес… — пошевелил губами учитель. — Безусловно, он принадлежал к элите рейха. Личности незначительной вряд ли доверили бы такую тайну.
— Зикс командовал корпусом СС, а потом служил в управлении имперской безопасности, — ответил Карл. — Пфердменгес, должно быть, примерно такая же птица.
Каммхубель закрыл глаза, словно вылавливал что–то из закоулков памяти.
— Пфердменгес… Где–то я слышал эту фамилию… Погодите, есть у нас один энциклопедист….. — потянулся к телефону, что стоял на журнальном столике, повернул диск. — Клаус? У тебя еще совсем свежий полустарческий мозг. Не вспомнишь — Людвиг Пфердменгес?.. Какая–то фигура «третьего рейха»? Что ты говоришь: поддерживал связи с Ватиканом? И сейчас там? Действительно, я вспоминаю — о нем писали в газетах… Помнишь, когда критиковали «христианских атеистов». Живет в Ассизи, да, сейчас я вспомнил, он еще полемизировал с каким–то епископом… Это очень интересно, но мы поговорим в другой раз, сейчас спешу, я скоро загляну, извини… — Каммхубель положил трубку. Заметил незло: — Действительно, помнит почти все, но любит поговорить… Вы уже имели возможность понять, юноша: Людвиг Пфердменгес был одним из высокопоставленных представителей «третьего рейха» в Ватикане. А теперь живет в Ассизи. Слышали о Франциске Ассизском?
Карл не сводил глаз с Каммхубеля. А тот улыбался, словно читал мысли Карла, будто уловил в них что–то неизвестное. Так и вышел на веранду.
И снова Карл вспомнил Гюнтера и Аннет: сколько же они наедине? Наверное, целую вечность. Посмотрел на часы: неужели он столько проговорил с Каммхубелем? — на цыпочках стал подниматься по ступенькам.
Еще издали увидел: двери в комнату Аннет открыты. Итак, она у Гюнтера!
Постоял, пытаясь унять волнение, но, так и не уняв, направился к дверям мансарды. Не знал, для чего — ведь никогда не подслушивал, считая это подлостью, на которую не способен, но, может быть, обманывал себя, легко осуждать пороки других, а когда дело касается тебя самого…
Заглянул в комнату Аннет и остановился. Стоял и боялся пошевелиться — девушка сидела на подоконнике боком к нему и читала. Уперлась ногами в оконную раму, колени торчали почти вровень с подбородком. Аннет наморщила лоб и такой показалась красивой и обаятельной, что у парня перехватило дыхание. Шагнул вперед, кашлянул громко, уже не скрываясь. Аннет встала, спрятав книгу за спину.
— Где Гюнтер?
Показала глазами, не отвечая.
— Что случилось? — Он уже догадывался, но хотел услышать подтверждение. Карлу стало даже жалко Гюнтера. — Поссорились?
Аннет пожала плечами.
— Он такой назойливый… — осеклась, вспомнив, как Гюнтер пытался поцеловать ее. До этого он не был неприятным ей, даже пробуждал интерес, но почувствовала, что ответить на поцелуй не сможет.
Карл стоял перед Аннет, но смотрел не на нее — в окно. Последние слова смутили его: «Он такой назойливый…» А если бы не был назойливым?
Девушка засуетилась и подвинула к нему стул.
— Дядя заговорил тебя?
Она впервые сказала «тебя». Почему — Карл не знал, возможно, это было проявлением доверия или дружелюбия, а может, оговорилась.
Чтобы прийти в себя, Карл вынул сигарету, пошарил по карманам, отыскивая зажигалку.
Сел на стул. Девушка снова пристроилась на подоконнике.
— Сегодня ночью мы уезжаем, — сказал Карл.
Аннет посмотрела на него исподлобья.
— Как–то нехорошо получилось, извини… Но вы так громко разговаривали, что я все слышала.
— Ну и что же?
— Завидую вам. Интересно. И увидите Италию…
— Я там бывал не раз, — сказал Карл, и, наверно, начался бы разговор об итальянских достопримечательностях, если бы парню не пришла мысль предложить: — «Хочешь с нами?
Он спросил просто из вежливости, ни на что не надеясь, но Аннет ответила вполне уверенно:
— Очень хочу!
Карл не поверил:
— Ты не шутишь?
— Нисколько.
— Мне тоже очень хочется, чтобы ты поехала. — Это прозвучало как выражение симпатии, даже больше, возможно, Аннет поняла его, и ей не было неприятным признание Карла, ибо наклонилась к нему, сделала жест, будто хотела взлохматить прическу или дотронуться до щеки, но удержалась — улыбнулась и спросила:
— Значит, возьмешь?
— С радостью!
Она спросила о вполне конкретной вещи, но Карл видел в ее глазах другое. Отвечая «с радостью», тоже вложил в эти два слова иной смысл. Аннет поняла, запрокинула голову, подставила лицо солнцу и радостно засмеялась. И все вокруг стало тоже радостным: и солнечные зайчики, что трепетали на ее подбородке и отражались в глазах, и ее смех, светлый и звонкий, и кусочек безоблачного неба, которое, казалось, ворвалось в комнату и окрасило все вокруг голубизной, даже обычные домашние вещи сделало прозрачными и невесомыми.
Но Аннет умолкла, и небо отступило из комнаты. Словно пытаясь догнать его, Карл подошел к окну, сейчас он ощущал тепло, исходящее от девушки, оно дурманило его, но помнил слова о назойливости и все же не мог удержаться: дотронулся рукой до плеча Аннет слегка, готовый в ту же секунду отнять ладонь, но Аннет прижалась к его пальцам щекой, может, на один лишь миг и сразу же соскочила с подоконника.
Карл все еще стоял растерянный, а она уже засуетилась, собирая вещи.
— Нам придется заехать во Франкфурт. — И, увидев, что Карл не понимает, объяснила: — Документы… Несколько дней на оформление документов.
— Не страшно.
Карл согласился бы ждать и неделю и месяц, только бы не расставаться с Аннет. Черт возьми, неужели он так влюбился?
— А как посмотрит на это Гюнтер?
— Мы его сейчас спросим. Думаю, Гюнтер тоже будет рад.
Аннет посмотрела внимательно: что это — проявление благородства или детское простодушие? Но не стала спорить.
Карл выглянул в коридор, позвал:
— Гюнтер, ты еще жив?
Тот открыл дверь.
— Можно не мешать?.. — процедил сквозь зубы. Ему неприятно было видеть сияющее лицо Карла и рядом такую же радостную улыбку на устах Аннет. Почувствовал свое превосходство, каким утешался во время спектаклей, когда входил в роль, а он и на самом деле вошел в роль — размышлял о пьесе, и она все еще стояла перед глазами. И сказал то, что думал, — ему было безразлично, как воспримут это Карл и Аннет, говорил не им, а будто в переполненный зал, даже всему человечеству: — Я только что понял… Да, эта мысль засела мне в мозг и представляется при явной парадоксальности единственно правильной. Все говорят, пишут, доказывают: настоящий талант неотделим от гуманизма. Глупости! Талант должен быть злым! Да, всем нам не хватает порядочной порции злости, злости совершенно определенной — вместе с талантом она будет бить в цель, уничтожать подлость и разрушать власть имущих и, главное, вдохновлять тех, кто идет за талантом, кто сочувствует ему. Талантливый гуманист — вредный, он размягчает людей, убаюкивает, а злой и гневный — зовет на баррикады!
— Однако же, — возразила Аннет, — гуманность совсем не исключает злобы. Она укрепляет ненависть к врагам человека, к тем, кто унижает его.
А Карл не выдержал и спросил ехидно:
— Не хочешь ли ты сам стать злым пророком человечества?
Гюнтер не воспринял ни возражения девушки, ни иронии Карла
— Мы воспламеним человеческие сердца, и дай бог, чтобы пепел Клааса не развеялся ветром!
— Я всегда знал, что ты талант, — сказал Карл, — но не об этом сейчас разговор. Слушай внимательно, гений. Аннет едет с нами.
Гюнтер опустился с небес. Какая–то тень промелькнула на его лице, он переспросил:
— Фрейлейн Аннет? С нами?
— Сегодня ночью мы двинемся в Италию.
— Но почему в Италию? — не понял Гюнтер. Карл рассказал, как Каммхубель разузнал о Пфердменгесе.
Гюнтер слушал внимательно, кивал головой, но никак не мог скрыть неудовольствия — этот Карл Хаген оказался болтуном, еще двое узнали о цели их путешествия. Правда, Каммхубель — человек серьезный, от него вряд ли стоит ждать каверзы, а племянница… обыкновенная девчонка, симпатичная, не возразишь, но чем красивее женщина, тем она непостижимей — от такой можно ждать любых выкрутасов.
Гюнтер вымученно улыбнулся.
— Я рад вашей компании, фрейлейн Каммхубель.
Стекло в машине опустили, и ее продувало со всех сторон, но это не приносило желаемой прохлады. Особенно когда ехали по извилистым горным дорогам, где сорок километров в час уже считалось лихачеством. Склоны, покрытые низкорослым кустарником и травой, казалось, раскалены жарой, над ними дрожал прозрачный горячий воздух, от перегретого асфальта горько пахло смолой — не верилось, что совсем недавно шоссе обступали зеленые альпийские луга, а от холодной воды горных ключей сводило рот.
Гюнтер глотнул из бутылки тепловатого лимонада, сплюнул с отвращением.
— В Терни остановимся на несколько минут возле какой–нибудь траттории, — предложил он. — Я умру, если не глотну воды со льдом.
В Рим приехали поздно вечером, переночевали в дешевом отеле на окраине и решили не задерживаться — удивительно, но решила так Аннет, хотя она раньше не бывала в древнем городе. И не потому, что ей не хотелось взойти на Капитолий или осмотреть Ватиканский музей, просто знала, что и Карл и Гюнтер мыслями давно уже в Ассизи — разве будешь со спокойной душой рассматривать интереснейшие руины, когда до места назначения осталось три часа езды?
Договорились остановиться в Риме на обратном пути. И вот их «фольксваген» поднимал пыль на древней умбрийской дороге.
За Терни шоссе постепенно выровнялось, теперь ехали по долине, изредка минуя села, местечки.
Ассизи увидели издалека — справа от дороги на высоком холме лепились один к одному, как игрушечные, домики, соборы — все это на фоне синего неба и рыжих, выжженных солнцем возвышенностей казалось нереальным, вымышленным; словно великан забавлялся в песке, лагреб кучу, а потом налепил формочкой разные кубики и прямоугольники, провел между ними линии, соорудив узкие улочки и площади.
Эта иллюзия сказочности не исчезала вплоть до последней минуты, пока не повернули на асфальтированную ленту, что вилась между склонами холмов и наконец привела их в Ассизи.
Гюнтер пристроился за туристским автобусом и не ошибся, потому что через несколько минут они стояли на центральной площади города: справа нижний собор Сан–Франческо с гробницей святого Франциска Ассизского, слева — монастырь, верхний собор Сан–Франческо с фресками Чимабуе, чуть дальше — женская обитель Сан–Домиано. Обо всем этом они узнали сразу после приезда: туристы высыпали из автобуса, и гид сразу стал знакомить их с местными памятниками старины.
В Ассизи, как и в большинстве подобных итальянских городков, у которых есть свой знаменитый святой, или фонтаны, или собор с фресками Джотто, было несколько маленьких отелей, напоминавших скорее грязноватые и некомфортабельные меблированные комнаты. Один из них пристроился рядом с собором, и Карл предложил остановиться именно здесь. Это устраивало и Аннет, которая уже просматривала цветные проспекты у ближайшего киоска, и Гюнтера, который немедля занял место в гостиничной траттории и заказал бутылку холодного вина.
Карл тоже не отказался от стакана. Утолив жажду, спросил хозяина траттории об отце Людвиге Пфердменгесе и услышал в ответ, что тот знает такого важного священнослужителя, да и вообще, кто в Ассизи не знает отца Людвига, ибо в Ассизи каждый житель знает друг друга, а отца Пфердменгеса не знать просто невозможно.
Хозяин внезапно оборвал эту темпераментно произнесенную тираду, распахнул двери и, замахав руками прямо перед носом молодого послушника в черной сутане, остановил его и позвал Карла.
— Этому синьору нужен отец Людвиг!.. — начал громко, почти на всю площадь, и Карл вынужден был оборвать его, пояснив, что на самом деле имеет личное дело к отцу Пфердменгесу, и не возьмет ли послушник на себя труд показать ему, где тот живет.
— Отец Людвиг отдыхают, — объяснил послушник, ощупывая Карла любопытными глазами. — Они встают в пять, потом молитва, кофе — раньше шести вас не примут.
— И где быть в шесть?
— Но мне нужно знать, хотя бы немного, по какому делу господин собирается беспокоить отца Людвига?
Карл только смерил послушника насмешливым взглядом, и тот отступил.
Договорились, что Карл будет ждать у входа в монастырь. До шести было еще много времени, и Карл с Аннет спустились к усыпальнице Франциска Ассизского, находящегося в нижнем соборе. Здесь было прохладно, пахло ладаном и еще чем–то сладковатым — запах, который сопровождает мощи в церквах, подвалах и пещерах во всем мире.
Усыпальница производила величественное впечатление: везде много золота, полированный гранит и мрамор, тяжелый бархат. Аннет остановилась поражённая, постояла немного и шепнула Карлу, что святому Франциску лежать здесь, наверно, неуютно — он всю жизнь проповедовал аскетизм, а члены его ордена в свое время отказывались не только от роскоши — элементарных человеческих благ.
Карл улыбнулся, вспомнив любопытного послушника, пышущего здоровьем, видно, потомки святого нищего ни в чем себе не отказывают. В конце концов, Карлу наплевать на образ жизни монахов. Он повел Аннет обедать, поскольку часы показывали уже четвертый час.
Встали из–за стола в начале шестого, солнце клонилось уже к западу, и на площадь перед тратторией легли длинные тени. Карл поднялся на второй этаж, где им отвели комнаты, и принял душ. Извлек из чемодана белую полотняную сорочку, она немного холодила и не прилипала к телу. Пиджак подержал в руке, только одна мысль о том, что нужно выйти в нем на уличную жару, вызвала отвращение.
До встречи с Пфердменгесом оставалось несколько минут — они посидели втроем, не разговаривая: обо всем было уже переговорено, все волновались, но старались не показывать этого. Наконец Карл встал, помахал небрежно рукой.
— Не задерживайся, — попросила Аннет.
—Конечно. Мне приятнее смотреть на вас, чем на самого симпатичного духовника!
Аннет и Гюнтер видели, как Карл миновал площадь, обошел автобусы и исчез за углом собора. Еще издалека увидел возле монастырских ворот послушника — тот сидел на скамейке в тени и читал молитвенник.
Карл мог поспорить, что шустрый монах увидел его уже давно, но оторвал глаза от книжки только тогда, когда Карл сел рядом. Послушник сказал:
— Вас ждут в саду. Я провожу.
Отец Людвиг Пфердменгес гулял по тенистой аллее. Он берег свое здоровье и, когда только мог, старался двигаться и больше бывать на свежем воздухе. Увидев послушника с человеком, который просил у него аудиенции, остановился за деревом, разглядывая: никогда не помешает увидеть будущего собеседника раньше, чем он тебя; сколько раз отец Людвиг выигрывал на этом.
Но внешность юноши, что шел за монахом, ничего не подсказала Пфердменгесу: мог быть и философом, что изучает богословские науки, и посланцем оттуда — по старой привычке отец Людвиг даже в мыслях не уточнял — откуда: сколько их прошло через его руки, вначале эсэсовцев, которые сожгли где–то свои мундиры, потом просто курьеров или представителей организаций, которые желали наладить связи с эмигрантами в Испании или Южной Америке; раньше, правда, приезжали люди солидные, бывшие коллеги Пфердменгеса по партии, но потом стали появляться энергичные юнцы в клетчатых сорочках и даже в шортах. Отец Людвиг вначале косил на них глазом, однако постепенно привык, молодежь подрастает, берет дело в свои руки, что и говорить, он сам в начале тридцатых годов был не старше этих парней.
Отец Людвиг вышел из–за дерева, махнул рукой послушнику, чтобы исчез. Улыбнулся и поклонился посетителю: сделал жест, который можно было расценить как желание благословить, но молодой человек никак не отреагировал на него, и духовник указал ему на скамейку под кипарисом.
Карл подождал, пока духовник сядет, и опустился рядом.
Отец Людвиг первый нарушил молчание:
— Мне передали, что у вас есть ко мне какое–то дело…
Карл огляделся по сторонам и, не увидев никого, придвинулся к священнослужителю и спросил шепотом:
— Видели ли вы черный тюльпан?
Какая–то тень промелькнула в глазах отца Людвига. Но только на секунду, потому что и дальше смотрел вопросительно и остро. Если он знал пароль, то проявил удивительную выдержку.
— Ну а если и видел? — еле пошевелил губами.
— Неужели вы не припоминаете?
Кожа на черепе отца Людвига разгладилась. Он улыбнулся Карлу, как ребенку, казалось, сейчас погладит его по головке.
— Я уже вышел из возраста, когда играют в прятки. Меня интересуют только книги.
— Но вы должны помнить пароль, который дал вам Кальтенбруннер! — не выдержал Карл. — И назвать мне две цифры шифра.
Отец Людвиг и дальше продолжал смотреть кротко.
— Но я никогда в жизни не видел Кальтенбруннера, если вы имеете в виду tofo… — неуверенно качнул головой.
— Да, обергруппенфюрера Эрнста Кальтенбруннера, — подтвердил Карл. Позиция монаха обескуражила и одновременно разозлила его: зачем же играть? — Вам доверили тайну государственной важности, и вы должны назвать мне две цифры.
Кожа на черепе монаха собралась в морщинки.
— Цифры шифра? — проворчал. — Вы имеете в виду… — Вдруг взгляд его посветлел: отец Людвиг вспомнил или наконец сообразил, что от него хотят. — От банковского шифра?
Карл кивнул машинально и, увидев, как загорелись глаза монаха, пожалел, что сразу выдал себя.
— Я не знаю, что означают эти две цифры, вы должны назвать их, и все, — попробовал исправить ошибку Карл.
— И кто же послал вас ко мне?
— Не имею права назвать.
Церковник посмотрел на него вопросительно. Задумался, не отводя глаз. Неожиданно спросил:
— Вас послали только ко мне? Или еще к кому–нибудь?
— Вы хотите знать больше, чем вам полагается, — улыбнулся Карл.
Монах сокрушенно покачал головой.
— Вы еще совсем молодой человек, и так мне…
— Цифры! — жестко оборвал Карл.
Наверно, отец Людвиг принял решение, так как погладил ладонью череп и произнес примирительно:
— Хорошо. Но нам придется проехать тут недалеко… километров тридцать… Я сам отвезу вас.
— Зачем? Неужели вы не помните цифры и пароль?
Монах улыбнулся. Теперь его глаза не скрывались за веками, смотрели приветливо, открыто.
— Мне приятно видеть вас, юноша, одного из нашей молодой гвардии. И я не отпущу вас так, у нас есть райский уголок, поедем, поужинаем, поговорим…
Карл хотел отказаться, сославшись на то, что его ждут, но церковник смотрел действительно приветливо, в конце концов, он мог ставить условия — если не захочет назвать цифры, его не заставит сделать это сам папа римский!
— Но у меня мало времени, — все же попытался возразить Карл.
— Вы не один в Ассизи? — спросил отец Людвиг.
Какой–то подводный риф скрывался в этом вопросе, и Карл на всякий случай соврал:
— Те, кто послал меня, считают, что такое деликатное дело нельзя поручать нескольким.
— Естественно, — подтвердил отец Людвиг. — Поехали мой юный друг, — сказал льстиво, будто Карл и на самом деле был дорогим гостем. Пошутил: — Вы знаете, тяжело расставаться с тайной, которую сохранял столько лет.
Карл кивнул. Монах был прав, и было бы нелепо отказываться от приглашения.
Отец Людвиг провел его через парк к монастырским хозяйственным постройкам и попросил подождать возле ворот. Сам вывел из гаража неновую уже машину, подозвал служителя и что–то сказал ему. Служитель направился к телефонной будке, монах выехал на «форде» за монастырские ворота и пригласил сесть Карла. Повел машину по узким безлюдным улочкам. Они обогнули город и выскочили на шоссе, вдоль которого тянулись виноградники и оливковые рощи. «Форд» надрывно ревел, взбираясь на гору, оставляя за собой шлейф белой пыли.
— У меня, — небрежно кивнул головой отец Людвиг, — там есть прекрасное вино. Такого в Италии нигде больше не найдете.
Пошел одиннадцатый час, а Карл все не возвращался, и Аннет стала волноваться. Гюнтер не подавал вида, но и он тоже забеспокоился: может быть, им следовало идти вдвоем, по крайней мере, прикрывал бы Карла.
В двенадцать они уже поняли: что–то случилось. Аннет предложила сообщить полиции, но Гюнтер, резонно ссылаясь на происшедшее в Загене, отказался.
Карл не появился и утром. В шесть Аннет постучала Гюнтеру в номер — она не ложилась всю ночь, и они вышли на улицу.
«Фольксваген» стоял там, где его поставили вчера вечером, Гюнтер обошел вокруг него, зачем–то постучал ключами о стекло и предложил:
— Ты пойдешь в полицию и спросишь о Карле. Не называя фамилии Пфердменгеса.
— Почему?
— Возможно, мы зря волнуемся и вмешательство полиции испортит Карлу всю игру.
— Но он мог хотя бы позвонить…
Гюнтер только развел руками. Да и что ответить?
Сонный карабинер долго не мог понять, что надо этой красивой синьорине. Поняв, отрицательно покачал головой. Ночью не произошло никаких случаев, никто не звонил, и все в городе спокойно.
Как зовут синьора, который пропал? Карл Хаген, швейцарский подданный? Странно, а сколько ему лет? Боже мой, карабинер подмигнул; в таком возрасте парни иногда знакомятся с девушками и не спешат домой. Нет, он не настаивает на своей версии и не хочет огорчить синьорину, но пусть она подождет.
Что ж, в этом совете было рациональное зерно, однако полицейский не знал, куда и к кому пошел Карл Хаген. А она знала и не могла не представлять историй одна другой страшнее, и, если бы не было рядом Понтера, не выдержала бы и уже давно побежала к отцу Людвигу.
В восемь часов Гюнтер предложил позавтракать, и Анкет согласилась только потому, что не могла больше терпеть вынужденную бездейственность — почти ничего не ела и смотрела на Гюнтера, удивляясь: как мог он жевать и пить, да еще и подтрунивать над итальянской кухней?
Опорожнив чашку кофе, Гюнтер вытер губы бумажной салфеткой и сказал:
— Насколько я понимаю, у нас есть два выхода: или идти к этому Пфердменгесу, или отыскать того… послушника и попробовать выведать у него что–нибудь.
— Да, конечно, — одобрила Аннет.
— И в том и в другом случае будет лучше, если сделаешь это ты.
— Я? Но что я могу? — испугалась Аннет. Сама мысль о том, что надо идти к этому страшному Пфердменгесу, которого не видела, но уже считала страшным, была ужасной. — Да, что я могу? — повторила прищурившись:
— Если пойду я, он поймет, что тут что–то нечисто, — объяснил Гюнтер весомо. — Но сейчас мы еще не будем беспокоить Пфердменгеса. Попробуем обработать послушника. Ну, тебе известно, как действовать… — не выдержал, чтоб хоть немного не отомстить. — Всякие там женские фокусы. Значит, так… Тебе необходимо увидеть отца Людвига. Но перед этим хочется узнать, как вести себя с такой высокой особой. Какие у него привычки, где был вчера, что делает сегодня? Да и вообще сама увидишь…
— Вообще–то ты прав. — Аннет не могла не согласиться с доводами Гюнтера, хотя и не представляла себе, как ей удастся обмануть послушника. Голова после бессонной ночи отяжелела, хотелось плакать. Гюнтер подвинул к ней стакан сухого вина со льдом, взяла машинально и выпила — стало немного лучше, и Аннет допила до конца. Вино сразу придало ей энергии.
— Я пойду…
— Хорошо, — согласился Гюнтер, — а я буду держаться неподалеку, и в случае необходимости зови.
Они спустились к собору, Аннет обошла усыпальницу Франциска, призывая святого помочь ей, но тот не отозвался на ее призыв, ибо послушника не было ни здесь, ни вблизи монастыря, и девушке ничего не оставалось, как бродить по двору, уже заполненному туристами.
Она увидела послушника, когда уже не верила во встречу, — тот направлялся от монастырских ворот прямо к ней через площадь. Аннет замерла: ей показалось,. что послушник подойдет и скажет что–то страшное, но тут же отогнала эту мысль. Наверное, его послал к ней Карл, стало быть, не надо волноваться.
Девушка пошла навстречу, улыбаясь, но вдруг заметила — послушник шел, уставясь в мостовую, перебирал четки и шептал молитву.
Позвала:
— Синьор, минутку, синьор! — Послушник, наверно, не слыхал, а если и слышал, то подумал, что зовут кого–нибудь другого, поскольку продолжал идти дальше, не поднимая глаз. Аннет вспомнила, что Карл разговаривал с ним по–французски, и повысила голос: «Mon frere!»
Он резко обернулся, двинулся к Аннет, но остановился в двух шагах. Взглянул пристально, щеки его покраснели.
— Мадемуазель что–то хотела спросить? — стыдливо улыбнулся.
Они молчали, но Аннет пришла в себя и сказала:
— Хозяин траттории, — кивнула на вывеску, — говорит, что вы можете устроить встречу с отцом Людвигом.
— Он слишком высокого мнения обо мне, — смутился юноша.
— Говорили, что вы такой добрый и умный. Я еще вчера хотела увидеть вас, но не Нашла.
— Отец Людвиг уехал и поручил мне одно дело.
У девушки екнуло сердце. Спросила быстро:
— Уехал? С кем–нибудь или один?
Послушник отступил. То ли взяла верх врожденная подозрительность, то ли имел приказ держать язык за зубами.
— У святого отца нет привычки… — начал, но девушка, поняв, что допустила оплошность, улыбнулась и перебила:
— Какое это имеет значение? Я просто хотела знать, скоро ли он возвратится?
— Он вернулся еще ночью.
— Значит, я могу надеяться?
— Вряд ли… Говорил, что сразу после обеда… — послушник запнулся.
Аннет подняла руку, словно хотела дотронуться до него, спросила:
— Если вы будете свободны после обеда, может, выкроите часок–другой и покажете мне Ассизи? С гидами так неинтересно.
Лицо послушника расплылось в улыбке. Переступив с ноги на ногу, произнес с сожалением:
— В это время никак не могу.
— Почему?
— Должен отвезти отца Людвига.
— А позже? — Аннет кокетливо опустила глаза. — Отец Людвиг вернется вечером?
— Он нет, но я буду здесь.
— А если ваш учитель передумает?
— Его не будет несколько дней, — заверил послушник. — Я только отвезу его, а сам назад. Вы надолго в Ассизи?
— Еще не знаю… — вздохнула Аннет.
— Я вам покажу все ассизские святыни. — Послушник спрятал в карман четки. — Кроме того, у меня есть мотороллер, — предложил нерешительно, — и мы сможем…
— О–о, как чудесно! — захлопала в ладоши Аннет. — Так когда мы встретимся?
— В пять у входа в собор.
— Отлично.
Послушник поклонился и засеменил прочь. Девушка смотрела ему вслед, юноша перед тем, как повернуть за угол, оглянулся и кивнул издалека.
Аннет, вспомнив его жадные глаза, прищурилась. Махнула Гюнтеру, который вертелся чуть ли не рядом, и направилась к отелю. Почувствовала такую усталость, что села бы здесь прямо на мостовую и не двигалась. Еле поднялась к себе на второй этаж и упала в кресло. Гюнтер стоял рядом и молчал. Аннет была благодарна ему за то, что не спешил.
— Вчера вечером монах ездил куда–то — начала, и сразу вся усталость исчезла, будто хорошо проспала всю ночь и только что приняла душ. — И сегодня уезжает сразу после обеда.
— Ну и что? — не понял Гюнтер.
— Как же ты не можешь сообразить? Вчера вечером Пфердменгес исчез. Если бы Карл остался в Ассизи, пришел бы в отель. Следовательно, они поехали вместе, и Карл не вернулся. Ездили куда–то недалеко, поскольку отец Людвиг ночью был уже в монастыре. Сегодня монах снова едет, наверно, туда же. Кроме того, предупредил, что будет отсутствовать несколько дней.
— Что–то в этом есть, — потер лоб Гюнтер. — Хотя… Расскажи, о чем ты разговаривала с прощелыгой в сутане? Он почти облизывался, глядя на тебя!
— Оставь… — недовольно поморщилась Аннет. — Я назначила ему свидание в пять, и если нужно еще что–нибудь вытянуть из него… — она взяла предложенную Гюнтером сигарету, хотя и не курила, затянулась, закашлялась. Бросила и повторила в деталях разговор с послушником.
Гюнтер слушал, не перебивая, сделал вывод:
— Хитрый, пройдоха. Ты права, за святым отцом надо проследить. Жаль, не узнала, куда они едут.
— Говорил, недалеко. Я думала: не стоит расспрашивать. Еще передаст своему учителю, и если за этим Что–то кроется.
— Правильно, — похвалил Гюнтер. — Итак, послушник назначил тебе встречу…
— Не паясничай! Сейчас около одиннадцати? В монастыре обедают в два, ты иди, а я немного отдохну…
В два часа они поставили «фольксваген» в ряд с другими машинами под желтым рекламным щитом заправочной станции, на котором черный змей выдыхал ярко–красное пламя.
Миновать эту станцию отец Людвиг не мог, только после нее дороги расходились в трех направлениях: налево — на Терни и затем Рим, прямо — на Флоренцию и направо — в горы.
Аннет заставила заднее стекло какими–то коробками, бросила туда плащи и уселась на сиденье так, что ее совсем не было видно. Сама же видела все, что делалось на шоссе за «фольксвагеном».
Машины проносились редко, было время дневного затишья, когда основная масса туристов уже приехала, а уезжать было еще рано. По шоссе сновали преимущественно малолитражные «фиаты» с местными номерами. Аннет и Гюнтер жадно всматривались в них, поскольку не знали, на какой машине ездит Пфердменгес.
— Они… — вдруг прошептала Аннет, будто ее кто–нибудь мог услышать. — Да, они… — отвернулась от шоссе. — Видишь серый «форд»?
Гюнтер нагнулся над щитком управления, посматривая искоса.
Да, за рулем знакомый им послушник, а рядом старый человек в сутане.
«Форд» проехал мимо заправочной и медленно повернул направо по дороге, ведущей в горы. Гюнтер ловко вывел свою машину на шоссе. Не спешил: серый «форд» сейчас никуда не денется, на такой дороге все равно больше шестидесяти километров не сделаешь, да и, слава богу, пылища, почти не видно, что делается сзади.
«Форд» ехал быстро — послушник спешил на свидание! — «фольксваген» швыряло на выбоинах, но Гюнтер не отставал, сохраняя дистанцию в полкилометра. Встречные машины попадались редко, дорога пролегала преимущественно между виноградниками, Аннет поискала ее в атласе, но не нашла. Миновали село, за оливковой рощей перевалили через гребень высокого холма, внизу открылась зеленая долина с синей гладью озера, к берегу которого прилепилось небольшое селение. Туда вела такая же покрытая щебнем дорога, и «форд» уже повернул на нее.
Гюнтер притормозил и, подождав, пока «форд» исчез за деревьями, тоже повернул к озеру.
На центральной улице городка разместились две или три лавчонки и траттория с открытой верандой под тентом. Миновали последний дом, но нигде не обнаружили серого «форда»: возле строений стояло несколько «фиатов» да красный «рено». Дорога за поселком круто шла к виноградникам. Гюнтер, бормоча что–то сквозь зубы, развернулся и поехал назад. Теперь «фольксваген» катился по инерции. Гюнтер все время тормозил, останавливаясь на перекрестках: договорились, что будут смотреть: он — налево, Аннет — направо. Проехали лавчонку с шариковыми ручками, зажигалками я еще какой–то мелочью на витрине.
Аннет вдруг воскликнула:
— Видишь, он там, внизу!
Гюнтер остановился за углом, вышел и огляделся.
Прекрасная двухэтажная вилла возвышалась над озером в саду. «Форд» не заехал во двор, его оставили под деревом около ворот.
Гюнтер быстро развернулся. Возможно, им следовало бы припрятать свою машину — швейцарские номера не так часто встречаются в этом поселке, и незачем мозолить всем глаза. Подъехал к траттории — хозяин выбежал на веранду, и Гюнтер, с трудом вспоминая итальянские слова, объяснил, что им понравилось озеро и они хотели бы задержаться здесь, вот только куда поставить машину и найдется ли ужин.
Хозяин закивал радостно, побежал открывать ворота, залопотал, поднимая глаза к небу, и Гюнтер понял, что только в этой траттории они могут съесть настоящие спагетти, такие спагетти можно съесть только в раю и здесь, потому что их готовит сам хозяин, а лучшего специалиста не найти во всей округе.
Они прошли со двора в узкий и темноватый зал траттории. Здесь стояли длинные столы из грубых досок, посуда на стойке была из дешевого толстого зеленоватого стекла, но вино, которое нацедил из бочки хозяин, понравилось Гюнтеру, хотя и стоило на треть дешевле минеральной воды, которую пила Аннет.
Пока они утоляли голод, мимо траттории проскочил серый «форд»: послушник не солгал — возвращался один. Гюнтер предупредил хозяина: они пойдут на озеро и могут задержаться, но тот заверил, что спагетти будут в любое время, кроме того, у него есть свободная комната, и, если синьорине понравится здесь, можно переночевать.
Между прочим Гюнтер спросил, кому принадлежит чудесная вилла над озером. Хозяин сложил руки, будто молился, и учтиво объяснил, что в ней живет очень важный человек, имя которого известно в самом Ватикане: святой отец осчастливил их поселок, приобретя этот домик еще во время войны. Но жаль, сейчас он редко приезжает сюда, в вилле живет только «го слуга, которого местные жители недолюбливают за хмурость, но что поделаешь — немец, старый холостяк, а пожалуй, нет на свете больших нелюдимов, чем закоренелые холостяки.
Болтовню этого толстяка можно было слушать весь день, он прямо–таки источал из себя добродушие и говорил бы беспрерывно — не так–то легко найти слушателей в таком маленьком поселке, но Аннет оборвала лавочника: жара, и ей хочется купаться…
К озеру вела тропинка прямо от траттории, и они пошли между апельсиновыми деревьями. Не доходя до озера, Гюнтер полез в кусты, отделявшие апельсиновый сад от улицы, за ними тянулся высокий забор из острых металлических прутьев, дальше начинались какие–то густые колючие заросли, которые скрывали виллу от нескромных взглядов. От железной калитки к зданию вела замощенная бетонными плитками дорожка.
Гюнтер оставил Аннет в кустах следить за тем, что происходит у входа, а сам решил обойти вокруг усадьбы. Только он исчез, как на дорожке появились двое — отец Людвиг и его слуга. Они шли медленно, монах, очевидно, наставлял слугу, ибо тот кивал и отвечал что–то односложное, а отец Людвиг энергично жестикулировал и все говорил: жаль, Аннет не могла услышать ни одного слова.
Слуга вывел из гаража мотоцикл и открыл ворота. Выкатив машину и, оставив ее на улице, аккуратно закрыл ворота, отдал ключи монаху. Ничего не сказав, направился к мотоциклу. Уже хотел заводить, но обернулся — забыл шлем на скамейке в саду. Отец Людвиг, стоявший у калитки, произнес насмешливо, и Аннет слышала теперь каждое его слово:
— Не забудь на обратном пути голову. И завтра утром заезжай.
Куда должен был заехать слуга, Аннет так и не узнала, тот завел мотор и уехал. Монах посмотрел вслед, постоял немного и медленно пошел к вилле.
Скоро вернулся Гюнтер, и Аннет рассказала ему обо всем, что видела.
— Вероятно, до завтрашнего дня монах будет один, — констатировал Гюнтер. — А я там нашел довольно удобное место, чтобы перелезть: кусты совсем низкие и неколючие.
Подождем до вечера?
Гюнтер задумался.
— А может, сейчас? Уже начало пятого, а святой кабан привык в это время отдыхать. Послушник говорил, что встает в пять. Я полезу, а ты и дальше следи за входом.
Продираясь сквозь заросли, Гюнтер поцарапал руки и лицо. Сейчас он стоял за заботливо ухоженным цветником, всматривался в закрытые жалюзи окна, будто на самом деле мог что–либо разглядеть за ними.
Тишина, и только птицы щебечут на деревьях. Держась кустов, Гюнтер обошел дом и чуть не натолкнулся на обвитую плющом и глицинией беседку. Осторожно раздвинул ветки, заглянул внутрь и испуганно отшатнулся: на тахте лежал отец Людвиг — Гюнтер мог дотянуться рукой до его головы.
Юноша присел, затаив дыхание. Потом пробежал несколько метров, что отделяли его от клумб с какими–то высокими красными цветами, спрятался там. Только сейчас немного пришел в себя: если отец Людвиг молчит до сих пор, значит, или не заметил его, или спит. Переждал еще несколько минут и пополз к беседке. Обогнул ее и заглянул так, чтобы увидеть лицо монаха. Так и есть — старик спал.
Теперь Гюнтер не раздумывал. Прошмыгнул к вилле–двери не были закрыты, он прикрыл их за собой и на цыпочках пробежал по узкому полутемному коридору.
Коридор заканчивался ступеньками на второй этаж, слева дверь вела на кухню, ее не прикрыли, и Гюнтер увидел немытую посуду, кастрюлю на столе. Осторожно открыл дверь напротив. Наверно, здесь жил слуга: узкая кровать, застеленная суконным одеялом, несколько ружей на стене и охотничьи трофеи — голова кабана, птицы, какие–то шкурки. Шкаф, стол, два стула — все.
Следующая дверь дальше вела в большую гостиную с цветастым ковром во весь пол. В комнате стояли старомодные, но удобные диваны и кресла, обтянутые кожей, шкафы с книгами. Очевидно, монах принимал здесь гостей и не отказывался от мирских соблазнов, потому что стол под торшером был заставлен бутылками с разноцветными наклейками.
Гюнтер осмотрел еще одну комнату. Она предназначалась для столовой — простенок между окнами занимал сервант с посудой, рядом стоял дубовый круглый стол и такие же стулья с резными спинками.
Юноша уже хотел подняться на второй этаж, но заметил под лестницей узкую дверь, обитую стальными полосками. Наверно, она вела в подвал. Гюнтер на всякий случай нажал на ручку, и дверь сразу поддалась, открыв крутые каменные ступеньки.
Внизу горела лампочка. Осторожно ступая, Гюнтер спустился и увидел просторное помещение без окон, настоящий каменный мешок с низким потолком. Но это был не погреб — вместо бочек здесь стояли две кушетки и стол, а пол покрывал грубый шерстяной ковер.
Двое дверей, дубовых и тоже обитых металлом, вели из этой каменной гостиной. Гюнтер дернул за ручку ближней — не поддалась, вторая тоже закрыта.
Парень хотел уже возвращаться, но услыхал за дверью не то шорох, не то стоны. Прислушался, приложив ухо к дубовым доскам, — действительно за дверью кто–то был.
Гюнтер поцарапал дверь и затих. Стояла такая тишина, что, казалось, звенело в ушах.
И вдруг стон.
Юноша переступил с ноги на ногу. Что делать? А–а, все равно, хуже не будет. Спросил громко!
— Эй, кто там?
Тишина — и вдруг:
— Пить… воды…
Неужели Карл? Кажется, Гюнтер узнал голос. Прижался к двери, даже больно стало уху. Позвал!
— Карл! Карл! Это я, Гюнтер!
Снова тишина, потом радостный крик:
— Гюнтер! Как ты сюда попал? Неужели на самом деле ты? Можешь открыть дверь?
Гюнтер с тоской осмотрел тяжелые дубовые доски и стальные полосы на них.
— Нужен лом… Хотя бы топор…
— Как ты проник сюда?
Гюнтер рассказал.
— Погоди, — сказал Карл после паузы, — говоришь, монах спит? Ключи у него в кармане сутаны. Связка ключей. Но учти, он вооружен, носит пистолет в заднем кармане брюк.
— Да… — Гюнтер уже знал, что делать. — Я пошел, и не волнуйся…
— Будь осторожен.
…Аннет хотелось спать, веки сами закрывались, сон одолевал ее, а Гюнтер все не возвращался. Аннет подумала, что именно такая пытка — самая нестерпимая. Да и солнце припекало, какие–то насекомые нудно жужжали, тоже навевая сон.
Боже мой, где же Гюнтер?
Тот появился, когда противиться сну не было никакой силы, выглянул из–за кустов, что росли рядом с гаражом, и осторожно огляделся.
Девушка провела руками по лицу, отгоняя сон. Гюнтер подавал какие–то знаки, она не сразу поняла, что он хочет, но наконец, догадавшись, пролезла через заросли и приблизилась к калитке.
— Давай… — прошептал Гюнтер. Он приставил к калитке садовую лестницу, влез на нее и подал Аннет руку. Девушка через несколько секунд была в саду.
— Что? — спросила.
— Карл там, — кивнул на виллу Гюнтер.
Аннет хотела объяснить ему, что ощущала присутствие Карла, была уверена, что найдут его, но не могла произнести ни слова, только выжидающе смотрела большими выразительными глазами.
— Монах заточил его в подвал, — объяснил Гюнтер. — Можно позвать полицию и поднять шум, но это нежелательно. Ты мне поможешь. Святой отец храпит в беседке, у него пистолет в заднем кармане брюк, нужно его разоружить и достать ключи.
Аннет все время кивала.
— Я пролезу в беседку! — предложила решительно.
— Да, — подтвердил Гюнтер. — Сейчас мы осмотримся и все решим.
Шли к беседке по асфальтированной дорожке, бесшумно, и Аннет старалась ступать по следам Гюнтера. Согнувшись пролезли к входу, Гюнтер огляделся. Обернулся к девушке, прошептал чуть слышно:
— Спит в пижаме. Брюки там… — кивнул неуверенно.
Не успела Аннет что–то сказать, как он поднялся и проник в беседку.
Отец Людвиг спал, сладко сопя и подложив руку под щеку. Гюнтер прошел мимо, присел за стулом, на котором висели брюки, вытащил пистолет. Отличный никелированный вальтер; Снял с предохранителя, перезарядил, на всякий случай вогнав патрон в канал ствола.
Сейчас ключи. Сутана монаха висела почти рядом — ощупал карманы, но ключей не нашел. Черт, придется поднять церковника. Нежелательно, но что поделаешь!
Гюнтер встал над монахом, ткнул пистолетом в.грудь. Отец Людвиг сразу раскрыл глаза, хотел вскочить, но Гюнтер толкнул его назад.
— Спокойно, святой отец! — приказал. — И не думайте кричать, если не хотите получить пулю. Где ключи?
— Какие ключи?.. — начал монах, заикаясь. — Что вы х–хотите от меня?
Гюнтер махнул рукой Аннет.
— Обыщи его!
Церковник сполз с тахты.
— Я не имею привычки держать деньги дома, и вы ничего не найдете.
Аннет засунула руку под подушку, вытянула связку ключей.
— Встать! — скомандовал Гюнтер. — И без шуток, все равно вас никто не услышит! Продолжим разговор в доме…
Отец Людвиг покорно двинулся к вилле. Хотел зайти в гостиную, но Гюнтер подтолкнул его к лестнице.
— Туда… туда… — произнес с насмешкой, — я хочу, чтобы вы сами освободили своего узника.
— Какого узника? — запротестовал монах. — Я никуда не пойду, и вы не имеете права!..
— А вы имели право посадить под замок нашего товарища? Не вышло, святой отец! Просчитались… Ну! — ткнул дулом пистолета в спину. — И без фокусов!
Монах как–то сразу обмяк и стал покорно спускаться в подвал. Там, в каменной комнате, Гюнтер не отказал в удовольствии поставить его в позу, какую видел во многих полицейских фильмах, — лицом к стене, руки над головой.
— Открой! — Гюнтер показал Аннет на дверь.
Та звякнула связкой, ключей, отыскивая нужный, а Гюнтер стоял с поднятым пистолетом. Аннет подобрала ключ, открыла дверь. И закричала. Гюнтер шагнул к ней. Воспользовавшись этим моментом, монах бросился к лесенке, Гюнтер метнулся за ним, подставил ногу, отец Людвиг покатился по полу и завопил, будто его убивали.
Гюнтер зло пнул его ногой.
— А ну вставай, паршивая свинья, и если…
Церковник встал, стоял с поднятыми руками, смотрел затравленным зверем. Гюнтер подтолкнул его в комнату, откуда доносились голоса Аннет и Карла.
В дверях остановился, пораженный: Карл стоял у стены с поднятой рукой, прикованной стальным наручником к высоко вбитой скобе.
— Ого!.. — только и сказал Гюнтер. Зло ударил монаха в спину. — Ну, быстрее! Аннет, дай ему ключи.
Отец Людвиг тонкими дрожащими пальцами взял связку. Нашел ключ, отомкнул стальное кольцо на руке Карла. Тот сразу обессиленно опустился на пол.
— Дайте мне воды…
Отец Людвиг засуетился.
— Сейчас… сейчас…
— К стене! — приказал Гюнтер. Он уже знал, что именно предпримет, это было не только необходимо, а и справедливо — око за око. Заставил монаха поднять руку, щелкнул наручником, позвенел ключами и спрятал их в карман. Сказал с издевкой: — Придется вам, святой отец, немного отдохнуть в одиночестве…
Монах запричитал:
— Я старый и больной человек, я не выдержу!
— Выдержишь! — Гюнтер наклонился к Карлу. — Как ты?
Аннет принесла воду. Карл жадно выпил полный кувшин. Хотел встать, однако ноги дрожали, и Гюнтер поднял его.
Карл погрозил церковнику кулаком, крикнул:
— Ну, жаба, чья взяла?.. Он, — объяснил друзьям, — ничего не знает о шифре, но быстро сообразил, чем это пахнет. Заманил меня сюда и пытался узнать, кого мы разыскиваем. Деньгами запахло, грязные руки свои протянул к ним, клялся, что выбьет из меня тайну, что эсэсовские методы — детская забава, а гестаповцы были примитивными и малограмотными, не изучали всех тонкостей пыток святой инквизиции. Может, я вру, святой отец?
— Я хотел только напугать вас, господин Хаген, — быстро заговорил отец Людвиг, — а вы все приняли за чистую монету.
— И со вчерашнего вечера простоял прикованный к стене! — гневно блеснул на него глазами Карл. — Он напоил меня не знаю чем, я ничего не помнил, не мог сопротивляться. Он не дал мне ни капли воды…
— Что ж, сейчас он сам отдохнет, — зло засмеялся Гюнтер, — будет время на размышление…
— Вы не оставите меня здесь, синьоры, — начал хныкать отец Людвиг. — Мне не простоять до утра, и грех ляжет на вас!
— А мы поисповедуемся у какого–нибудь вашего коллеги, — ехидно произнес Гюнтер, — он отпустит нам этот грех!
— Я заявлю в полицию! — пригрозил монах. — Вас задержат и будут судить!
— Я выключаю свет, в темноте вам легче будет беседовать с самим собой. Думаю, это будет поучительный диалог! — насмешливо поклонился Гюнтер. — Пошли, друзья!
Поддерживая Карла, он повел его к выходу.
В последний момент Аннет стало жалко монаха.
— А если его просто закрыть?
— Нет, — решительно возразил Гюнтер, — таким нельзя прощать!
Отец Людвиг просил, плакал, угрожал, но Гюнтер спокойно закрыл дверь.
— Насколько я понял, — заметил он, когда вышли из подвала, — святой отец не назвал цифры шифра. Но мы можем заплатить ему. Я поэтому и приковал его, чтобы стал уступчивее.
— Ты не понял меня. Я же говорил, монах не имеет к шифру никакого отношения, — пояснил Карл. — Вчера вечером разговаривал со слугой, кстати, никакой это не слуга, а оберштурмфюрер СС. Здесь, на вилле, был переправочный пункт эсэсовцев. Поэтому и комната в подвале — месяц живи, никто не узнает. Святой отец уже поставил на мне крест, и они ничего не скрывали от меня. Есть еще один Людвиг Пфердменгес, бывший штандартенфюрер СС, кузен нашего монаха. И знаете, где он сейчас? Никогда не догадаетесь. В Африке!
— Где? — переспросил Гюнтер. — Ты не шутишь?
— Вы на машине? Нельзя задерживаться здесь.
— Ты пришел в себя? Можешь выйти на улицу и подождать нас? Чуть подальше, чтобы не привлекать внимания.
— Конечно. Который сейчас час?
— Пять.
— Еще сегодня можем попасть в Рим.
— Лучше переночевать в Терни, — возразила Аннет. — Посмотри на себя — измученный! Зачем спешить?
— Старый пройдоха может предупредить своего кузена, чтобы не доверял нам… — объяснил Карл. — Мы не имеем права терять время, ты останешься с машиной, поедешь потихоньку домой, а мы…
— В Африку? — взволнованно воскликнула Аннет. — Ты сошел с ума! Ну их к чертям, эти деньги, если из–за них столько мук.
— Мы журналисты, — сказал Гюнтер, — завтра посетим посольство, визу нам должны дать без осложнений.
— Тогда и я полечу с вами! — решительно заявила Аннет.
Карл взял руку Аннет. Держал, ощущая легкое дрожание.
— Ты же хотела побегать по музеям, — посмотрел ей в глаза. — Кроме того, могут быть осложнения с визой. Нам легче — у Гюнтера тоже есть журналистское удостоверение, я устроил ему его, и у нас, думаю, осложнений не будет. А ты поезжай во Флоренцию. Ты же умеешь водить автомобиль.
Аннет сердито выдернула руку.
— Так бы и сказал: не с кем оставить машину. Итальянская старина уже утратила интерес для Аннет, но она не призналась в этом.
Девушка топнула ногой в сердцах, посмотрела на пол и вспомнила прикованного к стене отца Людвига.
— Монаха теперь не стоит оставлять прикованным, закройте его — и все…
Карл заглянул в холодильник. Достал бутылку молока. Отпил и сказал, как бы между прочим:
— Знаете, что он делал? Из того вальтера стрелял в меня. Вчера вечером. Любопытная забаву. Открываются двери, он садится в большой комнате и говорит, что сейчас будет расстреливать меня. У святого отца твердая рука, всаживал пули за несколько сантиметров от головы. Видели, там деревянная стена, вся изрешечена. Постреливали на досуге бывшие эсэсовцы…
— И ты хочешь, чтобы я ему простил? — криво усмехнулся Гюнтер.
Аннет неуверенно пожала плечами:
— Как знаете…
— Ну вот и хорошо, — смягчился Гюнтер. — А теперь двинулись…
После итальянской жары африканское солнце не очень удивило Карла и Гюнтера. Поразила их буйная растительность большого города Центральной Африки, столицы государства, роскошь его европейских кварталов. Думали, небольшой, грязный, одноэтажный город, Й центр его был многоэтажным с широкими асфальтированными улицами, сотнями машин новейших марок, большими магазинами. На первоклассный отель решили не тратиться, остановились по рекомендации местного чиновника, который летел вместе с ними, в небольшом пансионате. Переоделись, и Карл предложил сразу же двинуться на поиски Людвига Пфердменгеса.
Еще в дороге они разработали план действий. Каждый, кто был хоть немного знаком с тогдашними делами в Африке, не мог не догадаться, каким ветром и зачем занесло туда бывшего штандартенфюрера СС. В стране, куда они прилетели, то в одной, то в другой провинции вспыхивали восстания. Против партизан действовали разные отряды карателей и наемников, и штандартенфюрер СС с его опытом был, безусловно, находкой, для разных авантюристов, боровшихся за власть и пытавшихся подавить народное движение.
Как и где искать Пфердменгеса, с чего начинать? Может, он вообще на нелегальном положении. Карл и Гюнтер решили действовать через журналистские круги. Нет людей более осведомленных, нежели газетчики, а Карл принадлежал к их клану. У Гюнтера тоже были документы одной нз бернских газет — перед швейцарскими журналистами должны были открыться двери всех редакций.
Сотрудники местной газеты их встретили приветливо. Редактор извлек бутылку виски и пообещал освободиться через час, а пока что поручил гостей долговязому брюнету лет тридцати, носатому и худощавому. Казалось, он был сплющен с боков и стыдился этого, потому что какая–то стыдливая улыбка все время кривила его губы.
— Жорж Леребур, корреспондент «Пари суар», — отрекомендовался он и добавил, что рад видеть людей, которые еще вчера ходили по бернским улицам: пожаловался на тоску, жару и отсутствие порядочного общества.
— Ничего себе тоска, — не поверил Карл. Он держал свежий номер местной газеты, где сообщалось о партизанском движении в одной из провинций. — Война обостряется!
— Тут всегда стреляют, — безразлично махнул рукой Леребур.
— Очень интересно, — Карл ткнул пальцем в газету, — во главе восстания стал бывший министр просвещения и искусств. Если уж такие люди берутся за оружие…
— Скажу вам откровенно, — сказал Леребур, — у них есть основания браться за оружие. Впрочем, увидите сами. Я здесь уже три года и, вероятно, смотрю на здешние события предубежденно.
— Три года! — удивился Гюнтер. — Наверно, знаете здесь все вдоль и поперек?
— Это не так просто, — снисходительно улыбнулся Леребур. — Территория государства огромная.
— Есть где воевать! — засмеялся Карл. — И за что…
— Конечно, — подтвердил Леребур. — Не случайно проклятые янки повадились сюда. Не люблю их. Где только можно поживиться, непременно сунут свой нос. Уран, кобальт, промышленные алмазы… Я уже не говорю о меди, такой богатой руды нет нигде.
— Ясно, — отметил Гюнтер, — поэтому здесь и неспокойно. Кстати, вы должны знать всех местных знаменитостей, не встречалось вам имя Пфердменгеса?
— Полковник Людвиг Пфердменгес? — переспросил Леребур. — Эта фигура довольно одиозная. Но откуда вы знаете его? И зачем он вам?
— Пфердменгес — бывший штандартенфюрер СС, — объяснил Карл, — а наша газета изучает биографии некоторых эсэсовцев…
— А–а… — неопределенно промычал Леребур. — Здесь до черта всякой дряни, слетаются, как мотыльки на огонь. — Внезапно завелся, даже завертелся на стуле. — А это вы здорово придумали: интервью с бывшим штандартенфюрером, ныне полковником наемников! Прекрасная параллель. Находка для левой прессы…
— Вы знаете, кто на вас напал? Наверно, нет! Мне известно, что вы только вчера приехали в Заген и уже стали костью в горле господина Зикса.
— Почему вы так думаете? — удивился Карл.
— Потому что я знаю одного из двух, пытавшихся вас убить. Генрих Роршейдт, известный здесь многим. Говорят, был телохранителем или денщиком у старшего брата господина Зикса.
Карл переглянулся с Гюнтером. Каммхубель заметил это, сказал рассудительно:
— Я не знаю, что привело вас в наш небольшой городок и не стану расспрашивать, но сразу должен предупредить: в этом доме придерживаются вполне определенных взглядов. Мы не сочувствуем нацистам — наоборот, если вы… Моим человеческим долгом было помочь вам, а сейчас…
Это прозвучало несколько высокопарно, как–то старомодно, но Карл подумал, что Каммхубель имеет право так говорить, в конце концов, человеку не запрещено иметь те или иные взгляды. Они с Гюнтером тоже не сочувствуют нацистам, хотя знал бы этот немного допотопный учитель, кем был отец Карла, вероятно, не вытащил бы его из воды.
Карлу захотелось выйти из комнаты. Боялся взглянуть на Каммхубеля.
Ответил Гюнтер.
— Мы, господин учитель, — в его голосе прозвучали даже какие–то интимные нотки, — разделяем ваши взгляды, да и вообще, кто в наше разумное время может сочувствовать фашизму? Разве что подонки!
— Каждый фашист подонок… — проворчал Каммхубель.
— Вполне справедливо! И вчера мы имели возможность убедиться в этом еще раз.
— Да, этот Роршейдт очень опасен. Вам не следует оставаться в Загене.
Карл уже овладел собой и вмешался в разговор:
— Но у нас тут дело. Не стоило бы ехать из Швейцарии, чтобы сразу удрать.
— Конечно, — согласился Гюнтер, — мы, что бы ни случилось, доведем дело до конца!
Карл подумал, как были бы поражены хозяева дома, если бы он сейчас откровенно рассказал о цели их путешествия. Вероятно, учитель осудил бы их, а Аннет?
Искоса посмотрел на девушку — она улыбалась Гюнтеру, и на ее щеке появилась такая привлекательная и славная ямочка, что Карлу захотелось дотронуться до нее. Правда, видел он и не таких красавиц, у одной–ямочка, у другой — черные брови, у третьей…
Сказал быстро:
— Вчера я имел честь посетить господина Ганса–Юргена Зикса и просил разрешения на встречу с его братом Рудольфом. Боюсь, что покушение на меня — результат этого посещения.
Он замолк так же неожиданно, как и начал, — за столом воцарилась тишина. Карл смотрел на учителя и видел, что тот уставился на него выжидающе…
И снова на помощь пришел Гюнтер:
— Мы собираем материал о военных преступниках, а господин Зикс входил в эсэсовскую элиту. И до нас дошли слухи, что он вовсе не сумасшедший.
— Когда–то об этом писали в газетах, — заметил Каммхубель, — но пресса так ничего и не доказала. Да и дело это давнее…
— Это не оправдывает преступления.
— Боже мой, — с горечью произнес учитель, — конечно, однако последнее время у нас здесь, в Западной Германии, нельзя вспоминать старое. Мол, было, да быльем поросло, и нет причины ворошить грязное белье.
— Вы загенский старожил, — вкрадчиво начал Гюнтер, — и не могли бы подсказать способ встретиться с Рудольфом Зиксом?
Учитель задумался. Потом сказал поморщившись:
— Надо попробовать. Но дело это нелегкое и, вы уже имели возможность убедиться в этом, опасное.
— Мы готовы на все! — воскликнул Гюнтер. «Конечно, если речь идет о миллионе, — подумал
Карл, — можно рискнуть. Тем более что к группенфюреру пойду я…»
Если бы не было другого выхода, он пошел бы все равно — сейчас не только ради денег, а из–за принципа. Сказал уверенно:
— А не стоит ли припугнуть Зикса? Я бы мог опознать Роршейдта, да и вы свидетель.
Учитель подумал и возразил:
— Извините, но это имело бы смысл, если бы вас убили. Прокуратура не смогла бы отвертеться от дела. А сейчас в полиции только посмеются над вами. В Загене все связано с фирмой Зикса и подвластно ей.
— Вот видите, что вы натворили, спасая меня! — засмеялся Карл.
— Придется искупать свою вину, — в тон ему ответил Каммхубель. — Сегодня я переговорю с одним человеком. Но вам, господин Хаген, пока что не стоит появляться в городе. Во–первых, это сразу насторожит Зикса и вам вряд ли удастся, даже с моей помощью, увидеться с группенфюрером. Кроме того, Роршейдт может повторить попытку убрать вас — тогда вам не поможет сам господь бог. Оставайтесь у нас. Мы с Ан–нет приглашаем, если вас устроит наша небольшая обитель.
Карл посмотрел на девушку. Ему захотелось остаться–чувствовал себя у Каммхубеля удобно и спокойно, но как отнесется Аннет к предложению дяди? Не заметил на ее лице неудовольствия или фальшивой учтивости, смотрела открыто и, Карлу показалось, выжидающе, но, может, действительно только показалось, потому что ему хотелось понравиться девушке, и перспектива провести в обществе Аннет хотя бы день представлялась заманчивой.
— А не обременю я вас? — начал с традиционного — в таких случаях сомнения, которое одновременно было замаскированной формой согласия.
— Будете развлекать меня, — полушутя–полусерьезно заметила Аннет, и впервые в ее голосе Карл уловил игривые нотки, а он уже знал, что это означает заинтересованность, дружелюбие, по крайней мере, не безразличие.
— О, мы не позволим фрейлейн скучать! — вмешался Гюнтер.
Это было сказано так, словно он имел уже некоторые права на Аннет и милостиво соглашался на присутствие Карла. Карлу это не понравилось, но он не мог не отдать должного находчивости товарища, который так ловко оговорил и свое пребывание в доме Каммхубеля.
— Я поэксплуатирую вас. — Девушка встала из–за стола. — Вам придется кое–что сделать в садике, мы с дядей немного запустили его, и ваши руки здесь пригодятся!
— Буду счастлив работать под вашим руководством! — Карл хотел, чтобы эти слова прозвучали шутливо, но произнес их серьезно, и девушке, очевидно, понравилась именно эта серьезность, поскольку она посмотрела одобрительно.
— Так или иначе, а поработать придется. И по–настоящему! — сказала весело.
Карл перепрыгивал через ступеньки, считая их. Задумал: если выйдет парное число — все обойдется. Вот и последняя ступенька — а–а, черт, неужели и сегодня его поджидает беда?
Остановился ориентируясь. Первые двери направо от лестницы — к кабинету Рудольфа Зикса…
А если группенфюрер не один?..
Карл на цыпочках перебежал к дверям, прислушался. Тихо. Постоял немного, колеблясь, — в последнюю секунду стало то ли страшно, то ли нерешительность овладела им: стоял, держался за ручку дверей и не мог открыть.
Три дня он ждал этого момента. Садовник, старый, знакомый Каммхубеля, вначале и слушать не хотел о! том, чтобы провести постороннего в усадьбу Зиксов, но не мог устоять перед искушением получить полторы тысячи марок. Он открыл Карлу калитку у теплиц, тот рядом со стеной за кустами пролез к дому и черным ходом поднялся на второй этаж к двери кабинета.
Карл представил, как Гюнтер курит сигарету за сигаретой, сидя в «фольксвагене» недалеко от калитки. Гюнтер не торчал бы перед дверью, да и чего ему бояться? Ну учинит группенфюрер скандал, ну выбросят его отсюда, но вряд ли пойдут на убийство, побоятся. Может, обвинят в попытке украсть что–нибудь, но он всегда оправдается в полиции.
И Карл потянул дверь на себя.
Кабинет, большой и светлый. В дальнем углу, за столом, сидел пожилой человек, он оторвался от бумаг и уставился на Карла то ли удивленно, то ли выжидающе, — трудно было разглядеть издалека.
Карл с Гюнтером обсудили несколько вариантов атаки на группенфюрера. Они сейчас знали, что Рудольф Зикс совсем не больной, что его спас от тюрьмы брат, что Ганс–Юрген вряд ли бы сделал это, если б не жена Рудольфа, у которой был контрольный пакет акций фирмы. Они узнали также, что группенфюрер большую часть времени проводит в кабинете, только изредка выходит в сад, что он живет так, будто ничего не случилось на земле в течение двух десятилетий, словно и сейчас существуют фюрер, и «третий рейх», и управление имперской безопасности. Однако Карл не ожидал такого: за столом сидел человек в эсэсовском мундире.
Все варианты встречи вылетели у парня из головы, но пауза затягивалась, и группенфюрер сделал движение, как бы хотел позвонить: это подтолкнуло Карла, он выступил вперед, поднял руку, как видел в фильмах, воскликнул:
— Хайль Гитлер!
Рудольфа Зикса словно подбросило в кресле. Вытянулся с поднятой рукой, застыл на секунду–две, хотя Карлу показалось, значительно больше.
— Группенфюрер, я осмелился побеспокоить вас, поскольку у меня есть поручение государственной важности… — Теперь Карл мог сказать то, что они придумали с Гюнтером: он приехал из Испании от Штайнбауэра — эта фамилия называлась во время процесса над отцом.
Группенфюрер не дал ему закончить. Обошел вокруг стола и положил руки на плечи Карлу, будто встретил если не близкого родственника, то хорошего знакомого.
— Я рад, очень рад. Расскажите мне, как там у вас?
Он повел Карла к дивану, над которым висел большой портрет Гитлера. Разговор приобретал нежелательный характер, Зикс принял его за другого, но за кого? А фюрер смотрел со стены злорадно, словно издевался. Казалось, вот–вот ткнет пальцем и прикажет: «Взять его!»
Сели на диван. Карл примостился на краешке, насилу выжимая из себя слова:
— Я счастлив, что наконец имею возможность увидеть одного из столпов… О вас так много говорили, и для нас, молодежи…
Наверно, слушать это Зиксу было приятно, ибо смотрел на Карла приветливо и потирал тыльной стороной ладони подбородок.
Но не удержался и оборвал:
— Вы давно видели обергруппенфюрера Либана? За все время я получил от него только одно известие и думал… Но вдруг узнаю, что от Мартина должен приехать доверенный человек. Правда, я ждал кого–нибудь из старой гвардии. — На миг в его глазах промелькнули то ли подозрения, то ли испуг., а может, это только показалось Карлу, так как Зикс продолжал дальше: — Однако Мартину виднее…
Теперь Карл знал, за кого принял его группенфюрер, и решил не возражать ему… О Либане он читал — газеты оповещали, что тот скрывается где–то в Парагвае. Следовательно, надо сыграть роль посланца Мартина Либана — в свое время доверенного лица самого фюрера…
— Доктор Либан, — начал, глядя в глаза группенфюреру, — чувствует себя неплохо, хотя возраст иногда дает себя знать. Да и климат… Парагвайские леса с их тропическими крайностями изнуряют не только людей пожилых, даже нам бывает трудно. Но что поделаешь, все мы живем надеждой вернуться на родину и считаем, что это время не за горами…
— Но чем вы, юноша, можете доказать, что на самом деле являетесь посланцем оттуда?
У Карла не было иного выхода, как идти напролом. Сказал уверенно, уставившись в группенфюрера:
— Условия строжайшей конспирации, в которых пребывает шеф, не позволили мне привезти с собой каких–либо бумаг и документов. Но, инструктируя меня, господин Либан приказал передать следующее: вы знаете две цифры, которые в свое время назвал вам покойный обергруппенфюрер СС и начальник главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Это является государственной тайной «третьего рейха», которая известна сейчас трем лицам — господину Либану, вам и мне. Это и есть мой пароль.
Зикс внимательно следил за Карлом. Немного подумал и согласился:
— Да, это лучшее доказательство, лучшее, чем какой–нибудь документ. Итак, юноша, что поручил вам Либан? Если ваш приезд связан с переселением наших соотечественников на родину, то должен сообщить…
У Карла отлегло от сердца. Он смотрел в глаза Зикса со склеротическими прожилками и думал — этот старый болван в эсэсовской, форме сидит целыми днями в кабинете, целыми неделями или месяцами молчит, сейчас он захочет выговориться — и тогда уже его трудно будет остановить.
Произнес учтиво, но твердо:
— Извините, группенфюрер, вы должны назвать мне эти две цифры. Так приказал господин Либан.
Зикс посмотрел на него, как Карлу показалось, презрительно.
— Я с удовольствием сделаю это, если вы назовете мне пароль.
У Карла дернулась губа. Кальтенбруннер оказался предусмотрительным и поставил еще одну препону на их пути.
Сказал резко, как надлежит человеку, у которого есть определенные полномочия:
— Пароль знал только обергруппенфюрер Кальтенбруннер, он мертв и, к сожалению, унес тайну в могилу. Но деньги не должны пропасть, их нужно использовать для обновления великой Германии, — Карл сам не заметил, как голос его вдруг приобрел патетическое звучание, — для создания «четвертого рейха»!
Глаза Зикса округлились, стали светлыми и пустыми, Карлу показалось, что группенфюрер сейчас или заплачет от избытка чувств, или, наоборот, взовьется в экстазе и закричит: «хайль». Но Зикс заморгал и, придя в себя, ответил:
— Вы правы, юноша, деньги не должны пропасть, все до последней марки надо использовать. Передайте Либану: тридцать семь — мои цифры. Запомнили! Тридцать семь! И пароль следующему из «тройки»: «Видели ли вы черный тюльпан?» Понятно?
Карл кивнул.
— Господин Либан будет благодарен вам, группенфюрер, за то, что вы сохранили одну из важнейших тайн «третьего рейха».
— Это моя обязанность! — в тон ему произнес Зикс. И продолжил дальше по–деловому: — Передайте Мартину: мы подготовили почву для переселения первой партии соотечественников. В ближайшее время сможем принять тысячу человек. Подготовлено жилье, есть возможность устроить их на работу. Деньги, как и договорились, через каналы нашей фирмы. Кстати, вы видели моего брата? — внезапно глаза его стали пронзительными, потемнели, и Карл понял, что группенфюрер заподозрил его. «А что, — подумал, — если сейчас выскочить из кабинета? Успею ли убежать, пока старый пень забьет тревогу?»
Но решительно отбросил эту мысль. Объяснил:
— Он привез меня сюда. Без его разрешения, вы же знаете, ни один посторонний не может увидеть вас. Господин Ганс–Юрген Зикс задержался, — неуверенно махнул на двери, — но это к лучшему, так как у нас разговор не для третьих ушей. — Карл понял шаткость своих аргументов, но чем еще он мог убедить группенфюрера? Сказал уверенно: — Позор Германии, лучшие сыны которой находятся в эмиграции! Но это будет продолжаться недолго, мы наведем здесь порядок! — Вдруг ему стало стыдно, он покраснел и умолк.
Группенфюрер понял это по–своему. Подскочил, стоял над Карлом, высокий, торжественный.
— Мы вольем свежую кровь в вены нации! — воскликнул надменно. — Кое–кто уже успел ожиреть и не думает о будущем. Мы возьмем власть в свои руки, вначале через фон Таддена, мы позволим ему немного поиграть во власть, но нам нужен человек закаленный и с опытом («Ого, — подумал Карл, — не себя ли имеет в виду?»), мы возродим отряды СС и вермахт, тогда увидим, чего стоит Германия! — Группенфюрер подошел к столу, выдвинул ящик. — Вот тут, юноша, — торжественно указал пальцем, — детальный план создания «четвертого рейха»!
Карл поднялся.
— Не смею вас больше задерживать, группенфюрер. Я должен проконсультироваться с вашим братом относительно некоторых финансовых вопросов и, надеюсь, вечером или завтра, когда вам удобнее, мы продолжим разговор.
— Да… да… — неуверенно согласился Зикс. — Мне хотелось бы услышать от вас… Но, в самом деле, лучше вечером… Я позвоню, вас проведут.
— Не беспокойтесь, я знаю дорогу, — Карл уже шел к дверям. Остановился, склонил голову. — Имею честь!
Выскочив в сад, встретился с каким–то человеком. Тот поднял на него удивленные глаза, но Карл глянул свысока и с невозмутимым видом проследовал мимо клумбы. Человек бросился в дом. Карл проскочил под деревьями к кустам и побежал. Открывая калитку, услышал сзади возбужденные голоса.
Гюнтер увидел его еще издали и завел мотор. Ничего не спросил, рванул машину так, что Карла отбросило к спинке сиденья. «Фольксваген» выскочил на асфальтированную дорогу и помчался, срезая повороты, к дому Каммхубеля.
— Все в порядке! — наконец нарушил молчание Карл. — Я вытянул из него цифры.
Гюнтеру хотелось спросить, какие же, но сдержался. Карл машинально смотрел на дорогу. Возбуждение постепенно угасало.
— Машину сразу поставим в гараж, — сказал он после паузы. Там подняли тревогу, и следует переждать день–два. Придется просить учителя…
Гюнтер удовлетворенно хмыкнул.
***
«Фольксваген» загнали в бокс, оставив «опель» Каммхубеля на асфальтированной площадке перед гаражом — летом учитель часто ставил машину здесь, и это не могло вызвать никаких подозрений. Затем сидели в гостиной, и Карл рассказывал, как все было.
Главное было обойти разговор о цифрах, а без этого Зикс выглядел дураком, но дураком, судя по всему, он не был, и Карл подумал, как удачно воспользовался он незначительной репликой группенфюрера о Либане — в результате у него сейчас есть сенсационный материал, за который ухватится любая газета: во–первых, бывший группенфюрер СС Рудольф Зикс совсем не сумасшедший; во–вторых, раскрыты его связи с эсэсовцами в Южной Америке.
Внезапно ему пришла в голову тревожная мысль, он придвинулся к Каммхубелю и сказал взволнованно:
— А если пресса устроит шум вокруг Зиксов, те могут докопаться, кто помог журналистам, и расправиться с вами.
Но учитель не склонен был разделять тревогу Карла. Сказал, что прошел концлагеря, а это такая школа жизни, после которой не страшны никакие Зиксы.
Карл слушал его, а краем глаза видел, что Гюнтер наклонился к Аннет и что–то шепчет ей — девушка улыбнулась и кивнула. Гюнтер сразу встал и, извинившись, протянул Аннет руку — так, держась за руки, они и поднялись на второй этаж. Деревянные ступеньки скрипели, Аннет смеялась. Карлу показалось, игриво и поощрительно. Карл не изменил даже позы, боясь показаться невнимательным, как и раньше, смотрел на учителя, но слушал не его, а старался услышать, что делается на втором этаже.
Там стукнула дверь — тишина…
Карл еле подавил в себе желание оборвать на полуслове разговор и побежать на второй этаж. Представил, как они там шепчутся и, может быть, Гюнтер уже притянул к себе Аннет. Удержался, чтобы не побежать за Аннет, сказать что–нибудь оскорбительное. Хотя знал — никогда не сделает этого, и вдруг почувствовал себя слабым и униженным: это чувство собственной беспомощности было таким сильным, что захотелось либо плакать, либо жаловаться, либо еще больше унизить себя. Какая–то пустота образовалась вокруг, сейчас не испугался бы ничего: так бывает с человеком в минуты наибольшего подъема чувств или, наоборот, упадка, когда мозг туманят отчаяние и слезы.
Карл пошевелился, учитель заметил перемену в нем — замолчал на полуслове, смотрел выжидательно. И тогда Карл не выдержал, хотел остановиться, но было уже поздно, слова вылетели из него, и, странная вещь, он жег себя словами, а становилось легче:
— Я обманул вас… Мы выдумали, что хотим написать о Зиксе в газете. Мы обманули вас и, извините, сейчас уедем, потому что не можем оставаться в этом доме, мне стыдно смотреть вам в глаза, и вообще все это нечестно. Зикс знает часть шифра, по которому в банке можно получить деньги, много денег, и мы приехали сюда, чтобы выведать у него цифры, — вот и все. И вы помогли это сделать, мы использовали вас, а вы спасли меня. Я не могу спокойно смотреть вам в глаза, ибо считал себя порядочным человеком, а тут… Каммхубель смотрел на Карла с интересом.
— Значит, деньги… — сказал, растягивая слова. — И я — то, старый воробей, попа–ался…
— Да, деньги, — подтвердил Карл с каким–то отчаянием. Думал, сейчас учитель взорвется, накричит на него, но Каммхубель спросил совсем по–деловому:
— И много денег?
И снова у Карла мелькнула мысль, что не следует этого говорить, но остановиться уже не мог:
— Двадцать миллионов марок.
Каммхубель на секунду закрыл глаза. Помолчал и сказал неодобрительно:
— Большая сумма. И зачем вам столько денег?
Карл растерялся. Ответить на это было очень легко, он бы нашел, куда бросить эти миллионы, но смотрел в прищуренные, ироничные глаза Каммхубеля, и все объяснения казались банальными, даже не банальными, а пустыми и глупыми, ведь раньше, когда перед ним не стоял призрак миллионов, он тоже, главным образом на словах, презирал деньги, смеялся над денежными тузами, осуждал их поступки, продиктованные жаждой обогащения, иронизировал над причудами, порожденными богатством.
Каммхубель, так и не дождавшись ответа Карла, не стал говорить банальности, не встал и не указал на дверь, он задумался на несколько секунд, и Карлу хватило этого, чтобы хоть немного оправдаться.
— Но ведь деньги можно потратить по–разному, — начал не очень уверенно, — и я думал…
— Эсэсовские деньги! — оборвал учитель довольно резко. — Значит, награбленные. Вы догадываетесь, откуда эсэсовцы брали ценности?
Карл подумал об отце и кивнул утвердительно. Не мог не понять, куда клонит учитель, и решил опередить его:
— Но вы ведь не знаете, что эти двадцать миллионов, если не взять их сейчас, останутся швейцарским банкирам.
Каммхубель пожал плечами.
— Я не знаю, что делать, и не хочу ничего подсказывать вам, но, — поморщился, — чем–то это пахнет…
— Конечно, — согласился Карл. — Фактически ми воры и воруем… Точнее, не воруем, а нашли и не отдали…
— Та же форма кражи, — безжалостно отрезал учитель.
Эта реплика не понравилась Карлу: одно дело, когда сам казнишь себя, другое, когда кто–нибудь тычет тебя носом в грязь, а Каммхубель почти прямо сказал, что он, Карл Хаген, вор.
Но учитель сам понял, что допустил бестактность, он был деликатным и испугался, что обидел своего гостя, который и так, видимо, переживает и нервничает В парне что–то есть — человек эгоистичный, коварный так сразу не обнажил бы все свое нутро. Учителю хотелось сказать: «Брось, оставь эти неправедные деньги и вымой руки!» Но подумал: «А будет ли это правильно? Ведь двадцать миллионов марок можно использовать на гуманные цели».
— Ну хорошо, а как бы вы поступили, получив, например, эти эсэсовские миллионы? — спросил Карл.
Каммхубель не задумался и на секунду.
— Отдал бы какой–нибудь стране, которая пострадала в годы войны. Польше, например. Постройте, господа поляки, больницу, это ваши деньги, и мы возвращаем только часть…
— Коммунистам? — не поверил Карл. — Для укрепления тоталитарного режима?
— Вы были там?
— Нет, но…
— Не нужно «но»… Я сам читаю наши газеты и помню, что там пишут. Я не коммунист, туристом съездил в Польшу. Советую и вам.
— Никогда!
— Все же хотите получить деньги?
— Я живу в Швейцарии и хорошо знаю местных банкиров. Для них двадцать миллионов — один глоток. Да я не отдам им и марки. А потом? Потом решим, — закончил неуверенно.
Не хотелось возражать учителю — тот подсказал единственный честный выход из положения, — но Карл все же не мог уяснить себе, как, получив миллионы, сможет отказаться от них; в конце концов, его не очень волновала проблема, кому отдавать, коммунистам или благотворителям: все его естество восставало против самой постановки вопроса — отдавать, если он может приобрести себе черт знает что; почему–то представил Аннет в длинном, приземистом, неимоверно роскошном «крейслере», а себя за рулем, и никто не может догнать их — посмотрел на потолок, наверху тихо, и эта тишина потрясла его, спутала все мысли.
— Извините… — сделал попытку подняться.
Но от Каммхубеля трудно было отделаться. Учитель спросил его, знает ли он сейчас весь шифр, а если нет — кого нужно брать за грудки, и Карл ответил откровенно:
— Честно говоря, не представляю, что делать. Нам надо разыскать какого–то Людвига Пфердменгеса, а я не знаю, кем он был, кто есть и где он вообще.
— Людвиг Пфердменгес… — пошевелил губами учитель. — Безусловно, он принадлежал к элите рейха. Личности незначительной вряд ли доверили бы такую тайну.
— Зикс командовал корпусом СС, а потом служил в управлении имперской безопасности, — ответил Карл. — Пфердменгес, должно быть, примерно такая же птица.
Каммхубель закрыл глаза, словно вылавливал что–то из закоулков памяти.
— Пфердменгес… Где–то я слышал эту фамилию… Погодите, есть у нас один энциклопедист….. — потянулся к телефону, что стоял на журнальном столике, повернул диск. — Клаус? У тебя еще совсем свежий полустарческий мозг. Не вспомнишь — Людвиг Пфердменгес?.. Какая–то фигура «третьего рейха»? Что ты говоришь: поддерживал связи с Ватиканом? И сейчас там? Действительно, я вспоминаю — о нем писали в газетах… Помнишь, когда критиковали «христианских атеистов». Живет в Ассизи, да, сейчас я вспомнил, он еще полемизировал с каким–то епископом… Это очень интересно, но мы поговорим в другой раз, сейчас спешу, я скоро загляну, извини… — Каммхубель положил трубку. Заметил незло: — Действительно, помнит почти все, но любит поговорить… Вы уже имели возможность понять, юноша: Людвиг Пфердменгес был одним из высокопоставленных представителей «третьего рейха» в Ватикане. А теперь живет в Ассизи. Слышали о Франциске Ассизском?
Карл не сводил глаз с Каммхубеля. А тот улыбался, словно читал мысли Карла, будто уловил в них что–то неизвестное. Так и вышел на веранду.
И снова Карл вспомнил Гюнтера и Аннет: сколько же они наедине? Наверное, целую вечность. Посмотрел на часы: неужели он столько проговорил с Каммхубелем? — на цыпочках стал подниматься по ступенькам.
Еще издали увидел: двери в комнату Аннет открыты. Итак, она у Гюнтера!
Постоял, пытаясь унять волнение, но, так и не уняв, направился к дверям мансарды. Не знал, для чего — ведь никогда не подслушивал, считая это подлостью, на которую не способен, но, может быть, обманывал себя, легко осуждать пороки других, а когда дело касается тебя самого…
Заглянул в комнату Аннет и остановился. Стоял и боялся пошевелиться — девушка сидела на подоконнике боком к нему и читала. Уперлась ногами в оконную раму, колени торчали почти вровень с подбородком. Аннет наморщила лоб и такой показалась красивой и обаятельной, что у парня перехватило дыхание. Шагнул вперед, кашлянул громко, уже не скрываясь. Аннет встала, спрятав книгу за спину.
— Где Гюнтер?
Показала глазами, не отвечая.
— Что случилось? — Он уже догадывался, но хотел услышать подтверждение. Карлу стало даже жалко Гюнтера. — Поссорились?
Аннет пожала плечами.
— Он такой назойливый… — осеклась, вспомнив, как Гюнтер пытался поцеловать ее. До этого он не был неприятным ей, даже пробуждал интерес, но почувствовала, что ответить на поцелуй не сможет.
Карл стоял перед Аннет, но смотрел не на нее — в окно. Последние слова смутили его: «Он такой назойливый…» А если бы не был назойливым?
Девушка засуетилась и подвинула к нему стул.
— Дядя заговорил тебя?
Она впервые сказала «тебя». Почему — Карл не знал, возможно, это было проявлением доверия или дружелюбия, а может, оговорилась.
Чтобы прийти в себя, Карл вынул сигарету, пошарил по карманам, отыскивая зажигалку.
Сел на стул. Девушка снова пристроилась на подоконнике.
— Сегодня ночью мы уезжаем, — сказал Карл.
Аннет посмотрела на него исподлобья.
— Как–то нехорошо получилось, извини… Но вы так громко разговаривали, что я все слышала.
— Ну и что же?
— Завидую вам. Интересно. И увидите Италию…
— Я там бывал не раз, — сказал Карл, и, наверно, начался бы разговор об итальянских достопримечательностях, если бы парню не пришла мысль предложить: — «Хочешь с нами?
Он спросил просто из вежливости, ни на что не надеясь, но Аннет ответила вполне уверенно:
— Очень хочу!
Карл не поверил:
— Ты не шутишь?
— Нисколько.
— Мне тоже очень хочется, чтобы ты поехала. — Это прозвучало как выражение симпатии, даже больше, возможно, Аннет поняла его, и ей не было неприятным признание Карла, ибо наклонилась к нему, сделала жест, будто хотела взлохматить прическу или дотронуться до щеки, но удержалась — улыбнулась и спросила:
— Значит, возьмешь?
— С радостью!
Она спросила о вполне конкретной вещи, но Карл видел в ее глазах другое. Отвечая «с радостью», тоже вложил в эти два слова иной смысл. Аннет поняла, запрокинула голову, подставила лицо солнцу и радостно засмеялась. И все вокруг стало тоже радостным: и солнечные зайчики, что трепетали на ее подбородке и отражались в глазах, и ее смех, светлый и звонкий, и кусочек безоблачного неба, которое, казалось, ворвалось в комнату и окрасило все вокруг голубизной, даже обычные домашние вещи сделало прозрачными и невесомыми.
Но Аннет умолкла, и небо отступило из комнаты. Словно пытаясь догнать его, Карл подошел к окну, сейчас он ощущал тепло, исходящее от девушки, оно дурманило его, но помнил слова о назойливости и все же не мог удержаться: дотронулся рукой до плеча Аннет слегка, готовый в ту же секунду отнять ладонь, но Аннет прижалась к его пальцам щекой, может, на один лишь миг и сразу же соскочила с подоконника.
Карл все еще стоял растерянный, а она уже засуетилась, собирая вещи.
— Нам придется заехать во Франкфурт. — И, увидев, что Карл не понимает, объяснила: — Документы… Несколько дней на оформление документов.
— Не страшно.
Карл согласился бы ждать и неделю и месяц, только бы не расставаться с Аннет. Черт возьми, неужели он так влюбился?
— А как посмотрит на это Гюнтер?
— Мы его сейчас спросим. Думаю, Гюнтер тоже будет рад.
Аннет посмотрела внимательно: что это — проявление благородства или детское простодушие? Но не стала спорить.
Карл выглянул в коридор, позвал:
— Гюнтер, ты еще жив?
Тот открыл дверь.
— Можно не мешать?.. — процедил сквозь зубы. Ему неприятно было видеть сияющее лицо Карла и рядом такую же радостную улыбку на устах Аннет. Почувствовал свое превосходство, каким утешался во время спектаклей, когда входил в роль, а он и на самом деле вошел в роль — размышлял о пьесе, и она все еще стояла перед глазами. И сказал то, что думал, — ему было безразлично, как воспримут это Карл и Аннет, говорил не им, а будто в переполненный зал, даже всему человечеству: — Я только что понял… Да, эта мысль засела мне в мозг и представляется при явной парадоксальности единственно правильной. Все говорят, пишут, доказывают: настоящий талант неотделим от гуманизма. Глупости! Талант должен быть злым! Да, всем нам не хватает порядочной порции злости, злости совершенно определенной — вместе с талантом она будет бить в цель, уничтожать подлость и разрушать власть имущих и, главное, вдохновлять тех, кто идет за талантом, кто сочувствует ему. Талантливый гуманист — вредный, он размягчает людей, убаюкивает, а злой и гневный — зовет на баррикады!
— Однако же, — возразила Аннет, — гуманность совсем не исключает злобы. Она укрепляет ненависть к врагам человека, к тем, кто унижает его.
А Карл не выдержал и спросил ехидно:
— Не хочешь ли ты сам стать злым пророком человечества?
Гюнтер не воспринял ни возражения девушки, ни иронии Карла
— Мы воспламеним человеческие сердца, и дай бог, чтобы пепел Клааса не развеялся ветром!
— Я всегда знал, что ты талант, — сказал Карл, — но не об этом сейчас разговор. Слушай внимательно, гений. Аннет едет с нами.
Гюнтер опустился с небес. Какая–то тень промелькнула на его лице, он переспросил:
— Фрейлейн Аннет? С нами?
— Сегодня ночью мы двинемся в Италию.
— Но почему в Италию? — не понял Гюнтер. Карл рассказал, как Каммхубель разузнал о Пфердменгесе.
Гюнтер слушал внимательно, кивал головой, но никак не мог скрыть неудовольствия — этот Карл Хаген оказался болтуном, еще двое узнали о цели их путешествия. Правда, Каммхубель — человек серьезный, от него вряд ли стоит ждать каверзы, а племянница… обыкновенная девчонка, симпатичная, не возразишь, но чем красивее женщина, тем она непостижимей — от такой можно ждать любых выкрутасов.
Гюнтер вымученно улыбнулся.
— Я рад вашей компании, фрейлейн Каммхубель.
Стекло в машине опустили, и ее продувало со всех сторон, но это не приносило желаемой прохлады. Особенно когда ехали по извилистым горным дорогам, где сорок километров в час уже считалось лихачеством. Склоны, покрытые низкорослым кустарником и травой, казалось, раскалены жарой, над ними дрожал прозрачный горячий воздух, от перегретого асфальта горько пахло смолой — не верилось, что совсем недавно шоссе обступали зеленые альпийские луга, а от холодной воды горных ключей сводило рот.
Гюнтер глотнул из бутылки тепловатого лимонада, сплюнул с отвращением.
— В Терни остановимся на несколько минут возле какой–нибудь траттории, — предложил он. — Я умру, если не глотну воды со льдом.
В Рим приехали поздно вечером, переночевали в дешевом отеле на окраине и решили не задерживаться — удивительно, но решила так Аннет, хотя она раньше не бывала в древнем городе. И не потому, что ей не хотелось взойти на Капитолий или осмотреть Ватиканский музей, просто знала, что и Карл и Гюнтер мыслями давно уже в Ассизи — разве будешь со спокойной душой рассматривать интереснейшие руины, когда до места назначения осталось три часа езды?
Договорились остановиться в Риме на обратном пути. И вот их «фольксваген» поднимал пыль на древней умбрийской дороге.
За Терни шоссе постепенно выровнялось, теперь ехали по долине, изредка минуя села, местечки.
Ассизи увидели издалека — справа от дороги на высоком холме лепились один к одному, как игрушечные, домики, соборы — все это на фоне синего неба и рыжих, выжженных солнцем возвышенностей казалось нереальным, вымышленным; словно великан забавлялся в песке, лагреб кучу, а потом налепил формочкой разные кубики и прямоугольники, провел между ними линии, соорудив узкие улочки и площади.
Эта иллюзия сказочности не исчезала вплоть до последней минуты, пока не повернули на асфальтированную ленту, что вилась между склонами холмов и наконец привела их в Ассизи.
Гюнтер пристроился за туристским автобусом и не ошибся, потому что через несколько минут они стояли на центральной площади города: справа нижний собор Сан–Франческо с гробницей святого Франциска Ассизского, слева — монастырь, верхний собор Сан–Франческо с фресками Чимабуе, чуть дальше — женская обитель Сан–Домиано. Обо всем этом они узнали сразу после приезда: туристы высыпали из автобуса, и гид сразу стал знакомить их с местными памятниками старины.
В Ассизи, как и в большинстве подобных итальянских городков, у которых есть свой знаменитый святой, или фонтаны, или собор с фресками Джотто, было несколько маленьких отелей, напоминавших скорее грязноватые и некомфортабельные меблированные комнаты. Один из них пристроился рядом с собором, и Карл предложил остановиться именно здесь. Это устраивало и Аннет, которая уже просматривала цветные проспекты у ближайшего киоска, и Гюнтера, который немедля занял место в гостиничной траттории и заказал бутылку холодного вина.
Карл тоже не отказался от стакана. Утолив жажду, спросил хозяина траттории об отце Людвиге Пфердменгесе и услышал в ответ, что тот знает такого важного священнослужителя, да и вообще, кто в Ассизи не знает отца Людвига, ибо в Ассизи каждый житель знает друг друга, а отца Пфердменгеса не знать просто невозможно.
Хозяин внезапно оборвал эту темпераментно произнесенную тираду, распахнул двери и, замахав руками прямо перед носом молодого послушника в черной сутане, остановил его и позвал Карла.
— Этому синьору нужен отец Людвиг!.. — начал громко, почти на всю площадь, и Карл вынужден был оборвать его, пояснив, что на самом деле имеет личное дело к отцу Пфердменгесу, и не возьмет ли послушник на себя труд показать ему, где тот живет.
— Отец Людвиг отдыхают, — объяснил послушник, ощупывая Карла любопытными глазами. — Они встают в пять, потом молитва, кофе — раньше шести вас не примут.
— И где быть в шесть?
— Но мне нужно знать, хотя бы немного, по какому делу господин собирается беспокоить отца Людвига?
Карл только смерил послушника насмешливым взглядом, и тот отступил.
Договорились, что Карл будет ждать у входа в монастырь. До шести было еще много времени, и Карл с Аннет спустились к усыпальнице Франциска Ассизского, находящегося в нижнем соборе. Здесь было прохладно, пахло ладаном и еще чем–то сладковатым — запах, который сопровождает мощи в церквах, подвалах и пещерах во всем мире.
Усыпальница производила величественное впечатление: везде много золота, полированный гранит и мрамор, тяжелый бархат. Аннет остановилась поражённая, постояла немного и шепнула Карлу, что святому Франциску лежать здесь, наверно, неуютно — он всю жизнь проповедовал аскетизм, а члены его ордена в свое время отказывались не только от роскоши — элементарных человеческих благ.
Карл улыбнулся, вспомнив любопытного послушника, пышущего здоровьем, видно, потомки святого нищего ни в чем себе не отказывают. В конце концов, Карлу наплевать на образ жизни монахов. Он повел Аннет обедать, поскольку часы показывали уже четвертый час.
Встали из–за стола в начале шестого, солнце клонилось уже к западу, и на площадь перед тратторией легли длинные тени. Карл поднялся на второй этаж, где им отвели комнаты, и принял душ. Извлек из чемодана белую полотняную сорочку, она немного холодила и не прилипала к телу. Пиджак подержал в руке, только одна мысль о том, что нужно выйти в нем на уличную жару, вызвала отвращение.
До встречи с Пфердменгесом оставалось несколько минут — они посидели втроем, не разговаривая: обо всем было уже переговорено, все волновались, но старались не показывать этого. Наконец Карл встал, помахал небрежно рукой.
— Не задерживайся, — попросила Аннет.
—Конечно. Мне приятнее смотреть на вас, чем на самого симпатичного духовника!
Аннет и Гюнтер видели, как Карл миновал площадь, обошел автобусы и исчез за углом собора. Еще издалека увидел возле монастырских ворот послушника — тот сидел на скамейке в тени и читал молитвенник.
Карл мог поспорить, что шустрый монах увидел его уже давно, но оторвал глаза от книжки только тогда, когда Карл сел рядом. Послушник сказал:
— Вас ждут в саду. Я провожу.
Отец Людвиг Пфердменгес гулял по тенистой аллее. Он берег свое здоровье и, когда только мог, старался двигаться и больше бывать на свежем воздухе. Увидев послушника с человеком, который просил у него аудиенции, остановился за деревом, разглядывая: никогда не помешает увидеть будущего собеседника раньше, чем он тебя; сколько раз отец Людвиг выигрывал на этом.
Но внешность юноши, что шел за монахом, ничего не подсказала Пфердменгесу: мог быть и философом, что изучает богословские науки, и посланцем оттуда — по старой привычке отец Людвиг даже в мыслях не уточнял — откуда: сколько их прошло через его руки, вначале эсэсовцев, которые сожгли где–то свои мундиры, потом просто курьеров или представителей организаций, которые желали наладить связи с эмигрантами в Испании или Южной Америке; раньше, правда, приезжали люди солидные, бывшие коллеги Пфердменгеса по партии, но потом стали появляться энергичные юнцы в клетчатых сорочках и даже в шортах. Отец Людвиг вначале косил на них глазом, однако постепенно привык, молодежь подрастает, берет дело в свои руки, что и говорить, он сам в начале тридцатых годов был не старше этих парней.
Отец Людвиг вышел из–за дерева, махнул рукой послушнику, чтобы исчез. Улыбнулся и поклонился посетителю: сделал жест, который можно было расценить как желание благословить, но молодой человек никак не отреагировал на него, и духовник указал ему на скамейку под кипарисом.
Карл подождал, пока духовник сядет, и опустился рядом.
Отец Людвиг первый нарушил молчание:
— Мне передали, что у вас есть ко мне какое–то дело…
Карл огляделся по сторонам и, не увидев никого, придвинулся к священнослужителю и спросил шепотом:
— Видели ли вы черный тюльпан?
Какая–то тень промелькнула в глазах отца Людвига. Но только на секунду, потому что и дальше смотрел вопросительно и остро. Если он знал пароль, то проявил удивительную выдержку.
— Ну а если и видел? — еле пошевелил губами.
— Неужели вы не припоминаете?
Кожа на черепе отца Людвига разгладилась. Он улыбнулся Карлу, как ребенку, казалось, сейчас погладит его по головке.
— Я уже вышел из возраста, когда играют в прятки. Меня интересуют только книги.
— Но вы должны помнить пароль, который дал вам Кальтенбруннер! — не выдержал Карл. — И назвать мне две цифры шифра.
Отец Людвиг и дальше продолжал смотреть кротко.
— Но я никогда в жизни не видел Кальтенбруннера, если вы имеете в виду tofo… — неуверенно качнул головой.
— Да, обергруппенфюрера Эрнста Кальтенбруннера, — подтвердил Карл. Позиция монаха обескуражила и одновременно разозлила его: зачем же играть? — Вам доверили тайну государственной важности, и вы должны назвать мне две цифры.
Кожа на черепе монаха собралась в морщинки.
— Цифры шифра? — проворчал. — Вы имеете в виду… — Вдруг взгляд его посветлел: отец Людвиг вспомнил или наконец сообразил, что от него хотят. — От банковского шифра?
Карл кивнул машинально и, увидев, как загорелись глаза монаха, пожалел, что сразу выдал себя.
— Я не знаю, что означают эти две цифры, вы должны назвать их, и все, — попробовал исправить ошибку Карл.
— И кто же послал вас ко мне?
— Не имею права назвать.
Церковник посмотрел на него вопросительно. Задумался, не отводя глаз. Неожиданно спросил:
— Вас послали только ко мне? Или еще к кому–нибудь?
— Вы хотите знать больше, чем вам полагается, — улыбнулся Карл.
Монах сокрушенно покачал головой.
— Вы еще совсем молодой человек, и так мне…
— Цифры! — жестко оборвал Карл.
Наверно, отец Людвиг принял решение, так как погладил ладонью череп и произнес примирительно:
— Хорошо. Но нам придется проехать тут недалеко… километров тридцать… Я сам отвезу вас.
— Зачем? Неужели вы не помните цифры и пароль?
Монах улыбнулся. Теперь его глаза не скрывались за веками, смотрели приветливо, открыто.
— Мне приятно видеть вас, юноша, одного из нашей молодой гвардии. И я не отпущу вас так, у нас есть райский уголок, поедем, поужинаем, поговорим…
Карл хотел отказаться, сославшись на то, что его ждут, но церковник смотрел действительно приветливо, в конце концов, он мог ставить условия — если не захочет назвать цифры, его не заставит сделать это сам папа римский!
— Но у меня мало времени, — все же попытался возразить Карл.
— Вы не один в Ассизи? — спросил отец Людвиг.
Какой–то подводный риф скрывался в этом вопросе, и Карл на всякий случай соврал:
— Те, кто послал меня, считают, что такое деликатное дело нельзя поручать нескольким.
— Естественно, — подтвердил отец Людвиг. — Поехали мой юный друг, — сказал льстиво, будто Карл и на самом деле был дорогим гостем. Пошутил: — Вы знаете, тяжело расставаться с тайной, которую сохранял столько лет.
Карл кивнул. Монах был прав, и было бы нелепо отказываться от приглашения.
Отец Людвиг провел его через парк к монастырским хозяйственным постройкам и попросил подождать возле ворот. Сам вывел из гаража неновую уже машину, подозвал служителя и что–то сказал ему. Служитель направился к телефонной будке, монах выехал на «форде» за монастырские ворота и пригласил сесть Карла. Повел машину по узким безлюдным улочкам. Они обогнули город и выскочили на шоссе, вдоль которого тянулись виноградники и оливковые рощи. «Форд» надрывно ревел, взбираясь на гору, оставляя за собой шлейф белой пыли.
— У меня, — небрежно кивнул головой отец Людвиг, — там есть прекрасное вино. Такого в Италии нигде больше не найдете.
Пошел одиннадцатый час, а Карл все не возвращался, и Аннет стала волноваться. Гюнтер не подавал вида, но и он тоже забеспокоился: может быть, им следовало идти вдвоем, по крайней мере, прикрывал бы Карла.
В двенадцать они уже поняли: что–то случилось. Аннет предложила сообщить полиции, но Гюнтер, резонно ссылаясь на происшедшее в Загене, отказался.
Карл не появился и утром. В шесть Аннет постучала Гюнтеру в номер — она не ложилась всю ночь, и они вышли на улицу.
«Фольксваген» стоял там, где его поставили вчера вечером, Гюнтер обошел вокруг него, зачем–то постучал ключами о стекло и предложил:
— Ты пойдешь в полицию и спросишь о Карле. Не называя фамилии Пфердменгеса.
— Почему?
— Возможно, мы зря волнуемся и вмешательство полиции испортит Карлу всю игру.
— Но он мог хотя бы позвонить…
Гюнтер только развел руками. Да и что ответить?
Сонный карабинер долго не мог понять, что надо этой красивой синьорине. Поняв, отрицательно покачал головой. Ночью не произошло никаких случаев, никто не звонил, и все в городе спокойно.
Как зовут синьора, который пропал? Карл Хаген, швейцарский подданный? Странно, а сколько ему лет? Боже мой, карабинер подмигнул; в таком возрасте парни иногда знакомятся с девушками и не спешат домой. Нет, он не настаивает на своей версии и не хочет огорчить синьорину, но пусть она подождет.
Что ж, в этом совете было рациональное зерно, однако полицейский не знал, куда и к кому пошел Карл Хаген. А она знала и не могла не представлять историй одна другой страшнее, и, если бы не было рядом Понтера, не выдержала бы и уже давно побежала к отцу Людвигу.
В восемь часов Гюнтер предложил позавтракать, и Анкет согласилась только потому, что не могла больше терпеть вынужденную бездейственность — почти ничего не ела и смотрела на Гюнтера, удивляясь: как мог он жевать и пить, да еще и подтрунивать над итальянской кухней?
Опорожнив чашку кофе, Гюнтер вытер губы бумажной салфеткой и сказал:
— Насколько я понимаю, у нас есть два выхода: или идти к этому Пфердменгесу, или отыскать того… послушника и попробовать выведать у него что–нибудь.
— Да, конечно, — одобрила Аннет.
— И в том и в другом случае будет лучше, если сделаешь это ты.
— Я? Но что я могу? — испугалась Аннет. Сама мысль о том, что надо идти к этому страшному Пфердменгесу, которого не видела, но уже считала страшным, была ужасной. — Да, что я могу? — повторила прищурившись:
— Если пойду я, он поймет, что тут что–то нечисто, — объяснил Гюнтер весомо. — Но сейчас мы еще не будем беспокоить Пфердменгеса. Попробуем обработать послушника. Ну, тебе известно, как действовать… — не выдержал, чтоб хоть немного не отомстить. — Всякие там женские фокусы. Значит, так… Тебе необходимо увидеть отца Людвига. Но перед этим хочется узнать, как вести себя с такой высокой особой. Какие у него привычки, где был вчера, что делает сегодня? Да и вообще сама увидишь…
— Вообще–то ты прав. — Аннет не могла не согласиться с доводами Гюнтера, хотя и не представляла себе, как ей удастся обмануть послушника. Голова после бессонной ночи отяжелела, хотелось плакать. Гюнтер подвинул к ней стакан сухого вина со льдом, взяла машинально и выпила — стало немного лучше, и Аннет допила до конца. Вино сразу придало ей энергии.
— Я пойду…
— Хорошо, — согласился Гюнтер, — а я буду держаться неподалеку, и в случае необходимости зови.
Они спустились к собору, Аннет обошла усыпальницу Франциска, призывая святого помочь ей, но тот не отозвался на ее призыв, ибо послушника не было ни здесь, ни вблизи монастыря, и девушке ничего не оставалось, как бродить по двору, уже заполненному туристами.
Она увидела послушника, когда уже не верила во встречу, — тот направлялся от монастырских ворот прямо к ней через площадь. Аннет замерла: ей показалось,. что послушник подойдет и скажет что–то страшное, но тут же отогнала эту мысль. Наверное, его послал к ней Карл, стало быть, не надо волноваться.
Девушка пошла навстречу, улыбаясь, но вдруг заметила — послушник шел, уставясь в мостовую, перебирал четки и шептал молитву.
Позвала:
— Синьор, минутку, синьор! — Послушник, наверно, не слыхал, а если и слышал, то подумал, что зовут кого–нибудь другого, поскольку продолжал идти дальше, не поднимая глаз. Аннет вспомнила, что Карл разговаривал с ним по–французски, и повысила голос: «Mon frere!»
Он резко обернулся, двинулся к Аннет, но остановился в двух шагах. Взглянул пристально, щеки его покраснели.
— Мадемуазель что–то хотела спросить? — стыдливо улыбнулся.
Они молчали, но Аннет пришла в себя и сказала:
— Хозяин траттории, — кивнула на вывеску, — говорит, что вы можете устроить встречу с отцом Людвигом.
— Он слишком высокого мнения обо мне, — смутился юноша.
— Говорили, что вы такой добрый и умный. Я еще вчера хотела увидеть вас, но не Нашла.
— Отец Людвиг уехал и поручил мне одно дело.
У девушки екнуло сердце. Спросила быстро:
— Уехал? С кем–нибудь или один?
Послушник отступил. То ли взяла верх врожденная подозрительность, то ли имел приказ держать язык за зубами.
— У святого отца нет привычки… — начал, но девушка, поняв, что допустила оплошность, улыбнулась и перебила:
— Какое это имеет значение? Я просто хотела знать, скоро ли он возвратится?
— Он вернулся еще ночью.
— Значит, я могу надеяться?
— Вряд ли… Говорил, что сразу после обеда… — послушник запнулся.
Аннет подняла руку, словно хотела дотронуться до него, спросила:
— Если вы будете свободны после обеда, может, выкроите часок–другой и покажете мне Ассизи? С гидами так неинтересно.
Лицо послушника расплылось в улыбке. Переступив с ноги на ногу, произнес с сожалением:
— В это время никак не могу.
— Почему?
— Должен отвезти отца Людвига.
— А позже? — Аннет кокетливо опустила глаза. — Отец Людвиг вернется вечером?
— Он нет, но я буду здесь.
— А если ваш учитель передумает?
— Его не будет несколько дней, — заверил послушник. — Я только отвезу его, а сам назад. Вы надолго в Ассизи?
— Еще не знаю… — вздохнула Аннет.
— Я вам покажу все ассизские святыни. — Послушник спрятал в карман четки. — Кроме того, у меня есть мотороллер, — предложил нерешительно, — и мы сможем…
— О–о, как чудесно! — захлопала в ладоши Аннет. — Так когда мы встретимся?
— В пять у входа в собор.
— Отлично.
Послушник поклонился и засеменил прочь. Девушка смотрела ему вслед, юноша перед тем, как повернуть за угол, оглянулся и кивнул издалека.
Аннет, вспомнив его жадные глаза, прищурилась. Махнула Гюнтеру, который вертелся чуть ли не рядом, и направилась к отелю. Почувствовала такую усталость, что села бы здесь прямо на мостовую и не двигалась. Еле поднялась к себе на второй этаж и упала в кресло. Гюнтер стоял рядом и молчал. Аннет была благодарна ему за то, что не спешил.
— Вчера вечером монах ездил куда–то — начала, и сразу вся усталость исчезла, будто хорошо проспала всю ночь и только что приняла душ. — И сегодня уезжает сразу после обеда.
— Ну и что? — не понял Гюнтер.
— Как же ты не можешь сообразить? Вчера вечером Пфердменгес исчез. Если бы Карл остался в Ассизи, пришел бы в отель. Следовательно, они поехали вместе, и Карл не вернулся. Ездили куда–то недалеко, поскольку отец Людвиг ночью был уже в монастыре. Сегодня монах снова едет, наверно, туда же. Кроме того, предупредил, что будет отсутствовать несколько дней.
— Что–то в этом есть, — потер лоб Гюнтер. — Хотя… Расскажи, о чем ты разговаривала с прощелыгой в сутане? Он почти облизывался, глядя на тебя!
— Оставь… — недовольно поморщилась Аннет. — Я назначила ему свидание в пять, и если нужно еще что–нибудь вытянуть из него… — она взяла предложенную Гюнтером сигарету, хотя и не курила, затянулась, закашлялась. Бросила и повторила в деталях разговор с послушником.
Гюнтер слушал, не перебивая, сделал вывод:
— Хитрый, пройдоха. Ты права, за святым отцом надо проследить. Жаль, не узнала, куда они едут.
— Говорил, недалеко. Я думала: не стоит расспрашивать. Еще передаст своему учителю, и если за этим Что–то кроется.
— Правильно, — похвалил Гюнтер. — Итак, послушник назначил тебе встречу…
— Не паясничай! Сейчас около одиннадцати? В монастыре обедают в два, ты иди, а я немного отдохну…
В два часа они поставили «фольксваген» в ряд с другими машинами под желтым рекламным щитом заправочной станции, на котором черный змей выдыхал ярко–красное пламя.
Миновать эту станцию отец Людвиг не мог, только после нее дороги расходились в трех направлениях: налево — на Терни и затем Рим, прямо — на Флоренцию и направо — в горы.
Аннет заставила заднее стекло какими–то коробками, бросила туда плащи и уселась на сиденье так, что ее совсем не было видно. Сама же видела все, что делалось на шоссе за «фольксвагеном».
Машины проносились редко, было время дневного затишья, когда основная масса туристов уже приехала, а уезжать было еще рано. По шоссе сновали преимущественно малолитражные «фиаты» с местными номерами. Аннет и Гюнтер жадно всматривались в них, поскольку не знали, на какой машине ездит Пфердменгес.
— Они… — вдруг прошептала Аннет, будто ее кто–нибудь мог услышать. — Да, они… — отвернулась от шоссе. — Видишь серый «форд»?
Гюнтер нагнулся над щитком управления, посматривая искоса.
Да, за рулем знакомый им послушник, а рядом старый человек в сутане.
«Форд» проехал мимо заправочной и медленно повернул направо по дороге, ведущей в горы. Гюнтер ловко вывел свою машину на шоссе. Не спешил: серый «форд» сейчас никуда не денется, на такой дороге все равно больше шестидесяти километров не сделаешь, да и, слава богу, пылища, почти не видно, что делается сзади.
«Форд» ехал быстро — послушник спешил на свидание! — «фольксваген» швыряло на выбоинах, но Гюнтер не отставал, сохраняя дистанцию в полкилометра. Встречные машины попадались редко, дорога пролегала преимущественно между виноградниками, Аннет поискала ее в атласе, но не нашла. Миновали село, за оливковой рощей перевалили через гребень высокого холма, внизу открылась зеленая долина с синей гладью озера, к берегу которого прилепилось небольшое селение. Туда вела такая же покрытая щебнем дорога, и «форд» уже повернул на нее.
Гюнтер притормозил и, подождав, пока «форд» исчез за деревьями, тоже повернул к озеру.
На центральной улице городка разместились две или три лавчонки и траттория с открытой верандой под тентом. Миновали последний дом, но нигде не обнаружили серого «форда»: возле строений стояло несколько «фиатов» да красный «рено». Дорога за поселком круто шла к виноградникам. Гюнтер, бормоча что–то сквозь зубы, развернулся и поехал назад. Теперь «фольксваген» катился по инерции. Гюнтер все время тормозил, останавливаясь на перекрестках: договорились, что будут смотреть: он — налево, Аннет — направо. Проехали лавчонку с шариковыми ручками, зажигалками я еще какой–то мелочью на витрине.
Аннет вдруг воскликнула:
— Видишь, он там, внизу!
Гюнтер остановился за углом, вышел и огляделся.
Прекрасная двухэтажная вилла возвышалась над озером в саду. «Форд» не заехал во двор, его оставили под деревом около ворот.
Гюнтер быстро развернулся. Возможно, им следовало бы припрятать свою машину — швейцарские номера не так часто встречаются в этом поселке, и незачем мозолить всем глаза. Подъехал к траттории — хозяин выбежал на веранду, и Гюнтер, с трудом вспоминая итальянские слова, объяснил, что им понравилось озеро и они хотели бы задержаться здесь, вот только куда поставить машину и найдется ли ужин.
Хозяин закивал радостно, побежал открывать ворота, залопотал, поднимая глаза к небу, и Гюнтер понял, что только в этой траттории они могут съесть настоящие спагетти, такие спагетти можно съесть только в раю и здесь, потому что их готовит сам хозяин, а лучшего специалиста не найти во всей округе.
Они прошли со двора в узкий и темноватый зал траттории. Здесь стояли длинные столы из грубых досок, посуда на стойке была из дешевого толстого зеленоватого стекла, но вино, которое нацедил из бочки хозяин, понравилось Гюнтеру, хотя и стоило на треть дешевле минеральной воды, которую пила Аннет.
Пока они утоляли голод, мимо траттории проскочил серый «форд»: послушник не солгал — возвращался один. Гюнтер предупредил хозяина: они пойдут на озеро и могут задержаться, но тот заверил, что спагетти будут в любое время, кроме того, у него есть свободная комната, и, если синьорине понравится здесь, можно переночевать.
Между прочим Гюнтер спросил, кому принадлежит чудесная вилла над озером. Хозяин сложил руки, будто молился, и учтиво объяснил, что в ней живет очень важный человек, имя которого известно в самом Ватикане: святой отец осчастливил их поселок, приобретя этот домик еще во время войны. Но жаль, сейчас он редко приезжает сюда, в вилле живет только «го слуга, которого местные жители недолюбливают за хмурость, но что поделаешь — немец, старый холостяк, а пожалуй, нет на свете больших нелюдимов, чем закоренелые холостяки.
Болтовню этого толстяка можно было слушать весь день, он прямо–таки источал из себя добродушие и говорил бы беспрерывно — не так–то легко найти слушателей в таком маленьком поселке, но Аннет оборвала лавочника: жара, и ей хочется купаться…
К озеру вела тропинка прямо от траттории, и они пошли между апельсиновыми деревьями. Не доходя до озера, Гюнтер полез в кусты, отделявшие апельсиновый сад от улицы, за ними тянулся высокий забор из острых металлических прутьев, дальше начинались какие–то густые колючие заросли, которые скрывали виллу от нескромных взглядов. От железной калитки к зданию вела замощенная бетонными плитками дорожка.
Гюнтер оставил Аннет в кустах следить за тем, что происходит у входа, а сам решил обойти вокруг усадьбы. Только он исчез, как на дорожке появились двое — отец Людвиг и его слуга. Они шли медленно, монах, очевидно, наставлял слугу, ибо тот кивал и отвечал что–то односложное, а отец Людвиг энергично жестикулировал и все говорил: жаль, Аннет не могла услышать ни одного слова.
Слуга вывел из гаража мотоцикл и открыл ворота. Выкатив машину и, оставив ее на улице, аккуратно закрыл ворота, отдал ключи монаху. Ничего не сказав, направился к мотоциклу. Уже хотел заводить, но обернулся — забыл шлем на скамейке в саду. Отец Людвиг, стоявший у калитки, произнес насмешливо, и Аннет слышала теперь каждое его слово:
— Не забудь на обратном пути голову. И завтра утром заезжай.
Куда должен был заехать слуга, Аннет так и не узнала, тот завел мотор и уехал. Монах посмотрел вслед, постоял немного и медленно пошел к вилле.
Скоро вернулся Гюнтер, и Аннет рассказала ему обо всем, что видела.
— Вероятно, до завтрашнего дня монах будет один, — констатировал Гюнтер. — А я там нашел довольно удобное место, чтобы перелезть: кусты совсем низкие и неколючие.
Подождем до вечера?
Гюнтер задумался.
— А может, сейчас? Уже начало пятого, а святой кабан привык в это время отдыхать. Послушник говорил, что встает в пять. Я полезу, а ты и дальше следи за входом.
Продираясь сквозь заросли, Гюнтер поцарапал руки и лицо. Сейчас он стоял за заботливо ухоженным цветником, всматривался в закрытые жалюзи окна, будто на самом деле мог что–либо разглядеть за ними.
Тишина, и только птицы щебечут на деревьях. Держась кустов, Гюнтер обошел дом и чуть не натолкнулся на обвитую плющом и глицинией беседку. Осторожно раздвинул ветки, заглянул внутрь и испуганно отшатнулся: на тахте лежал отец Людвиг — Гюнтер мог дотянуться рукой до его головы.
Юноша присел, затаив дыхание. Потом пробежал несколько метров, что отделяли его от клумб с какими–то высокими красными цветами, спрятался там. Только сейчас немного пришел в себя: если отец Людвиг молчит до сих пор, значит, или не заметил его, или спит. Переждал еще несколько минут и пополз к беседке. Обогнул ее и заглянул так, чтобы увидеть лицо монаха. Так и есть — старик спал.
Теперь Гюнтер не раздумывал. Прошмыгнул к вилле–двери не были закрыты, он прикрыл их за собой и на цыпочках пробежал по узкому полутемному коридору.
Коридор заканчивался ступеньками на второй этаж, слева дверь вела на кухню, ее не прикрыли, и Гюнтер увидел немытую посуду, кастрюлю на столе. Осторожно открыл дверь напротив. Наверно, здесь жил слуга: узкая кровать, застеленная суконным одеялом, несколько ружей на стене и охотничьи трофеи — голова кабана, птицы, какие–то шкурки. Шкаф, стол, два стула — все.
Следующая дверь дальше вела в большую гостиную с цветастым ковром во весь пол. В комнате стояли старомодные, но удобные диваны и кресла, обтянутые кожей, шкафы с книгами. Очевидно, монах принимал здесь гостей и не отказывался от мирских соблазнов, потому что стол под торшером был заставлен бутылками с разноцветными наклейками.
Гюнтер осмотрел еще одну комнату. Она предназначалась для столовой — простенок между окнами занимал сервант с посудой, рядом стоял дубовый круглый стол и такие же стулья с резными спинками.
Юноша уже хотел подняться на второй этаж, но заметил под лестницей узкую дверь, обитую стальными полосками. Наверно, она вела в подвал. Гюнтер на всякий случай нажал на ручку, и дверь сразу поддалась, открыв крутые каменные ступеньки.
Внизу горела лампочка. Осторожно ступая, Гюнтер спустился и увидел просторное помещение без окон, настоящий каменный мешок с низким потолком. Но это был не погреб — вместо бочек здесь стояли две кушетки и стол, а пол покрывал грубый шерстяной ковер.
Двое дверей, дубовых и тоже обитых металлом, вели из этой каменной гостиной. Гюнтер дернул за ручку ближней — не поддалась, вторая тоже закрыта.
Парень хотел уже возвращаться, но услыхал за дверью не то шорох, не то стоны. Прислушался, приложив ухо к дубовым доскам, — действительно за дверью кто–то был.
Гюнтер поцарапал дверь и затих. Стояла такая тишина, что, казалось, звенело в ушах.
И вдруг стон.
Юноша переступил с ноги на ногу. Что делать? А–а, все равно, хуже не будет. Спросил громко!
— Эй, кто там?
Тишина — и вдруг:
— Пить… воды…
Неужели Карл? Кажется, Гюнтер узнал голос. Прижался к двери, даже больно стало уху. Позвал!
— Карл! Карл! Это я, Гюнтер!
Снова тишина, потом радостный крик:
— Гюнтер! Как ты сюда попал? Неужели на самом деле ты? Можешь открыть дверь?
Гюнтер с тоской осмотрел тяжелые дубовые доски и стальные полосы на них.
— Нужен лом… Хотя бы топор…
— Как ты проник сюда?
Гюнтер рассказал.
— Погоди, — сказал Карл после паузы, — говоришь, монах спит? Ключи у него в кармане сутаны. Связка ключей. Но учти, он вооружен, носит пистолет в заднем кармане брюк.
— Да… — Гюнтер уже знал, что делать. — Я пошел, и не волнуйся…
— Будь осторожен.
…Аннет хотелось спать, веки сами закрывались, сон одолевал ее, а Гюнтер все не возвращался. Аннет подумала, что именно такая пытка — самая нестерпимая. Да и солнце припекало, какие–то насекомые нудно жужжали, тоже навевая сон.
Боже мой, где же Гюнтер?
Тот появился, когда противиться сну не было никакой силы, выглянул из–за кустов, что росли рядом с гаражом, и осторожно огляделся.
Девушка провела руками по лицу, отгоняя сон. Гюнтер подавал какие–то знаки, она не сразу поняла, что он хочет, но наконец, догадавшись, пролезла через заросли и приблизилась к калитке.
— Давай… — прошептал Гюнтер. Он приставил к калитке садовую лестницу, влез на нее и подал Аннет руку. Девушка через несколько секунд была в саду.
— Что? — спросила.
— Карл там, — кивнул на виллу Гюнтер.
Аннет хотела объяснить ему, что ощущала присутствие Карла, была уверена, что найдут его, но не могла произнести ни слова, только выжидающе смотрела большими выразительными глазами.
— Монах заточил его в подвал, — объяснил Гюнтер. — Можно позвать полицию и поднять шум, но это нежелательно. Ты мне поможешь. Святой отец храпит в беседке, у него пистолет в заднем кармане брюк, нужно его разоружить и достать ключи.
Аннет все время кивала.
— Я пролезу в беседку! — предложила решительно.
— Да, — подтвердил Гюнтер. — Сейчас мы осмотримся и все решим.
Шли к беседке по асфальтированной дорожке, бесшумно, и Аннет старалась ступать по следам Гюнтера. Согнувшись пролезли к входу, Гюнтер огляделся. Обернулся к девушке, прошептал чуть слышно:
— Спит в пижаме. Брюки там… — кивнул неуверенно.
Не успела Аннет что–то сказать, как он поднялся и проник в беседку.
Отец Людвиг спал, сладко сопя и подложив руку под щеку. Гюнтер прошел мимо, присел за стулом, на котором висели брюки, вытащил пистолет. Отличный никелированный вальтер; Снял с предохранителя, перезарядил, на всякий случай вогнав патрон в канал ствола.
Сейчас ключи. Сутана монаха висела почти рядом — ощупал карманы, но ключей не нашел. Черт, придется поднять церковника. Нежелательно, но что поделаешь!
Гюнтер встал над монахом, ткнул пистолетом в.грудь. Отец Людвиг сразу раскрыл глаза, хотел вскочить, но Гюнтер толкнул его назад.
— Спокойно, святой отец! — приказал. — И не думайте кричать, если не хотите получить пулю. Где ключи?
— Какие ключи?.. — начал монах, заикаясь. — Что вы х–хотите от меня?
Гюнтер махнул рукой Аннет.
— Обыщи его!
Церковник сполз с тахты.
— Я не имею привычки держать деньги дома, и вы ничего не найдете.
Аннет засунула руку под подушку, вытянула связку ключей.
— Встать! — скомандовал Гюнтер. — И без шуток, все равно вас никто не услышит! Продолжим разговор в доме…
Отец Людвиг покорно двинулся к вилле. Хотел зайти в гостиную, но Гюнтер подтолкнул его к лестнице.
— Туда… туда… — произнес с насмешкой, — я хочу, чтобы вы сами освободили своего узника.
— Какого узника? — запротестовал монах. — Я никуда не пойду, и вы не имеете права!..
— А вы имели право посадить под замок нашего товарища? Не вышло, святой отец! Просчитались… Ну! — ткнул дулом пистолета в спину. — И без фокусов!
Монах как–то сразу обмяк и стал покорно спускаться в подвал. Там, в каменной комнате, Гюнтер не отказал в удовольствии поставить его в позу, какую видел во многих полицейских фильмах, — лицом к стене, руки над головой.
— Открой! — Гюнтер показал Аннет на дверь.
Та звякнула связкой, ключей, отыскивая нужный, а Гюнтер стоял с поднятым пистолетом. Аннет подобрала ключ, открыла дверь. И закричала. Гюнтер шагнул к ней. Воспользовавшись этим моментом, монах бросился к лесенке, Гюнтер метнулся за ним, подставил ногу, отец Людвиг покатился по полу и завопил, будто его убивали.
Гюнтер зло пнул его ногой.
— А ну вставай, паршивая свинья, и если…
Церковник встал, стоял с поднятыми руками, смотрел затравленным зверем. Гюнтер подтолкнул его в комнату, откуда доносились голоса Аннет и Карла.
В дверях остановился, пораженный: Карл стоял у стены с поднятой рукой, прикованной стальным наручником к высоко вбитой скобе.
— Ого!.. — только и сказал Гюнтер. Зло ударил монаха в спину. — Ну, быстрее! Аннет, дай ему ключи.
Отец Людвиг тонкими дрожащими пальцами взял связку. Нашел ключ, отомкнул стальное кольцо на руке Карла. Тот сразу обессиленно опустился на пол.
— Дайте мне воды…
Отец Людвиг засуетился.
— Сейчас… сейчас…
— К стене! — приказал Гюнтер. Он уже знал, что именно предпримет, это было не только необходимо, а и справедливо — око за око. Заставил монаха поднять руку, щелкнул наручником, позвенел ключами и спрятал их в карман. Сказал с издевкой: — Придется вам, святой отец, немного отдохнуть в одиночестве…
Монах запричитал:
— Я старый и больной человек, я не выдержу!
— Выдержишь! — Гюнтер наклонился к Карлу. — Как ты?
Аннет принесла воду. Карл жадно выпил полный кувшин. Хотел встать, однако ноги дрожали, и Гюнтер поднял его.
Карл погрозил церковнику кулаком, крикнул:
— Ну, жаба, чья взяла?.. Он, — объяснил друзьям, — ничего не знает о шифре, но быстро сообразил, чем это пахнет. Заманил меня сюда и пытался узнать, кого мы разыскиваем. Деньгами запахло, грязные руки свои протянул к ним, клялся, что выбьет из меня тайну, что эсэсовские методы — детская забава, а гестаповцы были примитивными и малограмотными, не изучали всех тонкостей пыток святой инквизиции. Может, я вру, святой отец?
— Я хотел только напугать вас, господин Хаген, — быстро заговорил отец Людвиг, — а вы все приняли за чистую монету.
— И со вчерашнего вечера простоял прикованный к стене! — гневно блеснул на него глазами Карл. — Он напоил меня не знаю чем, я ничего не помнил, не мог сопротивляться. Он не дал мне ни капли воды…
— Что ж, сейчас он сам отдохнет, — зло засмеялся Гюнтер, — будет время на размышление…
— Вы не оставите меня здесь, синьоры, — начал хныкать отец Людвиг. — Мне не простоять до утра, и грех ляжет на вас!
— А мы поисповедуемся у какого–нибудь вашего коллеги, — ехидно произнес Гюнтер, — он отпустит нам этот грех!
— Я заявлю в полицию! — пригрозил монах. — Вас задержат и будут судить!
— Я выключаю свет, в темноте вам легче будет беседовать с самим собой. Думаю, это будет поучительный диалог! — насмешливо поклонился Гюнтер. — Пошли, друзья!
Поддерживая Карла, он повел его к выходу.
В последний момент Аннет стало жалко монаха.
— А если его просто закрыть?
— Нет, — решительно возразил Гюнтер, — таким нельзя прощать!
Отец Людвиг просил, плакал, угрожал, но Гюнтер спокойно закрыл дверь.
— Насколько я понял, — заметил он, когда вышли из подвала, — святой отец не назвал цифры шифра. Но мы можем заплатить ему. Я поэтому и приковал его, чтобы стал уступчивее.
— Ты не понял меня. Я же говорил, монах не имеет к шифру никакого отношения, — пояснил Карл. — Вчера вечером разговаривал со слугой, кстати, никакой это не слуга, а оберштурмфюрер СС. Здесь, на вилле, был переправочный пункт эсэсовцев. Поэтому и комната в подвале — месяц живи, никто не узнает. Святой отец уже поставил на мне крест, и они ничего не скрывали от меня. Есть еще один Людвиг Пфердменгес, бывший штандартенфюрер СС, кузен нашего монаха. И знаете, где он сейчас? Никогда не догадаетесь. В Африке!
— Где? — переспросил Гюнтер. — Ты не шутишь?
— Вы на машине? Нельзя задерживаться здесь.
— Ты пришел в себя? Можешь выйти на улицу и подождать нас? Чуть подальше, чтобы не привлекать внимания.
— Конечно. Который сейчас час?
— Пять.
— Еще сегодня можем попасть в Рим.
— Лучше переночевать в Терни, — возразила Аннет. — Посмотри на себя — измученный! Зачем спешить?
— Старый пройдоха может предупредить своего кузена, чтобы не доверял нам… — объяснил Карл. — Мы не имеем права терять время, ты останешься с машиной, поедешь потихоньку домой, а мы…
— В Африку? — взволнованно воскликнула Аннет. — Ты сошел с ума! Ну их к чертям, эти деньги, если из–за них столько мук.
— Мы журналисты, — сказал Гюнтер, — завтра посетим посольство, визу нам должны дать без осложнений.
— Тогда и я полечу с вами! — решительно заявила Аннет.
Карл взял руку Аннет. Держал, ощущая легкое дрожание.
— Ты же хотела побегать по музеям, — посмотрел ей в глаза. — Кроме того, могут быть осложнения с визой. Нам легче — у Гюнтера тоже есть журналистское удостоверение, я устроил ему его, и у нас, думаю, осложнений не будет. А ты поезжай во Флоренцию. Ты же умеешь водить автомобиль.
Аннет сердито выдернула руку.
— Так бы и сказал: не с кем оставить машину. Итальянская старина уже утратила интерес для Аннет, но она не призналась в этом.
Девушка топнула ногой в сердцах, посмотрела на пол и вспомнила прикованного к стене отца Людвига.
— Монаха теперь не стоит оставлять прикованным, закройте его — и все…
Карл заглянул в холодильник. Достал бутылку молока. Отпил и сказал, как бы между прочим:
— Знаете, что он делал? Из того вальтера стрелял в меня. Вчера вечером. Любопытная забаву. Открываются двери, он садится в большой комнате и говорит, что сейчас будет расстреливать меня. У святого отца твердая рука, всаживал пули за несколько сантиметров от головы. Видели, там деревянная стена, вся изрешечена. Постреливали на досуге бывшие эсэсовцы…
— И ты хочешь, чтобы я ему простил? — криво усмехнулся Гюнтер.
Аннет неуверенно пожала плечами:
— Как знаете…
— Ну вот и хорошо, — смягчился Гюнтер. — А теперь двинулись…
После итальянской жары африканское солнце не очень удивило Карла и Гюнтера. Поразила их буйная растительность большого города Центральной Африки, столицы государства, роскошь его европейских кварталов. Думали, небольшой, грязный, одноэтажный город, Й центр его был многоэтажным с широкими асфальтированными улицами, сотнями машин новейших марок, большими магазинами. На первоклассный отель решили не тратиться, остановились по рекомендации местного чиновника, который летел вместе с ними, в небольшом пансионате. Переоделись, и Карл предложил сразу же двинуться на поиски Людвига Пфердменгеса.
Еще в дороге они разработали план действий. Каждый, кто был хоть немного знаком с тогдашними делами в Африке, не мог не догадаться, каким ветром и зачем занесло туда бывшего штандартенфюрера СС. В стране, куда они прилетели, то в одной, то в другой провинции вспыхивали восстания. Против партизан действовали разные отряды карателей и наемников, и штандартенфюрер СС с его опытом был, безусловно, находкой, для разных авантюристов, боровшихся за власть и пытавшихся подавить народное движение.
Как и где искать Пфердменгеса, с чего начинать? Может, он вообще на нелегальном положении. Карл и Гюнтер решили действовать через журналистские круги. Нет людей более осведомленных, нежели газетчики, а Карл принадлежал к их клану. У Гюнтера тоже были документы одной нз бернских газет — перед швейцарскими журналистами должны были открыться двери всех редакций.
Сотрудники местной газеты их встретили приветливо. Редактор извлек бутылку виски и пообещал освободиться через час, а пока что поручил гостей долговязому брюнету лет тридцати, носатому и худощавому. Казалось, он был сплющен с боков и стыдился этого, потому что какая–то стыдливая улыбка все время кривила его губы.
— Жорж Леребур, корреспондент «Пари суар», — отрекомендовался он и добавил, что рад видеть людей, которые еще вчера ходили по бернским улицам: пожаловался на тоску, жару и отсутствие порядочного общества.
— Ничего себе тоска, — не поверил Карл. Он держал свежий номер местной газеты, где сообщалось о партизанском движении в одной из провинций. — Война обостряется!
— Тут всегда стреляют, — безразлично махнул рукой Леребур.
— Очень интересно, — Карл ткнул пальцем в газету, — во главе восстания стал бывший министр просвещения и искусств. Если уж такие люди берутся за оружие…
— Скажу вам откровенно, — сказал Леребур, — у них есть основания браться за оружие. Впрочем, увидите сами. Я здесь уже три года и, вероятно, смотрю на здешние события предубежденно.
— Три года! — удивился Гюнтер. — Наверно, знаете здесь все вдоль и поперек?
— Это не так просто, — снисходительно улыбнулся Леребур. — Территория государства огромная.
— Есть где воевать! — засмеялся Карл. — И за что…
— Конечно, — подтвердил Леребур. — Не случайно проклятые янки повадились сюда. Не люблю их. Где только можно поживиться, непременно сунут свой нос. Уран, кобальт, промышленные алмазы… Я уже не говорю о меди, такой богатой руды нет нигде.
— Ясно, — отметил Гюнтер, — поэтому здесь и неспокойно. Кстати, вы должны знать всех местных знаменитостей, не встречалось вам имя Пфердменгеса?
— Полковник Людвиг Пфердменгес? — переспросил Леребур. — Эта фигура довольно одиозная. Но откуда вы знаете его? И зачем он вам?
— Пфердменгес — бывший штандартенфюрер СС, — объяснил Карл, — а наша газета изучает биографии некоторых эсэсовцев…
— А–а… — неопределенно промычал Леребур. — Здесь до черта всякой дряни, слетаются, как мотыльки на огонь. — Внезапно завелся, даже завертелся на стуле. — А это вы здорово придумали: интервью с бывшим штандартенфюрером, ныне полковником наемников! Прекрасная параллель. Находка для левой прессы…
 — Как нам увидеть этого Пфердменгеса? — спросил Карл.
Леребур уставился на него, как на заморское чудо. А затем весело засмеялся.
— Вы спрашиваете так, будто полковник Пфердменгес живет в двух шагах и вся сложность заключается в том, как представиться ему. Даже я не знаю, где он, а я, кажется, знаю здесь все. Кроме того, если так вот прямо начать узнавать о местопребывании полковника, можно получить пулю в живот…
— Вы не получите, — сказал Гюнтер уверенно.
— Ну от этого никто не застрахован, — возразил Жорж, но видно было, что сказал это только для проформы, потому что добавил хвастливо: — Вот что, коллеги, я присоединяюсь к вам и скажу откровенно: вам повезло, что встретили меня. Что касается карателей или наемников — все рты сразу закрывают. Вы слыхали о Момбе? — спросил вдруг.
Гюнтер кивнул.
— Пройдоха, старый лис! — Леребур завертел головой. — Я попробую устроить встречу с ним.
— Зачем? — не понял Карл.
Леребур посмотрел на него удивленно. Вдруг шлепнул себя ладонью по лбу.
— Извините, я ведь забыл сказать, что Пфердменгес, по существу, правая рука Момбе.
Организация встречи журналистов с кандидатом в премьеры оказалась не таким уж тяжелым делом: Момбе стремился завоевать популярность и не пренебрегал никакими средствами. Интервью же с французским и швейцарскими журналистами было для него просто находкой.
В точно назначенное время машина Леребура остановилась возле роскошного особняка за густо посаженными пальмами.
Слуга в белом смокинге провел их в большую комнату с полузашторенными окнами и вентиляторами под потолком. Кандидат в премьеры заставил их немного подождать. Наконец слуга открыл двери, и в комнату зашел Момбе. Он крепко пожал руки журналистам, пригласил к столу с бутылками.
— Прошу, господа, без церемоний, — сказал Момбе, широко улыбаясь. Налил всем, подчеркивая свою демократичность. — Я с удовольствием отвечу на ваши допросы, господа, но давайте вначале выпьем за моих несчастных соотечественников.
Он встал в театральную позу. Гюнтер улыбнулся: бездарный актер, все у него рассчитано на внешний эффект.
— Какие меры вы считаете необходимыми для стабилизации положения в стране? — спросил Леребур.
Момбе сел на стул, отхлебнул из стакана, нахмурился и ответил категорично:
— Мы должны положить конец деятельности раскольников — я имею в виду разных «патриотов», которые мутят воду в провинциях, отвлекают народ от работы разговорами о демократии. С этим может покончить сильная централизованная власть: разгромить бунтовщиков и установить мир в стране. Необходимо обратиться за помощью к высокоразвитым государствам и добиться ритмичной работы промышленных предприятий.
Момбе говорил, а Карл, глядя на его улыбающееся лицо, думал, что скрывается за этими аккуратными фразами, — он зальет страну кровью, вырежет целые поселения, добиваясь покорности, продаст иностранным компаниям еще не проданное и будет улыбаться интервьюерам и фотографам: в его стране покой н тишина. Карлу захотелось подняться и уйти, но продолжал сидеть со стаканом в руке, только нахмурился.
— Природные условия востока страны, — между тем продолжал Момбе, — не позволяют вести войну в ее, так сказать, классических образцах и диктуют свою тактику…
— Мы бы хотели познакомиться с этой тактикой, — вставил Гюнтер. — Нам рекомендовали полковника Пфердменгеса.
— Кто рекомендовал? — быстро обернулся к нему Момбе.
— Господин Леребур, — кивнул Гюнтер на француза. — Он наслышался о его храбрости и решительности.
— Безусловно, — согласился Момбе, — полковник Пфердменгес — человек храбрый.
— Мы бы просили вас помочь нам встретиться с полковником, — настаивал Гюнтер. — Дело в том, что никто, кроме вас…
— Да, война идет жестокая, — подтвердил Момбе, — и необходимо строго придерживаться военной тайны.
Гюнтер понял его.
— Мы не дети и понимаем, что специфика условий ведения военных действий в Африке вынуждает иногда идти на кое–какие крайности, как бы оказать, требует немалой крови. Но вы можете быть уверены в нашей лояльности и нежелании раздувать негативные аспекты…
Момбе закивал головой.
— Да… Да… Именно это я и хотел сказать. Хорошо, что у нас одна точка зрения. Я дам вам письмо к полковнику, но должен предупредить, что добраться туда будет трудно…
Жорж Леребур оказался неоценимым компаньоном: кроме того, что он знал Африку так, как Карл свой Бернскийкантон, у него было много знакомых в самых разных кругах. В дирекции «Юнион миньер» Жорж договорился об аренде не очень старого «пежо»; им предлагали и лучшие марки, но Леребур решительно отказался. «Может, специально для нас вы откроете и пару бензоколонок?» — спросил он, и никто ему не возразил. В самом деле, они должны были ехать по дороге, где с бензином были перебои; вспоминался случай, когда машины стояли по нескольку дней в маленьких провинциальных городках, ожидая горючего. Жорж знал это и поэтому решительно выбрал малолитражный «пежо»; а не мощный «ягуар», который предложил нм один из директоров «Юнион миньер».
Сейчас, когда позади остались города, они по–настоящему оценили прозорливость Леребура: все равно по местным дорогам более чем пятьдесят–шестьдесят километров не сделаешь, на «ягуаре» нм не хватило бы горючего и на половину пути, а обшарпанный «пежо», гремя железом по выбоинам, потихоньку на одном баке почти дотянул их до городка, где должен был быть бензин.
Жорж тихо ругался, проклиная африканские дороги, поскольку стрелка бензометра дрожала уже у нуля. С гребня небольшого холма Жорж увидел дома, но машина зачихала и остановилась: бензин кончился. В канистрах тоже ничего не было, и Леребур предложил:
— Ждать здесь кого–либо, чтобы выпросить галлон бензина, дело мертвое. Я останусь в машине, а вы идите в город. Отсюда три–четыре километра, не больше. Возьмите велосипед на колонке, и пусть кто–нибудь привезет пару галлонов.
Гюнтер и Карл были не против, чтобы размяться после долгой езды. Двинулись бодро к городу, держась в тени придорожных деревьев. Когда до околицы осталось совсем немного, на шоссе вышли из кустов несколько человек с автоматами.
Карл и Гюнтер остановились. Вперед выдвинулся человек лет за сорок с морщинистым лицом, в военной рубашке, заправленной в обтрепанные брюки. На животе у него висела кобура с пистолетом. Спросил властно:
— Кто такие?
— Журналисты. Мы швейцарские журналисты и едем по поручению газеты.
— Не вижу, на чем вы едете… — засмеялся человек и протянул руку. — Документы!
Гюнтер стал объяснять, что у них не хватило бензина и пришлось идти до города пешком, документы остались в «пежо».
Человек с пистолетом смотрел на них, упершись руками в бока. Не дослушав, бросил пренебрежительно:
— Хватит болтать! Кто подослал вас сюда и для чего?
— Но ведь я говорю правду, вы можете проверить, у нас не хватило бензина, и мы оставили машину совсем недалеко.
— Хорошая легенда, капитан, — вмешался совсем еще молодой парень с автоматом, стоящий рядом. — Могу поклясться, это шпионы из соседней провинции. И после того, как мы прибрали их самозванца президента…
— Ты прав, — похвалил капитан. — Так вот, голубчики, будете говорить правду или помочь вам? Для чего вас подослали сюда?
— Вы можете легко проверить, — быстро начал Карл, — наша машина…
Удар в челюсть прервал его лепет. Капитан умел бить, у Карла закружилась голова, он чуть не упал.
— Вы не имеете права! — вдруг закричал Гюнтер. — Мы иностранные подданные, и вы будете отвечать!
— У нас поручение к полковнику Пфердменгесу, — добавил Карл, держась за щеку, — и я требую, чтобы вы…
— Ты здесь ничего не можешь требовать, — ударил его носком ботинка капитан. Подумал н решил: — Ясно, шпионы… Расстрелять!
Карл сказал как можно убедительнее:
— Вы ошибаетесь, капитан, мы не шпионы, и я вам говорю: это легко проверить.
Капитан схватил его за воротник.
— Кто назвал тебе имя полковника? Здесь ни одна душа не знает его.
— У нас письмо к полковнику от самого Момбе.
— Где оно? Нет? Я так и знал… Довольно трепаться! — оттолкнул Карла. — Расстрелять!
Солдаты схватили их, скрутили руки назад, связали. Парень с автоматом подтолкнул Карла к обочине.
— Давай… Нет времени…
Карл хотел крикнуть капитану что–то, но вдруг понял: что бы он ни говорил, этот человек не отменит своего решения и их судьба решена.
Карла подтолкнули в бок автоматом, и он покорно пошел к кустам.
Гюнтера тоже подтолкнули, но он вывернулся между двух солдат, подбежал к капитану и упал на колени.
— Даю вам слово чести, — начал в отчаянии, — мы журналисты, и у нас есть поручение к полковнику… — Солдаты подхватили его под руки, потащили. — Умоляю, не убивайте! Пфердменгес не простит вам!
Капитан обернулся, какая–то тень промелькнула по его лицу, словно заколебался, но махнул рукой и пошел к дереву, под которым стоял американский «джип».
Гюнтер отбивался, что–то кричал, но солдаты тащили его в кусты. Метрах в пятидесяти от дороги, на полянке, их привязали к стволам деревьев. Парень с автоматом отошел на несколько шагов, спросил у солдат по–немецки:
— Кто хочет?
— Кончай их, сержант, — безразлично отозвался кто–то.
Сержант стал поднимать автомат, черное дуло сверлило мозг, Карлом овладела апатия, он все видел и слышал, но не мог пошевелиться, все было миражем, нереальностью — и солдаты, и деревья, к которым их привязали, и желтая трава под ногами, — реальным был только автоматный ствол; он сейчас вздрогнет, но Карл уже не увидит огня, пули долетят быстрее…
Рядом Гюнтер закричал:
— Не убивайте нас!
Сержант повел автоматом, сейчас Карл видел только черное дуло — оно увеличивалось и напоминало жерло орудия.
И вдруг — нет черной бездны, сержант, опустив автомат, поворачивается к ним боком…
Что там, на краю обочины? Почему опять появился капитан и рядом с ним Леребур?
Уже убедившись, что пришло спасение, Карл никак не мог избавиться от чувства, что у него на груди обожжена кожа…
— Я должен принести вам свои извинения, — сказал капитан, пока их развязывали, но Карл плохо понимал его, апатия не отпускала, и под сердцем жгло.
— Дайте ему воды… — заметил состояние Карла Жорж Леребур.
К его губам приложили баклажку, он машинально глотнул, виски обожгло горло, но сразу стало легче — закашлялся, слезы выступили на глазах, но боль под сердцем утихла, вернулась способность слышать и видеть.
Гюнтер стоял рядом, опершись о дерево. Ему тоже дали глотнуть виски, он отпил чуть ли не половину баклажки. Поднял кулаки, что–то хотел сказать, но, так и не произнеся ни. одного слова, сел на траву.
— Вас заподозрили в шпионаже в пользу бунтовщиков, — объяснил Леребур.
Гюнтер зло плюнул.
— Я же объяснял ему, что у нас письмо!
— Ну… ну… — примирительно проворчал Жорж. — К счастью, меня догнал грузовик, и я разжился парой галлонов бензина.
— А если бы не было грузовика? — не сдавался Гюнтер.
— Пили бы вы сейчас шнапс на том свете! — засмеялся сержант. — Но здесь по–другому нельзя.
— Если бы вы знали местные условия… — подтвердил капитан. — Хотите еще? — протянул Карлу свою баклажку.
Тот отрицательно покачал головой. Его тошнило.
— Поехали… — предложил Карл. Эта поляна, где они чуть не остались навечно, вызывала беспокойство и даже раздражение.
— Да, поехали, — согласился Леребур. — Тем более что осталось нам… Полковник здесь, в городе…
— Вот и хорошо! — обрадовался Гюнтер. — Конец нашим блужданиям.
Он хлопнул Карла по плечу, но тот не разделял его энтузиазма. К, ак–то было все равно: полковник так полковник, есть — пусть будет, нет, то и не надо…
В голове шумело, лицо капитана расплывалось. Знал: эта черная точка, что разрасталась в жерло, теперь будет сниться ему и сны эти будут кошмарны…
— Моя профессия убивать, и я не стыжусь ее! — так начал пресс–конференцию полковник Людвиг Пфердменгес.
Они сидели на веранде большого одноэтажного дома, где расположился штаб батальона «Леопард»… Только что полковнику доложили, что карательная экспедиция Против бунтовщиков–партизан, засевших на западном берегу большого озера, завершилась успешно, и он пребывал в том благодушном настроении, когда все кажется лучше, чем на самом деле, и поэтому тебя тянет на откровенность, язык развязывается, и начинаешь рассказывать то, что при других обстоятельствах сам вспоминаешь неохотно.
— Да, господа, я не стыжусь. Ибо какая же другая обязанность может быть у солдата, тем более здесь, где дикость и первобытные обычаи? Не убьешь ты — убьют тебя, поэтому мы и стараемся убивать как можно больше. Левая пресса — иногда я читаю эти красные листки, господа, — кричит о нашей жестокости, о том, что партизаны ведут справедливую борьбу за права туземцев. Время, господа, покончить с пустой болтовней. Все это выдумки коммунистов, я убежден в этом. С нашей точки зрения, с точки зрения солдат моего батальона «Леопард», война, которую мы ведем против черномазых партизан, справедлива, мы защищаем свои интересы и интересы состоятельных, а значит, самых культурных и самых прогрессивных сил страны. А кто не разделяет эти взгляды, пусть катится ко всем чертям! И мы с удовольствием поможем ему быстрее добраться туда!
Полковник расстегнул пуговицу на рубашке и выпил полстакана газированной воды. Далее продолжал сдержаннее:
— В свое время меня причислили к эсэсовским преступникам, и я должен был эмигрировать в эти паршивые джунгли. За что, спрашиваю вас? Меня. — к преступникам? Я командовал полком, потом дивизией СС, мы воевали как могли, ну, уничтожали партизан в России, но и они уничтожали нас. Война шла без правил! Опыт русской кампании научил меня, сейчас мы используем его: лучше убить десяток партизан, чем оставить одного раненого. Потому что и раненые кусаются.
— А что вы им дадите, если победите? Ваша позитивная программа? — спросил Леребур.
— Пусть с программами выступают другие, — отмахнулся Пфердменгес. — Момбе или кто другой. Они мастера затуманивать головы, их профессия — болтать, а наша — устанавливать твердую власть. Моя программа очень простая: негры должны работать.
Полковник остановился, глотнул воды и продолжал дальше с нажимом:
— Заставляя негров работать, мы делаем великое, благородное дело прежде всего для них самих, для развития нации, господа, если хотите. Мы совершаем великую цивилизаторскую миссию, пробуждаем, я убежден в этом, Черную Африку от вековой спячки.
— У вас есть плантации в этой стране? — спросил полковника Гюнтер.
— Наивный вопрос, — засмеялся полковник. — Эти джунгли и саванны оказались не такими уж и дикими. Плантации кофе, хлопка, масличных пальм… При умелом землепользовании это дает неплохой доход. У меня есть управляющие и надсмотрщики.
Этот самоуверенный убийца давно уже надоел Карлу. Вспоминал черный ствол автомата, наведенный на него, и злоба душила его.
Наверно, у полковника давно уже атрофировались все человеческие чувства, и он ничем не отличался от горилл, живущих в здешних лесах, даже хуже — горилла убивает, защищаясь, а этот подвел под убийства философскую базу: никогда еще Карл не слыхал такого откровенно оголтелого цинизма. Переглянулся с Гюнтером. Видно, тот ощущал то же самое и понял Карла, так как встал, положив конец беседе.
— Я отвлеку внимание француза, — прошептал Карлу на ухо, — а ты поговори с полковником Пфердменгесом.
Карл смотрел на Пфердменгеса. Почему–то вспомнил отца Людвига. Нет, кузены совсем непохожи — жизнь в джунглях и военные невзгоды закалили полковника: подтянутый, загорелый и живой, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет. У монаха, правда, глаза поумнее, а у этого мутные, воловьи.
Гюнтер потянул Леребура к бутылкам в соседнюю комнату. Карл задержал Пфердменгеса.
— Минутку, полковник, два слова…
Пфердменгес остановился, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, и посмотрел недовольно. Карл подошел к нему вплотную.
— Видели ли вы черный тюльпан?
У полковника забегали глаза.
— Вас послали ко мне?
— Да.
— Кто?
— Я не имею права разглашать тайну. Вам необходимо назвать две цифры и не расспрашивать меня ни о чем.
— Эх… — вздохнул Пфердменгес не то с сожалением, не то облегченно. — Прошли те времена, когда я не расспрашивал…
Карл сказал твердо:
— Но вы обязаны сделать это.
— Я сам знаю, в чем заключаются мои обязанности, — огрызнулся Пфердменгес. — Лично я не имею намерения возвращаться в фатерлянд. Мне и здесь неплохо. Мой рейх — моя хлопковая плантация, я завоевал ее сам, а рейх обещал мне имение на Украине, но где оно? Рейх, юноша, еще не расплатился со мной, и я считаю, будет справедливо рассчитаться сейчас. Из той суммы, которую вы получите… Сколько лежит на зашифрованном счету? И где?
Карл неуверенно пожал плечами.
— Ну хорошо, — не настаивал полковник, — меня это интересует мало, но… — задумался, не сводя внимательного взгляда с Карла. — Однако миллион — это, может быть, не так уж много? Я слыхал, что на зашифрованные счета меньше десяти миллионов не клали. Десять процентов — справедливое вознаграждение. Вы мне миллион, я вам — две цифры.
— Ого, а у вас аппетит! К сожалению, я не имею права…
— А я пошлю вас к чертовой матери со всеми вашими паролями! — Полковник помахал пальцем перед его носом. — Забыл цифры, вас это устраивает?
— Хорошо… — подумав, ответил Карл. — Но миллион вы не получите. Четыреста тысяч марок.
Глаза полковника потемнели. Шутя толкнул Карла в бок:
— Ну, парень, мы же не на базаре.
— Да, — согласился Карл, — поэтому пятьсот тысяч — мое последнее слово. И они свалятся на вас. как манна небесная.
— Договорились, — пошел на уступку Пфердменгес. — Пойдем скрепим нашу сделку.
— Цифры? — не тронулся с места Карл. Полковник улыбнулся и подморгнул.
— Не выйдет! — помахал пальцем перед самым носом Карла. — Я поеду с вами и назову цифры только на пороге банка, чтобы мои полмиллиона не уплыли… Пароль — пожалуйста: «Хорошо весной в арденнском лесу». Тогда мы еще не наступали в Арденнах и не бежали оттуда… Боже мой, будто вчера моя дивизия была в Арденнах… Нам бы открыть фронт, а мы поперлись, как последние идиоты…
Карл поморщился: перспектива совместной поездки не радовала. Еще раз попытался отвертеться:
— Мы не имеем права терять время и завтра отправляемся обратно. Я могу дать вам какие–нибудь гарантии…
— Гарантии? — засмеялся Пфердменгес. — Я знаю, что это такое, даже самые солидные гарантии и разные там джентльменские соглашения. Завтра, говорите? Это меня устраивает, послезавтра мы будем в Европе. Вам в Европу?
— Но Леребур одолжил машину у директора фирмы «Юнион миньер».
— Пусть эта старая развалина не беспокоит вас. Мои «леопарды» доставят ее назад. А мы выедем на рассвете. До первого аэропорта триста километров, оттуда долетим до Найроби, а там уже линии обслуживают европейские компании. Современные реактивные лайнеры, скорость и комфорт…
Карл подумал: через два дня он увидит Аннет. Всего через два дня! Из сердца Африки, нз саванн, где охотятся не на диких зверей, а на людей, в европейский город!
Черт с ним, с Пфердменгесом, не надо обращать на него внимания, можно смотреть на него, как на надоедливую муху, — не больше.
Полковник пропустил Карла вперед! сейчас он был воплощением вежливости:
— Пожалуйста, коктейль перед ужином…
Карл вспомнил слова полковника! «Моя профессия — убивать» — и подумал, что коктейли и вежливость не сообразуются с этими словами, что последнее является ширмой, и Пфердменгес, вернувшись сюда из Европы, станет еще более жестоким и убивать будет еще больше, ибо за полмиллиона марок можно приобрести не одну плантацию, а имения необходимо защищать. Таким образом, он, Карл Хаген, станет хотя и не прямым, но все же виновником убийств. Содрогнулся — ко всем чертям полковника! — но Гюнтер уже протягивал Карлу фужер с коктейлем, глядя вопросительно, и он машинально кивнул, давая знать, что дело с Пфердменгесом улажено.
Иоахим Шлихтинг стоял за длинным столом, по обе стороны которого сидели его коллеги по партии.
Карл пристроился в уголке, откуда хорошо видел Шлихтинга и других руководителей нового фашистского движения в Западной Германии. Он твердо знал — фашистского, хотя шло заседание руководящего центра партии, которая называлась национал–демократической.
У Шлихтинга, казалось, все было удлиненное: высокий, сухой, как кипарис, человек с продолговатым лицом и руками шимпанзе, которые, казалось, свисали ниже коленей. Длинный красноватый нос и подбородок, сужающийся книзу, еще более сужали его. Он стоял, опираясь на длинный полированный стол — блестящая поверхность отражала его фигуру и, еще удлинив, делала нереальной, словно не человек навис над столом, а изготовленный неудачником–мастером карикатурный манекен или кукла–гигант для ярмарочного балагана.
— Мы переходим в наступление на всех участках, — говорил он, — конечная наша цель — иметь большинство в бундестаге и сформировать свое правительство, которое поведет Германию новым путем.
Сегодня утром Карл позвонил Иоахиму Шлихтингу, отыскав номер телефона имения «Берта» в справочнике, и тот назначил ему свидание в центре Ганновера, в штаб–квартире наиболее перспективной, как он выразился, из немецких политических партий — НДП.
Эта встреча состоялась перед самым заседанием руководящего центра НДП. Услыхав, для чего назначил ему свидание Карл, Шлихтинг обрадовался и разволновался, даже расчувствовался. Он считал, что все уже погибло — и списки, и деньги, и пароль, — и надо же такое…
Попросил Карла побыть на заседании и затем отрекомендовал его партийным руководителям как представителя одного из зарубежных центров. Не хотел ни на секунду расставаться с ним, пока они не договорятся окончательно. Как понял Карл, Шлихтинг занимал в партии чуть ли не такое же положение, как и официальный ее вождь фон Тадден, — он был мозговым центром НДП, разрабатывал ее программу и направлял деятельность, а главным образом, как бывший промышленник, осуществлял связи партии с промышленными магнатами: без их финансовой поддержки на деятельности неонацистов сразу можно было поставить крест.
Карл несколько секунд наблюдал за красноречивыми жестами Шлихтинга — да, этот продумал все до конца, и его не собьешь с избранного пути. Где–то в глубине души он знает, чем закончится их авантюра, но все же не верит в возможность позорного конца, надеется на счастливый лотерейный билет, пусть один из тысячи, но кому–то он все–таки должен выпасть! Такому наплевать, что погибнут миллионы, — лишь бы выжил он.
Но о чем продолжает говорить Шлихтинг? Карл прислушался.
— Одна из наших неотложных задач, — Шлихтинг сел, положив руки на стол: они, казалось, жили отдельно от него, сами двигались и постукивали ногтями по полированному дереву, — да, одна из неотложных наших задач заключается в укреплении союза партии с бундесвером. Наше военное бюро, господа, утверждает, что каждый четвертый немецкий военнослужащий готов поддерживать НДП. Два генерала и пять полковников вступили в партию, это первый шаг, первый ручеек, который, надеюсь, станет полноводной рекой. Ибо чего может достигнуть настоящий офицер при нынешнем немецком правительстве? Дослужиться до полковника, получить пенсию. Настоящему офицеру нужна война, мы начнем ее, и офицеры будут стоять перед нашей штаб–квартирой в очереди за фельдмаршальскими жезлами!
— Будут стоять! — грохнул по столу кулаком один из присутствующих. — Но мы дадим их только достойным!
— Браво, Радке! — Шлихтинг зааплодировал. — Под конец, господа, я хочу проинформировать вас, что переговоры, проведенные нами с некоторыми представителями финансовой олигархии, завершились успешно. Наша касса пополнилась новыми взносами, которые позволят нам не скупиться во время выборов в ландтаги, а в перспективе и в бундестаг.
Карл вспомнил, как перед съездом Шлихтинг старался выведать у него, какая сумма лежит на зашифрованном счету, говорил, что их партия продолжает дело «третьего рейха», она законный наследник и имеет право на все деньги. Но глаза его при этом бегали и ощупывали Карла; тот понял все с самого начала, ухищрения Шлихтинга лишь смешили его, и он положил конец этим уловкам, спросив прямо:
— На какую сумму рассчитываете вы лично?
Шлихтинг не покраснел, не смутился, не оправдывался насущными интересами партии.
— Не меньше трех миллионов марок! — ответил с достоинством.
«Чем важнее фигура, тем больше аппетит», — понял Карл. Действительно, Пфердменгес запросил только миллион, а этот — втрое больше. Карл не стал торговаться со Шлихтингом. Думал: черт с ними — с Пфердменгесом, который со вчерашнего вечера засел в гостиничном ресторане, и с этим нового образца фашистом. Терпеть осталось только день: завтра они вылетят в Цюрих, он бросит нм в рожу деньги, только бы никогда больше не видеть, не слышать, не встречаться…
Но сейчас, наблюдая, как прощается Шлихтинг со своими коллегами, Карл сжимал руки так, что трещали пальцы в суставах; знал, что не простит себе этого, что Шлихтинг и Пфердменгес будут сниться ему, точнее, не они, а расстрелянные негры и будущие жертвы новых немецких концлагерей, которые непременно создадут неонацисты. Они бросили бы за колючую проволоку и его, если бы узнали о мыслях Карла.
Боже мой, какая ирония судьбы: он, сын коменданта одной из самых страшных фабрик смерти, сам ходил бы в полосатом халате, ожидая очереди в крематорий…
В комнате остались они одни. Шлихтинг спросил:
— Ну что, юноша, как вы относитесь к нашим идеям?
Карл понял: Шлихтинг спросил просто так, для порядка.
Еще минуты две–три назад Карл, возможно, и бросил бы в глаза этому долговязому пройдохе все, что думал о нем, но мысли об отце потрясли его и лишили воли.
Карл что–то пробормотал, хотя Шлихтинг и не требовал от него ответа.
— Самолет завтра в четыре, — сообщил. — Я заказал билеты.
— Пять?
— Да, кстати, зачем вам пятый?
— С нами полетит еще девушка.
Шлихтинг не позволил себе никакой фамильярности, только взглянул исподлобья, но Карл не захотел ничего объяснять.
Аннет встречала их в аэропорту. Не виделись немного больше недели, а Карл волновался так, словно возвращался из многомесячной тропической экспедиции, и все это время не получал ни одной весточки из дома. Когда шли по площади, Аннет повисла у него на руке, заглядывала в глаза, и ямочки на ее щеках двигались. Рассказывала, как ловко вела «фольксваген» по горным дорогам, совсем не боялась, хотя впервые ехала по серпантину. Она заказала им номера в недорогом отеле «Корона» — три комнаты подряд на четвертом этаже, господин Пфердменгес может поселиться в комфортабельных номерах бельэтажа (что он, кстати, и сделал), для машины есть платная стоянка, наискосок от отеля, метров за триста.
Карл еще не говорил с Аннет о поездке в Цюрих, но знал, что девушка захочет лететь с ним в Швейцарию, а еще больше хотел этого он — кстати, посмотрел на часы, уже почти восемь, и Аннет заждалась его.
Шлихтинг понял его взгляд.
— Где вы остановились? Отель «Корона»? Прекрасно, нам по дороге. Сегодня я остаюсь на городской квартире, шофер отвезет меня, а затем вас.
У выхода Шлихтинга ждали два «ординарца» — вооруженные молодчики, из охраны. Один из них сел на переднее сиденье машины. Шлихтинг поднял стекло, отделявшее заднюю часть машины, приказал в переговорную трубку:
— Домой! А затем отвезете господина в отель «Корона».
Карл подумал, что Шлихтинг мог дать этот приказ перед тем, как поднять стекло. Правда, тогда осталась бы незамеченной переговорная трубка,
Словно отвечая на его мысли, Шлихтинг произнес гордо:
— Мы заказали для фон Таддена и для меня два бронированных «мерседеса» с непробиваемыми шинами. Уникальные машины, фирма выпустила всего несколько таких.
Карл вжался в угол машины. Да, этот тип, если дорвется к власти, построит себе не только бункеры. Собственно, все разговоры о чести нации, интересах народа — ширма, которой они прикрывают свои желания. Начинается с бронированного «мерседеса», а заканчивается имениями, виллами, картинными галереями. Геринг тоже хватал все подряд.
Внезапно Карл представил тушу Геринга на виселице, а рядом — Шлихтинга: толстый и тонкий, но с одинаковыми аппетитами.
Посмотрел на Шлихтинга: не снится ли ему такой конец? Хорошо было бы сегодня после окончания совещания показать им фильм о Нюрнбергском процессе.
Хотя такие не образумятся.
Когда Карл направился на розыски последнего из «тройки», Гюнтер через ресторан бросился на улицу, смешался с толпой, перебежал на противоположную сторону и, спрятавшись за газетным киоском, увидел, как Карл вышел из отеля и проследовал к стоянке такси. Слава богу, там не было ни одной машины, и Гюнтер, стараясь не попадаться другу на глаза, успел добраться до автостоянки и залезть в «фольксваген». Оттуда хорошо видел, как нетерпеливо переступал Карл с ноги на ногу. Наконец подошло такси, Гюнтер врезался в транспортный поток сразу за ним — их разделяли всего две или три машины. Таксист шел быстро, и Гюнтеру пришлось хорошо попотеть: не зная города, трудно сразу сориентироваться, но все же Гюнтер не упустил из виду такси.
Карл вышел на Кроненштрассе и направился к стеклянной двери, у которой толпилось полтора десятка человек.
Гюнтер втиснул «фольксваген» между мышиного цвета «мерседесом» и какой–то длинной современной машиной. Увидев, что Карл исчез за стеклянной дверью, закурил и со скучающим видом подошел к молодчикам, толпившимся на панели. Его обогнал седой высокий мужчина — молодчики расступились, один даже открыл двери.
— Штандартенфюрер Готшальк, — сказал кто–то почтительно, и Гюнтер понял, что за стеклянными дверями собираются либо бывшие эсэсовцы, либо члены какого–то землячества.
Гюнтер занял место на краю панели и, выбрав удобный момент, открыл дверцу «опеля», помогая выйти из машины человеку в хорошо сшитом костюме. За ним выпрыгнула средних лет женщина, глянула на Гюнтера, тот поклонился вежливо и прошел с независимым видом рядом с этой парой мимо молодчиков, которые услужливо расступились.
Большой темноватый зал был заполнен на две трети — Гюнтер пристроился В последнем ряду и внимательно осмотрелся, но не заметил Карла. Почти сразу присутствующие зааплодировали — на сцену вышел какой–то человек.
— Шлихтинг, — прошептал сосед Гюнтера в волнении, — сам Иоахим Шлихтинг!
Гюнтеру показалось: сейчас Шлихтинг поднимет руку, бросит в зал «зиг!», и сотни присутствующих, как во времена «третьего рейха», заревут «хайль!». Но дело ограничилось аплодисментами и отдельными выкриками.
В это время в зале появился Карл. Он вышел из боровой узкой двери у самой сцены и сел на свободный стул в первом ряду.
Гюнтер не слушал Шлихтинга. Его всегда раздражали речи политиканов, считал их всех демагогами, мог сидеть в нескольких шагах от оратора, смотреть ему в глаза и не слушать — отключаться полностью, мог в такие минуты даже повторять роль или придумывать меткие реплики.
Гюнтер уже давно понял, что последний из «тройки» — один из неонацистских бонз. Вряд ли Карл по собственной инициативе пошел бы на это собрание и вряд ли его пропустили бы без разрешения в помещение за узкой дверью, которую охраняют два здоровенных молодчика. Следовательно, он встретился уже с человеком, который знает две последние цифры, и завтра, самое позднее послезавтра они вернутся в Швейцарию и станут владельцами банковского счета. Это же черт знает что такое, сегодня он бедняк, нищий, а завтра может открыть собственный театр!
Шлихтинг закончил, его проводили бурными аплодисментами, он подошел к краю сцены и подал какой–то знак (Гюнтер мог поклясться) Карлу, поскольку тот сразу подхватился и двинулся к узким дверям, которые открыл один из охранников.
Гюнтер вышел на улицу. Поспешил к себе в «фольксваген». Из стеклянных дверей стали выходить люди, наконец появился и Карл в сопровождении Иоахима Шлихтинга. Сел вместе с ним в длинную черную машину.
Что ж, все встало на свои места. Иоахим Шлихтинг — последний из кальтенбруннеровской «тройки».
Сейчас Гюнтер мог ехать домой, но, вспомнив историю со «святым отцом», двинулся за роскошным черным лимузином.
Шлихтинг не спешил. Вскоре начались тихие фешенебельные кварталы Ганновера, и Гюнтер не боялся потерять из виду черный лимузин, шел метров за сто — уже совсем стемнело, и если бы Карл даже оглянулся, все равно не узнал бы свой желтый «фольксваген».
Лимузин остановился возле дома за чугунной оградой, Гюнтер тоже притормозил и увидел, как из машины вышел Шлихтинг. Лимузин с Карлом двинулся в сторону центра. Попетляв немного, они неожиданно для Гюнтера вынырнули на улицу, где был их отель «Корона».
Гюнтер поставил «фольксваген» на место и поднялся лифтом на свой этаж. Карла не было в номере, и Гюнтер постучал в дверь комнаты Аннет. Никто не ответил. Гюнтер нажал на ручку, и дверь поддалась. Он переступил порог и хотел подать голос, но услышал такое, что заставило его скользнуть в темную при хожую и тихонько прикрыть за собой дверь.
Говорил Карл. Гюнтер четко слышал каждое слово, стоял, держась за ручку, и смотрел на полоску света, падавшую из ярко освещенной комнаты в прихожую через узкую щель приоткрытых дверей.
— Если я возьму эти деньги, — говорил Карл, — я возненавижу себя на всю жизнь, но нельзя же существовать, не уважая самого себя! Скажи, Аннет, как мне поступить?
Аннет ответила сразу:
— Я знала, что ты придешь к такому выводу, потому что верила в твою порядочность, милый, и мне было бы очень тяжело разочароваться.
«Милый, — скривился Гюнтер, — уже милый…»
Карл начал не совсем уверенно, словно раздумывая, но постепенно голос его креп, даже появились какие–то металлические нотки.
— Ты видела полковника Пфердменгеса? Хороший человек на первый взгляд, не так ли? Пьет, гуляет, веселый… Наверно, сидит сейчас в ресторане и ужинает с приятелями. Ты знаешь, зачем он приехал? Получить свои деньги — и айда назад, уничтожать черных! Он купит еще плантацию и, чтобы охранять ее, много оружия — он будет стрелять, вешать, рубить… И в этом помощник полковника я. Потому что я дал ему деньги, приобрел автоматы и пули к ним!
Гюнтер представил, как дергаются у Карла уголки губ. Что ж, по сути, Карл прав, но на земле почти каждый день кто–нибудь с кем–нибудь воюет и кто–то кого–то убивает, а Африка далеко… Стоит ли забивать себе этим полову?
— Но дело не в полковнике, — продолжал дальше Карл, — сегодня я отыскал третьего, знающего шифр. Он потребовал у меня сразу три миллиона. Потому что он умнее всех и знает, что и где можно хапануть. Я пообещал ему их, а теперь решил не отдавать, потому что это все равно, что наточить бритву врагу, который хочет тебя зарезать.
— Кто он? — Спросила Аннет.
— Один из неонацистских фюреров. Я читал о них, но не обращал внимания, да и все, мы часто не обращаем внимания…
— Кто все? — сердито оборвала Аннет. — Мы устраиваем демонстрации и митинги протеста, мы боремся, хотя наше правительство, к сожалению…
— Когда видишь все это собственными глазами, начинаешь думать: либо ты сумасшедший, либо сумасшедшие вокруг. Двадцать лет назад коричневые были еще у власти, потом все клялись, что никогда не допустят возрождения фашизма, сажали эсэсовцев за решетку и ставили антифашистские фильмы, а сейчас те же эсэсовцы красуются в мундирах, а фашисты под охраной закона произносят речи и выдвигают требования, которым бы позавидовал сам Гитлер!
В комнате установилась тишина.
Гюнтер прислонился плечом к стене. Его не взволновали слова Карла, ибо в глубине души он безразлично относился и к фашистам, и к антифашистам — верил только себе и своему умению устраиваться. Думал: назвал ли Шлихтинг свои две цифры? И сколько же на счету, если Карл пообещал ему даже три миллиона?
Три миллиона — и кому? Какому–то бывшему нацисту. А он, Гюнтер, которого чуть не расстреляли, получит только миллион. Где же справедливость?
Аннет спросила:
— Однако почему не насторожил тебя первый визит к Рудольфу Зиксу? И дядя предупреждал тебя…
— Почему же ты тогда не отговорила меня от поездки в Италию?
— Твоя правда, — вздохнула Аннет, — но мне так хотелось поехать с вами. С тобой…
— Мы сядем в машину и поедем, куда только ты захочешь, — примирительно сказал Карл. — И не будем думать ни о деньгах, ни… Но захочешь ли ты поехать со мной?
— Неужели ты действительно так думаешь, милый?
— А знаешь, кем был мой отец?
Гюнтер прикусил губы: надеясь отвернуть, Аннет от Карла, он рассказал ей о Франце Ангеле, но девушка ответила ему тогда так же, как сейчас Карлу.
— Я знаю, кто ты! — Немного помолчала. — Конечно, тень отца еще витает над тобой. Особенно когда сделаешь что–нибудь плохое.
Карл засмеялся хрипло и нервно.
— Ты на самом деле все знаешь и не отказываешься?
Гюнтер представил эту сцену в комнате и сжал кулаки.
А Карл все говорил:
— …И ничего не стоит между нами, любимая. Завтра мы полетим в Цюрих, и я переведу двадцать миллионов польскому посольству с условием, чтобы на эти деньги построили больницу. — Засмеялся. — Шлихтинг и полковник словно договорились: назовут мне цифры только на пороге банка. Тем больше разочаруются… — Карл умолк и продолжал после паузы: — Жаль Гюнтера. Но я уверен: он все поймет и одобрит наше решение.
Гюнтер еле удержался, чтобы не ворваться в комнату. Он что, мальчишка? И какое они имеют право решать за него? Его миллион — полякам? Миллион, с которым он уже свыкся, который как бы стал его собственностью и принес бы ему столько счастья, радостей и удовольствий?
У Гюнтера заклокотало в горле, поднял руки и чуть не закричал, как человек, которого грабят. Он не слышал, что дальше говорят в комнате, утратил самоконтроль, шагнул к двери — сейчас он ворвется к ним, он им покажет, заставит уважать его права; в конце концов, неужели полякам не хватит девятнадцати миллионов? Что для государства миллион, который может сделать его, Гюнтера, счастливым?
Но перед кем унижаться?
Эта мысль отрезвила его, привела в, чувство, и он услыхал слова Аннет:
— …Дядя остановился на Шаттегештрассе, где живет наша родственница, и я переночую там. Завтра утром он выезжает в Гамбург и хотел бы увидеть тебя.
О, уже и Каммхубель приперся в Ганновер — это окончательно разозлило Гюнтера. Суют нос не в свои дела, тоже философы, интеллигенция, раскудахтались: «Боже мой, как дурно пахнет от нацистских денег!» А ты не нюхай!
— Тогда поспешим, — сказал Карл.
Гюнтер осторожно вышел за дверь. Пробежал по коридору, оглянулся, заворачивая за угол, и чуть ли не скатился по лестнице.
…За столиком Пфердменгеса сидели двое мужчин. Полковник танцевал с какой–то раскрашенной девицей. Сев на место, жадно выпил шампанского, указал Гюнтеру на мужчин:
— Мои старые друзья. Этот рыжий — Ганс, а этот — бывший, хотя, правда, все мы бывшие… Курт, мой однополчанин.
— На минутку, господин Пфердменгес, — позвал его Гюнтер, — важное дело.
— Называй меня просто полковником, — небрежно похлопал его по плечу Пфердменгес. — Никаких дел, сегодня отдыхаем.
Мужчины одобрительно закивали. Гюнтер наклонился к уху Пфердменгеса, зашептал:
— Хотите потерять свои пятьсот тысяч?
Гюнтер отозвал полковника в сторону, рассказал о разговоре Карла с Аннет.
Полковник смотрел на него, не понимая. Наконец смысл сказанного дошел до его сознания.
— Я придушу этого Карла, как щенка! — Поднял кулаки. — Никто еще безнаказанно не обманывал Пфердменгеса!
— Вам хмель ударил в голову, — оборвал его Гюнтер. — Возможно, вы на самом деле придушите его, но ганноверская полиция уже через несколько часов раскроет вас. И вместо пятисот тысяч — тюрьма.
— Но нельзя же безнаказанно делать такие вещи! — горячился полковник.
— Есть способ увеличить вашу долю в десять раз! — не дослушал его до конца Гюнтер.
— Пять миллионов? — Полковник побледнел.
— Да, пять миллионов… Сейчас мы поедем… тут недалеко… Но при условии: будете выполнять все, что я скажу!
— Согласен!
Поймали такси, и через десять минут Гюнтер нажимал кнопку звонка у калитки, ведшей к дому Иоахима Шлихтинга.
Вышел слуга в сопровождении овчарки. Издалека спросил:
— Кто?
— Полковник Пфердменгес и господин Велленберг. Очень важное и срочное дело.
Слуга скоро вернулся и загнал овчарку в помещение.
— Прошу, господин Шлихтинг ждет вес,
Иоахим Шлихтинг стоял в центре большого холла с ковром во весь пол, и это делало его еще более высоким — будто червяк какой–то умудрился стать на хвост и замереть. Молчал, разглядывая посетителей. Гюнтер не выдержал и начал первый:
— Сегодня вы встречались с человеком, который выпытывал у вас две цифры шифра…
Шлихтинг наклонился немного и так застыл, как Пизанская башня. Затем проскрипел недовольно:
— Я не люблю шантажистов, господа. Если вы пришли только за этим, считайте разговор исчерпанным.
Гюнтер показал на полковника.
— Это штандартенфюрер СС Людвиг Пфердменгес. Он назовет вам пароль, который стал известен тому человеку… Ну, тому, кто был у вас сегодня.
— Да, — заявил уверенно полковник. — «Хорошо весной в арденнском лесу». Разве вы никогда не ездили туда в эту пору года? — добавил от себя ехидно.
Шлихтинг подумал немного и спросил:
— Но почему создалась такая ситуация? Пожалуйста… — и указал на кресла в углу холла.
— Человек, с которым вы познакомились сегодня, — начал Гюнтер, — сын Франца Ангела. Надеюсь, вам знакомо это имя?
Какая–то искра вспыхнула в прозрачных глазах Иоахима Шлихтинга.
— Конечно, знакомо, однако, тот парень назвался Карлом Хагеном.
— Карл Хаген — журналист, — заявил Гюнтер. — Его отец скрывался под такой фамилией. Но дело не в этом. Просто я объясню, каким образом к Карлу Хагену попал список тех, кто знает шифр. Я помогал ему с самого начала, если хотите, господа, не без корысти, у нас разговор идет начистоту, и я не таюсь перед вами. Карл Хаген обещал мне миллион, пятьсот тысяч полковнику. На какой сумме сошлись бы, господин Шлихтинг?
Шлихтинг втянул голову в плечи, сощурился иронично.
— Вы много себе позволяете, мой дорогой друг! — произнес присвистывая.
Гюнтер продолжал дальше, будто и не слышал ответа;
— Все равно вы не получили бы и пфеннига, поскольку Карл Хаген решил подарить всю сумму, лежащую на счету, полякам на строительство больницы. Во имя искупления так называемых эсэсовских грехов. Только что я был свидетелем его разговора с одной особой, господин полковник знает ее. — Вдруг сорвался чуть ли не на крик: — Им, видите ли, жалко меня, но они уверены, что я пойму этот жест и с радостью отрекусь от своей части! Никогда в жизни!
Шлихтинг спросил:
— Вы знаете первую часть шифра?
Гюнтер уже овладел собой.
— Две цифры известны полковнику, а первые две знает Карл Хаген. Он узнал их…
— У кого?
— Э, нет… — засмеялся Гюнтер. — Если вы узнаете, у кого, то исключите меня из игры.
— Сколько лежит на счету?
— Это уже деловой разговор. Я знал, что мы придем к соглашению, — повеселел Гюнтер. — Двадцать миллионов марок.
— Двадцать! — Шлихтинг так и замер в кресле. — А он сказал мне: десять,
— И вы сошлись?..
— Какое это имеет значение? Двадцать миллионов!.. — Шлихтинг словно все еще не верил. — Нас трое, и это выходит…
Гюнтер предостерегающе поднял руку.
— Человек, который знает первые две цифры, уверен, что эти деньги — собственность «четвертого рейха». Карл Хаген обманул его.
Шлихтинг положил большие, как лопаты, ладони на колени. Сказал безапелляционно:
— Наша партия — вот кто создаст «четвертый рейх»! Тот человек должен знать это. Вы явитесь к нему как представитель партии. Ну и… — задвигался в кресле, — думаю, мы и на самом деле некоторую сумму…
— Каждому по пять миллионов, — заявил Гюнтер решительно. — Нам по пять и пять на счет партии.
— Это представляется справедливым, — наконец подал голос полковник. — Я за такой вариант!
Шлихтинг согласился. Было жаль отдавать десять миллионов какому–то бурбонистому штандартенфюреру и юнцу, который не представляет настоящего вкуса денег и наверняка сразу же растранжирит их. Но не мог не согласиться: каждый держал другого в руках, каждый зависел от другого.
— Хорошо, господа, договорились, — сказал решительно. — Но завтра в четыре часа мы вместе с Карлом Хагеном должны были вылететь в Цюрих. Вдруг он заподозрит, что мы сговорились за его спиной?
— Ну и что? — беспечно махнул рукой Пфердменгес. — Послать его ко всем чертям, и только.
— Не так все это просто, — поморщился Шлихтинг. — Он поднимет шум в прессе, что мне и моей партии в канун выборов ни к чему. Наконец, может предупредить или шантажировать человека, который знает первые две цифры.
Полковник встал.
— Придется этого Карла Хагена убрать… — сказал деловито, словно речь шла о чем–то обычном, скажем, о покупке пачки сигарет.
— Может, все–таки договориться с ним? — спросил Шлихтинг.
— Пустое дело, — возразил Гюнтер. — Я знаю его!
Шлихтинг наклонился к полковнику. Спросил шепотом:
— Ну убрать… Но как?
Пфердменгес засмеялся:
— Я знаю сто способов!
Шлихтинг ужаснулся.
— Но ведь на нас сразу падет подозрение…
Полковник заходил по холлу, заложив руки за спину. Остановился перед Гюнтером.
— У вас есть ключи от «фольксвагена»?
Гюнтер вынул их из кармана.
— Завтра утром ни в коем случае не садитесь в машину.
— А–а… — понял все Шлихтинг. — Только бы не вышла на нас полиция.
— А мы обеспечим себе алиби. Начнем с того, что сейчас поймаем такси и твердо запомним его номер…
…Пфердменгес сел рядом с шофером и всю дорогу разговаривал с ним. Рассказывал, как охотятся на львов в саванне. Расплачиваясь, спросил у водителя, который час. Тот ответил.
— А мне показалось, что нет и девяти… — А когда машина отъехала, полковник сказал поучительно: — Шофер подтвердит, что без трех минут десять мы приехали в «Корону».
— «Фольксвагена» еще нет на стоянке, — заметил Гюнтер. — Когда проезжали, я обратил внимание.
— Это отведет от нас все подозрения, — хрипло засмеялся Пфердменгес. — На стоянке зафиксируют время его возвращения, когда мы уже будем в отеле и у нас будут свидетели.
— Но как?
Полковник приложил палец к губам.
— Пошли, — подтолкнул Гюнтера, — все будет в порядке.
Приятели Пфердменгеса все еще сидели за столом. Полковник незаметно дал Гюнтеру таблетку.
— Снотворное, — объяснил. — Сейчас мы накачаем их… Предложишь Курту переночевать на диване в твоем номере. Таблетку дашь выпить вместе с вином. Утром он будет клясться, что полночи вы с ним болтали. Спустишься ко мне после двух часов ночи, только осторожно, чтобы никто не заметил. Я не закрою дверь.
…Окна номера Пфердменгеса выходили впереулок. Ночью здесь редко попадались прохожие, но все же полковник, приоткрыв окно, долго прислушивался. Наконец отважился, скользнул в окно, держась за связанные ремни от чемоданов, и Гюнтер осторожно опустил его на панель. Как было оговорено, втянул ремни и закрыл окно.
В дальнем углу комнаты посапывал на диване Ганс. Лежал, свесив волосатую ногу. Гюнтер накрыл его — о Гансе следовало позаботиться, как–никак основной свидетель. Сел рядом, прислушался. За окном тишина, ни одного прохожего. Вдруг стало страшно: а если полковника задержат на месте преступления? Отправив Пфердменгеса на улицу, он уже стал его соучастником. Это же тюрьма…
А если сейчас выскочить в окно и задержать полковника? Может, еще удастся уговорить Карла и тот рассчитается с ним по–честному?
Пусть отдает остаток полякам, какое его, Гюнтера, дело? Но сейчас ни Пфердменгес, ни Шлихтинг не захотят иметь дело с Карлом: зачем им терять деньги? Да и ему, Гюнтеру, зачем терять? Есть же разница между миллионом и пятью, и нужно быть дураком, чтобы отдать свое!
Под окном коротко свистнули. Гюнтер спустил ремни и помог полковнику взобраться…
Тот зашел в ванну, смочил полотенце и тщательно протер подоконник. Снял туфли, вытер подметки. Протер и ремни.
— Необходимо предусмотреть все, — объяснил полковник, — и я не хочу давать полиции ни одного доказательства. Я заложил в «фольксваген» две мины — от него останется только воспоминание! Пистолет выбросил в канализацию… Вероятно, все…
Он выпустил Гюнтер а, переоделся в пижаму и лег о чувством человека, который имеет право на отдых после тяжелой работы.
Гюнтер стоял за шторой и выглядывал украдкой, словно его могли заметить с улицы.
Только что в номер заглянул Карл, они поговорили о делах, затем Карл предложил поездить по городу — Гюнтер знал, что сделал это он только из вежливости, а на самом деле хотел провести утро с Аннет. И действительно, Карл не уговаривал, стоял на пороге и улыбался, наверно, не совсем искренне, поскольку скрывал от друга тайну и завтра огорчил бы его, а Гюнтер не мог отвести от него взгляда, так как смотрел на него в последний раз; ему было трудно поверить в это, машина с минами казалась плодом нездорового воображения, плохим анекдотом, детской выдумкой — не может человек не чувствовать неотвратимого, а Карлу сейчас так хорошо, впереди у него встреча с Аннет, ощущение ее близости. Он уверен, ничто не помешает его встрече, верит, что так будет вечно, а жить Карлу осталось несколько минут; ему не будет больно, он даже не поймет, что умирает, но зачем это все, стоят ли эти миллионы (будь их в десять раз больше!) жизни друга, который смотрит на тебя с любовью и откровенно симпатизирует тебе?
Если бы Карл задержался в номере хотя бы еще минуту, Гюнтер, наверно, не выдержал бы и сказал, что ждет его, по крайней мере, под каким–нибудь предлогом не позволил бы сесть в «фольксваген». Но Карл спешил — он уже вышел из отеля и остановился возле светофора. Ожидая зеленый свет, помахал кому–то рукой. Гюнтер посмотрел кому и… увидел Аннет,
Она шла по самому краю панели в короткой зеленой юбке, белой кофточке, тоненькая и красивая, как белая роза на зеленом стебельке. Шла и махала Карлу рукой.
Карл побежал на желтый свет: вынырнул из–под машины, которая чуть не задела его, взял Аннет за руку, и они направились к стоянке, к канареечному «фольксвагену», начиненному взрывчаткой.
Дрожащими руками Гюнтер потянул на себя оконную, раму. Почему–то не поддавалась, а ведь он только что закрыл окно, — дергал изо всех сил и, только через несколько секунд сообразил, что надо поднять задвижку.
Когда наконец перегнулся через подоконник, сообразил, что все равно не услышат, не услышат даже те, кто значительно ближе, — по улице уже двигался утренний автомобильный поток, гудели моторы и шуршали шины, а белая роза на зеленом стебельке плыла по краешку панели, и ее бережно придерживал за руку Карл.
Вот они уж делают последние шаги, сейчас повернут на стоянку — но, может быть, полковник ошибся и что–нибудь не сработает, бывает же подобные случаи, почему не случиться такому сейчас?
Гюнтер стоял, вцепившись в оконную раму, g раскрытым ртом и выпученными глазами и вдруг закричал. Только не крик, а какой–то свист с клекотом вырвался из его груди, он зажал рот ладонью, испугался, что кто–нибудь услышит его и посмотрит с улицы, отшатнулся в глубь комнаты, схватился за спинку стула и не сводил глаз с тех, кто уже стоял возле желтой машины.
Аннет обошла «фольксваген», сейчас Гюнтер не видел ее, на мгновение ему стало легче — вдруг он не заметил и она отошла? Карл отомкнул дверцу, открыл противоположную, наверно, протянул руку Аннет — сам Гюнтер непременно сделал бы то же, чтобы лишний раз ощутить тепло девичьей руки и легкое благодарное пожатие, — они там сейчас улыбаются друг другу, — боже, зачем он вчера послушался полковника?
Карл прикрыл дверцу, и в тот же миг «фольксваген» подбросило, полыхнул огонь, и Гюнтер почувствовал, будто его больно толкнуло в грудь — выпустил спинку стула, зашатался и в изнеможении сел на пол. Прижался щекой к холодным паркетинам, от которых противно пахло мастикой, всхлипывал и дрожал в нервном возбуждении.
— Как нам увидеть этого Пфердменгеса? — спросил Карл.
Леребур уставился на него, как на заморское чудо. А затем весело засмеялся.
— Вы спрашиваете так, будто полковник Пфердменгес живет в двух шагах и вся сложность заключается в том, как представиться ему. Даже я не знаю, где он, а я, кажется, знаю здесь все. Кроме того, если так вот прямо начать узнавать о местопребывании полковника, можно получить пулю в живот…
— Вы не получите, — сказал Гюнтер уверенно.
— Ну от этого никто не застрахован, — возразил Жорж, но видно было, что сказал это только для проформы, потому что добавил хвастливо: — Вот что, коллеги, я присоединяюсь к вам и скажу откровенно: вам повезло, что встретили меня. Что касается карателей или наемников — все рты сразу закрывают. Вы слыхали о Момбе? — спросил вдруг.
Гюнтер кивнул.
— Пройдоха, старый лис! — Леребур завертел головой. — Я попробую устроить встречу с ним.
— Зачем? — не понял Карл.
Леребур посмотрел на него удивленно. Вдруг шлепнул себя ладонью по лбу.
— Извините, я ведь забыл сказать, что Пфердменгес, по существу, правая рука Момбе.
Организация встречи журналистов с кандидатом в премьеры оказалась не таким уж тяжелым делом: Момбе стремился завоевать популярность и не пренебрегал никакими средствами. Интервью же с французским и швейцарскими журналистами было для него просто находкой.
В точно назначенное время машина Леребура остановилась возле роскошного особняка за густо посаженными пальмами.
Слуга в белом смокинге провел их в большую комнату с полузашторенными окнами и вентиляторами под потолком. Кандидат в премьеры заставил их немного подождать. Наконец слуга открыл двери, и в комнату зашел Момбе. Он крепко пожал руки журналистам, пригласил к столу с бутылками.
— Прошу, господа, без церемоний, — сказал Момбе, широко улыбаясь. Налил всем, подчеркивая свою демократичность. — Я с удовольствием отвечу на ваши допросы, господа, но давайте вначале выпьем за моих несчастных соотечественников.
Он встал в театральную позу. Гюнтер улыбнулся: бездарный актер, все у него рассчитано на внешний эффект.
— Какие меры вы считаете необходимыми для стабилизации положения в стране? — спросил Леребур.
Момбе сел на стул, отхлебнул из стакана, нахмурился и ответил категорично:
— Мы должны положить конец деятельности раскольников — я имею в виду разных «патриотов», которые мутят воду в провинциях, отвлекают народ от работы разговорами о демократии. С этим может покончить сильная централизованная власть: разгромить бунтовщиков и установить мир в стране. Необходимо обратиться за помощью к высокоразвитым государствам и добиться ритмичной работы промышленных предприятий.
Момбе говорил, а Карл, глядя на его улыбающееся лицо, думал, что скрывается за этими аккуратными фразами, — он зальет страну кровью, вырежет целые поселения, добиваясь покорности, продаст иностранным компаниям еще не проданное и будет улыбаться интервьюерам и фотографам: в его стране покой н тишина. Карлу захотелось подняться и уйти, но продолжал сидеть со стаканом в руке, только нахмурился.
— Природные условия востока страны, — между тем продолжал Момбе, — не позволяют вести войну в ее, так сказать, классических образцах и диктуют свою тактику…
— Мы бы хотели познакомиться с этой тактикой, — вставил Гюнтер. — Нам рекомендовали полковника Пфердменгеса.
— Кто рекомендовал? — быстро обернулся к нему Момбе.
— Господин Леребур, — кивнул Гюнтер на француза. — Он наслышался о его храбрости и решительности.
— Безусловно, — согласился Момбе, — полковник Пфердменгес — человек храбрый.
— Мы бы просили вас помочь нам встретиться с полковником, — настаивал Гюнтер. — Дело в том, что никто, кроме вас…
— Да, война идет жестокая, — подтвердил Момбе, — и необходимо строго придерживаться военной тайны.
Гюнтер понял его.
— Мы не дети и понимаем, что специфика условий ведения военных действий в Африке вынуждает иногда идти на кое–какие крайности, как бы оказать, требует немалой крови. Но вы можете быть уверены в нашей лояльности и нежелании раздувать негативные аспекты…
Момбе закивал головой.
— Да… Да… Именно это я и хотел сказать. Хорошо, что у нас одна точка зрения. Я дам вам письмо к полковнику, но должен предупредить, что добраться туда будет трудно…
Жорж Леребур оказался неоценимым компаньоном: кроме того, что он знал Африку так, как Карл свой Бернскийкантон, у него было много знакомых в самых разных кругах. В дирекции «Юнион миньер» Жорж договорился об аренде не очень старого «пежо»; им предлагали и лучшие марки, но Леребур решительно отказался. «Может, специально для нас вы откроете и пару бензоколонок?» — спросил он, и никто ему не возразил. В самом деле, они должны были ехать по дороге, где с бензином были перебои; вспоминался случай, когда машины стояли по нескольку дней в маленьких провинциальных городках, ожидая горючего. Жорж знал это и поэтому решительно выбрал малолитражный «пежо»; а не мощный «ягуар», который предложил нм один из директоров «Юнион миньер».
Сейчас, когда позади остались города, они по–настоящему оценили прозорливость Леребура: все равно по местным дорогам более чем пятьдесят–шестьдесят километров не сделаешь, на «ягуаре» нм не хватило бы горючего и на половину пути, а обшарпанный «пежо», гремя железом по выбоинам, потихоньку на одном баке почти дотянул их до городка, где должен был быть бензин.
Жорж тихо ругался, проклиная африканские дороги, поскольку стрелка бензометра дрожала уже у нуля. С гребня небольшого холма Жорж увидел дома, но машина зачихала и остановилась: бензин кончился. В канистрах тоже ничего не было, и Леребур предложил:
— Ждать здесь кого–либо, чтобы выпросить галлон бензина, дело мертвое. Я останусь в машине, а вы идите в город. Отсюда три–четыре километра, не больше. Возьмите велосипед на колонке, и пусть кто–нибудь привезет пару галлонов.
Гюнтер и Карл были не против, чтобы размяться после долгой езды. Двинулись бодро к городу, держась в тени придорожных деревьев. Когда до околицы осталось совсем немного, на шоссе вышли из кустов несколько человек с автоматами.
Карл и Гюнтер остановились. Вперед выдвинулся человек лет за сорок с морщинистым лицом, в военной рубашке, заправленной в обтрепанные брюки. На животе у него висела кобура с пистолетом. Спросил властно:
— Кто такие?
— Журналисты. Мы швейцарские журналисты и едем по поручению газеты.
— Не вижу, на чем вы едете… — засмеялся человек и протянул руку. — Документы!
Гюнтер стал объяснять, что у них не хватило бензина и пришлось идти до города пешком, документы остались в «пежо».
Человек с пистолетом смотрел на них, упершись руками в бока. Не дослушав, бросил пренебрежительно:
— Хватит болтать! Кто подослал вас сюда и для чего?
— Но ведь я говорю правду, вы можете проверить, у нас не хватило бензина, и мы оставили машину совсем недалеко.
— Хорошая легенда, капитан, — вмешался совсем еще молодой парень с автоматом, стоящий рядом. — Могу поклясться, это шпионы из соседней провинции. И после того, как мы прибрали их самозванца президента…
— Ты прав, — похвалил капитан. — Так вот, голубчики, будете говорить правду или помочь вам? Для чего вас подослали сюда?
— Вы можете легко проверить, — быстро начал Карл, — наша машина…
Удар в челюсть прервал его лепет. Капитан умел бить, у Карла закружилась голова, он чуть не упал.
— Вы не имеете права! — вдруг закричал Гюнтер. — Мы иностранные подданные, и вы будете отвечать!
— У нас поручение к полковнику Пфердменгесу, — добавил Карл, держась за щеку, — и я требую, чтобы вы…
— Ты здесь ничего не можешь требовать, — ударил его носком ботинка капитан. Подумал н решил: — Ясно, шпионы… Расстрелять!
Карл сказал как можно убедительнее:
— Вы ошибаетесь, капитан, мы не шпионы, и я вам говорю: это легко проверить.
Капитан схватил его за воротник.
— Кто назвал тебе имя полковника? Здесь ни одна душа не знает его.
— У нас письмо к полковнику от самого Момбе.
— Где оно? Нет? Я так и знал… Довольно трепаться! — оттолкнул Карла. — Расстрелять!
Солдаты схватили их, скрутили руки назад, связали. Парень с автоматом подтолкнул Карла к обочине.
— Давай… Нет времени…
Карл хотел крикнуть капитану что–то, но вдруг понял: что бы он ни говорил, этот человек не отменит своего решения и их судьба решена.
Карла подтолкнули в бок автоматом, и он покорно пошел к кустам.
Гюнтера тоже подтолкнули, но он вывернулся между двух солдат, подбежал к капитану и упал на колени.
— Даю вам слово чести, — начал в отчаянии, — мы журналисты, и у нас есть поручение к полковнику… — Солдаты подхватили его под руки, потащили. — Умоляю, не убивайте! Пфердменгес не простит вам!
Капитан обернулся, какая–то тень промелькнула по его лицу, словно заколебался, но махнул рукой и пошел к дереву, под которым стоял американский «джип».
Гюнтер отбивался, что–то кричал, но солдаты тащили его в кусты. Метрах в пятидесяти от дороги, на полянке, их привязали к стволам деревьев. Парень с автоматом отошел на несколько шагов, спросил у солдат по–немецки:
— Кто хочет?
— Кончай их, сержант, — безразлично отозвался кто–то.
Сержант стал поднимать автомат, черное дуло сверлило мозг, Карлом овладела апатия, он все видел и слышал, но не мог пошевелиться, все было миражем, нереальностью — и солдаты, и деревья, к которым их привязали, и желтая трава под ногами, — реальным был только автоматный ствол; он сейчас вздрогнет, но Карл уже не увидит огня, пули долетят быстрее…
Рядом Гюнтер закричал:
— Не убивайте нас!
Сержант повел автоматом, сейчас Карл видел только черное дуло — оно увеличивалось и напоминало жерло орудия.
И вдруг — нет черной бездны, сержант, опустив автомат, поворачивается к ним боком…
Что там, на краю обочины? Почему опять появился капитан и рядом с ним Леребур?
Уже убедившись, что пришло спасение, Карл никак не мог избавиться от чувства, что у него на груди обожжена кожа…
— Я должен принести вам свои извинения, — сказал капитан, пока их развязывали, но Карл плохо понимал его, апатия не отпускала, и под сердцем жгло.
— Дайте ему воды… — заметил состояние Карла Жорж Леребур.
К его губам приложили баклажку, он машинально глотнул, виски обожгло горло, но сразу стало легче — закашлялся, слезы выступили на глазах, но боль под сердцем утихла, вернулась способность слышать и видеть.
Гюнтер стоял рядом, опершись о дерево. Ему тоже дали глотнуть виски, он отпил чуть ли не половину баклажки. Поднял кулаки, что–то хотел сказать, но, так и не произнеся ни. одного слова, сел на траву.
— Вас заподозрили в шпионаже в пользу бунтовщиков, — объяснил Леребур.
Гюнтер зло плюнул.
— Я же объяснял ему, что у нас письмо!
— Ну… ну… — примирительно проворчал Жорж. — К счастью, меня догнал грузовик, и я разжился парой галлонов бензина.
— А если бы не было грузовика? — не сдавался Гюнтер.
— Пили бы вы сейчас шнапс на том свете! — засмеялся сержант. — Но здесь по–другому нельзя.
— Если бы вы знали местные условия… — подтвердил капитан. — Хотите еще? — протянул Карлу свою баклажку.
Тот отрицательно покачал головой. Его тошнило.
— Поехали… — предложил Карл. Эта поляна, где они чуть не остались навечно, вызывала беспокойство и даже раздражение.
— Да, поехали, — согласился Леребур. — Тем более что осталось нам… Полковник здесь, в городе…
— Вот и хорошо! — обрадовался Гюнтер. — Конец нашим блужданиям.
Он хлопнул Карла по плечу, но тот не разделял его энтузиазма. К, ак–то было все равно: полковник так полковник, есть — пусть будет, нет, то и не надо…
В голове шумело, лицо капитана расплывалось. Знал: эта черная точка, что разрасталась в жерло, теперь будет сниться ему и сны эти будут кошмарны…
— Моя профессия убивать, и я не стыжусь ее! — так начал пресс–конференцию полковник Людвиг Пфердменгес.
Они сидели на веранде большого одноэтажного дома, где расположился штаб батальона «Леопард»… Только что полковнику доложили, что карательная экспедиция Против бунтовщиков–партизан, засевших на западном берегу большого озера, завершилась успешно, и он пребывал в том благодушном настроении, когда все кажется лучше, чем на самом деле, и поэтому тебя тянет на откровенность, язык развязывается, и начинаешь рассказывать то, что при других обстоятельствах сам вспоминаешь неохотно.
— Да, господа, я не стыжусь. Ибо какая же другая обязанность может быть у солдата, тем более здесь, где дикость и первобытные обычаи? Не убьешь ты — убьют тебя, поэтому мы и стараемся убивать как можно больше. Левая пресса — иногда я читаю эти красные листки, господа, — кричит о нашей жестокости, о том, что партизаны ведут справедливую борьбу за права туземцев. Время, господа, покончить с пустой болтовней. Все это выдумки коммунистов, я убежден в этом. С нашей точки зрения, с точки зрения солдат моего батальона «Леопард», война, которую мы ведем против черномазых партизан, справедлива, мы защищаем свои интересы и интересы состоятельных, а значит, самых культурных и самых прогрессивных сил страны. А кто не разделяет эти взгляды, пусть катится ко всем чертям! И мы с удовольствием поможем ему быстрее добраться туда!
Полковник расстегнул пуговицу на рубашке и выпил полстакана газированной воды. Далее продолжал сдержаннее:
— В свое время меня причислили к эсэсовским преступникам, и я должен был эмигрировать в эти паршивые джунгли. За что, спрашиваю вас? Меня. — к преступникам? Я командовал полком, потом дивизией СС, мы воевали как могли, ну, уничтожали партизан в России, но и они уничтожали нас. Война шла без правил! Опыт русской кампании научил меня, сейчас мы используем его: лучше убить десяток партизан, чем оставить одного раненого. Потому что и раненые кусаются.
— А что вы им дадите, если победите? Ваша позитивная программа? — спросил Леребур.
— Пусть с программами выступают другие, — отмахнулся Пфердменгес. — Момбе или кто другой. Они мастера затуманивать головы, их профессия — болтать, а наша — устанавливать твердую власть. Моя программа очень простая: негры должны работать.
Полковник остановился, глотнул воды и продолжал дальше с нажимом:
— Заставляя негров работать, мы делаем великое, благородное дело прежде всего для них самих, для развития нации, господа, если хотите. Мы совершаем великую цивилизаторскую миссию, пробуждаем, я убежден в этом, Черную Африку от вековой спячки.
— У вас есть плантации в этой стране? — спросил полковника Гюнтер.
— Наивный вопрос, — засмеялся полковник. — Эти джунгли и саванны оказались не такими уж и дикими. Плантации кофе, хлопка, масличных пальм… При умелом землепользовании это дает неплохой доход. У меня есть управляющие и надсмотрщики.
Этот самоуверенный убийца давно уже надоел Карлу. Вспоминал черный ствол автомата, наведенный на него, и злоба душила его.
Наверно, у полковника давно уже атрофировались все человеческие чувства, и он ничем не отличался от горилл, живущих в здешних лесах, даже хуже — горилла убивает, защищаясь, а этот подвел под убийства философскую базу: никогда еще Карл не слыхал такого откровенно оголтелого цинизма. Переглянулся с Гюнтером. Видно, тот ощущал то же самое и понял Карла, так как встал, положив конец беседе.
— Я отвлеку внимание француза, — прошептал Карлу на ухо, — а ты поговори с полковником Пфердменгесом.
Карл смотрел на Пфердменгеса. Почему–то вспомнил отца Людвига. Нет, кузены совсем непохожи — жизнь в джунглях и военные невзгоды закалили полковника: подтянутый, загорелый и живой, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет. У монаха, правда, глаза поумнее, а у этого мутные, воловьи.
Гюнтер потянул Леребура к бутылкам в соседнюю комнату. Карл задержал Пфердменгеса.
— Минутку, полковник, два слова…
Пфердменгес остановился, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, и посмотрел недовольно. Карл подошел к нему вплотную.
— Видели ли вы черный тюльпан?
У полковника забегали глаза.
— Вас послали ко мне?
— Да.
— Кто?
— Я не имею права разглашать тайну. Вам необходимо назвать две цифры и не расспрашивать меня ни о чем.
— Эх… — вздохнул Пфердменгес не то с сожалением, не то облегченно. — Прошли те времена, когда я не расспрашивал…
Карл сказал твердо:
— Но вы обязаны сделать это.
— Я сам знаю, в чем заключаются мои обязанности, — огрызнулся Пфердменгес. — Лично я не имею намерения возвращаться в фатерлянд. Мне и здесь неплохо. Мой рейх — моя хлопковая плантация, я завоевал ее сам, а рейх обещал мне имение на Украине, но где оно? Рейх, юноша, еще не расплатился со мной, и я считаю, будет справедливо рассчитаться сейчас. Из той суммы, которую вы получите… Сколько лежит на зашифрованном счету? И где?
Карл неуверенно пожал плечами.
— Ну хорошо, — не настаивал полковник, — меня это интересует мало, но… — задумался, не сводя внимательного взгляда с Карла. — Однако миллион — это, может быть, не так уж много? Я слыхал, что на зашифрованные счета меньше десяти миллионов не клали. Десять процентов — справедливое вознаграждение. Вы мне миллион, я вам — две цифры.
— Ого, а у вас аппетит! К сожалению, я не имею права…
— А я пошлю вас к чертовой матери со всеми вашими паролями! — Полковник помахал пальцем перед его носом. — Забыл цифры, вас это устраивает?
— Хорошо… — подумав, ответил Карл. — Но миллион вы не получите. Четыреста тысяч марок.
Глаза полковника потемнели. Шутя толкнул Карла в бок:
— Ну, парень, мы же не на базаре.
— Да, — согласился Карл, — поэтому пятьсот тысяч — мое последнее слово. И они свалятся на вас. как манна небесная.
— Договорились, — пошел на уступку Пфердменгес. — Пойдем скрепим нашу сделку.
— Цифры? — не тронулся с места Карл. Полковник улыбнулся и подморгнул.
— Не выйдет! — помахал пальцем перед самым носом Карла. — Я поеду с вами и назову цифры только на пороге банка, чтобы мои полмиллиона не уплыли… Пароль — пожалуйста: «Хорошо весной в арденнском лесу». Тогда мы еще не наступали в Арденнах и не бежали оттуда… Боже мой, будто вчера моя дивизия была в Арденнах… Нам бы открыть фронт, а мы поперлись, как последние идиоты…
Карл поморщился: перспектива совместной поездки не радовала. Еще раз попытался отвертеться:
— Мы не имеем права терять время и завтра отправляемся обратно. Я могу дать вам какие–нибудь гарантии…
— Гарантии? — засмеялся Пфердменгес. — Я знаю, что это такое, даже самые солидные гарантии и разные там джентльменские соглашения. Завтра, говорите? Это меня устраивает, послезавтра мы будем в Европе. Вам в Европу?
— Но Леребур одолжил машину у директора фирмы «Юнион миньер».
— Пусть эта старая развалина не беспокоит вас. Мои «леопарды» доставят ее назад. А мы выедем на рассвете. До первого аэропорта триста километров, оттуда долетим до Найроби, а там уже линии обслуживают европейские компании. Современные реактивные лайнеры, скорость и комфорт…
Карл подумал: через два дня он увидит Аннет. Всего через два дня! Из сердца Африки, нз саванн, где охотятся не на диких зверей, а на людей, в европейский город!
Черт с ним, с Пфердменгесом, не надо обращать на него внимания, можно смотреть на него, как на надоедливую муху, — не больше.
Полковник пропустил Карла вперед! сейчас он был воплощением вежливости:
— Пожалуйста, коктейль перед ужином…
Карл вспомнил слова полковника! «Моя профессия — убивать» — и подумал, что коктейли и вежливость не сообразуются с этими словами, что последнее является ширмой, и Пфердменгес, вернувшись сюда из Европы, станет еще более жестоким и убивать будет еще больше, ибо за полмиллиона марок можно приобрести не одну плантацию, а имения необходимо защищать. Таким образом, он, Карл Хаген, станет хотя и не прямым, но все же виновником убийств. Содрогнулся — ко всем чертям полковника! — но Гюнтер уже протягивал Карлу фужер с коктейлем, глядя вопросительно, и он машинально кивнул, давая знать, что дело с Пфердменгесом улажено.
Иоахим Шлихтинг стоял за длинным столом, по обе стороны которого сидели его коллеги по партии.
Карл пристроился в уголке, откуда хорошо видел Шлихтинга и других руководителей нового фашистского движения в Западной Германии. Он твердо знал — фашистского, хотя шло заседание руководящего центра партии, которая называлась национал–демократической.
У Шлихтинга, казалось, все было удлиненное: высокий, сухой, как кипарис, человек с продолговатым лицом и руками шимпанзе, которые, казалось, свисали ниже коленей. Длинный красноватый нос и подбородок, сужающийся книзу, еще более сужали его. Он стоял, опираясь на длинный полированный стол — блестящая поверхность отражала его фигуру и, еще удлинив, делала нереальной, словно не человек навис над столом, а изготовленный неудачником–мастером карикатурный манекен или кукла–гигант для ярмарочного балагана.
— Мы переходим в наступление на всех участках, — говорил он, — конечная наша цель — иметь большинство в бундестаге и сформировать свое правительство, которое поведет Германию новым путем.
Сегодня утром Карл позвонил Иоахиму Шлихтингу, отыскав номер телефона имения «Берта» в справочнике, и тот назначил ему свидание в центре Ганновера, в штаб–квартире наиболее перспективной, как он выразился, из немецких политических партий — НДП.
Эта встреча состоялась перед самым заседанием руководящего центра НДП. Услыхав, для чего назначил ему свидание Карл, Шлихтинг обрадовался и разволновался, даже расчувствовался. Он считал, что все уже погибло — и списки, и деньги, и пароль, — и надо же такое…
Попросил Карла побыть на заседании и затем отрекомендовал его партийным руководителям как представителя одного из зарубежных центров. Не хотел ни на секунду расставаться с ним, пока они не договорятся окончательно. Как понял Карл, Шлихтинг занимал в партии чуть ли не такое же положение, как и официальный ее вождь фон Тадден, — он был мозговым центром НДП, разрабатывал ее программу и направлял деятельность, а главным образом, как бывший промышленник, осуществлял связи партии с промышленными магнатами: без их финансовой поддержки на деятельности неонацистов сразу можно было поставить крест.
Карл несколько секунд наблюдал за красноречивыми жестами Шлихтинга — да, этот продумал все до конца, и его не собьешь с избранного пути. Где–то в глубине души он знает, чем закончится их авантюра, но все же не верит в возможность позорного конца, надеется на счастливый лотерейный билет, пусть один из тысячи, но кому–то он все–таки должен выпасть! Такому наплевать, что погибнут миллионы, — лишь бы выжил он.
Но о чем продолжает говорить Шлихтинг? Карл прислушался.
— Одна из наших неотложных задач, — Шлихтинг сел, положив руки на стол: они, казалось, жили отдельно от него, сами двигались и постукивали ногтями по полированному дереву, — да, одна из неотложных наших задач заключается в укреплении союза партии с бундесвером. Наше военное бюро, господа, утверждает, что каждый четвертый немецкий военнослужащий готов поддерживать НДП. Два генерала и пять полковников вступили в партию, это первый шаг, первый ручеек, который, надеюсь, станет полноводной рекой. Ибо чего может достигнуть настоящий офицер при нынешнем немецком правительстве? Дослужиться до полковника, получить пенсию. Настоящему офицеру нужна война, мы начнем ее, и офицеры будут стоять перед нашей штаб–квартирой в очереди за фельдмаршальскими жезлами!
— Будут стоять! — грохнул по столу кулаком один из присутствующих. — Но мы дадим их только достойным!
— Браво, Радке! — Шлихтинг зааплодировал. — Под конец, господа, я хочу проинформировать вас, что переговоры, проведенные нами с некоторыми представителями финансовой олигархии, завершились успешно. Наша касса пополнилась новыми взносами, которые позволят нам не скупиться во время выборов в ландтаги, а в перспективе и в бундестаг.
Карл вспомнил, как перед съездом Шлихтинг старался выведать у него, какая сумма лежит на зашифрованном счету, говорил, что их партия продолжает дело «третьего рейха», она законный наследник и имеет право на все деньги. Но глаза его при этом бегали и ощупывали Карла; тот понял все с самого начала, ухищрения Шлихтинга лишь смешили его, и он положил конец этим уловкам, спросив прямо:
— На какую сумму рассчитываете вы лично?
Шлихтинг не покраснел, не смутился, не оправдывался насущными интересами партии.
— Не меньше трех миллионов марок! — ответил с достоинством.
«Чем важнее фигура, тем больше аппетит», — понял Карл. Действительно, Пфердменгес запросил только миллион, а этот — втрое больше. Карл не стал торговаться со Шлихтингом. Думал: черт с ними — с Пфердменгесом, который со вчерашнего вечера засел в гостиничном ресторане, и с этим нового образца фашистом. Терпеть осталось только день: завтра они вылетят в Цюрих, он бросит нм в рожу деньги, только бы никогда больше не видеть, не слышать, не встречаться…
Но сейчас, наблюдая, как прощается Шлихтинг со своими коллегами, Карл сжимал руки так, что трещали пальцы в суставах; знал, что не простит себе этого, что Шлихтинг и Пфердменгес будут сниться ему, точнее, не они, а расстрелянные негры и будущие жертвы новых немецких концлагерей, которые непременно создадут неонацисты. Они бросили бы за колючую проволоку и его, если бы узнали о мыслях Карла.
Боже мой, какая ирония судьбы: он, сын коменданта одной из самых страшных фабрик смерти, сам ходил бы в полосатом халате, ожидая очереди в крематорий…
В комнате остались они одни. Шлихтинг спросил:
— Ну что, юноша, как вы относитесь к нашим идеям?
Карл понял: Шлихтинг спросил просто так, для порядка.
Еще минуты две–три назад Карл, возможно, и бросил бы в глаза этому долговязому пройдохе все, что думал о нем, но мысли об отце потрясли его и лишили воли.
Карл что–то пробормотал, хотя Шлихтинг и не требовал от него ответа.
— Самолет завтра в четыре, — сообщил. — Я заказал билеты.
— Пять?
— Да, кстати, зачем вам пятый?
— С нами полетит еще девушка.
Шлихтинг не позволил себе никакой фамильярности, только взглянул исподлобья, но Карл не захотел ничего объяснять.
Аннет встречала их в аэропорту. Не виделись немного больше недели, а Карл волновался так, словно возвращался из многомесячной тропической экспедиции, и все это время не получал ни одной весточки из дома. Когда шли по площади, Аннет повисла у него на руке, заглядывала в глаза, и ямочки на ее щеках двигались. Рассказывала, как ловко вела «фольксваген» по горным дорогам, совсем не боялась, хотя впервые ехала по серпантину. Она заказала им номера в недорогом отеле «Корона» — три комнаты подряд на четвертом этаже, господин Пфердменгес может поселиться в комфортабельных номерах бельэтажа (что он, кстати, и сделал), для машины есть платная стоянка, наискосок от отеля, метров за триста.
Карл еще не говорил с Аннет о поездке в Цюрих, но знал, что девушка захочет лететь с ним в Швейцарию, а еще больше хотел этого он — кстати, посмотрел на часы, уже почти восемь, и Аннет заждалась его.
Шлихтинг понял его взгляд.
— Где вы остановились? Отель «Корона»? Прекрасно, нам по дороге. Сегодня я остаюсь на городской квартире, шофер отвезет меня, а затем вас.
У выхода Шлихтинга ждали два «ординарца» — вооруженные молодчики, из охраны. Один из них сел на переднее сиденье машины. Шлихтинг поднял стекло, отделявшее заднюю часть машины, приказал в переговорную трубку:
— Домой! А затем отвезете господина в отель «Корона».
Карл подумал, что Шлихтинг мог дать этот приказ перед тем, как поднять стекло. Правда, тогда осталась бы незамеченной переговорная трубка,
Словно отвечая на его мысли, Шлихтинг произнес гордо:
— Мы заказали для фон Таддена и для меня два бронированных «мерседеса» с непробиваемыми шинами. Уникальные машины, фирма выпустила всего несколько таких.
Карл вжался в угол машины. Да, этот тип, если дорвется к власти, построит себе не только бункеры. Собственно, все разговоры о чести нации, интересах народа — ширма, которой они прикрывают свои желания. Начинается с бронированного «мерседеса», а заканчивается имениями, виллами, картинными галереями. Геринг тоже хватал все подряд.
Внезапно Карл представил тушу Геринга на виселице, а рядом — Шлихтинга: толстый и тонкий, но с одинаковыми аппетитами.
Посмотрел на Шлихтинга: не снится ли ему такой конец? Хорошо было бы сегодня после окончания совещания показать им фильм о Нюрнбергском процессе.
Хотя такие не образумятся.
Когда Карл направился на розыски последнего из «тройки», Гюнтер через ресторан бросился на улицу, смешался с толпой, перебежал на противоположную сторону и, спрятавшись за газетным киоском, увидел, как Карл вышел из отеля и проследовал к стоянке такси. Слава богу, там не было ни одной машины, и Гюнтер, стараясь не попадаться другу на глаза, успел добраться до автостоянки и залезть в «фольксваген». Оттуда хорошо видел, как нетерпеливо переступал Карл с ноги на ногу. Наконец подошло такси, Гюнтер врезался в транспортный поток сразу за ним — их разделяли всего две или три машины. Таксист шел быстро, и Гюнтеру пришлось хорошо попотеть: не зная города, трудно сразу сориентироваться, но все же Гюнтер не упустил из виду такси.
Карл вышел на Кроненштрассе и направился к стеклянной двери, у которой толпилось полтора десятка человек.
Гюнтер втиснул «фольксваген» между мышиного цвета «мерседесом» и какой–то длинной современной машиной. Увидев, что Карл исчез за стеклянной дверью, закурил и со скучающим видом подошел к молодчикам, толпившимся на панели. Его обогнал седой высокий мужчина — молодчики расступились, один даже открыл двери.
— Штандартенфюрер Готшальк, — сказал кто–то почтительно, и Гюнтер понял, что за стеклянными дверями собираются либо бывшие эсэсовцы, либо члены какого–то землячества.
Гюнтер занял место на краю панели и, выбрав удобный момент, открыл дверцу «опеля», помогая выйти из машины человеку в хорошо сшитом костюме. За ним выпрыгнула средних лет женщина, глянула на Гюнтера, тот поклонился вежливо и прошел с независимым видом рядом с этой парой мимо молодчиков, которые услужливо расступились.
Большой темноватый зал был заполнен на две трети — Гюнтер пристроился В последнем ряду и внимательно осмотрелся, но не заметил Карла. Почти сразу присутствующие зааплодировали — на сцену вышел какой–то человек.
— Шлихтинг, — прошептал сосед Гюнтера в волнении, — сам Иоахим Шлихтинг!
Гюнтеру показалось: сейчас Шлихтинг поднимет руку, бросит в зал «зиг!», и сотни присутствующих, как во времена «третьего рейха», заревут «хайль!». Но дело ограничилось аплодисментами и отдельными выкриками.
В это время в зале появился Карл. Он вышел из боровой узкой двери у самой сцены и сел на свободный стул в первом ряду.
Гюнтер не слушал Шлихтинга. Его всегда раздражали речи политиканов, считал их всех демагогами, мог сидеть в нескольких шагах от оратора, смотреть ему в глаза и не слушать — отключаться полностью, мог в такие минуты даже повторять роль или придумывать меткие реплики.
Гюнтер уже давно понял, что последний из «тройки» — один из неонацистских бонз. Вряд ли Карл по собственной инициативе пошел бы на это собрание и вряд ли его пропустили бы без разрешения в помещение за узкой дверью, которую охраняют два здоровенных молодчика. Следовательно, он встретился уже с человеком, который знает две последние цифры, и завтра, самое позднее послезавтра они вернутся в Швейцарию и станут владельцами банковского счета. Это же черт знает что такое, сегодня он бедняк, нищий, а завтра может открыть собственный театр!
Шлихтинг закончил, его проводили бурными аплодисментами, он подошел к краю сцены и подал какой–то знак (Гюнтер мог поклясться) Карлу, поскольку тот сразу подхватился и двинулся к узким дверям, которые открыл один из охранников.
Гюнтер вышел на улицу. Поспешил к себе в «фольксваген». Из стеклянных дверей стали выходить люди, наконец появился и Карл в сопровождении Иоахима Шлихтинга. Сел вместе с ним в длинную черную машину.
Что ж, все встало на свои места. Иоахим Шлихтинг — последний из кальтенбруннеровской «тройки».
Сейчас Гюнтер мог ехать домой, но, вспомнив историю со «святым отцом», двинулся за роскошным черным лимузином.
Шлихтинг не спешил. Вскоре начались тихие фешенебельные кварталы Ганновера, и Гюнтер не боялся потерять из виду черный лимузин, шел метров за сто — уже совсем стемнело, и если бы Карл даже оглянулся, все равно не узнал бы свой желтый «фольксваген».
Лимузин остановился возле дома за чугунной оградой, Гюнтер тоже притормозил и увидел, как из машины вышел Шлихтинг. Лимузин с Карлом двинулся в сторону центра. Попетляв немного, они неожиданно для Гюнтера вынырнули на улицу, где был их отель «Корона».
Гюнтер поставил «фольксваген» на место и поднялся лифтом на свой этаж. Карла не было в номере, и Гюнтер постучал в дверь комнаты Аннет. Никто не ответил. Гюнтер нажал на ручку, и дверь поддалась. Он переступил порог и хотел подать голос, но услышал такое, что заставило его скользнуть в темную при хожую и тихонько прикрыть за собой дверь.
Говорил Карл. Гюнтер четко слышал каждое слово, стоял, держась за ручку, и смотрел на полоску света, падавшую из ярко освещенной комнаты в прихожую через узкую щель приоткрытых дверей.
— Если я возьму эти деньги, — говорил Карл, — я возненавижу себя на всю жизнь, но нельзя же существовать, не уважая самого себя! Скажи, Аннет, как мне поступить?
Аннет ответила сразу:
— Я знала, что ты придешь к такому выводу, потому что верила в твою порядочность, милый, и мне было бы очень тяжело разочароваться.
«Милый, — скривился Гюнтер, — уже милый…»
Карл начал не совсем уверенно, словно раздумывая, но постепенно голос его креп, даже появились какие–то металлические нотки.
— Ты видела полковника Пфердменгеса? Хороший человек на первый взгляд, не так ли? Пьет, гуляет, веселый… Наверно, сидит сейчас в ресторане и ужинает с приятелями. Ты знаешь, зачем он приехал? Получить свои деньги — и айда назад, уничтожать черных! Он купит еще плантацию и, чтобы охранять ее, много оружия — он будет стрелять, вешать, рубить… И в этом помощник полковника я. Потому что я дал ему деньги, приобрел автоматы и пули к ним!
Гюнтер представил, как дергаются у Карла уголки губ. Что ж, по сути, Карл прав, но на земле почти каждый день кто–нибудь с кем–нибудь воюет и кто–то кого–то убивает, а Африка далеко… Стоит ли забивать себе этим полову?
— Но дело не в полковнике, — продолжал дальше Карл, — сегодня я отыскал третьего, знающего шифр. Он потребовал у меня сразу три миллиона. Потому что он умнее всех и знает, что и где можно хапануть. Я пообещал ему их, а теперь решил не отдавать, потому что это все равно, что наточить бритву врагу, который хочет тебя зарезать.
— Кто он? — Спросила Аннет.
— Один из неонацистских фюреров. Я читал о них, но не обращал внимания, да и все, мы часто не обращаем внимания…
— Кто все? — сердито оборвала Аннет. — Мы устраиваем демонстрации и митинги протеста, мы боремся, хотя наше правительство, к сожалению…
— Когда видишь все это собственными глазами, начинаешь думать: либо ты сумасшедший, либо сумасшедшие вокруг. Двадцать лет назад коричневые были еще у власти, потом все клялись, что никогда не допустят возрождения фашизма, сажали эсэсовцев за решетку и ставили антифашистские фильмы, а сейчас те же эсэсовцы красуются в мундирах, а фашисты под охраной закона произносят речи и выдвигают требования, которым бы позавидовал сам Гитлер!
В комнате установилась тишина.
Гюнтер прислонился плечом к стене. Его не взволновали слова Карла, ибо в глубине души он безразлично относился и к фашистам, и к антифашистам — верил только себе и своему умению устраиваться. Думал: назвал ли Шлихтинг свои две цифры? И сколько же на счету, если Карл пообещал ему даже три миллиона?
Три миллиона — и кому? Какому–то бывшему нацисту. А он, Гюнтер, которого чуть не расстреляли, получит только миллион. Где же справедливость?
Аннет спросила:
— Однако почему не насторожил тебя первый визит к Рудольфу Зиксу? И дядя предупреждал тебя…
— Почему же ты тогда не отговорила меня от поездки в Италию?
— Твоя правда, — вздохнула Аннет, — но мне так хотелось поехать с вами. С тобой…
— Мы сядем в машину и поедем, куда только ты захочешь, — примирительно сказал Карл. — И не будем думать ни о деньгах, ни… Но захочешь ли ты поехать со мной?
— Неужели ты действительно так думаешь, милый?
— А знаешь, кем был мой отец?
Гюнтер прикусил губы: надеясь отвернуть, Аннет от Карла, он рассказал ей о Франце Ангеле, но девушка ответила ему тогда так же, как сейчас Карлу.
— Я знаю, кто ты! — Немного помолчала. — Конечно, тень отца еще витает над тобой. Особенно когда сделаешь что–нибудь плохое.
Карл засмеялся хрипло и нервно.
— Ты на самом деле все знаешь и не отказываешься?
Гюнтер представил эту сцену в комнате и сжал кулаки.
А Карл все говорил:
— …И ничего не стоит между нами, любимая. Завтра мы полетим в Цюрих, и я переведу двадцать миллионов польскому посольству с условием, чтобы на эти деньги построили больницу. — Засмеялся. — Шлихтинг и полковник словно договорились: назовут мне цифры только на пороге банка. Тем больше разочаруются… — Карл умолк и продолжал после паузы: — Жаль Гюнтера. Но я уверен: он все поймет и одобрит наше решение.
Гюнтер еле удержался, чтобы не ворваться в комнату. Он что, мальчишка? И какое они имеют право решать за него? Его миллион — полякам? Миллион, с которым он уже свыкся, который как бы стал его собственностью и принес бы ему столько счастья, радостей и удовольствий?
У Гюнтера заклокотало в горле, поднял руки и чуть не закричал, как человек, которого грабят. Он не слышал, что дальше говорят в комнате, утратил самоконтроль, шагнул к двери — сейчас он ворвется к ним, он им покажет, заставит уважать его права; в конце концов, неужели полякам не хватит девятнадцати миллионов? Что для государства миллион, который может сделать его, Гюнтера, счастливым?
Но перед кем унижаться?
Эта мысль отрезвила его, привела в, чувство, и он услыхал слова Аннет:
— …Дядя остановился на Шаттегештрассе, где живет наша родственница, и я переночую там. Завтра утром он выезжает в Гамбург и хотел бы увидеть тебя.
О, уже и Каммхубель приперся в Ганновер — это окончательно разозлило Гюнтера. Суют нос не в свои дела, тоже философы, интеллигенция, раскудахтались: «Боже мой, как дурно пахнет от нацистских денег!» А ты не нюхай!
— Тогда поспешим, — сказал Карл.
Гюнтер осторожно вышел за дверь. Пробежал по коридору, оглянулся, заворачивая за угол, и чуть ли не скатился по лестнице.
…За столиком Пфердменгеса сидели двое мужчин. Полковник танцевал с какой–то раскрашенной девицей. Сев на место, жадно выпил шампанского, указал Гюнтеру на мужчин:
— Мои старые друзья. Этот рыжий — Ганс, а этот — бывший, хотя, правда, все мы бывшие… Курт, мой однополчанин.
— На минутку, господин Пфердменгес, — позвал его Гюнтер, — важное дело.
— Называй меня просто полковником, — небрежно похлопал его по плечу Пфердменгес. — Никаких дел, сегодня отдыхаем.
Мужчины одобрительно закивали. Гюнтер наклонился к уху Пфердменгеса, зашептал:
— Хотите потерять свои пятьсот тысяч?
Гюнтер отозвал полковника в сторону, рассказал о разговоре Карла с Аннет.
Полковник смотрел на него, не понимая. Наконец смысл сказанного дошел до его сознания.
— Я придушу этого Карла, как щенка! — Поднял кулаки. — Никто еще безнаказанно не обманывал Пфердменгеса!
— Вам хмель ударил в голову, — оборвал его Гюнтер. — Возможно, вы на самом деле придушите его, но ганноверская полиция уже через несколько часов раскроет вас. И вместо пятисот тысяч — тюрьма.
— Но нельзя же безнаказанно делать такие вещи! — горячился полковник.
— Есть способ увеличить вашу долю в десять раз! — не дослушал его до конца Гюнтер.
— Пять миллионов? — Полковник побледнел.
— Да, пять миллионов… Сейчас мы поедем… тут недалеко… Но при условии: будете выполнять все, что я скажу!
— Согласен!
Поймали такси, и через десять минут Гюнтер нажимал кнопку звонка у калитки, ведшей к дому Иоахима Шлихтинга.
Вышел слуга в сопровождении овчарки. Издалека спросил:
— Кто?
— Полковник Пфердменгес и господин Велленберг. Очень важное и срочное дело.
Слуга скоро вернулся и загнал овчарку в помещение.
— Прошу, господин Шлихтинг ждет вес,
Иоахим Шлихтинг стоял в центре большого холла с ковром во весь пол, и это делало его еще более высоким — будто червяк какой–то умудрился стать на хвост и замереть. Молчал, разглядывая посетителей. Гюнтер не выдержал и начал первый:
— Сегодня вы встречались с человеком, который выпытывал у вас две цифры шифра…
Шлихтинг наклонился немного и так застыл, как Пизанская башня. Затем проскрипел недовольно:
— Я не люблю шантажистов, господа. Если вы пришли только за этим, считайте разговор исчерпанным.
Гюнтер показал на полковника.
— Это штандартенфюрер СС Людвиг Пфердменгес. Он назовет вам пароль, который стал известен тому человеку… Ну, тому, кто был у вас сегодня.
— Да, — заявил уверенно полковник. — «Хорошо весной в арденнском лесу». Разве вы никогда не ездили туда в эту пору года? — добавил от себя ехидно.
Шлихтинг подумал немного и спросил:
— Но почему создалась такая ситуация? Пожалуйста… — и указал на кресла в углу холла.
— Человек, с которым вы познакомились сегодня, — начал Гюнтер, — сын Франца Ангела. Надеюсь, вам знакомо это имя?
Какая–то искра вспыхнула в прозрачных глазах Иоахима Шлихтинга.
— Конечно, знакомо, однако, тот парень назвался Карлом Хагеном.
— Карл Хаген — журналист, — заявил Гюнтер. — Его отец скрывался под такой фамилией. Но дело не в этом. Просто я объясню, каким образом к Карлу Хагену попал список тех, кто знает шифр. Я помогал ему с самого начала, если хотите, господа, не без корысти, у нас разговор идет начистоту, и я не таюсь перед вами. Карл Хаген обещал мне миллион, пятьсот тысяч полковнику. На какой сумме сошлись бы, господин Шлихтинг?
Шлихтинг втянул голову в плечи, сощурился иронично.
— Вы много себе позволяете, мой дорогой друг! — произнес присвистывая.
Гюнтер продолжал дальше, будто и не слышал ответа;
— Все равно вы не получили бы и пфеннига, поскольку Карл Хаген решил подарить всю сумму, лежащую на счету, полякам на строительство больницы. Во имя искупления так называемых эсэсовских грехов. Только что я был свидетелем его разговора с одной особой, господин полковник знает ее. — Вдруг сорвался чуть ли не на крик: — Им, видите ли, жалко меня, но они уверены, что я пойму этот жест и с радостью отрекусь от своей части! Никогда в жизни!
Шлихтинг спросил:
— Вы знаете первую часть шифра?
Гюнтер уже овладел собой.
— Две цифры известны полковнику, а первые две знает Карл Хаген. Он узнал их…
— У кого?
— Э, нет… — засмеялся Гюнтер. — Если вы узнаете, у кого, то исключите меня из игры.
— Сколько лежит на счету?
— Это уже деловой разговор. Я знал, что мы придем к соглашению, — повеселел Гюнтер. — Двадцать миллионов марок.
— Двадцать! — Шлихтинг так и замер в кресле. — А он сказал мне: десять,
— И вы сошлись?..
— Какое это имеет значение? Двадцать миллионов!.. — Шлихтинг словно все еще не верил. — Нас трое, и это выходит…
Гюнтер предостерегающе поднял руку.
— Человек, который знает первые две цифры, уверен, что эти деньги — собственность «четвертого рейха». Карл Хаген обманул его.
Шлихтинг положил большие, как лопаты, ладони на колени. Сказал безапелляционно:
— Наша партия — вот кто создаст «четвертый рейх»! Тот человек должен знать это. Вы явитесь к нему как представитель партии. Ну и… — задвигался в кресле, — думаю, мы и на самом деле некоторую сумму…
— Каждому по пять миллионов, — заявил Гюнтер решительно. — Нам по пять и пять на счет партии.
— Это представляется справедливым, — наконец подал голос полковник. — Я за такой вариант!
Шлихтинг согласился. Было жаль отдавать десять миллионов какому–то бурбонистому штандартенфюреру и юнцу, который не представляет настоящего вкуса денег и наверняка сразу же растранжирит их. Но не мог не согласиться: каждый держал другого в руках, каждый зависел от другого.
— Хорошо, господа, договорились, — сказал решительно. — Но завтра в четыре часа мы вместе с Карлом Хагеном должны были вылететь в Цюрих. Вдруг он заподозрит, что мы сговорились за его спиной?
— Ну и что? — беспечно махнул рукой Пфердменгес. — Послать его ко всем чертям, и только.
— Не так все это просто, — поморщился Шлихтинг. — Он поднимет шум в прессе, что мне и моей партии в канун выборов ни к чему. Наконец, может предупредить или шантажировать человека, который знает первые две цифры.
Полковник встал.
— Придется этого Карла Хагена убрать… — сказал деловито, словно речь шла о чем–то обычном, скажем, о покупке пачки сигарет.
— Может, все–таки договориться с ним? — спросил Шлихтинг.
— Пустое дело, — возразил Гюнтер. — Я знаю его!
Шлихтинг наклонился к полковнику. Спросил шепотом:
— Ну убрать… Но как?
Пфердменгес засмеялся:
— Я знаю сто способов!
Шлихтинг ужаснулся.
— Но ведь на нас сразу падет подозрение…
Полковник заходил по холлу, заложив руки за спину. Остановился перед Гюнтером.
— У вас есть ключи от «фольксвагена»?
Гюнтер вынул их из кармана.
— Завтра утром ни в коем случае не садитесь в машину.
— А–а… — понял все Шлихтинг. — Только бы не вышла на нас полиция.
— А мы обеспечим себе алиби. Начнем с того, что сейчас поймаем такси и твердо запомним его номер…
…Пфердменгес сел рядом с шофером и всю дорогу разговаривал с ним. Рассказывал, как охотятся на львов в саванне. Расплачиваясь, спросил у водителя, который час. Тот ответил.
— А мне показалось, что нет и девяти… — А когда машина отъехала, полковник сказал поучительно: — Шофер подтвердит, что без трех минут десять мы приехали в «Корону».
— «Фольксвагена» еще нет на стоянке, — заметил Гюнтер. — Когда проезжали, я обратил внимание.
— Это отведет от нас все подозрения, — хрипло засмеялся Пфердменгес. — На стоянке зафиксируют время его возвращения, когда мы уже будем в отеле и у нас будут свидетели.
— Но как?
Полковник приложил палец к губам.
— Пошли, — подтолкнул Гюнтера, — все будет в порядке.
Приятели Пфердменгеса все еще сидели за столом. Полковник незаметно дал Гюнтеру таблетку.
— Снотворное, — объяснил. — Сейчас мы накачаем их… Предложишь Курту переночевать на диване в твоем номере. Таблетку дашь выпить вместе с вином. Утром он будет клясться, что полночи вы с ним болтали. Спустишься ко мне после двух часов ночи, только осторожно, чтобы никто не заметил. Я не закрою дверь.
…Окна номера Пфердменгеса выходили впереулок. Ночью здесь редко попадались прохожие, но все же полковник, приоткрыв окно, долго прислушивался. Наконец отважился, скользнул в окно, держась за связанные ремни от чемоданов, и Гюнтер осторожно опустил его на панель. Как было оговорено, втянул ремни и закрыл окно.
В дальнем углу комнаты посапывал на диване Ганс. Лежал, свесив волосатую ногу. Гюнтер накрыл его — о Гансе следовало позаботиться, как–никак основной свидетель. Сел рядом, прислушался. За окном тишина, ни одного прохожего. Вдруг стало страшно: а если полковника задержат на месте преступления? Отправив Пфердменгеса на улицу, он уже стал его соучастником. Это же тюрьма…
А если сейчас выскочить в окно и задержать полковника? Может, еще удастся уговорить Карла и тот рассчитается с ним по–честному?
Пусть отдает остаток полякам, какое его, Гюнтера, дело? Но сейчас ни Пфердменгес, ни Шлихтинг не захотят иметь дело с Карлом: зачем им терять деньги? Да и ему, Гюнтеру, зачем терять? Есть же разница между миллионом и пятью, и нужно быть дураком, чтобы отдать свое!
Под окном коротко свистнули. Гюнтер спустил ремни и помог полковнику взобраться…
Тот зашел в ванну, смочил полотенце и тщательно протер подоконник. Снял туфли, вытер подметки. Протер и ремни.
— Необходимо предусмотреть все, — объяснил полковник, — и я не хочу давать полиции ни одного доказательства. Я заложил в «фольксваген» две мины — от него останется только воспоминание! Пистолет выбросил в канализацию… Вероятно, все…
Он выпустил Гюнтер а, переоделся в пижаму и лег о чувством человека, который имеет право на отдых после тяжелой работы.
Гюнтер стоял за шторой и выглядывал украдкой, словно его могли заметить с улицы.
Только что в номер заглянул Карл, они поговорили о делах, затем Карл предложил поездить по городу — Гюнтер знал, что сделал это он только из вежливости, а на самом деле хотел провести утро с Аннет. И действительно, Карл не уговаривал, стоял на пороге и улыбался, наверно, не совсем искренне, поскольку скрывал от друга тайну и завтра огорчил бы его, а Гюнтер не мог отвести от него взгляда, так как смотрел на него в последний раз; ему было трудно поверить в это, машина с минами казалась плодом нездорового воображения, плохим анекдотом, детской выдумкой — не может человек не чувствовать неотвратимого, а Карлу сейчас так хорошо, впереди у него встреча с Аннет, ощущение ее близости. Он уверен, ничто не помешает его встрече, верит, что так будет вечно, а жить Карлу осталось несколько минут; ему не будет больно, он даже не поймет, что умирает, но зачем это все, стоят ли эти миллионы (будь их в десять раз больше!) жизни друга, который смотрит на тебя с любовью и откровенно симпатизирует тебе?
Если бы Карл задержался в номере хотя бы еще минуту, Гюнтер, наверно, не выдержал бы и сказал, что ждет его, по крайней мере, под каким–нибудь предлогом не позволил бы сесть в «фольксваген». Но Карл спешил — он уже вышел из отеля и остановился возле светофора. Ожидая зеленый свет, помахал кому–то рукой. Гюнтер посмотрел кому и… увидел Аннет,
Она шла по самому краю панели в короткой зеленой юбке, белой кофточке, тоненькая и красивая, как белая роза на зеленом стебельке. Шла и махала Карлу рукой.
Карл побежал на желтый свет: вынырнул из–под машины, которая чуть не задела его, взял Аннет за руку, и они направились к стоянке, к канареечному «фольксвагену», начиненному взрывчаткой.
Дрожащими руками Гюнтер потянул на себя оконную, раму. Почему–то не поддавалась, а ведь он только что закрыл окно, — дергал изо всех сил и, только через несколько секунд сообразил, что надо поднять задвижку.
Когда наконец перегнулся через подоконник, сообразил, что все равно не услышат, не услышат даже те, кто значительно ближе, — по улице уже двигался утренний автомобильный поток, гудели моторы и шуршали шины, а белая роза на зеленом стебельке плыла по краешку панели, и ее бережно придерживал за руку Карл.
Вот они уж делают последние шаги, сейчас повернут на стоянку — но, может быть, полковник ошибся и что–нибудь не сработает, бывает же подобные случаи, почему не случиться такому сейчас?
Гюнтер стоял, вцепившись в оконную раму, g раскрытым ртом и выпученными глазами и вдруг закричал. Только не крик, а какой–то свист с клекотом вырвался из его груди, он зажал рот ладонью, испугался, что кто–нибудь услышит его и посмотрит с улицы, отшатнулся в глубь комнаты, схватился за спинку стула и не сводил глаз с тех, кто уже стоял возле желтой машины.
Аннет обошла «фольксваген», сейчас Гюнтер не видел ее, на мгновение ему стало легче — вдруг он не заметил и она отошла? Карл отомкнул дверцу, открыл противоположную, наверно, протянул руку Аннет — сам Гюнтер непременно сделал бы то же, чтобы лишний раз ощутить тепло девичьей руки и легкое благодарное пожатие, — они там сейчас улыбаются друг другу, — боже, зачем он вчера послушался полковника?
Карл прикрыл дверцу, и в тот же миг «фольксваген» подбросило, полыхнул огонь, и Гюнтер почувствовал, будто его больно толкнуло в грудь — выпустил спинку стула, зашатался и в изнеможении сел на пол. Прижался щекой к холодным паркетинам, от которых противно пахло мастикой, всхлипывал и дрожал в нервном возбуждении.
 В двери застучали, но не было сил подняться…
— Гюнтер! — раздался голос полковника — Откройте, Гюнтер!
Только тогда Гюнтер оторвал щеку от пола и с трудом поднялся, непослушными пальцами повернул ключ.
За спиной полковника стояла встревоженная горничная. Гюнтер почувствовал, что горничная может кое–что прочитать на его лице, сделал над собой усилие, улыбнулся и спросил:
— Что случилось? Вы стучите, словно пожар. Я был в ванной…
— Несчастье! — воскликнул Пфердменгес. Гюнтер удивился, с какой естественностью полковник разыгрывает свою роль. — Взорвался «фольксваген» Карла!
— Как взорвался? — Гюнтер изобразил удивление. — Когда взорвался? А где Карл?
— Вы ничего не слышали? — удивилась горничная. — Я думала, что в окнах повылетают стекла.
— Я был в ванной… Карл только что заходил ко мне… Он куда–то собирался… Подождите, вы ничего не напутали?
— Я завтракал, когда услышал взрыв, — объяснил Пфердменгес. — Выбежал на улицу — возле стоянки толпа… Бегут полицейские… Я — туда и увидел изуродованный «фольксваген» Карла. Ну, дым, огонь, служитель тащит огнетушитель… По–моему, в машине кто–то был…
Гюнтер закрыл лицо руками.
— Карл… Карл…
…Стоянку уже окружили полицейские Гюнтер протиснулся к инспектору. Сказал встревоженно:
— На этом «фольксвагене» мы прибыли из Швейцарии. Что случилось? И что с Карлом?
— Вы хотите сказать, что знаете владельца этой машины?
Инспектор ощупал Гюнтера внимательным взглядом.
— Да, мы вместе приехали из Швейцарии.
Инспектор подтолкнул его к брезенту, которым было прикрыто что–то, поднял край. Гюнтер знал, кого ему покажут, и готовился к этому, но то, что увидел, заставило его отшатнуться и заслонить лицо руками.
— Они… — У Гюнтера вытянулось лицо, глаза налились кровью. Почему ему показали это?
— Кто они? — уже дважды спрашивал инспектор.
Гюнтер смотрел, моргал глазами, и ноги у него подкашивались. Наконец понял, что требует полицейский.
— Карл Хаген, — с усилием выдавил. — Швейцарский журналист. Карл Хаген из Берна.
— А женщина?
— Аннет Каммхубель… студентка… Франкфуртский университет…
— Жили в «Короне»?
— Да.
— Пройдемте с нами.
Они вышли за цепь полицейских и сразу попали под перекрестный огонь репортеров. Гюнтер шел, опустив голову, и старался не слушать их вопросов. Думал: хорошо, что старый Каммхубель уехал в Гамбург. Пока полиция выйдет на учителя и все поймет, он успеет побывать у Рудольфа Зикса и вытянет у него две цифры. О Шлихтинге никто ничего не знает. Карл не назвал его имени ни Каммхубелю, ни Аннет, следовательно, тайна шифра известна только троим, а все остальное не должно волновать Гюнтера. В полиции нет основания задерживать его — завтра он съездит в Заген, затем сразу вернется в Швейцарию, куда прибудут Шлихтинг и Пфердменгес. Все продумано, все идет по плану: главное — спокойствие, не выдать себя ни словом, ни жестом. Карл Хаген был другом Гюнтера Велленберга, его трагическая гибель не могла не потрясти друга — вот линия поведения…
Гюнтер уже вошел в роль, ему и на самом деле стало жаль Карла и Аннет, он любил их и мог сейчас поклясться в этом — белая роза на зеленом стебельке… Но почему вдруг задрожали мышцы на обожженном лице Карла? Неужели он подмигивает?
Это видение было таким зримым и реальным, что Гюнтер невольно схватил, инспектора за плечо, смотрел расширенными от страха глазами и бормотал что–то невразумительное. Тот понимающе пожал ему руку.
— Все бывает, — попробовал успокоить. — Но вы ведь мужчина, держитесь!
Вместе с портье они поднялись на лифте на четвертый этаж, где их уже ждали вездесущие репортеры. Инспектор приказал освободить коридор, и только после этого портье открыл дверь номера Карла.
Возле шкафа стоял открытый, но уже упакованный чемодан. Кровать аккуратно застелена. На вешалке — плащ, несколько газет на журнальном столике под торшером, рядом начатая коробка конфет и недопитая бутылка вина.
Инспектор посмотрел на все это, распорядился снять отпечатки пальцев. Спросил Гюнтера:
— Когда вы собирались уезжать?
— Сегодня.
— Так я и думал, — показал на чемодан. — Ваш спутник был аккуратным человеком. Когда вы видели его в последний раз?
Гюнтер посмотрел на часы.
— Минут двадцать пять–тридцать назад. Он заходил ко мне.
Инспектор остановился перед Гюнтером. Спросил небрежно, но смотрел внимательно:
— О чем вы говорили?
— Ну… о делах… об отъезде… Потом он предложил проехать по городу…
— И вы отказались? Почему? Наверно, раньше вы не оставляли его?
Гюнтер ответил спокойно:
— Бывают разные ситуации. Сегодня я почувствовал, что третий — лишний…
Инспектор кивнул.
— Фрейлейн Каммхубель? Давно они познакомились? Где?
Гюнтер знал, что врать нельзя — все равно узнают.
— Дней десять назад. В Загене. У нас были дела в городе, а она приезжала туда к родственникам.
Инспектор стал рассматривать вещи в чемодане. Казалось, он совсем потерял интерес к Гюнтеру. Даже спросил не оборачиваясь:
— А вчера? Когда вы вернулись вчера вечером? Были вместе с Хагеном?
Гюнтер понял, что полиция уже поинтересовалась у служителя на стоянке, когда Карл поставил машину.
— Нет, — ответил. — Карл ездил куда–то вместе с Аннет. А мы с полковником Пфердменгесом гуляли по городу. Полковник развлекался в ресторане, но у него заболела голова, и он решил проветриться. Мы взяли такси, поездили, затем вернулись и опять сидели в ресторане, в «Короне». Погодите, когда же мы приехали? По–моему, около десяти. Но точнее вам могут сказать приятели полковника. Мы вместе ужинали, правда, мягко говоря, они выпили лишнего и ночевали у нас. Один у меня на диване, второй — у полковника.
— Как их фамилии?
— Не знаю, спросите у полковника. У меня ночевал Курт.
— И когда он ушел?
— С час назад. Жаловался, что опоздал на работу.
Очевидно, инспектор остался доволен объяснениями, так как спросил:
— Как вы думаете, кто мог это сделать?
— Что? — прикинулся недогадливым Гюнтер.
— Диверсию против вашего друга? Возможно, и против вас. Ведь вы могли сесть в машину вместе…
— Счастливый случай, что я остался жив! — Гюнтер опустился в кресло возле журнального столика. Для чего–то переложил с места на место газеты. Сейчас самое время подбросить полиции версию, которую они разработали вчера вечером, ожидая такси. Правда, инспектор может отнестись к ней скептически, но если узнают журналисты… Предмет для разговоров по крайней мере на неделю!
Сказал, будто раздумывая и взвешивая:
— Видите, дело такое… Мы с Карлом Хагеном и полковником Пфердменгесом только что вернулись из Африки. Вокруг африканских событий ходит столько слухов… Мы хотели обрисовать объективную картину, встречались с партизанами и были в войсках, поддерживающих порядок. И пришли к выводу, что слухи о зверствах так называемых карателей — обыкновеннейшая выдумка. Саванну заливают кровью бунтовщики, если бы вы увидели, инспектор, изуродованные трупы… — Задохнулся, будто и на самом деле трудно было продолжать, глотнул воды. — Думаю, красные, узнав о наших намерениях — а мы приехали в Европу с полковником Пфердменгесом, чтобы раскрыть зверства колониальных бунтовщиков, — устроили эту диверсию…
— Ого! — Инспектор оценил версию. — Дело приобретает интересный оборот. — Остановился в центре комнаты. — Здесь все… Сейчас осмотрим ванну, а затем придется заглянуть в ваш номер.
— Пожалуйста.
Инспектор вышел. Гюнтер самодовольно усмехнулся, он, кажется, обвел вокруг пальца этого полицейского болвана. Потянулся к графину. Наливая воду, обратил внимание на газету, что лежала рядом. Что–то заинтересовало его в ней, еще не знал, что именно, но встревожился и чуть не пролил воду из стакана. Сделал глоток, ища те слова в газете, и нашел сразу — прочитал только первые строчки и закрыл глаза: так, с закрытыми глазами, допил воду, не мог поверить, хотя знал, что это не галлюцинация…
Прочитал еще раз — как хорошо, что инспектор вышел из комнаты: Гюитер наверняка выдал бы себя. Развернул газету, так и есть — загенский листок, его привез Каммхубель и вчера отдал Карлу. Почему же тот не сказал ему? Это бы спасло жизнь Карлу и Аннет…
Прочитал еще раз:
«Вчера скоропостижно скончался известный житель нашего города, с именем которого во многом связано процветание Загена, доктор Рудольф Зикс…»
Гюнтер воровато посмотрел, не вернулся ли инспектор, торопливо сложил газету и спрятал в карман, словно она могла выдать его. Не было сил подняться с кресла, но это продолжалось всего несколько секунд. Увидев инспектора в дверях, встал и вытащил ключ.
— Пожалуйста… это от моего номера.
Шел за полицейским, смотрел на его аккуратно подстриженный затылок — не было никаких мыслей и желаний, машинально отвечал на вопросы инспектора, когда тот осматривал номер.
Стоял на том же месте, что и утром, смотрел в окно — толпа уже разошлась, полицейские убрали остатки «фольксвагена». Почистят и вымоют асфальт, и завтра ничто не напомнит о сегодняшней трагедии: будет стоять какой–нибудь «ситроен» или «опель», только он, Гюнтер, запомнит на всю жизнь, потому что совесть будет мучить его.
Интересно, мелькнула внезапно мысль, а мучила бы, если б он все же заполучил пять миллионов? Наверно, не так, ибо знал бы, ради чего пожертвовал двумя жизнями, а так пусто, — все напрасно: и их поездки, и волнения, и, наконец, его измена.
Завтра он вернется в Швейцарию, и начнется привычная жизнь — кофе по вечерам в клубе, репетиции и спектакли, споры об искусстве… Среднее существование полунищего от искусства. Но, подумал вдруг с испугом, он уже не сможет примириться с такой жизнью, он уже Почувствовал в руках деньги, много денег, он сроднился с ними, и соответственно изменились его взгляды и вкусы. Наверно, он напоминает сейчас обанкротившегося миллионера. Да, обанкротившегося, поскольку денег у него еле хватит на билет до Берна.
Гюнтер вынул платок, вытер потный лоб. Ощупал. газету, вынул из кармана. Он один узнал о смерти Рудольфа Зикса, в конечном итоге, какое это имеет значение, только он знает, что группенфюрер унес в могилу тайну шифра — Шлихтинг и Пфердменгес не догадываются ни о чем, и будет справедливо, если они финансируют его — Скажем, по десять тысяч марок. Больше вряд ли дадут, но и не дать не смогут: он, объяснит, что эти деньги нужны ему для подкупа одного человека, без помощи которого трудно будет войти в доверие личности, знающего первые цифры шифра.
Улыбка смягчила заостренные черты лица Гюнтера: двадцать тысяч не так уж и плохо, конечно, не миллион и не пять, но все–таки какой–то трамплин для человека с умом. Ведь чего–чего, а ума у него хватит. Ума, настойчивости и деловой прыти.
Улыбнулся еще раз. Можно даже написать Шлихтингу и полковнику расписки, но пусть только попробуют вернуть свои жалкие двадцать тысяч! Он намекнет, что Гюнтеру Велленбергу — люмпен–интеллигенту, терять, собственно говоря, нечего, а вот дорогим господам… Если левые газеты начнут распутывать этот клубок…
Гюнтер засмеялся. Инспектор удивленно посмотрел на него, и парень сразу сделал постное лицо.
Потом инспектор ушел. Гюнтер лег на диван — захотелось спать, сон одолевал его…
Он лежал с подложенной под щеку ладонью и вдруг увидел темно–звездное небо — такое темное небо и такие яркие звезды можно видеть только во сне. Звезды мерцали, и Гюнтеру было тревожно, предчувствовал: сейчас что–то случится, и не знал, что именно…
Но вдруг луч, белый и тонкий, как лезвие, прорезал звездное небо и потерялся где–то в бесконечном просторе.
Почти одновременно в луче возникли две фигуры — они шли, взявшись за руки, слоено их мог кто–то разлучить, вначале нерешительно, будто учились ходить по канату, но постепенно их шаги становились увереннее, они шли и не обращали внимания ни на звезды, ни на луч, смотрели друг на друга, и в этом безбрежном мире для них не существовало ничего, кроме них самих и их любви.
Аннет улыбалась Карлу — белая роза на зеленом стебельке — и ямочка на ее щеке двигалась, а глаза излучали синий свет…
Они шли, разговаривая о чем–то, молчали, смеялись, снова разговаривали и снова молчали. И им было хорошо, потому что самое главное — найти друг друга, зная, что всегда будут радостными и пожатие руки, и улыбка, и поцелуй, и просто ненароком сказанное слово, а они знали, что так будет вечно, поскольку луч вел их в вечность и дорога их не имела, конца.
В двери застучали, но не было сил подняться…
— Гюнтер! — раздался голос полковника — Откройте, Гюнтер!
Только тогда Гюнтер оторвал щеку от пола и с трудом поднялся, непослушными пальцами повернул ключ.
За спиной полковника стояла встревоженная горничная. Гюнтер почувствовал, что горничная может кое–что прочитать на его лице, сделал над собой усилие, улыбнулся и спросил:
— Что случилось? Вы стучите, словно пожар. Я был в ванной…
— Несчастье! — воскликнул Пфердменгес. Гюнтер удивился, с какой естественностью полковник разыгрывает свою роль. — Взорвался «фольксваген» Карла!
— Как взорвался? — Гюнтер изобразил удивление. — Когда взорвался? А где Карл?
— Вы ничего не слышали? — удивилась горничная. — Я думала, что в окнах повылетают стекла.
— Я был в ванной… Карл только что заходил ко мне… Он куда–то собирался… Подождите, вы ничего не напутали?
— Я завтракал, когда услышал взрыв, — объяснил Пфердменгес. — Выбежал на улицу — возле стоянки толпа… Бегут полицейские… Я — туда и увидел изуродованный «фольксваген» Карла. Ну, дым, огонь, служитель тащит огнетушитель… По–моему, в машине кто–то был…
Гюнтер закрыл лицо руками.
— Карл… Карл…
…Стоянку уже окружили полицейские Гюнтер протиснулся к инспектору. Сказал встревоженно:
— На этом «фольксвагене» мы прибыли из Швейцарии. Что случилось? И что с Карлом?
— Вы хотите сказать, что знаете владельца этой машины?
Инспектор ощупал Гюнтера внимательным взглядом.
— Да, мы вместе приехали из Швейцарии.
Инспектор подтолкнул его к брезенту, которым было прикрыто что–то, поднял край. Гюнтер знал, кого ему покажут, и готовился к этому, но то, что увидел, заставило его отшатнуться и заслонить лицо руками.
— Они… — У Гюнтера вытянулось лицо, глаза налились кровью. Почему ему показали это?
— Кто они? — уже дважды спрашивал инспектор.
Гюнтер смотрел, моргал глазами, и ноги у него подкашивались. Наконец понял, что требует полицейский.
— Карл Хаген, — с усилием выдавил. — Швейцарский журналист. Карл Хаген из Берна.
— А женщина?
— Аннет Каммхубель… студентка… Франкфуртский университет…
— Жили в «Короне»?
— Да.
— Пройдемте с нами.
Они вышли за цепь полицейских и сразу попали под перекрестный огонь репортеров. Гюнтер шел, опустив голову, и старался не слушать их вопросов. Думал: хорошо, что старый Каммхубель уехал в Гамбург. Пока полиция выйдет на учителя и все поймет, он успеет побывать у Рудольфа Зикса и вытянет у него две цифры. О Шлихтинге никто ничего не знает. Карл не назвал его имени ни Каммхубелю, ни Аннет, следовательно, тайна шифра известна только троим, а все остальное не должно волновать Гюнтера. В полиции нет основания задерживать его — завтра он съездит в Заген, затем сразу вернется в Швейцарию, куда прибудут Шлихтинг и Пфердменгес. Все продумано, все идет по плану: главное — спокойствие, не выдать себя ни словом, ни жестом. Карл Хаген был другом Гюнтера Велленберга, его трагическая гибель не могла не потрясти друга — вот линия поведения…
Гюнтер уже вошел в роль, ему и на самом деле стало жаль Карла и Аннет, он любил их и мог сейчас поклясться в этом — белая роза на зеленом стебельке… Но почему вдруг задрожали мышцы на обожженном лице Карла? Неужели он подмигивает?
Это видение было таким зримым и реальным, что Гюнтер невольно схватил, инспектора за плечо, смотрел расширенными от страха глазами и бормотал что–то невразумительное. Тот понимающе пожал ему руку.
— Все бывает, — попробовал успокоить. — Но вы ведь мужчина, держитесь!
Вместе с портье они поднялись на лифте на четвертый этаж, где их уже ждали вездесущие репортеры. Инспектор приказал освободить коридор, и только после этого портье открыл дверь номера Карла.
Возле шкафа стоял открытый, но уже упакованный чемодан. Кровать аккуратно застелена. На вешалке — плащ, несколько газет на журнальном столике под торшером, рядом начатая коробка конфет и недопитая бутылка вина.
Инспектор посмотрел на все это, распорядился снять отпечатки пальцев. Спросил Гюнтера:
— Когда вы собирались уезжать?
— Сегодня.
— Так я и думал, — показал на чемодан. — Ваш спутник был аккуратным человеком. Когда вы видели его в последний раз?
Гюнтер посмотрел на часы.
— Минут двадцать пять–тридцать назад. Он заходил ко мне.
Инспектор остановился перед Гюнтером. Спросил небрежно, но смотрел внимательно:
— О чем вы говорили?
— Ну… о делах… об отъезде… Потом он предложил проехать по городу…
— И вы отказались? Почему? Наверно, раньше вы не оставляли его?
Гюнтер ответил спокойно:
— Бывают разные ситуации. Сегодня я почувствовал, что третий — лишний…
Инспектор кивнул.
— Фрейлейн Каммхубель? Давно они познакомились? Где?
Гюнтер знал, что врать нельзя — все равно узнают.
— Дней десять назад. В Загене. У нас были дела в городе, а она приезжала туда к родственникам.
Инспектор стал рассматривать вещи в чемодане. Казалось, он совсем потерял интерес к Гюнтеру. Даже спросил не оборачиваясь:
— А вчера? Когда вы вернулись вчера вечером? Были вместе с Хагеном?
Гюнтер понял, что полиция уже поинтересовалась у служителя на стоянке, когда Карл поставил машину.
— Нет, — ответил. — Карл ездил куда–то вместе с Аннет. А мы с полковником Пфердменгесом гуляли по городу. Полковник развлекался в ресторане, но у него заболела голова, и он решил проветриться. Мы взяли такси, поездили, затем вернулись и опять сидели в ресторане, в «Короне». Погодите, когда же мы приехали? По–моему, около десяти. Но точнее вам могут сказать приятели полковника. Мы вместе ужинали, правда, мягко говоря, они выпили лишнего и ночевали у нас. Один у меня на диване, второй — у полковника.
— Как их фамилии?
— Не знаю, спросите у полковника. У меня ночевал Курт.
— И когда он ушел?
— С час назад. Жаловался, что опоздал на работу.
Очевидно, инспектор остался доволен объяснениями, так как спросил:
— Как вы думаете, кто мог это сделать?
— Что? — прикинулся недогадливым Гюнтер.
— Диверсию против вашего друга? Возможно, и против вас. Ведь вы могли сесть в машину вместе…
— Счастливый случай, что я остался жив! — Гюнтер опустился в кресло возле журнального столика. Для чего–то переложил с места на место газеты. Сейчас самое время подбросить полиции версию, которую они разработали вчера вечером, ожидая такси. Правда, инспектор может отнестись к ней скептически, но если узнают журналисты… Предмет для разговоров по крайней мере на неделю!
Сказал, будто раздумывая и взвешивая:
— Видите, дело такое… Мы с Карлом Хагеном и полковником Пфердменгесом только что вернулись из Африки. Вокруг африканских событий ходит столько слухов… Мы хотели обрисовать объективную картину, встречались с партизанами и были в войсках, поддерживающих порядок. И пришли к выводу, что слухи о зверствах так называемых карателей — обыкновеннейшая выдумка. Саванну заливают кровью бунтовщики, если бы вы увидели, инспектор, изуродованные трупы… — Задохнулся, будто и на самом деле трудно было продолжать, глотнул воды. — Думаю, красные, узнав о наших намерениях — а мы приехали в Европу с полковником Пфердменгесом, чтобы раскрыть зверства колониальных бунтовщиков, — устроили эту диверсию…
— Ого! — Инспектор оценил версию. — Дело приобретает интересный оборот. — Остановился в центре комнаты. — Здесь все… Сейчас осмотрим ванну, а затем придется заглянуть в ваш номер.
— Пожалуйста.
Инспектор вышел. Гюнтер самодовольно усмехнулся, он, кажется, обвел вокруг пальца этого полицейского болвана. Потянулся к графину. Наливая воду, обратил внимание на газету, что лежала рядом. Что–то заинтересовало его в ней, еще не знал, что именно, но встревожился и чуть не пролил воду из стакана. Сделал глоток, ища те слова в газете, и нашел сразу — прочитал только первые строчки и закрыл глаза: так, с закрытыми глазами, допил воду, не мог поверить, хотя знал, что это не галлюцинация…
Прочитал еще раз — как хорошо, что инспектор вышел из комнаты: Гюитер наверняка выдал бы себя. Развернул газету, так и есть — загенский листок, его привез Каммхубель и вчера отдал Карлу. Почему же тот не сказал ему? Это бы спасло жизнь Карлу и Аннет…
Прочитал еще раз:
«Вчера скоропостижно скончался известный житель нашего города, с именем которого во многом связано процветание Загена, доктор Рудольф Зикс…»
Гюнтер воровато посмотрел, не вернулся ли инспектор, торопливо сложил газету и спрятал в карман, словно она могла выдать его. Не было сил подняться с кресла, но это продолжалось всего несколько секунд. Увидев инспектора в дверях, встал и вытащил ключ.
— Пожалуйста… это от моего номера.
Шел за полицейским, смотрел на его аккуратно подстриженный затылок — не было никаких мыслей и желаний, машинально отвечал на вопросы инспектора, когда тот осматривал номер.
Стоял на том же месте, что и утром, смотрел в окно — толпа уже разошлась, полицейские убрали остатки «фольксвагена». Почистят и вымоют асфальт, и завтра ничто не напомнит о сегодняшней трагедии: будет стоять какой–нибудь «ситроен» или «опель», только он, Гюнтер, запомнит на всю жизнь, потому что совесть будет мучить его.
Интересно, мелькнула внезапно мысль, а мучила бы, если б он все же заполучил пять миллионов? Наверно, не так, ибо знал бы, ради чего пожертвовал двумя жизнями, а так пусто, — все напрасно: и их поездки, и волнения, и, наконец, его измена.
Завтра он вернется в Швейцарию, и начнется привычная жизнь — кофе по вечерам в клубе, репетиции и спектакли, споры об искусстве… Среднее существование полунищего от искусства. Но, подумал вдруг с испугом, он уже не сможет примириться с такой жизнью, он уже Почувствовал в руках деньги, много денег, он сроднился с ними, и соответственно изменились его взгляды и вкусы. Наверно, он напоминает сейчас обанкротившегося миллионера. Да, обанкротившегося, поскольку денег у него еле хватит на билет до Берна.
Гюнтер вынул платок, вытер потный лоб. Ощупал. газету, вынул из кармана. Он один узнал о смерти Рудольфа Зикса, в конечном итоге, какое это имеет значение, только он знает, что группенфюрер унес в могилу тайну шифра — Шлихтинг и Пфердменгес не догадываются ни о чем, и будет справедливо, если они финансируют его — Скажем, по десять тысяч марок. Больше вряд ли дадут, но и не дать не смогут: он, объяснит, что эти деньги нужны ему для подкупа одного человека, без помощи которого трудно будет войти в доверие личности, знающего первые цифры шифра.
Улыбка смягчила заостренные черты лица Гюнтера: двадцать тысяч не так уж и плохо, конечно, не миллион и не пять, но все–таки какой–то трамплин для человека с умом. Ведь чего–чего, а ума у него хватит. Ума, настойчивости и деловой прыти.
Улыбнулся еще раз. Можно даже написать Шлихтингу и полковнику расписки, но пусть только попробуют вернуть свои жалкие двадцать тысяч! Он намекнет, что Гюнтеру Велленбергу — люмпен–интеллигенту, терять, собственно говоря, нечего, а вот дорогим господам… Если левые газеты начнут распутывать этот клубок…
Гюнтер засмеялся. Инспектор удивленно посмотрел на него, и парень сразу сделал постное лицо.
Потом инспектор ушел. Гюнтер лег на диван — захотелось спать, сон одолевал его…
Он лежал с подложенной под щеку ладонью и вдруг увидел темно–звездное небо — такое темное небо и такие яркие звезды можно видеть только во сне. Звезды мерцали, и Гюнтеру было тревожно, предчувствовал: сейчас что–то случится, и не знал, что именно…
Но вдруг луч, белый и тонкий, как лезвие, прорезал звездное небо и потерялся где–то в бесконечном просторе.
Почти одновременно в луче возникли две фигуры — они шли, взявшись за руки, слоено их мог кто–то разлучить, вначале нерешительно, будто учились ходить по канату, но постепенно их шаги становились увереннее, они шли и не обращали внимания ни на звезды, ни на луч, смотрели друг на друга, и в этом безбрежном мире для них не существовало ничего, кроме них самих и их любви.
Аннет улыбалась Карлу — белая роза на зеленом стебельке — и ямочка на ее щеке двигалась, а глаза излучали синий свет…
Они шли, разговаривая о чем–то, молчали, смеялись, снова разговаривали и снова молчали. И им было хорошо, потому что самое главное — найти друг друга, зная, что всегда будут радостными и пожатие руки, и улыбка, и поцелуй, и просто ненароком сказанное слово, а они знали, что так будет вечно, поскольку луч вел их в вечность и дорога их не имела, конца.
Павел Шестаков ЧЕРЕЗ ЛАБИРИНТ Повести
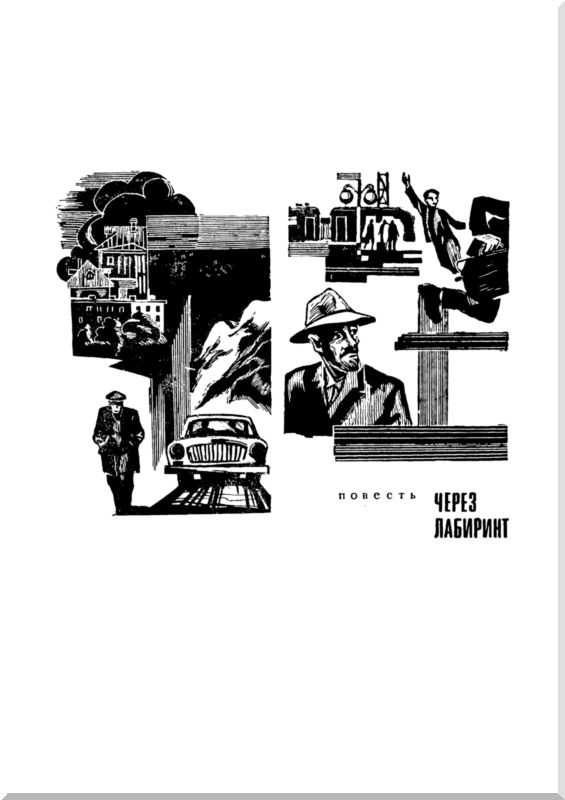
Через лабиринт
I
В котельной было сумрачно. Покрытые темной пылью лампочки слабо освещали низкие своды, кучи штыба и грязный бетонный пол. По стенам щупальцами ползли горячие трубы. Мазин подошел к топке и заглянул внутрь — туда, где гудело красное пламя. Казалось, что он просто любуется пляшущими огненными языками. Потом посмотрел вокруг себя. Длинная стальная кочерга валялась рядом. Мазин взял ее и снова нагнулся над пламенем. Черный, загнутый на конце прут вошел в топку, нащупал какой-то предмет и вытолкнул его из огня. Это была небольшая железная коробка, покорежившаяся от жара и немножко оплывшая по краям. Она быстро темнела, покрываясь серой окалиной. — Если не ошибаюсь, футляр от очков. — Точно, — торопливо подтвердил Семенистый. — Дедовы глаза… Семенистый пришел в Управление, когда рабочий день уже заканчивался. — К вам тут человек, Игорь Николаевич, — доложил дежурный. — Семенистый… — Какой? — не понял Мазин. — Семенистый по фамилии. Говорит, знает вас. Мазин пожал плечами и покосился на циферблат старинных карманных часов, лежавших на столе. Они достались ему от отца, а того наградили еще в гражданскую. Мазин постоянно носил часы с собой: ему казалось, что они приносят удачу. — Семенистый? Не помню. Ну ничего. Пусть войдет. Однако узнал он его сразу, едва тот переступил порог. — Разрешите, товарищ начальник? — Входите. Еще бы не узнать эти кустистые бачки на розовых толстых щеках! Физиономию Семенистого можно было бы печатать на обложке журнала «Здоровье», если бы не глаза. Глаза были мутноватые и заметно отечные. — Ну как телевизор, товарищ начальник? Претензий не имеете к нашей конторе? — Вы это пришли узнать? — Да нет. Насчет телевизора я между прочим, — сказал Семенистый, усаживаясь на стул. — История тут одна произошла. Мазин ждал, стараясь угадать, какая же история могла привести в его кабинет этого деятеля получастной инициативы. С месяц назад у Мазина поломался телевизор, пришлось вызвать мастера из ателье. Так он впервые встретился с Семенистым. Тот пришел, попахивая шипром и дешевым портвейном, назвался Эдиком, открыл заднюю стенку телевизора, постучал по ней отверткой и сказал, блеснув золотым зубом: — Ну и дела! Без пол-литра не разберешь… Мазин вздохнул и, стыдясь своей слабохарактерности, достал из холодильника бутылку. Семенистый повеселел. В два счета справившись с пустяковой, видимо, работой, он заявил, что «бандура будет работать как часы», и главное — не деньги, а взаимное уважение, потому один он пить ни за что не будет. Мазин проглотил рюмку, надеясь, что Эдик не узнает, где он работает. Но Эдик узнал и вот сидит напротив и наверняка собирается о чем-то просить, потому что такие люди, как он, хоть и чтут уголовный кодекс, но на мелочах ловятся непрерывно, а поймавшись, долго и от души обижаются и ищут «правды». Вспомнив все это, Мазин еще раз пожалел о выпитой рюмке. — Так что же за история случилась с вами? — спросил он сухо. — Да ничего особенного. Я, собственно, для порядочка. Чтоб недоразумения не получилось. — Хорошо, хорошо. Рассказывайте. — Хозяин мой квартирный пропал, Укладников Иван Кузьмич. — Пропал? Когда же это случилось? — Да вроде ночью сегодня. Мазин взял авторучку. — Давайте по порядку. Вы где живете? — Магистральная, шестнадцать, квартира шестьдесят четыре. Эту новую улицу Мазин знал: два ряда пятиэтажных кубиков вдоль полосы недавно уложенного асфальта и тоненькие топольки, гнущиеся на ветру, — так приблизительно выглядела Магистральная. — Вы снимаете комнату? С семьей? Семенистый потер блестящее колечко на пальце. — Один в настоящее время. Мазин мельком глянул на его тщательно подбритые усики и подумал, что Эдик, наверно, пользуется успехом у неумных и нетребовательных женщин. — Кто еще живет в квартире? — Борька, геолог, но тот не в счет, с недельку как в Крым подался. А так только старик. Короче, по комнате на нос. — Трехкомнатная квартира принадлежит одному человеку? — Не… Квартиру его зятю дали. Зять у него тоже геолог… Он с жинкой на Север уехал. Даже обставиться не успел. А старика из деревни выписали, хату сторожить. — Так, так… — Мазин делал короткие пометки. — Из чего же вы заключили, что старик исчез? — Нету его — и все. — Но прошло совсем немного времени. Даже суток не прошло. — Для старика это что год. Он, кроме котельной да магазина, никуда не выходил. Сторожил, как верный пес Ингус государственную границу. Мазин невольно улыбнулся. — А что он делал в котельной? — Истопником работал. Как дочка с зятем уехали, он туда. Они не разрешали, стеснялись, что папаша будет по двору чумазый ходить. А дед — борец за повышение жизненного уровня. Меня на квартиру пустил, в котельной подрабатывал. Откуда и не вернулся. Ночная смена у него была. Я утром встал — деда нема. Умылся, собрался на работу — нема. А пора бы и быть. Спустился в котельную, чтоб ключ отдать, а его напарник меня матюгом: «Где, говорит, твой хрыч шляется? Ушел со смены, чуть котел не запорол». — Следовательно, Укладникова напарник в котельной не застал. А когда вы видели его в последний раз? — Как он уходил, с вечера. Надел свою робу и пошел. — Так. Что же вы сделали, узнав, что Укладников исчез из котельной? Семенистый пожевал мясистыми губами. — Да я тогда не подумал, что он совсем исчез. Думаю: вот чудик! Куда это его понесло неумытого? Я больше подумал, что мне с ключом делать… — Разве у Укладникова не было своего ключа? — В том-то и дело. У нас такой замочек, что любой сейф позавидует, и к нему вот этот единственный и хитрый ключ. Семенистый достал большой, с замысловатыми бороздками ключ. — Никому чужому не давал. Нам с Борькой только на ночь, когда на смену шел. Потому я его и взял с собой на работу. Думал, старик придет за ключом. А он не пришел. Тут я и стал соображать, что дело пахнет керосином. Ну и двинул сюда. — Вы дома после работы были? — Был. Все заперто. Соседи тоже не видели его. — Еще один вопрос. Вы уверены, что ночью Укладников не заходил в квартиру? Вы крепко спите? Что-то вроде сомнения мелькнуло на толстом лице Семенистого, но лишь на секунду. — Да как же он мог зайти, если хата заперта? Мазин посмотрел на ключ. — Ладно. Поедем, посмотрим вашу «хату»… В машине уже он подумал, что вся эта история, возможно, ломаного гроша не стоит, и старик никуда не исчез, а просто хлебнул лишнего с каким-нибудь случайным или не случайным дружком-собутыльником, и он зря тратит время. Однако спросил у Семенистого, с которым сел сзади: — Укладников пьет? — По субботам… — А по пятницам? Но Эдик не шутил. — Да нет… Точно, по субботам. В баню сходит и четвертинку позволит себе. Ванной-то он не пользовался и нас не пускал. Говорит: «Поломаете еще, а мне перед хозяевами отвечать…» Дочку с зятем он хозяевами называл… Вообще-то старик жмот был… — Почему вы говорите «был»? Мазин не ловил Семенистого на слове. Вопрос этот пришел ему в голову неожиданно, хотя Эдик с самого начала упоминал об Укладникове в прошедшем времени. — Почему? — Да, почему? Может, машина повернула слишком круто, а возможно, Эдик слишком сильно нажал на спичку, которой как раз собирался зажечь сигарету, но спичка переломилась и упала на резиновый коврик на полу машины. Семенистый опустил голову, нагнулся, поднял спичку и засунул ее под донышко коробки. Потом только ответил: — Да ведь пропал он… И еще раз не увидел, а скорее почувствовал Мазин какую-то маленькую, почти неуловимую заминку в его ответе. Но могла она и показаться. «Пропал»… Из-под колес «Волги» прыскали грязные струйки. Снег уже стаял, но настоящее тепло еще не пробилось в город через плотные весенние тучи, нависшие над почерневшими за зиму крышами. Было сыро и зябко. Перед тем как выйти из машины, Мазин поднял воротник своего негреющего короткого пальто. По хлюпающим доскам они перешли разрытую мостовую и вошли во двор, сразу за которым начиналась бурая степь, где через год или два должны были появиться кварталы многоэтажных домов, а пока гулял ветер да тащился одинокий самосвал, покачиваясь, как пьяный, на скользких ухабах. Семенистый первым вошел в подъезд, за ним — лейтенант Козельский, который вел машину, а потом и Мазин, поеживаясь от холода и все еще не уверенный в том, что Укладников исчез. Замок оказался действительно «хитрым». Чтобы открыть его, нужно было поворачивать ключ справа налево. Кроме того, на дверях были набиты цепочка и щеколда. Мазин отметил все это мельком и прошел в коридор. Сюда выходили двери из комнат. «Хорошая планировка», — подумал он, вспомнив свою большую неудобную комнату в старом доме, и взялся за среднюю дверь. — Нет, нет, — остановил его Эдик. — Здесь никто не живет. Здесь хозяйские вещи свалены. Она заперта. Возможно, Мазин и послушал бы его, если б «запертая» дверь не подалась легко внутрь. Он вопросительно глянул на Семенистого, но тот и сам как будто удивился: — Всегда заперта была… В комнате действительно никто не жил. Там в беспорядке были нагромождены немногие вещи, в основном книги, связанные, очевидно для перевозки, пачками и обернутые старыми газетами. Мазин надорвал одну пачку, ожидая увидеть что-нибудь по геологии, но это оказалось собрание сочинений Достоевского. Другая сплошь состояла из детективов. Семенистый, стоявший на пороге, настойчиво как-то пояснял:
— Они только получили квартиру и через три дня уехали. Ничего разобрать не успели. Видите, пылища какая. А дед на кухне жил.
— Зажгите свет, — попросил Мазин.
Семенистый щелкнул выключателем. Теперь стало ясно видно то, что было почти незаметно в вечерних сумерках. На покрытом пылью полу отчетливо выделялись следы. Они тянулись от двери к одному из шкафов — большому застекленному книжному шкафу.
— Вы входили в комнату сегодня или вчера? — спросил Мазин, поворачиваясь к Семенистому.
— Я же говорю, она заперта была.
— А в шкафу что было, не помните?
— Пустой был. — Эдик во все глаза смотрел на шкаф.
Мазин потянул дверцу. Полки в самом деле оказались пустыми. Присев на корточки, он стал рассматривать след. Простым глазом был виден и отпечаток подошвы, и мелкие, засохшие куски глины, которую растаскали по всему двору от разрытой канавы, и кое-что еще, заинтересовавшее Мазина больше всего.
— Вадим Сергеевич! — позвал он Козельского.
Тот вошел в комнату, старательно обходя следы.
— Как вы думаете, что это такое? — Мазин показал на темный комочек, прилипший к глине.
Козельский нагнулся.
— По-моему, уголь… Кто-то пришел сюда из котельной?
— Видимо, Укладников, раз наш друг Эдуард… Как вас по батюшке, Семенистый?
— Тарасович, — буркнул Эдик.
— …Эдуард Тарасович сюда не заходил.
— Интересно.
— Может стать интересным, если только старик не пьянствует где-нибудь с приятелями. Я пока придерживаюсь этой наиболее простой версии.
Но, сказать по правде, Мазин уже сомневался в ней.
Ничто больше в квартире не бросилось им в глаза. В комнате геолога господствовал спартанский порядок Железная койка была заправлена по-солдатски, чемодан с небогатым скарбом заперт. У Семенистого же преобладал холостяцкий хаос. К нему Мазин заглянул ненадолго, скользнув взглядом по стене, куда хозяин обильно накнопил кинодив, вырезанных из заграничных журналов. Спросил только:
— Вы здесь постоянно прописаны?
— Куда там! Не знаете вы нашего деда… Три месяца.
— И геолог на три месяца?
— Нет, Борька постоянно. Его еще зять прописал.
Мазин кивнул и вышел из комнаты. Внимательно осмотрел он пожитки Укладникова в стенном шкафу:
— Вы знали его вещи, Семенистый? Все здесь?
— Вроде все.
Эдик явно помрачнел и отвечал неохотно и коротко, совсем не так, как говорил до сих пор.
— В чем он чаще ходил?
— Вот в этом. — Эдик качнул потрепанный пиджачок.
В кармане нашелся паспорт и две рублевые бумажки.
— Не знаете, где он хранил деньги?
— Какие?
— Ну, зарплату, пенсию, то, что от вас получал. Вы же говорите, что деньги у него водились.
— Водились, да нам он про них не докладывал.
— Ладно, потом посмотрим повнимательнее. Если не вернется ваш дед жив-здоров да не выругает нас. А пока спустимся в котельную.
Дорогу опять показывал Эдик. Его первого и увидел напарник Укладникова.
— Ты мне скажи, где твой старый? Сколько я за него торчать должен? Нашли ишака… Мне тут премия не идет, понял?
Мазин, спускавшийся следом по крутой железной лестнице, остановился, слушая сиплую ругань истопника.
— Да помолчи ты, папаша, — перебил Семенистый. — Жалуйся в домоуправление. Вот люди с тобой потолковать хотят.
— Пошел ты со своими людями знаешь куда…
— Куда же, если не секрет? — спросил Мазин.
— А туда… — начал было истопник, но осекся, заметив за его спиной шинель Козельского.
Это был человек неопределенного возраста. Может, ему было и сорок, а может, и все шестьдесят. Но силенка чувствовалась в нем несомненная, крутые плечи распирали черную латаную рубашку. Низколобое лицо выглядело недружелюбно. Угол редкозубого рта и часть выступающего подбородка прикрывал грязный пластырь.
Пластырь этот и заметил вначале Мазин, а потом уже свежую ссадину на щеке и синяк под глазом.
— Вы здесь работаете?
— Работаю. Это работа разве? Каторга…
— Об этом потом. Как вас зовут?
— Харченко зовут меня. Василий Прокофьевич.
— Вы знали Укладникова?
— А то нет!
— Когда вы видели его в последний раз?
— Вчера сменялись в это время.
— Ясно. Он не говорил, что собирается уйти раньше обычного?
— Ничего он не говорил.
— И вы не знаете, где он находится сейчас?
— Это вы мне скажите, где он находится. Вы ж милиция.
— Скажем со временем. Покажите котельную.
— Смотрите, мне не жалко.
И вот Мазин держит в руках горячую еще коробочку.
Потом он поддел край футляра перочинным ножом. Внутри можно было узнать остатки дужек и расплавившихся стекол. Мазин протянул футляр Харченко:
— А вы что скажете? Вы работали вместе. Видели вы у Укладникова такие очки?
— Да разве их разберешь?
— Пойдемте в вашу комнату.
В маленькой рабочей комнатушке с засиженным мухами небольшим окошком стояли старая железная койка, тумбочка и небольшой столик. На крючке висело серое длинное пальто.
— Ваше пальто?
— Мое.
Харченко загородил вешалку спиной.
— Разрешите.
Мазин снял пальто с крючка, а Козельский, опустив руку в карман, стал рядом с Харченко.
— Отчего эти пятна на пальто?
— Ну, кровь это, кровь, — зло ответил Харченко. — Подрался я спьяну, вы ж видите…
Он показывал на свое побитое лицо.
— Придется кое-что уточнить. Поедете с нами.
— Да как же я котельную брошу? Я ж сказал — подрался.
Харченко потянул из рук Мазина пальто. Что-то звякнуло. Мазин слегка отстранил истопника и полез в карман. Там оказалась только дырка. Тогда он тряхнул пальто, и снова что-то звякнуло. Мазин просунул пальцы в дыру и, пошарив за подкладкой, достал серебряные часы на цепочке.
— Дедовы! — выкрикнул Эдик.
А Харченко замотал вдруг головой и завопил:
— Подстроили, душегубы! Пейте кровь с инвалида, расстреливайте!
И начал рвать на себе рубаху.
Семенистый, стоявший на пороге, настойчиво как-то пояснял:
— Они только получили квартиру и через три дня уехали. Ничего разобрать не успели. Видите, пылища какая. А дед на кухне жил.
— Зажгите свет, — попросил Мазин.
Семенистый щелкнул выключателем. Теперь стало ясно видно то, что было почти незаметно в вечерних сумерках. На покрытом пылью полу отчетливо выделялись следы. Они тянулись от двери к одному из шкафов — большому застекленному книжному шкафу.
— Вы входили в комнату сегодня или вчера? — спросил Мазин, поворачиваясь к Семенистому.
— Я же говорю, она заперта была.
— А в шкафу что было, не помните?
— Пустой был. — Эдик во все глаза смотрел на шкаф.
Мазин потянул дверцу. Полки в самом деле оказались пустыми. Присев на корточки, он стал рассматривать след. Простым глазом был виден и отпечаток подошвы, и мелкие, засохшие куски глины, которую растаскали по всему двору от разрытой канавы, и кое-что еще, заинтересовавшее Мазина больше всего.
— Вадим Сергеевич! — позвал он Козельского.
Тот вошел в комнату, старательно обходя следы.
— Как вы думаете, что это такое? — Мазин показал на темный комочек, прилипший к глине.
Козельский нагнулся.
— По-моему, уголь… Кто-то пришел сюда из котельной?
— Видимо, Укладников, раз наш друг Эдуард… Как вас по батюшке, Семенистый?
— Тарасович, — буркнул Эдик.
— …Эдуард Тарасович сюда не заходил.
— Интересно.
— Может стать интересным, если только старик не пьянствует где-нибудь с приятелями. Я пока придерживаюсь этой наиболее простой версии.
Но, сказать по правде, Мазин уже сомневался в ней.
Ничто больше в квартире не бросилось им в глаза. В комнате геолога господствовал спартанский порядок Железная койка была заправлена по-солдатски, чемодан с небогатым скарбом заперт. У Семенистого же преобладал холостяцкий хаос. К нему Мазин заглянул ненадолго, скользнув взглядом по стене, куда хозяин обильно накнопил кинодив, вырезанных из заграничных журналов. Спросил только:
— Вы здесь постоянно прописаны?
— Куда там! Не знаете вы нашего деда… Три месяца.
— И геолог на три месяца?
— Нет, Борька постоянно. Его еще зять прописал.
Мазин кивнул и вышел из комнаты. Внимательно осмотрел он пожитки Укладникова в стенном шкафу:
— Вы знали его вещи, Семенистый? Все здесь?
— Вроде все.
Эдик явно помрачнел и отвечал неохотно и коротко, совсем не так, как говорил до сих пор.
— В чем он чаще ходил?
— Вот в этом. — Эдик качнул потрепанный пиджачок.
В кармане нашелся паспорт и две рублевые бумажки.
— Не знаете, где он хранил деньги?
— Какие?
— Ну, зарплату, пенсию, то, что от вас получал. Вы же говорите, что деньги у него водились.
— Водились, да нам он про них не докладывал.
— Ладно, потом посмотрим повнимательнее. Если не вернется ваш дед жив-здоров да не выругает нас. А пока спустимся в котельную.
Дорогу опять показывал Эдик. Его первого и увидел напарник Укладникова.
— Ты мне скажи, где твой старый? Сколько я за него торчать должен? Нашли ишака… Мне тут премия не идет, понял?
Мазин, спускавшийся следом по крутой железной лестнице, остановился, слушая сиплую ругань истопника.
— Да помолчи ты, папаша, — перебил Семенистый. — Жалуйся в домоуправление. Вот люди с тобой потолковать хотят.
— Пошел ты со своими людями знаешь куда…
— Куда же, если не секрет? — спросил Мазин.
— А туда… — начал было истопник, но осекся, заметив за его спиной шинель Козельского.
Это был человек неопределенного возраста. Может, ему было и сорок, а может, и все шестьдесят. Но силенка чувствовалась в нем несомненная, крутые плечи распирали черную латаную рубашку. Низколобое лицо выглядело недружелюбно. Угол редкозубого рта и часть выступающего подбородка прикрывал грязный пластырь.
Пластырь этот и заметил вначале Мазин, а потом уже свежую ссадину на щеке и синяк под глазом.
— Вы здесь работаете?
— Работаю. Это работа разве? Каторга…
— Об этом потом. Как вас зовут?
— Харченко зовут меня. Василий Прокофьевич.
— Вы знали Укладникова?
— А то нет!
— Когда вы видели его в последний раз?
— Вчера сменялись в это время.
— Ясно. Он не говорил, что собирается уйти раньше обычного?
— Ничего он не говорил.
— И вы не знаете, где он находится сейчас?
— Это вы мне скажите, где он находится. Вы ж милиция.
— Скажем со временем. Покажите котельную.
— Смотрите, мне не жалко.
И вот Мазин держит в руках горячую еще коробочку.
Потом он поддел край футляра перочинным ножом. Внутри можно было узнать остатки дужек и расплавившихся стекол. Мазин протянул футляр Харченко:
— А вы что скажете? Вы работали вместе. Видели вы у Укладникова такие очки?
— Да разве их разберешь?
— Пойдемте в вашу комнату.
В маленькой рабочей комнатушке с засиженным мухами небольшим окошком стояли старая железная койка, тумбочка и небольшой столик. На крючке висело серое длинное пальто.
— Ваше пальто?
— Мое.
Харченко загородил вешалку спиной.
— Разрешите.
Мазин снял пальто с крючка, а Козельский, опустив руку в карман, стал рядом с Харченко.
— Отчего эти пятна на пальто?
— Ну, кровь это, кровь, — зло ответил Харченко. — Подрался я спьяну, вы ж видите…
Он показывал на свое побитое лицо.
— Придется кое-что уточнить. Поедете с нами.
— Да как же я котельную брошу? Я ж сказал — подрался.
Харченко потянул из рук Мазина пальто. Что-то звякнуло. Мазин слегка отстранил истопника и полез в карман. Там оказалась только дырка. Тогда он тряхнул пальто, и снова что-то звякнуло. Мазин просунул пальцы в дыру и, пошарив за подкладкой, достал серебряные часы на цепочке.
— Дедовы! — выкрикнул Эдик.
А Харченко замотал вдруг головой и завопил:
— Подстроили, душегубы! Пейте кровь с инвалида, расстреливайте!
И начал рвать на себе рубаху.
II
Валерий Брусков спал беспокойно, хоть дежурная по гостинице и обещала разбудить вовремя. Проснулся он в половине четвертого, посмотрел на часы, обругал себя — ведь спать можно было еще целый час, решил больше не спать, а полежать просто — и заснул так, что будить все-таки пришлось. — Молодой человек. Пора… Валерий бросился умываться. Из гостиницы он вышел бодрым и, перекинув через плечо спортивную сумку, зашагал по светлеющим улицам поселка к вокзалу. Прошлой весной Валерий еще был студентом, а сейчас работал в редакции областной молодежной газеты и никак не мог привыкнуть к тому, что он взрослый, что два раза в месяц расписывается в ведомости, получая зарплату, а не стипендию, что иногда фамилия его появляется на газетной полосе и ее читают тысячи людей. Каждая командировка волновала Брускова: то он боялся, что не соберет материала, то — что плохо напишет, а еще хуже, если ошибется и придется давать опровержение. Более опытные ребята посмеивались над его страхами, но Валерий не мог переломить себя. Был он человеком впечатлительным и часто нервничал по мелочам. Даже сейчас, хотя ехал он домой и до отхода поезда оставалось около часа, а билет лежал в кармане, Валерий спешил. Вышел он на перрон, когда малоразборчивый голос только хрипел над немноголюдными платформами: «Объявляется посадка на поезд номер двести двенадцать, следующий до…» Возле состава переминались с ноги на ногу заспанные проводники. Валерий протянул билет и вошел в вагон вторым. Раньше него проскочил юркий паренек в стеганке и кепке. Вагон был новым, с мягкими голубы ми креслами самолетного типа и большими зеркальными окнами. Брусков подумал, что обязательно опишет этот вагон в своем очерке. У него даже наметилась первая фраза: «Я вспомнил, как несколько лет назад по заданию редакции ехал в тот же город в старом рабочем поезде…» Но тут он вовремя сообразил, что несколько лег назад никуда по заданию редакции не ездил. Между тем парень, прошмыгнувший впереди Брускова, задержался в проходе, выбирая место, и Валерию пришлось приостановиться позади него на секунду или две, не больше. Парень прошел вперед, но не сел, а только положил на облюбованное кресло кепку и вышел в передний тамбур. Все это Брусков отметил между прочим, не подозревая еще, что скоро эти вроде бы незначительные детали сыграют свою роль в деле очень серьезном. Наполнялся вагон постепенно, людей оказалось не так уж много. Почти половина мест осталась свободной, когда загудела сирена электровоза и поезд покатил, раскачиваясь на рессорах и убаюкивая недоспавших пассажиров. И тут Брусков снова заметил парня в стеганке. Тот вернулся из тамбура, сунул в откидную пепельницу окурок и, придерживаясь за спинки кресел, прошел на свое место. Валерий прикрыл глаза, но спать не хотелось. Он думал о своих очерках: о том, что ему было поручено написать, и о другом, о чем еще не знали в редакции. Написать было поручено о молодом рабочем с химкомбината, построенного недавно в Береговом. Задание это Брусков выполнил добросовестно, придумал удачное, как казалось, название — «Ему послушны молекулы», посмотрел комбинат, побеседовал в комитете комсомола с секретарем. Секретарь рассказал Валерию все толково: «Хороший парень. Аппаратчик, заочник, спортсмен — короче говоря, наша гордость. На комбинате с первого дня и даже раньше, в том смысле, что еще до пуска работал на строительстве. Сейчас ударник и дружинник». Ударника и самого привели в комитет, и он все подтвердил: да, и заочник, и аппаратчик, и дружинник, и разряд есть по настольному теннису. На вопросы он отвечал лаконично, а больше кивал и вроде бы смущался. Но его скоро отпустили, а секретарь сказал Брускову: — Ты не думай… Он парень железный. Валерий пожал плечами. Парень вел себя, как полагалось, хотя на самом деле он, может, и не был таким уж скромным, а просто злился, что его отрывают от дела, чтобы написать то, чему сам он не поверит. Н Брусков чувствовал это. Конечно же, ему хотелось написать не так, как писали уже тысячу раз, а как-то иначе. Но как именно, он не знал, потому что был еще молодым, застенчивым и не умел находить в разговоре с людьми того необходимого ключа, без которого невозможно узнать ничего, кроме того, что парень — аппаратчик, заочник и так далее. Об этом он думал и в рабочей столовой, куда пришел из комитета, чтобы перекусить. И еще он поглядывал на молоденьких прядильщиц, что ели булочки с кефиром за соседним столиком. Но поглядывал осторожно, чтобы не показалось, что он на них пялится. Девушки же посматривали на него гораздо смелее и, когда Валерий отворачивался, посмеивались потихоньку. Вдруг одна из них поднялась и направилась прямо к Валерию. Брусков вспомнил, что эта темненькая и разбитная, как видно, девушка заглядывала в комитет, когда он вытягивал «показания» из своего образцово-показательного парня. — Товарищ корреспондент, вас можно на минутку? Валерий глотнул чаю, чтобы протолкнуть застрявший в горле кусочек антрекота. — Пожалуйста. Девушка села за столик и придвинулась к Брускову так близко, что он уже и не мог разобрать, какая же она собой. Видел только, что глаза у нее смеются. Но, в общем, она старалась держаться серьезно. — Товарищ корреспондент, вы в стихах разбираетесь? Этого Брусков не ожидал. — В стихах? Почему в стихах? Наверно, выглядел он глуповато, потому что девушка не выдержала — хохотнула. И этим помогла Брускову. Он и сам засмеялся, и смех разрядил смущение. — Да вы ж из газеты. Там и стихи печатают. — Да, конечно. А что вас интересует? — Меня-то? Меня ничего. Вот девчонка у нас одна есть. Подружка моя. Она пишет. Может, посмотрите? Девчонку, которая писала стихи, звали Майкой. Она пришла к Брускову в гостиницу вместе со своей разбитной подружкой — Жанной. Еще в номере Валерий услыхал, как Жанна громко спрашивает у дежурной в коридоре: — Где тут у вас корреспондент живет? Молодой такой, симпатичный. А вы его не вызовете? Мы договорились… Нет, нет, сами мы не пойдем. Мы девушки гордые… «Без костей язык», — подумал Валерий, открывая дверь. Майка оказалась совсем не похожей на подругу — беленькая, тихая, немного болезненного вида. В руке она держала свернутую трубочкой ученическую тетрадку и смущалась совершенно откровенно. Жанна почти силой втолкнула ее в комнату и тут же заторопилась: — Ну, теперь вы тут сами. А то меня Нелька ждет. — И убежала. Девушка сидела на стуле, опустив голову. — Покажите ваши стихи. Она подняла бледное лицо и виновато заморгала. — А может, не нужно? Брусков разозлился: — Девушка, я тут в командировке нахожусь. Мне каждая минута дорога. Давайте-ка ваши стихи. Майка протянула ему тетрадку. Наверно, она привыкла, что мужчины разговаривают с ней только о делах и поскорее. Стихи, как и ожидал Брусков, были не блеск: аккуратненько выписанные чернилами строчки с правильными рифмами и всем известными истинами. Он перелистал несколько страниц и не знал, что сказать. Было жаль бледненькую Майку. «Может, попадется что-нибудь среднее, чтоб к дате какой-нибудь напечатать? Все-таки от станка. Редактор это любит». Одно стихотворение было с посвящением — «Розе Ковальчук». Чтобы не сразу говорить о главном, Брусков спросил: — Кто эта Роза? Ваша подруга? — Что вы! Это же партизанка. Вы разве не видели памятник на площади? Памятника Валерий не видел. — Здешняя партизанка? Интересно. — Конечно, интересно! Она ж настоящая героиня. А я о ней нигде ничего не читала. Послушайте, товарищ корреспондент, напишите лучше о Розе. Это такая история… Майя не преувеличивала. История Розы Ковальчук могла заинтересовать не только областную газету, и сейчас, в вагоне, Валерий уже мысленно разглядывал свой очерк об отважной подпольщице. Поезд вдруг сильно качнуло, и Валерию пришлось, прервав размышления, открыть глаза. Парень в стеганке устроился впереди. Кепку свою он швырнул на узкую багажную полку. Рядом с кепкой на полке лежал новенький чемодан с блестящими ремнями. «Интересно, чей это? — подумал Валерий, потому что рядом с парнем никто не сидел. — Может, хозяин вышел покурить? Кажется, чемодан уже был на полке, когда Валерий вошел в вагон. Был или не был?» Станция мелькала за станцией, в вагоне выключили электричество, ехать оставалось немного, а Брусков сидел и думал уже не о Розе Ковальчук и своем очерке, а о чемодане, лежавшем на полке. «Наверно, кто-то заскочил в вагон первым, бросил чемодан и вышел, а потом закрутился и отстал от поезда. Нужно будет сказать проводнику». Рельсы за окном разбежались в разные стороны, начали двоиться, множиться. Мимо окна потянулись товарные вагоны. Поезд входил на большую станцию. Отсюда до города оставался один перегон. Но попасть в тот день домой Валерию так и не удалось.
Как всегда передостановкой, в вагоне началось движение. Люди собирали вещи, некоторые заранее столпились у выхода. Поднялся и парень в стеганке. Он поднял руку и… взял с полки чемодан. Валерий оглянулся по сторонам, но на парня никто не обратил внимания. А тот поставил чемодан на соседнее кресло и снова сел. Но перед тем как сесть, косанул по вагону настороженным взглядом.
«Вор», — решил Валерий и испугался.
Испугался потому, что вора нужно было задержать, а этого ему никогда не приходилось. Что же делать? Конечно же, выйти следом и сообщить милиционеру. На вокзале обязательно должен быть милиционер. А вдруг чемодан принадлежит самому парню? Валерий понимал, что мысль эта предательская и если он поверит в нее, то никогда не простит себе трусости.
Люди заспешили к выходу, но парень не торопился. «Может быть, он и не думает брать чемодан? — еще раз понадеялся Валерий. — Он же только переложил его с полки в кресло. Буду выходить — скажу проводнику — и все». Но тут парень двинулся, подхватив чемодан в опущенной руке так, что и не видно было, что он несет по проходу.
Валерий встал и пошел за парнем. Тот рассчитал правильно — оказался у выхода последним, но еще до того, как в вагон хлынули встречные пассажиры. Валерий, однако, успел выскочить следом и окончательно растерялся — милиционера нигде не было видно. А вор (Валерий уже не сомневался, что парень в кепке — вор) быстро пересек ближний свободный путь и перешел на соседнюю платформу. Брусков шел за ним, все еще оглядываясь в поисках милиционера, но парень шагал широко и вот-вот мог скрыться из виду. Да и время шло. «Стоянка поезда — двенадцать минут».
И тут Валерий не то что решился, а как будто бросился впервые с вышки в воду. Раз — и все!
— Послушай, друг. Постой.
Сказал — и не узнал своего голоса: такой он получился жидкий и противный. Брусков подумал даже, что вор и не обернется на такой голос, но тот сразу остановился, потому что давно заметил Валерия:
— Тебе что?
— Да вот чемодан вроде бы…
Лицо вора было совсем рядом. Он оказался не таким уж молодым, торчащие скулы были обтянуты желтоватой, нездоровой кожей, а узкие глазки смотрели зло и ничуть не испуганно:
— Что «вроде бы»? Твой это чемодан?
По свободному пути, медленно пыхтя белым паром, приближался паровоз. Вор скосил на него прозрачные глаза.
— Твой, говорю, чемодан?
— Не мой, но…
— Так чего ж ты к человеку привязался, падло?
И прежде чем Валерий успел сообразить, что происходит, вор резко ударил его тяжелым ботинком по ноге, в самую кость, так что Брусков даже присел от боли. А парень, не оглядываясь, как кошка, кинулся под самый нос паровоза и перемахнул путь, едва не попав под колеса. Пыхтящий состав отрезал его от Валерия.
«Ушел», — подумал Брусков и почувствовал себя таким несчастным, что даже боль стала тише. Но тут мимо броском пролетел человек в сером пиджаке, схватился за поручни проходящего товарного вагона, перескочил на ходу через площадку и спрыгнул с той стороны.
«Держи этого в стеганке!» — услыхал Валерий. И вслед за криком — свисток. Он поднялся и заковылял по платформе туда, где кричали.
А позади Брускова уже набирал скорость пассажирский поезд. Валерий увидел, как покатился по рельсам и его вагон, но бежать за ним был не в силах. Боль становилась мучительной. Он махнул рукой и остановился, совсем расстроившись. Что с ногой? Как он доберется теперь домой? Да и его собственная сумка осталась в вагоне.
— Молодой человек! Вы что, идти не можете?
Перед ним стоял тот самый, в пиджаке, что бросился за вором. Под пиджаком был тонкий спортивный свитер.
— До железнодорожного отделения дойти сможете? Знакомого своего повидать?
— Задержали его?
— Взяли. Старшина как раз оказался. Помог. За что это он вас?
— Чемодан у него?
— Есть и чемодан.
— Краденый. Да вы, собственно, кто такой?
— Кучеренок, капитан милиции. В Минск из отпуска возвращаюсь.
— Значит, и вы отстали?
— Что поделаешь. С нами и похуже бывает. Брусков как-то сразу успокоился.
— А я журналист. Здорово вы подоспели. — И поковылял за капитаном в отделение.
Там за видавшим виды двухтумбовым столом сидел старший лейтенант, а напротив его, на скамейке, — задержанный парень. Немолодой уже старшина снял фуражку и вытирал платком лоб. Чемодан вор все еще держал в руках. Увидев хромающего Брускова, он скривил губы в ухмылке и отвернулся.
— Ага, пришли, — обрадовался старший лейтенант. — Так что там произошло?
— Вот товарищ журналист видел, как этот парень украл чемодан, — пояснил капитан.
— А больше ваш товарищ ничего не видел? Он же спал всю дорогу. Мало ли что во сне увидеть можно.
— Замолчите, — перебил старший лейтенант. — Как ваша фамилия?
— Музыченко.
— Покажите документы.
— Я их с собой не ношу: потерять боюсь.
— Зачем сюда приехали?
— Приехал — и все. Что, ездить нельзя, что ли?
— Чемодан ваш, вы говорите?
— А то чей, Пушкина?
— Расскажите, пожалуйста, как было дело, — обратился старший лейтенант к Валерию.
Брусков начал по порядку:
— Я возвращаюсь из Берегового, в командировке был…
Вор смотрел на него злобно, и Валерий, рассказывая, малодушно думал: «Отпустят его сейчас, так не миновать мне ножа в бок. Вот попал в историю». Но отступать было невозможно. Да и боль в ноге не располагала к мягкости.
— Значит, хозяина чемодана вы не видели? — спросил старший лейтенант огорченно, и Валерий опять подумал: «Отпустит он его».
Музыченко сплюнул на пол:
— Напел байку. Сразу видно, журналист.
— Помолчите, Музыченко, — прервал снова старший лейтенант. — Скажите-ка лучше, что у вас в чемодане?
Впервые вор ответил не сразу.
— Да разве все запомнишь…
— А вы не все, вы хоть что-нибудь.
— Я знаю? Сестра собирала в дорогу. Барахло разное, харчишки.
Старший лейтенант недоверчиво покосился на желтые ремни.
— Вот что, Музыченко. На столе лист бумаги и речка. Напишите-ка, что, по вашему мнению, сестра могла положить в чемодан. Садитесь.
Писал он долго, выводя на бумаге круглые ученические буквы. Всем уже надоело ждать, но его не торопили. Вдруг Музыченко так нажал на перо, что чернила брызнули во все стороны. Он перечеркнул лист крест-накрест и швырнул ручку на стол:
— Считайте, что попутали, гражданин начальник. Не знаю я, что в этом сундуке, сами смотрите.
И он швырнул чемодан на стол.
Старший лейтенант спокойно взял его и отстегнул хрустящие ремни. Глянул внутрь и медленно и удивленно вытащил измятую мужскую рубашку. Светлая рубаха была измазана красным. Вслед за ней на стол легли пиджак и большие ботинки из свиной кожи. Но не они доконали Музыченко, а маленький туристский топорик с присохшими к лезвию короткими темными волосами.
Последнее, что запомнил Брусков из этой сцены, был панически жалкий крик Музыченко:
— Вор я, гражданин начальник, вор! Чемодан этот в поезде взял. Вот и человек подтвердить может. — И тыкал пальцем в бок Валерию
Рельсы за окном разбежались в разные стороны, начали двоиться, множиться. Мимо окна потянулись товарные вагоны. Поезд входил на большую станцию. Отсюда до города оставался один перегон. Но попасть в тот день домой Валерию так и не удалось.
Как всегда передостановкой, в вагоне началось движение. Люди собирали вещи, некоторые заранее столпились у выхода. Поднялся и парень в стеганке. Он поднял руку и… взял с полки чемодан. Валерий оглянулся по сторонам, но на парня никто не обратил внимания. А тот поставил чемодан на соседнее кресло и снова сел. Но перед тем как сесть, косанул по вагону настороженным взглядом.
«Вор», — решил Валерий и испугался.
Испугался потому, что вора нужно было задержать, а этого ему никогда не приходилось. Что же делать? Конечно же, выйти следом и сообщить милиционеру. На вокзале обязательно должен быть милиционер. А вдруг чемодан принадлежит самому парню? Валерий понимал, что мысль эта предательская и если он поверит в нее, то никогда не простит себе трусости.
Люди заспешили к выходу, но парень не торопился. «Может быть, он и не думает брать чемодан? — еще раз понадеялся Валерий. — Он же только переложил его с полки в кресло. Буду выходить — скажу проводнику — и все». Но тут парень двинулся, подхватив чемодан в опущенной руке так, что и не видно было, что он несет по проходу.
Валерий встал и пошел за парнем. Тот рассчитал правильно — оказался у выхода последним, но еще до того, как в вагон хлынули встречные пассажиры. Валерий, однако, успел выскочить следом и окончательно растерялся — милиционера нигде не было видно. А вор (Валерий уже не сомневался, что парень в кепке — вор) быстро пересек ближний свободный путь и перешел на соседнюю платформу. Брусков шел за ним, все еще оглядываясь в поисках милиционера, но парень шагал широко и вот-вот мог скрыться из виду. Да и время шло. «Стоянка поезда — двенадцать минут».
И тут Валерий не то что решился, а как будто бросился впервые с вышки в воду. Раз — и все!
— Послушай, друг. Постой.
Сказал — и не узнал своего голоса: такой он получился жидкий и противный. Брусков подумал даже, что вор и не обернется на такой голос, но тот сразу остановился, потому что давно заметил Валерия:
— Тебе что?
— Да вот чемодан вроде бы…
Лицо вора было совсем рядом. Он оказался не таким уж молодым, торчащие скулы были обтянуты желтоватой, нездоровой кожей, а узкие глазки смотрели зло и ничуть не испуганно:
— Что «вроде бы»? Твой это чемодан?
По свободному пути, медленно пыхтя белым паром, приближался паровоз. Вор скосил на него прозрачные глаза.
— Твой, говорю, чемодан?
— Не мой, но…
— Так чего ж ты к человеку привязался, падло?
И прежде чем Валерий успел сообразить, что происходит, вор резко ударил его тяжелым ботинком по ноге, в самую кость, так что Брусков даже присел от боли. А парень, не оглядываясь, как кошка, кинулся под самый нос паровоза и перемахнул путь, едва не попав под колеса. Пыхтящий состав отрезал его от Валерия.
«Ушел», — подумал Брусков и почувствовал себя таким несчастным, что даже боль стала тише. Но тут мимо броском пролетел человек в сером пиджаке, схватился за поручни проходящего товарного вагона, перескочил на ходу через площадку и спрыгнул с той стороны.
«Держи этого в стеганке!» — услыхал Валерий. И вслед за криком — свисток. Он поднялся и заковылял по платформе туда, где кричали.
А позади Брускова уже набирал скорость пассажирский поезд. Валерий увидел, как покатился по рельсам и его вагон, но бежать за ним был не в силах. Боль становилась мучительной. Он махнул рукой и остановился, совсем расстроившись. Что с ногой? Как он доберется теперь домой? Да и его собственная сумка осталась в вагоне.
— Молодой человек! Вы что, идти не можете?
Перед ним стоял тот самый, в пиджаке, что бросился за вором. Под пиджаком был тонкий спортивный свитер.
— До железнодорожного отделения дойти сможете? Знакомого своего повидать?
— Задержали его?
— Взяли. Старшина как раз оказался. Помог. За что это он вас?
— Чемодан у него?
— Есть и чемодан.
— Краденый. Да вы, собственно, кто такой?
— Кучеренок, капитан милиции. В Минск из отпуска возвращаюсь.
— Значит, и вы отстали?
— Что поделаешь. С нами и похуже бывает. Брусков как-то сразу успокоился.
— А я журналист. Здорово вы подоспели. — И поковылял за капитаном в отделение.
Там за видавшим виды двухтумбовым столом сидел старший лейтенант, а напротив его, на скамейке, — задержанный парень. Немолодой уже старшина снял фуражку и вытирал платком лоб. Чемодан вор все еще держал в руках. Увидев хромающего Брускова, он скривил губы в ухмылке и отвернулся.
— Ага, пришли, — обрадовался старший лейтенант. — Так что там произошло?
— Вот товарищ журналист видел, как этот парень украл чемодан, — пояснил капитан.
— А больше ваш товарищ ничего не видел? Он же спал всю дорогу. Мало ли что во сне увидеть можно.
— Замолчите, — перебил старший лейтенант. — Как ваша фамилия?
— Музыченко.
— Покажите документы.
— Я их с собой не ношу: потерять боюсь.
— Зачем сюда приехали?
— Приехал — и все. Что, ездить нельзя, что ли?
— Чемодан ваш, вы говорите?
— А то чей, Пушкина?
— Расскажите, пожалуйста, как было дело, — обратился старший лейтенант к Валерию.
Брусков начал по порядку:
— Я возвращаюсь из Берегового, в командировке был…
Вор смотрел на него злобно, и Валерий, рассказывая, малодушно думал: «Отпустят его сейчас, так не миновать мне ножа в бок. Вот попал в историю». Но отступать было невозможно. Да и боль в ноге не располагала к мягкости.
— Значит, хозяина чемодана вы не видели? — спросил старший лейтенант огорченно, и Валерий опять подумал: «Отпустит он его».
Музыченко сплюнул на пол:
— Напел байку. Сразу видно, журналист.
— Помолчите, Музыченко, — прервал снова старший лейтенант. — Скажите-ка лучше, что у вас в чемодане?
Впервые вор ответил не сразу.
— Да разве все запомнишь…
— А вы не все, вы хоть что-нибудь.
— Я знаю? Сестра собирала в дорогу. Барахло разное, харчишки.
Старший лейтенант недоверчиво покосился на желтые ремни.
— Вот что, Музыченко. На столе лист бумаги и речка. Напишите-ка, что, по вашему мнению, сестра могла положить в чемодан. Садитесь.
Писал он долго, выводя на бумаге круглые ученические буквы. Всем уже надоело ждать, но его не торопили. Вдруг Музыченко так нажал на перо, что чернила брызнули во все стороны. Он перечеркнул лист крест-накрест и швырнул ручку на стол:
— Считайте, что попутали, гражданин начальник. Не знаю я, что в этом сундуке, сами смотрите.
И он швырнул чемодан на стол.
Старший лейтенант спокойно взял его и отстегнул хрустящие ремни. Глянул внутрь и медленно и удивленно вытащил измятую мужскую рубашку. Светлая рубаха была измазана красным. Вслед за ней на стол легли пиджак и большие ботинки из свиной кожи. Но не они доконали Музыченко, а маленький туристский топорик с присохшими к лезвию короткими темными волосами.
Последнее, что запомнил Брусков из этой сцены, был панически жалкий крик Музыченко:
— Вор я, гражданин начальник, вор! Чемодан этот в поезде взял. Вот и человек подтвердить может. — И тыкал пальцем в бок Валерию
III
— Так что же нам известно, Вадим Сергеевич? — спросил Мазин Козельского. Они сидели в кабинете Мазина и мучились от жары. Несмотря на открытые форточки, было душно. Отопительный сезон продолжался согласно плану, а солнце, не зная об этом, светило по-летнему. — Пока ничего, Игорь Николаевич. Козельский был из тех людей, которые склонны преуменьшать успехи. Мазин расстегнул пуговицу под галстуком. — Ну, это вы слишком… Мы знаем, например, что Харченко непричастен к убийству. — А что это нам дало? — Отсечен один из неверных путей, которым мы могли увлечься. Снято обвинение с невиновного человека. Козельский покачал головой: — Совсем невинная овечка. Пьяница, вор и хулиган. — Но не убийца. В этом есть разница, Вадим. Одно дело, если у вас вытащили часы, а другое, когда вам режут горло. — Такие и режут. — Хорошо, не будем спорить. Я знаю, что вы плохо переносите жару. Но все-таки смотреть на вещи нужно оптимистичнее. Вы ведь заочник? Студент? Смотрите же, какой классический случай нам встретился. Целая цепь серьезнейших улик. А что оказалось? Харченко действительно подрался, был задержан и провел ночь в вытрезвителе. Кровь на пальто одной группы с его собственной. И наконец, часы Укладникова, которые тот во время смены вешал на гвоздик над койкой, Харченко попытался присвоить, лишь узнав об исчезновении хозяина. Впрочем, сам Харченко уверяет, что взял часы с целью сохранения, а под подкладку они провалились случайно… — «Случайно»! Жулик старый. — Опять вы бурчите, Вадим? Зачем? Лучше приведите этот случай на экзамене. Получите пятерку, а какой-нибудь профессор затащит его в учебник, где наш общий неприветливый знакомый Харченко будет фигурировать как «гражданин X». Таким образом вы обогатите науку. — Шутите, Игорь Николаевич. — Стараюсь. Знаете. Козельский, врачи однажды изучили сто больных атеросклерозом. И что же? Восемьдесят из них были мрачными, унылыми личностями, не признающими никаких шуток. Поэтому я и шучу, Вадим. Так сказать, в порядке профилактики. Берегу сердце. Однако пойдем дальше. Мы знаем еще целую кучу вещей. Мазин пробарабанил пальцами по синей папке с надписью «Дело». — Мы знаем, что в ночь, когда, по категорическим утверждениям достойного во всех отношениях Эдуарда Семенистого… Надеюсь, против Семенистого вы ничего не имеете? — Имею. Барыга самый настоящий. — Да? Кто бы мог подумать, — Мазин усмехнулся. — А ведь он в ателье на Доске почета числится. Но не будем судить его слишком строго. Он жертва человеческих слабостей. Кто устоит, чтобы не отблагодарить человека? Скажу по секрету, Вадим, я сам однажды угощал его водкой. По лицу лейтенанта Мазин понял, что и это Козельский принял за шутку, но не стал разубеждать подчиненного. — Вернемся же к нашим овечкам. Итак, ночь… Хотя Семенистый и утверждает, что в комнату ночью никто не входил, след, который мы обнаружили на паркете, наталкивает на другие мысли. Входил человек, незадолго перед тем побывавший в котельной. Но как он мог проникнуть в квартиру? Я вижу четыре возможности. Первая — был еще один ключ. Вторая — замок был отперт без помощи ключа. Третья — дверь была не заперта. Две последние возможности маловероятны, особенно вторая, ведь на замке мы не обнаружили никаких следов отмычки. И все три возможности предполагают, что Эдуард Семенистый, этот, по мнению общественности, ударник труда, спал сном невинного младенца и ничего не слышал. — Вам бы, Игорь Николаевич, адвокатом быть. Говорите вы убедительно. — Ага, Вадим. Вы начинаете иронизировать. Прекрасно. Четвертая возможность предполагает, что Эдуард Тарасович бодрствовал и сам открыл дверь. Кстати, вам не показалось, что, когда я наткнулся на след, он посерьезнел? — Показалось. Как сыч напыжился. — Заметим это обстоятельство, которое вы выразили в образной форме, хотя фактом оно и не является и не убедит ни судью, ни адвоката. Но нам может пригодиться. Заметим и пойдем дальше. Удалось нам в некоторой степени обнаружить и зачем этот неизвестный входил в комнату. В пустом шкафу оказалось двойное дно. Причем второе дно, а вернее имитирующий его лист фанеры, установлено в шкафу, несомненно, не на фабрике. Кто мог сделать этот тайник? — Укладников, наверно. — Да, это наиболее вероятно, но к шкафу имели доступ и другие люди. И эти люди располагали временем в отсутствие Укладникова. — Вы имеете в виду квартирантов? — Прежде всего Стояновского и Семенистого. Но не только их. — Кого же еще? — Шкаф стоял на старой квартире у зятя Укладникова. И неизвестно, купил он его в магазине или по случаю. Круг расширяется, как видите. Поэтому оставим его пока. Плохо, что мы не имеем ни малейшего намека на то, что могло храниться в тайнике. Деньги? Пистолет? Документы, наконец? Правда, труп туда не войдет. Но зато он вошел в топку. И тот, кто втолкнул его туда, по всей видимости, интересовался и тайником. Судя по обуви, это был не Семенистый. — Точно. Здесь нам повезло. У Семенистого обувь меньше, чем ботинки, оставившие след. — Ну вот. А вы о нем плохого мнения. Да еще говорите, что мы ничего не знаем. Мы знаем, Вадим, достаточно, чтобы составить рабочую версию. Выглядеть она будет приблизительно так. Человек в больших ботинках, знавший, что Укладников работает ночью в котельной, пришел туда, убил Укладникова, втолкнул его труп в топку, поднялся наверх, открыл входную дверь, скорее всего ключом, о котором не знал Семенистый, после чего проник в нежилую комнату. Ключ от комнаты убийца взял у Укладникова. Там он осмотрел тайник… — Почему «осмотрел»? — Потому что только это известно достоверно. Может быть, тайник был пуст. — Мазин сделал паузу: — В этой версии я вижу пока лишь один недостаток. — Какой? — Тот, что она, в сущности, вторая. Первая была с Харченко. Так что не исключено появление н других. Но это уж издержки нашего производства. А вы что скажете? — Меня, Игорь Николаевич, смущают следы. — Чем именно? — Уж больно прекрасные следы. Как будто он нарочно для нас старался, пропечатывал. — В вашей мысли есть резон. Но попробуем думать иначе. Убийца не заметил, что пол покрыт толстым слоем пыли. Он спешил и нервничал — ведь рядом спал Семенистый. Некогда ему было разыскивать тряпку и затирать пол. Попробуем пока думать так. Хотя ваших сомнений я и не отвергаю. Возможно, и они пригодятся. А сейчас выводы. Что же дает наша версия? Главное — убийца не был случайным человеком. В котельную он мог еще забрести случайно, но не в квартиру. Искать его надо среди знакомых Укладникова. Кстати, вам известно, что семьдесят пять процентов убийц знают своих жертв до преступления? Запомните на всякий случай. Блеснете эрудицией? На экзамене. Козельский вытащил записную книжку. — Хотите записать процент? — Нет, эти цифры я знаю. Хочу составить списочек знакомых Укладникова. — Боюсь, писать придется не так уж много. — Да, человека три — четыре. — Нет. Только одного. Мазин вышел из-за стола и прошелся по комнате. Постоял у окна, посмотрел, как парует на солнце соседняя крыша. На подсохшем асфальте, внизу, две девочки собрались играть в «классы»: одна, старательная, видно отличница, тянула через тротуар белую черту, останавливалась недовольная, стирала мел подметкой маленькой красной туфельки и начинала чертить снова, молча, сосредоточенно. А подруга ее прыгала на одной ножке рядом и смеялась. — Как вы думаете, Козельский, хорошо быть маленьким? — Что хорошего? — удивился неожиданному вопросу лейтенант. — Гулять хочется, а тебя уроки учить заставляют. — Верно. Но все-таки, когда вырастешь, плохое забывается… Ну ладно. Так вы поняли, кого я имею в виду? — Семенистого? — Почему? — Да ведь нужно, чтоб этот человек знал Укладникова, знал расположение квартиры и мог знать о существовании тайника. А таких только трое — Семенистый, Стояновский и зять Укладникова. Стояновского и зятя в городе в этот день не было, остается Семенистый. — Логично. Хотя и не наверняка. — Почему? — По двум причинам. Одну я вам назову. Она простая. Мы только предполагаем, что Стояновский н зять Укладникова, Кравчук, кажется, не находились в этот день в городе Что вы сделали, чтобы удостоверить их алиби? — По месту работы Кравчука послан запрос, но ответа еще нет. — А Стояновский? — Тут хуже. По словам Семенистого, он выехал в отпуск двенадцатого апреля. Но куда именно, выяснить пока не удалось. — На работе не знают? — Сказал: «Побродить по Крыму еду, весну посмотреть». — «Побродить»… Это довольно неопределенно. Так говорят случайному знакомому. Мне кажется, что в Геологическом управлении, где Стояновский, кстати, работает второй год, у него должны быть и более близкие люди. Вам следовало поискать их. Вадим. Мазин сказал это не строго, но все-таки суховато и тут же заметил, как лейтенант по-детски надул губы.
— Ну-ну, Вадим! Я понимаю, что у вас было мало времени.
Но Козельский не обиделся. Он огорчился. О Стояновском Вадим узнал почти все, что можно было узнать за такой короткий срок. И то, что Мазин не понял этого сразу, расстроило лейтенанта. «Значит, не доказал я еще, что на меня можно полностью положиться».
— Кое-что я все-таки узнал, Игорь Николаевич.
По этому «кое-что» Мазин догадался, что Козельский узнал немало, и пожалел о своем упреке.
Вадима он любил и только поэтому изредка позволял себе подтрунивать над ним. Временами ему казалось, что лейтенанту не хватает инициативы — вернее, расторопности, живинки. Тогда он иронизировал, стараясь делать это не обидно. «Парня нужно будоражить, пробуждать честолюбие, слабенький раствор кислоты очищает металл, полирует его».
— Что же вы узнали, Вадим?
— Дело в том, Игорь Николаевич, что у Стояновского действительно нет близких людей в управлении. Вспыльчивый он, неуживчивый…
— Характер мешает?
— Нет. Думаю, что обстоятельства. У меня сложилось впечатление, что Стояновский недоволен своей работой.
— Бродить любит, а геология не нравится?
— Геология как раз нравится. Но работать ему приходится не в партиях, а в конторе. Вот это не нравится.
— Почему же он сидит в конторе?
— По болезни. С легкими непорядок. Мечтал, конечно, о тайге, пустынях, джунглях, может быть, а тут сиди, смотри в окошко на стенку соседнего дома.
— Невесело. Здоровые же товарищи, которые сидят по доброй воле, уважением Стояновского не пользуются. Так?
— Вот именно, — обрадовался Вадим тому, что Мазин поддержал его мысль. — Ругается он со всеми. А отпуск все-таки проводит поближе к природе. Может, он и сам не знал точно, куда едет.
— Возможно. Хотя было бы лучше, если б Стояновский взял путевку в санатории, а не шатался черт те где. И ему было бы лучше и нам. Впрочем, Стояновский пока фигура второстепенная, и я надеюсь, что он действительно на юге. Но мы немножко отвлеклись. А говорили мы о том, что интересующий нас человек — необязательно Семенистый. Вы согласны с этим, Вадим?
— Конечно. Но вы сказали: «по двум причинам». Какая же вторая?
— Вторую, Вадим, простите, я сейчас не назову. Она немного несерьезная. Не хочу подрывать свой авторитет в ваших глазах.
— Хотите, чтоб я сам догадался?
Мазин усмехнулся:
— Нет. Пока у нас достаточно и реальных предположений. Все мы вспомнили?
— Как будто.
— «Как будто» мало. Нужно точнее.
Он вернулся к столу и перелистал «Дело».
— Кое-что мы, несомненно, знаем, но, хотя я и доказывал вам обратное, не очень много. Поэтому приходится дорожить каждой крупицей собранного. Может быть, нужная ниточка потянется через этот лабиринт от мелочи, которую мы не заметили. Всякие смешные истории бывают. Недавно мой сын притащил журнал «Знание — сила» с криминалистическими задачами. Одна такая: украдена ценная вещь из шкафа. Подозревают брата хозяина и постороннего. Отпечатки пальцев тщательно затерты. Кто украл?
— Дайте сообразить…
— Да нечего соображать, посторонний украл. Брату-то не надо было свои отпечатки затирать. Сын эго раньше меня сообразил. Вот видите! Кстати, наш «друг» в больших ботинках тоже отпечатков пальцев не оставил. Да вот еще…
Мазин достал из папки синий конверт.
— Вы ничего не нашли странного в этом письме?
— Если только оно не зашифровано.
— Нет, оно, конечно, не шифрованное. Обыкновенное. Послано Укладникову из Тригорска, — Мазин посмотрел на штемпель, — двенадцатого апреля, то есть в тот же день, когда Стояновский выехал в Крым, и получено здесь пятнадцатого апреля. Вернее, не получено, а изъято нами из почтового ящика в квартире Кравчука через два дня после того, как адресат, скажем так, лишился возможности его получить. Содержание простое: «Здравствуйте… как живете… что делаете… в гости больше не зову, но всегда буду рада… дай бог здоровья…» Пишет Дубинина В. И пишет, между прочим, вот что: «В прошлом письме я вам уже сообщала, Иван Кузьмич, что взяла сторожа…» Имеется в виду собака Рекс, но не в ней дело. Важно — «в прошлом письме». И основной пока наш свидетель, Семенистый, подтвердил, что Укладников получал письма от Дубининой из Тригорска. Он сам не раз брал их из почтового ящика. Значит, писем было несколько. Но ни одного из них мы в квартире не нашли.
— Может, письма такие были, что хранить не стоило?
— Не похоже это на Укладникова. Он человек обстоятельный. Например, от дочери все письма собраны в порядке поступления и лежат в шкатулке. А от Дубининой — ни одного.
— Да кто она ему, Дубинина?
— Это нужно узнать. Во всяком случае, единственный, кроме дочки, человек за пределами города, с которым Укладников поддерживал отношения.
— Выясним, Игорь Николаевич. — Лейтенант сделал пометку в записной книжке.
— Обязательно. И здесь может найтись интересная ниточка, хотя сама Дубинина к последним событиям отношения, видимо, не имеет.
Мазин посмотрел на часы:
— Ого! Засиделись мы с вами, Козельский. В общем, как говорилось в одном фильме, популярном в дни моего детства, — дело ясное, что дело темное. Работать нужно, Вадим. Потеть. Когда человек много над чем-то потеет, ему начинает везти. Даже счастливые случайности появляются.
Он еще не сказал этого слова — «случайности», когда зазвонил телефон. Мазин взял трубку, глядя на Козельского с улыбкой.
— Слушаю.
Вадим поднялся, одергивая китель.
— Что, что? — посерьезнел вдруг Мазин. — Чемодан из Берегового? Так, так… Какие вещи?
Он прижал трубку плечом и тихо попросил Козельского:
— Вадим. Карандаш и бумагу, скорее!
И, продолжая придерживать плечом трубку, начал быстро записывать.
— Окровавленная рубашка… ботинки лыжные сорок четвертого размера… топорик туристский… Так. Ну конечно. Немедленно.
Пока Мазин разговаривал, Козельский чуть не сгорел от нетерпения.
— Что произошло, Игорь Николаевич?
Вместо ответа Мазин сказал:
— Немедленно вызовите Семенистого. Если он опознает вещи, придется заняться Стояновским. На рубашке метка из прачечной — «Б.С.».
Мазин сказал это не строго, но все-таки суховато и тут же заметил, как лейтенант по-детски надул губы.
— Ну-ну, Вадим! Я понимаю, что у вас было мало времени.
Но Козельский не обиделся. Он огорчился. О Стояновском Вадим узнал почти все, что можно было узнать за такой короткий срок. И то, что Мазин не понял этого сразу, расстроило лейтенанта. «Значит, не доказал я еще, что на меня можно полностью положиться».
— Кое-что я все-таки узнал, Игорь Николаевич.
По этому «кое-что» Мазин догадался, что Козельский узнал немало, и пожалел о своем упреке.
Вадима он любил и только поэтому изредка позволял себе подтрунивать над ним. Временами ему казалось, что лейтенанту не хватает инициативы — вернее, расторопности, живинки. Тогда он иронизировал, стараясь делать это не обидно. «Парня нужно будоражить, пробуждать честолюбие, слабенький раствор кислоты очищает металл, полирует его».
— Что же вы узнали, Вадим?
— Дело в том, Игорь Николаевич, что у Стояновского действительно нет близких людей в управлении. Вспыльчивый он, неуживчивый…
— Характер мешает?
— Нет. Думаю, что обстоятельства. У меня сложилось впечатление, что Стояновский недоволен своей работой.
— Бродить любит, а геология не нравится?
— Геология как раз нравится. Но работать ему приходится не в партиях, а в конторе. Вот это не нравится.
— Почему же он сидит в конторе?
— По болезни. С легкими непорядок. Мечтал, конечно, о тайге, пустынях, джунглях, может быть, а тут сиди, смотри в окошко на стенку соседнего дома.
— Невесело. Здоровые же товарищи, которые сидят по доброй воле, уважением Стояновского не пользуются. Так?
— Вот именно, — обрадовался Вадим тому, что Мазин поддержал его мысль. — Ругается он со всеми. А отпуск все-таки проводит поближе к природе. Может, он и сам не знал точно, куда едет.
— Возможно. Хотя было бы лучше, если б Стояновский взял путевку в санатории, а не шатался черт те где. И ему было бы лучше и нам. Впрочем, Стояновский пока фигура второстепенная, и я надеюсь, что он действительно на юге. Но мы немножко отвлеклись. А говорили мы о том, что интересующий нас человек — необязательно Семенистый. Вы согласны с этим, Вадим?
— Конечно. Но вы сказали: «по двум причинам». Какая же вторая?
— Вторую, Вадим, простите, я сейчас не назову. Она немного несерьезная. Не хочу подрывать свой авторитет в ваших глазах.
— Хотите, чтоб я сам догадался?
Мазин усмехнулся:
— Нет. Пока у нас достаточно и реальных предположений. Все мы вспомнили?
— Как будто.
— «Как будто» мало. Нужно точнее.
Он вернулся к столу и перелистал «Дело».
— Кое-что мы, несомненно, знаем, но, хотя я и доказывал вам обратное, не очень много. Поэтому приходится дорожить каждой крупицей собранного. Может быть, нужная ниточка потянется через этот лабиринт от мелочи, которую мы не заметили. Всякие смешные истории бывают. Недавно мой сын притащил журнал «Знание — сила» с криминалистическими задачами. Одна такая: украдена ценная вещь из шкафа. Подозревают брата хозяина и постороннего. Отпечатки пальцев тщательно затерты. Кто украл?
— Дайте сообразить…
— Да нечего соображать, посторонний украл. Брату-то не надо было свои отпечатки затирать. Сын эго раньше меня сообразил. Вот видите! Кстати, наш «друг» в больших ботинках тоже отпечатков пальцев не оставил. Да вот еще…
Мазин достал из папки синий конверт.
— Вы ничего не нашли странного в этом письме?
— Если только оно не зашифровано.
— Нет, оно, конечно, не шифрованное. Обыкновенное. Послано Укладникову из Тригорска, — Мазин посмотрел на штемпель, — двенадцатого апреля, то есть в тот же день, когда Стояновский выехал в Крым, и получено здесь пятнадцатого апреля. Вернее, не получено, а изъято нами из почтового ящика в квартире Кравчука через два дня после того, как адресат, скажем так, лишился возможности его получить. Содержание простое: «Здравствуйте… как живете… что делаете… в гости больше не зову, но всегда буду рада… дай бог здоровья…» Пишет Дубинина В. И пишет, между прочим, вот что: «В прошлом письме я вам уже сообщала, Иван Кузьмич, что взяла сторожа…» Имеется в виду собака Рекс, но не в ней дело. Важно — «в прошлом письме». И основной пока наш свидетель, Семенистый, подтвердил, что Укладников получал письма от Дубининой из Тригорска. Он сам не раз брал их из почтового ящика. Значит, писем было несколько. Но ни одного из них мы в квартире не нашли.
— Может, письма такие были, что хранить не стоило?
— Не похоже это на Укладникова. Он человек обстоятельный. Например, от дочери все письма собраны в порядке поступления и лежат в шкатулке. А от Дубининой — ни одного.
— Да кто она ему, Дубинина?
— Это нужно узнать. Во всяком случае, единственный, кроме дочки, человек за пределами города, с которым Укладников поддерживал отношения.
— Выясним, Игорь Николаевич. — Лейтенант сделал пометку в записной книжке.
— Обязательно. И здесь может найтись интересная ниточка, хотя сама Дубинина к последним событиям отношения, видимо, не имеет.
Мазин посмотрел на часы:
— Ого! Засиделись мы с вами, Козельский. В общем, как говорилось в одном фильме, популярном в дни моего детства, — дело ясное, что дело темное. Работать нужно, Вадим. Потеть. Когда человек много над чем-то потеет, ему начинает везти. Даже счастливые случайности появляются.
Он еще не сказал этого слова — «случайности», когда зазвонил телефон. Мазин взял трубку, глядя на Козельского с улыбкой.
— Слушаю.
Вадим поднялся, одергивая китель.
— Что, что? — посерьезнел вдруг Мазин. — Чемодан из Берегового? Так, так… Какие вещи?
Он прижал трубку плечом и тихо попросил Козельского:
— Вадим. Карандаш и бумагу, скорее!
И, продолжая придерживать плечом трубку, начал быстро записывать.
— Окровавленная рубашка… ботинки лыжные сорок четвертого размера… топорик туристский… Так. Ну конечно. Немедленно.
Пока Мазин разговаривал, Козельский чуть не сгорел от нетерпения.
— Что произошло, Игорь Николаевич?
Вместо ответа Мазин сказал:
— Немедленно вызовите Семенистого. Если он опознает вещи, придется заняться Стояновским. На рубашке метка из прачечной — «Б.С.».
IV
Еще лет десять назад Береговое было небольшим шахтерским поселком с черными терриконами, по склонам которых неторопливо ползли маленькие вагончики с породой, и тихими улицами, где возле выбеленных домиков горняки заботливо растили неприхотливые степные сады. Но вот потянулись на станцию возле шахты составы, приехали в поселок новые люди, и в стороне, где зеленые улицы упирались в крутой берег реки, руки человеческие разбросали по полю огромные и причудливые сооружения, переплетенные змеями труб, — появился химкомбинат. За рекой встал новый город, непохожий на старый поселок: многоэтажные дома для рабочих, итээровские коттеджи, клуб с колоннами, магазины с зеркальными витринами и, наконец, первая гостиница, обильно оснащенная плюшем и «мишками на лесозаготовках». В гостинице этой и остановился лейтенант Козельский, похожий в штатском костюме на молодого командированного инженера. Но в папке у лейтенанта находились не чертежи и не сметы, а несколько крупных фотографий, на одной из которых был снят Борис Стояновский, подозреваемый в убийстве Укладникова. Впрочем, первое, что пришло в голову, когда они с Мазиным увидели чемодан, была мысль о том, что убит и сам Стояновский. Принадлежность вещей не вызывала сомнений. Подтвердил это Семенистый: — Борькино хозяйство. И топорик его. — Обоих убили! — ахнул Вадим. Мазин рассматривал окровавленную рубашку. — Не многовато ли? Может быть, все-таки одного? Посмотрите на эти пятна. — Мы же не знаем группу крови. — Я не про группу. Обратите внимание на характер пятен. Рубашка не залита, а испачкана, даже вымазана кровью. Однако самой веской уликой оказался топорик: маленький, с металлическим топорищем и острым, недавно заточенным лезвием, к которому прилипло несколько волосков. Коротких темных волосков, которые никак не могли принадлежать рыжему Стояновскому. — И все-таки, Игорь Николаевич, почему он все это не сжег в топке? — Ну, топорик, положим, жечь бесполезно, а ботинки… Не мог же он уйти из котельной босиком? Холодно, да и подозрительно. — А зачем было везти вещи в Береговое? — Нужно было избавиться от них. Не так уж глупо сунуть чемодан в пустой вагон на небольшой станции. Его могли обнаружить и за тысячу километров отсюда. — Хитро придумано. Значит, Стояновский убил? Мазин пожал плечами: — С уверенностью можно сказать только одно: следы в комнате оставлены его ботинками. Все остальное — предположения. И очень много совершенно неясного. Ведь, по нашим данным, Стояновский уехал в отпуск двенадцатого, но в этот день Укладников был еще жив и здоров, и в чемодане Стояновского никак не могли находиться вещи, связанные с убийством. Остается предположение, что он вернулся с дороги (или совсем не уезжал), убил Укладникова и снова уехал. И тогда уже подбросил чемодан в пустой вагон в Береговом. Очень сложно. Но ничего попроще, к сожалению, не приходит в голову. Пока Стояновский — наиболее реальная версия. Ею и придется заняться. Так начался поиск. Начало пути обычно кажется легким. Повезло на первых порах и Вадиму. Эдик Семенистый определенно подтвердил, что геолог уехал двенадцатого: «Это точно. Мягким махнул. Так и сказал: «Гулять так гулять!» И хотя лейтенант полагал, что никуда Стояновский двенадцатого не уезжал, он все-таки разыскал на вокзале проводницу вагона, в котором мог ехать геолог, и развернул перед ней веер фотоснимков, почти уверенный в том, что проводница не найдет среди них знакомого лица. Получилось совсем не так. — Этот, рыженький. — Она без всяких колебаний ткнула пальцем в нужное фото, хотя Стояновский на снимке выглядел скорее темным. Поговорить тетка любила. — Моя б воля, молодой человек, я б вашего брата, одинокого мужика, вообще б в поездах не возила. Самолетом летайте лучше. Стоит столько же, летит быстро, девки смазливые пассажиров обслуживают — чего лучше? А у нас как сядет такой — хоть в отпуск, хоть в командировку, — сразу либо в купе бутылки тащит, либо в ресторане наберется так, что и нам беспокойство одно и другим пассажирам, особенно если люди пожилые, покой любят… — Значит, этот тоже напился? — прервал словоохотливую проводницу Козельский. — Да ты знаешь, парень, как тебе сказать… Может, он бы и не напился, если б его тот хромой не разыскал. — Что еще за хромой? — Будто я знаю. С другого вагона. Пришел к нам и заглядывает по купе. А я эту публику сразу вижу. Спрашиваю: «Вам кого здесь, гражданин, нужно?» Он тогда: «Я тут одного молодого человека ищу». — «Что за человек, какой из себя?» — «Рыжеватый должен быть», — говорит. Я его проводила, конечно. Правда, сначала они так уставились друг на дружку, вроде бы и не знают один другого. А потом хромой спрашивает: «Ваша фамилия будет?..» Ну, фамилию я, парень, запамятовала. Да и вообще тут я из купе вышла, потому что неделикатно при чужом разговоре присутствовать. — Как выглядел хромой? — Обыкновенно. Немолодой уже, в годах мужчина, хотя и не толстый. — Хорошо, — лейтенант вздохнул. — Напились они, значит, вместе? Проводница проявила некоторое колебание: — В ресторане они пили. Посидели в купе немножко, а потом рыженький выскакивает, веселый такой, и ко мне: «Мамаша, в какой стороне ресторан у вас?» Ну, думаю, вырвался, голубь. Показала, конечно. Пошел он с этим хромым. Пошел — и нету. Пассажиров-то немного было, каждого видно. «Ай-я-яй, — думаю, — на ногах не вернется». А он еще лучше отмочил. Почему я его и запомнила. Один вернулся и говорит: «Дайте билет, мамаша, мне в Береговом сойти срочно нужно…» — Где? — изумился лейтенант. — А в Береговом, в Береговом, — охотно подтвердила женщина. — И вроде не очень пьяный. Да ихнего брата разве поймешь, алкоголиков проклятых? Другой и на ногах стоит, а такое устроит. Вот был со мной случай… Но случай Козельского не заинтересовал. Он и так узнал много. Даже то, что проводница не запомнила, куда был билет у «рыженького», не особенно огорчило его. Мазин тоже казался довольным: — Эффектное начало. Итак, Береговое из случайности начинает перерастать в нечто закономерное. Придется вам туда отправиться, Вадим, и покопать на месте поглубже. Но сначала сходите-ка в вагон-ресторан. Иногда официанты запоминают интересные вещи. И действительно, официантке из крымского поезда лицо Стояновского тоже оказалось знакомым. — Был у нас этот парень. Долго сидел, помню. — Много пил? — Нет, не так чтоб очень… — Не запомнили, с кем он сидел? — Кажется, пожилой такой мужчина. Прихрамывал. А может, и не прихрамывал. Нет, толком не помню. Много их у нас бывает. — Разговаривали между собой? — Да все разговаривают. Ресторан же. Но нам их слушать некогда. Ничего больше о пожилом прихрамывающем человеке, которого Козельский мысленно прозвал «инвалидом», узнать не удалось. Но в Береговом лейтенанта ждала еще одна удача. Стояновский останавливался в гостинице. В книге, куда администратор каллиграфическим почерком записывал приезжих, черным по белому значилось — Стояновский Борис Витальевич. Приехал двенадцатого апреля, выехал — четырнадцатого. Цель приезда — командировка. Отсюда и начались осложнения. Ни на одном предприятии о Стояновском, разумеется, никто не слышал. Не мог он приехать и к близкому человеку. Зачем было бы тогда останавливаться в гостинице? Что же делал здесь два дня Борис Стояновский? Об этом думал Козельский, лежа на неразобранной постели и рассматривая фото геолога. Снимок он изучил до мельчайших деталей и не сомневался, что легко узнал бы Стояновского при встрече, но что-то беспокоило в нем лейтенанта, много неясного оставалось в этом снимке. Насколько определенны были внешние черты, настолько не улавливался характер. А Козельскому хотелось представить себе этого человека изнутри, его мысли, желания. Но не тут-те было! Стояновский терялся за своей фотографией — самое обыкновенное, заурядное лицо. Мазин говорил: «Поймите преступника — и вы уже наполовину поймали его». А Козельский лежал и не мог пенять, кто же перед ним — расчетливый убийца и грабитель, человек, мстящий за несмываемую обиду, или просто неуравновешенный субъект, случайно погубивший чужую и свою жизни? Все это предстояло выяснить, но пока что поиск, кажется, зашел в тупик. Надев пиджак и подтянув галстук, Козельский спустился на первый этаж к администратору.
Администратор, видимо, не так давно демобилизовался из армии. Это заметно было и по его новому офицерскому кителю без погон, и особенно по его манере держаться — умению слушать и отвечать на вопросы ясно и коротко.
— Простите, пришлось вас еще разок побеспокоить.
— Прошу, пожалуйста.
— Мне бы хотелось узнать, Стояновский останавливался в отдельном номере или в общем?
— Одну минутку. — Администратор полистал книгу приезжих. — Вот и соответствующая запись: номер двадцать три, второй этаж, двухместный.
— А нельзя ли взглянуть, кто жил вместе с ним?
— Конечно, можно. Прошу, пожалуйста. Брусков, корреспондент областной молодежной газеты.
При упоминании этой газеты Козельский поморщился. Вспомнил заметку, казавшуюся его лично. «На пути опасного преступника, — писал корреспондент, — вырос лейтенант Козельский». А дело-то было пустяковое. Потом ребята долго смеялись: «Вырос, а ума не вынес». Может быть, поэтому Вадим и не обратил внимания на фамилию Брусков, хотя она и показалась ему знакомой. Главным было то, что человека, жившего в одной комнате со Стояновским, можно разыскать.
— Разрешите записать? — Лейтенант протянул руку за книгой.
— Прошу, пожалуйста. Если желаете, вы этого товарища повидать можете. Товарищ Брусков сейчас живет в тридцать втором номере. Он работает над очерком о наших подпольщиках периода Великой Отечественной войны.
— Спасибо.
Козельский ринулся на третий этаж.
Тридцать второй номер оказался местным «люксом». Душ в нем, правда, временно не работал, зато плюша было больше, чем в комнате Козельского. Лейтенант ожидал увидеть пишущую машинку, пожелтевшие документы и стопку исписанных листков, но на столе у Брускова стояла обыкновенная банка с кабачковой икрой и лежало полбатона. Журналист подкреплял силы.
— Извините за вторжение.
Брусков смутился и стал сгребать со стола хлебные крошки.
— У меня к вам один вопрос.
Козельский протянул служебное удостоверение.
Валерий попытался накрыть икру и батон газетой.
— Очень приятно, очень приятно…
— Нужна ваша помощь. Конкретно вот что. Не встречался ли вам один из этих людей?
Вадим положил на стол фотографии.
Брусков перебрал их, поднося близко к носу, и после некоторого раздумья отложил снимок Стояновского.
— Это лицо мне знакомо.
— Где вы с ним встречались?
— Здесь, в гостинице. Мы жили в одном номере. Я тогда очерк писал — вернее, материал собирал, на химкомбинате. Это когда я узнал о Розе Ковальчук…
— Кто такая Роза Ковальчук?
— Героическая девушка. Разведчица партизанская.
— А… А об этом парне вы что-нибудь знаете?
— О нем ничего не знаю. Даже как зовут, не знаю. Да мы и не разговаривали ни разу. Он приехал, я спал. Утром ушел рано. Поток я видел его у дежурной. Вот и все. Больше не видел.
— И все-таки запомнили его неплохо?
Брусков потер пальцами подбородок.
— Видите ли, когда я увидел ботинки…
— Какие ботинки?
— В чемодане, в поезде…
Козельский даже хлопнул себя по лбу. Как же он сразу не вспомнил. Ну конечно, Брусков! Тот самый Брусков.
— Так это вы нашли чемодан?
— Ну да, я.
— Здорово! Меня зовут Вадим, между прочим.
Это «между прочим» Козельский позаимствовал у Мазина.
— А я Валерий.
— Слушай, Валерий, я читал твои показания, но там ни слова насчет ботинок, что они тебе известны.
— Я это сам только сейчас понял. Тогда я переволновался. Впервые пришлось с живым вором дело иметь. Да и огрел он меня так, что нога до сих пор болит. Так что про ботинки эти я тогда и не вспомнил. А потом стало что-то мерещиться. Как будто видел я где-то эти ботинки. Понятно, сначала подумал, что воображение разыгралось — мало ли таких «сапог»! А сейчас точно вспомнил, когда фото увидал. Я спал, а он вошел, топал этими ботинками, разбудил меня. Я лежал, злился. Ну вы-то хоть убийцу его нашли?
— Вот что, Валерий, — Козельский не ответил. — Я тебе, понимаешь, всего рассказать не могу. Но очень важно, что этот парень здесь делал, в Береговом. Может, что мелькнет у тебя в памяти, а?
Брусков покачал головой:
— Ничего. Если б знать такую петрушку…
Козельский засмеялся.
— Все так. «Если б знать…»
— Постой. Кажется, мелькнуло немного. Он у дежурной насчет оранжереи спрашивал. «Где у вас в городе оранжерея? Цветы там купить нельзя?» Я только обрывки разговора слышал.
Оранжереи в Береговом не оказалось. Было «Парниковое хозяйство химкомбината», которое Козельский обнаружил на самой окраине после долгих поисков. Когда он вошел под стеклянную крышу, где выращивали красивые, похожие на лотос белые цветы с незнакомым названием «калы», то вспомнил самшитовую рощу под Хостой. Было жарко и сыро. Толстая женщина в грязном платье с короткими рукавами разгребала жирную черную землю.
— Простите, мне нужно поговорить с вами.
Женщина глянула на него недружелюбно.
— Вы работали здесь тринадцатого апреля?
— Если не воскресенье, так работала.
Мимо прошла девушка в розовом платочке и пальто — видно, собралась уходить. Но приостановилась, прислушиваясь к разговору.
— В этот день у вас покупал цветы один молодой человек…
— Никто у нас ничего не покупал. Мы только для организаций цветы продаем.
Девушка пошла к выходу.
— Ему были очень нужны цветы.
— Понятия не имею Мы такими делами не занимаемся.
— Но, может, не вы, а кто-нибудь другой из ваших работников?
— Без меня тут никто не распоряжается.
Осечка вышла полная. Козельский, ругаясь про себя, вернулся на автобусную остановку. Там под навесом стояла девушка в платочке.
— Товарищ, вы не рыженького такого спрашивали?
— Вот этого. — Козельский от волнения забыл развернуть весь веер. Достал одну карточку.
Девушка закивала:
— Покупал он цветы, покупал. Только Матрене не говорите, что я сказала. Это ж не полагается, отдельным гражданам продавать. Она не хотела сначала, а он говорит: «Мне очень нужно, я заплачу, сколько вы скажете». Кажется, по рублю за цветок с него содрала.
— Золото мое! — обрадовался Козельский. — Как вас зовут-то?
— Я не скажу. Матрену боюсь.
— Ладно. Пусть это будет наша тайна. А для чего ему цветы нужны были?
— Не знаю. Не говорил. Сказал, очень нужны — и все. Я рядом работала, весь разговор слыхала. Зачем — не говорил.
— Ну и за то спасибо.
Подошел автобус. Козельский хотел было подсадить девушку, но она замотала головой:
— Мне другой нужен.
Козельский уехал одни. Он был доволен собой. Нитка тянулась.
Сошел лейтенант на главной площади, где на бетонном постаменте зеленый танк с пробоиной в борту указывал на запад коротким орудийным стволом. Рядом стоял памятник погибшим подпольщикам-комсомольцам. Список фамилий на гранитной плите и даты: первые цифры разные, вторые одинаковые — 1942. «Моложе меня ребята были», — подумал Козельский. И пошел через площадь к гостинице, представляя, как закончит свой доклад Мазину словами: «Думаю, Игорь Николаевич, что, как говорят французы, нужно искать женщину».
Надев пиджак и подтянув галстук, Козельский спустился на первый этаж к администратору.
Администратор, видимо, не так давно демобилизовался из армии. Это заметно было и по его новому офицерскому кителю без погон, и особенно по его манере держаться — умению слушать и отвечать на вопросы ясно и коротко.
— Простите, пришлось вас еще разок побеспокоить.
— Прошу, пожалуйста.
— Мне бы хотелось узнать, Стояновский останавливался в отдельном номере или в общем?
— Одну минутку. — Администратор полистал книгу приезжих. — Вот и соответствующая запись: номер двадцать три, второй этаж, двухместный.
— А нельзя ли взглянуть, кто жил вместе с ним?
— Конечно, можно. Прошу, пожалуйста. Брусков, корреспондент областной молодежной газеты.
При упоминании этой газеты Козельский поморщился. Вспомнил заметку, казавшуюся его лично. «На пути опасного преступника, — писал корреспондент, — вырос лейтенант Козельский». А дело-то было пустяковое. Потом ребята долго смеялись: «Вырос, а ума не вынес». Может быть, поэтому Вадим и не обратил внимания на фамилию Брусков, хотя она и показалась ему знакомой. Главным было то, что человека, жившего в одной комнате со Стояновским, можно разыскать.
— Разрешите записать? — Лейтенант протянул руку за книгой.
— Прошу, пожалуйста. Если желаете, вы этого товарища повидать можете. Товарищ Брусков сейчас живет в тридцать втором номере. Он работает над очерком о наших подпольщиках периода Великой Отечественной войны.
— Спасибо.
Козельский ринулся на третий этаж.
Тридцать второй номер оказался местным «люксом». Душ в нем, правда, временно не работал, зато плюша было больше, чем в комнате Козельского. Лейтенант ожидал увидеть пишущую машинку, пожелтевшие документы и стопку исписанных листков, но на столе у Брускова стояла обыкновенная банка с кабачковой икрой и лежало полбатона. Журналист подкреплял силы.
— Извините за вторжение.
Брусков смутился и стал сгребать со стола хлебные крошки.
— У меня к вам один вопрос.
Козельский протянул служебное удостоверение.
Валерий попытался накрыть икру и батон газетой.
— Очень приятно, очень приятно…
— Нужна ваша помощь. Конкретно вот что. Не встречался ли вам один из этих людей?
Вадим положил на стол фотографии.
Брусков перебрал их, поднося близко к носу, и после некоторого раздумья отложил снимок Стояновского.
— Это лицо мне знакомо.
— Где вы с ним встречались?
— Здесь, в гостинице. Мы жили в одном номере. Я тогда очерк писал — вернее, материал собирал, на химкомбинате. Это когда я узнал о Розе Ковальчук…
— Кто такая Роза Ковальчук?
— Героическая девушка. Разведчица партизанская.
— А… А об этом парне вы что-нибудь знаете?
— О нем ничего не знаю. Даже как зовут, не знаю. Да мы и не разговаривали ни разу. Он приехал, я спал. Утром ушел рано. Поток я видел его у дежурной. Вот и все. Больше не видел.
— И все-таки запомнили его неплохо?
Брусков потер пальцами подбородок.
— Видите ли, когда я увидел ботинки…
— Какие ботинки?
— В чемодане, в поезде…
Козельский даже хлопнул себя по лбу. Как же он сразу не вспомнил. Ну конечно, Брусков! Тот самый Брусков.
— Так это вы нашли чемодан?
— Ну да, я.
— Здорово! Меня зовут Вадим, между прочим.
Это «между прочим» Козельский позаимствовал у Мазина.
— А я Валерий.
— Слушай, Валерий, я читал твои показания, но там ни слова насчет ботинок, что они тебе известны.
— Я это сам только сейчас понял. Тогда я переволновался. Впервые пришлось с живым вором дело иметь. Да и огрел он меня так, что нога до сих пор болит. Так что про ботинки эти я тогда и не вспомнил. А потом стало что-то мерещиться. Как будто видел я где-то эти ботинки. Понятно, сначала подумал, что воображение разыгралось — мало ли таких «сапог»! А сейчас точно вспомнил, когда фото увидал. Я спал, а он вошел, топал этими ботинками, разбудил меня. Я лежал, злился. Ну вы-то хоть убийцу его нашли?
— Вот что, Валерий, — Козельский не ответил. — Я тебе, понимаешь, всего рассказать не могу. Но очень важно, что этот парень здесь делал, в Береговом. Может, что мелькнет у тебя в памяти, а?
Брусков покачал головой:
— Ничего. Если б знать такую петрушку…
Козельский засмеялся.
— Все так. «Если б знать…»
— Постой. Кажется, мелькнуло немного. Он у дежурной насчет оранжереи спрашивал. «Где у вас в городе оранжерея? Цветы там купить нельзя?» Я только обрывки разговора слышал.
Оранжереи в Береговом не оказалось. Было «Парниковое хозяйство химкомбината», которое Козельский обнаружил на самой окраине после долгих поисков. Когда он вошел под стеклянную крышу, где выращивали красивые, похожие на лотос белые цветы с незнакомым названием «калы», то вспомнил самшитовую рощу под Хостой. Было жарко и сыро. Толстая женщина в грязном платье с короткими рукавами разгребала жирную черную землю.
— Простите, мне нужно поговорить с вами.
Женщина глянула на него недружелюбно.
— Вы работали здесь тринадцатого апреля?
— Если не воскресенье, так работала.
Мимо прошла девушка в розовом платочке и пальто — видно, собралась уходить. Но приостановилась, прислушиваясь к разговору.
— В этот день у вас покупал цветы один молодой человек…
— Никто у нас ничего не покупал. Мы только для организаций цветы продаем.
Девушка пошла к выходу.
— Ему были очень нужны цветы.
— Понятия не имею Мы такими делами не занимаемся.
— Но, может, не вы, а кто-нибудь другой из ваших работников?
— Без меня тут никто не распоряжается.
Осечка вышла полная. Козельский, ругаясь про себя, вернулся на автобусную остановку. Там под навесом стояла девушка в платочке.
— Товарищ, вы не рыженького такого спрашивали?
— Вот этого. — Козельский от волнения забыл развернуть весь веер. Достал одну карточку.
Девушка закивала:
— Покупал он цветы, покупал. Только Матрене не говорите, что я сказала. Это ж не полагается, отдельным гражданам продавать. Она не хотела сначала, а он говорит: «Мне очень нужно, я заплачу, сколько вы скажете». Кажется, по рублю за цветок с него содрала.
— Золото мое! — обрадовался Козельский. — Как вас зовут-то?
— Я не скажу. Матрену боюсь.
— Ладно. Пусть это будет наша тайна. А для чего ему цветы нужны были?
— Не знаю. Не говорил. Сказал, очень нужны — и все. Я рядом работала, весь разговор слыхала. Зачем — не говорил.
— Ну и за то спасибо.
Подошел автобус. Козельский хотел было подсадить девушку, но она замотала головой:
— Мне другой нужен.
Козельский уехал одни. Он был доволен собой. Нитка тянулась.
Сошел лейтенант на главной площади, где на бетонном постаменте зеленый танк с пробоиной в борту указывал на запад коротким орудийным стволом. Рядом стоял памятник погибшим подпольщикам-комсомольцам. Список фамилий на гранитной плите и даты: первые цифры разные, вторые одинаковые — 1942. «Моложе меня ребята были», — подумал Козельский. И пошел через площадь к гостинице, представляя, как закончит свой доклад Мазину словами: «Думаю, Игорь Николаевич, что, как говорят французы, нужно искать женщину».
V
Свободными вечерами Мазин любил бродить по городу. Был у него и любимый маршрут. Через шумный; в разноцветных неоновых бликах центр, где люди всегда спешат — кто на встречу со счастьем, а больше на очередной сеанс в кино, он спускался к набережной и шел вдоль реки, мимо остановившихся отдохнуть у стенки теплоходов, слушал, как где-нибудь в тесной рубке вахтенный крутит со скуки старые пластинки, смотрел, как светятся из глубины отражения звезд и огней на мачтах, дышал сырым, набегающим со стороны моря воздухом и у железнодорожного моста поднимался снова наверх, проходил тихими старыми улочками, где под акациями, на самодельных скамеечках, судачили уставшие за день женщины. А потом перед ним вырастало большое, построенное почти сто лет назад здание вокзала, и он опять попадал в мир суеты, шума, мчащихся машин, кафетериев с прозрачными стеклянными стенками, где пили вино, смеялись и не обращали внимания на человека, который шел неторопливым шагом, держа руки в карманах плаща. Маршрут этот был любимым, потому что Мазин знал здесь каждое здание и ничто не отвлекало его, не мешало думать. Такая уж у него была работа, и он никогда не жалел, что выбрал ее. В свое время ему предлагали и аспирантуру, и другие более спокойные и лучше оплачиваемые места. Он отказывался, хотя друзья сочувствовали и посмеивались над «увлечением детективщиной». Его считали чудаком, но все это было в прошлом. Друзья разбрелись по свету. Мазина давно уже не числили в молодых, никто больше над ним не смеялся, потому что никто не смеется над человеком, выбравшим трудную и нужную профессию на всю жизнь и оказавшимся, как говорится, на своем месте. И сам Мазин хорошо знал, что он «человек на месте», как знали это и те, кто руководил им, и те, кем руководил он. Знал и от этого чувствовал ту необходимую уверенность в себе, без которой немыслимо любое большое дело. Он умел не обольщаться легкими удачами и не падать духом, когда, казалось, заходил в тупик. Мазин всегда ощущал превосходство над своим противником, потому что человек, у которого чиста совесть, сильнее в поединке с тем, кто вынужден запутывать следы, преследуемый страхом. Он не может не сделать той единственной ошибки, без которой не обходится ни одно преступление. И каким бы сложным ни казалось ему дело об убийстве Укладникова — а Мазин полагал, что оно принесет еще много неожиданностей, — он не сомневался, что нужная нитка в конце концов попадет ему в руки и он выберется по ней из лабиринта. Правда, кого он встретит на выходе, Мазин еще не знал, потому что даже то «фантастическое» предположение, о котором он не стал говорить Козельскому, пришлось оставить после находки чемодана. Об этой находке думал Мазин и в тот вечер, когда изменил проторенному маршруту. Изменил не намеренно. Он почти с удивлением обнаружил, что идет не по набережной, а в сторону Магистральной, где жил Укладников. Свернул, сам того не заметив, потому что делать там, в квартире, Мазину было нечего. Но, свернув, он подумал, что место событий может натолкнуть на какие-то дополнительные мысли, и не стал исправлять ошибку, а пошел дальше, повинуясь подсознательно принятому решению. Новый район начинался сразу, без подготовки. По одну сторону улицы, бывшей еще недавно последней в городе, тянулись маленькие, построенные три — четыре десятка лет назад домики с садиками и покосившимися заборами, а напротив уже выросли первые постройки опытного микрорайона, опоясанные гирляндами светящихся окон. Мазин прошел через два двора, чтобы сократить путь, и вышел на Магистральную. За последнее время он бывал здесь не раз и легко узнал окна на первом этаже, на углу. Три окна выходили на улицу, а два — в проход между домами. Окна светились обычным желтоватым светом, как и десятки других выше и рядом, но Мазин ощутил тревогу и замедлил шаг: свет горел не в той комнате, где жил Семенистый, а в другой, центральной, где нашли тайник. Впрочем, она не была опечатана. И к окну Мазин подошел не для того, чтобы подсмотреть, а потому, что дорожка асфальта вплотную прижималась к стене. На окне не было штор, и все, что происходило в комнате, было видно каждому прохожему. Но прохожих не могло заинтересовать то, что увидел Мазин. А он увидел такое, что заставило его быстро шагнуть в сторону, хотя находившийся в комнате человек и не мог его заметить, даже если б он смотрел в окно. Но тот и не думал этого делать. Нагнувшись и открыв застекленные дверцы, он внимательно рассматривал шкаф с двойным дном. И даже не шкаф, а именно дно. Почувствовал ли человек в комнате взгляд Мазина или просто уже выяснил все, что ему требовалось, но он резким движениемраспрямил крупное тело и зашагал к двери. И тут же Мазин принял решение. Он быстро обошел дом и вошел в подъезд. Открыли ему сразу, не спрашивая, кто пришел. Перед Мазиным стоял незнакомый человек с широким лицом и густой черной бородой. Он смотрел на Мазина довольно хмуро. — Если не ошибаюсь, товарищ Кравчук? — Не ошибаетесь. И продолжал стоять, загородив дверь своим массивным туловищем. — Разрешите войти. Я не хотел бы представляться через порог. Кравчук сдвинулся с места: — А-а… Вы оттуда? — Оттуда. — Тогда прошу на кухню. Приехал час назад. Еще по успел разобраться. В кухне на полу лежал расстегнутый чемодан на «молнии», а на столе стояла бутылка портвейна и банка рыбных консервов. — Даже не поужинал… Составите компанию? — Спасибо. Я посижу немного. А вы ешьте. Вы получили телеграмму? — Да. На работу пришла. Неожиданно и непонятно. Что тут произошло? Все правда? — Правда. Кравчук кашлянул сердито: — Черт! Какая сволочь могла? — Пока не нашли. Вы приехали один? — Понимаете, получилось как обухом по голове. Растерялся просто. И ничего не сказал. Жалко Светлану. Отец ведь. Объяснить ничего не мог. Решил один поехать, узнать толком. Потом ее подготовить. — Что ж, может быть, это и верно. Дочери тяжелее, чем зятю. — Почему его убили? — Возможно, ограбление. — Ограбление? Что у него грабить? — Иногда из-за десятки убивают. — Мерзавцы. У старика и жизнь не сложилась, да такая смерть… — Что вы имеете в виду? Почему не сложилась? — Просидел десять лет. — Когда? — После войны. — За что? Кравчук махнул тяжелой рукой: — Целая история. Светлана сама не знала. Мазин посмотрел внимательно: — Расскажите, пожалуйста… — Нечего рассказывать. Все просто. Старик бросил их с матерью перед войной. Потом его забрали в армию. Когда Гитлер напал. С тех пор ничего не знали. Пятнадцать лет. Вдруг в пятьдесят седьмом письмо. Дескать, так и так. Пострадал, потому что был в плену. Освобожден, живу в Сибири, нуждаюсь. Помоги, дочка. Как не помочь? Пригласили к нам. Мать-то умерла уже. Но не приехал. Писал, не хочу мешать молодой жизни, вину чувствую. Посылали ему деньги, вещи теплые, варенья, печенья разные. Когда дали квартиру и уезжать сразу пришлось, говорю Светлане: давай отца выпишем. Не век же одному жить. Приехал, познакомились и простились. Видел я его раз или два всего. То, что говорил Кравчук, было интересно и наверняка важно для Мазина, но еще более интересен был он сам, заполнявший почти всю кухню громоздким телом, большими руками и бородой, засыпанной хлебными крошками. Тяжелый, бугристый лоб Кравчука нависал над неожиданно светлыми серыми глазами, которые смотрели на Мазина непрерывно, куда бы ни поворачивался их хозяин, и почти не моргали. Вообще, голова его казалась грубо скроенной из разных кусков. Из-под бороды виднелись крепкие красные щеки, привыкшие к непогоде, а лоб был бледным, с четко прорезавшимися морщинками и совсем интеллигентскими залысинами. Упорный взгляд малоподвижных глаз мешал Мазину рассмотреть всего Кравчука, не давал возможности оторваться от его лица, и Мазин подумал сначала, что геолог пытается сбить, смешать его мысли, но потом понял, что это просто такая манера, как и речь Кравчука, его короткие, рубленые фразы. И все-таки иногда Мазину становилось не по себе — когда Кравчук вдруг совсем останавливал свой взгляд, и начинало казаться, будто смотрит он уже не на Мазина, а мимо него или даже сквозь него, на стену за спиной. — Значит, и Светлана Ивановна мало знала отца? — Мало. Наверняка мало. Но дочь, однако. Чти родителя. — А знаете ли вы что-нибудь о близких ему людях? С кем он дружил, встречался, переписывался? Кравчук дернул бородой: — Переписывался? Не знаю. Нет. — И налил вина в простой граненый стакан. Вино Кравчук пил, как воду. Запил рыбу — и все. Не морщась и не крякая. Запил и, перевернув стакан, накрыл им пустую бутылку. — Ну, а квартирантов вы тоже не знаете? — Одного знаю. Стояновского. Я прописал его. Перед отъездом. Вместе были в партии. Заболел парень. Легкие слабые. На Север нельзя. Остался здесь. Работал. Вообще-то Мазин не был сторонником «ошеломляющих» приемов, но ему захотелось встряхнуть массивного геолога. — У нас есть основания подозревать Стояновского в убийстве вашего тестя. Наконец-то пригодился Мазину этот прямой, немножко жутковатый взгляд Кравчука. Его не пришлось ловить. Кравчук не спрятал глаза. Он только заморгал. — Борис? Ерунда. — Почему? — У нас собака была. В тайге. Ощенилась. Говорю: «Борька, утопи щенят». — «Жалко». Так и не стал. А вы говорите, убил. Ерунда! Мазин мог бы рассказать об убийце, который держал дома ежика и поил его молоком, но он не стал рассказывать. Он думал, почему Кравчук категорически отмел Стояновского: в самом ли деле не знает он ничего о Дубининой или просто не хочет о ней говорить. И вообще многие «почему» связывались у Мазина с зятем Укладникова. — Убивают не только жестокие люди. Все дело в мотивах преступления, в обстоятельствах. Кстати, Стояновский — человек вспыльчивый… — Все уже знаете? — К сожалению, не все. Но есть серьезные улики. — Арестован? — Пока нет. — Правильно. Ошибетесь. — Он не арестован потому, что скрылся. Геолог прореагировал неопределенно — то ли обрадовался, то ли изобразил удивление. — Куда ему скрываться? Ерунда! Не верю. Какие улики? Мазин решил рискнуть. — Мы нашли его окровавленную рубашку. — Борькину? — Да, Стояновского. — При чем тут тесть? Не понимаю. — Рубашка была выброшена. От нее пытались избавиться. Кравчук почесал бороду: — Мир приключений. — А вы отрицаете приключения? — Мазин попробовал разрядить обстановку. — Почему? На меня медведь нападал. — Вот видите. И что от него осталось? Кравчук чуть хохотнул: — Хотите, шкуру подарю? — Спасибо. Не нужно. Я люблю зверье. На охоте в воздух палю.
— Водку пить ходите?
Мазин принял мяч:
— На этот вопрос имею право не отвечать.
— По закону?
— По закону.
— А по-человечески?
— Это насчет водки?
— Нет. Про Борьку я.
— Про него скажите лучше вы.
Кравчук опять взялся за бороду.
— Бедолага. В детдоме рос. Нервный, правда. Но не он убил.
О детском доме Мазин не знал.
— Почему Стояновский попал в детский дом?
— Сирота. А может, и нет. Потерялся во время войны.
— Пытался отыскать родителей?
— Еще бы. Не нашел.
Что ж, кое-что удалось узнать и о Стояновском. Важны ли эти сведения — покажет будущее, а пока Мазина заинтересовал сам Кравчук.
— Все это может иметь значение, — сказал он. — Зайдите завтра, пожалуйста, к нам в Управление. Нужно записать ваши показания. Вы, кстати, надолго в город?
— Думали провести отпуск со Светланой. Квартиру привести в божеский вид. Но теперь лучше повременить. Дня через два поеду в Тригорск. И она следом. Там отдохнем.
«Тригорск? Дубинина?.. Или это случайное совпадение?»
— Есть где остановиться?
— Дикарями. Снимем комнату.
Мазин поднялся: «Для начала, пожалуй, хватит».
— Но к нам зайдите обязательно. Квартиру оставите на Семенистого?
— Не видал его еще. Посмотреть нужно.
— Не видели?
— Нет. Приехал — его нет.
«Вот он — второй ключ». Мазин с трудом сохранил невозмутимость.
— Разве Семенистый оставляет ключ у соседей?
— Нет. Свой у меня. Замок-то сам делал. Слесарничаю на досуге.
Мазин не стал расспрашивать о ключе. Ему сегодня и так повезло больше, чем можно было ожидать. Но оставался вопрос, который нужно было выяснить хотя бы отчасти.
— Почему вы задержались? Ведь телеграмму мы послали немедленно, как только обнаружили исчезновение вашего тестя.
— В Москве был. На конференции.
Это Мазин знал. На первую телеграмму ему ответили: «Кравчук действительно работает в Заозерном, но в настоящее время находится в Москве, на конференции геологов».
Потом сообщили: «Кравчук вернулся из Москвы пятнадцатого апреля. В командировочном удостоверении дата выезда из Москвы — четырнадцатого апреля».
Тогда Мазин запросил Москву…
— Ну ладно, Константин Акимович, простите, что нагрянул неожиданно. Это, между прочим, случайно получилось. Но удачно. Надеюсь, вы поможете прояснить нам кое-какие детали.
— Боюсь, что бесполезен. Ничего не знаю.
— Почему же? В отношении Стояновского вы проявили большую уверенность.
— С Борисом напутали. Ищите настоящего.
— Бывает, и мы ошибаемся. Спокойной ночи. До завтра.
— До завтра.
Перед тем как выйти, Мазин посмотрел в окно. Нет, Кравчук не мог видеть его из освещенной комнаты. И не мог он знать, что на запрос Мазина из Москвы ответили: «Установлено, что Кравчук отметил командировочное удостоверение четырнадцатым апреля, за два дня до окончания конференции, но четырнадцатого на конференции не присутствовал и в гостинице не ночевал».
— Спасибо. Не нужно. Я люблю зверье. На охоте в воздух палю.
— Водку пить ходите?
Мазин принял мяч:
— На этот вопрос имею право не отвечать.
— По закону?
— По закону.
— А по-человечески?
— Это насчет водки?
— Нет. Про Борьку я.
— Про него скажите лучше вы.
Кравчук опять взялся за бороду.
— Бедолага. В детдоме рос. Нервный, правда. Но не он убил.
О детском доме Мазин не знал.
— Почему Стояновский попал в детский дом?
— Сирота. А может, и нет. Потерялся во время войны.
— Пытался отыскать родителей?
— Еще бы. Не нашел.
Что ж, кое-что удалось узнать и о Стояновском. Важны ли эти сведения — покажет будущее, а пока Мазина заинтересовал сам Кравчук.
— Все это может иметь значение, — сказал он. — Зайдите завтра, пожалуйста, к нам в Управление. Нужно записать ваши показания. Вы, кстати, надолго в город?
— Думали провести отпуск со Светланой. Квартиру привести в божеский вид. Но теперь лучше повременить. Дня через два поеду в Тригорск. И она следом. Там отдохнем.
«Тригорск? Дубинина?.. Или это случайное совпадение?»
— Есть где остановиться?
— Дикарями. Снимем комнату.
Мазин поднялся: «Для начала, пожалуй, хватит».
— Но к нам зайдите обязательно. Квартиру оставите на Семенистого?
— Не видал его еще. Посмотреть нужно.
— Не видели?
— Нет. Приехал — его нет.
«Вот он — второй ключ». Мазин с трудом сохранил невозмутимость.
— Разве Семенистый оставляет ключ у соседей?
— Нет. Свой у меня. Замок-то сам делал. Слесарничаю на досуге.
Мазин не стал расспрашивать о ключе. Ему сегодня и так повезло больше, чем можно было ожидать. Но оставался вопрос, который нужно было выяснить хотя бы отчасти.
— Почему вы задержались? Ведь телеграмму мы послали немедленно, как только обнаружили исчезновение вашего тестя.
— В Москве был. На конференции.
Это Мазин знал. На первую телеграмму ему ответили: «Кравчук действительно работает в Заозерном, но в настоящее время находится в Москве, на конференции геологов».
Потом сообщили: «Кравчук вернулся из Москвы пятнадцатого апреля. В командировочном удостоверении дата выезда из Москвы — четырнадцатого апреля».
Тогда Мазин запросил Москву…
— Ну ладно, Константин Акимович, простите, что нагрянул неожиданно. Это, между прочим, случайно получилось. Но удачно. Надеюсь, вы поможете прояснить нам кое-какие детали.
— Боюсь, что бесполезен. Ничего не знаю.
— Почему же? В отношении Стояновского вы проявили большую уверенность.
— С Борисом напутали. Ищите настоящего.
— Бывает, и мы ошибаемся. Спокойной ночи. До завтра.
— До завтра.
Перед тем как выйти, Мазин посмотрел в окно. Нет, Кравчук не мог видеть его из освещенной комнаты. И не мог он знать, что на запрос Мазина из Москвы ответили: «Установлено, что Кравчук отметил командировочное удостоверение четырнадцатым апреля, за два дня до окончания конференции, но четырнадцатого на конференции не присутствовал и в гостинице не ночевал».
VI
«Разыскивать женщину» Козельскому не пришлось. Букет белых цветов оказался последней его удачей. Ничего больше о Стояновском узнать не удавалось. Зачем остановился он в Береговом? Кому предназначался букет? Действовал Стояновский по заранее продуманному плану или под влиянием обстоятельств? Заезжал ли в Береговое после убийства? Все эти вопросы оставались пока без ответа. Так хорошо тянувшаяся цепочка фактов прервалась. Опыта у лейтенанта было поменьше, чем у Мазина, и он нервничал. Звонок начальника застал его в номере гостиницы. — Вадим, это вы? — услыхал он в трубке голос Мазина. — Я, Игорь Николаевич, слушаю вас… — Удачно я вас разыскал. Как успехи? — Неважные. Козельский уже забыл, что собирался хвастаться. — Ничего. Вместе разберемся. Выезжайте немедленно. — Слушаюсь. Вадим опустил трубку и достал из кармана пачку сигарет. Курил он редко, а при Мазине — никогда, но сейчас ему захотелось глотнуть дыму. С одной стороны, вызов открывал выход из тупика, в котором оказался лейтенант. Но в то же время по тону Мазина Вадим понял, что выяснилось нечто неожиданное и его работа в Береговом приобрела, видимо, второстепенное значение. Последнее предположение было не совсем верным. Вешая трубку, Мазин думал: «После этой телеграммы поиски в Береговом или ничего не значат, и тогда Козельский нужнее здесь, на месте, или они приобретают решающий характер, и тогда мне следует взять их на себя». Этого Козельский не знал, но, будучи человеком строго дисциплинированным, он выделил из всего разговора слово «немедленно» и потому не стал дожидаться ни поезда, ни автобуса, а выехал на такси и через два с половиной часа уже входил в кабинет Мазина. Увидев его, Мазин невольно посмотрел на часы, но ничего не сказал, даже не похвалил за оперативность, и Козельский окончательно убедился, что обстановка усложнилась, потому что именно в такие моменты Мазин бывал скуп на похвалу: в сложной обстановке все, что лучше служит делу, является нормой, считал он. — Садитесь и рассказывайте. Подробно и не спеша. — Понятно, — ответил лейтенант и приступил к докладу. Кончил он уныло: — На этом нитка и оборвалась, хотя я думал: букет — такая приметная штука, что мне просто повезло. — Бывает. Ваши выводы? — Продолжать поиски знакомой Стояновского. Она единственный человек, который может подсказать, где искать его. — Ищут тех, кто скрывается. Мазин меньше всего собирался удивлять Козельского. Скорее он отвечал каким-то собственным, еще не устоявшимся мыслям, но, заметив, как переменился в лице его подчиненный, улыбнулся: — Вадим, вы станете хорошим работником только тогда, когда перестанете удивляться. Сомневаться — сколько угодно, но не раскрывать так по-мальчишески глаза, как вы сейчас раскрыли. Впрочем, я сегодня утром тоже раскрыл. Вот почитайте. Это была обыкновенная телеграмма, вчера только посланная из Ялты на имя Семенистого: «Возьми пальто химчистки погода прекрасная. Борис». — Ну как? Понравилось? Козельский положил телеграмму на стол. — Убили вы меня, Игорь Николаевич… — Ничего, выживем. Я ведь тоже ранен. — Что же это может означать? — Внешне то, что Стояновский не имеет ни малейшего отношения к убийству Укладникова, ничего не знает об этом убийстве и преспокойно отдыхает в Крыму. — А чемодан? А ботинки? А топорик? — Прибавьте кровь и следы на полу. — Ну да! — Само по себе все это еще ни о чем не говорит. Тем более что неизвестно, чья кровь на вещах. Их могли и украсть. Мы ведь не знаем, были ли они на Стояновском, когда он уезжал. — Но его остановка в Береговом? — Это серьезнее, хотя причина остановки нам по-прежнему неизвестна. Судя по тому, что вам удалось установить, в ней больше романтики, чем криминала. — Простите, Игорь Николаевич, но, по-моему, реабилитировать Стояновского рано. Следы ботинок — факт неопровержимый. — Вадим, хорошо, что вы так прочно вжились в нашу последнюю версию. Хотя и этому факту можно найти свое, может быть, очень несложное объяснение. А в целом ваш рассказ говорит, как ни странно, больше в пользу Стояновского, чем ему во вред. — Почему же? Факты… — Факты — да. Но психологическая сторона… Если цветы предназначались девушке, то, согласитесь, поведение Стояновского не вяжется с тем, что мы знаем. Собираясь совершить убийство, нервный, неуравновешенный человек спокойно расхаживает по оранжерее в поисках красивого букета? — Ну и что? Букет мог понадобиться с определенной целью. Например, чтобы убедить девушку в своих чувствах, создать атмосферу, в которой она ничего не могла бы заподозрить. Мазин не стал возражать: — Допустим… с натяжкой. Ну, а телеграмма? — А вот это как раз в характере. Нервничает, крутит, изобретает трюки, которые кажутся ему очень хитрыми. Боится, что чемодан попал-таки к нам, и дает телеграмму, чтобы навести тень на ясный день. Игорь Николаевич улыбнулся: — Граф Монте-Кристо. «Нам пишут из Янины». А может, все попроще, Вадик? Борис Стояновский, обыкновенный молодой человек, едет в отпуск. В пути встречает знакомого. Выпили в ресторане. Создалось определенное настроение. Решает сойти в Береговом, где живет знакомая девушка. Появляется с букетом. Необычно, романтично. Болтает встречным и поперечным о своей жизни, о хозяине, который денежки в шкафу прячет. Кто-то пользуется этим да еще и чемоданчик прихватывает. Боря погоревал немножко, да и дальше поехал, весну встречать. Благо погода хорошая. Ну, что скажете, товарищ лейтенант? Козельский был похож на мяч, из которого выпустили воздух. — Сдаетесь? А я только порадовался, что нам удалось немножко поспорить. Вы легко сдаете свои позиции, Вадим, и слишком быстро со мной соглашаетесь. Вадим ответил искренне: — Но так получается, Игорь Николаевич. Всегда вы оказываетесь правы, а не я. Мазин рассмеялся. — Вы еще и льстец, Вадим. Это уж слишком. — Какой же я льстец? — Коварный. Ладно, ладно — шучу. Даже насчет Бориной болтливости пошутил. — Он посерьезнел: — Пошутил, чтобы вас немножко подзадорить, а вы раскисли. Сам-то я считаю, что от Стояновского нам отказываться рано. Появились в его истории два момента, которые очень меня заинтересовали. Один из них — ваше открытие. Я имею в виду «инвалида». Вы его открыли, но, кажется, не придали этому человеку должного значения. — Мало удалось узнать о нем, Игорь Николаевич. Кажется, это человек случайный. Проводница говорит, что они со Стояновским и узнали-то друг друга не сразу. — Но «инвалид» разыскивал Стояновского? Зачем? И откуда ему стало известно, что тот едет именно в этом вагоне? Может быть, между встречей Стояновского с «инвалидом» и его внезапным решением сойти в Береговом есть определенная связь? Но, с другой стороны, связана ли остановка в Береговом непосредственно с убийством Укладникова? Или здесь действовал» параллельные факторы? Видите, сколько вопросов. Вадим. Он замолчал, и Козельский, который понимал, что на вопросы Мазина пока еще нет ответов, промолчал тоже. — Второе обстоятельство — Тригорск. Там живет неизвестная пока нам Дубинина. Туда же, в Тригорск, собирается поехать зять Укладникова — Кравчук. Что это — в огороде бузина, а в Киеве дядька? Или совсем наоборот? Впрочем, остановимся. И большой путь состоит из малых шагов. Следующим шагом будет пальто Стояновского Существует ли оно в действительности? Это придется выяснить вам. — Разве Семенистый?.. — Семенистого я не видел. Телеграмму принес Кравчук. Он уже приехал, между прочим. Видите, сколько у нас новостей. Кстати, это тоже орешек. Но о нем мы поговорим попозже. А сейчас не теряйте времени, раз вам удалось его сберечь. Поезжайте в ателье. Узнайте у Семенистого все о пальто. Могу вам сообщить, что в химчистке на Магистральной никаких вещей Стояновского нет. Но это ничего не значит — в городе не одна химчистка. Выясните этот факт, а потом мы засядем вместе и посоветуемся, что делать дальше. — Слушаюсь. — Козельский встал. …Телеграмму действительно принес Кравчук. Он вошел в кабинет Мазина энергично, но не шумно, как привык, наверно, ходить по тайге. Мазин сразу заметил на его лице то, чего не видел вчера, — улыбку. — Я вам говорил… — начал геолог еще с порога. Улыбка у него тоже была диковатой, борода двигалась вверх-вниз. — Я ж говорил, Бориса вы зря. — И он выложил телеграмму на стол, как кладут козырного туза. Мазину потребовалась немалая выдержка, чтобы скрыть изумление. — Когда пришла телеграмма? — Вчера. После вашего ухода. Минут через десять. — А почему ее принес не Семенистый? — Зачем? Я сказал, иду к вам. Он на работу пошел. — Ясно, — кивнул Мазин, хотя в тог момент ему почти ничего не было ясно.Козельский выпрыгнул из бежевой «Волги» у недавно построенного ателье. За большими зеркальными стеклами стояли на полках телевизоры и радиоприемники, а над входом нависал модный бетонный козырек. Девушка-приемщица тоже оказалась модной — с начесом над подкрашенным личиком. — Мне бы Семенистого… Приемщица покрутила авторучкой. Потом повернулась куда-то в глубь ателье: — Ль-о-ня! Тут товарищ Эдика спрашивает. На голос ее вышел здоровенный парень с тонкими усиками, в рабочем фартуке: — А вам он зачем? И окинул Козельского подозрительным, изучающим взглядом. — По личному делу. — По личному? — выговорил парень недоверчиво. — Нету его — И глянул на девушку: — Ты что? Не знаешь? Она передернула худыми плечиками. — А где же он? — спросил Козельский. — Отпуск вроде взял. — Как отпуск? — Да так. Отпуск. Полагается человеку — вот и взял. Парень решил, что сказано достаточно, и повернулся к Козельскому спиной. Вадим пошел к заведующему. Тот оказался маленьким, краснощеким и усатым. «Если и жулик, то по мелочам», — подумал лейтенант, когда увидел, как внимательно разглядывает «зав» его удостоверение. — Так я и знал, так я и знал, что все это неспроста. — Что именно неспроста?
 — А что бы вы подумали, если б ваш работник вчера преспокойно работал, а сегодня пришел и говорит: «Рассчитайте меня немедленно». Что бы вы подумали?
— У нас так не бывает.
— Да, да. Я понимаю. У вас порядок и дисциплина. Вы же почти военные люди. А вы бы поработали с такой публикой! Все от наших нехваток, товарищ офицер. Того нет, этого нет. А у предприимчивых людей есть. Появляются соблазны.
— Извините, мне нужны факты. Выходит, вы рассчитали Семенистого?
— Ни в коем случае. Как это так! Я спросил: «Почему ты так решил?» А он сказал, что у него заболела мама и ей нужен уход. Он, правда, совсем не похож на заботливого сына, но людей не всегда правильно понимаешь. И я сказал: «Бери отпуск на две недели, поезжай, узнай все как следует, тогда и решай. Если нужно, получишь расчет, а так зачем тебе терять хорошую работу?» Я, знаете, товарищ офицер, всегда забочусь о молодежи, потому что очень легко сбиться с пути в вашем возрасте…
— Где живет его мать? — прервал Вадим.
— Виноват, не знаю. Где-то неподалеку тут. Он часто ездил к ней на воскресенье. Хотя, одну минуточку… Аллочка!
На пороге появилась приемщица.
— Аллочка, скажите, пожалуйста, товарищу, где живет мама Эдика. Вы, кажется, бывали у них.
Аллочка посмотрела на заведующего неприветливо:
— В Красном Хуторе.
Из автомата Козельский позвонил Мазину.
— Ну вот, Вадим, мы и квиты. Не все же мне вас удивлять. До Красного Хутора четырнадцать километров Вы успеете туда до вечера, а пока заскочим вместе к Кравчуку Я сейчас спускаюсь.
Козельский сел в машину и с места разогнал ее до разрешенной скорости. Мазин ждал на углу.
На Магистральную они выскочили еще засветло. Мазин положил руку на плечо Вадима:
— Остановитесь здесь и посидите в машине.
Кравчук ходил по тесной для него комнате и рубил свои короткие фразы:
— С утра ни слова. Вдруг появляется — и нате вам: «Мать заболела, уезжаю. Немедленно». Дает деньги, долг за полмесяца. Вещи заворачивает в простыню. И с узлом и чемоданчиком — в такси. Будьте здоровы, живите богато! Я в дурацком положении. Жена ждет. Отпуск идет. А мне не на кого оставить квартиру.
— А пальто Стояновского он взял из чистки?
— Нет, не приносил.
— Вопросов больше нет, извините за беспокойство.
— Будьте здоровы.
— Да… Вот еще. У вас есть во дворе телефон?
— Есть.
— Покажите, пожалуйста.
Они вышли вместе. Телефон оказался как раз там, где стояла «Волга». Козельский оглядел геолога.
— Все, как я и предполагал, — сказал Мазин, садясь в машину. Потом добавил: — Уехал, забрав вещи. Никакого пальто не заносил. Забросьте меня в Управление и поезжайте в Красный Хутор.
Козельский ничего больше не спрашивал. Он видел, что Мазину не до вопросов. Молча они обгоняли автомобили на темнеющих улицах. Только у самого Управления Мазин повернулся к лейтенанту.
— Помните, Вадим, я говорил вам, что наша вторая версия может оказаться не самой последней? Но я не думал, что их окажется столько сразу.
И, уже выйдя на тротуар, пожелал:
— Ни пуха ни пера. И кланяйтесь больной маме… если только она действительно больна. Я буду ждать вас.
Выбравшись из города, Козельский повел машину ровнее и закурил на ходу, придерживая баранку левой рукой. Шоссе, было широким и почти без поворотов. Впереди, на краю степи, первые ночные огоньки неярко выделялись на фоне не погасшего еще заката.
«Ну и денек! — Лейтенант перебирал последние события. — Телеграмма, исчезновение Семенистого, наконец, Кравчук. Даже шеф шутить перестал».
Красный Хутор оказался в балке. Не доезжая до четырнадцатого километра, Козельский прочитал название его на большом желтом указателе, поблескивающем в свете фар. Шоссе здесь переходило в улицу. Лейтенант притормозил возле ближнего, крытого черепицей домика у колодца и узнал, где живет Семенистая.
Оказалось, рядом.
Выйдя из машины, Вадим вдохнул ароматный запах вечерней весенней степи, подправленный кизячным дымком, поднимающимся над крышами, и невольно расправил плечи, чтобы набрать побольше этого непривычного горожанину воздуха.
— Здравствуйте. Вы мать Эдуарда Семенистого?
Не старая еще, видно, привычная к труду женщина в длинной по-деревенски юбке и с вязаным платком на плечах была совсем не похожа на хамоватого Эдика.
— Мама…
— Был он у вас сегодня?
— Був, був, а як же.
— Можно его увидеть?
— Уйихав. Вин у нас долго не гостюе. А у вас що до него за справа?
— Да вот дело небольшое.
— Ну так зайдите у хату. Хоть вы мне толком росповидайте, що вин у ту Сибирь подався…
Женщина эта отнеслась к Козельскому с полным доверием, и ему было неприятно говорить ей неправду. Но ничего иного он сделать не мог. В чем был виновен Семенистый? Этого Козельский пока и сам не знал. Поэтому он сказал, что приехал узнать насчет своего пальто, которое Эдик должен был взять из чистки.
В город Вадим вернулся поздно, но в кабинете Мазина горел свет. Лейтенант загнал машину в гараж и поднялся по непривычно безлюдной лестнице… Мазин писал что-то за столом:
— Семенистый вас, конечно, не дождался?
— Не дождался. Но он там был. Я говорил с его матерью и ее вторым мужем. Для них этот отъезд — полная неожиданность.
— Им можно верить?
— Вполне. Простые, сердечные люди. Они меня даже парным молоком угостили.
Мазин улыбнулся.
— Это нарушение, Вадим.
— Я знаю. Но я им верю. Он примчался на такси, завез вещи и сказал, что едет в Сибирь, где один друг нашел ему хорошую работу. Адреса, разумеется, не оставил, обещал написать.
— Говорите, можно верить? Простые, искренние люди?
— Да, деревенской закваски.
— Не идеализируйте эту закваску. Но, между прочим, Эдик показался мне типичным продуктом городской цивилизации в ее нелучшем проявлении.
— Он такой и есть. Отец бросил мать и ушел в город. Там и сын вырос. У матери бывал редким гостем. Последний раз с Аллочкой, приемщицей из ателье. Называл невестой. Даже колечко приобрел.
— Хорошо, Вадик. Вы не зря проехались. Теперь можно и отдыхать. Для одного дня событий достаточно.
— А что бы вы подумали, если б ваш работник вчера преспокойно работал, а сегодня пришел и говорит: «Рассчитайте меня немедленно». Что бы вы подумали?
— У нас так не бывает.
— Да, да. Я понимаю. У вас порядок и дисциплина. Вы же почти военные люди. А вы бы поработали с такой публикой! Все от наших нехваток, товарищ офицер. Того нет, этого нет. А у предприимчивых людей есть. Появляются соблазны.
— Извините, мне нужны факты. Выходит, вы рассчитали Семенистого?
— Ни в коем случае. Как это так! Я спросил: «Почему ты так решил?» А он сказал, что у него заболела мама и ей нужен уход. Он, правда, совсем не похож на заботливого сына, но людей не всегда правильно понимаешь. И я сказал: «Бери отпуск на две недели, поезжай, узнай все как следует, тогда и решай. Если нужно, получишь расчет, а так зачем тебе терять хорошую работу?» Я, знаете, товарищ офицер, всегда забочусь о молодежи, потому что очень легко сбиться с пути в вашем возрасте…
— Где живет его мать? — прервал Вадим.
— Виноват, не знаю. Где-то неподалеку тут. Он часто ездил к ней на воскресенье. Хотя, одну минуточку… Аллочка!
На пороге появилась приемщица.
— Аллочка, скажите, пожалуйста, товарищу, где живет мама Эдика. Вы, кажется, бывали у них.
Аллочка посмотрела на заведующего неприветливо:
— В Красном Хуторе.
Из автомата Козельский позвонил Мазину.
— Ну вот, Вадим, мы и квиты. Не все же мне вас удивлять. До Красного Хутора четырнадцать километров Вы успеете туда до вечера, а пока заскочим вместе к Кравчуку Я сейчас спускаюсь.
Козельский сел в машину и с места разогнал ее до разрешенной скорости. Мазин ждал на углу.
На Магистральную они выскочили еще засветло. Мазин положил руку на плечо Вадима:
— Остановитесь здесь и посидите в машине.
Кравчук ходил по тесной для него комнате и рубил свои короткие фразы:
— С утра ни слова. Вдруг появляется — и нате вам: «Мать заболела, уезжаю. Немедленно». Дает деньги, долг за полмесяца. Вещи заворачивает в простыню. И с узлом и чемоданчиком — в такси. Будьте здоровы, живите богато! Я в дурацком положении. Жена ждет. Отпуск идет. А мне не на кого оставить квартиру.
— А пальто Стояновского он взял из чистки?
— Нет, не приносил.
— Вопросов больше нет, извините за беспокойство.
— Будьте здоровы.
— Да… Вот еще. У вас есть во дворе телефон?
— Есть.
— Покажите, пожалуйста.
Они вышли вместе. Телефон оказался как раз там, где стояла «Волга». Козельский оглядел геолога.
— Все, как я и предполагал, — сказал Мазин, садясь в машину. Потом добавил: — Уехал, забрав вещи. Никакого пальто не заносил. Забросьте меня в Управление и поезжайте в Красный Хутор.
Козельский ничего больше не спрашивал. Он видел, что Мазину не до вопросов. Молча они обгоняли автомобили на темнеющих улицах. Только у самого Управления Мазин повернулся к лейтенанту.
— Помните, Вадим, я говорил вам, что наша вторая версия может оказаться не самой последней? Но я не думал, что их окажется столько сразу.
И, уже выйдя на тротуар, пожелал:
— Ни пуха ни пера. И кланяйтесь больной маме… если только она действительно больна. Я буду ждать вас.
Выбравшись из города, Козельский повел машину ровнее и закурил на ходу, придерживая баранку левой рукой. Шоссе, было широким и почти без поворотов. Впереди, на краю степи, первые ночные огоньки неярко выделялись на фоне не погасшего еще заката.
«Ну и денек! — Лейтенант перебирал последние события. — Телеграмма, исчезновение Семенистого, наконец, Кравчук. Даже шеф шутить перестал».
Красный Хутор оказался в балке. Не доезжая до четырнадцатого километра, Козельский прочитал название его на большом желтом указателе, поблескивающем в свете фар. Шоссе здесь переходило в улицу. Лейтенант притормозил возле ближнего, крытого черепицей домика у колодца и узнал, где живет Семенистая.
Оказалось, рядом.
Выйдя из машины, Вадим вдохнул ароматный запах вечерней весенней степи, подправленный кизячным дымком, поднимающимся над крышами, и невольно расправил плечи, чтобы набрать побольше этого непривычного горожанину воздуха.
— Здравствуйте. Вы мать Эдуарда Семенистого?
Не старая еще, видно, привычная к труду женщина в длинной по-деревенски юбке и с вязаным платком на плечах была совсем не похожа на хамоватого Эдика.
— Мама…
— Был он у вас сегодня?
— Був, був, а як же.
— Можно его увидеть?
— Уйихав. Вин у нас долго не гостюе. А у вас що до него за справа?
— Да вот дело небольшое.
— Ну так зайдите у хату. Хоть вы мне толком росповидайте, що вин у ту Сибирь подався…
Женщина эта отнеслась к Козельскому с полным доверием, и ему было неприятно говорить ей неправду. Но ничего иного он сделать не мог. В чем был виновен Семенистый? Этого Козельский пока и сам не знал. Поэтому он сказал, что приехал узнать насчет своего пальто, которое Эдик должен был взять из чистки.
В город Вадим вернулся поздно, но в кабинете Мазина горел свет. Лейтенант загнал машину в гараж и поднялся по непривычно безлюдной лестнице… Мазин писал что-то за столом:
— Семенистый вас, конечно, не дождался?
— Не дождался. Но он там был. Я говорил с его матерью и ее вторым мужем. Для них этот отъезд — полная неожиданность.
— Им можно верить?
— Вполне. Простые, сердечные люди. Они меня даже парным молоком угостили.
Мазин улыбнулся.
— Это нарушение, Вадим.
— Я знаю. Но я им верю. Он примчался на такси, завез вещи и сказал, что едет в Сибирь, где один друг нашел ему хорошую работу. Адреса, разумеется, не оставил, обещал написать.
— Говорите, можно верить? Простые, искренние люди?
— Да, деревенской закваски.
— Не идеализируйте эту закваску. Но, между прочим, Эдик показался мне типичным продуктом городской цивилизации в ее нелучшем проявлении.
— Он такой и есть. Отец бросил мать и ушел в город. Там и сын вырос. У матери бывал редким гостем. Последний раз с Аллочкой, приемщицей из ателье. Называл невестой. Даже колечко приобрел.
— Хорошо, Вадик. Вы не зря проехались. Теперь можно и отдыхать. Для одного дня событий достаточно.
VII
А через день Мазин сидел в новеньком, недавно построенном кафе со слишком красивым названием «Алый тюльпан» и потягивал холодный, невкусный кофе. Кофе был очень плохим, но Мазин не замечал этого. Он смотрел и думал. Смотрел главным образом на вход в ателье, где не так давно работал Эдик Семенистый. Ателье находилось рядом, через неширокую здесь улицу, а стенка кафе была стеклянная, ни разу еще не битая, без трещин, схваченных уродливыми фанерными кружками. И еще Мазин посматривал по сторонам, но не потому, что его интересовал кто-нибудь в зале, а как раз наоборот, он хотел убедиться, что сам никого не интересует. Думал же Мазин главным образом об Аллочке, которая вот-вот должна была выйти из ателье, потому что рабочий день уже кончался. Вспомнился разговор с Вадимом. — Подтвердилось, Игорь Николаевич. Это та самая «невеста», что приезжала с Семенистым к его родителям, — сообщил Козельский, выговаривая слово «невеста» с подчеркнутой иронией. — Ну, и как она вам показалась? Лейтенант вытянул два сведенных вместе пальца. — Вот такой лобик. Мал ее радостей тусклый спектр. Мазин вздохнул: — Хорошо. Придется мне самому заняться этой девушкой. Вы к ней относитесь предвзято. И вот он сидит и ждет девчонку, которая, наверное, и в самом деле не Спиноза и поэтому может повести себя совершенно по-дурацки л не помочь, а здорово навредить делу, как, по мнению Мазина, навредил уже Эдик, насчет которого он имел точку зрения вполне определенную. Но чтобы точка эта подтвердилась, нужно было узнать немало от Аллочки. И хотя Мазин был почти уверен, что идет не главным ходом, а обследует всего лишь один из тупиков, он понимал, что и в тупик этот необходимо зайти, потому что, прежде чем заблестит золотая жила, всегда приходится переворачивать горы земли. Мысли эти занимали Мазина, когда он глотал невкусный, холодный кофе, дожидаясь, пока Аллочка выйдет из ателье. Но раньше внимание его привлек еще один человек — широкоплечий парень в кожанке, похожий на шофера, с обветренным, красным лицом и такими же руками, которыми он неловко держал стакан. Правда, в стакане жидкость была посветлее кофе, но парень, как и Мазин, часто посматривал через дорогу. «Коллега», — подумал Мазин, усмехнувшись. Он решил, что парень дожидается кого-нибудь из ателье. И не ошибся. Как только на дверях напротив появилась расхолаживающая табличка с надписью: «Закрыто», «коллега» засуетился, резко потянул кверху «молнию» на куртке, быстро допил стакан и двинулся к выходу. Мазин действовал спокойнее. «Интересно, за кого она меня примет? Вряд ли я похож на ловеласа». Аллочка вышла не одна. С ней был человек, которого Мазин сразу узнал по описаниям Козельского. Тот самый «Льоня» с черными подбритыми усиками над мокрыми губами. С порога кафе Мазин хорошо видел его лицо с выпуклыми, похожими на маслины высшего сорта глазами. «Льоня» улыбался и говорил что-то Аллочке, все норовя рукой коснуться, дотронуться до нее, а Аллочка отстранялась и, кажется, торопилась закончить этот разговор. Они стояли и говорили, и Мазин тоже стоял, парень же в кожаной куртке тем временем пересек улицу и, замедлив шаг, достал папиросу. Мазин услышал, как он спросил «Льоню»: — Спички нету, браток? «Льоня» полез за спичкой, а Аллочка, обрадовавшись, что его прервали наконец, махнула рукой и быстро пошла вдоль улицы. Но прежде чем двинуться за ней, Мазин посмотрел еще раз на обоих мужчин и увидел, как «Льоня», глядя прямо в лицо «кожаному», кивнул вслед Аллочке, и кивнул не случайно, потому что «кожаный» наклонил голову, как бы говоря: «Понятно». «Ого! Что-то новенькое», — отметил Мазин. Так, втроем, они и дошли до трамвайной остановки. Впереди Аллочка, за ней, почти вплотную, парень в кожанке. Он шагал так целеустремленно, что даже столкнулся со встречным прохожим. Мазин посмеивался про себя. О его присутствии «кожаный» пока не подозревал. На остановке, как всегда в часы «пик», народу было много «Придется потолкаться». Мазин предпочел бы соблюдать дистанцию. Подошел трамвай, сравнительно свободный, окраинного пятнадцатого маршрута. К нему двинулось несколько человек. Аллочка осталась на месте, но «кожаный», как заметил Мазин, сделал шаг к вагону и, кажется, удивился, что Аллочка не собирается ехать. А она спокойно достала из сумочки зеркало и рассматривала лицо, повернувшись к нему спиной. Прошел еще один трамвай. На этот раз «тройка», набитая до отказа. Мазин проводил ее с облегчением. Аллочка все еще любовалась на себя в зеркальце, а «кожаный» выплюнул изо рта окурок и растер его подошвой. Подошла «восьмерка». Аллочка сунула зеркальце в сумку. «Кожаный» ринулся к ней. Мазин приготовился… Но ничего не произошло. Аллочка раздумала. В самый последний момент она отступила от подножки, и Мазину показалось, что «кожаный» пробормотал что-то нехорошее. Они остались рядом и посмотрели друг на друга: «кожаный» хмуро, Аллочка без всякого выражения, как смотрят сквозь стекло. «Будь она чуть поумнее, она заметила бы его манипуляции», — подумал Мазин с сожалением. Он присел на освободившуюся скамейку. «Кожаный» тоже отошел от Аллочки. Снова показался «пятнадцатый», на этот раз не такой свободный. «Кожаный» отвернулся, и напрасно, потому что тут-то Аллочка и села. Вернее, не села, а остановилась на задней площадке прицепки. «Кожаный» заметил это, когда она была уже внутри. И здесь он проявил кое-какую смекалку. Вскочил на другую, переднюю, площадку. В наполненном вагоне, где выбираться нелегко, это была лучшая позиция. Мазин хотел войти вслед за «кожаным», но дверь захлопнулась перед самым его носом. Он услыхал звонок отправления и бросился назад, чтобы успеть хоть туда, но садиться в вагон не пришлось. В самых дверях Мазин столкнулся с Аллочкой. Она прыгнула ему прямо на руки, так что он едва успел поддержать ее. А трамвай двинулся с места и пошел, гремя и дребезжа по разболтанным рельсам, увозя «кожаного». — Извините, — сказала Аллочка. — Пожалуйста, — ответил Мазин, разглядывая ее. «Кажется, Вадик дал маху. Под челкой еще на палец наберется». — Ловко вы его провели. — Что? — Я про парня в кожанке. Кстати, как его зовут? — Не знаю. — Думаю, что это правда. «Льоня» демонстрировал вас довольно продолжительное время. — Разрешите пройти, гражданин. Не знаю я, о чем вы… Мазин не пытался задержать ее. Он просто пошел рядом. — Конечно, тут нечего больше делать. Такой дурак может вернуться с ближайшей остановки. Аллочка смерила его любопытным взглядом: — Вы так всегда с девушками знакомитесь? — Нет, в первый раз. — Тогда придумайте что-нибудь поумнее. Мазин улыбнулся: — Зачем? — Не на такую напали. Идите-ка своей дорогой, а то… Она не договорила, и Мазин воспользовался этим. — Что? — Я милицию позову. — А почему вы не обратились к милиционеру, когда за вами следил этот «кожаный»? — Сказала же я вам, не знаю никакого «кожаного». Мазин уловил, как дрогнул ее голос. — Вот что, Аллочка… Хватит нам играть в кошки-мышки. Я ведь не похож на тех, кто пристает на улице к девушкам. Или вы обо мне более высокого мнения? Мнение свое она уточнять не стала. — Что вам нужно? — Вот это другой разговор. Видите стеклянную будочку? Там вы сможете съесть пирожное. — А вы что там будете делать? — Я не люблю пирожные. Я просто поговорю с вами. — Не знаю, о чем нам говорить. — Я скажу. Она глянула на него в упор, и Мазин снова подумал, что Козельский ошибся. — Послушайте, незнакомый товарищ. Я съем пирожное, чтобы доставить вам удовольствие, но прошу вас таким тоном со мной не разговаривать. Я не маленькая. — Безусловно. Всего раза в два помоложе меня. Но ссориться не будем. Будем говорить серьезно, с полным доверием друг к другу. Она вдруг улыбнулась: — Смешной вы. — Не все так думают, — заверил ее Мазин, открывая дверь в кафе. — Одно пирожное и по чашечке кофе, пожалуйста. Только горячего, если можно. Холодный я уже пил. Он повернулся к Аллочке: — Хорошо здесь, правда? Тихо. — Я спешу, — ответила Аллочка, откусывая кусочек пирожного. — Прекрасно. Тогда скажите, чем мог интересоваться этот несимпатичный юноша в кожаной куртке? Любовь? Ревность? Аллочка отрицательно покачала головой. — Правильно. Я тоже так думаю. — Но почему вы все это спрашиваете? — Да, я и забыл совсем. Нам же нужно познакомиться. И Мазин протянул ей удостоверение. Аллочка изучала его тщательно. Мазин не выдержал, спросил: — Ну как? Все правильно? — Кажется, правильно. Но что сказать вам, не знаю. — Может, вместе подумаем? Я подскажу кое-что, а? — Да что вы мне подскажете? — Подскажу, что интересует их, простите меня, не столько вы, сколько Эдик. Аллочка нагнула голову. — Вот видите. Где он? Она положила пирожное на блюдечко. — Не знаю. Уехал он… неожиданно. — И не сказал куда? Даже вам? — Не сказал. Сказал, что напишет. Мазин сжал и разжал под столом руку. Значит, все-таки дурочка? Обыкновенная обманутая девчонка, которая верит, что он напишет? Но зачем ей тогда скрываться? И что они могут выследить? Он смотрел, как она ест пирожное, без удовольствия, просто потому, что он заставил ее есть. Может, и обманутая. — Что же им от него, нужно? Почему он скрылся? — Лешка говорит, он ему деньги должен. Не отдал будто. — Это правда? Мазин видел, что ей трудно. Она никак не могла найти правильной линии поведения. Что-то ей хотелось сказать, но не все и даже, наверно, не главное, но она, видимо, не могла отделить это неглавное от того, что говорить не хотела ни в коем случае. Он протянул руку и дотронулся до ее пальцев:
— Алла. Я прекрасно вижу, что вы ни в чем не виноваты. Но сказать все, что вы знаете, вы почему-то не решаетесь. Почему? Боитесь? Не доверяете мне? Попробуйте преодолеть себя. Я хочу помочь вам. Правда. — Он глянул ей в глаза. — Я могу вам пригодиться. — Мазин помолчал. — Но смотрите, как бы вам не опоздать. Бывает, что становится поздно. Ну?
Она заморгала, как будто боялась заплакать:
— Не верю я, что Эдик ему должен. Он сам с него деньги тянул.
— А у Эдика бывали деньги?
— Да, он очень хороший мастер.
— И получал хорошие чаевые?
— Его благодарили люди. Что здесь плохого? Все так делают.
— К сожалению.
Мазин вспомнил кое-что из своего общения с Эдиком.
— А больше он ничего не получал?
— Нет, не знаю.
— Значит, Лешка врет? Зачем же ему тогда Эдик?
Она опять заморгала:
— Ну, не знаю, не знаю… Может, они его в шайку втягивали. Но он хороший, хороший.
«Врет она или говорит правду, но Эдика любит, хотя, может быть, он того и не стоит. Впрочем, что значит, не стоит? Разве это делается по выбору? Да еще в таком возрасте. И так ли уж плох Эдик? Оказалась же эта девчонка умнее и искреннее, чем решил Вадим. Может быть, и я вижу Эдика в слишком темных красках? «Все так делают». Не так-то просто быть лучше тех, кто тебя окружает».
— Вы где живете, Алла?
— В общежитии.
— Вам нравится ваша работа?
— Что в ней хорошего? Бумажки выписывать?
— Мечтаете об институте?
— Трудно это.
— В жизни все нелегко.
— Почувствовала уже.
— Ну ничего, ничего. Все образуется. По-вашему, Эдик скрылся от своих друзей?
— Да, ему хотелось отсюда уехать.
— А вы знали, что в квартире, где он жил, был убит человек? Может быть, это тоже повлияло на его отъезд?
Кусок пирожного так и лежал на блюдце. Аллочка, кажется, забыла о нем. Особенно сейчас. Она даже выпустила из рук ложку, которой помешивала кофе.
— Да что вы? Вы думаете… Эдик?
— Нет, не думаю. Просто у меня есть к вам небольшая просьба. Собственно, для этого я и встретился с вами. Может быть, Эдик напишет вам Устроится и напишет. Как вы полагаете?
Она ответила чуть быстрее, чем было нужно:
— Конечно, напишет. Обязательно напишет.
Мазин отметил эту уверенность:
— Так вот, если будете отвечать ему, передайте от меня привет. Мы с ним встречались. И потом профессии у нас похожие.
Она глянула удивленно.
— В самом деле. Он чинит приемники, и я тоже чиню… кое-что. Вот вы и напишите, что поломки исправлять нужно вовремя, пока они небольшие. И еще, что он мог бы мне очень помочь, если бы захотел. Вот так. Поняли?
— Да, поняла. Я напишу.
— Прекрасно. А я зайду к вам как-нибудь, спрошу насчет ответа.
— Хорошо. Мне можно идти?
— Если не хотите больше пирожных.
Она встала, взяла свою сумочку, но не ушла:
— Игорь Николаевич…
— Он самый. Вы, я вижу, мое удостоверение наизусть выучили.
— У меня тоже просьба одна.
— Долг платежом красен.
— А те… Лешка и другие… Они не узнают, что я вам говорила? Я же и не знаю ничего.
— Нет, они не узнают. Но вы знаете больше, чем рассказали!
— Что вы?!
Мазин поднял руку:
— Не спешите. Вы знаете больше. Просто вы еще не готовы об этом сказать. Так бывает. Я подожду немножко. Немного, — подчеркнул он. — Долго нельзя. А вы подумайте пока. Ладно?
— Ладно. — И Алла бросилась к дверям.
Мазин проводил ее взглядом, потом глянул на стойку.
«Кажется, я заслужил сегодня стаканчик мадеры».
И отодвинул чашку с остывшим кофе.
Пока официантка брала вино в буфете, он успел сделать несколько пометок в записной книжке. Затрепанная по карманам книжка эта частенько заменяла ему тот обязательный «План расследования», который, впрочем, он тоже аккуратно заполнял от графы «Версии, подлежащие проверке» до «Примечаний». Беда была в том, что последней графы Мазину всегда не хватало. Мало места было отведено для примечаний. А они как-то незаметно становились самым главным.
Но это дело об убийстве Укладникова, пожалуй, побило рекорды по числу примечаний. Появлялись они одно за другим, и некоторые перекочевали уже в «Версии», но тут дело стопорилось: версии оставались только версиями. Одни сложнее, другие попроще. Мазин знал, к сожалению, что человека могут убить даже из-за комнаты. Недаром он спросил в свое время у Семенистого, прописан ли тот постоянно в квартире Кравчука.
Версии возникали разные, но, несмотря на внешнюю убедительность и эффектность, не убеждали. Вмешивалось чутье, основанное на многолетнем опыте. Все вроде прояснялось, перед тобой все как на ладони — иди, действуй, а Мазин барабанил пальцами по столу и вместо действий записывал еще что-то в свою книжку.
Сначала Стояновский со своим топориком — хоть сейчас в криминалистический музей, потом бегство Эдика, телеграмма, тайник, Аллочка. Фактов хоть отбавляй, но не мог Мазин найти среди них тот единственный, который нужно поставить во главу угла и добавлять к нему, прикладывать остальные, как детские кубики, чтобы получилась простая, понятная картинка.
Он даже смешивал нарочно эти кубики. И немало удивился бы Козельский, узнай он, что на свидание с Аллочкой его начальник шел не затем, чтобы окончательно уличить Семенистого, а совсем наоборот, чтобы узнать нечто другое, позволяющее глянуть на них обоих — и Аллочку и Эдика — с иной стороны, заглянуть, если можно так сказать, через них и через Стояновского, подальше, поглубже — туда, где прятался подлинный ключ к разгадке.
Все они имели какое-то отношение к этому ключу, и отношение это нужно было определить, выяснить, чтобы добраться до главного, более сложного, чем довольно вульгарное убийство старого истопника.
Но пока он был доволен. Кое-что из его предположений подтверждалось. И, выпив мадеру, Мазин подумал шутливо: «Прекрасный день — пью вино и ухаживаю за девушками. А жена считает, что у меня тяжелая работа».
Он протянул руку и дотронулся до ее пальцев:
— Алла. Я прекрасно вижу, что вы ни в чем не виноваты. Но сказать все, что вы знаете, вы почему-то не решаетесь. Почему? Боитесь? Не доверяете мне? Попробуйте преодолеть себя. Я хочу помочь вам. Правда. — Он глянул ей в глаза. — Я могу вам пригодиться. — Мазин помолчал. — Но смотрите, как бы вам не опоздать. Бывает, что становится поздно. Ну?
Она заморгала, как будто боялась заплакать:
— Не верю я, что Эдик ему должен. Он сам с него деньги тянул.
— А у Эдика бывали деньги?
— Да, он очень хороший мастер.
— И получал хорошие чаевые?
— Его благодарили люди. Что здесь плохого? Все так делают.
— К сожалению.
Мазин вспомнил кое-что из своего общения с Эдиком.
— А больше он ничего не получал?
— Нет, не знаю.
— Значит, Лешка врет? Зачем же ему тогда Эдик?
Она опять заморгала:
— Ну, не знаю, не знаю… Может, они его в шайку втягивали. Но он хороший, хороший.
«Врет она или говорит правду, но Эдика любит, хотя, может быть, он того и не стоит. Впрочем, что значит, не стоит? Разве это делается по выбору? Да еще в таком возрасте. И так ли уж плох Эдик? Оказалась же эта девчонка умнее и искреннее, чем решил Вадим. Может быть, и я вижу Эдика в слишком темных красках? «Все так делают». Не так-то просто быть лучше тех, кто тебя окружает».
— Вы где живете, Алла?
— В общежитии.
— Вам нравится ваша работа?
— Что в ней хорошего? Бумажки выписывать?
— Мечтаете об институте?
— Трудно это.
— В жизни все нелегко.
— Почувствовала уже.
— Ну ничего, ничего. Все образуется. По-вашему, Эдик скрылся от своих друзей?
— Да, ему хотелось отсюда уехать.
— А вы знали, что в квартире, где он жил, был убит человек? Может быть, это тоже повлияло на его отъезд?
Кусок пирожного так и лежал на блюдце. Аллочка, кажется, забыла о нем. Особенно сейчас. Она даже выпустила из рук ложку, которой помешивала кофе.
— Да что вы? Вы думаете… Эдик?
— Нет, не думаю. Просто у меня есть к вам небольшая просьба. Собственно, для этого я и встретился с вами. Может быть, Эдик напишет вам Устроится и напишет. Как вы полагаете?
Она ответила чуть быстрее, чем было нужно:
— Конечно, напишет. Обязательно напишет.
Мазин отметил эту уверенность:
— Так вот, если будете отвечать ему, передайте от меня привет. Мы с ним встречались. И потом профессии у нас похожие.
Она глянула удивленно.
— В самом деле. Он чинит приемники, и я тоже чиню… кое-что. Вот вы и напишите, что поломки исправлять нужно вовремя, пока они небольшие. И еще, что он мог бы мне очень помочь, если бы захотел. Вот так. Поняли?
— Да, поняла. Я напишу.
— Прекрасно. А я зайду к вам как-нибудь, спрошу насчет ответа.
— Хорошо. Мне можно идти?
— Если не хотите больше пирожных.
Она встала, взяла свою сумочку, но не ушла:
— Игорь Николаевич…
— Он самый. Вы, я вижу, мое удостоверение наизусть выучили.
— У меня тоже просьба одна.
— Долг платежом красен.
— А те… Лешка и другие… Они не узнают, что я вам говорила? Я же и не знаю ничего.
— Нет, они не узнают. Но вы знаете больше, чем рассказали!
— Что вы?!
Мазин поднял руку:
— Не спешите. Вы знаете больше. Просто вы еще не готовы об этом сказать. Так бывает. Я подожду немножко. Немного, — подчеркнул он. — Долго нельзя. А вы подумайте пока. Ладно?
— Ладно. — И Алла бросилась к дверям.
Мазин проводил ее взглядом, потом глянул на стойку.
«Кажется, я заслужил сегодня стаканчик мадеры».
И отодвинул чашку с остывшим кофе.
Пока официантка брала вино в буфете, он успел сделать несколько пометок в записной книжке. Затрепанная по карманам книжка эта частенько заменяла ему тот обязательный «План расследования», который, впрочем, он тоже аккуратно заполнял от графы «Версии, подлежащие проверке» до «Примечаний». Беда была в том, что последней графы Мазину всегда не хватало. Мало места было отведено для примечаний. А они как-то незаметно становились самым главным.
Но это дело об убийстве Укладникова, пожалуй, побило рекорды по числу примечаний. Появлялись они одно за другим, и некоторые перекочевали уже в «Версии», но тут дело стопорилось: версии оставались только версиями. Одни сложнее, другие попроще. Мазин знал, к сожалению, что человека могут убить даже из-за комнаты. Недаром он спросил в свое время у Семенистого, прописан ли тот постоянно в квартире Кравчука.
Версии возникали разные, но, несмотря на внешнюю убедительность и эффектность, не убеждали. Вмешивалось чутье, основанное на многолетнем опыте. Все вроде прояснялось, перед тобой все как на ладони — иди, действуй, а Мазин барабанил пальцами по столу и вместо действий записывал еще что-то в свою книжку.
Сначала Стояновский со своим топориком — хоть сейчас в криминалистический музей, потом бегство Эдика, телеграмма, тайник, Аллочка. Фактов хоть отбавляй, но не мог Мазин найти среди них тот единственный, который нужно поставить во главу угла и добавлять к нему, прикладывать остальные, как детские кубики, чтобы получилась простая, понятная картинка.
Он даже смешивал нарочно эти кубики. И немало удивился бы Козельский, узнай он, что на свидание с Аллочкой его начальник шел не затем, чтобы окончательно уличить Семенистого, а совсем наоборот, чтобы узнать нечто другое, позволяющее глянуть на них обоих — и Аллочку и Эдика — с иной стороны, заглянуть, если можно так сказать, через них и через Стояновского, подальше, поглубже — туда, где прятался подлинный ключ к разгадке.
Все они имели какое-то отношение к этому ключу, и отношение это нужно было определить, выяснить, чтобы добраться до главного, более сложного, чем довольно вульгарное убийство старого истопника.
Но пока он был доволен. Кое-что из его предположений подтверждалось. И, выпив мадеру, Мазин подумал шутливо: «Прекрасный день — пью вино и ухаживаю за девушками. А жена считает, что у меня тяжелая работа».
VIII
Валерий Брусков ощущал собственную значимость. Конечно, человеку постороннему могло показаться, что все последние происшедшие с ним, Брусковым, события случайны, однако сам он думал иначе. «Предположим, в один вагон с вором я мог попасть и случайно, но заметить его, задержать? Нет уж, такое не каждый сумеет». О капитане из Минска, перемахнувшем через состав, когда сам он стоял с подбитой ногой и хотел заплакать, Валерий почему-то не вспоминал. Зато о Козельском помнил все время и даже обижался на Вадима за его скоропалительный, без предупреждения, отъезд. Ведь Брусков уже считал себя приобщенным к важной тайне. И от этого казался самому себе немножко другим человеком. Не тем застенчивым и малоопытным, каким он был на самом деле, а бывалым и уверенным Даже самоуверенным. Но при всем том Брусков и не предполагал, что главная его удача еще впереди. Пока же он занимался подпольщиками. Редактор сразу оценил находку и сказал Валерию: — Действуй, старик! Места не пожалеем, если получится. Действовать было не так уж трудно. Скромная, тихая Майка оказалась на свой лад следопытом. Ее, слабенькую и робковатую, привлекали бесстрашные люди. Самой большой Майкиной любовью была, конечно, РозаКовальчук — личность в ее глазах почти легендарная. — Ей было всего девятнадцать лет. Только замуж вышла перед войной. Муж был пограничник. Погиб в первый же день. А она в Киеве в это время училась, на иностранном… Это Майка говорила Валерию еще в первый день, в гостинице. — Значит, она не местная? — Нет, она эвакуировалась и тут осталась. Ей нельзя было ехать дальше… — Майка покраснела. — Она маленького ждала. — Вот как… Личные дела Розы представляли для Брускова интерес второстепенный, и разговора он не поддержал, а Майка застеснялась и не сказала сразу то, что хотела сказать и что произошло не двадцать лет назад, а совсем недавно и могло бы заинтересовать не только редакцию молодежной газеты, но и Мазина с Козельским. Что поделаешь, существуют вещи, о которых трудно догадаться даже такому сообразительному парню, как Брусков! Валерий углубился в дела военные, не подозревая, что давняя история Розы Ковальчук и события, невольным свидетелем которых он оказался в последние дни, связаны в один тугой узел.Немцы ворвались в Береговое в начале июля сорок второго года. Боев тут сильных не было. Наши ушли как-то сразу, и немцы промчались быстро, не задерживаясь на маленькой станции. Их раскрашенные, лягушиного цвета пятнистые танки, мотоциклы, солдаты с засученными рукавами и красными, обожженными южным солнцем лицами спешили через степь к Волге. Людям казалось, что нет уже силы, способной остановить этот грохочущий поток, пропахший кровью, бензином и потом. Но его остановили. Тогда-то и изменилась в планах немецкого командования роль Берегового. Каждая «нитка», связывающая фронт и тыл, приобрела первостепенное значение. Через станцию к Волге потянулись эшелоны. Солдаты, которых они везли, еще смеялись, шумели, рыскали по ближним дворам в поисках кур и самогонки, играли на губных гармошках и не верили, что обратно им ехать разве что в санитарных поездах. А некоторым и до фронта не пришлось добраться. Фрейлейн Роза сразу понравилась коменданту.^ Худенькая, рыжеватая блондинка, она совсем не была похожа на тех грубых, способных таскать тяжелые мешки женщин, которых он постоянно видел в этой чужой, мрачной стране. Комендант происходил из старинной, очень воспитанной семьи, сохранившей перед фамилией приставку «фон», и мечтал в свое время о научной карьере. Увы, в жизни не все складывается так, как нам хочется. Нацисты на первых порах шокировали его своей плебейской наглостью, но, в конце концов, идет великая война, решается судьба человечества, и каждый честный немец обязан выполнить свой долг. Если немецкий народ доверил свое будущее Гитлеру, то не его, рядового офицера, дело осуждать этот выбор. Он служит своей родине. А ей, видит бог, нелегко. И ему, коменданту, тоже нелегко. Так почему же не взять в комендатуру девушку, которая говорит немного по-немецки и сносно печатает на машинке. Пожалуй, после победы он поможет ей вернуться домой, в Киев, где остались старики родители, всей душой преданные «новому порядку». Комендант даже подарил как-то фрейлейн красивую розу и прочитал маленькое французское стихотворение. Этот интеллигентный офицер не подозревал, что за год до войны Роза окончила курсы радистов Осоавиахима, а сейчас связана с партизанским подпольем. Ночью с самолета в расположении партизанского отряда сбросили рацию. Центр хотел знать, когда и какие эшелоны проходят через Береговое. Рацию эту добродушного вида украинец в соломенной шляпе привез на скрипучей арбе под ворохом свежего сена прямо к хозяйке Розы. Спрятали рацию в погребе, в пустой кадке, завалив всякой всячиной. А застрявший у партизан раненый лейтенант-связист скоро убедился, что Роза ученица толковая. И вот над перепаханной танковыми гусеницами, выжженной снарядами и солнцем степью понеслись точки-тире морзянки, а за линией фронта в маленьком домике с полевой антенной сержант с треугольничками в петлицах диагоналевой, довоенного покроя гимнастерки каждую ночь, прислушиваясь к писку в наушниках, записывал на листке из блокнота огрызком карандаша: «Сегодня в направлении фронта прошли три эшелона с пехотным полком, командует подполковник Штаубе. 1500 солдат усилены противотанковыми батареями». «Вчера через Береговое на фронт проследовали два эшелона пехоты. Петлицы черные. Видимо, эсэсовская бригада». «Через Береговое прошел эшелон с ранеными. Место назначения выяснить пока не удалось». Не все вражеские эшелоны доходили до фронта. Часто встречали их вынырнувшие из облаков советские штурмовики, и тогда в ужасе прижимались к горячей земле обезумевшие гитлеровцы, и корежились, вставая на дыбы, вагоны, и валились с опрокинутых платформ зеленые танки… Конечно, немцы понимали, что налеты эти не случайны. Специальные части, отозванные с фронта, прочесывали балки и левады в поисках партизан, но, казалось, никто не подозревал неприметную девушку из железнодорожной комендатуры. Пришли к ней неожиданно. — Фрейлейн Роза? — Да, я. — Господин комендант прислал за вами машину. Есть срочная работа. А когда она открыла дверь, железные пальцы сжали ей запястье и вывернули руку за спину. Двое солдат пошли прямо в погреб. Она не отрицала ничего. Просто молчала. На один из допросов пришел комендант, но долго смотреть не смог. Ушел к себе, достал из ящика стола бутылку коньяка и сидел, думал. Из-за этой девчонки его отправляли на фронт. Но он не испытывал к ней злобы — она получила по заслугам. Он думал о Германии, которую история свела с таким страшным противником. Думал о том, что на фронте ему предстоит выполнить свой долг и смыть вину. И он выполнил… Труп его пролежал в степи до весны, а когда снег стаял и поля стали очищать от всего, чем забросала их война, собрали и эти смерзшиеся за зиму останки в тонких зеленых шинелях и свезли в общую яму, и женщины в распахнутых стеганках, прикидывая их комьями размякшего чернозема, говорили между собой: — Ну и работа, прости господи… Разве ж это женское дело? — А что поделаешь, милая? На весь хутор три мужика осталось, да и те увечные.. …Но об этом уже Брусков не знал, да и судьба коменданта беспокоила его меньше всего. Ему хотелось побольше узнать о Розе. С Майкой они договорились встретиться после смены, но Валерий решил времени зря не терять и зайти прямо в цех, потому что в своем очерке собирался писать и о Майке, причем показать ее разносторонне. Нельзя сказать, чтобы он понимал все, что происходило вокруг на комбинате. Да и попробуй пойми, как и что делается в этих горячих и мокрых больших машинах, протянувшихся на сотни метров, где твердые коричневые плиты то превращаются в кипящую желтую жидкость, то в белые сухие ватные хлопья, а то прямо из жидкости, из этого булькающего месива с резким, ядовитым запахом, вдруг вытягиваются и мчатся по воздуху блестящие нити и наматываются на стремительно вращающиеся металлические катушки. Л катушки эти какими-то совершенно фокусническими, моментальными движениями меняют молоденькие девчонки в комбинезонах. Майя тоже была в комбинезоне. Здесь, на работе, она не казалась робкой и неуверенной. — Сейчас, я переоденусь только. Идти они собирались в заводской Дворец культуры. Там комсомольцы организовали небольшой музей. — Просто комната одна, но там все собрано. Вот сами посмотрите, — говорила Майя, пока они шли широкой улицей, что тянулась от проходной комбинат до самой центральной площади. Клуб был виден издалека — большой, серый, похожий на многоногого слона. — Хороший у нас Дворец культуры, правда? Как в большом городе. Брусков промолчал. Он предпочел бы здание полегче. Народу в клубе оказалось в это время немного. Какой-то кружковец уныло пиликал на гармошке. Пусто было и в комнате, которая называлась «Музей памяти героев-подпольщиков г. Береговое периода Великой Отечественной войны». Майя подвела Валерия к фотографии молоденькой женщины со вздернутым носом и с длинными, как тогда носили, падающими на плечи волосами. — Вот это Роза, — сказала она с гордостью. Валерий осмотрелся. — А это мы все с ребятами разыскали, — поясняла девушка. — Вещи видите? И сумочка ее, и осоавиахимовский билет. У хозяйки на квартире нашлись. Хозяйку в концлагерь выслали, но она вернулась после войны А Розу повесили. Брусков вздохнул невольно: — Кто же их выдал? — Не знаю. Партизанскую группу, с которой Роза была связана, тоже разгромили. — Жаль, — пробормотал Валерий, думая о том, как же объяснить в очерке арест Розы. — А теперь я вам самое интересное расскажу. — Расскажите. У вас все время есть в запасе «самое интересное». — Нет, это правда интересно, как у людей жизнь складывается. — Как же? — Сын Розы нашелся. Она, конечно, рассчитывала удивить Брускова, но тот и глазом не повел. Он уже забыл о том, что Роза ждала сына. — Какой сын?
 — Да тот, что здесь родился, в Береговом. Без отца уже.
— А он исчезал разве?
Майя глянула с укоризной:
— Ну да. Роза же очень боялась за него, если ее схватят. Поэтому, когда малышу годик сравнялся, его переправили в одну семью на дальний хутор. Лейтенант-связист, что Розу учил, отвез. У него там родня жила. И получилась такая история, что не придумаешь. Эти люди погибли от бомбежки, а мальчика лейтенант, когда наши пришли, передал в какой-то детский дом. И сам тоже погиб. И никто не знал, чей это мальчик. И все потому, что Розы-то фамилия была Ковальчук, а мальчик носил отцовскую — Стояновский.
Фамилия эта, которую Брусков услышал впервые от Козельского, обрушилась на Валерия так неожиданно, что он буквально ошалел, даже в лице переменился.
— Как вы сказали? Как фамилия?
— Да Стояновский. Что это вы так?
Брусков понял, что кажется ей немножко ненормальным, и попытался взять себя в руки.
— Ничего. Ничего. Знакомая фамилия просто.
И подумал: «Неужели совпадение?»
— Как зовут Стояновского?
— Борис.
— Рыжий?
— Да, рыженький.
Валерий почувствовал себя как Шерлок Холмс, нащупавший в гусином зобе голубой карбункул.
— Расскажите мне, пожалуйста, Майя, все, что вы о нем знаете.
Он уже видел себя где-то наверху, на пирамиде какой-то, а внизу стоял беспомощный, неожиданно исчезнувший из Берегового лейтенант Козельский и жалким голосом умолял рассказать о Стояновском. Но он прервал это сладкое видение, чтобы выслушать девушку.
Она встретилась с Борисом Стояновским в этом же музее несколько дней назад и сразу обратила на него внимание. И не только потому, что посетителей было немного, а местных всех она знала наперечет. Нет, Майя сразу почувствовала, что человек этот не случайный. Так смотрел он на все, что собрано в комнате… И Майка не выдержала, спросила:
— Вы тоже интересуетесь подпольщиками?
Он взглянул на нее и ответил не сразу, слегка заикаясь:
— Это… это… — Он дотронулся пальцем до портрета Розы. — Я ее сын. Только я не знал… Мне сказали.
Кто сказал Борису о его матери, девушка даже не спросила — так поразил ее сам факт появления сына Розы Ковальчук. Она вообще ничего не спрашивала. Спрашивал он.
— Мы долго-долго разговаривали, он все расспрашивал и бумаги все перечитал, и даже в гостиницу их брал с собой.
— Какие бумаги?
— Да вот эти. Тут на машинке из газеты перепечатано. Весь процесс, когда фашистских палачей судили после освобождения. Там и про Розу написано. А потом он поехал б оранжерею, купил белые цветы, очень красивые, и отнес к памятнику. И еще он сказал, что обязательно приедет сюда после отпуска и вообще будет часто приезжать, — закончила Майя.
Пока она рассказывала, Брусков успокоился. Даже величия поубавилось. Просто радостно стало.
— Майя, — проговорил он искренне. — Золотой вы человек! И стихи у вас прекрасные. Мы их обязательно напечатаем.
— Да ну их, стихи эти! Вы про Розу напишите.
— Напишу, Маечка, напишу. Вы мне свой отчет, пожалуйста, дайте тоже. Тот, что из газеты перепечатан. Я его использую в очерке. Здорово все это складывается. А Борис не говорил, куда едет?
— В Крым, в Ялту сначала, а потом по побережью.
— А может, он домой вернулся?
— Нет, нет, на юг поехал. Я его провожала.
Еще одна идея осенила Брускова:
— Майя. Послушайте. Вы не помните, какой у него был чемодан? Желтый такой? Новый?
Вообще-то подсказывать ответы в таких случаях не полагается. Но Брусков не был профессионалом. Да и Майя на уговоры не поддалась.
— Никакого чемодана у него не было. Зачем ему чемодан в путешествии? Он с рюкзаком поехал.
— Да тот, что здесь родился, в Береговом. Без отца уже.
— А он исчезал разве?
Майя глянула с укоризной:
— Ну да. Роза же очень боялась за него, если ее схватят. Поэтому, когда малышу годик сравнялся, его переправили в одну семью на дальний хутор. Лейтенант-связист, что Розу учил, отвез. У него там родня жила. И получилась такая история, что не придумаешь. Эти люди погибли от бомбежки, а мальчика лейтенант, когда наши пришли, передал в какой-то детский дом. И сам тоже погиб. И никто не знал, чей это мальчик. И все потому, что Розы-то фамилия была Ковальчук, а мальчик носил отцовскую — Стояновский.
Фамилия эта, которую Брусков услышал впервые от Козельского, обрушилась на Валерия так неожиданно, что он буквально ошалел, даже в лице переменился.
— Как вы сказали? Как фамилия?
— Да Стояновский. Что это вы так?
Брусков понял, что кажется ей немножко ненормальным, и попытался взять себя в руки.
— Ничего. Ничего. Знакомая фамилия просто.
И подумал: «Неужели совпадение?»
— Как зовут Стояновского?
— Борис.
— Рыжий?
— Да, рыженький.
Валерий почувствовал себя как Шерлок Холмс, нащупавший в гусином зобе голубой карбункул.
— Расскажите мне, пожалуйста, Майя, все, что вы о нем знаете.
Он уже видел себя где-то наверху, на пирамиде какой-то, а внизу стоял беспомощный, неожиданно исчезнувший из Берегового лейтенант Козельский и жалким голосом умолял рассказать о Стояновском. Но он прервал это сладкое видение, чтобы выслушать девушку.
Она встретилась с Борисом Стояновским в этом же музее несколько дней назад и сразу обратила на него внимание. И не только потому, что посетителей было немного, а местных всех она знала наперечет. Нет, Майя сразу почувствовала, что человек этот не случайный. Так смотрел он на все, что собрано в комнате… И Майка не выдержала, спросила:
— Вы тоже интересуетесь подпольщиками?
Он взглянул на нее и ответил не сразу, слегка заикаясь:
— Это… это… — Он дотронулся пальцем до портрета Розы. — Я ее сын. Только я не знал… Мне сказали.
Кто сказал Борису о его матери, девушка даже не спросила — так поразил ее сам факт появления сына Розы Ковальчук. Она вообще ничего не спрашивала. Спрашивал он.
— Мы долго-долго разговаривали, он все расспрашивал и бумаги все перечитал, и даже в гостиницу их брал с собой.
— Какие бумаги?
— Да вот эти. Тут на машинке из газеты перепечатано. Весь процесс, когда фашистских палачей судили после освобождения. Там и про Розу написано. А потом он поехал б оранжерею, купил белые цветы, очень красивые, и отнес к памятнику. И еще он сказал, что обязательно приедет сюда после отпуска и вообще будет часто приезжать, — закончила Майя.
Пока она рассказывала, Брусков успокоился. Даже величия поубавилось. Просто радостно стало.
— Майя, — проговорил он искренне. — Золотой вы человек! И стихи у вас прекрасные. Мы их обязательно напечатаем.
— Да ну их, стихи эти! Вы про Розу напишите.
— Напишу, Маечка, напишу. Вы мне свой отчет, пожалуйста, дайте тоже. Тот, что из газеты перепечатан. Я его использую в очерке. Здорово все это складывается. А Борис не говорил, куда едет?
— В Крым, в Ялту сначала, а потом по побережью.
— А может, он домой вернулся?
— Нет, нет, на юг поехал. Я его провожала.
Еще одна идея осенила Брускова:
— Майя. Послушайте. Вы не помните, какой у него был чемодан? Желтый такой? Новый?
Вообще-то подсказывать ответы в таких случаях не полагается. Но Брусков не был профессионалом. Да и Майя на уговоры не поддалась.
— Никакого чемодана у него не было. Зачем ему чемодан в путешествии? Он с рюкзаком поехал.
IX
Ребята подсмеивались над Козельским: — Если ты, Вадька, парень сознательный, то должен написать заявление. — Какое еще заявление? — Так и так, прошу считать мою командировку в счет положенного отпуска. Ведь на курорт едешь, счастливчик! — Да ну вас, черти! Основная трудность заключалась в том, что ни Мазин, ни Козельский не знали, когда именно решил Кравчук ехать в Тригорск. А может, он туда и не собирается? Тогда чемодан в шотландскую клетку придется распаковать. Но пока он оставался наготове. И вот сообщение работника, который вел наблюдение: «Вышел из дому с вещами». Потом второе: «Взял такси, направляется в сторону аэропорта». Мазин только кивнул: — Ну, Вадим, как говорится, с богом. Вы знаете, что делать. В машине уже лейтенант получил по радио третье сообщение: «Такси вышло на Аэрофлотское шоссе». Он положил руку на локоть шофера: — Темп, Витя. Прибавили ходу. В аэропорту Козельский подошел к человеку, что стоял у входа в кассовый зал и старался выжать из красного ящика-автомата стаканчик газировки. Вадим достал три копейки. — Порядок, — услышал он. — Подшефный берет билет. Второй для тебя. Кассирша в курсе. Полетите, как неразлучные друзья. Сотрудник отошел, а Козельский не спеша выпил теплую воду и направился в зал. Борода Кравчука темнела рядом с окошком кассы. Вадим присел на диван и достал из кармана газету. Парень, который вел наблюдение, исчез из зала на несколько минут, потом появился и присел рядом с лейтенантом. Козельский спросил: — У вас спички не найдется? Тот протянул коробок: — Берите, берите, у меня еще есть. — Спасибо. Вадим приоткрыл коробок и увидел свернутый билет. Он опустил спички в карман. Операция «Нарзан», как шутливо назвал его поездку Мазин, началась. Пошутил он так, впрочем, под самый конец, когда уже сказал Козельскому все, что нужно было сказать. Пошутил и подвел итог: — Задача ваша, Вадик, может оказаться и простой и сложной Вернее, она может в любой момент резко усложниться. Это первое. А второе вот что. Кроме наблюдения за Кравчуком, я дам вам еще одно поручение. Вы помните о письме Дубининой? — В котором не было ничего особенного? — К сожалению. Поэтому узнайте об этой женщине как можно больше. Козельский хотел что-то сказать, но Мазин остановил его: — Вадим, вы умудряетесь совмещать исполнительность со склонностью к увлечениям. Временно эту склонность сдерживайте. Вам потребуется прежде всего исполнительность. — Он подождал, пока лейтенант поймет его мысль, к закончил. — Разумеется, максимум внимания Кравчуку. Сейчас он для нас фигура номер один. Ведь мы так и не выяснили, где он был в день убийства. Во всяком случае, не в Москве. Постарайтесь познакомиться с ним. Так вам будет легче. Эти слова Козельский вспомнил, когда стремительный лайнер, незаметно превратившийся из чуда в средство передвижения, покатился по взлетной полосе навстречу зеленой весенней степи. Потом степь отделилась от самолета и оказалась уже не впереди, а по бокам и внизу, все ниже и ниже. Козельский повернулся к сидящему рядом Кравчуку: — Отличная машина. Тот ответил кратко: — Сначала нужно долететь. Для Козельского эти слова прозвучали почти как признание вины. Ему казалось, что каждый преступник суеверен. Кравчук между тем вытащил из-под чемоданного ремня журнал и развернул на последней странице. В руках его появился карандаш и большой, с красной ручкой, заграничный нож. Открыл он его, нажав на какую-то пружину, и начал широким блестящим лезвием подтачивать маленький карандаш. Козельский с интересом посматривал, как огромные руки Кравчука ловко справляются с этой хрупкой работой. «Прямо секретарша», — подумал Вадим неприязненно. Нож в руках Кравчука слегка действовал ему на нервы. Наконец геолог закончил, аккуратно ссыпал стружку в пепельницу и принялся за кроссворд. Он быстро, почти не задумываясь, заполнял строчку за строчкой, причем шел не от найденных уже слов, а прямо подряд, номер за номером, сначала все по горизонтали. Загвоздка наступила на цифре семнадцать. Козельский прочитал, скосив глаза, — «косвенное доказательство вины». Кравчук ткнул себя карандашом в подбородок. Разноцветная палочка утонула в густой бороде. — Улика, — назвал Козельский машинально. Геолог подсчитал буквы, дотрагиваясь до клеток кончиком карандаша. — Верно. Не сообразил. — Всегда что-нибудь не угадаешь. Я еще ни одного кроссворда не добил до конца. — У меня были. Мы в партии соревновались. Попадется старый журнал… Я геолог. А вы? — Я химик. — Химик? Козельский уловил недоверие в голосе геолога. — Да, второй год работаю. После института. — И нравится? Химия? — Конечно, — ответил Вадим. — Почему бы и нет? — Воздуха мало. Отрава одна. — Вот и еду подышать, в отпуск. Кравчук, кажется, больше не сомневался, и Вадим остался доволен завязавшимся разговором. Он не собирался расспрашивать Кравчука. Пока нужно было лишь познакомиться, чтобы иметь возможность встречаться в Тригорске. Да и говорить-то было особенно некогда — весь полет занял меньше часа. — Я тоже на отдых, — сказал геолог. — Нужно квартиру подыскать. Жена приедет. Домов отдыха не люблю. Диким лучше. Свободней. Сейчас с квартирами легко. Весна. Вот летом попробуй. Вадим поддержал его: — Месяц и я на одном месте не выдерживаю. Поэтому определенными планами себя не связываю. Пока приятель помог достать номер в гостинице. — Если один, что связывать. А у меня жена. В прозрачном синем небе рельефно прочертилась снежная гряда на горизонте, и совсем близко, прямо среди равнины, выросли отдельные, похожие на сахарные головы горы. Одна голова, пониже, стояла со сломанной верхушкой. Вместо нее торчали три скалистых обломка, а у подножия их — маленький зеленый городок. Это и был Тригорск. Они сели в микроавтобус — маршрутное такси и покатили в город, вдыхая особенный здешний воздух, словно составленный из острых, покалывавших легкие холодных кристалликов, лопавшихся внутри, как пузырьки шампанского. От воздуха этого Козельскому стало весело и не верилось, что черный, мрачноватый Кравчук, возможно, убийца и опасный преступник. Распрощались они у Цветника — яркого бульвара, обсаженного жесткими вечнозелеными кустарниками. Здесь был центр, гуляли отдыхающие и пили целебную и неприятную на вкус воду из плоских голубых- кружек. — Ну, счастливо найти подходящую квартиру, — пожелал Козельский. — Я, между прочим, в «Эльбрусе» буду. — Прекрасно. Возможно, увидимся. — Почему бы и нет? Пока супруга не приехала, вы ведь холостяк. Кравчук вроде бы улыбнулся. — Заходите в гостиницу, если скучно будет. Моя фамилия Козельский. Он протянул Кравчуку руку и поднялся в вестибюль, отметив мельком, что парень в ковбойке, ехавший с ним в автобусе, направился в противоположную сторону. В заказанном для лейтенанта номере у окна, выходившего на Цветник, сидел в кресле человек лет тридцати пяти в костюме спортивного покроя. — Лейтенант Козельский? Я капитан Волоков. Мне звонил Игорь Николаевич. — Ясно. Это ваш парень в ковбойке? — Наш. Кравчук пошел в квартбюро? — Да. Так сказал. — Хорошо. Юра его проводит. Мы там подобрали два — три подходящих адреса. Пусть устраивается. Какое он на вас произвел впечатление? — Быку шею свернуть может. — Здоровый мужчина, ничего не скажешь. Вас, кажется, еще Дубинина интересует? — Дубинина тоже. — Личность любопытная. Капитан отодвинул штору. — Видите, там, на горке, домик в псевдоготическом стиле? — Вижу. Санаторий? — Санаторий. Сейчас. Шахтерский. А до революции принадлежал папаше этой Дубининой. Был такой предприниматель от медицины. — Где же он теперь? — Ну, теперь… Там, где медицина уже не требуется, я думаю. Дочке-то под пятьдесят. Впрочем, о папаше у нас сведений никаких нет. Ушел в свое время с белыми. Вот и все. — И дочку бросил? — Представьте себе. Дочка с матерью осталась. Мать умерла в пятьдесят четвертом году. Здесь и похоронена, на местном кладбище. Сама Валентина перед войной в пединституте училась. Это перед войной. А вот в войну… нехорошо вышло. Переводчицей в городской управе работала при немцах. Капитан Волоков прошелся по номеру, и Козельский заметил, что через его светлые волосы пробивается лысина. Как бы поймав взгляд лейтенанта, Волоков пригладил рукой макушку.
— Но есть и смягчающие моменты. Отказалась от санатория, который предлагали возвратить ей оккупационные власти. Помогала кое-кому из местных жителей, когда шла массовая отправка в Германию. В общем, вела себя двойственно. Но была осуждена. Вернулась в пятьдесят шестом. С тех пор живет в материнском домике. Ни в чем не замечалась. Иногда пьет. Но всегда одна и тихо.
Козельский подумал, что Дубинина знает Укладникова по ссылке.
— Спасибо. Без вашей помощи я тут ничего не сделаю.
Волоков воспринял эти слова как должное.
— Вы к нам, конечно, не ходите. Связь будем держать по телефону, и я захаживать буду. Думаю, что Игорь Николаевич в обиде не останется. Я с ним работал немножко.
Простились они довольные друг другом. Козельский стянул пропотевшую рубаху и пошел принимать душ. В коридоре заманчивая блондинка с соломенной сумкой осмотрела его довольно внимательно.
«Курорт», — вспомнил Вадим насмешки товарищей, но не выдержал и оглянулся. Сзади блондинка показалась ему еще лучше.
Капитан Волоков прошелся по номеру, и Козельский заметил, что через его светлые волосы пробивается лысина. Как бы поймав взгляд лейтенанта, Волоков пригладил рукой макушку.
— Но есть и смягчающие моменты. Отказалась от санатория, который предлагали возвратить ей оккупационные власти. Помогала кое-кому из местных жителей, когда шла массовая отправка в Германию. В общем, вела себя двойственно. Но была осуждена. Вернулась в пятьдесят шестом. С тех пор живет в материнском домике. Ни в чем не замечалась. Иногда пьет. Но всегда одна и тихо.
Козельский подумал, что Дубинина знает Укладникова по ссылке.
— Спасибо. Без вашей помощи я тут ничего не сделаю.
Волоков воспринял эти слова как должное.
— Вы к нам, конечно, не ходите. Связь будем держать по телефону, и я захаживать буду. Думаю, что Игорь Николаевич в обиде не останется. Я с ним работал немножко.
Простились они довольные друг другом. Козельский стянул пропотевшую рубаху и пошел принимать душ. В коридоре заманчивая блондинка с соломенной сумкой осмотрела его довольно внимательно.
«Курорт», — вспомнил Вадим насмешки товарищей, но не выдержал и оглянулся. Сзади блондинка показалась ему еще лучше.
В уголовный розыск Козельский попал не сразу. В школе он мечтал о химическом факультете. Учительница говорила: «Химия — это единственная наука, которая все может сделать из воздуха». И демонстрировала чудеса в пробирках. Но на вступительных экзаменах ему не хватило того единственного балла, без которого… Короче, в ожидании лучших времен пришлось пойти на завод. А там никаких чудес не было. Просто делали краску, да еще такую, что покупатели присылали директору недобрые письма. Вечерами Вадим дежурил в дружине. Дежурил потому, что нужно было. Ходили по улицам, иногда уговаривали какого-нибудь пьяного дурака не ругаться громко А так больше анекдоты травили. Однажды они сидели в районном отделе, ждали, куда пошлют, перешучивались. На столе дежурного затарахтел телефон, и кто-то, не назвавший себя, пробормотал впопыхах: — В ресторане «Кавказ» в малом зале под фикусом парень в болгарском свитере. Так у него пистолет под пиджаком… Трубку повесили. Дежурный махнул рукой. — Каждый день такие хохмы Но все-таки придется вам смотаться туда, хлопцы. На всякий случай. Лейтенант, с которым они поехали, тоже был уверен, что это очередной розыгрыш, но оказалось, что был это совсем не розыгрыш. Треснул внезапно выстрел, и остановился, будто ткнувшись в стену, лейтенант, и замерли обомлевшие ребята, а бандит метнулся в подворотню и исчез. Да его и не ловил никто — не ожидали они этого выстрела. И когда Вадим стоял, окаменев, в бледном, голубом пятне света, падавшем из окна ресторана, он не знал еще, что выбор его определился. Но прошло еще почти четыре года, три из которых в пограничном гарнизоне, пока вошел он в кабинет Мазина, и тот, поглядев Вадимовы бумаги, спросил: — К нам, значит? — Так точно. — Не боитесь? — Да нет вроде. — Все сначала не боятся. Вадим вспомнил мокрую улицу, выстрел, стеганувший из тишины, капли пота на лбу умирающего лейтенанта, который тоже не боялся. — Я знаю. — Это хорошо, если знаете. Но знать мало. Помнить все время нужно. И думать тоже… Вы думать любите? Козельский смутился: — Да разве ж про себя так скажешь? — А почему бы и нет? Попробуйте. Мазнна интересовал не сам ответ, а то, как он будет сказан. — Ну, что же вы? — Да вот думаю, что сказать. Мазин засмеялся: — Ладно. Думайте.
Освеженный и отдохнувший, Козельский вышел из гостиницы, когда до вечера оставалось еще часа два. Он решил прогуляться на Лермонтовскую, где жила Дубинина. В маленьком, усаженном цветами дворике сухопарая женщина с гладко зачесанными седыми волосами и тонкими, поджатыми губами подстригала садовыми ножницами кусты. — Не скажете, как пройти к Цветнику? Женщина подошла к невысокому заборчику и посмотрела на Вадима неприветливыми светлыми глазами. — Пройдите два квартала, сверните направо. Это прозвучало точно и сухо. — Благодарю вас. — Пожалуйста. Так он и сделал. Прошел два квартала и свернул вниз по бульварчику, вливавшемуся в Цветник, когда на одной из туфель у него развязался шнурок. Лейтенант присел на скамейку. А когда поднял голову, покончив со шнурками, то увидел Кравчука. Геолог шел по противоположной стороне бульвара, но не вниз, а вверх, шел довольно быстро, глядя прямо перед собой Потому он и не заметил сидящего Козельского. «А городок-то узковат», — Вадим проводил взглядом своего «подшефного». Тот дошел до перекрестка н свернул на Лермонтовскую. Парня в ковбойке не было видно. «Может, это и верно, не нужно быть навязчивым», — подумал Вадим и пошел снова вниз к Цветнику. Там, по его мнению, могла находиться блондинка, одинаково привлекательная со всех сторон. Блондинку в этот вечер он не нашел, а на другой день ему уже было не до нее. Разбудил лейтенанта телефонный звонок. — Козельский? — Я. Кто это? — Волоков. Ночью умерла Дубинина. — Что? Да она ж вчера была жива и здорова. — Вчера была, а сегодня нет. Отравилась газом. — Случайно? — Пока решить трудно. Можно предполагать самоубийство. — Курорт, — сказал Вадим, кладя трубку.
X
Мазин был не так уж не прав, когда в разговоре с Аллочкой назвал «кожаного» дураком. Но бывает, что и дуракам приходят в голову удачные мысли. Особенно когда их подхлестывает злоба. А «кожаный» и был из таких злобных дураков, потому что, будь он поумнее, он давно догадался бы, что разыскивать Эдика не следует, а следует даже, наоборот, радоваться его исчезновению. Но, кроме злобы, «кожаного» вела жадность. Когда же злоба и алчность соединяются в таких людях, те уже не в состоянии осмотреться по сторонам, а самые «умные» идеи, которые приходят им в это время в голову, ведут только к гибели и их самих, и других людей. Ошибка же Мазина заключалась в том, что он считал путь этот довольно длинным, и предполагал, что есть еще время пересечь его. Это была ошибка, но не вина. Виновата была Аллочка, которая скрыла главное. Главное и еще одну мелочь. Впрочем, мелочей в подобных историях не бывает. Знай Мазин эту мелочь, главное открылось бы ему почти наверняка. Но он поверил Аллочке, когда она сказала, что живет в общежитии. А это было правдой лишь частично. И «кожаный» имел на этот счет более точные сведения. Поэтому, когда он зашел в общежитие, его ничуть не удивил ответ вахтера: — Нету ее. Вахтер, седоусый старик в наглухо застегнутом толстом черном френче, сидел за своим столиком и пил крепко заваренный чай. — Я знаю, где она? Я ей не сторож. Я за общежитие в ответе, за народную собственность, а за девчонками пусть воспитатели смотрят. А ты кто такой, что ее спрашиваешь? — Брат я, папаша, двоюродный. — Бра-а-ат… — протянул дед подозрительно. — Знаем мы вашего брата! Хорошо еще, если в загс позовет, а то и под куст в парке. — Ну, ты это, дед, брось! Тебе толком говорят: брат я. Ждать мне некогда: проездом я, понял? Где ее комната? Записку я Алке оставлю. Вахтер посмотрел на шоферскую куртку и загорелое лицо «кожаного» и уступил. Через несколько минут тот разговаривал с Катей, что жила вместе с Аллочкой. Но говорил он уже другое: — Вот что, сестренка, от Эдика я. Знаешь такого? С Аллой поговорить нужно вот так… — Он провел ребром ладони по толстой шее. «Кожаному» и в голову не пришло, что Аллочка могла не довериться подруге. Он в такие тонкости не вдавался и оказался прав. Но хотя точного адреса заболевшей тетки, у которой последние дни ночевала Аллочка, Катя не знала, все же помнила улицу и ближайшую трамвайную остановку: с год назад они заходили к этой тетке вместе. Сведения эти «кожаного» вполне устраивали. Он вышел из общежития веселый, сел в машину, потому что действительно был шофером, и погнал на Казахстанскую. Улица эта находилась в районе частной застройки, и соседи тут хорошо знали друг друга. — Мамаша! — «Кожаный» остановился возле скамейки, где две немолодые женщины лузгали семечки. — Где Козловых дом будет? — А вон, сынок, с голубыми ставнями. — Спасибо, — сказал «кожаный» и поднял боковое стекло. Мимо флигеля с голубыми ставнями он проехал не спеша, так что успел прочитать на воротах фамилию домовладельцев. — Ну, ты глянь, вот бестолковый парень! Мимо проехал! — посетовали тетки на скамейке. Преследуя Аллочку, «кожаный», как и Мазин, думал, что Эдик унес ноги подальше и переписывается с ней на теткин адрес. Однако дело обстояло иначе. Поговорив с Мазиным, Аллочка села в трамвай и, убедившись, что за ней больше никто не следит, попыталась обдумать происходящее. Было это нелегко, но кое-что ей удалось. Во всяком случае, с трамвая она сошла спокойная и решительная. В ближайшем магазине купила бутылку водки, две пачки дорогих папирос и банку шпрот, положила в сумку и с покупками направилась на Казахстанскую. Собака за забором загремела было цепью, но, узнав Аллочку, притихла. Калитку открыла тетка. — Здравствуйте, тетя Даша. Ну, как тут у вас? — Да все так же. Тетка выглядела не столько больной, сколько недовольной. Говорить она больше ничего не стала, а молча повернулась и зашлепала задниками стоптанных туфель по дорожке, что вела к дому. Аллочка направилась следом, но не в дом, а обошла его и постучала в маленькую дверку легкой пристройки — не то сарая, не то летней кухни. — Ты, что ли? — послышался хриплый голос. Звякнула щеколда, и Аллочка оказалась в помещении с окнами, прикрытыми ставнями. Здесь, рядом со столярным верстаком, стояла железная койка. Человек, открывший дверь, тут же улегся на смятую постель. Наверно, и Мазин не сразу узнал бы в нем Эдика Семенистого. В этом Эдике не было ни малейшего лоска. Вместо модных полубачек — небритая, взлохмаченная щетина, осунувшееся, побледневшее лицо. Даже колечко уже не поблескивало, а как-то пожухло и болталось на похудевшем пальце с нестриженым, грязным ногтем. — Водки принесла? — спросил Эдик тускло. Чувствовалось, что вопрос этот задает он не впервые, но на положительный ответ не надеется. — Принесла. Эдик приподнялся недоверчиво. Алла достала бутылку, папиросы и шпроты, поставила на верстак. — Сейчас у тетки возьму поесть. — Не надо. Я не голодный. Ничего не надо. Выпил он жадно, отдышался, взял одну рыбку, пожевал. — Вроде полегчало, — сказал удовлетворенно. — Выпьешь со мной? Алла покачала головой: — Мне на нее смотреть противно. — С каких это пор? — С нынешних. И тебе в бутылку заглядывать нечего. — Ну-ну… Командуешь! Думаешь, как посадила меня в эту конуру, так я уже в подчинении у тебя? От такой жизни денатурату напьешься, не то что «белой головки». — Не я тебя сюда посадила, а глупость твоя. — Знаешь… — Ладно, не психуй! Послушай-ка, что я тебе скажу. — Еще что-нибудь на мою голову выдумала? — Я сейчас с Мазиным разговаривала. Помнишь такого? Эдик отставил стакан: — Заложила? — Дурак! Сам он меня нашел. — Да тебя-то он откуда знает? — Он, по-моему, все знает. Кроме того, что ты здесь сидишь. Думает, уехал, а я знаю куда. — Ну, а ты что? — Да ничего. Сказала, если напишешь — сообщу. Семенистый улыбнулся: — Правильно. Ты голова все-таки. — Эдик! Ты меня любишь? Он потер кулаком небритую щеку: — Сейчас до этого разве? Аллочка поднялась с табурета: — Значит, не до этого? А я, дура, прячу тебя, сама рискую, тетку подвожу, старую женщину. Из-за кого? Из-за такой свиньи! — Алка! Подожди, подожди! Ты ж знаешь! Если б я… Я бы сам тут не сидел. В Сибирь бы подался. А то заперся, как дезертир какой. Из-за тебя же. Сама знаешь. Думаешь, мне легко? Нервы все натянулись. Видишь, аж пальцы дрожат. — От водки они у тебя дрожат. — А пью с чего, думаешь? Сладкая она? Будь она проклята! Семенистый со злостью стукнул по столу, схватил со стола недопитую бутылку и швырнул ее в угол сарая, на стружки. У Аллы по щекам побежали слезы: — Что же нам делать, Эдик? — Говорил я, что делать! В Сибирь, на стройку подаваться.. — Да найдут и там. — Ну, лучше придумай. — Эдик, а что, если к Мазину сходить? — Тронулась? Алла быстро смахнула со щек слезы, села на кровать рядом, заговорила горячо: — Эдик, ну послушай, Эдик! Ведь не скроешься же. За мной Лешка по пятам ходит. Сегодня парня какого-то подослал. Лучше уж Мазину открыться. Расскажешь все как было. — Суку хочешь из меня сделать? — А кого ты жалеешь? Они ж тебе мстить хотят! — Нечего мне мстить! Не виноват я перед ними. — Да не верят же они тебе! Найдут — зарезать могут! Лучше к Мазину попасть, чем к ним. Семенистый стукнул кулаком по верстаку: — Дура дремучая! Да Мазин, ты понимаешь, чего за мной ходит? Понимаешь? Думаешь, Мазину эта мелочевка нужна? Мазин мне вышку строит! Слыхала такое слово? Знаешь, что за убийство полагается? — Но не ты ж убил. — А докажет кто? — Я там была! — Ты! Это тоже доказать нужно. Никто тебя не видел. — Все равно, Мазин разберется. Я ему верю! Он хороший! — Ух дура, вот дура! Для того он и хороший, чтоб таких соплячек, как ты, на крючок ловить. Думаешь, они там правду ищут? У них свой план есть, свой процент. Шлепнули — и точка. Значит, открыли, — значит, хорошо работают. А я им по всем статьям подхожу.
— Ну, что же делать-то, Эдик?
— Уеду я. И ты со мной. После.
— И всю жизнь дрожать от страха?
— Чего там, всю жизнь! Меня не найдут — другого попутают. Им бы галочку поставить. Вот и конец делу.
— А Лешка? Я их еще больше боюсь. И зачем ты в этот шкаф полез!
— Ух дура, вот дура! Для того он и хороший, чтоб таких соплячек, как ты, на крючок ловить. Думаешь, они там правду ищут? У них свой план есть, свой процент. Шлепнули — и точка. Значит, открыли, — значит, хорошо работают. А я им по всем статьям подхожу.
— Ну, что же делать-то, Эдик?
— Уеду я. И ты со мной. После.
— И всю жизнь дрожать от страха?
— Чего там, всю жизнь! Меня не найдут — другого попутают. Им бы галочку поставить. Вот и конец делу.
— А Лешка? Я их еще больше боюсь. И зачем ты в этот шкаф полез!
А Лешка и «кожаный» сидели в это время в пивной на набережной. «Кожаный» был в настроении: рассказывал, как нашел Аллочкину тетку, и похохатывал, довольно сплевывая на пыльный пол. Под мраморным столиком стояла пустая четвертинка. — Ну баба — умора, я тебе скажу! «Вон он, сынок, вон он, с голубыми ставнями!» — повторял он со смехом и дышал на Лешку луком и водочным перегаром. На рукав «кожаного» сел комар. Он хлопнул ладонью, стряхнул раздавленного комара, и лицо его стало злобным. — Вот так я и эту тварь прихлопну, семенистую. Вся икра с него потечет. Лешка смотрел и молчал, наморщив низкий лоб. — Ну, чего молчишь? — Нужно ж его найти. — Я его, гниду, на Кушке разыщу. По копейке все с него выдавлю. — Нам его трогать не нужно. — Как не нужно? А деньги? — Деньги теперь с него черта с два получишь. Плакали наши денежки. Но он нам заплатит, дорого заплатит! — Ясней говори, не темни. Лешка нагнулся поближе: — Нужно его найти и про старичка шепнуть куда следует. «Не там, граждане сыщики, убийцу ищете». Короче, общественность помогла обезвредить опасного преступника. Уразумел? — Ха-ха! Это неплохо! Сам придумал? — «Хозяин» подсказал. Мы так двух зайцев прикончим. И за денежки расквитаемся, и легавых от себя отведем. — Неплохо было б. Может, по стакану вина за такое дело? — И так намешали. — Все одно к одному. Эй, родимая, красненького два по двести! Выпили, поморщились, заели редиской, взялись за пиво. — Завтра про тетку «хозяину» расскажу. — Завтра? Точно. Слушай, а может, нам сейчас к ней наведаться? — Зачем? За гланды подержать? — Ни-ни! Ни в коем случае! Потолкуем культурненько. Пришли к вам, мамаша, от чистого сердца. На неправильный путь племянница ваша встала, с опасным человеком связалась, спасать девочку нужно. — Ну, ты даешь! — Чего «даешь»? Может, она нам адресок и выложит. Тогда с «хозяином» совсем другой разговор получится. Толково придумано? — Выпили мы много… — Прямо! Да я сейчас могу машину по всему центру провести, ни один «оруд» не свистнет. И ты в норме. — Я-то в норме. А запах? — Тю, запах! Его, знаешь, сухой чай снимает. Зайдем сейчас в «Гастроном», купим пачку. — Жалко деньги переводить. — Да я сам куплю. — Ну давай. — Любезная, уходим мы, получи за горючее.
Эдик укладывался. Был он из тех людей, что решения принимают быстро. И не столько от избытка решительности, сколько из упрямства. Перечить ему было бесполезно. Зато натолкнуть на мысль, внушить, что это его собственная мысль, а на самом деле навязать, что ему и в голову не приходило, — такое с ним проделывали. И Аллочка тоже. Но на этот раз он взбунтовался, а ей уже было не до хитростей. Слишком затянулась эта передряга, в которую попали они так неожиданно. И не верилось уже, что совсем недавно летели веселые деньки и вечера в ресторанах, где Эдик чувствовал себя как рыба в воде, умел потолковать с официантом, заказать музыку и даже не напиться, как другие, до неприличия. Аллочке тогда все подруги завидовали. А теперь? Грязный сарай, подпольная жизнь и совсем другой Эдик-крикливый, злой, капризный, а главное — жалкий, похожий на издерганную, раздражительную бабу… А она еще любит его, дура такая. Любит, потому что, несмотря на модную челку, она обыкновенная и очень неплохая девчонка, которая хоть и не прочь повеселиться, но меру знает и хочет, чтобы все было хорошо и чтобы замуж выйти и детей нарожать. А для этого Эдик ей на свободе нужен, не в тюрьме, и вообще она никак не может его бросить, раз она его любит. Потому и водки купила, и Мазина обманула, и прячет его, не хочет, чтоб он уехал. А Эдик? Странно складывалась его жизнь, хотя вроде бы ничего странного в ней и не было. Просто несли его какие-то волны, а он не барахтался. И даже был доволен, покачивался на волнах, как курортник в Сочи, и не заметил, что утянуло за красный бакен. Думать Эдику и в самом деле как-то не приходилось. Сначала им распорядился отец — увез из деревни. В городской школе пришлось трудновато. И хоть Эдик был довольно смышленым, особой необходимости в учении не чувствовал. В том кругу, где вращались они с отцом, ценились не знания, не аттестаты, а рубли-копеечки, на которые и домик построить можно, и позволить себе по кружке пива с друзьями. Оказалось, что и Эдику так думать легче. Школу он бросил, пошел добывать собственные рублики. Место попалось хорошее, не пыльное — ателье по ремонту бытовых приборов. Чинить электробритвы научился он и без физики. Чинил хорошо, так что благодарственные полтиннички всегда позванивали в кармане. Но он их не копил, легко они приходили и уходили тоже легко. Считал, что жить нужно полегче. Понять смысл — и жить. А смысл простой: сто рублей лучше, чем рубль. Умного человека, дескать, деньги сами находят. Потом полтинников стало маловато. Перешел на приемники — пошли рубли. Постепенно к деньгам трудовым, нелегким он начал относиться свысока, презрительно. Посмеивался над заводскими «работягами», зато стал уважать тех, кто ворочал большими деньгами. И не мог отказать таким людям в небольших услугах — ну, скажем, вещицу дефицитную реализовать. Тем более что услуги эти всегда оказывались вознагражденными. Так сошлись они с Лешкой, который к этим людям стоял совсем близко. Получалось у Эдика все легко, просто. Не думал он ни о каких нарушениях и осложнениях. До тех пор не думал, пока не ударило его крепко. И тогда засел он в теткином сарае, но и там осмыслить происшедшее толком не смог и решил бежать. И вот он складывал вещи в небольшой чемоданчик. — Возьму самое нужное. Остальное ты привезешь. — Ничего везти я не буду. Не нужно тебе ехать. — Брось ты, Алка! Все наладится. В Сибири, говорят, климат здоровый. Он побрился и вообще привел себя в порядок. Принятое решение вывело его из апатии. — Не ошибись, Эдик! Мазин сказал, что поздно будет… — Пускай дураков в другом месте ищет…
Лешка и «кожаный» сошли с трамвая. — Тут рядом, квартала полтора. — Постой, давай водички выпьем. От чая весь рот свело. Они подошли к автомату. — Веришь, увидал бы я его сейчас, подлюгу, голову б из туловища без штопора вывинтил. Я б его за наши деньги… — Ладно, ладно! Далеко он отсюда. На перекрестке было многолюдно. Стрелки часов показывали только половину десятого вечера. Человек пятнадцать ждали трамвая на остановке. У телефонной будки, неподалеку от автоматов с водой, шестнадцатилетний паренек Володька Соловьев ждал, пока наговорится какая-то громкоголосая толстуха. Позднее он рассказывал Мазину: — Понимаете, стою я и жду. Витьке хотел сказать, что завтра литературы не будет. Элина заболела. Это учительница наша. А толстуха чешет и чешет… Ну что поделаешь? Жду, понятно. Смотрю, подошли двое, воду пьют, пьяные, видно, матерят кого-то. Но я не прислушивался. Вдруг один, в кожанке, другого дерг за руку. «Вот он, сволочь!» — как заорет. И показывает через дорогу. А там парень с чемоданчиком. Как раз под фонарем проходил. Услыхал он их, повернулся. Кажется, хотел убежать, но они быстро наперерез. Посреди улицы встретились. Не той, где трамвай идет, а Казахстанской, асфальтированной. От меня метров пятнадцать. Тот, что пониже, говорит: «Привет, сибирячок! В отпуск приехал?» «Сибирячок» — это я точно запомнил. Они громко говорили. Я, конечно, ничего такого не ожидал, народу полно, не поздно еще. С минуту они потолковали, не понял я о чем, но тот, с чемоданом, будтооправдывался. Вдруг парень в кожанке крикнул: «Знаю я, куда он собрался!» И как даст ему. Тот и свалился. «Вот это, — думаю, — нокаут!» Тут меньший схватил того, что в кожанке, за рукав, и они пошли по улице. Люди смотрят, ничего не понимают. А я вижу: от того, что лежит, вроде змейка по асфальту побежала. Я к нему, а он и не шевелится…
XI
Возле домика Дубининой толпились люди, но милиционер не пускал никого дальше калитки. Узнав Волокова, он поднес пальцы к козырьку. Волоков кивнул. Они с Козельским вошли в небольшой двор, где вчера еще живая и здоровая Дубинина подстригала разросшиеся кусты. Через весь двор по земле тянулась толстая проволока с кольцом, за которую крепилась цепь. На этой цепи могла бегать большая мохнатая дворняга, но теперь цепь обмотали вокруг дерева, и собака только рычала из-под будки на незнакомых людей, хозяйничающих во дворе. Лаять, видно, она уже устала. Домик оказался совсем небольшим: кухонька, в которой пахло какими-то засушенными травами, и одна комната. В комнате, в кресле, сидел медицинский эксперт, молодой парень с институтским значком на пиджаке, и гладил рыжего котенка. Котенок норовил ухватить эксперта лапками за палец. У раскрытого настежь окна, за письменным столом, пристроился следователь. Поминутно стряхивая плохо работающую авторучку, он выводил на листке бумаги: «7 мая 196… года я, следователь прокуратуры города Тригорска, юрист 2-го класса Васюченко М.К., в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составил протокол осмотра местонахождения трупа с признаками…» Понятые — мужчина лет шестидесяти и женщина в косынке, с растрепанными волосами, неожиданно оторванные от каких-то повседневных занятий, пристроились у стенки на стульях. — Это товарищ Козельский, — коротко бросил собравшимся Волоков. Потом он подошел к кровати, где, накрытая с головой простыней, лежала Дубинина. Козельский оглядел солнечную комнату со старой приземистой довоенной мебелью, фотографиями на комоде и столом, накрытым клеенкой, на котором стояли пустая бутылка из-под «Московской», стакан и тарелка. — Что нового, Матвей Кириллович? — спросил Волоков. Следователь, не отрываясь от бумаги, пожал плечами: — Ничего пока. — А у тебя, Глеб? — Типичное газовое отравление. Волоков повернулся к Козельскому: — Похоже на несчастный случай. Нет никакой записки, вообще приготовлений не заметно. Да и смерть скорее всего наступила во время сна. Так, Глеб? Эксперт кивнул, не выпуская из рук котенка: — Да, конечно. После вскрытия можно будет установить время смерти поточнее, но, я думаю, не позже двух. — А откуда шел газ? — Плитка в кухне. — Значит, дверь была открыта? — Да. — Кто обнаружил труп? — спросил Вадим. — Соседка. — Может быть, с ней поговорим? — Обязательно. Вы, Матвей Кириллович, заканчивайте свое сочинение, а мы еще разок с Алтуфьевой потолкуем. Козельский с удовольствием вышел на воздух. Лейтенант не считал себя трусом, но трупы действовали на него удручающе. Соседку одолевали любопытные. — Разрешите, товарищи! — настойчиво произнес Волоков. — Нам нужно побеседовать с Марией Федоровной. — Да что ж беседовать-то? Все я вам уже сказала. Она, Валентина, Дубинина то есть, говорит мне вчера: «Пойдем, Маша, завтра на рынок пораньше». А мне картошки нужно было, да и курочку хотела купить. Вот и говорю: «Пойдем!» А сегодня жду — нету ее. Удивилась я, потому что Валентина вставала всегда рано. Смотрю, во дворе не видно, да и окна закрыты. «Вот, думаю, разоспалась, а меня подводит? Ну, решила, ждать не буду, пойду постучу. Если спит, так пусть спит. Может, выпила с вечера да спит. С ней случалось, хоть и грех говорить про покойницу… — В котором часу вы решили зайти за Дубининой? — Семи еще не было. Гляжу, дверь закрыта. Ну, думаю, точно спит. Но на всякий случай стукнула. Дверь болтается — значит, не заперта. Потянула я — открывается. А оттуда газ — мамоньки! Чуть сама не отравилась. Распахнула я двери настежь, кричу: «Валентина, Валентина!» Бросилась окна открывать. Потом вошла, газ выключила. — Вы сказали, что окна были закрыты. Что вы имеете в виду — ставни или рамы? — Да все закрыто было. И форточки закрыты, и занавески спущены. — Любопытно. Дубинина всегда так на ночь закупоривалась? — Что вы! Она и зимой с открытой форточкой спала. Все жаловалась, бывало, что воздуху ей не хватает. Я ей говорю: «Смотри, Валя, не дай бог ворюга какой заберется. Одна ведь живешь!» А она: «Меня Рекс в обиду не даст». Рекс — это собака ее. — И все-таки в этот очень теплый вечер она заперлась. Козельский глянул на Волокова. — Да, нужно будет занести в протокол. Мария Федоровна, а никто к Дубининой вечером не заходил? — Вот этого не скажу. Я еще в обед к золовке пошла, поздно вернулась. — Ну ладно, спасибо. Во дворе они закурили. — На газовой плите есть отпечатки пальцев? — Алтуфьевой. Она ж ее выключала. Из домика вышел Васюченко. — Кажется, все. Можно ехать. Подошла милицейская машина. Пронесли носилки. — Дом пока опечатаем… Я думаю, не стоит там все ворошить до приезда Игоря Николаевича. Но связаться немедленно с Мазиным не удалось. — Уехал в Береговое, — ответили на другом конце провода. — В Береговое? Зачем? — Не знаю. Что ему передать? Козельский сказал: — Попытаемся разыскать в Береговом. Вадим опустил трубку. «Все-таки не доработал я там! — это было первое, о чем он подумал. — Но откуда новые нити? Неужели Брусков?» — Пойдем-ка, Вадим, позавтракаем, — предложил Волоков. — Васюченко — мужик дотошный и скрытный. Пока все заключения не соберет, ничего не скажет, хоть бы и думал что. Осторожный. Так что одно остается — ждать. Козельский согласился, но ел без аппетита. Спокойствие Волокова действовало ему на нервы. «Дубинину проморгали и топчемся в потемках», — злился он, потому что никак не мог связать смерть Дубининой с предшествовавшими событиями. А Волоков бодро жевал бифштекс и как будто ни о чем не думал, только похваливал польское пиво. — Нет, это не несчастный случай! — не выдержал Козельский. — Кран был открыт полностью до того, как Дубинина легла в постель. Такую утечку газа она бы наверняка заметила раньше, чем заснула. — Возможно, — согласился Волоков, макая мясо в горчицу. — Пожалуй, на самоубийство больше смахивает. Если вспомнить закрытые окна. И эта кажущаяся легкость, с которой капитан, не давно считавший смерть Дубининой несчастным случаем, соглашался с ним, тоже раздражала Вадима. — А скорее всего — убийство. Нужно искать следы постороннего. — Но стакан-то на столе один. — Второй можно выбросить. А след должен остаться. — Васюченко не пропустит. Опытный работник. Козельскому Васюченко показался просто усидчивым чиновником. Но сейчас он хотел сказать о другом. — Важно установить, что делал ночью Кравчук. — Спал. — Это по вашим сведениям? — не выдержал Вадим. Капитан усмехнулся и вытащил из пачки сигарету: — По нашим. — И вы уверены, что знаете каждый его шаг? — Более или менее. — А вы знаете, что вчера вечером он был на Лермонтовской? Волоков, не говоря ни слова, полез во внутренний карман пиджака, достал фотографию и протянул Козельскому. На снимке был ясно виден Кравчук, разговаривающий во дворе с Дубининой. Козельский присвистнул: — Что же вы молчали? — Это не доказательство того, что Кравчук убил Дубинину. После того как сделали снимок, она была жива еще не меньше шести часов. И все это время Кравчук находился далеко от ее дома. — Или сумел создать видимость этого, — пробормотал Козельский, хотя раздражение его против капитана уже начало проходить. — Возможно. Однако пока мы знаем слишком мало и не должны спугнуть Кравчука, дать ему догадаться, что подозреваем его. А вы, между прочим, нервничаете.
Вадим покраснел:
— Да, есть немного. По правде говоря, я не понимаю, какая связь между смертью Дубининой и убийством Укладникова.
— Если б мы это знали, было бы гораздо проще. Но нервничать не стоит. Давайте-ка делать все, что можно, до приезда Игоря Николаевича. Он разберется быстрее.
Козельский согласился.
Расстались по-деловому. О том, что выяснит Васюченко, Волоков обещал сообщить немедленно. Вадим отправился в гостиницу.
Там его ждал сюрприз.
В холле, в кресле, вытянув большие ноги, сидел Кравчук. Говоря откровенно, Козельский не думал, что увидит его сегодня. Лейтенанту потребовалось усилие, чтобы повести себя как ни в чем не бывало.
— Вадим, здравствуйте. Вас жду.
— Здравствуйте. Я ходил завтракать.
— Может быть, погуляем? Хочу с вами поговорить.
— Поговорить? О чем?
— Пойдемте. Лучше не здесь.
И он взял лейтенанта за локоть.
Они отправились в парк. Козельский думал, что геолог ищет в общении с ним своего рода алиби и будет вести себя небрежно, даже весело, создавая видимость курортного настроения. Но тот был мрачен, и эта непонятная серьезность Кравчука встревожила Вадима.
— Вы чем-то обеспокоены? У вас озабоченный вид.
— Да. Верно. С тестем у меня несчастье.
— С тестем? — Козельский приложил все усилия, чтобы вопрос прозвучал обычно.
— Хочу рассказать об этом.
В словах Кравчука лейтенант уловил что-то напористо целеустремленное, не похожее на простое желание поделиться горем.
«Что он затеял?»
Они шли по дорожке знаменитого курортного парка, в начале которого, как и во всех парках, — подстриженные газоны, цветы в клумбах, старательно выпрямленные аллеи, а потом все это исчезает понемножку, и начинается лес, взбирающийся на склоны холмов, а холмы эти переходят в предгорья, и если идти долго, то выйдешь туда, где уже нет курорта и курортных скучных людей, а есть горы, и лес, и воздух. Но Козельский меньше всего думал о природе. Он старался понять Кравчука и не допустить ошибки.
— Тестя я не знал почти… И жена тоже…
Кравчук говорил то же, что в свое время Мазину. Только подробнее немного. И еще он возвращался к сказанному, выделяя и подчеркивая то, что казалось ему особенно важным.
— Понимаете, скрытным он был очень. Пережил много. Дочери даже не доверял. Мы думали, никого у него нет близких. Но была все-таки. Женщина одна. Они вместе в ссылке были. Здешняя. Из Тригорска. Она могла знать о нем. Не знаю что. Но могла. Я ходил к ней вчера. Хотел попросить его письма.
— Простите, женщина эта на Лермонтовской живет?
— На Лермонтовской. Интересно. Вы знаете?
Вадим почувствовал себя ловчим.
— Я вас там видел. Случайно.
— Случайно?
Вадиму стало не по себе.
— Я видел, как вы шли в ту сторону. Я сидел в Цветнике. Показала она вам письма?
— Нет. Но сейчас дело не в этом.
— А в чем же? Простите, я вас не совсем понимаю.
— Не волнуйтесь. Скажу. Эта женщина умерла. Я только что был там. Пошел еще раз. Говорят, она покончила с собой. Сегодня ночью.
Они ушли уже довольно далеко от «цивилизованной» части парка и шагали по тропинке, карабкавшейся в гору среди сосен над небольшой речкой. Козельский вдруг заметил, что ни впереди, ни позади никого нет. Он почувствовал беспокойство. Показная искренность Кравчука сбивала его с толку. «Кто из нас кого ловит?» — подумал лейтенант, бросив взгляд на массивную фигуру геолога.
— Послушайте. Не понимаю я вас. Зачем вы мне это рассказываете?
— Понимаете.
Сказано было веско, слишком веско, так что Вадим, как когда-то ночью, у ресторана, ощутил страх.
— Понимаете. Нужно вызвать Мазина.
Козельский почувствовал себя попавшимся мальчишкой.
— Кто такой Мазин?
Дорожка сузилась до предела. Справа над ней нависала гладкая серая скала, внизу шумела по камням речка.
— А бы кто?
Вадим вспомнил, что пистолет остался в номере, в чемодане.
— Я говорил вам.
— Нет. Вы не химик. И не в отпуске вы здесь.
— А зачем же?
— Следить за мной.
Геолог остановился и преградил Вадиму путь:
— Я видел вас в машине. Вы приезжали вместе с Мазиным.
— Бред какой-то, — сказал Козельский.
Под легкой рубашкой Кравчука перекатывались мускулы.
«Не справлюсь я с ним», — подумал лейтенант и почувствовал, как по лицу его покатилась предательская струйка холодного пота. Он поднял голову, чтобы встретиться с Кравчуком лицом к лицу, но тот смотрел мимо, куда-то вверх и за Козельского. «Хочет, чтобы я повернулся к нему спиной. Не выйдет!»
— Возможно. Однако пока мы знаем слишком мало и не должны спугнуть Кравчука, дать ему догадаться, что подозреваем его. А вы, между прочим, нервничаете.
Вадим покраснел:
— Да, есть немного. По правде говоря, я не понимаю, какая связь между смертью Дубининой и убийством Укладникова.
— Если б мы это знали, было бы гораздо проще. Но нервничать не стоит. Давайте-ка делать все, что можно, до приезда Игоря Николаевича. Он разберется быстрее.
Козельский согласился.
Расстались по-деловому. О том, что выяснит Васюченко, Волоков обещал сообщить немедленно. Вадим отправился в гостиницу.
Там его ждал сюрприз.
В холле, в кресле, вытянув большие ноги, сидел Кравчук. Говоря откровенно, Козельский не думал, что увидит его сегодня. Лейтенанту потребовалось усилие, чтобы повести себя как ни в чем не бывало.
— Вадим, здравствуйте. Вас жду.
— Здравствуйте. Я ходил завтракать.
— Может быть, погуляем? Хочу с вами поговорить.
— Поговорить? О чем?
— Пойдемте. Лучше не здесь.
И он взял лейтенанта за локоть.
Они отправились в парк. Козельский думал, что геолог ищет в общении с ним своего рода алиби и будет вести себя небрежно, даже весело, создавая видимость курортного настроения. Но тот был мрачен, и эта непонятная серьезность Кравчука встревожила Вадима.
— Вы чем-то обеспокоены? У вас озабоченный вид.
— Да. Верно. С тестем у меня несчастье.
— С тестем? — Козельский приложил все усилия, чтобы вопрос прозвучал обычно.
— Хочу рассказать об этом.
В словах Кравчука лейтенант уловил что-то напористо целеустремленное, не похожее на простое желание поделиться горем.
«Что он затеял?»
Они шли по дорожке знаменитого курортного парка, в начале которого, как и во всех парках, — подстриженные газоны, цветы в клумбах, старательно выпрямленные аллеи, а потом все это исчезает понемножку, и начинается лес, взбирающийся на склоны холмов, а холмы эти переходят в предгорья, и если идти долго, то выйдешь туда, где уже нет курорта и курортных скучных людей, а есть горы, и лес, и воздух. Но Козельский меньше всего думал о природе. Он старался понять Кравчука и не допустить ошибки.
— Тестя я не знал почти… И жена тоже…
Кравчук говорил то же, что в свое время Мазину. Только подробнее немного. И еще он возвращался к сказанному, выделяя и подчеркивая то, что казалось ему особенно важным.
— Понимаете, скрытным он был очень. Пережил много. Дочери даже не доверял. Мы думали, никого у него нет близких. Но была все-таки. Женщина одна. Они вместе в ссылке были. Здешняя. Из Тригорска. Она могла знать о нем. Не знаю что. Но могла. Я ходил к ней вчера. Хотел попросить его письма.
— Простите, женщина эта на Лермонтовской живет?
— На Лермонтовской. Интересно. Вы знаете?
Вадим почувствовал себя ловчим.
— Я вас там видел. Случайно.
— Случайно?
Вадиму стало не по себе.
— Я видел, как вы шли в ту сторону. Я сидел в Цветнике. Показала она вам письма?
— Нет. Но сейчас дело не в этом.
— А в чем же? Простите, я вас не совсем понимаю.
— Не волнуйтесь. Скажу. Эта женщина умерла. Я только что был там. Пошел еще раз. Говорят, она покончила с собой. Сегодня ночью.
Они ушли уже довольно далеко от «цивилизованной» части парка и шагали по тропинке, карабкавшейся в гору среди сосен над небольшой речкой. Козельский вдруг заметил, что ни впереди, ни позади никого нет. Он почувствовал беспокойство. Показная искренность Кравчука сбивала его с толку. «Кто из нас кого ловит?» — подумал лейтенант, бросив взгляд на массивную фигуру геолога.
— Послушайте. Не понимаю я вас. Зачем вы мне это рассказываете?
— Понимаете.
Сказано было веско, слишком веско, так что Вадим, как когда-то ночью, у ресторана, ощутил страх.
— Понимаете. Нужно вызвать Мазина.
Козельский почувствовал себя попавшимся мальчишкой.
— Кто такой Мазин?
Дорожка сузилась до предела. Справа над ней нависала гладкая серая скала, внизу шумела по камням речка.
— А бы кто?
Вадим вспомнил, что пистолет остался в номере, в чемодане.
— Я говорил вам.
— Нет. Вы не химик. И не в отпуске вы здесь.
— А зачем же?
— Следить за мной.
Геолог остановился и преградил Вадиму путь:
— Я видел вас в машине. Вы приезжали вместе с Мазиным.
— Бред какой-то, — сказал Козельский.
Под легкой рубашкой Кравчука перекатывались мускулы.
«Не справлюсь я с ним», — подумал лейтенант и почувствовал, как по лицу его покатилась предательская струйка холодного пота. Он поднял голову, чтобы встретиться с Кравчуком лицом к лицу, но тот смотрел мимо, куда-то вверх и за Козельского. «Хочет, чтобы я повернулся к нему спиной. Не выйдет!»
XII
— Я к нему, а он не шевелится. Вижу, голова пробита. Смотреть очень страшно. Не поздно еще, людей полно, а те двое пошли себе, как ни в чем не бывало, — рассказывал Володька. Мазин почувствовал что-то вроде стыда. Ему всегда становилось стыдно, если он видел или слышал, что молодые здоровые люди «не замечают», как на глазах у них бьют, оскорбляют или даже убивают человека. Их немало, этих трусов. Они еще осмеливаются говорить о собственной мудрости: «Полезешь, а тебя ножом!» Но, к счастью, есть и такие ребята, как Володька. — Думаю: уйдут. Ну, я за ними! Он, конечно, не мог их задержать, этот щуплый подросток, но он сделал так, что они не ушли. Хотя, казалось, им повезло. Сразу за углом поймали свободное такси. Но Володька видел номер машины, и не успела «Волга» скрыться из виду, как он уже набирал цифры в будке телефона-автомата. Взяли этих двоих в ресторане. — Ты, Володя, заходи ко мне, если охота будет, — сказал Мазин, прощаясь с пареньком. И, пожимая узкую ладонь, подумал, что они еще обязательно встретятся. В приемной дожидалась заплаканная Аллочка. И хотя у Мазина были на счету минуты, потому что он спешил в Тригорск, он не подал виду, что торопится, а терпеливо дождался, пока она напьется воды, вытрет глаза и сможет, наконец, заговорить. — Что с ним, Игорь Николаевич? — Ничего хорошего — пробит череп, сотрясение мозга. Вы кастет когда-нибудь видели? — ответил Мазин жестковато. — Он не умрет? — Не знаю. Если б вы сказали все сразу, нам не пришлось бы обсуждать этот вопрос. Но ему было все-таки жаль ее, и он снял телефонную трубку: — Больница? Мазин говорит. Меня интересует состояние Семенистого. Да, да. Того самого. Говорите, лучше? И Мазин протянул трубку через стол, чтобы Алла услышала сама. Она улыбнулась сквозь слезы. — Спасибо. — Не стоит. Вашему Эдику еще придется отвечать перед судом. — Он не виноват. — А ворованные детали к приемникам кто «реализовывал»? — Не для себя… — Скажите пожалуйста, какой общественник! Ему платили за это! — Но он не воровал. — Зато прекрасно знал, откуда берутся детали. Ведь «кожаный» работал на радиозаводе. — Он хотел уйти. Они запутали его. Сам заведующий… — «Хозяин»? Интересная личность! Впрочем, все это, собственно, не по моей части. В убийстве же Семенистый не виноват, хотя побеседовать с ним и небезынтересно. — Я потому и пришла. Я сама была там. — Где? — Там, в квартире, ночью… Мазин даже подался вперед, наклонившись через стол. — И вы видели, кто входил в квартиру? Алла закрыла лицо руками. — Хорошо, рассказывайте. — Мы гуляли, а потом Эдик сказал, что старика не будет всю ночь, и я… пошла к нему. Мазин невольно отвел глаза, а она заговорила быстро: — Вы понимаете, я люблю его, мы хотели пожениться, но я боялась за него. Я сказала, что, пока он не порвет с этими, я с ним не буду. Сначала он смеялся, говорил, что я глупая, не умею жить, но потом понял. И обещал. Мы уже обо всем договорились… Аллочка волновалась, сбивалась поминутно. — Вдруг слышим, дверь открывается… — Минутку. Дверь открыли ключом? — Не знаю. Мы услышали, когда уже открылась. Мы перепугались. Старик был очень строгий. Он мог выгнать Эдика с квартиры. Мы притаились. Ведь мы думали, что это он, старик. Сидим тихо. Он постоял немножко в коридоре, наверно, присматривался, куда идти. Вернее, это я потом так решила, что присматривался, а тогда мы об этом не думали: зачем ему в своем доме присматриваться? Верно ведь? И он даже свет не зажег — в щели под дверью было темно. — Простите, у вас в комнате света тоже не было? Она снова покраснела. — Не было. Поэтому он и решил, что Эдик спит. А потом он прошел по коридору в другую сторону. Мы подумали, что к себе на кухню. Слышим шаги, шаркает. — Шаркает? — Да, да. Я это хорошо запомнила. Мы говорили потом с Эдиком. Эдик сказал: «Странно, ведь раньше старик никогда не шаркал». — А тогда шаркал? — Мазин поднялся со стула: — Вы даже не представляете, как важно то, что вы мне сказали, Аллочка. Рассказывайте дальше. — Прошел он туда, в комнату, и скоро вышел. Мы посмеялись, что старик нас не заметил, — вот, собственно, и все. — Значит, когда на другой день Эдик пришел ко мне, чтобы заявить об исчезновении старика, он не знал еще, что тот, кто заходил ночью, был в пустой комнате? — Конечно, нет! Он думал, что это Укладников был. — Почему же он не сказал, что Укладников приходил ночью? Из-за вас? Аллочка опять почувствовала себя виноватой. — Да, он не хотел говорить, что я была у него. — Глупо и очень вредно, но, во всяком случае, благородно. Это говорит в его пользу. — И он не знал, что из шкафа взяли деньги. — Деньги Укладникова? Она покачала головой. — Значит, Эдика? — Нет. — Деньги принадлежали шайке? — Да. — Вот оно что. Ловко! Кто придумал этот тайник? — Эдик. Он не придумал, он узнал о нем и сказал Лешке. А Лешка придумал — вернее, они попросили Эдика спрятать там деньги. Это было за несколько дней до той ночи. Говорили, что скоро заберут. Эдик согласился, но сказал мне. Я тогда особенно поняла, какие это опасные люди. Вот мы и решили уехать. А тут все и случилось. Они мстили за эти деньги. Думали, что Эдик их присвоил Не верили, что тот, кто убил старика, заходил в комнату. — Сколько было денег? — Не знаю. Но много. Несколько тысяч. В целлофановом мешке. Эдик не считал. Он не хотел к ним иметь никакого отношения. — Кто еще мог знать о деньгах? — Я не говорила никому. Эдик тоже. Игорь Николаевич сделал пометку в блокноте. — Теперь понятно, почему он так переволновался, когда мы добрались до тайника. Но выходит, что и для шайки исчезновение денег было неожиданностью? — Конечно, потому они и мстили. — Почему Семенистый сразу не уехал из города? — Я его не пускала. И еще он думал, что все выяснится скоро. Он очень хотел оправдаться перед ними. — Еще бы! Такие достойные люди! Так кто же сделал тайник? Укладников? — Нет, что вы! Если бы старик знал про тайник, Эдик не стал бы прятать там деньги. Этот шкаф он по просьбе старика перевозил со старой квартиры его зятя. Тогда тайник и обнаружил, но Укладникову ничего не сказал. Мазин записал еще несколько строчек в блокнот. — Прекрасно! Будем надеяться, что суд учтет некоторые обстоятельства, но особенно на это не рассчитывайте. Отвечать вашему парню придется за многое. А пока лечите его как следует. Мазин глянул на часы. До поезда в Тригорск оставалось совсем немного времени. Алла поднялась: — Мне пока можно идти? — Да, конечно. Давайте ваш пропуск. Кстати, Алла, вам Эдик ничего не говорил про пальто, которое он должен был взять из чистки? Мазин наклонился над столом, чтобы поставить свою фамилию на розовой бумажке. «Если даже она ничего не знает, это еще не означает, что никакого пальто не было». Но она знала. — Это того паренька, что жил с Эдиком? — Да, да. Стояновского. — Я его взяла по квитанции, когда он телеграмму прислал. — Значит, оно у вас? — Дома оно. Я принесу, если нужно. — Нет, пока не нужно. Отдадите, когда он вернется. Мазин не вышел вслед за Аллой, а задержался на минуту в комнате. Перелистал блокнот и открыл его на странице, где столбиком были выписаны три фамилии: Семенистый, Стояновский, Кравчук. Фамилия Семенистого была жирно перечеркнута. Мазин взял авторучку и зачеркнул еще одно имя — Стояновский. Правда, на этот раз не так решительно, черточкой потоньше. Осталось только «Кравчук». Машина ждала у подъезда. Мазин открыл дверцу. — Игорь Николаевич! Через дорогу бежал Брусков.Познакомились они у Мазина дома. Он тогда не ждал гостей. Выдался один из редких вечеров, когда можно было поваляться на диване с книжкой. Мазин подложил под голову подушку и взялся за Лескова, которого мог перечитывать по многу раз. Но книгу пришлось отложить. Позвонили. Мазин пошел открывать, недовольный, и увидал на пороге незнакомого молодого человека. — Извините, пожалуйста. Но я думал, возможно, это важно… — Что важно? — Видите ли, я недавно был в Береговом. По заданию редакции. И там мне пришлось беседовать с товарищем Козельским… — Вы Брусков, стало быть? Валерий обрадовался и начал говорить о своих открытиях прямо в прихожей, да так сумбурно, что Мазину пришлось прервать его: — Подождите. Отдышаться сначала надо. Вы запыхались, видно, пока пять этажей одолели.
 Валерий не так уж запыхался. Ему было просто неудобно вторгаться к Мазину в квартиру. Но сделал он это не без умысла и даже приврал, что не мог разыскать его на службе, хотя нарочно пришел туда слишком поздно. Для журналиста такие хитрости Валерий считал простительными и необходимыми (где же, как не в домашней обстановке, можно найти те самые «детали», без которых не оживет ни один материал?). Но это в принципе. А на практике он чувствовал себя неловко.
Мазин провел Брускова в комнату, где тот последовательно рассказал обо всем, что узнал в Береговом от Майи.
— Вот. Я думал, это может быть интересно.
— Это действительно интересно, — подтвердил Игорь Николаевич.
Брусков показался ему симпатичным, хотя он разгадал, конечно, его хитрости. «Паренек воображает себя репортером, пробравшимся на виллу Бриджит Бардо», — подумал Мазин, но Валерия поблагодарил от души и пообещал даже подбросить интересный материал.
Ушел тот окрыленным, а Мазин немедленно выехал в Береговое, где и находился до звонка из Тригорска. Нового, правда, ему узнать почти ничего не удалось, но рассказ Брускова подтвердился, а это и само по себе было не так уж плохо. Во всяком случае, разъяснялась первая половина странных поступков Стояновского. Стало понятно, почему он появился в Береговом и что делал там два или три дня. Но что заставило его внезапно возвратиться в город, как попал в пустой вагон принадлежавший ему чемодан, как отпечатались его ботинки у шкафа с тайником — это оставалось по-прежнему загадкой, на которую должен был ответить сам Борис, адрес которого так и не удалось до сих пор установить. И все-таки скорее всего он находился в Крыму. Это утверждала и Майя и теперь косвенно подтвердила Аллочка. Телеграмма-то оказалась без подвохов. Услышав, что Аллочка на самом деле получила из химчистки пальто, Мазин не огорчился. К Стояновскому он испытывал заочную симпатию и не жалел еще одной отпавшей версии, как бы ни была она соблазнительна.
Но неопределенная, смутная тревога не покидала его. Не любил он телеграмм. Никаких. Даже поздравительных, составленных бодрым, повторенным в тысячах бланков мертвым языком из обрубков фраз. Эти куски бумаги поражали его своим бездушием, умением вместить беспредельное горе в короткие ленточки, пожелтевшие от канцелярского клея. «Тяжело больна мама приезжай Валя», или: «Витя умер больнице похороны двадцать шестого». А иногда в безликие, без знаков препинания фразы вкладывался смысл совсем другой, который трудно отличить от обычного.
Мазин любил письма. За каждым он видел человека, с его непохожим на все остальные почерком, с грамматическими ошибками, простыми шутками, с какими-то расплывшимися пятнами — может, и от слез, которые никогда не упадут на телеграфный бланк. Однако формулировал Мазин свои чувства сухо: «С телеграммой труднее работать».
Но на этот раз все в порядке — телеграмма как телеграмма. И пальто есть. А тревога не утихает почему-то…
В Береговом Мазин проследил час за часом все действия Стояновского, восстановил до мелочей его разговоры с Майей и в гостинице, перекопал материалы о Розе Ковальчук и… не обнаружил ничего, что могло бы заставить Бориса неожиданно вернуться. Все, что произошло со Стояновским, могло заинтересовать любую газету, но не проливало никакого света на убийство Укладникова.
Оставалось или действительно вычеркнуть геолога из блокнота, да не так, как он вычеркнул, — тоненько, а раз и навсегда — жирно, как Семенистого, или вернуться к той фантастической версии, которую сам он гнал от себя, но которая вновь и вновь возникала в голове Мазина. И когда она возникала, он напряженно думал об «инвалиде», так странно появившемся на пути Стояновского и потом исчезнувшем без следа. А между тем «инвалид» заставил Бориса изменить маршрут. Впрочем, Мазин подозревал, что не только маршрут Стояновского изменился после этой встречи.
Валерий не так уж запыхался. Ему было просто неудобно вторгаться к Мазину в квартиру. Но сделал он это не без умысла и даже приврал, что не мог разыскать его на службе, хотя нарочно пришел туда слишком поздно. Для журналиста такие хитрости Валерий считал простительными и необходимыми (где же, как не в домашней обстановке, можно найти те самые «детали», без которых не оживет ни один материал?). Но это в принципе. А на практике он чувствовал себя неловко.
Мазин провел Брускова в комнату, где тот последовательно рассказал обо всем, что узнал в Береговом от Майи.
— Вот. Я думал, это может быть интересно.
— Это действительно интересно, — подтвердил Игорь Николаевич.
Брусков показался ему симпатичным, хотя он разгадал, конечно, его хитрости. «Паренек воображает себя репортером, пробравшимся на виллу Бриджит Бардо», — подумал Мазин, но Валерия поблагодарил от души и пообещал даже подбросить интересный материал.
Ушел тот окрыленным, а Мазин немедленно выехал в Береговое, где и находился до звонка из Тригорска. Нового, правда, ему узнать почти ничего не удалось, но рассказ Брускова подтвердился, а это и само по себе было не так уж плохо. Во всяком случае, разъяснялась первая половина странных поступков Стояновского. Стало понятно, почему он появился в Береговом и что делал там два или три дня. Но что заставило его внезапно возвратиться в город, как попал в пустой вагон принадлежавший ему чемодан, как отпечатались его ботинки у шкафа с тайником — это оставалось по-прежнему загадкой, на которую должен был ответить сам Борис, адрес которого так и не удалось до сих пор установить. И все-таки скорее всего он находился в Крыму. Это утверждала и Майя и теперь косвенно подтвердила Аллочка. Телеграмма-то оказалась без подвохов. Услышав, что Аллочка на самом деле получила из химчистки пальто, Мазин не огорчился. К Стояновскому он испытывал заочную симпатию и не жалел еще одной отпавшей версии, как бы ни была она соблазнительна.
Но неопределенная, смутная тревога не покидала его. Не любил он телеграмм. Никаких. Даже поздравительных, составленных бодрым, повторенным в тысячах бланков мертвым языком из обрубков фраз. Эти куски бумаги поражали его своим бездушием, умением вместить беспредельное горе в короткие ленточки, пожелтевшие от канцелярского клея. «Тяжело больна мама приезжай Валя», или: «Витя умер больнице похороны двадцать шестого». А иногда в безликие, без знаков препинания фразы вкладывался смысл совсем другой, который трудно отличить от обычного.
Мазин любил письма. За каждым он видел человека, с его непохожим на все остальные почерком, с грамматическими ошибками, простыми шутками, с какими-то расплывшимися пятнами — может, и от слез, которые никогда не упадут на телеграфный бланк. Однако формулировал Мазин свои чувства сухо: «С телеграммой труднее работать».
Но на этот раз все в порядке — телеграмма как телеграмма. И пальто есть. А тревога не утихает почему-то…
В Береговом Мазин проследил час за часом все действия Стояновского, восстановил до мелочей его разговоры с Майей и в гостинице, перекопал материалы о Розе Ковальчук и… не обнаружил ничего, что могло бы заставить Бориса неожиданно вернуться. Все, что произошло со Стояновским, могло заинтересовать любую газету, но не проливало никакого света на убийство Укладникова.
Оставалось или действительно вычеркнуть геолога из блокнота, да не так, как он вычеркнул, — тоненько, а раз и навсегда — жирно, как Семенистого, или вернуться к той фантастической версии, которую сам он гнал от себя, но которая вновь и вновь возникала в голове Мазина. И когда она возникала, он напряженно думал об «инвалиде», так странно появившемся на пути Стояновского и потом исчезнувшем без следа. А между тем «инвалид» заставил Бориса изменить маршрут. Впрочем, Мазин подозревал, что не только маршрут Стояновского изменился после этой встречи.
И вот снова Брусков. Он бежал через дорогу к машине. — Игорь Николаевич! Мазин показал на сиденье рядом с собой: — Валерий, мне очень некогда! Спешу на вокзал Все, что у вас есть, выкладывайте по пути. Ясно? — Так точно, — ответил Брусков, но не с солдатской четкостью, а пробормотал еле слышно, устыдясь собственной лихости. — Понимаете, Игорь Николаевич, мне неудобно, что я вас отвлекаю. У меня, собственно, сущая ерунда. Вы, может быть, даже смеяться будете. — Валерий, на реверансы нет времени. Брусков глянул на невозмутимого шофера: «Будут смеяться!» Но что оставалось делать? — Понимаете, Игорь Николаевич, я хочу написать о Розе Ковальчук. Поэтому я взял у Майи папку с материалами. Домой взял. — Что именно вы взяли? — Да ничего особенного. Просто перепечатанные на машинке материалы. Из областной газеты. О процессе над фашистами и предателями в Береговом в сорок четвертом. Там казнили семерых фашистов. — Не помню этих материалов. — Да вы их и не видели. Я их взял еще до вашей поездки в Береговое. Мазин повернулся так резко, что Брусков даже потеснился в угол. — Нет, нет, Игорь Николаевич, там ничего интересного нет. Вот они, посмотрите сами… И Валерий, быстро расстегнув портфель, достал несколько сшитых листков. «Смерть фашистским убийцам!» — прочитал Мазин заголовок и под ним в скобках: «Газета «Южная правда» от 16 октября 1944 года». — Если тут нет ничего интересного, зачем вы привезли мне эти листки? — спросил Мазин, бегло проглядывая бумагу и не находя действительно ничего нового. — Вы только не смейтесь. Чепуха, конечно, но тут не хватает одной странички. Видите, третья, а потом сразу пятая. Да, страницы в самом деле не хватало, и это было заметно не только по нумерации. Обрывки бумаги остались на сшиве. — Любопытно. — Вот и мне показалось. А Майя говорит, что материалы читал Стояновский. Раньше все страницы были на месте. — Вы полагаете, что вырвал листок он? — Может быть. — Значит, нужно узнать, что было на этом листке. Майя не помнит? — Помнит. Но я достал точный текст. Взял в библиотеке подшивку газеты за сорок четвертый год. Мазин улыбнулся одобрительно, а подбодренный Брусков уже совал ему в руки новый листок. — Я показывал Майе. Она говорит, что это самое. — Ого, вы уже целое расследование провели. Результат? Брусков покачал головой: — Неутешительный. Непонятно, зачем понадобился Стояновскому этот листок. Я думал, думал, идти к вам или нет, а потом все-таки пошел. Может быть, вы лучше разберетесь. — Может быть. Но если даже листок понадобился ему, чтобы вытереть авторучку, вы поступили правильно. Спасибо, Валерий.
XIII
— Я считаю, что Кравчук должен быть арестован. Это опасный и дерзкий преступник, — сказал Козельский. Мазин молча кивнул, но так, что нельзя было понять, согласен он с предложением своего помощника или только принимает его слова к сведению. Горячность Вадима была ему понятна. Он чувствовал известную вину перед Козельским. Нельзя было вместе с ним ездить к Кравчуку. Мазин поступил прямолинейно и ошибся. Но все-таки поведение Кравчука еще не давало оснований для ареста. Ведь они до сих пор не знали, где находился Кравчук после отъезда из Москвы. Разговор шел в большом, с высоким потолком кабинете Волокова. Из окна виднелась желтоватая от восходящего солнца снежная вершина, напоминавшая Мазину большой кусок подтаявшего сливочного масла. «Старею я, — подумал он. — Исчезает романтическое восприятие». — А что Дмитрий Иванович скажет? — Мазин повернулся к Волокову. Тот сидел за столом с двумя новенькими цветными телефонами. — Задержать его, пожалуй, можно. Но причастность к смерти Дубининой под большим вопросом. Вот если вы докажете, что он покушался на вашу жизнь… — Волоков посмотрел на Козельского. — Я не говорил, покушался. Но я уверен, что напасть ему помешало только случайное появление курортника. — Не вовремя он появился. — Мазин чуть улыбнулся. — В случае нападения картина была бы яснее. — Особенно мне! — Медицинский эксперт Глеб громко рассмеялся. Козельский глянул на него с неприязнью. — Ну, ну, Вадим! Не такие уж мы кровожадные. Просто аргументы ваши пока что слишком эмоционально окрашены. На вас действует Кавказ — абреки, кровная месть… — По-вашему, Дубинину абреки отравили? — О Дубининой нам расскажет Матвей Кириллович. Васюченко, который терпеливо дожидался своей очереди, поправил очки на переносице и откашлялся: — Картина, товарищи, так сказать, получается двойная. С одной стороны, ясная, но если постараться вникнуть, то не совсем… Волоков переглянулся с Мазиным, будто поясняя, что на слог Васюченко обращать внимания не следует: все равно он дело скажет. Мазин понял. Козельский усмехнулся. Глеб, вытянув длинные, в узких зеленых брюках ноги, рассматривал носки туфель. Васюченко еще раз откашлялся: — Значит, штука такая… Товарищ судебно-медицинский эксперт заключает, что смерть наступила в результате отравления бытовым газом около часу ночи. — Он глянул из-под очков на Глеба. — В момент смерти умершая находилась в состоянии опьянения, что подтверждает и пустая бутылка из-под «Московской» водки на столе. Вот это, значит, будет первая картина. То есть женщина выпила и отравилась. Но нас интересует, зачем или, так сказать, умышленно или неумышленно все произошло… Следователь обвел всех взглядом, как бы призывая оценить трудность задачи, и опять откашлялся: — Известно, что самоубийцы обычно пишут записки, то есть поясняют причины. У Дубининой таковой обнаружить не удалось. И еще одна закавыка. Положение трупа, поза, так сказать. Позвольте представить фотоснимки. Спит человек — и все. На самоубийцу не похоже. Когда человек умирать собирается, он так спокойно лежать не будет. «Верно», — отметил про себя Мазин, разглядывая снимок. — Вот и получается вторая картина, так сказать, вступающая в противоречие с версией самоубийства. Но, с другой стороны, окна все, несмотря на жару, были закрыты и даже шторы опущены. Выходит, подготовка была, а это, в свою очередь, противоречит версии несчастного случая. — А убийства вы не предполагаете? — спросил Волоков. — Рассмотрена и такая возможность, но… — Васюченко развел худыми руками, — соответствующих фактов не обнаружено. Мы не нашли следов пребывания в доме посторонних людей. И опять, так сказать, главный вопрос — кому выгодно? В доме ничего не взято, то есть версия ограбления отпадает. Неизвестно нам и о какой-либо вражде, предполагающей месть по отношению к пострадавшей. — Какой же все-таки ваш вывод? Но Мазин не дал ответить: — С выводами спешить не следует. Матвей Кириллович объективно восстановил внешнюю картину смерти Дубининой, но, возможно, не все следы удалось сразу обнаружить. Я хочу и сам взглянуть на место происшествия. — Мы предполагали, что это потребуется, Игорь Николаевич, — сказал Волоков. — Все в доме оставлено на своих местах. — Вы не нашли там какие-нибудь письма? — Все бумаги в комоде, в верхнем ящике. — Благодарю, Дмитрий Иванович. А чем занимается Кравчук? — Кравчука держим под наблюдением. — Смотрите не провороньте. Думаю, что он понадобится. И еще два вопроса к вам, Матвей Кириллович. Первый. Соседка, кажется, нашла дверь незапертой. А какой замок в доме Дубининой? — Замок нестандартный. Видно, делался по специальному заказу. — Можно было захлопнуть дверь без ключа? — Нет, без ключа нельзя, но ключ, собственно, торчал в замке с внутренней стороны. — Вы хотите сказать, что, если бы выходивший из комнаты хотел запереть за собой дверь, он мог бы воспользоваться ключом? — Именно так. — Прекрасно. И второй вопрос. На столе находились бутылка из-под водки и один стакан. Бутылка пустая? — Пустая. — И никаких следов второго стакана? Ни в кухне, ни в буфете? — Нигде. — На стакане, разумеется, отпечатки пальцев только Дубининой? Васюченко потер переносицу, приподняв очки: — Об этом я хотел особо, Игорь Николаевич. Дело в том, что на стакане мы вообще не обнаружили отпечатков пальцев. — Вот как? — Но использовался он наверняка. — Очень интересно, — сказал Мазин. — Если позволите, мы попозже уточним детали. А пока я, с вашего разрешения, прогуляюсь немного, подышу целебным воздухом. Но ушел он не сразу. Задержался с Волоковым. Когда они остались вдвоем, капитан достал пачку сигарет, однако, заметив осуждающий взгляд Мазина, засмеялся: — Простите, Игорь Николаевич, забыл совсем, что вы принципиальный противник… — Курите, курите. Вы же у себя дома. Или все еще видите во мне начальника? — Не без того. Понагнали на меня страху в свое время. Как вспомню ваши проработки. «Бессмысленное и вредное занятие!» — И все-таки не в коня корм оказался. Они посмеялись. — Так что же, Дмитрий Иванович, по-вашему, произошло с Дубининой? Волоков положил на край пепельницы сигарету. — Честно? — Только так. — Не знаю, Игорь Николаевич. Так уж сложилась жизнь Дубининой, что произойти с ней могло все — и несчастный случай, и самоубийство, и самое трагичное — убийство. Я знал ее немного. — Расскажите. — Во время оккупации, когда она в городской управе работала, меня хотели угнать в Германию. Мальчишкой я был… Дубинина выручила. Пошла к бургомистру… Мать потом ей сала понесла, яичек, отблагодарить хотела, но та не взяла. Был такой случай. Но он к нынешней истории отношения не имеет. — Почему? Характеризует человека. — Отчасти, Игорь Николаевич. Та Дубинина была другая. Не думаю, чтоб она сейчас стала кому-нибудь помогать. Укатали сивку крутые горки. Форточки открывать любила, а вот душу ни-ни. Замкнуто жила, в себе. — Могли у нее быть сбережения, ценности?
— Ходили тут сплетни, что не все отец ее увез, остались вроде драгоценности у матери. Но я думаю, это неправда.
— А стремление покончить с жизнью могло быть?
— Могло.
— И несчастный случай мог быть?
— Конечно. Выпила перед сном, повернула ручку, да не ту или не туда.
— А окна закрытые, а шторы? Зачем? Мы полагаем, чтобы газ не выходил. А может быть, с другой целью?
— Чтобы…
Но Мазин предостерегающе поднял руку:
— Не будем произносить имя нечистого. Но именно в этом плане мне и хочется посмотреть ее дом. Вы, конечно, увидели там немало, но свежий глаз тоже кое-что значит. Так что пойду подышу.
Воздух был в самом деле хорош, и Мазин не мог не признать этого, обгоняя размеренно вышагивающих курортников. Он шел в сторону Лермонтовской, в сотый, а может быть, в тысячный раз перебирая сложившуюся ситуацию.
У дома Дубининой на этот раз было немноголюдно. Один милиционер сидел на лавочке и скучал. Впрочем, может, и не скучал, а был доволен, что ему досталось такое нехлопотливое дежурство. Мазину он сказал, что в доме все в порядке.
— Собаку вот только жалко, совсем занудилась, — добавил он, показывая на Рекса, который понуро лежал возле будки и скулил негромко, но удивительно тоскливо.
Как бы почуяв, что речь идет о нем, пес приподнялся и заковылял к калитке, волоча за собой цепь.
К собакам Мазин всегда был неравнодушен. Он вытащил из кармана полбулки с колбасой, которые купил себе, но съесть не успел, и протянул их Рексу. Тот понюхал бутерброд, посмотрел на Мазина грустными глазами и стал жевать медленно, как бы говоря: какая уж тут еда… Мазин почесал его между длинными вислыми ушами:
— Ничего, старик, придумаем для тебя что-нибудь. И поднял собачью миску, чтобы налить псу воды.
В старой жестянке что-то звякнуло. Мазин увидел кусок стекла. Поставив миску на землю, он взял стекло и стал внимательно его рассматривать. Потом повернулся к собаке и еще раз поглядел на нее, но уже без лирики, а с любопытством. По лбу Рекса проходил свежий овальный надрез, возле которого еще чернели капельки запекшейся крови, присохшие к рыжей шерсти.
— Пострадал, друг. А за что? — спросил Мазин.
Милиционер с интересом поглядывал на приезжего следователя. Мазин же, согнувшись, несколько раз прошелся от дома до собачьей будки, как будто искал что-то в примятой траве. Потом достал чистый носовой платок и сложил в него свои находки. Насколько мог видеть милиционер, это были кусочки стекла и какая-то белая, совсем небольшая тряпочка. Мазин завязал их в узелок и положил в карман.
— Интересное что нашли? — спросил милиционер.
— Возможно, — ответил Мазин и пошел в дом.
Пробыл он там довольно долго, но что делал Мазин в комнатах, милиционер не видел. Обратил внимание только, как пристально осмотрел следователь замок на входной двери.
Затем Мазин направился к дому Алтуфьевой.
— Доброе утро, Мария Федоровна.
— День добрый.
Алтуфьева была настроена недружелюбно.
— Понимаю, Мария Федоровна, что наш брат надоел вам. Но что поделаешь! Без вас нам не обойтись.
Соседка была польщена:
— Что уж там обходиться! Отравилась по пьянке Валентина — и все дело.
— Ох, Мария Федоровна, не знаете вы нашу работу! Вот вы говорите, отравилась. А нам-то сказать так мало. Доказать все нужно. У нас начальство есть. А начальству, сами знаете, бумага нужна во всех подробностях. Ему просто так не скажешь — отравилась. Вот и приходится такие мелочи копать, что вроде бы сущая чепуха.
Алтуфьева прониклась сочувствием к следовательской работе.
— Да ладно уж, спрашивайте. Чего знаю — скажу.
— Именно! — Мазин улыбнулся. — Только то, что знаете. А вопросы у меня легкие. Говорите, выпивала Дубинина?
— Да уж что врать. Был грех.
— И помногу?
— Нет, этого не скажу. Выпьет стаканчик вина, и ничего, полегчает ей вроде. Ведь жизнь-то у нее нелегкая была. Таких родителей дочка, а в тюрьме сидеть пришлось…
— Сидела-то она за дело.
— За дело, конечно, но не злодейка ж все-таки была. Людей не выдавала, помогала даже. Это судьба такая у человека, вот что я вам скажу. Одинокая она в жизни была. Старик ей голову морочил; да уверена я, что женился он давно.
— Позвольте, о каком это вы старике?
— Да что письма писал Валентине. В ссылке познакомились. Говорила она, что он сюда приедет, жить вместе будут. Да что-то не здорово ехал. Помоложе себе наверняка подыскал. Я этих мужиков, слава богу, давно раскусила. Знаю, что им от нашей сестры требуется.
— А Дубинина ему верила?
— Видно, тоже перестала. Потому и к рюмке потянулась.
— Да-а… Невеселая история. Кстати, вы сказали, что она вино пила. Почему именно вино? Водку ж тоже, наверно, пила?
— Нет, нет! Вино всегда. Водку она не любила.
— Вот как? Ну хорошо, Мария Федоровна, хорошо. — Мазин глянул через заборчик. — Собака-то скулит как жалобно. Не посоветуете, кому б отдать ее? Жалко, если пропадет.
— Рекс-то? Да я б его и сама взяла. Собака умница и сторожует хорошо. Без толку не заливается всю ночь, как другие дурни, но уж чужого, будьте спокойны, не пропустит.
— Возьмете, значит, Рекса? — обрадовался Мазин. — Тихая, говорите, собака?
— Такая тихая… Только вчера как залилась часов в двенадцать! Рвется, лает, еле затихла. Тоскует, видно.
— Вчера? — переспросил Мазин. — А вот в ту ночь, когда умерла Дубинина, не помните?..
— Ой, и в ту ночь было. Я-то сплю по-стариковски, все слышу. Вдруг она среди ночи как кинется. И поверите, залаяла было — и тут же заскулила. Долго так скулила, как почуяла что. Животные, они всегда беду чувствуют.
Мазин выслушал внимательно.
— Спасибо, Мария Федоровна, за помощь. Только мужчин вы зря так строго судите. Старика-то, про которого вы говорили, Укладннков его фамилия, убили недавно. Вот так.
— Убили? Ах, изверги! Да за что ж его убить могли?
— К сожалению, Мария Федоровна, не знаю.
— Как же не знаете? А кто знает? Что вы за работники такие? Тут не знаете, там не знаете. Что ж, вы хотите, чтоб людей среди бела дня резать начали?.. Ай-я-яй, бедная Валентина! И старик ее, значит, не пережил! А она про это и не знала ничего, бедная. Ну и дела!
— А может быть, она знала, Мария Федоровна?
— Да откуда ж ей знать? Мне б то она уж сказала. Мы, как на базар собирались в тот день, я, помню, спросила: «Твой-то пишет?» — «Давно, — говорит, — ничего не было».
— Не помните, в какое время происходил этот разговор?
— Да еще до обеда. Я с утра подстирывала, а она кричит мне: «Пойдешь, Маша, на рынок завтра?»
— А после обеда вы ее не видели?
— Нет, не видала.
Мазин откланялся:
— Рад был с вами познакомиться, Мария Федоровна. Будьте здоровы. А собаку возьмите обязательно. Хорошая собака, не пожалеете.
— Могли у нее быть сбережения, ценности?
— Ходили тут сплетни, что не все отец ее увез, остались вроде драгоценности у матери. Но я думаю, это неправда.
— А стремление покончить с жизнью могло быть?
— Могло.
— И несчастный случай мог быть?
— Конечно. Выпила перед сном, повернула ручку, да не ту или не туда.
— А окна закрытые, а шторы? Зачем? Мы полагаем, чтобы газ не выходил. А может быть, с другой целью?
— Чтобы…
Но Мазин предостерегающе поднял руку:
— Не будем произносить имя нечистого. Но именно в этом плане мне и хочется посмотреть ее дом. Вы, конечно, увидели там немало, но свежий глаз тоже кое-что значит. Так что пойду подышу.
Воздух был в самом деле хорош, и Мазин не мог не признать этого, обгоняя размеренно вышагивающих курортников. Он шел в сторону Лермонтовской, в сотый, а может быть, в тысячный раз перебирая сложившуюся ситуацию.
У дома Дубининой на этот раз было немноголюдно. Один милиционер сидел на лавочке и скучал. Впрочем, может, и не скучал, а был доволен, что ему досталось такое нехлопотливое дежурство. Мазину он сказал, что в доме все в порядке.
— Собаку вот только жалко, совсем занудилась, — добавил он, показывая на Рекса, который понуро лежал возле будки и скулил негромко, но удивительно тоскливо.
Как бы почуяв, что речь идет о нем, пес приподнялся и заковылял к калитке, волоча за собой цепь.
К собакам Мазин всегда был неравнодушен. Он вытащил из кармана полбулки с колбасой, которые купил себе, но съесть не успел, и протянул их Рексу. Тот понюхал бутерброд, посмотрел на Мазина грустными глазами и стал жевать медленно, как бы говоря: какая уж тут еда… Мазин почесал его между длинными вислыми ушами:
— Ничего, старик, придумаем для тебя что-нибудь. И поднял собачью миску, чтобы налить псу воды.
В старой жестянке что-то звякнуло. Мазин увидел кусок стекла. Поставив миску на землю, он взял стекло и стал внимательно его рассматривать. Потом повернулся к собаке и еще раз поглядел на нее, но уже без лирики, а с любопытством. По лбу Рекса проходил свежий овальный надрез, возле которого еще чернели капельки запекшейся крови, присохшие к рыжей шерсти.
— Пострадал, друг. А за что? — спросил Мазин.
Милиционер с интересом поглядывал на приезжего следователя. Мазин же, согнувшись, несколько раз прошелся от дома до собачьей будки, как будто искал что-то в примятой траве. Потом достал чистый носовой платок и сложил в него свои находки. Насколько мог видеть милиционер, это были кусочки стекла и какая-то белая, совсем небольшая тряпочка. Мазин завязал их в узелок и положил в карман.
— Интересное что нашли? — спросил милиционер.
— Возможно, — ответил Мазин и пошел в дом.
Пробыл он там довольно долго, но что делал Мазин в комнатах, милиционер не видел. Обратил внимание только, как пристально осмотрел следователь замок на входной двери.
Затем Мазин направился к дому Алтуфьевой.
— Доброе утро, Мария Федоровна.
— День добрый.
Алтуфьева была настроена недружелюбно.
— Понимаю, Мария Федоровна, что наш брат надоел вам. Но что поделаешь! Без вас нам не обойтись.
Соседка была польщена:
— Что уж там обходиться! Отравилась по пьянке Валентина — и все дело.
— Ох, Мария Федоровна, не знаете вы нашу работу! Вот вы говорите, отравилась. А нам-то сказать так мало. Доказать все нужно. У нас начальство есть. А начальству, сами знаете, бумага нужна во всех подробностях. Ему просто так не скажешь — отравилась. Вот и приходится такие мелочи копать, что вроде бы сущая чепуха.
Алтуфьева прониклась сочувствием к следовательской работе.
— Да ладно уж, спрашивайте. Чего знаю — скажу.
— Именно! — Мазин улыбнулся. — Только то, что знаете. А вопросы у меня легкие. Говорите, выпивала Дубинина?
— Да уж что врать. Был грех.
— И помногу?
— Нет, этого не скажу. Выпьет стаканчик вина, и ничего, полегчает ей вроде. Ведь жизнь-то у нее нелегкая была. Таких родителей дочка, а в тюрьме сидеть пришлось…
— Сидела-то она за дело.
— За дело, конечно, но не злодейка ж все-таки была. Людей не выдавала, помогала даже. Это судьба такая у человека, вот что я вам скажу. Одинокая она в жизни была. Старик ей голову морочил; да уверена я, что женился он давно.
— Позвольте, о каком это вы старике?
— Да что письма писал Валентине. В ссылке познакомились. Говорила она, что он сюда приедет, жить вместе будут. Да что-то не здорово ехал. Помоложе себе наверняка подыскал. Я этих мужиков, слава богу, давно раскусила. Знаю, что им от нашей сестры требуется.
— А Дубинина ему верила?
— Видно, тоже перестала. Потому и к рюмке потянулась.
— Да-а… Невеселая история. Кстати, вы сказали, что она вино пила. Почему именно вино? Водку ж тоже, наверно, пила?
— Нет, нет! Вино всегда. Водку она не любила.
— Вот как? Ну хорошо, Мария Федоровна, хорошо. — Мазин глянул через заборчик. — Собака-то скулит как жалобно. Не посоветуете, кому б отдать ее? Жалко, если пропадет.
— Рекс-то? Да я б его и сама взяла. Собака умница и сторожует хорошо. Без толку не заливается всю ночь, как другие дурни, но уж чужого, будьте спокойны, не пропустит.
— Возьмете, значит, Рекса? — обрадовался Мазин. — Тихая, говорите, собака?
— Такая тихая… Только вчера как залилась часов в двенадцать! Рвется, лает, еле затихла. Тоскует, видно.
— Вчера? — переспросил Мазин. — А вот в ту ночь, когда умерла Дубинина, не помните?..
— Ой, и в ту ночь было. Я-то сплю по-стариковски, все слышу. Вдруг она среди ночи как кинется. И поверите, залаяла было — и тут же заскулила. Долго так скулила, как почуяла что. Животные, они всегда беду чувствуют.
Мазин выслушал внимательно.
— Спасибо, Мария Федоровна, за помощь. Только мужчин вы зря так строго судите. Старика-то, про которого вы говорили, Укладннков его фамилия, убили недавно. Вот так.
— Убили? Ах, изверги! Да за что ж его убить могли?
— К сожалению, Мария Федоровна, не знаю.
— Как же не знаете? А кто знает? Что вы за работники такие? Тут не знаете, там не знаете. Что ж, вы хотите, чтоб людей среди бела дня резать начали?.. Ай-я-яй, бедная Валентина! И старик ее, значит, не пережил! А она про это и не знала ничего, бедная. Ну и дела!
— А может быть, она знала, Мария Федоровна?
— Да откуда ж ей знать? Мне б то она уж сказала. Мы, как на базар собирались в тот день, я, помню, спросила: «Твой-то пишет?» — «Давно, — говорит, — ничего не было».
— Не помните, в какое время происходил этот разговор?
— Да еще до обеда. Я с утра подстирывала, а она кричит мне: «Пойдешь, Маша, на рынок завтра?»
— А после обеда вы ее не видели?
— Нет, не видала.
Мазин откланялся:
— Рад был с вами познакомиться, Мария Федоровна. Будьте здоровы. А собаку возьмите обязательно. Хорошая собака, не пожалеете.
XIV
Мазин вернулся к Волокову с определенным планом действий. — Итак, Дубинина, несомненно, убита. Убита человеком, которого сама пустила в дом и с которым пила водку. Убийство было задумано заранее. Только этим можно объяснить полное отсутствие в доме следов и закрытые ставни. Предусмотрел убийца почти все. Но, как вы знаете, не оставить никаких следов невозможно. И то, что здесь кажется случаем, в сущности, закономерно. Помог Рекс, который не привык, чтобы ночью по двору ходили посторонние. Даже если они не входят, а выходят. Игорь Николаевич развязалносовой платок и положил перед капитаном свои находки: — Видите? Он очень аккуратно убрал со стола, после того как Дубинина захмелела и уснула. Но мыть посуду ему было, конечно, некогда. Поэтому стакан, на котором невозможно не оставить отпечатков пальцев, убийца захватил с собой, чтобы выбросить по дороге. Когда на него бросился Рекс, он ударил собаку стаканом, разумеется, инстинктивно. И избавился от пса, ранив его. Но осколки остались. Немедленно передайте их на экспертизу. На этом стакане отпечатки пальцев должны быть наверняка. А вот и самое существенное — кусочек ткани, вырванный Рексом из рубашки убийцы. Край, видимо, в крови. Рекс с гостем немножко поквитался. Думаю, что рана глубокая. Поэтому нужно немедленно связаться со всеми медицинскими пунктами — не обращался ли к ним человек, укушенный собакой. Волоков потянулся к звонку, но Мазин жестом остановил его: — Еще не все. Дайте небольшую заметку в местную газету Что-нибудь вроде «Жертва неосторожности». За подписью работника Горгаза. Заметка будет всем полезна. И домохозяйкам, и нам, надеюсь. Мы должны его успокоить. Итак: экспертиза — раз, больницы и аптеки — два, газета — три. На сегодня вам хватит. А мне закажите билет на ближайший самолет. Капитан поднял брови: — А как же Кравчук? — К разговору с ним я и хочу подготовиться. Нужно срочно кое-что проверить. Если успею это сделать завтра, то послезавтра утром буду здесь. Тогда поохотимся вместе. Пока с вами останется Козельский. И вот еще… Рекса я разрешил забрать соседке. Волоков взялся за дело, едва простился с Мазиным. Но опрос в больницах ничего не дал. Никто с похожими на укусы ранами за помощью не обращался. Видимо, преступник предпочитал скрываться, не оставлять следов. Однако капитан не падал духом. Он зашел к Вадиму в гостиницу и рассказал, как реагировали в больницах на его вопросы. — В центральной так старались, что даже вспомнили старушку, которую кошка на прошлой неделе поцарапала.
Но Козельский был угрюм.
— Вы шутите, а убийца посмеивается над нами.
— Вадим! В военное время про вас была поговорка — мрачный, как день без хлеба.
И Волоков отправился в криминалистическую лабораторию. Судьба Дубининой не выходила у него из головы.
«Неужели у нее были деньги? А если были, кто мог об этом знать? Только очень близкие, пользующиеся полным доверием. Но таких-то людей вокруг Дубининой и не было. Один погибший Укладников. Или его зять? Но это уже конек Козельского. Да так ли уж он плох, этот конек? Правда, Кравчука видели возле дома Дубининой днем, до ее смерти, но он мог и вернуться, зайти еще раз, обмануть наблюдавших за ним людей…»
— Привет, Дмитрий Иванович!
«Ох, уж эти курорты! Сколько здесь знакомых».
Волоков махнул рукой встречному. Тот свернул в парикмахерскую, и за ее стеклом, в зале, капитан заметил еще одно, на этот раз не просто знакомое лицо. По мнению Волокова, лицо это должно было находиться совсем в другом месте. Но подойти к нему сейчас было нельзя. И капитан прошел мимо.
Через пять минут он уже был в криминалистической лаборатории.
Заключение экспертизы заставило Волокова произнести сакраментальную фразу:
— Нет в жизни счастья!
Эксперт, худой человек, на котором синий китель казался двумя номерами больше, чем нужно, пожал плечами.
— К сожалению. Однако факт. На осколках стакана обнаружены отпечатки пальцев Дубининой. Только Дубининой, и ничьи больше.
Волоков нахмурился.
— Что поделаешь! Против науки не попрешь. Придется нам еще пошевелить мозгами.
Потом он пригласил Козельского и рассказал о выводах экспертизы.
— Ваше мнение, Вадим Сергеевич?
Козельский вспомнил Кравчука там, на глухой дорожке, его немигающий взгляд, неотвратимое приближение большого, натренированного таежными переходами тела. Казалось, что секунда отделяет их от смертельной схватки.
Но ее не произошло.
«Виноват, — пробормотал тогда Кравчук. — Еще увидимся».
И, резко повернувшись, исчез так быстро, что Вадим и сообразить ничего не успел. Только растерянно посмотрел ему вслед и увидел на площадке, повыше тропинки, мужчину в чесучовых брюках.
В ближайшие два — три часа состояние лейтенанта было отчаянным: он не сомневался, что Кравчук скрылся. К полному его изумлению, вечером выяснилось, что геолог преспокойно вернулся к себе на квартиру и, по-видимому, не собирается уезжать из Тригорска и вообще прятаться.
Мазину обо всем этом Козельский рассказал, презирая самого себя. Но разноса не последовало.
— Очень интересно, Вадим! Значит, он хочет видеть меня?
— По правде говоря, Игорь Николаевич, я считаю, что это была уловка. Он хотел заманить меня в глухое место.
— Возможно. Но не факт. Моя точка зрения на Кравчука все еще не сложилась окончательно. Однако думаю, что если он замешан в преступлении, то скорее г. едет какую-то рискованную и непонятную пока нам игру. Может быть, ему нужно отвлечь меня от чего-то более важного, что должно произойти в городе?
Говорил Мазин тогда осторожно и потому разубедить лейтенанта полностью не смог.
— Что же делать сейчас?
— Брать его надо, по-моему, — ответил Козельский Волокову.
Тот не знал, что сказать. Выручила неожиданная посетительница.
Она появилась в кабинете Волокова прямо с работы: в кокетливом халатике и белой пилотке. Но сама девушка выглядела вовсе не легкомысленной, скорее унылой — некрасивая, с длинным носом. Звали ее Соня. Заметно было, что милиция внушает ей если и не страх, то, во всяком случае, опасения.
— Меня Артем Георгиевич направил. Чтоб я рассказала…
Артем Георгиевич оказался заведующим аптекой.
— У нас аптека дежурная, — начала Соня. — Как раз была моя очередь дежурить. Мы дверь запираем на ночь, а посетители звонят. Вот и он позвонил. Мужчина. Спросил бинт, вату и йод.
— Когда это было? В котором часу?
— Да поздно уже… Очень спать хотелось, — откровенно пояснила Соня.
— А он сказал, зачем бинты?
— Сказал. «Вот, — говорит, — пес проклятый — полкило мяса с меня выжрал». Так смешно, — и Соня улыбнулась.
Но ни Волоков, ни Козельский даже не усмехнулись. Они только глянули друг на друга, не надеясь еще на полный успех.
— Как он выглядел, мужчина этот? Вы могли бы его узнать?
— Конечно! Он приметный, с бородой. И большой очень — почти пополам согнулся, когда в окошко наклонился.
Теперь Козельский улыбнулся радостно. Волоков же сдержал свои чувства.
— Почему вы вчера ничего нам не сообщили?
— Да меня ж на работе не было после дежурства. Артем Георгиевич девочек домой присылал, а я к сестре в Долинскую ездила.
— Понятно. Только вот что. Вы говорите, что вчера дежурили? То есть в ночь с позавчера на вчера?
— Да, да. Позавчера заступила.
— И в эту ночь приходил человек с бородой?
— В эту, в эту…
Волоков нахмурился:
— Ну хорошо, Соня, идите работайте. Спасибо вам большое.
Соня ушла с явным облегчением, а Волоков повернулся вместе со стулом в сторону Козельского и развел ладонями.
— Не понимаю вас, — ответил Козельский, хотя отлично понимал.
— Да ведь Дубинина была убита днем раньше.
— Ну, знаете! Почему он не мог прийти в аптеку через сутки?
— Поздно ночью?
— А что ж ему, идти у всех на глазах?
— Днем бы на него меньше обратили внимания. Но не это главное. Вы-то видели Кравчука утром, после смерти Дубининой, вполне здоровым!
Козельский почесал затылок.
— Чертовщина, товарищ капитан.
— Да… На грани фантастики.
Зазвонил телефон.
Капитан поднял одну из своих красивых трубок.
— Слушаю. Это вы, Юра? Как там с Кравчуком? Что?
Он положил трубку и сказал:
— Пошли погуляем. Юрка откопал что-то любопытное.
Юра был тот самый паренек в ковбойке, которого Козельский заметил в Тригорске еще в первый день. Но сегодня он не узнал бы в этом щеголеватом курортном парне с усиками, в узких джинсах и зеленом козырьке на ремешке простоватого работяги, каким выглядел Юра в день его приезда.
«Молодец! — подумал Козельский. — Такое перевоплощение может сбить с толку больше, чем любая неприметность». И он с удовольствием протянул Юрию руку.
Вадим испытал бы еще больше удовольствия, если б знал, какие вести припас для них этот парень.
Разговор состоялся в парке.
— У Кравчука появился друг.
— Рассказывайте, Юра.
— Все утро Кравчук был дома. Валялся во дворе на раскладушке. Я уже стал скучать…
— Он вел наблюдение из соседнего дома, — пояснил Волоков Козельскому. — Там живет наш бывший сотрудник.
— Вот именно. Осточертел добрым людям, которым и на пенсии покоя нет, — подтвердил Юра. — Вышел со двора Кравчук в одиннадцать и направился в молочное кафе на Зеленой Горке. Посещаемость там средняя, встречаться удобно. Места есть, но и не пустынно. Короче, когда он подсел за столик к одному «кефирнику», я еще ничего не заподозрил. Неприметный такой, с бородкой, немолодой, в чесучовом костюмчике. Типичный бухгалтер-пенсионер. Потом они перекинулись несколькими словами. Так могли разговаривать и посторонние. Правда, о чем они говорили, не знаю. Постепенно разговор стал накаляться. Больше напирал «пенсионер». Кравчук все бурчал что-то, видно недовольный. Вдруг «пенсионер» полез в карман пиджачка и протянул Кравчуку ключ.
— Ключ?
— Именно. Хорошо видел. Довольно большой ключ. Кравчук взял его и пошел. Даже не попрощался. «Пенсионер» допил свой кефирчик и тоже вышел. Тут я нарушил указания и двинулся не за Кравчуком, а за «пенсионером». Не накажете? — спросил он у Волокова. Капитан неопределенно пожал плечами.
— Не накажете. Победителей не судят! — Юра засмеялся и вдруг быстро сдернул свой козырек со лба, провел пальцами по верхней губе и оказался без усиков, но зато в тюбетейке и черных очках, а поверх тенниски накинул неизвестно откуда взявшуюся спортивную куртку.
«Прямо Райкин!» — подумал Вадим с восхищением. Перед ним сидел совсем новый Юра.
— Вы только послушайте, куда он меня привел.
— В парикмахерскую, — сказал Волоков спокойненько.
Лицо Юры вытянулось.
— Откуда вы знаете?
— Не скажу, секрет, — капитан улыбнулся. Юра вздохнул и продолжал:
— В парикмахерской «пенсионер» побрился. И тут-то произошло самое интересное. Когда мы с ним вышли, я обнаружил на скамеечке напротив… Кравчука. Он старательно глазел из-за раскрытой газеты на «пенсионера». Ну как?
— Здорово! — сказал Волоков серьезно. — Что же вы сделали?
Юра сморщил нос:
— Пока я думал, что делать, «пенсионер» сел в четырнадцатый автобус, а я проводил Кравчука и позвонил вам.
— Не дотянул, значит, немного, — резюмировал капитан. — Ну и за то спасибо.
— Говоришь, он был в чесучовом костюме? — спросил Вадим. — Приземистый такой?
— Вспоминаете своего курортника на дорожке в парке?
— Да.
— Стоит подумать. Хотя у нас добрая половина пожилых курортников в чесуче ходит.
— Что же делать?
— Искать «пенсионера» и не выпускать из виду Кравчука. Может быть, его ключ откроет нам главную дверь.
— В центральной так старались, что даже вспомнили старушку, которую кошка на прошлой неделе поцарапала.
Но Козельский был угрюм.
— Вы шутите, а убийца посмеивается над нами.
— Вадим! В военное время про вас была поговорка — мрачный, как день без хлеба.
И Волоков отправился в криминалистическую лабораторию. Судьба Дубининой не выходила у него из головы.
«Неужели у нее были деньги? А если были, кто мог об этом знать? Только очень близкие, пользующиеся полным доверием. Но таких-то людей вокруг Дубининой и не было. Один погибший Укладников. Или его зять? Но это уже конек Козельского. Да так ли уж он плох, этот конек? Правда, Кравчука видели возле дома Дубининой днем, до ее смерти, но он мог и вернуться, зайти еще раз, обмануть наблюдавших за ним людей…»
— Привет, Дмитрий Иванович!
«Ох, уж эти курорты! Сколько здесь знакомых».
Волоков махнул рукой встречному. Тот свернул в парикмахерскую, и за ее стеклом, в зале, капитан заметил еще одно, на этот раз не просто знакомое лицо. По мнению Волокова, лицо это должно было находиться совсем в другом месте. Но подойти к нему сейчас было нельзя. И капитан прошел мимо.
Через пять минут он уже был в криминалистической лаборатории.
Заключение экспертизы заставило Волокова произнести сакраментальную фразу:
— Нет в жизни счастья!
Эксперт, худой человек, на котором синий китель казался двумя номерами больше, чем нужно, пожал плечами.
— К сожалению. Однако факт. На осколках стакана обнаружены отпечатки пальцев Дубининой. Только Дубининой, и ничьи больше.
Волоков нахмурился.
— Что поделаешь! Против науки не попрешь. Придется нам еще пошевелить мозгами.
Потом он пригласил Козельского и рассказал о выводах экспертизы.
— Ваше мнение, Вадим Сергеевич?
Козельский вспомнил Кравчука там, на глухой дорожке, его немигающий взгляд, неотвратимое приближение большого, натренированного таежными переходами тела. Казалось, что секунда отделяет их от смертельной схватки.
Но ее не произошло.
«Виноват, — пробормотал тогда Кравчук. — Еще увидимся».
И, резко повернувшись, исчез так быстро, что Вадим и сообразить ничего не успел. Только растерянно посмотрел ему вслед и увидел на площадке, повыше тропинки, мужчину в чесучовых брюках.
В ближайшие два — три часа состояние лейтенанта было отчаянным: он не сомневался, что Кравчук скрылся. К полному его изумлению, вечером выяснилось, что геолог преспокойно вернулся к себе на квартиру и, по-видимому, не собирается уезжать из Тригорска и вообще прятаться.
Мазину обо всем этом Козельский рассказал, презирая самого себя. Но разноса не последовало.
— Очень интересно, Вадим! Значит, он хочет видеть меня?
— По правде говоря, Игорь Николаевич, я считаю, что это была уловка. Он хотел заманить меня в глухое место.
— Возможно. Но не факт. Моя точка зрения на Кравчука все еще не сложилась окончательно. Однако думаю, что если он замешан в преступлении, то скорее г. едет какую-то рискованную и непонятную пока нам игру. Может быть, ему нужно отвлечь меня от чего-то более важного, что должно произойти в городе?
Говорил Мазин тогда осторожно и потому разубедить лейтенанта полностью не смог.
— Что же делать сейчас?
— Брать его надо, по-моему, — ответил Козельский Волокову.
Тот не знал, что сказать. Выручила неожиданная посетительница.
Она появилась в кабинете Волокова прямо с работы: в кокетливом халатике и белой пилотке. Но сама девушка выглядела вовсе не легкомысленной, скорее унылой — некрасивая, с длинным носом. Звали ее Соня. Заметно было, что милиция внушает ей если и не страх, то, во всяком случае, опасения.
— Меня Артем Георгиевич направил. Чтоб я рассказала…
Артем Георгиевич оказался заведующим аптекой.
— У нас аптека дежурная, — начала Соня. — Как раз была моя очередь дежурить. Мы дверь запираем на ночь, а посетители звонят. Вот и он позвонил. Мужчина. Спросил бинт, вату и йод.
— Когда это было? В котором часу?
— Да поздно уже… Очень спать хотелось, — откровенно пояснила Соня.
— А он сказал, зачем бинты?
— Сказал. «Вот, — говорит, — пес проклятый — полкило мяса с меня выжрал». Так смешно, — и Соня улыбнулась.
Но ни Волоков, ни Козельский даже не усмехнулись. Они только глянули друг на друга, не надеясь еще на полный успех.
— Как он выглядел, мужчина этот? Вы могли бы его узнать?
— Конечно! Он приметный, с бородой. И большой очень — почти пополам согнулся, когда в окошко наклонился.
Теперь Козельский улыбнулся радостно. Волоков же сдержал свои чувства.
— Почему вы вчера ничего нам не сообщили?
— Да меня ж на работе не было после дежурства. Артем Георгиевич девочек домой присылал, а я к сестре в Долинскую ездила.
— Понятно. Только вот что. Вы говорите, что вчера дежурили? То есть в ночь с позавчера на вчера?
— Да, да. Позавчера заступила.
— И в эту ночь приходил человек с бородой?
— В эту, в эту…
Волоков нахмурился:
— Ну хорошо, Соня, идите работайте. Спасибо вам большое.
Соня ушла с явным облегчением, а Волоков повернулся вместе со стулом в сторону Козельского и развел ладонями.
— Не понимаю вас, — ответил Козельский, хотя отлично понимал.
— Да ведь Дубинина была убита днем раньше.
— Ну, знаете! Почему он не мог прийти в аптеку через сутки?
— Поздно ночью?
— А что ж ему, идти у всех на глазах?
— Днем бы на него меньше обратили внимания. Но не это главное. Вы-то видели Кравчука утром, после смерти Дубининой, вполне здоровым!
Козельский почесал затылок.
— Чертовщина, товарищ капитан.
— Да… На грани фантастики.
Зазвонил телефон.
Капитан поднял одну из своих красивых трубок.
— Слушаю. Это вы, Юра? Как там с Кравчуком? Что?
Он положил трубку и сказал:
— Пошли погуляем. Юрка откопал что-то любопытное.
Юра был тот самый паренек в ковбойке, которого Козельский заметил в Тригорске еще в первый день. Но сегодня он не узнал бы в этом щеголеватом курортном парне с усиками, в узких джинсах и зеленом козырьке на ремешке простоватого работяги, каким выглядел Юра в день его приезда.
«Молодец! — подумал Козельский. — Такое перевоплощение может сбить с толку больше, чем любая неприметность». И он с удовольствием протянул Юрию руку.
Вадим испытал бы еще больше удовольствия, если б знал, какие вести припас для них этот парень.
Разговор состоялся в парке.
— У Кравчука появился друг.
— Рассказывайте, Юра.
— Все утро Кравчук был дома. Валялся во дворе на раскладушке. Я уже стал скучать…
— Он вел наблюдение из соседнего дома, — пояснил Волоков Козельскому. — Там живет наш бывший сотрудник.
— Вот именно. Осточертел добрым людям, которым и на пенсии покоя нет, — подтвердил Юра. — Вышел со двора Кравчук в одиннадцать и направился в молочное кафе на Зеленой Горке. Посещаемость там средняя, встречаться удобно. Места есть, но и не пустынно. Короче, когда он подсел за столик к одному «кефирнику», я еще ничего не заподозрил. Неприметный такой, с бородкой, немолодой, в чесучовом костюмчике. Типичный бухгалтер-пенсионер. Потом они перекинулись несколькими словами. Так могли разговаривать и посторонние. Правда, о чем они говорили, не знаю. Постепенно разговор стал накаляться. Больше напирал «пенсионер». Кравчук все бурчал что-то, видно недовольный. Вдруг «пенсионер» полез в карман пиджачка и протянул Кравчуку ключ.
— Ключ?
— Именно. Хорошо видел. Довольно большой ключ. Кравчук взял его и пошел. Даже не попрощался. «Пенсионер» допил свой кефирчик и тоже вышел. Тут я нарушил указания и двинулся не за Кравчуком, а за «пенсионером». Не накажете? — спросил он у Волокова. Капитан неопределенно пожал плечами.
— Не накажете. Победителей не судят! — Юра засмеялся и вдруг быстро сдернул свой козырек со лба, провел пальцами по верхней губе и оказался без усиков, но зато в тюбетейке и черных очках, а поверх тенниски накинул неизвестно откуда взявшуюся спортивную куртку.
«Прямо Райкин!» — подумал Вадим с восхищением. Перед ним сидел совсем новый Юра.
— Вы только послушайте, куда он меня привел.
— В парикмахерскую, — сказал Волоков спокойненько.
Лицо Юры вытянулось.
— Откуда вы знаете?
— Не скажу, секрет, — капитан улыбнулся. Юра вздохнул и продолжал:
— В парикмахерской «пенсионер» побрился. И тут-то произошло самое интересное. Когда мы с ним вышли, я обнаружил на скамеечке напротив… Кравчука. Он старательно глазел из-за раскрытой газеты на «пенсионера». Ну как?
— Здорово! — сказал Волоков серьезно. — Что же вы сделали?
Юра сморщил нос:
— Пока я думал, что делать, «пенсионер» сел в четырнадцатый автобус, а я проводил Кравчука и позвонил вам.
— Не дотянул, значит, немного, — резюмировал капитан. — Ну и за то спасибо.
— Говоришь, он был в чесучовом костюме? — спросил Вадим. — Приземистый такой?
— Вспоминаете своего курортника на дорожке в парке?
— Да.
— Стоит подумать. Хотя у нас добрая половина пожилых курортников в чесуче ходит.
— Что же делать?
— Искать «пенсионера» и не выпускать из виду Кравчука. Может быть, его ключ откроет нам главную дверь.
XV
Мазин понимал, что нужные сведения получит не так скоро, если обратится за ними в обычном порядке. Поэтому он сам поехал в Комитет государственной безопасности, к генералу Возницыну. Генерал — впрочем, тогда еще майор — читал в свое время курс лекций на юридическом факультете. Одним из его слушателей и был Мазин. Потом им приходилось не раз встречаться по служебным делам, и отношения между ними установились такие, что Мазин всегда мог надеяться на помощь Возницына. Со своей стороны, генерал знал, что Мазин не будет беспокоить его по пустякам, и сказал сразу: — Приезжай. Через полчаса Мазин уже рассказывал генералу суть дела: — Мне очень нужно узнать, что известно об этом человеке. Он протянул Возницыну перепечатанный Брусковым кусок из отчета о процессе в Береговом. Генерал достал из футляра, лежавшего на столе, очки и начал внимательно просматривать бумагу. «…сердце обливается кровью, когда слушаешь показания свидетелей, людей, чудом вырвавшихся из фашистского ада. Вот перед судом выступает Галина Полторенко. В черных волосах этой двадцатилетней девушки седые пряди. Невозможно описать на бумаге перенесенные ею страдания. На правой руке Гали нет ни одного ногтя. — Кто искалечил вас? — спрашивает государственный обвинитель. Полторенко показывает на Шнейдера: — Он командовал. — А кто был непосредственным исполнителем? — Из русских… Каин. — Вы не знаете его имени? — Не знаю Мы его «пауком» называли. Он, когда пытал нас, мундир снимал. У него на правом плече наколка была такая — паук. Государственный обвинитель спрашивает у Шнейдера, кто был этот грязный иуда. Обвиняемый Шнейдер: — Этот человек был подчиненным Ноймана из специальной команды СС. Его имя Иван. Фамилию я не помню. У меня плохая память на русские фамилии. Итак, фамилия палача, истязавшего Розу Ковальчук, Галину Полторенко и многих других советских патриотов, пока неизвестна. Но нет сомнения, «пауку» не уйти от грозной кары. Кровопиец должен быть найден и понести ответ за свои злодеяния…» Возницын положил листок на стол: — Ты правильно сделал, что обратился прямо ко мне. Мы этой «специальной командой» занимались. Так что на всех, кто там служил, у нас должны быть данные. Пока щеголеватый капитан, немножко свысока поглядывавший на одетого в штатское Мазина, по поручению генерала искал необходимые сведения, Игорь Николаевич сидел на диване в приемной. Поставить все на место могла лишь одна фамилия. Не в первый раз прикидывал он «за» и «против» и, хотя не был человеком самоуверенным, но, входя вторично в кабинет Возницына, почти не сомневался, что услышит именно ее. Генерал был доволен: — Удача, Игорь Николаевич. Нашелся твой «паук». Вот посмотри. Трудно было Мазину взять из рук генерала папку, сохраняя спокойствие. Но еще труднее оказалось сдержать сменившее надежду разочарование. Фамилия «паука» была ему совершенно незнакома. И тем не менее ошибки быть не могло. Речь шла о палаче из Берегового. «Стрельцов Иван Тимофеевич, — читал он, — год рождения — 1911, русский, сын купца, торговавшего и при нэпе, репрессированного за спекуляцию и контрабанду, добровольно перешел на сторону врага, изменив Родине, вступил в гитлеровские карательные войска… Участвовал в расправах над советскими патриотами в Береговом, на Украине, в Польше, во Франции… Принимал участие в боях на Западном фронте, награжден Железным крестом второй степени… в сорок четвертом получил звание офицера СС. В том же году погиб при налете союзной авиации на Ганновер, о чем имеется соответствующий документ в архивах СС и что подтверждается очевидцами». — Ну как, Игорь Николаевич? Пригодится материал? Мазин все еще всматривался в фотографию Стрельцова. Конечно, она сделана лет двадцать пять назад. За это время можно потолстеть, потерять шевелюру, нажить близорукость, наконец. Но горбоносому стать курносым? Нет! Если только на фотографии снят действительно Стрельцов — это совсем не тот человек, который нужен Мазину. — Благодарю. Пригодится, так сказать, негативно. Кажется, этот материал развеял одну мою фантазию. Но на всякий случай сделаю небольшие выписки и, с вашего разрешения, воспользуюсь фотографией.
Все-таки ему было жаль своей версии. Слишком долго и нелегко она вынашивалась. И потому, прежде чем отбросить ее окончательно, Мазин решил повидать Эдика Семенистого.
— Ненадолго только, — сказал врач. — Все-таки сотрясение мозга.
Голова Семенистого напоминала не то белый футбольный мяч, не то шлем космонавта.
— Товарищ начальник! Вы ко мне?
— К тебе. Правда, ни цветов, ни пирожных не принес.
— Да я понимаю.
— Каяться на суде будешь. А мне нужна твоя помощь.
— Это с удовольствием.
— Ты как, читать можешь?
— Конечно.
— Тогда почитай-ка вот бумагу и скажи, кого тебе напоминает этот человек.
Семенистый поднес к самым глазам брусковский листок и начал читать сосредоточенно, даже чуть шевеля губами. Мазин ждал.
Эдик прочитал раз, глянул на Мазина из своего космического шлема, но побоялся сразу сказать и начал снова шевелить губами.
Мазин не торопил.
— Ну? — спросил он, когда Семенистый вторично дочитал все до конца.
— Неужто дед наш таким гадом оказался? — спросил он неуверенно.
— Хочешь сказать, что приметы подходят к Укладникову?
— К нему. И паук у него, и звать Иваном. Паук, правда, не на самом плече, а пониже.
— Значит, так мог подумать и Стояновский?
— Борька? Почему?
— Стояновский читал все, что здесь написано, за день до того, как пропал Укладников. А Роза Ковальчук, которая здесь упоминается, — его мать.
— Понимаю… — прогудел футбольный мяч.
— Ничего ты не понимаешь. Иванов много, а любителей себя разукрашивать — еще больше. В бумаге речь идет не об Укладникове, а вот о ком.
И Мазин протянул фотографию Стрельцова. Семенистый глянул на горбоносое лицо человека в эсэсовском мундире.
— Ну дела! Кто ж это?
— На Укладникова не похож?
— Не. Старик курносый был. — Он посоображал немного и спросил с опаской: — Неужели Борька попутал? И старика… того?
— Разберемся…
Был у Мазина еще один вопрос.
— Между прочим, Семенистый, никто не приходил к Стояновскому в день его отъезда?
Надежда на то, что он получит удовлетворительный ответ была невелика, потому что Эдик работал и, следовательно, не был дома большую часть дня. Все это Мазин понимал прекрасно и поднялся уже со стула, когда Семенистый ответил:
— Приходил.
— Кто?
— Хромой такой…
«Инвалид!» — чуть было не вскрикнул Мазин.
— И они виделись со Стояновским?
Эдик покачал своим шаром:
— Нет. Он его не застал. Когда хромой пришел, Борька уже на вокзал подался.
— А тебе он ничего не сказал?
— Мне? Вроде нет. Так, ничего особенного. Сказал, что Борька ему нужен. Дело у него какое-то. Ну, я ответил, что уехал он на вокзал.
— И сказал, куда он едет?
Семенистый посопел под бинтами. Видно, опасался попасть в ловушку.
— Сказал.
Мазин встал.
— Ладно, поправляйся. Кое-что мы с тобой прояснили.
Однако ясность эта окончательно подрывала версию, на которую Мазин так надеялся. Теперь добраться до выхода из лабиринта можно было только в Тригорске. Там, в руках у Кравчука, оставалась последняя нитка.
В Тригорск Мазин прилетел, когда уже вечерело.
— Игорь Николаевич. Вы? Вот здорово! — воскликнул Волоков радостно.
— Что нового? — ответил Мазин вопросом.
Он чувствовал себя усталым. Хотелось отдохнуть, побриться и принять душ.
Однако слушал Мазин внимательно, и чем больше узнавал, тем скорее проходила усталость. Когда вошел Козельский, глаза Игоря Николаевича снова блестели.
— А вы, Вадим, что скажете?
— На этот раз Кравчук попался.
— Вы твердо считаете его убийцей?
— По крайней мере, Укладникова.
Мазин подумал немного.
— Вадим, а как вы представляете себе все события от начала до конца? Попробуйте нарисовать эту картину, а мы посмотрим, не найдется ли в ней пробелов, незарисованных мест И обсудим ее все вместе. Ведь решение предстоит принять очень важное.
Козельский оценил деликатность начальства.
— Я представляю себе дело так. Кравчук был в Москве на конференции. Оттуда он решил съездить на денек домой. Оформил заранее командировочное удостоверение и поехал. Заметим, что об этом никто не знал. Приехал он ночью, тестя нашел в котельной. Что произошло между ними, пока точно не известно, но скорее всего Укладников сказал зятю про тайник и деньги. Кравчук решил воспользоваться деньгами и убил тестя. Потом поднялся в квартиру и забрал деньги.
— Надев предварительно ботинки Стояновского?
— Да, ботинки, как и чемодан, видимо, находились в комнате Стояновского. И Кравчук мог использовать их, чтобы повести следствие по неверному пути. Вспомните, как нас запутал этот чемодан, пока мы не узнали, что Стояновский не брал его с собой, а уехал с рюкзаком.
Мазин кивнул:
— Это логично. Продолжайте, Вадим.
— Остается Дубинина. Мы предполагаем, что Кравчук убил и ее. Я тоже так думал до истории с Рексом. Но тогда перед нами очень сложная задача: зачем? Снова ограбление? Не думаю. Кравчук, по-моему, не профессионал. Скорее, легковозбудимый и увлекающийся человек. Может быть, даже неполноценный психически. Вспомните его глаза, манеру говорить отдельными словами. Возможно, что и тестя он убил в результате вспышки, ссоры. Не поделили, например, деньги…
Козельский говорил увлеченно, энергично. Видно было, что лейтенант немало поломал голову над своей версией. И вполне самостоятельно. А это всегда нравилось Мазину.
— Неплохо, Вадим, честное слово, неплохо.
Козельский улыбнулся, довольный:
— Вот я и подумал: а что, если Дубинина все-таки не убита? Что, если это самоубийство?
— Мотивируйте, — предложил Волоков доброжелательно.
— Мотивировка есть. Кравчук был у Дубининой и сообщил ей о смерти Укладникова. А планы Дубининой в отношении Укладникова известны. Исчезла последняя надежда как-то устроить свою жизнь. В итоге — отчаяние.
— Тоже логично, — согласился Мазин. — Но как вы объясните историю с Рексом?
— Чтоб он сдох, Рекс ваш! Лучше б он меня укусил. Все рассмеялись.
— Здесь, Игорь Николаевич, честно говоря, начинаются неясности. И с Рексом, и с «пенсионером». Могу сказать только одно: Кравчуку зачем-то обязательно нужна была Дубинина. Он пошел к ней сразу по приезде, но, видимо, не добился своей цели. Собирался прийти еще, но утром узнал о самоубийстве. Тут Кравчук струсил, понял, что смерть Дубининой вновь привлечет к нему наше внимание. Он пришел ко мне и стал все запутывать. А может, и убить меня хотел. Ему помешали. Тогда Кравчук с присущей ему неуравновешенностью возвращается к старому замыслу, пытается проникнуть в квартиру Дубининой, но Рекс его останавливает.
— В чем только его замысел? — спросил Волоков, ни к кому конкретно не обращаясь.
Козельский развел руками:
— Не знаю. Он говорил что-то о письмах…
— Гадать на кофейной гуще не стоит, — прервал Мазин. — Лучше запомним факты. Вы их, Вадим, выделили правильно. Кравчуку была нужна Дубинина или что-то в ее доме. Цели своей он не достиг и, следовательно, может сделать еще одну попытку. Не исключено, что с помощью ключа, полученного от «пенсионера». Кто такой «пенсионер»? Возможно, обыкновенный слесарь, которого Кравчук попросил изготовить ключ к знакомому ему замку. Обольщаться его рейдом в парикмахерскую, по-моему, не следует. Люди бреют бороды не только для того, чтобы изменить внешность и скрыться.
— А зачем Кравчук следил за ним?
— Хотя бы для того, чтобы убедиться, что слесарь не пошел в милицию. Я стараюсь немножко охладить ваши горячие головы, потому что сам недавно увлекся. Но это не значит, что «пенсионер» — фигура незначительная. Найти его нужно обязательно. Поручите, Дмитрий Иванович, Юре подготовить словесный портрет. Нужно быть готовым, товарищи, ко всему. Даже невероятному. Такая нам попалась задача. Помните у Достоевского? «Тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное…»
— Благодарю. Пригодится, так сказать, негативно. Кажется, этот материал развеял одну мою фантазию. Но на всякий случай сделаю небольшие выписки и, с вашего разрешения, воспользуюсь фотографией.
Все-таки ему было жаль своей версии. Слишком долго и нелегко она вынашивалась. И потому, прежде чем отбросить ее окончательно, Мазин решил повидать Эдика Семенистого.
— Ненадолго только, — сказал врач. — Все-таки сотрясение мозга.
Голова Семенистого напоминала не то белый футбольный мяч, не то шлем космонавта.
— Товарищ начальник! Вы ко мне?
— К тебе. Правда, ни цветов, ни пирожных не принес.
— Да я понимаю.
— Каяться на суде будешь. А мне нужна твоя помощь.
— Это с удовольствием.
— Ты как, читать можешь?
— Конечно.
— Тогда почитай-ка вот бумагу и скажи, кого тебе напоминает этот человек.
Семенистый поднес к самым глазам брусковский листок и начал читать сосредоточенно, даже чуть шевеля губами. Мазин ждал.
Эдик прочитал раз, глянул на Мазина из своего космического шлема, но побоялся сразу сказать и начал снова шевелить губами.
Мазин не торопил.
— Ну? — спросил он, когда Семенистый вторично дочитал все до конца.
— Неужто дед наш таким гадом оказался? — спросил он неуверенно.
— Хочешь сказать, что приметы подходят к Укладникову?
— К нему. И паук у него, и звать Иваном. Паук, правда, не на самом плече, а пониже.
— Значит, так мог подумать и Стояновский?
— Борька? Почему?
— Стояновский читал все, что здесь написано, за день до того, как пропал Укладников. А Роза Ковальчук, которая здесь упоминается, — его мать.
— Понимаю… — прогудел футбольный мяч.
— Ничего ты не понимаешь. Иванов много, а любителей себя разукрашивать — еще больше. В бумаге речь идет не об Укладникове, а вот о ком.
И Мазин протянул фотографию Стрельцова. Семенистый глянул на горбоносое лицо человека в эсэсовском мундире.
— Ну дела! Кто ж это?
— На Укладникова не похож?
— Не. Старик курносый был. — Он посоображал немного и спросил с опаской: — Неужели Борька попутал? И старика… того?
— Разберемся…
Был у Мазина еще один вопрос.
— Между прочим, Семенистый, никто не приходил к Стояновскому в день его отъезда?
Надежда на то, что он получит удовлетворительный ответ была невелика, потому что Эдик работал и, следовательно, не был дома большую часть дня. Все это Мазин понимал прекрасно и поднялся уже со стула, когда Семенистый ответил:
— Приходил.
— Кто?
— Хромой такой…
«Инвалид!» — чуть было не вскрикнул Мазин.
— И они виделись со Стояновским?
Эдик покачал своим шаром:
— Нет. Он его не застал. Когда хромой пришел, Борька уже на вокзал подался.
— А тебе он ничего не сказал?
— Мне? Вроде нет. Так, ничего особенного. Сказал, что Борька ему нужен. Дело у него какое-то. Ну, я ответил, что уехал он на вокзал.
— И сказал, куда он едет?
Семенистый посопел под бинтами. Видно, опасался попасть в ловушку.
— Сказал.
Мазин встал.
— Ладно, поправляйся. Кое-что мы с тобой прояснили.
Однако ясность эта окончательно подрывала версию, на которую Мазин так надеялся. Теперь добраться до выхода из лабиринта можно было только в Тригорске. Там, в руках у Кравчука, оставалась последняя нитка.
В Тригорск Мазин прилетел, когда уже вечерело.
— Игорь Николаевич. Вы? Вот здорово! — воскликнул Волоков радостно.
— Что нового? — ответил Мазин вопросом.
Он чувствовал себя усталым. Хотелось отдохнуть, побриться и принять душ.
Однако слушал Мазин внимательно, и чем больше узнавал, тем скорее проходила усталость. Когда вошел Козельский, глаза Игоря Николаевича снова блестели.
— А вы, Вадим, что скажете?
— На этот раз Кравчук попался.
— Вы твердо считаете его убийцей?
— По крайней мере, Укладникова.
Мазин подумал немного.
— Вадим, а как вы представляете себе все события от начала до конца? Попробуйте нарисовать эту картину, а мы посмотрим, не найдется ли в ней пробелов, незарисованных мест И обсудим ее все вместе. Ведь решение предстоит принять очень важное.
Козельский оценил деликатность начальства.
— Я представляю себе дело так. Кравчук был в Москве на конференции. Оттуда он решил съездить на денек домой. Оформил заранее командировочное удостоверение и поехал. Заметим, что об этом никто не знал. Приехал он ночью, тестя нашел в котельной. Что произошло между ними, пока точно не известно, но скорее всего Укладников сказал зятю про тайник и деньги. Кравчук решил воспользоваться деньгами и убил тестя. Потом поднялся в квартиру и забрал деньги.
— Надев предварительно ботинки Стояновского?
— Да, ботинки, как и чемодан, видимо, находились в комнате Стояновского. И Кравчук мог использовать их, чтобы повести следствие по неверному пути. Вспомните, как нас запутал этот чемодан, пока мы не узнали, что Стояновский не брал его с собой, а уехал с рюкзаком.
Мазин кивнул:
— Это логично. Продолжайте, Вадим.
— Остается Дубинина. Мы предполагаем, что Кравчук убил и ее. Я тоже так думал до истории с Рексом. Но тогда перед нами очень сложная задача: зачем? Снова ограбление? Не думаю. Кравчук, по-моему, не профессионал. Скорее, легковозбудимый и увлекающийся человек. Может быть, даже неполноценный психически. Вспомните его глаза, манеру говорить отдельными словами. Возможно, что и тестя он убил в результате вспышки, ссоры. Не поделили, например, деньги…
Козельский говорил увлеченно, энергично. Видно было, что лейтенант немало поломал голову над своей версией. И вполне самостоятельно. А это всегда нравилось Мазину.
— Неплохо, Вадим, честное слово, неплохо.
Козельский улыбнулся, довольный:
— Вот я и подумал: а что, если Дубинина все-таки не убита? Что, если это самоубийство?
— Мотивируйте, — предложил Волоков доброжелательно.
— Мотивировка есть. Кравчук был у Дубининой и сообщил ей о смерти Укладникова. А планы Дубининой в отношении Укладникова известны. Исчезла последняя надежда как-то устроить свою жизнь. В итоге — отчаяние.
— Тоже логично, — согласился Мазин. — Но как вы объясните историю с Рексом?
— Чтоб он сдох, Рекс ваш! Лучше б он меня укусил. Все рассмеялись.
— Здесь, Игорь Николаевич, честно говоря, начинаются неясности. И с Рексом, и с «пенсионером». Могу сказать только одно: Кравчуку зачем-то обязательно нужна была Дубинина. Он пошел к ней сразу по приезде, но, видимо, не добился своей цели. Собирался прийти еще, но утром узнал о самоубийстве. Тут Кравчук струсил, понял, что смерть Дубининой вновь привлечет к нему наше внимание. Он пришел ко мне и стал все запутывать. А может, и убить меня хотел. Ему помешали. Тогда Кравчук с присущей ему неуравновешенностью возвращается к старому замыслу, пытается проникнуть в квартиру Дубининой, но Рекс его останавливает.
— В чем только его замысел? — спросил Волоков, ни к кому конкретно не обращаясь.
Козельский развел руками:
— Не знаю. Он говорил что-то о письмах…
— Гадать на кофейной гуще не стоит, — прервал Мазин. — Лучше запомним факты. Вы их, Вадим, выделили правильно. Кравчуку была нужна Дубинина или что-то в ее доме. Цели своей он не достиг и, следовательно, может сделать еще одну попытку. Не исключено, что с помощью ключа, полученного от «пенсионера». Кто такой «пенсионер»? Возможно, обыкновенный слесарь, которого Кравчук попросил изготовить ключ к знакомому ему замку. Обольщаться его рейдом в парикмахерскую, по-моему, не следует. Люди бреют бороды не только для того, чтобы изменить внешность и скрыться.
— А зачем Кравчук следил за ним?
— Хотя бы для того, чтобы убедиться, что слесарь не пошел в милицию. Я стараюсь немножко охладить ваши горячие головы, потому что сам недавно увлекся. Но это не значит, что «пенсионер» — фигура незначительная. Найти его нужно обязательно. Поручите, Дмитрий Иванович, Юре подготовить словесный портрет. Нужно быть готовым, товарищи, ко всему. Даже невероятному. Такая нам попалась задача. Помните у Достоевского? «Тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное…»
XVI
В ставне была маленькая щель, и, когда по улице проходили машины, неяркий лучик перебегал по комнате. Мазин следил за этой движущейся полоской света, напоминающей щетку на ветровом стекле автомобиля, и думал: если луч дойдет до края стола, то Кравчук придет сегодня. Луч добрался совсем близко, заплясал у дубовой ножки и стал меркнуть Коснулся он ножки или нет? Мазин улыбнулся своему мальчишеству. Вообще-то он должен был направить сюда Козельского или кого-нибудь из местной милиции, а не сидеть в старом, продавленном кресле ночью в мрачноватом ветхом домишке, жизнь которого, наверно, закончилась вместе с жизнью его несчастливой хозяйки. Когда пробегали по комнате лучики, на комоде тускло поблескивали фотографии за стеклом. Мазин видел их днем, эти снимки разных лет, запечатлевшие, как черствело с годами лицо Дубининой. И, вспоминая самые ранние из фотографии, он думал, что судьба этой женщины могла бы сложиться иначе, если бы не убежал с белыми ее отец, если б не осталась она на оккупированной территории, если бы не встретился ей, наконец, Укладников. Жила бы себе спокойно интеллигентная старушка, обучающая внуков французскому языку. А может, нет? Где провести грань между тем, что заложено в человеке, и тем, на что толкают его обстоятельства? Крайности вообще были неприятны Мазину. Он не верил тем, кто утверждал, что «преступник рождается преступником». Но и терпеть не мог «всепрощальников», призывавших видеть в негодяе лишь жертву обстоятельств. Жертвами были другие. Он повидал их слишком много — заколотых ножом бандита или просто обезумевшего хулигана — и их матерей, жен, детей, придавленных неискупимым горем. И, вспоминая отчаяние в их глазах, Мазин не думал, что за убийцей недосмотрели в яслях или не вовлекли его своевременно в спортивную школу. Он просто делал все, чтобы преступник не ушел от возмездия. Так поступал он и сейчас, но еще более продуманно и тщательно. Ведь смерть нес зверь не обезумевший, а хладнокровный и расчетливый. Мазин мысленно перелистывал страницы разбухшего дела, и люди как бы сходили со своих скучных фотографий анфас и в профиль. Не всех мог он разглядеть ясно, не всем мог заглянуть в глаза. Вот прошла Дубинина. За ней Укладников. О нем он думал больше, чем о других. И не только потому, что с него все началось. Об этом человеке и его роли в событиях стоило думать и по другим причинам. Но не все эти мысли Мазин решался произнести вслух — боялся «фантазий». «Старик» — так назвал Укладникова Семенистый. А на самом деле не такой уж старик — до пенсии еще лет восемь. Кое-чем его судьба напоминает судьбу Дубининой. Но сочувствия вызывает меньше. Бросил семью, о дочери вспомнил, когда самому стало трудно. Никогда ничем ей не помог, а помощи попросил. И как он оказался в плену? Не по доброй ли воле? Потребительски относился и к Дубининой. Все чего-то выжидал, выгадывал, вместо того чтобы переехать к одинокой женщине, которая звала и ждала его. Мазин прочитал всю пачку длинных, обстоятельных писем Укладникова, которая хранилась у Дубининой в комоде. Написано много. Укладников любил, видно, поскрипеть пером. Подробно, день за днем, фиксировал он свое времяпрепровождение — когда в баню ходил, почем говядину покупал, в котором часу возвращаются домой квартиранты. И в конце неизменная фраза: «Так протекает мое повседневное существование». А вот зачем существует — ни слова. И ни слова заботы о самой Дубининой. Ни малейшего желания хоть чем-то помочь ей. Безликий какой-то, неуловимый… Иное дело зять его. Тут все контрастно — черное, белое. Никакой безликости. Козельский считает, что Укладникова убил Кравчук. И прокурор, пожалуй, поверит в это, если подобрать соответствующим образом материал. Санкцию получить несложно. Но что даст этот арест? Признание Кравчука, новые факты? Предположим. А если он только запутает дело? Замкнется человек в себе, скроет что-то важное, пустит следствие по ложному следу? И оборвется единственная нить, которая еще осталась. Нет, нельзя вытягивать эту нить допросами. Нужен рывок, психологический шок. Как зуб рвут. Дернул за нитку — и зуб на ладони. И нитка не порвалась. Здесь разговор нужен решительный, такой, чтобы встряхнул Кравчука, на которого не подействуют ни уговоры, ни угрозы Кравчука можно взять только штурмом. Причем штурмом неожиданным. Для этого и пришел сюда Мазин. «Вы хотели меня видеть? — можно будет сказать ему. — Я вас жду. Почему именно здесь? Очень подходящее место! Вы ведь сами пришли сюда. Зачем?» Эффектно, ничего не скажешь. Но только для Козельского. И все-таки ждет в этой комнате Мазин, а не Козельский. «А впрочем, довольно хитрить с собой, — думал Игорь Николаевич. — Не эффектной встречи с Кравчуком ждешь ты, а гораздо большего. Не веришь ты в его виновность». «Нет, тут не Миколка!» Конечно, геолог не «Миколка»! Кравчук — фигура посложнее, у него есть собственная цель. Не зря же он провожал до парикмахерской своего «слесаря». Но не Кравчук вел поединок с Мазиным. Тот, настоящий, очень опытен и хитер. Ему везло, наконец, черт побери! Шаг за шагом воздвигал он глухой забор, приходилось идти вдоль этой стенки, в которой каждая доска прибита очень прочно. После разговора с генералом Возницыным Мазин понял, что рассчитывать можно только на какую-нибудь щель. Калитки ему не оставят. И вот доклад, Волокова. «Бухгалтер-пенсионер» с бутылкой кефира. Кто он? Слесарь? Ведь не лгал Мазин Козельскому и Волокову, когда говорил, что это наиболее вероятный вариант. Но почему же Кравчук подсматривал за ним с такой осторожностью? Боялся, что слесарь в милицию пойдет? Дескать, ключ меня зачем-то попросили сделать! Да, этот вариант был бы неплох для Кравчука! А вот если иначе? Если не слесарь… Мазин даже приподнялся немного в кресле. «Будь честным, Игорь Николаевич. Если это не слесарь — имел ли ты право позволять Кравчуку делать то, что он делает? Ты увидел, как Кравчук взял на себя роль охотника. Но ты-то знаешь, что овцы не охотятся на волков. А если охотятся, то это кончается печально для овец. Нет, ты пришел сюда не только для того, чтобы вынудить Кравчука к откровенности. Ты ждешь тут подлинного охотника. И это не Кравчук. Геолог не охотник, а приманка. Хотя такого крупного мужчину не сравнишь, конечно, с червячком на удочке. Но не проглотят ли его, как червяка? Зверь прожорлив. Клюет не по мелочам. Глотает крепко. И даже если он проглотит вместе с Кравчуком крючок — ты не хотел бы такого улова». Эта мысль встревожила. «Я тут дедовское кресло просиживаю, а он… Правда, за геологом ведут наблюдение. — Мазин поднес близко к глазам свои часы. — Ого! Третий час! А спать не хочется. Пожалуй, это уже не волевой настрой, а самая элементарная бессонница. Нервы-то и у тебя сдают…» Он встал и подошел к окну. Лучики не скользили больше по комнате, потому что машин давно уже не было. Зато взошла луна, и полоска света, пробившаяся сквозь щель в ставне, остановилась. Мазин наступил на нее, но она выпрыгнула из-под ноги и взобралась ему на плечо. Мазин глянул через щель на опустевшую улицу. На другой стороне улицы он увидел тень. Только тень — человека разглядеть было нельзя. Но у Мазина стукнуло сердце: «Пришел все-таки?» Тень не шевелилась: человек стоял. Ждал, чтобы убедиться, что путь свободен? Шли минуты. Нет, для этого он стоит слишком долго. Улица совершенно пуста. Тишина полная. Рекса забрала Алтуфьева. С двери снята печать. Чего же он ждет? У Мазина затекли ноги. «А может, это просто кто-нибудь из ребят, посланных Волоковым? Юра, например. Тогда история становится комичной. Нет, это не Юра! Юра тонкий, а этот коренастый. Или тень искажает подлинные размеры? Хоть бы уж он сдвинулся с места!» Но он не сдвинулся. Он просто исчез. Моментально. Мазин заморгал, как мальчишка, но факт оставался фактом — тени не стало. Мазин напрягся, стараясь проникнуть взглядом в освещенные луной кусты, когда услыхал в тишине звук отпираемого замка. «Решился, наконец!» Мазин сделал три бесшумных шага и встал за дверью, соединяющей комнату с кухней. Отсюда, в щель между неприкрытой дверью и притолокой, он должен был увидеть Кравчука, как только тот зажжет свет или хотя бы спичку. Вошедший между тем неподвижно стоял в дверях. Казалось даже, что его вообще нет, — так тихо он стоял, прислушиваясь и затаив дыхание. Мазин опустил руку в карман и положил ладонь на рукоятку пистолета. Но он не собирался действовать сразу. Сперва надо было узнать, зачем пришел геолог. Наконец человек в дверях сделал какое-то движение. В руке у него вспыхнул карманный фонарик, и желтоватый овал прошелся по кухне от стенки до стенки Задержался он лишь в одном месте, где пол прорезал квадрат люка, ведущего в погреб. Пятно света поплясало по крышке погреба и двинулось дальше, мимо двери, за которой стоял Мазин. Двинулось низом, редко касаясь стен. Очевидно, Кравчук не хотел поднимать фонарь на уровень окон. «Что же он собирается делать? Искать?» Кравчук выдвинул нижний ящик комода, осветил его фонариком, потом пошарил внутри. Выпрямился. В руках у него ничего не было. Тогда он быстро обшарил остальные ящики. И тоже не нашел того, что искал. С минуту помедлив, геолог заглянул под кровать, пересмотрел немногочисленные книжки на этажерке, потом присел в кресло, в котором только что сидел Мазин. Кресло скрипнуло. Геолог приподнялся и вдруг перевернул кресло, ощупал со всех сторон сиденье. Мазин наблюдал из своего укрытия. Найдет или нет? Лучше бы нашел! Тогда разговор получится более выразительным. Правда, пришел он один. Но, в конце концов, хорошо уже то, что пришел, что жив. Если бы с ним что-нибудь случилось, Мазин никогда не простил бы себе этого. А раз уж пришел — пусть поищет. Можно и подождать! Кравчук взялся за письменный стол, когда произошло то, чего Мазин ждал так долго, но перестал ждать в последние пять минут. Дверь снова отворилась. Кравчук замер, услышав скрип, и шепот вошедшего прозвучал в полной тишине. — Не бойся, я это. — Вы? Они подошли друг к другу. Неизвестный был пониже геолога. — Я. Нашел? — Ничего нет. Зачем вы пришли? — Помочь тебе. — Не нужно. — Не психуй только, понял? Голос звучал жестко. Потом мягче: — Горячий ты, молодой, все сразу хочешь. Где смотрел-то? — Везде. Вы ж говорили, в комоде. — Это она мне говорила А бабам верить-то знаешь как? — Что же вы мне голову морочили? Зачем вы меня в это дело впутали? — Никто тебя не путал! Я помог тебе. Ключ дал. Ты ж без меня еще сюда влезть пытался. Так ведь?
— Но вы сказали, что здесь есть…
— Сказал, сказал!.. И сейчас скажу! Искать нужно! Потому — единственное это мое спасенье. И тебе тоже нужно, раз хочешь все по правде. Искать будем, понял?
— Не верю я вам!
— Зачем тогда пришел?
— Правду узнать.
— Вот и узнаешь. Под полом-то смотрел? В погребе?
Луч фонарика скользнул по половицам.
— Вот крышка. Видал? Там тоже посмотреть нужно.
— Шутите. Кто бумаги в погребе держит?
— Держат, когда нужно.
— Не полезу я в погреб.
— И не лезь Я сам погляжу. Дай-ка фонарик.
И незнакомец, нагнувшись, легко приподнял деревянную крышку.
Кравчук протянул ему фонарь Тот осветил погреб.
— Конечное дело, можно и гам ничего не найти. Но не в бумажке суть. Главное — человеку верить. Тогда и ему поможешь, и себе плохо не будет.
— Что вы хотите?
— Хочу, чтобы ты забыл, что видел меня здесь.
— А я хочу выяснить… — Фразу эту геолог не закончил.
Стояли они рядом. Вернее, не стояли, а двигались, хотя и очень медленно, по кухне. Неизвестный — в сторону от погреба, но не к выходной двери, а скорее к тому месту, где находился Мазин, будто отступая перед Кравчуком. Отходя в глубь комнаты, он вроде бы обдумывал, что ответить геологу. Так, во всяком случае, показалось вначале Мазину. А когда он сообразил, что незнакомец вовсе не ответ обдумывает, а просто выжидает, чтобы Кравчук повернулся спиной к люку, было уже поздно: удар пришелся в низ живота. Неожиданный и ошеломляющий. Так часто бывает с очень сильными людьми. Их ведь редко пытаются ударить. Не ждал и Кравчук. Он согнулся, не успев и охнуть, и гут же второй толчок опрокинул его в погреб.
Мазин не успел предотвратить первого удара, но теперь стоило подождать еще немного, чтобы увидеть все до конца.
Незнакомец сунул руку за борт пиджака.
— Не вздумай лезть наверх! Я тебе все рассказал, псих паршивый! Видишь пистолет — вот она, правда! Я его у тон сволочи отобрал, что меня шантажировала… Сейчас я тебя закрою. И уеду. Чтоб не мешать вам жить!.. Выйдешь, когда меня не будет. Посиди тихо, посоображай, как невинного человека загубить хотел. Слышишь, что говорю?
Кравчук молчал.
— Слышишь?
Из погреба не ответили.
Тогда тот, что был наверху, поставил крышку в пазы. Делал он это одной рукой, не выпуская из другой пистолет. Так же, одной рукой, он сдвинул тяжелый кухонный стол и придавил им крышку. Потом посветил фонариком, убедился, что стол на месте, и, вытерев пот со лба, остановился посреди комнаты, чтобы отдышаться.
Мазин стоял в двух шагах от него. Кажется, ничто больше не мешало поставить последнюю точку. Длинный путь через лабиринт закончился. Вдруг снова вспыхнул фонарик. Кружок света пробежал по полу и остановился на газовой плите. И Мазин увидел, как рука с носовым платком протянулась и открыла кран. Сначала один, за ним второй. Засвистели струйки газа.
И тут же их заглушил шум подъехавшей машины. Человек, заперший Кравчука, замер у двери. Пистолет его медленно поднялся на уровень пояса.
— Бросьте оружие! — сказал Мазин и включил свет.
Выстрел раздался так быстро, что Мазин даже не успел удивиться столь моментальной реакции. Но неожиданная вспышка света сделала свое дело — пуля ушла в потолок. В ту же секунду в распахнувшуюся дверь влетели Волоков и Козельский.
— Кто это? — пораженно произнес Вадим, когда наручники защелкнулись.
Мазин рассматривал немолодого уже, но крепко сбитого человека, лежавшего на полу. Редко ему приходилось видеть в глазах столько злобы и ненависти. С отвращением расстегнул он рубашку у него на груди и обнажил плечо.
— Убийца! Зверь. Паук!
— Стрельцов?
Мазин не успел ответить. Он вдруг вдохнул в себя воздух и бросился к плите. Свист прекратился.
— Вадим, отодвинь этот стол! И откройте побыстрее окна!
Из погреба показался Кравчук. Козельский направил на него дуло пистолета. Но Мазин отвел руку лейтенанта, посмотрел на Кравчука и невольно улыбнулся:
— Вы, кажется, хотели меня видеть?
Тот смущенно подергал бороду:
— Глупо вышло. Смешно?
— Не очень. Ваш почтенный родственник рассчитывал, что вам придется зажечь спичку, когда вы станете искать в темноте выключатель. А газ взрывается, между прочим.
— Родственник? — воскликнул Козельский. — Значит…
— Да! Именно он, Укладников, — убийца Дубининой и Бориса Стояновского, фашистский палач.
— Никто тебя не путал! Я помог тебе. Ключ дал. Ты ж без меня еще сюда влезть пытался. Так ведь?
— Но вы сказали, что здесь есть…
— Сказал, сказал!.. И сейчас скажу! Искать нужно! Потому — единственное это мое спасенье. И тебе тоже нужно, раз хочешь все по правде. Искать будем, понял?
— Не верю я вам!
— Зачем тогда пришел?
— Правду узнать.
— Вот и узнаешь. Под полом-то смотрел? В погребе?
Луч фонарика скользнул по половицам.
— Вот крышка. Видал? Там тоже посмотреть нужно.
— Шутите. Кто бумаги в погребе держит?
— Держат, когда нужно.
— Не полезу я в погреб.
— И не лезь Я сам погляжу. Дай-ка фонарик.
И незнакомец, нагнувшись, легко приподнял деревянную крышку.
Кравчук протянул ему фонарь Тот осветил погреб.
— Конечное дело, можно и гам ничего не найти. Но не в бумажке суть. Главное — человеку верить. Тогда и ему поможешь, и себе плохо не будет.
— Что вы хотите?
— Хочу, чтобы ты забыл, что видел меня здесь.
— А я хочу выяснить… — Фразу эту геолог не закончил.
Стояли они рядом. Вернее, не стояли, а двигались, хотя и очень медленно, по кухне. Неизвестный — в сторону от погреба, но не к выходной двери, а скорее к тому месту, где находился Мазин, будто отступая перед Кравчуком. Отходя в глубь комнаты, он вроде бы обдумывал, что ответить геологу. Так, во всяком случае, показалось вначале Мазину. А когда он сообразил, что незнакомец вовсе не ответ обдумывает, а просто выжидает, чтобы Кравчук повернулся спиной к люку, было уже поздно: удар пришелся в низ живота. Неожиданный и ошеломляющий. Так часто бывает с очень сильными людьми. Их ведь редко пытаются ударить. Не ждал и Кравчук. Он согнулся, не успев и охнуть, и гут же второй толчок опрокинул его в погреб.
Мазин не успел предотвратить первого удара, но теперь стоило подождать еще немного, чтобы увидеть все до конца.
Незнакомец сунул руку за борт пиджака.
— Не вздумай лезть наверх! Я тебе все рассказал, псих паршивый! Видишь пистолет — вот она, правда! Я его у тон сволочи отобрал, что меня шантажировала… Сейчас я тебя закрою. И уеду. Чтоб не мешать вам жить!.. Выйдешь, когда меня не будет. Посиди тихо, посоображай, как невинного человека загубить хотел. Слышишь, что говорю?
Кравчук молчал.
— Слышишь?
Из погреба не ответили.
Тогда тот, что был наверху, поставил крышку в пазы. Делал он это одной рукой, не выпуская из другой пистолет. Так же, одной рукой, он сдвинул тяжелый кухонный стол и придавил им крышку. Потом посветил фонариком, убедился, что стол на месте, и, вытерев пот со лба, остановился посреди комнаты, чтобы отдышаться.
Мазин стоял в двух шагах от него. Кажется, ничто больше не мешало поставить последнюю точку. Длинный путь через лабиринт закончился. Вдруг снова вспыхнул фонарик. Кружок света пробежал по полу и остановился на газовой плите. И Мазин увидел, как рука с носовым платком протянулась и открыла кран. Сначала один, за ним второй. Засвистели струйки газа.
И тут же их заглушил шум подъехавшей машины. Человек, заперший Кравчука, замер у двери. Пистолет его медленно поднялся на уровень пояса.
— Бросьте оружие! — сказал Мазин и включил свет.
Выстрел раздался так быстро, что Мазин даже не успел удивиться столь моментальной реакции. Но неожиданная вспышка света сделала свое дело — пуля ушла в потолок. В ту же секунду в распахнувшуюся дверь влетели Волоков и Козельский.
— Кто это? — пораженно произнес Вадим, когда наручники защелкнулись.
Мазин рассматривал немолодого уже, но крепко сбитого человека, лежавшего на полу. Редко ему приходилось видеть в глазах столько злобы и ненависти. С отвращением расстегнул он рубашку у него на груди и обнажил плечо.
— Убийца! Зверь. Паук!
— Стрельцов?
Мазин не успел ответить. Он вдруг вдохнул в себя воздух и бросился к плите. Свист прекратился.
— Вадим, отодвинь этот стол! И откройте побыстрее окна!
Из погреба показался Кравчук. Козельский направил на него дуло пистолета. Но Мазин отвел руку лейтенанта, посмотрел на Кравчука и невольно улыбнулся:
— Вы, кажется, хотели меня видеть?
Тот смущенно подергал бороду:
— Глупо вышло. Смешно?
— Не очень. Ваш почтенный родственник рассчитывал, что вам придется зажечь спичку, когда вы станете искать в темноте выключатель. А газ взрывается, между прочим.
— Родственник? — воскликнул Козельский. — Значит…
— Да! Именно он, Укладников, — убийца Дубининой и Бориса Стояновского, фашистский палач.
XVII
Земля покрылась густой ватой облаков, и казалось, что самолет летит низко над безлюдной снежной пустыней. Мазин и Козельский сидели в хвосте, где пассажиров почти не было. В это время года народ летит больше на юг. Вадим перелистывал на коленях первые протоколы допросов. — Вспоминаю свою версию, Игорь Николаевич… Стыдно! — Минорное настроение у вас, Вадим, не столько от ошибок, сколько от возраста. В молодости как-то не понимаешь, что не все приходит сразу… — Утешаете? — А что делать? Козельский невольно улыбнулся: — Игорь Николаевич. Скажите честно: вы про Укладникова с самого начала знали? Мазин отрицательно покачал головой: — Конечно, нет! — Но думали вы о нем с самого начала? — Думать и знать — вещи разные. Да, думал! Помните наш первый «военный совет»? Я намекнул вам на свои «несерьезные» мысли. Но тогда были лишь смутные догадки. Факты пришли позже. Да и то чуть было не рассеялись, когда я увидел дело Стрельцова. — Еще бы! На карточке он совершенно неузнаваем. Кстати, как ему удалось изменить свою внешность? — Довольно просто! Союзники помогли. Он действительно попал под бомбежку в Ганновере. Там ему и проломило нос. Но удачно — мягко. Кожа на лице не пострадала. Поэтому он и кажется просто курносым. Ну, а остальное сделали годы. — А превращение в Укладникова? — Собственно, не превращение, а возвращение. Укладников — его настоящая фамилия. Он сменил ее, когда отрекся от репрессированного отца. Как Стрельцов он был призван в армию, сдался в плен, свирепствовал в карателях, а когда после бомбежки затерялся в каком-то немецком госпитале и даже в эсэс его сочли погибшим, решил вернуться к прежней фамилии, чтобы ускользнуть от расплаты. Правда, наказания он не избежал, но явно не по вине… Впрочем, это уже компетенция генерала Возницына. Мы свое дело сделали. — Не мы, а вы! — Ни в коем случае. И мы с вами, и Волоков, и Васюченко, и Юра, и другие. А Брусков или эта Майя из Берегового?.. — Особенно, конечно, я?! Да у меня еще масса неясностей… — Не только у вас. Мы, например, не знаем до сих пор, кто такой открытый вами «инвалид». Одно время я даже считал его центральной фигурой. Но теперь можно предполагать, что этот человек знал мать Стояновского и поэтому разыскивал его. Если б лейтенант-связист, о котором рассказывала Майя, не погиб, я подумал бы, что это он. Впрочем, на всякий случай я запросил Береговое. И Брускова тоже. Не зря же он в этом деле копается. — В газете описать хочет? — А что? Пусть пишет. Нужно помнить, что еще не все военные преступники наказаны. Тогда люди будут бдительнее. И осторожнее. Чтоб не было таких напрасных жертв, как Борис Стояновский. — Вот кого действительно жаль! — Еще бы! Такая неосторожность! Хотя понять его можно. То, что он узнал от «инвалида» и от Майи, особенно о палаче Стрельцове, могло потрясти кого угодно. Ясно, что Стояновский первым понял, кто такой Укладников. Он знал, что Укладникова зовут Иваном. Живя с ним в одной квартире, наверняка видел его «паучью» татуировку, слышал от Кравчука, что его тесть отбывал наказание за что-то, связанное с пребыванием в плену. С тем Иваном-карателем, который был обрисован в старой газете, совпадало слишком многое. И это не давало Борису покоя. Вот он и решил вернуться. Ошибка его заключалась в том, что направился он не по адресу. Идти нужно было в Комитет госбезопасности, а он, как и Кравчук, пошел напролом. И это стойло ему жизни. Вернувшись в город, Борис направился прямо в котельную. Трудно придумать более подходящие условия для убийства. Ночь, никаких свидетелей, пылающая топка. Укладников был слишком опытным зверем, чтобы не воспользоваться такой обстановкой. Когда труп Бориса исчез в топке, Укладников понял, что надо немедленно бежать. Он не знал, кому успел Стояновский рассказать о своем открытии. Так пусть уж лучше думают, что это не Укладников убил Бориса, а, наоборот, Борис убил Укладникова. Если Борис и рассказал кому-то — в такое убийство легко поверят. Мстил,мол, за мать. А потом испугался и скрылся. Будут искать Стояновского. И никто не станет искать Укладникова. А именно это ему и было нужно! Укладников быстро сообразил все. Даже то, что деньги на дорогу и вообще на три — четыре года спокойной жизни у него есть. Те, которые в тайнике. Напал он на них скорее всего случайно, обнаружив двойное дно в шкафу. Укладников понимал, что о пропаже этих денег в милицию не заявят. Ведь в тайниках хранят только ворованное. И поэтому он спокойно швырнул в топку железный футляр со своими очками и пошел за деньгами Компания, которой они принадлежали, действовала нагло. Тянули все, особенно дефицитные детали к приемникам и телевизорам. Большую часть вырученных денег хранили в тайниках, потому что ОБХСС уже стал присматриваться к «хозяину». Открытие тайника стоило Укладникову немалых мук. Соблазн был огромен. Но он опасался привлечь к себе внимание. Поймают жуликов, кто-нибудь из них проговорится о деньгах — доберутся и до него… Убийство Стояновского снимало все эти опасения. Важно было только умело разыграть спектакль И Укладников решил так все запутать, чтобы из клубка не торчало ни одной нитки. Отчасти это ему и удалось. Он очень расчетливо использовал ботинки Бориса, чтобы обеспечить следствие ложными следами, выпачкал кровью рубашку, пиджак и топорик. Причем топорик, которым никто никого не убивал. Не пожалел на инсценировку и собственной крови. А затем сунул все в чемодан и забросил в пустой вагон на дальней станции. Лишь по чистой случайности это произошло в Береговом. Укладников ехал на юг, по маршруту Бориса, чтобы дать телеграмму откуда-нибудь из Крыма. А Береговое было первой большой стоянкой на пути поезда. Везти дальше чемодан с «опасными» вещами у старика просто не хватило духу. Только дав телеграмму из Ялты, Укладников направился к Дубининой. Он рассчитывал без особого труда уговорить ее продать домик и перебраться в городок потише, поглуше, где можно не опасаться случайной встречи с теми, кто считает тебя мертвым. И он не случайно оставил свой паспорт в кармане пиджака. У него давно уже был припасен паспорт его собутыльника Семенченко, немного похожего на Укладникова. Этот паспорт Укладников когда-то украл просто так, на всякий случай. Слишком уж поразило сходство. И вот теперь паспорт пригодился. Однако Дубинина и Кравчук сразу же разрушили все планы. Конечно, Дубинина считала себя «обиженной». Но активным врагом Советской власти никогда не была, и дружба ее с Укладниковым основывалась на неведении и женской доверчивости: считала судьбу его близкой своей — тоже, мол, за грехи отцов пострадал…
Козельский просмотрел еще несколько страниц протокола.
— Вот тут он говорит, что вначале не собирался убивать Дубинину.
— Конечно. Дубинина была ему очень нужна. И он не мог предугадать такого драматического хода событий.
— Встречи с зятем?
— Я бы сказал, не встречи, а того, что Кравчук узнает от Дубининой и что она узнает от Кравчука Встречу-то он организовал сам. Эта встреча не случайна. Случайность только в том, что Кравчук и Укладников приехали в Тригорск в один день. Но тесть — на несколько часов раньше…
В дверях салона появилась стюардесса:
— Товарищ Мазин Игорь Николаевич — вы? Вам радиограмма.
— Спасибо.
Мазин взял листок бумаги, быстро пробежал его глазами.
— Вот видите, Вадим, еще одна загадка прояснилась. А вы газетчиков ругаете!..
Радиограмму прислал Волоков. «Только что получил письмо от Брускова на ваше имя. Фамилия «инвалида» Колесов. Он бывший партизан. Майя узнала его адрес. Проживает постоянно в Симферополе».
— Чудесно! — Мазин протянул радиограмму Вадиму. — Колесов может дать важные показания по делу Укладникова.
— Еще судить эту сволочь! Я б таких сразу…
Мазин покачал головой:
— Именно судить, Вадим! И жаль, что о таких судах мало пишут. Я бы писал больше. Чтоб люди о нашей работе знали. Тогда, может, поменьше стало бы таких доморощенных Шерлоков Холмсов, как Кравчук. Вы все еще злитесь на него. Вадим?
Козельский махнул рукой:
— Дубина!
— Ну нет! Не согласен! Просто Кравчук, как и немалая, к сожалению, часть наших сограждан, считает, что милиция зря ест свой хлеб, а истинные герои и следопыты обитают исключительно в тайге. Себя, во всяком случае, он считал достаточно опытным «сыщиком». Потому он и направился к Дубининой сам. Его, видите ли, не устраивали наши «примитивные» методы… Даже когда я спросил у него о Дубининой, он не сказал, что знает о ней. «Думал затаскаете зря женщину!» А сам к ней пошел. Говорит, чтобы пролить свет на обстоятельства убийства тестя. Он тогда еще верил, что Укладников убит. Какой тонкий психолог! Посмотрите-ка его показания…
Козельский перелистал несколько страничек, прочитал. «Моя ошибка заключалась в том, что я не доверял следствию и хотел сам выяснить причины убийства тестя. Поэтому, приехав в Тригорск, я сразу же отправился к Дубининой, чтобы расспросить ее о прошлом Укладникова и прочитать его письма. Оказалось, что он жив и как раз в этот день приехал в Тригорск. Я был ошеломлен…»
— Представьте себе эту сцену, Вадим! Ведь новость была взаимно ошеломляющей. Дубинина только что говорила с живым Укладниковым. Он пришел, оставив чемодан в камере хранения. Первая их встреча была короткой. Укладников убедился, что Дубинина дома, ничего не знает и по-прежнему доверяет ему. После этого он отправился на вокзал за чемоданом, захватив ключ от дома. Тут и появился Кравчук с известием об «убийстве».
Когда Кравчук и Дубинина пришли в себя от первого удивления, о каких-то письмах уже и речи быть не могло! Дубинина предложила переговорить с Укладниковым и выяснить правду. Вот здесь, в протоколе допроса, посмотрите:
«…я был очень растеряй и не смог правильно сориентироваться. Поэтому мы решили, что я зайду к Дубининой завтра и сначала она поговорит с Укладниковым сама. На этом она очень настаивала».
Именно эта ошибка оказалась роковой. Дубининой следовало бы схитрить, выпытать у своего друга все осторожно. Но потрясение было слишком сильным. Она не смогла сдержаться и потребовала объяснений. Это был смертельный удар по замыслам Укладникова. Он считал Дубинину своим очень прочным тылом. Никакие нити не вели к ней. Письма ее он уничтожил перед бегством. А о том письме, которое пришло после его отъезда, он не знал. И вдруг — полный провал!
Он так и не сказал на первом допросе всего, о чем говорили они в этот вечер. Сказал только коротко: «Не поладили мы!.. И попросила она меня сейчас же уехать».
Понятно, что она боялась. Боялась Укладникова, боялась Кравчука, боялась следствия — всего боялась.
Страх ускорил ее гибель. Когда она принялась закрывать ставни и окна, чтобы никто с улицы не заметил гостя, Укладникову и пришел в голову замысел отделаться от Дубининой, разыграв ее «самоубийство». Он согласился исчезнуть навсегда. Попросился только переночевать — куда ж, мол, идти на ночь глядя?.. Дубинина не возражала. Она уже плохо понимала, что к чему, — была пьяна. Когда она заснула, Укладников уничтожил следы своего пребывания в доме и открыл газ…
Но оставался Кравчук Что он делал тем временем?
«…Я видел в жизни немало передряг, — рассказывал он на допросе, — но в такую попал впервые. Утром я пришел к дому Дубининой и узнал, что она отравилась газом. И тестя в доме не было. Это показалось мне очень подозрительным. Сначала я принял верное решение — сообщить все Мазину. Я догадывался, что мой попутчик, назвавшийся инженером-химиком, на самом деле работник милиции. Видел его в машине вместе с Мазиным. Но полной уверенности в этом у меня все-таки не было. Поэтому разговор у нас сложился неправильно. А выправить его я не успел. Неожиданно я увидел Укладникова…»
— Припоминаете этот момент, Вадим? — не удержался Мазин. — Появление Укладникова было вполне понятным — он следил за Кравчуком. Дубинина сказала, где тот остановился. Бежать из Тригорска, не повидавшись с зятем, было невозможно. Оставалось или убедить зятя молчать, или убить его.
Укладников знал, что на таких людей, как Кравчук, нужно прежде всего наступать, сбивать их с устойчивых позиций. И он достиг этого, обвинив зятя в том, что тот толкнул Дубинину на самоубийство.
«…Укладников сказал мне, что, вернувшись с вокзала, он застал Дубинину в подавленном состоянии. Она не хотела слушать никаких объяснений и выгнала его со словами: «Все равно моя жизнь разбита! Дай мне хоть умереть спокойно! Никаких следствий я больше не хочу!»
Он якобы уступил ей и ушел, а ночью ее не стало.
«Видишь, что ты наделал? — сказал мне Укладников. — Она покончила с собой из-за тебя. А теперь ты и меня погубить хочешь?» — «Но почему вы бежали? От кого скрываетесь?» — спросил я. «Тебя спасал и дочку! — ответил он. — Не чужие ведь вы мне! Знаешь, что такое анкета в наше время? Сейчас я свободен, и на вас со Светланой пятна нет. А если меня опять потянут? Ведь тебе ходу в жизни не будет! До гроба в тайге проторчишь!» Я ответил, что это меня не пугает. «Тебя-то, может, не пугает, — сказал он. — Так ведь Светку жалко! Ей-то из-за меня зачем страдать? Выросла в городе! Тайга ей не дом!..»
Укладников рассказал мне, что в лагере для военнопленных, где он находился, был его однофамилец, лагерный полицейский, который заставил его сделать такую же, как у того, татуировку, паука на плече. И теперь некий шантажист, тоже из бывших гитлеровских прихвостней, грозится, что донесет на него в органы КГБ. И чтобы не донести, требует очень много денег, которых у Укладникова нет. «Вот я и решил исчезнуть, вас спасая, — говорит тесть. — А если ты сообщишь, куда следует, то и Светке будет плохо, и тебе — особенно после самоубийства Дубининой, в доме которой ты был».
Он уверял, что тяжело переживает смерть Дубининой, которая знала о нем всю правду и могла помочь восстановить его доброе имя. Еще он рассказывал, что его взяли в плен раненого, прямо в госпитале, когда немцы внезапно захватили — Тригорск. А Дубинина там работала санитаркой, и в госпитале они познакомились и полюбили друг друга. Обо всем этом якобы не раз вспоминалось в их переписке и в дневнике Дубининой, который вела она много лет и сохранила, несмотря на все беды. А в госпитале этом тесть лежал как раз в то время, когда его однофамилец — фашистский холуй с пауком на плече — зверствовал где-то на оккупированной территории…»
Козельский отложил протокол.
— Ловко он его запутал, Игорь Николаевич! Заставил, так сказать, добывать для себя алиби!
— Да, ловко! Хотя и ненадолго. Но больше Укладникову и не требовалось. Ему нужно было лишь ошеломить Кравчука, не дать тому принять правильное решение и убить при удобном случае. И зять сам подсказал такой момент. После встречи с Укладниковым он сгоряча попытался проникнуть в дом Дубининой, но был остановлен Рексом. Вот здесь и возникла еще одна маленькая загадка — «- вернее, путаница, которая могла нам помешать.
— Вы имеете в виду отпечатки пальцев на стаканах?
— Точнее — их отсутствие! Помните, как был смущен Васюченко, не найдя на стакане никаких отпечатков? Меня это тоже смутило. В чем же дело? Оказывается, Укладников, когда убирал посуду, перепутал стаканы и не мог вспомнить, который его, а который Дубининой. Он решил выбросить оба. А в буфете взял — осторожненько, через носовой платок! — третий стакан и для правдоподобия плеснул в него водки. Ясно, что эксперты не нашли на этом стакане отпечатков.
— А с отпечатками на осколках стакана Укладникову, видимо, просто повезло, — предположил Козельский.
— Еще бы! Когда Рекс бросился на незнакомца, выходившего ночью из дома, Укладникову пришлось отбиваться единственным предметом, оказавшимся в руках. А это был стакан. Так на осколках, которые я подобрал, и оказались отпечатки пальцев Дубининой. Тут Укладникову действительно повезло. Но ведь на этом же стакане должны были быть и отпечатки пальцев самого Укладникова! На нижней части стакана, которую он держал в руке во время удара. Но, видимо, он не выпустил ее из рук! От удара откололась лишь верхняя часть, со следами пальцев Дубининой. Второй стакан остался с кармане. Укладников выбросил его где-то по дороге. А нам задал задачу!
Вот вам и предыстория первого визита Кравчука. Раненый Рекс не был расположен к дипломатии и без предупреждений вырвал у геолога клок- рубахи вместе с мясом. Достать письма не удалось. Но идея осталась. О своей неудачной попытке он рассказал в кафе Укладникову. Это была их вторая встреча. Укладников извлек из нее максимальную выгоду. Казалось, случай опять подбрасывает ему удачу. Он легко изобразил благородство: «Не веришь, мол, — вот тебе ключ! Иди убедись!» А сам наверняка подумал: «Уж если сейчас не верит — значит, никогда не поверит! Дневника-то нет! И в письмах ничего такого. А раз не поверит — донесет. Надо упредить». Ведь отравись Кравчук газом или погибни в результате взрыва, мы бы думали, что он сам виноват.
Короче, если бы Юра не засек их встречу в кафе, — неизвестно, как сложилась бы судьба геолога.
Для меня сообщение Юры оказалось решающим. Внутренне-то я был к нему подготовлен. Но уверенности не было. Только когда узнал про ключ — понял, что это ключ к развязке.
— В том-то и дело, что вы были подготовлены!
— Да тут уж никаких секретов, Вадим! Опыт, немножко интуиции, наблюдательность — из этого наш суп и варится… И еще доверие к людям. Меньше подозрительности! Вы, например, упорно подозревали Кравчука. И факты у вас были, и мыслили вы логично, а у меня, знаете, все эти факты рассыпались, когда я вспоминал, как Кравчук рассказывал о Стояновском. Эпизод тот, со щенятами, в моих глазах обелял больше Кравчука, чем Стояновского. Хотя Кравчук с самого начала предстал перед нами в черном свете. Попробуй догадайся, что он укатил на два дня раньше из Москвы, чтобы встретиться со старым приятелем в Кирове! Если б он и сказал об этом — поверили бы мы ему не сразу. Вызвали бы приятеля, допрашивали его. А Кравчук этого не хотел.
Самолет развернулся на посадку.
— Ну и еще детали, Вадим, как любит говорить наш новый друг Валерий Брусков. Множество существенных мелочей. Скажем, волосы на топорике. Мне они показались слишком аккуратно срубленными. Даже не столько срубленными, сколько срезанными. Потом шарканье, о котором говорила Аллочка. Шаркать мог только тот, кому ботинки были очень велики. Я вспомнил небольшую по размеру обувь Укладникова. Так мозаика и подбиралась.
Но главное, конечно, то, что ни в Стояновском, ни в Кравчуке, ни в Семенистом, несмотря на все улики, не видел я, не чувствовал людей, способных на такое преступление. «Нет, не Миколка!» — думал я и ждал, когда же появится настоящая фигура. Уметь ждать в нашем деле тоже кое-что значит. Вот и дождались! То, что вначале казалось фантастическим, постепенно обросло фактами и превратилось в реальность. Грустную, правда, но что поделаешь? Лучше поздно раздавить такого «паука», чем никогда.
Однако Дубинина и Кравчук сразу же разрушили все планы. Конечно, Дубинина считала себя «обиженной». Но активным врагом Советской власти никогда не была, и дружба ее с Укладниковым основывалась на неведении и женской доверчивости: считала судьбу его близкой своей — тоже, мол, за грехи отцов пострадал…
Козельский просмотрел еще несколько страниц протокола.
— Вот тут он говорит, что вначале не собирался убивать Дубинину.
— Конечно. Дубинина была ему очень нужна. И он не мог предугадать такого драматического хода событий.
— Встречи с зятем?
— Я бы сказал, не встречи, а того, что Кравчук узнает от Дубининой и что она узнает от Кравчука Встречу-то он организовал сам. Эта встреча не случайна. Случайность только в том, что Кравчук и Укладников приехали в Тригорск в один день. Но тесть — на несколько часов раньше…
В дверях салона появилась стюардесса:
— Товарищ Мазин Игорь Николаевич — вы? Вам радиограмма.
— Спасибо.
Мазин взял листок бумаги, быстро пробежал его глазами.
— Вот видите, Вадим, еще одна загадка прояснилась. А вы газетчиков ругаете!..
Радиограмму прислал Волоков. «Только что получил письмо от Брускова на ваше имя. Фамилия «инвалида» Колесов. Он бывший партизан. Майя узнала его адрес. Проживает постоянно в Симферополе».
— Чудесно! — Мазин протянул радиограмму Вадиму. — Колесов может дать важные показания по делу Укладникова.
— Еще судить эту сволочь! Я б таких сразу…
Мазин покачал головой:
— Именно судить, Вадим! И жаль, что о таких судах мало пишут. Я бы писал больше. Чтоб люди о нашей работе знали. Тогда, может, поменьше стало бы таких доморощенных Шерлоков Холмсов, как Кравчук. Вы все еще злитесь на него. Вадим?
Козельский махнул рукой:
— Дубина!
— Ну нет! Не согласен! Просто Кравчук, как и немалая, к сожалению, часть наших сограждан, считает, что милиция зря ест свой хлеб, а истинные герои и следопыты обитают исключительно в тайге. Себя, во всяком случае, он считал достаточно опытным «сыщиком». Потому он и направился к Дубининой сам. Его, видите ли, не устраивали наши «примитивные» методы… Даже когда я спросил у него о Дубининой, он не сказал, что знает о ней. «Думал затаскаете зря женщину!» А сам к ней пошел. Говорит, чтобы пролить свет на обстоятельства убийства тестя. Он тогда еще верил, что Укладников убит. Какой тонкий психолог! Посмотрите-ка его показания…
Козельский перелистал несколько страничек, прочитал. «Моя ошибка заключалась в том, что я не доверял следствию и хотел сам выяснить причины убийства тестя. Поэтому, приехав в Тригорск, я сразу же отправился к Дубининой, чтобы расспросить ее о прошлом Укладникова и прочитать его письма. Оказалось, что он жив и как раз в этот день приехал в Тригорск. Я был ошеломлен…»
— Представьте себе эту сцену, Вадим! Ведь новость была взаимно ошеломляющей. Дубинина только что говорила с живым Укладниковым. Он пришел, оставив чемодан в камере хранения. Первая их встреча была короткой. Укладников убедился, что Дубинина дома, ничего не знает и по-прежнему доверяет ему. После этого он отправился на вокзал за чемоданом, захватив ключ от дома. Тут и появился Кравчук с известием об «убийстве».
Когда Кравчук и Дубинина пришли в себя от первого удивления, о каких-то письмах уже и речи быть не могло! Дубинина предложила переговорить с Укладниковым и выяснить правду. Вот здесь, в протоколе допроса, посмотрите:
«…я был очень растеряй и не смог правильно сориентироваться. Поэтому мы решили, что я зайду к Дубининой завтра и сначала она поговорит с Укладниковым сама. На этом она очень настаивала».
Именно эта ошибка оказалась роковой. Дубининой следовало бы схитрить, выпытать у своего друга все осторожно. Но потрясение было слишком сильным. Она не смогла сдержаться и потребовала объяснений. Это был смертельный удар по замыслам Укладникова. Он считал Дубинину своим очень прочным тылом. Никакие нити не вели к ней. Письма ее он уничтожил перед бегством. А о том письме, которое пришло после его отъезда, он не знал. И вдруг — полный провал!
Он так и не сказал на первом допросе всего, о чем говорили они в этот вечер. Сказал только коротко: «Не поладили мы!.. И попросила она меня сейчас же уехать».
Понятно, что она боялась. Боялась Укладникова, боялась Кравчука, боялась следствия — всего боялась.
Страх ускорил ее гибель. Когда она принялась закрывать ставни и окна, чтобы никто с улицы не заметил гостя, Укладникову и пришел в голову замысел отделаться от Дубининой, разыграв ее «самоубийство». Он согласился исчезнуть навсегда. Попросился только переночевать — куда ж, мол, идти на ночь глядя?.. Дубинина не возражала. Она уже плохо понимала, что к чему, — была пьяна. Когда она заснула, Укладников уничтожил следы своего пребывания в доме и открыл газ…
Но оставался Кравчук Что он делал тем временем?
«…Я видел в жизни немало передряг, — рассказывал он на допросе, — но в такую попал впервые. Утром я пришел к дому Дубининой и узнал, что она отравилась газом. И тестя в доме не было. Это показалось мне очень подозрительным. Сначала я принял верное решение — сообщить все Мазину. Я догадывался, что мой попутчик, назвавшийся инженером-химиком, на самом деле работник милиции. Видел его в машине вместе с Мазиным. Но полной уверенности в этом у меня все-таки не было. Поэтому разговор у нас сложился неправильно. А выправить его я не успел. Неожиданно я увидел Укладникова…»
— Припоминаете этот момент, Вадим? — не удержался Мазин. — Появление Укладникова было вполне понятным — он следил за Кравчуком. Дубинина сказала, где тот остановился. Бежать из Тригорска, не повидавшись с зятем, было невозможно. Оставалось или убедить зятя молчать, или убить его.
Укладников знал, что на таких людей, как Кравчук, нужно прежде всего наступать, сбивать их с устойчивых позиций. И он достиг этого, обвинив зятя в том, что тот толкнул Дубинину на самоубийство.
«…Укладников сказал мне, что, вернувшись с вокзала, он застал Дубинину в подавленном состоянии. Она не хотела слушать никаких объяснений и выгнала его со словами: «Все равно моя жизнь разбита! Дай мне хоть умереть спокойно! Никаких следствий я больше не хочу!»
Он якобы уступил ей и ушел, а ночью ее не стало.
«Видишь, что ты наделал? — сказал мне Укладников. — Она покончила с собой из-за тебя. А теперь ты и меня погубить хочешь?» — «Но почему вы бежали? От кого скрываетесь?» — спросил я. «Тебя спасал и дочку! — ответил он. — Не чужие ведь вы мне! Знаешь, что такое анкета в наше время? Сейчас я свободен, и на вас со Светланой пятна нет. А если меня опять потянут? Ведь тебе ходу в жизни не будет! До гроба в тайге проторчишь!» Я ответил, что это меня не пугает. «Тебя-то, может, не пугает, — сказал он. — Так ведь Светку жалко! Ей-то из-за меня зачем страдать? Выросла в городе! Тайга ей не дом!..»
Укладников рассказал мне, что в лагере для военнопленных, где он находился, был его однофамилец, лагерный полицейский, который заставил его сделать такую же, как у того, татуировку, паука на плече. И теперь некий шантажист, тоже из бывших гитлеровских прихвостней, грозится, что донесет на него в органы КГБ. И чтобы не донести, требует очень много денег, которых у Укладникова нет. «Вот я и решил исчезнуть, вас спасая, — говорит тесть. — А если ты сообщишь, куда следует, то и Светке будет плохо, и тебе — особенно после самоубийства Дубининой, в доме которой ты был».
Он уверял, что тяжело переживает смерть Дубининой, которая знала о нем всю правду и могла помочь восстановить его доброе имя. Еще он рассказывал, что его взяли в плен раненого, прямо в госпитале, когда немцы внезапно захватили — Тригорск. А Дубинина там работала санитаркой, и в госпитале они познакомились и полюбили друг друга. Обо всем этом якобы не раз вспоминалось в их переписке и в дневнике Дубининой, который вела она много лет и сохранила, несмотря на все беды. А в госпитале этом тесть лежал как раз в то время, когда его однофамилец — фашистский холуй с пауком на плече — зверствовал где-то на оккупированной территории…»
Козельский отложил протокол.
— Ловко он его запутал, Игорь Николаевич! Заставил, так сказать, добывать для себя алиби!
— Да, ловко! Хотя и ненадолго. Но больше Укладникову и не требовалось. Ему нужно было лишь ошеломить Кравчука, не дать тому принять правильное решение и убить при удобном случае. И зять сам подсказал такой момент. После встречи с Укладниковым он сгоряча попытался проникнуть в дом Дубининой, но был остановлен Рексом. Вот здесь и возникла еще одна маленькая загадка — «- вернее, путаница, которая могла нам помешать.
— Вы имеете в виду отпечатки пальцев на стаканах?
— Точнее — их отсутствие! Помните, как был смущен Васюченко, не найдя на стакане никаких отпечатков? Меня это тоже смутило. В чем же дело? Оказывается, Укладников, когда убирал посуду, перепутал стаканы и не мог вспомнить, который его, а который Дубининой. Он решил выбросить оба. А в буфете взял — осторожненько, через носовой платок! — третий стакан и для правдоподобия плеснул в него водки. Ясно, что эксперты не нашли на этом стакане отпечатков.
— А с отпечатками на осколках стакана Укладникову, видимо, просто повезло, — предположил Козельский.
— Еще бы! Когда Рекс бросился на незнакомца, выходившего ночью из дома, Укладникову пришлось отбиваться единственным предметом, оказавшимся в руках. А это был стакан. Так на осколках, которые я подобрал, и оказались отпечатки пальцев Дубининой. Тут Укладникову действительно повезло. Но ведь на этом же стакане должны были быть и отпечатки пальцев самого Укладникова! На нижней части стакана, которую он держал в руке во время удара. Но, видимо, он не выпустил ее из рук! От удара откололась лишь верхняя часть, со следами пальцев Дубининой. Второй стакан остался с кармане. Укладников выбросил его где-то по дороге. А нам задал задачу!
Вот вам и предыстория первого визита Кравчука. Раненый Рекс не был расположен к дипломатии и без предупреждений вырвал у геолога клок- рубахи вместе с мясом. Достать письма не удалось. Но идея осталась. О своей неудачной попытке он рассказал в кафе Укладникову. Это была их вторая встреча. Укладников извлек из нее максимальную выгоду. Казалось, случай опять подбрасывает ему удачу. Он легко изобразил благородство: «Не веришь, мол, — вот тебе ключ! Иди убедись!» А сам наверняка подумал: «Уж если сейчас не верит — значит, никогда не поверит! Дневника-то нет! И в письмах ничего такого. А раз не поверит — донесет. Надо упредить». Ведь отравись Кравчук газом или погибни в результате взрыва, мы бы думали, что он сам виноват.
Короче, если бы Юра не засек их встречу в кафе, — неизвестно, как сложилась бы судьба геолога.
Для меня сообщение Юры оказалось решающим. Внутренне-то я был к нему подготовлен. Но уверенности не было. Только когда узнал про ключ — понял, что это ключ к развязке.
— В том-то и дело, что вы были подготовлены!
— Да тут уж никаких секретов, Вадим! Опыт, немножко интуиции, наблюдательность — из этого наш суп и варится… И еще доверие к людям. Меньше подозрительности! Вы, например, упорно подозревали Кравчука. И факты у вас были, и мыслили вы логично, а у меня, знаете, все эти факты рассыпались, когда я вспоминал, как Кравчук рассказывал о Стояновском. Эпизод тот, со щенятами, в моих глазах обелял больше Кравчука, чем Стояновского. Хотя Кравчук с самого начала предстал перед нами в черном свете. Попробуй догадайся, что он укатил на два дня раньше из Москвы, чтобы встретиться со старым приятелем в Кирове! Если б он и сказал об этом — поверили бы мы ему не сразу. Вызвали бы приятеля, допрашивали его. А Кравчук этого не хотел.
Самолет развернулся на посадку.
— Ну и еще детали, Вадим, как любит говорить наш новый друг Валерий Брусков. Множество существенных мелочей. Скажем, волосы на топорике. Мне они показались слишком аккуратно срубленными. Даже не столько срубленными, сколько срезанными. Потом шарканье, о котором говорила Аллочка. Шаркать мог только тот, кому ботинки были очень велики. Я вспомнил небольшую по размеру обувь Укладникова. Так мозаика и подбиралась.
Но главное, конечно, то, что ни в Стояновском, ни в Кравчуке, ни в Семенистом, несмотря на все улики, не видел я, не чувствовал людей, способных на такое преступление. «Нет, не Миколка!» — думал я и ждал, когда же появится настоящая фигура. Уметь ждать в нашем деле тоже кое-что значит. Вот и дождались! То, что вначале казалось фантастическим, постепенно обросло фактами и превратилось в реальность. Грустную, правда, но что поделаешь? Лучше поздно раздавить такого «паука», чем никогда.


Три дня в Дагезане
1. Гроза
 — Кто такой Калугин? — Мазин положил руку на дверцу машины. — Ты уверял, что в поселке полное безлюдье…
В полуметре от колеса «Волги» круто вниз уходила гранитная серо-розовая стенка, под ней пенилась, пробиваясь среди валунов, стиснутая ущельем бутылочного цвета речка. Впереди, прямо из скал, росли пихты. Их острые ярко-зеленые верхушки перемежались с ледовыми вершинами хребта, кипенно сверкавшими на фоне солнечного, почти фиолетового неба. Зато путь в долину преграждала черная, подернутая пепельной дымкой туча.
— В самом деле? Значит, упустил, старик, — произнес Сосновский сокрушенно.
— Выкладывай все, пока не поздно!
Борис Михайлович глянул в зеркальце на тучу.
— Пожалуй, поздно. Назад не проедешь. А Калугин личность вполне почтенная. Москвич, художник. Богат и расточителен. Посему окружен людьми.
— Жарятся шашлыки, и льются напитки?
— Не буду отрицать того, что скрыть невозможно. Шашлыки у Калугина отменные. У него, понимаешь, свой метод приготовления. Вымачивает мясо в вине.
— Борис! За сколько времени отсюда можно выбраться пешком?
— Не дури, старина. Места здесь всем хватит. Не желаешь цивилизации — ставь палатку и гоняй комаров, сколько душе угодно. Можешь махнуть через перевал. — Сосновский кивнул в сторону ледовой гряды. — А поостынешь, осточертеет величавое уединение — возвращайся в компанию художественной интеллигенции. Между прочим, Марина Калугина отлично ездит верхом.
— Кто такой Калугин? — Мазин положил руку на дверцу машины. — Ты уверял, что в поселке полное безлюдье…
В полуметре от колеса «Волги» круто вниз уходила гранитная серо-розовая стенка, под ней пенилась, пробиваясь среди валунов, стиснутая ущельем бутылочного цвета речка. Впереди, прямо из скал, росли пихты. Их острые ярко-зеленые верхушки перемежались с ледовыми вершинами хребта, кипенно сверкавшими на фоне солнечного, почти фиолетового неба. Зато путь в долину преграждала черная, подернутая пепельной дымкой туча.
— В самом деле? Значит, упустил, старик, — произнес Сосновский сокрушенно.
— Выкладывай все, пока не поздно!
Борис Михайлович глянул в зеркальце на тучу.
— Пожалуй, поздно. Назад не проедешь. А Калугин личность вполне почтенная. Москвич, художник. Богат и расточителен. Посему окружен людьми.
— Жарятся шашлыки, и льются напитки?
— Не буду отрицать того, что скрыть невозможно. Шашлыки у Калугина отменные. У него, понимаешь, свой метод приготовления. Вымачивает мясо в вине.
— Борис! За сколько времени отсюда можно выбраться пешком?
— Не дури, старина. Места здесь всем хватит. Не желаешь цивилизации — ставь палатку и гоняй комаров, сколько душе угодно. Можешь махнуть через перевал. — Сосновский кивнул в сторону ледовой гряды. — А поостынешь, осточертеет величавое уединение — возвращайся в компанию художественной интеллигенции. Между прочим, Марина Калугина отлично ездит верхом.
Бориса Мазин встретил случайно на улице. С тех пор как они вместе работали в уголовном розыске, прошло десять лет. Сосновский защитил диссертацию, располнел и то и дело вытирал носовым платком капли пота, катившиеся по загорелой шее за воротник нейлоновой рубашки. — В такое пекло — спасение одно: горы. Не завидую тебе — париться летом в городе! — Через три дня я иду в отпуск. — В отпуск? Слушай, Игорь, махнем со мной! Райский уголок, первозданная природа. Крошечное местечко под самым хребтом. Одно время были лесозаготовки, но теперь заказник. Рабочих перебросили в соседнее ущелье. Домишки они распродали за бесценок. Я купил один за двести (учти, за двести рублей!), вложил еще сотни полторы, и теперь мне все завидуют. Правда, ближайший магазин в девяти километрах, но что стоит уединение! Уединение и соблазнило Мазина, а, оказывается, его-то и нет! Удаляясь от наползающей тучи, «Волга» спускалась серпантиной вниз. Игорь Николаевич вытянул руку из окна, и она повисла над пропастью. На противоположном склоне можно было прочитать уцелевшие от военной поры слова: «Перевалы — наши. Фашист не прошел!» Внизу, возле дощатого моста, стоял и смотрел на спускающуюся машину парень в вылинявшей ковбойке и помятых джинсах. По обожженному солнцем лицу кустилась рыжеватая бородка. Лицо было из тех, что называют современными: вытянутое, с правильными чертами. Ровный нос пересекала тяжелая оправа очков. — Эй! — махнул рукой Сосновский, притормаживая. — Как мост? Парень подошел неторопливо. — На скорости проскочите. Вода шумно накатывалась на деревянные опоры, и одна уже заметно накренилась. Настил над ней прогнулся. Борис смотрел неуверенно, однако выбора не было. Машина скользнула по пружинящим доскам. Под ее тяжестью опора подалась, но выстояла. Сосновский вытер пот со лба и сказал не без удовольствия: — Не завидую я тому, кто после нас поедет. А ты куда? — обратился он к парню. — Если в Дагезан, садись, подвезем. Тот покосился на приблизившуюся тучу. — Спасибо. Пожалуй, кости прополаскивать достаточно. — Отдыхаешь? — спросил Сосновский, когда машина тронулась. — Да. — Один? Снова короткое «да». Парень произносил совсем мало слов, но голос его что-то напомнил Мазину. — В палатке живешь? — продолжал выспрашивать Борис Михайлович. — Ночую у Калугина. Спасла его от дальнейших признаний девушка. Она шла по дороге легким, привычным к горам шагом. — Галина Константиновна? Прошу! Сосновский широко распахнул дверцу. Девушка заколебалась. — Что тут ехать… Два километра осталось. — Не нужно обижать трех одиноких мужчин, — сказал Борис Михайлович серьезно, и девушка села рядом с парнем в ковбойке. — В Дагезан вы, конечно, по личному делу? — Сосновский прибавил скорость. — Школы там нет, да и время каникулярное. — Какое может быть личное дело у учительницы! Хочу егеря повидать. Говорят, он самолет нашел, что в войну сбили. — Самолет? — встрепенулся парень. — На Красной речке? — Не знаю. — Зачем он вам? — Как зачем? Это же наш самолет, советский. Перенесем погибших в поселок, родственникам напишем. — Удастся ли опознать? — усомнился Сосновский. — Не опознаем, могилу Неизвестного летчика сделаем. Дагезан появился из-за очередного поворота. Ущелье расширилось, отвесные склоны сменились пологими, поросшими густым орешником. Ниже под серыми потемневшими крышами примостились дома, окруженные садиками и огородами. — Повезло мне, дома Матвей, — сказала учительница, показывая в сторону от дороги. Там, за низким заборчиком из штакетника, стоял мужчина в гимнастерке без пояса и разглядывал «Волгу», прикрыв от солнца глаза ладонью — Он ведь в горах больше… — Мне тоже нужен Филипенко. Бородатый парень вышел вслед за Галиной, и снова Мазин прислушался к его голосу. На этот раз он показался ему не только знакомым, но и озабоченным. Они пошли тропинкой через мокрый луг, где местами были проложены широкие доски. Галина обернулась и помахала рукой. — Здешняя? — поинтересовался Мазин. — Преподает в интернате в Мешкове. Там вся окрестная детвора учится. Ну и общественница, конечно. Вечно в хлопотах. Славная девушка. Стало видно, что поселок пустует, в окнах не было рам, заборы покосились, а огороды заросли бурьяном. — И у тебя такая развалина? — Жилище мое не поражает роскошью, но всегда открыто для людей с чистым сердцем. — Считай, что тебе попался именно такой человек. И не раздави на радостях ишака, — предостерег Мазин. Впереди по дороге, перешедшей в улицу, ехал на осле человек, одетый в черный пиджак и солдатские галифе, заправленные в коричневые, домашней вязки носки Сосновский просигналил, но ишак и ухом не повел, меланхолично перебирая крепкими ногами. Зато седок обернулся и приподнял над головой потрепанную соломенную шляпу. — Мое почтение уважаемым путникам. — Здоров, Демьяныч! Много меду накачал? — Солнышка пчелкам не хватает, Борис Михайлович. У Демьяныча было маленькое ласковое лицо. — А я тебе сапоги привез резиновые. — Много благодарен. Вещь в здешних условиях необходимая. Демьяныч стукнул ишака кулаком по шее, чтобы тот освободил дорогу. «Волга» с трудом обогнула упрямого конкурента. Осел смотрел на машину с отвращением. — Забавный старик. Пасечник из Тригорска. За колхозными ульями присматривает. И сам этакий продукт природы: травы варит, зверье уважает. Говорит: «И в пчеле душа есть, только тайна ее от нас скрыта…» А вот и калугинский дворец. Дом художника резко выделялся среди местных строений. Было в нем почти три этажа: нижний, полуподвальный — гараж, выложенный неровным красноватым камнем; основной — деревянный, с широкими окнами в замысловатых переплетах, и мансарда — мастерская. Чувствовалось, что сооружен дом по собственному замыслу человеком знающим и умелым. — Почти все своими руками сделал. Жадный на работу мужик. — Не зря потрудился, — согласился Мазин. Речка делала здесь крутой изгиб, и дом возвышался на полуострове, окруженный великолепными елями. — Увы, мой дворец много скромнее. Через несколько минут они разминали затекшие ноги у небольшого, но ладного, недавно отремонтированного домика, пахнущего хвоей. В комнате стояли две раскладушки, шкаф и столик с тумбочкой. Мазин выглянул в окно. Снежные вершины начало затягивать. — Там бывают туры, — провел рукой вдоль хребта Борис. — Можно получить лицензию на отстрел? — Получить можно. Подстрелить труднее. Мясо я у Филипенко добываю. У него оленина не переводится. Между прочим, Игорь, ты тут не хвались специальностью. Скажи, что инженер или врач-педиатр, а то мы голодными насидимся. — И это говорит юрист! Игорь Николаевич покачал головой и, перекинув через плечо мохнатое полотенце, пошел к реке умываться. Небо потемнело, подул ветер. Мазин разделся до пояса и поежился, опустив руки в ледяную воду. — Прохладно? Это спросил, заметно окая, худощавый пожилой человек в большом берете, весь в крупных, будто вырезанных по дереву морщинах. Он опирался на сучковатую толстую палку. — Прохладно. Незнакомец прыгнул с камня на камень. — Тут не Сочи. Все, что угодно, но не Сочи. А там, — он поднял палку над беретом, — тундра. Камушки, снежок, ледок. Откуда и спускается портящая настроение погода. Однако разрешите представиться: Кушнарев, Алексей Фомич, некогда архитектор. — Старик перескочил на ближайший валун. — По-видимому, встречаться придется. У Михаила Михалыча Калугина. — Я незнаком с Калугиным. — Неважно, несущественно. Природа сведет и познакомит. Уже сегодня, судя по грозе, которой не миновать. И запрыгал дальше. — Игорь! Где ты застрял? — крикнул Сосновский. Мазин вернулся в дом, растирая полотенцем мокрые плечи. — Архитектора встретил. Что за личность? — Кушнарев? Постоянный гость Калугина. Друг юности. Черно-синяя туча придавила ущелье. По тяжелому, переполненному водой брюху ее скользили седые клочья, но дождь еще не начался, только отдельные крупные капли, срываясь, постукивали по крыше, врываясь ударами в шум кипящей реки… Неожиданно в открытую дверь шагнул парень с черной, давно не стриженной шевелюрой. — Про крючки, конечно, забыли? — спросил он у Сосновского, не здороваясь. — Крючки привез. — Профессиональная прокурорская память? — Я, Валерий, никогда не был прокурором. — Все равно. «За богатство и громкую славу везут его в Лондон на суд и расправу». — Что за манера говорить вычитанными словами! — Может быть, не те манеры, может быть… Сосновский пояснил: — Это сын художника Калугина. — Я догадался, — сказал Мазин. — Догадались? Вы тоже прокурор? — Игорь Николаевич — врач. — Очень приятно. Не можете ли вы пересадить мне сердце? Скучно жить с одним и тем же сердцем. Особенно художнику. Потому что я не сын художника, как отрекомендовал меня ваш нетактичный друг, а сам художник. — Непризнанный? — Опять догадались, доктор. Что вы еще про меня скажете? — Зря ершитесь! Непризнанный не значит бездарный. — Попробуйте убедить в этом моего родителя! Впрочем, бесполезно. Мы странно спроектированы, доктор. Все видим по-разному. Что видите вы в этом окне? Горы? Деревья? Тучи? А я вижу крики души своей, спутанные вихрем, рвущиеся о скалы. — Как поживает Михаил Михайлович? — прервал Сосновский. — Вопрос, разумеется, задуман как риторический. Вы не мыслите родителя иначе чем в бодром времяпрепровождении, так сказать, в веселом грохоте огня и звона. А между тем последние дни он погружен в думы, что противоестественно для признанного человека. Хотел видеть вас. Зайдите, утешьте! И вы, доктор… Не забудьте скальпель. Вы обещали мне новое сердце. Выходя, Валерий качнулся. — Сердитый молодой человек? — спросил Игорь Николаевич. — Доморощенный. Мажет холсты несусветной чушью, а считает художественным откровением. Позер, кривляка, паяц. — Ты его, однако, не жалуешь. — Зато папаша балует. Марина-то у Калугина жена вторая. А мать Валерия умерла. Сам Михаил Михайлович — человек мягкий, деликатный, выпороть парня как следует не способен. Родительская рука не поднимается. От этих поблажек один вред. Попомни мое слово, отмочит Валерий штучку! Ну да нас с тобой это не касается, на чужом пиру похмелье. — Вот именно. Между прочим, я бы отдохнул с дороги. Мазин прилег на раскладушке и сразу же почувствовал усталость — сказались пятьсот километров в машине, да и весь трудовой год давал знать. Зато впереди целый месяц, свободный от повседневных хлопот и обязанностей Ни одного преступника, разве что егерь-браконьер, да это что за преступник, так… Все же трудную он работу себе выбрал. Сизифову. По статистике преступность сокращается, но в служебном кабинете этого не заметишь Правда, придет иногда трогательное письмо: «Игорь Николаевич, вы мне отца родного дороже, если б не вы, пропал бы я, сгубил жизнь молодую навеки, а вы спасли, свели с неверной дорожки…» Правильно, и такие были. Но не успеешь письмо дочитать — звонок: выезжай на место происшествия! То ли дело Борька! Без пяти минут профессор. Окружен молодыми порядочными людьми. Приобрел райский домишко. Красотища какая — воздух, тишина, покой… Он посмотрел на горный склон по ту сторону реки. Обрывки туч цеплялись за пихты. «Крики души… Позер… На чужом пиру похмелье…» В окне, как в кинокадре, появилась женщина на лошади и промелькнула, низко наклонившись, укрывая лицо от дождя. Засыпая, Мазин вспомнил нескладные строчки капитана Лебядкина:
2. Туман
 Мазин отворил дверь и удивился неожиданной картине. Гор не было. То есть они никуда не делись, конечно, но тучи, плотно укутавшие ущелье, оставляли для просмотра не больше двух сотен метров, и в этом ограниченном непроницаемым туманом пространстве часть Дагезана, видимая с порога калугинского дома, казалась не заоблачным экзотическим поселком, а простенькой подмосковной деревушкой с соснами на косогоре, серыми избами и меланхоличным мычаньем проснувшегося теленка. Игорь Николаевич уловил в сыром воздухе сладковатый запах парного молока.
Телячий голос доносился справа, а впереди тропка вела к домику Демьяныча, старому, покосившемуся, купленному пасечником у давно покинувших поселок хозяев. Мазин пошел по тропинке, наступая на прошлогоднее сено, разбросанное в особенно вытоптанных местах. Мокрая трава чавкала под ногами. Клочья тумана плавали так низко, что хотелось раздвигать их руками, как занавески.
Демьяныч стоял у забора в соломенной не по погоде шляпе. Спросил заинтересованно, но без излишнего любопытства:
— Как ночь прошла, Игорь Николаевич?
— Скажу, все скажу, — пообещал Мазин, понимая, что старику не терпится узнать, что же произошло на даче. — Устал я…
— Зайдите, Игорь Николаевич. Живу я, правда, запущенно. Так сказать, жилище человека одинокого.
В тесноватой избе пасечника в самом деле не чувствовалось заботы об уюте. Даже большая печь не была побелена и выделялась густыми коричневыми пятнами глины, как загрунтованная малолитражка, покалеченная в дорожной катастрофе.
— Ежели пожелаете, угощу чайком с такой травкой отменной, что усталость как рукой снимет.
— Не откажусь. — Мазин присел к столу, покрытому голубенькой, в цветочках клеенкой.
— Сию секунду.
Демьяныч отворил дверцу настенного шкафчика, на которой была приклеена вырезанная из журнала фотография улыбающегося космонавта Поповича, достал две пачки с чаем, ловко смешал в заварном чайнике и поставил на раскаленную плиту.
— Настояться требуется, — пояснил он. — Раздевайтесь пока. У меня не замерзнете. Сам стынуть не люблю.
Теплая крестьянская изба и основательный старик, такой далекий от невероятной реальности щегольской дачи с гаражом и мансардой, где лежит труп человека, прожившего жизнь в столичной суете, действовали успокаивающе. Не хотелось уходить, разыскивать подо зрительного невропата Валерия, выуживать по крохам детали истины, восстанавливая мрачные обстоятельства человеческой смерти. Хотелось спокойно прихлебывать вкусный чай и толковать о повадках пчел.
Однако Демьяныча интересовало другое.
— Борис Михалыч — человек проницательный и ловушку расставил умело.
— Нас перехитрили. Кто-то пробрался в мастерскую, когда мы звонили с почты, ударил Калугина ножом и скрылся.
— Скрылся? Удивительно, как и многое в жизни…
Простой этот и даже риторический вопрос поставил Мазина в тупик. При всем желании он не мог ответить на него утвердительно, потому что здравый смысл, логика доказывали, что скрыться невозможно и преступник по-прежнему здесь, рядом. Между тем никто из тех, кого видел до сих пор Мазин, не казался ему убийцей.
— Вы, Демьяныч, философ, оказывается.
— Стараюсь смысл понять…
— Жизни? Трудное дело. Или постигли?
— Много беспощадного вижу.
— Опечалены?
— Не скажу. В этом мудрость.
— В жестокости?
— Нет, в беспощадности. Это разное. Волка убить мудро. А зачем? Чтобы овцу не тронул. Так природа распорядилась. Овцу нам. А мы многое сделать можем. Даже на Луну слетать. Поэтому овцу нам, а не глупому волку.
— Волк не заслужил, выходит?
Ставший было серьезным и даже утративший от этого что-то свое, добродушное, пасечник снова заулыбался.
— Не заслужил, Игорь Николаевич, не заслужил. Сер больно.
Он налил ароматный чай в граненый стакан и поставил на стол блюдечко с медом.
— Вам, наверно, немало пришлось повидать в жизни?
— Что положено, повидал.
— Вы верующий, Демьяныч?
— В бога не верю. Верю в диалектический закон, он нашу участь определяет.
— И участь Калугина?
— И его тоже, — ответил пасечник твердо. — Значит, суждено ему было.
— Закон законом, а на курок-то пальцем нажали.
— Ну, если по-житейски, то человек убил, конечно. Как полагаете, найдет его Борис Михайлович?
— Ему есть над чем подумать. Убийца оставил нож.
— Нож бросил? Спугнули, значит? Улику потерял.
— Или решил бросить тень. Хозяин-то ножа известен.
— Кто ж именно?
— Олег.
— Олег? — Лицо пасечника вытянулось.
— Удивлены?
— Уж больно не похож.
— Не похож. Скорее, ножом кто-то воспользовался. Брал его Валерий, но вернул. Мог и другой взять.
— Скажите какая история! — Демьяныч покачал головой. — Любопытно, почему смерти его домогались? Не месть ли?
— Мне трудно судить.
— Мудреное дело, мудреное. В Москве небось некролог дадут…
Пасечник поднял свое блюдце и пил, держа его в растопыренных пальцах. Вдруг он наклонился через стол.
— А что вы насчет ревности думаете?
— Вам что-нибудь известно, Демьяныч?
— Неопределенно, Игорь Николаевич. Борис Михалычу я бы говорить не стал, потому законник он, в строгих фактах нуждается. Ну, а вы человек вольный, доктор, если не запамятовал… — поглядел пасечник будто с сомнением, и Мазину, в который уже раз испытывая неприятнейшее чувство, пришлось подтвердить, что он доктор.
— Вот, вот… Живые люди мы с вами, сидим, размышляем между собой, и разговор у нас частный, для души, а не для закона. Люблю я, грешный человек, полюбопытствовать, как другие люди на земле существуют. Не все живут одинаково, Игорь Николаевич. Даже у нас, не говоря уж про буржуазный мир. Судьба-то, фортуна свое дело знает, не всем сестрицам одинаковые серьги достаются. Кому и ожерелье перепадет, а другому колечка обручального, глядишь, не хватило. Вот Михаил Михалыч, покойник… Широко судьба вела его, веточки над головой раздвигала, чтоб не поцарапался. Но достоин, ничего не скажешь. Народный талант.
«Однако старик болтун», — заметил Мазин, хорошо знакомый с категорией неглупых и повидавших на своем веку простых людей, но склонных к старости преувеличивать свой жизненный опыт.
— К чему ж вы пришли, наблюдая Калугина?
— Да так… Сплетня сплошная. Скажите, Игорь Николаевич, положа руку на сердце, была ли у него необходимость с молодой супругой свою жизнь связывать? — доверительно спросил Демьяныч.
— Он и сам не старик.
— Все ж Марина Викторовна на пару десяточков лет помоложе. А что двадцать лет в наше время значит? Другой человек — вот что. Он на фронте сражался, а она про Отечественную войну в школе услыхала. Он черный кусок ценил, а она черный хлеб ест, чтобы фигуру не попортить.
— В жизни такие грани часто стираются.
— Может, и стираются, а молодое к молодому тянет.
— Скажите проще, Демьяныч.
— Не решился б никогда, если б не случай ужасный. Но ежели пообещаете, что Бориса Михалыча вы этой сплетней не смутите…
— Смущать не буду, — пообещал Мазин.
— Если так… Еду я, значит, раз на пасеку. На переезде с моста спустился ишака напоить. Умнейшее животное, между прочим. И душевное. Зря оклеветанное. Однако отклонился, потому что животных люблю. Смотрю, значит, Марина Викторовна с чумным этим парнем, Валерием. Верхом оба, и меня им не видно. Ну, он на мосту близко к ней ехал, нагнулся и поцеловал… Мне неловко стало. Отвернулся, помню. Вот и все… Ой, минутку! Дровец в печь подброшу.
Пасечник вскочил и наклонился над плитой.
— Чего не бывает, — произнес Игорь Николаевич неопределенно и, помешав ложечкой в пустом стакане, поднялся.
— Благодарю за угощение.
— Но уговор наш…
— Уговор дороже денег.
И снова он прошел по мокрой дорожке и по ломкому прошлогоднему сену мимо блестевших дождевыми каплями сосен.
— Куда ты пропал? — выскочил из тумана Сосновский.
— Чай пил.
— Чай! Валерий исчез! В его спальне даже постель не разобрана. Он не ночевал дома.
— Превосходно. Кажется, Валерий Калугин единственный, кого можно не подозревать.
— Нашел алиби?
— Напротив. Все говорит не в его пользу.
Они стояли под развесистой елкой. Сосновский в раздражении взмахнул рукой и зацепил ветку. Вода полилась на головы.
— Сил у меня нет общаться с гением! Я обыкновенный кандидат наук и считаю, что в нашей ситуации твои псевдооригинальные, высокомерные и бесплодные парадоксы совершенно неуместны!
Мазин развел руками.
— Я пытаюсь найти путь — и только.
— И отвергаешь очевидное? Валерий, именно Валерий мог войти в мастерскую, не вызвав подозрений, и выстрелить, дождавшись удара грома. Конечно, патология убийства пугает, вызывает сомнение, но сын-то он не родной, как оказалось!
— Погоди. Убил, но не убедился в смерти?
— Что здесь удивительного? Ты же поклонник Достоевского. Помнишь Раскольникова? Преступник в момент преступления подвергается упадку воли и рассудка. Именно в ют момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность… Я почти цитирую. Ведь Валерий психологически, такой же тип. Чего стоил ему этот выстрел! Представляешь? Но он выстрелил, и тут же пришел упадок воли и рассудка. Ему стало невмоготу слушать пульс или сердцебиение. Он спешил уйти, сбежать. И вдруг он узнает, что отчим жив. Его охватывает шок. Он в панике. Страх гонит его наверх. Как часто бывает, преступнику везет. В руках у него чужой нож…
— Погоди. Олег помнит, что Валерий нож вернул И его не было в гостиной, когда ты сказал, что Калугин жив.
— Олег мог и спутать. А мои слова были прекрасно слышны и в его комнате. Наконец, ему могла сказать Марина.
— Между прочим, Валерий и в самом деле был к ней неравнодушен.
— Отлично!
Мазин поскучнел. Такое он наблюдал не раз: простительную, в сущности, радость при виде легкого хода. Он и сам грешил ею в свое время. В умозаключении Бориса были логика и система, но согласиться с ними Игорь Николаевич не мог. Почему? Слишком просто? Что из того? Многие убийцы вряд ли строго нормальны, они поступают противоестественно, идут на неоправданный риск, не считаются с реальностью. Отсюда неизбежные просчеты, ошибки. Зачем же усложнять?
— Борис! Твоя версия не хуже других. А других у нас вообще нет. Но я в нее пока не поверил. Возможно, от неосознанного высокомерия, в котором ты меня упрекнул, а скорее от усталости Поэтому предлагаю разделиться. Ты идешь своим курсом, а я еще подумаю. Если придумаю, узнаешь немедленно.
— Зря выкаблучиваешься, Игорь. Но дело хозяйское. Вольному — воля.
Мазин почувствовал облегчение. «Если дело так просто, в нем разберутся и без меня, если же оно очень сложно, то и я не ясновидец». И утешенный этим софизмом, он оставил Бориса и спустился к речке, подмывавшей склоны быстрой, желтой дождевой водой. Вода захлестнула валуны, вчера еще видные посреди извилистого русла, и мчалась победоносно и весело, легко одолевая каменные преграды. Поток гипнотизировал, от него было трудно оторвать глаз.
— Правда, хорошо?
На скале, у самой воды, сидела Галина, натянув юбку на колени, защищаясь от холодных брызг.
— Правда. Мне не часто приходится видеть такое.
— А я здесь выросла. Меня многие дурой считают, что в глуши живу. — Она наклонилась и вытащила из воды прибившуюся к камню сосновую ветку. — Видите, сколько домов пустых? Летом еще люди приезжают, а зимой никого. А зимой, знаете, красота какая! Когда снег везде. Не налюбуешься. — Она вдруг засмеялась с горечью — Только вот замуж выйти не за кого. Да и вообще ничего не происходит.
— Ничего не происходит? Вчера мне показалось, наоборот.
— Это вы про Михаила Михайловича? Как он там? Я никого не видела. Встала пораньше, домой собралась, да мост смыло. Сижу, жду у моря погоды.
— Калугина убили, Галя.
— Не может быть!
Мазин рассказал, что знал. Учительница слушала, широко раскрыв темные, узковато прорезанные глаза.
— Вы рано заснули?
— Нет. Олег зашел.
— Олег — парень интересный.
— Что из того?
— Как все учителя, вы женщина строгая.
— Учителя тоже разные. Да не о том речь шла… А вы странный. Спокойный очень. Доверие вызываете. Вас больные уважают, наверно?
— Больные? Я не врач, Галочка. Я работаю в уголовном розыске.
Мазин забрался на камень и присел рядом. Она посторонилась.
— Допросить решили?
— Что вы. Поухаживать Правда, я лет на пятнадцать старше Олега, но иногда женщинам нравятся солидные мужчины.
— Скажите еще, что вы не женаты. — Галина рассмеялась, но тут же спохватилась: — У людей горе какое, а мы глупости болтаем. Насчет уголовного розыска у вас получилось неудачно.
— Жаль. Я хотел расспросить об Олеге.
— Он ужасно скучный. Не похож на журналиста. Все о тропе на Красную речку толковал. Показать просил.
— Вы согласились?
— По такой погоде? Там и в хороший день шею сломать можно. Прямо помешался на своем самолете.
— Он собирается написать о нем в газете.
— Пусть пишет на здоровье. Чувствовалось, что самолюбие Галины уязвлено.
— Дорогу может показать Филипенко.
— Матвей отказался.
— Почему?
— Я знаю? Он всегда делает, что в голову придет. Живет сам себе хозяин. Начальство-то за перевалом. Зверя бьет, когда нужно и когда не нужно. Тут, конечно, без охоты не проживешь, да ведь разум требуется! И человеком быть нужно. В прошлом году пришел с гор, напился и куражится: «Я, Галина, трех туров подвалил». — «Где? — говорю. — Зачем?» Оказывается, вышел к ущелью, а туры по ту сторону, на склоне. Ну, он бах-бах… Стреляет-то без промаха. Всех трех и убил. «Скотина ты, — говорю, — Матвей. Зачем животных истребил? Ты ж их охранять поставлен!» — «Верно, Галка, — отвечает. — Потому и напился. А удержаться не смог. Душа загорелась. Смотрю — стоят на скалах. Пока сообразил, а карабин сам палит…»
— Карабин?
— Думаете, Матвей в горы с ружьишком ходит? Ружье для инспекции. У него в лесу винтовка в тайнике и патронов куча. Здесь немцы к перевалу рвались, так на леднике до сих пор оружие найти можно. Чего хорошего, а стрелять у нас любят.
— И вы стреляете?
— Еще как! Однажды Матвея проучила. Расхвастался: «Вот я стрелок, а ты с десяти шагов в корову не попадешь!» Я ему и говорю: «Бросай фуражку!» Он подбросил, от нее один козырек остался. Посмотрели бы вы на его рожу!
Галина поднялась, придерживая вздувшуюся колоколом юбку.
— Нужно все ж повидать Олега. А то его одного понесет!
«Симпатичная девушка. Подозревать ее нелепо».
Мазин спустился со скалы и пошел вдоль речки, поглядывая на густо замешанную глиной неспокойную воду. «Интересно, что предпринял Борька? И сумел ли Матвей переправиться?» Как бы уточняя эту мысль, он посмотрел на гладкий, устойчивый с виду валун.
— Дяденька! На тот камень не вставайте. Подмыло его.
Игорь Николаевич увидел низкорослого паренька, одетого в длинную, с отцовского плеча стеганку и фуражку с золочеными листиками — эмблемой, сползавшую на уши.
— Почему ты решил, что я полезу на камень?
— Да вы ж на него смотрите и ногой примерялись. «Нужно быть очень наблюдательным, чтобы заметить непроизвольное движение!»
— Спасибо, друг. Как тебя звать-то?
— Коля.
— Николай Матвеевич?
Угадать было нетрудно. Щуплый паренек как две капли воды походил на Филипенко.
— Сколько ж тебе лет, Николай Матвеевич?
— Четырнадцать.
— Ого! Комсомолец уже?
Мальчику трудно было дать больше двенадцати. И не только по фигуре. Глаза у Коли были детские, не похожие на глаза тех преждевременно созревших городских подростков, с которыми Мазину приходилось иметь дело по службе.
— Не, пионер еще. А вас как зовут?
— Меня, Коля, зовут Игорь Николаевич. Ты здесь форель ловишь?
Паренек улыбнулся городской наивности.
— Форель под плотиной клюет… А это правда, Игорь Николаевич, что дядю Мишу убили?
— Правда.
— Вот жалко. Он здесь самый лучший был.
— Самый лучший? Почему? Он рисовал тебя?
— Не… Хотел нарисовать, но я неусидчивый. Не вышло. Зато мы с ним на охоту ходили. Дядя Миша, правда, ничего никогда не убьет. И стрелять не любил. Ходить любил, рассказывать. Про войну, как он воевал. Про Москву, про художников знаменитых. Сурикова он очень любил. Знаете «Переход Суворова через Альпы»?
— Знаю.
— Обещал меня в Москву, в Третьяковскую галерею повезти. Мы с ним часто ходили. Особенно на Красную речку.
«Там нашли самолет».
— Почему на Красную? Это красивое место?
— У нас везде красиво. Речка из озера водопадом пробивается. Напротив красных скал. Потому и речку Красная называют. А вообще-то она не красная, обыкновенная. А на гору ни за что не взойти. Озеро знаете только как увидеть можно?
— Нет, — ответил Мазин, с удовольствием слушая симпатичного паренька.
— Нужно на Лысую подняться. Она выше озера. С нее в бинокль озеро здорово видно! Там, где лед протаял, синие-синие пятна. У дяди Миши бинокль был двенадцатикратный. Заберемся мы на Лысую, и он сидит, смотрит долго-долго.
— А самолет Михаил Михайлович не видел?
— Не… Никто не видел. Отец первый. Когда лавина пропасть засыпала.
«Зачем этот вопрос? Чем мой путь лучше Борисова? Он стремится к упрощению, я усложняю. Но где все-таки Валерий?»
— Ты, Коля, не встречал сегодня Валерия Калугина?
— Не.
— А с ним вы в горы ходили?
— С Валерием? — спросил мальчик, не скрывая пренебрежения. — Куда ему! Ленивый он. Шашлыки любит. Купит мяса и зажаривает на полянке, — засмеялся Коля; и видно было, что покупка мяса с его, сына охотника, точки зрения — вещь нелепейшая. Мазин улыбнулся.
— По горам, выходит, не ходок? Куда ж он сегодня девался?
— Да спит, наверно, в хижине.
— Где?
— В хижине. Тут рядом с колхозной пасекой домик ничейный. Его как дядя Миша отругает, он — туда, валяется на кровати.
— Проводишь меня к домику?
— Пойдемте, — охотно согласился мальчик и сразу зашагал вперед, ловко выбирая камни поровнее и посуше.
Они обогнули калугинский дом стороной и вошли в полутемный лес. Все вокруг насквозь промокло. Холодные и тяжелые капли непрерывно скатывались с поникших веток. Особенно неприятно стало идти, когда каменистую тропу сменила расквашенная глина.
— Далеко еще, Николай?
— Вот, Игорь Николаевич!
Посреди просторной поляны зеленело застарелой тиной неглубокое озерцо. Посреди него плавала дверь с привинченной ржавой ручкой, никому в этих щедрых лесом местах не нужная, а за озерцом Мазин увидел похожий на другие домик под тесовой крышей. Над крышей поднималась струйка сизоватого неуверенного дыма.
Мазин пошел впереди мальчика. Ему хотелось заглянуть сначала в окно, но ближнее окно оказалось закрытым, и он остановился перед неплотно притворенной дверью, поймав себя на том, что ждет чего-то неожиданного. Дверь отворялась наружу. Игорь Николаевич потянул ее и остановился на пороге. На раскладушке, покрытой расстегнутым спальным мешком, лежал Валерий, уткнувшись лицом в подушку. Мазин схватил его за плечо.
Валерий повернулся и сел на койке, уставившись на непрошеных гостей недовольным взглядом.
— Что вам нужно?
— Простите. Мне показалось, что вам нехорошо. Ваша поза…
— Моя поза никого не касается. Зачем вы пришли?
— Возможно, вы не знаете…
— Все знаю.
Валерий говорил зло, грубо.
— Почему же вы здесь?
— А ваше какое дело?
Мазин подавил нарастающую неприязнь к художнику.
— Если у вас все в порядке, не буду мешать…
— Убирайтесь!
— Вы негостеприимны, — сдержался Мазин.
— Не хочу разделить участь отца. — Он вдруг вскочил и схватил ружье, стоявшее у стенки. — Убирайтесь отсюда, слышите! А то я всажу вам дроби в брюхо.
Игорь Николаевич шагнул вперед и сделал быстрое движение. Валерий отлетел на раскладушку, а ружье стукнулось об пол. Мазин поднял его и вышвырнул патрон. Валерии ошеломленно наблюдал за ним с кепки.
— Извините, — сказал он наконец и спаясничал совсем по-вчерашнему: — Так уж получилось, мы не виноваты.
— Кто вам сказал о смерти отца?
— Ну, Марина сказала.
— Когда?
— Сразу же после того, как ваш друг затеял свой идиотский эксперимент. Спустилась вниз и сказала. Нужно ж ей было с кем-то поделиться. Она-то не прокурор. У нее нервы есть.
— У Бориса Михайловича тоже. И он не прокурор, как вам известно. Он делает все, чтобы разоблачить убийцу вашего отца. Разве вы не знаете, чем кончился «идиотский эксперимент»?
— По вашей физиономии вижу, что никого вы не поймали.
— Вы отличный физиономист. Однако Калугина пытались убить еще раз тем самым ножом, которым вы открывали бутылки.
— Нож я брал у Олега. Да что вы плетете! Это же провокация!
— Вы возвратили нож?
— Черт его знает! Наверно. Зачем он мне нужен? Оставьте меня в покое. И не воображайте себя Эркюлем Пуаро. Тут и милиция зубы сломает, будьте уверены. Не по зубам орешек. Не сумочку вытащили.
— Вы говорите так, будто имеете определенные предположения.
— Никаких предположений! — выкрикнул художник и снова сменил тон. — Вам-то зачем это, доктор? Это нас касается, меня. Не ввязывайтесь вы не в свое дело. Отдыхайте лучше. Не нравится в поселке, располагайтесь здесь. Когда солнце появится, вы оцените. Вид божественный! — закончил он вполне доброжелательно.
— Спасибо, — ответил Мазин, присматриваясь к Валерию.
— Отдыхайте! А я пойду. Хорошо, что вы меня разбудили.
«Чумной парень», — вспомнил Игорь Николаевич слова пасечника. «Он нервничает и переживает. Это попятно. Но что у него на уме? Что значит, «это нас касается, меня»? Илиничего Fie значит?»
Мазин посмотрел в окно и снова увидел зеленую лужу с плавающей дверью и густой туман, скрывший горные склоны.
— Вы его обязательно найдете, Игорь Николаевич, — сказал Коля.
— Кого?
— Кто убил. Я догадался.
— О чем же ты догадался?
— Да как вы у Валерия ружье вышибли, я и догадался, что это вы.
— Кто ж я, по-твоему?
— Мы с дядей Борей на лису ходили, — заговорил Коля быстро, спеша объяснить, о чем он догадался, — и дядя Боря меня похвалил. Говорит: «Ты следопыт настоящий, тебе бы в уголовном розыске работать». А я спросил: «А вы сами много преступников поймали?» А он говорит: «Я — мало, но у меня друг есть, он особенно опасных ловит». Я тогда еще подумал: вот бы на вас посмотреть! А как вы приехали, я все думал: вы это или не вы? Ну, а как вы ружье выбили, понял — точно.
— Разоблачил ты меня, однако.
— Игорь Николаевич, а вы специально приехали? Вы знали, что убийство готовится?
— Нет, сынок. Я отдыхать приехал.
— А можно я вам помогать буду? Я никому не скажу, кто вы, честное пионерское!
Он не успел ответить, когда, почти слившись, раздались три звука. Потом уже Мазин восстановил их последовательность. Вначале же он услыхал только звон разбитого стекла в окне. Но на секунду ему предшествовал выстрел, и тут же что-то глухо шлепнулось о стол.
Мазин инстинктивно, еще не осознав саднящую боль под мышкой, пригнул Колю к полу. Другая рука его потянулась за ружьем. Потом он выглянул в окно. Сквозь разбитое стекло тянуло свежим, сырым воздухом. Вокруг было спокойно и тихо. Стреляли из ближних кустов, только оттуда можно было рассмотреть в тумане силуэт в окне. Там скрывался стрелявший. Что он намерен делать? Придет в хижину? Поспешит в лес? Или будет ждать, пока кто-нибудь выйдет на поляну?
Спугнутая выстрелом, снова закричала в чаще какая-то незнакомая птица. Мазин стянул плащ. В рукаве было отверстие. Но болело не сильно. Видимо, заряд задел только кожу. Рубашка впитала кровь и неприятно липла к телу.
— Ранили вас, да? — спросил Коля шепотом.
— Немножко.
Игорь Николаевич продолжал наблюдать за лесом. Похоже, стрелок решил выждать или скрылся. Мазин приподнял и опустил раненую руку. Царапина, к счастью, не особенно досаждала.
— Коля, сядь к стенке ниже окна и жди меня.
Он осторожно отворил дверь. Осмотрелся, перебежал и укрылся за ближайшим деревом. Редкий лес просматривался на значительное расстояние, но стрелять было трудно, деревья перекрывали прямые линии. От дерева к дереву он продвигался по направлению к кустам, осматриваясь при каждой остановке. Вот и заросли орешника. На ветках галдели птицы. Мазин сделал последний бросок, готовый немедленно ответить выстрелом на выстрел, и очутился на каменистой площадке среди кустов. Площадка была пуста.
Мазин нагнулся и подобрал желтоватую теплую гильзу. Из отверстия тянуло порохом. Это была небольшая гильза с характерным желобком от немецкого боевого карабина военных лет. Видимо, стрелявший спешил, раз не нашел ее на земле. Куда же он мог уйти? Каменистая площадка была частью тропы, ведущей в горы. Преследовать стрелка дальше было бессмысленно. Он мог укрыться за любым камнем и встретить выстрелом в упор. Мазин вышел из кустарника и направился к домику, не выпуская ружья из рук. Коли в комнате не было.
— Николай! — позвал Мазин.
— Здесь я, Игорь Николаевич, — появился паренек.
— Зачем выходил?
Дожидаясь ответа, Мазин достал перочинный нож и ковырнул доску стола.
Коля молчал, не спуская глаз с лезвия.
— В нашем деле, Николай, главное — дисциплина. Ты нарушил приказ, и я больше не могу тебе доверять. Отправляйся домой!
Это прозвучало жестко, но не мог же он сказать: пуля, которую я извлекаю, могла попасть в тебя! Мазин ожидал возражений, заверений, что мальчуган не станет больше своевольничать, однако Коля глянул на пулю, насупился и молча пошел из комнаты.
«Пусть лучше обижается. Рисковать им я не имею нрава».
В рукаве стало липко. Кровь, сочившаяся из ранки, добралась до локтя. Игорь Николаевич скинул пиджак и рубашку и подошел к ведру с водой, что стояло на табурете за дверью. Он опустил туда кружку, когда за стеной послышались шаги.
«Вернулся!»
Мазин схватил ружье и стал в простенке. Человек за дверью остановился, не решаясь войти. Последовала длительная пауза. Было очень тихо. Только птицы в зарослях никак не могли угомониться. Потом дверь скрипнула. Человек на пороге, одетый в дождевик с поднятым капюшоном, осмотрел помещение, никого не увидел и сделал шаг вперед. В тот же миг ствол ружья уткнулся ему в бок.
— Игорь?! — только и смог произнести Сосновский, увидев окровавленного Мазина с двустволкой в руках. — Что с тобой?
Мазин взял со стола и молча протянул ему пулю.
— Не могу представить, что тебя могли убить. — Сосновский смотрел на разбитое стекло.
— Было бы забавно. «Подстрелен аки заяц на третий день отпуска, избежавши в свое время многий опасности». Хороша эпитафия?
Игорь Николаевич промыл рану левой рукой.
— Ты еще шутишь! Как ты попал сюда?
— В поисках Валерия. Он был здесь. Мне не понравилось его настроение. Крутится у него в голове нечто тревожное и небезопасное. Но к откровенности не склонен. Однако что за идиот вздумал сводить счеты со мной?
— Кто-то разгадал нашу хитрость, сообразил, что ты опасен.
— Возможно… Хотя никому я пока не опасен. Повидав всех этих людей, я заключил: среди них нет убийцы. И ошибся. Он есть. Значит, все мои предпосылки, или большая часть их, оказались ложными. Придется засучить рукава. Видишь, какой энтузиазм?
— Что значит личная заинтересованность! — съехидничал Борис.
— Да, кровь взывает к мести. Стяни-ка мне руку носовым платком. Между прочим, что скажешь о пуле? Говорят, у Филипенко есть винтовка.
— Матвей ушел в район.
— Проверить, где он находится сейчас, невозможно.
— Если Филипенко придет в милицию в середине дня — значит, он в дороге. Придется уточнить время его появления в райцентре.
Но уточнять не пришлось. Егерь собственной персоной шел по тропинке вдоль озера.
— Легок на помин. Послушаем, что скажет.
— Что тут стряслось у вас? — спросил Матвей сразу.
— Стряслось кое-что. А ты почему здесь?
— Пихту подмыло Вода идет невиданно. В брод пойдешь-снесет как щепку. Вернулся я, значит, а Николай так и так говорит. Выходит, стреляли в вас, Игорь Николаевич?
— Было дело. Но не повезло стрелку. Пулю мне на память оставил и скрылся. Говорил тебе Николай про нулю?
— Сказал.
Мазин перешел на «ты».
— Хочешь взглянуть?
— Позвольте, если можно.
Он положил пулю в большую, корявую ладонь Матвея. Ему показалось, что пальцы егеря дрогнули. Пуля исчезла в ладони, Филипенко сжал кулак. Потом посмотрел, но бегло и опустил руку.
— Знакомая? — спросил Игорь Николаевич с умеренным любопытством.
— Да нет… Так с одного раза не поймешь. Поглядеть бы, сравнить… Можно?
— Хочешь оставить пулю у себя? Пожалуйста. Не возражаешь, Борис Михайлович? — Он встретился взглядом с Сосновским.
Филипенко быстрее, чем следовало, сунул руку в карман, однако Борис категорически повел головой.
— Ни в коем случае! Пуля — важнейшее вещественное доказательство. Давай-ка ее сюда, Матвей!
— Дело ваше. Я как лучше хотел, посодействовать.
Егерь протянул пулю Сосновскому. Тот положил ее в спичечную коробку. Мазин смотрел по-прежнему спокойно и доброжелательно.
— Пуля потребуется милиции.
— Дело ваше, — повторил Матвей. — Завтра с утра попытаю еще переправиться. А сегодня без толку. Сильно бежит, зараза. Про стрельбу, как я понимаю, лучше помалкивать?
— Лучше.
Он потоптался, оставляя па полу следы грязных кирзовых сапог.
— Покудова, значит.
Мазин повернулся к Борису. Сосновский смотрел оживленно.
— Не перегнул, Игорь? Ты явно дал понять, что подозреваешь его.
— Все на месте. Судя по реакции, Матвей Филипенко — человек эмоциональный, горячий, как говорится, жестокий иногда, по вспышке, но не хитрец. Не его это стихия.
— Еще бы! Хорошо, что пуля осталась у нас.
— «У нас»? Ошибаешься. Пуля, что лежит в твоей коробочке, даже не похожа на ту, что продырявила мой плащ. Новый плащ, между прочим. Уверен, это не немецкая пуля.
Сосновский открыл коробок.
— Ты прав. Пуля от старой трехлинейки. А твоя?..
— На дне пруда скорее всего. Матвей не так глуп и не настолько сентиментален, чтобы хранить ее как сувенир.
— И ты позволил ему спокойненько провести эту операцию?
— Спокойненько? Ну нет. Нервничал он наглядно. Сам видел. Вывод? Стреляли из Матвеева карабина. Помимо того, что пуля немецкая, на ней была личная метка. Наверно, такие значки нарезаны на всех его пулях. Охотничье тщеславие. Пулю узнал Николай и поспешил к отцу. Но ни он, ни Матвей не знают, что мне известно о карабине. Правда, парень догадался, что я не доктор.
— Колька?
— Представь! Очень наблюдательный мальчишка. Но сказал ли он отцу, кто я, не уверен. Почему? Неизвестно, как он относится к выстрелу, уверен ли в участии отца… Да и слово дал пионерское. Но это мы выясним. А пока Матвей узнает, что я жив и пуля у меня. Не считаясь с риском, с этакой простодушной одержимостью он пытается заполучить ее.
— Пошел напролом.
— Напролом. Значит, приспичило. Сейчас он доволен, уверен, что лишил нас доказательств. Но это чистый самообман. И недостаток информации. Он не знал, что я нашел и гильзу. Иначе Матвей подменил бы пулю немецкой, только без метки. Так что пол-очка мы отыграли. Теперь понаблюдаем.
Сосновский провел рукой по шевелюре.
— Пли он за нами. Из-за куста, с карабином.
— Что поделаешь. Такая работа, как говорит один мой друг. Вина Матвея пока не доказана.
— Да, наши доказательства относятся к карабину, а не к его хозяину. Самого Матвея они косвенно даже обеляют. Глупо на его месте стрелять меченой пулей, непростительно бросать гильзу. Но, с другой стороны, человек недалекий и вспыльчивый сначала делает, потом соображает. Убив тебя, он мог бы извлечь пулю.
Мазин невольно провел рукой по телу.
— Знаешь, Борис, твои слова по-новому освещают этот хаос. Из чего мы исходили? Убийство Калугина — продуманное, подготовленное, дело рук человека хладнокровного, расчетливого. Так? А если наоборот? Погас свет. Кто мог это ожидать и предвидеть? Грозу тоже не запланируешь. Все произошло не по заказу. А убийца поднимается и, несмотря на огромный риск, расправляется с Калугиным за считанные минуты. Гениальный расчет? Или дураку счастье? Решительность у этого егеря, во всяком случае, феноменальная. Когда он узнал, что его могут заподозрить (про карабин-то всему поселку известно!), он явился и сделал то, что задумал, без колебаний. И если у него вчера была не менее веская причина… Особенно если она возникла внезапно…
— Откуда? Перед нашим приходом шел обычный разговор. Никакого скандала, крутого столкновения мнений, вспышек гнева.
— Могла быть и неприметная вспышка. Вспышка страха. Страх толкает на авантюры не меньше, чем гнев. Особенно панический. Или страх, замешанный на скрытой ненависти. Какая-то комбинация сильных, требующих немедленных действий чувств. Я отталкиваюсь от Филипенко, но речь может идти о любом. И о женщине.
— Любое обострение не останется незаметным в маленькой группе людей.
— Разве мы осознаем все, что замечаем? Особенно когда это нас непосредственно не касается. Сколько раз мы проходим мимо назревающих конфликтов! Дома, на службе, в коллективе. Что-то заметил и тут же позабыл, потому что показалось несущественным, незначительным. А здешний конфликт был наверняка не на поверхности, его не афишировали, скорее скрывали. Однако что-то просачивалось, не бросалось в глаза, но не оставить следов не могло. И свидетели остались. Извлечь истину по капле — вот что нужно. Филипенко- один из вариантов, не больше. Главное — обстановка. Толчок к убийству был дан накануне того, как погас свет. Толчок непосредственный. Потому что общее стремление вызревало исподволь. Но толчок был, хотя и остался незамеченным. Чтобы ощутить его, нужно восстановить, о чем говорилось за столом, что предшествовало выстрелу.
— Представь, эта мысль уже приходила мне в голову. Я поговорил с Мариной и Галочкой.
— Женщины прежде всего?
— Не иронизируй. Вряд ли женщины причастны к убийству Калугина и наверняка не стреляли в тебя.
— Надеюсь. Кроме того, они умеют запоминать мелочи. Итак, разговор за столом.
Борис развел руками.
— Признаюсь, я пытался подкрепить свою версию, найти что-то связанное с Валерием. Однако ничего нового не обнаружил. Они с отцом даже не цапались по обыкновению.
— У них был крупный разговор накануне.
— Был. Но он не походил на скандал. А о чем шла речь, я не понял и не интересовался, естественно. Они прекратили его, как только я появился. Всегдашней запальчивости в Валерии не было. И за столом он молчал. Возможно, был подавлен. Однако это домысел, не больше. Скорее его не интересовала общая беседа.
— О чем же говорилось?
— Филипенко рассказывал о сбитом самолете.
— Опять самолет?
— Ну, это понятно. Местная новость номер один плюс охотничьи фантазии.
— Что за фантазии?
— Матвей обнаружил останки летчика в стороне от машины.
— Выбросило взрывом?
— И я так думаю, но Матвей нагнал туману, утверждая, что скелет совершенно цел и сохранившаяся одежда не обгорела. Получается, что человек выбрался живым из разбившейся вдребезги машины, отошел спокойненько на травку, прилег и умер. Типичная охотничья байка. А главное — связи-то с нашим убийством никакой!
— Во всяком случае, уловить ее трудно. Зато есть связь с приездом в поселок Олега. Мне почему-то кажется, что он искал самолет не только как журналист. В его настойчивости заметно что-то личное. Но почти невероятно, чтобы эта зависимость могла привести к смерти Калугина. А что говорили другие?
— Высказывались по-разному, но общее мнение сводилось к одному: узнать фамилию летчика и сообщить близким.
— Ничего криминального. Естественно.
— Банально. Еще говорили о том, что найти семьи будет трудно. Олег якобы сказал: «Это я беру на себя». Калугин поинтересовался, каким образом он собирается действовать. Тот ответил: «Сохранился номер машины, состав экипажа можно узнать в военном архиве». Тоже просто, как видишь. Потом разговор перекинулся в сферу абстрактную: как прошлое дает себя знать через много лет.
— Что же тут высказывалось?
— Обычные суждения. Об ответственности за совершенные поступки. Олег активно участвовал. «Истина всего дороже. Ее нельзя скрывать». Вмешался Кушнарев и стал говорить, что истина неуловима, что факты можно понять по-разному. Короче, общая болтовня.
— Что говорил Калугин?
— Он был на стороне Олега, собирался рассказать какую-то притчу, но Валерий заявил: «Отец, ты многословен, дай гостям поговорить». Калугин смутился, а тут и свет погас.
— Он назвал это притчей? Не случаем из жизни?
— Нет, нет. И Галя и Марина запомнили это слово.
— Да… Улов невелик. Ни одной фразы, наталкивающей на конкретные выводы. Однако если исходить из предположения, что толчком к убийству послужили слова, неосторожно или сознательно произнесенные вечером, то самолет вновь фигурирует. Но вернемся на грешную землю. Закончилась ли стрельба — вот вопрос? Или есть смысл застраховать жизнь?
— До приезда инспектора соцстраха я бы принял меры предосторожности.
— Обязательно. Бери ружье, и пойдем!
По-прежнему туман заволакивал ближние и дальние горы, по-прежнему, насупившись, стоял вымокший лес, и вода в озере казалась неприветливой и холодной, но что-то и изменилось.
— Ветерок потянул, — сказал Борис.
«Стало легче дышать», — понял Мазин и заметил мелкую рябь на поверхности озера. Почти незаметно покачивались ветки ближних деревьев.
— Разгонит непогоду, — ответил он без всяких аллегорий.
В затихшем лесу не верилось в опасность, в жестокость, в страх и ненависть, проникшие в забравшийся на кручи поселок, в то, что человек с карабином мог засесть за любым кустом. Треск ветки впереди вернул к действительности.
— Эй, кто там? — Сосновский повел стволом в сторону ближних деревьев.
Никто не откликнулся.
— Не паникуй, Борис. Он не нападет на двоих.
Шума больше не было. Они благополучно добрались до дому.
Там у дубового стола сидел Кушнарев и рассматривал полупустую бутылку со «Столичной». Четкие, скульптурные черты лица его обмякли и разгладились, загар поблек, седые редкие волосы спутались, обнажив нездоровую кожу.
— Отдай ружье Валерию, Борис. Я посижу пока с Алексеем Фомичом.
Кушнарев исподлобья наблюдал, как Мазин подходит к столу.
— Не возражаете, Алексей Фомич?
— Я? Возражаю ли я? — переспросил старик медленно, подбирая слова, как делают это пьяные люди, понимая, что они пьяны, и стремясь вести себя нормально, «правильно». — Я не могу возражать, молодой человек, потому что нахожусь в чужом доме и даже бутылка, которую вы видите, мне не принадлежит. Поэтому я оставлю ее вам, потому что мне пора, мне пора домой, а здесь я, судя по всему, больше не нужен. Не требуюсь…
— Как сказать…
— Скажите же. Поясните. Осветите.
— Это не так просто.
— Не просто? Вы сказали не просто? Я не ослышался?! То есть сложно? Ведь раз не просто — значит, сложно?
— Сложно.
— Удивительно! Совершенно не подозревал, не мог предположить, что для вас с вашим другом существуют сложные вопросы! Хотя, хотя ошибался, конечно, потому что вы же ставили опыты, эксгумировали, простите, экспериментировали… на людях. Так сказать, неутомимые исследователи! Да что вы, молодой человек, — Кушнарев вдруг обрел твердость речи, — что вы знаете о жизни и смерти?!
— Я не так уж молод, Алексей Фомич. И мне положено кое-что знать.
— Положено? По инструкции?
— Не все инструкции плохи.
— Ну! — Архитектор даже сверкнул желтыми глазами. — По-вашему, мысли можно упрятать в параграфы? Сформулировать высшую мудрость! Свести смысл жизни к уголовному кодексу?
— Иногда и уголовный кодекс помогает осмыслить жизнь. А причины смерти в основном укладываются в рамки медицинского заключения.
Он иронизировал вынужденно, а не для того, чтобы позлить старика. Но тот вскипел всерьез.
— Видимые! Видимые причины! — крикнул Кушнарев с торжеством, и Мазину показалось, что он собирается постучать пальцем ему по лбу. — Видимость — вот что ваши бумажки отражают! Фокусы, иллюзии. И вы — фокусник!
— Не могу с вами согласиться. — Игорь Николаевич говорил тоном, каким разъясняют ошибки упрямым, но способным ученикам. — Если удастся установить, кто убил Калугина…
— Кто убил Калугина! Нашли себе кроссворд на досуге? Смотрите! Мозги свихнете. Или шею. — Он запнулся. — Ничего больше не скажу. Не хочу с вами разговаривать.
— Дело ваше, — ответил Мазин, подчеркнув сожаление.
— И не пытайтесь выведывать! Вместе с вашим приятелем из так называемых органов внутренних дел! Так вот — мои внутренние дела вас не касаются!
— Мой приятель — научный работник. И беседовать с вами не так уж приятно. Вы неискренни.
— Я? Какое вы имеете право?..
— Я вижу больше, чем вам кажется.
— Ну и самомнение! Любопытно, что ж вы увидали?
— Вашу неуверенность. Вам хочется знать, был ли Калугин настоящим вашим другом или он только боялся вас.
Кушнарев замер. Удар пришелся точно.
— Я не ошибся, Алексей Фомич?
— Почему… почему вам такое в голову пришло?
— С ответом повременю, если можно.
— Не скажете? Однако, не ожидал. Глубоко копнули, не ожидал.
— А если я не ошибся, — продолжал Мазин, — как же я могу поверить, что вам безразлично, кто убил Калугина… Вы это ночью утверждали.
И тут он получил ответный удар.
— Я не говорил безразлично. Не извращайте. У меня свой взгляд есть… Может быть, мне известно, кто его убил!
— Известно?!
— С ответом повременю, если можно, — шутовски поклонился старик, но тут же посерьезнел. — На разных языках говорим. Боюсь, не поймете.
Заметно было, что архитектор не так пьян, как показалось Мазину вначале.
— Вы считаете, что убийца Михаила Калугина не должен понести наказания?
— Я излагал свою точку зрения.
— Вы ставили вопрос теоретически, не упомянув о том, что подозреваете конкретное лицо, человека, находящегося среди нас.
— А какая разница?
— Существенная. Ответственность определенного человека нагляднее. Она поддается точной оценке правосудия.
— Вот, вот!.. Вы о правосудии, о суде своем заботитесь, а я — об истине. Суд — дело рук человеческих, так и называется — народный суд, людской то есть, а у людей мнения, оценки, факты так и этак поворачиваются в голове. А истина от нашей оценки не зависит. Ее, как банку шпрот, не откроешь. Она с течением времени возникает и проясняется. Без сыщиков, без собак-ищеек. Да разве вы поймете! Строили на родине моей, в заштатном городишке российском, школу. Это я вам пример привести хочу. Зацепил экскаватор ковшом и клад вытащил — четыреста восемнадцать рублей серебром и медью тридцать шесть копеек. Старинные деньги.
— Вы запомнили?
— Сумма значение имеет. Потому что в местном архиве больше века дело хранилось на одного мещанина. Обвиняли его в убийстве купца и ограблении. Всего у купца взято было четыреста восемнадцать рублей сорок шесть копеек. Улавливаете? В гривенник разница! Однако обвинение тогда не доказали и оставили мещанина «в сильном подозрении». А фундамент-то на его бывшем подворье копали. Вот как истина вскрылась. Понятен смысл истории?
— Следствие находилось на правильном пути. Жаль, что его не довели до конца.
— Глухой вы человек. Гривенник забыли? Всех денег только и решился он потратить, что этот гривенник. А остальные не посмел. Значит, и без суда, который запутался в трех соснах, наказание свершилось. Да похуже каторги. Там — срок, а тут — бессрочные муки. До смерти деньги рядом лежали, напоминали о пролитой крови, а он к ним прикоснуться не смел.
— А если не было мук никаких? Трусил ваш мещанин с деньгами объявиться, да и только! Выжидал, выжидал, пока богу душу не отдал. А истина вскрылась, когда она никому не нужна стала.
— Нет, почтенный! Не поняли вы! — возразил Кушнарев тоном снисходительного превосходства. — Как Гёте сказал: бог может простить, но природа никогда! А что такое природа? Мы сами, вот что! Вы, я, Миша-покойник тоже.
— Трудно с вами, Алексей Фомич. Темно говорите. Я вам о гибели Калугина, а вы о том, что человек сам себя способен наказать больше, чем правосудие. Способен-то, способен… А если не собирается? Как поступать прикажете?
— Приказывать не привык. И вообще наговорил лишнего. Следователю и того не скажу. Но вы… показалось, поймете. Я вам, как человек человеку… поделился. А не поняли, так и к лучшему.
— Как же к лучшему, если убийца не обезврежен?
— Для других он не опасен.
Мазин позволил себе запрещенный ход.
— На такую уверенность имеет право лишь один человек.
Желтые глаза заметались.
— Убийца? Так понимать следует?
Мазин смотрел на сапоги Кушнарева. Они были в свежей, непросохшей глине.
Долго тянулась пауза. Архитектор сложил перед собой руки, переплетя пальцы. Они тяжело лежали, почти такие же темные, как и доски, из которых был сбит стол. Мазин молчал.
— Что вам нужно? Как я понимаю, лицо вы неофициальное, а тем более покойному не друг, даже не знакомый человек, а любопытствуете, опыты ставите. Зачем вам это? Приедет милиция — разберется. Если уж бы так за правосудие выступаете, зачем впереди его бежать? Милиция еще за горами, а вы уж убийцу разоблачили, а?
— Не разоблачил. Как и вы, кажется.
— Я такой цели не ставил. То, что мне известно, дело мое.
— Милиция задаст вам вопросы.
— Факты скрывать не собираюсь, а догадками делиться не обязан.
— Значит, фактов меньше, чем догадок?
Мазин почувствовал, что старик снова ушел в себя, больше того — готовится к контратаке.
— Не знаю, чем обязан вашему настойчивому любопытству. И предположение ваше странное: зачем Михаилу меня бояться?
— Какое ж это предположение, Алексей Фомич? Сами сказали.
— Сам сказал? Ну, знаете…
— А вспомните! Вы заявили, что Калугин испытывал к вам не только чувство благодарности.
Кушнарев развел руками.
— Что из того? Не только… Ишь как повернули! «Заявил»! Ловко! Почему же страх обязательно? Зачем ему было меня страшиться? Кто я такой? Плохо вы представляете положение художника Калугина! Это не дагезанский дачник. Это фигура, можно сказать, союзная. А я?
— Все равно, Алексей Фомич. А, выходит, побаивался.
— Не говорил я, что побаивался.
— Говорили. Десять минут назад, когда я высказал свое предположение, вы, в полном согласии с ним, упомянули, обмолвились, что копнул я глубоко. Хотя н чуть я не копнул, а судил всего лишь по вашим словам и в доказательство признаюсь, что понятия не имею, почему Калугин вас боялся.
— Еще бы вам и понятие иметь!
— Но предположить могу. Наверно, было что-то с Калугиным, о чем вам известно, а другим нет, и не очень ему хотелось об этом других оповещать.
Архитектор хлопнул кулаком по столу:
— Да кто вам право дал на подобные предположения?
— Защищаюсь, — ответил Мазин коротко.
— Что? — не понял Кушнарев.
— Защищаюсь, — повторил Игорь Николаевич. — Если уж вы отвергаете правосудие, то признайте хоть право на самооборону. Мне бы хотелось знать, кто стрелял в меня сегодня.
— Стрелял?.. — протянул Кушнарев недоверчиво. — А вам это не… того, не приснилось?
Мазин приподнял руку.
— Отверстие видите?
— Везучий вы!
— Не всегда так хорошо обходится. Поэтому не хотелось бы искушать судьбу впредь. Мне нужно знать, кто за мной охотится. Раз выстрел оказался неудачным, он может повториться.
Кушнарев задумался. Он уже совсем не походил на пьяного, и Мазин усомнился, а был ли архитектор пьян вообще. Перед ним сидел усталый, запутавшийся, недоверчивый и самолюбивый старик.
— Ничем не могу помочь, — повторил он слова, которые Игорь Николаевич слышал утром, но на этот раз без вызова, вяло.
— Однако вы заявляли, что знаете убийцу Калугина.
— Я совсем другое подразумевал…
— Валерий опять запропастился, — нарушил их разговор вернувшийся Сосновский. — И Марина Викторовна его не видела. А вы, Алексей Фомич?
— Я тоже. — Кушнарев поднялся. — Простите, уважаемый, вынужден вас покинуть. Понимаю ваше состояние, но бессилен, бессилен. — Он покосился на Бориса. — Ждать милицию нужно, а не мудрствовать. На меня не рассчитывайте Я болтун. Наговорю, а все не так. Не так совсем или даже наоборот. Наврежу только. Нет, простите великодушно. Бессилен.
Он поспешно зашагал в свою комнату.
— Кажется, я невпопад? — спросил Борис Михайлович.
— Наоборот. Не хочу ничего «выведывать». Пусть скажет сам.
— Ему есть что сказать?
— Я надеюсь понять то, что он сам до конца не понимает. Со стороны легче заметить детали, которые примелькались тем, кто рассматривает картину постоянно. А он присматривался долго, годами. Однако где же Валерий? После этого выстрела я стал беспокойным. Что делает Марина?
— Марина у себя. Совсем раскисла. Утром выглядела живее. А сейчас, видимо, стало доходить, что произошло. Ведь она девчонка, в сущности, а в такую передрягу угодила. Зайди к ней, а я посмотрю, чем заняты остальные.
По пути в комнату Марины Мазин посмотрел в окно. За ним, прижавшись носом к стеклу, стоял Коля. Игорь Николаевич повернулся и вышел из дому.
— Не прячься, пионер. Считай, что ты прощен.
Получилось удачно. Мальчишка не ожидал полной амнистии.
— Правда?
— Ты думал, что нашей дружбе конец, потому что разболтал про выстрел отцу? Пулю узнал сразу?
— Ага.
— Ага! Прекрасное слово. А зачем бегаешь за мной? В лесу ты ветки ломал, следопыт? Хочешь просить прощения?
— Не виноват я, Игорь Николаевич! Я хотел про пулю сказать, а вы говорите: «Уходи». Я не успел.
— Зря выкручиваешься. Воспользовался обстановкой, чтобы улизнуть, ага?
Коля опустил глаза.
— То-то! Теперь слушай. Работник ты оказался недисциплинированный. Наверно, это у тебя наследственное. Придется, брат, вступить в борьбу с природой. Или возьмешь себя в руки, или отставка. Решай быстро.
— Беру в руки, Игорь Николаевич.
— Предположим. А прощаю я тебя именно за то, что сказал отцу.
На этот раз Коля не понял.
— Пояснить? Думаю, ты предупредил отца потому, что был уверен, что стрелял не он.
Теперь паренек обрадовался открыто.
— Ну да, Игорь Николаевич.
— А если б ты знал, что стрелял он, как бы ты поступил?
Радость сбежала с веснушчатого лица.
— Не знаю…
— Понятно. Наверно, я не должен был задавать тебе этот вопрос. Это сложный вопрос… Значит, был уверен?
— Конечно, не он, Игорь Николаевич! Отец бы не промахнулся. Он знаете как стреляет!
Такого своеобразного аргумента Мазин не ожидал.
— Пуля прошла близко.
Коля замахал энергично.
— Что вы! Вас же ранило в правую руку. Это от сердца далеко.
— Не так уж далеко, Коля. Но не будем спорить. Отец сказал тебе, что он подменил пулю?
— Подменил? — Мальчик покраснел. — Чтоб вы не узнали, что стреляли с карабина, да?
— По-видимому.
— А вы заметили, да? — Коля стоял красный как рак. Видно было, что ему стыдно и за поступок отца, и за то, что он не удался. — Отец же не знал, кто вы, Игорь Николаевич. Он думает, что вы доктор. Я про вас не говорил. Я же слово дал…
— Доктора тоже не лопухи. Значит, отец считает, что провел нас?
— Да ведь отцу страшно, что на него подумают. Ему и так от начальства попадает. А я ему нарочно сказал. Он теперь нам полезен будет. Он этого гада все равно выследит.
— «Нам»? — Мазин засмеялся, а мальчик нахмурился.
— А что тут плохого?
— Под пулю отца подставить можешь, — пояснил Игорь Николаевич, не распространяясь, что сам он далеко не уверен в непричастности егеря. — Меня-то подстрелили.
— Отца не подстрелят, — ответил Коля с обидной для Мазина гордостью.
— Будем надеяться. А ты рассчитываешь получить задание? Тогда иди в дом и посиди за столом. Подожди меня. Можешь смотреть по сторонам. Пока все.
Игорь Николаевич вытянул руку. На ладонь упали две снежинки, маленькие, четкие, как на рисунке в школьном учебнике.
Мазин отворил дверь и удивился неожиданной картине. Гор не было. То есть они никуда не делись, конечно, но тучи, плотно укутавшие ущелье, оставляли для просмотра не больше двух сотен метров, и в этом ограниченном непроницаемым туманом пространстве часть Дагезана, видимая с порога калугинского дома, казалась не заоблачным экзотическим поселком, а простенькой подмосковной деревушкой с соснами на косогоре, серыми избами и меланхоличным мычаньем проснувшегося теленка. Игорь Николаевич уловил в сыром воздухе сладковатый запах парного молока.
Телячий голос доносился справа, а впереди тропка вела к домику Демьяныча, старому, покосившемуся, купленному пасечником у давно покинувших поселок хозяев. Мазин пошел по тропинке, наступая на прошлогоднее сено, разбросанное в особенно вытоптанных местах. Мокрая трава чавкала под ногами. Клочья тумана плавали так низко, что хотелось раздвигать их руками, как занавески.
Демьяныч стоял у забора в соломенной не по погоде шляпе. Спросил заинтересованно, но без излишнего любопытства:
— Как ночь прошла, Игорь Николаевич?
— Скажу, все скажу, — пообещал Мазин, понимая, что старику не терпится узнать, что же произошло на даче. — Устал я…
— Зайдите, Игорь Николаевич. Живу я, правда, запущенно. Так сказать, жилище человека одинокого.
В тесноватой избе пасечника в самом деле не чувствовалось заботы об уюте. Даже большая печь не была побелена и выделялась густыми коричневыми пятнами глины, как загрунтованная малолитражка, покалеченная в дорожной катастрофе.
— Ежели пожелаете, угощу чайком с такой травкой отменной, что усталость как рукой снимет.
— Не откажусь. — Мазин присел к столу, покрытому голубенькой, в цветочках клеенкой.
— Сию секунду.
Демьяныч отворил дверцу настенного шкафчика, на которой была приклеена вырезанная из журнала фотография улыбающегося космонавта Поповича, достал две пачки с чаем, ловко смешал в заварном чайнике и поставил на раскаленную плиту.
— Настояться требуется, — пояснил он. — Раздевайтесь пока. У меня не замерзнете. Сам стынуть не люблю.
Теплая крестьянская изба и основательный старик, такой далекий от невероятной реальности щегольской дачи с гаражом и мансардой, где лежит труп человека, прожившего жизнь в столичной суете, действовали успокаивающе. Не хотелось уходить, разыскивать подо зрительного невропата Валерия, выуживать по крохам детали истины, восстанавливая мрачные обстоятельства человеческой смерти. Хотелось спокойно прихлебывать вкусный чай и толковать о повадках пчел.
Однако Демьяныча интересовало другое.
— Борис Михалыч — человек проницательный и ловушку расставил умело.
— Нас перехитрили. Кто-то пробрался в мастерскую, когда мы звонили с почты, ударил Калугина ножом и скрылся.
— Скрылся? Удивительно, как и многое в жизни…
Простой этот и даже риторический вопрос поставил Мазина в тупик. При всем желании он не мог ответить на него утвердительно, потому что здравый смысл, логика доказывали, что скрыться невозможно и преступник по-прежнему здесь, рядом. Между тем никто из тех, кого видел до сих пор Мазин, не казался ему убийцей.
— Вы, Демьяныч, философ, оказывается.
— Стараюсь смысл понять…
— Жизни? Трудное дело. Или постигли?
— Много беспощадного вижу.
— Опечалены?
— Не скажу. В этом мудрость.
— В жестокости?
— Нет, в беспощадности. Это разное. Волка убить мудро. А зачем? Чтобы овцу не тронул. Так природа распорядилась. Овцу нам. А мы многое сделать можем. Даже на Луну слетать. Поэтому овцу нам, а не глупому волку.
— Волк не заслужил, выходит?
Ставший было серьезным и даже утративший от этого что-то свое, добродушное, пасечник снова заулыбался.
— Не заслужил, Игорь Николаевич, не заслужил. Сер больно.
Он налил ароматный чай в граненый стакан и поставил на стол блюдечко с медом.
— Вам, наверно, немало пришлось повидать в жизни?
— Что положено, повидал.
— Вы верующий, Демьяныч?
— В бога не верю. Верю в диалектический закон, он нашу участь определяет.
— И участь Калугина?
— И его тоже, — ответил пасечник твердо. — Значит, суждено ему было.
— Закон законом, а на курок-то пальцем нажали.
— Ну, если по-житейски, то человек убил, конечно. Как полагаете, найдет его Борис Михайлович?
— Ему есть над чем подумать. Убийца оставил нож.
— Нож бросил? Спугнули, значит? Улику потерял.
— Или решил бросить тень. Хозяин-то ножа известен.
— Кто ж именно?
— Олег.
— Олег? — Лицо пасечника вытянулось.
— Удивлены?
— Уж больно не похож.
— Не похож. Скорее, ножом кто-то воспользовался. Брал его Валерий, но вернул. Мог и другой взять.
— Скажите какая история! — Демьяныч покачал головой. — Любопытно, почему смерти его домогались? Не месть ли?
— Мне трудно судить.
— Мудреное дело, мудреное. В Москве небось некролог дадут…
Пасечник поднял свое блюдце и пил, держа его в растопыренных пальцах. Вдруг он наклонился через стол.
— А что вы насчет ревности думаете?
— Вам что-нибудь известно, Демьяныч?
— Неопределенно, Игорь Николаевич. Борис Михалычу я бы говорить не стал, потому законник он, в строгих фактах нуждается. Ну, а вы человек вольный, доктор, если не запамятовал… — поглядел пасечник будто с сомнением, и Мазину, в который уже раз испытывая неприятнейшее чувство, пришлось подтвердить, что он доктор.
— Вот, вот… Живые люди мы с вами, сидим, размышляем между собой, и разговор у нас частный, для души, а не для закона. Люблю я, грешный человек, полюбопытствовать, как другие люди на земле существуют. Не все живут одинаково, Игорь Николаевич. Даже у нас, не говоря уж про буржуазный мир. Судьба-то, фортуна свое дело знает, не всем сестрицам одинаковые серьги достаются. Кому и ожерелье перепадет, а другому колечка обручального, глядишь, не хватило. Вот Михаил Михалыч, покойник… Широко судьба вела его, веточки над головой раздвигала, чтоб не поцарапался. Но достоин, ничего не скажешь. Народный талант.
«Однако старик болтун», — заметил Мазин, хорошо знакомый с категорией неглупых и повидавших на своем веку простых людей, но склонных к старости преувеличивать свой жизненный опыт.
— К чему ж вы пришли, наблюдая Калугина?
— Да так… Сплетня сплошная. Скажите, Игорь Николаевич, положа руку на сердце, была ли у него необходимость с молодой супругой свою жизнь связывать? — доверительно спросил Демьяныч.
— Он и сам не старик.
— Все ж Марина Викторовна на пару десяточков лет помоложе. А что двадцать лет в наше время значит? Другой человек — вот что. Он на фронте сражался, а она про Отечественную войну в школе услыхала. Он черный кусок ценил, а она черный хлеб ест, чтобы фигуру не попортить.
— В жизни такие грани часто стираются.
— Может, и стираются, а молодое к молодому тянет.
— Скажите проще, Демьяныч.
— Не решился б никогда, если б не случай ужасный. Но ежели пообещаете, что Бориса Михалыча вы этой сплетней не смутите…
— Смущать не буду, — пообещал Мазин.
— Если так… Еду я, значит, раз на пасеку. На переезде с моста спустился ишака напоить. Умнейшее животное, между прочим. И душевное. Зря оклеветанное. Однако отклонился, потому что животных люблю. Смотрю, значит, Марина Викторовна с чумным этим парнем, Валерием. Верхом оба, и меня им не видно. Ну, он на мосту близко к ней ехал, нагнулся и поцеловал… Мне неловко стало. Отвернулся, помню. Вот и все… Ой, минутку! Дровец в печь подброшу.
Пасечник вскочил и наклонился над плитой.
— Чего не бывает, — произнес Игорь Николаевич неопределенно и, помешав ложечкой в пустом стакане, поднялся.
— Благодарю за угощение.
— Но уговор наш…
— Уговор дороже денег.
И снова он прошел по мокрой дорожке и по ломкому прошлогоднему сену мимо блестевших дождевыми каплями сосен.
— Куда ты пропал? — выскочил из тумана Сосновский.
— Чай пил.
— Чай! Валерий исчез! В его спальне даже постель не разобрана. Он не ночевал дома.
— Превосходно. Кажется, Валерий Калугин единственный, кого можно не подозревать.
— Нашел алиби?
— Напротив. Все говорит не в его пользу.
Они стояли под развесистой елкой. Сосновский в раздражении взмахнул рукой и зацепил ветку. Вода полилась на головы.
— Сил у меня нет общаться с гением! Я обыкновенный кандидат наук и считаю, что в нашей ситуации твои псевдооригинальные, высокомерные и бесплодные парадоксы совершенно неуместны!
Мазин развел руками.
— Я пытаюсь найти путь — и только.
— И отвергаешь очевидное? Валерий, именно Валерий мог войти в мастерскую, не вызвав подозрений, и выстрелить, дождавшись удара грома. Конечно, патология убийства пугает, вызывает сомнение, но сын-то он не родной, как оказалось!
— Погоди. Убил, но не убедился в смерти?
— Что здесь удивительного? Ты же поклонник Достоевского. Помнишь Раскольникова? Преступник в момент преступления подвергается упадку воли и рассудка. Именно в ют момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность… Я почти цитирую. Ведь Валерий психологически, такой же тип. Чего стоил ему этот выстрел! Представляешь? Но он выстрелил, и тут же пришел упадок воли и рассудка. Ему стало невмоготу слушать пульс или сердцебиение. Он спешил уйти, сбежать. И вдруг он узнает, что отчим жив. Его охватывает шок. Он в панике. Страх гонит его наверх. Как часто бывает, преступнику везет. В руках у него чужой нож…
— Погоди. Олег помнит, что Валерий нож вернул И его не было в гостиной, когда ты сказал, что Калугин жив.
— Олег мог и спутать. А мои слова были прекрасно слышны и в его комнате. Наконец, ему могла сказать Марина.
— Между прочим, Валерий и в самом деле был к ней неравнодушен.
— Отлично!
Мазин поскучнел. Такое он наблюдал не раз: простительную, в сущности, радость при виде легкого хода. Он и сам грешил ею в свое время. В умозаключении Бориса были логика и система, но согласиться с ними Игорь Николаевич не мог. Почему? Слишком просто? Что из того? Многие убийцы вряд ли строго нормальны, они поступают противоестественно, идут на неоправданный риск, не считаются с реальностью. Отсюда неизбежные просчеты, ошибки. Зачем же усложнять?
— Борис! Твоя версия не хуже других. А других у нас вообще нет. Но я в нее пока не поверил. Возможно, от неосознанного высокомерия, в котором ты меня упрекнул, а скорее от усталости Поэтому предлагаю разделиться. Ты идешь своим курсом, а я еще подумаю. Если придумаю, узнаешь немедленно.
— Зря выкаблучиваешься, Игорь. Но дело хозяйское. Вольному — воля.
Мазин почувствовал облегчение. «Если дело так просто, в нем разберутся и без меня, если же оно очень сложно, то и я не ясновидец». И утешенный этим софизмом, он оставил Бориса и спустился к речке, подмывавшей склоны быстрой, желтой дождевой водой. Вода захлестнула валуны, вчера еще видные посреди извилистого русла, и мчалась победоносно и весело, легко одолевая каменные преграды. Поток гипнотизировал, от него было трудно оторвать глаз.
— Правда, хорошо?
На скале, у самой воды, сидела Галина, натянув юбку на колени, защищаясь от холодных брызг.
— Правда. Мне не часто приходится видеть такое.
— А я здесь выросла. Меня многие дурой считают, что в глуши живу. — Она наклонилась и вытащила из воды прибившуюся к камню сосновую ветку. — Видите, сколько домов пустых? Летом еще люди приезжают, а зимой никого. А зимой, знаете, красота какая! Когда снег везде. Не налюбуешься. — Она вдруг засмеялась с горечью — Только вот замуж выйти не за кого. Да и вообще ничего не происходит.
— Ничего не происходит? Вчера мне показалось, наоборот.
— Это вы про Михаила Михайловича? Как он там? Я никого не видела. Встала пораньше, домой собралась, да мост смыло. Сижу, жду у моря погоды.
— Калугина убили, Галя.
— Не может быть!
Мазин рассказал, что знал. Учительница слушала, широко раскрыв темные, узковато прорезанные глаза.
— Вы рано заснули?
— Нет. Олег зашел.
— Олег — парень интересный.
— Что из того?
— Как все учителя, вы женщина строгая.
— Учителя тоже разные. Да не о том речь шла… А вы странный. Спокойный очень. Доверие вызываете. Вас больные уважают, наверно?
— Больные? Я не врач, Галочка. Я работаю в уголовном розыске.
Мазин забрался на камень и присел рядом. Она посторонилась.
— Допросить решили?
— Что вы. Поухаживать Правда, я лет на пятнадцать старше Олега, но иногда женщинам нравятся солидные мужчины.
— Скажите еще, что вы не женаты. — Галина рассмеялась, но тут же спохватилась: — У людей горе какое, а мы глупости болтаем. Насчет уголовного розыска у вас получилось неудачно.
— Жаль. Я хотел расспросить об Олеге.
— Он ужасно скучный. Не похож на журналиста. Все о тропе на Красную речку толковал. Показать просил.
— Вы согласились?
— По такой погоде? Там и в хороший день шею сломать можно. Прямо помешался на своем самолете.
— Он собирается написать о нем в газете.
— Пусть пишет на здоровье. Чувствовалось, что самолюбие Галины уязвлено.
— Дорогу может показать Филипенко.
— Матвей отказался.
— Почему?
— Я знаю? Он всегда делает, что в голову придет. Живет сам себе хозяин. Начальство-то за перевалом. Зверя бьет, когда нужно и когда не нужно. Тут, конечно, без охоты не проживешь, да ведь разум требуется! И человеком быть нужно. В прошлом году пришел с гор, напился и куражится: «Я, Галина, трех туров подвалил». — «Где? — говорю. — Зачем?» Оказывается, вышел к ущелью, а туры по ту сторону, на склоне. Ну, он бах-бах… Стреляет-то без промаха. Всех трех и убил. «Скотина ты, — говорю, — Матвей. Зачем животных истребил? Ты ж их охранять поставлен!» — «Верно, Галка, — отвечает. — Потому и напился. А удержаться не смог. Душа загорелась. Смотрю — стоят на скалах. Пока сообразил, а карабин сам палит…»
— Карабин?
— Думаете, Матвей в горы с ружьишком ходит? Ружье для инспекции. У него в лесу винтовка в тайнике и патронов куча. Здесь немцы к перевалу рвались, так на леднике до сих пор оружие найти можно. Чего хорошего, а стрелять у нас любят.
— И вы стреляете?
— Еще как! Однажды Матвея проучила. Расхвастался: «Вот я стрелок, а ты с десяти шагов в корову не попадешь!» Я ему и говорю: «Бросай фуражку!» Он подбросил, от нее один козырек остался. Посмотрели бы вы на его рожу!
Галина поднялась, придерживая вздувшуюся колоколом юбку.
— Нужно все ж повидать Олега. А то его одного понесет!
«Симпатичная девушка. Подозревать ее нелепо».
Мазин спустился со скалы и пошел вдоль речки, поглядывая на густо замешанную глиной неспокойную воду. «Интересно, что предпринял Борька? И сумел ли Матвей переправиться?» Как бы уточняя эту мысль, он посмотрел на гладкий, устойчивый с виду валун.
— Дяденька! На тот камень не вставайте. Подмыло его.
Игорь Николаевич увидел низкорослого паренька, одетого в длинную, с отцовского плеча стеганку и фуражку с золочеными листиками — эмблемой, сползавшую на уши.
— Почему ты решил, что я полезу на камень?
— Да вы ж на него смотрите и ногой примерялись. «Нужно быть очень наблюдательным, чтобы заметить непроизвольное движение!»
— Спасибо, друг. Как тебя звать-то?
— Коля.
— Николай Матвеевич?
Угадать было нетрудно. Щуплый паренек как две капли воды походил на Филипенко.
— Сколько ж тебе лет, Николай Матвеевич?
— Четырнадцать.
— Ого! Комсомолец уже?
Мальчику трудно было дать больше двенадцати. И не только по фигуре. Глаза у Коли были детские, не похожие на глаза тех преждевременно созревших городских подростков, с которыми Мазину приходилось иметь дело по службе.
— Не, пионер еще. А вас как зовут?
— Меня, Коля, зовут Игорь Николаевич. Ты здесь форель ловишь?
Паренек улыбнулся городской наивности.
— Форель под плотиной клюет… А это правда, Игорь Николаевич, что дядю Мишу убили?
— Правда.
— Вот жалко. Он здесь самый лучший был.
— Самый лучший? Почему? Он рисовал тебя?
— Не… Хотел нарисовать, но я неусидчивый. Не вышло. Зато мы с ним на охоту ходили. Дядя Миша, правда, ничего никогда не убьет. И стрелять не любил. Ходить любил, рассказывать. Про войну, как он воевал. Про Москву, про художников знаменитых. Сурикова он очень любил. Знаете «Переход Суворова через Альпы»?
— Знаю.
— Обещал меня в Москву, в Третьяковскую галерею повезти. Мы с ним часто ходили. Особенно на Красную речку.
«Там нашли самолет».
— Почему на Красную? Это красивое место?
— У нас везде красиво. Речка из озера водопадом пробивается. Напротив красных скал. Потому и речку Красная называют. А вообще-то она не красная, обыкновенная. А на гору ни за что не взойти. Озеро знаете только как увидеть можно?
— Нет, — ответил Мазин, с удовольствием слушая симпатичного паренька.
— Нужно на Лысую подняться. Она выше озера. С нее в бинокль озеро здорово видно! Там, где лед протаял, синие-синие пятна. У дяди Миши бинокль был двенадцатикратный. Заберемся мы на Лысую, и он сидит, смотрит долго-долго.
— А самолет Михаил Михайлович не видел?
— Не… Никто не видел. Отец первый. Когда лавина пропасть засыпала.
«Зачем этот вопрос? Чем мой путь лучше Борисова? Он стремится к упрощению, я усложняю. Но где все-таки Валерий?»
— Ты, Коля, не встречал сегодня Валерия Калугина?
— Не.
— А с ним вы в горы ходили?
— С Валерием? — спросил мальчик, не скрывая пренебрежения. — Куда ему! Ленивый он. Шашлыки любит. Купит мяса и зажаривает на полянке, — засмеялся Коля; и видно было, что покупка мяса с его, сына охотника, точки зрения — вещь нелепейшая. Мазин улыбнулся.
— По горам, выходит, не ходок? Куда ж он сегодня девался?
— Да спит, наверно, в хижине.
— Где?
— В хижине. Тут рядом с колхозной пасекой домик ничейный. Его как дядя Миша отругает, он — туда, валяется на кровати.
— Проводишь меня к домику?
— Пойдемте, — охотно согласился мальчик и сразу зашагал вперед, ловко выбирая камни поровнее и посуше.
Они обогнули калугинский дом стороной и вошли в полутемный лес. Все вокруг насквозь промокло. Холодные и тяжелые капли непрерывно скатывались с поникших веток. Особенно неприятно стало идти, когда каменистую тропу сменила расквашенная глина.
— Далеко еще, Николай?
— Вот, Игорь Николаевич!
Посреди просторной поляны зеленело застарелой тиной неглубокое озерцо. Посреди него плавала дверь с привинченной ржавой ручкой, никому в этих щедрых лесом местах не нужная, а за озерцом Мазин увидел похожий на другие домик под тесовой крышей. Над крышей поднималась струйка сизоватого неуверенного дыма.
Мазин пошел впереди мальчика. Ему хотелось заглянуть сначала в окно, но ближнее окно оказалось закрытым, и он остановился перед неплотно притворенной дверью, поймав себя на том, что ждет чего-то неожиданного. Дверь отворялась наружу. Игорь Николаевич потянул ее и остановился на пороге. На раскладушке, покрытой расстегнутым спальным мешком, лежал Валерий, уткнувшись лицом в подушку. Мазин схватил его за плечо.
Валерий повернулся и сел на койке, уставившись на непрошеных гостей недовольным взглядом.
— Что вам нужно?
— Простите. Мне показалось, что вам нехорошо. Ваша поза…
— Моя поза никого не касается. Зачем вы пришли?
— Возможно, вы не знаете…
— Все знаю.
Валерий говорил зло, грубо.
— Почему же вы здесь?
— А ваше какое дело?
Мазин подавил нарастающую неприязнь к художнику.
— Если у вас все в порядке, не буду мешать…
— Убирайтесь!
— Вы негостеприимны, — сдержался Мазин.
— Не хочу разделить участь отца. — Он вдруг вскочил и схватил ружье, стоявшее у стенки. — Убирайтесь отсюда, слышите! А то я всажу вам дроби в брюхо.
Игорь Николаевич шагнул вперед и сделал быстрое движение. Валерий отлетел на раскладушку, а ружье стукнулось об пол. Мазин поднял его и вышвырнул патрон. Валерии ошеломленно наблюдал за ним с кепки.
— Извините, — сказал он наконец и спаясничал совсем по-вчерашнему: — Так уж получилось, мы не виноваты.
— Кто вам сказал о смерти отца?
— Ну, Марина сказала.
— Когда?
— Сразу же после того, как ваш друг затеял свой идиотский эксперимент. Спустилась вниз и сказала. Нужно ж ей было с кем-то поделиться. Она-то не прокурор. У нее нервы есть.
— У Бориса Михайловича тоже. И он не прокурор, как вам известно. Он делает все, чтобы разоблачить убийцу вашего отца. Разве вы не знаете, чем кончился «идиотский эксперимент»?
— По вашей физиономии вижу, что никого вы не поймали.
— Вы отличный физиономист. Однако Калугина пытались убить еще раз тем самым ножом, которым вы открывали бутылки.
— Нож я брал у Олега. Да что вы плетете! Это же провокация!
— Вы возвратили нож?
— Черт его знает! Наверно. Зачем он мне нужен? Оставьте меня в покое. И не воображайте себя Эркюлем Пуаро. Тут и милиция зубы сломает, будьте уверены. Не по зубам орешек. Не сумочку вытащили.
— Вы говорите так, будто имеете определенные предположения.
— Никаких предположений! — выкрикнул художник и снова сменил тон. — Вам-то зачем это, доктор? Это нас касается, меня. Не ввязывайтесь вы не в свое дело. Отдыхайте лучше. Не нравится в поселке, располагайтесь здесь. Когда солнце появится, вы оцените. Вид божественный! — закончил он вполне доброжелательно.
— Спасибо, — ответил Мазин, присматриваясь к Валерию.
— Отдыхайте! А я пойду. Хорошо, что вы меня разбудили.
«Чумной парень», — вспомнил Игорь Николаевич слова пасечника. «Он нервничает и переживает. Это попятно. Но что у него на уме? Что значит, «это нас касается, меня»? Илиничего Fie значит?»
Мазин посмотрел в окно и снова увидел зеленую лужу с плавающей дверью и густой туман, скрывший горные склоны.
— Вы его обязательно найдете, Игорь Николаевич, — сказал Коля.
— Кого?
— Кто убил. Я догадался.
— О чем же ты догадался?
— Да как вы у Валерия ружье вышибли, я и догадался, что это вы.
— Кто ж я, по-твоему?
— Мы с дядей Борей на лису ходили, — заговорил Коля быстро, спеша объяснить, о чем он догадался, — и дядя Боря меня похвалил. Говорит: «Ты следопыт настоящий, тебе бы в уголовном розыске работать». А я спросил: «А вы сами много преступников поймали?» А он говорит: «Я — мало, но у меня друг есть, он особенно опасных ловит». Я тогда еще подумал: вот бы на вас посмотреть! А как вы приехали, я все думал: вы это или не вы? Ну, а как вы ружье выбили, понял — точно.
— Разоблачил ты меня, однако.
— Игорь Николаевич, а вы специально приехали? Вы знали, что убийство готовится?
— Нет, сынок. Я отдыхать приехал.
— А можно я вам помогать буду? Я никому не скажу, кто вы, честное пионерское!
Он не успел ответить, когда, почти слившись, раздались три звука. Потом уже Мазин восстановил их последовательность. Вначале же он услыхал только звон разбитого стекла в окне. Но на секунду ему предшествовал выстрел, и тут же что-то глухо шлепнулось о стол.
Мазин инстинктивно, еще не осознав саднящую боль под мышкой, пригнул Колю к полу. Другая рука его потянулась за ружьем. Потом он выглянул в окно. Сквозь разбитое стекло тянуло свежим, сырым воздухом. Вокруг было спокойно и тихо. Стреляли из ближних кустов, только оттуда можно было рассмотреть в тумане силуэт в окне. Там скрывался стрелявший. Что он намерен делать? Придет в хижину? Поспешит в лес? Или будет ждать, пока кто-нибудь выйдет на поляну?
Спугнутая выстрелом, снова закричала в чаще какая-то незнакомая птица. Мазин стянул плащ. В рукаве было отверстие. Но болело не сильно. Видимо, заряд задел только кожу. Рубашка впитала кровь и неприятно липла к телу.
— Ранили вас, да? — спросил Коля шепотом.
— Немножко.
Игорь Николаевич продолжал наблюдать за лесом. Похоже, стрелок решил выждать или скрылся. Мазин приподнял и опустил раненую руку. Царапина, к счастью, не особенно досаждала.
— Коля, сядь к стенке ниже окна и жди меня.
Он осторожно отворил дверь. Осмотрелся, перебежал и укрылся за ближайшим деревом. Редкий лес просматривался на значительное расстояние, но стрелять было трудно, деревья перекрывали прямые линии. От дерева к дереву он продвигался по направлению к кустам, осматриваясь при каждой остановке. Вот и заросли орешника. На ветках галдели птицы. Мазин сделал последний бросок, готовый немедленно ответить выстрелом на выстрел, и очутился на каменистой площадке среди кустов. Площадка была пуста.
Мазин нагнулся и подобрал желтоватую теплую гильзу. Из отверстия тянуло порохом. Это была небольшая гильза с характерным желобком от немецкого боевого карабина военных лет. Видимо, стрелявший спешил, раз не нашел ее на земле. Куда же он мог уйти? Каменистая площадка была частью тропы, ведущей в горы. Преследовать стрелка дальше было бессмысленно. Он мог укрыться за любым камнем и встретить выстрелом в упор. Мазин вышел из кустарника и направился к домику, не выпуская ружья из рук. Коли в комнате не было.
— Николай! — позвал Мазин.
— Здесь я, Игорь Николаевич, — появился паренек.
— Зачем выходил?
Дожидаясь ответа, Мазин достал перочинный нож и ковырнул доску стола.
Коля молчал, не спуская глаз с лезвия.
— В нашем деле, Николай, главное — дисциплина. Ты нарушил приказ, и я больше не могу тебе доверять. Отправляйся домой!
Это прозвучало жестко, но не мог же он сказать: пуля, которую я извлекаю, могла попасть в тебя! Мазин ожидал возражений, заверений, что мальчуган не станет больше своевольничать, однако Коля глянул на пулю, насупился и молча пошел из комнаты.
«Пусть лучше обижается. Рисковать им я не имею нрава».
В рукаве стало липко. Кровь, сочившаяся из ранки, добралась до локтя. Игорь Николаевич скинул пиджак и рубашку и подошел к ведру с водой, что стояло на табурете за дверью. Он опустил туда кружку, когда за стеной послышались шаги.
«Вернулся!»
Мазин схватил ружье и стал в простенке. Человек за дверью остановился, не решаясь войти. Последовала длительная пауза. Было очень тихо. Только птицы в зарослях никак не могли угомониться. Потом дверь скрипнула. Человек на пороге, одетый в дождевик с поднятым капюшоном, осмотрел помещение, никого не увидел и сделал шаг вперед. В тот же миг ствол ружья уткнулся ему в бок.
— Игорь?! — только и смог произнести Сосновский, увидев окровавленного Мазина с двустволкой в руках. — Что с тобой?
Мазин взял со стола и молча протянул ему пулю.
— Не могу представить, что тебя могли убить. — Сосновский смотрел на разбитое стекло.
— Было бы забавно. «Подстрелен аки заяц на третий день отпуска, избежавши в свое время многий опасности». Хороша эпитафия?
Игорь Николаевич промыл рану левой рукой.
— Ты еще шутишь! Как ты попал сюда?
— В поисках Валерия. Он был здесь. Мне не понравилось его настроение. Крутится у него в голове нечто тревожное и небезопасное. Но к откровенности не склонен. Однако что за идиот вздумал сводить счеты со мной?
— Кто-то разгадал нашу хитрость, сообразил, что ты опасен.
— Возможно… Хотя никому я пока не опасен. Повидав всех этих людей, я заключил: среди них нет убийцы. И ошибся. Он есть. Значит, все мои предпосылки, или большая часть их, оказались ложными. Придется засучить рукава. Видишь, какой энтузиазм?
— Что значит личная заинтересованность! — съехидничал Борис.
— Да, кровь взывает к мести. Стяни-ка мне руку носовым платком. Между прочим, что скажешь о пуле? Говорят, у Филипенко есть винтовка.
— Матвей ушел в район.
— Проверить, где он находится сейчас, невозможно.
— Если Филипенко придет в милицию в середине дня — значит, он в дороге. Придется уточнить время его появления в райцентре.
Но уточнять не пришлось. Егерь собственной персоной шел по тропинке вдоль озера.
— Легок на помин. Послушаем, что скажет.
— Что тут стряслось у вас? — спросил Матвей сразу.
— Стряслось кое-что. А ты почему здесь?
— Пихту подмыло Вода идет невиданно. В брод пойдешь-снесет как щепку. Вернулся я, значит, а Николай так и так говорит. Выходит, стреляли в вас, Игорь Николаевич?
— Было дело. Но не повезло стрелку. Пулю мне на память оставил и скрылся. Говорил тебе Николай про нулю?
— Сказал.
Мазин перешел на «ты».
— Хочешь взглянуть?
— Позвольте, если можно.
Он положил пулю в большую, корявую ладонь Матвея. Ему показалось, что пальцы егеря дрогнули. Пуля исчезла в ладони, Филипенко сжал кулак. Потом посмотрел, но бегло и опустил руку.
— Знакомая? — спросил Игорь Николаевич с умеренным любопытством.
— Да нет… Так с одного раза не поймешь. Поглядеть бы, сравнить… Можно?
— Хочешь оставить пулю у себя? Пожалуйста. Не возражаешь, Борис Михайлович? — Он встретился взглядом с Сосновским.
Филипенко быстрее, чем следовало, сунул руку в карман, однако Борис категорически повел головой.
— Ни в коем случае! Пуля — важнейшее вещественное доказательство. Давай-ка ее сюда, Матвей!
— Дело ваше. Я как лучше хотел, посодействовать.
Егерь протянул пулю Сосновскому. Тот положил ее в спичечную коробку. Мазин смотрел по-прежнему спокойно и доброжелательно.
— Пуля потребуется милиции.
— Дело ваше, — повторил Матвей. — Завтра с утра попытаю еще переправиться. А сегодня без толку. Сильно бежит, зараза. Про стрельбу, как я понимаю, лучше помалкивать?
— Лучше.
Он потоптался, оставляя па полу следы грязных кирзовых сапог.
— Покудова, значит.
Мазин повернулся к Борису. Сосновский смотрел оживленно.
— Не перегнул, Игорь? Ты явно дал понять, что подозреваешь его.
— Все на месте. Судя по реакции, Матвей Филипенко — человек эмоциональный, горячий, как говорится, жестокий иногда, по вспышке, но не хитрец. Не его это стихия.
— Еще бы! Хорошо, что пуля осталась у нас.
— «У нас»? Ошибаешься. Пуля, что лежит в твоей коробочке, даже не похожа на ту, что продырявила мой плащ. Новый плащ, между прочим. Уверен, это не немецкая пуля.
Сосновский открыл коробок.
— Ты прав. Пуля от старой трехлинейки. А твоя?..
— На дне пруда скорее всего. Матвей не так глуп и не настолько сентиментален, чтобы хранить ее как сувенир.
— И ты позволил ему спокойненько провести эту операцию?
— Спокойненько? Ну нет. Нервничал он наглядно. Сам видел. Вывод? Стреляли из Матвеева карабина. Помимо того, что пуля немецкая, на ней была личная метка. Наверно, такие значки нарезаны на всех его пулях. Охотничье тщеславие. Пулю узнал Николай и поспешил к отцу. Но ни он, ни Матвей не знают, что мне известно о карабине. Правда, парень догадался, что я не доктор.
— Колька?
— Представь! Очень наблюдательный мальчишка. Но сказал ли он отцу, кто я, не уверен. Почему? Неизвестно, как он относится к выстрелу, уверен ли в участии отца… Да и слово дал пионерское. Но это мы выясним. А пока Матвей узнает, что я жив и пуля у меня. Не считаясь с риском, с этакой простодушной одержимостью он пытается заполучить ее.
— Пошел напролом.
— Напролом. Значит, приспичило. Сейчас он доволен, уверен, что лишил нас доказательств. Но это чистый самообман. И недостаток информации. Он не знал, что я нашел и гильзу. Иначе Матвей подменил бы пулю немецкой, только без метки. Так что пол-очка мы отыграли. Теперь понаблюдаем.
Сосновский провел рукой по шевелюре.
— Пли он за нами. Из-за куста, с карабином.
— Что поделаешь. Такая работа, как говорит один мой друг. Вина Матвея пока не доказана.
— Да, наши доказательства относятся к карабину, а не к его хозяину. Самого Матвея они косвенно даже обеляют. Глупо на его месте стрелять меченой пулей, непростительно бросать гильзу. Но, с другой стороны, человек недалекий и вспыльчивый сначала делает, потом соображает. Убив тебя, он мог бы извлечь пулю.
Мазин невольно провел рукой по телу.
— Знаешь, Борис, твои слова по-новому освещают этот хаос. Из чего мы исходили? Убийство Калугина — продуманное, подготовленное, дело рук человека хладнокровного, расчетливого. Так? А если наоборот? Погас свет. Кто мог это ожидать и предвидеть? Грозу тоже не запланируешь. Все произошло не по заказу. А убийца поднимается и, несмотря на огромный риск, расправляется с Калугиным за считанные минуты. Гениальный расчет? Или дураку счастье? Решительность у этого егеря, во всяком случае, феноменальная. Когда он узнал, что его могут заподозрить (про карабин-то всему поселку известно!), он явился и сделал то, что задумал, без колебаний. И если у него вчера была не менее веская причина… Особенно если она возникла внезапно…
— Откуда? Перед нашим приходом шел обычный разговор. Никакого скандала, крутого столкновения мнений, вспышек гнева.
— Могла быть и неприметная вспышка. Вспышка страха. Страх толкает на авантюры не меньше, чем гнев. Особенно панический. Или страх, замешанный на скрытой ненависти. Какая-то комбинация сильных, требующих немедленных действий чувств. Я отталкиваюсь от Филипенко, но речь может идти о любом. И о женщине.
— Любое обострение не останется незаметным в маленькой группе людей.
— Разве мы осознаем все, что замечаем? Особенно когда это нас непосредственно не касается. Сколько раз мы проходим мимо назревающих конфликтов! Дома, на службе, в коллективе. Что-то заметил и тут же позабыл, потому что показалось несущественным, незначительным. А здешний конфликт был наверняка не на поверхности, его не афишировали, скорее скрывали. Однако что-то просачивалось, не бросалось в глаза, но не оставить следов не могло. И свидетели остались. Извлечь истину по капле — вот что нужно. Филипенко- один из вариантов, не больше. Главное — обстановка. Толчок к убийству был дан накануне того, как погас свет. Толчок непосредственный. Потому что общее стремление вызревало исподволь. Но толчок был, хотя и остался незамеченным. Чтобы ощутить его, нужно восстановить, о чем говорилось за столом, что предшествовало выстрелу.
— Представь, эта мысль уже приходила мне в голову. Я поговорил с Мариной и Галочкой.
— Женщины прежде всего?
— Не иронизируй. Вряд ли женщины причастны к убийству Калугина и наверняка не стреляли в тебя.
— Надеюсь. Кроме того, они умеют запоминать мелочи. Итак, разговор за столом.
Борис развел руками.
— Признаюсь, я пытался подкрепить свою версию, найти что-то связанное с Валерием. Однако ничего нового не обнаружил. Они с отцом даже не цапались по обыкновению.
— У них был крупный разговор накануне.
— Был. Но он не походил на скандал. А о чем шла речь, я не понял и не интересовался, естественно. Они прекратили его, как только я появился. Всегдашней запальчивости в Валерии не было. И за столом он молчал. Возможно, был подавлен. Однако это домысел, не больше. Скорее его не интересовала общая беседа.
— О чем же говорилось?
— Филипенко рассказывал о сбитом самолете.
— Опять самолет?
— Ну, это понятно. Местная новость номер один плюс охотничьи фантазии.
— Что за фантазии?
— Матвей обнаружил останки летчика в стороне от машины.
— Выбросило взрывом?
— И я так думаю, но Матвей нагнал туману, утверждая, что скелет совершенно цел и сохранившаяся одежда не обгорела. Получается, что человек выбрался живым из разбившейся вдребезги машины, отошел спокойненько на травку, прилег и умер. Типичная охотничья байка. А главное — связи-то с нашим убийством никакой!
— Во всяком случае, уловить ее трудно. Зато есть связь с приездом в поселок Олега. Мне почему-то кажется, что он искал самолет не только как журналист. В его настойчивости заметно что-то личное. Но почти невероятно, чтобы эта зависимость могла привести к смерти Калугина. А что говорили другие?
— Высказывались по-разному, но общее мнение сводилось к одному: узнать фамилию летчика и сообщить близким.
— Ничего криминального. Естественно.
— Банально. Еще говорили о том, что найти семьи будет трудно. Олег якобы сказал: «Это я беру на себя». Калугин поинтересовался, каким образом он собирается действовать. Тот ответил: «Сохранился номер машины, состав экипажа можно узнать в военном архиве». Тоже просто, как видишь. Потом разговор перекинулся в сферу абстрактную: как прошлое дает себя знать через много лет.
— Что же тут высказывалось?
— Обычные суждения. Об ответственности за совершенные поступки. Олег активно участвовал. «Истина всего дороже. Ее нельзя скрывать». Вмешался Кушнарев и стал говорить, что истина неуловима, что факты можно понять по-разному. Короче, общая болтовня.
— Что говорил Калугин?
— Он был на стороне Олега, собирался рассказать какую-то притчу, но Валерий заявил: «Отец, ты многословен, дай гостям поговорить». Калугин смутился, а тут и свет погас.
— Он назвал это притчей? Не случаем из жизни?
— Нет, нет. И Галя и Марина запомнили это слово.
— Да… Улов невелик. Ни одной фразы, наталкивающей на конкретные выводы. Однако если исходить из предположения, что толчком к убийству послужили слова, неосторожно или сознательно произнесенные вечером, то самолет вновь фигурирует. Но вернемся на грешную землю. Закончилась ли стрельба — вот вопрос? Или есть смысл застраховать жизнь?
— До приезда инспектора соцстраха я бы принял меры предосторожности.
— Обязательно. Бери ружье, и пойдем!
По-прежнему туман заволакивал ближние и дальние горы, по-прежнему, насупившись, стоял вымокший лес, и вода в озере казалась неприветливой и холодной, но что-то и изменилось.
— Ветерок потянул, — сказал Борис.
«Стало легче дышать», — понял Мазин и заметил мелкую рябь на поверхности озера. Почти незаметно покачивались ветки ближних деревьев.
— Разгонит непогоду, — ответил он без всяких аллегорий.
В затихшем лесу не верилось в опасность, в жестокость, в страх и ненависть, проникшие в забравшийся на кручи поселок, в то, что человек с карабином мог засесть за любым кустом. Треск ветки впереди вернул к действительности.
— Эй, кто там? — Сосновский повел стволом в сторону ближних деревьев.
Никто не откликнулся.
— Не паникуй, Борис. Он не нападет на двоих.
Шума больше не было. Они благополучно добрались до дому.
Там у дубового стола сидел Кушнарев и рассматривал полупустую бутылку со «Столичной». Четкие, скульптурные черты лица его обмякли и разгладились, загар поблек, седые редкие волосы спутались, обнажив нездоровую кожу.
— Отдай ружье Валерию, Борис. Я посижу пока с Алексеем Фомичом.
Кушнарев исподлобья наблюдал, как Мазин подходит к столу.
— Не возражаете, Алексей Фомич?
— Я? Возражаю ли я? — переспросил старик медленно, подбирая слова, как делают это пьяные люди, понимая, что они пьяны, и стремясь вести себя нормально, «правильно». — Я не могу возражать, молодой человек, потому что нахожусь в чужом доме и даже бутылка, которую вы видите, мне не принадлежит. Поэтому я оставлю ее вам, потому что мне пора, мне пора домой, а здесь я, судя по всему, больше не нужен. Не требуюсь…
— Как сказать…
— Скажите же. Поясните. Осветите.
— Это не так просто.
— Не просто? Вы сказали не просто? Я не ослышался?! То есть сложно? Ведь раз не просто — значит, сложно?
— Сложно.
— Удивительно! Совершенно не подозревал, не мог предположить, что для вас с вашим другом существуют сложные вопросы! Хотя, хотя ошибался, конечно, потому что вы же ставили опыты, эксгумировали, простите, экспериментировали… на людях. Так сказать, неутомимые исследователи! Да что вы, молодой человек, — Кушнарев вдруг обрел твердость речи, — что вы знаете о жизни и смерти?!
— Я не так уж молод, Алексей Фомич. И мне положено кое-что знать.
— Положено? По инструкции?
— Не все инструкции плохи.
— Ну! — Архитектор даже сверкнул желтыми глазами. — По-вашему, мысли можно упрятать в параграфы? Сформулировать высшую мудрость! Свести смысл жизни к уголовному кодексу?
— Иногда и уголовный кодекс помогает осмыслить жизнь. А причины смерти в основном укладываются в рамки медицинского заключения.
Он иронизировал вынужденно, а не для того, чтобы позлить старика. Но тот вскипел всерьез.
— Видимые! Видимые причины! — крикнул Кушнарев с торжеством, и Мазину показалось, что он собирается постучать пальцем ему по лбу. — Видимость — вот что ваши бумажки отражают! Фокусы, иллюзии. И вы — фокусник!
— Не могу с вами согласиться. — Игорь Николаевич говорил тоном, каким разъясняют ошибки упрямым, но способным ученикам. — Если удастся установить, кто убил Калугина…
— Кто убил Калугина! Нашли себе кроссворд на досуге? Смотрите! Мозги свихнете. Или шею. — Он запнулся. — Ничего больше не скажу. Не хочу с вами разговаривать.
— Дело ваше, — ответил Мазин, подчеркнув сожаление.
— И не пытайтесь выведывать! Вместе с вашим приятелем из так называемых органов внутренних дел! Так вот — мои внутренние дела вас не касаются!
— Мой приятель — научный работник. И беседовать с вами не так уж приятно. Вы неискренни.
— Я? Какое вы имеете право?..
— Я вижу больше, чем вам кажется.
— Ну и самомнение! Любопытно, что ж вы увидали?
— Вашу неуверенность. Вам хочется знать, был ли Калугин настоящим вашим другом или он только боялся вас.
Кушнарев замер. Удар пришелся точно.
— Я не ошибся, Алексей Фомич?
— Почему… почему вам такое в голову пришло?
— С ответом повременю, если можно.
— Не скажете? Однако, не ожидал. Глубоко копнули, не ожидал.
— А если я не ошибся, — продолжал Мазин, — как же я могу поверить, что вам безразлично, кто убил Калугина… Вы это ночью утверждали.
И тут он получил ответный удар.
— Я не говорил безразлично. Не извращайте. У меня свой взгляд есть… Может быть, мне известно, кто его убил!
— Известно?!
— С ответом повременю, если можно, — шутовски поклонился старик, но тут же посерьезнел. — На разных языках говорим. Боюсь, не поймете.
Заметно было, что архитектор не так пьян, как показалось Мазину вначале.
— Вы считаете, что убийца Михаила Калугина не должен понести наказания?
— Я излагал свою точку зрения.
— Вы ставили вопрос теоретически, не упомянув о том, что подозреваете конкретное лицо, человека, находящегося среди нас.
— А какая разница?
— Существенная. Ответственность определенного человека нагляднее. Она поддается точной оценке правосудия.
— Вот, вот!.. Вы о правосудии, о суде своем заботитесь, а я — об истине. Суд — дело рук человеческих, так и называется — народный суд, людской то есть, а у людей мнения, оценки, факты так и этак поворачиваются в голове. А истина от нашей оценки не зависит. Ее, как банку шпрот, не откроешь. Она с течением времени возникает и проясняется. Без сыщиков, без собак-ищеек. Да разве вы поймете! Строили на родине моей, в заштатном городишке российском, школу. Это я вам пример привести хочу. Зацепил экскаватор ковшом и клад вытащил — четыреста восемнадцать рублей серебром и медью тридцать шесть копеек. Старинные деньги.
— Вы запомнили?
— Сумма значение имеет. Потому что в местном архиве больше века дело хранилось на одного мещанина. Обвиняли его в убийстве купца и ограблении. Всего у купца взято было четыреста восемнадцать рублей сорок шесть копеек. Улавливаете? В гривенник разница! Однако обвинение тогда не доказали и оставили мещанина «в сильном подозрении». А фундамент-то на его бывшем подворье копали. Вот как истина вскрылась. Понятен смысл истории?
— Следствие находилось на правильном пути. Жаль, что его не довели до конца.
— Глухой вы человек. Гривенник забыли? Всех денег только и решился он потратить, что этот гривенник. А остальные не посмел. Значит, и без суда, который запутался в трех соснах, наказание свершилось. Да похуже каторги. Там — срок, а тут — бессрочные муки. До смерти деньги рядом лежали, напоминали о пролитой крови, а он к ним прикоснуться не смел.
— А если не было мук никаких? Трусил ваш мещанин с деньгами объявиться, да и только! Выжидал, выжидал, пока богу душу не отдал. А истина вскрылась, когда она никому не нужна стала.
— Нет, почтенный! Не поняли вы! — возразил Кушнарев тоном снисходительного превосходства. — Как Гёте сказал: бог может простить, но природа никогда! А что такое природа? Мы сами, вот что! Вы, я, Миша-покойник тоже.
— Трудно с вами, Алексей Фомич. Темно говорите. Я вам о гибели Калугина, а вы о том, что человек сам себя способен наказать больше, чем правосудие. Способен-то, способен… А если не собирается? Как поступать прикажете?
— Приказывать не привык. И вообще наговорил лишнего. Следователю и того не скажу. Но вы… показалось, поймете. Я вам, как человек человеку… поделился. А не поняли, так и к лучшему.
— Как же к лучшему, если убийца не обезврежен?
— Для других он не опасен.
Мазин позволил себе запрещенный ход.
— На такую уверенность имеет право лишь один человек.
Желтые глаза заметались.
— Убийца? Так понимать следует?
Мазин смотрел на сапоги Кушнарева. Они были в свежей, непросохшей глине.
Долго тянулась пауза. Архитектор сложил перед собой руки, переплетя пальцы. Они тяжело лежали, почти такие же темные, как и доски, из которых был сбит стол. Мазин молчал.
— Что вам нужно? Как я понимаю, лицо вы неофициальное, а тем более покойному не друг, даже не знакомый человек, а любопытствуете, опыты ставите. Зачем вам это? Приедет милиция — разберется. Если уж бы так за правосудие выступаете, зачем впереди его бежать? Милиция еще за горами, а вы уж убийцу разоблачили, а?
— Не разоблачил. Как и вы, кажется.
— Я такой цели не ставил. То, что мне известно, дело мое.
— Милиция задаст вам вопросы.
— Факты скрывать не собираюсь, а догадками делиться не обязан.
— Значит, фактов меньше, чем догадок?
Мазин почувствовал, что старик снова ушел в себя, больше того — готовится к контратаке.
— Не знаю, чем обязан вашему настойчивому любопытству. И предположение ваше странное: зачем Михаилу меня бояться?
— Какое ж это предположение, Алексей Фомич? Сами сказали.
— Сам сказал? Ну, знаете…
— А вспомните! Вы заявили, что Калугин испытывал к вам не только чувство благодарности.
Кушнарев развел руками.
— Что из того? Не только… Ишь как повернули! «Заявил»! Ловко! Почему же страх обязательно? Зачем ему было меня страшиться? Кто я такой? Плохо вы представляете положение художника Калугина! Это не дагезанский дачник. Это фигура, можно сказать, союзная. А я?
— Все равно, Алексей Фомич. А, выходит, побаивался.
— Не говорил я, что побаивался.
— Говорили. Десять минут назад, когда я высказал свое предположение, вы, в полном согласии с ним, упомянули, обмолвились, что копнул я глубоко. Хотя н чуть я не копнул, а судил всего лишь по вашим словам и в доказательство признаюсь, что понятия не имею, почему Калугин вас боялся.
— Еще бы вам и понятие иметь!
— Но предположить могу. Наверно, было что-то с Калугиным, о чем вам известно, а другим нет, и не очень ему хотелось об этом других оповещать.
Архитектор хлопнул кулаком по столу:
— Да кто вам право дал на подобные предположения?
— Защищаюсь, — ответил Мазин коротко.
— Что? — не понял Кушнарев.
— Защищаюсь, — повторил Игорь Николаевич. — Если уж вы отвергаете правосудие, то признайте хоть право на самооборону. Мне бы хотелось знать, кто стрелял в меня сегодня.
— Стрелял?.. — протянул Кушнарев недоверчиво. — А вам это не… того, не приснилось?
Мазин приподнял руку.
— Отверстие видите?
— Везучий вы!
— Не всегда так хорошо обходится. Поэтому не хотелось бы искушать судьбу впредь. Мне нужно знать, кто за мной охотится. Раз выстрел оказался неудачным, он может повториться.
Кушнарев задумался. Он уже совсем не походил на пьяного, и Мазин усомнился, а был ли архитектор пьян вообще. Перед ним сидел усталый, запутавшийся, недоверчивый и самолюбивый старик.
— Ничем не могу помочь, — повторил он слова, которые Игорь Николаевич слышал утром, но на этот раз без вызова, вяло.
— Однако вы заявляли, что знаете убийцу Калугина.
— Я совсем другое подразумевал…
— Валерий опять запропастился, — нарушил их разговор вернувшийся Сосновский. — И Марина Викторовна его не видела. А вы, Алексей Фомич?
— Я тоже. — Кушнарев поднялся. — Простите, уважаемый, вынужден вас покинуть. Понимаю ваше состояние, но бессилен, бессилен. — Он покосился на Бориса. — Ждать милицию нужно, а не мудрствовать. На меня не рассчитывайте Я болтун. Наговорю, а все не так. Не так совсем или даже наоборот. Наврежу только. Нет, простите великодушно. Бессилен.
Он поспешно зашагал в свою комнату.
— Кажется, я невпопад? — спросил Борис Михайлович.
— Наоборот. Не хочу ничего «выведывать». Пусть скажет сам.
— Ему есть что сказать?
— Я надеюсь понять то, что он сам до конца не понимает. Со стороны легче заметить детали, которые примелькались тем, кто рассматривает картину постоянно. А он присматривался долго, годами. Однако где же Валерий? После этого выстрела я стал беспокойным. Что делает Марина?
— Марина у себя. Совсем раскисла. Утром выглядела живее. А сейчас, видимо, стало доходить, что произошло. Ведь она девчонка, в сущности, а в такую передрягу угодила. Зайди к ней, а я посмотрю, чем заняты остальные.
По пути в комнату Марины Мазин посмотрел в окно. За ним, прижавшись носом к стеклу, стоял Коля. Игорь Николаевич повернулся и вышел из дому.
— Не прячься, пионер. Считай, что ты прощен.
Получилось удачно. Мальчишка не ожидал полной амнистии.
— Правда?
— Ты думал, что нашей дружбе конец, потому что разболтал про выстрел отцу? Пулю узнал сразу?
— Ага.
— Ага! Прекрасное слово. А зачем бегаешь за мной? В лесу ты ветки ломал, следопыт? Хочешь просить прощения?
— Не виноват я, Игорь Николаевич! Я хотел про пулю сказать, а вы говорите: «Уходи». Я не успел.
— Зря выкручиваешься. Воспользовался обстановкой, чтобы улизнуть, ага?
Коля опустил глаза.
— То-то! Теперь слушай. Работник ты оказался недисциплинированный. Наверно, это у тебя наследственное. Придется, брат, вступить в борьбу с природой. Или возьмешь себя в руки, или отставка. Решай быстро.
— Беру в руки, Игорь Николаевич.
— Предположим. А прощаю я тебя именно за то, что сказал отцу.
На этот раз Коля не понял.
— Пояснить? Думаю, ты предупредил отца потому, что был уверен, что стрелял не он.
Теперь паренек обрадовался открыто.
— Ну да, Игорь Николаевич.
— А если б ты знал, что стрелял он, как бы ты поступил?
Радость сбежала с веснушчатого лица.
— Не знаю…
— Понятно. Наверно, я не должен был задавать тебе этот вопрос. Это сложный вопрос… Значит, был уверен?
— Конечно, не он, Игорь Николаевич! Отец бы не промахнулся. Он знаете как стреляет!
Такого своеобразного аргумента Мазин не ожидал.
— Пуля прошла близко.
Коля замахал энергично.
— Что вы! Вас же ранило в правую руку. Это от сердца далеко.
— Не так уж далеко, Коля. Но не будем спорить. Отец сказал тебе, что он подменил пулю?
— Подменил? — Мальчик покраснел. — Чтоб вы не узнали, что стреляли с карабина, да?
— По-видимому.
— А вы заметили, да? — Коля стоял красный как рак. Видно было, что ему стыдно и за поступок отца, и за то, что он не удался. — Отец же не знал, кто вы, Игорь Николаевич. Он думает, что вы доктор. Я про вас не говорил. Я же слово дал…
— Доктора тоже не лопухи. Значит, отец считает, что провел нас?
— Да ведь отцу страшно, что на него подумают. Ему и так от начальства попадает. А я ему нарочно сказал. Он теперь нам полезен будет. Он этого гада все равно выследит.
— «Нам»? — Мазин засмеялся, а мальчик нахмурился.
— А что тут плохого?
— Под пулю отца подставить можешь, — пояснил Игорь Николаевич, не распространяясь, что сам он далеко не уверен в непричастности егеря. — Меня-то подстрелили.
— Отца не подстрелят, — ответил Коля с обидной для Мазина гордостью.
— Будем надеяться. А ты рассчитываешь получить задание? Тогда иди в дом и посиди за столом. Подожди меня. Можешь смотреть по сторонам. Пока все.
Игорь Николаевич вытянул руку. На ладонь упали две снежинки, маленькие, четкие, как на рисунке в школьном учебнике.
3. Снег
 «Посиди за столом», — сказал он. Мазин вдруг осознал, что распоряжается в чужом доме, что дом этот, ни в чем не изменившись за ночь, стал совсем другим, превратился в место преступления, и вести себя в нем надлежит иначе, чем вчера вечером. Это было знакомое ощущение. Не раз ему приходилось появляться в квартирах в трагические минуты, осматривать их, как врач осматривает больного, стараясь увидеть все, чтобы сохранить в памяти необходимое, то, что требуется, не больше. Без оскорбительного любопытства осматривал он портреты и фотографии, шкафы с одеждой и столы с дорогими кому-то письмами и пожелтевшими документами. Он умел делать это, не причиняя боли, профессионально и деликатно касаясь кровоточащих ран, ни на секунду не забывая, что мир состоит из людей, а не из потерпевших и преступников.
Но и сами люди, скованные горем или страхом, напрягались, теряя обычную чувствительность, а дома их, жилища, подчиняясь какому-то психологическому иммунитету, вдруг превращались просто в обстановку, среду жизни, утрачивали неповторимо личное, интимное. Горе как бы вскрывало призрачность, сиюминутность мира, который люди склонны кропотливо, настойчиво создавать вокруг себя. Пришла беда, и жестокая реальность вторгается в мир, который только что казался единственным, нерушимым, только тебе принадлежащим, и он дробится на составные части, каждая из которых возвращается к своему первоначальному простому предназначению: кровать становится обыкновенной мебелью, а фотокарточка — листком бумаги, запечатлевшим не кусочек жизни, а ее оптическое отражение.
Духом этой жестокой реальности, возвращающей все на свои места, и пахнуло сейчас на Мазина в калугинском доме, показавшемся ему кораблем, когда они с Борисом спешили ночью под ливнем, и ряды окон светились, как палубы, разгоняя грозу. Но свет погас, корабль на мели, капитан с зарядом картечи в груди лежит в рубке, и чужие люди ходят по дому, думая о том, что непогода скоро кончится и можно будет сложить чемоданы и рюкзаки и покинуть навсегда ставшее таким неуютным, вчера еще шумное и гостеприимное жилище.
«Наверно, Марина продаст дом», — подумал Игорь Николаевич, подходя к ее комнате, и испытал сожаление. Он постучал и приготовился к тому, что ответят не сразу. Калугина могла и забыться. Она имела на это право. Но ответила немедленно, и он вошел. Марина сидела почти в той же позе, что и утром, но уже не вязала.
— Игорь Николаевич?
— Да, я.
— Бы, конечно, осуждаете меня за то, что я здесь, а не наверху?
— Вам не следует быть там. Борис Михайлович запер мансарду до приезда милиции.
— Нет, я должна быть там. Я знаю, что должна. Но я не могу, — призналась Марина. — И в то, что случилось, почти не могу поверить. В моей жизни никогда ничего не случалось. А теперь я знаю, такое в самом деле бывает. Не в кино и не с другими. Со мной… И нужно пережить…
Без косметики, без привычного лоска она выглядела совсем молодой и беспомощной, похожей на вчерашнюю школьницу, провалившуюся на вступительном экзамене в институт.
— Нужно. Многое удается пережить. Существует запас прочности.
— Откуда? У нас никто не умирал. Даже бабушка и дедушка живы. И знаете, что ужасно! Я не о нем жалею, я себя жалею.
— Простите, вы любили Калугина?
Она вспыхнула.
— Зачем вам это? Наверно, нет, раз я так поступаю.
Он помолчал.
— Я сам показалась дрянью, да?
— Почему? Вы старались ответить искренне. Как вы познакомились с Михаилом Михайловичем?
— На выставке. Он выставлялся. Была встреча. Я задавала вопросы о его работах, они показались мне старомодными. Он объяснял подробно, дал мне свой телефон. Я сначала боялась. Девчонки смеялись: трусишь! Ну, я решила доказать, позвонила.
— Его первая жена умерла?
— Да. Решили, что я женила его на себе?
— А как вы считаете?
— Никогда так не думала. Нет. Все проще. Сейчас многие стараются жить просто, — пояснила она то ли убежденно, то ли с горечью.
— Просто? Сколько вы тратили в месяц?
— Нет, вы не поняли. Не о деньгах… Просто смотреть на вещи, не усложнять. Ведь оттого, что много думаешь, не становишься счастливее, правда?
— А вы были счастливы?
— Все считали, что мне повезло.
— Квартира в Москве, этот дом, машина, поездки за границу?
— Ну да. Но я не виновата. Он сам…
— Как же вы все-таки относились к Калугину? Марина отвернулась.
— Я ценила заботы Михаила Михайловича.
«А что вы дали ему?» — хотел спросить Мазин, но сформулировал вопрос иначе:
— А он вас за что ценил?
— Он ценил мою молодость, — ответила она сухо. — Дорожил мной. Жена была старше его и много болела.
Мазин не откликнулся на этот прямолинейный ответ. Ему послышалась в нем нарочитость. Да он и не относился к числу моралистов. Не затем он пришел в эту комнату. Его интересовало другое: виновна ли сидевшая перед ним женщина в смерти своего мужа?
— Рассказывал ли Михаил Михайлович вам о своем прошлом?
— Он не любил говорить о прошлом. «Зачем тебе это? — спросит. — Ты тогда под стол пешком ходила. Да и невыгодно мне свой возраст подчеркивать». Отшутится — и все.
— Что же вы знали?
— То, что все. Он деревенский. На войне был, ранили его, демобилизовали, учился в Москве. Потом его признали…
— Откуда Калугин родом?
— Из Белоруссии.
— У него остались родные?
— Нет, погибли во время войны.
— Когда он женился в первый раз?
— Сразу после войны. Она была из Казани. Вдова. Ее мужа убили на фронте.
— Михаил Михайлович жил в Казани?
— Он ездил туда по делам… не знаю. А теперь вдова я. Смешно, да? Ведь сейчас вдов не бывает.
Мазин сидел рядом с Мариной. «Пожалуй, спальня маловата». Бросалось в глаза, что, несмотря на размеры всей дачи, комнаты были небольшими. Все, кроме гостиной. Зато комнат было много.
— Михаил Михайлович сам проектировал этот дом? — спросил Мазин, отвлекаясь от главной мысли о прошлом Калугина, которая не должна была звучать навязчиво.
— Да, тут все сделано, как он хотел.
— А какова основная идея этого дома? Вы понимаете меня? Когда человек с возможностями Михаила Михайловича и его индивидуальностью берется за такое сооружение, тут не может быть случайного, тут должна быть общая идея. Зачем такой дом? Спокойное место работы? Или отдыха? Уединения?
— Нет. Только не уединения. Он терпеть не мог одиночества. Ему постоянно нужны были люди. Знакомые, незнакомые. Он любил гостей, любил угощать, любил, когда у нас ночевали, засиживались допоздна.
— Вас это не тяготило?
— Иногда. Но хозяином в доме был он. Однажды я сказала, он вспылил: «Я трачу свои деньги!» Я испугалась, что он сочтет меня скрягой, подобравшейся к тому, что он заработал.
«Она подчеркнула свое бескорыстие».
— Калугин был щедр?
— Еще бы! Вы не поверите, у нас… у него не осталось никаких сбережений. Сразу придется все продавать. И эту гостиницу…
Гостиница! Именно. Дом, в котором будет жить много посторонних людей, — вот как он замышлялся. Или почти посторонних, случайных. У Калугина нет родственников, и вряд ли можно найти столько настоящих друзей, чтобы заполнить все эти комнаты.
Мазин огляделся. Широкая тахта, туалетный столик, шкаф, и совсем мало свободного места… На стене картина или набросок, сразу не поймешь — то ли современная раскованная манера, то ли недописано, недоработано: тяжелый, пасмурный фон, почти такой, как сейчас за окном, силуэты гор, насупившийся лес — все грубо, в невыразительной серо-зеленой тональности, — и вдруг приковывающая глаз яркая точка, пятно, нет, не пятно, а полоска, красный бросок кистью поперек покрытого тучами неба, как след взлетающей ракеты или, наоборот, несущейся к Земле, входящей в атмосферу. Или метеорит? Нет, на картине день, и комок пламени не похож на небесное тело…
— Мрачновато для спальни.
— Ужасно. Далеко не лучшее, что написал Михаил Михайлович. Я говорила, что колорит меня угнетает. Тогда он взял кисть и бросил этот красный мазок. «Что это?» — спросила я. Он пожал плечами: «Так лучше смотрится».
Это действительно был один бесформенный мазок. Но случайный ли?
— Михаил Михайлович писал с натуры?
— Ему нравились окрестности Красной речки.
«Он знал, что там самолет, разбившийся, сгоревший», — думал Мазин, глядя на алое пятно — след пламени, прорезавший горизонт.
— В каких войсках служил ваш муж?
— В пехоте.
Это прозвучало отрезвляюще. Где связь между гибелью самолета, разбившегося четверть века назад, и убийством Калугина? Он не был летчиком и не мог находиться в самолете. Но мог оказаться свидетелем его гибели. Мог сражаться в горах, защищать перевалы. Однажды над головой солдат вспыхнул воздушный бой. Калугин видел, как подбитая машина устремилась к земле. Это запомнилось, вернулось через годы, отразилось на клочке полотна, холста. И все? Скорее всего…
— Он воевал на Кавказе?
— Кажется, нет.
— Его не связывали с Дагезаном воспоминания, прошлое?
— Нет. Он выбрал это место потому, что его при, влекла природа, натура. Так он говорил. Я еще училась тогда.
— Где вы учились?
Это был снова шаг в сторону, в нужном или случайном, бесполезном направлении, Мазин не знал.
— В цирковом училище.
— Вот как? По призванию?
Потухшее лицо Марины оживилось.
— Цирк нельзя не любить.
Было в этой женщине трудно воспринимаемое противоречие: цирк, спорт — все это требует воли, настойчивости, характера. И тут же стремление жить «просто», по течению, слабость.
— Значит, Михаил Михайлович не служил на Кавказе?
Вопрос вырвался вопреки логике.
— Я могу уточнить. Я записала важные даты из его жизни. Чтобы знать, чтобы помнить, чтобы как-то понять его прошлое, прикоснуться к нему, не быть чужой. Стащила его автобиографию, вернее — хронологию. У него хранился такой листок. Как справка. Я переписала.
«Она старалась быть хорошей женой».
Марина достала из сумки блокнот. То, что интересовало Мазина, было записано на листке, спрятанном под обложку. Очевидно, ей не хотелось, чтобы этот кадастр попался мужу. Почерк у Марины оказался мелкий, но четкий. И сокращения были понятны. Сверху стояло: «Все о М.М.». Она не привыкла звать мужа мысленно по имени. Дальше шли цифры и короткие слова:
«Род. 21.8.22 в Кулешовке».
«Пост. в шк. — 29 г.».
«Оконч. ср. шк. — 39 г.».
«Пост. пединститут — 39 г.».
«40 г. — призван в РККА».
Так и было написано — РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия, как называли в те годы. Марина добросовестно скопировала записи.
«41, июль — ранен на фронте».
«41, июль — сент. — госп. Воронеж».
«41, окт.–42, март — воен. учил. Ашхабад».
«42, май — ранен на фронте».
«42, май — август госп. Арзамас. Признан негодн. Демобилиз.».
«44 — пост. Моск. худ. уч.».
Дальнейшие записи говорили почти исключительно об успехах:
«Перв. выст.», «Награж.», «Приев, зв.» и т. п.
Личных было мало:
«46, сент. 14 — женился на К.Ф. (д. рожд. Вал. — 14.10.41)».
«67, 8 апр. — ум. К.Ф.».
Военные даты Мазин просмотрел еще раз.
Калугин, видимо, начал войну с первых дней на границе и уже через месяц, а может быть, и раньше (числа в записи не было) был ранен, лежал в госпитале в Воронеже, что довольно далеко от Кавказа, а затем был откомандирован в Среднюю Азию, в военное училище. Потом снова фронт, и снова ранение, тоже не на Кавказе, потому что к этому времени немцы сюда еще не добрались. Лечился в Поволжье. Демобилизовался. Учиться продолжал в Москве. Правда, в сорок первом Калугин мог ехать в Среднюю Азию через Баку и Красноводск. Но что из того? Железная дорога проходит по равнине далеко от Дагезана.
Игорь Николаевич положил листок на столик и почувствовал, что дышать стало труднее. Заложило нос. «Неужели ко всем прочим сюрпризам прибавится насморк? — подумал он с огорчением. — Совсем не вовремя, хотя и не удивительно в такой сырости». Он достал платок и уловил непривычный запах. На белой тканивыделялись пятна краски. Платок был выпачкан так, будто краску вытирали, она размазалась по чистому полотну. Но главное — это был не его платок.
— Это платок Михаила Михайловича, — узнала Марина.
Мазину стало неудобно.
— Вы уверены? Не пойму, откуда он у меня.
— Я привезла две дюжины таких платков. Он признавал только белые, но относился к ним варварски. Если не попадалось под руку ничего подходящего, вытирал краски.
— Тогда понятно. Наверно, я сунул платок в карман, когда находился в мастерской.
— Скорее всего. Платки всегда валялись на тахте или кресле.
Возвращать платок показалось нетактичным, неуместным. Мазин спрятал его в карман, почувствовав на ощупь, что ткань грязновата, в чем-то маслянистом, не только в засохшей краске.
— О чем вы хотите еще спросить?
Оставался трудный вопрос: он собирался спросить о Валерии.
— Где сейчас Валерий?
Марина плотнее поджала под себя ноги.
— Наверно, прячется в хижине возле пруда. — И добавила, имея в виду Калугина: — Мы оба его бросили. Один Алексей Фомич остался с ним. А мы… такие свиньи. Стыдно. Люди разных поколений не понимают друг друга. Я это давно чувствовала, но думала, что мы, молодые, лучше… Нет. Мы трусливее. Бежим куда-то, в хижину на озере или в самих себя, а Кушнарев остался. Я и перед ним виновата, он казался мне лишним у нас, вообще в жизни лишним. Смешно, я думала, что жить стоит, пока ты что-то значишь. А что я значу? — Ей, видимо, становилось легче от этого самобичевания, и она преувеличивала и наговаривала. — Алексей Фомич не подходил к нашей обстановке. Не вязался. Неряшливый, суетливый. Неприятно было видеть на ковре его починенную обувь. И наверно, я ревновала. Он имел какие-то права на Михаила Михайловича, или нет…
Мазин прислушался.
— Права?
— Моральные, конечно. Старая дружба. Он приходил, когда хотел, много ел. Ел жадно, неаккуратно, вымазывал тарелки хлебом. Как будто голод.
— Вы из обеспеченной семьи?
— Да. Мы всегда жили хорошо. Я ж единственная. Недавно одна журналистка писала, что единственные дети неполноценные, воспитаны ненормально. В основном загибает, потому что теперь почти все единственные, а не могут же все быть неполноценные? Но что-то тут есть. Посмотрели б вы на мою мамочку. Уж она-то не позволила бы мне вымазывать тарелку. Сразу лучший кусочек!
— Кто ваши родители?
— Мама — очень хорошая портниха, а папа — строитель. Я сбежала от их опеки, торопилась жить самостоятельно.
— И вам не нравились неаккуратные люди в вашем доме?
Марина не заметила сарказма. Хотя говорила она охотно, внешне откровенно, но говорила прежде всего сама с собой, отвечала на собственное, о чем раньше не думала и что открылось неожиданно. Не думала… Но чувствовала, может быть подсознательно, потому что если бы не чувствовала, не смогла бы говорить так, как говорила.
— Знаете, что я поняла ночью, когда не спала? Что, когда все в порядке, а у меня было даже лучше, чем «все в порядке», жизнь воспринимаешь неправильно. Действуют вещи незначительные, создается мир пустяков, которые принимаешь всерьез. И не замечаешь главного.
— Что вы считаете главным? — спросил Мазин, с интересом улавливая в Марине нечто новое, прорывающееся сквозь наивный цинизм и бездумный эгоистический фатализм.
— Вы видели, я выписала даты, чтобы покупать цветы в день рождения, а близким человеком не стала, не сумела. И это неправда, что я не любила. Но я о другом… Верьте или нет, его убили не случайно. Он что-то предполагал, что-то беспокоило его, но ему и в голову не пришло поделиться со мной. Я была далеко. Я фантазирую, да?
— Зачем вы сказали Валерию, что отец погиб сразу?
Ответ напрашивался: сказала потому, что Валерий — сын, пусть не родной, но он имел право знать правду. Ложь же была рассчитана на преступника, которым не может быть Валерий. Так следовало ответить, и так Марина и ответила, но ответ дался ей с трудом. И трудно было понять, утверждение это или встречный вопрос.
— Но он, он же не мог убить.
— Верно. С точки зрения здравого смысла, нормального, неиспорченного человека. Однако и нормальный человек в самом здравом уме способен оказаться во власти неожиданных, неоправданных сомнений, утратить чувство реальности…
— Что вы хотите сказать?
Она приподнялась на тахте, зябко прижав к плечам мягкий шарф.
— …особенно когда речь идет о человеке близком, которого не хочется подвергать опасности.
— Вы это обо мне… и Валерии?
— Не только. Скорее вообще. — Мазин сказал все, что собирался. Больше говорить пока не следовало. — Вы упомянули, что Кушнарев был близок Михаилу Михайловичу…
— Да, да. — Марина обрадовалась повороту разговора Видимо, боялась даже продумать, проанализировать слова Мазина, оценить степень их определенности. — Но я не понимала этого. Он казался старым неудачником, навязчивым, неподходящим… Меня раздражало его право на постоянное внимание Михаила Михайловича.
— Опять это слово — право.
— Оно неудачное. Но странно. Казалось бы, Кушнарев должен был чувствовать себя обязанным. Михаил Михайлович так много ему помогал!..
— А было наоборот? Калугина тяготила эта дружба?
— Нет. Однажды я не выдержала, сказала: «Михаил, все-таки Алексей Фомич неприятный человек». Он посмотрел на меня так… Когда он становился суровым, резким, я чувствовала себя беспомощной. Он бывал обычно мягким, приветливым, но иногда в нем прорывалось непреклонное, категоричное. Возражать было нельзя. И в этот раз он крикнул: «Не смей так говорить!» Я растерялась. А ему стало неудобно, он попытался разъяснить: «Ты молодая. Ты не жила в то время, когда нам пришлось жить, а это было не самое легкое время. Люди испытывались по-настоящему: горе было горе, а жизнь — жизнь. Кусок хлеба был жизнью, а не ужин в «Арагви». Это понимать нужно. И жизнь может ударить неожиданно. Алексея ударило под корень».
— Он стал жертвой несправедливости?
— Да. Михаил Михайлович рассказал мне. Он считался очень талантливым, самородком. Его все любили, прочили блестящее будущее. Он хотел возводить дворцы, вроде Дворца Советов, что на месте бассейна планировали. Тогда особенно любили молодых и талантливых, выдвигали, гордились, писали в газетах. Мировой проект советского архитектора! Да что я вам рассказываю, вы лучше знаете. И вдруг рухнуло. Он любил женщину, очень любил… и ее нашли убитой. Все улики пали на него. Он был последним, с кем ее видели в тот вечер. Он ревновал ее, был вспыльчивым… Его арестовали, обвинили. Он отсидел почти весь срок. В самом конце, уже во время войны, в Москве поймали бандитов, которые грабили квартиры эвакуированных. Выяснилось, что и та женщина — их жертва, а Кушнарев не виноват.
Игорь Николаевич до боли сжал кулак. Судебная ошибка… Такие трагедии по-прежнему случаются; наверно, в полном соответствии с теорией вероятностей. Как авиационные катастрофы, преждевременная смерть, необъяснимая вражда между близкими людьми, врываются и они в жизнь, подобно эпидемии в средневековые города, внезапно и беспощадно, и мы до сих пор не можем предотвратить их. Но нельзя смириться с этой проклятой неизбежностью, сколько б ни подкрепляла ее бездушная статистика. И, как всегда в подобных случаях, Мазин испытал острое чувство личной вины, собственной ответственности.
— Алексея Фомича освободили, но он был разбит. Он так верил в жизнь! Потрясла и ужасная гибель женщины, которую он любил. Сначала он уехал к себе на родину, жил там затворником, приходил в себя, потом появился в Москве, однако создать ничего стоящего не смог. Пришло другое время, другие требования. Он устарел со своими дворцами. Начал пить… Михаил Михайлович старался поддержать его. Это я теперь поняла, а тогда…
— Как они подружились?
— Они знали друг друга давно. Но Валерий помнит, что появился Алексей Фомич неожиданно. Много лет Михаил не слыхал о нем. Потом Кушнарев прочитал в газете о выставке… Нет, кажется, это произошло иначе. Не помню точно. Да это неважно.
«Неважно?» Для Марины. Но Мазину, который привык мыслить профессионально, кое-что в ее рассказе показалось странным.
— Выходит, они возобновили знакомство лет десять или пятнадцать назад?
— Не раньше. Иначе Валерий бы не запомнил.
«Что же говорил Кушнарев? «Просто, когда он (Калугин) был еще неизвестен, мне понравились его рисунки, и я сказал об этом». И слова сыграли важную роль! Кушнарев поддержал Калугина в момент, когда тот нуждался в поддержке, очень нуждался, если память о такой поддержке сохранилась на всю жизнь, не стерлась в годы успеха. Но выбитый из жизни, измученный, забытый Кушнарев не мог сыграть такую роль в судьбе Калугина десять или пятнадцать лет назад, когда тот уже завоевал известность и твердо стоял на ногах. Значит, речь шла о более раннем периоде? Да, архитектор упомянул «давно прошедшее время». Какое же? Арестован он был до войны…»
— Когда арестовали Кушнарева?
— Он любит повторять: «Я жил на свете двадцать шесть лет». А родился он в девятьсот девятом.
«Девять плюс двадцать шесть получается тридцать пять. Если Марина не путает, архитектор попал в тюрьму в тридцать пятом году и, находясь там, наверняка не мог сыграть никакой заметной роли в судьбе Калугина. А до тридцать пятого? До тридцать пятого Михаилу Калугину было… он был мальчишкой, школьником. Вот так арифметика! Кушнарев соврал? Зачем? Своего рода самовнушение? Самообман испытавшего крах надежд человека? Но как увязать эту легенду с сомнениями в искренности Калугина?
Когда я предположил, что Калугин боялся, Кушнарев согласился, даже буркнул: «глубоко копнул». Или это была ирония? Если записи верны, у художника не было никаких оснований опасаться Кушнарева. Абсолютно никаких. Прекрасная биография, простая, чистая, — школа, армия, фронт, учеба, творческий путь — всё по восходящей. И семейная жизнь не вызывает сомнений: очевидная преданность первой жене, забота о ее сыне, потом этот брак, пусть с разницей в возрасте, но по-человечески понятный. Ни единого нарушения ни уголовного, ни морального кодекса. И хотя у него не было к этому никаких видимых оснований, Калугин чего-то боялся. Однако если я правильно понял, Калугину следовало относиться к Кушнареву дружески и уважительно. Мысль о том, что отношения их не просты, а чем-то осложнены, отравляла ему жизнь, беспокоила Кушнарева. Иначе он не высказал бы ее так опрометчиво при посторонних, да еще в такой день. Почему же Калугин не должен был бояться? Потому ли, что Кушнарев был ему предан, или потому, что сама причина опасений была незначительной, преувеличивалась? Впрочем, я опять ушел далеко…»
— Простите, Марина Викторовна. Я утомил вас расспросами.
Мазин встал. Но он видел, что ей хочется еще что-то сказать — возможно, спросить. Он посмотрел выжидательно.
Марина решилась:
— Игорь Николаевич, я не совсем поняла вас, когда вы говорили о Валерии. Вы говорили неопределенно, но связывали наши имена.
— Вас это обеспокоило?
— Да, Я уверена, уверена, что Валерий… Даже говорить страшно. Он не мог. Он не такой. И у нас ничего-ничего не было. Хотя он сумасброд, несерьезный.
— Что значит сумасброд?
— Ну, глупил иногда. Мог стать поперек тропы верхом и сказать ерунду: «Требую выкуп. Не поцелуешь — не пущу».
— Эти… глупости не находили отклика?
— Что вы! Никогда. Он просто шутил, я думаю.
— А Михаил Михайлович знал о таких шутках?
— Нет. Ему было бы неприятно.
«Да, такие шутки радости не приносят. Она это понимала. Однако Калугин мог знать. Знал же Демьяныч».
— Спасибо, что поделились, Марина Викторовна. Не беспокойтесь, придавать этому значения я не собираюсь.
«Это всего лишь одна из рабочих гипотез», — добавил он про себя.
Позднее Мазин удивлялся своеобразному двойному течению времени в эти три дня. События развивались стремительно, с промежутками в считанные часы: смерть Калугина, вторичное покушение на него, выстрел на озере — все это заняло меньше суток и, казалось, требовало лихорадочного ответного ритма, энергичной деятельности. Между тем сам Мазин воспринимал происходящее как бы растянутым на гораздо более широком промежутке времени; он не мог избавиться от ощущения, что находится в Дагезане давным-давно, а не приехал сюда вчера, погостить у Сосновского. Ощущение это смущало, вызывало сомнение в правильности собственных действий.
«Я похож на самодовольного неторопливого чиновника, которого даже пуля под мышкой не может расшевелить, нарушить консервативную привычку поспешать медленно. А ситуация иная. Нужны немедленные решения. Мне показалась наивной прямолинейная уловка Бориса объявить Калугина живым, а убийца на нее клюнул и попался бы намертво, если б я не промедлил. И продолжаю медлить, предпринимаю продолжительные исторические экскурсы, а требуется прежде всего определить, от кого исходит опасность, и принять меры, чтобы никто больше не пострадал».
С этой мыслью Мазин вошел в гостиную, где усвоивший азы дисциплины Коля Филипенко терпеливо дожидался ею за столом.
— Как вахта?
— Валерий приходил.
— Наконец-то! Блуждающий форвард. К себе пошел?
— Нет. Сначала у Алексея Фомича был, потом вас спрашивал. Я сказал. Он походил по комнате, походил, наверх поднялся, туда. — Мальчик показал пальцем на мансарду. — Спустился быстро, опять про вас спросил. Узнал, что вы не выходили, выпил стакан вина и ушел.
— Не знаешь куда?
— Не… Вы же сказали, сидеть.
«Интересно, зачем я понадобился Валерию?»
— Ладно. Гуляй пока.
Игорь Николаевич подтолкнул Колю к дверям и вышел вслед за ним. Пушистые хлопья спускались с неба, украшали неторопливо ближние елки. Мазин невольно поискал игрушки на ветках — так по-новогоднему выглядел этот еще раз сменивший декорации Дагезан. Из взлетевшего над дорогой снежного роя появился всадник. В своей неуместной соломенной шляпе с отсыревшими опустившимися полями Демьяныч походил на Санчо Пансу, покинувшего сумасбродного хозяина.
— Мое почтение, Игорь Николаевич! — Пасечник наклонился в седле. — Новенького-то что?
Говорить о ранении не хотелось.
— Все по-старому. Ничего не известно.
— Ничего, значит? И то слава богу. — Пасечник тронул осла каблуками. — Может, на чаек зайдете? Я согрею.
— Спасибо. Захаживайте вы.
— Правильно, доктор, — услышал Мазин сзади.
Он еще провожал взглядом пасечника, трусившего на ишаке по присыпанной снегом дороге. Голос принадлежал Валерию Невозможно было спутать его ироническую и вызывающую интонацию.
— Чем я вызвал ваше одобрение? — спросил он, медленно оборачиваясь.
— Осторожностью. Побоялись, что он вам яду в чай подсыплет? А? Краснодарский чай, экстра, с ядом. Звучит?
— Интересно… Зачем?
— Черт его знает!
— Не знаете? А почему подумали?
— Чтобы существовать: мыслю — значит существую. Вот и хочется просуществовать подольше. Есть у нас еще дома дела.
Мазин пристально посмотрел на художника.
— Что вас натолкнуло именно на это мрачное предположение?
Валерий ответил раздраженно, но не по существу:
— А что вы уставились на меня? То вам обернуться лень, то рассматриваете, как в телескоп.
— Вы красивый парень, Валерий. Фигура у вас хорошая, физкультурная. И лицо выразительное: подбородок мужественный, нос приятный.
— Премного благодарен!
— Не спешите, я не кончил. Удивительно постоянно созерцать на вашем мужественном лице какое-то капризное, я бы сказал, по-бабски обиженное выражение. И эта ваша страсть к стишкам…
— Кончайте, доктор. Тоже мне психоаналитик! Люблю я стишки. Хотите послушать? «Первая пуля ранила коня». — Валерий сделал паузу. — А вторая выбила стекло в известной вам хибаре.
Мазин почти точно описал внешность молодого художника, открытое лицо которого портила застывшая обиженная гримаса, да еще выглядело оно неряшливо — спутанные волосы, проросшая щетина, налет чего-то темного, нездорового, отчего лицо казалось невымытым.
— Вы искали меня, чтобы сообщить об этом?
— Нет. Чтобы спросить, кто будет вставлять стекло.
— Милиция установит.
— Пока милиция доберется, вам еще пару дырок просверлят.
— За что?
— Вам виднее.
Как хотелось Мазину, чтобы ему и в самом дело было «виднее», но видел он пока меньше, чем Валерий, и потому приходилось продолжать этот напряженный, прощупывающий разговор с нервным, ощетинившимся художником. Но тот внезапно, подчиняясь какой-то внутренней, непонятной Мазину логике, убрал колючки.
— Послушайте, док! Я вас так на американский манер называть буду, чтобы покороче. Что мы сцепились, как собака с кошкой? Двух дней не знакомы, а обязательно слово за слово. Где ваш друг, прокурор?
— Он…
— …не прокурор. Знаю. Плевать! Вы ведь тоже не доктор?
— А кто же?
— Меня это не касается. Хотите проходить за доктора, пожалуйста! Только не беритесь лечить младенцев. Мамаши вам этого не простят. И не придирайтесь ко мне на каждом шагу. Пойдемте лучше к прокурору и обсудим кое-что. Для вашей пользы.
И Валерий смахнул с носа таявшие снежинки.
Сосновский задумчиво мерил комнату шагами. Он посмотрел на вошедших, как бы соображая, что это за люди.
— Те же и Калугин-младший, — отрекомендовался Валерий.
— Никого больше не подстрелили?
— Кажется, никого, но Валерий не исключает возможности отравления. Он не доверяет Демьянычу.
— Вот как! — отозвался Борис Михайлович деловито. Заметно было, что его уже ничем не удивишь. — Факты есть? Основания? Почему заподозрил старика?
Валерий сморщился.
— Я видел его с карабином Филипенко минут через пять после выстрела на тропе за хижиной.
Это произвело впечатление.
— Расскажи!
— Встретились случайно. Мне не хотелось идти домой. Спросите, почему? Долго объяснять. Но было нужно. Бросить Марину одну — свинство, хотя и ее видеть не хотелось. Но это не относится. Короче, решил идти дорогой, что подлиннее. Вдруг — выстрел, отчетливый, винтовочный. Думаю — Матвей…
— Вы знали, что у Филипенко есть карабин? — уточнил Мазин.
— А кто не знал? Не сбивайте меня. Думаю — Матвей, но вспомнил, что егерь-то в район собрался. Кто ж палит? Матвей — мужик сердитый, не дай бог его оружие в руки взять. Посмотрели б вы, как у него глаза кровью наливаются! Ну, я пошел на выстрел. Идти пришлось недолго.
— С осторожностью или напрямик?
— Выслеживать не собирался.
— И что же?
— Наткнулся на старика. Усаживается на осла, в руке карабин.
— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Сосновский.
— Ничего он мне не сказал, потому что я ничего не спрашивал.
В словах Валерия промелькнула неуверенность, сомнение в том, что его правильно поймут.
— Тебя не удивило, что стреляет Демьяныч, да еще из чужого карабина? — Сосновский повернулся к Мазину. — Старик проповедует: «не убий» живую тварь, а тут с карабином!
— Слишком удивило. Пока соображал, он на ишака взгромоздился и отчалил.
— Не заметив вас?
— Я, док, стоял за деревом.
— Куда он дел карабин?
— Увез.
— Открыто?
— Разве его спрячешь? Не иголка. В карман не поместится.
— Резонно. А дальше?
— Пошел домой, тут и узнал, что стреляли-то в вас.
Снова удивился.
— Кто вам сказал?
Валерий усмехнулся непонятно:
— Кушнарев сообщил.
— Интересно, с какой целью?
— Не ведаю. Глубокомысленно плел, с подходами и намеками.
— На что намекал?
— Сволочь!
— А если без эмоций?
— Пожалуйста! Меня подозревает.
— Не горячитесь, Валерий! В такой запутанной ситуации можно заподозрить кого угодно. Кушнарев — вас. Вы — пасечника.
— Я видел его с карабином. Больше я ничего не сказал. А кого подозреваю, дело мое.
— Напрасно ты не подошел к нему. Возможно, он объяснил бы свое поведение, — сказал Борис Михайлович.
— Хотел бы послушать.
— Возможен и такой вариант, — предположил Мазин. — Стрелял не Демьяныч, а… ну Икс, скажем. Выстрелил и бросил винтовку на тропе. Пасечник проезжал и увидел ее.
— Свежо предание, но верится с трудом…
— Значит, вы допускаете, что Демьяныч мог стрелять. Не утверждаете, но допускаете. Почему? Известно, что пасечник не берет в руки оружия, что он стар и, вероятно, не такой уж отчаянный человек — наконец, у него нет видимых оснований желать моей смерти. Это говорит в пользу Демьяныча, не так ли? И все-таки вы допускаете противоположное. Повторяю: почему? Есть ли у вас какие-то еще, не известные нам с Борисом Михайловичем основания? Или вас запугала путаница с ножом и подозрения Кушнарева, вы нервничаете и ищете алиби?
Валерий покусал верхнюю губу.
— А вы не из простаков, доктор. Может быть, это вы прокурор? Что-то вы в нашей беседе на допрос сбиваетесь. Не нравится мне это. Я сам к вам пришел.
— Важно понять, зачем вы пришли и с чем, с какой целью.
— С чем, я выложил. А вот зачем, ответить трудно. Предположим, вы мне симпатичны, и я не хочу, чтобы вас подстрелили.
— Спасибо. Уверен, что в вашей иронии есть доля серьезного. Но не все вы сказали. Что-то еще у вас на душе осталось.
— Душа, док, — загадка. Особенно славянская. Оставим ее. И пасечника тоже. Нет у меня улик против него. Но он мне не нравится. Финиш.
— Откуда финиш, Валерий? Четверть дистанции.
— Я сошел с дорожки. — А нам что делать?
— Бегайте. Можете забежать к старику и поинтересоваться его похождениями.
— Вы и утром его подозревали? Во время нашего разговора в хижине? — спросил Мазин.
Художник вспылил:
— Я вам отвечал! Помните, что я отвечал? Никаких предположений! Я к вам не с догадками пришел, а с фактом. Не устраивает он вас — разрешите откланяться.
Он круто повернулся на каблуках, оставив на полу комок грязи, прилипшей к подошве, и вышел из домика.
— Нервный юноша, — проговорил Игорь Николаевич, раздумывая. — Старика он подозревает. И не подошел к нему в лесу, потому что выслеживал, хоть и не нравится ему это слово. А зачем было следить, если он не знал, что стреляли по человеку в хижине? Не знал? Мог и не знать. Такие ребята легко заводятся. Но материал он нам подбросил. Куда только его употребить? И как систематизировать? Может быть, в самом деле спросить у Демьяныча? Он приглашал меня на чашку чаю.
— Постой. А что плел Валерий об отравлении?
— Это от избытка воображения. Сначала предостерег, потом говорит: зайди! Непоследовательно. Однако зайти придется. Не понимаю, зачем было старику тащить с собой карабин?..
«Посиди за столом», — сказал он. Мазин вдруг осознал, что распоряжается в чужом доме, что дом этот, ни в чем не изменившись за ночь, стал совсем другим, превратился в место преступления, и вести себя в нем надлежит иначе, чем вчера вечером. Это было знакомое ощущение. Не раз ему приходилось появляться в квартирах в трагические минуты, осматривать их, как врач осматривает больного, стараясь увидеть все, чтобы сохранить в памяти необходимое, то, что требуется, не больше. Без оскорбительного любопытства осматривал он портреты и фотографии, шкафы с одеждой и столы с дорогими кому-то письмами и пожелтевшими документами. Он умел делать это, не причиняя боли, профессионально и деликатно касаясь кровоточащих ран, ни на секунду не забывая, что мир состоит из людей, а не из потерпевших и преступников.
Но и сами люди, скованные горем или страхом, напрягались, теряя обычную чувствительность, а дома их, жилища, подчиняясь какому-то психологическому иммунитету, вдруг превращались просто в обстановку, среду жизни, утрачивали неповторимо личное, интимное. Горе как бы вскрывало призрачность, сиюминутность мира, который люди склонны кропотливо, настойчиво создавать вокруг себя. Пришла беда, и жестокая реальность вторгается в мир, который только что казался единственным, нерушимым, только тебе принадлежащим, и он дробится на составные части, каждая из которых возвращается к своему первоначальному простому предназначению: кровать становится обыкновенной мебелью, а фотокарточка — листком бумаги, запечатлевшим не кусочек жизни, а ее оптическое отражение.
Духом этой жестокой реальности, возвращающей все на свои места, и пахнуло сейчас на Мазина в калугинском доме, показавшемся ему кораблем, когда они с Борисом спешили ночью под ливнем, и ряды окон светились, как палубы, разгоняя грозу. Но свет погас, корабль на мели, капитан с зарядом картечи в груди лежит в рубке, и чужие люди ходят по дому, думая о том, что непогода скоро кончится и можно будет сложить чемоданы и рюкзаки и покинуть навсегда ставшее таким неуютным, вчера еще шумное и гостеприимное жилище.
«Наверно, Марина продаст дом», — подумал Игорь Николаевич, подходя к ее комнате, и испытал сожаление. Он постучал и приготовился к тому, что ответят не сразу. Калугина могла и забыться. Она имела на это право. Но ответила немедленно, и он вошел. Марина сидела почти в той же позе, что и утром, но уже не вязала.
— Игорь Николаевич?
— Да, я.
— Бы, конечно, осуждаете меня за то, что я здесь, а не наверху?
— Вам не следует быть там. Борис Михайлович запер мансарду до приезда милиции.
— Нет, я должна быть там. Я знаю, что должна. Но я не могу, — призналась Марина. — И в то, что случилось, почти не могу поверить. В моей жизни никогда ничего не случалось. А теперь я знаю, такое в самом деле бывает. Не в кино и не с другими. Со мной… И нужно пережить…
Без косметики, без привычного лоска она выглядела совсем молодой и беспомощной, похожей на вчерашнюю школьницу, провалившуюся на вступительном экзамене в институт.
— Нужно. Многое удается пережить. Существует запас прочности.
— Откуда? У нас никто не умирал. Даже бабушка и дедушка живы. И знаете, что ужасно! Я не о нем жалею, я себя жалею.
— Простите, вы любили Калугина?
Она вспыхнула.
— Зачем вам это? Наверно, нет, раз я так поступаю.
Он помолчал.
— Я сам показалась дрянью, да?
— Почему? Вы старались ответить искренне. Как вы познакомились с Михаилом Михайловичем?
— На выставке. Он выставлялся. Была встреча. Я задавала вопросы о его работах, они показались мне старомодными. Он объяснял подробно, дал мне свой телефон. Я сначала боялась. Девчонки смеялись: трусишь! Ну, я решила доказать, позвонила.
— Его первая жена умерла?
— Да. Решили, что я женила его на себе?
— А как вы считаете?
— Никогда так не думала. Нет. Все проще. Сейчас многие стараются жить просто, — пояснила она то ли убежденно, то ли с горечью.
— Просто? Сколько вы тратили в месяц?
— Нет, вы не поняли. Не о деньгах… Просто смотреть на вещи, не усложнять. Ведь оттого, что много думаешь, не становишься счастливее, правда?
— А вы были счастливы?
— Все считали, что мне повезло.
— Квартира в Москве, этот дом, машина, поездки за границу?
— Ну да. Но я не виновата. Он сам…
— Как же вы все-таки относились к Калугину? Марина отвернулась.
— Я ценила заботы Михаила Михайловича.
«А что вы дали ему?» — хотел спросить Мазин, но сформулировал вопрос иначе:
— А он вас за что ценил?
— Он ценил мою молодость, — ответила она сухо. — Дорожил мной. Жена была старше его и много болела.
Мазин не откликнулся на этот прямолинейный ответ. Ему послышалась в нем нарочитость. Да он и не относился к числу моралистов. Не затем он пришел в эту комнату. Его интересовало другое: виновна ли сидевшая перед ним женщина в смерти своего мужа?
— Рассказывал ли Михаил Михайлович вам о своем прошлом?
— Он не любил говорить о прошлом. «Зачем тебе это? — спросит. — Ты тогда под стол пешком ходила. Да и невыгодно мне свой возраст подчеркивать». Отшутится — и все.
— Что же вы знали?
— То, что все. Он деревенский. На войне был, ранили его, демобилизовали, учился в Москве. Потом его признали…
— Откуда Калугин родом?
— Из Белоруссии.
— У него остались родные?
— Нет, погибли во время войны.
— Когда он женился в первый раз?
— Сразу после войны. Она была из Казани. Вдова. Ее мужа убили на фронте.
— Михаил Михайлович жил в Казани?
— Он ездил туда по делам… не знаю. А теперь вдова я. Смешно, да? Ведь сейчас вдов не бывает.
Мазин сидел рядом с Мариной. «Пожалуй, спальня маловата». Бросалось в глаза, что, несмотря на размеры всей дачи, комнаты были небольшими. Все, кроме гостиной. Зато комнат было много.
— Михаил Михайлович сам проектировал этот дом? — спросил Мазин, отвлекаясь от главной мысли о прошлом Калугина, которая не должна была звучать навязчиво.
— Да, тут все сделано, как он хотел.
— А какова основная идея этого дома? Вы понимаете меня? Когда человек с возможностями Михаила Михайловича и его индивидуальностью берется за такое сооружение, тут не может быть случайного, тут должна быть общая идея. Зачем такой дом? Спокойное место работы? Или отдыха? Уединения?
— Нет. Только не уединения. Он терпеть не мог одиночества. Ему постоянно нужны были люди. Знакомые, незнакомые. Он любил гостей, любил угощать, любил, когда у нас ночевали, засиживались допоздна.
— Вас это не тяготило?
— Иногда. Но хозяином в доме был он. Однажды я сказала, он вспылил: «Я трачу свои деньги!» Я испугалась, что он сочтет меня скрягой, подобравшейся к тому, что он заработал.
«Она подчеркнула свое бескорыстие».
— Калугин был щедр?
— Еще бы! Вы не поверите, у нас… у него не осталось никаких сбережений. Сразу придется все продавать. И эту гостиницу…
Гостиница! Именно. Дом, в котором будет жить много посторонних людей, — вот как он замышлялся. Или почти посторонних, случайных. У Калугина нет родственников, и вряд ли можно найти столько настоящих друзей, чтобы заполнить все эти комнаты.
Мазин огляделся. Широкая тахта, туалетный столик, шкаф, и совсем мало свободного места… На стене картина или набросок, сразу не поймешь — то ли современная раскованная манера, то ли недописано, недоработано: тяжелый, пасмурный фон, почти такой, как сейчас за окном, силуэты гор, насупившийся лес — все грубо, в невыразительной серо-зеленой тональности, — и вдруг приковывающая глаз яркая точка, пятно, нет, не пятно, а полоска, красный бросок кистью поперек покрытого тучами неба, как след взлетающей ракеты или, наоборот, несущейся к Земле, входящей в атмосферу. Или метеорит? Нет, на картине день, и комок пламени не похож на небесное тело…
— Мрачновато для спальни.
— Ужасно. Далеко не лучшее, что написал Михаил Михайлович. Я говорила, что колорит меня угнетает. Тогда он взял кисть и бросил этот красный мазок. «Что это?» — спросила я. Он пожал плечами: «Так лучше смотрится».
Это действительно был один бесформенный мазок. Но случайный ли?
— Михаил Михайлович писал с натуры?
— Ему нравились окрестности Красной речки.
«Он знал, что там самолет, разбившийся, сгоревший», — думал Мазин, глядя на алое пятно — след пламени, прорезавший горизонт.
— В каких войсках служил ваш муж?
— В пехоте.
Это прозвучало отрезвляюще. Где связь между гибелью самолета, разбившегося четверть века назад, и убийством Калугина? Он не был летчиком и не мог находиться в самолете. Но мог оказаться свидетелем его гибели. Мог сражаться в горах, защищать перевалы. Однажды над головой солдат вспыхнул воздушный бой. Калугин видел, как подбитая машина устремилась к земле. Это запомнилось, вернулось через годы, отразилось на клочке полотна, холста. И все? Скорее всего…
— Он воевал на Кавказе?
— Кажется, нет.
— Его не связывали с Дагезаном воспоминания, прошлое?
— Нет. Он выбрал это место потому, что его при, влекла природа, натура. Так он говорил. Я еще училась тогда.
— Где вы учились?
Это был снова шаг в сторону, в нужном или случайном, бесполезном направлении, Мазин не знал.
— В цирковом училище.
— Вот как? По призванию?
Потухшее лицо Марины оживилось.
— Цирк нельзя не любить.
Было в этой женщине трудно воспринимаемое противоречие: цирк, спорт — все это требует воли, настойчивости, характера. И тут же стремление жить «просто», по течению, слабость.
— Значит, Михаил Михайлович не служил на Кавказе?
Вопрос вырвался вопреки логике.
— Я могу уточнить. Я записала важные даты из его жизни. Чтобы знать, чтобы помнить, чтобы как-то понять его прошлое, прикоснуться к нему, не быть чужой. Стащила его автобиографию, вернее — хронологию. У него хранился такой листок. Как справка. Я переписала.
«Она старалась быть хорошей женой».
Марина достала из сумки блокнот. То, что интересовало Мазина, было записано на листке, спрятанном под обложку. Очевидно, ей не хотелось, чтобы этот кадастр попался мужу. Почерк у Марины оказался мелкий, но четкий. И сокращения были понятны. Сверху стояло: «Все о М.М.». Она не привыкла звать мужа мысленно по имени. Дальше шли цифры и короткие слова:
«Род. 21.8.22 в Кулешовке».
«Пост. в шк. — 29 г.».
«Оконч. ср. шк. — 39 г.».
«Пост. пединститут — 39 г.».
«40 г. — призван в РККА».
Так и было написано — РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия, как называли в те годы. Марина добросовестно скопировала записи.
«41, июль — ранен на фронте».
«41, июль — сент. — госп. Воронеж».
«41, окт.–42, март — воен. учил. Ашхабад».
«42, май — ранен на фронте».
«42, май — август госп. Арзамас. Признан негодн. Демобилиз.».
«44 — пост. Моск. худ. уч.».
Дальнейшие записи говорили почти исключительно об успехах:
«Перв. выст.», «Награж.», «Приев, зв.» и т. п.
Личных было мало:
«46, сент. 14 — женился на К.Ф. (д. рожд. Вал. — 14.10.41)».
«67, 8 апр. — ум. К.Ф.».
Военные даты Мазин просмотрел еще раз.
Калугин, видимо, начал войну с первых дней на границе и уже через месяц, а может быть, и раньше (числа в записи не было) был ранен, лежал в госпитале в Воронеже, что довольно далеко от Кавказа, а затем был откомандирован в Среднюю Азию, в военное училище. Потом снова фронт, и снова ранение, тоже не на Кавказе, потому что к этому времени немцы сюда еще не добрались. Лечился в Поволжье. Демобилизовался. Учиться продолжал в Москве. Правда, в сорок первом Калугин мог ехать в Среднюю Азию через Баку и Красноводск. Но что из того? Железная дорога проходит по равнине далеко от Дагезана.
Игорь Николаевич положил листок на столик и почувствовал, что дышать стало труднее. Заложило нос. «Неужели ко всем прочим сюрпризам прибавится насморк? — подумал он с огорчением. — Совсем не вовремя, хотя и не удивительно в такой сырости». Он достал платок и уловил непривычный запах. На белой тканивыделялись пятна краски. Платок был выпачкан так, будто краску вытирали, она размазалась по чистому полотну. Но главное — это был не его платок.
— Это платок Михаила Михайловича, — узнала Марина.
Мазину стало неудобно.
— Вы уверены? Не пойму, откуда он у меня.
— Я привезла две дюжины таких платков. Он признавал только белые, но относился к ним варварски. Если не попадалось под руку ничего подходящего, вытирал краски.
— Тогда понятно. Наверно, я сунул платок в карман, когда находился в мастерской.
— Скорее всего. Платки всегда валялись на тахте или кресле.
Возвращать платок показалось нетактичным, неуместным. Мазин спрятал его в карман, почувствовав на ощупь, что ткань грязновата, в чем-то маслянистом, не только в засохшей краске.
— О чем вы хотите еще спросить?
Оставался трудный вопрос: он собирался спросить о Валерии.
— Где сейчас Валерий?
Марина плотнее поджала под себя ноги.
— Наверно, прячется в хижине возле пруда. — И добавила, имея в виду Калугина: — Мы оба его бросили. Один Алексей Фомич остался с ним. А мы… такие свиньи. Стыдно. Люди разных поколений не понимают друг друга. Я это давно чувствовала, но думала, что мы, молодые, лучше… Нет. Мы трусливее. Бежим куда-то, в хижину на озере или в самих себя, а Кушнарев остался. Я и перед ним виновата, он казался мне лишним у нас, вообще в жизни лишним. Смешно, я думала, что жить стоит, пока ты что-то значишь. А что я значу? — Ей, видимо, становилось легче от этого самобичевания, и она преувеличивала и наговаривала. — Алексей Фомич не подходил к нашей обстановке. Не вязался. Неряшливый, суетливый. Неприятно было видеть на ковре его починенную обувь. И наверно, я ревновала. Он имел какие-то права на Михаила Михайловича, или нет…
Мазин прислушался.
— Права?
— Моральные, конечно. Старая дружба. Он приходил, когда хотел, много ел. Ел жадно, неаккуратно, вымазывал тарелки хлебом. Как будто голод.
— Вы из обеспеченной семьи?
— Да. Мы всегда жили хорошо. Я ж единственная. Недавно одна журналистка писала, что единственные дети неполноценные, воспитаны ненормально. В основном загибает, потому что теперь почти все единственные, а не могут же все быть неполноценные? Но что-то тут есть. Посмотрели б вы на мою мамочку. Уж она-то не позволила бы мне вымазывать тарелку. Сразу лучший кусочек!
— Кто ваши родители?
— Мама — очень хорошая портниха, а папа — строитель. Я сбежала от их опеки, торопилась жить самостоятельно.
— И вам не нравились неаккуратные люди в вашем доме?
Марина не заметила сарказма. Хотя говорила она охотно, внешне откровенно, но говорила прежде всего сама с собой, отвечала на собственное, о чем раньше не думала и что открылось неожиданно. Не думала… Но чувствовала, может быть подсознательно, потому что если бы не чувствовала, не смогла бы говорить так, как говорила.
— Знаете, что я поняла ночью, когда не спала? Что, когда все в порядке, а у меня было даже лучше, чем «все в порядке», жизнь воспринимаешь неправильно. Действуют вещи незначительные, создается мир пустяков, которые принимаешь всерьез. И не замечаешь главного.
— Что вы считаете главным? — спросил Мазин, с интересом улавливая в Марине нечто новое, прорывающееся сквозь наивный цинизм и бездумный эгоистический фатализм.
— Вы видели, я выписала даты, чтобы покупать цветы в день рождения, а близким человеком не стала, не сумела. И это неправда, что я не любила. Но я о другом… Верьте или нет, его убили не случайно. Он что-то предполагал, что-то беспокоило его, но ему и в голову не пришло поделиться со мной. Я была далеко. Я фантазирую, да?
— Зачем вы сказали Валерию, что отец погиб сразу?
Ответ напрашивался: сказала потому, что Валерий — сын, пусть не родной, но он имел право знать правду. Ложь же была рассчитана на преступника, которым не может быть Валерий. Так следовало ответить, и так Марина и ответила, но ответ дался ей с трудом. И трудно было понять, утверждение это или встречный вопрос.
— Но он, он же не мог убить.
— Верно. С точки зрения здравого смысла, нормального, неиспорченного человека. Однако и нормальный человек в самом здравом уме способен оказаться во власти неожиданных, неоправданных сомнений, утратить чувство реальности…
— Что вы хотите сказать?
Она приподнялась на тахте, зябко прижав к плечам мягкий шарф.
— …особенно когда речь идет о человеке близком, которого не хочется подвергать опасности.
— Вы это обо мне… и Валерии?
— Не только. Скорее вообще. — Мазин сказал все, что собирался. Больше говорить пока не следовало. — Вы упомянули, что Кушнарев был близок Михаилу Михайловичу…
— Да, да. — Марина обрадовалась повороту разговора Видимо, боялась даже продумать, проанализировать слова Мазина, оценить степень их определенности. — Но я не понимала этого. Он казался старым неудачником, навязчивым, неподходящим… Меня раздражало его право на постоянное внимание Михаила Михайловича.
— Опять это слово — право.
— Оно неудачное. Но странно. Казалось бы, Кушнарев должен был чувствовать себя обязанным. Михаил Михайлович так много ему помогал!..
— А было наоборот? Калугина тяготила эта дружба?
— Нет. Однажды я не выдержала, сказала: «Михаил, все-таки Алексей Фомич неприятный человек». Он посмотрел на меня так… Когда он становился суровым, резким, я чувствовала себя беспомощной. Он бывал обычно мягким, приветливым, но иногда в нем прорывалось непреклонное, категоричное. Возражать было нельзя. И в этот раз он крикнул: «Не смей так говорить!» Я растерялась. А ему стало неудобно, он попытался разъяснить: «Ты молодая. Ты не жила в то время, когда нам пришлось жить, а это было не самое легкое время. Люди испытывались по-настоящему: горе было горе, а жизнь — жизнь. Кусок хлеба был жизнью, а не ужин в «Арагви». Это понимать нужно. И жизнь может ударить неожиданно. Алексея ударило под корень».
— Он стал жертвой несправедливости?
— Да. Михаил Михайлович рассказал мне. Он считался очень талантливым, самородком. Его все любили, прочили блестящее будущее. Он хотел возводить дворцы, вроде Дворца Советов, что на месте бассейна планировали. Тогда особенно любили молодых и талантливых, выдвигали, гордились, писали в газетах. Мировой проект советского архитектора! Да что я вам рассказываю, вы лучше знаете. И вдруг рухнуло. Он любил женщину, очень любил… и ее нашли убитой. Все улики пали на него. Он был последним, с кем ее видели в тот вечер. Он ревновал ее, был вспыльчивым… Его арестовали, обвинили. Он отсидел почти весь срок. В самом конце, уже во время войны, в Москве поймали бандитов, которые грабили квартиры эвакуированных. Выяснилось, что и та женщина — их жертва, а Кушнарев не виноват.
Игорь Николаевич до боли сжал кулак. Судебная ошибка… Такие трагедии по-прежнему случаются; наверно, в полном соответствии с теорией вероятностей. Как авиационные катастрофы, преждевременная смерть, необъяснимая вражда между близкими людьми, врываются и они в жизнь, подобно эпидемии в средневековые города, внезапно и беспощадно, и мы до сих пор не можем предотвратить их. Но нельзя смириться с этой проклятой неизбежностью, сколько б ни подкрепляла ее бездушная статистика. И, как всегда в подобных случаях, Мазин испытал острое чувство личной вины, собственной ответственности.
— Алексея Фомича освободили, но он был разбит. Он так верил в жизнь! Потрясла и ужасная гибель женщины, которую он любил. Сначала он уехал к себе на родину, жил там затворником, приходил в себя, потом появился в Москве, однако создать ничего стоящего не смог. Пришло другое время, другие требования. Он устарел со своими дворцами. Начал пить… Михаил Михайлович старался поддержать его. Это я теперь поняла, а тогда…
— Как они подружились?
— Они знали друг друга давно. Но Валерий помнит, что появился Алексей Фомич неожиданно. Много лет Михаил не слыхал о нем. Потом Кушнарев прочитал в газете о выставке… Нет, кажется, это произошло иначе. Не помню точно. Да это неважно.
«Неважно?» Для Марины. Но Мазину, который привык мыслить профессионально, кое-что в ее рассказе показалось странным.
— Выходит, они возобновили знакомство лет десять или пятнадцать назад?
— Не раньше. Иначе Валерий бы не запомнил.
«Что же говорил Кушнарев? «Просто, когда он (Калугин) был еще неизвестен, мне понравились его рисунки, и я сказал об этом». И слова сыграли важную роль! Кушнарев поддержал Калугина в момент, когда тот нуждался в поддержке, очень нуждался, если память о такой поддержке сохранилась на всю жизнь, не стерлась в годы успеха. Но выбитый из жизни, измученный, забытый Кушнарев не мог сыграть такую роль в судьбе Калугина десять или пятнадцать лет назад, когда тот уже завоевал известность и твердо стоял на ногах. Значит, речь шла о более раннем периоде? Да, архитектор упомянул «давно прошедшее время». Какое же? Арестован он был до войны…»
— Когда арестовали Кушнарева?
— Он любит повторять: «Я жил на свете двадцать шесть лет». А родился он в девятьсот девятом.
«Девять плюс двадцать шесть получается тридцать пять. Если Марина не путает, архитектор попал в тюрьму в тридцать пятом году и, находясь там, наверняка не мог сыграть никакой заметной роли в судьбе Калугина. А до тридцать пятого? До тридцать пятого Михаилу Калугину было… он был мальчишкой, школьником. Вот так арифметика! Кушнарев соврал? Зачем? Своего рода самовнушение? Самообман испытавшего крах надежд человека? Но как увязать эту легенду с сомнениями в искренности Калугина?
Когда я предположил, что Калугин боялся, Кушнарев согласился, даже буркнул: «глубоко копнул». Или это была ирония? Если записи верны, у художника не было никаких оснований опасаться Кушнарева. Абсолютно никаких. Прекрасная биография, простая, чистая, — школа, армия, фронт, учеба, творческий путь — всё по восходящей. И семейная жизнь не вызывает сомнений: очевидная преданность первой жене, забота о ее сыне, потом этот брак, пусть с разницей в возрасте, но по-человечески понятный. Ни единого нарушения ни уголовного, ни морального кодекса. И хотя у него не было к этому никаких видимых оснований, Калугин чего-то боялся. Однако если я правильно понял, Калугину следовало относиться к Кушнареву дружески и уважительно. Мысль о том, что отношения их не просты, а чем-то осложнены, отравляла ему жизнь, беспокоила Кушнарева. Иначе он не высказал бы ее так опрометчиво при посторонних, да еще в такой день. Почему же Калугин не должен был бояться? Потому ли, что Кушнарев был ему предан, или потому, что сама причина опасений была незначительной, преувеличивалась? Впрочем, я опять ушел далеко…»
— Простите, Марина Викторовна. Я утомил вас расспросами.
Мазин встал. Но он видел, что ей хочется еще что-то сказать — возможно, спросить. Он посмотрел выжидательно.
Марина решилась:
— Игорь Николаевич, я не совсем поняла вас, когда вы говорили о Валерии. Вы говорили неопределенно, но связывали наши имена.
— Вас это обеспокоило?
— Да, Я уверена, уверена, что Валерий… Даже говорить страшно. Он не мог. Он не такой. И у нас ничего-ничего не было. Хотя он сумасброд, несерьезный.
— Что значит сумасброд?
— Ну, глупил иногда. Мог стать поперек тропы верхом и сказать ерунду: «Требую выкуп. Не поцелуешь — не пущу».
— Эти… глупости не находили отклика?
— Что вы! Никогда. Он просто шутил, я думаю.
— А Михаил Михайлович знал о таких шутках?
— Нет. Ему было бы неприятно.
«Да, такие шутки радости не приносят. Она это понимала. Однако Калугин мог знать. Знал же Демьяныч».
— Спасибо, что поделились, Марина Викторовна. Не беспокойтесь, придавать этому значения я не собираюсь.
«Это всего лишь одна из рабочих гипотез», — добавил он про себя.
Позднее Мазин удивлялся своеобразному двойному течению времени в эти три дня. События развивались стремительно, с промежутками в считанные часы: смерть Калугина, вторичное покушение на него, выстрел на озере — все это заняло меньше суток и, казалось, требовало лихорадочного ответного ритма, энергичной деятельности. Между тем сам Мазин воспринимал происходящее как бы растянутым на гораздо более широком промежутке времени; он не мог избавиться от ощущения, что находится в Дагезане давным-давно, а не приехал сюда вчера, погостить у Сосновского. Ощущение это смущало, вызывало сомнение в правильности собственных действий.
«Я похож на самодовольного неторопливого чиновника, которого даже пуля под мышкой не может расшевелить, нарушить консервативную привычку поспешать медленно. А ситуация иная. Нужны немедленные решения. Мне показалась наивной прямолинейная уловка Бориса объявить Калугина живым, а убийца на нее клюнул и попался бы намертво, если б я не промедлил. И продолжаю медлить, предпринимаю продолжительные исторические экскурсы, а требуется прежде всего определить, от кого исходит опасность, и принять меры, чтобы никто больше не пострадал».
С этой мыслью Мазин вошел в гостиную, где усвоивший азы дисциплины Коля Филипенко терпеливо дожидался ею за столом.
— Как вахта?
— Валерий приходил.
— Наконец-то! Блуждающий форвард. К себе пошел?
— Нет. Сначала у Алексея Фомича был, потом вас спрашивал. Я сказал. Он походил по комнате, походил, наверх поднялся, туда. — Мальчик показал пальцем на мансарду. — Спустился быстро, опять про вас спросил. Узнал, что вы не выходили, выпил стакан вина и ушел.
— Не знаешь куда?
— Не… Вы же сказали, сидеть.
«Интересно, зачем я понадобился Валерию?»
— Ладно. Гуляй пока.
Игорь Николаевич подтолкнул Колю к дверям и вышел вслед за ним. Пушистые хлопья спускались с неба, украшали неторопливо ближние елки. Мазин невольно поискал игрушки на ветках — так по-новогоднему выглядел этот еще раз сменивший декорации Дагезан. Из взлетевшего над дорогой снежного роя появился всадник. В своей неуместной соломенной шляпе с отсыревшими опустившимися полями Демьяныч походил на Санчо Пансу, покинувшего сумасбродного хозяина.
— Мое почтение, Игорь Николаевич! — Пасечник наклонился в седле. — Новенького-то что?
Говорить о ранении не хотелось.
— Все по-старому. Ничего не известно.
— Ничего, значит? И то слава богу. — Пасечник тронул осла каблуками. — Может, на чаек зайдете? Я согрею.
— Спасибо. Захаживайте вы.
— Правильно, доктор, — услышал Мазин сзади.
Он еще провожал взглядом пасечника, трусившего на ишаке по присыпанной снегом дороге. Голос принадлежал Валерию Невозможно было спутать его ироническую и вызывающую интонацию.
— Чем я вызвал ваше одобрение? — спросил он, медленно оборачиваясь.
— Осторожностью. Побоялись, что он вам яду в чай подсыплет? А? Краснодарский чай, экстра, с ядом. Звучит?
— Интересно… Зачем?
— Черт его знает!
— Не знаете? А почему подумали?
— Чтобы существовать: мыслю — значит существую. Вот и хочется просуществовать подольше. Есть у нас еще дома дела.
Мазин пристально посмотрел на художника.
— Что вас натолкнуло именно на это мрачное предположение?
Валерий ответил раздраженно, но не по существу:
— А что вы уставились на меня? То вам обернуться лень, то рассматриваете, как в телескоп.
— Вы красивый парень, Валерий. Фигура у вас хорошая, физкультурная. И лицо выразительное: подбородок мужественный, нос приятный.
— Премного благодарен!
— Не спешите, я не кончил. Удивительно постоянно созерцать на вашем мужественном лице какое-то капризное, я бы сказал, по-бабски обиженное выражение. И эта ваша страсть к стишкам…
— Кончайте, доктор. Тоже мне психоаналитик! Люблю я стишки. Хотите послушать? «Первая пуля ранила коня». — Валерий сделал паузу. — А вторая выбила стекло в известной вам хибаре.
Мазин почти точно описал внешность молодого художника, открытое лицо которого портила застывшая обиженная гримаса, да еще выглядело оно неряшливо — спутанные волосы, проросшая щетина, налет чего-то темного, нездорового, отчего лицо казалось невымытым.
— Вы искали меня, чтобы сообщить об этом?
— Нет. Чтобы спросить, кто будет вставлять стекло.
— Милиция установит.
— Пока милиция доберется, вам еще пару дырок просверлят.
— За что?
— Вам виднее.
Как хотелось Мазину, чтобы ему и в самом дело было «виднее», но видел он пока меньше, чем Валерий, и потому приходилось продолжать этот напряженный, прощупывающий разговор с нервным, ощетинившимся художником. Но тот внезапно, подчиняясь какой-то внутренней, непонятной Мазину логике, убрал колючки.
— Послушайте, док! Я вас так на американский манер называть буду, чтобы покороче. Что мы сцепились, как собака с кошкой? Двух дней не знакомы, а обязательно слово за слово. Где ваш друг, прокурор?
— Он…
— …не прокурор. Знаю. Плевать! Вы ведь тоже не доктор?
— А кто же?
— Меня это не касается. Хотите проходить за доктора, пожалуйста! Только не беритесь лечить младенцев. Мамаши вам этого не простят. И не придирайтесь ко мне на каждом шагу. Пойдемте лучше к прокурору и обсудим кое-что. Для вашей пользы.
И Валерий смахнул с носа таявшие снежинки.
Сосновский задумчиво мерил комнату шагами. Он посмотрел на вошедших, как бы соображая, что это за люди.
— Те же и Калугин-младший, — отрекомендовался Валерий.
— Никого больше не подстрелили?
— Кажется, никого, но Валерий не исключает возможности отравления. Он не доверяет Демьянычу.
— Вот как! — отозвался Борис Михайлович деловито. Заметно было, что его уже ничем не удивишь. — Факты есть? Основания? Почему заподозрил старика?
Валерий сморщился.
— Я видел его с карабином Филипенко минут через пять после выстрела на тропе за хижиной.
Это произвело впечатление.
— Расскажи!
— Встретились случайно. Мне не хотелось идти домой. Спросите, почему? Долго объяснять. Но было нужно. Бросить Марину одну — свинство, хотя и ее видеть не хотелось. Но это не относится. Короче, решил идти дорогой, что подлиннее. Вдруг — выстрел, отчетливый, винтовочный. Думаю — Матвей…
— Вы знали, что у Филипенко есть карабин? — уточнил Мазин.
— А кто не знал? Не сбивайте меня. Думаю — Матвей, но вспомнил, что егерь-то в район собрался. Кто ж палит? Матвей — мужик сердитый, не дай бог его оружие в руки взять. Посмотрели б вы, как у него глаза кровью наливаются! Ну, я пошел на выстрел. Идти пришлось недолго.
— С осторожностью или напрямик?
— Выслеживать не собирался.
— И что же?
— Наткнулся на старика. Усаживается на осла, в руке карабин.
— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Сосновский.
— Ничего он мне не сказал, потому что я ничего не спрашивал.
В словах Валерия промелькнула неуверенность, сомнение в том, что его правильно поймут.
— Тебя не удивило, что стреляет Демьяныч, да еще из чужого карабина? — Сосновский повернулся к Мазину. — Старик проповедует: «не убий» живую тварь, а тут с карабином!
— Слишком удивило. Пока соображал, он на ишака взгромоздился и отчалил.
— Не заметив вас?
— Я, док, стоял за деревом.
— Куда он дел карабин?
— Увез.
— Открыто?
— Разве его спрячешь? Не иголка. В карман не поместится.
— Резонно. А дальше?
— Пошел домой, тут и узнал, что стреляли-то в вас.
Снова удивился.
— Кто вам сказал?
Валерий усмехнулся непонятно:
— Кушнарев сообщил.
— Интересно, с какой целью?
— Не ведаю. Глубокомысленно плел, с подходами и намеками.
— На что намекал?
— Сволочь!
— А если без эмоций?
— Пожалуйста! Меня подозревает.
— Не горячитесь, Валерий! В такой запутанной ситуации можно заподозрить кого угодно. Кушнарев — вас. Вы — пасечника.
— Я видел его с карабином. Больше я ничего не сказал. А кого подозреваю, дело мое.
— Напрасно ты не подошел к нему. Возможно, он объяснил бы свое поведение, — сказал Борис Михайлович.
— Хотел бы послушать.
— Возможен и такой вариант, — предположил Мазин. — Стрелял не Демьяныч, а… ну Икс, скажем. Выстрелил и бросил винтовку на тропе. Пасечник проезжал и увидел ее.
— Свежо предание, но верится с трудом…
— Значит, вы допускаете, что Демьяныч мог стрелять. Не утверждаете, но допускаете. Почему? Известно, что пасечник не берет в руки оружия, что он стар и, вероятно, не такой уж отчаянный человек — наконец, у него нет видимых оснований желать моей смерти. Это говорит в пользу Демьяныча, не так ли? И все-таки вы допускаете противоположное. Повторяю: почему? Есть ли у вас какие-то еще, не известные нам с Борисом Михайловичем основания? Или вас запугала путаница с ножом и подозрения Кушнарева, вы нервничаете и ищете алиби?
Валерий покусал верхнюю губу.
— А вы не из простаков, доктор. Может быть, это вы прокурор? Что-то вы в нашей беседе на допрос сбиваетесь. Не нравится мне это. Я сам к вам пришел.
— Важно понять, зачем вы пришли и с чем, с какой целью.
— С чем, я выложил. А вот зачем, ответить трудно. Предположим, вы мне симпатичны, и я не хочу, чтобы вас подстрелили.
— Спасибо. Уверен, что в вашей иронии есть доля серьезного. Но не все вы сказали. Что-то еще у вас на душе осталось.
— Душа, док, — загадка. Особенно славянская. Оставим ее. И пасечника тоже. Нет у меня улик против него. Но он мне не нравится. Финиш.
— Откуда финиш, Валерий? Четверть дистанции.
— Я сошел с дорожки. — А нам что делать?
— Бегайте. Можете забежать к старику и поинтересоваться его похождениями.
— Вы и утром его подозревали? Во время нашего разговора в хижине? — спросил Мазин.
Художник вспылил:
— Я вам отвечал! Помните, что я отвечал? Никаких предположений! Я к вам не с догадками пришел, а с фактом. Не устраивает он вас — разрешите откланяться.
Он круто повернулся на каблуках, оставив на полу комок грязи, прилипшей к подошве, и вышел из домика.
— Нервный юноша, — проговорил Игорь Николаевич, раздумывая. — Старика он подозревает. И не подошел к нему в лесу, потому что выслеживал, хоть и не нравится ему это слово. А зачем было следить, если он не знал, что стреляли по человеку в хижине? Не знал? Мог и не знать. Такие ребята легко заводятся. Но материал он нам подбросил. Куда только его употребить? И как систематизировать? Может быть, в самом деле спросить у Демьяныча? Он приглашал меня на чашку чаю.
— Постой. А что плел Валерий об отравлении?
— Это от избытка воображения. Сначала предостерег, потом говорит: зайди! Непоследовательно. Однако зайти придется. Не понимаю, зачем было старику тащить с собой карабин?..
Пасечник увидел Мазина в окно и гостеприимно распахнул дверь. — Решились, Игорь Николаевич? — Соблазнился чаем. — Чаек готов. Он у меня всегда готов. Присаживайтесь. — Как сапоги, Демьяныч? — Великоваты сапожки оказались. Портянку подворачивать приходится. Не будет ли неловко, если я их егерю уступлю? Нога у него побольше… Старик возился неторопливо, и ничего в его поведении не подтверждало подозрений Валерия, разве что желание угодить, да и в том не заметно было угодничества, скорее чувствовалось хорошее доброжелательство. — Выходит, не продвинулось расследование, Игорь Николаевич? — Расследование? Это вы, Демьяныч, неточно сказали. Расследовать милиция будет, а мы с Борисом Михайловичем помочь хотели по возможности, да похвастаться пока нечем. — Может, оно и к лучшему, Игорь Николаевич. Дело замысловатое, запутаться легко. А коль результата нет — значит, на худой конец, и путаницы нет, ошибки нету. Мазин улыбнулся. — Кто ничего не делает, тот, по крайней мере, не ошибается? — Попроще беру. Себя виню, наговорил вам лишнего. — Лишнего? — Именно. Про Валерия. Выдумка моя, несерьезно. — Почему так строго, Демьяныч? — Если уж бесхитростно сказать, от обиды вышло, Игорь Николаевич. Плохой советчик обида. — Чем он вас обидел? Пасечник подул на горячий чай. — Да ничем вроде и не обижал. Скорее видимость одна. Человек так устроен: составит мнение и поверил, горе одно! «Они почти одинаково признаются во взаимной антипатии!» — Как сказал Цицерон: горе порождается не природой, но нашими мнениями? — Очень верно, Игорь Николаевич. Запомнить такие слова хочется. Мнение — важный предмет. И у меня своя гордость есть. Хоть я не заслуженный художник и ничем не знаменитый, а человек простой, трудящийся, но люблю, чтобы меня люди уважали. Тщеславие такое. Здесь я с людьми поладил, никто не жалуется, а вот Валерий, чувствую, против меня настроен. Зла не делает, но в шутках, насмешках проявляется. То сектантом обзовет, то единоличником. А какой же я единоличник, если за колхозной пасекой смотрю? Зачем такие политические упреки делать? Недобрый он, Игорь Николаевич. Отцу завидовал, а это нехорошо. И насчет супруги его вел себя недостойно. Врать я вам не врал. Что видел, то было. А говорить не следовало. Перепуталось все, а я вроде бы мщу, счеты свожу. Потому повторно вас прошу: сплетню мою до следствия не доводите. «Хитрит старик, — подумал Мазин. — Вроде бы сожалеет, а сам не любит Валерия крепко». — Напрасно беспокоитесь, Демьяныч. — Успокоили, Игорь Николаевич, успокоили. А то я заметил, изменились вы с утра. «Ему не откажешь в наблюдательности!» — В самом деле? — Сдержаннее стали, посуровели. «Старик настойчив, и за этим не одно любопытство. Однако о карабине ни слова. Впрочем, если он не знает, что в меня стреляли, зачем ему говорить об этом?» — С утра кое-что произошло, Демьяныч. В меня стреляли. Мазин сделал паузу, а пасечник осторожно поставил на стол блюдце с недопитым чаем и вытер бескровные губы. — В вас? Не ожидал. Слава богу, промахнулись. Как же это произошло? — Я стоял у окна в домике на озере… — начал Мазин, а окончив, спросил: — Как вам моя история показалась? Ответ последовал фаталистический: — Да раз возникло, Игорь Николаевич, смертоубийство, так что поделаешь? Кто такое начал, того не остановишь, пока он цели своей не добьется или, наоборот, шею не сломает. — Цель-то в чем? Пасечник глянул, как показалось Мазину, снисходительно. — Не знаю, Игорь Николаевич. А вы? И он принялся наливать себе чай. Не в чашку, а прямо в блюдце, очень крепкий чай из заварного чайника. Густого ароматного настоя. — Есть у меня, Демьяныч, зацепка для поиска. Пуля. Нужно выяснить, у кого здесь карабин имеется. Пасечник поднес блюдце к губам и причмокнул, раскусывая во рту кусочек сахара. — Труда это не составит, Игорь Николаевич. Секреты здешние на виду. От своих не скроешь. Тесновато. — И вы знаете? — Знаю, да и без меня вам его фамилия известна. — Догадываюсь, — согласился Мазни. — Но не Матвей в вас стрелял. Потому что не такой он парень, чтобы карабин в лесу бросить. — Бросить? — Именно. Привелось мне той тропкой ехать утречком. Гляжу, стоит винтовка, к дереву прислоненная. Бесхозная. «Прислоненная к дереву! Любопытная аккуратность». — Что же вы с ней сделали? — Как что? Отвез Матвею. Мазину стало досадно. Подтвердилась простая и бесплодная версия. Похожая на мираж, проплывший заманчиво по горизонту. Филипенко не стрелял, Валерий не стрелял, Демьяныч тоже. Остаются Олег и Кушнарев. Впрочем, почему он списал первую тройку? Матвей мог пожертвовать карабином, чтобы отвести от себя тяжкое обвинение, Валерии мог подсунуть оружие на пути пасечника и наблюдать из кустов, как тот среагирует. Да и сам Демьяныч… Хотя его психологическое алиби выглядит наиболее убедительно. — Откуда ж мне было знать, что из этого ружья на вас покушались? Вот и доставил хозяину. Еще чайку позволите? Мазин подвинул пустой стакан. — Налейте. Вы здесь, значит, обитатель не постоянный? — Временный. Пчелок подкормиться вывез. — Калугина давно знали? — Что вы! — покачал головой пасечник, снисходя к простодушию собеседника. — Откуда мне такого человека знать? В Тригорске по случаю пришлось познакомиться. Медок у меня Михал Михалыч брал. Он там в санатории лечился. Понравился ему мед, беседовать стали. Он и посоветовал пчел сюда на лето вывозить. Место тут подходящее. И народ любопытный. — А вы любитель понаблюдать за людьми? — Есть грех, Игорь Николаевич. Пасечник часто и охотно называл Мазина по имени и отчеству, твердо и отчетливо выговаривая оба слова. — Поделитесь, Демьяныч. — Да о покойнике мы с вами уже рассказывали, и о Валерии с Мариной Викторовной. — Два последних имени прозвучали вместе, случайно или преднамеренно объединенные. — А других вы сами знаете: друг ваш Борис Михайлович, Филипенко — лихой человек. — Лихой? — Вот именно. Не уважаю я людей, которым живую тварь жизни лишить ничего не стоит. Да еще бахвалится. По-настоящему, зачем эта охота? Государство обеспечивает, в магазине продукты продаются, зачем же живодерствовать? Тем более заказник, природа Советской властью охраняется. А он, вишь, пушку какую завел и стреляет. — Однако карабин вы ему вернули. — Это, Игорь Николаевич, вопрос другой. Людей не переделаешь. Осудить я Матвея могу, а переделать не в силах. Если уж природа подогнала характер, с тем и помрешь. Горячий егерь, обидчивый, непростительный, а уж такой есть. Отбери у него карабин, другой заведет, а стрелять не перестанет. — И по людям может? — Охота все ж и человекоубийство — вещи разные. — Несомненно. А что про Олега скажете? — С неделю всего как в поселке объявился. Замкнутый парень. Гордец. С чего бы это, Игорь Николаевич, молодежь такая пошла? Вроде мы, старые люди, обидели их чем. Предками называют, за первобытных людей считают, вроде обезьян, от которых они, человеки, произошли. А вся цена этим человекам — что машинками разными обзавелись: один мотоцикл гоняет, другой магнитофон крутит. Да так к этому барахлу прикипают, что ни мать, ни отец на дороге не становись. А уж чужого враз стопчут. — И Олег вам таким показался? — Не скажу. В себе парень. Что-то ищет, рыщет… — Он искал самолет, который обнаружил Филипенко. Демьяныч почесал худой, покрытый короткими, выцветшими волосками затылок. — Зачем ему самолет? — Он журналист, хочет написать о погибших летчиках. — Вот оно что… Ну, вроде я вам обо всех рассказал. — Про Кушнарева не говорили. — Что про него скажешь? Ближайший друг считался… «Считался… казался… вроде бы…» А на самом деле? Кто есть кто в действительности? Об этом думал Мазин, возвращаясь от пасечника. Снегопад почти прекратился. Белый покров скрадывал наступающие сумерки, но светло было только внизу, над головой, и по ближайшим склонам по-прежнему висели тяжелые, неповоротливые тучи. Сосновский хозяйничал. В печи теснилось энергичное пламя. Стало тепло и уютно. Пахло жареным мясом. — Перцовочки, старик, отведаешь? Перцовка собственного изготовления. Хороша, бесовка! Чем порадовал Демьяныч? — Ларчик просто открывался. Он нашел карабин и отвез егерю. — Ты поверил? — Сам не знаю. Налей-ка горькой! — Забавно, Игорь, получается. Знаменитый сыщик в тупике! Ты мне Печорина напоминаешь. Из «Тамани». Помнишь, как его контрабандисты околпачили? — И прикончить хотели. — Вот это не смешно. Значит, ничего из старика не вытянул? — Определенного нет. Пожалуй, несколько изменилось мое отношение к нему. — В какую сторону? — Если говорить упрощенно, оно ухудшилось. Старик не такой доброжелательный, каким хочет казаться. — Выпустил коготки? На кого? — Он никого не подозревает, даже вступался, когда речь заходила, и все-таки не удержался, о каждом сказал такое, что может при случае наслоиться на тот или иной факт, создать неприятное впечатление. — Это подозрительно? — Вряд ли. У него не было необходимости покушаться на Калугина вторично, убивать тоже вроде незачем. История с карабином правдоподобна. — Кого же подозревать? — Пока я всех считаю невиновными. — Обидно, что мы ничего не выяснили до приезда милиции. Даже то, что убил Калугина тот же тип, что стрелял в тебя, по существу, не доказано. — Меня другое тревожит. Боюсь очередного кровопролития и не знаю, как его предотвратить. Как Архимеду, не хватает рычага. Если б знать, почему хотели бить меня? — Ты опасен. — Чем? Кручусь по поселку? Этого ж мало для убийства Убивать меня имеет смысл в одном случае: если я напал на след, если получил преимущество в поединке, если противник попал в безвыходное положение. Только в этой ситуации любой риск оправдан. Но я не вижу в своей позиции никаких, даже элементарных, преимуществ. — Значит, видит он. — Находится в приятном заблуждении? — Не очень-то приятном. А что касается заблуждения… Не проглядели ли мы чего? Не выплеснули е ажитации с водой и ребенка? Что-то не заметили, не оценили! А он думает, что оценили. Мазин заходил по комнате. — Утверждать, конечно, невозможно, но это мысль. Нужно заново пересмотреть каждый шаг, каждую мелочь. — Тигр! Орел! Стол не опрокинь. — Тесно у тебя, Борька. — Я ж не рассчитывал на взлет твоей неукротимой энергии. Думал, отдыхать человек едет. Будет рыбку ловить, на коечке полеживать с журналом «Огонек», кроссворды решать. — Не подначивай! Я по воздуху пройдусь, подышу, подумаю на морозце. — Смотри не простудись. По-моему, ты уже сопишь. — Есть немного. Нужно платок взять, кстати. А то я калугинский затащил из мастерской. Игорь Николаевич показал выпачканный в краске платок. — Он не из мастерской. Ты взял его в избушке на озере, когда я перевязал твоим платком рану, — вспомнил Сосновский. — В самом деле? Не обратил внимания. Да, он валялся на койке, где лежал Валерий. Старею, Борис. Нервы сдают, память отказывает. — Не прибедняйся! Мазин вышел из домика. Снега больше не было.
4. Луна
 Было еще светло и очень тихо. Река примолкла, истощив нерасчетливо растраченные силы. Хотелось идти долго, отрешившись от беспокойных мыслей, но на пути вырос Валерий.
— Видели пчеловода?
Казалось, он поджидал Мазина.
— Демьяныч подтвердил мое предположение.
— Выкрутился?
— Не суди ближнего… И возьмите свой платок. Художник посмотрел на платок.
— Не такая уж ценность. Но если вы щепетильны… Из хижины утащили?
— Случайно.
— Не сомневаюсь. Куда направляетесь?
— Алексея Фомича хочу повидать. Валерий приподнял одну бровь.
— Дотошный вы…
Архитектор брился у окна. В комнате пахло «Шипром».
— Не помешаю?
— Представьте, нет. Присаживайтесь. Я ждал вас…
Он вытер полотенцем и осмотрел в зеркальце выбритую щеку. Выглядел Кушнарев не пьяным и не утомленным. Что-то изменилось в нем за прошедший час.
— Хотел спросить, уважаемый…
За окном громоздкая туча с трудом продиралась по ущелью, цепляясь за скалы. В одном месте они вспороли продолговатую брешь, и в ней засветились розовые закатные лучи. В комнате стало виднее. Здесь царил строгий и неприхотливый, почти солдатский порядок. Кровать была покрыта одноцветным шерстяным одеялом, закрывавшим и подушку, ни на столе, ни на стуле не валялось ничего постороннего, и только несколько высокогорных, незнакомых Мазину цветов в глиняном кувшинчике нарушали это упорядоченное однообразие.
— … Вы сыщик-любитель или профессионал?
— Полномочий предъявлять не могу.
— Бумажки меня не волнуют. Меня интересует, подготовлены ли вы к роли, которую на себя взяли. Или играете в детектива, пользуясь советами милейшего Бориса Михайловича?
— Можете на меня положиться.
— Доверие предполагает взаимность. Если же я включен в проскрипции, взаимопонимание исключено.
— Для окончательных выводов у меня до сих пор нет данных. Поэтому жду любых неожиданностей.
— От меня сенсаций не ждите. Хотя обязан признать, что не ошиблись вы. Я в самом деле был несправедлив к покойному Мише, подозревал в его отношении к себе нечто нехорошее. Но этот вопрос не практический. Это мое, личное.
— Я знаю, Алексей Фомич, что вы особенно дорожите справедливостью. Мне стало известно…
— Моя грустная история? Это не тайна. Это в прошлом. Не поправишь. Я говорил. Не хочу множить зла. У ваших коллег все сошлось. Против меня были факты, а факты, как тогда говорили, — вещь упрямая. В чем я могу упрекнуть своих судей? В том, что у них не хватало… это трудно сформулировать… не хватило сил приподняться над очевидностью? Они выполняли долг, как они его понимали, даже добра желали, справедливости. Ох уж эти добрые намерения! Ими вымощена не одна дорога в ад. Потому что каждый идет туда своим путем. Я не выдержал, упал духом. Но Миша понимал мою трагедию. Он любил меня. Не боялся, а любил. Может быть, жалел… Я не имел права чернить его в ваших глазах. Он погиб. Это наказание.
Кушнарев нервно провел лезвием бритвы по широкому ремню, зацепленному пряжкой за гвоздь в стене.
— Кто наказан? Кем?
— Не ловите меня! Михаил наказал себя сам.
— Сам? Он же убит.
— Что из того! Наказать себя можно и чужими руками. Но я не желаю, не желаю об этом! Я боюсь-слов, удобных, незаменимых формул, в ужасный смысл которых мы не вдумываемся и не способны их осмыслить, потому что если б осмыслили, то лишились рассудка. Например, эти крошечные газетные заметки о приговорах и слова, слова — «приговор приведен в исполнение». — Кушнарев глянул на Мазина, заметил, что тот хочет возразить, и замахал рукой с бритвой. — Только не говорите про выродка, который ходил по Москве с туристским топориком и убивал детей! Да, он заслужил! Но не себя ли мы убиваем, когда казним человека? Может быть, потому и убийцы существуют, что убивать-то вообще можно? Только бы причина была! Вина! Вы думали об этом?
— Необходима ли смертная казнь? Боюсь, мы не решим этот вопрос. Я думаю о том, кто убил Калугина.
В отсвете красного заката глаза старика блеснули диковато.
— Послушайте, вы добиваетесь, чтобы я помог вам убить взамен Михаила другого человека, да?
Мазин отодвинулся. «Неужели его так взвинтили мои слова о допущенной несправедливости?»
— Я разъяснял, чего я добиваюсь. Я не хочу, чтобы этот другой человек прикончил сегодня ночью еще одного, третьего человека.
— Вас? Да? Вас? Чем вы ему помешали? Он боится? Значит, он тоже спасает себя! Разве вы не понимаете, что он защищается? Если б вы не угрожали его жизни, он не стал бы стрелять в вас!
— Алексей Фомич! — сказал Мазин устало. — Я вызываю в вас идиосинкразию. Простите. Вашу справедливость я готов признать в идеале, но живем-то мы в мире реальном, и смотреть на него свысока, добру и злу внимая равнодушно, извините, не могу.
— А что оно дает, беспокойство ваше? Улучшает человечество на микрон? Ничтожный микрон?
— Пусть на полмикрона, на четверть Ведь и до Луны-то расстояние по сравнению с Галактикой ничтожно, но стремимся же! А крупица справедливости ничтожной быть не может! Сами знаете! И не верю я в вашу философию. Может, обижу я вас, но скажу: в отношении своем к убийце Калугина вы не из теории исходите!
— Как понять прикажете? — вскочил архитектор.
— Поясню. Только бритву спрячьте. Не люблю режущих предметов. Вам хотелось бы, чтоб убийца понес кару, но существует причина, которая пугает вас, заставляет опасаться разоблачения убийцы или обстоятельств преступления. Помилуйте нетактичного прагматика, но люди в своих поступках не столько от теории идут, сколько теорию под поступки подгоняют.
— Я не лицемер.
— Верю. Бритву-то спрячьте, прошу! Думаете вы, как поступить лучше, правильнее, но устойчивости в решениях не находите, вот и выдумываете, мечетесь, себя убедить хотите — не меня!
Кушнарев опустился на койку и сложил бритву.
— Неотвязный вы человек! Что еще вымыслили?
— Вымыслил? Две вещи могут вас страшить. Или истина повредит вам самому, или она повредит… Ну, да вы понимаете кому.
— Как ему может стать хуже?
— А уж это вам виднее.
Кушнарев выдвинул ящичек из стола и начал укладывать бритвенный прибор. Потом сказал ровно, невыразительно:
— Клянусь вам честью, молодой человек, совестью своей, а я не подлец… Неизвестно мне, почему убили Михаила Калугина.
— Так я и знал, — вздохнул Мазин. — Так и знал! Все ваши сомнения отсюда. Ведь как бы ни теоретизировали, а изверга, зверя защищать бы не стали. Того, что с топориком по квартирам ходил. Его б спасать не стали! А тут вас червь гложет, не уверены вы, неизвестно вам: а не было ли на самом Калугине вины? Вы не за самосуд, разумеется, но вы настрадались, знаете много, видели, даже бессилие правосудия вам знакомо, и потому, именно потому не хотите вмешиваться. Терзают вас сомнения, и к легкому решению стремитесь, переложить его на судьбу хотите. А попросту — устраниться, руки умыть. Не от равнодушия, не из эгоизма, пусть от страха ошибиться, зла не причинить напрасного, но ведь что в лоб, что по лбу.
Мазин замолчал, потом добавил негромко:
— Поступайте, как знаете. Философствуйте в одиночку.
В приоткрытую форточку тянуло морозом и проникал приглушенный рокот успокаивающейся реки, бежавшей почти рядом, под окном. Чувствовалось, что наверху, где вода собиралась в мутный и быстрый поток, стихия уже побеждена. Скоро Филипенко переправится, вызовет милицию, делу будет дан законный ход, а он, Мазин, превратится в рядового свидетеля, даст показания, и отпуск его возобновится.
«И все-таки кто же этот Калугин, что заставляет тебя заниматься его судьбой? Профессиональная инерция? Чувство самолюбия? Стремление к собственной безопасности? Нет! Тут не выделишь единственную причину. Ты поступаешь так, как обязан поступить, а долг в конечном счете категория не менее сложная, чем любые другие моральные побуждения, он также соткан из множества переплетенных ниточек, и их не разберешь, не разорвешь, не разорвав всю ткань».
— Алексей Фомич, если вы сказали все…
— Нет. Но я в затруднении. Сознаюсь, может проясниться неблагоприятное для Михаила. Никто ошибок в жизни не избежал, однако за некоторые платить приходится так дорого, что упрекать больше нельзя, бессовестно копаться в белье.
Мазин видел, что, как только Кушнарев приближался к черте, за которой начиналось то главное, что он знал о Калугине, что могло пролить свет на обстоятельства его гибели, щелкал выключатель, и архитектор лишь беспомощно разводил руками во мраке.
Прорваться к нему, как понимал Игорь Николаевич, можно было единственным путем — догадаться,сообразить самому, что тяготит архитектора. Мазин заметил, что старик не способен хитрить и быстро капитулирует, когда становится известной хотя бы часть того, что ему хочется удержать в секрете. Кушнарев ни за что не соглашается сказать первое слово, но он болтлив и готов назвать Б и В, хотя А и не произнесено. Осмыслить и использовать эту вторичную информацию — вот в чем задача!
«Он говорил об услуге, о поддержке, о помощи, оказанной Калугину. Но Кушнарев сидел в тюрьме, когда эта помощь могла оказаться необходимой. Неувязка? Противоречие… Соврал? Зачем? И как можно соврать? Вот оно! Соврать невозможно. Во всяком случае, самому Калугину. А тот признавал, подтверждал, что помощь была. Пусть лишь слова. Именно слова. Да как я этого раньше не сообразил!»
Открытие было настолько простым, что Мазин с трудом сдержался. Сдержался по двум причинам. Бросить эту сильную карту стоило только в единственный, подходящий момент. Потому что карта была все-таки не самой старшей, не козырным тузом. И еще потому, что Кушнарев перепугался, приблизившись к опасной грани, и сделал неожиданную попытку отчаянным маневром отвлечь Мазина, пожертвовать частью, чтобы сберечь основное.
— А любители в скважину замочную заглядывать есть. И подсмотрели даже.
Трудно дались ему эти слова, эта жертва, в полезности которой Кушнарев наглядно сомневался.
— Кто?
— Нужно ли?
— Необходимо.
— Олег.
— Не ожидал, — сказал Мазин искренне. — Олег здесь единственный случайный человек. Я считал, что он интересуется самолетом.
— Одно не исключает другого.
— Вы хотите сказать, что прошлое, ошибка Калугина и самолет связаны?
Кушнарев уверенно покачал головой.
— Абсолютно нет. Здесь другое, неясное. Вы полагали, что Олег появился в здешних краях сам по себе и остановился в доме Калугина случайно. Это не так. Они знали друг друга.
Архитектор смотрел на Мазина не с торжеством человека, сообщившего неизвестный собеседнику факт-сюрприз, а с грустью.
— Что из того?
— Само по себе не предосудительно, разумеется. Непонятно, почему и Миша и Олег скрывали Свое знакомство. Я прекрасно помню, как Олег появился в доме. Михаил его представил: «Вот юноша, в наши дебри забрался, журналист. Познакомились только что. Прошу любить и жаловать».
— Почему же вы думаете, что Калугин его знал?
— О! Это просто и несомненно.
Кушнарев полез в карманчик вязаного шерстяного жилета и извлек свернутый дважды телеграфный бланк с наклеенными полосками отпечатанных на бумажной ленте букв.
«Дагезан. Калугину.
Вашего разрешения выезжаю условие помню Олег», — прочитал Мазин…
— В куртке Михаила Михайловича находилась. Марина Викторовна попросила меня вынуть все из карманов…
На сгибах помятого бланка виднелись табачные крошки.
«Что это? Ключ или еще один мираж? Калугин и Олег не распространялись о своем знакомстве, но в крошечном поселке телеграмма могла стать известной многим. Калугин ее даже не выбросил».
— О каком условии помнит Олег?
— Понятия не имею.
— И больше вам ничего не запомнилось, не показалось странным в их общении, отношениях?
— Нет. Дня за три до трагедии я, правда, услыхал мимоходом брошенные фразы, которым значения не придал, потому что ничего привлекающего внимание в них не нашел. Уж после телеграммы вспомнил. Мы с Демьянычем о пчелах беседовали в гостиной, а Миша с Олегом вошли, и Миша спросил: «По-прежнему безрезультатно?» Тот отвечал: «За осыпью — крутой склон. Поищу в другом месте». Тогда Михаил говорит: «Нет, нет. Там ищи!» Тут он меня увидал и отошел.
— Не хотел, чтобы слышали разговор? Прервался?
— Кто знает… Мерещится.
— Выходит, Калугин советовал Олегу искать самолет там, где он и обнаружился?
«А знать о самолете не мог! Что из того? Олег давно слышал о самолете, искал его. Где-то, при вполне объяснимых обстоятельствах, он познакомился с Калугиным, рассказал о своем поиске, и тот пригласил парня в Дагезан. И разговор логичен. Олег не сумел пробиться к озеру, которое хотел осмотреть, а Калугин советует не отступать, не оставлять «белых пятен». Разумно. Но какие условия могли обсуждаться между ними? Условия, без которых Олег не мог приехать в Дагезан? Он принял условия и приехал, приехал, почему-то никому не сказав о знакомстве с хозяином. Не в этом ли заключалось условие? А куда гнет Кушнарев? Зачем он рассказал об Олеге? Почему думает, что тот «подсмотрел в скважину»?»
Вопросов набегало слишком много, и Мазни почти с облегчением оборотился на отвлекающий скрип отворившейся двери. Там, словно подслушав его мысли, появился Олег. Видно было, что день он провел под открытым небом, штормовка намокла и топорщилась, схваченная морозцем, к джинсам прицепились репьи и комья глины.
— У вас гость, Алексей Фомич? Добрый вечер, доктор. Все еще подозреваете меня или откопали, кто воспользовался ножом?
Спросил он почти небрежно, но подчеркнутая небрежность говорила больше о выдержке, чем о легкомыслии.
— Вы собирались выяснить это сами.
— Ошибаетесь. Это вы рекомендовали мне встряхнуть мозги до прибытия милиции. Но у меня не нашлось времени.
В комнате потемнело, выделялся только квадрат окна, да и то не ярко. Мазин не видел лиц собеседников. Он вспомнил, что электричество так и не подключили, и рассчитывать приходится в лучшем случае на керосиновую лампу, а то и на огарок свечи. А хотелось видеть Олега, его лицо, на котором просматривались одни очки да полукруг короткой бородки.
— Жаль. Человек-то убит. Впрочем, вас больше интересует сбитый самолет.
— Представьте.
— А если смерть Калугина связана с находкой самолета?
Олег еще больше отодвинулся от окна. Ему потребовалось время, чтобы взвесить и оценить мысль Мазина.
— Парадоксы ищете? То с ножом, теперь с самолетом?
— Тут факты разного порядка. Связь между ножом и вами очевидна, хотя им мог воспользоваться и другой человек, связь же между находкой самолета и убийства в самом деле производит впечатление парадокса, но только на первый взгляд.
— Что вы знаете?
— Знаю, что вы приехали сюда не случайно.
— Вам не дает покоя батумский ресторан?
— Вспомнили меня?
— Это вы меня вспомнили. Но раз уж у вас такая хорошая память, вы должны помнить и другое: я говорил открыто, гибель этого самолета меня давно интересует.
— Почему?
Он мог бы возмутиться, надерзить, но ответил обстоятельно:
— Я работаю в авиационной газете, приходилось встречаться с ветеранами, они вспоминали этот случай. Самолет пропал без вести в сорок первом году. Произошла авария. Он выполнял важное задание, и погибшие заслужили, чтобы родные узнали, где они погибли. Достаточно?
— Почему никто не искал самолет до вас?
Олег снял очки и протер стекла носовым платком. С каждым вопросом он становился суше и спокойнее. Трудно было понять, насколько правдивы его ответы, но он не увиливал от них.
— Искали. Безрезультатно. Видимо, мешала лавина.
— А вам повезло?
— Не мне, а Филипенко. Машину нашел Матвей.
— Нашел там, где искали вы.
— Нашел там, где она находилась.
— И все-таки вам повезло. Даже неоднократно. Калугин оказался жителем поселка, рядом с которым разбился самолет, предложил вам гостеприимство…
В спокойствии Олега пробилась первая трещина.
— Ну и что?
— Ничего особенного. Удачно, что вам не пришлось жить в палатке. Сыро, холодно. Радикулит подхватить можно.
— У меня отличное здоровье.
— А тренаж неважный. Озеро не одолели.
— И это известно?
— Тесно живем, — повторил Мазин слова Демьяныча. — Однако удачи не кончились. К озеру поднялся Филипенко. Не по совету ли Калугина?
Олег достал из кармана штормовки спички и сигареты. Первая спичка сломалась. Вторая тоже не зажглась. Наверное, коробка отсырела. Мазин вынул зажигалку и протянул журналисту.
Ответ после паузы прозвучал с вызовом:
— Возможно. Калугин любил советовать.
— А у вас не сложилось впечатление, что советы его на редкость безошибочны?
— Если и сложилось, какое отношение имеет это к смерти Михаила Михайловича?
«Резонно. Нельзя же думать, что парень сошел с ума и убил Калугина, чтобы не делить с ним славу первооткрывателя! Да и что за открытие? Случайно разбившийся самолет, летевший в тыл… Однако сложилось!»
— Когда погиб самолет, Олег?
— Двенадцатого октября.
«Знает даже день. Нет, не могла обыкновенная, непримечательная история так заинтересовать их обоих. Калугина тоже. Но чем? И что произошло в тот день? Калугин ехал из госпиталя в Ашхабад. Ехал поездом. Из окна вагона за сто километров не увидишь. Но услышать, узнать что-то в пути молено. Только обязательно значительное, чтобы запомнить на два с лишним десятка лет!»
— Калугин знал эту дату?
— Я сказал ему.
— Давно?
— Порядочно.
— Странно. Вы же тут неделю всего живете. Или вам случалось встречаться с Калугиным раньше?
— Нет.
«Вот и попался», — подвел итог Мазин без особого торжества, потому что победа далась легко.
— Алексей Фомич, зажгите лампу, пожалуйста.
Кушнарев сидел, опустив голову на руки, и Мазину пришлось повторить свою просьбу, прежде чем он встрепенулся и заспешил, не попадая стеклом в выгнутый ободок.
— Покажите бумагу, которую вы нашли, Алексей Фомич.
— Не нужно, Игорь Николаевич, не стоит.
— Лучше разрешить недоумение сразу, чем держать камень за пазухой. Это ваша телеграмма?
Олег поднес бланк к лампе, посмотрел, поправил очки.
— Как она к вам попала?
— Объясните, что здесь написано. И почему вы не сказали, что давно знакомы с Калугиным.
Игорь Николаевич выдвинул фитиль. Стало светлее. Олег положил бумагу на стол. Он не делал никаких попыток оспорить право Мазина задавать вопросы, но держался по-прежнему ровно, не роняя себя.
— Не понимаю, почему он ее не выбросил. Это была его затея. Калугин не хотел, чтобы в поселке знали о нашем знакомстве.
— Как вы познакомились?
— Он приезжал в наш город, писал летчиков. Мы разговорились, оказалось, что у него здесь дача. Я рассказал, что меня интересует самолет. Последняя телеграмма с борта была из близкой точки. Он предложил остановиться на даче.
— А условие?
— Я не придал ему значения. Калугин просил, если я найду самолет, не упоминать его фамилию в газете. Я счел это за обычную скромность.
— Откуда он знал, что самолет лежит у озера?
— Он никогда не говорил, что знает, но упорно советовал искать в верховьях Красной речки.
— Упорно?
— Упорно. Когда я не одолел, как вы выразились, подъем, он послал Матвея. Обидно. Подняться было можно. Я ходил туда сегодня с Галиной.
— Когда вы вышли?
— Рано. — Олег откашлялся. — Может быть, достаточно, доктор? Я стремился, как мог, удовлетворить ваше любопытство.
— Спасибо.
— Всего доброго.
«Самоуверенный парень. Не битый. Современный. У Демьяныча верный глаз».
— Игорь Николаевич! — услыхал Мазин. Впервые архитектор назвал его по имени и отчеству, и в этом обращении Мазин уловил доверие и еще другое — раскаяние. — Все я напутал, насловоблудил, сам не пойму зачем. Ведь зарекался не болтать… А наплел про скважину, бред всевозможный. К счастью, прояснилось, рассеялось.
— Что прояснилось, Алексей Фомич?
— Да галлюцинации мои. Что Олег странно вел себя, и вроде Миша скрывал, зависел от него. Вот уж ахинея!
— Не уверен. На мой взгляд, ничего этот парень не прояснил, наоборот, замутил. Что знал Калугин о самолете? И почему журналист к нему прикипел? В такую погоду жизнью рисковал. Зачем? Самолет нашли. Никуда он не денется. Зачем к черту на рога в такой спешке взбираться?
— Характер, Игорь Николаевич. Спортивный, упрямый.
— Ладно, Алексей Фомич. Понимаю вас. Поймите и вы меня. — Мазин решил бросить свою карту. — Факты мне требуются и ваша помощь. Расскажите, как Калугин попал в тюрьму. Я не ошибся? Ведь вы встретились с ним не на свободе?
Кушнарев сник. Ему стало больно.
— Как это я… как мог проговориться…
— Вы не проговорились. Я сопоставил ваши слова о помощи Калугину с датами его жизни. Не вините себя. Он совершил серьезное преступление?
— Серьезное? Он напился водки. — Кушнарев вдруг заторопился, спеша поскорее избавиться от всего, что таил, что давило на него. — Он выпил. Первый раз в жизни выпил. И друзья, нет, не друзья, подонки, враги злейшие, решили сломать замок на киоске или ларьке, я его попросили постоять, посмотреть, предупредить, свистнуть. Вы знаете, как это делается. Он свистнул или не успел… Все попали в милицию. Признали предварительный сговор группы лиц… Беда заключалась в том, что мальчик органически не мог переносить неволи… Художник! Хотя он не был еще художником, а ребенком, мальчишкой, шестнадцать лет! Он не мог покориться этой страшной нелепости. И совершил еще две непростительные глупости. Сначала он… Поймите только правильно!
— …попытался бежать?
— Да! Откуда вам…
— Нетрудно сообразить. Его поймали и увеличили срок.
— Именно. Тогда Миша попытался покончить с собой.
— Вы спасли его?
— Помог. Спасла война. Он попросился на фронт… И прожил еще больше четверти века.
«Это шаг вперед. Но как сосчитать шаги? Сколько их?»
— Я встретился с ним в Москве, на выставке. Тогда я боялся встреч со знакомыми. Они напоминали мне о прошлом, а прошлого больше не было. Жизнь разделилась на до и после… Мостика я не искал. Я боялся отверстий в стене. Там виднелись юношеские сны, сказки, а я проснулся, я не досмотрел сладких снов и не хотел их больше видеть… Простите. Мы говорим о Мише, а не обо мне. Я забыл, увлекся. Однажды я зашел на художественную выставку. Все-таки я был не чужд изобразительному искусству. Фамилия художника мне ничего не говорила…
— Фамилия вам ничего не сказала?
— Миша сменил ее. Ему тоже не хотелось встречать старых знакомых. Но я узнал один пейзаж — тусклый день на севере, почти незаметные краски. Он не бросался в глаза, посетители не задерживались, но я видел эту тундру в другой рамке… Мне захотелось посмотреть на автора.
Понимаете, не в том дело, что я его за рукав стеганки схватил, когда он в смерть хотел кинуться. Не за то он мне обрадовался. Это странно, так в жизни только бывает. Мне в свое время, еще до ареста, в школе случилось побывать, где Миша учился, увидеть его рисунки. Они запомнились. И потом «там» я сказал ему, что думал, и о рисунках, и главное — как человек жить должен, дорожить собой, если его коснулось настоящее, искра таланта. Короче — сказал то, что тысячу раз повторял себе и во что сам не смог поверить, потому что дара-то подлинного не было и многого другого не хватило, не коснулось. А его коснулось! И он поверил — и выжил. Как художник выжил, понимаете? За это он и ценил меня. А за рукав и охранник схватить мог: «Стой, мол, парень! Не положено тебе жизнью своей распоряжаться!» И мне от этого легче жить стало. Ведь не зря просуществовал, не без пользы все-таки…
Мазин видел, что старика остановить трудно, да и жестоко прерывать, но необходимо было осмыслить новые факты, найти связь между ними.
— Алексей Фомич, по-вашему, Калугин скрывал прошлое исключительно по соображениям моральным, личным, не практическим?
— Практическим?
— Он поступал учиться, проходил различные официальные рубежи, заполнял анкеты, писал автобиографию… Утаивал ли он и там…
Кушнарев сидел у самой стены. Круг неяркого света, ограниченного абажуром, не достигал его.
— Именно! Добрались, докопались! Ну почему вы не способны мыслить за пределами уголовного кодекса? Почему не верите, что человек сам себя и осудить и оправдать может?
— Так поступил Калугин?
— Не спрашивал! Не интересовался, потому что видел, справедливо он поступил. Нет больше мальчишки, что дрожит на углу, пока дружки замок сворачивают. Того судить нужно было за то, что не думал, голову на плечах имея, не ведал, что творит. Дурак был, не человек, не личность. А Михаил Калугин формальностям не подсуден. Долги выплатил, имя заслужил чистое. Человек, художник. Совесть ему судья. И мелочные подробности роли тут не играют.
— Играют, — возразил Мазин — Получается, что Калугин фамилию сменил незаконно и прошлое скрывал сознательно, а не просто не любил о нем распространяться.
— Кровью, пролитой на фронте, он заслужил… талантом своим…
— Алексей Фомич, не понимаете вы меня! Формальностям друг ваш действительно уже не подсуден. И не о том я хлопочу, чтобы память его очернить. Поступки его меня с другой стороны интересуют. Как они самому ему навредили! И не подписал ли он себе смертный приговор сам, когда впервые чужой фамилией подписался?
Кушнарев приблизился к лампе.
— Вот вы как повернули!
— Ощупью продвигаюсь, ориентиры в тумане. А тут еще самолет… Не могу его от смерти Калугина отделить. И соединить не могу. В самой смерти логики не вижу. Предположим, нашелся подлец, задумал нажиться на прошлом Калугина. Но тогда художник шантажиста убить должен, а не наоборот! Получается, не Михаил Михайлович боялся, а сам он кому-то мешал. Вот главная неувязка! И вам приходила эта мысль в голову, пока вы решали тяжкий вопрос, сказать мне, что знаете о Калугине, или нет. В том и тяжесть — жертва ли Калугин? Убит злодейски или была тому причина? Колебались вы, даже в неискренности к себе его заподозрили…
— Во мне колебаний больше нет.
— Но были! И шли они от поступка, который теперь оправдали, а меня убеждаете (а не себя ли?), что имел Калугин право присвоить чужие документы! Чьи? Все документы кому-то принадлежат. Где же их владелец? Калугин-два? Вернее, Калугин-первый?
— Понятия не имею. И плохого думать не желаю.
— Мне тоже не хочется. Больше ничего вам не запомнилось?
— Есть еще зацепка, но ничтожнейшая. Собирался Михаил в тот день беседовать с Валерием.
— О чем?
— Если б знать! Заглянул я к нему, а он мне: «Погоди, Алексей, с сыном потолковать нужно» — «Уму-разуму поучить?» — «Да нет, — отвечает, — хуже». Но пояснять не стал. А выспрашивать, сами понимаете, как я мог?
«Разговор этот был нарушен Сосновским. Но и сам Сосновский пришел говорить. Не поговорил. А потом стало поздно».
— Зацепка не ничтожная, Алексей Фомич, а характерная. С двумя людьми собирался говорить Калугин. С очень близким и вовсе не близким, но сведущим в законах. Он собирался посоветоваться с Борисом Михайловичем. И с сыном. Знаменательное сочетание. Предположим, Калугин решился довериться обоим. Такое можно объяснить только так: ему грозило большее, чем разоблачение прошлого. Он знал об угрозе! Но что успел Калугин сказать Валерию?
«Он мог назвать имя предполагаемого убийцы, человека, который заинтересован в тайне Калугина больше, чем он сам. Но если верна эта версия, таким человеком должен быть кто-то немолодой, современник тех, давних лет. Таких двое — Кушнарев и Демьяныч. Однако Кушнареву я верю, Демьяныч же с Калугиным раньше знаком не был, да и зачем ему было покушаться на человека, который, как он знал, заведомо мертв? Но если Валерию что-то известно, как объяснить его поведение? Почему молчит? Ждет милицию? Или ничего не знает? А что, если замешан вовсе не пожилой человек? Мало ли тут возможных связей, взаимодействий, последствий?»
— Пойдемте к Валерию, Алексей Фомич!
И тут Кушнарев негромко рассмеялся.
— Иначе я вас представлял, Игорь Николаевич. Логическим, рациональным, не поддающимся увлечениям.
— Разочаровались? Ах, вспомнил: вы за высшую истину — через сто лет. Спешку не одобряете.
— Не обижайтесь: молоды вы еще. Но умны. Пойдите к Валерию, попытайтесь. Верю я в вашу справедливость. А мне идти к нему не хочется. Зачем я там? Уличать, если откажется? Вы и без меня с ним справитесь. Даже лучше без меня, потому что беда эта всех ожесточила, подозрительными сделала. Валерий тоже озлился. Я это чувствую. Сказать я уж все до предела сказал. Не нужен больше. И больно мне будет, если что худшее откроется. Михаил, Игорь Николаевич, дорог мне. На ногах я ему помог удержаться и заслугу свою в этом вижу. Так не отбирайте ее у меня.
— Хорошо, Алексей Фомич. Схожу сам.
Он запомнил комнату Валерия, хотя и не был в ней, и без труда сориентировался в темном коридоре. Нащупав ручку, Мазин подергал ее сверху вниз. Из комнаты не ответили. Тогда он повернул ручку до предела. Дверь оказалась запертой. Валерий или не желал откликнуться, или отсутствовал. Кушнарев стоял на пороге, поглядывал в его сторону.
— Не достучались?
— Нет. Возможно, он в хижине.
— Пойдете?
— Придется.
— Я с вами.
Мазин удивленно посмотрел, как архитектор натягивает на голову берет.
В комнате Игорю Николаевичу казалось, что на дворе еще светло, на самом деле ночь давно наступила. Самозваный снегопад кончился, ветер угнал последние, ненужные тучи, и луна, скрывавшаяся в горах, появилась над ущельем, огромная, тяжелая, круглая, провисшая, как переспевший апельсин, готовый сорваться с пригнувшейся к земле ветки. Она-то и освещала все вокруг.
— Сколько ненужной красоты, — сказал Кушнарев, оглядываясь.
Весь горизонт над черной, зубчатой стеной гор светился неодолимым лунным пламенем. Зато напротив скалы, которые отражали поток этого удивительного, живописного света, припорошенные застывшим на несколько ночных часов хрупким и неглубоким летним снегом, подсекали белизной совсем другое небо. Не пуская туда свет, они возвращали его, обрушивали целиком в долину. В этой стороне небо было ровнее и глубже. В высоте его, стесняясь своего ничтожества в присутствии такого гигантского, напоенного энергией светильника — луны, мерцали небольшие ледышки-звездочки. Невозможно было поверить, что это многоцветное импрессионистское чудо возникло на том же месте, где несколько часов назад не было ничего, кроме вымокшего насквозь серого тумана.
По голубому скрипучему снегу шагалось легко и быстро. Мазин первым заметил, что дверь хижины открыта. «Жарко ему, что ли? Перетопил, наверно». Но дыма над трубой не было.
— Валерий! — позвал Игорь Николаевич.
Никто не отозвался. Кушнарев смотрел в сторону. Мазин шагнул через порог.
В комнате было пусто. Печь погасла, видимо, недавно. Ощутимо слышался запах дыма, хотя заслонка в трубе была выдвинута до предела. На койке, как и днем, царил хаос — подушка смята, одеяло перекошено. Зато разбитое пулей стекло успели замелить прибитой к раме фанеркой. Мазин перевел взгляд на стол и увидел бутылку с водкой. Рядом стояли два пластмассовых стаканчика, но никакой закуски. Пить не начинали. Тускло мерцала керосиновая лампа.
— Очередная загадка! — развел он руками. — Где же Валерий?
— Следовало бы зайти к Марине Викторовне.
— Пожалуй. А почему он не потушил лампу?
— Рассеянность, волнение, влияние алкоголя.
— Предположим, хотя бутылка полная. Любопытно, с кем он собирался ее опустошить?
Мазин передвинул по столу стаканчики.
— Вы видели такую примитивную посуду у Калугиных?
— Не приходилось.
— Типичный ширпотреб. Мечта любителя раздавить бутылочку на троих. Может быть, Валерий пригласил гостя и побежал на угол за колбасой. Вас не шокирует мой юмор, Алексей Фомич? Мы слишком долго беседовали всерьез.
— С вашего позволения я выйду на воздух. Здесь угарно.
Собственно, Мазину в хижине оставаться тоже было незачем. Не ждать же гостя. Лучше поискать хозяина. У печки стояло ведро со щепками для растопки. Поверх щепок валялась еще одна бутылка, на этот раз пустая. Днем ее не было. Игорь Николаевич взял бутылку за горлышко и поднес к носу. Несмотря на насморк, ошибиться было трудно. Пили недавно. Но Мазин не успел оценить новую находку.
— Игорь Николаевич! — послышался голос Кушнарева. — Здесь…
— Иду, Алексей Фомич.
После накаленных переговоров оба стремились быть подчеркнуто вежливыми.
— Обратите внимание!
Кушнарев вытянул руку в сторону реки. От хижины по узкому лугу до самого берега виднелись следы.
— Вот так открытие! — воскликнул Мазин.
— Интересно? — спросил Кушнарев, сомневаясь.
В следах не было ничего криминального, ни капель крови рядом, ни примет того, что владелец рифленых подошв тащил какой-то подозрительный предмет. Поразило Мазина направление следов. Они вели не к тропе, и не мимо пруда в сторону дороги, а прямо туда, где луг обрывался над речкой крутым откосом. Игорь Николаевич двинулся рядом, стараясь не затоптать след. Он был далек от скоропалительных предположений, но тревога уже появилась, шевельнулась, засосала в груди. У обрыва он остановился. Следы прерывались, будто человек пошел дальше, полетел по воздуху. Но он не мог полететь, он мог только упасть.
Игорь Николаевич наклонился над обрывом. Внизу катилась вода, пенилась, натыкаясь на изогнутый берег, поворачивала и убегала через лес, вниз по ущелью. Она не бурлила, да и было ее гораздо меньше, чем днем, но сейчас, ночью, темный поток пугал, отталкивал. Мазин осмотрел берег метр за метром. И не увидел ничего, кроме воды и камней.
Кушнарев тоже пересек луг.
— Куда же он девался?
— Мысли приходят мрачные. Обратного следа нет.
— Сумасшедший парень!
И Сосновский считал Валерия способным на отчаянное решение. Если они правы, нужно искать труп. Труп пораженного ужасом, сломленного, убившего себя преступника? Или очередной жертвы?
— Придется спуститься и поискать по течению.
Архитектор покачал головой.
— Не рано ли мы его похоронили, Игорь Николаевич? Человек молодой, полный сил. Задиристый, не меланхолик. Такие не склонны к самоубийству.
В словах Кушнарева слышалась разумная мысль. Вина Валерия не доказана, и самоубийство не больше чем гипотеза.
— Однако пройтись по речке, не замочив ног, ему не удалось бы.
Мазин еще раз оглядел «пейзаж в лунном свете». Что-то изменилось во втором плане. Со стороны леса двигалась неожиданная фигура.
— О-го-го! Игорь!
— Борис Михайлович, — узнал Кушнарев Сосновского.
— Я ищу тебя по всему поселку, — сказал запыхавшийся Борис.
— А мы ищем Валерия.
— Зачем?
— Чтобы узнать, как он переправляется через горные реки.
Сосновский вытаращил глаза.
— Да он сейчас через собственную кровать не переправится. Набрался как бегемот.
— Валерий?
— Кто ж еще!
— Где он?
— Дома. В спальне.
— Ты уверен?
— Еще бы. Он обложил меня такой руганью…
— Убедительно, — заметил Кушнарев.
— Реальнее, чем мистика со следами, — согласился Мазин с облегчением.
— Какими следами?
— Видишь? Уперлись в обрыв. А мы — в следы. Что скажешь?
— На самом берегу снега нет. Он спустился и вернулся берегом.
— Просто, как колумбово яйцо. Хотя спускаться крутовато, да и зачем?
— Спросишь у этого психа сам. Я с ним больше не имею никакого дела.
— Так обругал?
— Было…
— Через дверь обругал?
— Игорь, не поддавайся лунному гипнозу. Я видел его, даже пощупать мог, но чересчур несло сивухой. Парень так проспиртовался, что возле него курить опасно. Хоть табличку на трех языках вешай: «Ноу смокинг!»
— Почему он ушел из хижины? Он был здесь недавно.
— Я знаю. Он сказал.
— Что?
— Полностью процитировать не могу, но, исключив нецензурные выражения, приблизительно так: убирайтесь, прокурор, я не в настроении и сильно пьян. И готов отстаивать свое одиночество вплоть до применения физической силы. В хижине мне… забыл точные слова… Смысл — не нравится. Поэтому он пришел домой, и из спальни его никто не вытащит.
— Ясно. Побеседовать с ним не удастся. Остаемся на точке замерзания. Зачем ты искал меня?
— Не понимаешь? Нырнул и исчез. Я беспокоился о тебе.
— Борис, я тронут. Предлагаю вернуться маршрутом Валерия. Пойдемте вдоль речки.
Мазин не хитрил, он не собирался осматривать берег. И он не знал, что увидят они всего в ста метрах от места, где оборвались следы, ему и в голову не приходило, кого они увидят.
На отмели под обрывом в напряженной позе изготовившегося к старту бегуна лежал человек. Голова его находилась в реке, шапку снесло, и почти успокоившаяся вода скользила по редко поросшему черепу, а согнутая нога в новом резиновом сапоге ярко блестела в лунном свете. Другая нога, разутая, в носке домашней вязки, зацепилась за выступивший из песка камень.
Секунду или минуту все молчали.
— Демьяныч? — спросил Сосновский.
Мазин спустился по скользкому склону, придерживаясь за обнаженные, мокрые и холодные корни. Непромерзшая глина предательски уходила из-под ног, но он не упал. Он подошел к трупу и глянул в его лицо. На отмели лежал мертвый пасечник.
Следом скатился Борис и остановился, стряхивая комья грязи с колена.
— Я ошеломлен, Игорь… Кто его сюда?.. Как?..
Мазни не ответил. Все, что с трудом выкапывал он из хаотического нагромождения несопоставимых фактов, оказалось ненужным, ошибочным. Он испытывал чувство человека, сбитого с ног неотразимым ударом, хотя и стоял, и внешне спокойно рассматривал залитый холодным, издевательским светом труп, похожий на перевернутую скульптуру спортсмена, какие любили устанавливать в парках культуры двадцать-тридцать лет назад.
«Предположим, он пришел в хижину повидать Валерия. Не застал его… Пошел и бросился в реку? Глупо. Пойти и броситься в реку мог любой, кроме Демьяныча. И бросить в реку могли любого, кроме него! Так ты думал. И вот смотри, пожалуйста. Он лежит рядом. Мертвый!»
Игорь Николаевич вобрал глубоко воздух. Нужно было выходить из нокаута. Раз! Два!.. Пять… Семь… Пора вставать!
— Сними-ка с него сапог, Борис. Прежде всего нужно установить идентичность следов. Они исчезнут вместе со снегом, как только появится солнце. А труп никуда не денется. Вода падает, да и что мы поймем без экспертизы! Синяки могут быть и от ударов об камни, его несло по течению.
На бледном, застывшем в ледяной воде лице пасечника выделялись темные пятна. След удара был заметен и на затылке, но от чего наступила смерть — от ударов, или старик захлебнулся, или от того и другого вместе, или по третьей, неизвестной причине — гадать не стоило, требовалась экспертиза. Заняться нужно было тем, что Бело к фактам.
Сосновский наклонился и потянул за каблук. Сапог легко скользнул по ноге. Он перевернул его и вылил воду. Стало понятно, почему другая нога оказалась разутой.
— Второй смыло. Сапоги номера на два больше.
— Вижу. Неудачный подарок. Старик это сразу заметил и не захотел примерять при тебе. Помнишь?
— Деликатный был мужик.
Они поднялись на луг. Появились легкие, прозрачные облака. Ветерок гнал их навстречу лунному диску, но казалось, что сама луна заспешила, прорезая и расталкивая облака, чтобы укрыться за ближайшей горой.
Найдя особенно четкий след, Мазин приложил носок к передней его части и опустил сапог. Подошва совпала с углублением в снегу. Игорь Николаевич надавил, прижимая сапог к земле, потом поднял. След не деформировался. Все углубления совпали с выступами.
— Как в аптеке! — обрадовался Борис. — Это он шел от хижины к обрыву.
Кушнарев наблюдал за ними, скрестив руки на груди.
— А дальше?
— Дальше очутился в реке.
— Вот именно: очутился.
— Причины смерти будут установлены, пока же я склоняюсь к самоубийству. Он шел один.
— Демьяныч гораздо меньше, чем Валерий, походил на человека, склонного к самоуничтожению, — сказал Мазин, к которому постепенно возвращались здравый смысл и логика.
— Ты видишь…
— Вижу одно. Если тут произошло самоубийство, то оно напоминает любовную драму девятнадцатого века.
— Ну, скажешь!
— Посмотри сам. «Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду». Вспомни рост Демьяныча и сравни со следами. Это же следы бегущего человека! Характернейший нажим на носки.
— Поищем причину.
— Смертельно пьян и ничего не соображал?
— В рот не брал, даже по праздникам.
— И бутылка в хижине полная. Пил, видимо, Валерий один. Второй вариант: сошел с ума. Внезапное помешательство.
— Теоретически не исключено. Отчего? Сознайся, у тебя мелькала мысль, что Демьяныч убийца?
— Мелькала, — признал Мазин коротко.
— Но ты ее отверг? Он не похож на убийцу.
— На графиню, обуреваемую страстями, еще меньше.
— Далась тебе графиня! Как могли его убить, если это не самоубийство? Кто-то позвал с берега, старик поспешил туда и получил камнем по голове.
— Масса возражений. Как убийца пробрался на берег, не оставив следов? Как он должен был вопить, чтобы его услышали в хижине! Откуда он знал, что старик там в одиночестве?
— Мы не подумали о несчастном случае.
— Вам пора подумать об отдыхе, — вмешался Кушнарев. — Не пренебрегайте вековой мудростью. Утренние мысли — лучшие мысли.
— Ночь же — время ошибок, — согласился Мазин.
— Что подтверждается статистикой преступлений, — присоединился Борис. — Коллектив всегда прав. Отбой до рассвета?
— Я, пожалуй, останусь здесь, — сказал Мазин.
— Здесь?!
— Передремлю в хижине. Подумаю.
— Запрись, по крайней мере!
Игорь Николаевич помахал рукой. Луна скрылась, потемнело, и два силуэта быстро затерялись на фоне леса и гор. Он остался один. Только этого он и хотел, потому что никаких конструктивных мыслей по-прежнему не было. Два человека боролись в Мазине. Один усталый, потерпевший поражение, мечтающий отдохнуть… Самолюбие другого не могло смириться с неудачей. А может быть, не самолюбие, а профессиональное чутье, которое подсказывало, что победа приходит нередко в самую трудную минуту, что вот-вот возникнет второе дыхание и сквозь мучительную бессмыслицу проступят контуры единственно возможной системы. Но где же эта критическая точка?
Нужно было прилечь, успокоиться, сосредоточиться, уснуть, на худой конец. Вместо этого он снова зашагал к реке.
Труп Демьяныча, невзрачного, худощавого старика, склонного к доморощенной философии, в промокших носках, порванных на пятках, лежал теперь в полуметре от воды. Река больше не могла, да и не пыталась дотянуться до пасечника, предоставив его полностью людям и закону. Мазин обратил внимание на сжатые в кулаки руки. Одну прикрывала пола расстегнувшейся куртки. Он приподнял ее и увидел кусочек белой ткани между скрюченных пальцев. Это был тот самый, выпачканный краской платок Михаила Калугина, который Мазин захватил в хижине и вернул вечером Валерию.
«Если бы я был суеверным, мне следовало бы выбросить эту тряпку немедленно. Не платок, а эстафета смерти! Калугин вытирал им краски, я сунул в карман после выстрела, Демьяныч сжимал его в агонии. Остается Валерий… Что за чертовщина! Находка для Шекспира! Или для меня? Стоп, Игорь Николаевич! На сегодня достаточно».
На этот раз решение было принято неколебимое. Спать! Мазин приоткрыл дверь в хижину и поежился. Из комнаты улетучились последние остатки тепла. Он зажег лампу и присел над печкой. Разжечь ее не составляло труда. Щепки и дрова были заготовлены впрок.
«Разумеется, здесь еще могут обнаружиться интересные вещи. Если милиция со своей техникой поспеет завтра и осмотрит хижину при дневном свете, а не при мерцающей коптилке, в которой догорают последние капли керосина, то…»
Никакой техники не потребовалось. И дневного света тоже. У самого поддувала между поленьями лежал портсигар, старый, без папирос, со сломанной пружиной. Когда Мазин взял его в руки, портсигар раскрылся. Он был недавно вычищен, но в углублениях осталась темная грязь, такая, что скапливается от долгого пребывания в сыром месте. На серебряной матовой поверхности Игорь Николаевич прочитал:
«Костя! Всегда жду!
Было еще светло и очень тихо. Река примолкла, истощив нерасчетливо растраченные силы. Хотелось идти долго, отрешившись от беспокойных мыслей, но на пути вырос Валерий.
— Видели пчеловода?
Казалось, он поджидал Мазина.
— Демьяныч подтвердил мое предположение.
— Выкрутился?
— Не суди ближнего… И возьмите свой платок. Художник посмотрел на платок.
— Не такая уж ценность. Но если вы щепетильны… Из хижины утащили?
— Случайно.
— Не сомневаюсь. Куда направляетесь?
— Алексея Фомича хочу повидать. Валерий приподнял одну бровь.
— Дотошный вы…
Архитектор брился у окна. В комнате пахло «Шипром».
— Не помешаю?
— Представьте, нет. Присаживайтесь. Я ждал вас…
Он вытер полотенцем и осмотрел в зеркальце выбритую щеку. Выглядел Кушнарев не пьяным и не утомленным. Что-то изменилось в нем за прошедший час.
— Хотел спросить, уважаемый…
За окном громоздкая туча с трудом продиралась по ущелью, цепляясь за скалы. В одном месте они вспороли продолговатую брешь, и в ней засветились розовые закатные лучи. В комнате стало виднее. Здесь царил строгий и неприхотливый, почти солдатский порядок. Кровать была покрыта одноцветным шерстяным одеялом, закрывавшим и подушку, ни на столе, ни на стуле не валялось ничего постороннего, и только несколько высокогорных, незнакомых Мазину цветов в глиняном кувшинчике нарушали это упорядоченное однообразие.
— … Вы сыщик-любитель или профессионал?
— Полномочий предъявлять не могу.
— Бумажки меня не волнуют. Меня интересует, подготовлены ли вы к роли, которую на себя взяли. Или играете в детектива, пользуясь советами милейшего Бориса Михайловича?
— Можете на меня положиться.
— Доверие предполагает взаимность. Если же я включен в проскрипции, взаимопонимание исключено.
— Для окончательных выводов у меня до сих пор нет данных. Поэтому жду любых неожиданностей.
— От меня сенсаций не ждите. Хотя обязан признать, что не ошиблись вы. Я в самом деле был несправедлив к покойному Мише, подозревал в его отношении к себе нечто нехорошее. Но этот вопрос не практический. Это мое, личное.
— Я знаю, Алексей Фомич, что вы особенно дорожите справедливостью. Мне стало известно…
— Моя грустная история? Это не тайна. Это в прошлом. Не поправишь. Я говорил. Не хочу множить зла. У ваших коллег все сошлось. Против меня были факты, а факты, как тогда говорили, — вещь упрямая. В чем я могу упрекнуть своих судей? В том, что у них не хватало… это трудно сформулировать… не хватило сил приподняться над очевидностью? Они выполняли долг, как они его понимали, даже добра желали, справедливости. Ох уж эти добрые намерения! Ими вымощена не одна дорога в ад. Потому что каждый идет туда своим путем. Я не выдержал, упал духом. Но Миша понимал мою трагедию. Он любил меня. Не боялся, а любил. Может быть, жалел… Я не имел права чернить его в ваших глазах. Он погиб. Это наказание.
Кушнарев нервно провел лезвием бритвы по широкому ремню, зацепленному пряжкой за гвоздь в стене.
— Кто наказан? Кем?
— Не ловите меня! Михаил наказал себя сам.
— Сам? Он же убит.
— Что из того! Наказать себя можно и чужими руками. Но я не желаю, не желаю об этом! Я боюсь-слов, удобных, незаменимых формул, в ужасный смысл которых мы не вдумываемся и не способны их осмыслить, потому что если б осмыслили, то лишились рассудка. Например, эти крошечные газетные заметки о приговорах и слова, слова — «приговор приведен в исполнение». — Кушнарев глянул на Мазина, заметил, что тот хочет возразить, и замахал рукой с бритвой. — Только не говорите про выродка, который ходил по Москве с туристским топориком и убивал детей! Да, он заслужил! Но не себя ли мы убиваем, когда казним человека? Может быть, потому и убийцы существуют, что убивать-то вообще можно? Только бы причина была! Вина! Вы думали об этом?
— Необходима ли смертная казнь? Боюсь, мы не решим этот вопрос. Я думаю о том, кто убил Калугина.
В отсвете красного заката глаза старика блеснули диковато.
— Послушайте, вы добиваетесь, чтобы я помог вам убить взамен Михаила другого человека, да?
Мазин отодвинулся. «Неужели его так взвинтили мои слова о допущенной несправедливости?»
— Я разъяснял, чего я добиваюсь. Я не хочу, чтобы этот другой человек прикончил сегодня ночью еще одного, третьего человека.
— Вас? Да? Вас? Чем вы ему помешали? Он боится? Значит, он тоже спасает себя! Разве вы не понимаете, что он защищается? Если б вы не угрожали его жизни, он не стал бы стрелять в вас!
— Алексей Фомич! — сказал Мазин устало. — Я вызываю в вас идиосинкразию. Простите. Вашу справедливость я готов признать в идеале, но живем-то мы в мире реальном, и смотреть на него свысока, добру и злу внимая равнодушно, извините, не могу.
— А что оно дает, беспокойство ваше? Улучшает человечество на микрон? Ничтожный микрон?
— Пусть на полмикрона, на четверть Ведь и до Луны-то расстояние по сравнению с Галактикой ничтожно, но стремимся же! А крупица справедливости ничтожной быть не может! Сами знаете! И не верю я в вашу философию. Может, обижу я вас, но скажу: в отношении своем к убийце Калугина вы не из теории исходите!
— Как понять прикажете? — вскочил архитектор.
— Поясню. Только бритву спрячьте. Не люблю режущих предметов. Вам хотелось бы, чтоб убийца понес кару, но существует причина, которая пугает вас, заставляет опасаться разоблачения убийцы или обстоятельств преступления. Помилуйте нетактичного прагматика, но люди в своих поступках не столько от теории идут, сколько теорию под поступки подгоняют.
— Я не лицемер.
— Верю. Бритву-то спрячьте, прошу! Думаете вы, как поступить лучше, правильнее, но устойчивости в решениях не находите, вот и выдумываете, мечетесь, себя убедить хотите — не меня!
Кушнарев опустился на койку и сложил бритву.
— Неотвязный вы человек! Что еще вымыслили?
— Вымыслил? Две вещи могут вас страшить. Или истина повредит вам самому, или она повредит… Ну, да вы понимаете кому.
— Как ему может стать хуже?
— А уж это вам виднее.
Кушнарев выдвинул ящичек из стола и начал укладывать бритвенный прибор. Потом сказал ровно, невыразительно:
— Клянусь вам честью, молодой человек, совестью своей, а я не подлец… Неизвестно мне, почему убили Михаила Калугина.
— Так я и знал, — вздохнул Мазин. — Так и знал! Все ваши сомнения отсюда. Ведь как бы ни теоретизировали, а изверга, зверя защищать бы не стали. Того, что с топориком по квартирам ходил. Его б спасать не стали! А тут вас червь гложет, не уверены вы, неизвестно вам: а не было ли на самом Калугине вины? Вы не за самосуд, разумеется, но вы настрадались, знаете много, видели, даже бессилие правосудия вам знакомо, и потому, именно потому не хотите вмешиваться. Терзают вас сомнения, и к легкому решению стремитесь, переложить его на судьбу хотите. А попросту — устраниться, руки умыть. Не от равнодушия, не из эгоизма, пусть от страха ошибиться, зла не причинить напрасного, но ведь что в лоб, что по лбу.
Мазин замолчал, потом добавил негромко:
— Поступайте, как знаете. Философствуйте в одиночку.
В приоткрытую форточку тянуло морозом и проникал приглушенный рокот успокаивающейся реки, бежавшей почти рядом, под окном. Чувствовалось, что наверху, где вода собиралась в мутный и быстрый поток, стихия уже побеждена. Скоро Филипенко переправится, вызовет милицию, делу будет дан законный ход, а он, Мазин, превратится в рядового свидетеля, даст показания, и отпуск его возобновится.
«И все-таки кто же этот Калугин, что заставляет тебя заниматься его судьбой? Профессиональная инерция? Чувство самолюбия? Стремление к собственной безопасности? Нет! Тут не выделишь единственную причину. Ты поступаешь так, как обязан поступить, а долг в конечном счете категория не менее сложная, чем любые другие моральные побуждения, он также соткан из множества переплетенных ниточек, и их не разберешь, не разорвешь, не разорвав всю ткань».
— Алексей Фомич, если вы сказали все…
— Нет. Но я в затруднении. Сознаюсь, может проясниться неблагоприятное для Михаила. Никто ошибок в жизни не избежал, однако за некоторые платить приходится так дорого, что упрекать больше нельзя, бессовестно копаться в белье.
Мазин видел, что, как только Кушнарев приближался к черте, за которой начиналось то главное, что он знал о Калугине, что могло пролить свет на обстоятельства его гибели, щелкал выключатель, и архитектор лишь беспомощно разводил руками во мраке.
Прорваться к нему, как понимал Игорь Николаевич, можно было единственным путем — догадаться,сообразить самому, что тяготит архитектора. Мазин заметил, что старик не способен хитрить и быстро капитулирует, когда становится известной хотя бы часть того, что ему хочется удержать в секрете. Кушнарев ни за что не соглашается сказать первое слово, но он болтлив и готов назвать Б и В, хотя А и не произнесено. Осмыслить и использовать эту вторичную информацию — вот в чем задача!
«Он говорил об услуге, о поддержке, о помощи, оказанной Калугину. Но Кушнарев сидел в тюрьме, когда эта помощь могла оказаться необходимой. Неувязка? Противоречие… Соврал? Зачем? И как можно соврать? Вот оно! Соврать невозможно. Во всяком случае, самому Калугину. А тот признавал, подтверждал, что помощь была. Пусть лишь слова. Именно слова. Да как я этого раньше не сообразил!»
Открытие было настолько простым, что Мазин с трудом сдержался. Сдержался по двум причинам. Бросить эту сильную карту стоило только в единственный, подходящий момент. Потому что карта была все-таки не самой старшей, не козырным тузом. И еще потому, что Кушнарев перепугался, приблизившись к опасной грани, и сделал неожиданную попытку отчаянным маневром отвлечь Мазина, пожертвовать частью, чтобы сберечь основное.
— А любители в скважину замочную заглядывать есть. И подсмотрели даже.
Трудно дались ему эти слова, эта жертва, в полезности которой Кушнарев наглядно сомневался.
— Кто?
— Нужно ли?
— Необходимо.
— Олег.
— Не ожидал, — сказал Мазин искренне. — Олег здесь единственный случайный человек. Я считал, что он интересуется самолетом.
— Одно не исключает другого.
— Вы хотите сказать, что прошлое, ошибка Калугина и самолет связаны?
Кушнарев уверенно покачал головой.
— Абсолютно нет. Здесь другое, неясное. Вы полагали, что Олег появился в здешних краях сам по себе и остановился в доме Калугина случайно. Это не так. Они знали друг друга.
Архитектор смотрел на Мазина не с торжеством человека, сообщившего неизвестный собеседнику факт-сюрприз, а с грустью.
— Что из того?
— Само по себе не предосудительно, разумеется. Непонятно, почему и Миша и Олег скрывали Свое знакомство. Я прекрасно помню, как Олег появился в доме. Михаил его представил: «Вот юноша, в наши дебри забрался, журналист. Познакомились только что. Прошу любить и жаловать».
— Почему же вы думаете, что Калугин его знал?
— О! Это просто и несомненно.
Кушнарев полез в карманчик вязаного шерстяного жилета и извлек свернутый дважды телеграфный бланк с наклеенными полосками отпечатанных на бумажной ленте букв.
«Дагезан. Калугину.
Вашего разрешения выезжаю условие помню Олег», — прочитал Мазин…
— В куртке Михаила Михайловича находилась. Марина Викторовна попросила меня вынуть все из карманов…
На сгибах помятого бланка виднелись табачные крошки.
«Что это? Ключ или еще один мираж? Калугин и Олег не распространялись о своем знакомстве, но в крошечном поселке телеграмма могла стать известной многим. Калугин ее даже не выбросил».
— О каком условии помнит Олег?
— Понятия не имею.
— И больше вам ничего не запомнилось, не показалось странным в их общении, отношениях?
— Нет. Дня за три до трагедии я, правда, услыхал мимоходом брошенные фразы, которым значения не придал, потому что ничего привлекающего внимание в них не нашел. Уж после телеграммы вспомнил. Мы с Демьянычем о пчелах беседовали в гостиной, а Миша с Олегом вошли, и Миша спросил: «По-прежнему безрезультатно?» Тот отвечал: «За осыпью — крутой склон. Поищу в другом месте». Тогда Михаил говорит: «Нет, нет. Там ищи!» Тут он меня увидал и отошел.
— Не хотел, чтобы слышали разговор? Прервался?
— Кто знает… Мерещится.
— Выходит, Калугин советовал Олегу искать самолет там, где он и обнаружился?
«А знать о самолете не мог! Что из того? Олег давно слышал о самолете, искал его. Где-то, при вполне объяснимых обстоятельствах, он познакомился с Калугиным, рассказал о своем поиске, и тот пригласил парня в Дагезан. И разговор логичен. Олег не сумел пробиться к озеру, которое хотел осмотреть, а Калугин советует не отступать, не оставлять «белых пятен». Разумно. Но какие условия могли обсуждаться между ними? Условия, без которых Олег не мог приехать в Дагезан? Он принял условия и приехал, приехал, почему-то никому не сказав о знакомстве с хозяином. Не в этом ли заключалось условие? А куда гнет Кушнарев? Зачем он рассказал об Олеге? Почему думает, что тот «подсмотрел в скважину»?»
Вопросов набегало слишком много, и Мазни почти с облегчением оборотился на отвлекающий скрип отворившейся двери. Там, словно подслушав его мысли, появился Олег. Видно было, что день он провел под открытым небом, штормовка намокла и топорщилась, схваченная морозцем, к джинсам прицепились репьи и комья глины.
— У вас гость, Алексей Фомич? Добрый вечер, доктор. Все еще подозреваете меня или откопали, кто воспользовался ножом?
Спросил он почти небрежно, но подчеркнутая небрежность говорила больше о выдержке, чем о легкомыслии.
— Вы собирались выяснить это сами.
— Ошибаетесь. Это вы рекомендовали мне встряхнуть мозги до прибытия милиции. Но у меня не нашлось времени.
В комнате потемнело, выделялся только квадрат окна, да и то не ярко. Мазин не видел лиц собеседников. Он вспомнил, что электричество так и не подключили, и рассчитывать приходится в лучшем случае на керосиновую лампу, а то и на огарок свечи. А хотелось видеть Олега, его лицо, на котором просматривались одни очки да полукруг короткой бородки.
— Жаль. Человек-то убит. Впрочем, вас больше интересует сбитый самолет.
— Представьте.
— А если смерть Калугина связана с находкой самолета?
Олег еще больше отодвинулся от окна. Ему потребовалось время, чтобы взвесить и оценить мысль Мазина.
— Парадоксы ищете? То с ножом, теперь с самолетом?
— Тут факты разного порядка. Связь между ножом и вами очевидна, хотя им мог воспользоваться и другой человек, связь же между находкой самолета и убийства в самом деле производит впечатление парадокса, но только на первый взгляд.
— Что вы знаете?
— Знаю, что вы приехали сюда не случайно.
— Вам не дает покоя батумский ресторан?
— Вспомнили меня?
— Это вы меня вспомнили. Но раз уж у вас такая хорошая память, вы должны помнить и другое: я говорил открыто, гибель этого самолета меня давно интересует.
— Почему?
Он мог бы возмутиться, надерзить, но ответил обстоятельно:
— Я работаю в авиационной газете, приходилось встречаться с ветеранами, они вспоминали этот случай. Самолет пропал без вести в сорок первом году. Произошла авария. Он выполнял важное задание, и погибшие заслужили, чтобы родные узнали, где они погибли. Достаточно?
— Почему никто не искал самолет до вас?
Олег снял очки и протер стекла носовым платком. С каждым вопросом он становился суше и спокойнее. Трудно было понять, насколько правдивы его ответы, но он не увиливал от них.
— Искали. Безрезультатно. Видимо, мешала лавина.
— А вам повезло?
— Не мне, а Филипенко. Машину нашел Матвей.
— Нашел там, где искали вы.
— Нашел там, где она находилась.
— И все-таки вам повезло. Даже неоднократно. Калугин оказался жителем поселка, рядом с которым разбился самолет, предложил вам гостеприимство…
В спокойствии Олега пробилась первая трещина.
— Ну и что?
— Ничего особенного. Удачно, что вам не пришлось жить в палатке. Сыро, холодно. Радикулит подхватить можно.
— У меня отличное здоровье.
— А тренаж неважный. Озеро не одолели.
— И это известно?
— Тесно живем, — повторил Мазин слова Демьяныча. — Однако удачи не кончились. К озеру поднялся Филипенко. Не по совету ли Калугина?
Олег достал из кармана штормовки спички и сигареты. Первая спичка сломалась. Вторая тоже не зажглась. Наверное, коробка отсырела. Мазин вынул зажигалку и протянул журналисту.
Ответ после паузы прозвучал с вызовом:
— Возможно. Калугин любил советовать.
— А у вас не сложилось впечатление, что советы его на редкость безошибочны?
— Если и сложилось, какое отношение имеет это к смерти Михаила Михайловича?
«Резонно. Нельзя же думать, что парень сошел с ума и убил Калугина, чтобы не делить с ним славу первооткрывателя! Да и что за открытие? Случайно разбившийся самолет, летевший в тыл… Однако сложилось!»
— Когда погиб самолет, Олег?
— Двенадцатого октября.
«Знает даже день. Нет, не могла обыкновенная, непримечательная история так заинтересовать их обоих. Калугина тоже. Но чем? И что произошло в тот день? Калугин ехал из госпиталя в Ашхабад. Ехал поездом. Из окна вагона за сто километров не увидишь. Но услышать, узнать что-то в пути молено. Только обязательно значительное, чтобы запомнить на два с лишним десятка лет!»
— Калугин знал эту дату?
— Я сказал ему.
— Давно?
— Порядочно.
— Странно. Вы же тут неделю всего живете. Или вам случалось встречаться с Калугиным раньше?
— Нет.
«Вот и попался», — подвел итог Мазин без особого торжества, потому что победа далась легко.
— Алексей Фомич, зажгите лампу, пожалуйста.
Кушнарев сидел, опустив голову на руки, и Мазину пришлось повторить свою просьбу, прежде чем он встрепенулся и заспешил, не попадая стеклом в выгнутый ободок.
— Покажите бумагу, которую вы нашли, Алексей Фомич.
— Не нужно, Игорь Николаевич, не стоит.
— Лучше разрешить недоумение сразу, чем держать камень за пазухой. Это ваша телеграмма?
Олег поднес бланк к лампе, посмотрел, поправил очки.
— Как она к вам попала?
— Объясните, что здесь написано. И почему вы не сказали, что давно знакомы с Калугиным.
Игорь Николаевич выдвинул фитиль. Стало светлее. Олег положил бумагу на стол. Он не делал никаких попыток оспорить право Мазина задавать вопросы, но держался по-прежнему ровно, не роняя себя.
— Не понимаю, почему он ее не выбросил. Это была его затея. Калугин не хотел, чтобы в поселке знали о нашем знакомстве.
— Как вы познакомились?
— Он приезжал в наш город, писал летчиков. Мы разговорились, оказалось, что у него здесь дача. Я рассказал, что меня интересует самолет. Последняя телеграмма с борта была из близкой точки. Он предложил остановиться на даче.
— А условие?
— Я не придал ему значения. Калугин просил, если я найду самолет, не упоминать его фамилию в газете. Я счел это за обычную скромность.
— Откуда он знал, что самолет лежит у озера?
— Он никогда не говорил, что знает, но упорно советовал искать в верховьях Красной речки.
— Упорно?
— Упорно. Когда я не одолел, как вы выразились, подъем, он послал Матвея. Обидно. Подняться было можно. Я ходил туда сегодня с Галиной.
— Когда вы вышли?
— Рано. — Олег откашлялся. — Может быть, достаточно, доктор? Я стремился, как мог, удовлетворить ваше любопытство.
— Спасибо.
— Всего доброго.
«Самоуверенный парень. Не битый. Современный. У Демьяныча верный глаз».
— Игорь Николаевич! — услыхал Мазин. Впервые архитектор назвал его по имени и отчеству, и в этом обращении Мазин уловил доверие и еще другое — раскаяние. — Все я напутал, насловоблудил, сам не пойму зачем. Ведь зарекался не болтать… А наплел про скважину, бред всевозможный. К счастью, прояснилось, рассеялось.
— Что прояснилось, Алексей Фомич?
— Да галлюцинации мои. Что Олег странно вел себя, и вроде Миша скрывал, зависел от него. Вот уж ахинея!
— Не уверен. На мой взгляд, ничего этот парень не прояснил, наоборот, замутил. Что знал Калугин о самолете? И почему журналист к нему прикипел? В такую погоду жизнью рисковал. Зачем? Самолет нашли. Никуда он не денется. Зачем к черту на рога в такой спешке взбираться?
— Характер, Игорь Николаевич. Спортивный, упрямый.
— Ладно, Алексей Фомич. Понимаю вас. Поймите и вы меня. — Мазин решил бросить свою карту. — Факты мне требуются и ваша помощь. Расскажите, как Калугин попал в тюрьму. Я не ошибся? Ведь вы встретились с ним не на свободе?
Кушнарев сник. Ему стало больно.
— Как это я… как мог проговориться…
— Вы не проговорились. Я сопоставил ваши слова о помощи Калугину с датами его жизни. Не вините себя. Он совершил серьезное преступление?
— Серьезное? Он напился водки. — Кушнарев вдруг заторопился, спеша поскорее избавиться от всего, что таил, что давило на него. — Он выпил. Первый раз в жизни выпил. И друзья, нет, не друзья, подонки, враги злейшие, решили сломать замок на киоске или ларьке, я его попросили постоять, посмотреть, предупредить, свистнуть. Вы знаете, как это делается. Он свистнул или не успел… Все попали в милицию. Признали предварительный сговор группы лиц… Беда заключалась в том, что мальчик органически не мог переносить неволи… Художник! Хотя он не был еще художником, а ребенком, мальчишкой, шестнадцать лет! Он не мог покориться этой страшной нелепости. И совершил еще две непростительные глупости. Сначала он… Поймите только правильно!
— …попытался бежать?
— Да! Откуда вам…
— Нетрудно сообразить. Его поймали и увеличили срок.
— Именно. Тогда Миша попытался покончить с собой.
— Вы спасли его?
— Помог. Спасла война. Он попросился на фронт… И прожил еще больше четверти века.
«Это шаг вперед. Но как сосчитать шаги? Сколько их?»
— Я встретился с ним в Москве, на выставке. Тогда я боялся встреч со знакомыми. Они напоминали мне о прошлом, а прошлого больше не было. Жизнь разделилась на до и после… Мостика я не искал. Я боялся отверстий в стене. Там виднелись юношеские сны, сказки, а я проснулся, я не досмотрел сладких снов и не хотел их больше видеть… Простите. Мы говорим о Мише, а не обо мне. Я забыл, увлекся. Однажды я зашел на художественную выставку. Все-таки я был не чужд изобразительному искусству. Фамилия художника мне ничего не говорила…
— Фамилия вам ничего не сказала?
— Миша сменил ее. Ему тоже не хотелось встречать старых знакомых. Но я узнал один пейзаж — тусклый день на севере, почти незаметные краски. Он не бросался в глаза, посетители не задерживались, но я видел эту тундру в другой рамке… Мне захотелось посмотреть на автора.
Понимаете, не в том дело, что я его за рукав стеганки схватил, когда он в смерть хотел кинуться. Не за то он мне обрадовался. Это странно, так в жизни только бывает. Мне в свое время, еще до ареста, в школе случилось побывать, где Миша учился, увидеть его рисунки. Они запомнились. И потом «там» я сказал ему, что думал, и о рисунках, и главное — как человек жить должен, дорожить собой, если его коснулось настоящее, искра таланта. Короче — сказал то, что тысячу раз повторял себе и во что сам не смог поверить, потому что дара-то подлинного не было и многого другого не хватило, не коснулось. А его коснулось! И он поверил — и выжил. Как художник выжил, понимаете? За это он и ценил меня. А за рукав и охранник схватить мог: «Стой, мол, парень! Не положено тебе жизнью своей распоряжаться!» И мне от этого легче жить стало. Ведь не зря просуществовал, не без пользы все-таки…
Мазин видел, что старика остановить трудно, да и жестоко прерывать, но необходимо было осмыслить новые факты, найти связь между ними.
— Алексей Фомич, по-вашему, Калугин скрывал прошлое исключительно по соображениям моральным, личным, не практическим?
— Практическим?
— Он поступал учиться, проходил различные официальные рубежи, заполнял анкеты, писал автобиографию… Утаивал ли он и там…
Кушнарев сидел у самой стены. Круг неяркого света, ограниченного абажуром, не достигал его.
— Именно! Добрались, докопались! Ну почему вы не способны мыслить за пределами уголовного кодекса? Почему не верите, что человек сам себя и осудить и оправдать может?
— Так поступил Калугин?
— Не спрашивал! Не интересовался, потому что видел, справедливо он поступил. Нет больше мальчишки, что дрожит на углу, пока дружки замок сворачивают. Того судить нужно было за то, что не думал, голову на плечах имея, не ведал, что творит. Дурак был, не человек, не личность. А Михаил Калугин формальностям не подсуден. Долги выплатил, имя заслужил чистое. Человек, художник. Совесть ему судья. И мелочные подробности роли тут не играют.
— Играют, — возразил Мазин — Получается, что Калугин фамилию сменил незаконно и прошлое скрывал сознательно, а не просто не любил о нем распространяться.
— Кровью, пролитой на фронте, он заслужил… талантом своим…
— Алексей Фомич, не понимаете вы меня! Формальностям друг ваш действительно уже не подсуден. И не о том я хлопочу, чтобы память его очернить. Поступки его меня с другой стороны интересуют. Как они самому ему навредили! И не подписал ли он себе смертный приговор сам, когда впервые чужой фамилией подписался?
Кушнарев приблизился к лампе.
— Вот вы как повернули!
— Ощупью продвигаюсь, ориентиры в тумане. А тут еще самолет… Не могу его от смерти Калугина отделить. И соединить не могу. В самой смерти логики не вижу. Предположим, нашелся подлец, задумал нажиться на прошлом Калугина. Но тогда художник шантажиста убить должен, а не наоборот! Получается, не Михаил Михайлович боялся, а сам он кому-то мешал. Вот главная неувязка! И вам приходила эта мысль в голову, пока вы решали тяжкий вопрос, сказать мне, что знаете о Калугине, или нет. В том и тяжесть — жертва ли Калугин? Убит злодейски или была тому причина? Колебались вы, даже в неискренности к себе его заподозрили…
— Во мне колебаний больше нет.
— Но были! И шли они от поступка, который теперь оправдали, а меня убеждаете (а не себя ли?), что имел Калугин право присвоить чужие документы! Чьи? Все документы кому-то принадлежат. Где же их владелец? Калугин-два? Вернее, Калугин-первый?
— Понятия не имею. И плохого думать не желаю.
— Мне тоже не хочется. Больше ничего вам не запомнилось?
— Есть еще зацепка, но ничтожнейшая. Собирался Михаил в тот день беседовать с Валерием.
— О чем?
— Если б знать! Заглянул я к нему, а он мне: «Погоди, Алексей, с сыном потолковать нужно» — «Уму-разуму поучить?» — «Да нет, — отвечает, — хуже». Но пояснять не стал. А выспрашивать, сами понимаете, как я мог?
«Разговор этот был нарушен Сосновским. Но и сам Сосновский пришел говорить. Не поговорил. А потом стало поздно».
— Зацепка не ничтожная, Алексей Фомич, а характерная. С двумя людьми собирался говорить Калугин. С очень близким и вовсе не близким, но сведущим в законах. Он собирался посоветоваться с Борисом Михайловичем. И с сыном. Знаменательное сочетание. Предположим, Калугин решился довериться обоим. Такое можно объяснить только так: ему грозило большее, чем разоблачение прошлого. Он знал об угрозе! Но что успел Калугин сказать Валерию?
«Он мог назвать имя предполагаемого убийцы, человека, который заинтересован в тайне Калугина больше, чем он сам. Но если верна эта версия, таким человеком должен быть кто-то немолодой, современник тех, давних лет. Таких двое — Кушнарев и Демьяныч. Однако Кушнареву я верю, Демьяныч же с Калугиным раньше знаком не был, да и зачем ему было покушаться на человека, который, как он знал, заведомо мертв? Но если Валерию что-то известно, как объяснить его поведение? Почему молчит? Ждет милицию? Или ничего не знает? А что, если замешан вовсе не пожилой человек? Мало ли тут возможных связей, взаимодействий, последствий?»
— Пойдемте к Валерию, Алексей Фомич!
И тут Кушнарев негромко рассмеялся.
— Иначе я вас представлял, Игорь Николаевич. Логическим, рациональным, не поддающимся увлечениям.
— Разочаровались? Ах, вспомнил: вы за высшую истину — через сто лет. Спешку не одобряете.
— Не обижайтесь: молоды вы еще. Но умны. Пойдите к Валерию, попытайтесь. Верю я в вашу справедливость. А мне идти к нему не хочется. Зачем я там? Уличать, если откажется? Вы и без меня с ним справитесь. Даже лучше без меня, потому что беда эта всех ожесточила, подозрительными сделала. Валерий тоже озлился. Я это чувствую. Сказать я уж все до предела сказал. Не нужен больше. И больно мне будет, если что худшее откроется. Михаил, Игорь Николаевич, дорог мне. На ногах я ему помог удержаться и заслугу свою в этом вижу. Так не отбирайте ее у меня.
— Хорошо, Алексей Фомич. Схожу сам.
Он запомнил комнату Валерия, хотя и не был в ней, и без труда сориентировался в темном коридоре. Нащупав ручку, Мазин подергал ее сверху вниз. Из комнаты не ответили. Тогда он повернул ручку до предела. Дверь оказалась запертой. Валерий или не желал откликнуться, или отсутствовал. Кушнарев стоял на пороге, поглядывал в его сторону.
— Не достучались?
— Нет. Возможно, он в хижине.
— Пойдете?
— Придется.
— Я с вами.
Мазин удивленно посмотрел, как архитектор натягивает на голову берет.
В комнате Игорю Николаевичу казалось, что на дворе еще светло, на самом деле ночь давно наступила. Самозваный снегопад кончился, ветер угнал последние, ненужные тучи, и луна, скрывавшаяся в горах, появилась над ущельем, огромная, тяжелая, круглая, провисшая, как переспевший апельсин, готовый сорваться с пригнувшейся к земле ветки. Она-то и освещала все вокруг.
— Сколько ненужной красоты, — сказал Кушнарев, оглядываясь.
Весь горизонт над черной, зубчатой стеной гор светился неодолимым лунным пламенем. Зато напротив скалы, которые отражали поток этого удивительного, живописного света, припорошенные застывшим на несколько ночных часов хрупким и неглубоким летним снегом, подсекали белизной совсем другое небо. Не пуская туда свет, они возвращали его, обрушивали целиком в долину. В этой стороне небо было ровнее и глубже. В высоте его, стесняясь своего ничтожества в присутствии такого гигантского, напоенного энергией светильника — луны, мерцали небольшие ледышки-звездочки. Невозможно было поверить, что это многоцветное импрессионистское чудо возникло на том же месте, где несколько часов назад не было ничего, кроме вымокшего насквозь серого тумана.
По голубому скрипучему снегу шагалось легко и быстро. Мазин первым заметил, что дверь хижины открыта. «Жарко ему, что ли? Перетопил, наверно». Но дыма над трубой не было.
— Валерий! — позвал Игорь Николаевич.
Никто не отозвался. Кушнарев смотрел в сторону. Мазин шагнул через порог.
В комнате было пусто. Печь погасла, видимо, недавно. Ощутимо слышался запах дыма, хотя заслонка в трубе была выдвинута до предела. На койке, как и днем, царил хаос — подушка смята, одеяло перекошено. Зато разбитое пулей стекло успели замелить прибитой к раме фанеркой. Мазин перевел взгляд на стол и увидел бутылку с водкой. Рядом стояли два пластмассовых стаканчика, но никакой закуски. Пить не начинали. Тускло мерцала керосиновая лампа.
— Очередная загадка! — развел он руками. — Где же Валерий?
— Следовало бы зайти к Марине Викторовне.
— Пожалуй. А почему он не потушил лампу?
— Рассеянность, волнение, влияние алкоголя.
— Предположим, хотя бутылка полная. Любопытно, с кем он собирался ее опустошить?
Мазин передвинул по столу стаканчики.
— Вы видели такую примитивную посуду у Калугиных?
— Не приходилось.
— Типичный ширпотреб. Мечта любителя раздавить бутылочку на троих. Может быть, Валерий пригласил гостя и побежал на угол за колбасой. Вас не шокирует мой юмор, Алексей Фомич? Мы слишком долго беседовали всерьез.
— С вашего позволения я выйду на воздух. Здесь угарно.
Собственно, Мазину в хижине оставаться тоже было незачем. Не ждать же гостя. Лучше поискать хозяина. У печки стояло ведро со щепками для растопки. Поверх щепок валялась еще одна бутылка, на этот раз пустая. Днем ее не было. Игорь Николаевич взял бутылку за горлышко и поднес к носу. Несмотря на насморк, ошибиться было трудно. Пили недавно. Но Мазин не успел оценить новую находку.
— Игорь Николаевич! — послышался голос Кушнарева. — Здесь…
— Иду, Алексей Фомич.
После накаленных переговоров оба стремились быть подчеркнуто вежливыми.
— Обратите внимание!
Кушнарев вытянул руку в сторону реки. От хижины по узкому лугу до самого берега виднелись следы.
— Вот так открытие! — воскликнул Мазин.
— Интересно? — спросил Кушнарев, сомневаясь.
В следах не было ничего криминального, ни капель крови рядом, ни примет того, что владелец рифленых подошв тащил какой-то подозрительный предмет. Поразило Мазина направление следов. Они вели не к тропе, и не мимо пруда в сторону дороги, а прямо туда, где луг обрывался над речкой крутым откосом. Игорь Николаевич двинулся рядом, стараясь не затоптать след. Он был далек от скоропалительных предположений, но тревога уже появилась, шевельнулась, засосала в груди. У обрыва он остановился. Следы прерывались, будто человек пошел дальше, полетел по воздуху. Но он не мог полететь, он мог только упасть.
Игорь Николаевич наклонился над обрывом. Внизу катилась вода, пенилась, натыкаясь на изогнутый берег, поворачивала и убегала через лес, вниз по ущелью. Она не бурлила, да и было ее гораздо меньше, чем днем, но сейчас, ночью, темный поток пугал, отталкивал. Мазин осмотрел берег метр за метром. И не увидел ничего, кроме воды и камней.
Кушнарев тоже пересек луг.
— Куда же он девался?
— Мысли приходят мрачные. Обратного следа нет.
— Сумасшедший парень!
И Сосновский считал Валерия способным на отчаянное решение. Если они правы, нужно искать труп. Труп пораженного ужасом, сломленного, убившего себя преступника? Или очередной жертвы?
— Придется спуститься и поискать по течению.
Архитектор покачал головой.
— Не рано ли мы его похоронили, Игорь Николаевич? Человек молодой, полный сил. Задиристый, не меланхолик. Такие не склонны к самоубийству.
В словах Кушнарева слышалась разумная мысль. Вина Валерия не доказана, и самоубийство не больше чем гипотеза.
— Однако пройтись по речке, не замочив ног, ему не удалось бы.
Мазин еще раз оглядел «пейзаж в лунном свете». Что-то изменилось во втором плане. Со стороны леса двигалась неожиданная фигура.
— О-го-го! Игорь!
— Борис Михайлович, — узнал Кушнарев Сосновского.
— Я ищу тебя по всему поселку, — сказал запыхавшийся Борис.
— А мы ищем Валерия.
— Зачем?
— Чтобы узнать, как он переправляется через горные реки.
Сосновский вытаращил глаза.
— Да он сейчас через собственную кровать не переправится. Набрался как бегемот.
— Валерий?
— Кто ж еще!
— Где он?
— Дома. В спальне.
— Ты уверен?
— Еще бы. Он обложил меня такой руганью…
— Убедительно, — заметил Кушнарев.
— Реальнее, чем мистика со следами, — согласился Мазин с облегчением.
— Какими следами?
— Видишь? Уперлись в обрыв. А мы — в следы. Что скажешь?
— На самом берегу снега нет. Он спустился и вернулся берегом.
— Просто, как колумбово яйцо. Хотя спускаться крутовато, да и зачем?
— Спросишь у этого психа сам. Я с ним больше не имею никакого дела.
— Так обругал?
— Было…
— Через дверь обругал?
— Игорь, не поддавайся лунному гипнозу. Я видел его, даже пощупать мог, но чересчур несло сивухой. Парень так проспиртовался, что возле него курить опасно. Хоть табличку на трех языках вешай: «Ноу смокинг!»
— Почему он ушел из хижины? Он был здесь недавно.
— Я знаю. Он сказал.
— Что?
— Полностью процитировать не могу, но, исключив нецензурные выражения, приблизительно так: убирайтесь, прокурор, я не в настроении и сильно пьян. И готов отстаивать свое одиночество вплоть до применения физической силы. В хижине мне… забыл точные слова… Смысл — не нравится. Поэтому он пришел домой, и из спальни его никто не вытащит.
— Ясно. Побеседовать с ним не удастся. Остаемся на точке замерзания. Зачем ты искал меня?
— Не понимаешь? Нырнул и исчез. Я беспокоился о тебе.
— Борис, я тронут. Предлагаю вернуться маршрутом Валерия. Пойдемте вдоль речки.
Мазин не хитрил, он не собирался осматривать берег. И он не знал, что увидят они всего в ста метрах от места, где оборвались следы, ему и в голову не приходило, кого они увидят.
На отмели под обрывом в напряженной позе изготовившегося к старту бегуна лежал человек. Голова его находилась в реке, шапку снесло, и почти успокоившаяся вода скользила по редко поросшему черепу, а согнутая нога в новом резиновом сапоге ярко блестела в лунном свете. Другая нога, разутая, в носке домашней вязки, зацепилась за выступивший из песка камень.
Секунду или минуту все молчали.
— Демьяныч? — спросил Сосновский.
Мазин спустился по скользкому склону, придерживаясь за обнаженные, мокрые и холодные корни. Непромерзшая глина предательски уходила из-под ног, но он не упал. Он подошел к трупу и глянул в его лицо. На отмели лежал мертвый пасечник.
Следом скатился Борис и остановился, стряхивая комья грязи с колена.
— Я ошеломлен, Игорь… Кто его сюда?.. Как?..
Мазни не ответил. Все, что с трудом выкапывал он из хаотического нагромождения несопоставимых фактов, оказалось ненужным, ошибочным. Он испытывал чувство человека, сбитого с ног неотразимым ударом, хотя и стоял, и внешне спокойно рассматривал залитый холодным, издевательским светом труп, похожий на перевернутую скульптуру спортсмена, какие любили устанавливать в парках культуры двадцать-тридцать лет назад.
«Предположим, он пришел в хижину повидать Валерия. Не застал его… Пошел и бросился в реку? Глупо. Пойти и броситься в реку мог любой, кроме Демьяныча. И бросить в реку могли любого, кроме него! Так ты думал. И вот смотри, пожалуйста. Он лежит рядом. Мертвый!»
Игорь Николаевич вобрал глубоко воздух. Нужно было выходить из нокаута. Раз! Два!.. Пять… Семь… Пора вставать!
— Сними-ка с него сапог, Борис. Прежде всего нужно установить идентичность следов. Они исчезнут вместе со снегом, как только появится солнце. А труп никуда не денется. Вода падает, да и что мы поймем без экспертизы! Синяки могут быть и от ударов об камни, его несло по течению.
На бледном, застывшем в ледяной воде лице пасечника выделялись темные пятна. След удара был заметен и на затылке, но от чего наступила смерть — от ударов, или старик захлебнулся, или от того и другого вместе, или по третьей, неизвестной причине — гадать не стоило, требовалась экспертиза. Заняться нужно было тем, что Бело к фактам.
Сосновский наклонился и потянул за каблук. Сапог легко скользнул по ноге. Он перевернул его и вылил воду. Стало понятно, почему другая нога оказалась разутой.
— Второй смыло. Сапоги номера на два больше.
— Вижу. Неудачный подарок. Старик это сразу заметил и не захотел примерять при тебе. Помнишь?
— Деликатный был мужик.
Они поднялись на луг. Появились легкие, прозрачные облака. Ветерок гнал их навстречу лунному диску, но казалось, что сама луна заспешила, прорезая и расталкивая облака, чтобы укрыться за ближайшей горой.
Найдя особенно четкий след, Мазин приложил носок к передней его части и опустил сапог. Подошва совпала с углублением в снегу. Игорь Николаевич надавил, прижимая сапог к земле, потом поднял. След не деформировался. Все углубления совпали с выступами.
— Как в аптеке! — обрадовался Борис. — Это он шел от хижины к обрыву.
Кушнарев наблюдал за ними, скрестив руки на груди.
— А дальше?
— Дальше очутился в реке.
— Вот именно: очутился.
— Причины смерти будут установлены, пока же я склоняюсь к самоубийству. Он шел один.
— Демьяныч гораздо меньше, чем Валерий, походил на человека, склонного к самоуничтожению, — сказал Мазин, к которому постепенно возвращались здравый смысл и логика.
— Ты видишь…
— Вижу одно. Если тут произошло самоубийство, то оно напоминает любовную драму девятнадцатого века.
— Ну, скажешь!
— Посмотри сам. «Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду». Вспомни рост Демьяныча и сравни со следами. Это же следы бегущего человека! Характернейший нажим на носки.
— Поищем причину.
— Смертельно пьян и ничего не соображал?
— В рот не брал, даже по праздникам.
— И бутылка в хижине полная. Пил, видимо, Валерий один. Второй вариант: сошел с ума. Внезапное помешательство.
— Теоретически не исключено. Отчего? Сознайся, у тебя мелькала мысль, что Демьяныч убийца?
— Мелькала, — признал Мазин коротко.
— Но ты ее отверг? Он не похож на убийцу.
— На графиню, обуреваемую страстями, еще меньше.
— Далась тебе графиня! Как могли его убить, если это не самоубийство? Кто-то позвал с берега, старик поспешил туда и получил камнем по голове.
— Масса возражений. Как убийца пробрался на берег, не оставив следов? Как он должен был вопить, чтобы его услышали в хижине! Откуда он знал, что старик там в одиночестве?
— Мы не подумали о несчастном случае.
— Вам пора подумать об отдыхе, — вмешался Кушнарев. — Не пренебрегайте вековой мудростью. Утренние мысли — лучшие мысли.
— Ночь же — время ошибок, — согласился Мазин.
— Что подтверждается статистикой преступлений, — присоединился Борис. — Коллектив всегда прав. Отбой до рассвета?
— Я, пожалуй, останусь здесь, — сказал Мазин.
— Здесь?!
— Передремлю в хижине. Подумаю.
— Запрись, по крайней мере!
Игорь Николаевич помахал рукой. Луна скрылась, потемнело, и два силуэта быстро затерялись на фоне леса и гор. Он остался один. Только этого он и хотел, потому что никаких конструктивных мыслей по-прежнему не было. Два человека боролись в Мазине. Один усталый, потерпевший поражение, мечтающий отдохнуть… Самолюбие другого не могло смириться с неудачей. А может быть, не самолюбие, а профессиональное чутье, которое подсказывало, что победа приходит нередко в самую трудную минуту, что вот-вот возникнет второе дыхание и сквозь мучительную бессмыслицу проступят контуры единственно возможной системы. Но где же эта критическая точка?
Нужно было прилечь, успокоиться, сосредоточиться, уснуть, на худой конец. Вместо этого он снова зашагал к реке.
Труп Демьяныча, невзрачного, худощавого старика, склонного к доморощенной философии, в промокших носках, порванных на пятках, лежал теперь в полуметре от воды. Река больше не могла, да и не пыталась дотянуться до пасечника, предоставив его полностью людям и закону. Мазин обратил внимание на сжатые в кулаки руки. Одну прикрывала пола расстегнувшейся куртки. Он приподнял ее и увидел кусочек белой ткани между скрюченных пальцев. Это был тот самый, выпачканный краской платок Михаила Калугина, который Мазин захватил в хижине и вернул вечером Валерию.
«Если бы я был суеверным, мне следовало бы выбросить эту тряпку немедленно. Не платок, а эстафета смерти! Калугин вытирал им краски, я сунул в карман после выстрела, Демьяныч сжимал его в агонии. Остается Валерий… Что за чертовщина! Находка для Шекспира! Или для меня? Стоп, Игорь Николаевич! На сегодня достаточно».
На этот раз решение было принято неколебимое. Спать! Мазин приоткрыл дверь в хижину и поежился. Из комнаты улетучились последние остатки тепла. Он зажег лампу и присел над печкой. Разжечь ее не составляло труда. Щепки и дрова были заготовлены впрок.
«Разумеется, здесь еще могут обнаружиться интересные вещи. Если милиция со своей техникой поспеет завтра и осмотрит хижину при дневном свете, а не при мерцающей коптилке, в которой догорают последние капли керосина, то…»
Никакой техники не потребовалось. И дневного света тоже. У самого поддувала между поленьями лежал портсигар, старый, без папирос, со сломанной пружиной. Когда Мазин взял его в руки, портсигар раскрылся. Он был недавно вычищен, но в углублениях осталась темная грязь, такая, что скапливается от долгого пребывания в сыром месте. На серебряной матовой поверхности Игорь Николаевич прочитал:
«Костя! Всегда жду!
5. Радуга
 Ему снились война и нарастающий треск пулеметов. Треск усиливался, переходя в грохот орудий и моторов. «Сейчас!» — подумал Мазин, изготавливаясь к атаке, и открыл глаза. Он лежал одетый на койке, печь давно погасла, в хижине было холодно, зато в окно врывалось слепящим потоком омытое дождем утреннее солнце. Над ущельем не осталось ни облачка, вершины самодовольно сахарились в синем небе, а рядом с хижиной громыхала зеленая металлическая стрекоза, размахивая свистящим винтом, как татарин саблей. Потом вертолет подпрыгнул неуклюже и устремился вниз, к лугу, где вместо снега снова зеленела мокрая трава. Дверца машины отворилась, и в отверстии появился незнакомый человек в кожаной тужурке, а за ним офицер милиции в кителе и фуражке с высокой тульей.
— Игорь Николаевич! — закричал он удивленно и радостно и, спрыгнув на землю, побежал навстречу Мазину.
— Волоков! Дмитрий Иванович! Неужто ты? Здравствуй, дорогой!
— Здравия желаю, товарищ…
— Подполковник, — закончил за него Мазин. — По-прежнему на одно звание впереди. Не ожидал тебя встретить.
— Нам в Тригорск позвонили из района. Калугин-то личность заметная, да и вертолета у них нет. Знакомьтесь с товарищами… Капитан из райотдела… А это Глеб, медик наш. Помните, когда «паука» брали?..
Мазин пожал руки приехавшим.
— Нарушил я ваше курортное времяпрепровождение? К вам даже преступники и те нарзан пить приезжают, лечатся, не работают. Ну ничего, немного разомнетесь.
— После вас-то?
— После меня. Каюсь, пытался разгрызть орешек на общественных началах, да зубы попортил. Положение, майор, серьезное. Пока вас дождались, произошло второе убийство. Думаю, убийство, хотя и другие предположения не исключены.
Волоков присвистнул.
— Про второе девушка не сказала.
Тут только Мазин заметил учительницу. Галина стояла поодаль в брюках и спортивной куртке.
— Галочка! Как же это вы?
— Ночью вышла. Когда подморозило. Светло было.
— Пришла в райцентр перед утром, — подтвердил майор. — Оттуда сообщили нам, мы забежали за ними, вот и прибыли все вместе.
— Где же Матвей?
— Дома, папка, — ответил Коля.
Он только что примчался и во все глаза разглядывал вертолет.
— Хорош охотник!
— Кто еще убит, Игорь Николаевич?
— Я хочу сделать официальное заявление. Но без посторонних.
Это сказал не Мазин, а Олег. Журналист подошел, запыхавшись.
Волоков посмотрел на Мазина.
— Можно побеседовать в домике, — предложил тот.
— Вы, конечно, с нами?
— Если Олег не возражает.
— Я не возражаю. Доктор отчасти в курсе. Пусть будет свидетелем.
— Какой доктор? — не понял майор.
— Я не доктор, Олег.
— Тем лучше.
Мазин пропустил вперед Волокова и Олега и задержался, чтобы представить капитану подошедшего Сосновского.
— Борис, покажи, пожалуйста, где лежит Демьяныч.
Когда он вошел в комнату, Олег барабанил пальцами по столу. Заметно было, что он настроен решительно и не сомневается в своей правоте.
— Я буду говорить коротко, главное.
— Почему же? — возразил Волоков. — Говорите обо всем, что вас волнует. Главное мы с Игорем Николаевичем отберем.
— Я не волнуюсь. Я журналист. Моя фамилия Перевозчиков. Но это не моя фамилия. Это фамилия женщины, которая спасла меня во время войны. Мне было несколько месяцев, когда моя мать эвакуировалась из Ленинграда. Она умерла в пути, а я остался у этой деревенской женщины, которую очень уважаю и люблю. Она спасла меня, но ей самой приходилось туго. Я попал в детский дом, окончил школу, получил образование, как видите.
Я поставил цель узнать о своей семье. Но документы затерялись, а Перевозчикова помнила только, что мы из Ленинграда, что маму звали Тася, а отец был летчик. Мама говорила, что он погиб, и называла его Константином.
— Константином? — переспросил Мазин. — А мать?
— Тася. Наверно, Анастасия.
— Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Вошел Сосновский и присел в углу.
— Вы понимаете, как мне было трудно. В Ленинграде тысячи людей носят такие имена. О возрасте родителей можно было только догадываться. Маме могло быть и двадцать, и тридцать с лишним. Внешний вид ничего не говорил, она же пережила блокаду! С отцом еще сложнее. Двадцать пять или сорок? Лейтенант или полковник?
Искал я долго. Даже в аэрофлотскую газету поступил, чтобы находиться среди авиаторов. Многие из них сражались на фронте, у них были друзья, бывшие пилоты. Я спрашивал, не знал ли кто летчика по имени Константин, погибшего в начале войны, у которого оставались в Ленинграде жена и маленький сын. Однажды командир нашего авиаотряда говорит: «Утверждать, Олег, ничего нельзя, но есть у меня приятель в Батуми… Летом гостил я у него, прошлое вспоминали. Рассказал и твою историю. Он человек горячий, взмахнул руками. «Бай! — кричит. — Это же Калугин Костя, мой лучший друг!»
— Калугин?
Фамилия произвела впечатление, но сам Олег не подчеркнул ее.
— К Михаилу Михайловичу мой отец никакого отношения не имел. Они однофамильцы.
— И летчик Калугин оказался вашим отцом? — спросил Мазин.
Олегу послышалось недоверие.
— Я уверен.
— Мы не спорим с вами. Рассказывайте.
— Теперь к сути дела. Когда я стал расспрашивать командира отряда об отце, он замялся. «Слетай сам попутной машиной в Батуми, — предложил. — Чанишвили лучше знает». Я немедленно полетел. Нашел Чанишвили. Он полковник запаса, встретил меня отлично. Обнял, говорит: «Вылитый отец! Сразу видно — Костин сын!» Но рассказывать не торопится. «Отдохни с дороги, в море выкупайся, вина нашего грузинского отведай Куда спешишь, дорогой!» Выпили мы, он и начинает: «Отец твой, Олег, был настоящий человек. Мы с ним еще на Халхин-Голе с самураев стружку снимали. Об орден Красного Знамени получил, я тоже. Потому, прошу, верь в отца своего, как мы, друзья его, верили. Бывают несчастья хуже, чем смерть в бою…»
Олег замолчал, собираясь с мыслями.
— В чем же заключалось несчастье?
— Отца очернили. Его память. Осенью сорок первого года, в разгар боев, он неожиданно получил приказ срочно вылететь на юг с секретным грузом. Перед вылетом Чанишвили видел его в последний раз. Отец негодовал, что его, боевого летчика, используют как воздушногоизвозчика. И вот что важно! Чанишвили спросил, что за груз повезет отец, и тот ответил: «Не знаю».
— Он не вернулся из полета?
— Он погиб. Последняя радиограмма была помечена здешними координатами. Отец сообщил, что полет продолжается, но в двигателе неполадки.
— На днях егерь Филипенко нашел в горах остатки разбившегося самолета, — пояснил Мазин внимательно слушавшему Волокову.
— Самолет разбился, — продолжал Олег. — Но тогда это не смогли установить, и отца заподозрили в измене. В том, что он перелетел к немцам. Радиограмму сочли обманом, приемом, чтобы отвести подозрения. Работала комиссия, опрашивали и Чанишвилн. Он сказал, как и мне, что не верит в предательство отца. Ему сделали внушение. Аргументировали тем, что отец якобы бежал к немцам не с пустыми руками. Чанишвили доказывал, что отец не знал характер груза. Ответили: он мог догадываться. Поиски с воздуха разбитой машины не принесли результата. Официально отец считался пропавшим без вести, но на память его легло пятно.
— Чем доказал Чанишвили, что погибший летчик был вашим отцом? — спросил Волоков.
— Он не мог доказать. Но ведь все совпадает! Имя. Он — ленинградец, у него осталась жена с трехмесячным ребенком. Чанишвили писал в Ленинград; ему ответили, что Калугина эвакуировалась и по месту прописки не вернулась. Это мой отец!
— И вы взялись восстановить его доброе имя?
— Я решил найти самолет. Это единственная возможность доказать правоту отца раз и навсегда.
— Вы достигли цели. Поздравляю. Но какое отношение имеет погибший самолет к смерти художника Калугина?
Игорь Николаевич почувствовал, что волнуется. Каким окажется ответ на вопрос, так его занимавший и до сих пор не решенный?
— Калугина убил Матвей Филипенко. Убил, чтобы присвоить золото, находившееся в самолете.
Олег произнес эти решающие слова и снял очки, чтобы протереть стекла. Близорукие глаза утратили блеск самоуверенности. Таким он нравился Мазину больше.
— Вы сделали чрезвычайно важное заявление, товарищ Перевозчиков, — произнес Волоков официально. — Мы ждем ваших пояснений.
— Я готов, — ответил Олег чуть высокомернее, чем хотелось бы Мазину. Очки вернули ему самодовольное выражение.
— Откуда вы узнали, что в самолете было золото?
— Мне сказал Чанишвили. После войны он слышал, что золото отправляли в уплату долга союзникам за военные поставки. Через Кавказ и Иран.
— И такой груз не был найден! — поразился Волоков.
— Уверен, что искали формально. Убедили себя, что отец сбежал.
Сосновский поймал взгляд Мазина и мигнул слегка: «Видал, старик, какой поворот! Где нам было знать!
Игорь Николаевич кивнул. Но ему хотелось взять Олега за куртку и тряхнуть так, чтобы отлетели подальше эти проклятые очки, через которые парень не видит ничего, кроме самого себя.
— А вы сразу напали на верный след? — продолжал майор.
— На Красную речку меня направил Михаил Михайлович. Я уже рассказывал товарищам. Мы познакомились случайно. Он делал зарисовки в аэропорту. Я заинтересовался его фамилией, подумал: не родственник ли? Оказалось, нет, но я ему чем-то понравился, он написал мне из Москвы. Я взял письмо с собой.
Олег положил на стол конверт.
Волоков прочитал вслух:
— «Милый Олег!
Вашими молитвами Аэрофлот доставил меня домой без повреждений, и я занялся обычными делами, то есть включился в московский ритм вечной спешки, которая часто напоминает бег на месте. Работается в столичной суете трудно, в душе я остался провинциалом и потому, едва распаковав чемодан, мечтаю бежать с этюдником на дачу, в связи с чем у меня возникло одно соображение. Буду рад, если оно вам понравится.
Запала мне ваша история! Я понимаю, что девяносто человек из ста по лености мысли или, напротив, от повышенной трезвости ума отнесутся к вашим намерениям скептически, но я, старый прожектер, на вашей стороне и предлагаю следующее: приезжайте в отпуск ко мне в Дагезан! Места в доме хватит, с моими, я уверен, вы сойдетесь, нам будет веселее, а для вас отличная база поиска. Насколько я понял, трасса полета проходила поблизости. Полазаете по горам, потолкуете со старожилами; если не повезет, в проигрыше не останетесь: горы вливают в человека жизненные силы.
Со своей стороны, прошу одно: ни в коем случае никому (даже из моих близких!) ни слова о том, что я в курсе ваших изысканий. Я достаточно известен, шумиху не переношу, особенно в печати (простите!). И если вас ждет удача — это удача ваша. Таково мое единственное условие. Если оно не покажется вам обременительным, телеграфируйте день приезда. Мы подготовим комнату.
Жду вашего согласия!
Мих. Калугин».
Письмо подтверждало прежний рассказ Олега. Тон его производил впечатление дружественного, искреннего, немного небрежного, но отнюдь не двусмысленного.
— Однако, Дмитрий Иванович, — сказал Мазин, — у Олега сложилось впечатление…
— Нет! Я проанализировал. Это вы с Кушнаревым наталкивали меня… Калугин не мог знать точного места падения самолета. Он ничего не знал о самолете до разговора со мной.
— Так он сказал?
— Не считайте меня кретином. Я основываюсь на фактах. Да, Калугин рекомендовал мне искать на Красной речке, но он не послал бы туда Филипенко, если бы знал о золоте.
— Как это на вас похоже! — воскликнул Мазин. — Почему же вы не сказали Калугину о золоте?
— Так было правильно.
— Еще бы!
— Надеюсь, вы не подозреваете, что я собирался присвоить золото? Я не мог доверить…
— А он вам доверял. В свой дом пригласил.
— Товарищ майор, — повернулся Олег к Волокову, — мне неизвестны должность и звание Игоря Николаевича, поэтому я прошу вас, как лицо официальное, дать мне возможность закончить свое сообщение. Мне не нравится, когда меня перебивают и обращаются, как с преступником Повторяю, я не мог доверить дело государственной важности постороннему. Приглашение же на дачу вопрос сугубо личный.
— Спасибо. Разобрался. — Мазин оставил иронию. — Я не хотел вас обидеть, Олег. И не заподозрил ни в чем нехорошем. Решили вы так: сын вернет золото, которое, как считалось, похищено отцом. Это ваш долг и ваше право?
— Да. Что в этом плохого?
— Чуть-чуть ненужного тщеславия, капля самоуверенности, немного недоверия к людям… Короче, всего понемножку, а результат печальный.
— Можно, конечно, думать и так, но я не согласен. Я ни в чем не виноват.
— Виновным вы считаете Филипенко?
— Разумеется. Не зная, что находится в самолете, Калугин направил к озеру Филипенко. Он хотел помочь мне в поиске, хотел, чтобы в окрестностях не осталось «белых пятен». Егерь обнаружил машину, но ни слова не сказал о золоте.
— И вы решили, что Матвей присвоил его?
— А что бы подумали вы?
— Я бы принял такую гипотезу в числе других.
— Каких других?
— Золото могли найти и похитить до Филипенко. При падении оно могло оказаться в стороне от самолета и не попасть на глаза Матвею. Однако вы имели основания подозревать.
— Я оказался прав.
Олег поглядел на Мазина, но не с торжеством, а сдержанно. Тот молчал. Волоков ждал с любопытством.
— Скрывать правду от Калугина больше не имело смысла. Я поделился с ним опасениями. Михаил Михайлович был невероятно поражен, услыхав про золото, конечно же, он ничего не знал о самолете, его советы были совпадениями — и только! Но он, как и вы, не хотел поверить в вину Филипенко. Это его и погубило.
— Каким образом?
— Он рассказал все Матвею.
— Как все?
— Детали мне неизвестны, но, когда я пришел вечером в гостиную, за считанные минуты до смерти, до того, как погас свет, Михаил Михайлович шепнул мне: «Матвей ничего не нашел. Побеседуем попозже, когда гости разойдутся».
— И ваш вывод?
— Единственно возможный. Калугин спросил у егеря, нашел ли он золото. Тот отказался и, воспользовавшись первой же возможностью, убил Калугина.
— А почему не вас?
— Ну, знаете!..
— Попытайтесь все же объяснить.
— Это не так трудно. Калугин не назвал мою фамилию, и у Матвея сложилось впечатление, что он единственный, кто знал о золоте.
— Резонное предположение. И ножом он ударил?
— Что же ему оставалось делать?
— Но как попал нож к убийце, вы не представляете?
— К сожалению. Товарищ майор!..
— Минутку, Олег, — прервал Мазин. — Оставим пока Матвея, с разрешения Дмитрия Ивановича. Зачем стреляли в меня и кто, по-вашему?
Олег едва успел заморгать, но Мазин не ждал ответа.
— Не знаете? А что случилось с Демьянычем?
— С пасечником?
— Да. Почему он умер?
— Первый раз слышу.
— Охотно верю. Всему, что вы говорили, верю. Не смотрите на меня, как на противника. Вы сообщили много интересного. Хотя и поторопились. Дмитрии Иванович еще не вошел в обстановку. Ему нужно ознакомиться с фактами, и тогда у него появится необходимость побеседовать с вами подробнее.
— Но мои обвинения против Филипенко вы игнорируете?
— Напротив. Я сопоставил их с тем, что вчера вам удалось проникнуть на Красную речку, и это подтвердило ваши подозрения. Существуют и другие основания, чтобы задержать Матвея, — сказал Мазин, не расшифровывая своей мысли, потому что думал он не только о подмененной пуле.
— Несомненно, — присоединился Сосновский. — Помимо прочего, он незаконно хранит немецкий карабин.
— Возможно сопротивление? — спросил Волоков.
— Если мы не опоздали, — проговорил Мазин. — Я видел его сына возле дома, а окно открыто. И мальчишка бойкий…
Он не ошибся. Матвей сопротивления не оказал. В доме его они застали рыдающую жену.
— Говорила я ему, извергу, — кричала она взахлеб, — не доведет тебя лихость до добра! Дострелялся, живодер! На кого ж ты нас с дитем бросил?!
— Где ваш муж? — спросил Мазин по возможности мягко.
— В горы побег. Как вертолет прилетел, как увидел Матвей милицию, затрясся весь, а тут Колька бежит: «Папка, за тобой!» Он быстро фуфайку натянул, оленины вяленой напхал в сумку и через речку подался.
Мазин оглядел поросшие орешником склоны над рекой. Выше их, совсем как в день его приезда, курились, темнели, смыкаясь в тучу, неизвестно откуда набежавшие облака.
— А Николай где?
— В сарае ревет. Боится показаться.
— Ладно. Не расстраивайтесь раньше времени. Борис, отдай свою пулю Дмитрию Ивановичу и расскажи о наших похождениях. А мне хочется с мальцом потолковать.
И он пошел через двор к сараю.
Охотничий вислоухий пес с опечаленным, растерянным взглядом ткнулся в ладонь Мазина шершавым холодным носом и отошел от двери, пропустив его в тесное помещение, где на березовом чурбаке сидел Коля и размазывал по щекам слезы.
Игорь Николаевич провел пальцами по взбившимся вихрам.
— Ревешь?
— Убью…
— Кого?
— Очкастого. Подстерегу в лесу и убью.
— Этим отцу не поможешь. Навредишь. Самого арестуют.
— Пусть!
— Нельзя, пионер!
— Пусть!
— А я сказал нельзя. Дело есть.
Коля поднял синие глаза. Они быстро заплывали слезами.
— Какой ты голубоглазый! Вытрись-ка, возьми платок. Два человека отцу твоему помочь могут — я и ты. Если тебя задержат, мне вдвое труднее станет. Поэтому кровную месть отложим до лучших времен. Сейчас работать нужно. Как думаешь, отец уйдет или поблизости скрываться будет?
Николай нахмурился, заколебался.
— Нужно мне доверять. Иначе нельзя. А я — тебе. Далеко отец?
— Не уйдет он…
— Тогда договор такой, вернее — задание. Не теряя ни минуты, отправляешься на поиски отца. Найдешь, скажешь: пусть не паникует. За то, что натворил, ответить нужно. Лишнего я не допущу. Пусть посидит день — два в лесу. Важно, чтобы ты знал где. И будь под рукой, чтобы я мог с отцом связаться, когда потребуется. Все запомнил?
— Запомнил.
— Доверяешь? Если нет, можешь отказаться.
Мазин дотронулся до грубо сложенной летней печки.
— Ночью мороз был, а у вас тут тепло.
— Папка топил. Что-то делал в сарае.
— Да… вот еще. Возьми, отдай отцу. Игорь Николаевич держал в руке гильзу.
— Это… та, да?
— Она. Передай в знак доверия. И возвращайся побыстрее!
Он проводил взглядом мальчика, побежавшего через поляну к речке, и направился в поселок.
— Игорь Николаевич!
Галя шла навстречу, ступая по непросохшей траве мокрыми синими кедами.
— Галочка, вы сегодня хорошо выглядите.
— Благодарю, товарищ подполковник!
— Вы решили обращаться со мной официально? А я — то мечтал побродить с вами по горам, поискать эдельвейсы.
Галя вынула увядший цветок из карманчика стеганой куртки.
— Пожалуйста. — Что это?
— Эдельвейс.
— Такой невзрачный?
— Я вам тоже невзрачной покажусь, когда присмотритесь. Поэтому попросите вашего друга, майора, отпустить меня домой. Мама заждалась. Я ж собиралась туда и обратно, а застряла.
— Возможно, вы ему понадобитесь.
— Зачем? Матвея ловить? — Вы уже знаете?
— А то! Говорят, из-за золота он рехнулся. Двух человек убить, это ж нужно! Психопат несчастный!
— Вы верите в эту историю?
— Так сбежал же он. Был бы не виноват, зачем бежать?
— Мысль ваша, Галочка, только кажется логичной.
— Что, не так?
— Не знаю. Много странного.
— Странное знаете что? Вот видишь человека, и в голову тебе не приходит, что видишь его в последний раз. Михаил Михайлович сказал: «Иду за лампой!» И не вернулся… Ужасно это! А вчера возвращаемся мы с Олегом, вечереет, снежок чуть срывается, Демьяныч навстречу. «Здравствуйте, — говорю, — дедушка! Куда собрались на ночь?» А он ласково так, уважительно: «Матвея иду проведать, подарочек есть для него». Сверток под мышкой держит. И пошел… Навсегда…
— Демьяныч направлялся к Филипенко? Что было в свертке?
Галя покачала головой:
— Я вам, Игорь Николаевич, про то, что в душе возникло, рассказываю, а вы сразу на служебный лад переворачиваете. Сухой вы человек. Потому и эдельвейс вам не понравился. Не знаю я, что в свертке было.
— Галочка, простите, что потерял в ваших глазах. Кажется, опять гроза собирается.
Он посмотрел на тучи, утрамбовавшиеся на этот раз не на пути в долину, а сбоку, в понижении между горами.
— Это не наша. Сюда не доберется. Над Красной выльется.
Они проходили мимо пруда. Вертолет стоял на лужайке, но в домике никого не было. На берегу на откосе маячила длинная фигура.
— Валерий осматривает место происшествия. Художник заметил Мазина с Галиной, побежал через луг.
— Доктор, постойте! Вы искали меня вчера?
— Доброе утро, Валерий! Я не доктор.
— Если я вам нужен…
— Теперь делом занялась милиция.
— Плевал я на формалистику! Если я вам нужен…
— Может быть, я вам нужен, Валерий?
— Черт с вами! Вы мне нужны! Всегда поворачиваете по-своему.
— Успокойтесь. Я хитрю. Вы мне тоже очень нужны, однако я в двусмысленном положении. Вторжение в сферу чужих полномочий…
— Не будьте служакой! — перебил художник. — Знаю, что вы не доктор, но как-то не представляю вас в мундире.
— Спасибо за признание. Что ж… Поговорить стоит. Подождите меня здесь, а? Я провожу Галочку и вернусь.
— Ладно…
Когда Мазин возвратился, Валерий стоял почти там же, только прислонился плечом к сосне.
— Заждались?
— Нет. Знал, что наврете. Нужна вам эта колдунья! Какую-то мысль преследовали.
— Была и мысль. Спросил кое-что у Глеба Перекинулся парой слов с майором. Но вашего пренебрежения к Гале разделить не могу. В хижину зайдем?
— Нет. Не хочу туда. Лучше на воздухе. Что вы хотели узнать?
— Боюсь, что теперь, после смерти Демьяныча, это не так значительно, чем то, что хочется рассказать вам.
— Мне не хочется. Я себя за шиворот тяну! Только не стройте глубокомысленную рожу, не надувайте щеки, не изображайте гениального сыщика, который все знает! Ни черта вы не знаете и не узнаете, если я вам не скажу. Но я скажу, потому что я идиот!
— Нельзя ли помягче, Валерий?
— Нельзя. Столько лет считать себя умником — и вдруг убедиться, что ты круглый дурак! Такие переходы мягко не даются.
— Что это вы ополчились на собственную порядочность? Зачем?
— Порядочность? Ха-ха-ха! Впрочем, так с дураками и обращаются. Примитивно! Голыми руками! Я разочарован, доктор. Нельзя меня так покупать! Я сам, понимаете, сам!
— Я сказал то, что думал, Валерий.
— Тем хуже. Хотя вы правы: дурак и порядочный — почти одно и то же. В моем случае особенно. Порядочный дурак! Незаурядный.
— Напрасно вы смешиваете эти понятия.
— А есть разница? Тонкие нюансы?
— Чтобы быть порядочным, требуется мужество.
— Как вы меня покупаете! — повторил Валерий. — Скажите еще, что любите меня, как родного, добра желаете!
— Зачем врать? Родных я люблю больше.
— И все же врете! Играете, как кошка с мышью, и ждете, ждете с вожделением, когда же сорвусь я, выболтаю. Признания добиваетесь.
— Признания мало, чтобы установить истину.
— Когда брешут. А если правда?
— В чем правда?
— В том, что не могу я, не могу вынести, чтобы вместо меня, за мою вину вы упрятали за решетку этого примитивнейшего дикаря, ничтожного живодера Филипенко!
— Он сбежал.
— Потому что идиот. Еще хуже меня. И с карабином наверняка. Пока вы его возьмете, половину перестреляет — и все ему! Вышка! Или как там у вас говорится?
Мазин не ответил.
— Молчите? Как удав, который ждет кролика? В одни ворота играете. Видите же, что у меня нервы сдали!
— Валерий, вы из тех людей, на которых после пьянки находят приступы покаяния и самобичевания. Я бы вам посоветовал опохмелиться. В хижине осталась бутылка.
— В хижину не пойду. И прекратите ложь! Ведь дрожите от нетерпения!
— От страха дрожу.
Художник широко раскрыл глаза.
— Боюсь, наплетете несуразного. Ну, лучше мне плетите, чем там, под протокол.
— Да прекратите ж вы под добряка работать! Глотайте кролика с потрохами, с ушками, с хвостиком пушистым. Пусть правда торжествует на земле. Пасечника гнусного я убил, а не Филипенко.
— Попробуйте доказать! — вздохнул Мазин.
— До-ка-зать? — Валерий сжал кулаки. — Не жирно ли будет, товарищ подполковник?
— Валерий, я не понимаю, чем вы возмущены. Вы что, оваций ждали, букетов? Чем вы хвастаетесь? Какими заслугами? Кровопролитием? Зря! Признанием? Тоже не подвиг, между прочим. Майор Волоков — работник отличный. Если вы виноваты, докопается. Так что признание вам одному нужно. Чтобы на снисхождение и смягчение рассчитывать.
На лице Валерия появилась гримаса.
— Как вы со мной заговорили! Как заговорили!.. Впрочем, ждал.
— Не ждали. Привыкли, что нянчатся с вами. Валерий напрягся.
— Гражданин подполковник! А что, если я побегу? Стрелять будете?
— Мой пистолет остался в служебном сейфе. Да он и не понадобится. Никуда вы не побежите. Некуда бежать! Поэтому рассказывайте, что у вас произошло с Демьянычем.
— Произошло! Дал ему по морде — и всё! Убивать не собирался.
— И он свалился в речку?
— Зачем в речку? На пол.
— Где вы его били?
— В хате. Не бил Один раз ударил.
— За что?
— Заработал. Затрещина ему причиталась — это факт. А вот больше…
— Тут вы не уверены? — Не уверен.
— По-вашему, убитый до берега сам добрался?
— Убитый? Смеетесь?..
— Кто смеется, Валерий? — Мазин перешел на «ты». — Одно из двух: либо ты убил старика — и тогда он не мог ходить по берегу, либо ты морочишь мне голову. Давай уточнять: что ты сделал после того, как ударил Демьяныча?
— Плюнул и ушел.
— И больше его не видел?
— Сегодня. В белых носках.
— Как же он попал в речку?
— Неужели не понимаете? Он очухался и решил сделать холодную примочку. Пришел на берег, но в голове-то кружилось. Споткнулся.
— И захлебнулся?
— Выпил лишнего.
— Сам виноват, выходит?
— Не знаю, как это по вашему кодексу рассматривать.
— А по-твоему, как?
— Если б я его не ударил, был бы жив. И Филипенко бы не сбежал.
— Филипенко-то в убийстве твоего отца обвиняют.
— Не может быть! Не убивал он отца.
— И это на себя возьмешь?
— Ну! Ну…
— Введи, пожалуйста, глаза в орбиты, Валерий, и не воображай себя ни жертвой, ни героем. Как родного я тебя не люблю, но помочь хочу. Насколько это возможно для такого избалованного сумасброда.
— Вы, кажется, сочувствуете мне, подполковник?
— Называй меня по имени и отчеству.
— Нахально прозвучало?
— Неуместно.
— Ладно. Не буду. Вы мне насчет старика поверили? Что я ударил и ушел?
— Да.
— Это по-человечески. Службист бы усомнился. Решил бы, что убил, оттащил на берег и бросил: плыви по волнам, нынче — здесь, завтра — там, до самого синего в мире…
— Оттащил? — заинтересовался Мазин.
— Ну вот, теперь ухватитесь.
— Не бойся. Следы его, не твои. Но экспертиза, Валерий, утверждает, что пасечник не утонул. В воде он оказался уже мертвым.
— Лапкой гладите, а коготки наготове?
— А тебя только лапкой можно? Небось жалеешь уже, что правду рассказал?
— Да уж эксперты ваши того не скажут. А в самом деле, ну зачем я наговорил вам это? Филипенко пожалел? Ну кто этот Филипенко?
— Человек. Сынишка у него есть.
— Гомо полусапиенс. Черт с ним! Смотрите, Игорь Николаевич, какой дождь на Красной речке льет! А у нас солнце.
— Туман у нас, Валерий. Как в твоей голове. О чем жалеешь? Чего мечешься? С собой воюешь. Хорошего в себе стыдишься. В маске щеголяешь. Приоткрыл чуть и перепугался! Да чего? Не суда даже, а того, что дураком сочтут. Почему? Человека всякая низость, хоть случайно совершенная, хоть по обстоятельствам, тяготить должна, покоя не давать. Кто нас строже осудит, чем сами мы? Зачем совесть свою суду передоверять, прокурору, уголовному розыску? Ошибся — не наказания бойся, а новых ошибок! Наказание перенести можно. И не тюрьма тебе грозит, а сам ты себе мешаешь, лучшим в себе не дорожишь, между трех сосен крутишься, как слепой, да с гонором, со штучками! Порядочность заговорила — дураком обозвался! Удалилась опасность — сразу фанфаронить! Развязность напустил. «Подполковник!..» Будто ты гусарский ротмистр на балу в дворянском собрании И там старшим хамить не полагалось. А ты-то не ротмистр, а младший лейтенант запаса небось!
Ведешь себя глупо. Запутался, когда узнал, что на егеря вина пала. Не его ты спасать кинулся! Порядочность тут фундамент, а над ним здание большое, запутанное, с ходами, переходами, лестницами вниз, вверх, да все внутрь, вглубь, а наружу дверей не видно. Вдруг мелькнуло где-то на четвертом этаже. Ты туда — прыгать решил, а тебе трап подкатывают, как к межконтинентальному лайнеру. Пожалуйте! Ты и обрадовался. Интервью давать собрался. А мне не интервью, мне факты нужны. Все факты. Кое-что сказал — спасибо. Пояснил. Но главный-то нарыв остался. Не вскрыт. Кто отца убил? Говоришь, не егерь? Почему? Олег уверен, что он.
— Олег — самоуверенный болван.
— Всех разругал. А сам?
— Про меня вы уже сказали.
— Правильно сказал?
— Почти. Особенно про здание. Вниз да вглубь — и на месте! Филипенко не виноват, точно.
— Кто ж виноват?
— Кушнарев отца убил.
Мазин положил руку на плечо Валерия.
— Ты отдаешь себе отчет в таком обвинении?
— Отдаю.
Валерий сказал серьезно, глядя мимо Мазина, как туча смещается к югу, оставляя над Красной речкой чистое, вымытое небо.
— Доказать можешь?
— Это вы сами… Соберете по кирпичику. Зачем вы меня искали вчера?
— Я долго разговаривал с Кушнаревым.
— И он вас охмурил? Слезу пустил? Рассказал, как пострадал невинно?
— Об этом я узнал от Марины Викторовны.
— А что он об отце говорил?
— Он сказал, что Михаил Михайлович сидел в тюрьме.
— Мерзавец!
— Ты знал об этом?
— Узнал. Накануне смерти отца. И понял многое.
— Что он успел тебе рассказать?
— Все.
— И про побег?
— Вы знаете про побег? От Кушнарева?
— Да.
— Тогда он сам себе яму выкопал. Понимаете, что меня сдерживало?
— Догадываюсь.
— Растерялся я. Сообразить не мог, как поступить, что делать. А он решил, что в безопасности, что не знает никто… Что он говорил?
— Михаил Михайлович скрывал, что был осужден. Он пытался бежать, но неудачно. Получил дополнительный срок. Освободился в годы войны, воевал, но прошлого стыдился и сменил фамилию.
— Не понимаю, зачем ему понадобился такой вариант.
— Вариант?
— Смягченный.
— Валерий, давай присядем на то поваленное дерево.
— Что, в ногах правды нет?
Солнце постепенно прогревало лес, лучи его подсушивали отсыревшие ветки. Воздух наполнялся хвойным ароматом. Мазин достал из кармана портсигар, повертел в руках, постучал пальцем по крышке.
— Я думал, вы не курите, — сказал Валерий.
— Не курю. Эта штука попала ко мне случайно. Портсигар пуст.
И, подтверждая свои слова, Мазин открыл портсигар, показал художнику и снова спрятал в карман.
— Очередной прием? — спросил Валерий.
— Вроде этого.
— Темп сбиваете?
— Если хочешь… Для себя главным образом. Чтобы без внутренней суеты осознать то, что ты мне скажешь.
— Могу и ничего не сказать.
Мазин посмотрел мягко, заботливо:
— Лучше скажи.
— Ладно. Побег оказался удачным. Наврал, мерзавец. Но лучше б такой удачи не было…
— Пожалуй.
— Не понимаете вы! Не в побеге соль. И страшное не это. Человека убили — вот где тайна.
Большой, неповоротливый комар пытался прокусить куртку Валерия, но только зря натужился, перебирая тонкими ножками.
— Кто убил?
— Сволочь эта. Но доказать, что отец непричастен, невозможно! Понимаете? Вдвоем они были, а свидетелей нет.
Валерий взмахнул рукой, и комар, оторвавшись от куртки, закружился над ним, выбирая новое место.
— Кого убили?
— Не знаю. Не спросил, а отец не успел. Как в бреду все получилось. Представить трудно. У нас так отношения складывались. Недружно. Несправедливо. С моей стороны. Я его консерватором считал н все прочее. А тут узнал, что неродной. Мальчишеские комплексы одолели. И еще… Но об этом не стоит. Это лишнее. Одно поймите: я его далеким считал, непонимающим, чужим, благополучным, удачливым, самодовольным. Деньги, дача, хвалы газетные, жена молодая… А он совсем другой жизнью жил. И вы поймите, поймите! — Валерий схватил Мазина за рукав и дергал, то притягивая, то отталкивая от себя. — Меня-то он любил! Ценил, уважал, а я ничего не видел. Почему так говорю? Со мной ведь он решил поделиться, мне рассказать! Довериться! Мое мнение ему важным оказалось! То есть подлинным сыном он меня признавал, а не пасынком, не воспитанником, не чужим! А я…
— Спокойнее, Валерий. Хорошо, что ты так говоришь, но спокойнее. Нужно спокойнее!
— Ладно. Отец позвал меня. Ну, я в уверенности, что очередная нотация… И вдруг обухом. «Сын! Хочу, чтоб стал ты моим судьей. Виноват я. Совершил ошибку, осудили меня справедливо, но не выдержал, молодость подвела. Бежал. Думал, повезло, а оказалось… Бежали мы вдвоем. И так получилось, что погиб при этом человек. Клянусь, не я убил. Тот, другой. Запомни и поверь! Не я. Но и я виновен. Не помешал! Не предотвратил. Не спас. Всю жизнь вину эту загладить хотел. В твоих глазах особенно. Что мог, все сделал. Но выхода нет. Жив убийца, и сначала все… Откроется все. Не страшно. Одного боюсь: чтоб ты не осудил».
Валерий низко опустил голову, так что Мазин не видел его лица, видел один заросший затылок.
— Михаил Михайлович назвал Кушнарева?
— Да.
— Передайте его слова по возможности точно.
— Я хорошо запомнил. Я спросил: «Он тебе угрожает?» Отец кивнул. «Где он?» — «Здесь». О ком еще он мог говорить? Кушнарев знал отца много лет. Он сидел в тюрьме. Он жил у нас, ел, спал, брал деньги… Шантажировал.
— Чего же он захотел еще?
— Не знаю. Может быть, ничего. Может быть, у отца истекло терпение. Годы терпения.
— Но имя Кушнарева не прозвучало?
— Как же! Я не договорил. Я подумал о нем и спросил: «Это Кушнарев?» Отец заколебался на мгновенье, посмотрел на меня и ответил… Я ручаюсь за точность фразы. Он сказал: «Кушнарев? Не Кушнарев, а Паташон». Понимаете?
— А вы?
— Это же ясно! Кушнарев — не Кушнарев, а Паташон Преступник Паташон. Убийца.
— Однако у него убедительная биография.
— Легенда, а не биография. Которая вся шита белыми нитками. Я никогда, никогда не видел и не слыхал, чтобы он занимался архитектурой или даже высказывал свои суждения. Он такой же архитектор, как вы детский врач.
— Кто же он?
— Профессиональный аферист.
Теперь вокруг них кружил не один, а целый десяток комаров. Мазин отломил ветку погуще и начал обмахиваться.
— Обычно аферисты не склонны нарушать сто вторую и ближайшие к ней статьи.
— То есть убивать?
— Да.
— Мы же не знаем, кого убили и при каких обстоятельствах. Отец не сказал, не успел. Пришла Марина, потом ваш друг.
— Резонно. Все, что вы сказали, резонно.
— Говорите лучше «ты».
— Можно? Спасибо, Валерий! Видишь ли, дорогой, тебе сейчас события яснее кажутся, чем мне. Ты не заботишься о частностях, набрасываешь картину в современной манере, а я реалист, мне нужно, чтоб на лице каждая морщинка была проработана. Натуралист даже. Тебе Пикассо, а мне Лактионов. Уловил разницу?
— Не в вашу пользу разница.
— Польза общая будет, если исчезнут некоторые коварные пятна. Кушнарев не мог убить Демьяныча. Он со мной в это время был. И зачем?
— Про Демьяныча я вам рассказал.
— А эксперт? Забыл? Демьяныч-то в речке мертвый оказался.
— Напутал эксперт, ошибся.
— Бывает и такое, к сожалению. Так за что ты его?
— Нервы сдали.
— А конкретнее?
— Это личное.
— Догадываюсь. Но ты мне вот что поясни сначала. Помнишь, я тебе носовой платок возвратил?
— Опять тайм-аут берете? Темп сбиваете?
— Да нет, темпом я доволен. Где ты тот платок взял?
— Сам удивляюсь, откуда он у меня в кармане взялся. По виду — это отцовский платок, из мастерской. В краске.
— Отцовский? Не ты его выпачкал?
— Нет. Наверно, я захватил его случайно в мастерской. Но хоть убейте, не помню когда! Да чепуха это! Зачем вам?
— Вспомни, когда ты его в первый раз увидел?
— Что за смысл?
— Будет и смысл, если вспомнишь.
— Я наткнулся на этот платок, когда вы с Сосновским пошли наверх, к отцу. С пасечником. Я вышел тогда и, проходя мимо вешалки, достал его из кармана куртки. Но как он попал туда?
— Не помнишь? А потом?
— Потом ничего особенного. Убедился, что он грязный, бросил в хижине. Там вы его подобрали. Вернули.
— И что?
— Опять ничего. Где-то валяется.
— Сажу ты им не вытирал?
— Что?!
— Все. Спасибо.
Валерий покачал головой.
— На здоровье. Так о чем вы догадываетесь?
— Разговор у вас с пасечником о Марине Викторовне был?
— Игорь Николаевич!.. Откуда…
— Секрета нет, Валерий. Демьяныч говорил мне о ваших отношениях.
— Отношениях? Не было отношений, не было! Ох, мало я его ударил! Куда грязную лапу протянул, а?!
— Любите?
— Называйте так.
— Не ожидал.
— Почему это?
— Говорят, молодежь упростила эти отношения.
— Упростила? Десять тысяч лет никто упростить не смог, а мы на глазах у вас переиграли? Чушь собачья! Подонки треплются. Впрочем, я сам такой был. Пока не обжегся.
— Больно обожглись?
— Хоть кричи… Что делать? Ну, скажите, что делать? Вы же все знаете! А тут воды в рот наберете. И никто не скажет. Не любит она меня. И хорошо это. Если б полюбила, совсем бы запутались. При отце отвратительно, а теперь невозможно. Но не легче ж мне от этого! Крутился, паясничал, как шут гороховый. И все. Ничего больше не было. Да и не могло. Не знаете вы Марину.
— Трудно узнать человека за два дня.
— Может быть, и вообще невозможно. Никогда. До конца. Теперь особенно. Много ли людей сами себя знают?
— Если человек прошел испытания…
— То-то! Что нам старики долбят? Мы вам счастливую жизнь завоевали! Да разве жизнь может быть счастливой или несчастной? Это люди бывают несчастные или счастливые. И в гражданскую я в революцию их больше было, чем сейчас! Цель пошире была. Мечта, а не план, научно обоснованный! По науке танк сильнее лошади. А человек на лошади не думал об этом, а гнал танки к чертовой матери! От тайги до британских морей.
— Завидуете первоконникам?
— Завидую. Да не обо мне речь. О Марине. Она-то продукт эпохи. Оранжерейный. С постоянной температурой, влажностью, удобрениями… Что она про себя знает? Откуда ей знать? Благополучие одолело. Не одну ее. Вообще молодых.
— Молодых? Всех? Сомневаюсь.
— Про стройки скажете? Таймыр, Мангышлак, Каракум? Так ведь пустынь на всех не хватит! И там стометровочки проложат, заасфальтируют, каблучками драить начнут. Опять теплица. Кафе «Молодежное», кинотеатр «Юность», эстрадный оркестр «Романтики»! Все под стеклом, неоновым ровным светом мигает. Вывеска, а не знамя над полками, по планете проносящимися. Попробуй в этом времяпрепровождении разберись в себе!
— Многие разбираются, и неплохо. Напрасно ты обобщаешь.
— Да я не про многих. Я про нее. Думаете, Марина за отца из расчета пошла? Любила она его по-своему, хотя не осознала себя, вот что. Час ее не подошел. А внутренне она человек. И меня поняла, наверняка поняла, что за поведением моим ненормальным, скоморошьим настоящее есть, поняла и то, что нельзя, и меня понять заставила. Как Татьяна, если хотите, если смеяться не будете.
— Не буду.
— Это хорошо. Вы хорошо говорили. Но не упростили мы ничего. Это неважно, что сейчас с девчонкой переспать легко… Смотря с какой опять-таки… Люди людьми остаются, и настоящих полно, хоть и циниками представляемся. А каждый надеется сквозь мишуру свет увидеть, не неоновый, настоящий. Да вы поглядите! Здорово-то как!
Мазин посмотрел туда, куда протянул руку Валерий, и увидел между деревьями взметнувшуюся над ущельем арку. Празднично яркие цвета солнечного спектра, неразъединимо переходя один в другой, перекинулись от хребта к хребту над речкой, лесом, снеговыми пиками, высоко и низко, так что вершина радуги трепетала там, где тянулись самолетные трассы, а основания упирались в видимые простым глазом расщелины.
— Хорошая примета, — сказал Мазин.
— Да вы смотрите, смотрите…
И Валерий улыбнулся Мазину, забыв на минуту тревоги, опасения, невеселые раздумья.
«После такой улыбки мне придется поверить всему, что он наговорил», — подумал Игорь Николаевич, дожидаясь, пока художник вернется на грешную землю. И он вернулся.
— Что вам еще хотелось узнать?
И тут Мазин задал вопрос, который возник внезапно не только для Валерия, но и для него самого.
— У тебя есть паспорт?
— Паспорт?
— Ну, пусть не паспорт, любой документ, подтверждающий личность.
— Мою? Вы что?..
Валерий, как под гипнозом, вытащил затрепанную книжечку.
— Это удостоверение. Правда, карточка отвалилась.
— Фотография мне не нужна. Спасибо. Мазин вернул удостоверение и рассмеялся.
— Я ж говорил, что радуга — хорошая примета. А теперь скажи, наконец, за что ты ударил пасечника?
Валерий, сбитый с толку «проверкой документов», не противился.
— Представьте мое состояние. Отец. Марина. Паташон. Все перепуталось. А тут является этот духобор с сивухой.
— Водку принес Демьяныч?
— Со стаканчиками.
— Зачем он пришел? С выпивкой. Он же непьющий.
— Не понимаю. Что-то потребовалось. Предложил выпить. Я отказался. Выпил уже немало и больше пить не хотел Пил я, чтобы заглушить себя, но напиваться, превращаться в скота не собирался. Но главное — не понравился он мне, вел себя нагло.
— Нагло? — удивился Мазин, не представляя деликатного пасечника в подобном состоянии.
— Не хамил, разумеется, открыто, но внутренне как-то нахальничал. Развалился, наследил ботинками.
— Какими ботинками?
— Отвратительными, грязными ботинками.
— Тебе не померещились они спьяну? — Мазин поднялся, отмахиваясь от комаров. — На мертвом Демьяныче были сапоги, резиновые сапоги, которые привез ему Борис Михайлович.
— Не мог же я так упиться! У меня память на детали.
— Оставим пока… Итак, старик раздражал тебя?
— Действовал на нервы. Вытащил бутылку, не сомневаясь, что я стану пить. Дальше — больше. Слушаю — и ушам не верю. Заговорил о Марине.
Валерий замолчал.
— Что именно?
— Что-то гнусное, хотя и елейно. Я ударил. Он лязгнул зубами — и… и все!
— Все так все. От удара по лицу он умереть не мог. Как дальше жить будем, Валерий?
— В пустыню удалюсь. Подобно древним отшельникам. Если в тюрьму не посадите.
— Боишься?
— Боюсь. Когда признаться решил, не боялся. А теперь неохота.
— Завтра и в пустыню не захочется?
— С пустыней безвыходно. Вы не в курсе, как там налажено снабжение акридами? На стройках союзного значения?
— Только для передовиков производства, — улыбнулся Мазин.
— Порядок. Рисовать их буду, поделятся А что такое акриды?
— Не знаю. Я еще многого не знаю, Валерий. Поэтому ты веди себя сдержанно. И в отношении Кушнарева тоже.
— Сами разберетесь? Отца-то уберегите. Сможете?
— Надеюсь. Ну, друг, досматривай радугу, а меня, я вижу, один молодой человек спешит о чем-то проинформировать.
И Мазин двинулся, обходя встречные деревья, туда, где, нетерпеливо перебирая ногами, стоял Коля Филипенко.
— Нашел отца?
— Нашел. Верит он вам, Игорь Николаевич.
— А ты веришь?
— Ага…
— Тогда ответь мне честно, очень честно, Николай. Что нашел отец возле разбитого самолета? Вы же там вместе были?
— Да ничего мы там, Игорь Николаевич, не нашли. И дядя Миша меня расспрашивал. Про ящик какой-то. Я ему сказал: кроме портсигара, ничего мы не нашли. Честное пионерское!
— Этого портсигара?
— Ага… Его папка дяде Мише отдал. Еще как пришли.
— У отца Калугин тоже спрашивал?
— Не… У меня. И предупредил: «О нашем разговоре, Николай, отцу не говори! Ему обидно будет».
Над ущельем блекла, размываясь синевой, радуга.
Ему снились война и нарастающий треск пулеметов. Треск усиливался, переходя в грохот орудий и моторов. «Сейчас!» — подумал Мазин, изготавливаясь к атаке, и открыл глаза. Он лежал одетый на койке, печь давно погасла, в хижине было холодно, зато в окно врывалось слепящим потоком омытое дождем утреннее солнце. Над ущельем не осталось ни облачка, вершины самодовольно сахарились в синем небе, а рядом с хижиной громыхала зеленая металлическая стрекоза, размахивая свистящим винтом, как татарин саблей. Потом вертолет подпрыгнул неуклюже и устремился вниз, к лугу, где вместо снега снова зеленела мокрая трава. Дверца машины отворилась, и в отверстии появился незнакомый человек в кожаной тужурке, а за ним офицер милиции в кителе и фуражке с высокой тульей.
— Игорь Николаевич! — закричал он удивленно и радостно и, спрыгнув на землю, побежал навстречу Мазину.
— Волоков! Дмитрий Иванович! Неужто ты? Здравствуй, дорогой!
— Здравия желаю, товарищ…
— Подполковник, — закончил за него Мазин. — По-прежнему на одно звание впереди. Не ожидал тебя встретить.
— Нам в Тригорск позвонили из района. Калугин-то личность заметная, да и вертолета у них нет. Знакомьтесь с товарищами… Капитан из райотдела… А это Глеб, медик наш. Помните, когда «паука» брали?..
Мазин пожал руки приехавшим.
— Нарушил я ваше курортное времяпрепровождение? К вам даже преступники и те нарзан пить приезжают, лечатся, не работают. Ну ничего, немного разомнетесь.
— После вас-то?
— После меня. Каюсь, пытался разгрызть орешек на общественных началах, да зубы попортил. Положение, майор, серьезное. Пока вас дождались, произошло второе убийство. Думаю, убийство, хотя и другие предположения не исключены.
Волоков присвистнул.
— Про второе девушка не сказала.
Тут только Мазин заметил учительницу. Галина стояла поодаль в брюках и спортивной куртке.
— Галочка! Как же это вы?
— Ночью вышла. Когда подморозило. Светло было.
— Пришла в райцентр перед утром, — подтвердил майор. — Оттуда сообщили нам, мы забежали за ними, вот и прибыли все вместе.
— Где же Матвей?
— Дома, папка, — ответил Коля.
Он только что примчался и во все глаза разглядывал вертолет.
— Хорош охотник!
— Кто еще убит, Игорь Николаевич?
— Я хочу сделать официальное заявление. Но без посторонних.
Это сказал не Мазин, а Олег. Журналист подошел, запыхавшись.
Волоков посмотрел на Мазина.
— Можно побеседовать в домике, — предложил тот.
— Вы, конечно, с нами?
— Если Олег не возражает.
— Я не возражаю. Доктор отчасти в курсе. Пусть будет свидетелем.
— Какой доктор? — не понял майор.
— Я не доктор, Олег.
— Тем лучше.
Мазин пропустил вперед Волокова и Олега и задержался, чтобы представить капитану подошедшего Сосновского.
— Борис, покажи, пожалуйста, где лежит Демьяныч.
Когда он вошел в комнату, Олег барабанил пальцами по столу. Заметно было, что он настроен решительно и не сомневается в своей правоте.
— Я буду говорить коротко, главное.
— Почему же? — возразил Волоков. — Говорите обо всем, что вас волнует. Главное мы с Игорем Николаевичем отберем.
— Я не волнуюсь. Я журналист. Моя фамилия Перевозчиков. Но это не моя фамилия. Это фамилия женщины, которая спасла меня во время войны. Мне было несколько месяцев, когда моя мать эвакуировалась из Ленинграда. Она умерла в пути, а я остался у этой деревенской женщины, которую очень уважаю и люблю. Она спасла меня, но ей самой приходилось туго. Я попал в детский дом, окончил школу, получил образование, как видите.
Я поставил цель узнать о своей семье. Но документы затерялись, а Перевозчикова помнила только, что мы из Ленинграда, что маму звали Тася, а отец был летчик. Мама говорила, что он погиб, и называла его Константином.
— Константином? — переспросил Мазин. — А мать?
— Тася. Наверно, Анастасия.
— Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Вошел Сосновский и присел в углу.
— Вы понимаете, как мне было трудно. В Ленинграде тысячи людей носят такие имена. О возрасте родителей можно было только догадываться. Маме могло быть и двадцать, и тридцать с лишним. Внешний вид ничего не говорил, она же пережила блокаду! С отцом еще сложнее. Двадцать пять или сорок? Лейтенант или полковник?
Искал я долго. Даже в аэрофлотскую газету поступил, чтобы находиться среди авиаторов. Многие из них сражались на фронте, у них были друзья, бывшие пилоты. Я спрашивал, не знал ли кто летчика по имени Константин, погибшего в начале войны, у которого оставались в Ленинграде жена и маленький сын. Однажды командир нашего авиаотряда говорит: «Утверждать, Олег, ничего нельзя, но есть у меня приятель в Батуми… Летом гостил я у него, прошлое вспоминали. Рассказал и твою историю. Он человек горячий, взмахнул руками. «Бай! — кричит. — Это же Калугин Костя, мой лучший друг!»
— Калугин?
Фамилия произвела впечатление, но сам Олег не подчеркнул ее.
— К Михаилу Михайловичу мой отец никакого отношения не имел. Они однофамильцы.
— И летчик Калугин оказался вашим отцом? — спросил Мазин.
Олегу послышалось недоверие.
— Я уверен.
— Мы не спорим с вами. Рассказывайте.
— Теперь к сути дела. Когда я стал расспрашивать командира отряда об отце, он замялся. «Слетай сам попутной машиной в Батуми, — предложил. — Чанишвили лучше знает». Я немедленно полетел. Нашел Чанишвили. Он полковник запаса, встретил меня отлично. Обнял, говорит: «Вылитый отец! Сразу видно — Костин сын!» Но рассказывать не торопится. «Отдохни с дороги, в море выкупайся, вина нашего грузинского отведай Куда спешишь, дорогой!» Выпили мы, он и начинает: «Отец твой, Олег, был настоящий человек. Мы с ним еще на Халхин-Голе с самураев стружку снимали. Об орден Красного Знамени получил, я тоже. Потому, прошу, верь в отца своего, как мы, друзья его, верили. Бывают несчастья хуже, чем смерть в бою…»
Олег замолчал, собираясь с мыслями.
— В чем же заключалось несчастье?
— Отца очернили. Его память. Осенью сорок первого года, в разгар боев, он неожиданно получил приказ срочно вылететь на юг с секретным грузом. Перед вылетом Чанишвили видел его в последний раз. Отец негодовал, что его, боевого летчика, используют как воздушногоизвозчика. И вот что важно! Чанишвили спросил, что за груз повезет отец, и тот ответил: «Не знаю».
— Он не вернулся из полета?
— Он погиб. Последняя радиограмма была помечена здешними координатами. Отец сообщил, что полет продолжается, но в двигателе неполадки.
— На днях егерь Филипенко нашел в горах остатки разбившегося самолета, — пояснил Мазин внимательно слушавшему Волокову.
— Самолет разбился, — продолжал Олег. — Но тогда это не смогли установить, и отца заподозрили в измене. В том, что он перелетел к немцам. Радиограмму сочли обманом, приемом, чтобы отвести подозрения. Работала комиссия, опрашивали и Чанишвилн. Он сказал, как и мне, что не верит в предательство отца. Ему сделали внушение. Аргументировали тем, что отец якобы бежал к немцам не с пустыми руками. Чанишвили доказывал, что отец не знал характер груза. Ответили: он мог догадываться. Поиски с воздуха разбитой машины не принесли результата. Официально отец считался пропавшим без вести, но на память его легло пятно.
— Чем доказал Чанишвили, что погибший летчик был вашим отцом? — спросил Волоков.
— Он не мог доказать. Но ведь все совпадает! Имя. Он — ленинградец, у него осталась жена с трехмесячным ребенком. Чанишвили писал в Ленинград; ему ответили, что Калугина эвакуировалась и по месту прописки не вернулась. Это мой отец!
— И вы взялись восстановить его доброе имя?
— Я решил найти самолет. Это единственная возможность доказать правоту отца раз и навсегда.
— Вы достигли цели. Поздравляю. Но какое отношение имеет погибший самолет к смерти художника Калугина?
Игорь Николаевич почувствовал, что волнуется. Каким окажется ответ на вопрос, так его занимавший и до сих пор не решенный?
— Калугина убил Матвей Филипенко. Убил, чтобы присвоить золото, находившееся в самолете.
Олег произнес эти решающие слова и снял очки, чтобы протереть стекла. Близорукие глаза утратили блеск самоуверенности. Таким он нравился Мазину больше.
— Вы сделали чрезвычайно важное заявление, товарищ Перевозчиков, — произнес Волоков официально. — Мы ждем ваших пояснений.
— Я готов, — ответил Олег чуть высокомернее, чем хотелось бы Мазину. Очки вернули ему самодовольное выражение.
— Откуда вы узнали, что в самолете было золото?
— Мне сказал Чанишвили. После войны он слышал, что золото отправляли в уплату долга союзникам за военные поставки. Через Кавказ и Иран.
— И такой груз не был найден! — поразился Волоков.
— Уверен, что искали формально. Убедили себя, что отец сбежал.
Сосновский поймал взгляд Мазина и мигнул слегка: «Видал, старик, какой поворот! Где нам было знать!
Игорь Николаевич кивнул. Но ему хотелось взять Олега за куртку и тряхнуть так, чтобы отлетели подальше эти проклятые очки, через которые парень не видит ничего, кроме самого себя.
— А вы сразу напали на верный след? — продолжал майор.
— На Красную речку меня направил Михаил Михайлович. Я уже рассказывал товарищам. Мы познакомились случайно. Он делал зарисовки в аэропорту. Я заинтересовался его фамилией, подумал: не родственник ли? Оказалось, нет, но я ему чем-то понравился, он написал мне из Москвы. Я взял письмо с собой.
Олег положил на стол конверт.
Волоков прочитал вслух:
— «Милый Олег!
Вашими молитвами Аэрофлот доставил меня домой без повреждений, и я занялся обычными делами, то есть включился в московский ритм вечной спешки, которая часто напоминает бег на месте. Работается в столичной суете трудно, в душе я остался провинциалом и потому, едва распаковав чемодан, мечтаю бежать с этюдником на дачу, в связи с чем у меня возникло одно соображение. Буду рад, если оно вам понравится.
Запала мне ваша история! Я понимаю, что девяносто человек из ста по лености мысли или, напротив, от повышенной трезвости ума отнесутся к вашим намерениям скептически, но я, старый прожектер, на вашей стороне и предлагаю следующее: приезжайте в отпуск ко мне в Дагезан! Места в доме хватит, с моими, я уверен, вы сойдетесь, нам будет веселее, а для вас отличная база поиска. Насколько я понял, трасса полета проходила поблизости. Полазаете по горам, потолкуете со старожилами; если не повезет, в проигрыше не останетесь: горы вливают в человека жизненные силы.
Со своей стороны, прошу одно: ни в коем случае никому (даже из моих близких!) ни слова о том, что я в курсе ваших изысканий. Я достаточно известен, шумиху не переношу, особенно в печати (простите!). И если вас ждет удача — это удача ваша. Таково мое единственное условие. Если оно не покажется вам обременительным, телеграфируйте день приезда. Мы подготовим комнату.
Жду вашего согласия!
Мих. Калугин».
Письмо подтверждало прежний рассказ Олега. Тон его производил впечатление дружественного, искреннего, немного небрежного, но отнюдь не двусмысленного.
— Однако, Дмитрий Иванович, — сказал Мазин, — у Олега сложилось впечатление…
— Нет! Я проанализировал. Это вы с Кушнаревым наталкивали меня… Калугин не мог знать точного места падения самолета. Он ничего не знал о самолете до разговора со мной.
— Так он сказал?
— Не считайте меня кретином. Я основываюсь на фактах. Да, Калугин рекомендовал мне искать на Красной речке, но он не послал бы туда Филипенко, если бы знал о золоте.
— Как это на вас похоже! — воскликнул Мазин. — Почему же вы не сказали Калугину о золоте?
— Так было правильно.
— Еще бы!
— Надеюсь, вы не подозреваете, что я собирался присвоить золото? Я не мог доверить…
— А он вам доверял. В свой дом пригласил.
— Товарищ майор, — повернулся Олег к Волокову, — мне неизвестны должность и звание Игоря Николаевича, поэтому я прошу вас, как лицо официальное, дать мне возможность закончить свое сообщение. Мне не нравится, когда меня перебивают и обращаются, как с преступником Повторяю, я не мог доверить дело государственной важности постороннему. Приглашение же на дачу вопрос сугубо личный.
— Спасибо. Разобрался. — Мазин оставил иронию. — Я не хотел вас обидеть, Олег. И не заподозрил ни в чем нехорошем. Решили вы так: сын вернет золото, которое, как считалось, похищено отцом. Это ваш долг и ваше право?
— Да. Что в этом плохого?
— Чуть-чуть ненужного тщеславия, капля самоуверенности, немного недоверия к людям… Короче, всего понемножку, а результат печальный.
— Можно, конечно, думать и так, но я не согласен. Я ни в чем не виноват.
— Виновным вы считаете Филипенко?
— Разумеется. Не зная, что находится в самолете, Калугин направил к озеру Филипенко. Он хотел помочь мне в поиске, хотел, чтобы в окрестностях не осталось «белых пятен». Егерь обнаружил машину, но ни слова не сказал о золоте.
— И вы решили, что Матвей присвоил его?
— А что бы подумали вы?
— Я бы принял такую гипотезу в числе других.
— Каких других?
— Золото могли найти и похитить до Филипенко. При падении оно могло оказаться в стороне от самолета и не попасть на глаза Матвею. Однако вы имели основания подозревать.
— Я оказался прав.
Олег поглядел на Мазина, но не с торжеством, а сдержанно. Тот молчал. Волоков ждал с любопытством.
— Скрывать правду от Калугина больше не имело смысла. Я поделился с ним опасениями. Михаил Михайлович был невероятно поражен, услыхав про золото, конечно же, он ничего не знал о самолете, его советы были совпадениями — и только! Но он, как и вы, не хотел поверить в вину Филипенко. Это его и погубило.
— Каким образом?
— Он рассказал все Матвею.
— Как все?
— Детали мне неизвестны, но, когда я пришел вечером в гостиную, за считанные минуты до смерти, до того, как погас свет, Михаил Михайлович шепнул мне: «Матвей ничего не нашел. Побеседуем попозже, когда гости разойдутся».
— И ваш вывод?
— Единственно возможный. Калугин спросил у егеря, нашел ли он золото. Тот отказался и, воспользовавшись первой же возможностью, убил Калугина.
— А почему не вас?
— Ну, знаете!..
— Попытайтесь все же объяснить.
— Это не так трудно. Калугин не назвал мою фамилию, и у Матвея сложилось впечатление, что он единственный, кто знал о золоте.
— Резонное предположение. И ножом он ударил?
— Что же ему оставалось делать?
— Но как попал нож к убийце, вы не представляете?
— К сожалению. Товарищ майор!..
— Минутку, Олег, — прервал Мазин. — Оставим пока Матвея, с разрешения Дмитрия Ивановича. Зачем стреляли в меня и кто, по-вашему?
Олег едва успел заморгать, но Мазин не ждал ответа.
— Не знаете? А что случилось с Демьянычем?
— С пасечником?
— Да. Почему он умер?
— Первый раз слышу.
— Охотно верю. Всему, что вы говорили, верю. Не смотрите на меня, как на противника. Вы сообщили много интересного. Хотя и поторопились. Дмитрии Иванович еще не вошел в обстановку. Ему нужно ознакомиться с фактами, и тогда у него появится необходимость побеседовать с вами подробнее.
— Но мои обвинения против Филипенко вы игнорируете?
— Напротив. Я сопоставил их с тем, что вчера вам удалось проникнуть на Красную речку, и это подтвердило ваши подозрения. Существуют и другие основания, чтобы задержать Матвея, — сказал Мазин, не расшифровывая своей мысли, потому что думал он не только о подмененной пуле.
— Несомненно, — присоединился Сосновский. — Помимо прочего, он незаконно хранит немецкий карабин.
— Возможно сопротивление? — спросил Волоков.
— Если мы не опоздали, — проговорил Мазин. — Я видел его сына возле дома, а окно открыто. И мальчишка бойкий…
Он не ошибся. Матвей сопротивления не оказал. В доме его они застали рыдающую жену.
— Говорила я ему, извергу, — кричала она взахлеб, — не доведет тебя лихость до добра! Дострелялся, живодер! На кого ж ты нас с дитем бросил?!
— Где ваш муж? — спросил Мазин по возможности мягко.
— В горы побег. Как вертолет прилетел, как увидел Матвей милицию, затрясся весь, а тут Колька бежит: «Папка, за тобой!» Он быстро фуфайку натянул, оленины вяленой напхал в сумку и через речку подался.
Мазин оглядел поросшие орешником склоны над рекой. Выше их, совсем как в день его приезда, курились, темнели, смыкаясь в тучу, неизвестно откуда набежавшие облака.
— А Николай где?
— В сарае ревет. Боится показаться.
— Ладно. Не расстраивайтесь раньше времени. Борис, отдай свою пулю Дмитрию Ивановичу и расскажи о наших похождениях. А мне хочется с мальцом потолковать.
И он пошел через двор к сараю.
Охотничий вислоухий пес с опечаленным, растерянным взглядом ткнулся в ладонь Мазина шершавым холодным носом и отошел от двери, пропустив его в тесное помещение, где на березовом чурбаке сидел Коля и размазывал по щекам слезы.
Игорь Николаевич провел пальцами по взбившимся вихрам.
— Ревешь?
— Убью…
— Кого?
— Очкастого. Подстерегу в лесу и убью.
— Этим отцу не поможешь. Навредишь. Самого арестуют.
— Пусть!
— Нельзя, пионер!
— Пусть!
— А я сказал нельзя. Дело есть.
Коля поднял синие глаза. Они быстро заплывали слезами.
— Какой ты голубоглазый! Вытрись-ка, возьми платок. Два человека отцу твоему помочь могут — я и ты. Если тебя задержат, мне вдвое труднее станет. Поэтому кровную месть отложим до лучших времен. Сейчас работать нужно. Как думаешь, отец уйдет или поблизости скрываться будет?
Николай нахмурился, заколебался.
— Нужно мне доверять. Иначе нельзя. А я — тебе. Далеко отец?
— Не уйдет он…
— Тогда договор такой, вернее — задание. Не теряя ни минуты, отправляешься на поиски отца. Найдешь, скажешь: пусть не паникует. За то, что натворил, ответить нужно. Лишнего я не допущу. Пусть посидит день — два в лесу. Важно, чтобы ты знал где. И будь под рукой, чтобы я мог с отцом связаться, когда потребуется. Все запомнил?
— Запомнил.
— Доверяешь? Если нет, можешь отказаться.
Мазин дотронулся до грубо сложенной летней печки.
— Ночью мороз был, а у вас тут тепло.
— Папка топил. Что-то делал в сарае.
— Да… вот еще. Возьми, отдай отцу. Игорь Николаевич держал в руке гильзу.
— Это… та, да?
— Она. Передай в знак доверия. И возвращайся побыстрее!
Он проводил взглядом мальчика, побежавшего через поляну к речке, и направился в поселок.
— Игорь Николаевич!
Галя шла навстречу, ступая по непросохшей траве мокрыми синими кедами.
— Галочка, вы сегодня хорошо выглядите.
— Благодарю, товарищ подполковник!
— Вы решили обращаться со мной официально? А я — то мечтал побродить с вами по горам, поискать эдельвейсы.
Галя вынула увядший цветок из карманчика стеганой куртки.
— Пожалуйста. — Что это?
— Эдельвейс.
— Такой невзрачный?
— Я вам тоже невзрачной покажусь, когда присмотритесь. Поэтому попросите вашего друга, майора, отпустить меня домой. Мама заждалась. Я ж собиралась туда и обратно, а застряла.
— Возможно, вы ему понадобитесь.
— Зачем? Матвея ловить? — Вы уже знаете?
— А то! Говорят, из-за золота он рехнулся. Двух человек убить, это ж нужно! Психопат несчастный!
— Вы верите в эту историю?
— Так сбежал же он. Был бы не виноват, зачем бежать?
— Мысль ваша, Галочка, только кажется логичной.
— Что, не так?
— Не знаю. Много странного.
— Странное знаете что? Вот видишь человека, и в голову тебе не приходит, что видишь его в последний раз. Михаил Михайлович сказал: «Иду за лампой!» И не вернулся… Ужасно это! А вчера возвращаемся мы с Олегом, вечереет, снежок чуть срывается, Демьяныч навстречу. «Здравствуйте, — говорю, — дедушка! Куда собрались на ночь?» А он ласково так, уважительно: «Матвея иду проведать, подарочек есть для него». Сверток под мышкой держит. И пошел… Навсегда…
— Демьяныч направлялся к Филипенко? Что было в свертке?
Галя покачала головой:
— Я вам, Игорь Николаевич, про то, что в душе возникло, рассказываю, а вы сразу на служебный лад переворачиваете. Сухой вы человек. Потому и эдельвейс вам не понравился. Не знаю я, что в свертке было.
— Галочка, простите, что потерял в ваших глазах. Кажется, опять гроза собирается.
Он посмотрел на тучи, утрамбовавшиеся на этот раз не на пути в долину, а сбоку, в понижении между горами.
— Это не наша. Сюда не доберется. Над Красной выльется.
Они проходили мимо пруда. Вертолет стоял на лужайке, но в домике никого не было. На берегу на откосе маячила длинная фигура.
— Валерий осматривает место происшествия. Художник заметил Мазина с Галиной, побежал через луг.
— Доктор, постойте! Вы искали меня вчера?
— Доброе утро, Валерий! Я не доктор.
— Если я вам нужен…
— Теперь делом занялась милиция.
— Плевал я на формалистику! Если я вам нужен…
— Может быть, я вам нужен, Валерий?
— Черт с вами! Вы мне нужны! Всегда поворачиваете по-своему.
— Успокойтесь. Я хитрю. Вы мне тоже очень нужны, однако я в двусмысленном положении. Вторжение в сферу чужих полномочий…
— Не будьте служакой! — перебил художник. — Знаю, что вы не доктор, но как-то не представляю вас в мундире.
— Спасибо за признание. Что ж… Поговорить стоит. Подождите меня здесь, а? Я провожу Галочку и вернусь.
— Ладно…
Когда Мазин возвратился, Валерий стоял почти там же, только прислонился плечом к сосне.
— Заждались?
— Нет. Знал, что наврете. Нужна вам эта колдунья! Какую-то мысль преследовали.
— Была и мысль. Спросил кое-что у Глеба Перекинулся парой слов с майором. Но вашего пренебрежения к Гале разделить не могу. В хижину зайдем?
— Нет. Не хочу туда. Лучше на воздухе. Что вы хотели узнать?
— Боюсь, что теперь, после смерти Демьяныча, это не так значительно, чем то, что хочется рассказать вам.
— Мне не хочется. Я себя за шиворот тяну! Только не стройте глубокомысленную рожу, не надувайте щеки, не изображайте гениального сыщика, который все знает! Ни черта вы не знаете и не узнаете, если я вам не скажу. Но я скажу, потому что я идиот!
— Нельзя ли помягче, Валерий?
— Нельзя. Столько лет считать себя умником — и вдруг убедиться, что ты круглый дурак! Такие переходы мягко не даются.
— Что это вы ополчились на собственную порядочность? Зачем?
— Порядочность? Ха-ха-ха! Впрочем, так с дураками и обращаются. Примитивно! Голыми руками! Я разочарован, доктор. Нельзя меня так покупать! Я сам, понимаете, сам!
— Я сказал то, что думал, Валерий.
— Тем хуже. Хотя вы правы: дурак и порядочный — почти одно и то же. В моем случае особенно. Порядочный дурак! Незаурядный.
— Напрасно вы смешиваете эти понятия.
— А есть разница? Тонкие нюансы?
— Чтобы быть порядочным, требуется мужество.
— Как вы меня покупаете! — повторил Валерий. — Скажите еще, что любите меня, как родного, добра желаете!
— Зачем врать? Родных я люблю больше.
— И все же врете! Играете, как кошка с мышью, и ждете, ждете с вожделением, когда же сорвусь я, выболтаю. Признания добиваетесь.
— Признания мало, чтобы установить истину.
— Когда брешут. А если правда?
— В чем правда?
— В том, что не могу я, не могу вынести, чтобы вместо меня, за мою вину вы упрятали за решетку этого примитивнейшего дикаря, ничтожного живодера Филипенко!
— Он сбежал.
— Потому что идиот. Еще хуже меня. И с карабином наверняка. Пока вы его возьмете, половину перестреляет — и все ему! Вышка! Или как там у вас говорится?
Мазин не ответил.
— Молчите? Как удав, который ждет кролика? В одни ворота играете. Видите же, что у меня нервы сдали!
— Валерий, вы из тех людей, на которых после пьянки находят приступы покаяния и самобичевания. Я бы вам посоветовал опохмелиться. В хижине осталась бутылка.
— В хижину не пойду. И прекратите ложь! Ведь дрожите от нетерпения!
— От страха дрожу.
Художник широко раскрыл глаза.
— Боюсь, наплетете несуразного. Ну, лучше мне плетите, чем там, под протокол.
— Да прекратите ж вы под добряка работать! Глотайте кролика с потрохами, с ушками, с хвостиком пушистым. Пусть правда торжествует на земле. Пасечника гнусного я убил, а не Филипенко.
— Попробуйте доказать! — вздохнул Мазин.
— До-ка-зать? — Валерий сжал кулаки. — Не жирно ли будет, товарищ подполковник?
— Валерий, я не понимаю, чем вы возмущены. Вы что, оваций ждали, букетов? Чем вы хвастаетесь? Какими заслугами? Кровопролитием? Зря! Признанием? Тоже не подвиг, между прочим. Майор Волоков — работник отличный. Если вы виноваты, докопается. Так что признание вам одному нужно. Чтобы на снисхождение и смягчение рассчитывать.
На лице Валерия появилась гримаса.
— Как вы со мной заговорили! Как заговорили!.. Впрочем, ждал.
— Не ждали. Привыкли, что нянчатся с вами. Валерий напрягся.
— Гражданин подполковник! А что, если я побегу? Стрелять будете?
— Мой пистолет остался в служебном сейфе. Да он и не понадобится. Никуда вы не побежите. Некуда бежать! Поэтому рассказывайте, что у вас произошло с Демьянычем.
— Произошло! Дал ему по морде — и всё! Убивать не собирался.
— И он свалился в речку?
— Зачем в речку? На пол.
— Где вы его били?
— В хате. Не бил Один раз ударил.
— За что?
— Заработал. Затрещина ему причиталась — это факт. А вот больше…
— Тут вы не уверены? — Не уверен.
— По-вашему, убитый до берега сам добрался?
— Убитый? Смеетесь?..
— Кто смеется, Валерий? — Мазин перешел на «ты». — Одно из двух: либо ты убил старика — и тогда он не мог ходить по берегу, либо ты морочишь мне голову. Давай уточнять: что ты сделал после того, как ударил Демьяныча?
— Плюнул и ушел.
— И больше его не видел?
— Сегодня. В белых носках.
— Как же он попал в речку?
— Неужели не понимаете? Он очухался и решил сделать холодную примочку. Пришел на берег, но в голове-то кружилось. Споткнулся.
— И захлебнулся?
— Выпил лишнего.
— Сам виноват, выходит?
— Не знаю, как это по вашему кодексу рассматривать.
— А по-твоему, как?
— Если б я его не ударил, был бы жив. И Филипенко бы не сбежал.
— Филипенко-то в убийстве твоего отца обвиняют.
— Не может быть! Не убивал он отца.
— И это на себя возьмешь?
— Ну! Ну…
— Введи, пожалуйста, глаза в орбиты, Валерий, и не воображай себя ни жертвой, ни героем. Как родного я тебя не люблю, но помочь хочу. Насколько это возможно для такого избалованного сумасброда.
— Вы, кажется, сочувствуете мне, подполковник?
— Называй меня по имени и отчеству.
— Нахально прозвучало?
— Неуместно.
— Ладно. Не буду. Вы мне насчет старика поверили? Что я ударил и ушел?
— Да.
— Это по-человечески. Службист бы усомнился. Решил бы, что убил, оттащил на берег и бросил: плыви по волнам, нынче — здесь, завтра — там, до самого синего в мире…
— Оттащил? — заинтересовался Мазин.
— Ну вот, теперь ухватитесь.
— Не бойся. Следы его, не твои. Но экспертиза, Валерий, утверждает, что пасечник не утонул. В воде он оказался уже мертвым.
— Лапкой гладите, а коготки наготове?
— А тебя только лапкой можно? Небось жалеешь уже, что правду рассказал?
— Да уж эксперты ваши того не скажут. А в самом деле, ну зачем я наговорил вам это? Филипенко пожалел? Ну кто этот Филипенко?
— Человек. Сынишка у него есть.
— Гомо полусапиенс. Черт с ним! Смотрите, Игорь Николаевич, какой дождь на Красной речке льет! А у нас солнце.
— Туман у нас, Валерий. Как в твоей голове. О чем жалеешь? Чего мечешься? С собой воюешь. Хорошего в себе стыдишься. В маске щеголяешь. Приоткрыл чуть и перепугался! Да чего? Не суда даже, а того, что дураком сочтут. Почему? Человека всякая низость, хоть случайно совершенная, хоть по обстоятельствам, тяготить должна, покоя не давать. Кто нас строже осудит, чем сами мы? Зачем совесть свою суду передоверять, прокурору, уголовному розыску? Ошибся — не наказания бойся, а новых ошибок! Наказание перенести можно. И не тюрьма тебе грозит, а сам ты себе мешаешь, лучшим в себе не дорожишь, между трех сосен крутишься, как слепой, да с гонором, со штучками! Порядочность заговорила — дураком обозвался! Удалилась опасность — сразу фанфаронить! Развязность напустил. «Подполковник!..» Будто ты гусарский ротмистр на балу в дворянском собрании И там старшим хамить не полагалось. А ты-то не ротмистр, а младший лейтенант запаса небось!
Ведешь себя глупо. Запутался, когда узнал, что на егеря вина пала. Не его ты спасать кинулся! Порядочность тут фундамент, а над ним здание большое, запутанное, с ходами, переходами, лестницами вниз, вверх, да все внутрь, вглубь, а наружу дверей не видно. Вдруг мелькнуло где-то на четвертом этаже. Ты туда — прыгать решил, а тебе трап подкатывают, как к межконтинентальному лайнеру. Пожалуйте! Ты и обрадовался. Интервью давать собрался. А мне не интервью, мне факты нужны. Все факты. Кое-что сказал — спасибо. Пояснил. Но главный-то нарыв остался. Не вскрыт. Кто отца убил? Говоришь, не егерь? Почему? Олег уверен, что он.
— Олег — самоуверенный болван.
— Всех разругал. А сам?
— Про меня вы уже сказали.
— Правильно сказал?
— Почти. Особенно про здание. Вниз да вглубь — и на месте! Филипенко не виноват, точно.
— Кто ж виноват?
— Кушнарев отца убил.
Мазин положил руку на плечо Валерия.
— Ты отдаешь себе отчет в таком обвинении?
— Отдаю.
Валерий сказал серьезно, глядя мимо Мазина, как туча смещается к югу, оставляя над Красной речкой чистое, вымытое небо.
— Доказать можешь?
— Это вы сами… Соберете по кирпичику. Зачем вы меня искали вчера?
— Я долго разговаривал с Кушнаревым.
— И он вас охмурил? Слезу пустил? Рассказал, как пострадал невинно?
— Об этом я узнал от Марины Викторовны.
— А что он об отце говорил?
— Он сказал, что Михаил Михайлович сидел в тюрьме.
— Мерзавец!
— Ты знал об этом?
— Узнал. Накануне смерти отца. И понял многое.
— Что он успел тебе рассказать?
— Все.
— И про побег?
— Вы знаете про побег? От Кушнарева?
— Да.
— Тогда он сам себе яму выкопал. Понимаете, что меня сдерживало?
— Догадываюсь.
— Растерялся я. Сообразить не мог, как поступить, что делать. А он решил, что в безопасности, что не знает никто… Что он говорил?
— Михаил Михайлович скрывал, что был осужден. Он пытался бежать, но неудачно. Получил дополнительный срок. Освободился в годы войны, воевал, но прошлого стыдился и сменил фамилию.
— Не понимаю, зачем ему понадобился такой вариант.
— Вариант?
— Смягченный.
— Валерий, давай присядем на то поваленное дерево.
— Что, в ногах правды нет?
Солнце постепенно прогревало лес, лучи его подсушивали отсыревшие ветки. Воздух наполнялся хвойным ароматом. Мазин достал из кармана портсигар, повертел в руках, постучал пальцем по крышке.
— Я думал, вы не курите, — сказал Валерий.
— Не курю. Эта штука попала ко мне случайно. Портсигар пуст.
И, подтверждая свои слова, Мазин открыл портсигар, показал художнику и снова спрятал в карман.
— Очередной прием? — спросил Валерий.
— Вроде этого.
— Темп сбиваете?
— Если хочешь… Для себя главным образом. Чтобы без внутренней суеты осознать то, что ты мне скажешь.
— Могу и ничего не сказать.
Мазин посмотрел мягко, заботливо:
— Лучше скажи.
— Ладно. Побег оказался удачным. Наврал, мерзавец. Но лучше б такой удачи не было…
— Пожалуй.
— Не понимаете вы! Не в побеге соль. И страшное не это. Человека убили — вот где тайна.
Большой, неповоротливый комар пытался прокусить куртку Валерия, но только зря натужился, перебирая тонкими ножками.
— Кто убил?
— Сволочь эта. Но доказать, что отец непричастен, невозможно! Понимаете? Вдвоем они были, а свидетелей нет.
Валерий взмахнул рукой, и комар, оторвавшись от куртки, закружился над ним, выбирая новое место.
— Кого убили?
— Не знаю. Не спросил, а отец не успел. Как в бреду все получилось. Представить трудно. У нас так отношения складывались. Недружно. Несправедливо. С моей стороны. Я его консерватором считал н все прочее. А тут узнал, что неродной. Мальчишеские комплексы одолели. И еще… Но об этом не стоит. Это лишнее. Одно поймите: я его далеким считал, непонимающим, чужим, благополучным, удачливым, самодовольным. Деньги, дача, хвалы газетные, жена молодая… А он совсем другой жизнью жил. И вы поймите, поймите! — Валерий схватил Мазина за рукав и дергал, то притягивая, то отталкивая от себя. — Меня-то он любил! Ценил, уважал, а я ничего не видел. Почему так говорю? Со мной ведь он решил поделиться, мне рассказать! Довериться! Мое мнение ему важным оказалось! То есть подлинным сыном он меня признавал, а не пасынком, не воспитанником, не чужим! А я…
— Спокойнее, Валерий. Хорошо, что ты так говоришь, но спокойнее. Нужно спокойнее!
— Ладно. Отец позвал меня. Ну, я в уверенности, что очередная нотация… И вдруг обухом. «Сын! Хочу, чтоб стал ты моим судьей. Виноват я. Совершил ошибку, осудили меня справедливо, но не выдержал, молодость подвела. Бежал. Думал, повезло, а оказалось… Бежали мы вдвоем. И так получилось, что погиб при этом человек. Клянусь, не я убил. Тот, другой. Запомни и поверь! Не я. Но и я виновен. Не помешал! Не предотвратил. Не спас. Всю жизнь вину эту загладить хотел. В твоих глазах особенно. Что мог, все сделал. Но выхода нет. Жив убийца, и сначала все… Откроется все. Не страшно. Одного боюсь: чтоб ты не осудил».
Валерий низко опустил голову, так что Мазин не видел его лица, видел один заросший затылок.
— Михаил Михайлович назвал Кушнарева?
— Да.
— Передайте его слова по возможности точно.
— Я хорошо запомнил. Я спросил: «Он тебе угрожает?» Отец кивнул. «Где он?» — «Здесь». О ком еще он мог говорить? Кушнарев знал отца много лет. Он сидел в тюрьме. Он жил у нас, ел, спал, брал деньги… Шантажировал.
— Чего же он захотел еще?
— Не знаю. Может быть, ничего. Может быть, у отца истекло терпение. Годы терпения.
— Но имя Кушнарева не прозвучало?
— Как же! Я не договорил. Я подумал о нем и спросил: «Это Кушнарев?» Отец заколебался на мгновенье, посмотрел на меня и ответил… Я ручаюсь за точность фразы. Он сказал: «Кушнарев? Не Кушнарев, а Паташон». Понимаете?
— А вы?
— Это же ясно! Кушнарев — не Кушнарев, а Паташон Преступник Паташон. Убийца.
— Однако у него убедительная биография.
— Легенда, а не биография. Которая вся шита белыми нитками. Я никогда, никогда не видел и не слыхал, чтобы он занимался архитектурой или даже высказывал свои суждения. Он такой же архитектор, как вы детский врач.
— Кто же он?
— Профессиональный аферист.
Теперь вокруг них кружил не один, а целый десяток комаров. Мазин отломил ветку погуще и начал обмахиваться.
— Обычно аферисты не склонны нарушать сто вторую и ближайшие к ней статьи.
— То есть убивать?
— Да.
— Мы же не знаем, кого убили и при каких обстоятельствах. Отец не сказал, не успел. Пришла Марина, потом ваш друг.
— Резонно. Все, что вы сказали, резонно.
— Говорите лучше «ты».
— Можно? Спасибо, Валерий! Видишь ли, дорогой, тебе сейчас события яснее кажутся, чем мне. Ты не заботишься о частностях, набрасываешь картину в современной манере, а я реалист, мне нужно, чтоб на лице каждая морщинка была проработана. Натуралист даже. Тебе Пикассо, а мне Лактионов. Уловил разницу?
— Не в вашу пользу разница.
— Польза общая будет, если исчезнут некоторые коварные пятна. Кушнарев не мог убить Демьяныча. Он со мной в это время был. И зачем?
— Про Демьяныча я вам рассказал.
— А эксперт? Забыл? Демьяныч-то в речке мертвый оказался.
— Напутал эксперт, ошибся.
— Бывает и такое, к сожалению. Так за что ты его?
— Нервы сдали.
— А конкретнее?
— Это личное.
— Догадываюсь. Но ты мне вот что поясни сначала. Помнишь, я тебе носовой платок возвратил?
— Опять тайм-аут берете? Темп сбиваете?
— Да нет, темпом я доволен. Где ты тот платок взял?
— Сам удивляюсь, откуда он у меня в кармане взялся. По виду — это отцовский платок, из мастерской. В краске.
— Отцовский? Не ты его выпачкал?
— Нет. Наверно, я захватил его случайно в мастерской. Но хоть убейте, не помню когда! Да чепуха это! Зачем вам?
— Вспомни, когда ты его в первый раз увидел?
— Что за смысл?
— Будет и смысл, если вспомнишь.
— Я наткнулся на этот платок, когда вы с Сосновским пошли наверх, к отцу. С пасечником. Я вышел тогда и, проходя мимо вешалки, достал его из кармана куртки. Но как он попал туда?
— Не помнишь? А потом?
— Потом ничего особенного. Убедился, что он грязный, бросил в хижине. Там вы его подобрали. Вернули.
— И что?
— Опять ничего. Где-то валяется.
— Сажу ты им не вытирал?
— Что?!
— Все. Спасибо.
Валерий покачал головой.
— На здоровье. Так о чем вы догадываетесь?
— Разговор у вас с пасечником о Марине Викторовне был?
— Игорь Николаевич!.. Откуда…
— Секрета нет, Валерий. Демьяныч говорил мне о ваших отношениях.
— Отношениях? Не было отношений, не было! Ох, мало я его ударил! Куда грязную лапу протянул, а?!
— Любите?
— Называйте так.
— Не ожидал.
— Почему это?
— Говорят, молодежь упростила эти отношения.
— Упростила? Десять тысяч лет никто упростить не смог, а мы на глазах у вас переиграли? Чушь собачья! Подонки треплются. Впрочем, я сам такой был. Пока не обжегся.
— Больно обожглись?
— Хоть кричи… Что делать? Ну, скажите, что делать? Вы же все знаете! А тут воды в рот наберете. И никто не скажет. Не любит она меня. И хорошо это. Если б полюбила, совсем бы запутались. При отце отвратительно, а теперь невозможно. Но не легче ж мне от этого! Крутился, паясничал, как шут гороховый. И все. Ничего больше не было. Да и не могло. Не знаете вы Марину.
— Трудно узнать человека за два дня.
— Может быть, и вообще невозможно. Никогда. До конца. Теперь особенно. Много ли людей сами себя знают?
— Если человек прошел испытания…
— То-то! Что нам старики долбят? Мы вам счастливую жизнь завоевали! Да разве жизнь может быть счастливой или несчастной? Это люди бывают несчастные или счастливые. И в гражданскую я в революцию их больше было, чем сейчас! Цель пошире была. Мечта, а не план, научно обоснованный! По науке танк сильнее лошади. А человек на лошади не думал об этом, а гнал танки к чертовой матери! От тайги до британских морей.
— Завидуете первоконникам?
— Завидую. Да не обо мне речь. О Марине. Она-то продукт эпохи. Оранжерейный. С постоянной температурой, влажностью, удобрениями… Что она про себя знает? Откуда ей знать? Благополучие одолело. Не одну ее. Вообще молодых.
— Молодых? Всех? Сомневаюсь.
— Про стройки скажете? Таймыр, Мангышлак, Каракум? Так ведь пустынь на всех не хватит! И там стометровочки проложат, заасфальтируют, каблучками драить начнут. Опять теплица. Кафе «Молодежное», кинотеатр «Юность», эстрадный оркестр «Романтики»! Все под стеклом, неоновым ровным светом мигает. Вывеска, а не знамя над полками, по планете проносящимися. Попробуй в этом времяпрепровождении разберись в себе!
— Многие разбираются, и неплохо. Напрасно ты обобщаешь.
— Да я не про многих. Я про нее. Думаете, Марина за отца из расчета пошла? Любила она его по-своему, хотя не осознала себя, вот что. Час ее не подошел. А внутренне она человек. И меня поняла, наверняка поняла, что за поведением моим ненормальным, скоморошьим настоящее есть, поняла и то, что нельзя, и меня понять заставила. Как Татьяна, если хотите, если смеяться не будете.
— Не буду.
— Это хорошо. Вы хорошо говорили. Но не упростили мы ничего. Это неважно, что сейчас с девчонкой переспать легко… Смотря с какой опять-таки… Люди людьми остаются, и настоящих полно, хоть и циниками представляемся. А каждый надеется сквозь мишуру свет увидеть, не неоновый, настоящий. Да вы поглядите! Здорово-то как!
Мазин посмотрел туда, куда протянул руку Валерий, и увидел между деревьями взметнувшуюся над ущельем арку. Празднично яркие цвета солнечного спектра, неразъединимо переходя один в другой, перекинулись от хребта к хребту над речкой, лесом, снеговыми пиками, высоко и низко, так что вершина радуги трепетала там, где тянулись самолетные трассы, а основания упирались в видимые простым глазом расщелины.
— Хорошая примета, — сказал Мазин.
— Да вы смотрите, смотрите…
И Валерий улыбнулся Мазину, забыв на минуту тревоги, опасения, невеселые раздумья.
«После такой улыбки мне придется поверить всему, что он наговорил», — подумал Игорь Николаевич, дожидаясь, пока художник вернется на грешную землю. И он вернулся.
— Что вам еще хотелось узнать?
И тут Мазин задал вопрос, который возник внезапно не только для Валерия, но и для него самого.
— У тебя есть паспорт?
— Паспорт?
— Ну, пусть не паспорт, любой документ, подтверждающий личность.
— Мою? Вы что?..
Валерий, как под гипнозом, вытащил затрепанную книжечку.
— Это удостоверение. Правда, карточка отвалилась.
— Фотография мне не нужна. Спасибо. Мазин вернул удостоверение и рассмеялся.
— Я ж говорил, что радуга — хорошая примета. А теперь скажи, наконец, за что ты ударил пасечника?
Валерий, сбитый с толку «проверкой документов», не противился.
— Представьте мое состояние. Отец. Марина. Паташон. Все перепуталось. А тут является этот духобор с сивухой.
— Водку принес Демьяныч?
— Со стаканчиками.
— Зачем он пришел? С выпивкой. Он же непьющий.
— Не понимаю. Что-то потребовалось. Предложил выпить. Я отказался. Выпил уже немало и больше пить не хотел Пил я, чтобы заглушить себя, но напиваться, превращаться в скота не собирался. Но главное — не понравился он мне, вел себя нагло.
— Нагло? — удивился Мазин, не представляя деликатного пасечника в подобном состоянии.
— Не хамил, разумеется, открыто, но внутренне как-то нахальничал. Развалился, наследил ботинками.
— Какими ботинками?
— Отвратительными, грязными ботинками.
— Тебе не померещились они спьяну? — Мазин поднялся, отмахиваясь от комаров. — На мертвом Демьяныче были сапоги, резиновые сапоги, которые привез ему Борис Михайлович.
— Не мог же я так упиться! У меня память на детали.
— Оставим пока… Итак, старик раздражал тебя?
— Действовал на нервы. Вытащил бутылку, не сомневаясь, что я стану пить. Дальше — больше. Слушаю — и ушам не верю. Заговорил о Марине.
Валерий замолчал.
— Что именно?
— Что-то гнусное, хотя и елейно. Я ударил. Он лязгнул зубами — и… и все!
— Все так все. От удара по лицу он умереть не мог. Как дальше жить будем, Валерий?
— В пустыню удалюсь. Подобно древним отшельникам. Если в тюрьму не посадите.
— Боишься?
— Боюсь. Когда признаться решил, не боялся. А теперь неохота.
— Завтра и в пустыню не захочется?
— С пустыней безвыходно. Вы не в курсе, как там налажено снабжение акридами? На стройках союзного значения?
— Только для передовиков производства, — улыбнулся Мазин.
— Порядок. Рисовать их буду, поделятся А что такое акриды?
— Не знаю. Я еще многого не знаю, Валерий. Поэтому ты веди себя сдержанно. И в отношении Кушнарева тоже.
— Сами разберетесь? Отца-то уберегите. Сможете?
— Надеюсь. Ну, друг, досматривай радугу, а меня, я вижу, один молодой человек спешит о чем-то проинформировать.
И Мазин двинулся, обходя встречные деревья, туда, где, нетерпеливо перебирая ногами, стоял Коля Филипенко.
— Нашел отца?
— Нашел. Верит он вам, Игорь Николаевич.
— А ты веришь?
— Ага…
— Тогда ответь мне честно, очень честно, Николай. Что нашел отец возле разбитого самолета? Вы же там вместе были?
— Да ничего мы там, Игорь Николаевич, не нашли. И дядя Миша меня расспрашивал. Про ящик какой-то. Я ему сказал: кроме портсигара, ничего мы не нашли. Честное пионерское!
— Этого портсигара?
— Ага… Его папка дяде Мише отдал. Еще как пришли.
— У отца Калугин тоже спрашивал?
— Не… У меня. И предупредил: «О нашем разговоре, Николай, отцу не говори! Ему обидно будет».
Над ущельем блекла, размываясь синевой, радуга.
6. Полдень
 Вертолет не поднимался над скалами. Он избегал их, повторяя изгибы Красной речки, взбираясь навстречу ей выше и выше, подскакивал там, где она обрушивалась водопадами, хитрил, изворачивался вместе с нею, одолевая дикое, заросшее и заваленное скончавшими век деревьями ущелье. Вот путь преградил еще один лесистый откос. Но это уже не были островерхие, вонзающиеся в небо ели. Кто-то тяжелой рукой провел по верхушкам и пригнул ветки к земле. Красноватые кряжистые стволы пограничными столбами вытянулись по краю плато, отделяя лес от высокогорья, от зеленых и разноцветных альпийских лугов, искромсанных в низинах белыми языками снежников. Лететь стало вольнее, панорама расширилась, речка перестала быть стержнем, на который нанизывался стиснутый склонами пейзаж; она потерялась, го растекаясь по кочковатому болотцу, то исчезая под сырым, тяжелым снежным настом. Везде искрилась, сверкала на солнце влага, и Мазин жалел, что нельзя распахнуть запылившийся иллюминатор, как выставляют весной надоевшие, ненужные двойные рамы.
Поздно вечером он зашел к Волокову и, осведомившись, как идут дела, сказал:
— Возможно, я смогу помочь вам, Дмитрий Иванович. Но сначала нужно побывать на Красной речке.
— А преступник не сбежит, Игорь Николаевич?
— Нет. Скажи своим ребятам, пусть спят спокойно. Глебу — персональная благодарность. Он мне помог.
Потом Мазин вернулся домой и долго беседовал с Сосновским.
— Кажется, это единственное решение, Борис? Или я увлекся?
— Не сомневаюсь, что ты прав.
И все-таки почти до рассвета он не мог заснуть…
…Черная тень, бегущая впереди вертолета, уменьшилась Летчик набрал высоту, чтобы пройти над плоской вершиной одной из двух гор, взметнувшихся над долиной крутыми, осыпающимися, голыми склонами. Рядом с машиной появился распластавшийся в воздушном потоке орел. Он смотрел на шумливую, брюхатую, с вытянутым хвостом птицу подозрительно, недобро. Проводил немного и, накренившись, ушел, легко спланировав вниз, к озеру, которое, как и говорил Мазину Коля, синело среди льда оттаявшими полыньями. Тень от вертолета пересекла озеро и заметалась в теснине. Машина начала снижаться. С одной стороны Мазин увидел узенькую, рвущуюся на выступах ленточку водопада, с другой надвинулись коричневатые камни. Он понял, что это и есть Красные скалы.
Человек в гимнастерке ждал их внизу. На шее у него висел карабин. Признав старшим среди прилетевших Волокова, егерь подошел и потянул через голову ремень.
— Добровольно сдаюсь на решение правосудия, — произнес он заранее, видимо, заготовленную фразу и, оглянувшись на Мазина, добавил: — Вины за собой никакой не имею!
После этого Матвей положил карабин на землю.
— Вы Филипенко?
— Так точно, товарищ майор. Разрешите заявить, никакого золота тут и в помине не было. Самолет же вон там находится, а летчика прах, то есть что осталось, поблизости. Все как было, ничего не трогал.
— Посмотрим.
Они пошли цепочкой: рядом с Матвеем Олег, за ним следователь из прокуратуры, потом Волоков, и в хвосте капитан с Глебом. Валерий остался с Мазиным.
— Почему Паташона не арестовали?
— Не весь материал собран.
— Здесь-то что искать? И зачем вы меня притащили? Забил вам Олег мозги несуществующим золотом. Горючее зря сожгли!
— Милиция обязана проверять такие заявления.
— Я-то зачем?
— Ты мне сейчас поможешь. Борис, дай ему компас.
Сосновский вынул круглую коробочку. Валерий с недоумением покрутил ее перед глазами.
— Ты можешь определить направление север-северо-восток?
Художник подержал компас на ладони, дожидаясь, пока успокоится стрелка.
— Сюда?
— Сюда. Отправляйся к водопаду и отмеряй от подножья ровно сто тридцать семь шагов на север-северо-восток.
— Повинуюсь, потому что абсурдно.
Пока он вышагивал по дну теснины, Сосновский заметил:
— Если это не шаги, а метры, возможно расхождение.
— Вряд ли у него была рулетка.
— Эй! — закричал художник. — Что дальше? — Стой на месте.
Мазин подошел к Валерию, взял компас и направился к Красной скале. Оттуда он отсчитал пятьдесят четыре шага и вернулся почти на то же место, где ждал художник. Речка здесь срывалась с уступа небольшим водопадиком, под ним виднелось углубление, куда не проникал поток. В углублении зеленели мхом камни.
Мазин присел на корточки.
— Неужеливы думаете, что там, внизу, золото? — спросил Валерий присмиревшим, изменившимся тоном.
— Не уверен.
— Я спущусь, — предложил Валерий.
— Поосторожнее. Не поскользнись.
Художник двумя прыжками соскочил вниз и, прижавшись к откосу, протиснулся в углубление, не задев потока. Сверху были видны спина и затылок с растрепавшимися волосами.
— Есть!
Он повернулся в волнении, и вода хлестнула его по лицу.
— Что?!
— Ящик железный, вроде тех, в которых возят кинофильмы.
— Ты можешь вытащить его?
— Попробую.
Валерий дернул за ящик и отскочил, снова попав под водопад.
— Он легкий! Это не золото.
— Оставь ящик и вылезай. Вскрыть его может только следователь. Как положено по закону.
Валерий растирал по лицу брызги.
— Что ж произошло, Игорь Николаевич?
— Что понял, расскажу…
Они сидели на широком брезенте, который летчик вытащил из машины. Посредине Мазин положил испачканный носовой платок, портсигар и почерневшие, обожженные в печи подковки с ботинок.
— Передаю вам, Дмитрий Иванович, — сказал он.
— Вот еще, — буркнул Филипенко и бросил на брезент гильзу. — Пуля в пруду, Игорь Николаевич.
— Нож я передал вчера, — заключил перечень Сосновский.
Мазин отодвинул гильзу немного в сторону.
— Не знаю, как начать… В плане поиска или шире? Попробую, как получится. Завершилась трагедия, растянувшаяся на много лет. Случай облек ее в драматическую форму, так что разгадка непонятного выдвинулась на первый план. Но все тайны рано или поздно раскрываются, силлогизмы уступают место раздумьям, проблемы криминалистические сменяются нравственными, человеческими… Впрочем, я собираюсь держаться в рамках фактов.
Был паренек. Талантливый паренек. Он еще не знал, что талантлив. Так случается нередко, особенно в молодости. Люди склонны переоценивать свои возможности, но бывает и наоборот, их не замечают. Он совершил ошибку и поплатился за нее строго. Закон для всех одинаков, однако сами мы разные, и время течет для нас по-разному, особенно за решеткой. В семнадцать лет оно может показаться бесконечным. Три года для заматерелого преступника — семечки, Михаилу Калугину (я буду называть его так) они представлялись вечностью.
Он пытался бежать, и срок увеличился. Да, Валерий, Михаила Калугина поймали. — Мазин повернулся к художнику, собравшемуся возразить. — Кушнарев нe обманул меня. И тебе отец сказал правду. Но Кушнарев сказал о первом побеге, а Михаил Михайлович имел в виду второй. Он спешил и говорил только о главном.
Срок увеличился… Теперь ему и конца не было. Парня охватило отчаяние. Поставьте себя на его место — и вы поймете! Я не оправдываю Калугина. Он совершил уже две ошибки, и обе, с точки зрения закона, были преступлениями. Закон действовал неотвратимо, но справедливо. Однако ему, человеку, предельно эмоциональному, положение казалось безнадежным…
И он совершает третью ошибку. Ошибку, за которую придется поплатиться жизнью… Не скоро. Впереди еще четверть века. А пока возникает мысль снова бежать. И тут, к счастью, как показалось Михаилу, и к большой беде на самом деле, находится человек, который берется помочь. У этого человека, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже много имен, но самое популярное из них Паташон.
Безобидная кличка… Не Акула, не Удав. Шутовская кличка. Представляешь мелкорослого человечка, склонного к юмору, любителя посмешить. Тогда еще помнили этого забавника из «немого кино». Но мне приходилось замечать, что из таких невзрачных шутов вырастают самые коварные и злобные «удавы» и «акулы», не по кличке, а по сущности. Может быть, на них сказывается и путь в «высшие круги» преступного мира.
С чего обычно начинает «акула»? Он первый парень в своем квартале, его боятся, его девушки любят, он щедр, не скопидомничает, по-своему великодушен. Нарушает закон сначала из озорства, из безнаказанности, от небольшого ума, по нашему недосмотру, а потом уж обнаруживает, что забрался далеко, что путь назад труден. К трудностям же не приучен. И появляется злоба. Увы, не на себя, а на окружающих, на жизнь, которая «подвела». Ведь начиналось все гак хорошо, весело, а что вышло? И вот затерялся, растворился бесшабашный парень. Вместо него «акула». «Акула» не озорует на улице. Он там дела делает. И подбирает нужный человеческий материал. Из младших. Которыми можно помыкать, затягивать и посмеиваться: «Развяжи-ка мне ботинки, Паташон. Постой на стреме, Паташон. Пролезь в это окошко, тебе, худому, удобно!»
Почему же Паташон расшнуровывает ботинки, бегает за папиросами и в конце концов лезет в окошко? Ему выгодно.
Мальчик не тянется к ученью, зато любит поскоморошничать, скорчить рожу, передразнить, подметив чужую слабость. Его выходкам смеются, но с ним не дружат. При случае он и по шее получает — это неопасно, мальчишка хил, побаивается дать сдачи. Он одинок среди сверстников. Прибавьте, что и дома не сладко: скорее всего безотцовщина, малокультурная, вечно занятая, раздражительная мать.
И вдруг все меняется. Замухрышку больше нельзя трогать. Потому что дело не ограничится ответной затрещиной. Грозят неприятности покрупнее. Он сам поражен. Те, кто вчера издевался, сегодня боятся. Не его, конечно. «Удава» или «акулу». Но и его. Ему уступлена частица могущества. И он увидел, что бойкие классные заводилы не меньшие трусы, чем был он сам. Помимо прочего, это открытие не способствует правильному восприятию жизни. Создается обманчивая, но правдоподобная модель. Сила в руках сильного. Это западает. На всю жизнь. А так как физической силы Паташону не хватает, он оттачивает изворотливость. Ему нравится не прощать обиды, мстить тем, кто считает себя сильным. В нем нет великодушия. Он готов при случае унизиться, но он ничего не забывает. Это опасный преступник.
Я думаю, что именно такой человек встретился в колонии с Калугиным. Он там не в первый раз, он постиг тюремную науку, и сроки его особенно не пугают. Далеко остался школьник-замухрышка. Паташон — вор в законе, его обслуживают, ему угождают. Его боятся. Теперь уже его самого. И не без оснований. Хотя внешне он не так страшен. И комплекция не та, и шутки-прибаутки не забыты. Некоторые недалекие работники даже считают Паташона не худшим заключенным. Он не бузит, не режется бритвой, не устраивает демонстраций. Не работает, правда, но на то он и вор в законе. Однако отбывать срок ему больше не хочется. Началась война, армия отступает, ему мерещится анархия, жестокая вольница, безначалие, мерещится «его время». Так соединяются несовместимые интересы не только разных, но полярно противоположных людей. Возникает кратковременный трагический союз. Им «везет».
О подробностях побега приходится догадываться. Однако детали несущественны. Можно предположить, что Паташон, у которого были связи в уголовной среде в Закавказье, выдвинул план пробираться на юг через горы. Край в этой стороне безлюдный, а перевалы доступны. Чем соблазнился Калугин, не знаю. Скорее всего Паташон пообещал достать ему документы, без которых невозможно было попасть в армию, а именно на фронте, как показало будущее, стремился смыть вину Михаил Калугин.
Теперь о самолете. Летчик Константин Калугин выполнял важное задание. Ему был доверен ответственный груз. Но не золото.
Олег вскочил.
— Это тоже предположение?
— Нет, это факт, Олег. Груз, который вез Константин Калугин, рядом с вами. Ящик находится в нише под водопадом.
С волнением металлическую коробку подняли и поставили на брезент. Открыть ее удалось не без труда. Всем хотелось поскорее взглянуть на содержимое. Наконец Волоков откинул крышку.
— Бумаги. — И, отделив клочок слипшегося, почти уничтоженного временем и природой листа, добавил: — Разобрать, что это, на глаз невозможно.
— Может быть, техническая документация эвакуированного предприятия? Или штабные документы? Чертежи оборонного объекта или военной продукции? — предположил Сосновский.
— Я думал о чем-то подобном, — сказал Мазин. — Если золото и возили в Иран, о чем мне неизвестно, то не из прифронтовой зоны и, вероятно, не таким образом. Не знаю, как возникла эта легенда, но не в этом дело.
Олег выглядел потесненным с позиции, однако не разбитым.
— Кто же, по-вашему, спрятал ящик? Откуда вы узнали о тайнике?
Мазин подвинул в его сторону портсигар.
— Бумаги спрятал Константин Калугин. Теперь ясно, что он не разбился вместе с машиной и выпрыгнул с парашютом. Он понимал, что металлический закупоренный ящик не будет уничтожен, что он может уцелеть. И летчик, спасая груз, извлек его из-под обломков и спрятал в надежном месте. Он сделал все, что мог. Унести ящик с собой было нельзя. Хотя в нем и не золото, он достаточно тяжел для путешествия но тропам и перевалам. Укрыв груз, Константин Калугин нацарапал на портсигаре координаты. Почему не на бумаге? Наверно, побоялся довериться ненадежному материалу. Ведь предстоял путь через реки, снег, и мало ли что еще ждало его!
— Как попал к вам портсигар? — спросил Олег.
— Об этом я скажу немного погодя. Вы видели его? Мне больно разочаровывать вас, Олег, но летчик Калугин не был вашим отцом.
— Не считаю вопрос доказанным. Имя женщины…
— Клавдия, а не Анастасия.
— Женщина, которая спасла меня, могла спутать имя матери!
— Но ваша мать умерла и похоронена в деревне, где вы остались. А жена летчика Калугина прожила еще двадцать пять лет.
Мазин смотрел теперь не на Олега, он смотрел на Валерия. И тот не мот оторвать глаз от подполковника.
— Зачем вы смотрели мое удостоверение? — спросил он с трудом.
— Ты уже догадался. Мне нужно было узнать твое отчество. Что ты знаешь об отце?
— Я считал, что он бросил маму.
— Нет. Его убил Паташон. Теперь я в этом не сомневаюсь. Константин Калугин был тем человеком, в гибели которого признался тебе Михаил Михайлович. Говорю «признался», потому что и себя считал он виновником этой смерти. Для матери же он пропал без вести, а возможно и хуже, дезертировал, бежал. Не осуждай ее за слабость, Валерии. Молодая женщина с ребенком осталась одна, тянутся нескончаемо трудные военные дни. И вдруг случайно (так ей кажется) Клавдия Федоровна знакомится с демобилизованным солдатом, студентом. Он учится в Москве, собирается стать художником, в Казань приехал на короткое время, однако заинтересовался ею, пишет, помогает. Какая женщина останется равнодушной к таким знакам внимания, особенно когда — будем откровенны — мужчин стало гораздо меньше!
Между тем молодой художник предлагает выйти замуж. Чем еще можно объяснить его поведение, кроме настоящей любви? И любовь находит отклик. Ведь пять лет прошло, как исчез Константин Калугин. Война кончилась, надежды на его возвращение угасли… Мы все верим в людей, нам больно обманываться в них, но требовать от Клавдии Федоровны безграничной верности памяти мужа, требовать отречения от жизни ради памяти было бы несправедливо. Особенно потому, что ей и в голову не могло прийти, что привело к ней Михаила. Еще не Калугина…
На каждый поступок обычно влияет большой комплекс соображений. Думаю, очень многое повлияло и на решение Михаила Михайловича. Но уверен, в основу легла потребность загладить вину. «Какую?» — спросите вы, и особенно ты, Валерий. Я, как и ты, убежден: будущий художник Калугин не убивал летчика Калугина. Верю и его словам и во всю его остальную, прожитую с того дня, жизнь. Однако существует еще криминалистическая наука, и я надеюсь, найдутся доказательства, и неопровержимые.
Вина, которую испытывал Михаил Михайлович, была глубже, чем сознание того, что он не уберег летчика, стал невольным пособником его гибели. Мне кажется, что случай этот подвел итог, завершил цепь ошибок, начавшихся с того ужасного дня, когда согласился он охранять приятелей-преступников, грабивших киоск или ларек. И тогда, когда пришло впервые решение бежать, был он виноват. И когда пытался броситься под поезд, и когда бежал, наконец, «удачно».
Поступки эти, конечно, разные, и рассматривать их следует по-разному, но было в них и общее: с каждой ошибкой росла вина перед жизнью, перед людьми, перед самим собой, суживалась дорожка, впереди становилось темнее, мрачнее. И тут вспышка — смерть летчика! Убийство…
Зачем убил его Паташон? Чтобы заполучить пистолет или избавиться от лишнего свидетеля, на которого неожиданно наткнулись в пути? Во всяком случае, не для того, чтобы завладеть грузом. Он был спрятан до встречи. О грузе беглецы и не подозревали… Но убийство наверняка было подлым, зверским. И оно ошеломило парня. Наконец-то он понял, куда ведут неверные тропки.
Не знаю, как расстались они с Паташоном. Его последующие похождения еще придется проследить, но ясно, что пути его с Михаилом разошлись круто. К большому сожалению, не навсегда.
О дальнейших событиях судить легче. Испытавший глубокое потрясение юноша добрался до фронта и не щадил там жизни. На гимнастерке появились орденские ленточки. Он пролил кровь, он имел основания считать, что расплатился сполна за небольшое, в сущности, преступление, совершенное по мальчишескому недомыслию. Но прийти и рассказать правду он не решился.
Внешней необходимости в этом как будто и не было. После бесконечных неудач пришла полоса везенья. А когда начинает везти, то везет во всем. Даже там, где сначала удачи не замечаешь. Михаил Михайлович жил и воевал под доставшейся по случаю фамилией. Неблагозвучной фамилией. Вы знаете ее, Валерий?
— Да.
— Марина Викторовна тоже знала. Эта фамилия сохранилась в документах. Нарочно фамилию Дураков не выберешь. И не только по эстетическим соображениям. Она режет слух, привлекает внимание, запоминается. Значит, выбора не было, пришлось воспользоваться тем, что подворачивалось под руку. Как это произошло, пока неизвестно, но каким образом Михаил Михайлович избавился m неприятной, постоянно грозящей разоблачением фамилии, я знаю, как знали и в его семье, не подозревая об истинной причине перемены.
Многие ли мужчины принимают фамилии своих жен? Единицы. Если кто и решится, то не от хорошей жизни. Нужны убедительные основания, чтобы такая замена показалась окружающим оправданной, не вызвала подозрений. Но что может быть естественнее, чем желание молодого художника сменить фамилию Дураков? Каково читать на афише: «Выставка Дуракова»? Какой повод для шуток! А люди искусства самолюбивы. И жена это понимает. Правда, фамилия Калугин принадлежит первому мужу, но зато и сыну! И это почти усыновление.
Так появляется художник Калугин. Везенья здесь больше, чем расчета. Да и расчет не шкурническим. Вина перед погибшим летчиком, перед его сыном, стремление расплатиться за ошибки, начать новую жизнь, в семье, по-настоящему — все это просматривается очевидно.
Мне кажется, я понимаю этого человека и его поступки. Даже то, что, привязавшись к тебе, Валерий, он не пошел на формальное усыновление. Думаю, что он не считал себя вправе лишить тебя отца, вычеркнуть его из твоей жизни. Единственный в семье, он знал правду, знал, что Константин Калугин — жертва обстоятельств и злой воли. И он не мог обокрасть убитого и оболганного человека. Полагаю не без оснований, что Михаил Михайлович всегда собирался раскрыть тебе правду.
Ложь давила на него, отравляла радости и успехи. Он мирился с ней в надежде, что придет час, когда он восстановит справедливость, сможет довериться тебе, Валерий. Но как это было трудно! Как воспримет правду Клавдия Федоровна? Поверит ли до конца? Не заподозрит ли в убийстве Константина? А сам ты, Валерий?
Калугин бесповоротно осудил первую часть своей жизни, но во второй ему было чем гордиться. Успех он завоевал трудом и талантом, завоевал заслуженно. В семье он поступал так, как казалось ему единственно правильным. Годами складывалась уверенность, обретался смысл существования И все это нужно было отдать на суд тебе, Валерий, человеку незрелому, не пережившему столько, сколько пережил он, многого не понимающему. Однако иного пути не было. Калугин уклонился от суда государственного, но не мог полностью довериться и суду собственному. Лишь ты имел в его глазах право на суд. Не юридическое, но по-своему неоспоримое. Потому что ты был сыном Константина Калугина.
Однако вернемся к фактам. Не зря считают, что мир тесен. Работая над картиной о летчиках (не случайно, наверно!), Калугин познакомился с Олегом Перевозчиковым, который разыскивал отца, погибшего якобы при известных нам обстоятельствах. Еще раз уточняю, Олег! Вы не сказали о золоте?
— Нет.
— Это в вашем характере, но не думаю, что это его лучшая черта.
Олег провел пальцами по бородке.
— На первый взгляд Михаилу Михайловичу снова повезло. Судите сами! Видимо, он рассуждал так: Олег заблуждается, пусть же он найдет самолет. Правда о летчике Калугине вскроется, позорное пятно будет смыто. Валерий узнает об отце все… кроме того, что отчим был недобрым свидетелем его последних минут… Таким образом, откроется правда только необходимая. По счету будет выплачено, тайна же умрет на этот раз навсегда. И Михаил Михайлович после колебаний, не сразу, а письмом приглашает Олега в Дагезан, выдвинув условие…
— Довольно хитро придумано, — сказал Олег.
— Нет. Калугин не был хитрецом. Скорее он был человеком слабовольным, склонным к решениям, которые напрашивались сами, лежали на поверхности. Он постоянно опасался противопоставить себя обстоятельствам. Даже когда бежал… Его тяготила ложь, но он предпочитал оставаться на грани полуправды. Полуправда и привела его к гибели. Но не вам упрекать его, Олег! Вы тоже скрыли то, что считали истиной! А две полуправды — это уже ложь, та ложь, которая и определила ход трагических обстоятельств.
Олег подергал бороду, но возражать не стал.
— Калугин старается, чтобы вы не тратили время впустую. Когда выяснилось, что проникнуть в теснину затруднительно, он посылает сюда Матвея — верное доказательство, что о грузе он не подозревал. Зато вас, Олег, это взволновало сверх меры.
— Мне важно было найти золото и вернуть его государству.
— Знаю. Поэтому вы и решились с большим опозданием довериться Калугину. Как он воспринял ваше сообщение?
— Он был поражен.
— Наверно, сообщение ваше не только изумило, но и обрадовало Калугина. Помогая вам, он не предполагал, что делает дело уже не личное, а государственное. Он поверил вам и одновременно поверил в то, что Матвей не видел никакого золота. Вам он поверил, потому что знал, что летчик не погиб в машине, а спустился с парашютом и успел побывать на месте катастрофы. Следовательно, он мог спрятать груз. Где? Ключ к разгадке лежал в кармане Калугина. Об этом я узнал от Коли.
Егерь подвинулся поближе.
— Это вы про портсигар, Игорь Николаевич?
— Да. Когда ты отдал его Калугину?
— Сразу, Игорь Николаевич, как вернулись мы с Колькой, я сперва к Михал Михалычу зашел. Говорю, так и так, лавина, значит, мостом тут легла, и пройти можно, хоть и трудно, а там самолет, здесь, значит, и скелет лежит, а в кармане у него, значит, где карман был, — эта штука. Я его подраил малость.
— Ты прочитал надпись в портсигаре?
— А то как же! Клава, значит, ему подарила. И еще буквы там. Я подумал, летчицкие ориентиры, не подумал, что здесь…
— Ясно. Что сказал тебе Михаил Михайлович?
— Говорит, оставь, Матвей, мне покаместь, потому что парень этот с бородой тут ищет, и в газету писать хочет, и про тебя, про меня, значит, напишет, но потом, а пока все не нашли, не нужно говорить, чтоб не помешать сбору материала, что ли…
— И ты больше никому о портсигаре не сказал?
— После нет.
— Разрешите спросить мне, — вмешался Олег. — Когда Калугин сообщил тебе о золоте?
— В жизни не говорил! Не сойти мне с места!
Мазин остановил зарождавшийся спор:
— Успокойтесь! Калугин спрашивал о находке у Николая, который ходил сюда вместе с отцом. Он ведь не говорил вам, Олег, что беседовал с Матвеем. Он сказал только, что Филипенко золота не брал. Ведь Матвей вряд ли отдал бы портсигар, если бы понимал, что значат нацарапанные там цифры.
— Это наивно! Не понимаю, зачем вам так упорно выгораживать Филипенко? Предположим, что отдал портсигар. Но с мальчиком-то разговор был! Или вы думаете, что сын ничего…
— Ерунда, Олег! — нетерпеливо поднялся Валерий. — Оставь Матвея в покое. И так намудрил. Протри очки и успокойся.
— Не горячись, Валерий, — предостерег Мазин.
— Извините, Игорь Николаевич! Спасибо, что вы этот клубок распутали. Мне трудней всех… Не умещается, что рядом мой отец лежит. Страшно встать и подойти. Но не сомневаюсь, что мысли и жизнь Михаила Михайловича такие были, как вы рассказали. Все это я видел, чувствовал, но не знал… Вы ж понимаете… Он тоже мне отцом был. И я от него не отрекусь. Но почему вы про того, кто дважды отца убил, молчите? У вас система, доказательства… я понимаю. Но мерзавец ускользнуть может!
— Нет, Валерий. Он умер.
— Умер?! Я видел его, когда садился в вертолет.
— Ты видел Кушнарева, а не Паташона. Это разные люди. Так и сказал тебе Михаил Михайлович. Паташон же — Демьяныч. Остальные его имена уточнит Дмитрий Иванович.
— Но его убили. Неужели я?..
— Нет. Однако можешь считать, что ты с ним расквитался. Больше того, удар этот, я полагаю, спас твою собственную жизнь. Постараюсь аргументировать свою точку зрения. Олег пояснил, как Михаил Михайлович узнал о спрятанном грузе. Но как узнал о нем Паташон?
Сам он сказал мне, что они встретились на базаре в Тригорске. Художник Калугин и… пасечник Демьяныч. Между прочим, самые отчаянные, бесшабашные преступники старательно пекутся к старости о своем здоровье. Может быть, они понимают, что это, собственно, чудо — то, что они дожили до старости, и стремятся продлить это чудо по возможности. Паташон же вряд ли отличался бесшабашностью, да и здоровьем похвалиться, видимо, не мог. Поэтому его обращение к природе не так уж загадочно. Объяснима и склонность к доморощенной философии. По-своему и он пытался осмыслить прожитое, хотя и не увидел в жизни ничего, кроме «мудрой беспощадности», как он мне доверительно сообщил. Так или иначе, старость пришла, силы дряхлели; возможно, ему казалось, что и в самом деле с мирской суетой покончено, завозился с пчелками, не без пользы — и доход, и медок целебный…
Обманчивая тишина! Такой человек не способен измениться, даже если б и захотел. Без малого полвека преступной жизни — не ошибка молодости. Да и вряд ли Паташон сожалел о прошлом. Он не стал другим, он только растерял зубы. На беду, не все…
Калугин, очевидно, не сразу узнал Паташона. Это не удивительно. Не виделись они десятилетия, а знали друг друга недолго, да и выглядели в то время по-другому. У «Демьяныча» же память оказалась лучше. Сказалась волчья закалка, вечно в бегах, раздумывать некогда, и врага и своего узнавать с ходу нужно, а то головы не сносишь! Однако и он сомневался. И если б Калугин по широте характера не пригласил пасечника в Дагезан, возможно б, и обошлось.
Но возникли контакты, появилось время присмотреться. И Паташон убедился — он! Что же делать? Умнее было бы отойти от греха подальше. Нет! Не та личность. Жажда поживиться, и не только поживиться, покуражиться, испытать садистское наслаждение, издеваясь над беспомощным, попавшим в капкан человеком, — вот что подмывало Паташона. И тактику он выбрал подлую: объявляться не открыто, а постепенно, намеками: я или не я, сам догадайся, а покоя не будет, и пощады тоже не будет.
Калугин, как ты помнишь, Валерий, мрачнел, но еще надеялся, что свойственно людям в самом безысходном положении. И тут — золото! Понимаете, что это слово для Паташона значило? Это не деньги, бумажки, которые он шантажом выудить собирался. Это сам смысл его жизни, символ, если хотите. Так определились пружины действия. Помножьте золотой мираж, вспыхнувший ярко, на злобу, ненависть к Калугину, которому. с точки зрения Паташона, в жизни несправедливо «повезло», на страх, возникавший по мере того, как приоткрывалась история гибели летчика, представьте психологию и опыт профессионального преступника, и вам станут понятны и решимость этого хилого на вид старичка, и его неожиданная энергия, и, скажем прямо, недюжинная смекалка, которая долго сбивала меня с толку. Впрочем, на каждый ловкий ход приходилась и обязательная ошибка, пусть малозаметная, но неизбежная. Это закономерность.
Как узнал он о золоте? Я не смогу ответить на этот вопрос без вашей помощи, Олег.
Что-то переменилось в Олеге. Он не воспринял слова Мазина как очередную нападку.
— Не исключено, что он подслушал мой разговор с Михаилом Михайловичем. Помните, мы ехали вместе в машине, когда я узнал от Гали, что самолет найден? Я с ней зашел к Матвею.
— Было, — кивнул егерь.
— От тебя я направился прямо к Калугину. Он сам открыл мне. Я сказал, что нужно поговорить по важному делу. Он предложил выслушать меня во дворе.
— Не пригласил в дом? — уточнил Мазин.
— Да. Теперь понятно. У дома был привязан к дереву ишак. И Калугин говорил тихо. А я волновался. Кажется, мы стояли недалеко от открытого окна. Но около гаража.
— В гараже есть внутренний выход, — сказал Сосновский.
— Да, есть. Увидев меня, Паташон мог спуститься в гараж и подслушивать, стоя у окна. Но как я мог это предположить?
— Предположить было трудно, — согласился Мазин. — Хорошо, что этот факт прояснился. Спасибо, Олег. В последние дни Паташон наверняка следил за каждым шагом Калугина. Не спускал с него глаз и одновременно поспевал за всеми, кто так или иначе соприкасался с погибшим самолетом. Не исключая тебя, Матвей.
— Виноват, Игорь Николаевич.
— Договаривай, что не успел. Повинную голову меч не сечет.
— Перехватил он меня, гад, когда я с Красной речки вернулся. Иду, значит, к Михал Михалычу, а он, зараза ласковая, на ишаке трусит. «Здравствуй, Матвей, — гундосит. — Откуда идешь, куда?» Короче, растрепал я ему и портсигар показал. Щупал он его, щупал, отдал.
— Это произошло до разговора с Калугиным?
— Ну да. А потом я, дурак, еще хуже сморозил. Зашел к нему и ляпнул: «Ты, Демьяныч, за портсигар помалкивай покуда. Михал Михалычу я его передал».
— Важная деталь, Матвей, — сказал Мазин удовлетворенно. — Новая для меня. Итак, Паташон в результате слежки собрал обширную информацию, и час от часу она приобретала для него характер угрожающий. Провел он почти всех. Мы с Борисом Михайловичем, увы, не исключение. Сидя в нашем домике, он узнал, что Калугин собирается говорить с Сосновским, с юристом, и, хотя разговор не состоялся, медлить невозможно, Калугин решился…
Но и Паташон решился. Прогремел выстрел. Дерзко, неожиданно и, к сожалению, удачно. Подробности не так важны. Возможно, поднимаясь в мансарду, он и не спланировал все в деталях. Возможно, пытался запугать художника, вынудить его отказаться от признания… Наверно, Михаил Михайлович остался тверд, наверно, не сообразил, что гром покроет грохот выстрела, да и не верилось ему, наверно, в такое, много лет прожил он в другом, человеческом мире…
Обманчивая удача пришла к Паташону. Выскользнул из гостиной и вернулся он незаметно. Потом по желанию Марины Викторовны отправился в мастерскую, «обнаружил» мертвого и позвал нас с Сосновским. Когда подозрение пало фактически на каждого, Демьяныч выглядел светлее других. Но преступник неизбежно находится в состоянии опасения. Он склонен переоценивать, преувеличивать опасность и стремится всеми средствами увеличить, расширить подлинную или мнимую безопасность.
И тут-то перед Паташоном возникла уникальная возможность заполучить первосортное психологическое алиби. Он слышит предложение Бориса Михайловича объявить, что Калугин жив, и предпринимает ход, я бы сказал незаурядный. «Убить» художника вторично! Кто станет подозревать человека, знавшего, что Калугин мертв? Паташон воспользовался ножом, который считал твоим, Валерий. Это новая возможность отвести подозрения, расширить зону безопасности! Как же раздобыл он нож?
— Кажется, я сообразил, — сказал журналист и просунул палец в дырку в кармане джинсов. — Валерий открыл бутылку и вернул нож, а я сунул его не в специальный узкий карманчик, а в большой, дырявый. В суматохе, после известия о ранении хозяина, я не заметил, как нож выскользнул и упал на медвежью шкуру, на которой стоял стул. При слабом свете свечей подобрать его незаметно не составляло труда.
Мазин кивнул.
— Верно. Мне следовало догадаться об этом. Нужно было получше рассмотреть вашу одежду, Олег, и вспомнить, кто где сидел. Паташон снова поднялся в мансарду, пока мы с Борисом Михайловичем замешкались на почте. Ход этот ввел меня в заблуждение, хотя что-то и чувствовалось в нем нарочитое, искусственное, фальшивое. Но ощущение было смутным. Усиливалось постепенно. До самой смерти Демьяныч маячил у меня на втором плане. Смерть его, как ни парадоксально, перетряхнув хаос фактов, сгруппировала их в систему. Казалось бы, именно смерть должна была стать главным алиби для безобидного пасечника, твердо вписав его в графу «жертва», а не «преступник», но еще до смерти Паташон накопил столько доказательств невинности и непричастности к событиям, что гибель «Демьяныча» выглядела абсолютно необъяснимой, если только не поставить под сомнение все эти «доказательства».
И я пошел назад. Начал анализировать не улики, а алиби и прочие сопутствующие обстоятельства. Не сразу и не без поражений пробирался я через факты. Так было, например, со следами на снегу. Первое впечатление — пасечник бежал, спешил. Эта версия вела в тупик. Выручил меня ты, Валерий. Ты вспомнил, что он приходил не в сапогах…
— Но кто ж убил его, Игорь Николаевич?
— Сейчас разберемся. Сначала выясним, как он очутился в реке, потому что Глеб прав — Паташон попал в воду уже мертвым. Когда ты сказал, что Демьяныч пришел в ботинках, я вспомнил его слова о сапогах. Он говорил, что сапоги оказались велики и он собирается уступить их Матвею.
— Игорь Николаевич! — прервал Филипенко.
— Погоди, Матвей. Дойдет очередь. Картина резко изменилась. Следы не принадлежали больше маленькому бегущему человечку. Они были оставлены высоким, идущим обычным шагом человеком, который нес нечто тяжелое, отчего и вдавливал снег носками.
— Точно, Игорь Николаевич, но не я ж…
— Не ты. А чьи это подковы? — Мазин показал па обгоревшие кусочки металла на брезенте. — Откуда они?
— В летней печи нашли?
— Там. Сын твой подсказал. Когда тебе пришло в голову сменить обувь?
— Да как донес его до речки, обернулся, а след остался, как пропечатанный. Ну, думаю, что делать? Заметать, все равно заметно. Тут меня и ударило: никто ж не видал, как он мне сапоги эти проклятые приволок. А на нем видали. Расшнуровал я ботинки, а сапоги вместо них натянул.
— Без портянок?
— Не до портянок было.
— Как же тебе удалось надеть ботинки на два номера меньшие?
— Да на кой они ляд мне сдались!
Мазин расхохотался.
— Это меня и убедило. Ты ж единственный человек. который мог уйти вброд босиком по ледяной воде. Валерий бы не решился.
— Я привычный.
— Но ты замечаешь, Матвей, что факты не в твою пользу?
— А то нет! Потому и сбежал. Ну да вы же разобрались.
— Еще не совсем. Что ты сделал, когда вошел в хижину?
— Трубу открыл.
— Отлично! — обрадовался Мазин.
— На заслонке его отпечатки, — подтвердил Глеб.
— Что это значит? — спросил Валерий.
— Это значит, что Паташон умер от угара; и когда Филипенко, войдя в хижину, увидел его мертвым, oн открыл заслонку.
— Точно, Игорь Николаевич. Толкнул двери, а оттуда угаром бьет. На полу гад этот скорчился, синяк под глазом. Тронул я его, мертвый по первому сорту. «Что за беда! — думаю. — Ведь если кто видал, как я шел к хате, а луна какая стояла, вы ж помните, опять на мне сойдется. И пуля, и карабин, и тут еще — докажи, что не верблюд, попробуй!» Аж заплакать захотелось. Но слезами-то горю не поможешь, сами понимаете. Один выход — спровадить мертвяка в речку. Никто и не поймет, куда девался. Высунулся я, огляделся, вроде тихо. Взвалил его на плечи — мать родная! След остается. Ну, про след сказал я. Кинул его в воду и побрел с ботинками. Думал, унесет, а его, заразу, прибило.
— Ботинки принес — и в печку?
— Куда ж еще? Подбросишь где — найдутся. Закапывать охоты не было, а печка топилась как раз.
— Но кто задвинул заслонку? — напомнил Валерий.
— Сейчас поймешь. Зачем, Матвей, ты пришел в хижину?
— Валерия повидать хотел.
— После разговора с «Демьянычем»?
— Ага. Когда он мне сапоги принес. Не понял я его тогда, что он за намеки делал. Смутно говорил. И пугал и обещал что-то вроде бы.
— Я объясню, Матвей, чего он добивался. И как нашел собственную смерть… Я говорил, что смерть пасечника стала переломным моментом в моем поиске. До него внимание мое было сосредоточено почти целиком на личности Калугина. Узнать удалось немало и от Марины Викторовны, и от Кушнарева. Все больше я убеждался, что корни конфликта затерялись в прошлом, что находка самолета всколыхнула какие-то неизвестные силы, действующие беспощадно и динамично. Гильза, которую вы видите, свидетельствовала особенно наглядно, что сила эта не укрощена. И вдруг она обрушивается на безобидного пасечника!
Старика убили… Вначале я подумал так. Но зачем, если он ни в чем не замешан? А не замешан ли? Он принес в хижину бутылку водки, хотя сам не пил. Принес ночью. Очевидно, для срочных, не совсем обычных, требующих «смазки» затруднительных переговоров. Это не похоже на поведение человека незаинтересованного, незамешанного. Судя по всему, шел он к Валерию, а улики падают на Матвея. Да еще какие! Насколько голубым казался пасечник, настолько мрачно выглядел Филипенко. Настолько мрачно, что возникали сомнения. Что за всеобщее злодейство! Убить Калугина, покушаться на меня, утопить пасечника! Между тем в истории с пулей Матвей показался мне не хладнокровным и изощренным, а прямолинейным и наивным.
Итак, я двинулся назад. В этой ретроспекции было одно, самое неприятное для меня звено: я не мог понять, с какой целью в меня стреляли. Мы с Борисом Михайловичем поддались соблазну смелой, но не украшающей нас гипотезы: что-то я проморгал, а противник считает, что, наоборот, он у меня в руках. Гипотеза оправдалась. Но как? Противник действительно гонялся за решающей уликой, но не за мной, хотя предмет его погони побывал и в моих руках, у меня под носом. Простите каламбур, не в переносном, а в самом буквальном смысле.
Вот платок, которым я вытирал нос и морщился от непривычного запаха. В воде и на морозе запах смягчился, почти исчез, но происхождение его очевидно: Михаил Михайлович привык вытирать платком краску, заменял тряпку, если не находил ее под рукой. Мы же с тобой, Валерий, едва не лишились из-за него жизни. Когда я это понял, я понял все.
Ты не мог вспомнить, как попал к тебе платок. Предположил, что захватил его в мастерской. Это неверно. Из мастерской платок вынес Паташон, не предполагая, что он станет причиной того страха и даже паники, которая сопровождала преступника все оставшиеся часы жизни и толкала на новые преступления и ошибки. А в конечном счете привела к гибели.
Мазин развернул платок.
— Вы видите следы краски, пятна сажи и не так заметные, но несомненные маслянистые полосы. Это ружейная смазка. Паташон затирал платком отпечатки пальцев. Ружьем Калугин, как известно, пользовался редко, и оно было обильно смазано. Протерев после выстрела ствол и приклад, убийца сунул платок в карман куртки. Спустившись, он или позабыл о платке, или вполне резонно предположил, что по карманам лазать не будут. Так или иначе Паташон повесил куртку в прихожей, но упустил маленькую деталь.
— Я понял, Игорь Николаевич! — прервал Валерий. — Его куртка висела рядом с моей. Куртки-то как две капли воды. Я полез за платком, взял его и позабыл…
— Но ты наверняка доставал его! А Паташон это видел. Нетрудно представить его состояние. Ему известно, что отец говорил с Валерием. Что он успел сказать? Валерий вытащил из его кармана важнейшую улику. Разве такое может быть случайным? Наконец, Валерий не скрывал от пасечника свою неприязнь. Инстинктивную. Но откуда ему было знать истоки неприязни? Правда, Валерий медлит, не действует. Но что на уме у этого неуравновешенного парня? И как поведет он себя, когда появится милиция? Нет, милиции дожидаться нельзя. Нужно действовать! Новое убийство задумано тоже хитро, однако и удачные замыслы не всегда осуществляются, как по маслу, а тем более два раза подряд. Решено было застрелить Валерия из карабина Филипенко, оставить на месте выстрела гильзу и отвести опасность еще дальше, запутать нового человека. Я сказал, застрелить Валерия, и в этом-то и заключалась разгадка непонятного. Паташон охотился не за мной! Хижина, где ты обычно околачивался, и ослабевшее стариковское зрение — вот что определило ошибку.
Матвей, разумеется, был смущен. Сначала старик завез ему карабин с невиннейшим видом. А это у него получалось, старость и хилость Паташон использовал на хорошем актерском уровне. Потом Коля прибегает: стреляли! Нервы у тебя сдали. Матвей. Начудил с пулей.
— Точно, Игорь Николаевич, — согласился егерь.
— Но сын тебе и тут помог. В уничижительной для меня форме, правда. Николай заявил ответственно: «Мой папка не промазал бы!»
— Да навряд, Игорь Николаевич.
Все засмеялись.
— Ишь, гад, какую он сеть на меня запустил! Он, значит, убивать будет, а меня в тюрьму?
— Возможно, тебе грозило кое-что и похуже. Планы Паташона на твой счет были обширнее и хитрее. Из чего он исходил? В самолете было золото, но его не нашли. И не найдут, раз Калугин мертв, а портсигар захвачен. Следовательно, нужно выждать, пока уляжется шум, и забрать все спокойненько. Но как? На ишаке сюда не въедешь, пешком и Олег споткнулся. Не для Паташона эта дорожка. А Матвей может. Вот ему то кнут, то пряник. Запугал — и сапоги следом. Понимай, мол, с каким человеком дело имеешь! Нужен ты ему был, Матвей, чтобы пробраться сюда за золотом.
— Не сказал он, Игорь Николаевич, но намекал, точно. «Выгодное дело знаю. За меня держись, не пропадешь…» Такое плел…
— Ну, а что ждало тебя, догадаться нетрудно. Делиться и оставлять свидетеля было не в правилах Паташона. Однако вернемся к Валерию. Замысел преступника не удался. Возможности свои он переоценил: глаза уже не те, да и руки. В меня не попал как следует. Между тем отведенное ему время истекло. Погода улучшилась. И хотя Паташон при любой возможности намекал на твою «вину», Валерий, подтвердить ее могло лишь «самоубийство» или, по крайней мере, несчастный случай, похожий на самоубийство запутавшегося, мучимого совестью пьяного человека. И вот с бутылкой в кармане Паташон идет к тебе, Валерий. По пути занес сапоги Матвею, закрепил начатую интригу, заполучил еще одно полуалиби: если кто и обратит внимание на его ночные перемещения, он был у Филипенко. Повстречались Олег с Галиной: «Куда, дедушка?» — «К Матвею». Складно! Но не знал он, что трудится впустую, что никакого золота не существует, что все уловки обманывают прежде всего его самого, что безнадежно и окончательно заблудился он в своем порожденном безумным переплетением страха и жадности фантастическом мире. Нет, я не считаю его сумасшедшим. По-своему он был нормален и, останься жив, ответил бы перед судом без скидок. Но о точки зрения человеческой, естественной, гуманной говорить о «нормальности» поведения Паташона не приходится.
Его приходится только опасаться. Однако ты, кажется, был далек от этой мысли, Валерий? Хотя н отказался пить самогон.
— Самогон?
— Да. В бутылке была не водка, а самогон. Градусов шестьдесят с гаком. Хлебнув стопку такого пойла, ты, уже будучи пьяным, наверняка свалился бы с йог. Что и требовалось. Печь догорала, набитая угольями…
Валерии хлопнул себя ладонью по лбу.
— Я знаю, когда он прикрыл трубу. Я выходил…
— Теперь ясно. Потому что при тебе закрыть заслонку было все-таки рискованно.
— Я выходил. Появление этой мерзкой рожи подействовало на меня отвратно, но хотелось сообразить, зачем он явился. Я вышел и протер лицо снегом.
— А он тем временем задвинул заслонку. И взял носовой платок.
— Платок валялся.
— Паташон использовал его в последний раз. Это был практичный человек. И он не собирался оставлять отпечатки пальцев на заслонке. Вот откуда сажа на платке Когда ты вернулся, он не успел его спрятать, сжал только в кулаке.
— И заюлил: «Оставлю тебе водочку, Валера, сам я непьющий. Пойду, если сердишься. «Я ему: «Забери бутылку!» Он: «Как хочешь, а напрасно пренебрегаешь стариком». Ну и намекнул, сказал гадость… Вы знаете. Ударил я его. Но убивать не хотел.
— Ты и не убил. Но, падая, он ушибся затылком и потерял сознание. Но ненадолго. Однако этого оказалось достаточно. Угар начал действовать.
Вот мы все вместе и разобрались. Буду рад, если мои наблюдения пригодятся следствию.
Вертолет не поднимался над скалами. Он избегал их, повторяя изгибы Красной речки, взбираясь навстречу ей выше и выше, подскакивал там, где она обрушивалась водопадами, хитрил, изворачивался вместе с нею, одолевая дикое, заросшее и заваленное скончавшими век деревьями ущелье. Вот путь преградил еще один лесистый откос. Но это уже не были островерхие, вонзающиеся в небо ели. Кто-то тяжелой рукой провел по верхушкам и пригнул ветки к земле. Красноватые кряжистые стволы пограничными столбами вытянулись по краю плато, отделяя лес от высокогорья, от зеленых и разноцветных альпийских лугов, искромсанных в низинах белыми языками снежников. Лететь стало вольнее, панорама расширилась, речка перестала быть стержнем, на который нанизывался стиснутый склонами пейзаж; она потерялась, го растекаясь по кочковатому болотцу, то исчезая под сырым, тяжелым снежным настом. Везде искрилась, сверкала на солнце влага, и Мазин жалел, что нельзя распахнуть запылившийся иллюминатор, как выставляют весной надоевшие, ненужные двойные рамы.
Поздно вечером он зашел к Волокову и, осведомившись, как идут дела, сказал:
— Возможно, я смогу помочь вам, Дмитрий Иванович. Но сначала нужно побывать на Красной речке.
— А преступник не сбежит, Игорь Николаевич?
— Нет. Скажи своим ребятам, пусть спят спокойно. Глебу — персональная благодарность. Он мне помог.
Потом Мазин вернулся домой и долго беседовал с Сосновским.
— Кажется, это единственное решение, Борис? Или я увлекся?
— Не сомневаюсь, что ты прав.
И все-таки почти до рассвета он не мог заснуть…
…Черная тень, бегущая впереди вертолета, уменьшилась Летчик набрал высоту, чтобы пройти над плоской вершиной одной из двух гор, взметнувшихся над долиной крутыми, осыпающимися, голыми склонами. Рядом с машиной появился распластавшийся в воздушном потоке орел. Он смотрел на шумливую, брюхатую, с вытянутым хвостом птицу подозрительно, недобро. Проводил немного и, накренившись, ушел, легко спланировав вниз, к озеру, которое, как и говорил Мазину Коля, синело среди льда оттаявшими полыньями. Тень от вертолета пересекла озеро и заметалась в теснине. Машина начала снижаться. С одной стороны Мазин увидел узенькую, рвущуюся на выступах ленточку водопада, с другой надвинулись коричневатые камни. Он понял, что это и есть Красные скалы.
Человек в гимнастерке ждал их внизу. На шее у него висел карабин. Признав старшим среди прилетевших Волокова, егерь подошел и потянул через голову ремень.
— Добровольно сдаюсь на решение правосудия, — произнес он заранее, видимо, заготовленную фразу и, оглянувшись на Мазина, добавил: — Вины за собой никакой не имею!
После этого Матвей положил карабин на землю.
— Вы Филипенко?
— Так точно, товарищ майор. Разрешите заявить, никакого золота тут и в помине не было. Самолет же вон там находится, а летчика прах, то есть что осталось, поблизости. Все как было, ничего не трогал.
— Посмотрим.
Они пошли цепочкой: рядом с Матвеем Олег, за ним следователь из прокуратуры, потом Волоков, и в хвосте капитан с Глебом. Валерий остался с Мазиным.
— Почему Паташона не арестовали?
— Не весь материал собран.
— Здесь-то что искать? И зачем вы меня притащили? Забил вам Олег мозги несуществующим золотом. Горючее зря сожгли!
— Милиция обязана проверять такие заявления.
— Я-то зачем?
— Ты мне сейчас поможешь. Борис, дай ему компас.
Сосновский вынул круглую коробочку. Валерий с недоумением покрутил ее перед глазами.
— Ты можешь определить направление север-северо-восток?
Художник подержал компас на ладони, дожидаясь, пока успокоится стрелка.
— Сюда?
— Сюда. Отправляйся к водопаду и отмеряй от подножья ровно сто тридцать семь шагов на север-северо-восток.
— Повинуюсь, потому что абсурдно.
Пока он вышагивал по дну теснины, Сосновский заметил:
— Если это не шаги, а метры, возможно расхождение.
— Вряд ли у него была рулетка.
— Эй! — закричал художник. — Что дальше? — Стой на месте.
Мазин подошел к Валерию, взял компас и направился к Красной скале. Оттуда он отсчитал пятьдесят четыре шага и вернулся почти на то же место, где ждал художник. Речка здесь срывалась с уступа небольшим водопадиком, под ним виднелось углубление, куда не проникал поток. В углублении зеленели мхом камни.
Мазин присел на корточки.
— Неужеливы думаете, что там, внизу, золото? — спросил Валерий присмиревшим, изменившимся тоном.
— Не уверен.
— Я спущусь, — предложил Валерий.
— Поосторожнее. Не поскользнись.
Художник двумя прыжками соскочил вниз и, прижавшись к откосу, протиснулся в углубление, не задев потока. Сверху были видны спина и затылок с растрепавшимися волосами.
— Есть!
Он повернулся в волнении, и вода хлестнула его по лицу.
— Что?!
— Ящик железный, вроде тех, в которых возят кинофильмы.
— Ты можешь вытащить его?
— Попробую.
Валерий дернул за ящик и отскочил, снова попав под водопад.
— Он легкий! Это не золото.
— Оставь ящик и вылезай. Вскрыть его может только следователь. Как положено по закону.
Валерий растирал по лицу брызги.
— Что ж произошло, Игорь Николаевич?
— Что понял, расскажу…
Они сидели на широком брезенте, который летчик вытащил из машины. Посредине Мазин положил испачканный носовой платок, портсигар и почерневшие, обожженные в печи подковки с ботинок.
— Передаю вам, Дмитрий Иванович, — сказал он.
— Вот еще, — буркнул Филипенко и бросил на брезент гильзу. — Пуля в пруду, Игорь Николаевич.
— Нож я передал вчера, — заключил перечень Сосновский.
Мазин отодвинул гильзу немного в сторону.
— Не знаю, как начать… В плане поиска или шире? Попробую, как получится. Завершилась трагедия, растянувшаяся на много лет. Случай облек ее в драматическую форму, так что разгадка непонятного выдвинулась на первый план. Но все тайны рано или поздно раскрываются, силлогизмы уступают место раздумьям, проблемы криминалистические сменяются нравственными, человеческими… Впрочем, я собираюсь держаться в рамках фактов.
Был паренек. Талантливый паренек. Он еще не знал, что талантлив. Так случается нередко, особенно в молодости. Люди склонны переоценивать свои возможности, но бывает и наоборот, их не замечают. Он совершил ошибку и поплатился за нее строго. Закон для всех одинаков, однако сами мы разные, и время течет для нас по-разному, особенно за решеткой. В семнадцать лет оно может показаться бесконечным. Три года для заматерелого преступника — семечки, Михаилу Калугину (я буду называть его так) они представлялись вечностью.
Он пытался бежать, и срок увеличился. Да, Валерий, Михаила Калугина поймали. — Мазин повернулся к художнику, собравшемуся возразить. — Кушнарев нe обманул меня. И тебе отец сказал правду. Но Кушнарев сказал о первом побеге, а Михаил Михайлович имел в виду второй. Он спешил и говорил только о главном.
Срок увеличился… Теперь ему и конца не было. Парня охватило отчаяние. Поставьте себя на его место — и вы поймете! Я не оправдываю Калугина. Он совершил уже две ошибки, и обе, с точки зрения закона, были преступлениями. Закон действовал неотвратимо, но справедливо. Однако ему, человеку, предельно эмоциональному, положение казалось безнадежным…
И он совершает третью ошибку. Ошибку, за которую придется поплатиться жизнью… Не скоро. Впереди еще четверть века. А пока возникает мысль снова бежать. И тут, к счастью, как показалось Михаилу, и к большой беде на самом деле, находится человек, который берется помочь. У этого человека, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже много имен, но самое популярное из них Паташон.
Безобидная кличка… Не Акула, не Удав. Шутовская кличка. Представляешь мелкорослого человечка, склонного к юмору, любителя посмешить. Тогда еще помнили этого забавника из «немого кино». Но мне приходилось замечать, что из таких невзрачных шутов вырастают самые коварные и злобные «удавы» и «акулы», не по кличке, а по сущности. Может быть, на них сказывается и путь в «высшие круги» преступного мира.
С чего обычно начинает «акула»? Он первый парень в своем квартале, его боятся, его девушки любят, он щедр, не скопидомничает, по-своему великодушен. Нарушает закон сначала из озорства, из безнаказанности, от небольшого ума, по нашему недосмотру, а потом уж обнаруживает, что забрался далеко, что путь назад труден. К трудностям же не приучен. И появляется злоба. Увы, не на себя, а на окружающих, на жизнь, которая «подвела». Ведь начиналось все гак хорошо, весело, а что вышло? И вот затерялся, растворился бесшабашный парень. Вместо него «акула». «Акула» не озорует на улице. Он там дела делает. И подбирает нужный человеческий материал. Из младших. Которыми можно помыкать, затягивать и посмеиваться: «Развяжи-ка мне ботинки, Паташон. Постой на стреме, Паташон. Пролезь в это окошко, тебе, худому, удобно!»
Почему же Паташон расшнуровывает ботинки, бегает за папиросами и в конце концов лезет в окошко? Ему выгодно.
Мальчик не тянется к ученью, зато любит поскоморошничать, скорчить рожу, передразнить, подметив чужую слабость. Его выходкам смеются, но с ним не дружат. При случае он и по шее получает — это неопасно, мальчишка хил, побаивается дать сдачи. Он одинок среди сверстников. Прибавьте, что и дома не сладко: скорее всего безотцовщина, малокультурная, вечно занятая, раздражительная мать.
И вдруг все меняется. Замухрышку больше нельзя трогать. Потому что дело не ограничится ответной затрещиной. Грозят неприятности покрупнее. Он сам поражен. Те, кто вчера издевался, сегодня боятся. Не его, конечно. «Удава» или «акулу». Но и его. Ему уступлена частица могущества. И он увидел, что бойкие классные заводилы не меньшие трусы, чем был он сам. Помимо прочего, это открытие не способствует правильному восприятию жизни. Создается обманчивая, но правдоподобная модель. Сила в руках сильного. Это западает. На всю жизнь. А так как физической силы Паташону не хватает, он оттачивает изворотливость. Ему нравится не прощать обиды, мстить тем, кто считает себя сильным. В нем нет великодушия. Он готов при случае унизиться, но он ничего не забывает. Это опасный преступник.
Я думаю, что именно такой человек встретился в колонии с Калугиным. Он там не в первый раз, он постиг тюремную науку, и сроки его особенно не пугают. Далеко остался школьник-замухрышка. Паташон — вор в законе, его обслуживают, ему угождают. Его боятся. Теперь уже его самого. И не без оснований. Хотя внешне он не так страшен. И комплекция не та, и шутки-прибаутки не забыты. Некоторые недалекие работники даже считают Паташона не худшим заключенным. Он не бузит, не режется бритвой, не устраивает демонстраций. Не работает, правда, но на то он и вор в законе. Однако отбывать срок ему больше не хочется. Началась война, армия отступает, ему мерещится анархия, жестокая вольница, безначалие, мерещится «его время». Так соединяются несовместимые интересы не только разных, но полярно противоположных людей. Возникает кратковременный трагический союз. Им «везет».
О подробностях побега приходится догадываться. Однако детали несущественны. Можно предположить, что Паташон, у которого были связи в уголовной среде в Закавказье, выдвинул план пробираться на юг через горы. Край в этой стороне безлюдный, а перевалы доступны. Чем соблазнился Калугин, не знаю. Скорее всего Паташон пообещал достать ему документы, без которых невозможно было попасть в армию, а именно на фронте, как показало будущее, стремился смыть вину Михаил Калугин.
Теперь о самолете. Летчик Константин Калугин выполнял важное задание. Ему был доверен ответственный груз. Но не золото.
Олег вскочил.
— Это тоже предположение?
— Нет, это факт, Олег. Груз, который вез Константин Калугин, рядом с вами. Ящик находится в нише под водопадом.
С волнением металлическую коробку подняли и поставили на брезент. Открыть ее удалось не без труда. Всем хотелось поскорее взглянуть на содержимое. Наконец Волоков откинул крышку.
— Бумаги. — И, отделив клочок слипшегося, почти уничтоженного временем и природой листа, добавил: — Разобрать, что это, на глаз невозможно.
— Может быть, техническая документация эвакуированного предприятия? Или штабные документы? Чертежи оборонного объекта или военной продукции? — предположил Сосновский.
— Я думал о чем-то подобном, — сказал Мазин. — Если золото и возили в Иран, о чем мне неизвестно, то не из прифронтовой зоны и, вероятно, не таким образом. Не знаю, как возникла эта легенда, но не в этом дело.
Олег выглядел потесненным с позиции, однако не разбитым.
— Кто же, по-вашему, спрятал ящик? Откуда вы узнали о тайнике?
Мазин подвинул в его сторону портсигар.
— Бумаги спрятал Константин Калугин. Теперь ясно, что он не разбился вместе с машиной и выпрыгнул с парашютом. Он понимал, что металлический закупоренный ящик не будет уничтожен, что он может уцелеть. И летчик, спасая груз, извлек его из-под обломков и спрятал в надежном месте. Он сделал все, что мог. Унести ящик с собой было нельзя. Хотя в нем и не золото, он достаточно тяжел для путешествия но тропам и перевалам. Укрыв груз, Константин Калугин нацарапал на портсигаре координаты. Почему не на бумаге? Наверно, побоялся довериться ненадежному материалу. Ведь предстоял путь через реки, снег, и мало ли что еще ждало его!
— Как попал к вам портсигар? — спросил Олег.
— Об этом я скажу немного погодя. Вы видели его? Мне больно разочаровывать вас, Олег, но летчик Калугин не был вашим отцом.
— Не считаю вопрос доказанным. Имя женщины…
— Клавдия, а не Анастасия.
— Женщина, которая спасла меня, могла спутать имя матери!
— Но ваша мать умерла и похоронена в деревне, где вы остались. А жена летчика Калугина прожила еще двадцать пять лет.
Мазин смотрел теперь не на Олега, он смотрел на Валерия. И тот не мот оторвать глаз от подполковника.
— Зачем вы смотрели мое удостоверение? — спросил он с трудом.
— Ты уже догадался. Мне нужно было узнать твое отчество. Что ты знаешь об отце?
— Я считал, что он бросил маму.
— Нет. Его убил Паташон. Теперь я в этом не сомневаюсь. Константин Калугин был тем человеком, в гибели которого признался тебе Михаил Михайлович. Говорю «признался», потому что и себя считал он виновником этой смерти. Для матери же он пропал без вести, а возможно и хуже, дезертировал, бежал. Не осуждай ее за слабость, Валерии. Молодая женщина с ребенком осталась одна, тянутся нескончаемо трудные военные дни. И вдруг случайно (так ей кажется) Клавдия Федоровна знакомится с демобилизованным солдатом, студентом. Он учится в Москве, собирается стать художником, в Казань приехал на короткое время, однако заинтересовался ею, пишет, помогает. Какая женщина останется равнодушной к таким знакам внимания, особенно когда — будем откровенны — мужчин стало гораздо меньше!
Между тем молодой художник предлагает выйти замуж. Чем еще можно объяснить его поведение, кроме настоящей любви? И любовь находит отклик. Ведь пять лет прошло, как исчез Константин Калугин. Война кончилась, надежды на его возвращение угасли… Мы все верим в людей, нам больно обманываться в них, но требовать от Клавдии Федоровны безграничной верности памяти мужа, требовать отречения от жизни ради памяти было бы несправедливо. Особенно потому, что ей и в голову не могло прийти, что привело к ней Михаила. Еще не Калугина…
На каждый поступок обычно влияет большой комплекс соображений. Думаю, очень многое повлияло и на решение Михаила Михайловича. Но уверен, в основу легла потребность загладить вину. «Какую?» — спросите вы, и особенно ты, Валерий. Я, как и ты, убежден: будущий художник Калугин не убивал летчика Калугина. Верю и его словам и во всю его остальную, прожитую с того дня, жизнь. Однако существует еще криминалистическая наука, и я надеюсь, найдутся доказательства, и неопровержимые.
Вина, которую испытывал Михаил Михайлович, была глубже, чем сознание того, что он не уберег летчика, стал невольным пособником его гибели. Мне кажется, что случай этот подвел итог, завершил цепь ошибок, начавшихся с того ужасного дня, когда согласился он охранять приятелей-преступников, грабивших киоск или ларек. И тогда, когда пришло впервые решение бежать, был он виноват. И когда пытался броситься под поезд, и когда бежал, наконец, «удачно».
Поступки эти, конечно, разные, и рассматривать их следует по-разному, но было в них и общее: с каждой ошибкой росла вина перед жизнью, перед людьми, перед самим собой, суживалась дорожка, впереди становилось темнее, мрачнее. И тут вспышка — смерть летчика! Убийство…
Зачем убил его Паташон? Чтобы заполучить пистолет или избавиться от лишнего свидетеля, на которого неожиданно наткнулись в пути? Во всяком случае, не для того, чтобы завладеть грузом. Он был спрятан до встречи. О грузе беглецы и не подозревали… Но убийство наверняка было подлым, зверским. И оно ошеломило парня. Наконец-то он понял, куда ведут неверные тропки.
Не знаю, как расстались они с Паташоном. Его последующие похождения еще придется проследить, но ясно, что пути его с Михаилом разошлись круто. К большому сожалению, не навсегда.
О дальнейших событиях судить легче. Испытавший глубокое потрясение юноша добрался до фронта и не щадил там жизни. На гимнастерке появились орденские ленточки. Он пролил кровь, он имел основания считать, что расплатился сполна за небольшое, в сущности, преступление, совершенное по мальчишескому недомыслию. Но прийти и рассказать правду он не решился.
Внешней необходимости в этом как будто и не было. После бесконечных неудач пришла полоса везенья. А когда начинает везти, то везет во всем. Даже там, где сначала удачи не замечаешь. Михаил Михайлович жил и воевал под доставшейся по случаю фамилией. Неблагозвучной фамилией. Вы знаете ее, Валерий?
— Да.
— Марина Викторовна тоже знала. Эта фамилия сохранилась в документах. Нарочно фамилию Дураков не выберешь. И не только по эстетическим соображениям. Она режет слух, привлекает внимание, запоминается. Значит, выбора не было, пришлось воспользоваться тем, что подворачивалось под руку. Как это произошло, пока неизвестно, но каким образом Михаил Михайлович избавился m неприятной, постоянно грозящей разоблачением фамилии, я знаю, как знали и в его семье, не подозревая об истинной причине перемены.
Многие ли мужчины принимают фамилии своих жен? Единицы. Если кто и решится, то не от хорошей жизни. Нужны убедительные основания, чтобы такая замена показалась окружающим оправданной, не вызвала подозрений. Но что может быть естественнее, чем желание молодого художника сменить фамилию Дураков? Каково читать на афише: «Выставка Дуракова»? Какой повод для шуток! А люди искусства самолюбивы. И жена это понимает. Правда, фамилия Калугин принадлежит первому мужу, но зато и сыну! И это почти усыновление.
Так появляется художник Калугин. Везенья здесь больше, чем расчета. Да и расчет не шкурническим. Вина перед погибшим летчиком, перед его сыном, стремление расплатиться за ошибки, начать новую жизнь, в семье, по-настоящему — все это просматривается очевидно.
Мне кажется, я понимаю этого человека и его поступки. Даже то, что, привязавшись к тебе, Валерий, он не пошел на формальное усыновление. Думаю, что он не считал себя вправе лишить тебя отца, вычеркнуть его из твоей жизни. Единственный в семье, он знал правду, знал, что Константин Калугин — жертва обстоятельств и злой воли. И он не мог обокрасть убитого и оболганного человека. Полагаю не без оснований, что Михаил Михайлович всегда собирался раскрыть тебе правду.
Ложь давила на него, отравляла радости и успехи. Он мирился с ней в надежде, что придет час, когда он восстановит справедливость, сможет довериться тебе, Валерий. Но как это было трудно! Как воспримет правду Клавдия Федоровна? Поверит ли до конца? Не заподозрит ли в убийстве Константина? А сам ты, Валерий?
Калугин бесповоротно осудил первую часть своей жизни, но во второй ему было чем гордиться. Успех он завоевал трудом и талантом, завоевал заслуженно. В семье он поступал так, как казалось ему единственно правильным. Годами складывалась уверенность, обретался смысл существования И все это нужно было отдать на суд тебе, Валерий, человеку незрелому, не пережившему столько, сколько пережил он, многого не понимающему. Однако иного пути не было. Калугин уклонился от суда государственного, но не мог полностью довериться и суду собственному. Лишь ты имел в его глазах право на суд. Не юридическое, но по-своему неоспоримое. Потому что ты был сыном Константина Калугина.
Однако вернемся к фактам. Не зря считают, что мир тесен. Работая над картиной о летчиках (не случайно, наверно!), Калугин познакомился с Олегом Перевозчиковым, который разыскивал отца, погибшего якобы при известных нам обстоятельствах. Еще раз уточняю, Олег! Вы не сказали о золоте?
— Нет.
— Это в вашем характере, но не думаю, что это его лучшая черта.
Олег провел пальцами по бородке.
— На первый взгляд Михаилу Михайловичу снова повезло. Судите сами! Видимо, он рассуждал так: Олег заблуждается, пусть же он найдет самолет. Правда о летчике Калугине вскроется, позорное пятно будет смыто. Валерий узнает об отце все… кроме того, что отчим был недобрым свидетелем его последних минут… Таким образом, откроется правда только необходимая. По счету будет выплачено, тайна же умрет на этот раз навсегда. И Михаил Михайлович после колебаний, не сразу, а письмом приглашает Олега в Дагезан, выдвинув условие…
— Довольно хитро придумано, — сказал Олег.
— Нет. Калугин не был хитрецом. Скорее он был человеком слабовольным, склонным к решениям, которые напрашивались сами, лежали на поверхности. Он постоянно опасался противопоставить себя обстоятельствам. Даже когда бежал… Его тяготила ложь, но он предпочитал оставаться на грани полуправды. Полуправда и привела его к гибели. Но не вам упрекать его, Олег! Вы тоже скрыли то, что считали истиной! А две полуправды — это уже ложь, та ложь, которая и определила ход трагических обстоятельств.
Олег подергал бороду, но возражать не стал.
— Калугин старается, чтобы вы не тратили время впустую. Когда выяснилось, что проникнуть в теснину затруднительно, он посылает сюда Матвея — верное доказательство, что о грузе он не подозревал. Зато вас, Олег, это взволновало сверх меры.
— Мне важно было найти золото и вернуть его государству.
— Знаю. Поэтому вы и решились с большим опозданием довериться Калугину. Как он воспринял ваше сообщение?
— Он был поражен.
— Наверно, сообщение ваше не только изумило, но и обрадовало Калугина. Помогая вам, он не предполагал, что делает дело уже не личное, а государственное. Он поверил вам и одновременно поверил в то, что Матвей не видел никакого золота. Вам он поверил, потому что знал, что летчик не погиб в машине, а спустился с парашютом и успел побывать на месте катастрофы. Следовательно, он мог спрятать груз. Где? Ключ к разгадке лежал в кармане Калугина. Об этом я узнал от Коли.
Егерь подвинулся поближе.
— Это вы про портсигар, Игорь Николаевич?
— Да. Когда ты отдал его Калугину?
— Сразу, Игорь Николаевич, как вернулись мы с Колькой, я сперва к Михал Михалычу зашел. Говорю, так и так, лавина, значит, мостом тут легла, и пройти можно, хоть и трудно, а там самолет, здесь, значит, и скелет лежит, а в кармане у него, значит, где карман был, — эта штука. Я его подраил малость.
— Ты прочитал надпись в портсигаре?
— А то как же! Клава, значит, ему подарила. И еще буквы там. Я подумал, летчицкие ориентиры, не подумал, что здесь…
— Ясно. Что сказал тебе Михаил Михайлович?
— Говорит, оставь, Матвей, мне покаместь, потому что парень этот с бородой тут ищет, и в газету писать хочет, и про тебя, про меня, значит, напишет, но потом, а пока все не нашли, не нужно говорить, чтоб не помешать сбору материала, что ли…
— И ты больше никому о портсигаре не сказал?
— После нет.
— Разрешите спросить мне, — вмешался Олег. — Когда Калугин сообщил тебе о золоте?
— В жизни не говорил! Не сойти мне с места!
Мазин остановил зарождавшийся спор:
— Успокойтесь! Калугин спрашивал о находке у Николая, который ходил сюда вместе с отцом. Он ведь не говорил вам, Олег, что беседовал с Матвеем. Он сказал только, что Филипенко золота не брал. Ведь Матвей вряд ли отдал бы портсигар, если бы понимал, что значат нацарапанные там цифры.
— Это наивно! Не понимаю, зачем вам так упорно выгораживать Филипенко? Предположим, что отдал портсигар. Но с мальчиком-то разговор был! Или вы думаете, что сын ничего…
— Ерунда, Олег! — нетерпеливо поднялся Валерий. — Оставь Матвея в покое. И так намудрил. Протри очки и успокойся.
— Не горячись, Валерий, — предостерег Мазин.
— Извините, Игорь Николаевич! Спасибо, что вы этот клубок распутали. Мне трудней всех… Не умещается, что рядом мой отец лежит. Страшно встать и подойти. Но не сомневаюсь, что мысли и жизнь Михаила Михайловича такие были, как вы рассказали. Все это я видел, чувствовал, но не знал… Вы ж понимаете… Он тоже мне отцом был. И я от него не отрекусь. Но почему вы про того, кто дважды отца убил, молчите? У вас система, доказательства… я понимаю. Но мерзавец ускользнуть может!
— Нет, Валерий. Он умер.
— Умер?! Я видел его, когда садился в вертолет.
— Ты видел Кушнарева, а не Паташона. Это разные люди. Так и сказал тебе Михаил Михайлович. Паташон же — Демьяныч. Остальные его имена уточнит Дмитрий Иванович.
— Но его убили. Неужели я?..
— Нет. Однако можешь считать, что ты с ним расквитался. Больше того, удар этот, я полагаю, спас твою собственную жизнь. Постараюсь аргументировать свою точку зрения. Олег пояснил, как Михаил Михайлович узнал о спрятанном грузе. Но как узнал о нем Паташон?
Сам он сказал мне, что они встретились на базаре в Тригорске. Художник Калугин и… пасечник Демьяныч. Между прочим, самые отчаянные, бесшабашные преступники старательно пекутся к старости о своем здоровье. Может быть, они понимают, что это, собственно, чудо — то, что они дожили до старости, и стремятся продлить это чудо по возможности. Паташон же вряд ли отличался бесшабашностью, да и здоровьем похвалиться, видимо, не мог. Поэтому его обращение к природе не так уж загадочно. Объяснима и склонность к доморощенной философии. По-своему и он пытался осмыслить прожитое, хотя и не увидел в жизни ничего, кроме «мудрой беспощадности», как он мне доверительно сообщил. Так или иначе, старость пришла, силы дряхлели; возможно, ему казалось, что и в самом деле с мирской суетой покончено, завозился с пчелками, не без пользы — и доход, и медок целебный…
Обманчивая тишина! Такой человек не способен измениться, даже если б и захотел. Без малого полвека преступной жизни — не ошибка молодости. Да и вряд ли Паташон сожалел о прошлом. Он не стал другим, он только растерял зубы. На беду, не все…
Калугин, очевидно, не сразу узнал Паташона. Это не удивительно. Не виделись они десятилетия, а знали друг друга недолго, да и выглядели в то время по-другому. У «Демьяныча» же память оказалась лучше. Сказалась волчья закалка, вечно в бегах, раздумывать некогда, и врага и своего узнавать с ходу нужно, а то головы не сносишь! Однако и он сомневался. И если б Калугин по широте характера не пригласил пасечника в Дагезан, возможно б, и обошлось.
Но возникли контакты, появилось время присмотреться. И Паташон убедился — он! Что же делать? Умнее было бы отойти от греха подальше. Нет! Не та личность. Жажда поживиться, и не только поживиться, покуражиться, испытать садистское наслаждение, издеваясь над беспомощным, попавшим в капкан человеком, — вот что подмывало Паташона. И тактику он выбрал подлую: объявляться не открыто, а постепенно, намеками: я или не я, сам догадайся, а покоя не будет, и пощады тоже не будет.
Калугин, как ты помнишь, Валерий, мрачнел, но еще надеялся, что свойственно людям в самом безысходном положении. И тут — золото! Понимаете, что это слово для Паташона значило? Это не деньги, бумажки, которые он шантажом выудить собирался. Это сам смысл его жизни, символ, если хотите. Так определились пружины действия. Помножьте золотой мираж, вспыхнувший ярко, на злобу, ненависть к Калугину, которому. с точки зрения Паташона, в жизни несправедливо «повезло», на страх, возникавший по мере того, как приоткрывалась история гибели летчика, представьте психологию и опыт профессионального преступника, и вам станут понятны и решимость этого хилого на вид старичка, и его неожиданная энергия, и, скажем прямо, недюжинная смекалка, которая долго сбивала меня с толку. Впрочем, на каждый ловкий ход приходилась и обязательная ошибка, пусть малозаметная, но неизбежная. Это закономерность.
Как узнал он о золоте? Я не смогу ответить на этот вопрос без вашей помощи, Олег.
Что-то переменилось в Олеге. Он не воспринял слова Мазина как очередную нападку.
— Не исключено, что он подслушал мой разговор с Михаилом Михайловичем. Помните, мы ехали вместе в машине, когда я узнал от Гали, что самолет найден? Я с ней зашел к Матвею.
— Было, — кивнул егерь.
— От тебя я направился прямо к Калугину. Он сам открыл мне. Я сказал, что нужно поговорить по важному делу. Он предложил выслушать меня во дворе.
— Не пригласил в дом? — уточнил Мазин.
— Да. Теперь понятно. У дома был привязан к дереву ишак. И Калугин говорил тихо. А я волновался. Кажется, мы стояли недалеко от открытого окна. Но около гаража.
— В гараже есть внутренний выход, — сказал Сосновский.
— Да, есть. Увидев меня, Паташон мог спуститься в гараж и подслушивать, стоя у окна. Но как я мог это предположить?
— Предположить было трудно, — согласился Мазин. — Хорошо, что этот факт прояснился. Спасибо, Олег. В последние дни Паташон наверняка следил за каждым шагом Калугина. Не спускал с него глаз и одновременно поспевал за всеми, кто так или иначе соприкасался с погибшим самолетом. Не исключая тебя, Матвей.
— Виноват, Игорь Николаевич.
— Договаривай, что не успел. Повинную голову меч не сечет.
— Перехватил он меня, гад, когда я с Красной речки вернулся. Иду, значит, к Михал Михалычу, а он, зараза ласковая, на ишаке трусит. «Здравствуй, Матвей, — гундосит. — Откуда идешь, куда?» Короче, растрепал я ему и портсигар показал. Щупал он его, щупал, отдал.
— Это произошло до разговора с Калугиным?
— Ну да. А потом я, дурак, еще хуже сморозил. Зашел к нему и ляпнул: «Ты, Демьяныч, за портсигар помалкивай покуда. Михал Михалычу я его передал».
— Важная деталь, Матвей, — сказал Мазин удовлетворенно. — Новая для меня. Итак, Паташон в результате слежки собрал обширную информацию, и час от часу она приобретала для него характер угрожающий. Провел он почти всех. Мы с Борисом Михайловичем, увы, не исключение. Сидя в нашем домике, он узнал, что Калугин собирается говорить с Сосновским, с юристом, и, хотя разговор не состоялся, медлить невозможно, Калугин решился…
Но и Паташон решился. Прогремел выстрел. Дерзко, неожиданно и, к сожалению, удачно. Подробности не так важны. Возможно, поднимаясь в мансарду, он и не спланировал все в деталях. Возможно, пытался запугать художника, вынудить его отказаться от признания… Наверно, Михаил Михайлович остался тверд, наверно, не сообразил, что гром покроет грохот выстрела, да и не верилось ему, наверно, в такое, много лет прожил он в другом, человеческом мире…
Обманчивая удача пришла к Паташону. Выскользнул из гостиной и вернулся он незаметно. Потом по желанию Марины Викторовны отправился в мастерскую, «обнаружил» мертвого и позвал нас с Сосновским. Когда подозрение пало фактически на каждого, Демьяныч выглядел светлее других. Но преступник неизбежно находится в состоянии опасения. Он склонен переоценивать, преувеличивать опасность и стремится всеми средствами увеличить, расширить подлинную или мнимую безопасность.
И тут-то перед Паташоном возникла уникальная возможность заполучить первосортное психологическое алиби. Он слышит предложение Бориса Михайловича объявить, что Калугин жив, и предпринимает ход, я бы сказал незаурядный. «Убить» художника вторично! Кто станет подозревать человека, знавшего, что Калугин мертв? Паташон воспользовался ножом, который считал твоим, Валерий. Это новая возможность отвести подозрения, расширить зону безопасности! Как же раздобыл он нож?
— Кажется, я сообразил, — сказал журналист и просунул палец в дырку в кармане джинсов. — Валерий открыл бутылку и вернул нож, а я сунул его не в специальный узкий карманчик, а в большой, дырявый. В суматохе, после известия о ранении хозяина, я не заметил, как нож выскользнул и упал на медвежью шкуру, на которой стоял стул. При слабом свете свечей подобрать его незаметно не составляло труда.
Мазин кивнул.
— Верно. Мне следовало догадаться об этом. Нужно было получше рассмотреть вашу одежду, Олег, и вспомнить, кто где сидел. Паташон снова поднялся в мансарду, пока мы с Борисом Михайловичем замешкались на почте. Ход этот ввел меня в заблуждение, хотя что-то и чувствовалось в нем нарочитое, искусственное, фальшивое. Но ощущение было смутным. Усиливалось постепенно. До самой смерти Демьяныч маячил у меня на втором плане. Смерть его, как ни парадоксально, перетряхнув хаос фактов, сгруппировала их в систему. Казалось бы, именно смерть должна была стать главным алиби для безобидного пасечника, твердо вписав его в графу «жертва», а не «преступник», но еще до смерти Паташон накопил столько доказательств невинности и непричастности к событиям, что гибель «Демьяныча» выглядела абсолютно необъяснимой, если только не поставить под сомнение все эти «доказательства».
И я пошел назад. Начал анализировать не улики, а алиби и прочие сопутствующие обстоятельства. Не сразу и не без поражений пробирался я через факты. Так было, например, со следами на снегу. Первое впечатление — пасечник бежал, спешил. Эта версия вела в тупик. Выручил меня ты, Валерий. Ты вспомнил, что он приходил не в сапогах…
— Но кто ж убил его, Игорь Николаевич?
— Сейчас разберемся. Сначала выясним, как он очутился в реке, потому что Глеб прав — Паташон попал в воду уже мертвым. Когда ты сказал, что Демьяныч пришел в ботинках, я вспомнил его слова о сапогах. Он говорил, что сапоги оказались велики и он собирается уступить их Матвею.
— Игорь Николаевич! — прервал Филипенко.
— Погоди, Матвей. Дойдет очередь. Картина резко изменилась. Следы не принадлежали больше маленькому бегущему человечку. Они были оставлены высоким, идущим обычным шагом человеком, который нес нечто тяжелое, отчего и вдавливал снег носками.
— Точно, Игорь Николаевич, но не я ж…
— Не ты. А чьи это подковы? — Мазин показал па обгоревшие кусочки металла на брезенте. — Откуда они?
— В летней печи нашли?
— Там. Сын твой подсказал. Когда тебе пришло в голову сменить обувь?
— Да как донес его до речки, обернулся, а след остался, как пропечатанный. Ну, думаю, что делать? Заметать, все равно заметно. Тут меня и ударило: никто ж не видал, как он мне сапоги эти проклятые приволок. А на нем видали. Расшнуровал я ботинки, а сапоги вместо них натянул.
— Без портянок?
— Не до портянок было.
— Как же тебе удалось надеть ботинки на два номера меньшие?
— Да на кой они ляд мне сдались!
Мазин расхохотался.
— Это меня и убедило. Ты ж единственный человек. который мог уйти вброд босиком по ледяной воде. Валерий бы не решился.
— Я привычный.
— Но ты замечаешь, Матвей, что факты не в твою пользу?
— А то нет! Потому и сбежал. Ну да вы же разобрались.
— Еще не совсем. Что ты сделал, когда вошел в хижину?
— Трубу открыл.
— Отлично! — обрадовался Мазин.
— На заслонке его отпечатки, — подтвердил Глеб.
— Что это значит? — спросил Валерий.
— Это значит, что Паташон умер от угара; и когда Филипенко, войдя в хижину, увидел его мертвым, oн открыл заслонку.
— Точно, Игорь Николаевич. Толкнул двери, а оттуда угаром бьет. На полу гад этот скорчился, синяк под глазом. Тронул я его, мертвый по первому сорту. «Что за беда! — думаю. — Ведь если кто видал, как я шел к хате, а луна какая стояла, вы ж помните, опять на мне сойдется. И пуля, и карабин, и тут еще — докажи, что не верблюд, попробуй!» Аж заплакать захотелось. Но слезами-то горю не поможешь, сами понимаете. Один выход — спровадить мертвяка в речку. Никто и не поймет, куда девался. Высунулся я, огляделся, вроде тихо. Взвалил его на плечи — мать родная! След остается. Ну, про след сказал я. Кинул его в воду и побрел с ботинками. Думал, унесет, а его, заразу, прибило.
— Ботинки принес — и в печку?
— Куда ж еще? Подбросишь где — найдутся. Закапывать охоты не было, а печка топилась как раз.
— Но кто задвинул заслонку? — напомнил Валерий.
— Сейчас поймешь. Зачем, Матвей, ты пришел в хижину?
— Валерия повидать хотел.
— После разговора с «Демьянычем»?
— Ага. Когда он мне сапоги принес. Не понял я его тогда, что он за намеки делал. Смутно говорил. И пугал и обещал что-то вроде бы.
— Я объясню, Матвей, чего он добивался. И как нашел собственную смерть… Я говорил, что смерть пасечника стала переломным моментом в моем поиске. До него внимание мое было сосредоточено почти целиком на личности Калугина. Узнать удалось немало и от Марины Викторовны, и от Кушнарева. Все больше я убеждался, что корни конфликта затерялись в прошлом, что находка самолета всколыхнула какие-то неизвестные силы, действующие беспощадно и динамично. Гильза, которую вы видите, свидетельствовала особенно наглядно, что сила эта не укрощена. И вдруг она обрушивается на безобидного пасечника!
Старика убили… Вначале я подумал так. Но зачем, если он ни в чем не замешан? А не замешан ли? Он принес в хижину бутылку водки, хотя сам не пил. Принес ночью. Очевидно, для срочных, не совсем обычных, требующих «смазки» затруднительных переговоров. Это не похоже на поведение человека незаинтересованного, незамешанного. Судя по всему, шел он к Валерию, а улики падают на Матвея. Да еще какие! Насколько голубым казался пасечник, настолько мрачно выглядел Филипенко. Настолько мрачно, что возникали сомнения. Что за всеобщее злодейство! Убить Калугина, покушаться на меня, утопить пасечника! Между тем в истории с пулей Матвей показался мне не хладнокровным и изощренным, а прямолинейным и наивным.
Итак, я двинулся назад. В этой ретроспекции было одно, самое неприятное для меня звено: я не мог понять, с какой целью в меня стреляли. Мы с Борисом Михайловичем поддались соблазну смелой, но не украшающей нас гипотезы: что-то я проморгал, а противник считает, что, наоборот, он у меня в руках. Гипотеза оправдалась. Но как? Противник действительно гонялся за решающей уликой, но не за мной, хотя предмет его погони побывал и в моих руках, у меня под носом. Простите каламбур, не в переносном, а в самом буквальном смысле.
Вот платок, которым я вытирал нос и морщился от непривычного запаха. В воде и на морозе запах смягчился, почти исчез, но происхождение его очевидно: Михаил Михайлович привык вытирать платком краску, заменял тряпку, если не находил ее под рукой. Мы же с тобой, Валерий, едва не лишились из-за него жизни. Когда я это понял, я понял все.
Ты не мог вспомнить, как попал к тебе платок. Предположил, что захватил его в мастерской. Это неверно. Из мастерской платок вынес Паташон, не предполагая, что он станет причиной того страха и даже паники, которая сопровождала преступника все оставшиеся часы жизни и толкала на новые преступления и ошибки. А в конечном счете привела к гибели.
Мазин развернул платок.
— Вы видите следы краски, пятна сажи и не так заметные, но несомненные маслянистые полосы. Это ружейная смазка. Паташон затирал платком отпечатки пальцев. Ружьем Калугин, как известно, пользовался редко, и оно было обильно смазано. Протерев после выстрела ствол и приклад, убийца сунул платок в карман куртки. Спустившись, он или позабыл о платке, или вполне резонно предположил, что по карманам лазать не будут. Так или иначе Паташон повесил куртку в прихожей, но упустил маленькую деталь.
— Я понял, Игорь Николаевич! — прервал Валерий. — Его куртка висела рядом с моей. Куртки-то как две капли воды. Я полез за платком, взял его и позабыл…
— Но ты наверняка доставал его! А Паташон это видел. Нетрудно представить его состояние. Ему известно, что отец говорил с Валерием. Что он успел сказать? Валерий вытащил из его кармана важнейшую улику. Разве такое может быть случайным? Наконец, Валерий не скрывал от пасечника свою неприязнь. Инстинктивную. Но откуда ему было знать истоки неприязни? Правда, Валерий медлит, не действует. Но что на уме у этого неуравновешенного парня? И как поведет он себя, когда появится милиция? Нет, милиции дожидаться нельзя. Нужно действовать! Новое убийство задумано тоже хитро, однако и удачные замыслы не всегда осуществляются, как по маслу, а тем более два раза подряд. Решено было застрелить Валерия из карабина Филипенко, оставить на месте выстрела гильзу и отвести опасность еще дальше, запутать нового человека. Я сказал, застрелить Валерия, и в этом-то и заключалась разгадка непонятного. Паташон охотился не за мной! Хижина, где ты обычно околачивался, и ослабевшее стариковское зрение — вот что определило ошибку.
Матвей, разумеется, был смущен. Сначала старик завез ему карабин с невиннейшим видом. А это у него получалось, старость и хилость Паташон использовал на хорошем актерском уровне. Потом Коля прибегает: стреляли! Нервы у тебя сдали. Матвей. Начудил с пулей.
— Точно, Игорь Николаевич, — согласился егерь.
— Но сын тебе и тут помог. В уничижительной для меня форме, правда. Николай заявил ответственно: «Мой папка не промазал бы!»
— Да навряд, Игорь Николаевич.
Все засмеялись.
— Ишь, гад, какую он сеть на меня запустил! Он, значит, убивать будет, а меня в тюрьму?
— Возможно, тебе грозило кое-что и похуже. Планы Паташона на твой счет были обширнее и хитрее. Из чего он исходил? В самолете было золото, но его не нашли. И не найдут, раз Калугин мертв, а портсигар захвачен. Следовательно, нужно выждать, пока уляжется шум, и забрать все спокойненько. Но как? На ишаке сюда не въедешь, пешком и Олег споткнулся. Не для Паташона эта дорожка. А Матвей может. Вот ему то кнут, то пряник. Запугал — и сапоги следом. Понимай, мол, с каким человеком дело имеешь! Нужен ты ему был, Матвей, чтобы пробраться сюда за золотом.
— Не сказал он, Игорь Николаевич, но намекал, точно. «Выгодное дело знаю. За меня держись, не пропадешь…» Такое плел…
— Ну, а что ждало тебя, догадаться нетрудно. Делиться и оставлять свидетеля было не в правилах Паташона. Однако вернемся к Валерию. Замысел преступника не удался. Возможности свои он переоценил: глаза уже не те, да и руки. В меня не попал как следует. Между тем отведенное ему время истекло. Погода улучшилась. И хотя Паташон при любой возможности намекал на твою «вину», Валерий, подтвердить ее могло лишь «самоубийство» или, по крайней мере, несчастный случай, похожий на самоубийство запутавшегося, мучимого совестью пьяного человека. И вот с бутылкой в кармане Паташон идет к тебе, Валерий. По пути занес сапоги Матвею, закрепил начатую интригу, заполучил еще одно полуалиби: если кто и обратит внимание на его ночные перемещения, он был у Филипенко. Повстречались Олег с Галиной: «Куда, дедушка?» — «К Матвею». Складно! Но не знал он, что трудится впустую, что никакого золота не существует, что все уловки обманывают прежде всего его самого, что безнадежно и окончательно заблудился он в своем порожденном безумным переплетением страха и жадности фантастическом мире. Нет, я не считаю его сумасшедшим. По-своему он был нормален и, останься жив, ответил бы перед судом без скидок. Но о точки зрения человеческой, естественной, гуманной говорить о «нормальности» поведения Паташона не приходится.
Его приходится только опасаться. Однако ты, кажется, был далек от этой мысли, Валерий? Хотя н отказался пить самогон.
— Самогон?
— Да. В бутылке была не водка, а самогон. Градусов шестьдесят с гаком. Хлебнув стопку такого пойла, ты, уже будучи пьяным, наверняка свалился бы с йог. Что и требовалось. Печь догорала, набитая угольями…
Валерии хлопнул себя ладонью по лбу.
— Я знаю, когда он прикрыл трубу. Я выходил…
— Теперь ясно. Потому что при тебе закрыть заслонку было все-таки рискованно.
— Я выходил. Появление этой мерзкой рожи подействовало на меня отвратно, но хотелось сообразить, зачем он явился. Я вышел и протер лицо снегом.
— А он тем временем задвинул заслонку. И взял носовой платок.
— Платок валялся.
— Паташон использовал его в последний раз. Это был практичный человек. И он не собирался оставлять отпечатки пальцев на заслонке. Вот откуда сажа на платке Когда ты вернулся, он не успел его спрятать, сжал только в кулаке.
— И заюлил: «Оставлю тебе водочку, Валера, сам я непьющий. Пойду, если сердишься. «Я ему: «Забери бутылку!» Он: «Как хочешь, а напрасно пренебрегаешь стариком». Ну и намекнул, сказал гадость… Вы знаете. Ударил я его. Но убивать не хотел.
— Ты и не убил. Но, падая, он ушибся затылком и потерял сознание. Но ненадолго. Однако этого оказалось достаточно. Угар начал действовать.
Вот мы все вместе и разобрались. Буду рад, если мои наблюдения пригодятся следствию.

Иван Шевцов Голубой бриллиант
Сердечно благодарю спонсоров Дмитрия Барышникова и Сергея Груздева за оказанную финансовую помощь в издании этой книги. Есть же еще на Руси добрые, благородные патриоты!..Иван Шевцов
Голубой бриллиант
Филологу русской словесности Ларисе Щеблыкиной посвящаю эту книгу.Иван Шевцов
О, женщина! Краса земная, Родня по линии прямой Той, первой, изгнанной из рая, Ты носишь рай в себе земной.Василий Федоров
Глава первая. Скульптор и натурщица
1
Скульптур Иванов возвращался к себе в мастерскую из цеха натуры с хорошим настроением: завтра к нему придет натурщица, и он, наконец, начнет новую, давно задуманную композицию, откладываемую из-за отсутствия подходящей модели. В выборе натуры он был по придирчивости требователен, ища совершенства женского образа как воплощения идеала природы-творца. На этот раз ему, кажется, повезло – в цехе предложили новенькую молодую натурщицу с гибкой стройной фигурой и броским энергичным лицом, на котором выделялись карие горящие глаза и пухлые трепетные губы. Впрочем, это было первое впечатление, которому наученный опытом Иванов не очень доверял. Но выбора не было. В троллейбусе этого маршрута постоянная толчея и давка – злые, уставшие от перестройки люди, толкаядруг друга, огрызаются, совсем не заботясь, об изящности речи. Как это нередко случается, троллейбус резко затормозил, ударил сорвавшейся штангой по проводам, с треском рассыпав фейерверк искр, и замер на месте, не доехав до остановки. – Машина дальше не пойдет! – объявил водитель. И загудел, загомонил ворчливый улей пассажиров, недовольных непредвиденной задержкой. – Господи, да что ж это такое!.. – раздался из утробы троллейбуса надрывный голос пожилой женщины. – Я же в церковь опоздаю. Да как же мне теперь? – Экая беда. Мне бы твои заботы, бабка: я на работу опаздываю, а она – в церковь. Дома помолишься, – успокоил ее густой грубоватый бас. – Пробовала, соколик, да из дому Бог не слышит. Надо, чтоб батюшка попросил. – Это смотря о чем просить, – продолжал все тот же бас. – В наше время и Бог не все может. – Моя просьба не трудная: я прошу, чтоб он ниспослал страшную кару на ирода, который столько годов над людьми измывается. – Женщине явно нетерпелось выплеснуть наболевшее. – Это кто ж таков? – поинтересовался бас. – А то сам не знаешь? Да Горбачев, а то кто же еще? Окаянный антихрист – до чего народ довел, – зло ответила пожилая женщина. – Так ты уж за одно и Ельцина с Поповым помяни за упокой, – подсказал молодой мужчина, проталкивающийся к выходу рядом с Ивановым. – И энтих не забуду, все антихристы-демократы. Одно жулье!.. – Сама-то небось за Ельцина голосовала, а теперь анафеме предаешь. Как же так – беспринципно получается! – подтрунивал бас. – И то правда – голосовала, чтоб ему провалиться. Я то думала, что он о людях печется. Да как не голосовать: пришли на квартиру черные, лохматые придурки, которые по телевизору грохают. Четвертной суют, вот тебе от Ельцина – спасителя России. Это тебе аванс. А проголосуешь за него и больше получишь. Я и проголосовала, четвертной же! – Выходит, за четвертной совесть продала, – не унимался бас. – И получила колбасу полпенсии за кило. – Да чтоб они подавились своей колбасой, окаянные. С этими словами она выкатилась на мостовую и проворно подалась вперед к остановке, по которой не дошел бедолага троллейбус, вероятно, давно исчерпавший свои ходовые ресурсы. Иванов отметил про себя, что неожиданный диалог высек на угрюмых лицах пассажиров веселое оживление. Видно, у острой на язык женщины было много сторонников и сочувствующих. Утром, когда Иванов ехал в цех натуры, падал густой влажный снег крупными хлопьями, одевая деревья и провода в белый пушистый наряд. Сейчас снег перестал, и в проталинах низких, рваных голубовато-серых туч на какое-то мгновение сверкал пугливый солнечный луч. На тротуарах и мостовой снег быстро таял под колесами машин и под ногами пешеходов. От талого снега воздух казался густым и сладковатым, и, несмотря на глубокую осень, пахло чем-то предвесенним, радужным, и в душе Иванова звучал навязчивый мотив песни на слова Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату». И теперь вспомнив спешащую в церковь старуху и ее беспощадный монолог в сломавшемся троллейбусе, он с тревогой и грустью, полными безысходного отчаяния, подумал: «Родную хату, о которой с такой сердечной болью писал маститый русский поэт, сожгли враги-фашисты, победив которых народ наш сумел за короткое время построить новые избы на фронтовых пепелищах. Но какие же враги снова, спустя без малого полвека, подожгли наш дом? Кто они – эти враги, как и откуда появились в самом сердце России, в Кремле, в котором так и не удалось побывать покорившему пол-Европы Адольфу Гитлеру?» Вопросы не требовали ответа: он уже содержался в самом вопросе. В душе Иванова едва ли не с детских лет звучали мелодии полюбившихся и врезавшихся в память песен, они поселились в нем навечно, стали частицей его самого и в последние годы все настойчивей и тревожней преследовали и распирали душу и вырывались иной раз наружу, когда он один находился в своей мастерской. Это были либо русские народные напевы, либо песни времен Великой Отечественной, по фронтам которой он в солдатской шинели прошел от Минска до Москвы и обратно до Варшавы, где был тяжело ранен. Эти внутренние мелодии приносили душе успокоение, а иногда напротив – создавали душевное напряжение, нагоняли тоску и печаль. Вдруг его осенило неожиданное открытие: а ведь который год в народе – в семьях, в домах, даже на свадьбах и вечеринках не слышно песен. Магнитофоны исторгают режущие слух истеричные визги, под которые девчата и парни, изгибаясь в немыслимых позах, изображают танцы. А песен не поет молодежь. Почему, что случилось с песней, которая всегда, во все времена, была душой народа, согревала сердца, была доброй спутницей в праздники и будни, вдохновителем и утешителем в горе и радости? Песню-мелодию, преисполненную глубокого смысла, подменили, как сказала та богомолка в троллейбусе, грохотом и скрежетом хаотических звуков, сопровождаемых двумя примитивными к тому же пошлыми фразами, вроде «Я тебя хочу», которые повторяются на протяжении двадцати минут. Такие песни не согреют душу, не посеят в ней добрые семена. Эти песни-выродки, песни-ублюдки, зачатые в наркотическом угаре скотского разврата и нравственного скудоумия. Иванов решил идти пешком – до мастерской оставалось каких-нибудь четыре-пять троллейбусных остановок. Чтоб не вспотеть, он отстегнул «молнию» темно-синей куртки, надетой поверх теплого грубой вязки свитера, купленного в еще «застойное» время. Его беспокойный, деятельный, целеустремленный характер не позволял медленной неторопливой прогулки, – он всегда ходил быстро, напористо, обгоняя прохожих. На ходу он всматривался в лица людей в надежде поймать хоть одну улыбку. Тщетно: лица у всех – молодых и пожилых – озабоченные, мрачные, суровые. Точно такими он видел москвичей в далеком сорок втором году, когда возвращался из госпиталя на фронт. Впрочем, такими и не совсем такими. У тех москвичей военной поры ощущалась неукротимая энергия и воля, неистребимая вера в победу и какое-то монолитное внутреннее единение, духовное согласие и непоколебимая, фанатичная убежденность в своей правоте. У этих, сегодняшних, он видел растерянность, апатию, агрессивную враждебность, отчужденность и неверие, духовную опустошенность. Нечто подобное он ощущал в самом себе. Но главное, что его поражало, – это состояние после августовской победы «демократов» и провала какого-то до нелепости странного опереточного путча, как будто спланированного в коридорах американского ЦРУ и израильского «Моссада». В те дни искусственного пьяного ликования записной митинговой толпы он вышел на улицу, направился было к центру и вдруг ощутил, что всегда любимая им Москва, его Москва, сердце и мозг великой державы, показалась ему чужой и даже враждебной. Это была уже другая, незнакомая ему Москва, и даже не Москва, а просто город, прогруженный в хаос, безликий, распутный, лишенный души и совести, напоминающий квартиру, в которой только что побывали воры и перевернули все вверх дном… И он вернулся в мастерскую. Мастерская Алексея Петровича Иванова помещалась в центре Москвы в глубине тесного двора в обособленном строении, в котором когда-то был книжный склад ведомственного издательства. Когда склад перебрался в новое помещение, эта сараюшка получила статус нежилых помещений и была отдана художественному фонду, который в свою очередь осчастливил скульптора Иванова мастерской. Алексей Петрович собственными силами и за личные деньги переоборудовал нежилое складское строение в довольно приличное помещение из четырех комнат со всеми удобствами московской квартиры: центральное отопление, газовая плита, ванна и даже телефон. Разве это не счастье – иметь собственный особняк, о котором он мог лишь мечтать, ютясь десять с лишним лет на правах приживалки в мастерской маститого скульптора – академика, лауреата всевозможных премий, общественного деятеля и депутата. Впрочем, слово «приживалка» здесь совсем не уместно. За тесный уголок в просторной двухэтажной мастерской академика Иванов платил высокую цену – весомую часть своего недюжинного таланта. Он был негласным соавтором многих помпезных монументов, воздвигнутых академиком в разных городах страны. Официально авторство монументов принадлежало академику, имя Алексея Петровича ни на одном не значилось, он довольствовался частью авторского гонорара, иногда довольно значительного, так что тайный соавтор был признателен явному своему благодетелю, который обеспечивал ему безбедную жизнь. Тем более что Иванов выкраивал время и на свои собственные работы. Он создавал изящные статуэтки, которые массовым тиражом штамповали как фарфоровые заводы, так и заводы монументальной скульптуры, отливавшие его композиции в металле. Делал Алексей Петрович и надгробия и мемориальные доски. Работал добросовестно, серьезно, в полную меру своего самобытного, неповторимого таланта, которому в душе завидовал даже его благодетель – академик, завидовал тайно, а явно смотрел на Иванова, как на подмастерье, в лучшем случае как на своего ученика. Избалованный почестями и вниманием власть имущих, самолюбивый и жадный, в своем эгоизме академик доходил до жестокости даже по отношению к близким. Друзья говорили Иванову: «Алеша, твой шеф тебя эксплуатирует. Зачем терпишь? Уйди!» Иванов на это лишь горько улыбался и мысленно отвечал: «А куда уйдешь? Художнику нужна мастерская, тем более скульптору. Это его производственный цех». А жена и слышать не хотела об уходе. Муж имеет хороший заработок, какого рожна еще надо? От добра добра не ищут. Но Иванов искал, искал собственное гнездо. И когда появился освободившийся из-под склада сараюшка, ушел. Он был рад, ощутив свободу и независимость. В мастерской было тепло, пожалуй, душно. Иванов разделся, даже свитер снял, остался в стального цвета рубахе с погончиками и накладными нагрудными карманами, открыл форточку и поставил на плиту чайник. Затем подошел к давно приготовленному каркасу для композиции, которую он завтра начнет лепить в глине. Эскиз ее, сделанный в пластилине, стоял рядом с каркасом на треногой подставке. Обнаженная девушка сидит на камне-валуне и смотрит в бесконечную морскую даль глазами, полными крылатой мечты, лучезарной надежды и жажды неземной любви. В руках девушки цветок ромашки с одним-единственным не сорванным лепестком. Автор назвал эту композицию «Девичьи грезы». С тех пор, как Иванов заимел свою мастерскую, в его творчестве главенствующее место занял культ женщины. Именно в образе женщины Алексей Петрович видел совершенство природы, гармонию и красоту. Он восхищался обнаженным женским телом, грацией и целомудрием. Он говорил: в этом мире достойны преклонения лишь природа и женщина. И он боготворил их. Осенью сорок пятого студент института им. Сурикова Алексей Иванов – застенчивый скромный юноша, прошедший через огонь войны, удостоившей его двумя ранениями, встретил очаровательную студентку-первокурсницу Ларису Зорянкину и влюбился первой мальчишеской любовью. В сорок первом году, когда фашистские полчища вступили на смоленскую землю, сельский паренек Алеша Иванов пошел в действующую армию добровольцем. И хотя он был старше Ларисы четырьмя годами, до нее он не знал девичьего поцелуя, не испытывал того святого с незапамятных времен воспетого поэтами и художниками всех народов чувства, которое называется любовью и на котором держится все великое, доброе и прекрасное на планете Земля. Лариса была его заветной мечтой, «гением чистой красоты», ангелом, ниспосланным ему небом, самой прекрасной девушкой не только на планете Земля, но и во всей Вселенной. Для Алеши Иванова не существовало в мире женщин и девушек, кроме Ларисы, его Ларисы. Студентка библиотечного института (ныне Институт культуры) и в самом деле выделялась незаурядной, можно сказать броской внешностью, певучим, ласкающим голосом, очаровательной улыбкой, иногда переходящей в звонкий смех, шаловливый, как перезвон дюжины колокольчиков. Она охотно позволяла студенту престижного художественного вуза делать с нее рисунки карандашом, ей льстило, что эти мимолетные наброски нравились ее институтским однокурсницам, а ее близкая и единственная подруга Светлана считала начинающего художника талантливым и нарекала ему знаменитое будущее. Своего будущего Алексей уже не мыслил без Ларисы, хотя сама Лариса более сдержанно, чем Светлана, оценивала способности Иванова и не спешила связывать свои планы на будущее со студентом, у которого не было собственной крыши над головой, а все его имущество состояло из солдатской шинели, гимнастерки и хотя и не кирзовых, хромовых, но далеко не новых сапог. Кроме Иванова у Ларисы были и другие поклонники, которых она, как и Алексея, не отвергала, держала на расстоянии чисто дружеских отношений. Она выбирала, благо был выбор; у каждого из поклонников она находила плюсы и минусы, достоинства и недостатки. Один внешне импозантен, даже красив, но высокомерен и глуп, другой нудно-многословен и неказист фигурой, у третьего слишком толстые всегда обветренные губы и большие растопыренные уши, четвертый красив, умен, с положением, но имеет жену, с которой не живет, а расторгнуть брак почему-то не торопится. Иванов нравился Ларисе своей хотя и не броской, но приятной внешностью: среднего роста, но плотный крепыш, темно-русый, сероглазый, с открытым доверчивым лицом, которое часто озарялось тихой доброжелательной улыбкой, а глаза, большие, оттененные густой бровкой темных ресниц, иногда излучали искренний неподдельный восторг. Не нравилась Ларисе доверчивая простоватая до наивности откровенность Алексея, готовность перед каждым встречным распахнуть свою душу. И еще раздражало Ларису его непоседливость, которую она воспринимала за суетливость. Тем не менее она, хотя и не без деланного жеманства, согласилась позировать ему для скульптурного портрета. Портрет в три четверти натурного размера был сработан всего за три сеанса по два часа каждый. Простая и очень естественная композиция: юная девичья головка изящно оперлась на красивые руки. Но все пленительное волшебство этого портрета исходило от лица девушки, от ее одухотворенного и вместе с тем загадочно-сосредоточенного взгляда, как бы обращенного во внутрь себя. И в этом чарующем взгляде, в тонких линиях, бережно очерчиваемых нежный овал лица, обрамленного красивой короной волос, было нечто трепетно-неотразимое, излучающее любовь и красоту С особой силой оно проявилось, когда молодой ваятель вырубил этот портрет в мраморе. От холодного камня струился горячий луч нежности и любви, которые вдохнул в кусок белоснежного мрамора даровитый мастер, вдохнул свою любовь и мечту. Лариса была приятно польщена. Этот маленький шедевр украсил скромную Ларисину комнату в коммуналке, в которой она жила с матерью – вожатой трамвая. Отец Ларисы не вернулся с войны. Ларисе нравился ее портрет, но она не понимала, что с рождением этого подлинного произведения искусства родился художник большого и самобытного таланта, способный проникнуть в душу портретируемого и рассказать о ней людям через свой восторг. В этом первом шедевре юного дарования воплотилось все главное, что определило будущую основу его творчества: божественное, доведенное до фанатизма, преклонение перед женщиной, ее неотразимой красотой и бездонной глубиной чувств. Однажды Лариса не пришла на свидание, и Иванов был невероятно огорчен и расстроен. Он звонил ей домой, но всякий раз соседи и ее мать отвечали: «Ларисы нет дома. Когда будет? Она не сказала». Так продолжалось неделю, а может, и больше. Начались студенческие каникулы, и Иванов уехал к родным на Смоленщину. Там он написал Ларисе несколько писем, но ответа не получил. И лишь возвратясь из деревни в Москву получил кратенькую торопливую записку: «Дорогой друг. Не суди меня строго. Ты хороший, славный и добрый. Прости меня и забудь. Позвони Светлане – она тебе все объяснит. Лариса». Он был ошеломлен и растерян, ему казалось, что земля ушла из-под ног, и он летит в какую-то бездну. Странная, ничего не объясняющая записка рождала массу вопросов и не оставляла ни малейших надежд на утешительные ответы. В тот же день он встретился со Светланой, с которой был знаком. Тревожные предчувствия и догадки его подтвердились: Лариса «внезапно» вышла замуж. Случай банальный и, к сожалению, не столь уж редкий: познакомилась с молодым представительным дипломатом, двенадцати годами старше ее, и к тому же холостым. Дипломату предстояла служба за границей, но при обязательном условии, что он уедет туда с женой. Сергей Зорянкин, влюбившийся в Ларису с первого взгляда, не теряя времени, сделал ей предложение. Она же, после некоторых колебаний и раздумий, посоветовавшись с матерью и Светланой, решительно отбросила все сомнения и пошла в загс. Когда Иванов после каникул возвратился в Москву, Лариса была уже в Тунисе. На другой день Иванов вместе со Светланой посетил несостоявшуюся тещу и забрал скульптурный портрет Ларисы, который впоследствии был его дипломом и получил наивысшую оценку. Теперь этот маленький шедевр, не превзойденный самим ваятелем, стоял на видном месте в «парадной» зале его мастерской. С тех пор минуло без малого полсотни лет. Алексей Иванов за это время участвовал в художественных выставках. Многие его работы были куплены Министерством культуры и переданы музеям в разных городах страны. Но этот портрет его первой любви он считал священным и выставлять его категорически отказался, а тем более продать. Мысленно он объяснял самому себе: «Меня она предала. Я ее не продам». Но вот готовилась к открытию большая престижная выставка, и после долгих колебаний Иванов решил, наконец, предложить на нее свою дипломную работу. Вероломство Ларисы – именно этим словом назвала ее поступок Светлана – нанесло Иванову тяжелую, долго незаживающую душевную и нравственную рану. Его жизненный идеал дал глубокую трещину и как бы раскололся на две части: «ненавижу – и все же люблю». Разумом он ненавидел Ларису, а в сердце долго еще не угасала его первая светлая любовь. Он с подозрительным недоверием смотрел на женщин, избегал и сторонился их, как бы «назло», «в отместку» Ларисе женился на ее подруге Светлане, без любви, скорее из чувства благодарности за ее участие, проявленное к нему после «вероломства» Ларисы. Он пытался убедить себя, что любит Светлану, а на самом деле он любил некий абстрактный идеал, созданный его лучезарной фантазией. А когда время спустило его на грешную землю и развеяло иллюзорный образ, он без душевного разлома, без семейных сцен, даже без объяснений тихо, с холодной выдержкой с одним чемоданом личных вещей ушел из дома к себе в мастерскую и подал заявление на развод. Светлана не возражала. Сын Василий к тому времени окончил Высшее военное училище пограничных войск и в звании лейтенанта служил на границе с Китаем. Брак их был расторгнут в юбилейный для Иванова год: Алексею Петровичу тогда исполнилось пятьдесят. За все эти долгие годы после расторжения брака Иванов ни разу не встречался со Светланой – судьба ее его не интересовала. Постепенно выветрился из памяти сердца и образ Ларисы, а беломраморная, с одухотворенным лицом и загадочно-сосредоточенным взглядом теперь была для него вечной неугасимой мечтой о женщине-ангеле, о неземной любви, о нетленной красоте, воплощенной в строгой гармонии плоти и духа. Как в творчестве Александра Блока, так и в творчестве Алексея Иванова образ прекрасной незнакомки занял центральное господствующее место, потеснив все остальное.2
Натурщица пришла, как и условились, в десять утра. Звали ее Инна. Когда вчера в цехе натуры Иванов спросил ее отчество, она ответила: «Просто Инна» и одарила его дружеской снисходительной улыбкой. Сегодня Иванов ее сразу не узнал, – вместо миловидной молодой женщины с изящной гибкой фигурой перед ним в прихожей стояла полная бочкообразная дама, маленькую голову которой угнетала огромная шапка из меха рыжей лисы. Корпус ее был втиснут в бесформенный розовый мешок, модный в годы «перестройки». Под цвет этого мешка были щеки, подкрашенные то ли легким морозцем, то ли помадой. Она протянула Иванову руку в черной перчатке и одарила его кокетливой улыбкой. Он помог ей снять пальто-мешок и проводил в просторную комнату, которую он называл залом, где на подставках разной формы и размера размещались его работы, в основном отформованные в гипсе. На самом почетном месте на изящной подставке, купленной лет пятнадцать тому назад в «комиссионке», стоял мраморный портрет Ларисы. На него-то сразу обратила внимание Инна. Пока она рассматривала работы скульптора, Иванов неназойливо рассматривал натурщицу. Освободившись от модных доспехов – шапки-гнезда и пальто-мешка, Инна приняла свой прежний приятный вид. Короткое черное, с золотистыми блестками платье, плотно облегающее ее гибкую фигуру, подчеркивало игривые круглые бедра и стройные точеные ноги. Глубокий вырез платья обнажал белоснежную шею, украшенную маленьким крестиком из голубой финифти на золотой цепочке. С видом профессионала-знатока и ценителя искусства Инна критически рассматривала фарфоровые статуэтки, изображающие юных купальщиц, обнаженные женские торсы, сработанные в дереве, портрет военного моряка, композицию из двух солдат-фронтовиков на привале; она то отходила от скульптуры, то снова приближалась к ней вплотную. Кофейные глаза ее оттененные зеленоватой дымкой, то щурились, то изумленно трепетали длинными надставными ресницами. Черные гладкие волосы с тяжелым узлом на затылке отливали синевой и хорошо контрастировали с ярко накрашенными беспокойными пухлыми губами. «Благодатный материал для живописца», – подумал Иванов, продолжая наблюдать за натурщицей и отмечая про себя: «Самоуверенная особа, должно быть, избалованная, властная и ненасытная в постели». Обойдя все выставленные работы, Инна возвратилась к портрету Ларисы, спросила, не поворачивая головы: – Кто эта девушка? – Этой девушке сейчас шестьдесят. – И у вас ее не купили? – Собственность автора. Продаже не подлежит, – дружески улыбнулся Иванов и, перейдя на серьезный тон: – Что ж, приступим к работе? Он пригласил Инну в другую, такую же просторную рабочую комнату, которую он называл «цехом». Здесь на полу, заляпанном гипсом и глиной, в беспорядке лежали небольшие блоки белого мрамора, толстые кругляки дерева, мешки с гипсом; в большом ящике громоздилась гора глины, покрытая целлофаном. Тут же на вертящейся треноге стоял закрытый целлофаном еще незаконченный портрет генерала. Рядом невысокий помост, сооруженный из ящиков. На нем стояло вертящееся кресло, своего рода трон для «модели». Как немногие скульпторы, Иванов лишь в исключительных случаях пользовался услугами форматоров и мраморщиков. Все делал сам: формовал, рубил в камне, в дереве. Особенно любил он работать в дереве: ему нравилась теплота и податливая мягкость материала, творя обнаженное тело, он как бы ощущал его дыхание, живую плоть. У стены на длинной полке толпились сделанные в пластилине эскизы человеческих фигур, почти все обнаженные и в основном женские. Иванов дотронулся рукой до одной из них, сказал: – Вот над этой мы с вами, Инна, будем колдовать. Композиция изображала обнаженную девушку, сидящую на камне-валуне – очевидно, у моря – с цветком ромашки в руке. На цветке остался последний лепесток. Взгляд девушки устремлен в даль морского горизонта, туда, где затаилась ее судьба, ее будущее, любовь и мечта. Как узнать ее, как разгадать? Поможет ли простенький неприхотливый цветок? «Если б ромашка умела все говорить, не тая…» Строка из популярной песни прошлых лет навела Иванову композицию будущей скульптуры. Инна оценивающе осмотрела эскиз и, очевидно, вспомнив мраморный портрет Ларисы, авторитетно произнесла: – У вас все с руками. Эти мне нравятся. Не люблю безруких. Наверно, вам они хорошо даются? Она резко повернулась к нему, сверкнув яркой самоуверенной улыбкой. Иванову понравилась ее меткая реплика. Действительно, он придавал особое значение рукам, и в его работах не было безруких. Руки помогали выявить характер портретируемого. «А ты, детка, проницательна и, кажется, не глупа, – мысленно произнес он и подумал: – сколько же лет этой „детке“?» Пожалуй, за тридцать. Тридцать с небольшим. Вместо ответа на вопрос он посмотрел на ее руки и неожиданно для себя обнаружил первый минус «модели»: руки ее были далеки от совершенства, особенно кисти с короткими толстыми пальцами. И ярко-красный лак на куцых ногтях лишь выпячивал это несовершенство. А ведь им придется держать цветок с последним лепестком. Предпоследний сорванный, но еще не брошенный лепесток останется в другой руке. Нет, руки Инны определенно не подходят к его композиции. Факт досадный, но поправимый: он вылепит руки другой девушки, тут особых сложностей не будет. Мысли его спугнул ее вопрос: – Как вы назовете свою работу? – «Девичьи грезы», – быстро ответил и прибавил: – Это пока условно. А вы хотите предложить что-нибудь поинтересней? – Да нет, я не думала. – Ну тогда за работу. Раздеться можно в той комнате. – Он указал кивком головы на дверь комнаты, которая служила ему кабинетом и столовой. В «цеху» был включен электрообогреватель, Иванов мельком взглянул на термометр, столбик которого показывал плюс двадцать шесть, и снял с себя светлый безрукавный шерстяной свитер, остался в темно-коричневой рубахе. Расстегнутый ворот обнажил короткую жилистую шею. Обычно он работал в черном парусиновом фартуке, сегодня решил не надевать его, чтобы выглядеть перед молодой дамой опрятным. Вообще Алексей Петрович следил за собой постоянно, независимо, где и с кем он находился. Темно-русые усы и такая же бородка, отмеченная с обеих сторон двумя мазками седины, всегда были аккуратно подстрижены и причесаны. Седые, изрядно поредевшие волосы крутой прядью падали на упрямый, изрезанный двумя глубокими морщинами лоб. Подвижные, темные, без намека на седину брови во время работы хмурились, делали его взгляд суровым и холодным. Ожидая выхода натурщицы, Иванов крепкими натренированными руками разминал податливую, серую, с зеленоватым оттенком глину и накладывал ее на проволочный каркас, на котором и должна появиться девушка с ромашкой. – А у вас там свежо, – раздался за его спиной тонкий, вкрадчивый голос Инны. – Здесь потеплей, – равнодушно ответил Иванов и, повернувшись, деловито осмотрел обнаженную женщину. Гибкая стройная фигура молодого упругого тела, отличавшегося чистой белизной, превзошла его ожидания. «Русская Венера, наверняка не рожала», – подумал он, любуясь изяществом и гармонией девичьей стати. И только огромные невероятной конструкции серьги, прикрепленные к далеко не изящным ушам без мочек, казались совсем неуместными. «Серьги придется снять», – подумал Иванов и обратил внимание на кольца. Их было целых пять: на обручальное и витое из белого металла. На другой – на двух пальцах три кольца: отдельно с жемчугом и два с камнями. «Многовато, – подумал Иванов. – Очевидно, что б отвлечь внимание от не изящных пальцев». Предложил: – Прошу вас на трон, примите позу, как это изображено в пластилине, возьмите в руки вот этот цветок. Представьте себе, что это ромашка с последним лепестком. – Инна легко взошла на помост, где рядом с креслом стоял включенный электрообогреватель, и привычно приняла предложенную позу. Иванов поглядел на нее прищуренно и продолжал: – Вам надо войти в роль. Попробуйте. Вы влюблены пылкой девичьей любовью. Быть может, первой в своей жизни. Вспомните свою первую любовь – это же ничем и никем неугасимый пожар! Ваши чувства – они написаны у вас не лице, во взгляде, в глазах, даже они отражаются в руках, в этих трепетных пальцах, держащих спасительный цветок, надежду и мечту. Перед вами море, даль безбрежная, светлая мечта. На чистом здоровом лице Инны заиграла вежливая улыбка, а в глазах искрились лукавые огоньки, и Иванов понял: «Не получится у тебя, детка. Тебе, наверно, не пришлось испытать пожара первой любви. Она, кажется, была у тебя первая, но только без пожара, и ты ее уже не помнишь». Но ничем не выразил своей досады и продолжал: – Ну хорошо, это оставим на потом. А сейчас займемся фигурой. Рука с цветком должна быть энергичней и в то же время ласковой, нежной. Руку с лепестком ослабьте, лепесток этот сейчас упадет. Правую ногу опустите чуть пониже, у вас красивые ноги, чудесное тело, красоту нельзя скрывать, как и нельзя навязчиво демонстрировать, – все должно быть естественно, как в самой природе. Его поощрительный теплый взгляд, приятный, мягкий, слегка приглушенный голос и эти лестные по ее адресу слова согревали душу и вызывали ответную симпатию, – она не считала их дежурным комплиментом. «Этот человек искренний, добрый и нежный», – думала Инна, глядя на Иванова прямым, полным любопытства взглядом. Он вызывал в ней симпатию как художник, работы которого ей пришлись по душе, особенно тот мраморный портрет девушки. «Так и не ответил, кто она. Похоже, что его первая любовь, – думала Инна, наблюдая как быстро в руках этого немногословного мастера обыкновенная глина превращается в женский торс. – Он так искренне, трогательно говорил о любви, в которой, надо думать, знает толк. Интересно, он женат?» Спросить пока не решалась, это успеется. Он работал быстро, напористо, вдохновенно с юношеским задором. По крайней мере этого творческого огня она не замечала у тех художников, которым позировала. Словно угадав ее мысли, он спросил: – Вы давно работаете с художниками? Какой у вас опыт? – Считайте меня начинающей. – Глаза ее лукаво блеснули. Подумала: «Самое время спросить о возрасте». – Вы такой энергичный, такой жадный в работе. Простите за нескромный вопрос, сколько вам лет? Он сверкнул на нее мгновенным взглядом и, не отрываясь от глины, негромко проговорил: – Умножьте свой возраст на два и получите мой. – Думаю, вы ошибаетесь: мне не двадцать и не двадцать пять. Гораздо больше. – Под тридцать или за тридцать, – утвердительно произнес он. – В таком случае вам за шестьдесят? Не поверю. – Я и сам не верю. Потому и не стал отмечать свое шестидесятилетие. Не почувствовал его, или просто забыл. Это было давно, – бросил он мимоходом, не отрываясь от работы. Инна продолжала изучающе наблюдать за ним; ее поражал творческий порыв Иванова, его прицеливающийся, энергичный взгляд, которым он торопливо обстреливал ее, словно боялся что-то упустить, куда-то опоздать. Она восхищалась серьезным, сосредоточенным выражением его свежего, здорового лица. «Не уж-то ему за шестьдесят? Интересный мужчина. А эти две серебряные вспышки в его темной бородке, седые усы и черные брови – какая прелесть!» – А почему б вам не назвать эту свою работу «Первая любовь», – неожиданно для себя сорвалось у нее с языка. Он промолчал, лишь выпрямил крепкие крутые плечи. Она продолжала: – Вы так хорошо говорили… о первой любви. – В жизни человека любовь – святое чувство, а первая любовь – святейшее. Потому оно долго не выветривается из памяти сердца, – сказал Иванов, отводя от натурщицы глаза, полные страстного возбуждения, он не сказал, что «Первой любовью» он называет портрет Ларисы. «А вот я свою первую не помню. И была ли она вообще? – подумала Инна, и мысль эта неприятно уколола ее. Ей было неловко, и досадно, и завидно пожилому скульптору, который так бережно хранит свою первую любовь. – Возможно, это его жена, и он строго хранит супружескую верность. Чушь, таких не бывает, и я это докажу. Я нравлюсь ему, он сам об этом сказал. Может, импотент? Но таких не бывает – бывают неопытные женщины, как говорит профессор сексологии Аркадий Резник», – будто от какой-то обиды мысленно взорвалась она. Аркадий Резник был ее мужем. Инна считала, что она знает мужчин и разбирается в их психологии. В этом деле она к тридцати годам имела солидный опыт. Женщина повышенной сексуальности, она не вступала с приглянувшимися ей мужчинами в длительную связь, в основном это были «одноразовые»: удовлетворив свою похотливую страсть, она больше не возвращалась к своему избраннику. Корыстных целей она не преследовала. «Половой альтруизм», – проиронизировала она над собой. – Не замерзли? – спугнул ее размышления приятно-доброжелательный голос Иванова. – Немножко, – ответила ее кокетливая улыбка. – Отдохните. Инна легко соскочила с подмостка и, играя податливым телом, плавной походкой поплыла в кабинет, где лежала ее одежда. Первый час позирования для нее пролетел быстро, она нисколько не устала, хотя малость озябла. В кабинете она набросила не себя свой пуховый дымчатого цвета платок. Она брала его всякий раз, идя на позирование: он хорошо согревал после сеанса. Из кабинета с сигаретой в зубах заглянула в зал, куда неумолимо влекло ее необъяснимое желание – ей хотелось еще раз посмотреть беломраморный портрет юной девушки. Стоя перед ним и внимательно вглядываясь в одухотворенное лицо, она старалась разгадать тайну притягательной силы белого мрамора, одушевленное колдовским искусством мастера. «Могучий талант, – мысленно оценила она и тут же поправилась: – нет, такое определение не подходит. Могучий – это когда на площади монумент. А этот нежный, задушевный, ласкающий. Добрый талант или гений», – подытожила она свои размышления. Она еще раз обратила внимание на тонкую лепку изящных рук, на плавные линии пальцев, подпирающих круглый подбородок, на слегка намеченную тугую грудь, с трепетным соском. Она заметила эту деталь только сейчас. «Это сделано не навязчиво, целомудренно, с большим тактом», – отметила про себя Инна, и мысль ее сразу же обратилась к композиции «Девичьи грезы», над которой «она с Ивановым» сейчас работает. У нее хватило ума и фантазии, чтобы представить себе эту будущую скульптуру и по достоинству оценить замысел автора. Если здесь только портрет «бюстового» размера, хотя и с руками, то там – во весь рост, обнаженная во всей прелести своего изящного тела. Эта приятная мысль льстила ей и вдохновляла. Она представила себя беломраморную, а может, в дереве (нет, лучше в мраморе или в бронзе) среди выставочного зала, толпящихся вокруг нее зрителей с тайным вопросом: кто она – эта богиня красоты? «Алексей это сделает с блеском: он добрый гений». Ее гений, – твердо решила Инна, направляясь в «цех». А «добрый гений» в это время стоял у большого окна, на подоконнике которого громоздились горшки с комнатными цветами, и наблюдал за висящей на натянутой веревке птичьей кормушкой из бумажного пакета от молока, в которую соседка только что насыпала семечек. Стайка шустрых голодных синиц как рассерженные осы яростно атаковала кормушку, отталкивая и крылом и клювом друг дружку. Каждая думала только о себе: борьба за выживание. Эта забавная, но довольно грустная картина ассоциировалась с наступающим новым 1992 годом, который по всем признакам обещал быть для России голодным и холодным, с людскими бедами и страданиями, перед которыми его предшественник покажется благодатным. Вот так же, как эти синицы, голодные люди в борьбе за выживание будут убивать друг друга за кусок хлеба. Впрочем, у синиц все обходится бескровно, они благородны и благоразумны. А люди… Иванову вспомнился недавний случай в булочной, где покупатели едва ли не дрались из-за остатков хлеба. Перед этим он побывал в четырех булочных, но полки их были пусты. И вот у пятой толпился народ. Иванов стал в очередь. Но хлеб быстро кончился, ему не досталось. А за ним еще тянулся хвост жаждущих купить хотя бы один батон. Озверелые, возмущенные, они, расходясь посылали проклятия правителям страны. Между двумя пожилыми мужчинами, которым так и не досталось хлеба, произошла ожесточенная свара можно сказать из-за пустяка. – Их обоих, и Горбачева и Ельцина, надо повесить на одной осине… Сухой осине, – с ожесточением выкрикивал один. А ему на полном серьезе и с не меньшим ожесточением возражал другой: – Нет, не вешать, топором их надо! Только топором! – А я говорю – вешать, как Иуд продажных. – На плахе и топором! И чтоб палач – по всем правилам! – горячился второй, сжимая кулаки, и в его остервенелом взгляде, исторгающем гнев и ненависть, Иванов уловил нечто палаческое, и ему стало жутко. Подумал: до чего довела народ «перестройка». Кипение достигало предела, вот-вот произойдет взрыв, и тогда начнется тот бунт – бессмысленный и беспощадный, о котором говорил Пушкин. Чтоб погасить назревавший из ничего скандал, Иванов решил вмешаться миролюбивой репликой: – Товарищи, предлагаю консенсус или по-русски компромисс: одного повесить, а другого на плаху и топором. – Но к немалому удивлению его острота вызвала горькую, вымученную улыбку на лице лишь двух женщин, которым не досталось хлеба. Умокшие спорщики с мрачным ожесточением покидали магазин, не обмолвившись ни одним словом на шутливое замечание Иванова. Иванов повернулся от окна. Перед ним стояла обнаженная Инна. Пуховый дымчатый платок покрывал только плечи и одну грудь. Другая вызывающе выглядывала из-за пухового платка, концы которого игриво касались черного треугольника лобка. Инна смотрела на скульптора в упор выжидательным и в то же время призывно-глуповатым взглядом. Обжигающие глаза ее вопрошали: «Приказывайте». В ответ он окинул ее с головы до ног небрежно и равнодушно и сказал своим обычным вежливым тоном: – Если отдохнули, то начнем? – У вас есть в Москве квартира? – неожиданно спросила она. – Нет. Квартиру я оставил жене. А мне и здесь не плохо. Даже хорошо. Мои хоромы мне нравятся. – Вы давно разошлись? – Давно, – неохотно ответил он и кивком головы указал на кресло. Она молча шагнула к помосту, он подал ей руку и помог сделать шаг на возвышение. Рука ее была горячая и цепкая. Не спеша, несколько манерно сняла с плеч платок, небрежно швырнула его на спинку кресла и затем заняла прежнюю позу. Торс уже был основательно проработан, и после перерыва Иванов занялся детальной отделкой ног. И все молча, без единого слова или замечания. Инна с интересом следила, как из темной бесформенной глины рождаются изящные женские ножки, – ее ноги, которые он находил «красивыми». Глядя на себя как бы со стороны, она испытывала приятное ощущение собственной значимости. В то же время ее злило его равнодушие к ней. В нем не было и намека на чисто мужской интерес, который она наблюдала прежде при позировании. Она размышляла: «Одинок. Возможно, есть любовница. Я для него просто модель, натурщица. Женщину во мне он упрямо не желает замечать. Или играет? Не похоже. Не нравлюсь, не в его вкусе?» Нет, такого Инна допустить не могла. Она была избалована вниманием мужчин, распускавших перед ней павлиньи хвосты. Она не отзывалась на зов первого встречного, не отвечала на домогательства поклонников. Избравшие ее не интересовали: она предпочитала сама выбирать. И покорять непокорных, брать приступом стойких. В ней жил азарт охотника, дерзкого, самоуверенного и всегда удачливого. А может, ей просто везло? Впрочем, она не сомневалась, что повезет и на этот раз, не устоит перед ее чарами певец женского обаяния и красоты Алексей Иванов. Недаром же она супруга профессора сексологии. А это о чем-то говорит. Иванов рассчитывал сегодня закончить работу над ногами и завтра вчерне наметить руки. Он твердо решил, что руки Инны, а точнее – пальцы не подходят для задуманного им образа, как и лицо, и что для завершения работы, а в сущности для создания главных и основных элементов, ему придется искать другую модель. Раздался телефонный звонок. Из выставкома просили срочно доставить в Центральный выставочный зал работу. Речь шла о композиции «Первая любовь». Через полчаса к мастерской подойдет машина, на которую автор погрузит свое произведение и сам отвезет его на выставку. Извинившись перед Инной, Иванов сказал, что сегодня придется прерваться и условился о встрече на завтра, прибавив с тихой улыбкой: – Пока глина не высохла будем спешить. По выражению ее лица Иванов понял, что она огорчена прерванной работой и готова была позировать дольше намеченного времени.Глава вторая. Жена сексолога
1
Весь остаток дня Инна думала об Иванове и о начатой им композиции «Девичьи грезы». Но прежде всего о самом скульпторе. То, что он талантлив и что талант его оригинален, у нее не было сомнений. Самобытность его дарования она видела в его постоянстве в работе над образом женщины и в этом угадывала его творческое кредо. «А как он говорил о любви! – вспомнила Инна слова Иванова, его озаренное чистым светом лицо, с которого в тот миг, казалось, даже исчезли морщины – следы долгих и трудных прожитых лет. И уже не работы скульптора, не обнаженные женские фигуры, полные изящества и грации, а сам их создатель завладел мыслями Инны. Инну оскорбляло и злило, что он даже не поинтересовался ее семейным положением, как это обычно делают мужчины в отношении приглянувшихся им женщин. Выходит, не приглянулась? Быть того не может: разве не он сказал „у вас красивые ноги“? Возможно, у него такой характер – необщительный, замкнутый? Хотя не похоже: доброжелательный взгляд, вежливая любезность, не холодная, но и без интригующей страсти. Несомненно этот Иванов – человек особый, по крайней мере, мужчина не как все. А он интересовал ее как мужчина, не похожий на тех, которые встречались на ее не ровном и не всегда гладком жизненном пути. Он привлекал ее даже своей хотя и неброской, но приятной внешностью, за которой он умел следить. Его простые и в то же время вежливые манеры, тактичность, скромная замкнутость, прерываемая яркой блаженной улыбкой мечтательных глаз, притягивали к себе какой-то загадочностью и тоской, в которую так и влекло проникнуть и разгадать. И она со свойственной ее характеру настойчивой самоуверенностью и непоколебимой решимостью приказала себе идти на штурм. И незамедлительно. Не в ее нраве было раздумывать и откладывать на будущее исполнение своих интимных желаний. Наметив цель, она воспламенялась необузданной страстью, в огне которой готова немедленно сжечь себя дотла. Она отметала мысли о возрасте Иванова и его мужской потенции. Для нее это не имело значения. Ей нужны были его возвышенная душа, которую она безошибочно определила, его чистая неземная любовь или хотя бы мимолетные слова любви из его уст, нежность и ласка его талантливых рук, которые так искусно изваяли женское тело, его трепетныхобжигающих губ, его негромкого проникновенного голоса, – она жаждала получить от Иванова сполна всего, что нарисовало ее пылкое воображение. Она хотела разжечь в нем то, что он называл „негасимым пожаром“. Ко второму сеансу Инна готовилась как к большому празднику. Прежде всего она наденет другое платье. Сережки эти он велел снять, мол, они мешают ему работать. Из деликатности он не сказал, что они не идут ей, но она сама догадалась, что это «безвкусица», и решила их никогда не цеплять. Можно и без них. Не забыла про французские экстрадухи, предназначенные для особого случая. И конечно же, плоская бутылочка трехзвездного коньяка – к сожалению, не французского, грузинского, но где сейчас другого достанешь? Впрочем, Грузия тоже заграница. Ничего, сойдет: коньяк он и в Африке коньяк, независимо от этикеток и звезд на них. Удобно ли приходить со своим коньяком? Скажет: для сугрева после позирования, – шутка ли сидеть два часа в чем мать родила. Тут никакой электрообогреватель не поможет. А кроме того, как намек на будущее, мол, приготовь что-нибудь посущественнее кофе или чая. Она видела у него в кабинете бутылку шампанского: значит, выпивает. Ванну приняла накануне вечером и затем еще утром в день перед уходом к скульптору, чем вызвала ревниво-язвительную реплику профессора сексологии: «Ты опять собралась на свой… ледоход?» Она не сочла нужным отвечать на подобные «колкости». Аркадий Резник знал, что жена ему изменяет, и смотрел на это спокойно, как на роковую неизбежность, с которой он давно примирился, но что она работает натурщицей, он даже не подозревал. Целуя ее перед уходом, он обычно мрачной, ироничной ухмылкой напоминал: «Не забывай о СПИДе», на что она отвечала с легкомысленным смешком: «Нам это не грозит». Что под этим подразумевалось, Резник не знал, но и спрашивать не успевал, потому как быстро закрывалась за женой входная дверь. Да и не было особой охоты спрашивать. Конечно же, от Резника не ускользнула маленькая, но существенная деталь, кроме вечерней и утренней ванны – сегодня Инна надела не пальто-мешок, а изящную светло-коричневую дубленку с белым воротником и опушками, купленную в Париже. Голову Инны украсила белая вязаная шапочка и такой же длинный шарф. На ногах совсем еще новые белые сапожки. В этом наряде выглядела она эффектно, привлекая взгляды прохожих. Убегали последние дни девяносто первого года, а зима в Москве, как и на всей средней полосе России, не спешила заявлять о себе в полную силу, вопреки прогнозам метеорологов. Дни стояли мягкие, мрачные, бессолнечные, и температура редко опускалась ниже нуля. До назначенного часа у Инны оставалось минут сорок, она сочла неудобным прийти раньше времени и поэтому от метро до мастерской Иванова решила прогуляться пешком. В радостном приподнятом настроении она легко шагала по грязным московским улицам, предвкушая нечто необыкновенное и приятное, что должно произойти с ней сегодня. Обычно невозмутимая и самонадеянная, она вдруг ощутила непривычное для себя волнение, и чем ближе оставалось до мастерской, тем сильнее становилось такое состояние. Мысленно она разыграла весь «сценарий» предстоящей атаки и затем штурма загадочной «крепости», воплощенной в лице скульптора Иванова, и не допускала какой-нибудь непредусмотренной неожиданности. Незнавшая поражений в завоевании мужских сердец – и не только, вернее – нескольких сердец! – она решила идти напролом.2
Отвезя на выставку свою работу под названием «Первая любовь» и возвратясь к себе в мастерскую, весь остаток дня и вечер Алексей Иванов продолжал работать над композицией «Девичьи грезы». Фигура и ноги девушки были закончены, и мастер рассчитывал за следующий день «набело» вылепить и руки, кроме пальцев, – лицо и пальцы он будет лепить с другой модели. Но об этом Инне он не скажет ни завтра, ни в следующий раз, которого не будет. Инна пришла в мастерскую, как говорится, минута в минуту. Не без некоторого любопытства Иванов обратил внимание на ее новый эффектный наряд, но воздержался от «комментарий», даже вида не подал. Заметил он и некоторую возбужденность в пылающем лице Инны, особый лихорадочный блеск в ее глазах, резкую решительность в жестах. Он помог ей снять дубленку и длинный шарф, и ровным, спокойным, без интонации голосом сказал: – Проходите в кабинет, разоблачайтесь. Но Инна не спешила выполнять его приказ. Стоя перед Ивановым и улыбаясь красивым, цветущим лицом, на котором вместо естественной одухотворенности сверкала поддельная нарочитая страсть, она достала из сумочки коньяк и пояснила: – Вот взяла для сугрева после сеанса. Вчера я немного продрогла. Боюсь простуды. Вы не будете возражать? – Да нет же, после сеанса – пожалуйста, – как-то даже слегка тушуясь, замялся Иванов. – Вы мне составите компанию, устроим пир, – с излишним восторгом сказала она и, направляясь к двери кабинета, прибавила: – Хотя для пира этого флакона недостаточно. Если к нему бы шампанского… «Однако ж, – подумал с удивлением Иванов. – Значит, вчера она узрела у меня в кабинете бутылку шипучего». Ее Алексей Петрович приготовил к Новому году. Подумал: очевидно, состоит в дружбе с Бахусом. Сегодня она показалась ему другой, какой-то наэлектризованной, неестественно оживленной. И эта возбужденность делала ее лицо более привлекательным, но не одухотворенным. Значит, в душе пустота, – заключил Иванов. Из кабинета она вышла дразнящей походкой, сверкая белизной своего гибкого тела, дохнула на Иванова щекочущим ароматом духов, привычно взошла на помост и села в кресло царственно, как на трон, приняв свободную позу. Иванов нахмурил властные брови, окинул ее прицеливающимся взглядом и начал лепить руки. А она смотрела на него неотступно затуманенными загадочными глазами. – Что б вам не было скучно, вы можете говорить, – благосклонно разрешил Иванов и прибавил: – Мне это не мешает. Мы сегодня должны успеть закончить руки. – Я готова сидеть хоть до посинения, – шутливо отозвалась Инна и вдруг выпалила: – Знаете, Алексей Петрович, в вас есть что-то притягательное, неотразимое. Вам никто об этом не говорил? Легкая ироническая улыбка скользнула по губам Иванова и затерялась в ухоженной бородке. После продолжительной паузы он, ответил, растягивая слова: – Я за собой такого дива не замечал. Думаю, что вам показалось. – Он посмотрел на нее хитро и дружелюбно. – Вы, наверное, пользуетесь большим успехом у женщин? – напрямую продолжила она. – И этого не замечал. Да и чего бы? – У вас на лице написан интеллект, а в глазах – любовь и доброта. «Кажется, началась игра, – подумал Иванов. – Принимать или сразу пресечь? Ну что ж, давай продолжай. Любопытно. – И сразу вспомнил коньяк да плюс его бутылка шампанского. Придется распечатать, никуда не денешься. И встретить раньше времени Новый год. Впрочем, можно проводить старый». – А разве женщинам нужен мужской интеллект? – спросил и сам ответил: – Сомневаюсь. – Но у вас, кроме интеллекта, есть и внешние данные. Бог вас не обделил, – повторила чужие слова, сказанные кем-то в ее адрес. – Это все в прошлом. У художника-передвижника Максимова есть картина, которая так и называется: «Все в прошлом». Грустная, трогательная вещица. У заброшенной барской усадьбы сидит ее хозяйка – старая немощная барыня, возможно, графиня. – Я знаю эту картину, – быстро перебила Инна. Прежде, чем пойти в натурщицы, она основательно прошлась по залам Третьяковской, побывала на всевозможных выставках и причислила себя к сонму ценителей и даже знатоков изобразительного искусства. Обрывая нить начатого разговора, она вдруг спросила, что он думает о художнике Александре Шилове. – Лично я с ним не знаком, но живописец он что надо, правда ему не достает фантазии. – А Глазунов? – стремительно спросила Инна. – У Ильи фантазии на десятерых хватит. – А мастерства? – Есть и мастерство. У него крепкий рисунок. Да и живописец он, в общем, неплохой. – Неплохой – значит посредственный? – Я этого не сказал. Могу уточнить: хороший живописец. – А из современных скульпторов кого вы считаете большими мастерами? – продолжила она все так же стремительно, желая утвердить себя ценителем изящного. – Главный приз я бы отдал Евгению Вучетичу. Это звезда первой величины. Не побоюсь назвать его гениальным. – А что у него? Сталинград, Берлин, а еще? – В Москве был Дзержинский, в Киеве – Ватутин, в Вязьме – Ефремов. – Дзержинский, которого сбросили. А разве можно гениальных сбрасывать? – Во времена дикости и варварства, навязанных нам из вне, господствует беспредел, вседозволенность и глупость. – Почему из вне? Вы считаете, что нам навязывали? – То, что сегодня происходит, явно не русского происхождения. – Но делают русские! – Так ли? Фамилии да имена русские. На самом деле… – Он недоговорил, прервав себя замечанием ей: – Вот эту руку чуть-чуть повыше. И немножко в сторону. Приоткройте сосок левой груди. – Он только сейчас заметил, что правая грудь, полностью обнаженная, далеко не девичья и не подходит к той, юной, девственно-невинной, образ которой он задумал. – Отдохните, – неожиданно сказал он и протянул ей руку, помогая сойти с подмоста. – Вы, кажется, не курите? А мне можно? – Курите… не могу сказать «на здоровье», во вред здоровью. Но о своем здоровье вы должны сами заботиться. После перерыва он продолжал лепить руки. Она спросила: – Вы всегда лицо лепите в последнюю очередь? – Лицо – самое главное в нашем деле и потому самое сложное и трудное. – Подумал: «Как она будет огорчена, разочарована и возмущена, когда узнает, что лицо будет не ее. Самолюбие ее будет предельно уязвлено». Он сказал, что работа над руками требует особого сосредоточия, особенно, когда дело доходит до пальцев, поэтому попросил ее помолчать. – На все ваши вопросы я постараюсь ответить после работы за чаем. – И коньяком, – напомнила Инна. – С шампанским, – добавил Иванов.2
Как только закончился второй сеанс, Иванов сказал: «На сегодня хватит, пойдем пить ваш коньяк». Со словами «И ваше шампанское» Инна проворно и легко соскочила с подмоста и, позабыв набросить на обнаженное тело дымчатую шаль, выдернула из розетки шнур обогревателя и спросила с явным возбуждением: – В каких апартаментах будем пировать? – Выбирайте сами, какие вам понравятся, – машинально, без всякой задней мысли ответил Иванов, и Инна быстро схватила шаль, но не набросила на себя, а воспользовалась ею чтобы не обжечь руки, потащила электрообогреватель в … спальню. – Здесь у вас уютней. Люблю уют и обстановку интима. – Включила обогреватель. «Уют» состоял из разложенного с откинутой спинкой дивана, покрытого добротным зеленым пледом, полумягкого стула, на котором висел пиджак хозяина, продолговатого журнального столика и ковра-паласа, покрывавшего большую часть пола этой небольшой квадратной комнаты. «Однако же…» – мысленно произнес Иванов и пошел за коньяком, шампанским и закуской, подмываемый любопытством. Инна вышла следом за ним в кабинет, где была ее одежда, и тотчас же возвратилась в спальню в своем белом прозрачном платье, надетом на голое тело. Белье оставила в кабинете. Иванов не ожидал застолья, извинился за скромную закуску: остаток колбасы, банка лосося и под занавес кофе с овсяным печеньем. – По нынешним временам это же шикарно! – успокоила его Инна, садясь на диван, оставляя для хозяина стул. Эта деталь, как и то, что она выбрала спальню и нарядилась в одно платье, не осталась незамеченной Ивановым. Странное, необычное для себя чувство испытывал Алексей Петрович, – смесь чисто мужского любопытства, неловкости и сомнения, вызванные столь стремительной и откровенной атакой Инны. Он знал, чего она от него хочет и добивается с таким напором, но не понимал, зачем ей это нужно именно от него, именно он, в его возрасте, зачем ей понадобился? Для коллекции? Что за прихоть и что она за человек: он хотел понять. У него давно не было женщин. Сам он их не искал и решил, что с этим покончено, все в прошлом. Его поезд ушел, ему скоро семьдесят. В настоящем и будущем для него оставалась мечта о прекрасной даме, о возвышенных чувствах, о неземной любви. Свою мечту он воплощал в творчестве в образе женщины, прекрасной телом и душой, в божественном идеале, вобравшем в себя все великое и святое в нашем преступном, продажном, изолгавшемся и жестоком мире. – С чего начнем? – спросил Иванов, беря шампанское. – Лучше с коньяка. Шампанским хорошо потом. Алексей Петрович никогда не увлекался спиртным. В средние годы выпивал изредка, предпочитал полусладкие вина. Водку не терпел. В последнее время позволял себе по случаю рюмку коньяка. Коньяк у него всегда водился, для друзей, которых у него было не так много. Бутылку шампанского получил в новогоднем заказе, как ветеран Великой Отечественной. Инна любила выпить. Отдавала предпочтение коньяку и шампанскому. Сделанные Резником запасы иссякли, а раздобыть в эти последние месяцы года спиртное даже по талонам было делом почти немыслимым. Первые рюмки коньяка выпили до дна «за знакомство», и Инна снова наполнила. Лицо ее как-то сразу сделалось розовым, щеки пылали огнем. – За успех ваших «Девичьих грез». Они мне очень по душе. За вас, – торжественно сказала Инна и чокнулась. «Спешит, торопится накалить себя, – решил Алексей Петрович и, сделав один глоток, поставил рюмку. – Вы воздерживаетесь? Наверно, в свое время не пропускали, – сказала она и с наслаждением опорожнила вторую рюмку. – Открывайте шампанское. Люблю этот божественный напиток. И чтоб обязательно с выстрелом. Иванов выстрелил, медленно, наполнил ее фужер, себе не стал, сказав, что у него от шампанского болит голова. Она не настаивала, поболтала ножом в фужере, выпустив воздух, и выпила залпом. Потом уставила на Иванова прямой, слегка прищуренный, полный любопытства взгляд, медленно заговорила: – Вы, Алексей Петрович, смотрите сейчас на меня нехорошо. Осуждаете. И ошибаетесь. Да, да, не возражайте, я знаю, что вы думаете. Развратная бабенка набросилась на первого встречного, ну-ну и все такое. И ошибаетесь. Я в мужиках не нуждаюсь, вокруг столько бродят молодых здоровых кобелей, разных кавказцев, кооператоров с тугими кошельками и цинично зазывают. А мне это не нужно. Мне душа нужна. Вот вы, Алексей Петрович, очень красиво о любви вчера говорили. Просто сердце радовалось, когда я смотрела на вас и слушала. И глаза ваши светили такой добротой. У вас красивые глаза, неотразимые. – Она захмелела. – Извините меня за нескромность: у вас, наверно, нет отбоя от поклонниц? – Поклонниц? – Он ухмыльнулся. – С какой стати? Я ж не артист и на телевидение меня не приглашают. Да и зачем. – И любовницы у вас нет? – с деланным удивлением воскликнула Инна. – И любовницы, и дачи, и машины, и даже собаки нет. – И машина, дача, собака – совсем не обязательно, – рассудила Инна. – Но чтоб такой интересный, как вы, мужчина и без любовницы – даже не верится. В наше время это какая-то анамалия. Тем более не женатый. Сейчас все женатые имеют любовниц. – У вас есть муж? – перебил ее монолог Иванов. – Есть. Аркаша. Аркадий Маркович. – И у него есть любовница? – Думаю, что да. Хотя меня это совсем не интересует. Мы спим в разных комнатах. Такие отношения нас вполне устраивают. – Он кто? Ваш муж? – Профессор. – Каких наук? – Сексологии. – Сексологии? – переспросил Иванов. – А разве есть такая наука? Впервые слышу. – Сейчас это самая модная, модней электроники и разной там кибернетики. Самая престижная среди мужчин вашего возраста. – Боюсь, что нашему возрасту уже никакая наука не поможет. – Не скажите, – возразила она и наполнила свой фужер шампанским. – Вы просто не в курсе. Как говорит мой Аркаша: «Нет мужчин импотентов, есть неграмотные в сексуальном отношении женщины». – Вы ему изменяете? – спросил напрямую. – Чем я хуже других? Он у меня теоретик сексологии. Как практик он ничего из себя не представляет. – Он знает, что вы работаете натурщицей? – Конечно, нет. Зачем ему знать? Если б он знал – мы бы с вами не встретились и я бы не имела счастья познакомиться с очень интересным человеком, талантливым скульптором. Поверьте – это искренне, от души. А он не верил. Он смотрел в ее пылающее лицо и алчущие глаза и думал: «Нет, не верю. Так ты говорила всем мужчинам, с которыми спала». И без всякого перехода: – Скажи – хорошо быть женой сексолога? Она не поняла смысла вопроса, ответила улыбнувшись: – Я ж сказала – он теоретик. – Муж теоретик, жена практик. Чем не мелкое предприятие. В духе времени. – Он не хотел ее уязвить, но она сделала оскорбленное лицо и потянулась за бутылкой шампанского. Наполняя фужер, заговорила тоном обиженного ребенка: – Мы говорим о разном, и вы не хотите меня понять. Дух времени. Смотря что понимать. Если бардак, который устроил в стране Горбачев, – это одно. А секс – совсем другое. Мы живем в век сексуальной свободы. Секс был всегда, он правил миром. Только раньше он был не свободным, подпольным. «Да у нее своя философия», – подумал Иванов и сказал: – А что, любовь и секс – это одно и то же? – Пожалуйста, сядьте сюда, рядом со мной. Я вам отвечу. Отвечу на все ваши вопросы. Вы обещали ответить на все мои вопросы. Но сначала я отвечу. Секс и любовь – это разное. – Ответила она нетвердо. – Секс – это конкретно, когда двое в постели и оба счастливы, обоим хорошо. А любовь – это что такое? Абстрактное, эмоции, лирика. В конце концов все эти вздохи при луне имеют одну цель – приготовить постель. – Выходит, любовь вы отвергаете, как мираж? – сказал Иванов, перейдя на диван рядом с ней. – Совсем не значит. Я тоскую по ней, мечтаю, жажду. Когда вы говорили о любви… Как вы говорили! Вы настоящий человек, святой человек… – Язык ее уже начал заплетаться. – Если святой, тогда молитесь, – шутливо сказал он. – И помолюсь. И расцелую. Можно вас расцеловать? И не дожидаясь согласия, она размашисто обхватила его, горячо, напористо впилась губами в его губы, и они оба повалились на мягкую постель. Она прижалась к нему горячим крепким и упругим телом, награждая обжигающими поцелуями губы, глаза, щеки, лоб, уши, шею. Иванов не противился. После он не мог вспомнить, как и когда он очутился в костюме Адама, – сам ли он, Инна, ангел или демон сорвали с него одежду, оставив, в чем мать родила. От двух рюмок выпитого им коньяка он не то что не был пьян, но даже не захмелел. Другое, прежде неизвестное ему состояние охватило его, словно он витал в какой-то неизведанной сфере телесного блаженства и не было на его теле ни одного дюйма, которого бы не касались словно наэлектризованные пальцы Инны и ее обжигающие губы. И этот огонь проникал на всю глубину его плоти. Она была неистощима в своем искусстве, и он мысленно и с восторгом повторял: себе: «Жена сексолога, жена сексолога» под аккомпанемент тихого шепота ее ласковых и нежных слов. Ему хотелось как можно дольше испытывать это блаженство, продлить его до бесконечности. Он почти физически чувствовал, ощущал и ее состояние экстаза, безумства, словно вся она превратилась в шквал испепеляющего, страстного и волшебно-сладостного огня, которому нет ни названия ни объяснения. И когда, обессиленные и умиротворенные, они на минуту притихли, он вспомнил свою жену Светлану, равнодушно-вялую, холодную, без страсти и огня, и его уязвило тоскливое чувство жалости к самому себе за что-то потерянное давно и безвозвратно. Тогда он уже вслух произнес: «Жена сексолога. Чудеса!» И улыбнулся прямо ей в лицо счастливой улыбкой. А она продолжала нашептывать ему приятные для слуха слова, какой он необыкновенный, не похожий на других. «Сколько ж ты знала этих, „других“, которым шептала эти же слова, которых так же осыпала поцелуями?» Мысль эта невольно задела. А она все шептала: – У тебя нежная шелковая кожа. Поразительно, что у мужчины была б такая нежная кожа. После таких слов он провел рукой по ее груди и животу и вдруг почувствовал, что у нее совсем не шелковая и не нежная, а грубая, даже как будто шершавая кожа. Он отдернул от нее руку и как-то невольно стал ощупывать свою грудь. И этот жест Инна восприняла по-своему. – Ты не беспокойся, никаких следов, никаких фингалов я не оставила, – вдруг сказала она, неожиданно перейдя на деловитый тон, который был здесь совсем неуместен и огорчителен. – А я и не думал беспокоиться, – сказал он с вызовом. – Мне техосмотр никто не делает. – Это я к тому, чтоб ты мне не оставил фингалов, –оправдываясь, сказала она. – Мне ведь нельзя, я же натурщица. – О, нет, ты не просто натурщица; ты – жена профессора сексологии. В ответ она прильнула губами к его губам, и он только сейчас ощутил, как неприятно несет от нее табаком. Вспомнилась французское: «Целовать курящую женщину все равно, что лизать пепельницу». Вдруг Иванову захотелось, чтоб она ушла, остаться одному и разобраться в сумятице мыслей и чувств. Он решил, что произошедшее с ним не должно повториться – ни сегодня, ни вообще никогда, и с Инной он больше не встретится. Вместе с тем в нем пробудилась надежда, что он может, вполне может иметь женщину, друга при одном условии, что связывать их будет не просто постель, а любовь – великая и святая, которая всегда жила в его мечтах. Уже одетая и причесанная перед тем, как проститься в прихожей, Инна спросила: – Ты ни о чем не жалеешь? Тебе было хорошо со мной? – А тебе? – уклонился он от прямого ответа и, словно оправдываясь, прибавил: – Это главное: как тебе? – Мне очень. Тебе надо жениться. Нет, не женись, лучше найди себе любовницу. Хорошую. Ты меня понял? – Как ты? – Да. Ты мне нравишься. С тобой уютно. Он закивал головой и протянул ей руку на прощанье. Ему хотелось побыстрей расстаться. Она догадалась и резким размашистым жестом обеих рук обхватила его и впилась в его раскрытые губы, дав волю своему натренированному озорному языку. Она была неподражаема в поцелуях и знала свою силу. «Оболденные поцелуи», – восторженно говорил ей Аркадий Резник когда-то давным-давно. Это мог сказать и Иванов. Но он не умел говорить комплименты, – он просто вспомнил свою жену Светлану, которая целовалась сомкнутыми губами. «Все равно, что пить из пустого стакана», – сказал он ей однажды и с тех пор никогда не пытался ее целовать. «Может, это и было настоящей причиной нашего разрыва», – полушутя подумал он сейчас о Светлане. – Когда мне приходить? – спугнула его мысли Инна и уточнила: – На сеанс? – Я позвоню. Пока сделаем перерыв, – торопливо ответил он, и ответ этот насторожил ее. Она сказала: – Знаешь анекдот: встретились двое, познакомились, сразу переспали, прощаясь она спросила его: «Теперь ты на мне женишься?» «Созвонимся», – ответил он. – Но ты же мне жениться не советуешь, – шутя сказал и добавил с улыбкой: – Созвонимся. Мне нужно закончить портрет генерала, а то глина сохнет. Еще сеанса два на это уйдет. Инна уходила от него с горделивым чувством победительницы и не догадывалась, что больше никогда ее красивые ноги не переступят порог этого дома. Она была чересчур самонадеянной. Проводив Инну, он вышел на кухню и к огорчению увидел приготовленный кофейный прибор, которым так и не пришлось воспользоваться. Он быстро вскипятил на плите воду, вылил в кофе оставшийся в рюмке коньяк и с наслаждением выпил. Кофе не принес облегчения: на душе оставался какой-то мутный осадок, клубок запутанных чувств, распутывать который не было желания. Он просто машинально повторил отдельные засевшие в памяти слова и фразы, сказанные Инной. «Ей нужна душа. Тугие кошельки кавказских кобелей ее не интересуют. Врет, небось. С мужем не спит, потому что он теоретик. А ей практика нужна. Да, практик она лихой…» Но это не для него, ни в роли жены ни любовницы. Инна любовь отрицает, как таковую и признает только секс, и в то же время мечтает о любви. Какая-то каша в голове. А может, искренне душа тоскует по чистому и возвышенному. Только не находит. Ищет и не находит. В любовницы набивается. Смешно: любовница мне не нужна. Я мечтаю о возлюбленной. А это не одно и то же. Пожалел, что не объяснил ей разницу между любовницей и возлюбленной. Он попытался разобраться в произошедшем. Он считал, что такое возможно и только по любви. Он не испытывал к Инне этого святого чувства и, стараясь оправдать себя, внушал себе мысль, что она его изнасиловала, он не устоял перед ее страстным позывом, дал волю инстинкту. А что увлекло ее, мимолетная вспышка, любопытство? В своих чувствах она казалась искренней. Но она же не признает любви, говорит, что все эти вздохи, ласки, красивые и возвышенные слова – все сводится к постели. Иванов накрыл пледом растерзанную постель и лег на спину, устремив в потолок глаза, которые сейчас ничего не замечали. Взгляд его был отсутствующим. Он размышлял о произошедшем. Он все еще ощущал ее последний незабываемый поцелуй. Мысленно повторяя: «Мастерица. Не то, что Светлана…» Он попытался вспомнить, как целовалась его первая любовь Лариса Зорянкина, и не вспомнил. Кроме тех невинных поцелуев в парке Измайлова между ними ничего не было. Как сложилась судьба Ларисы, где она и что, жива ли – он не знал. «А ведь ей уже должно быть шестьдесят, если не больше». И тут же отогнал мысли о Ларисе и Светлане. В прошлое он не любил возвращаться. «Но что же мне делать с Инной? Встреча исключена, но под каким предлогом. Это был случай, неожиданный, хотя и в каком-то смысле приятный, но не повторимый. В одном экземпляре. Что-нибудь придумаю и позвоню».Глава третья. Генерал и епископ
1
Иванов, насколько помнил себя, не страдал бессонницей. Но в эту ночь, после ухода Инны, он уснул лишь в третьем часу. В нахлынувших невесть откуда и из-за чего мыслях он заново пережил всю свою жизнь, начиная от босоногого деревенского детства, через страшное военное лихолетье и до сегодняшнего дня с неожиданной, свалившейся на него Инниной «историей». Впрочем, Инна его уже не занимала, и в сумбурных, плывущих, как облака, неторопливых мыслях для нее уже не находилось места. А вот Светлана, его первая и единственная жена, которая однажды исчезла и, казалось, навсегда из его памяти, в эту бессонную ночь всплыла очень зримо и настойчиво. Образ ее воскресила Инна. Он попытался разобраться в сложном клубке семейных неурядиц и противоречий, которые в конце концов окончились для него уходом из дома и совсем не сложным «бракоразводным» процессом. Он считал, что брак со Светланой был случайным, как отчаянный ответ на вероломство Ларисы. Внешне Светлана была интересной женщиной и не глупой, рассудительной, практичной в сложной жизненной круговерти. Правда, ее практичность иногда доходила до крайностей, которые претили характеру Иванова. Она не видела или не хотела видеть в своем муже прежде всего художника, для которого интересы творчества, искусства выходили на первый план, оттеняя в сторону все остальное, что принято называть бытом. Они по-разному смотрели на окружающую жизнь и происходящие события, их взгляды как в мелком, так и в серьезном часто сталкивались и не находили компромисса. Каждый считал себя правым. Светлана работала в министерстве и состояла в партии. Ей нравилась общественная деятельность. Алексей был беспартийным, ибо считал, что партийность будет мешать его творчеству – всякие там собрания отнимут время, которое самой судьбой предназначено искусству. Светлана называла такую позицию обывательской, безыдейной. Когда Иванову предложили вылепить портрет М.А. Суслова, получившего вторую Звезду Героя соцтруда (неизвестно, за какие подвиги), чтоб затем по заведенному ритуалу воздвигнуть (при жизни) этот бюст на родине «героя», Алексей Петрович решительно отказался, и этот его «поступок» расстроил и возмутил Светлану. Суслов командовал идеологией, культурой, перед ним заискивали карьеристы из числа писателей, артистов, художников, жаждущих наград и почестей. А этот «непрактичный и странный» Иванов пренебрег выгодной сделкой, сулившей, кроме карьеры, и хороший заработок, и продолжал лепить либо обнаженных женщин («для души»), либо кладбищенские надгробия (для заработка). Светлана вначале пыталась ревновать его к натурщицам, и тогда он предложил ей позировать ему. В ответ она возмутилась: – Ты что – чокнулся? Чтоб я, голая, перед мужчиной, даже если он и муж – ни за что. Это его огорчало и поражало между ними холодок отчуждения, а иной раз высекало ревнивую искру подозрительности: перед мужем стыдишься, а перед любовником… Насчет любовников у Иванова не было никаких доказательств, кроме предположений, когда жена возвращалась домой поздно и торопливо объясняла, что была в театре с подругой. Он верил. Духовная близость непременно рождает и плотскую. И наоборот. Он не любил праздной потери времени, на юг отдыхать ездил лишь один раз с женой и малолетним сыном и весь месяц маялся от безделья. С тез пор Светлана ездила на курорты с сыном. В одну из таких поездок у Светланы был курортный роман, о чем Алексей Петрович случайно узнал от сына. Он не опустился до выяснения подробностей и семейного скандала, просто принял к сведению, как неприятный, огорчительный факт. Спали теперь в разных комнатах. Семейная трещина медленно расширялась. Большая размолвка произошла между ними, когда Иванов отказался делать памятник Свердлову. Заказ на этот «престижный» монумент получил его покровитель-академик. В то время Алексей Петрович был всецело поглощен переоборудованием склада под свою мастерскую. Академику тогда шел восьмой десяток, он плохо видел, часто болел, но уцепился за этот заказ с присущей ему алчностью: поставить в центре Москвы памятник первому президенту большевистской России он считал высоким почетом. И конечно, рассчитывал, что памятник от начала до конца будет сделан Ивановым, которого на этот раз – впервые – он пригласил в соавторы. А Иванов даже раздумывать не стал, сказав категоричное «нет!». Расстроенный потерей такого заказа академик слег в Кремлевскую больницу и навсегда порвал с «неблагодарным учеником». Если академику Алексей Петрович даже не счел нужным объяснять причину своего отказа, то Светлане, которая обрушилась на него с упреками и нелепыми обвинениями в лентяйстве, обывательщине, не внимании к интересам и нуждам семьи, он, выведенный из терпения, гневно сказал: – Под угрозой казни я не стану делать памятник этому палачу, антихристу, душегубу! Ни за какие блага никто не заставит меня продавать свою совесть и честь! Да, да, я честный русский художник и патриот. Только тебе этого не понять. – Но кто тебя заставляет быть соавтором? – пыталась уговорить Светлана. – Пусть будет автором академик. Ему слава, а тебе деньги. Поставь такие условия. Это было превыше его сил. Она не понимает, не хочет понять. Для нее деньги – главное. И он вспылил: – Да разве в деньгах дело!? – А в чем? Ты можешь объяснить? – уже теряя самообладание, наступала Светлана. – В Свердлове, – с дрожью в голосе выпалил он. – Ты не хочешь понять и толкаешь меня на бесчестье. А честь не имеет цены, честь не продается. Но тебе это не понять. Это была последняя капля в горькой чаше их отношений. Они расстались. Памятник Свердлову воздвигли в центре Москвы без участия Иванова и академика. Но не долгой была судьба этого бронзового палача казачества: в девяносто первом митинговая толпа свалила вместе с Дзержинским и Калининым и Свердлова. Алексей Петрович любил одиночество, избегал шумных компаний и не имел постоянных настоящих друзей, которые «на всю жизнь», за исключением, пожалуй, двух. Один из них – генерал-лейтенант Дмитрий Михеевич Якубенко, Герой Советского Союза, его взводный фронтовой командир – был старше Иванова тремя годами. Дружба их в буквальном смысле скреплена кровью – оба были ранены в одном бою, оба потом лежали в одном госпитале и после поправки одновременно вернулись в свою часть, в которой и закончили войну и продолжали дружить до последнего времени. Не схожие ни характерами, ни вкусами, они тем не менее искренне любили друг друга, хотя и нередко спорили, расходились во взглядах на жизнь и события, тем не менее уважали привычки, взгляды и вкусы друг друга. Другим настоящим другом Алексея Петровича был епископ Хрисанф – в миру Николай Семенович Еселев – земляк Иванова. Этот был моложе на десять лет, и познакомились они, когда Николай Семенович ходил еще в сане архимандрита. С тех пор минуло лет семь, а дружба их крепла с каждым годом. И как ни странно, до сегодняшнего дня у Иванова не нашлось случая, чтобы свести и познакомить генерала с епископом, хотя и тот и другой нередко бывали в мастерской скульптора, но ни тот ни другой не изъявляли желания познакомиться, а сам Иванов не знал, найдут ли общий язык ветеран партии, кондовый коммунист и противник коммунистической идеологии – представитель высшего духовенства. Генерал, как и епископ, вышел из крестьянской семьи и тоже был крещен. Оба имели высшее образование – один окончил военную Академию и затем преподавал в ней будучи профессором, другой – духовную Академию и тоже имел ученую степень. Когда лет пять тому назад Иванов восторженно рассказывал генералу о своем друге епископе, тот ревниво морщился: – Не понимаю, что у тебя общего с этим попом?.. – Во-первых, он не рядовой священник, он архиерей, то есть по-вашему тоже генерал, – отвечал Иванов и просвещал: – Епископ – это как бы генерал-майор, а архиепископ – это генерал-лейтенант, митрополит – считай генерал армии, ну а патриарх – церковный маршал. Разница лишь та, что в армии маршалов пруд пруди, а в русской православной церкви – один – патриарх всея Руси. Во-вторых, он образованный, эрудированный интеллигент, интересный, мыслящий человек. Иванов сказал Инне правду, что в ближайшие два дня он хочет закончить портрет генерала. Лет двадцать тому назад Алексей Петрович вылепил небольшой портрет, в три четверти натуры, бюст генерала Якубенко и подарил ему в день его пятидесятилетия. То был моложавый цветущий генерал с мужественными приятными чертами лица и упрямым вихрем тщательно ухоженных волос. Два десятка прошедших лет наложили свой отпечаток на бравого генерала. Некогда чистое цветущее лицо пробороздили морщины, в посуровевшем взгляде появились черточки задумчивой грусти, в мудрых глазах выразилась тихая усталость и боль. Дмитрий Михеевич, свободный от службы и общественных дел, все чаще заглядывал в конце рабочего дня в мастерскую Иванова «на огонек», чтобы обменяться мнением о событиях сумбурно-трагических перестроечных лет. За все, что творилось в стране в эти годы, он болезненно переживал и постоянно испытывал потребность излить душу близкому человеку. У Иванова он находил полное понимание и поддержку. Оба они считали, что в стране произошел контрреволюционный переворот, организованный, тщательно спланированный западными спецслужбами – американским ЦРУ и израильской Моссад. Совершен переворот вопреки воли народа, в интересах еврейской буржуазии и мирового сионизма. Генерал Якубенко пришел, как и условились, в одиннадцать часов. Еще в прихожей, не успев снять шинель, он заговорил о том, о чем болела душа, что не давало ему спокойно спать, о чем говорили люди в очередях у пустых прилавков, в городском транспорте и в заводских цехах, – о небывалом хаосе, в который ввергли нашу страну архитекторы и прорабы перестройки. – Я вот шел, Алексей, и думал, сам себя спрашивал: почему наша страна такая несчастная? Казалось бы, все есть для нормальной жизни. Природные ресурсы огромны и многообразны, как ни в какой другой стране. И народ хороший, не обделен талантами. Прикинь, сколько всемирных величин или, как теперь говорят, звезд вышло из нашего народа: ученых, писателей, композиторов, художников, изобретателей… – И полководцев, – вставил Иванов и, взяв генерала под руку, медленно направил его к помосту: мол, давай за дело приниматься. – А разве нет? – Якубенко вытянулся по стойке «смирно» – бравый, прямой, и уставил на друга гордый взгляд. – Суворов, Кутузов, Жуков, Ушаков! Кого рядом с нами может поставить хваленый Запад? – Ты не назвал Рокоссовского? – напомнил Алексей Петрович. Оба они – Якубенко и Иванов начинали войну в армии, которой командовал Рокоссовский. – Я назвал Жукова. А это, братец мой, гений, равный Наполеону. Даже повыше. Как и его предшественники, он остался непобедимым. А Наполеон потерпел военное поражение и, заметь, от русского полководца. Якубенко легко взошел на помост, уселся в кресло и продолжал: – И вот к чему я пришел, дорогой Алеша. Несчастья нашей страны идут от руководителей. Приглядись: в так называемых благополучных странах у руководства стоят разумные и порядочные люди. Как правило, были, конечно, исключения, без этого нельзя. Подлецы есть во всех уголках планеты. А у нас – сплошь. На протяжении семидесяти последних лет одни мерзавцы и авантюристы стояли у кормила государства. Начни с Троцкого… – А может, с Ленина? – лукаво улыбнулся Иванов, продолжая колдовать над портретом. – Ленина не трожь, – нахмурился генерал, сдвинув сурово седые брови. – Против Ленина тебя твой поп настроил. Ему простительно: у церкви к Ленину свой особый счет. Там равная вина – и Ленина и попов. – Может, не вина, а беда, – заметил Иванов, не отрываясь от работы. Пальцы его проворно скользили по глиняному лицу портрета, и оно оживало от их таинственного прикосновения, приобретая не только черты характера от морщинок у печальных глаз, но и душу, вдохнувшую в плоть магией искусного ваятеля. – Троцкий не был один. С ним была целая свора таких же кровожадных псов, терзающих тело обессиленного войной государства, разных розенфельдов, под масками каменевых, зиновьевых, свердловых, – продолжал свою мысль Якубенко. – Их сменил Сталин, – заметил Иванов, – но лучше России от такой смены не стало. – Сталин стоит особняком, – возразил генерал. – Не надо упрощать. Это личность сложная. В ней по справедливости разберется история в свой час. И никакие там авантюристы волкогоновы, а честные беспристрастные летописцы. Не станешь же ты отрицать его великих заслуг, как Верховного главнокомандующего. – А репрессии? – Тут тоже надо разобраться, против кого они были? Против тех же троцких, против палачей-пришельцев. Не спорю: при рубке леса летели щепки, летели и головы предков нынешних прорабов перестройки. Потому они сегодня так жестоко мстят все той же России, которую им не удалось растерзать тогда. Народу нашему мстят. Посмотри, кто окружает Горбачева: Яковлев, Примаков, Арбатов, Вольский, Шеварднадзе, Собчак, Попов и другие Станкевичи. Кто они?.. То-то и оно. А у Ельцина? Шахрай, Бурбулис, Гайдар, Старовойтова и опять же Попов с Собчаком. Это его Козыревы карты. – Ты хотел сказать «козырные»? – Я сказал то, что хотел. Ты знаешь, кто у Ельцина министр иностранных дел? – Козырев, если не ошибаюсь. – То-то и оно… – Многозначительно ответил генерал и продолжал: – Кстати, насчет щепок. У Сталина в этом отношении были предшественники, исторические личности в судьбе государства Российского: Ярослав Мудрый, Иван Грозный и Петр Великий, которые не разрушали государство, а собирали, умножали и возвеличивали. И, конечно, не обходилось без «щепок». Сталин делал то же самое, чтобы о нем не говорили нынешние наследники Троцкого. У Сталина были подлые подручные, вроде Ягоды, Фриновского, Берии. Они свое получили. Но и у Грозного был Малюта Скуратов, у Петра был Шафиров или Шапиро. Наверное, это неизбежно, как рок… А потом появился Хрущев. Это же подлюга. Он начал то, что продолжил Горбачев и закончит Ельцин. – Прикончит, – подсказал Иванов. – Ну, время покажет, кто кого прикончит… Хрущева сменил уже откровенный выродок – Брежнев. А Горбачев, Ельцин? – Он замолчал и как-то сразу поник, будто не находил слов, чтоб продолжать. А Иванову нужно было вернуть «модель» в прежнее состояние, и он сказал, чтоб вызвать генерала на продолжение: – Значит, народ наш заслуживает таких вождей. – Ничего не значит, – угрюмо возразил генерал. – Нам их навязали. Оттуда, из-за океана. – И Брежнева? – И его. Он ставленник Тель-Авива, как и Бухарин, как Рыков, как, впрочем, Молотов и Ворошилов. Кто у них жены, ты знаешь? – Догадываюсь. – То-то и оно… В этом «то-то и оно» крылось то запретное, таинственно-страшное, о чем вслух было непринято говорить даже во времена свободы слова и даже в самых образцово-демократических государствах, которыми фактически владело и правило это грозное клятвенно-повязанное, подспудное, жестокое, цинично-вероломное, лишенное элементарных человеческих норм приличия и поведения «то-то и оно». – А знаешь, Дмитрий, о чем я сейчас подумал? Что касается никудышных вождей, возможно, ты и прав, пожалуй, прав. Но нашему народу многого не хватает. И в первую очередь – чувства национальной гордости, достоинства. Какой народ мог семнадцать лет терпеть, как ты выразился, откровенного выродка Брежнева? Французы, поляки, немцы, шведы? Нет. – Терпели, – поморщился генерал. – Немцы Гитлера, поляки Охаба. Насчет гордости я с тобой согласен. Лишили нас чувства патриотизма. Вдалбливали в души со школьных лет интернационал, космополитизм. Троцкий и его клика объявили слово «патриотизм» врагом народа. Его нынешние наследники оплевали это понятие, как реакционное, консервативное. Заменили его своими «общечеловеческими ценностями», то есть тем же сионистским космополитизмом, горбачевским «новым мышлением». И вообще эти разговоры о демократии и правах человека не что иное, как удобная ширма для закабаления целых стран и народов. Под этими лозунгами американцы оккупировали Гренаду, ворвались в Панаму и похитили ее законного президента, организовали бойню в районе Персидского залива. Это все ложь, обман доверчивых простаков. Израиль уже сколько лет ведет преступную войну с палестинцами, ежедневно убивает мирных жителей, попирает элементарные права человека. И что же демократическая Америка? Помалкивает. Потому что самой Америкой заправляют сионисты. Зазвонил телефон, и Иванов объявил небольшой перерыв. Генерал сошел с помоста, сделал несколькогимнастических движений и подошел к незаконченной композиции «Девичьи грезы», на которую только сейчас обратил внимание. Другие работы, стоящие в мастерской, он как частый гость скульптора видел раньше. Эта привлекла его внимание какой-то необъяснимой притягательной силой, таившейся, вероятно, в изяществе обнаженной женской фигуры, в трогательной гармонии всех ее частей. Все было сработано до того живо, осязаемо, что даже отсутствие лица никак не умаляло общего впечатления. Генерал был приятно удивлен: ведь еще четыре дня тому назад, когда он в последний раз позировал в мастерской, не было этой очаровательной композиции. – Ну и Алеша, что за Алексей! Когда ж он успел сотворить такое чудо! – вслух восторгался Дмитрий Михеевич. Он вообще был страстным поклонником Иванова и высоко ценил его талант. – Кто она – эта Венера, где ты ее отыскал и почему у нее нет лица? Я хочу видеть ее глаза! – говорил он, обращаясь к подошедшему ваятелю. – Лицо пока не найдено, а в нем вся суть должна быть, – ответил Алексей Петрович и сообщил: – Занимай свой трон, на котором тебе осталось царствовать минут тридцать – сорок. И поставим точку. Сейчас звонил епископ, через час он будет здесь. Я познакомлю вас, и он освятит твой бессмертный образ пока еще представленный в глине. – Я это предвидел и предусмотрительно прихватил бутылочку трехзвездного, заграничного, то есть молдавского. Может, это будет последняя бутылка, поскольку российских коньяков я не знаю и не представляю, как мы теперь будем жить без грузо-армяно-молдавских коньяков. Пропадем даром? – Была бы «Столичная», да «Перцовка», да еще «Старка» и «Славянская» и плюс «Кубанская». – И пиво! – наигранным басом добавил генерал.2
– Дмитрий Михеевич, позволь тебе представить моего друга, о котором я тебе говорил, его преосвященство епископа Хрисанфа, – несколько церемонно объявил Иванов, входя в залу, где в это время на диване сидел генерал. Якубенко встал. Перед ним в своем пастырском одеянии с панагией на груди с обнаженной седой головой стоял высокий стройный мужчина с резкими чертами лица, на котором выделялись орлиный нос, большие серые глаза и длинная, пепельная, приглаженная борода. Епископ протянул массивную жилистую руку Якубенко и высоким приятным баритоном сказал: – Рад познакомиться. Алексей Петрович мне много о вас доброго сказал. Не выпуская руки епископа, генерал спросил: – Хрисанф – это имя, а как вас по батюшке? – Николай Семенович, – вежливо улыбнулся епископ и пояснил: – Хрисанф – это мое монашеское имя. – Вроде псевдонима или подпольной клички, – бесхитростно пошутил Дмитрий Михеевич и щелкнул каблуками, представился: – генерал-лейтенант Якубенко, Дмитрий Михеевич. – Владыка, мы сегодня закончили работу над портретом Дмитрия Михеевича, – обратился Иванов к епископу. – Не желаете ли посмотреть критическим оком? – С превеликим удовольствием. Хотя заранее знаю, что портрет хорош. Алексей Петрович мастер психологического портрета. Равных ему я не знаю в нашей скульптуре. – Полно вам, владыка, – смущаясь, сказал Иванов. – Вашему сану лесть противопоказана. – Искренне, милейший Алексей Петрович. Не лесть, а истина, – пророкотал епископ, а Якубенко вслух размышлял: – Владыка… Владыка чего? Когда-то мы пели: владыкой мира будет труд. – Так положено обращаться к их преосвященству, – сказал Иванов. – Не «отец», как обращаются к рядовому священнику, а «владыка» – это уже к архиерею. В «цехе» епископ внимательно всматривался в портрет генерала и все переводил взгляд со скульптуры на оригинал, сравнивая, приговаривая: – Похож, очень похож. Но, как я понимаю, не в этом главное. Характер выразил, в душу заглянул – вот в чем сила таланта. Талант – это Божий дар. – Это уж точно, согласился генерал: – Указом Горбачева или Ельцина талант не родишь и гения не сделаешь. – Почему же? – возразил Иванов. – Делали, делают и будут делать, к сожалению. Сколько Хрущев, Брежнев настругали талантов, раздавая лауреатские медали и звезды героев труда всяким шарлатанам, проходимцам, карьеристам. И себя, конечно, не забывали. – Это все мишура, бумажные цветы, – сказал Якубенко. – Генерала можно сделать приказом министра. И вашего брата – епископа или митрополита может сделать патриарх. А вот скульптора, композитора сделать никому не дано. Это привилегия природы. Или, как вы говорите, от Бога. Чтоб отвлечь епископа от своего портрета, генерал подошел к композиции «Девичьи грезы» и обратился к епископу: – Ну а как, товарищ владыка, вы находите это творение рук человеческих? Епископ и Иванов улыбнулись по поводу «товарищ владыко». Алексей Петрович поправил: – Просто «владыка», без «товарища». – И без господина? – шутя переспросил генерал. Он и «товарища»-то вставил преднамеренно, ради шутки. – И без господина, – примирительно улыбнулся Иванов. – Зовите меня Николаем Семеновичем, – сказал епископ, и острый вкрадчивый взгляд его быстро скользнул по композиции. Развел руками: – Прекрасно, слов нет. И отошел в сторону с деланным показным смущением. А Иванов подмигнул генералу: – Не искушай монаха. В зале Иванов быстро накрыл стол для кофе, поставил вазу с печеньем и сливочное масло – недавний еженедельный заказ для ветеранов войны, Якубенко извлек из своего «кейса» бутылку коньяка, епископ как-то стеснительно присоединил к этой более чем скромной трапезе бутылку «Славянской» и банку ветчины, и начался дружеский пир с тостами, разговорами, острыми, откровенными вопросами. Его преосвященство предпочитал «Славянскую», генерал и скульптор баловались коньяком, оба очень сдержанно, осторожно, объясняя, что они свою норму давно исчерпали и теперь иногда позволяют себе «чуть-чуть» ради особого случая. А случай произошел и в самом деле исключительный и давно ожидаемый. К нему, можно сказать, так или иначе – каждый по-своему – готовились все трое. Генерал и епископ знали дуг друга со слов Иванова; обоих Алексей Петрович высоко ценил и любил, по правде – «все уши прожужжал», подогревая их любопытство и желание познакомиться. Да все не было случая. Как вдруг позавчера позвонил Иванову владыка и попросил разрешения встретиться и доставить Алексею Петровичу обещанное. Владыка время от времени по-приятельски снабжал Иванова кой-какой литературой религиозного направления и на этот раз обещал принести ему статью Льва Толстого, мало известную в народе: «Почему христианские народы, и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении?» У генерала же была необходимость побеседовать с архиереем по некоторым вопросам, связанным с теперешним положением в стране, касающимся не столько религии, сколько конкретно церкви. Генералу епископ понравился («компанейский мужик и независимо думающий»). Его преосвященство мысленно оценил генерала: («Не солдафон и патриот»). – Как вы, владыка, смотрите на все, что творится в стране? – обратился генерал к епископу. – Россия гибнет, ограбили, разворовали и разрушили то, что создавалось таким трудом веками многими поколениями. – Россия не погибнет, – ответил епископ. – Россия воспрянет. Разве впервой нашему отечеству доходить до последней черты? Вспомните историю. Тысяча шестьсот двенадцатый год. Нашествие поляков, лжедимитрий в Москве. Время это хорошо изобразил писатель Загоскин в своем романе «Юрий Милославский». Вот первые строки романа. Если позволите, я по памяти вам напомню только одно предложение. Он сделал паузу, прищурил глаза, почему-то прикрыл панагию бородой и, глядя в угол комнаты, начал: – «Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего – совершенное безначалие – все угрожало гибелью земле русской». Разве не то происходит сегодня? – Он уставил вопросительный взгляд в генерала. – Точно: внутренние раздоры, совершенное безначалие – все сходится, – с некоторым удивлением произнес Якубенко, а епископ продолжал: – А семнадцатый и последующие годы? Разве не так было? В восемнадцатом году Зинаида Гиппиус опубликовала свое стихотворение «Знайте!». Оно кратенькое, всего несколько строк.3
– Ну что ты скажешь о владыке? – спросил Алексей Петрович Дмитрия Михеевича, когда они остались вдвоем. – Он свое дело знает: видал, как шпарит по памяти целые главы из Евангелия. Памятью его Бог не обидел, да и умом тоже. Об антихристах – это довольно метко сказано. И в самом деле – то, что творится сейчас в стране, похоже на какую-то бесовщину, на кошмарный сон. – У этой бесовщины есть своя история. Возьми Достоевского «Бесы», который у нас долгие годы был как бы под запретом, прочти, если не читал, а коли читал, освежи в памяти, прикинь к нашему времени. И ты увидишь и поймешь, что идеи всемирного разрушения, нравственной деградации, духовного распада, зародились еще в средневековье и не в России. К нам они пришли оттуда, из-за бугра, куда нас теперь насильно толкают прорабы перестройки. Хрисанф правильно говорил: без веры человеку нельзя, противоестественно. Сеятели зла всегда, во все времена пытались убить в людях веру, растоптать. – Этим занимались прежде всего масоны задолго до семнадцатого года, – вспомнил генерал. – А потом уже открыто, с цинизмом и жестокостью большевики, разные троцкие, свердловы, губельманы, который Емельян Ярославский. И Ленин в том числе. – Давай оставим Ленина в покое, – решительно запротестовал генерал. – Почему ж? Надо быть объективным и не выбрасывать из песни слов. Я боялся, что вы с владыкой схватитесь на Ленине и поссоритесь. У русской православной церкви есть основательные, справедливые претензии к Ленину. Этот пунктик, скажу тебе, – несмываемое пятно на иконописном лике великого мыслителя, которого, как ты знаешь, я уважаю и не принадлежу к шайке нынешних его испроворгателей. Хотя монументов ему не создавал. Мне претило его обожествление, доходившее до глупостей. – В этом мы друг друга не переубедили, а с епископом я бы вообще не стал обсуждать ленинский вопрос. Но ты обратил внимание, как он ограждает своих от критики – патриарха и даже Меня. – Это его долг. Для него патриарх, что для тебя твой министр или президент. – И что? Я первого не уважаю, а второго презираю и говорю это вслух. Зачем лукавить? – У них все по-другому. Может, в душе он не разделяет того, что проповедовал Мень, и не уважает патриарха. Но у них субординация строгая: воля старшего для нижестоящего – закон. Тем более воля святейшего. Ты только вдумайся в титул – патриарх святейший. Значит, выше святого, начальник над святым. – Какой там закон, – с пренебрежением усомнился Дмитрий Михеевич. – По-моему, этот рыжий Гапон плевал на закон, на всех святых и святейших. У него митинговый зуд экстремиста. А ведь тоже в депутаты пролез на альтернативной основе. Голосовали за него православные бараны. Надеюсь, владыко не обиделся на меня, но ты же знаешь – я не умею дипломатничать, не обучен. – Тебя он хорошо понял, сказал, что душа у тебя ноет от боли за судьбу Отечества. – За судьбу Союза, – поправил генерал. – Он прав, твой владыко: душа измучена, кровоточит. Да разве только у меня? Мы мало думали о душе. А душа – это вера, без нее человек превращается в двуногое животное, дикое, агрессивное. Вера – не важно, какая религия, главное, чтоб ее сердцевину составляло добро, вера – это ориентир, идея. – Но ведь и у Гитлера была идея расового превосходства, и на такой основе он внушал немцам веру. Они верили и творили чудовищное зло. И, между прочим, сионизм зиждится на иудистской идее – богоизбранной нации, на вере, что придет их Мессия и они будут владеть миром. – А я так считаю и я убежден, что сионизм страшнее фашизма. Собственно, это носители одной и той же идеи – человеконенавистничества, зла. А их ненависть друг к другу – это всего лишь междоусобная борьба двух преступных шаек. Сионисты победили фашистов, своих конкурентов, потому что оказались умней их. – Победили не своими, а чужими руками, кровью советских людей, – вставил генерал, но Иванов пропустил его слова и продолжал с прежним напряжением, с необычной для него дрожью в голосе. Решительный взор его ушел куда-то в бездонную глубину: – Их стратегия испытана веками. И заметь: лакомой жертвой тех и других была Россия с ее несметными природными богатствами, необъятной территорией с ее самобытной идеей, духовной мощью, которая помогла Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Минину и Пожарскому, Кутузову. Они ненавидели Россию, народ наш и боялись. Наполеон пошел в лобовую, опьяненный успехами в Европе, и потерпел крах: русские казаки побывали в Париже. Гитлер пренебрег уроками Наполеона, в хмельном угаре от легких побед в той же Европе бросился напролом, и тоже русская армия прикончила его в Берлине. Наследники Гитлера оказались более предусмотрительны. Они пошли другим путем, путем внутренней диверсии, поддерживаемой и руководимой спецслужбами Запада. Они учли опыт Испании и начали создавать пятую колонну. – Ты считаешь, что перестройка, развал Союза и прочие мерзости – дело рук сионистов? – Убежден. И я докажу тебе. Вспомни, как начиналась холодная война после войны горячей? Сионисты в нашей стране, деятели идеологического фронта – писатели, артисты, художники еврейского происхождения под флагом космополитизма пошли в атаку на патриотизм. Недруги Советского Союза на примере Отечественной войны поняли силу патриотизма, силу мощную, неодолимую. Патриотизм – это часть духовности народа, его нравственности и морали. Сионисты от литературы бросили лозунг, презрительный лозунг «красного патриотизма» и стали культивировать идеи преклонения перед Западом, его культурой и образом жизни. И охаивали, чернили нашу отечественную историю, оплевывали подвиги героев недавних сражений. Это было начало духовного растления нашего народа. Одновременно в национальных республиках через дружескую ей интеллигенцию сеяли зерна русофобии. Сталин во-время разгадал этот стратегический замысел мирового империализма, для которого быстро залечивающий нанесенные войной раны Советский Союз был костью в горле, потенциальным противником. Авторитет нашей державы в так называемых развивающихся странах был огромен. На нас смотрели с надеждой люди труда, униженные и оскорбленные. Сталин бросил клич на разгром космополитов-сионистов. А их было немало – наследников Троцкого и Свердлова в партийно-государственном аппарате, особенно в культуре и науке, в искусстве и литературе. И не только евреев, но и братьев-славян, повязанных родственными узами с сионистами-космополитами. Среди них были и руководители высокого ранга, такие, как Молотов, Ворошилов, Андреев, Берия, министры. Это была самая настоящая пятая колонна. Сильная, глубоко заэшелонированная. – Позволь, но Молотов, Ворошилов – соратники Сталина, – заметил Иванов. А их жены были соратниками сионистов. Об этом Молотов признался в беседе с писателем Чуевым. Ты читал его книгу «Сто сорок бесед с Молотовым»? – Нет. И не слышал о такой книге. – Я принесу тебе. Прочти. Она недавно издана. Сталин нанес серьезный удар по будущим архитекторам и прорабам перестройки. Да, да, не удивляйся. Тогда уже планировалась за океаном нынешняя перестройка, и главная роль в ней отводилась сионистам. Но Сталин не довел дела до конца, слишком глубоки были корни наследников Троцкого, чтоб их выкорчевать одним махом. Он просто не успел. Его умертвили. Опять удивлен? Да, да, убили сионисты руками Берии. – Это доказано? Или твои предположения? – Иванов смотрел на него с некоторым недоверием. Он знал тенденциозное, позитивное отношение Дмитрия Михеевича к Сталину, не разделял его точку зрения. Часто спорили по поводу личности и роли Сталина в истории, и каждый оставался в основе при своем мнении, хотя постепенно, медленно, в спорах их позиции в некоторых пунктах сближались. – Это мое убеждение, – твердо ответил генерал. – Основанное на личной интуиции и некоторых общественных фактах, обнародованных в печати. Приход к власти такого беспринципного авантюриста, как Хрущев, и сионистского лакея, как Брежнев, создал плацдарм для беспрепятственной деятельности сионистов, которыми «несгибаемый миротворец» был окружен стараниями своей супруги мадам Голдберг. Брежнев выполнял одну из стратегических задач западных спецслужб – возможно, сам того не подозревая, – довести экономику страны до предельной черты, чтоб таким образом его наследники могли говорить о несостоятельности социализма и необходимости коренной перестройки. Другая стратегическая акция так называемого застойного времени – подготовить народ к перестройке, растлить его духовно, довести до нравственной деградации. Началась культурная интервенция. Через кино, музыку, эстраду Запад забрасывал в нашу страну духовный яд, направленный прежде всего на молодежь, на ее незрелые души. Распространителями в стране были местные сионисты, прочно заседавшие в прессе, на телевидении и радио, в кино и эстраде. А тех, патриотов, кто пытался воспрепятствовать распространению духовного яда, предупредить народ о смертельной опасности, разоблачать растлителей, нещадно травили, обвиняли в антисемитизме, клеймили тавром «фашист» и «черносотенец». И это хорошо знаешь. – Да, я согласен, но тогда возникает вопрос: а что же Политбюро, ЦК – они тоже участвовали в брежневской кухне? Они что, не видели, что экономика государства требует перемен, иначе развалится? Или не понимали, что идет целенаправленное духовное растление нации? – Были такие, кто видел и понимал. Понимал Косыгин, спорил с Брежневым, но сделать ничего не смог, потому что последнее слово оставалось за Брежневым. Заместители Косыгина Мазуров и Полянский тоже видели, понимали, пытались что-то сделать, рискнули своей карьерой. И были отстранены от власти. Я считаю, что Горбачев возник не случайно, его кандидатура на пост могильщика партии и Союза была запрограммирована задолго до того, как он вошел в Политбюро. – Кем? – Сионистами и масонами. Тем же Сусловым. – Но ты извини меня, – энергично заговорил Иванов. – Перестройка была необходима. Так дальше жить было невозможно. Демократию, гласность, многопартийность народ приветствовал. – Согласен, приветствовал. Много надо было менять и в экономике, и в идеологии. И особенно в партийной структуре. Нужна была и соперничающая партия, допустим, какая-нибудь социалистическая или народная. Нужна была и Российская компартия, нужна была, наконец, большая самостоятельность республикам. Но не эти цели преследовали архитекторы перестройки. Им нужен был развал Союза, изменение строя, установление капитализма. На пути к этой цели стояли партия, со своей идеологией, армия, КГБ, патриотизм народа, идейная убежденность, вера в идеалы, в жизненные ориентиры. Все это нужно было убрать с дороги: то есть дискредитировать партию, оплевать и растоптать патриотизм, оболгать и разрушить армию. Как, какими средствами? Вот тут и пригодились прелестные лозунги демократии, свободы печати, многопартийности. Большая часть общества уже была подготовлена к неожиданным переменам. Целые поколения уже прошли через растленные дискотеки, видеосалоны, импортную и отечественную кинопошлятину, проповедующую секс, нигилизм, иждивенчество и прелести капитализма. Яковлев – главный оборотень и главный архитектор перестройки, захватил почти все средства массовой информации, и тем самым было покончено с плюрализмом. Пресса начала игру в одни ворота, растлевать народ, оболванивать. Главным лозунгом стал «Долой!», то есть разрушение, демонтаж государственных институтов. Демократия превратилась в хаос и беззаконие. Оболваненные избиратели послали в Верховные советы немало откровенных подлецов, карьеристов из числа люмпеинтеллигенции, дипломированных мещан, среди которых и прямые родственники троцкистов и ягодовцев, то есть палачей русского народа, их дети, внуки, племяники под русскими, разумеется, псевдонимами. Это же позорный факт: в Верховных советах среди народных депутатов рабочие и крестьяне составляли единицы. Те же силы, руководимые Яковлевым, провели свою работу в республиках, начав с Прибалтики. И пошла катавасия суверенитетов, начали плодиться президенты и президентики. За годы перестройки преступность приобрела немыслимый размах. Мы уже вышли на одно из первых мест в мире коррупции и преступности. Правительство никаких серьезных мер не предпринимает, кому-то выгодно ловить рыбку в мутной воде. Горбачев начал создавать кооперативы, главным образом посреднические, не приняв предварительных мер от их грабительских действий, и позволил очистить казну, создав уже класс буржуазии. Ельцин с первых шагов упразднил народный контроль и содействовал грабительным мафиозным бандам. И все не случайно, а преднамеренно, запрограммированно, по подсказке зарубежных советников и инспекторов перестройки. В печати уже сообщалось, что избирательную кампанию Ельцина финансировали американцы, а так называемых защитников Белого Дома финансировали местные предприниматели-капиталисты. Без помощи из-за рубежа развал Союза, свержение советской власти было бы невозможно. Якубенко умолк. Смуглое лицо его порозовело, властные брови нахмурились. Он тяжело дышал. – Это страшно, какой-то кошмарный сон, – сказал Иванов. – Неужели это конец, гибель целой нации? – Нации уже нет, – нервно сказал генерал. Глаза его источали гневный огонь. – Ее развратили, духовно растлили. Между прочим, так погибла Римская империя. От разврата. – И нет шансов на спасение? Неужто нет? – Пока что есть, пока есть армия и ядерное оружие. Но Ельцин попытается обезоружить армию под разным предлогом, посулами и подачками. Ему подскажут американские советники. Дачто говорить. Мы с тобой при каждой встрече прокручиваем одну и ту же пластинку. – Он опять сел к столу. – Чай или кофе? – спросил Иванов. – Давай чай, – выдохнул устало Якубенко, глядя в пространство затуманенным, невидящим взглядом. За чаем разговор продолжился. Иванов возмущался пропагандой пошлости, порнографии по телевидению и в печати. Некто Самсон – называющий себя королем порнографии, открыто распространяет «картинки», изображающие половой акт пятилетнего мальчика с шестидесятилетней старухой, некрофила с обезглавленным им телом, зоофила с козочкой. И все это – «работа» представителей «богоизбранного народа». – Я все задаю себе вопрос: как такое могло случиться в нашей стране? – говорил Иванов, выкладывая свои мучительные раздумья. – Почему молчит и терпит позор армия? Где ее честь? И не нахожу ответа. Епископ говорит, что пришел на землю антихрист. Что своим неверием мы сами пригласили его. Ссылается на Евангелие. Я дважды прочитал эту священную книгу. Это кладезь мудрости, там есть над чем подумать. – Я считаю, что мы недооценили силу сионизма, – сказал генерал, вставая из-за стола. Суровое лицо его потемнело, четко выразив самоуверенность и независимость. Упрямый подбородок нацелен на Алексея Петровича, ожидая от него его мнения. Иванов тоже поднялся и посмотрел на генерала как бы с удивлением, спросил: – Израиль, с которым так поспешно восстановили дипломатические отношения в угоду американцам и позволили легализировать в стране сионизм. Ты это имеешь в виду? – Я имею в виду мировой сионизм, его господство в США и других ведущих капиталистических странах. Его банки с триллионами денег, корпорации и картели. Сталин это понимал. Потому они с таким остервенением бесятся на его могиле. – На страну напустили густого тумана лжи. Люди барахтаются в этой лжи как в дерьме и не видят выхода. Слабый лучик правды с трудом пробивает эту блевотину лжи. – Сионистской лжи, – вставил генерал, но Иванов не обратил внимания на его реплику и продолжал: – Сионисты уничтожают нашу национальную самобытную культуру. Подменили своими космополитскими подделками. А ведь были когда-то чайковские и мусоргские, репины и суриковы, были Есенин и Твардовский, был Шолохов. А теперь Шнитке и Колкер, Шагал и Неизвестный, Войнович и Бродский. Это сеятели пошлости и грязи, отравители и растлители душ молодежи. Они предали забвению наших классиков. Вучетича и Корина подменили Эриком Неизвестным. Это они умеют из неизвестных делать известных. Потому что в их руках телевидение, кино, пресса. А наш обыватель верит, что уродцы Неизвестного – это и есть подлинная скульптура, потому что ему с детства внушили подобные образцы за шедевры. Души людей деформировали, деградировали. И все же я не верю, что с Россией и с Союзом вообще покончено, что наша песенка спета, и мы станем, как сейчас пишут, сырьевым придатком США. Они одержали стратегический успех, но не победу. Туман рассеивается, найдется потомок Александра Невского, Дмитрия Донского, Кутузова, появится Новый Георгий Жуков и будет солнце по-прежнему не заходить над великой державой. Суд народа, праведный и беспощадный, воздаст по заслугам архитекторам и прорабам перестройки. Россия воспрянет. Сердце его бешено билось, в глазах сверкала сдержанная ярость. Обычно немногословный, умеющий скрывать свои чувства, слушавший собеседника, как правило, скромно и вежливо, сегодня он не смог подавить в себе вулкан мыслей и чувств. Якубенко слушал его даже с некоторым удивлением, но в тоже время глядел на него поощрительно. – Завидую твоему оптимизму, Алеша, а что касается прорабов, то они держат свои воздушные лайнеры на взлетных полосах и «мерседесы» с заведенными моторами и направленными в сторону Риги. Это на случай, если забастуют пилоты. Они же не круглые идиоты и понимают, что за свои преступления перед народом придется отвечать. И по самой высшей шкале, как предатели. За смерть умерших от голода ветеранов войны и неродившихся младенцев, за страдание и слезы доведенных до отчаяния матерей, не знающих, чем накормить и во что одеть своих детей. Все эти институтские теоретики, сопливые юнцы, далекие от народа и ненавидящие простого человека, все эти бурбулисы, гайдары, шахраи так называемые русско-язычные совсем не случайно оказались у руля России в смертный час ее. Эта ельцинская команда могильщиков рекомендована ему главным архитектором перестройки. Сам Ельцин просто прораб, бестолковый, некомпетентный, но с претензией на мессию. Он смешон, но сам этого никогда не поймет, как не поймет и то, что его подручные – несмываемый позор России. Такого позора русская история не знала. Многие топтали русскую землю: шведы и ордынцы, немцы и французы. А эти, тель-авивские, топчут душу народа. Такого не было. – Он стоял посреди комнаты могучим исполином, и трудно было поверить в его семьдесят лет, разъяренный и суровый, и Алексею Петровичу казалось, что его фронтовой друг и командир, строгий и справедливый во всем, умеющий подавлять в себе взрывоопасные эмоции, вдруг выплеснул свои чувства и мысли. Такое он себе очень редко позволял. Он никогда не терял контроль над собой, имея здоровые нервы. А тут допекли. Иванов всегда испытывал его силу и обаяние, убежденность, которую не удалось поколебать в нередких между ними спорами, но споры эти никак не отражались на их многолетней дружбе. Оба они жили надеждой на скорые перемены к лучшему, и генералу иной раз казалось, что их надежда безумная, потому что вызывала тень гражданской войны. А что такое война, они познали не только из кино и телехроники в Югославии, но и пролив собственную кровь. После долгой паузы, образовавшей как-то сразу вдруг необычную напряженную тишину, Якубенко словно размягчился и проговорил негромким и глухим голосом: – Вообще я сплю без сновидений. А сегодня видел странный сон: якобы идут по Тверской в сторону Кремля колонны рабочих «ЗИЛа», «Красного пролетариата», «Борца», несут транспаранты, красные знамена, поют «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною…» И так зримо, явственно, ну, как в действительности. И рядом со мной какая-то женщина, как будто даже знакомая, обращается ко мне: «Почему с фашистской? Надо с сионистской!» Я ничего ей не ответил, только вижу теперь, что колонна эта идет по улице Королева мимо Останкинской телебашни. И женщина эта указывает на башню-шприц и с ужасом кричит: «Смотрите, смотрите, она падает!» Я смотрю и вижу – башня падает на колонну, а люди то ли не слышат и не видят, что она их сейчас раздавит. Все идут и идут, и все громче звучит суровая песня-набат «Вставай, страна огромная…» Я проснулся, открыл глаза, и уже не во сне, а наяву продолжаю слушать песню, которая поднимала нас в атаку и окрыляла. И знаешь – я почувствовал в себе какую-то силу и надежду. Да, да – надежду, что сегодня кажется неправдоподобной, несбыточной. К чему бы это вдруг такое? К чему бы это? – Не знаю. Меня сновидения преследуют постоянно. Я к ним привык, – ответил Иванов. – Хотя в них кроется какая-то великая тайна, которую человеку, науке, в обозримом будущем не удастся разгадать. – Говорят, бывают вещие сны. – Бывают, – сказал Иванов, прищурив глаза, в которых уже угасло недавнее ожесточение. Взгляд его потеплел. – Сам испытал. Однажды в Восточной Пруссии – это было уже в конце войны, когда ты ушел на дивизию, – мы должны были на рассвете брать небольшой немецкий городок. Названия его я уже не помню. Ночью перед боем нам удалось накоротке прикорнуть. Не знаю, сколько я спал, может, час, а может, больше. И вот вижу сон: город, который мы должны взять и в котором я, конечно, никогда не был. Так вот вижу, будто мы ворвались в этот город, а на площади, совершенно пустой, стоит их кирха, ну по-нашему церковь, а на ней – скульптура распятого Христа. До этого мне не приходилось встречать ни в Пруссии, ни в других местах подобной церкви и чтоб со скульптурой. Утром мы ворвались в этот город. И что я вижу: в центре площадь и на ней кирха с распятием Христа точь-в-точь, что мне приснилась. Я был поражен и озадачен. Как такое возможно? Рассказал тогда ротному своему – ты его не помнишь, он из бывших учителей. Толковый был мужик, мыслящий. И знаешь, как он объяснил? Это, говорит, биотоки, ты перед боем думал об этом городе и посылал на него свои биотоки. Они дошли до цели и возвратились к тебе назад – отраженные. Были и другие случаи. Они прошли снова в «цех». Якубенко еще раз внимательно и в то же время как бы смущаясь осмотрел свой портрет. А Иванов сказал: – По-моему, получился. И владыке нравится. А он не лишен вкуса. Что ж, буду формовать и потом помаленьку долбить. – Ты хочешь в мраморе? – А ты думаешь, лучше в металле? – Я к тому, чтоб тебе облегчить. В металле меньше мороки. – Ничего, я договорился с мраморщиком. Есть тут у меня один знакомый умелец. Они ведь теперь почти безработные, так что он с удовольствием. – Ну, как знаешь, тебе видней. На этом они расстались.Глава четвертая. Первая любовь
1
На открытие выставки Алексей Петрович опоздал. Он пришел в Манеж, когда пестрая, многочисленная толпа зрителей разбрелась по залам-отсекам, рассматривая новые работы мастеров изобразительного искусства. И хотя скульптуры было немного, его «Первая любовь» оказалась загнанной в дальний отсек и поставлена в уголок на фоне довольно серых пейзажей, написанных как бы с нарочитой небрежностью, но с претензией на «новое слово» и этакую лихость. В сущности, это были весьма посредственные этюды, сработанные художником одним махом за какие-нибудь полчаса, потому они и не имели шансов задержать на себе глаз зрителя и не могли соперничать со скульптурой Иванова. Во всяком случае, такое соседство устраивало Алексея Петровича и как-то смягчало досаду, что поставили его работу в самом конце зала, куда некоторые уже изрядно уставшие зрители даже и не доходят. Вообще для художника немаловажно, где и как повешена его картина или поставлена скульптура, в начале или в конце зала, как освещена, каково соседство. От этого во многом зависит и впечатление зрителей. И там идет своего рода борьба за «престижные места», споры, обиды. Иванов в этом отношении был человеком если не безразличным, то по крайней мере покладистым. Он считал, что стоящую вещь зритель заметит, где бы она не находилась – в начале или в конце зала. На этой выставке у него и была-то всего лишь одна работа – его «Первая любовь». К ней он и направился сразу же, как только вошел в Манеж, не обращая внимания на другие экспонаты. Он не то чтоб волновался, но как и каждый автор хотел знать отношение к его творчеству рядового зрителя. Мнение критиков-искусствоведов его не интересовало, да они его не замечали. За все годы его творчества о нем не появилось в печати ни одной серьезной статьи, словно и не было такого скульптора Алексея Иванова. Даже отличный монумент советскому солдату, воздвигнутый им в одном большом городе, был удостоен всего нескольких фраз в местной газете. Алексей Петрович не страдал истощавшим душу недугом тщеславия. Иронически и даже с презрением смотрел на льстивых угодников, лобызающих каменные зады власть имущих, не умел, да и не хотел «работать локтями» в толпе жаждущих славы и наград. Все это он считал позорной суетой, недостойной художника-творца. Каково же было удивление Алексея Петровича, когда еще издали он увидел у своей скульптуры довольно большую группу людей, о чем-то оживленно рассуждающих и как будто даже спорящих. Вначале он решил, что внимание зрителей приковано к пейзажам «лихого» художника-соседа. Но, подойдя поближе, он понял, что зрители говорят о его «Первой любви». И он был приятно обрадован, когда увидел на белом мраморе своей скульптуры красную гвоздику, неизвестно кем положенную. Это было трогательное признание, которого он никак не ожидал. Из обрывочных реплик толпившихся зрителей он понял, что его работа нравится, что она не осталась незамеченной. Но больше всего его поразила ярко красная гвоздика, так эффектно выделявшаяся на белом мраморе. «Кто тот доброжелатель, а может, поклонница, удостоивший его таким лестным вниманием?» – лихорадочно сверлило мозг. Отойдя на несколько шагов от зрителей, стоящих у его работы, и прислушиваясь к их репликам, он увидел в толпе молодую женщину уж очень внимательно, даже придирчиво рассматривающую его «Первую любовь». Она была одета в черное платье, отделанное тоже черными пушинками из меха, элегантно облегающее ее стройную, грациозную фигуру. Не глубокий вырез на груди обнажал белизну шеи, украшенной маленьким аметистовым камешком на тонкой золотистой цепочке. И такой же камешек в серебряной оправе скромно сверкал на единственном колечке. Она стояла вполуоборот к Иванову и, указывая рукой в сторону его скульптуры, что-то говорила стоящей рядом с ней, судя по полной фигуре, пожилой женщине, лица которой он не видел. Быстрым цепким глазом Алексей Петрович обратил внимание на кисть руки молодой женщины и подумал: «Вот такие, именно такие нужны мне для „Девичьих грез“. Он сделал несколько шагов в сторону, чтоб рассмотреть лицо этой женщины, и был поражен ее скромной, какой-то не броской, но внутренне глубокой чистой красотой. Темные, пожалуй, темно-русые волосы, гладко зачесанные на пробор и связанные на затылке в тугой, не очень большой, но и не малый узел, обнажали красивый, высокий лоб и приятно оттеняли белизну ее лица. Пораженный какой-то необъяснимой притягательностью, он уставился в нее неотступным прицеливающим взглядом. И точно ощутив этот взгляд, женщина посмотрела в его сторону как-то странно, словно испытывая неловкость. Взгляды их столкнулись. Глаза ее, большие, очень блестящие искрились умом. Стоящая рядом с ней седая женщина тоже повернула голову в сторону Иванова, глядя на него пристально сощуренными глазами. И вдруг глаза седой женщины вспыхнули, расширились, она приоткрыла рот, очевидно, хотела что-то сказать, но быстро передумала и, проталкиваясь сквозь зрителей, решительно направилась к Иванову. Еще не дойдя до него с сияющим лицом, она протянула ему руку и, подавляя смущение, проговорила быстрым шепотом: – Здравствуй, Алеша… Алексей… – и виновато запнулась. – Петрович, – сухо подсказал Иванов. – Извини, память уже не та, забыла. – Пухлое лицо ее помидорно зардело. – А может, и не знала, – вежливо улыбаясь только губами, сказал Алексей Петрович и, чтоб погасить ее неловкость, прибавил: – Я ведь тоже не помню твоего отчества. – Матвеевна, – торопливо напомнила она. – Лариса Матвеевна, – и, обращаясь к незаметно подошедшей к ним молодой женщине, сказала: – Машенька, познакомься – это Алексей Петрович Иванов – автор скульптуры, которая тебе так нравится. Вот – он самый. Когда-то меня изобразил. А это Маша – моя единственная дочурка. – В ее сладком, торопливом голосе, в умиленном, взволнованном взгляде сливались и радость, и неловкость, и нечто похожее на раскаяние. Иванову невольно вспомнилась из прошлого ее стремительная манера в разговоре, но голос был уже совсем другой, тихий, ломающийся. «Единственной дочурке» шел тридцать седьмой год, но на вид ей с большой натяжкой можно было дать только тридцать. Молодило ее чистое свежее лицо матовой белизны, и глаза прямые и гордые, и стройная безукоризненная фигура, и даже скромная гладкая прическа очень свежих с отливом волос. Она улыбнулась вежливой застенчивой улыбкой и сказала негромким и неторопливым голосом: – Очень рада. Мне кажется, ваша работа – лучшая здесь на выставке. И не потому, что мама… – Она сделала паузу, скользяще взглянув на Ларису Матвеевну, и продолжала неспешно выталкивать круглые слова: – Я первой увидела вашу скульптуру и не сразу догадалась, что это мама. Просто мне очень понравилось лицо молодой девушки. Мимо нее нельзя пройти равнодушно. Это уже художественный образ. Иванов обратил внимание на неторопливую вдумчивую речь Маши, совсем не похожую на речь юной студентки Ларисы, всегда стремительную и звонкую. «Наверно, в отца. И во всем облике ее мало материнского, разве что глаза, светящиеся спокойным блеском», – думал Иванов, глядя на Машу ласково и поощрительно. Ее откровенное мнение о «Первой любви», добрые слова, в которых не чувствовалось ни капельки дежурной вежливой лести, ложились на душу Алексея Петровича благостным эликсиром. Не сводя с нее проницательного взгляда, он сказал: – Благодарю вас, Мария …? – Сергеевна, – суетливо подсказала Лариса Матвеевна и почему-то сочла нужным сообщить: – Зорянкина. Да зови ее просто Маша. Ее и на работе все так зовут, – суетилась восторженно и бессмысленно Лариса Матвеевна. – Красивое имя, да и фамилия подстать, – ласково сказал Иванов. – Был такой художник Зарянко, говорят знаменитый, – блеснула эрудицией Лариса Матвеевна, вызвав на лице дочери не одобрительную гримасу. – Он что, родственник вам? – без намека на иронию поинтересовался Иванов. – Да нет же, мама просто так, – смутилась Маша. – Зарянко был и в самом деле хороший живописец-реалист. Пожалуй, даже натуралист. Умел выписать каждый волосок, – примирительно проговорил Иванов. – Ваша фамилия скорее от зорянки. Есть такая забавная пичужка – серенькая, а грудка розовая, пожалуй, палевая. И черные маленькие пуговки – глаза на головке, которая несколько великовата для нее. Поет утренние и вечерние зори. – Вы знаток пернатых? – с тихим изумлением спросила Маша. – Любитель. Обожаю природу и всех ее обитателей, а точнее окружающий нас мир, включая леса, горы, реки, облака, степи, и прочие муравейники. Они отошли в сторону подальше от толпящихся у «Первой любви» зрителей. Иванов обратил внимание на мягкие плавные движения Маши и ее неторопливую речь. – Я рада твоему успеху, Алеша, и мне приятно, что людям нравится твое искусство. Вот и гвоздичку кто-то положил. Поклонница наверно. И надо же где встретиться! Сколько лет не виделись? Полсотни, – тараторила Лариса Матвеевна, и это ее истерическое умиление смущало и даже раздражало Алексея Петровича. «Тоже мне – Алеша – или опять забыла отчество», – подумал он не отводя взгляда от Маши. – А как мне ее называть – просто Лариса или по отчеству? А может, вообще никак не называть?» Он не был рад этой встрече, она не вызывала в его душе даже малейшего дуновения, словно это была незнакомая ему женщина, старая, хотя и сохранившая энергию и бодрость. Другое дело – Маша. В ней есть что-то неотразимое, притягательное. И, должно быть, не только или не столько молодость, а что-то пока неразгаданное и не объяснимое, внушающее доверие. А Лариса все лебезила: – Ну как ты живешь? Я недавно встретила Светлану и узнала, что вы разошлись. У тебя своя квартира? – Мастерская. Там и живу. – Один? Не женился? – бросила на него мимолетный пытливый взгляд. – Опоздал. Увлекся работой, а поезд мой тем временем ушел. – Ну, не скажи! – решительно польстила Лариса Матвеевна. – Ты еще мужчина – орел. Небось, бабы табуном ходят. Не мужчина же, а женщина цветок положила. Дети есть? – Внуку двенадцать лет. С родителями в Забайкалье. – А Машенька в газете работает. Может, встречал ее статьи? Интересно пишет. Все про этих уголовников, про ужасы. А про Алексея Петровича ты не могла бы написать? – вдруг обратилась к дочери. – А разве Алексей Петрович уголовник? – снисходительно и иронически заулыбалась Маша. Это была длинная, широкая, сверкающая благодушием и просьбой о снисхождении улыбка. Она привлекала и запоминалась. – Ну, тоже мне придумала… Я совсем о другом, о творчестве его напиши, о том, как он воевал, как был ранен и контужен, – сказала Лариса Матвеевна, и без всякого перехода: – Ты бы нас пригласил к себе в мастерскую, там у тебя, наверное, много интересного. И к нам приходи, всегда будем рады. Есть о чем поговорить, вспомнить. Сумбурную речь Ларисы Матвеевны и ее назойливое внимание Иванов слушал с вежливым терпением. Приходить к Зорянкиным он и не думал. Ему не о чем говорить и нечего вспоминать. В сердце его не сохранилось ничего, что бы напоминало ему о первой любви. Все куда-то ушло, растаяло и улетучилось. Лишь прошлая обида о вероломстве невесты зашевелилась в нем. Его занимала Маша, ее необычный, неожиданный образ. Он притягивал своей необъяснимой загадочностью. Иванов молча достал свою визитную карточку, протянул ее не Ларисе Матвеевне, а Маше со словами: – Милости прошу. Ваше лицо достойно мрамора и бронзы. И невольный румянец смущения вспыхнул на его лице, а в глазах сверкнул нежный огонек. – Я никогда не была в мастерской скульптора и не имею представления, как вы работаете, – откровенно призналась Маша. – Все очень просто. Но лучше показать, чем рассказать, – ответил Иванов. – Или как говорится: лучше один раз увидеть, чем десять услышать. – Спасибо, – тепло, но как бы рассеянно согласилась Маша, сверкнув на него мимолетным дружеским взглядом. Простившись с Зорянкиными, Алексей Петрович почти бегом прошел по отсекам зала, задерживаясь лишь у произведений, за которые невольно цеплялся взгляд. Народу по случаю вернисажа было много, зрители толкались у лучших картин, мешая друг другу, поэтому Иванов решил зайти на выставку в другой раз, когда спадет наплыв публики. Он вошел в свою мастерскую с чувством душевного подъема. Его «Первая любовь», несомненно, имела успех, на который он не рассчитывал, не будучи избалованным вниманием как чиновников от искусства, так и своих коллег. Многие из последних ценили его талант, и в то же время сетовали на его неумение «проявить себя», чрезмерную скромность и общественную пассивность, объясняя это замкнутым и необщительным характером. Хотя Алексей Петрович по своей натуре был человеком добрым, внешне относился и к «правым», и к «левым» одинаково терпимо и лояльно, но друзей со стороны художников у него не было. Это не мешало ему не чувствовать одиночества и находиться в курсе как внутренней жизни страны, так и внешних событий. Он постоянно выписывал по совету генерала газету «Советская Россия» и «Красная звезда», журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник». Свободное от работы время читал художественную, главным образом историческую литературу, а с весны до поздней осени частенько выезжал за город на природу. Но не только успех его скульптуры, о чем свидетельствовали оживленно толпящиеся у «Первой любви» зрители и кем-то положенная гвоздика (мысль – «кто тот поклонник»? – А ему хотелось, чтоб это была поклонница, – не покидала его и приятно интриговала), но и нечто пока не совсем осознанное поднимало его настроение. Он подошел к незаконченной композиции «Девичьи грезы» и, оценивающе глядя на безликую голову и едва намеченные кисти рук, подумал о Маше: сюда бы ее лицо, ее руки. Эта мысль впервые родилась там, в выставочном зале, и он совсем не случайно, а с тайной надеждой обронил тогда фразу «Ваше лицо просится в мрамор» и был несколько огорчен, что Маша никак не отреагировала на его деликатный намек-предложение. Он поставил на плитку чайник и начал готовить себе картофельное пюре. Он любил его с капустой собственного засола с множеством различных приправ. Любил перед этим опробовать кусочек деревенского сала, которое ему постоянно присылала младшая сестра Лида – смоленская колхозница. Вообще Иванов был не прихотлив к пище, равнодушен к разного рода деликатесам даже в «застойное время», когда вопрос продуктов не составлял никаких проблем. Любил он и чай, крепкий, душистый, с примесью разных трав. Кофе держал ради гостей. Быстро пообедав – на это он отпускал пять, максимум десять минут, – Алексей Петрович зашел в спальню и включил магнитофон с записью русских песен и романсов в исполнении Бориса Штоколова и лег на диван. Он боготворил этого певца, его могучий многокрасочный голос и ставил его в один ряд с Шаляпиным. Особенно нравилось ему «Утро туманное, утро седое» на слова Тургенева, а также романс П.Булахова «Гори, гори, моя звезда», тютчевское «Я встретил вас», «О, если мог выразить в звуке» Л.Малашкина. Он решил сегодня по случаю открытия выставки дать себе полный отдых, т.е. не прикасаться ни к пластилину, ни к глине. Он заново воскрешал в памяти сегодняшнюю встречу со своей первой любовью – Ларисой, но мысль его почему-то упрямо и настойчиво обращалась к Маше, к ее образу, запавшему в душу с того первого мгновения, когда их взгляды совершенно случайно, а может быть, по воле рока скрестились в немом изумлении. Он пытался найти ответ на свой же вопрос: чем она затронула интимные струны его души, так долго не звенящие и казалось, умолкшие навсегда. Машу нельзя было назвать красавицей, которые сверкают внешним блеском, как фальшивые бриллианты, сработанные из горного хрусталя. В ее облике не было ничего такого, что мгновенно поражает воображение и ласкает взор. Ее глубокая спокойная задумчивость и, пожалуй, преднамеренная, если не прирожденная, простота и скромность вызывали в нем какое-то смутное предчувствие внутреннего богатства и красоты. Все это увидел в ее глазах, таких особенных, неповторимых, честных и умных. А могучий, проникновенный бас Штоколова до осязаемости, до сердечной боли рисовал знакомую картину, созданную очаровательным Тургеневым:3
На другой день Иванову пришлось снова побывать на выставке вместе с Якубенко. Посетовав на Алексея Петровича за то, что тот не пригласил его на вернисаж, генерал в шутку, естественно, приказал своему бывшему подчиненному исправить ошибку и, не откладывая в долгий ящик, сопровождать его в Манеж. Иванов выразил сожаление, что не успел к выставке перевести бюст генерала в материал – еще не был даже отформован в гипсе, на что Дмитрий Михеевич махнул рукой, сказав, что это совсем не обязательно, что военные, особенно генералы сейчас не в моде, что ему хочется посмотреть, как выглядит «Первая любовь» среди других скульптурных работ. На этот раз зрителей было гораздо меньше, чем вчера – возможно, по случаю понедельника, – и они около двух часов внимательно рассматривали выставленные работы. Дмитрия Михеевича раздражали и даже возмущали произведения «авангардистов», которые он называл хороводом бездарей и подонков. Иванов старался гасить его слишком эмоциональную неприязнь, объясняя тем, что среди зрителей есть поклонники и такого искусства, что всякий художник имеет право на свое видение мира, на свой стиль и манеру, хотя сам Иванов не принимал и не воспринимал опусы «авангардистов», – он был неисправимый убежденный реалист. Возвратясь с выставки и наскоро пообедав, Алексей Петрович занялся формовкой портрета Дмитрия Михеевича. Услугами форматоров он пользовался редко, особенно сейчас, когда так немилосердно взвинчены цены. Это довольно не простое мастерство он освоил, когда работал в мастерской академика с формовщиками высокого класса. Он не успел облачиться в рабочий комбинезон, как в дверь позвонили. Сегодня он никого не ждал и хотел было сделать вид, что его нет дома. Но звонки настойчиво повторялись, пришлось открыть. Перед ним у порога стояла Лариса Матвеевна в шубе из черного каракуля и пушистой шапке из белого песца. Иванов мучительно удивился нежданному визиту, а она заговорила извиняющимся тоном: – Была у своей знакомой тут недалеко и решила зайти. А телефон не помню, где-то у Маши твоя визитка. Иванов не стал изображать на своем лице радость, но и недовольства не показал. Лишь сухо пригласил, распахнув дверь: – Пожалуйста, заходи в мою хижину. В прихожей, помогая ей снять шубу, небрежно-равнодушным голосом объявил: – Собирался поработать. – А я вот видишь – помешала. Конечно, лучше бы позвонить. Да так получилось. Ты уж извини меня, я ненадолго. Я так была рада нашей встрече на выставке. Надо же. Вот и совсем не собиралась, и не хожу я по выставкам. А тут какая-то сила потянула меня. Мы с Машей проходили по Моховой, смотрим, народ толпится. Маша говорит: давай зайдем, – сбивчиво и торопливо тараторила она, проходя в кабинет, и остановилась в нерешительности. Приход ее для Иванова был совсем некстати, он не знал, о чем им говорить. Ворошить прошлое, такое далекое и уже как бы и нереальное, он не намерен. Все чистое, светлое, но очень короткое, что было между ними, перегорело в молодой душе, превратилось в пепел, не оставив ни обид, ни упреков. Перед ним сидела старая женщина с подштукатуренным лицом, отмеченным печатью уныния и грусти. Одета она была в дорогой темно-коричневый бархатный костюм, престижный четверть века тому назад, и светлую блузку, на которой покоились крупные бусы. Речь ее была торопливая, манерная, а блуждающий взгляд не мог скрыть внутреннюю пустоту. – Расскажи, как ты эти годы, живешь-то как? Покажи свои хоромы. – Живу, как видишь, не жалуюсь. А хоромы – смотри, – сказал он с терпеливым благодушием и развел руками. Лариса Матвеевна очень проворно встала и бодрой энергичной походкой направилась в «зал», где стояли его готовые работы. Глаза ее смотрели открыто и прямо с каким-то двойственным удивлением: она видела произведения настоящего мастера и в то же время ее смущали женские торсы, обнаженные женские фигуры. Он наблюдал за ней с терпеливой вежливостью и даже с тайным любопытством и снисходительной иронией. Сказал: – Ты тут посмотри, а я пойду поставлю чай. Или ты предпочитаешь кофе? Она предпочитала кофе. Иванов поставил на плиту чайник и с чашками, ложечками и банкой растворимого кофе вернулся в «зал», выгрузил посуду на стол и снова вышел за сушками и печеньем. Когда вернулся, она стояла посреди комнаты и смотрела на Алексея Петровича с лукавой улыбкой глуповатыми растерянными глазами. – А ты молодец, ты очень вырос, – похвалила она с потугой на светскую утонченность. – А что это у тебя такой интерес к нашему полу? И все голые. Ты что, женский угодник? – В вопросе ее звучало неприличие, а в глазах играла загадочная улыбка. – Бабник? Ты это хотела сказать? – Наверно, все твои любовницы, – игриво сказала она, но в голосе ее не было осуждения. – Возлюбленные, – небрежно и равнодушно ответил он и посмотрел на нее испытующе. – Да ну тебя: жениться тебе надо. Я знаю, со Светланой ты не был счастлив. Она – женщина с норовом… с тяжелым характером. – А ты счастлива? – Я?.. Было счастье, да уплыло. – Она горестно вздохнула, глаза ее затуманились. Выдержав паузу, сообщила: – Я своего схоронила, вот уже три года прошло. Живем втроем – Маша и внучка Настенька. Четыре годика в сентябре ей исполнилось. Живем скромно. Квартира у нас хорошая, трехкомнатная, на Кутузовском, в хорошем доме. Мы долго жили за границей, Сергей Иванович был первым советником посла. Приоделись, вещичками кой-какими обзавелись. Жили в достатке и на черный день приберегли. Ты заходи к нам. Всегда будем рады. И Маша. Он вышел на кухню и вернулся с кофейником и сахаром. Разговор не клеился. Иванов бросал на нее короткие скользящие взгляды и думал: «Неужто эта та самая Лариса, от одного имени которой ныло его сердце и перехватывало дыхание, недосягаемая мечта, которая так сладко целовалась в весеннем Измайловском парке? Да это было в мае, – вспомнил он и взглянул на ее потрескавшиеся бледные, плотно сжатые губы и с иронией подумал: вот так целовалась Светлана, не размыкая губ. Зачем ей нужна встреча со мной? О чем она сейчас думает, как, с каким чувством вспоминает майские послевоенные дни? Что ей от меня нужно?» Пауза была рискованно долгой, Лариса Матвеевна это понимала и решилась взять инициативу в беседе. Повторила снова вопрос, от ответа на который Иванов умело уклонился, а для нее это был важный вопрос: – Почему же ты не женишься? – Тон ее преднамеренно не серьезный, даже игривый. А он не принял его и отвечал с серьезным видом: – Для того чтоб жениться, надо влюбиться. Однажды в молодости я влюбился, и ты знаешь, чем это закончилось. Второй раз я женился без любви, кому-то назло. А результат – тот же. Так что стоит ли рисковать? Подобные неудачи дорого обходятся. – А любовницы или, как ты называешь, возлюбленные не дорого? – Совсем нет. Пожалуй, наоборот. – Они что – тебе платят? – спросила она с презрительным любопытством. В ответ он звучно рассмеялся язвительным смехом, но смеялись губы, а глаза оставались холодными. – Мои возлюбленные в мечтах, плод моей фантазии, вроде той, что ты видела на выставке, или этих, что в соседней комнате, как ты сказала – голых. Они по крайней мере не изменят. – Его колкий намек она пропустила мимо ушей и продолжала допрашивать: – А наяву? – Не хочу попусту растрачивать душевные силы. Берегу. – Для кого? Ты ж сказал, что твой поезд ушел. – Поезд ушел, а вдруг подвернется попутная машина. – Значит, надеешься? – глаза ее беспомощно и жалко задрожали. – Правильно делаешь: надежду никогда не надо терять. Одиночество – страшное дело. Вот у меня и дочь, и внучка, а я все равно одинока. Душа-то она не стареет, она, может быть, с возрастом еще больше нуждается в ласке, чем в молодости. Молодость – она ветренна. Она ярко светит, но не греет. На лицо ее в мелких морщинах легла тихая печаль. Разговор принимал нежелательный для Иванова характер, и он спросил: – Чем занимается твой зять? – Зятя нет, – ответила она и скорбно вздохнула. – И не было. А Настенька – случайный плод легкомыслия. Хотя Маша у меня совсем не легкомысленная, серьезная девушка. Но так случилось. – Лариса Матвеевна вздохнула. – Она не похожа на тебя, вернее не очень похожа, – случайно сорвалась у него язвительная фраза. Но Лариса Матвеевна не обиделась и не смутилась. Напротив, на лице ее заиграла манящая улыбка, сказала весело и таинственно: – А ты не находишь, что она на тебя похожа? – и заискивающая улыбка блеснула в ее прищуренных глазах. «Ну и ну, это уже непозволительная наглость или откровенная глупость», – подумал Иванов и, посмотрев на нее с удивлением, сказал, нещаднорассмеявшись: – Насколько я знаю, от поцелуев дети не рождаются. Лицо Ларисы Матвеевны порозовело, она рассмеялась нервным беспричинным смехом и, подавляя его, сказала: – Я пошутила. Я имела в виду ее характер, такой же, как у тебя: серьезный и добрый. «Откуда знать тебе мой характер?» – с холодной отчужденностью подумал Иванов. Разговор и встреча уже тяготили его. Ему было ясно, что привело ее сюда совсем не желание посмотреть его работы, – это был лишь удобный предлог. Она шла с определенным намерением и слабой надеждой, но, поняв, что надежда ее оказалась иллюзорной, сделала последний выстрел: покончила с чаепитием, она подошла к нему вплотную и, будучи не в силах скрыть свое волнение, громко вздохнула и сдавленным деревянным голосом произнесла: – Спасибо тебе, Алеша, не ругай, что отвлекла тебя от дела, но не могла не увидеть тебя еще раз. После той встречи на выставке, поверишь, я всю ночь глаз не сомкнула. Всю свою жизнь передумала, перечувствовала. Себя корила за свое легкомыслие, молодая была, да глупая. Любила я тебя и все эти годы вспоминала, не могла забыть. И когда Машеньку под сердцем носила, о тебе думала. Может, оттого и похожа она на тебя. Говорят, так бывает. Ты сказал, что от поцелуев дети не рождаются. Только бывают поцелуи, которые оставляют свой след на всю жизнь. И всю жизнь вспоминаешь их в минуты, когда душа плачет, когда находит на тебя такое, чему и названия нет. Я знаю – душа у тебя добрая и сердце нежное. Как представлю твои переживания – места себе не нахожу. Он слушал терпеливо и покорно ее исповедь, смотрел на редкие складки вокруг ее тонких губ, на ее дрожащие, морщинистые руки, на благородную голубизну изрядно поредевших, а когда-то пышных волос, видел, как меркнут и туманятся ее глаза, и в мыслях его зарождалась какая-то путаница и разноголосица: он хотел понять и поверить в искренность ее слов, но мешали сомнения: а может, свой монолог она заранее продумала. Душа его смягчилась, появилось чувство жалости и прощения, и он с мягкой и вежливой уступчивостью сказал: – Не надо ворошить прошлое, Лариса. Что было, то сплыло. – Не говори, Алеша, не сплыло. Хорошее не забывается, – взволнованно перебила она. – Любила я тебя. И люблю. И буду любить всегда. И если тебе понадобится помощь – дай знать, не стесняйся. Я с радостью .. – осеклась она и вдруг порывисто поцеловала его в щеку. А он стоял перед ней, растерянный и смущенный, и не находил слов в ответ на ее признание, и в то же время понимал, что «выстрел» ее прошел мимо.Глава пятая. Звезда любви приветная
1
Новый, 1992 год Алексей Петрович встречал в семье Дмитрия Михеевича Якубенко. Генерал жил вдвоем с женой в двухкомнатной квартире в большом доме на площади Победы. Из окон была видна Поклонная гора, вокруг которой еще недавно бушевали страсти: быть или не быть там мемориалу в честь победы над гитлеровским нашествием, а если быть, то каким? Якубенко уговаривал Иванова предложить свой проект на конкурс – мол, тебе, фронтовику, и карты в руки, – но Алексей Петрович категорически отказывался, ссылаясь на то что это не его «жанр», что он не монументалист, что тут нужен вучетичевский размах. И высказывал уже не новую, родившуюся еще при жизни Вучетича идею перенести в Москву из берлинского Трептов парка бронзового солдата с ребенком на руке и мечом, разрубившим фашистскую свастику. Страсти улеглись, перестройка отодвинула идею с памятником куда-то на задворки старанием сионистской прессы, юродствующей над нашей победой, над воинской доблестью и славой, над памятью павших и горькой судьбой доживающих свой век в нищете и позоре ветеранов Великой Отечественной. У Якубенко не было детей. Встречать Новый год, кроме Иванова, они пригласили своего лечащего врача и «друга дома» Тамару Афанасьевну, работающую в военной поликлинике. Это была миловидная вдовушка, муж которой погиб в Афганистане незадолго до вывода советских войск из этой многострадальной исламской страны. Тамаре Афанасьевне шел сорок пятый год, то есть она вплотную приблизилась к той возрастной черте, когда говорят «бабе сорок пять – баба ягодка опять». Тамара Афанасьевна в полной мере соответствовала народному изречению: она принадлежала к категории людей, наделенных оптимизмом от рождения. Чувство радости жизни, умение владеть собой, не поддаваться унынию в самые трагические дни – составляли черту ее характера. Даже смерть любимого человека не смогла сломить ее, и она стоически перенесла эту мучительную трагедию. В дни печали и житейских невзгод она любила повторять строки своей выдающейся землячки Леси Украинки:2
Иванов не очень был удивлен, встретив на пороге своей мастерской врача Тамару Афанасьевну без генерала, но все же спросил: – А где Дмитрий Михеевич? Вопрос удивил ее: она не знала, что должна была приехать вместе с Якубенко, хотела даже спросить «А разве он тоже…?», но быстро сообразила и ответила с улыбкой легкого смущения: – Дмитрий Михеевич позвонил мне и сообщил, что вы заболели, и просил срочно навестить вас. Вот я, как скорая помощь, и примчалась по вызову. – Что ж, я рад вас видеть, но Дмитрию не стоило вас беспокоить – ничего серьезного, все уже пронесло. «А ведь, чего доброго – она может подумать, что я симулирую болезнь, предлог для встречи с ней, – решил Иванов и мысленно выругал услужливо-заботливого друга. – Больше того, может принять эту болезнь, как мужской сговор между ним и генералом». Он проводил ее в кабинет и вкратце рассказал о своем недуге и о принятых им мерах. Она внимательно выслушала его и затем проверила пульс. Рука ее, как и вчера, была горячая и мягкая, а с лица ее все еще не сходил румянец смущения. Пока она считала пульс, он откровенно разглядывал глубокие морщины, прорезавшие ее низкий лоб, слегка прикрытый красивым локоном еще совсем свежих волос и мелкие морщинки у светло-голубых маленьких глаз. Белый врачебный халат придавал ей особую пикантность, хотя и казался здесь преднамеренным и неуместным. Ее мелкое, круглое слегка курносое лицо, как и вчера, то и дело озарялось мягкой, доброжелательной улыбкой. Неожиданно он уловил какое-то очень отдаленное сходство этой еще далеко не пожилой женщины со старой Ларисой. Он не понимал, в чем состоит это сходство, и подумал: «Лет через двадцать и она будет бодрящейся старушенцией. А меня, может, к тому времени вообще не будет на этой грешной истерзанной антихристом и его пришельцами-бесенятами, земле». Об этом, о себе, он старался не думать. Двадцать лет – это так много, и в то же время пролетят они незаметно в суете мирской. Кажется, совсем недавно Дмитрий Михеевич поздравлял его с пятидесятилетием, а ведь минуло уже с тех пор без малого двадцать. Размышления его оборвал вопрос Тамары Афанасьевны: – Где вы можете прилечь? Я хочу прощупать ваш живот. – И лицо ее озаряется доброй и ласковой улыбкой. Они прошли в спальню. Он послушно обнажился по пояс, лег на спину и неожиданно для себя самого сказал: – Ваш халат настраивает меня на больной лад. Действует на психику. – Правда? Тогда я его сниму, – с игривой улыбкой ответила она, а он прибавил: – И отнесите его куда-нибудь, в кабинет, что ли? «Зачем я эту глупость сказал? Что она подумает? А-а, пусть думает: ведь я же „святой“, а „святому“ все простительно. Без халата она показалась ему совсем другой. На ней был светло-синий мохеровый свитер без рукавов, надетый поверх белой блузки, из-под которой просматривался маленький уголок ее мягкой, теплой, беспокойной груди. И вся она была мягкая и теплая, исторгающая на него приятный, какой-то манящий аромат духов. Тамара Афанасьевна положила руки ему на живот и качала очень бережно, осторожно не столько прощупывать, сколько гладить. Ему не было неприятно прикосновение ее мягких горячих рук, даже напротив: он ощущал сладостное тепло, глядя в упор на ее розовое огнем горящее лицо, догадывался, что она не в силах сдерживать волнение; на ее маленькие полные губы, не тронутые помадой, почти физически чувствовал их трепетную близость и стыдливую нерешительность. Глаза ее были прикрыты веками, и от них во все стороны разбегались мелкие, едва заметные морщинки. Дрожащие руки все медленней скользили уже не по животу, а по груди, голова опускалась все ниже и ниже, и упавший локон ее волос щекочущим током коснулся его лица. Холодный разум подсказывал ему, что какие-то секунды отделяют их от рискованной черты, переступив которую, он будет потом горько раскаиваться. Он понимал ее и не осуждал. Ему вспомнилась стремительная до агрессивности атака Инны. Как не похожи эти две женщины, совершенно разные в своих чувствах. Он догадывался, каких душевных усилий, быть может, даже мук, потребовал от Тамары ее робкий поступок открыть перед ним свое сердце. Она не из тех женщин, которые откровенно предлагают себя мужику, повинуясь зову плоти. Ей нужна прежде всего ласка, по которой втайне стосковалась ее душа. И она готова отплатить взаимностью чувств. Он это понимал с полной убежденностью, но принять ее дара не мог: сердце его по-прежнему молчало с холодным равнодушием. А пепельный локон все ниже и ниже, еще один миг, и трепетные губы ее прильнут к его немного растерянному лицу, но именно в тот самый миг его вежливый грудной голос упредительно произнес: – А вы не могли бы измерить мне давление? У вас есть аппарат? – Его внезапный бестактный, даже оскорбительный вопрос ударил ее, как обухом по голове. Она резко вздернула голову, выпрямилась и замерла в такой позе с закрытыми глазами. Руки ее украдкой соскользнули с его тела и опустились на ее колени. Он почувствовал себя неловко и виновато, прочитав в ее беспомощно-растерянных жалобных медленно открывшихся глазах просьбу о прощении. С мучительным удивлением она тихо сказала: – Давление у вас нормальное. И пульс тоже. В колючих словах ее чувствовалось напряжение. И чтоб как-то оправдать себя, он сказал устало и равнодушно: – Понимаете – какая-то слабость во всем теле и сонливость. – После отравления это естественное состояние. Вам надо уснуть и отдохнуть. – В голосе ее звучали смущение и обида. Она встала и направилась в кабинет. Он торопливо вскочил, надел рубаху и привел себя в порядок, направился вслед за ней. Она все еще не оправилась от смущения и собиралась уходить. Он понимал ее состояние и, осуждая себя, старался как-то смягчить, развеять неловкость положения. – Вы хотите посмотреть портрет Дмитрия Михеевича? Пожалуйста, проходите в мой рабочий цех. Отформованный в гипсе портрет генерала стоял на подставке рядом с незаконченной композицией «Девичьи грезы». Тамара Афанасьевна взглянула на портрет нехотя и вскользь, не скрывая своего равнодушия, тихо обронила лишь одно слово «похож», а композицию даже взглядом не удостоила, и в смятении вышла в прихожую. Расставаясь оба чувствовали себя неловко и виновато. После ее ухода Иванов не находил себе места. Он метался по мастерской из комнаты в комнату, ругая не столько генерала сколько себя. «Как глупо, дурацки я вел себя. И Дмитрий хорош – специально ведь подослал. Зачем? Что я – просил его? Наоборот, я не хотел. Ведь я обидел ее без всякой к тому причины. Она с открытой душой… Ее можно понять. А я, как последний чурбан, даже чаю не предложил, можно сказать, выгнал доброго, душевного человека. Надо было посидеть, поговорить. Может, она хотела душу свою раскрыть, ласковое слово услышать от меня. Она гордая, совестливая женщина, а я ее за Инну принял». – Он мучительно переживал неожиданную встречу. Телефонный звонок оторвал его от самобичевания. Звонила легкая на помине Инна, поздравляла с Новым годом, спрашивала, когда будем продолжать «Девичьи грезы?» – Не знаю. Что-то я остыл к этим грезам, – равнодушно ответил он. – А у меня новость, – весело говорила Инна. – Мой Аркаша задумал уехать за бугор. Насовсем. Только еще не решил, в какую страну: в Штаты или Израиль. – Вместе с вами? – совершенно машинально спросил Иванов. – Я не знаю. Хочу с вами посоветоваться. – Голос ее игривый, веселый и беспечный. – Я плохой советчик. Кстати, а чем ваш Аркаша думает заниматься за бугром… с его-то профессией? Там своих таких, небось, пруд пруди. Да и народ в этом деле грамотный, небось, каждый второй классный специалист, да не только теоретик, но и практик, – съязвил он. – И я ему говорю. А он боится, что здесь скоро гражданская война начнется. Вы же видите, что творится. Магазины пусты, цены дикие! А как жить не миллионерам, а простым смертным? Кстати, можете меня поздравить с пробуждением. – С чем? – не понял Иванов. – Да я же – дура – горло драла за демократов, на их митингах «Долой!» кричала. На Ельцина, как на икону смотрела. А он оказался таким же подлецом, как и Горбачев. Из одной шайки. А демократы? Да это ж обыкновенные жулики. Я никому уже не верю. А теперь что же – опять ходить по другим митингам и тоже кричать «Долой!»? И ждать, когда голодный народ выйдет на улицу и начнет громить всех подряд? Пожалуй, уж лучше с Аркашей в Штаты. В Израиль я не согласна, а в Штаты, чего ж – можно и попробовать. Не понравится – назад ворочусь, когда тут все образуется. Это же кошмар, что творится. Фильм выпустили под названием «Так жить нельзя». Это про застойное время. А теперь я б хотела спросить режиссера: «А так можно? Как мы сегодня живем?» Вчера у нас у магазина в очереди за молоком женщина умерла. Молока для внучки так и не досталось ей. И она с горя Богу душу отдала… А эти губошлепые гайдары завтраками народ кормят: мол, потерпите, завтра манну небесную получим. Не небесную, а западную. Горбачев все обещал, а теперь эти спасатели России… Иванов терпеливо слушал ее бойкий монолог и думал о Тамаре Афанасьевне: та ведь тоже за демократов голосовала, а в Ельцине и сейчас еще не совсем разочаровалась, все еще верит. И в Штаты не поедет. Нет, Тамара никуда не поедет. Будет нищенствовать вместе со всеми, будет голодная облегчать страдания больных, а родину не оставит в беде. В Ельцине она просто заблуждается, заморочили ей голову печать и телевидение. Она доверчивая и добрая. Звонок Инны немного поправил его настроение. Не ее поздравление порадовало Иванова, а то, что и такая активная «демократка» наконец-то прозрела и даже дурой себя назвала. А сколько таких дур отстаивают в очередях целыми дням, но стесняются назвать себя дурами, стыдно им признаться, как их бывшие кумиры обвели вокруг пальца, просто обманули. Но океан лжи, в которой погружена наша страна, еще не испарился, и миллионы дураков и дурех еще барахтаются в его мутных водах, захлебываясь газетными и радиотелевизионными нечистотами. Что касается таких, как Инна, то черт с ней – пускай выматывается хоть в Израиль, хоть в США. Жалко молодежь, доверчивую и беззащитную, отравленную ядом лжи, секса и жестокости. Потерянное поколение. И, пожалуй, не одно. Обычно в квартире Иванова редко раздавался телефонный звонок. Иногда по несколько дней кряду телефон молчал, и сам он никому не звонил. Но сегодня день был не обычным – первый день нового года. И не успел Алексей Петрович положить трубку после разговора с Инной, как снова телефонный звонок и незнакомый, но приятный и как будто даже взволнованный женский голос: – Здравствуйте, Алексей Петрович. Это Маша Зорянкина поздравляет вас с Новым годом. И мама тоже присоединяется к моему поздравлению. Мы от души желаем вам крепкого здоровья и творческого взлета на радость людям. Я еще раз была на выставке и нахожусь под впечатлением вашей скульптуры, – выпалила она залпом, очевидно, заранее приготовленные слова. И эти такие простые, обыкновенные фразы так обрадовали и взволновали Иванова, что у него перехватило дыхание, и он ответил лишь после продолжительной заминки: – Спасибо, Маша, я очень тронут вашим вниманием, – сдерживая свою возбужденность, пробормотал он тихим голосом. И уже оправившись, торопливо и радостно, опасаясь, чтоб она не положила трубку, продолжал: – Я очень рад вашему звонку, очень-очень. Ваше мнение о моей работе мне дорого. Да-да, дорого, – зачем-то повторил он, поспешно подыскивая другие слова, которые помешали б ей прервать этот разговор. Он немного лукавил, говоря об ее оценке его «Первой любви»; для него дорог был вообще ее звонок, которого он, сам того не подозревая, так долго и терпеливо ждал. – Я вас тоже сердечно поздравляю и желаю вам большого светлого счастья на всю вашу долгую жизнь, – говорил он порывисто. Передайте мои поздравления Ларисе Матвеевне и добрые пожелания. – Тут же без паузы: – Как вы встретили Новый год? Расскажите, пожалуйста? И в этом «пожалуйста», произнесенном проникновенно, как мольба, Маша не могла не уловить и глубокий смысл его слов, и его душевного волнения, и желание продолжать приятный для них обоих разговор. Он верил в биотоки, действия которых уже испытывал на себе еще на фронте. И теперь был уверен, что его состояние взволнованной радости передается и ей. – По-семейному, в составе трех женщин: мы с мамой, да наша Настенька. Распили бутылку шампанского и в начале первого легли спать. У вас, наверно, было веселей? – В вопросе ее ему послышался какой-то подтекст. «Хочет знать, с кем встречал. Или просто спросила для приличия?» – подумал Иванов и решил уклониться от излишних деталей. – В семье своего фронтового друга встретил. Пили тоже шампанское, пели песни, которых нынешнее поколение не знает и не поет, ругали перестройку и ее творцов и тоже в первом часу разошлись по домам. Какое уж тут веселье, когда ничего хорошего новый год не сулит. – Да, окаянное время, – грустно согласилась Маша. – Почти по Бунину – «Окаянные дни». Читали? – Совсем недавно купил. Вы правы – почти по Бунину. Когда-нибудь кто-то напишет вот так же о проклятой перестройке, – сказал он и подумал: «А может, она за демократов, как Тамара Афанасьевна? Непохоже, коль бунинские „Окаянные дни“ вспомнила». – Мне мама рассказывала, что у вас много интересных работ. Она в восторге. Алексей Петрович понял намек и решил не упускать момент: – Не доверяйте рассказам других. Лучше лично удостовериться. Заходите в любое удобное для вас время. Я почти всегда дома. Иногда выхожу за хлебом. – Спасибо за приглашение, я им обязательно воспользуюсь, – охотно и с готовностью ответила Маша. – И не откладывайте в долгий ящик. А то у меня глина сохнет, – говорил он уже весело и непринужденно. – Глина? Что за глина? – Из которой я буду лепить ваш портрет. – Мой портрет? Это даже любопытно. Только стоит ли тратить глину на личность, которая не представляет общественный интерес. – В веселом голосе ее он уловил кокетливые нотки и желание продолжать телефонный диалог. – На личность – всегда стоит и даже необходимо. А вы – личность. – Личность разве что для глины. «Какой чарующий голос», – подумал он и попытался представить ее улыбку и умные глаза. – Глина – это начало всех начал. А конец – мрамор. – И как вы назовете мой портрет? Мамин вы назвали «Первая любовь», а мой? – Название найдем. Это не проблема. – «Последняя любовь»? – услышал он смеющийся озорной голос и внутренне вздрогнул, потому что мысленно подумал то же самое еще до того, как она, конечно же шутя, произнесла эти два бросавшие его в дрожь слова. Так они к обоюдному удовлетворению непринужденно проболтали минут двадцать, наконец Маша с решительной готовностью сказала: – Итак, до встречи? – Обещайте, что она состоится в самое ближайшее время? Не забывайте, что глина быстро сохнет. – Обещаю и не забываю. – Так, может, завтра? – с мальчишеским энтузиазмом предложил он. – Какой вы скорый? – Но ведь глина… – весело и шутливо выпалил он. Поговорив с Машей, Алексей Петрович в состоянии неожиданного душевного взлета, словно окрыленный вошел в свой «цех» и остановился перед «Девичьими грезами». Он уже представлял себе, как будет выглядеть Маша в этой композиции, ее осененное мечтой одухотворенное лицо, полное внутреннего огня и страсти, тонкие трепетные кисти ее рук. Маша – это чудо женского совершенства, обаяния и красоты. Он не понимал, не хотел признаться, что совсем не знает ее, что видел всего один раз и то мельком, как иногда встретишь на эскалаторе метро движущееся навстречу очаровательное лицо юной феи. И потом эта странная, пусть даже шутливая фраза – «Последняя любовь». Как понимать ее? А ее голос, этот звенящий неторопливый колокольчик, ее непринужденная, свободная речь как плавное журчание серебряного ручья – все это пьянило его воображение, и он уже предвкушал удовольствие, с которым будет лепить ее образ. Нет, не образ, а лик. «Что это со мной, почему я так возбужден?» – спрашивал самого себя и боялся ответа, запрятанного глубоко в недрах молодой, еще не растраченной души. Потом включал магнитофон, садился в кресло и, сцепив руки на затылке, слушал с упоением любимого им Бориса Штоколова:3
Владыку Хрисанфа в последние дни одолевали глубинные сомнения. Сумятица противоречивых мыслей поселилась в нем после встречи с генералом Якубенко у Иванова. Откровенные высказывания генерала о патриархе, об Александре Мене, о митинговом пасторе-депутате, которого Алексей Петрович назвал «рыжей крысой», заставили епископа Хрисанфа задуматься серьезно над тем, что происходит в нашей стране в целом и в частности в жизни русской православной церкви. Хрисанф, как и большинство его коллег, благосклонно встретил перестройку, которая открывала для деятельности духовенства широкие, даже ничем не ограниченные просторы. Атеизм, безбожничество осуждалось в высших сферах власти, и главный партийный идеолог Александр Яковлев демонстративно нанес визит в Оптину пустынь. Правда, сведущие духовные иерархи помнили и другое, как тот же самый Яковлев в минувшие годы с губельмановской яростью насаждал и усиливал антирелигиозную пропаганду, жестоко расправлялся с редакторами тех изданий, которые отваживались печатать фотографии православных храмов – памятники отечественного зодчества. И старший коллега тогда еще архимандрита Хрисанфа, а нынешний митрополит в частной беседе обронил по адресу оборотня Яковлева презренное слово «Иуда». Но тем не менее многие патриотические газеты и журналы отводили целые страницы деятельности церкви. Как в открытые шлюзы хлынули верующие в храмы и в ранее отправлявшие службу и вновь открытые. Словом, церковь получила полную свободу и независимость от властей, хотя формально еще оставалась отделенной от государства. Духовенство ликовало. А некоторые из них, вроде «рыжей крысы», пробравшиеся даже в советы, экстремистски витействовали, вообразив себя апостолами свободы, крушили все подряд под флагом демократов. Досталось от них не только отечественной истории, но и своим коллегам архиереям высшего ранга, членам священного синода. Впрочем, еще раньше, в годы, когда в Китае вдову Мао Дзе Дуна и ее ближайшее окружение клеймили «бандой четырех», наши церковные диссиденты и, прежде всего «рыжая крыса», «бандой четырех» окрестили постоянных членов священного синода, то есть верхушку православного духовенства. Совсем недавно безбожники в одночасье превращались с истовых верующих с такой же поспешностью и энтузиазмом, как некоторые партийные боссы объявляли себя убежденными и воинствующими демократами. Это конъюнктурное превращение вызывало в душе епископа Хрисанфа неприязнь и возмущение. «Иуды», – повторял он сказанное митрополитом слово по адресу Яковлева. Даже хуже Иуды: тот, предав учителя, под Давлением пробудившегося раскаяния нашел в себе мужество повеситься. У этих – Яковлевых-Горбачевых совесть не пробудится, потому как ее у них никогда не было. Владыка Хрисанф многого ожидал от власти демократов, не для себя – для народа. На Ельцина он надеялся до последнего времени и был не согласен с генералом Якубенко, который считал президента России Иудой номер один. Горбачев, Яковлев и Шеварднадзе в реестре Дмитрия Михеевича шли под номерами два три, четыре. Но надежды епископа оказались иллюзиями: Горбачев и Ельцин, которым он искренне симпатизировал, привели страну к катастрофе. Встреча с генералом Якубенко заставила владыку новыми глазами посмотреть на многие явления, происходящие в жизни нашего общества, в том числе и церковной. О встрече в мастерской Иванова епископ поделился с митрополитом, с которым его связывала давнишняя дружба и доверительные отношения. И оказалось, что митрополит как и генерал, считал Александра Меня иудаистским или сионистским – это, в общем, одно и то же – агентом в русской православной церкви, и что у Меня есть последователи как среди рядовых священников, так и среди архиереев. Брожение и смута в обществе не могли отразиться на жизни церкви. Появились любители половить рыбку в мутной воде, ослабить или воспрепятствовать влиянию церкви на духовное возрождение России, посеять разлад и хаос в умах верующих путем беспардонной лжи, мерзких инсинуаций в сионизированных средствах информации. Нередко и патриотические издания, которых можно сосчитать по пальцам, не разобравшись в существе и будучи некомпетентными в делах церковных, легко клевали на подброшенные врагами православия фальшивки. И не только иудаисты и Ватикан ведут активную подрывную деятельность, распространяя слухи о связях духовенства с КГБ, этими нечистыми играми занимается и зарубежная русская православная церковь, раскольники из так называемой «катакомбной церкви», возводящие хулу на покойного патриарха Сергия. И всемирный совет церквей со своим штабом в Женеве неустанно проповедуют экуменческие идеи, которые способствуют расколу в русской православной церкви, ослабляют ее плодотворное влияние на общество, одурманенное сионистской пропагандой, « уже не в состоянии разобраться, где правда, а где ложь, потому что наторенные в многовековой лжи бесы умеют искусно выдавать себя за ангелов, якобы только и пекущихся о благе народа. А на самом деле эти оборотни подобно вампирам пьют кровь доверчивых людей труда. Сегодня для прикрытия своей русофобской сущности, антирусского нутра они маскируются словами „Россия“, „русский“, а под этими масками скрываются матерые сионисты и их подлые, продажные лакеи. Посмотрите названия их газет: „Россия“, „Российская газета“, „Русский курьер“ – там русским духом и не пахло, их страницы пропитаны ядом русофобии, и русскому человеку, рядовому читателю, не так просто понять, что „Русский вестник“ и „Советская Россия“ – это вестники подлинной правды, а „Русский курьер“ – разносчик мерзкой лжи. Обо всем этом владыка Хрисанф лишь смутно догадывался, но когда об этом доверительно заговорил митрополит, которому он беспредельно верил, у епископа Хрисанфа словно пелену сняли с глаз. Он понимал, что митрополит обладает большей информацией, знал о его необыкновенной способности анализа явлений и факторов, и потому все сказанное митрополитом он уже не подвергал сомнению. И личность Александра Меня, его деятельность как телеобозревателя своеобразного толкователя православия теперь ему виделась в ином свете. Он поразился, что мнение генерала и митрополита о Мене совпали. По указке иудеев глупые и наивные верующие христиане поставили небольшой крест на том месте, где покойный священник встретился со своим убийцей – у асфальтированной тропинки, идущей от платформы Семхоз до племптицезавода «Конкурсный». И не за свои собственные деньги вдова и сын убиенного решили выкупить у племптицезавода Дом культуры, чтобы открыть в нем «Центр Меня». У сионистов, как известно, денег куры не клюют, в то время как у куриного племзавода не хватает денег на содержание Дома культуры. До перестройки не только хватало, но и было в избытке. В рождественские праздники владыка Хрисанф пригласил Алексея Петровича к себе в гости, при этом добавил, что желательно бы с генералом. Иванов позвонил Дмитрию Михеевичу, и тот охотно согласился: ему было интересно еще раз встретиться с епископом, который произвел на генерала приятное впечатление своей сдержанностью и благочестием. Владыка Хрисанф жил в двухкомнатной кооперативной квартире, обставленной довольно скромно. В двадцатиметровой гостиной, где к приходу скульптора и генерала уже был накрыт стол на три персоны, сверкала игрушками и разноцветными лампочками нарядная елка. Глухую стену гостиной от пола до потолка занимали книжные полки. Солидная библиотека владыки состояла главным образом из художественной литературы – русской и зарубежной классики. Отдельная полка была отведена для поэзии. Епископ любил стихи, и сам пробовал свои силенки в этом литературном жанре, но в печать не предлагал. Из советских изданий выписывал «Русский вестник», «Независимую газету» и журнал «Слово». Последние номера этих изданий легли на журнальном столике рядом с телевизором и торшером. В углу под иконой за синим стеклом мерцал тихий огонек лампадки, и мягкий луч его трепетал на строгом лике Спасителя. На противоположной библиотеке стене между двух окон помещены две иконы в скромных окладах – Николы Мирликийского, по-народному – Угодника, особо почитаемого в русском православии, и преподобного Сергия Радонежского. На торцовой стене в изящной золоченой рамочке отлично выполненная репродукция рафаэлевской «Сикстинской мадонны». Алексей Петрович, как и генерал, впервыебыли в доме владыки, и оба они, хотя и каждый по-своему, с любопытством разглядывали обстановку в квартире архиерея. В обстановке жилища, как в зеркале, отражается характер хозяина. Иванов знал о широком кругозоре епископа, о его пристрастии к поэзии и теперь воочию увидел истоки его эрудиции, глядя на богатую библиотеку. Дмитрий Михеевич обратил внимание на такие резко противоположные по своим позициям издания, как «Русский вестник» и «Независимая газета», и подумал: «Вот от чего у него каша в голове». Генерал считал, что, прикрывшись названием «независимая», чтобы придать себе видимость респектабельности и объективности, ловко впрыскивает в мозги даже грамотных, образованных читателей ядовитый вирус антикоммунизма и антисоветизма. Алексей Петрович остановился перед лампадкой, с умилением глядя на голубой огонек. Сказал подошедшему к нему генералу: – Как красиво. – А взгляд у него суровый. Он, небось, думает и осуждает: «До какого позора докатились вы, русские люди? Антихристов приняли за пророков», – молвил генерал. – Ты о чем? – не понял Иванов. – Да я вот смотрю на Христа. Как же он мог позволить антихристу издеваться над православным людом? – Это все за грехи наши, – отозвался владыка, услыхав их диалог. – Много мы грешили, от веры отступились. Потому и он отступился от нас. – И широким жестом в сторону стола пригласил: – Прошу вас, друзья. Отметим Рождество спасителя нашего. Сегодня епископ Хрисанф, облаченный в белую рясу с панагией на широкой груди, выглядел внушительно и празднично. Просветленное лицо его сияло свежестью и здоровьем, в глазах светилась радость и благоденствие. Брошенные перед лампадкой реплики Алексея Петровича и Дмитрия Михеевича, а также замечание владыки «за грехи наши» послужили началом серьезного разговора за трапезой. – Да ведь страдают не только православные, – сказал Иванов – В Нагорном Карабахе льется кровь мусульман и христиан – азербайджанцев и армян. Гибнут невинные. А из-за чего? Кто толкнул их на братоубийство? Кому это выгодно? – Теперь, пожалуй, и не найдешь виноватого, кто первый бросил спичку и вызвал пожар, – заметил владыка. – Почему не найдешь? – возразил генерал. – Тут нет никакой тайны, никакого самовозгорания. И кому выгодно – тоже не секрет. Владыка устремил на генерала выжидательный взгляд, полный искреннего, почти детского любопытства. – Один мой знакомый генерал – армянин по национальности, женатый на русской, как-то сказал мне, что в характере армян есть довольно странная черта: селиться вне своей территории, – продолжал генерал. – Армяне разбросаны, впрочем, как и евреи, по всему миру. – Этнически они, как и евреи, семиты, хотя исповедуют христианство, – вставил владыка и тут же извинился, что перебил. – Кстати, по богатству армянская община идет второй после еврейской, – продолжал генерал. – Очень амбициозный народ. Вот этими амбициями и воспользовались американские стратеги для разжигания национальной вражды в СССР. Это была их давнишняя мечта. Теперь же в обстановке перестройки они и решили бросить армянскую спичку. Они все учли и рассчитали там, за океаном, в своих стратегических научно-исследовательских центрах и фондах – и географический фактор, и амбициозное национальное высокомерие, и наличие в самой Армении экстремистских группировок, и тот прискорбный факт, что в команде Горбачева создалось мощное армянское лобби. Вспомните поездку Горбачева в США, встречу его с представителями армянской общины в Америке, сувенирчик, который армяне преподнесли первой леди СССР, и как Райка в ответном слове благодарности несла ахинею, вроде: «Этта икона свидетельствует о… друж-бе советского и армян-ско-го народов». – Он пытался пародировать речь Раисы Максимовны. – А между прочим, в то время еще была советская Армения и советские армяне. Всю эту кашу с Нагорным Карабахом заварили армянские экстремисты. Погасить конфликт можно было в самом начале решительными действиями президента Горбачева. Но это было не в его интересах, вернее не в интересах окружавшего его армянского лобби. Не в интересах западных спецслужб, у которых Горбачев был марионеткой… Генерал самоуверенно замолчал. Он считал свою версию неуязвимой, но владыке она показалась неубедительной, поскольку генерал не привел никаких доказательств. – А вы не упрощаете? – очень вежливо спросил владыка. – У вас есть какие-то факты, подтверждающие ваши слова? До Карабаха, как мне помнится, был Сумгаит… – Ну и что? Какое это имеет отношение к Карабаху? – решительно возразил генерал. – По-моему, ты, Дмитрий Михеевич, смотришь на проблему слишком прямолинейно, – поддержал епископа Иванов и, чтобы не превращать этот сложный запутанный вопрос в дискуссию, добавил: – Самое мерзкое, что из-за чьих-то амбиций, из-за националистических экстремистов льется кровь невинных, беззащитных, беспомощных. – Да-да, вы, Алексей Петрович, совершенно правы. Все по Евангелие: «И восстанут народ на народ…» – Так что ж, выходит, это рок, воля судьбы, владыко? – сказал Иванов, но епископ не успел ответить, генерал его опередил: – Какой там к черту рок! – Не чертыхайся в святой обители, – с улыбкой напомнил Иванов, – не богохульствуй. – Прошу извинить меня, владыка, – смутился генерал. Епископ снисходительно сделал вид, что не заметил, и тут же продолжал отвечать Алексею Петровичу: – Если хотите, то в определенном смысле предначертание судьбы. Мина, которая сегодня взорвалась в нашей стране, была заложена в октябре семнадцатого. – Каким образом? Не вижу связи, – сказал Якубенко. – Революция насильственно бросила народ в безверие, – все так же ровно отвечал владыка. – Наш народ веками воспитан в вере, она стала неотъемлемой частью духовности, его нравственного облика. «Не укради, не убий» проповедовала церковь. Революция развязала в человеке животные инстинкты, отпустила нравственные тормоза, разрешила и красть, и убивать. – Извините, владыка, а разе до революции не крали и не убивали? – В голосе генерала звучали торжествующие нотки. Он решил, что своим вопросом загнал оппонента в угол. Но владыка нисколько не смутился, словно даже ожидал этой реплики: – Было, но не как правило, а как исключение. Там преступник осознавал, что он делает плохо, и часто истинно раскаивался. Вы, наверное, знаете притчу о двенадцати разбойниках и их атамане Кудияре? В народе она утверждалась как песня. Ее превосходно исполняет Евгений Нестеренко. У меня есть диск с записью, и мы можем затем послушать. Так вот – после революции люди творили зло, будь то в гражданскую войну или в последующие годы, и не признавали, что они творят зло, напротив, были убеждены, что творят добро, потому что были лишены духовного начала: все, мол, дозволено, и пошел брат на брата. – Иванов слушал их без особого интереса и не хотел новой бессмысленной, как он считал, дискуссии: все равно каждый останется при своих убеждениях, при своей вере. Он понимал, что сегодня люди остро чувствуют и переживают трагедию страны и народа и при встрече друг с другом только об этом и говорят, и каждый вслух или мысленно спрашивает: а что будет дальше, когда и чем окончится этот бардак? И как во время их встречи в его квартире-мастерской Алексей Петрович решил, как говорится, «сменить пластинку». – Друзья! – сказал он бодрым, веселым голосом и обвел дружеским взглядом хозяина дома и гостя. – А можем мы хоть один час не говорить о политике? – Не можем, и не только не говорить, но и думать не можем, потому что дело идет о судьбе каждого из нас и всей страны, – ответил ему генерал. Иванов скорбно вздохнул и устремил задумчиво-мечтательный взгляд в сторону лампады. Спокойный тихий огонек изредка моргал легкой вспышкой и навевал благостное умиротворение души. Иванову хотелось отрешиться от бесовской суеты, от мерзостей перестроечного бытия, погрузиться в покойное созерцание нерукотворной красоты природы, непостижимой величавости мироздания. Мысли его спугнул тихий и ясный голос владыки: – Настало время подумать о душе. До сих пор мы заботились о плоти, а душу отдавали на растерзание дьявола. – Если вы под дьяволом имеете в виду Останкинскую башню, то я с вами полностью согласен, владыка, – миролюбиво сказал генерал. «Нет, не можем не говорить о политике не только час, но и минуты», – сокрушенно подумал Иванов и сказал, обращаясь к Дмитрию Михеевичу: – Мы с владыкой верим в бессмертие души, а ты – генерал Якубенко, веришь? – В каком смысле? Как понимать? – Несколько удивленный взгляд Дмитрия Михеевича устремлен на епископа. Тот отвечал сразу: – Умирает плоть человека. Душа же отделяется от тела и уходит во Вселенную. Человек продолжает жить в другой сфере. Через много лет или столетий душа его вновь появляется на нашей грешной земле во плоти другого человека. Владыка умолк и направил на генерала тихий просветленный взор. Якубенко молча размышлял. Он уже прежде слышал это от Алексея Петровича. Брошенная тогда в его душу подобная мысль не была им всерьез воспринята. Он счел ее приятной фантазией, поскольку она не имела под собой доказательства. Теперь же, глядя на «Сикстинскую мадонну» пытливо и почтительно, он проговорил медленно и тихо, как бы рассуждая с самим собой: – Выходит, что есть этот и тот свет. Этот мы знаем. А тот, загробный? Кто его видел? Слышали многие, но никто не видел. Где свидетельства? Предоставьте мне их, и я поверю. Ведь что получается… Он не закончил фразу, продолжая напряженно думать. Иванов, воспользовавшись паузой, сказал: – А то получается, что мы с вами когда-то уже жили на земле, то есть души наши, только во плоти других людей. Это отчасти подтверждают сновидения. Вот и в прошлую ночь мне снился знакомый поселок – он снится мне уже лет двадцать, – которого в действительности в нашей округе нет, с улицей, по которой я много раз хаживал – во сне, разумеется, – с двухэтажной дачей, которой наяву у меня никогда не было. При том я знаю хорошо все комнаты, обстановку в них знаю до мельчайших подробностей. С камином в большой комнате. Я часто зажигаю огонь в камине, ко мне заходят соседи, я каждого знаю по имени. А проснусь – все исчезает из памяти. И прежде всего – имена. – Ну а подлинные, земные знакомые тебе снятся? Со мной ты встречался когда-нибудь во сне? – спросил Якубенко. – Снятся и земные, и с тобой встречался. И владыку однажды видел. – Говорят, что священнослужители снятся к неудаче, – заулыбался епископ. – Не знаю, такого не слыхал. А вот видеть мясо, рыбу – это уж непременно к болезни, – сказал Иванов и воодушевившись продолжал: – А иногда бывают во сне странные превращения. Ну, например, едешь на лошади, где-то остановился, присел отдохнуть и лошадь присела. Потом вдруг лошадь заговорила человеческим языком и ты уже видишь, что это не лошадь, а твой знакомый или знакомая. И ты нисколько не удивляешься такому превращению, даже не замечаешь подмены, будто так и должно быть, естественно. – А я редко вижу сны, – признался Якубенко. – Раньше в молодости летал. Во сне летал свободно и легко. – В молодости все летают, – вставил владыка, наполняя рюмки коньяком. – Подпрыгнул, взмахнул руками и полетел. Или из окна многоэтажного дома безбоязненно прыгаешь и летишь. При этом соображаешь, что это не наяву. А вообще, друзья, мы редко задумываемся о человеке, его сущности в этом мире и во Вселенной. О сотворении мира и его творце. Мы грубо отметаем все, что не можем объяснить в силу скудности своего разума. Явления, которые мы называем аномалией, – они для меня, бесспорно, божественного происхождения. – Что вы имеете в виду? – заинтересовался генерал. – Ясновидение и иные силы, которыми Господь награждает отдельных избранных чад своих. Это Божья благодать с наибольшей силой проявилась в деяниях сына Божьего Иисуса Христа. И среди его современников были неверящие в чудодействия спасителя, как есть они и сегодня, и были всегда на протяжении без малого тысячи лет. Ведь есть же и сегодня ученые, которые вопреки достоверным фактам и свидетельствам очевидцев не верят в появление на земле инопланетян, небесных ангелов. – А вы верите, владыка? – спросил генерал. – Я верю фактам и свидетельствам, которых более чем достаточно. Инопланетяне были замечены почти во всех регионах планеты. Над Бельгией несколько раз. Штаб военно-воздушных сил даже привел точные, конкретные факты: форма НЛО, размер, скорость полета. Между прочим, большинство из них имеют треугольную форму. Их даже засняли на видеопленку. Их видели в Южной Америке – в Перу, Бразилии, Боливии и в США, в Европе, кроме Бельгии и Швейцарии и Англии, в Палестине, в Японии, Индонезии, Мадагаскаре. У нас под Псковом, Красноярском. – Тогда почему они не идут на прямой, непосредственный контакт с землянами? – спросил генерал. – Трудно сказать, – ответил владыка, пожав плечами. – С кем идти на контакт? – быстро и гневно сказал Иванов. – С дикарями, которые изгадили, разрушили прекрасную планету Земля? С этими варварами, которые хуже зверей ежеминутно убивают друг друга и уже готовы к самоубийству? Цивилизованные бандиты, избравшие оружие, способное взорвать всю планету, благодатную, возможно единственную во всей Вселенной. Они изучили нас досконально, знают о нас все. Все наши преступления, и, наверно, опасаются идти на контакт с такой сволочью, как Горбачев, Ельцин и прочие буши. Об инопланетянах Иванов много думал, читал, анализировал, неоднократно говорил с епископом. Как и владыка, он верил в инопланетян. Более того, питал иллюзии, что именно инопланетяне спасут землю от ядерной катастрофы и помогут пусть даже силой навести на ней порядок. – Да, человечество много нагрешило. И то, что творится у нас сегодня, было предсказано в Евангелие, – заметил владыка и продолжал цитировать от Матфея: – «И будут глады, моры и потрясения, лже-пророки и лже-Христосы и во многих охладеет любовь». – Это мы уже имеем – и лже-пророков, типа Яковлева, Ельцина, Попова, Шеварднадзе и Собчака, и лже-Христоса в лице Горбачева, – все так же гневно проговорил Иванов. – Мы подошли к рубежу, за которым начинается владычество Антихриста. Он уже правит из иерусалимского храма от имени Христа, – продолжал епископ. – Если вы под Антихристом имеете в виду сионизм, то я с вами согласен, – сказал генерал. – Люди всегда стремились к Богу – в небеса, – уклонился от реплики генерала владыка. – Не в землю смотрели, а в небо. Именно там видели райские кущи, обиталище ангелов, оттуда должно прийти на грешную землю Божье благословение. Может, именно посещающие землю инопланетяне и есть небесные ангелы, божьи посланцы. Я собираю из публикаций все, связанное с инопланетянами, замеченными в пределах нашей планеты. Многое вы читали, слышали. Особенно Алексей Петрович, он так же, как и я, проявляет горячий интерес к явлению внеземных обитателей. Люди уже не только видели их летательные аппараты, но и могли лицезреть самих посланцев Вселенной. Владыка решил не открывать дискуссии и начал развивать по рюмкам коньяк. – Мне, пожалуй, хватит, – сказал Иванов и отодвинул свою рюмку в сторону. – Я положенные мне нормы выбрал с лихвой. – Да, мы свое испили, – согласился генерал, однако поднял рюмку. – Но пусть эта будет «на посошок». За наше Отечество, за его скорейший выход из трясины, в которую затолкали его проклятые демократы. – Да какие это демократы, просто шайка проходимцев, – сказал Иванов и тоже взял свою рюмку. – За здоровье и благополучие хозяина этого дома, за успехи дела, которому он служит. – Чокнулись, выпили и Алексей Петрович продолжил: – А теперь самое время послушать Евгения Нестеренко. – Правильно, – бодро воскликнул генерал. – Запускайте, владыка, своих разбойников. Вышли из-за стола и расселись в креслах. Епископ достал диск, поставил на радиолу, и зазвучал могучий, колокольный бас большого певца.Глава шестая. Девичьи грезы
1
Очередной брифинг в Министерстве внутренних дел, как и все другие, был посвящен борьбе с преступностью, захлестнувшей мутным и кровавым потоком всю страну. Журналистов, впрочем, как и все население, интересовал один главный из главных вопросов: когда милиция наведет порядок, в частности в Москве, и есть ли хоть какие надежды. Атакованный со всех сторон вопросами журналистов заместитель министра не сказал ничего утешительного, кроме констатации: да, преступность растет, притом возросли тяжкие преступления: грабежи, убийства, нанесение телесных повреждений, изнасилование. На брифинге Маша Зорянкина представляла свою в самом деле независимую газету, отражавшую позиции центристов, с некоторым уклоном в вопросы православия и духовности. Неожиданно для себя среди журналистов она увидела знакомого – Виктора Панова, с которым училась на факультете журналистики. Панов когда-то даже пытался за ней ухаживать, уверял, что у него к ней серьезные намерения, но получил совершенно категорическое «нет», женился не студентке медицинского института и вскоре с молодой женой уехал в Израиль по вызову ее родителей. Появление Виктора Панова на брифинге вызвало у Маши некоторое любопытство, и прежде всего вопрос: прессу какой страны представляет этот до крайности посредственный репортер? Скорее всего Тель-Авивской, так как совсем недавно были установлены дипломатические отношения с государством Израиль. Панов несколько раз поднимал руку, чтобы задать вопрос, но микрофон перехватили более шустрые. Наконец он получил слово и представился: «Эмиль Панкинд – российское телевидение». Маша была сражена: «Эмиль Панкинд?» Не может быть, что за наваждение? Она хорошо знала Виктора Панова и не могла ошибиться, тем более что были они совсем рядом. Это превращение Саввы в Павла рождало изумление и острое любопытство. Получив ответ на свой в общем-то не существенный вопрос, Виктор Панов, довольный собой, с видом победителя обвел взглядом коллег и тут глаза его скрестились с недоуменными глазами Маши. Он совсем не смутился, как ни в чем не бывало приветливо улыбнулся, вежливо кивнул и после окончания брифинга оказался рядом с Зорянкиной, опередив ее суетливым градом слов: «Рад тебя видеть. А ты ничуть не изменилась, даже похорошела. Ты от какой газеты или агентства?» Маша только успела назвать свою газету, как он опять с той же стремительной поспешностью: «Как семья? Ты не вышла замуж? Давай зайдем в ресторан, поговорим. У меня есть „зелененькие“. И вообще нам надо давно пообщаться, я искренне рад встрече. Для меня это так неожиданно и приятно». «Для меня неожиданно вдвойне, – успела вставить Маша. – Но я не знаю, как тебя сейчас называть?» – В голосе ее звучала едкая ирония. Но его это не смутило. «Ах, вот ты о чем. Да там, в Иерусалиме, пришлось поменять имя и фамилию, но душу поменять оказалось невозможно, – он беспечно заулыбался крупными зубами, – и я решил возвратиться в родные пенаты. А во второй раз менять имя не стал, тем более что теперь пятый параграф потерял всякий смысл. Считай, что то был псевдоним», – и на свежем лице его играла невинная располагающая и доверительная улыбка. Виктор-Эмиль сообщил, что с женой развелся, так как она отказалась возвращаться в Россию, и намекнул, что намерен обзаводиться новой семьей и полушутя прибавил: «Так что прими к сведению, поскольку мы оба теперь свободны от брачных уз и можем вернуться к прошлому. Как?» «Не было у нас прошлого и будущее не светит», – язвительно улыбнулась Маша. «Почему?» – всерьез спросил он. «Да хотя бы потому, что увезешь ты и меня в Израиль или во Францию, а потом бросишь». «Ну, тебе это не грозит. А насчет Франции – идет. Такая мысль во мне родилась давно. Главное, что есть возможность ее осуществить. Я имею в виду материальную базу. Соглашайся не раздумывая». И все так на полусерьезе с веселой дружеской улыбочкой. «А то знаешь, Маша, бросай свою паршивую газетенку и переходи к нам на теле. Я сделаю тебе протекцию». – Тон его покровительственный, а глаза, как и прежде, недоверчивые, блуждающие. Маша посмотрела на него вызывающе, зрачки ее расширились и, не совладав с собой, она ответила резко и угрюмо: «Спасибо Виктор-Эмиль, я свою паршивую газетенку не променяю на твое пархатое телевидение», – она надеялась что ее оскорбительные слова положат конец их диалогу и случайной встрече. Но ничего подобного: Панкинд спокойно проглотил ее дерзость и не высказал чувства обиды и неловкости, пробормотав примирительно с заискивающей улыбочкой: «Не будем пререкаться. Ты извини меня, у меня невольно и совсем безобидно сорвалось. Сейчас такое время, что любая конфронтация рождает ожесточенность, а это, поверь мне, опасно для обеих сторон и вообще». Маша с холодной брезгливостью смотрела на него и невольно вспоминала того, прежнего, институтского Виктора Панова, который держался надменно, то с лисьей вкрадчивостью, смотря по обстановке. Был он подозрителен и льстив, высокомерен и сластолюбив, пошл и разнуздан. «Да, он нисколько не изменился, этот Виктор-Эмиль». А он продолжал, не повышая тона, грудным заунывным голосом: «Если я правильно мыслю, ты ведешь криминальную хронику? Хочешь, я подарю тебе потрясающий материал, сенсация, пальчики оближешь, как говорили мы в студенческие годы. Для телевидения не подходит, но очерк, репортаж прозвучит. Представь себе: два брата-кооператора. Сколотили миллион или несколько миллионов – кооператив посреднический. Сама понимаешь – на производительном столько не заработаешь, одного похитили, потребовав выкуп. Ну а дальше – такой детектив, что никакой фантаст не придумает. – Он быстро достал свою визитку и на обороте написал телефон и имя одного из братьев-миллионеров и протянул ей: – Сошлись на меня, встреться с ним, и он тебе расскажет весь сногсшибательный детектив». Он так настойчиво и дружелюбно предлагал этот маленький прямоугольник визитки и взгляд его был таким невинным и добрым, что она не могла отказать и положила его визитку к себе в сумочку. Он сделал развязную попытку чмокнуть ее в щеку, но Маша уклонилась от поцелуя резким движением головы. В глазах Панкинда сверкнул злобный огонек: и он на прощанье сказал с холодной настойчивостью: «Там мой телефон. Будет нужда – звони, не стесняйся. Все мои предложения остаются в силе». В троллейбусе, по пути домой, Маша подумала: «О каких это предложениях он говорил? Ах, да – на телевидение приглашал, на пархатое, – она внутренне рассмеялась. – И еще делал предложение поехать во Францию. В качестве? Очевидно, жены. Дурак. Индюк с воспаленным самолюбием». На другой день вечером на квартире Зорянкиных раздался телефонный звонок. Звонила Машина одноклассница по школе Марлен Китаева, с которой она не виделась уже лет пятнадцать. В школе они не были подругами и не поддерживали знакомство после школы, и это удивило Машу. Тем более что Марлен начала разговор так, словно они расстались только вчера. «Сегодня я встретила Виктора Панкинда», – весело сказала Марлен. «Эмиля Панкинда», – поправила Маша. «Это одно и то же, – почему-то рассмеялась Марлен. – Он мне сказал, что встречался с тобой и что ты работаешь в какой-то церковной газете. Я удивилась, ты что, в религию ударилась? Это теперь модно. А я газет не читаю. И вообще, представляешь, ничего не читаю и хорошо себя чувствую. Мне вся эта политика до лампочки. Коммунисты, демократы, плутократы – их теперь столько наплодилось всяких монархистов, анархистов, а толку что? В Москве вечером на улицу боязно выйти: убивают, насилуют. Мы с Ашотом хотели к нему на родину в Ереван уехать, но там тоже стреляют, там этот Карабах», – выпалила она без паузы, а Маша, терпеливо слушая ее монолог, пыталась разгадать, с чем связан этот неожиданный звонок, и не могла придумать ответ. Наконец получилась пауза: Марлен выдохлась, ожидая, очевидно, теперь Машиных вопросов. Но Маша преднамеренно молчала, и пауза становилась тягостной и даже неприличной. Не выдержав ее, Марлен продолжала: «А Виктор теперь на коне, важная фигура на телевидении, по заграницам разъезжает и при валюте. Позавидуешь. Ну он мужик классный, импозантный, вхож на самый верх. Между прочим, он на тебя глаз положил, и не то чтоб поразвлечься, а вполне серьезно. Решил покончить с холостяшной». «Вот теперь все проясняется, – подумала Маша и с присущей ей прямотой и откровенностью сказала: – Он что, тебя в посредники или в свахи нанимал?» «Ой, Маша, узнаю тебя: ты все такая же». – «Какая?» «Колючая», – ответила Марлен. В общем, разговор не получился. Маша положила трубку. Лицо ее пылало раздраженной улыбкой. Это была даже не улыбка, а скорее гримаса. Лариса Матвеевна с материнским любопытством слушала этот краткий диалог, из которого уловила одно слово «сваха», и догадалась, что Маше кто-то предлагает жениха. Это была ее материнская забота и тревога, ее неутихающая боль. Ей казалось неестественным, каким-то абсурдным семейная неустроенность Маши: молодая женщина красивая, умная, добропорядочная и не может найти себе человека по душе. Ну обожглась однажды с моряком, потом во второй раз, увлеклась атлетом, не сразу разглядела за личиной Аполлона обыкновенного подонка, пустого и жестокого, – слава Богу – быстро опомнилась, прогнала, даже паспорт не испортила. Брак с отцом Настеньки Гришей Сиамским не был зарегистрирован. Они расстались навсегда и не встречались, – Лариса Матвеевна об этом знала со слов самой Маши, которая скрыла от матери жуткую картину насилия в Крыму. Но нельзя же дуть на воду, обжегшись на молоке. Годы, они-то не стоят на месте, а молодость и красота недолговечны, ведь скоро сорок лет – бабий век. И Настеньке нужен отец. Да и самой-то как без мужика, молодой, здоровой, цветущей женщине. Нет, не могла понять Лариса Матвеевна свою единственную дочь. Потому, как только Маша положила телефонную трубку, она поинтересовалась, кто звонил? – Марлен, – выразительно-подчеркнуто ответила Маша, отводя в сторону иронический взгляд. – Марлен? – с изумлением переспросила Лариса Матвеевна. – Эта та – рыжая француженка? – Она самая. Решила меня сосватать за француза. – И что же ты? Не любезно с ней разговаривала. Или француз не понравился? – Именно, француз, – отрывисто, с мягкой иронией, засмеялась Маша, обнажив ровные белые зубы. Лариса Матвеевна глядела на нее неотступно, внимательно, и во взгляде ее Маша прочитала недоверие. На пороге гостиной и спальни стояла только отошедшая ко сну Настенька и с изумлением смотрела на смеющуюся мать. Пепельные волосы ее были растрепаны, а в глазенках сверкали вопросительные огоньки. Неожиданно для мамы и бабушки девочка спросила: – А он настоящий француз? Женщины умиленно рассмеялись. – Нет, не настоящий, – сказала Маша, беря Настеньку на руки. – А подслушивать нехорошо. – Я не подслушивала. Я только слушала, как вы говорили про француза. Он игрушечный, да, мама? Ты мне его купишь? – Я тебе русского куплю, улыбнулась Маша нежно и грустно. – А когда купишь? В «Детском мире»? Ура, бабушка! Мама мне купит русского француза. – Ты зачем встала? Иди в постельку. Завтра обо всем поговорим, – сказала Маша и отнесла Настеньку в спальню. – И про француза? – недоверчиво спрашивала девочка. Уложив дочурку. Маша вышла в гостиную. Лариса Матвеевна сидела в мягком кресле напротив погашенного телеэкрана и встретила дочь немым вопросом. В глазах Маши вспыхнула и тут же погасла загадочная улыбка. Она догадывалась, что мать снова – в который раз! – начнет разговор о семейной неустроенности Маши, что девочке нужен отец, что вообще в доме нужен мужчина. В первое время Маша выслушивала подобные стенания матери с терпеливой иронией, не проявляя протеста и недовольства. Но сегодня слова Настеньки о «русском французе» позабавили ее. Разумом она понимала беспокойство матери и не сердилась. Вместе с тем она не чувствовала себя одинокой, постоянно находясь среди людей. В этом отношении профессия журналиста давала какие-то преимущества. Маша Зорянкина и в институте привлекала внимание и своей яркой внешностью, и умом. Без каких-либо стараний с ее стороны она нравилась сильному полу, и в студенческие годы многие искали ее дружбы и руки, но она не спешила обзаводиться семьей. Все, кто добивался ее расположения, не задевали изысканные струны ее души, что давало повод считать ее гордой, высокомерной, каменно-сердечной. Это было ошибочное мнение: на самом деле она не была ни высокомерной, ни каменно-сердечной. В ней было развито чувство собственного достоинства, нравственная чистоплотность, что иные принимали за гордость. В своих поступках и решениях она проявляла осторожность и взвешенность, хорошо управляя своими чувствами и эмоциями. К браку и семье она относилась очень серьезно, не давая воли легкомыслию и мимолетным страстям. На примере своих знакомых она видела, как легко и просто создаются семьи и как столь же легко они распадаются, плодят безотцовщину, которую считала величайшей трагедией. Может, потому она надела на себя панцирь, от которого отскакивали амурные стрелы ее поклонников. Долго Маша была неуязвимой, но однажды на двадцать восьмом году жизни один меткий стрелок в мундире капитана второго ранга сумел поразить ее сердце. Поначалу она сопротивлялась, но это было притворное сопротивление. Осанистый, статный, с продолговатыми зелеными глазами сорокалетний офицер флота служил в штабе в Москве. Он покорил Машу неподдельной скромностью, простотой в обращении, ненавязчивой внимательностью и предупредительностью, терпеливой покорностью, энергичным выражением лица, почтительным взглядом и не в последнюю очередь гибкой импозантной фигурой. Он был начитан, но не щеголял своей эрудицией, проявлял вежливость и корректность в отношении Ларисы Матвеевны, расположение которой завоевал с первой встречи. И, как это ни странно, и многие могут сказать – дико – в наше время сексуального беспредела, он был первым мужчиной у Маши, что даже удивило его самого. Уже в первую ночь он сказал Маше, что не надо спешить с ребенком, и Маша нашла его мнение разумным. Не спешил он штурмовать дворец бракосочетаний, а Маша на этот счет не проявляла инициативы. Полушутя он говорил, что в таком серьезном деле, как женитьба, в цивилизованных странах есть испытательный или карантинный срок. Маша не возражала против «цивилизации». Жил Олег – так звали моряка – в общежитии, занимал небольшую комнатушку, обставленную по-холостяцки, даже по-спартански. Многие офицеры так живут. Говорил, что будет когда-нибудь и квартира, при этом напоминал поговорку «с милым и в шалаше рай». Часто исчезал на неделю, а то и на две: служебные командировки то на Северный, то на Тихоокеанский флоты. О себе и тем более о службе морской от разговоров уклонялся. Маша объясняла это скромностью Олега и, конечно, военной тайной. Говорят, что нет на свете таких тайн, которые бы рано или поздно не раскрывались. Однажды Олег с Машей побывали на концерте Русского оркестра «Боян», руководимого Анатолием Полетаевым. Оркестр этот славится высочайшим искусством. В нем все пронизано русским патриотическим духом, он вобрал в себя и подарил зрителю все лучшее, связанное с национальными корнями русской музыки. Маша и Олег не просто получили большое наслаждение, но они были в восторге, словно приложились к светлому и чистому роднику родной культуры (это слова Олега), может, единственному, сохранившемуся еще среди моря пошлости, порнографии и бездарного чужеземного примитива. Олег проводил Машу до ее дома, и она пригласила его подняться к ним на чашку чая или кофе, тем более что Лариса Матвеевна сегодня приготовила свои фирменные ватрушки. Олег вначале пытался отказаться, но Маша проявила, должно быть, под впечатлением от «Гжели», настойчивость, и капитан второго ранга спустил флаг, что значит – капитулировал. Ватрушки были действительно необыкновенные, тем более для нынешнего голодного времени, а чай вполне соответствовал ватрушкам. За чаем Лариса Матвеевна, как и положено истинно русской теще, с необыкновенным усердием потчевала будущего зятя и как бы между прочим высказала вполне трезвую мысль: а не пора ли молодым сходить к венцу, а Олегу Семеновичу из его общаги перебраться в их просторную квартиру? После этих слов будущая теща проницательно уловила в глазах зятя неловкое смущение. Заметила и Маша, но отнесла это на счет скромности. – Вот съезжу в командировку в Севастополь, вернусь, и тогда мы решим все наши проблемы, – ответил Олег, а Лариса Матвеевна настороженно восприняла слово «проблемы». Она даже обратила внимание дочери на это подозрительное, как ей показалось, слово, когда они проводили Олега. – Проблемы… Какие еще у вас проблемы? – говорила она, испытующе глядя на Машу. Маша не ответила: у нее не было никаких проблем. Но у Олега действительно были. Тайна открылась дней через десять после его возвращения из Севастополя. Она была до крайности банальна, что и рассказывать о ней не хочется. Олег, волнуясь как нашкодивший мальчишка (и волнение было искренним), сообщил, что в Севастополе у него есть жена и сын, что фактически семья их давно распалась, он ездил в Крым, чтоб получить у жены согласие на развод (он был уверен, что поручит такое согласие, ведь обещала же!) но, к сожалению и огорчению, в ответ услышал решительное и категорическое «нет, ни за что!». Так закончилась для Маши ее первая любовь. Она пыталась отнестись к такому исходу спокойно, даже с иронией над собой, мол, никакой трагедии не произошло, просто не выдержали испытательный срок, при том не он один, а оба. И хорошо, что без последствий (под этим она имела в виду ребенка). Так она внушала себе и даже поверила, чтомежду ней и Олегом и любви никакой не было, что это был обыкновенный флирт, минутное увлечение, каких в жизни гораздо больше бывает, чем настоящих чувств. Но у нее-то было настоящее, и она не могла себе лгать и понимала, что это увлечение оставит в ее душе глубокий след. Привыкшая доверять людям и видеть в них только добрые начала, она не сразу измерила Олега той мерой, какой он заслуживает; она даже сочувствовала ему, из жалости пыталась оправдать его поведение и осуждать его жену за то, что не дает развод. Тупая замирающая боль долго щемила ее легкоранимое сердце. Но постепенно, размышляя и анализируя происшедшее, она приходила к заключению, что в жизни зло не всегда лежит на поверхности и не кричит на весь свет: смотрите, какой я подлый человек. Жизнь преподнесла ей суровый урок. В ее характере появились подозрительность, недоверие, прежде всего к мужчинам. Она дала себе слово: никаких знакомств, никаких встреч – с меня хватит! Лет пять она была верна своему слову. Молодая, цветущая русская Венера с презрительным высокомерием отражала атаки мужчин, среди которых, несомненно, были и достойные ее внимания женихи. И хотя чувство одиночества ей было знакомо, все же природа требовала своего и постепенно, исподволь плоть начинала протестовать против насильственного затворничества, а душа жаждала мужской ласки и тепла. Рана, нанесенная когда-то моряком, зарубцевалась, из памяти выветрилось имя Олега, к которому теперь она не питала ни любви, ни ненависти, имя его растаяло в туманной дымке житейских забот. И однажды на солнечном юге у синего моря, где сам воздух пьянит разум и волнует плоть, кипарисы и пальмы поют романсы любви, а ночные светлячки под аккомпанемент цикад нашептывают что-то несказанно блаженное, неземное, плоть ее взбунтовалась. Именно плоть. Возбудителем был спортивный тренер Гриша Сиамский, который отдыхал в том же санатории, что и Маша, в двухместном номере «люкс». Высокий, широкоплечий и большерукий с воинственным важным пренебрежительным видом, который придавали ему густые черные брови, с широким квадратным скуластым, ничего не выражающим лицом, он ничем не напоминал Маше Олега. Черные, злобные, пустые глаза глядели из подлобья тупо и были самонадеянны и нетерпеливы. Он важно носил свое дюжее тело и был постоянно весел. У отдыхающих женщин почему-то пользовался успехом, но на дам легкого нрава, которые готовы были в любую минуту предложить себя, не обращал внимания, а иных даже жестоко оскорблял. Вообще пошлая манера выражаться, обнаженная грубостью густо пересыпала его торопливая речь, а в самовлюбленном враждебном взгляде играла холодная дерзость. Конечно же, это был большой и приторный циник, избалованный вниманием общедоступных женщин, спортивных фанатов и тугим кошельком. Такие люди обыкновенно наделены недюжинной энергией, считают себя избранными и не терпят возражений и противоречий. Но как это ни странно, они имеют немало поклонников. В них есть нечто такое необъяснимое, что позволяет им властвовать над другими и даже не глупыми, сильными и духовно богатыми натурами. Последнее бывает не часто, даже очень редко, как исключение. Именно таким исключением оказалась Маша. Сиамскому она приглянулась сразу, как только появилась в санатории, и он безотлагательно пошел на штурм с привычной верой в свою неотразимость и успех. Холодное презрение Маши не обескуражило его, а, напротив, подзадорило. В танцевальном зале перворазрядного санатория с большими окнами-витражами к торцевой стене был приставлен отлитый в бронзе горельеф. Композиция эта изображала женский пляж. Именно горельеф, который отличается от барельефа более объемной выпуклостью фигур. Это была удивительно пластичная, романтическая композиция из трех обнаженных женских фигур, стройных, гибких, изящных на фоне вздыбленной волны. Одна из трех стоит спиной к зрителю, лицом к морю, готовая броситься в пучину прибоя, другая – средняя – лежит блаженствуя на песке, и третья, крайняя, только что вышла из волны, довольная, радостно возбужденная стоит лицом к зрителю. Грациозные девичьи фигуры вылеплены с такой пластической изящностью, притягательным совершенством обнаженного женского тела, что ни один, даже самый черствый человек с окаменевшим, заскорузлым сердцем, не может равнодушно пройти мимо этого неповторимого шедевра. Темная с зеленоватой патиной волна и слегка отполированные, словно источающие солнечный загар, здоровые гибкие фигуры кажутся живыми, одухотворенными. Маша считала их подлинной классикой, часто заходила в этот зал, когда он был пуст, садилась в кресло на расстоянии каких-нибудь пяти шагов от горельефа и подолгу любовалась творением неизвестного ваятеля и огорчалась, что он не оставил, из скромности, что ли, своего имени. Иногда ей приходила мысль, что, быть может, это не подлинник, а копия какого-нибудь древнего грека или римлянина. Ведь в те далекие исторические времена гиганты кисти и резца понимали, высоко ценили прекрасное в человеке, его божественное творение, боготворили красоту женщины, преклонялись перед ее неотразимыми чарами и умели донести их до зрителя, Женщина со дня творения и до нашего смутного мерзкого времени остается женщиной, волнует и очаровывает грацией своей плоти и величием духа. В ее характере, как в этой вздыбленной стихии моря, вместилось все – буйство чувств и очарования страсти, ласковая нежность. Такие мысли и чувства рождала в душе Маши эта бронзовая картина неизвестного ей автора. Маша жила в одной палате с дочерью генерального директора какого-то производственного объединения, симпатичной общительной девушкой Ниной, которая познакомилась с молодым человеком Валерием Машиного возраста. Не навязчивый, галантный, на пляже он постоянно находился по соседству с Машей и Ниной, рассказывал забавные случаи и анекдоты и вообще был приятным и остроумным. Однажды Маша видела его в компании Сиамского, о котором потом на пляже как бы невзначай поинтересовалась у Валерия, кто он и что этот грубый и самовлюбленный индюк? В ответ услышала, что индюка зовут Гришей, что он спортивная знаменитость, кстати, недавно разошелся с женой, и что на самом деле он совсем не индюк, а добрый малый и не ловелас. А что касается его экстравагантной манеры поведения, то это всего лишь маска, которой он преднамеренно отпугивает навязчивых женщин. Он надеется встретить настоящую, верную и преданную подругу, с которой можно было бы связать свою судьбу. Маша с недоверием отнеслась к этим словам, но где-то в какой-то второстепенной ячейке ее души закрались зерна любопытства. Настойчивое домогательство Григория Сиамского раздражало и вместе с тем забавляло Машу. С ним она вела себя грубо, откровенно демонстрировала ему свое презрение, на которое он никак не отвечал или отвечал букетом цветов, набором дорогих конфет, называл ее то принцессой, то королевой, был недоступен в своем упрямстве. На его комплименты Маша отвечала холодной отчужденностью, а иногда нещадным смехом. И тогда в ответ он щурил свои черные выпуклые глаза и улыбался толстыми плотоядными губами. В один из нежарких дней Валерий, как всегда, лежал на пляже в компании Маши и ее палатной соседки Нины и, как говорят моряки, «травил баланду». Внезапно возле них появился Сиамский, вежливо поздоровался, что поразило Машу, и, попросив разрешения, сел рядом. Бронзовое тело его дышало энергией и молодецкой силой. – Милые девушки, – угловато и даже стыдливо заговорил Гриша Сиамский вкрадчивым голосом, что еще больше возбудило любопытство, – не принимайте всерьез трели курского соловья, не очень ему доверяйте, ибо у обворожительного Валерия в Курске живет его ненаглядная соловушка. – Это нам известно, – сказала вполне дружелюбно Нина, медленно и с нарочитым любопытством осмотрев бронзового витязя. – Он и не скрывает, – добавила холодно и сухо Маша. – А где ваша ненаглядная, в каком городе или государстве? – лукаво поинтересовалась Нина, хотя и знала, что Сиамский холост. – Вы хотите сказать – моя индюшка? – с подвохом переспросил Сиамский. Валерий передал ему нелицеприятное мнение о нем Маши. – С индюшкой раз и навсегда покончено. – По причине? – Озорные глаза Нины играли веселыми огоньками. – Потому как я все же не индюк, вопреки мнению некоторых очаровательных, умных и вполне добропорядочных принцесс. – Камешек в адрес Маши. Она смутилась, на строгом замкнутом лице ее сквозь кофейный загар вспыхнули розовые пятна. Выдержав паузу, она спросила: – А кто же вы, позвольте поинтересоваться? – До сегодняшнего дня я считал себя лебедем. Если не лебедь, то хотя бы гусь. А лебедушка моя где-то здесь плавает в тихой и теплой заводи. – Лебедушка или гусыня? – невольно улыбнулась Маша, и голос ее потеплел. Перед ней был совершенно другой Сиамский, и это интриговало и возбуждало любопытство. – Только лебедушка, – сказал Сиамский и одарил Машу теплой меркнущей улыбкой. – Гусю не желаю. Лучше уж никого. Обменявшись еще несколькими репликами, Сиамский уже серьезно обратился к Валерию: – С яхтой я договорился. Она в нашем распоряжении. Завтра сразу после обеда. – А шашлык? – спросил Валерий. – И шашлык и все прочее, хвопчкори, шампанское, коньяк и соответствующая закусь на уровне ресторана высшего разряда. – Ну, если высшего, то я рискну пригласить в наш круиз наших милых девушек, если ты не возражаешь? – оживился Валерий. – Как, девчонки? Соловушки, лебедушки? – Фирма гарантирует вашу неприкосновенность и полную безопасность, – добавил Сиамский. Нина с энтузиазмом приняла заманчивое предложение, Маша колебалась. Она решила, что этот круиз заранее устраивается для нее или даже как заговор против нее и решительно отказалась. Нина ухитрилась шепнуть Валерию, что она попробует уговорить Машу. И уговаривала настойчиво, почти слезно просила составить ей компанию. Мол, никогда в жизни не плавала на яхте, да еще с сервисом. И ребята неплохие, и Гриша больше лебедь, чем индюк. «Гусь, – сказала Маша и рассмеялась. – Ладно, я тоже не плавала на яхте. Я согласна, но только ради тебя». Уже потом, после «круиза», анализируя произошедшее, Маша поражалась своей сговорчивости, легкомыслию и беспечности, что вообще было чуждо ее серьезному, осмотрительному характеру. Правда, в свое оправдание она выдвигала свое чисто профессиональное любопытство странным, противоречивым типом и хотела понять, где маска и где подлинное лицо. За это любопытство она дорого заплатила. «Круиз», по мнению Маши и Нины, удался на славу, обе женщины были довольны. Когда к вечеру возвратились в санаторий, Нина с Валерием незаметно «откололись» от Маши и Сиамского, который пригласил Машу зайти к нему посмотреть его хоромы – двухкомнатный «люкс». Вел он себя скромно и корректно и, к удивлению Маши, на яхте воздерживался от спиртного. Маша согласилась зайти в его «люкс» («только на минуточку»). Гриша (он просил так его называть) достал коробку отличных шоколадных конфет, водрузил на стол бутылку французского коньяка «Наполеон», наполнил две хрустальные рюмки. Лицо его приняло скорбное выражение, глаза затуманились. Он смотрел на Машу долгим испытующим взглядом и мечтательно произнес: – Прекрасная Мария Сергеевна, вы видите, что я совершенно трезв, как стеклышко. Там, на яхте, я приказал себе: не злоупотребляй, Гриша. И я зло не употребил. Я вообще равнодушен к спиртному и держу его только для друзей. Здесь сейчас я хочу выпить за вас, за редкостную женщину, обозвавшую меня… – Не надо, – порывисто и смущенно перебила Маша и сделала предупреждающий жест рукой. – Я могла ошибиться, приняв лебедя за гуся. – В ее словах звучала скрытая ирония, которую он не заметил, и продолжал несколько напряженным голосом: – За ваше счастье, за ваше здоровье. – И в возбужденном голосе его, и в грустных глазах чувствовалась искренность и доброжелательность. И Маша почти машинально и одновременно с ним опорожнила свою рюмку. На яхте она осмотрительно пила вино, легкий хмель создавал хорошее настроение, и Маша не раскаивалась, что приняла приглашение. Гриша постоянно находился рядом с ней, внимательный, предупредительный, предлагал ей дегустировать различные марки хороших вин, дегустировал и сам умеренными дозами, смотрел на Машу печальными затуманенными глазами. День выдался солнечный, ослепительный, море спокойное, изумрудное. Маше дышалось легко и вольно, и она уже не чувствовала прежней неприязни к Сиамскому. И вот теперь в «люксе» после рюмки коньяка она ощутила в себе приятную возбужденность. Прежняя настороженность и подозрительность ее уступила место бесшабашной беспечности. – Мария Сергеевна, не удивляйтесь, пожалуйста выслушайте меня. И не говорите сразу «нет», – начал Сиамский напряженным голосом, приняв строгий вид Он опять молча наполнил обе рюмки коньяком – Маша при этом не очень решительно протестовала – и продолжал: – И не говорите, что я вас не знаю. Голос его дрогнул, напряженный взгляд пронизывал Машу. – Будьте моей женой. Я сделаю вас царицей мира. Ваша жизнь всегда будет, как сегодняшний день. Маша выслушала его с любопытством и изумлением. И не успела в ответ произнести и слова, как он поднял свою рюмку и сказал: – Мы пили за ваше счастье, а эту, последнюю выпьем за наше с вами. – Маша отрицательно покачала головой и не дотронулась до своей рюмки. – Не хотите за наше. Тогда за мое. Пожелайте мне что-нибудь, чего не жалко для индюка. Ну разве можно отказать в такой просьбе? Она пожелала ему счастья и выпила до дна. Сказала: – А замуж я не собираюсь. Пока… – Что значит «пока»? – Пока не полюблю. И вот тогда-то произошло то, что нанесло Маше душевную травму на всю жизнь. Внезапно черные глаза Сиамского загорелись злым мятежным огнем, лицо судорожно исказилось гримасой ожесточения и похоти. Он схватил Машу в охапку железными мускулистыми руками, и она не успела опомниться, закричать, как оказалась в его спальне на широкой кровати. Тяжело дыша, исторгая злобное нетерпение, он стал целовать ее по-звериному грубо, до боли, сорвал с нее одежду и добился своего. Это неожиданное мгновенное превращение галантного человека в садиста, в дикое животное, его грубый мятежный напор парализовали защитный инстинкт Маши, лишили ее способности оказать серьезное сопротивление. Ее охватил ужас, сковал все тело, она попыталась кричать, но рот ее был крепко зажат широкой жесткой, как камень, рукой. Придя в свою палату, Маша никому, даже Нине, решила не рассказывать о насилии. Она кое-как привела в порядок свое тело, разукрашенное подтеками, и на другой день улетела в Москву. Билет на самолет достал Сиамский, Маша с отвращением приняла от него эту услугу, потому что другого выхода не было. Вся эта жуткая история кончилась появлением на свет девочки, которую Маша назвала Настенькой Зорянкиной.2
В безморозном феврале 1992 года цветы в Москве были единственным бездефицитным товаром. Розы, гвоздики, калы, тюльпаны – на любой вкус, в любом количестве можно было купить в любой точке и в самых неожиданных местах. Среди зловонных куч отбросов, среди нечистот, в которые была погружена столица некогда могучего государства, стояли терпеливые самодовольные продавцы-цветочники и предлагали свой вполне добротный товар, который так резко выделялся на фоне мусора и грязи. Выращенные в теплых краях, их продавали в основном молодые разодетые, сытые русские женщины, в то время как хозяева этих цветов – кавказцы рассиживали в московских ресторанах и кафе, наслаждались прелестью жизни, которую даровала им перестройка. Они били баклуши в оккупированном ими русском городе, томно дожидаясь вечера, когда продавщицы цветов выложат им дневную выручку, получат свою долю и лягут с ними в постель. Покупателей цветов было не многим больше, чем продавцов, но тем не менее цены держали прочно стабильными и больно кусачими. Цветы, как и хорошая рыба, и копчености, и шампанское с коньяком, составляли привилегию нового, рожденного перестройкой класса. Да, это был молодой, невиданный в России с семнадцатого года класс хищных, алчных нуворишей, успевших при помощи «дерьмократических» властей разграбить казну и начать за награбленные у народа миллионы скупать в собственность магазины, рестораны, предприятия. Купля-продажа народного достояния называлась «цивилизованным», чуждым русскому словом «приватизация», в которую Ельцин с лихорадочной поспешностью, чуть ли не при помощи кнута, загонял толстосумов. А они упирались, осмотрительно оглядывались и не спешили выкладывать ворованные рубли, так как не было у них уверенности, что новый капиталистический «порядок» пришел навсегда. Они-то чувствовали, догадывались и знали, что в недрах голодного, обнищавшего, обманом обобранного народа зреют гроздья гнева, который со дня на день может извергнуться такой силы вулканом, который испепелит и снесет в тар-тарары вместе со «спасителем России» Ельциным и созданный им мафиозный класс грабителей. И запылают синим пламенем «мерседесы» и «тоеты», приватные магазины, банки и биржи. И вся перестройка превратится в прах. Алексей Петрович Иванов ходил вдоль цветочного ряда, все еще не решив, что купить. Среди цветов главенствовали гвоздики всевозможных оттенков, от ярко-красного до белого. И по цене они были дешевле других. Иванов вообще любил цветы, и в доме его постоянно стоял букет, особенно в сезон. Но с тех пор, как цветочники взвинтили цены, Алексей Петрович приспособился жить без цветов, надеясь на лучшее будущее, когда цветы опять, как в доперестроечные времена, будут продавать по общедоступным ценам. Иванов не был ни жадным, ни прижимистым, но он привык во всех своих расходах не выходить за пределы пенсии. Сейчас же, когда нежданно-негаданно привалили доллары, полученные за «Первую любовь», он мог себе позволить купить приличный и дорогой букет. Но не доллары вывели его из мастерской на цветочный рынок: не будь их, он все равно бы сегодня купил цветы. Утром ему позвонила Маша Зорянкина и сказала, что она будет счастлива посетить его студию в любое удобное для него время. Два неожиданных слова ее так и застряли в памяти Алексея Петровича – «счастлива» и «студия», вместо «мастерская». Встречу назначили на завтра в первой половине дня, поэтому цветы было решено приготовить заранее. Любопытно, что, ожидая натурщицу Инну – жену сексолога, у Иванова и мысли не было о цветах. Почему же волнуется Алексей Петрович, ожидая Машу? Ведь и она ему нужна как натурщица для завершения композиции «Девичьи грезы»? Быть может, потому, что она родная дочь его первой любви? Едва ли: Ларису Матвеевну он принимал у себя в мастерской довольно сухо и прохладно. Ни одна струна не дрогнула в его душе. Алексей Петрович не задавал себе таких вопросов и не пытался анализировать свои поступки, – все делалось как бы само собой, как велел ему разум: надо заканчивать «Девичьи грезы» (сохнет глина), лицо Маши очень подходит к задуманному образу. Но при чем тогда цветы, да еще не первые попавшиеся (не все ли равно, какие цветы)? Ни тюльпаны с бриллиантовой слезой, сверкающие утренней зарей, ни махровые разноколерные гвоздики, а именно калы, белые чаши, нежные, трепетные, вознесенные над зелеными лопухами, как фоном, который подчеркивает их первозданную, непорочную чистоту. Не потому, что Иванов вообще любит белый цвет и отдает ему предпочтение. Были же белые гвоздики и белые розы. Но он остановил свой выбор на калах – пятьдесят рублей один цветок. Он взял, как принято, три, за полторы сотни. Так ему велел не разум, а сердце. Сердце подсказало купить именно эти цветы, содержащие в себе таинственный символ чистоты, нежности и любви. В зеленой вазе китайского фарфора, водруженной на столе в большой гостиной, букет выглядел внушительно и торжественно. Калы, как три лебедя, взметнули в поднебесье свои белые шеи, и земные крылья опахали, распростерли в бездонном просторе Вселенной Белые ангелы – лебеди – посланцы небес – воскресили в памяти Алексея Петровича чарующую и звонкую картину художника Рылова «В голубом просторе». В этот день Иванов проснулся раньше обычного в приподнятом и несколько возбужденном настроении и сразу вошел в гостиную. Букет ласкал взор, очаровывал и возбуждал желание увековечить его красками. И не масляными, а акварельными. Только акварель, по мнению Алексея Петровича, могла донести до зрителя трепетную нежность гордого цветка. Когда-то Иванов, устав от глины и камня, находил отдушину в живописи, чаще всего в акварели. И неплохо получалось в жанре цветов и портрета. Неплохо в живописи, тем более в рисунке получается у каждого ваятеля и зодчего. В древности некоторые великие скульпторы, вроде Леонардо да Винчи были и великими живописцами, зодчими. Выдающийся русский архитектор советского периода Дмитрий Чечулин, создатель гостиницы «Россия» и так называемого Белого Дома на Краснопресненской набережной, был хорошим живописцем. Но палитру брал в руки только для души, «для себя». То же и Иванов: он понимал, что акварели его всего лишь «не плохо», зато в скульптуре, в ваянии обнаженного тела, он был мастер высшего класса, не зная себе равных в наше антихудожественное время. Сегодня, поджидая Машу, он решил обязательно нарисовать и подарить ей вот этот букет. На стене в гостиной красовались две его работы, созданные лет двадцать назад: акварель «Васильки» и «Подснежники». Это были удачные работы, они очаровывали своей трогательной свежестью и нежной теплотой. Они нравились самому автору и привлекали внимание тех, кому довелось побывать в мастерской Иванова. Алексей Петрович любил во всем порядок и не терпел хаоса даже в своем рабочем цехе. Точно так же он следил за собой, был всегда опрятным, хотя всякой экстравагантности в одежде не признавал, одевался просто, но элегантно. В день встречи с Машей Алексей Петрович надел темнокоричневую рубаху и такого же цвета брюки. Поверх рубахи – белый шерстяной свитер. Статный, поджарый, не потерявший спортивную форму, он выглядел гораздо моложе своих лет. Он метался из комнаты в комнату, потом решил пропылесосить весь дом, посматривая на часы. А время сегодня почему-то тянулось очень медленно. В зале он обратил внимание на тумбу, где стояла «Первая любовь», проданная за валюту. Теперь она напоминала ему постамент, с которого сбросили бронзового истукана Свердлова. «Не хорошо: на самом почетном месте пустая тумба. Надо что-то поставить», – подумал Алексей Петрович и пошел в спальню. В спальне на подвешенной к стене полочке стоял уменьшенный в размере фарфоровый вариант горильефа «Женский пляж», который украшал танцевальный зал южного санатория, где однажды отдыхала Маша и где произошла ее встреча с отцом Настеньки. Композиция «Женский пляж» была единственной работой Иванова в жанре рельефа. И несомненно удачной. Делалась она по персональному заказу для южного санатория. Он не сразу согласился выполнить такой заказ. Перед заказчиком он ставил условие: его произведение будет исполнено в сугубо реалистическом плане. В нем не будет модной сейчас декоративности, абстракции и вообще современной чертовщины. Заказчик согласился без слов. Для себя Иванов сделал уменьшенную в размерах копию, а друзья исполнили ее в фарфоре в единственном экземпляре и подарили Алексею Петровичу в день его шестидесятилетия. Сейчас, глядя на этот горельеф, Иванов вдруг неожиданно открыл для самого себя всю прелесть и неповторимую художественную находку. «И почему она стоит здесь, в темном углу спальни, а не в зале, где выставлены лучшие работы?» – спросил Иванов себя с недоумением и, не раздумывая, перенес композицию в зал и водрузил на тумбу, на которой многие годы возвышалась «Первая любовь». Алексей Петрович был возбужден и не мог объяснить самому себе причину такого непривычного для него состояния. Обычно спокойный, сдержанный и ровный, он обнаружил в себе смутное ощущение чего-то нового или давно позабытого, но вдруг пробудившегося и желанного. Трепетное ожидание оборвал звонок в прихожей. Он вздрогнул и торопливо направился к двери, всего на какой-то миг задержался у зеркала и смутился, увидав свое лицо розовым. Да, это была Маша. В расклешенном трапециевидном пальто золотистого цвета с отделанными черным мехом манжетами, и таким же воротником и норковой шапке-ушанке тоже черной, как черный шарф. Она остановилась у порога как бы в нерешительности и, преодолевая смущение, сказала негромким, певучим голосом: – Здравствуйте, Алексей Петрович. Это я. Можно? Порозовевшее то ли от легкого морозца, то ли от волнения ее открытое лицо озаряла подкупающая улыбка. – Не только можно, очень желательно, – мягким голосом ответил Иванов и сделал выразительный жест в сторону распахнутой двери: – Прошу вас. Его приятно поразило элегантное пальто, строгий, легкий, свободный покрой и золотистый цвет, удачно гармонирующий с черным мехом высек в памяти Иванова когда-то прочитанные и запавшие в сознание поэтические строки: «Золото с чернью, золото с чернью в небе чеканет Луна…» «Золото с чернью», – мысленно повторил он, помогая Маше снять пальто. Он обратил внимание на ее тоже черные сапоги и черную юбку, на свитер удивительной расцветки, где черное постепенно переходило в дымчатое, потом немного светлей и наконец в светлое. «Ее любимый цвет», – решил Алексей Петрович, провожая Машу в гостиную. Он предложил ей сесть, но она попросила позволения осмотреть расставленные вдоль стен его работы. Взор ее почему-то сразу же, как только вошла в комнату, привлек горельеф «Женский пляж». Она смотрела на эту композицию с каким-то детским непосредственным восприятием, большие, очерченные легкой тенью глаза ее то щурились, то изумленно округлялись, излучая тепло и ум. – Какая прелесть, – она как бы выражала мысль в словах, не отводя глубоко проникновенного взгляда от горельефа. – Кто автор? Теперь она повернула лицо к Иванову. «Ей нравится – это же замечательно, – мысленно решил Иванов. – Да это небесное создание, видимо, наделено природой тонким вкусом». Вслух ответил: – Ваш покорный слуга. – Боже мой, что ж это такое! – воскликнула она и закусила губу. – Это ж моя любимая картина. Алексей Петрович, скажите, а в санатории на юге… – она недоговорила, устремив на Иванова изумленный взгляд, в котором было и робкое смятение. – Да, там, в санатории, оригинал, а это копия, – ответил Алексей Петрович и спросил, глядя на нее с приятным изумлением: – Вы были в том санатории? Вы видели мой рельеф? Он цел, его не выбросили? – Да что вы? Как можно! Это же шедевр, классика. Отдыхающие восхищаются – все, до единого. Я свидетельствую. Разве кто посмеет поднять руку на великое творение. – Ну, вы преувеличиваете, – смутился он. – Вещь получилась, мне она нравится. А вам я очень признателен за добрые слова, которых я не заслужил, но… постараюсь оправдать ваш аванс, – он сделал паузу, распрямил плечи и закончил смутившись: – с вашей помощью. Маша не приняла намека, возможно, не поняла, рассматривая фарфоровый вариант. В фарфоре эта композиция несколько проигрывала, в бронзе она смотрелась гораздо эффектней. Она вспомнила, как тогда в санатории приняла этот рельеф за античную копию, как подумала тогда, что только древние греки умели боготворить женщину, преклоняться перед ее божественной красотой. «Оказывается, среди современных мужчин встречаются еще такие, чудом сохранившиеся в век духовной деградации общества», – мысленно произнесла она, а вслух сказала: – Сколько же здесь поэзии и грации! Вы как ее назвали? – «Женский пляж», что ли, – неуверенно обронил Иванов, потому что никак не называл свой рельеф. – Ну что вы? Это слишком приземленно. Лучше уж «Три грации». – Уже было, – ласково ответил Иванов. – Ну и что? У вас свои грации. В названии должна быть поэзия. – Она сделала ударение на последнем слове. – Назвали ж вы девичий портрет «Первой любовью». Кстати, где он? Я хотела еще раз посмотреть, но выставка закрылась. Он у вас? Ну, эта «Первая любовь»? Неожиданный вопрос смутил Алексея Петровича. – Продал, – вздохнул он, и невинная улыбка заиграла на все еще розовом от возбуждения лице. Он испытывал неподдельную и необъяснимую радость от встречи. Повторил: – Иностранцу продал, за доллары. – Продали первую любовь? – с деланным удивлением переспросила Маша, но в голосе ее не было осуждения, только в больших блестящих глазах играл лукавый огонек. Иванов понимал, что подразумевается не название скульптуры, а первая любовь без всяких кавычек и как в оправдание и тоже с дружеской улыбкой прибавил: – Да ведь и мою первую любовь предали. Так что получилось «око за око». В жизни так устроено: как аукнется, так и откликнется. – Он ждал, что Маша поинтересуется, в какую страну уплыл портрет ее матери и за какую цену. Но Маша не спросила. С большим интересом она продолжала разглядывать другие работы, мысленно повторяя: «Все женщины, женщины, все обнаженные и прекрасные. И никакой пошлости, все изящно, целомудренно». Ей нравилось. Она вспомнила слова матери, делившейся впечатлением от работ Иванова: «Одни женщины и все голые. Странный какой-то он, Алексей: помешался на голых бабах. Ненормальный». В словах Ларисы Матвеевны звучало определенное осуждение. Маша была иного мнения и о самом скульпторе, и о его работах: ей все нравилось, более того, она искренне восторгалась, хотя и пыталась сдерживать свой восторг. Вообще по своему характеру внешне она была сдержанна и не выплескивала наружу свои эмоции по поводу и тем более без повода, и ее душевное состояние выдавали лишь чувственные резко очерченные губы да живительный свет ее блестящих глаз. – У вас тут настоящий музей, – сказала Маша, одарив Иванова мимолетной улыбкой. – И все это богатство спрятано от людей. Жаль. А мне повезло, я увидела настоящее искусство, катакомбное, если можно так выразиться. Я слышала, что существует какая-то «катакомбная» церковь? – Обыкновенная авантюра раскольников, что-то вроде «неодиссидентов», – с убежденностью профессионала небрежно сказал Иванов. Его ответ насторожил и заинтриговал Машу. – Вы верующий? – спросила она невозмутимым тихим голосом. – Крещеный, – задумчиво произнес он. – Вы это имели в виду? – Нет, конечно, крестят родители, еще не ведая, кем будет их чадо, когда вырастет – верующим или безбожником, – не повышая голоса продолжала Маша. – Мои родители не крестили меня, опасаясь неприятностей от партийных властей. Но я сама крестилась пять лет тому назад в самом начале этой дурацкой перестройки. И дочь свою крестила. – Вы находите перестройку дурацкой? – А вы не находите? – переспросила Маша. – Я считаю ее преступной. А ее лидеров государственными преступниками, уголовниками. – Я с вами согласна. Но откуда у вас такое категорическое мышление о «катакомбной» церкви? Иванов не спешил с ответом, и Маша прибавила: – Дело в том, что наша газета писала о ней сочувственно и даже в защиту ее. Я, конечно, не компетентна в делах церковных, я рядовая верующая. – Среди моих немногих друзей и приятелей, – начал Алексей Петрович, глядя на Машу проницательным страстным взглядом, – есть епископ, человек в высшей степени порядочный и честный, широко эрудированный, заслуживающий доверия и уважения. Он бывает у меня здесь, мы беседуем по разным вопросам бытия, в том числе и о положении в русской православной церкви. Как-нибудь я вас познакомлю – если вы пожелаете? – Для моей профессии полезно всякое новое знакомство, тем более с высшим духовным лицом. Я же вам сказала, что я «молодая» верующая. Теперь я поняла, что мой вопрос о вашей вере был излишним. Я права? – Она смотрела на него с кротким смиренным любопытством. Он любовался ее нежным, овальным, матовой бледности лицом, с которого исчез взволнованный румянец, бездонными загадочными глазами, ее элегантным нарядом. И его подмывала вот так непосредственно высказать ей свое восхищение. А она ждала от него ответа на свой вопрос о вере, чуткая, нежная и, казалось, понимала его очарованный взгляд. – Тут надо уточнить, что мы имеем в виду под верой, – начал он мягким глуховатым голосом и деликатно отвел от нее недвусмысленный взгляд. – Я знаком с Евангелием и считаю эту священную книгу кладезем человеческой мудрости. Не все поучения апостолов равноценны. А вообще – это кодекс бытия человеческого. «Говорит словами своего друга епископа», – почему-то решила Маша и спросила: – А вопрос о Боге, о бессмертии души? Он посмотрел на нее с благоговением, и добрая душевная улыбка затрепетала в его аккуратно постриженных темно-каштановых усах. – Видите ли, Машенька. – ласкательное слово случайно, помимо воли, сорвалось у него с языка, и он совестливо потупил глаза: – Извините, что я так… – Ничего, вам я разрешаю. Мне даже приятно, тем более мы же старые знакомые, как это ни банально звучит. – В глазах ее светилось детское доверие. – Да-да, не банально, а скорее книжно. Я тоже знаю вас сотню лет. И они оба вдруг, как по команде, раскатисто рассмеялись. Смеющийся маленький рот Маши обнажал ровные белые зубы, а смеющиеся глаза Иванова забавно, как-то по-детски щурились. Так они стояли друг против друга, ощущая притягательную теплоту, позабыв о незаконченной фразе Алексея Петровича. Наконец он вспомнил: – Так о чем мы? Да, о Боге и бессмертии души. Не хотелось бы на такую серьезную тему говорить походя. Давайте перенесем на «попозже»? Хорошо? – Согласна. А теперь вы покажете мне свою мастерскую, или, как сказала мне мама, ваш «цех». Я ж говорила вам на выставке, что не представляю технологию вашей профессии. В «цеху» внимание Маши сразу же привлекла композиция «Девичьи грезы». – Как интересно, – воскликнула Маша вполне искренне. – И как вы лепите – с натуры вот этих обнаженных. – Иванов молча кивнул. – И где вы их берете? – Есть специальная организация – цех натуры. Мы вносим положенную плату за час, за два, ну сколько потребуется. Вот эту композицию я назвал «Девичьи грезы». – Гадает на ромашке: любит-не любит. Название поэтичное. И фигура девушки очень мила. Кто она? – Жена сексолога. – Ироническая улыбка заиграла в глазах Иванова. – Вот даже как? А муж знает? – Она говорит, что не знает. – Осталось вылепить лицо и руки? – В этом вся загвоздка. Природа допустила дисгармонию: при отличной фигуре подкачали руки, главным образом пальцы. – А лицо? – Ее лицо вообще не годится, хотя оно и привлекательное, даже броское. Но в нем нет образа, романтики, напряженного ожидания, мечты. Понимаете? – И что же вы будете делать? – Буду искать другое лицо и руки. Здесь нужны тонкие пальцы. Такие, как ваши. Она загадочно улыбнулась прямо ему в лицо и снова перевела оценивающий взгляд на композицию, обронила, как мысль вслух: – Девичьи грезы… Забавно… И великолепно. Может получится очаровательная и психологически глубокая вещь. Если, конечно, вы найдете соответствующее лицо. – Только с вашей помощью, – как бы между прочим закинул он «удочку». Она никак не отреагировала ни словом, ни жестом. Лишь бледные щеки ее слегка порозовели. Без слов, она отошла от «Девичьих грез» к полочкам, на которых стояли выполненные в пластилине композиции. Среди женских фигур, одиночных и групповых на сколоченной из ящиков подставке она увидела мужскую композицию более крупного размера, чем те, пластилиновые. Она была выполнена в глине совсем недавно, несколько дней тому назад. Только сегодня утром, ожидая Машу, Иванов снял с нее целлофан, и глина была еще влажная. Маша замерла у этой композиции и содрогнулась. Тощий, изможденный человек с обнаженной головой сидит на мостовой с протянутой к прохожим дрожащей рукой. Рядом лежит костыль и старая потрепанная шапка-ушанка, в которой поблескивают несколько медных монет. Впалую грудь ветерана украшают боевые ордена и медали. Сзади него, как фон, натянутое полотнище, на котором неровными буквами начертано: «Будь проклята перестройка». Неповторимо выразительно лицо ветерана. В его искаженном от душевной боли худом, суровом, как бы застывшем с полуоткрытым ртом, нет мольбы и просьбы, как нет ее и в выдающих гневом и ненавистью больших глубоких глазах. Весь облик его – это трагический крик измученной души, попранной надежды, истерзанной плоти, оплеванной и растоптанной совести и веры. И месть, беспощадная, лютая, не приемлющая покаяния и милосердия. И обращение к потомкам, к будущим поколениям: помните гадов-предателей всегда – и ныне, и присно, и во веки веков. Несколько минут Маша стояла в застывшем молчании, словно вселенская боль, мысли и чувства ветерана войны вошли в ее душу и стали ее болью, возбудили сострадание. Глаза ее потемнели и затуманились, окаменелое лицо, чувственный маленький рот плотно сжался, изящная девичья грудь возбужденно вздымалась, тонкие, просвечивающиеся ноздри нервно трепетали. «Она была прекрасна в эти минуты», – скажет потом сам себе Иванов. Затем Маша как-то неожиданно резко повернулась, сделала стремительное движение к Иванову и, сказав, «Можно вас поцеловать?», не ожидая разрешения порывисто прильнула нежными губами к его щеке. Губы ее были теплые, ласковые, они расплескали по всему телу Алексея Петровича давно позабытый аромат страсти и благоденствия, волнующий порыв нежности и ласки. Он посмотрел на нее верным и тающим взглядом и тихо спросил: – Вам нравится? – Вопрос, конечно же, был излишним, но она ответила: – Это страшно, жутко. У меня нет слов. – Вам не кажется, что здесь есть налет плакатности, агитки? Вот эти слова о перестройке? Может, их убрать? И без них все ясно. Я назвал: «Нищий ветеран». – Я бы не стала убирать, – раздумчиво произнесла Маша. – Слова эти не лозунг, а крик души. Без них все ясно сегодня. А через двадцать, пятьдесят, сто лет зрителю не будет ясно, к какому времени это относится. К сорок шестому или к девяносто второму году? Ну, а что касается агитки, вспомните репинских «Бурлаков на Волге». Разве там агитка? Там, как и здесь, трагедия жизни, жуткая действительность. Только у вас еще страшней. Он согласился с ее доводом и был очень рад. Во-первых, говорил он сам себе, у нее хороший вкус, она хорошо разбирается в изобразительном искусстве (вспомнила Репина); во-вторых, она его единомышленник в отношении перестройки. Говоря откровенно, ожидая встречи с Машей, он опасался, что в наше расколотое разбродное время, когда общество барахтается во лжи, они окажутся по разные стороны баррикад. Тем более, думал Иванов, Маша – журналистка, а эта «публика», за небольшим исключением, лакейски усердствует перед преступной властью Ельцина. – Я плохо знаю ваше творчество, – говорила Маша не отходя от нищего ветерана, – но мне кажется, это произведение ваша вершина. Вы долго над ней работали? – Три дня и три ночи. Родилось это на одном дыхании. Сюжет этот, действительно страшную трагедию нашего времени, я взял у самой жизни. Пройдите по московским улицам, и вы увидите десятки, сотни подобных сюжетов. Я лишь воплотил кусочек действительности в художественный образ. И знаете, позировал мне вот этот самый нищий. Я ничего не прибавил и не убавил. Я был потрясен. Я сам ветеран войны, мне все это до боли близко. Понимаете, Машенька, сердце кровью обливается, когда видишь и знаешь, в какую бездну отбросила нас преступная шайка авантюристов, лакеев империализма, агентов ЦРУ. Я убежден: Горбачев и иже с ним – это агентура ЦРУ, платная. Она слушала молча, слегка кивая головой в знак согласия. Ее тонкая, чувствительная душа все последние годы с болью воспринимала трагедию, которую обрушила перестройка на ветеранов войны. Оба ее деда – по матери и по отцу – не вернулись с войны. И эту боль души, свой благородный порыв она инстинктивно выплеснула на автора скульптуры «Нищий ветеран» в своем страстном огневом поцелуе. Она не сводила пытливого взгляда с его глаз, стараясь проникнуть в его душу, понять как художника и человека. Собственно говоря, как художника она уже знала и полюбила хотя бы за три его работы – «Первую любовь», «Женский пляж» и «Нищего ветерана». Название последней скульптуры ей не понравилось: она считала, что оно выражено точно в словах «Будь проклята, перестройка». Но не хотела сейчас ему об этом говорить, не желала задеть авторское самолюбие. Маша знала, что она нравится мужчинам, и Алексей Петрович не был исключением. Это она видела в его возбужденных ярко блестящих глазах, в его несколько взволнованной речи, в том, как он пытался скрыть свое волнение. Она видела, как смутил его ее порывистый поцелуй и вызвал в нем что-то радостное, окрыляющее. Она это чувствовала в его голосе, свободном и приподнятом. Он говорил: – Хочу отформовать в гипсе, потонировать под бронзу и предложить на весеннюю выставку. – А примут? – полюбопытствовала Маша с сомнением. – Кто их знает. А вдруг? Но я боюсь другого: принять-то примут, да изломают, поколют, изуродуют. Гипс – он хрупок, ломок. А они вон и бронзу сшибают и уродуют. Вандалы. Дикое племя вандалов. А перенести в материал, отлить в бронзе не успею, да это и невозможно по нынешним временам – и дорого, и хлопотно. Хотя можно было бы пустить в это дело валюту, полученную за «Первую любовь». Из «цеха» они возвратились в гостиную. Пока Маша рассматривала выставленные там работы – ей понравилась акварель «Васильки», – Иванов быстро, проворно накрыл стол для кофе. Поставил бутылку портвейна, купленную для такого случая, несколько ломтиков ветчины, открыл банку лосося и все, что положено к кофе. Маша вела себя просто, непринужденно, словно она была здесь в десятый раз, соблюдая элементарную скромность и такт. Иванов теперь уже без смущения обращался к ней ласкательно «Машенька», что доставляло ему несказанную радость и было приятно ей. Как выяснилось за столом, Маша относилась равнодушно к спиртному и рюмку портвейна растянула на все время встречи. Разговаривая, они внимательно присматривались друг к другу, изучали друг друга. Иванов испытывал нескрываемую радость, он был откровенен, доброжелателен, без тени лукавства или недомолвок. Привычку к одиночеству и обычную для него мучительную застенчивость в компании женщин как рукой сняло. Сказалось в этом простота и общительный характер Маши и, возможно, в какой-то мере то, что связующим звеном была Лариса Матвеевна, о которой Маша заговорила сразу, как только сели за стол: – Мама мне рассказывала, чтопроданный вами за доллары ее портрет вы когда-то подарили ей. Это правда? Он, конечно, уловил иронический, даже язвительный оттенок в ее вопросе. Отвечал с безмятежным спокойствием: – Было такое. Очень давно. Ваша мама тогда была моложе вас. «К чему это я сказал такую нелепость», – смутился он. – А как скульптура оказалась снова у вас? – Это случилось, когда Лариса Матвеевна, тогда просто Лариса, предала нашу первую любовь, вышла замуж за вашего отца и с ним уехала за границу, где вы и родились, если я не ошибаюсь. Ее портрет, который я назвал «Первой любовью», был моей дипломной работой. Мне отдала его ваша бабушка. И я хранил его все эти долгие годы как память о светлой юности. – И никогда не выставляли? – И мысли такой не было. У меня хотели купить его – Министерство культуры. Я решительно отказался. – Почему? – Не знаю. Он был очень дорог для меня. – Несмотря на утомленный, виноватый вид его (так показалось Маше), глаза Алексея Петровича смотрели открыто и прямо. – Вы очень любили маму? – в глазах Маши светилась тихая задумчивая печаль. – Что значит очень? Этого я не понимаю, в подлинной любви такого не бывает: «очень», «не очень», «чуть-чуть». Любовь настоящая – всегда «очень». Это пожар души, необъяснимый и неразгаданный никакими мудрецами. Как сновидения. На бледном приятном лице Маши Иванов увидел печать грусти и понимал, что ей хочется разобраться в чем-то важном для нее. Конечно же, в давнишних отношениях Алексея Петровича и Ларисы Матвеевны. Он догадывался, что по этому поводу у Маши был разговор с матерью, и теперь она хочет услышать «другую сторону». Но зачем ей это? – мысленно спрашивал Иванов, но вслух не спросил, боясь показаться навязчивым. – И когда мама вышла замуж и уехала за границу, у вас появилась вторая любовь? – продолжала допрашивать Маша, разматывая клубок одолевавших ее мыслей. – К сожалению, нет, – словно терзаясь угрызениями совести, ответил Иванов. – Почему «к сожалению»? Разве это не от вас зависит? – Думаю, что не от нас. Скорее от судьбы. Это же стихия, не подвластная нам и необъяснимая. Часто любовь мы путаем с симпатией, с половым влечением. Любовь – слишком тонкая материя. Она возникает вдруг, как стихия и требует ответа такой же силы. Безответная любовь рождает трагедию. – И что ж, за сорок лет, как вы расстались с мамой, на вашем пути не встретилась женщина… – Она не закончила фразу. – Женщины встречались, но любви не было. Встретилась подруга Ларисы Матвеевны – Светлана, которая стала потом моей женой. Но любви не было. И, как вы, наверно, знаете, мы разошлись. – Со слов мамы я знаю, что вы разошлись давно. И с тех пор храните гордое одиночество? Ее настойчивые стремительные вопросы, похожие на допрос, нисколько не раздражали, а лишь забавляли Иванова. Он относил это насчет журналистской привычки Маши. И решил продолжать этот диалог, в котором усматривал таинственную преднамеренность. – К одиночеству меня вынуждает моя профессия. Я – затворник, и меня это нисколько не тяготит. Я чувствую наслаждение в работе, а иногда даже какой-то азарт. Я вам говорил, что вот того нищего ветерана сделал на одном дыхании. Может, где-то моя любовь и бродит и ждет нашей встречи. Я вот думаю, что Господь, ну – природа, распорядились так, что каждому мужчине предназначена не любая, а именно его женщина с одинаковыми вкусами, взглядами, характерами, где полная совместимость и гармония. Тогда и любовь возникает сама собой, стихийно. Настоящая любовь совестлива, я бы даже сказал – стыдлива. Она не кричит о себе, она застенчива и молчалива и выдает себя взглядом, глазами, случайным прикосновением, от которого словно электротоком бьет. «Это он о себе: совестлив, застенчив, – размышляла Маша. – Он, наверно, не способен первым признаться в любви, а не каждая женщина сумеет прочесть в его глазах любовь. А он – человек добрый, душевный и честный, и, конечно же, душа его тоскует и ждет ответа. Просто ему не везло, не встретил на своем пути ту, о которой мечтал, образ которой создал в своем богатом воображении. И его обнаженные женщины – это его мечта, светлая, целомудренная и высоко благородная. В этой обители господствует культ женщины, гармонии, возвышенного и прекрасного». Вслух она сказала: – Но не редки случаи, когда супруги, так сказать, исповедуют разную веру и даже в разных партиях состоят, а семьи у них благополучные и отношения между ними добрые, уважительные. – У меня со Светланой, моей бывшей женой, тоже были уважительные отношения, а любви не было. – Говорят, что любовь, о которой мы с вами толкуем, это анахронизм, – поддразнивала Маша. – И вы с этим согласны? – в его голосе звучала настороженность и даже тревога. Она это поняла, прочла в его глазах. – Я – нет, я старомодна и консервативна. Я имею в виду ту молодежь, которой сегодня по двадцать. Во время всей беседы она внимательно наблюдала за ним, чутким сердцем умной женщины чувствовала его радужное настроение, душевный подъем, склонность к самоанализу, понимала, что задевает в его душе долго молчавшие струны, что он весь переполнен нежностью, и от таких мыслей она сама погружалась в сладостное блаженство. «Да, я ему нравлюсь и мне он симпатичен, – признавалась она себе. – Он, конечно же, очень цельная и тонкая натура, цельный как человек и художник. Он умеет владеть собой, сохранять покой истинно глубокого чувства, но его задумчивость и ласковая грусть выдают то сокровенное, что он тщетно пытается скрыть, делая над собой усилия». Ее поражало и даже изумляло, что, несмотря на большую разницу в возрасте, она чувствует себя на равных, с ним ей легко и свободно. Удивляло ее и то, что будучи сам откровенным, он не проявляет интереса к ее жизни. Что это – деликатность, скромность? Или безразличие? – И вас не тяготит одиночество? – опять спросила она. Он неопределенно пожал круглыми, крепкими плечами, стараясь разгадать, что кроется за этим вопросом, заданным второй раз. Ведь он уже отвечал ей: нет, не тяготит. Зачем она повторяет, какого ждет ответа? Может, этого: – Иногда нахлынет тоска по чему-то несостоявшемуся, от чего жизнь кажется неполноценной, – задумчиво произнес он. – Встречались, конечно, женщины, желающие связать со мной свою судьбу. Даже был такой случай совсем недавно. – Легкая ирония сверкнула в его глазах и сразу погасла. – Честная, симпатичная женщина-врач. Муж погиб в Афганистане. – В тихом голосе его звучала неподдельная сердечность, а исполненный томления и нежности взгляд был устремлен мимо Маши, куда-то в дали дальние, образовав паузу. – И что же? – нарушила молчание Маша. – А ничего. Померила мне давление и ушла. – Затаенная улыбка затерялась в его усах. – Давление оказалось нормальным. Не было пожара сердца, на который она, очевидно, рассчитывала… – Да, представляю: это ужасно. – Блестящие огневые глаза Маши сверкнули манящей улыбкой. – Это даже жестоко с вашей стороны. – Возможно, – податливо отозвался он и тут же добавил: – Зато честно и благородно. «Да, в честности и благородстве ему не откажешь», – решила Маша. – Ну, а если б возник пожар в вашей душе? – Тогда конечно. Но это теория. А практика говорит, что мой поезд ушел. – Не понимаю – почему? – Возраст, – кратко обронил он. – Чепуха. Пушкин говорил: любви все возрасты покорны. – То говорил мальчишка, далеко не доживший до моего возраста. Откуда ему было знать? – Представьте себе не теоретически, а практически, что у вас оказалось бы ненормальное давление и возник пожар, что бы случилось? – Вероятно, любовь, – ответил он, смущенно улыбнувшись. И они оба рассмеялись, звонко, весело, заразительно. Иванову нравился несколько наивный допрос Маши, он охотно отвечал на ее вопросы, подавляя в себе желание самому «перейти в наступление», атакуя ее своими вопросами. И вот этот неожиданный смех создал доверительную, дружески задушевную атмосферу абсолютной раскованности, взаимопонимания и сердечной теплоты. Получилась продолжительная пауза, которой воспользовался Алексей Петрович. Он заговорил как бы сразу на полушутливой, приветливой, вежливой ноте: – А позвольте и вам задать, прекраснейшая мадонна, те же вопросы, которые вы адресовали мне. Почему вы, молодая, красивая женщина, в расцвете своих жизненных сил и не замужем? – У меня маленький ребенок, моя Настенька. Мне ведь нужен не только муж, но и отец моей малютки. Он должен относиться к ней, любить ее так, как родную дочь. И она должна чувствовать. – Мне кажется, человек, который будет любить вас, не может не любить вашу дочь, – сказал Иванов. – Это же естественно. – Да, естественно в теории, – быстро подхватила Маша, сделав нечто похожее на протестующий жест. – На практике, в жизни, все получается по-иному. Заранее же не узнаешь, в душу не заглянешь, не спросишь, как ты будешь относиться к моему ребенку? А если и спросить? Где гарантия, что он ответит честно? Нет, Алексей Петрович, это сложный и очень тонкий вопрос. Она была признательна ему за то, что он из деликатности не спрашивал об отце Настеньки. Ей не хотелось еще раз тревожить почти зажившую душевную рану. А он слушал ее с трепетным вниманием, наблюдая, как меркнут и туманятся ее большие, с душевным отблеском глаза, ловил ее неторопливые слова, в которых проскальзывала тихая печаль, непоколебимая вера и вместе с тем какая-то детская незащищенность. Он ощущал в себе волнующее ожидание чего-то необыкновенного, нового, как ее неожиданный поцелуй там, в «цехе», у скульптуры нищего. Их разговору не было конца, он длился без долгих пауз, и оба старались как можно больше сказать друг другу о себе, о своих пристрастиях и вкусах честно, откровенно, как на исповеди. Говорили об экстрасенсах и поэтах, и, конечно же, о проклятой перестройке, о которой говорят все кругом. Он предложил вылепить ее портрет, и Маша без колебаний согласилась позировать. Даже условились начать работу через день. Иванов проводил Машу до метро. Прощались, как старые, добрые друзья. Не выпуская его руку и глядя в его глаза ласково и нежно, она сказала: – Вы заходите к нам. Мама будет рада. Я познакомлю вас с Настенькой. – А вы Настеньку приведите ко мне в мастерскую. Я научу ее работать с пластилином. Будет лепить разных зверюшек. У детей это получается очень забавно. Она пообещала, и глаза ее светились тихой благодарной улыбкой.3
От Иванова Маша вышла с чувством неосознанной окрыленности: на душе было торжественно и просторно. Она собиралась заехать в редакцию, но в пути передумала – что-то смутное, но доброе тянуло ее домой, и она легко подчинилась этому зову. От проницательного взгляда Ларисы Матвеевны не ускользнуло необычное состояние дочери. Глаза ее возбужденно и весело искрились, свежее лицо сияло радостью, и вся она казалась какой-то легкой, приподнятой, как человек, которому нежданно улыбнулась удача. Едва переступив порог и торопливо сняв с себя пальто и сапоги, она подхватила Настеньку на руки, нежно расцеловала ее, приласкала и пообещала прочитать книжку. – Обедать будешь? – спросила Лариса Матвеевна, пытливо всматриваясь в дочь. – Нет, спасибо, мама, я перекусила у Иванова, – певуче ответила Маша, удаляясь с Настенькой в детскую комнату. – У какого Иванова? – с деланным удивлением переспросила Лариса Матвеевна. – У автора твоей «Первой любви», у Алексея Петровича. – Ты у него?.. Как ты к нему попала? – Обыкновенно, как и ты – по приглашению. В веселых глазах Маши искрилась лукавая улыбка. Лариса стояла на пороге детской комнаты, уставившись на дочь вопросительным взглядом. Маша поняла этот взгляд и ответила: – Представь себе – получила большое удовольствие. Его произведения – это высокий класс. И сам он – настоящий, талантливый и самобытный художник. И человек, видно, добрый, честный, порядочный. Лестный отзыв Маши задел болезненное самолюбие Ларисы Матвеевны. Она была уязвлена и приняла слова дочери с обидой и ревностью. – Не понимаю, что ты нашла талантливого в его голых бабах. – Обнаженных, – с легкой иронией поправила Маша. – Кроме моего бюста я ничего у него стоящего не видела. – Кстати, тебя он продал… за доллары, – все также весело проиронизировала Маша, на что Лариса Матвеевна ответила недоуменным озадаченным взглядом. – Твою «Первую любовь» купил иностранец, а они зря деньгами не бросаются. – Маша говорила это как бы между прочим, походя роясь в детских книжках. – А его нищий ветеран меня просто потряс. В нем воплощена вся трагедия России, вся боль народа. – Нищий ветеран? Я такого у него не заметила. – А «Три грации» или, как он называет, «Женский пляж» ты тоже не видела? – Нет, – сбитая с толку, сдержанно ответила Лариса Матвеевна, и лицо ее выражало суровое недоумение. – Он хочет лепить мой портрет, и я согласилась, – весело сообщила Маша, когда Настенька подала ей свою любимую книжку про Красную шапочку и попросила прочитать. Лариса Матвеевна еще минуту постояла в молчаливой задумчивости, хотела что-то сказать по адресу Иванова, но передумала и, как бы вспомнив, торопливо сообщила: – Тебе звонил какой-то Панов. Спрашивал, связалась ли ты с кооператором? Что за кооператор и зачем тебе с ним связываться? – Она смотрела на дочь с предостерегающей озабоченностью и тревогой. Маша не ответила: она читала Настеньке книжку, и озадаченная Лариса Матвеевна ушла на кухню. Позанимавшись с дочкой, Маша решила позвонить кооператору, которого ограбили рэкетиры. Когда она назвала фамилию Панова, тот согласился встретиться с ней и рассказать для печати всю криминальную одиссею, произошедшую с ним и его братом. Звали кооператора Леонидом Ильичом. Он в категоричной форме заявил, что встретиться может только сегодня или никогда. День подходил к концу, а условие «сегодня или никогда» заинтриговало Машу, и она решила: пусть будет сегодня. Оставив матери (на всякий случай) номер телефона кооператора, Маша, не теряя времени, поехала. Офис Леонида Ильича располагался в центре Москвы в старом доме и состоял из трехкомнатной квартиры, обставленной без особого шика, но со вкусом. Принимал журналистку представитель нового зарождающегося класса в своем кабинете, меблированном скромно: никаких излишеств, только самое необходимое – письменный стол, два полумягких кресла, несколько таких же полумягких стульев, простенький книжный шкаф и сейф. Внешне этот Леонид Ильич ничем не походил на своего тезку «несгибаемого миротворца». Это был рослый высокий блондин лет сорока, голубоглазый, круглолицый, с бегающим взглядом, отражавшим инстинкт осторожности. Журналистку принял с провинциальной галантной вежливостью, демонстрируя свою принадлежность к интеллигентам-интеллектуалам. Усадив Машу в кресло напротив себя, он бесцеремонно раздевал ее масляными порхающими глазками, говорил покровительственным тоном неоспоримого своего превосходства. Маша включила диктофон. – То, о чем я вам вкратце расскажу, может стать основой для увлекательного детективного романа, – начал он, величественно откинувшись на спинку кресла. Сонное выражение его лица демонстрировало усталость и благодушие. – Я предлагал Вите Панову, но он в этом жанре не дока и рекомендовал вас. Я читал один ваш материал в вашей газете. Откровенно говоря, я не сторонник вашей газеты, этой смеси большевизма и поповщины, но ваше творчество мне нравится. – Усталым и в то же время беспокойным взглядом он прошелся по всей фигуре Маши и остановился на ее глазах, закусив губу. После испытующей преднамеренной паузы продолжал: – Мы с Юлианом – это мой младший брат – создали кооператив в самом начале перестройки. Дело у нас быстро пошло на лад, появились ощутимые результаты в виде солидного по тем временам капитала. Я говорю «по тем временам», потому что сегодня по сравнению с преуспевающими Артемами Тарасовыми, Боровыми и другими китами бизнеса, наши успехи можно считать весьма скромными. Но тем не менее… Как говорится на юге – там где сладости, появляются и осы. Появились они и у нас в виде рэкетиров. Что это за явление, кто они, думаю, нет нужды вам объяснять. Это – паразиты-уголовники, жестокие, алчные, лишенные каких-либо моральных принципов и вообще человеческого облика. Они заманили брата в ловушку, завязали ему глаза и увезли в один жилой дом не окраине Москвы. Там они впихнули его в ванную комнату и сняли повязку с глаз. Это чтоб он потом не смог описать квартиру. От него потребовали миллион рублей выкупа. Говоря откровенно, у нас тогда просто не было таких денег. Брата жестоко избили – это они умеют, и грозили убить, если не получат требуемого выкупа. Я получил от брата записку, в которой он умолял меня сделать что-нибудь для его спасения. А что сделать? Надо платить. Но такую сумму, и за что? Каким-то подонкам, вы меня понимаете? Миллион! В милицию я не стал заявлять, я опасался за жизнь Юлика. Эти головорезы, выродки ни перед чем не остановятся. Я пошел на связь с их представителем. Начались торги. Я убеждал их, что нет у меня таких денег, я умолял. Сошлись наконец на половине требуемой суммы – пятьсот тысяч. Пришлось платить, а что поделаешь? Шесть дней они держали беднягу в ванной комнате. Можете представить, что он пережил. Он постарел на десять лет. Он поседел, седой юноша – поймите. Получив деньги, они опять-таки с повязкой на глазах вывезли его ночью за город и оставили на пустынном шоссе. Не буду рассказывать, как он добирался до Москвы, каких мук ему это стоило: вы можете себе представить. Леонид Ильич умолк, скользнул нескромным взглядом по круглым коленкам Маши, облизал пересохшие плотоядные губы, прищурился. Маша выключила диктофон. Леонид Ильич недовольно поморщился. Сказал, кивнув головой на диктофон. – Нажмите кнопку: главная сказка еще впереди. Пока была присказка. Придя домой, Юлик поклялся мстить. Я пытался его отговорить: черт с ними, с деньгами. Хотя пятьсот тысяч – это полмиллиона! Но жизнь ведь дороже – вы понимаете. Главное, что остался жив. И как ты будешь мстить, когда ты никого не знаешь из своих мучителей, ничего тебе о них неизвестно. Но вы не знаете нашего Юлика. Это Шерлок Холмс и Мегрэ в одном. Сидя в заточении в вонючей ванной, он пользовался полотенцем хозяина. И мылом, конечно. И что вы думаете? Нет, вы никогда бы и ни за что не догадались. А Юлик с его наблюдательностью… Юлик пошел в угрозыск с официальным заявлением. Дал показания. А что он мог показать? Улицу, дом, квартиру? Черта с два: он ничего этого не знал и знать не мог с повязкой на глазах. Ну, описал словесный портрет рэкетиров. И что? Поди, ищи-свищи в девятимиллионной Москве, где каждый десятый – уголовник. Я уже вам сказал о полотенце. А на полотенце бирка, номерок из прачечной. Вы бы обратили внимание? Нет. И я б не обратил. А Юлик запомнил, номер запомнил. Это и была та ниточка, ухватившись за которую, милиция начала разматывать клубок. Надо отдать должное нашим сыщикам – они профессионалы высокого класса. Не все, конечно. Но есть среди них Мегрэ. По номеру проверили все прачечные и всех клиентов – хозяев полотенца. Нашли. Им оказался некто Федот. Казалось, вот он – бери его и сажай. Да не тут-то было, оказалось Федот, да не тот. Обыкновенный работяга. Чист, как стеклышко, и с милицией никогда не имел никакого касательства. Его на допрос: покажи свои номерки-бирки. «Пожалуйста, смотрите». Посмотрели его белье с пометками. Ну и что? Он в недоумении, спрашивает следователей: Бога ради, поясните, в чем тут дело? Что вас интересует. А ему вопросик: «Ты никому не одалживал бирки прачечной?» А он – святая душа – и бухнул с испугу: «Как же, давал Силанову». Ниточка потянулась, клубок начал разматываться. Рэкетиры вздрогнули, поняли, что попали в поле зрения милиции. Встретились с Юликом, спросили, ты, мол, заявил ментам. «Нет, не заявлял», – солгал Юлик. «Тебя вызывали на допрос?» «Вызывали», – сказал правду Юлик. «О чем спрашивали?» – «О вас». – «Что сказал?» – «Все, как было, ничего не убавил и не прибавил». «Учти. Во второй раз живым не выпустим», – пригрозили. Юлик учел: немедленно махнул «за бугор». Он снова умолк, закурил сигарету и Маше предложил. Она отказалась. После длительной паузы спросила: – Это все? – Куда вы торопитесь? – улыбнулся Леонид Ильич пересохшими губами, обнажившими широкий частокол мелких зубов. – Здесь точку ставить рано, потому как зло не наказано. Юлик уехал, исчез, короче говоря спрятался, но преступники остались, и наша доблестная милиция шаг за шагом приближается к цели. И они это почувствовали – преступники. Их главарь, некто Сазон, приглашает Силанова и строго спрашивает: «Ты давал полотенце Юлиану в своей ванной?» Тот, естественно, говорит: «Давал». «А на полотенце номерок из прачечной был?» – «Был. Но это не мой номерок, я предусмотрительно взял его у знакомого, у Федота». Сазон вскипел: «А знаешь ли ты, курва, – извините за выражение, – что от Федота менты пойдут к тебе, к нам? Ты чем, каким местом, подонок, думал, когда оставлял в ванной полотенце с номерком?! Ты нас всех заложил. Ты сам вынес себе приговор». Силанов, конечно, понимал, о каком приговоре говорит шеф: смертный приговор. – Сазон сказал Силанову, что в данной ситуации есть два выхода: покинуть грешную землю должен один из двух – либо Силанов, либо Федот и таким образом оборвать следствию ниточку. Вы понимаете, что Силанов не имел желания уходить в мир иной, да и Сазону не очень хотелось лишиться своего верного партнера. Жребий пал на Федота, и привести в исполнение приговор было поручено лично Силанову. Как развивались события дальше, вам лучше и подробно расскажет следователь. Вот вам его телефон, звоните, договаривайтесь, встречайтесь, – неожиданно закончил рассказ Леонид Ильич. Вернее, оборвал на самом остром пункте который больше всего сейчас интересовал Машу. Леонид Ильич встал и повелительным жестом самоуверенного хозяина в сторону соседней комнаты не предложил, а приказал: – Прошу вас… пройдите сюда. Несколько озадаченная таким поведением предпринимателя, Маша не спеша, осмотрительно переступила порог. Посредине просторной комнаты, заставленной мягкой новой мебелью оранжевого цвета, стоял прямоугольный стол с приставленными к нему двенадцатью стульями. Стол был сервирован на две персоны с закуской доперестроечных времен: черная и красная икра, холодная осетрина, ветчина, колбаса «салями», сыр. В хрустальной вазочке ароматно нежились апельсины и краснобокие яблоки. И над всем этим перестроечным деликатесом златоглавой башней возвышалась бутылка французского «Наполеона». Висящая над столом хрустальная люстра играла высверками в хрустальных коньячных рюмочках и фужерах для воды. Вся эта обстановка дохнула на Машу чем-то давнишним, ушедшим в небытие, словно ее отбросили лет на пять вспять, и это сразу настроило ее на колюче ироничный лад. И память мгновенно высветила другую обстановку, в которой она только что побывала, мастерскую Иванова, скромно сервированный стол, и такой резкий, кричащий контраст, что она с нескрываемой подначкой сказала: – Однако шикарно вы живете. Прямо, как в коммунизме, до которого мы едва не дошли. Впрочем, Леонид Ильич жил при коммунизме. – Вы хотите сказать, живет в коммунизме, – шуткой воспринял ее колкость хозяин. – Леонид Ильич – это я. – Я имела в виду другого, несгибаемого и совершенно забыла, что вы тоже Леонид Ильич. Так, обменявшись легкими колкостями, они сели за стол. Разливая по рюмкам коньяк, Леонид Ильич – Второй, как он сам себя в шутку величал, между прочим заметил, что каждый живет по средствам, работает по способности и получает по труду. – Какой лично у вас «навар»? – поинтересовался гостеприимный хозяин и прибавил: – Если это не коммерческий секрет. – Вы имеете в виду заработок? – Естественно, – ответил Леонид Ильич, покровительственно и в то же время самодовольно рассматривая Машу. – Тысяча с небольшим, – ответила Маша, начиная догадываться, куда клонит разговор и ради чего вся эта шикарная сервировка. – Не густо. Ниже прожиточного, – с деланным сочувствием ответил Леонид Ильич. – А разве я исключение. Так живут девяносто процентов населения. Даже еще бедней, – не приняла сочувствия Маша. – То есть в нищете. А когда ваша газетка отдаст концы? – сказал он, сделав ударение на последнем слове. – Почему у вас такой мрачный прогноз? – Такова неумолимая судьба десятков ей подобных блошиных изданий. Извините, я не хотел вас обидеть. Но факт есть факт – рынка вы, то есть ваша газетка, не выдержите. Рынок раздавит. Машу коробило от пренебрежительного «газетка», да еще «блошиная», но она решила пока что не показывать коготки, хотя ей стоило усилий сдерживать себя. В глазах ее сверкнула живая, смелая улыбка, как инстинкт самосохранения. Какой-то интуицией она предвидела его следующий вопрос, предчувствовала и ожидала. И он, именно этот вопрос, прозвучал как пощечина: – И куда вы намерены пойти, когда ваша газетка прикажет долго жить? Уже сейчас болтаются в поисках работы сотни журналистов. – Там видно будет, – не слишком утешительно ответила Маша. – Разумные люди заранее готовят плацдарм для отступления, – поучающе посоветовал он. – Считайте меня неразумной. – Это неправда, вы умная, но беспечная, как все талантливые и красивые, – сделал он первый комплимент, бесцеремонно разглядывая ее высокие девичьи груди. – Вы чертовски обаятельны, и это сущая правда. Я не могу себе представить вас в положении безработной нищенки. У вас семья: ребенок, пенсионерка-мать. – Удивительная осведомленность, – невольно сорвалось у Маши. – А здесь случайно не филиал спецслужб? – Я бизнесмен. В нашем деле информация – половина успеха. – Высокомерие он решил сменить на доброжелательность и покровительство. Набрякшие веки его дергались, в глазах и в тоне появились несдержанность и беспокойство. – С вами я буду откровенен. Детектив, о котором мы с вами говорили в «предбаннике», – кивок головы в соседнюю комнату, – несколько наивный предлог познакомиться с вами. Хотя сюжет действительно интересный и вы можете написать, у вас это хорошо получается, вы умница и талант, я это высоко ценю и чистосердечно признаюсь: вы мне нравитесь. Я хочу предложить вам работу у себя. Бросьте газету («уже не газетку», – отметила про себя Маша) до того, как она прикажет долго жить. Не ждите. Важно вовремя оставить тонущий корабль. – Как крыса? Вот уж не думала, что меня зачислят в разряд этих тварей, – съязвила Маша, все еще храня сдержанность. – Ну зачем вы так: я к вам всей душой. Предлагаю вам отличный пост референта с окладом в два раза выше того, что вы получаете сейчас. Работа не обременительна, у вас будет достаточно свободного времени для творчества. Пишите детективы. Потом могут быть солидные премии и вознаграждения за прочие услуги и хорошее поведение. – Лицо его изобразило лукавую улыбочку. – Что вы имеете в виду под «прочими услугами»? – В Маше заговорила раненая гордость. Однако ее негодующий вид не смутил Леонида Ильича, и он, погасив улыбку, ответил: – Это выяснится в процессе работы. Жизнь покажет. Фирма наша процветает и будет процветать. «Какая самонадеянность, сколько хищного самодовольства», – подумала Маша и решила остудить его вопросом: – А если придут к власти наши? Ну те, кого вы называете «красно-коричневыми»? – Они не придут. Они опоздали. Август не повторится. Слова его прозвучали жестоко, а глаза сощурились, ощетинились гневом. – Почему такая уверенность? – Америка, Запад не допустят. ООН введет свои войска, – резко и раздраженно ответил он. – Это что ж – третья мировая война? Ядерная? – Не получится. Все предусмотрено. Но оставим политику. Лучше к делу. Поймите: у меня нет недостатка в женщинах вообще и в претендентках на должность референта. И смею вас заверить – самого высокого разряда, как говорится «экстра-класс». – Не сомневаюсь, – Маша уколола Леонида Ильича язвительно-ироническим взглядом. – Должна вас разочаровать: вы получили обо мне ложную информацию. Я не из семейства крыс. – Она встала, демонстративно посмотрела на часы. – Благодарю вас за угощенье и участие в моей судьбе. Но принять ваше предложение не могу. – И, раскланявшись, но не подав руки, направилась к выходу. – Жаль, – бросил ей вслед Леонид Ильич и прибавил со злорадством: – А ваши не придут. Не надейтесь. Маша не ответила. Она спешила быстрей покинуть этот дом. Уже на улице в ее сознании зловещим заклинанием звучали злорадные, самоуверенные слова новоявленного хозяина России: «Ваши не придут».3
Это был самый долгий, самый сложный и противоречивый день в жизни Маши Зорянкиной. Светлое, радужное настроение, которое она испытывала еще два часа назад после встречи с Ивановым в его мастерской, было оплевано и растоптано, словно в ее душу бросили ком грязи. В переполненном вечернем транспорте она спешила домой, не замечая вокруг себя таких же, как и она, торопливых людей, раздираемая колючими мыслями. «Боже мой, и какая нелегкая понесла меня к этому новому хозяину страны, представителю нового гегемона, для которого деньги – превыше всего. Он уверен, что за деньги можно все, в том числе и „прочие услуги“. говорит, что ему нужен мой талант, а глазами раздевает. У него много этих „экстра-класс“, жаждущих продать себя. А ему нужна именно я, так решают его сухие, плотоядные губы. Он получил обо мне информацию. От кого? Конечно, от Панкинда… Рынок раздавит неугодные ему газеты. Да, раздавит. А их и так немного, несущих людям правду, их трезвые голоса глохнут в грохоте беспардонной лжи, циничной фальсификации всевозможных „независимых“, „вестей“, „новостей“, „известий“, „комсомольцев“, эфира, где дикторы не выговаривают половины алфавита». Маша вспомнила его выкрик «Не придут!» Какая самоуверенность, перемешенная с нервозностью и страхом. Ей запомнился этот страх в его глазах, когда она сказала «наши придут». В эту ночь Маша долго не могла уснуть. Усилием воли она заставила себя не думать о Леониде Ильиче. Теперь она думала об Иванове, о его творчестве, о его взглядах. Образ Алексея Петровича, глубокий и притягательный, заслонил собой все неприятное, отвратительное, с чем она столкнулась в конце дня. Постепенно взбаламученное состояние улеглось, душа обрела покой, и ей приятно думалось о том, как через день она опять переступит порог ЕГО дома, она будет позировать, и они свободно будут обсуждать волнующие их проблемы бытия. Она вспомнила, что он обещал ей в другой раз поговорить о Боге, о вере, о душе, обо всем, что было надежно запрятано в глубинах ее сердца, и что открыть эти глубины она могла человеку, внушающему доверие и симпатичному ей. Таким она считала Алексея Петровича. После ухода Маши из мастерской, после того, как они условились встретиться через день и начать лепить ее портрет, в душе Иванова поселился вирус суетливого беспокойства, черты, совсем не присущей его уравновешенному характеру. Торопливо убирая со стола посуду, он уронил блюдце, и оно раскололось в мелкие осколки. Вместо сожаления и досады он обрадовался: значит, к счастью. Какого счастья мог он ждать в безысходные дни окаянной перестройки? Тут уж не до жиру – быть бы живу. С этой мыслью начинали и заканчивали день все граждане многострадальной России, исключая несколько сот тысяч господ-нуворишей, да, может, двух-трех миллионов, не пожелавших или не успевших эмигрировать сынов и дочерей Израиля, которым всегда жилось, а тем более в перестроечное время, вольготно живется на Руси. А Иванов вдруг готов был поверить в счастье, хотя еще и не предполагая, с какой стороны оно может на него нагрянуть. Он не смел надеяться, хотя втайне пугливо мечтал, что приход счастья может быть связан с именем Маши Зорянкиной. Он вылепит ее портрет – это уже решено. Постарается сделать его лучше «Первой любви». Он надеется, что она поможет ему завершить композицию «Девичьи грезы», ее лицо, ее руки и весь ее облик сливаются с обликом его творческого замысла. Разве этого недостаточно для счастья? И блюдце разбилось ведь сразу после ухода Маши. Это тоже что-то да значит, особенно для слегка суеверных людей. Собрав осколки, он почему-то начал из пластилина лепить фигурки зверей: а вдруг Маша придет с дочуркой. Но, спустя пять минут, бросил это занятие и стал делать каркас для портрета Маши. И уже с первой же минуты вспомнил, что сначала нужно сделать эскиз композиции и обязательно с рукой, который и определит форму каркаса. Он быстро, пожалуй, торопливо, колдовал над эскизом, вспоминая Машу, ее красивые лебяжьи руки, гибкий стан, стройные бедра, гордую грудь, светящееся тонкое лицо, живительный свет ее глаз. В них, как в зеркале, отражается сущность человека, его характер, душа, настроение. Нелегко даются живописцу глаза портретируемого, его внутренний мир, хотя в его распоряжении целая палитра красок, позволяющая отметить, подчеркнуть цветовую гамму оттенков и чувств. Но во много раз труднее это сделать скульптору. Иванов в этом деле достиг совершенства – уже с первых шагов своего творческого пути – с портрета Ларисы Матвеевны, названного «Первой любовью». В работах Алексея Петровича глаза портретируемого всегда живые, не застывшие в постоянной позе. Если смотреть на них с разных точек – они разные по настроению: веселые, грустные, несмешливые, иронические. Друзья спрашивали – как ему это удается? А он и сам не знал. В этом и есть волшебство художника-чародея, его божественный дар. К концу дня Алексей Петрович сделал каркас для Машиного портрета и эскиз в пластилине. Он выбирал такую композицию портрета, чтоб потом и руки, и лицо можно было перенести на «Девичьи грезы». За ужином он выпил стакан сухого вина, что прежде с ним никогда не бывало: спиртное он употреблял только в компании. Вино, как это ни странно, сняло напряжение и окунуло его в благостное состояние. Он взял свежий номер «Русского вестника», ушел в спальню и лег на постель. Но читать газету не стал: не хотелось, что так противоречило его привычке: обычно вечернее время он посвящал чтению газет, журналов и книг. В нем, как это случалось нередко, в его сознании звучала музыка широко, привольно, словно пела душа. Тогда он нажал клавиш магнитофона, и голос его любимого Бориса Штоколова до боли знакомый и обожаемый мелодией заполнил всю квартиру-мастерскую.Глава седьмая. Кошмарный сон
1
На другой день после встречи с Ивановым и Леонидом Ильичем Маша рассказала редактору своей газеты начало детективного сюжета о похищении рэкетирами Юлиана Ильича и о том, что вторую часть сюжета может рассказать следователь, телефон которого она имеет. Редактор дал «добро», и Маша, не откладывая дела в долгий ящик, поехала к следователю. То, о чем рассказал ей Леонид Ильич, не представляло для журналистки Зорянкиной особого интереса: в годы повального разгула преступности, кровавой волной захлестнувшей страну, подобных сюжетов было хоть пруд пруди. Беседуя со следователем, Маша решила, что ничего оригинального для их газеты нет, и потому криминальный очерк она писать не будет, тем более что есть материалы более эффективные для читателя. После встречи со следователем она решила заглянуть в «Детский мир» и купить дочери летнюю обувь. Выйдя из станции метро «Дзержинская», недавно переименованной в «Лубянку», она машинально бросила взгляд на площадь, в центре которого нелепо возвышалась чугунная цилиндрической формы тумба, с которой в августовские дни прошлого года в хмельном сатанинском угаре гаврилопоповские «мальчики» сбросили «железного Феликса». «Зачем заодно не убрали и постамент, – подумала Маша. – А может, решили сохранить его для статуи перестроечного разведчика Примакова или самого Ельцина? И хотя Ельцин предпочтет взобраться на пустой постамент первого президента Советской России кровавого палача Свердлова. Там ему будет престижней». Огромное здание «Детского мира» было окружено густой, плотной толпой торговцев, предлагающей свой товар, приобретенный главным образом сомнительными путями. Тут было все, что душе угодно, – от французских духов и колготок Тушинской чулочной фабрики, до китайской тушенки и шотландского виски. Агрессивная толпа торговцев, состоящая наполовину из кавказцев, плотной баррикадой блокировала главный вход в «Детский мир» и выход из метро. С большим трудом пробираясь через живое людское кольцо, Маша подумала: вот это и есть наглядный прообраз того рынка, в который с такой ожесточенной поспешностью по команде из-за Океана загоняет нынешнее «дерьмократическое» правительство Ельцина наш народ. Внутри магазина толпа была не такой плотной, как снаружи. Тут тоже продавцы предлагали товар, не купленный, а именно приобретенный с черного хода в этом же, пока еще государственном, магазине, но уже в три, в пять, а то и десять раз дороже. Это была официально разрешенная Ельциным спекуляция, называемая предпринимательством – один из видов разбазаривания народного достояния и хищного, наглого, свыше санкционированного грабежа. Потолкавшись у пустых и полупустых прилавков и не найдя нужных вещей, Маша направилась к противоположному выходу – на Пушечную улицу. И тут она, что называется, лоб в лоб столкнулась с Ивановым, прижимавшим к груди закрытую целлофаном черноволосую, большеглазую куклу. И если Маша искренне обрадовалась такой неожиданной встрече, то лицо Алексея Петровича отражало и восторженную радость, и неловкое смущение. Причиной была кукла. С утра он попытался делать из пластилина человечков и животных, рассчитывая на завтрашнюю встречу с Настенькой (он почему-то был уверен, что Маша придет непременно с дочуркой – он же приглашал!). Но потом понял, что сотворенные им игрушки не понравятся девочке, и решил порадовать ее настоящей куклой. От неожиданности он был даже слегка растерян, что умиляло Машу. Они остановились друг против друга, толкаемые толпой, и Маша первой, сохраняя самообладание, предложила отойти в сторонку, где было посвободней. – Удивительно, – сказала она, не сводя с Иванова обжигательного взгляда. Лицо ее пылало. – Удивительно! Все-таки биотоки не выдумка, а реальность, – продолжала она. – Шла сюда и думала о вас, о том, что завтра мы должны встретиться… – И что? Вы не сможете? – тревога прозвучала в его нетерпеливом вопросе. – Да нет, почему же – все будет, как условились. А это что у вас? – указала глазами на куклу. Вопрос прозвучал нелепо. – По-моему, эта кукла, – лукавые огоньки заиграли в насмешливых глазах Алексея Петровича. Он уже успел оправиться от первого смущения. – Разве не похожа? Или, может быть, я перепутал? Маша поняла неуместность случайно сорвавшегося ее вопроса и тоже с веселой улыбкой торопливо ответила: – Похожа, очень похожа. Но зачем она вам? – Мне? Гмм… Мне, конечно, она ни к чему. А вот Настеньке, я думаю, понравится. Должна понравиться. Как вы думаете? – О, да! Она обожает куклы. Тем более таких аспидных брюнеток, у нее еще не было. – Маша не сказала, как это бывает: «Что вы, что вы, зачем было тратиться, у нее полно разных кукол». Она приняла, как должное, без всяких церемоний, очень мило, сердечно благодарю вас и прочие дежурные любезности. Просто сказала: «Она вас поблагодарит при встрече. Надеюсь, вы к нам зайдете?» – Это потом, сначала вы ко мне. С Настенькой. Завтра. – Завтра мы решили работать: она нам будет мешать. Как-нибудь в другой раз, ближе к весне, когда будет готова глиняная мама. Он пытался вручить ей куклу, но она сказала, что возьмет ее завтра в мастерской, поскольку сейчас идет в редакцию. Он проводил ее до троллейбусной остановки, находясь в каком-то бесшабашном настроении. Он был рад случайной встрече и не скрывал своей радости. – В смысле биотоков вы правы, – признавался Алексей Петрович. – Я совсем не собирался сегодня в «Детский мир» и даже не думал выходить из дома, занимался разными делами, приготовил каркас для завтрашней работы (он, конечно, лукавил: каркас был готов накануне. О том, что сегодня лепил для Настеньки пластилиновые фигурки, умолчал). И вдруг, представьте себе, какая-то неведомая сила подняла меня и позвала, не просто позвала, а потянула в «Детский мир». – Нечистая сила, – рассмеялась Маша. – Да что вы – чистая, самая пречистая, – весело возразил он. – Слово-то какое – «пречистая». Так говорят о Деве Марии. – Но вы и есть Мария. – Хотя и не дева, – продолжала подшучивать Маша и, перейдя на серьезный тон, сказала: – А в самом деле – выйдя из прокуратуры, я подумала о вас, о завтрашней встрече. И не поверите – подумала, а вдруг сейчас вас встречу. Так мне хотелось. И мои биотоки дошли до вас, как радиоволны. – Дошли и позвали. И я помчался на ваш зов. Значит, в вас есть какая-то притягательная сила. Я ее заметил еще при первой встрече на выставке в Манеже. – Вы хотите сказать – колдунья? – Не колдунья, а колдовство. Вы смеетесь. И напрасно. Вы обладаете неотразимым колдовством. – Как прикажете это понимать, как комплимент или…? – Как истину, Машенька, как святую истину, – тихо и проникновенно произнес он. Подошел троллейбус. Иванов помог Маше подняться на ступеньку. Та же «пречистая» сила тянула и его в троллейбус, и он уж готов был подчиниться ей и проехать хотя бы несколько остановок, чтоб продолжать бесконечный разговор, вкотором важны не слова и их смысл, а голос, тон, каким произносятся эти слова, дыхание, взгляд, выражение глаз. Но дверь захлопнулась, и он остался на тротуаре. Из троллейбуса Маша ласково помахала ему рукой, а он в ответ поднял куклу и еще долго смотрел в след уходящему троллейбусу. Домой Алексей Петрович прилетел на крыльях. Уже несмутно догадывался, а отчетливо, со всей определенностью он понимал, что с ним что-то произошло, чему он и радовался и чего боялся. В нем пробудилось чувство такой всепоглощающей силы, о которой он и не подозревал. Это чувство вырвалось, как извержение вулкана, и расплескало такой огонь души, с которым даже при большом желании он не мог совладать. Это чувство всегда жило в нем в состоянии бдительной дремы, молчаливо зрело, копилось, ожидая своего часа. Именно своего. Даже пылкая ненасытная жена сексолога не могла его разбудить. Не откликнулось оно и на нежный стеснительный зов врача Тамары. Молчало, таилось в ожидании своего часа. И когда этот час пробил, оно не стало постепенно, сдержанно и плавно проявлять себя. Оно, подобно сверхзвуковой звезде, произвело душевный взрыв, осветив всю вселенную, в которой обитало всего лишь два человека – Маша Зорянкина и Алексей Иванов. Этого взрыва Иванов боялся, стеснялся и даже стыдился.2
С любопытством, но сохраняя внешнее спокойствие, входила Маша на примитивное возвышение в мастерской Иванова, чтоб занять вертящееся кресло. Она даже пошутила: – Иду, как на эшафот. – Да что вы, Машенька, – ласково возразил Алексей Петрович. – Не на эшафот, а на трон восходит ваше величество. Иванов был чрезмерно весел, слегка возбужден и даже суетлив. Его лицо, которое он всегда содержал в порядке, а в этот день тем более выражало решимость и блаженство. Во время сеанса Иванов разрешал «модели» разговаривать, чего, как правило, не позволяют живописцы. Он знал, что Маша позирует впервые в жизни, поэтому старался разговором заставить ее быть естественной. – Вы не напрягайтесь, не позируйте, держите себя свободно, думайте о чем-нибудь хорошем, мечтайте. Как мы уже договорились, вы – царица и восседаете на троне. Так царствуйте, думайте о ваших подданных, об их счастье и благополучии, о могуществе и процветании державы. И будьте бдительны – остерегайтесь политических демагогов и авантюристов, чтобы, не дай Бог, не появились в вашем государстве горбачевы и ельцины, шеварднадзе и яковлевы. Гоните их в шею, а еще лучше – на плаху вкупе с разными рыжими крысами, облаченными в поповские рясы. – Что вы так немилосердны к духовным лицам, Алексей Петрович? Не забывайте, что газета, которую я имею честь представлять, относится с глубокой симпатией к православной церкви, – произнесла осторожно Маша, стараясь не «потерять» позу. – Я тоже отношусь с глубокой симпатией к религии вообще и к нашей православной церкви в частности. В данном случае я имел в виду конкретный персонаж, не личность, а безличностный персонаж, который компрометирует священнослужителей. – Не думаю, – возразила Маша. – Он скорее компрометирует своих друзей-демократов. – Демократы уже давно сами себя скомпрометировали, – сказал Иванов, прищурив глаза и внимательно всматриваясь в лицо Маши. Разговаривая, он продолжал ваять быстро, с упоением. – Слово «демократ» уже стало ругательным. Вы знаете, в народе его уже подправили на «дерьмократ». Маша старалась молчать и предпочитала слушать его и наблюдать за ним. Ей нравилось, как внимательно всматривается он в нее, бросая быстрые короткие взгляды на пока еще бесформенный ком глины, нанизанный на проволочный каркас. Теперь она имела возможность в силу необходимости смотреть на Иванова без смущения в упор, в его восторженные глаза, излучающие свет вдохновения, в его не старое лицо, наблюдать за уверенными движениями проворных рук, за сосредоточенным взглядом, которым он дольше задерживался на глине, чем на ней. Она видела, как на ее глазах бесформенный ком превращается в нечто похожее на голову, уже наметились уши, узел волос на затылке, ее длинная шея. Лица она не могла видеть, о чем, конечно, сожалела. Ей очень хотелось, чтоб портрет получился удачным, не хуже, а лучше портрета Ларисы Матвеевны, названный «Первой любовью». «Интересно, как он назовет этот», – подумала она и почему-то вспомнила незаконченные «Девичьи грезы» и намек Иванова о ее руках. И не раздумывая, решила: «Ну что ж: пусть лепит мои руки к той незаконченной композиции, пусть. – И немного погодя согласилась и дальше: – Пусть и лицо мое возьмет, если ему будет угодно. Я не возражаю. Это даже интересно. Только как это совместится с чужой фигурой, не получится ли несовместимость? А собственно, почему должна появиться дисгармония: у меня фигура не хуже, а, пожалуй, лучше, чем у той жены сексолога». Подумала так и вдруг спохватилась, резко отбросила такую крамольную мысль: «К чему это я? Позировать обнаженной? Перед ним? Перед человеком благородным, светлым?» Она устыдилась такой мысли, посчитала ее непристойной, кощунственной. Алексей Петрович вертел кресло, в котором сидела Маша, всматривался в ее профиль, вертел то в одну, то в другую сторону, сосредоточенный взгляд его то на мгновение хмурился, досадовал, то радужно светлел, поощрительно одаряя ее своей веселой пленительной улыбкой. Ей показалось, что он чем-то недоволен, даже удручен, и тогда она несмело, нерешительно спросила: – Может, я не так… (она хотела сказать «позирую», но запнулась). – Все так, даже очень так, – успокоил ее Иванов и дружески улыбнулся, продолжая колдовать с податливой глиной. После короткой паузы сказал: – А характер у вас – дай Бог. Твердый орешек. Ускользает, противится. Только мы его поймаем и раскусим. В его словах Маша не ощутила осуждения, но все же спросила: – Трудный характер? Так, может, не стоит вам мучиться? – А вы слышали такую фразу: «Муки творчества?» – И, не ожидая ответа, продолжал: – Это самое прекрасное состояние души, как любовь. «Муки любви», – мысленно произнесла Маша, но вслух не решилась произнести эти слова. И была поражена, услыхав от него: – Муки любви и муки творчества имеют много общего. Вы не согласны? – Он явно вызывал ее на разговор, от которого она попыталась отклониться. – Мне трудно сравнивать, поскольку не приходилось творить. «Да он читает мои мысли – муки любви». – А ваши статьи – разве это не творчество? – Это ремесло, как и то, что делает сапожник. Он не ответил. Лицо его приняло серьезный, озабоченный вид, резче, отчетливей обозначились две глубокие морщины на лбу, движения пальцев стали плавными, осторожными, взгляд, который он бросал на Машу, продолжительным, углубленным. Он творил, колдовал, теперь уже молча, самозабвенно. Выражение лица его поминутно менялось, переходя из одного состояния в другое. С любопытством и очарованием наблюдала Маша за этими вспышками, мысленно повторяя: «Муки творчества – муки любви. У него молодая, юная душа и нежное любящее сердце. Муки любви для него, очевидно, позади. А муки творчества он сохранит до конца своих дней. Что он знает о моем характере? Говорит – орешек и обещает раскусить. А может, помочь ему? Чтоб не сломал зубы. С ним легко и уютно. Можно говорить без конца». – Так вразброд громоздились ее несвязанные мысли. – Антракт, – спугнул их звонкий приподнятый голос Иванова. – Отдохните. Мы работаем уже час, – он протянул ей руку, чтоб помочь сойти с помоста. – Не устали? – Нисколько, – бодро отмахнулась она, устремив взгляд на то, над чем он колдовал, спросила со свойственной ей деликатностью: – Можно посмотреть? – Пожалуйста. Только не огорчайтесь: пока это нашлепок, первый шаг. – Она не огорчилась. Напротив: «Как интересно, – с умилением думала Маша, стоя рядом со своей копией, запечатленной в свежей глине. Копия, впрочем, была еще не точной, но главные черты, не характера, а внешние – овал головы, пробор волос на обе стороны, тонкий нос, разлет бровей, маленький чувственный рот, рука с длинными тонкими пальцами, слегка придерживающая платок, спадающий с высоких плеч, – все было эскизно, вчерне, намечено, точно схвачено цепким глазом. – Это я, все мое. Может, на этом и остановиться?» Ей было приятно. А Иванов стоял рядом и с обычным авторским волнением ожидал ее слов. Она одарила его ясным, довольным взглядом и сказала с легким смущением: – Вы мне польстили… – В ее словах не было кокетства, она так думала. – Чем? – насторожился он. – Вы сделали меня моложе, чем на самом деле. – Возможно… чуть-чуть. И знаете почему? Потому что сегодня вы и в самом деле выглядите моложе, чем вчера, когда мы встретились у «Детского мира». – Вчера я была у следователя, а там, как правило, приятного не услышишь. Маша прочитала в его глазах тревогу и пояснила: – По служебным делам. Не забывайте, что я криминальный репортер. Занималась одним банальным для нашего времени делом: похищение кооператора с целью выкупа, убийство. – И его поймали? Убийцу? – Подручного взяли, осудили. А главный где-то в бегах. – Почувствовав интерес к этому делу Иванова, Маша вкратце рассказала сюжет. Когда закончила, он спросил: – Силанов в бегах, а главарь Сазон – он осужден? – К сожалению, нет. Главари чаще всего выходят сухими из воды. Особенно во времена смуты и хаоса. Из своих наблюдений я пришла к заключению, что с преступностью всерьез не борются. И делается это преднамеренно – вот что страшно. – Выходит, кому-то это выгодно – разгул преступности? – сказал Иванов. – Естественно. И не кому-то, а совершенно определенно – властям. Я считаю, что «оккупационный режим», как называют некоторые газеты нынешнюю власть, держится на трех китах: на желтой прессе, на мафиозных структурах зародившегося класса буржуазии и на уголовных элементах, тесно связанных с той же буржуазией. Уберите одного из этих китов, и режим Ельцина падет. А убрать трудно, потому что они преступники и повязаны одной веревочкой. Потому у нас правозащитные органы беспомощны, бессильны. Помните, сколько было шуму, связанного с Чурбановым, коррупцией. Авантюрный Гдлян на этом сделал себе карьеру, в народные депутаты пролез. – Да только ли Гдлян? – вклинился Иванов. – А предатель Калугин – генерал от КГБ? Они не сами пролезали в депутаты – их туда вводили, как говорит мой друг Дмитрий Михеевич. Потому и торпедировались законы об усилении борьбы с преступностью. – Совершенно верно, – согласилась Маша. – Вы, возможно, и не знаете – в свое время Горбачев поручил борьбу с преступностью своему любимому шефу Яковлеву. То есть пустил козла в огород. – Такого ж козла тот же Горбачев пустил в другой огород – назначив руководить разведкой еще одного своего друга, – опять вставил Алексей Петрович. – Примакова. Кстати – это не фамилия, а псевдоним. – Г-мм. Да я вижу, вы человек информированный в делах политики, – приятно удивилась Маша. – У меня есть авторитетный политконсультант – генерал Якубенко Дмитрий Михеевич. Он человек крайний, прямолинейный, но честный. – Так вот, Яковлев, который Александр Николаевич, – продолжала Маша, прерванную мысль, – есть еще Яковлев Егор. Впрочем, это два сапога – пара. Яковлеву было наплевать на преступность, он ей и не занимался. Он курировал главным китом – прессой, телевидением. Дирижировал. Прессу называют четверной властью. У нас же она первая власть. Ей принадлежит пальма первенства, в том хаосе, в котором оказалась страна. Она перевернула мозги у людей, лишила их воли, чести, человеческого достоинства и просто рассудка. Посредством прессы, радио и телевидения ловкие скульпторы лепят из людей солдатиков, которые им нужны. Ленин лепил революционеров, которым приказал Россию разрушить до основания. И разрушили, начиная с храмов. До основания. Потом Сталин лепил идейных энтузиастов – строителей светлого будущего. – Извините, – перебил Алексей Петрович. – Я один из тех энтузиастов. Идейных, и верил в светлое будущее. Понимаете – была вера, была радость в энтузиазме. Среди нас не было подонков, пляшущих на могилах своих отцов, убивающих за пачку сигарет стариков, растлевающих и насилующих в подворотнях и подвалах. Не было! Мы не продавали Отечество за импортные джинсы. Мы гордились своей державой. А вот кто, какой скульптор лепил нынешних? Кто? – Думаю, что и Хрущев, и Брежнев приложили руку. Вернее, их окруженцы. Они и горбачевых, и ельциных лепили. Ну а те в свою очередь уже законченных негодяев воспитывали. – И воспитывают, по сей день воспитывают, – гневно воскликнул Иванов. – Воспитывают нравственных дегенератов, не помнящих родства. Да, мы часто недоедали, недосыпали, не щеголяли тряпками. Но мы умели ценить подлинно прекрасное в музыке, в литературе, в живописи. Мы умели любить нежно, целомудренно. Для нас любовь была свята. А для нынешних она просто секс. Мы не опускались до зверей и животных. Фактически не веря в Бога, не зная Евангелия, мы жили по закону Божьему, изложенному устами апостолов. А что нынешние знают, кроме рока? Что знают о нашей жизни? Только то, что вдолбили в их голову нынешние геббельсы. Между прочим, Гитлер и Геббельс тоже вылепили духовных убийц, которые жгли наши города и села, вешали стариков и подростков, насиловали женщин. А теперь ответьте мне, любезная Мария Сергеевна, в чем разница между Гитлером и Геббельсом, с одной стороны, и Горбачевым и Яковлевым – с другой? – Да, видно, у вас хороший политконсультант, – ответила Маша. – А у меня и консультант по вопросам церкви – епископ Хрисанф. По некоторым вопросам их позиции резко расходятся. Я же между ними, как арбитраж: с чем-то согласен, с чем-то не согласен, что-то беру от одного, что-то от другого. – Выходит, вы – центрист? – улыбнулась Маша. – Ну, если хотите… Но с вами, я полагаю, у меня нет серьезных разногласий. – У нас есть не разногласия, а собственные мнения, – миролюбиво сказала Маша. – Например, о роли Ленина и Сталина. Но, думаю, мы не станем из-за них ссориться. – Ни в коем случае. Я ведь не ленинец и не сталинист и даже не коммунист. И никогда ни из Ленина, ни из Сталина не делал икон. Я, может, один из немногих скульпторов, который никогда не делал их портретов. Но я знаю, и это мои убеждения, что оба они незаурядные исторические личности. Именно личности. И у каждого из них были свои достоинства и недостатки. – Недостатки или преступления? – уколола Маша. – И преступления, и заслуги. Большие заслуги. Но, чур меня: не будем спорить. Наш антракт затянулся, давайте за работу. Еще часок? Не устанете? – Можно и два. По-моему, с вами нельзя устать. Только обидно, что мой характер доставляет вам мучения. Вот не думала, что я – «твердый орешек». – Мучения? – весело удивился Алексей Петрович. – Наслаждение. Только наслаждение. Я люблю работать с твердым материалом. Вылепить пустое ничтожество проще простого. Вон Вучетич Буденного лепил: там на лице, кроме усов, гладкая степь, ни одной искорки. А Вучетич умел показать и глупость, прикрытую усами или орденами. Он был великий мастер не только монумента, но и портрета. Маша легко и радостно заняла свой «трон». Она чувствовала себя свободно, раскованно, словно она давным-давно знакома и дружна с Ивановым и его обителью (так она мысленно нарекла мастерскую Алексея Петровича). Здесь для нее все было ново, интересно и привлекательно. Это был мир возвышенного и прекрасного, к чему с детских лет стремилась ее душа, и мир этот создал стоящий перед ней человек, пронзающий ее насквозь огненным проницательным взглядом, в котором рядом с глубокой мыслью сверкали любовь и мечта. Этот человек излучал тепло и ласку, с ним было легко и уютно, как с другом, которому доверяешь сокровенное и веришь во взаимность, перед кем настежь раскрываешь душу и чувствуешь пульс его незащищенного и легко ранимого сердца. Она, пожалуй, с самой первой встречи почувствовала в нем друга, перед которым разница в возрасте исчезает. Она догадывалась, что он к ней неравнодушен, читала его мысли, которых он никогда не решится высказать вслух из-за большой разницы в годах, – перешагнуть этот барьер не позволит ему деликатность и совестливость. Во всяком случае, он не сделает первого шага, будет терзаться и питать себя надеждой, что этот шаг сделает другая сторона. Так думала Маша, в упор наблюдая за Алексеем Петровичем. Иванов не старался показать себя Маше лучшим, чем он есть на самом деле: он держался естественно и непринужденно, как держался с епископом и генералом или с Тамарой и Инной. Так думал он. Но со стороны все виделось по-иному. Он был очарован Машей. Что именно очаровало его, он не мог сказать. Очарование вспыхнуло в нем вдруг, неожиданно и неотвратно, как ураган, и смутило его самого. Он стеснялся этого святого чувства, праздника души, будучи человеком застенчивым и совестливым. Чуткое сердце и проницательный ум Маши разгадали его состояние, которое он всеми силами хотел скрыть. И чем больше он старался утаить, тем явственней выдавал себя излишней суетливостью, лаской и нежностью, которые звучали в его словах и голосе, светились в глазах. Он не умел делать комплименты и говорил чистосердечно все, что думал. Сердцем он восхищался Машей, а разумом, хотя и смутно, понимал, что есть две Маши Зорянкиных: одна такая, какой хочет видеть и видит ее он, а другая та, какой видят ее все остальные. Знал он и то, что у нее есть свои слабости и недостатки (а у кого их нет?), и верил, что это совсем не недостатки, а даже достоинства, потому что она самая прекрасная в этом мире женщина. И очень важно, что они единомышленники. Она сказала, что есть разные точки зрения, а не расхождения, но это не столь важно, это даже интересно, есть о чем подискутировать и прийти в конце концов к истине. И не надо откладывать «на потом», когда можно сделать сегодня же после окончания сеанса за чаем. Так он решил. После перерыва они работали полтора часа. Подстрекаемая любопытством, Маша легко соскочила со своего «трона» и ахнула от удивления и радости, как много и успешно наколдовал Алексей Петрович за последние полтора часа. Перед ней было ее отражение, не застывшее в глине, а словно бы живое, дышащее, одухотворенное, в котором поражали прежде всего глаза, исторгающие любовь и мечту. Маша не находила слов, чтоб выразить свою благодарность ваятелю. Она смотрела на Алексея Петровича восхищенно, по лицу ее разлился радостный румянец, а уста молчали. – Еще один сеанс – и все будет в порядке, – сказал Иванов, критически глядя на свое творение. – Как? – удивленно воскликнула Маша. – А разве здесь не все в порядке? – Надо поработать. Чуть-чуть. Мы недолго – часок-полтора без перерыва. Но это в другой раз. А сейчас будем чаевничать. Он был доволен своей работой и без лишней скромности считал портрет Маши своей большой творческой удачей. Он даже удивлялся, как быстро ему удалось раскусить «твердый орешек», потому что это был первый случай в его творческой практике, когда всего за два с половиной часа он сумел создать почти законченный портрет. Для него это был своего рода рекорд. Чай пили в гостиной, и оба не удивились, что как-то незаметно начали продолжать прерванный во время перерыва разговор. – Давайте уточним наши разногласия, – первым начал Иванов. Он хотел единомыслия с Машей. – А может, между нами и нет никаких разногласий. Епископ Хрисанф и генерал Якубенко решительно расходятся в вопросе о революции семнадцатого года. А мы с вами? – Мы, то есть наша газета называет это октябрьским переворотом, – уколола Маша довольно дружелюбно. – Ну вы, конечно, говорили, что ваша газета монархическая, религиозная, антисоветская. – Отчасти. А вообще главная у нас линия – патриотизм и русская идея… Разве вы не согласны, что октябрьский переворот совершили масоны, ядро которых составляли евреи? Наша редакция получила интересный материал: имена и фамилии пассажиров, ехавших из Швейцарии через Германию во время мировой войны в Россию совершать революцию с Лениным во главе. Всего сто восемьдесят девять человек. Из них русских только девять. Остальные – евреи. Вожди революции. Там и Зиновьев (Апфельбаум), и Сокольников (Бриллиант), и Войков (Вайнер), и Мартов (Цедербаум), и Рязанов (Гольденбах) и целый легион таких же «пламенных революционеров» – вершителей судьбы России. Возглавлял масонскую ложу Троцкий (Бронштейн). – Вы, несомненно, правы в том, что во главе революции стояли главным образом евреи, – как бы мягко соглашаясь, проговорил Иванов. – Но ведь народ пошел за коммунистами, поддержал революцию. А почему? Потому, что жил русский народ – рабочие, крестьяне – в нищете, в бескультурье. Это я знаю из жизни своих односельчан, из рассказов стариков. А вы можете поверить – я носил лапти. – Но вы родились уже в советское время. – Да, но не коммунисты повинны в том, что мужик был темен, нищ, полуголоден. Коммунисты пообещали ему земной рай, он и пошел за ними. Пошла беднота. Справный крестьянин, а таких было немало, противился. Особенно когда его силком в колхоз загоняли. Вроде того, как нынешняя власть насильно загоняет народ в рынок. Обманывали и тогда, обманывают и теперь. Погрязли во лжи по самые уши. Вот теперешняя желтая пресса, или сионистская, как ее называет мой генерал, на все лады расписывает, как хорошо жилось в России до революции и как плохо в советское время. А я думаю, что хуже чем сегодня в России никогда не было. Хотя много всякого лиха пережил наш народ – и ордынское иго, и шведских рыцарей, и смутное время Лжедмитрия. Нашествие Наполеона и Гитлера. Все было: кровь, слезы, пожары и другие ужасы. Но оставалось государство, держава оставалась, ее фундамент не разрушался. А нынешние перестройщики разрушили фундамент. – А мне кажется, фундамент еще цел и не потеряна последняя надежда, – сказала Маша. – Хотя то, что происходит с нашей страной сейчас, похоже на кошмар, на жуткий сон, где все лишено логики и смысла, поставлено с ног на голову. И самое страшное, что народ – хотя это уже не народ, а сборище безвольных, лишенных разума человечиков – позволяет безропотно собой манипулировать. – А кто его лишил разума? – быстро отозвался Иванов. – Вы, пресса. Телевидение. Радио. Впрочем, извините – вашей газеты это не касается. Но сколько их, патриотических газет? Раз, два и обчелся. А тех, сеющих ложь, дурман, разврат, – их сотни, если не тысячи. Мой генерал утверждает, что вся желтая пресса находится на содержании Запада или фонда Горбачева, хотя это одно и то же. Маша молчала, погрузившись в невеселые думы. Взгляд ее, устремленный в пространство, казался отсутствующим, и сама она была какой-то другой, печально сосредоточенной, напряженной, сжатой, как пружина. Иванов, с восхищением глядя на нее, как бы зримо, осязаемо ощущал углубленную работу ее мысли и ни словом, ни жестом не смел потревожить ее. Наконец Маша, как бы очнувшись, подняла на него взгляд, улыбка смущения только на миг сверкнула в ее грустных глазах, отчего суровое лицо ее сразу потеплело, оттаяло. Устремив на Иванова тихий печальный взгляд, она медленно, словно продолжая свои тяжелые думы, проговорила: – Вы сказали, что разрушен фундамент. Какой фундамент вы имели в виду? Социализма? – Последнее слово она произнесла с подчеркнутой иронией. – Совсем нет. Я имел в виду духовную, нравственную основу. Разного рода наполеоны, гитлеры для нашего народа были внешними врагами, интервентами. Против них поднимался весь духовный, патриотический потенциал народа, и была это главная сила, которую не сумели одолеть чужеземцы. Обратите внимание: ни Наполеон, ни даже Гитлер не имели «пятой колонны», которая бы вонзила нож в спину России. Их наследники это учли и все предусмотрели. Они заранее, на протяжении многих лет создавали в нашей стране «пятую колонну», ядро которой составляли сионисты, а попросту евреи. – Он вдруг поймал себя на мысли, что повторяет слова генерала Якубенко. – И начала она действовать с подрыва фундамента, духовного растления не одного, а многих поколений. Начали с изоискусства: абстракционисты, авангардисты; проповедь уродства, безобразия. Потом в музыке: там уже пошла откровенная бесовщина – поп, рок и тому подобная мерзость. Все это денно и нощно заполняло эфир и телеэкраны. Шло массовое духовное растление, запрограммированное, организованное, поощряемое отечественными и западными «авторитетами». Они наступали нагло, цинично, без опаски, пользуясь поддержкой и покровительством самых высоких властей – Хрущева, Брежнева. Когда под фундамент заложили достаточно тола, когда внедрили в сознание людей бациллы духовного СПИДа, тогда и произвели тот взрыв, который назвали «перестройкой». – Все это так, и я с вами согласна. Взрыв произошел, фундамент поврежден, но не разрушен. Маша посмотрела на него с глубокой солидарностью, и теплая улыбка затрепетала на ее влажных губах. Произнесла тихо и нежно: – Теперь я вижу: мы единомышленники. Я очень-очень рада этому. Иметь верного друга-единомышленника – это большое счастье. – Она расчувствовалась. Глаза загорелись и осветили розовой вспышкой лицо, голос задрожал: – Простите меня за банальность, но это искренне: у меня такое чувство, что я знаю вас очень давно. – Я верю, потому что и сам испытываю такое чувство. – Он хотел признаться, с каким трепетным волнением ждал ее, но не решился. – Мне пора. Настенька ждет. Когда теперь встретимся? – После праздника, – с непринужденной сердечностью ответил Алексей Петрович. – Какой праздник вы имеете в виду? – Завтра воскресенье, 23 февраля – День Советской Армии. – Ах, да… Армии, которой нет. – Она еще есть. И праздник ее будет. Мы с генералом договорились пойти к вечному огню у Кремлевской стены. Почтим память… На прощание он вручил ей куклу, которую купил вчера в «Детском мире». Она протянула ему руку, узкую, нежную с крепким пожатием, не отпуская его руки, сказала: – От души поздравляю вас с праздником Советской Армии. – Смутилась в нерешительности. Потом порывисто обняла его и поцеловала в щеку.3
День 23 февраля 1992 года будущие календари назовут «кровавым воскресеньем». К нему готовились по обе стороны политических баррикад. Народ России помнил этот день, как праздник своих Вооруженных Сил, которыми он всегда гордился. Службу в армии прошла большая часть мужского населения, и потому в каждом доме, в каждой семье этот день воспринимали как всенародный праздник, с ним связывали и героический подвиг в годы Великой Отечественной, и память о жертвах той страшной, невиданной по жестокости войны. По обычаю в этот день люди шли к Вечному огню, чтобы возложить цветы на могилу неизвестного солдата. Чтоб повиниться перед ним за свои малодушие, беспечность, нерешительность и глупость, позволившие без сражений оккупировать свою Родину претендентами на мировое господство. У доведенных до отчаяния обманутых и деморализованных «пятой колонной» людей, растерянных перед наглостью и цинизмом оккупантов, еще теплилась надежда на свою армию, на то, что у ее офицеров и солдат пробудятся чувства человеческого достоинства, профессиональной гордости и гражданского мужества. Этого и боялись оккупационные власти, и мэр Москвы Попов с благословения президента Ельцина закрыл плотной стеной из сотен самосвалов и грузовиков, из тысяч омоновцев, вооруженных щитами и дубинками милиционеров и солдат, все подходы к центру столицы, где у Кремлевской стены, у могилы неизвестного солдата струится трепетное пламя вечного огня. Это была очередная глупость оккупационных властей, опасающихся народного восстания. Демонстранты несли алые и андреевские флаги, транспаранты с надписями: «Долой правительство предателей», «Нет сионизму!», «Капитализм не пройдет!», «Армия и народ – едины!», «Восстановить СССР!», «Ельцин – Иуда!» Несмотря на решительные лозунги, настроены люди миролюбиво, по-праздничному. Совсем иное настроение царило среди властей. Преступник всегда думает, что рано или поздно наступит час расплаты, и страх толкает его на новые преступления. Так было и 23 февраля. Мирную демонстрацию встретили дубинки омоновцев, и праздник превратился в кровавое воскресение. Россия это запомнила, и час возмездия грядет. Запомнился этот день Иванову и Якубенко. Вместе с тысячами москвичей они хотели пройти к Вечному огню и возложить алые гвоздики на могилу Неизвестного солдата. Путь им преградила милицейская цепь. Якубенко – он был в штатском – представился капитану милиции и предъявил удостоверение Героя Советского Союза. «Не могу пропустить, товарищ генерал, – извиняющимся тоном сказал капитан и смущенно потупил глаза. – Не велено. Приказ». «Чей приказ?» – с трудом сдерживая себя, спросил Дмитрий Михеевич. «Мэра Москвы», – почти шепотом обронил капитан и украдкой посмотрел по сторонам. Затем, прикрыв веками глаза и сдержав тягостный вдох, бросил на генерала печальный, полный сочувствия взгляд, кивнул головой в сторону узкого прохода и неуверенно пробурчал: «Пройдите». Капитан, очевидно, догадывался, что далеко генерал не пройдет: его остановит следующая цепь уже омоновцев. А те ребята крутые, с ними не договоришься. Так точно и случилось. Первая цепь омоновцев встретила Якубенко и Иванова не просто не дружелюбно, а даже агрессивно. На его удостоверение посмотрели с подчеркнутой иронией и неприязнью. «Нельзя!» – скрипучим нервозным голосом ответил страж, облаченный в доспехи. – Позовите старшего, – очень спокойно попросил Якубенко. – Я здесь старший, – раздраженно зыкнул омоновец. В его глазах Якубенко прочитал самодовольство данной ему власти и ожесточение. Генерал попытался вступить с одетыми в броню людьми в разговор «по-человечески», объяснить, что он и его фронтовой друг никаких противозаконных действий не намерены предпринимать, что их единственная цель – возложить цветы на могилу солдата. В ответ – полное непонимание, даже насмешка и высокомерие. – Да кто же вы такие? – глухо выдавил из себя генерал, пристально всматриваясь в лица омоновцев. – Кто вас сделал такими? Ваш долг – бороться с преступниками. А вы… вы против народа. – И с недоумением к Иванову, – Алеша, ты что-нибудь понимаешь? Где мы находимся? Что случилось с нашей державой? – Как видишь – она оккупирована. – Кем? Кто оккупанты? Или это сон – кошмарный сон?.. Нет, ничто и никто меня не остановит! Никто не лишит меня моего праздника!.. Я дойду, солдат, до твоего Вечного огня! С этими словами генерал Якубенко, дрожа и задыхаясь от гнева, двинулся на бронированную цепь. В этот момент он напоминал разъяренного льва, страшного в своем бесстрашии, и в цепи омоновцев образовалась узкая щель, через которую он прошел. В след генералу летел неистовый зык того, кто только минуту назад сказал ему: «Я здесь старший!»: – Гражданин! Остановитесь!.. – И четверо молодых, здоровых стражей порядка бросились за семидесятилетним ветераном и сбили его с ног. Иванов попытался было пройти за другом, но, получив в грудь толчок щитом, качнулся назад и едва устоял на ногах. Алексей Петрович посмотрел каким-то сложным взглядом на молодого краснолицего парня, пытаясь сквозь прозрачный щиток каски посмотреть ему в глаза, и сокрушенно дрогнувшим голосом проговорил: – Какая же мать тебя родила? А ведь деды ваши воевали в одном строю с моим генералом, вместе в атаки ходили. А вы предали, все предали – и славу отцов, и Родину предали Бушу и его продажным псам. Иудам служите, господа-товарищи. Обидчик его скорчил веселую победную гримасу и занял место в порушенной цепи. Гримаса на бессмысленном ухмыляющемся лице высекла в сознании Иванова жуткую мысль: «А ведь такой будет стрелять и в отца родного. Буш прикажет Ельцину, Ельцин Попову, Попов своему лакею, и прольется святая, невинная кровь». Удар дубинки пришелся по плечу. Якубенко покачнулся, выронил гвоздику и упал на колени. Перед глазами расплывались туманные круги. Горький комок обиды застрял в горле, мешал не то что говорить, дышать мешал. В ушах звучал надтреснутый голос «победителя» – омоновца: – Назад, давай назад!.. Тяжелый груз горечи, обиды и усталости взвалился на плечи генерала и давил, не давал ему распрямиться. Якубенко усилием воли попытался сбросить этот невиданный груз, но мешала боль в плече, и голос его обидчика скрипел неумолимым приказом: – Назад, назад!.. И боевой генерал, познавший боль атак и змеиное жало фашистской пули, подчинился бесчестному окрику новоявленных победителей. Он тяжело поднялся и медленно удалялся от того места, где на холодной мостовой кровавым пятном позора и преступления оккупационного режима «демократов» алела растоптанная гвоздика. Генерал Якубенко лежал на диване в своей квартире, погруженный в тягостные думы, давившие каменной глыбой на его сознание. В вечерних новостях телекомментатор, или, как их называют в народе, телефальсификатор, походя лягал «жалкую кучку красно-коричневых коммунистов, которых ностальгия по прошлому позвала на улицу под красные знамена». Услыша эту циничную ложь, Дмитрий Михеевич попросил жену выключить телевизор. – Да его бы давно пора выбросить на свалку, – сказала жена, погасив непристойный экран. – Он еще пригодится, – мягко возразил генерал. – Когда? – Когда восстановят советскую власть. – Ты все еще веришь? Вопрос жены больно отозвался в сердце, и генерал не ответил, хотя милицейская дубинка не убила в нем веры в возрождение страны. Напротив: сегодняшний день укрепил эту веру. Его радовало, что в колоннах демонстрантов на этот раз он видел много молодых людей: значит, замороченная желтой прессой и телевидением молодежь начинает «протирать глаза». Анализируя события истекшего дня, Дмитрий Михеевич хотел понять действия властей, фактически запретивших всенародный праздник. «Что толкнуло их на этот безрассудный шаг? – спрашивал он и отвечал: – страх перед неминуемой расплатой за те неслыханные злодеяния, которые они сотворили над страной и народом, плюс присущая так называемым демократам банальная глупость, инстинкт беззакония дорвавшихся до власти временщиков». Они напоминали ему банду грабителей, ворвавшихся в чужой дом: хватают все, что попадает под руку, набивают рты и карманы, жадные, алчные, ненасытные, лишенные элементарных норм приличия и морали. А напоследок крушат и ломают все, что не унести, чтоб не осталось хозяевам, когда те вернутся в свой дом. А в ушах жужжанием шмеля звучал печальный голос жены: «Ты все еще веришь?», отдаваясь ноющей болью в плече, по которому прошлась дубинка омоновца. Боль, которую он не сразу ощутил, теперь обострилась. К ней прибавилась боль души, вызывая мучительные страдания. Он ждал, когда отойдет ко сну жена, чтоб в ее отсутствие осмотреть плечо: не хотел расстраивать. Она позвала: – Иди, ложись, скоро полночь. – Хочу душ принять, – спокойно ответил он. Важно соблюсти спокойствие и выдержку. В ванной он снял рубаху и подошел к зеркалу. Рядом с красноватым рубцом – след осколка немецкой мины, – большой вздувшийся синяк – память о сегодняшнем празднике. И ноющая боль, разрывающая душу. А в мозг стучит все тот же вопрос, словно не дал он на него исчерпывающий ответ: «Какой все-таки смысл устроенного властями побоища?» Неужто только страх и банальный идиотизм? А может?.. И вдруг его осенила мысль: «демократы» проводили репетицию… на случай гражданской войны, о которой так настырно долдонит их пресса. Они хотели проверить: будет ли милиция исполнять их приказ – стрелять в народ? Ну, и какой же ответ? Будет?.. Генерал нерешительно покачал головой. Ему вспомнился капитан милиции, который пропустил его сквозь цепь, – вспомнил его смущенный, даже виноватый взгляд. Нет, этот не будет стрелять и приказ, не отдаст своим подчиненным. А как поведет себя армия в роковой час? На этот мучительный вопрос Дмитрий Михеевич не находил ответа. Логически ответ казался прост: армия не станет стрелять в народ, она займет сторону народа. Тогда почему она молчит сейчас, когда оккупационные власти довели народ до нищеты и измываются над ним, вопреки его воли и желанию разрушили созданное веками государство, насильно загоняют народ в допотопный, варварский рынок, вопреки Конституции навязывают капиталистический строй? Почему армия не защищает Конституцию и не наказывает тех, кто цинично попрал Основной Закон государства? Почему сыновья и внуки воинов Великой Отечественной не освободят свое Отечество от новых оккупантов? Эти вопросы больно сверлили мозг генерала Якубенко, не давали покоя. Он все чаще вспоминал своих боевых друзей, которые полегли на фронтах, спасая свой народ, отстаивая свою воинскую честь и достоинство, и чувствовал вину перед ними, что не сумел выстоять в этой тихой, по-змеиному ползучей войне, что вовремя не распознал «пятую колонну», предав тем самым родных и близких, живых и мертвых, что позволил ей без сражений сотворить то, что не удалось Гитлеру. Иногда ему хотелось подняться на Останкинскую телебашню и прокричать на всю страну от Балтики до Курил: «Где вы, потомки Суворова и Кутузова, Жукова и Рокоссовского?!. Почему вы молчите в роковой для Родины час? Где ты, юный политрук Клочков, чьи огневые слова дошли до сердца каждого воина: „Отступать некуда – позади Москва!“ И не дрогнули, не отступили тогда в сорок первом, не сдали Москву. А сегодня Москва, грязная, загаженная и оплеванная торгашами, уголовниками, покоренная сионистами и преданная их агентурой, измывалась над светлой памятью миллионов Клочковых». Думая об армии, генерал Якубенко приходил к убеждению, что ее не только деморализовали, оболгали, оскорбили – ее предали. Предали в августе девяносто первого года авиационные и десантные генералы в дни так называемого путча, и предательство это не было стихийным, а заранее спланированным, продуманным и взвешенным, и предатели ведали, что творили, и сознавали последствия своего предательства. О судьбе Отечества они не думали. Для них путеводной маршальской звездой была карьера; ради нее они готовы были служить хоть самому дьяволу. Конечно, думал Дмитрий Михеевич, умишко этих «авиаторов-десантников» оказался до предела скудным, не способным правильно разобраться в сложившейся обстановке, понять сущность «демократов», их лживую, мелкую, эгоистическую душонку. А их гражданская совесть и честь, мораль и нравственность едва просматривались не то что в военный бинокль – в астрономический телескоп. Все это вместе взятое и побудило их стать на сторону новоявленного Лжедмитрия. Ради авантюриста-самозванца они готовы были бомбить Кремль, как хвастливо заявил один из «героических защитников» Белого Дома. Конечно же, ради собственной карьеры. Но бомбить Кремль!.. Такая мысль могла прийти в голову только выродку, дегенеративному ублюдку, у которого сионистская пресса мозги заменила собачьим дерьмом. Якубенко не мог об этом думать без содрогания. Для трудового люда всего мира московский Кремль, лучезарный, осиненный сверканием рубиновых звезд, излучал надежду на справедливую, достойную человека жизнь. Свет кремлевских звезд пробуждал высокую мечту, согревал сердца праздничным горением. К нему тянулись люди труда из холодной тундры и таежных селений, далеких Курил и солнечного Приднестровья, от южной Кушки и легендарного Бреста, из знойной Абхазии и гордого Севастополя. Этот живительный свет под волнующий звон курантов созывал народы в единую братскую семью и был праведным заступником слабых, покровителем талантливых и честных. Он дарил людям радость, праздник души, и никто ни у кого не интересовался, какой он национальности: все были равны. И вот сбываются священные пророчества – восстал брат на брата… Этот свет вселял спокойствие и мужество вечно зеленой Кубе, не склонившей голову под бандитским прицелом американских ракет; воодушевлял многострадальных, бессмертных палестинцев на священный бой с самым жестоким и кровожадным человечества – сионизмом, поправшим их честь и свободу. Кремлевские звезды!.. Острой болью заныло сердце генерала, молнией пронзило мозг: а вдруг по злой воле новых российских и московских правителей погаснет путеводный свет кремлевских звезд, и на башенные шпили вспорхнет общипанный, подобранный на свалке опереточный петух, олицетворяющий таких же опереточных нынешних хозяев Кремля? Ведь от временщиков любой мерзопакости можно ожидать. Временщик – он по своей сути алчный вор и громила-разрушитель. У временщика нет ни прошлого, ни будущего. Он живет одним днем, алчный, ненавистный, понимает, что часы его сочтены, и не хочет, боится думать о неминуемой расплате. Звезды погасит Гаврила Попов – коварный и столь же циничный господин. На память Дмитрию Михеевичу при имени мэра Москвы почему-то пришла строка из старинного романса: «Грек из Одессы, еврей из Варшавы…» Какая гремучая смесь. Тревожные мысли скакали галопом, сбивались с канвы и вновь возвращались к своим истокам в прежнее русло. Армия. Почему она молчит? Чертова дюжина авиаторов – это еще не армия. Кремль они могут разбомбить, Москву превратить в руины, но Россия им не по зубам, даже преданная и распроданная, она расправит плечи, возродится из пепла. Якубенко понял, Горбачев и Ельцин по приказу из-за океана обезглавили армию, ее опытный генералитет, ее мозг, честь и совесть. Он знал офицерский корпус армии. Особой надежды он не возлагал на среднее звено, сегодня батальонами командовали те, кто в юности аплодировал Высоцкому и Пугачевой, командиры рот прошли через дискотеки, вдоволь наглотавшись поп-рокских помоев, взводные барахтались в перестроечной грязи сионистской прессы, радио и телевидения. Эти не выведут солдат на Сенатскую площадь. Ратные подвиги их отцов и дедов, патриотический дух вытравили из их сознания ловкие «политруки» их «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца», мастера перекрашивать правду в ложь, а ложь в правду. Эти не бросятся на вражеский дзот. Надежды таяли, но думы не отступали, а, напротив, наседали требовательно и неотступно – жестокие, безысходные. Он пытался отмахнуться от них, забыться, но не мог одолеть. («Погубить такую державу! Это необъяснимо, какой-то дьявольский жестокий рок!») Мысли больно буравили мозг, выматывали душу. Громоздились вопросы, много вопросов, один страшнее другого. Не было ответов. Он понимал, что не уснет до утра. Осторожно поднялся, чтоб не разбудить жену, босой прошел в кухню, принял снотворное – сразу две таблетки. Сон надвигался медленно густойстылой тучей. – Дмитрий Михеевич погружался в него со всеми своими тревожными тяжелыми думами, которые превращались в зримые картины сновидений. Он думал о предателях Отечества и о неотвратимой каре, которая настигнет их. Мысленно он называл их имена, проклятые народом и отвергнутые историей. Он ставил их в один ряд с Гитлером и его подручными. Среди пожарищных руин ему виделась длинная перекладина с висельницей. Черные силуэты казненных зловеще раскачивались в серой дымке то ли тумана, то ли смрада. Якубенко насчитал тринадцать повешенных: чертова дюжина, и решил подойти ближе, чтоб узнать, кто они, и был удивлен, опознав в первом Гитлера. «Но он же сожжен». Рядом с фюрером повешенный за ноги головой вниз болтается Горбачев. Он жестикулировал руками и что-то говорил, энергично, бойко, но слов его не было слышно. Он дергал за сапоги своего соседа, повешенного, как и Гитлер, ногами вниз. В этой тучной бочкообразной фигуре, обтянутой белым мундиром, Якубенко узнал Геринга. А рядом с ним, и опять же вниз головой, болтался главный архитектор перестройки Александр Яковлев по соседству с Геббельсом. «Какое символическое родство душ», – подумал о них Якубенко, продолжая опознавать других казненных. Он с отвращением и брезгливостью увидел, как повешенный вниз головой Шеварднадзе, обхватив ноги своего соседа Гимлера, усердно, с кавказским восторгом лобызает его сапоги. Удивила его и еще одна «картина»: по соседству с фашистским генералом болтались вниз головой двое наших, то есть бывших советских, – один с голубыми, другой с красными лампасами. Он не мог их узнать, потому что свои лица они стыдливо закрывали руками. «Отчего бы это? Неужто совесть заговорила?» – подумал Дмитрий Михеевич. Потом это отвратительное видение растаяло в смрадной дымке, и только одна мысль, облегчившая душу слабым утешением, проплыла в сознании генерала Якубенко: «Все-таки справедливость восторжествовала, преступников и предателей настигло возмездие», и мысль эта слилась с бессмертными словами Лермонтова: «Но есть и Божий суд… Есть грозный судия: он ждет…» И с этой мыслью перестало биться сердце генерала-патриота.Глава восьмая. Лебедица
1
Внезапная смерть друга и фронтового товарища потрясла Иванова. Только теперь он по-настоящему осознал и не разумом, а сердцем ощутил, кем был для него Дмитрий Михеевич, этот прямой, искренний, кристально чистый и неподкупно честный генерал. Их бескорыстную дружбу не могли поколебать или расстроить ни различия вкусов и мнений по второстепенным вопросам, ни иронические колкости, которыми они иногда обменивались, ни расхождение во взглядах на Октябрьскую революцию, на роль Ленина и Сталина в истории России (о роли Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина у них было полное единомыслие). Иванов был убежден, что Якубенко пал жертвой оккупационных властей временщиков, их сионистской диктатуры, которая испробовала свои клыки на ветеранах в День Советской Армии. Тяжелой глыбой обрушилось на Алексея Петровича чувство одиночества, точно он был замурован в темнице на необитаемом острове. Москва, которая в августе прошлого года стала для него чужой и даже враждебной, теперь показалась оккупированной коварной сатанинской силой. Денно и нощно эта сила с картавым акцентом (как будто специально подбирали дикторов, не выговаривающих половины алфавита) издевательски хохотала в эфире, плевалась с телеэкранов, так что Алексей Петрович радио уже давно не включал, а по телевизору смотрел только новости. Первые девять дней после кончины генерала Иванов не находил себе места. Работать он не мог. Что-то оборвалось в нем, сломался какой-то механизм, без которого жизнь теряла смысл. Само понятие «жизнь» им воспринималось как работа, творческий труд, в который он вкладывал всю душу. В «цех» он не заходил, старался забыть о его существовании, о незаконченных произведениях, ожидающих рук мастера. Чувство одиночества смешалось с чувством безысходности и обрушилось на него тяжелой стопудовой глыбой, сбросить которую у него не было ни сил, ни желания. Придя домой после поминок, Иванов впервые за девять дней заглянул в свой «цех», и первое, на чем остановился его взгляд, был незаконченный портрет Маши, завернутый в целлофан. Что-то встрепенулось в нем, повеяло чем-то до боли родным. Маше он решил позвонить завтра. А сегодня работал допоздна без передыха. В десять вечера зазвонил телефон, спугнув до самозабвения увлекшегося работой ваятеля. С комком глины в руке Алексей Петрович торопливо взял трубку. Звонила Маша. – Я не поздно вас беспокою? – не поздоровавшись, извинительным тоном спросила она. – Вы не спите? – Очень рад. Я собирался вам звонить, – взволнованно ответил он. – Тогда – добрый вечер. Как там моя глина? Наверно, высохла? – Она вас ждет, – задорно ответил он и добавил: – Завтра с утра. Можете? – Постараюсь. К которому часу? – Неплохо бы к десяти. А вообще чем раньше, тем лучше. И Настеньку возьмите с собой. – Она нам будет мешать, – нетвердо, как бы спрашивая, сказала она. – Нисколько. Напротив… Его желание познакомиться с Настенькой радовало Машу. Она понимала его возбужденность и нетерпение сама испытывала эти же чувства. Все эти дни она думала о нем, несколько раз порывалась позвонить ему, но боялась показаться навязчивой. На другой день ровно в десять вместе с дочуркой Маша была у Алексея Петровича. Еще дома и потом в пути она объясняла Настеньке, что едут они в гости к дяде Леше – Алексею Петровичу, тому, что подарил ей черноволосую куклу, что дядя этот очень добрый (не дедушка, а дядя), что он любит маленьких детей. Словом, произвела соответствующую подготовку. Это важно было еще и потому, что девочка не привыкла к мужской компании. Алексей Петрович был несказанно рад этой встрече и не скрывал своего восторга. С Настенькой он сразу нашел общий язык, разложив перед ней заранее сделанные им из пластилина фигурки, и тут же показал ей, как они делаются, и снабдил ее пластилином: мол, попробуй лепить сама – это же так просто и занятно. Он с первых минут покорил девочку своим вниманием к ней. Маша ревниво наблюдала за ними и, к своей радости, пришла к заключению, что Иванов имеет подход к детям. Войдя в «цех», она сразу обратила внимание на композицию «Ветеран» и на изменение, которое сделал автор. Теперь уже не над головой ветерана был написан лозунг, а на щите, повешенном на грудь, – «Будь проклята перестройка». – Да, так лучше, – сказала она, кивнув в сторону композиции. – Теперь нет ощущения плаката. – Представьте себе – жизнь подсказала, – сообщил он. – Иду по подземному переходу, сидит нищий, и у него вот такой транспарант на груди. Маша была приятно поражена, увидев почти законченную композицию «Девичьи грезы». Осталось только вылепить кисти рук. По просьбе Алексея Петровича она уже привычно взошла на «трон» и приняла нужную позу: в одной руке цветок ромашки, в другой – сорванный лепесток. Настенька отвлеклась от своего пластилина и с любопытством стала наблюдать за работой Алексея Петровича. И вдруг она с непосредственным детским удивлением и восторгом воскликнула, указывая ручонкой на композицию: – Это мама! Моя мама. – В больших синих глазенках ее светились радостные огоньки. Потом обратила взгляд на стоящий рядом почти законченный портрет Маши, звонко и очарованно воскликнула – И тут мама! Две мамы… – Устами младенца глаголет истина, – тихо вымолвил Алексей Петрович и нежно посмотрел на девочку. Чутким сердцем матери Маша с благодарностью и теплотой уловила этот взгляд, и как бы в ответ в ее глазах вспыхнуло сияние любви. Ей захотелось рассказать ему о своих чувствах, о том, что все эти две недели она непрестанно думала о нем. Но чтобы не поддаться искушению, она заговорила о другом: – Я рассказала в редакции о вашей скульптуре «Будь проклята перестройка» и других композициях. Наши заинтересовались, просили сделать несколько снимков ваших работ. Вы не возражаете? Я взяла с собой фотоаппарат. – А зачем это нужно? – Возможно, опубликуем. Краткий текст об авторе я напишу. – Вы считаете, что это нужно? – Крайне необходимо. Сейчас, когда перестройка выбросила искусство на свалку и заменила его «порнухой» и «чернухой», народ жаждет встречи с прекрасным, тем, что согревает душу, пробуждает разум и совесть, – страстно, порывисто заговорила она, и в мелодичном голосе ее звучали самоуверенность и тихое благородство. – Ну, коль вы так считаете – я к вашим услугам, – с неподдельной кротостью и нежным смирением ответил он. Маша любовалась Ивановым. Глаза ее влажно сияли. В эти минуты она была необыкновенно прекрасна, на что обратила внимание Настенька и с детской непосредственностью и нежностью сказала: – Мамочка, ты красивая. – И затем, указав ручонкой на композицию «Девичьи грезы» и на портрет Маши, прибавила: – И та красивая, и эта красивая. – И, устремив глазенки на Иванова, вдруг попросила: – А вы меня сделаете красивой, как мама? – Вот такой? – уточнил Алексей Петрович, дотронувшись рукой до портрета. Настя закивала головой, а Маша, улыбаясь, сказала: – Настенька, ты ведешь себя нескромно, это в тебе что-то новое, тщеславия я раньше в тебе не замечала. – И тебя сделаем, Настенька, потому что ты тоже красивая, как мама, – серьезно пообещал Иванов. И, сделав вздох облегчения, произнес тоном полного удовлетворения: – Вот и все. На этом поставим точку. Он протянул Маше руку, и она, скрывая усталость и беспокойство, легко соскочила на пол. – Сегодня у меня знаменательный день: обитель моя освящена задорным детским смехом, значит, счастье должно поселиться в этом доме. – А что – есть такое поверье? – Что дети приносят радость и счастье – разве это не так? – Пожалуй, – благоговейно произнесла она. За скромной трапезой внимание Маши и Алексея Петровича было приковано к Настеньке, к ее неожиданным вопросам и поступкам. Девочка сразу воспылала симпатией к Алексею Петровичу, – очевидно, чувство матери передалось ей, – она шла к нему на руки, трогала его бороду и без умолку щебетала. Маша с умилением смотрела на дочь и Алексея Петровича. Лицо ее, освещенное яркими глазами, казалось прозрачным и кротким. Негромко и томно сказала: – Дети лучше всех чувствуют человеческую доброту. Это не комплимент, а давно известная истина. Не отпуская от себя девочку, ласково пристроившуюся на его коленях, Иванов заговорил, устремив на Машу очарованный взгляд: – Все эти последние дни после кончины Дмитрия Михеевича я чувствовал в себе и вокруг себя какую-то беспросветную, щемящую пустоту. Я не знал, как и чем ее заполнить. – Может, кем? – Но где он, этот «кем»? И кто он? – Может, «она»? – Это еще лучше. Наступила настороженная пауза. Маша понимала по глазам: он влюблен в нее, но первого шага не сделает. Догадывалась: ему мешает разница в возрасте. Он стыдится малейшего проявления чувств. Но выдавали очарованные глаза и тающий голос, полный любви и обожания. Тогда ей на память пришли есенинские строки: …О любви слова не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхонты, горят. И она решилась первой сделать шаг: – Я не гожусь? – устремила на него знойный взгляд. Лицо ее пылало. – Это мечта, о которой боязно подумать. Все последние три дня я ждал вашего звонка. – И я ждала. А позвонить не решалась, зная ваше состояние. И все время думала о вас – на работе, дома, в дороге. Не поверите? – Голос ее тихий, нежный, взгляд тающий, томный. – Верю и не верю. Мне кажется, это сон, и боюсь проснуться. – Это явь. Чувство пустоты мне тоже знакомо. Одинокая и всеми забытая душа. А потом появились вы… и заполнили пустоту. Невидимый барьер был сломан, и сломала его Маша. Теперь можно было разговаривать без недомолвок и намеков. И она продолжала расширять сделанный ею «прорыв»: – Вы давно живете один. Извините за нескромный вопрос: и что, у вас в эти годы не было любовниц или любовницы? Откровенный вопрос не смутил Иванова, он воспринял его как вполне естественный в доверительной беседе. И все же она заметила легкую растерянность на его замкнутом лице. – Любовниц я не признаю, они не для меня, – ответил он и посмотрел на нее строго и упрямо. – У меня могла быть только возлюбленная. – А разве это не одно и то же? – Далеко не одно. Любовница – это нечто проходящее, несерьезное, вроде легкого флирта. Возлюбленная – это божество. Это неземное, небесное, предмет неугасимого обожания, очарования, преклонения. – А оно возможно – «неугасимое», не в романах, а в жизни? – Я убежден, что возможно. Хотя в жизни оно, к сожалению, встречается нечасто. Почему-то возлюбленные редки, как голубые бриллианты. – У вас был голубой бриллиант? – Не было и нет. К сожалению. Не повезло. Но я всю жизнь искал его. Впрочем, скорее мечтал, чем искал. – Думаю, что вы неодиноки в этом смысле. – Легкий вздох обронила она. – Многие мечтают, ищут и не находят. Чаще всего стекляшки принимают за бриллианты. – Если я правильно вас понял, вы тоже ищете голубой бриллиант? – Ищу. – Влажные глаза ее доверчиво и тихо улыбнулись. – Так, может… – он сделал паузу, устремив на нее слегка смущенный взгляд, – объединим усилия и будем искать вместе? Она дружески и весело рассмеялась и потом, погасив смех, сказала серьезно: – Я поддерживаю вашу идею. Мне она нравится. Итак – вместе на поиски голубого бриллианта. Помолчав немного, он заговорил, как бы размышляя вслух: – Почему я вас не встретил ну хотя бы лет десять тому назад? Она понимала, что его гложет, и старалась развеять его сомнения. – Вы все о возрасте своем, – сказала она. – Забудьте о нем – у вас прекрасный возраст. Вспомните Мазепу и Марию. Или семидесятипятилетнего Гёте и шестнадцатилетнюю Ульрику. – Вы еще скажите, как один иранский крестьянин женился в четвертый раз, когда ему было сто тридцать три года, на столетней даме. У них было шесть детей и шестьдесят пять внуков. Все это аномалии из Книги Гиннесса, – с грустью вставил он. Увлекшись разговорами, они ослабили внимание Настеньке, девочке это явно не понравилось, она начала капризничать, и Зорянкиным пришлось проститься с гостеприимным, милым хозяином.2
Для Маши это была бессонная ночь – ночь раздумий, сомнений и грез. Мысленно она иронизировала над собой: «Втюрилась, как шестнадцатилетняя девчонка», и радовалась такому событию. На душе было просторно, легко и необычно, как никогда ново. Вспоминала моряка – Олега, сравнивала. Ничего похожего. Там было увлечение, зов плоти, своего рода любопытство. Но не было пожара души, безумства чувств, нахлынувших внезапно, как ураган. К Олегу даже нежности не было такой, какую она испытывала к Иванову. «Какой же ты прекрасный и желанный, мой Алеша, – мысленно произнесла она и прибавила: – Необыкновенный самородок. Ты достоин голубого бриллианта, и я буду им». Так рассуждала Маша Зорянкина в ту бессонную ночь. А «необыкновенный самородок», проводив Машу и Настеньку, метался по мастерской, обуреваемый вихрем приятных мыслей и всепроникающих чувств. Огромное, всепобеждающее чувство овладело им безраздельно и властно, и он всецело доверился этой стихии, покорно и безрассудно отдал себя ей с мыслью: будь что будет. Он полюбил Машу той вселенской любовью, о которой безнадежно мечтал. Законченный портрет Маши стоял рядом с композицией «Девичьи грезы». Перед ним было две Маши, похожие и чем-то не схожие. Лицо и глаза юной мечтательницы с ромашкой в руке выражали сложную гамму чувств: терпеливое ожидание, тайную надежду и легкую грусть. Другая Маша казалась чуть старше своего двойника, на ее лице, заостренном книзу, лежала печать гордого спокойствия, которое подчеркивал красивый каскад прямых волос на затылке. Взгляд уверенный, с едва уловимой иронической ухмылкой на трепетных губах. Глаза большие, умные, обрамленные крутыми дугами бровей, пронзительно и пытливо устремлены в пространство, в котором они нашли какую-то очень важную для человечества тайну. «Надо формовать и затем переводить в материал, – Удовлетворенно решил Иванов. – И безотлагательно». У него был блок белого мрамора и поменьше размером кубик черного шведского базальта. Кроме того, уже лет десять, а может, и больше лежал неиспользованный увесистый и по тяжести равный граниту кусок толстого бивня мамонта, подаренного ему покойным. Портрет Дмитрия Михеевича он решил отливать в металле. Но это потом. Сейчас же в срочном порядке надо делать портрет Маши. Хорошо бы в белом мраморе. Но тот блок, что лежал в его мастерской, слишком велик для ее портрета – считай, половина ценного камня пойдет в отходы. Размеры блока позволяют вырубить в нем «Девичьи грезы», и было бы неразумно превращать в щебень дефицитный материал, к тому же дорогой. Но а как быть с Машей? Бивень мамонта? Когда-то по заданию своего шефа, академика, он сделал изящный портрет Юрия Гагарина из куска бивня. Академик тогда кому-то его подарил или продал музею, выдав за свое авторство. Иванов довольствовался деньгами. Но этот кусок бивня мал для портрета Маши. Взгляд его нерешительно остановился на базальтовом кубике. По размеру он как раз. Но вот черный… А что, если попробовать в два цвета: аспидно-черный в полировке и светлый в насечке? Черное лицо и кисть руки и седые волосы. Он закрыл глаза, пробуя представить себе такое сочетание. Нет, пожалуй, лучше наоборот: черные волосы (полировка) и светлое лицо и руки (насечка). Дальше он не раздумывал и не изводил себя сомнениями. Решил – и за работу. Немедленно. Это будет его сюрприз в следующую встречу. Прикинул в уме: если работать с утра до позднего вечера, за неделю можно сделать. А если Маша пожелает встретиться прежде, чем будет готов портрет, под разными предлогами уклоняться до окончания работы. Маша позвонила на другой день, чтобы сообщить, что в редакции очень понравились фотографии его работ и в ближайшее время они появятся на страницах газеты. Конечно, это был предлог для желанного разговора. И не это сообщение обрадовало Алексея Петровича, а ее звонок, ее голос, приподнятый и, как ему показалось, немного взволнованный. Волновался и он, но старался больше слушать ее. А она говорила, что видела его во сне, что это был странный, явственный сон. – Мы с вами гуляли в каком-то райском саду, – говорила Маша, – а потом вдруг совсем внезапно нагрянул ураган, почернело небо, началась страшная гроза, рушились здания, с корнем вырывались огромные деревья. Где-то тревожно звонили колокола, нас охватил ужас, и я сказала вам, что это конец света, что на земле победит Антихрист, что он погубит прекрасную планету Земля. А вы не согласились со мной, вы сказали, что Землю спасут инопланетяне, что они давно наблюдают за нашей планетой, что среди землян есть их тайные посланцы, что они поименно знают всех агентов Антихриста. Когда я стала называть имена этих агентов: Буш, Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе, Яковлев, вы перебили меня и сказали, что это всего-навсего бесенята, а главный бес сидит в Тель-Авиве и правит бал. Я проснулась с неприятным чувством, так и не успев спросить у вас, каким образом инопланетяне спасут человечество от тель-авивского беса. Так что вам придется уже не во сне, а наяву отвечать мне на этот вопрос. А еще Маша сказала, что Настеньке очень понравилась его мастерская и что она с восторгом рассказывала бабушке об Алексее Петровиче. Он хотел спросить, как на это отозвалась Лариса Матвеевна, но воздержался и не без намека сообщил, что эта неделя у него будет очень напряженной, мол, с утра до ночи буду вкалывать. – Я не буду вам мешать. – В голосе Маши прозвучало сожаление и тихая грусть. – Но когда у вас появятся минутные отдушины, не забывайте позвонить мне. Мне всегда приятно слышать ваш голос…3
Пожалуй, никогда так не работал Алексей Петрович, как в эту неделю: по двенадцать часов в сутки долбил черный гранит, очень трудный в обработке. Работал с необычайным вдохновением, радуясь появлению в каменном блоке каждой новой черточки знакомого и дорогого лица. Он думал о ней, мысленно разговаривал с ней, догадывался, как трудно ей живется в это проклятое Богом и людьми время, наверно, концы с концами не сводят, ведь живут на мизерную Машину зарплату да на нищенскую пенсию Ларисы Матвеевны. Он готов им помочь из своих скромных сбережений. Но как? Предложить? Она гордая, может неправильно понять, обидится. Каждую минуту он ждал ее звонка, но телефон упрямо молчал, и его молчание было подозрительным. Тогда Алексей Петрович решил сам позвонить ей на работу. Увы, ее не оказалось на месте. Он назвался и просил передать Марии Сергеевне о своем звонке. Это было в полдень. Она не звонила. Его охватило непонятное волнение: что-нибудь случилось или обиделась? Ожиданием звонка довел себя до изнеможения и вечером позвонил ей домой. К телефону подошла Лариса Матвеевна, он не отозвался и положил трубку и потом не мог себе объяснить, почему он это сделал. Постеснялся? А собственно чего? На другой день Маша позвонила. Он торопливо бросил инструменты и, как на пожар, побежал к телефону. – Здравствуйте, Алексей Петрович. Прошу прощения за беспокойство, но больше не могу, – звучал ее нежно журчащий и такой родной голос. – Вы на меня обиделись? – За что, Машенька? Я вам звонил на работу. Разве вам не передали? – Я эти дни не была в редакции: у меня ангина. Вы могли позвонить мне домой. Я очень ждала. Слышите: очень-очень. – Голос ее звучал взволнованно решительно: она откровенно проявляла нетерпение, и это радовало Иванова. – Я тоже рад вас слышать и ждал вашего звонка. Все эти дни я тоже из дома не выходил. – Вам нездоровится? – Тревога прозвучала в ее голосе. – Что вы, Бог миловал. Нахожусь в состоянии творческого запоя. Встаю в восемь, а в девять уже начинав долбить гранит, только искры сверкают и осколки летят во все стороны. И так ежедневно по двенадцать часов с коротким перерывом на обед. К вечеру так умаюсь, что по ночам руки гудят. – Зачем же вы себя так нещадно изнуряете? Я вам запрещаю. Слышите? – Я ж вам говорю: у меня творческий экстаз. – Но так же нельзя, я вас очень прошу. А то пожалуюсь вашему начальству. – Которого у меня нет. Но мне осталось совсем не много, самая малость, всего дня на три, и потом буду отдыхать. Ведь я слово дал, задачу поставил. – Кому вы дали слово? – Самому себе. А слово – закон. Я слов на ветер не бросаю. «Ах, зачем я это сказал: сочтет за хвастунишку». Она не сочла, произнесла одобрительно: – Похвально, конечно, и редко в наш век. Вот бы нынешним властелинам пример с вас взять. А над чем вы так героически трудились? Или это секрет? – Пусть пока будет тайной и будущим сюрпризом… для вас. Когда встретимся, тайна станет явью. – Заинтриговали. Но я молчу и с нетерпением жду встречи. В Маше жил дух свободы, независимости в личной жизни, и в этом она видела свое преимущество перед знакомыми женщинами, повязанными брачными узами. Но периодически на нее обрушивалась тоска, чувство неудовлетворенного желания. Не было ощущения полноты, томила какая-то половинчатость и неопределенность. В искренности Иванова она не сомневалась и знала, что он терпеливо и бессловно ждет от нее ответных чувств. Он ей определенно нравился, но вначале она сдерживала себя, и чем крепче нажимала на тормоза, тем сильнее в ней разгоралось желание броситься в поток необузданных страстей. Встреча произошла через три дня. В полдень он позвонил ей в редакцию, не надеясь застать ее. Но она сама взяла трубку. – Рад вас слышать, – были его первые слова. – Как ваша ангина? – Все в порядке – улетучилась, не оставив следов. – Вдвойне рад, значит, есть надежда на встречу? – Конечно, – твердо и весело ответила она. – Как прикажете. – Приказов вы от меня никогда не услышите. А видеть вас я хочу всегда. Хоть сейчас. – Насчет «сейчас» надо подумать. А вот в конце дня неплохо бы. – В голосе и в словах ее он уловил нотку неопределенности. Спросил: – Есть проблемы? – Проблем никаких нет. Но я хотела бы явиться к вам тоже с сюрпризом. Словом, если мой сюрприз будет к концу дня готов – я приеду. В любом случае позвоню. Положив трубку, он поспешно направился в магазины: надо было что-то раздобыть к столу по случаю такой необычной встречи с сувенирами с обеих сторон. Его сувениром был ее портрет, выполненный в граните. А ее? Он не знал и не пытался разгадать: приятней получить сувенир неожиданный. Когда такая вспышка любви возникает между юными сердцами – это естественно. Но он опытный в житейских и сердечных делах – о Машином опыте ничего не знал, – почему же он на склоне лет вдруг почувствовал себя двадцатилетним? Да, да, вспоминал Алексей Петрович, такое с ним было в сорок шестом году, когда влюбился в Ларису, тогда еще даже не Зорянкину (девичью фамилию Ларисы Матвеевны он не помнил). С тех пор ничего подобного с ним не случалось. Сердце словно было законсервировано на эти долгие годы, и, казалось, уже навсегда. Теплилась надежда – тихая, тайная, – что когда-нибудь появится его голубой бриллиант. Но бриллианты надо искать. А он не искал, он ждал, полагаясь на судьбу. И судьба сжалилась над доброй и терпеливой душой. Теперь он мысленно убеждал себя, что Маша – не случайность, что она и есть дар судьбы. Не зря же она – дочь его первой любви, ее родная кровь. Нет, это, конечно же, не случайно. Потому-то и установились теплые, сердечные, доверительные отношения, словно они знают друг друга с самого детства. Маша позвонила в начале седьмого и восторженным голосом произнесла только одно слово: «Еду!» Но для него это слово значило больше, чем дюжины красивых и ласковых слов. Он быстро накрыл в гостиной стол, водрузив две бутылки вина. Она появилась скоро, веселая, румяная, сияющая счастьем. Он проводил ее в гостиную, и первое, на что она обратила внимание, был сервированный стол с двумя бутылками вина. – О, как шикарно! – с неподдельным возбуждением воскликнула Маша и посмотрела на Алексея Петровича долгим трепетным взглядом. Она достала из сумки свежий, совсем тепленький номер газеты, который читатели получат завтра, развернула его, и Алексей Петрович увидел фотографии трех своих произведений: «Ветеран», «Девичьи грезы» и горельеф «Пляж». Фотографии сопровождала краткая статья об авторе, под которой стояла фамилия М.Зорянкиной. – Это вам мой сюрприз, Алексей Петрович. Завтра читатели узнают, что есть в ограбленной, униженной, оскорбленной, оккупированной «пятой колонной» России великий скульптор Алексей Иванов, который создает шедевры даже в кошмарное время духовной деградации общества. Прежде чем сесть за стол, Маша быстрым привычным взглядом окинула зал, и тут глаза ее зацепились за предмет, которого здесь раньше не было. Ее портрет в граните! В больших горящих глазах ее вспыхнуло изумление. Перед ней было что-то знакомое и в то же время другое, новое, отличное от того, что было в глине. Строгий, крепкий гранит придавал всему образу цельность, основательность, ярче, точнее выявлял характер; черные волосы, освещенные верхним светом люстры, отливали зеркальным блеском, усиливали контраст со светлосерым лицом и кистью тонкой руки с трепетными пальцами. Маша внимательно и придирчиво рассматривала творение большого мастера, как рассматривают свое отражение в зеркале, а сам творец, которого она только что с пафосом объявила великим, стоял рядом за ее длиной и с затаенным волнением, как ученик на экзамене, ждал оценки. Вдруг она стремительно обернулась и обеими руками обхватила его. В ответ он порывисто обнял ее и бережно прижал к груди, чувствуя, как колотится ее сердце. – Спасибо, родной, это необыкновенно, – сказала она о портрете. «Родной». Это слово обожгло его несказанной нежностью, и он начал целовать ее тонкий нос, губы, глаза, прямые темные волосы. – Как назовете ее? – Маша указала взглядом на портрет. – «Последняя любовь»? – Он томно кивнул, прикрыл глаза. – А вы не продадите ее, как «Первую любовь», никаким шведам-американцам? – Ни за какие миллиарды… Я подарю его тебе, сегодня, сейчас, за твою нежность, ласку, красоту, за гармонию, которой Господь наградил тебя, а гармония есть совершенство хоть в природе, хоть в человеке. А ты воплощаешь в себе совершенство. И еще за то, что ты сказала слово, которое мне никогда не говорила ни одна женщина. Слово, которое окрыляет и делает человека счастливым. – Какое? Что за слово? Скажи, и я повторю его сотню раз! – возбужденно настаивала она, перейдя, как и он, на «ты». – Догадайся! – Нет, ты скажи, я прошу тебя? Ну не томи же меня, родной… – Вот ты и повторила. Спасибо, родная. – Он галантно поцеловал ее тонкие трепетные пальцы. – Ах, да, именно родной, – торопливо заговорила она. – И мне тоже никто, кроме родителей, никто не говорил «родная», ты первый. И представь себе, я тоже никому, кроме Настеньки, не говорила этого свято-нежного слова. Никому. А для тебя у меня припасено много-много самых лучших в мире слов. Их хватит нам с тобой на всю жизнь. Когда сели за стол, она спросила: – А почему две бутылки? Не много? – У нас два сюрприза. За каждый по бутылке, – шутливо улыбнулся он тающими глазами. А всерьез сказал: – Они разные – сухое и десертное. Кто что любит. К концу ужина обе бутылки были пусты. Не привычная к спиртному Маша изрядно захмелела. Не свода умиленного взгляда с возлюбленного, она доверчиво распахнула свою душу и откровенничала: – Я не могу объяснить, что со мной произошло Какая-то вспышка, какой-то космический взрыв сверхновой звезды. И это случилось не сегодня и не вчера. Это произошло еще в Манеже в нашу первую встречу. Уже тогда я поняла тебя, узнала, проникла в тебя. Говорят, автора как человека, его характер и душу можно познать через его творчество. И я познала тебя и полюбила. Да, да, я полюбила тебя, когда позировала, сидя перед тобой на «троне»! Я ревновала тебя к тем, с которых ты лепил фигуры «Девичьих грез» и других обнаженных. Она умолкла и уставилась на него большими, блеснувшими влагой, честными глазами человека, чуждого лжи. Она ждала от него каких-то ответных слов, он это понимал. Сказал неторопливо и глухо: – Я всю жизнь, точнее, с первого послевоенного года и до сегодняшнего дня шел к тебе в мучительных мыслях и радужных грезах, через сомнения, потерянные надежды, иллюзии. И знаешь – верил. И вот вера привела к тебе… Судьба наградила меня за мою веру. Наступила какая-то благостная, все охватившая пауза. Наконец он предложил чай или кофе. Она отрицательно закачала головой и встала: – Хочу позвонить маме, скажу, чтоб не волновалась. Уже поздно, а я хмельна. Заберут меня в вытрезвитель, и желтая пресса получит лакомый материал. – Ты никуда не уйдешь, я не отпущу тебя, – сказал он твердо, подойдя к ней вплотную. Она обняла его, и снова губы их встретились. Маша позвонила матери и сказала, чтоб та не волновалась: сегодня дочь заночует в редакции. …Они лежали в постели и говорили о негасимой любви, о голубых бриллиантах, о бессмертии души и опять о любви и верности. Теребя его бороду, Маша задумчиво прошептала: – А потом все это обожание, любовь, счастье куда-то пропадают без следа. Сначала клянутся, божатся в вечной любви, сулят златые горы и реки, полные вина, или как Стенька Разин: все отдам, не пожалею, буйну голову отдам… И тут же за борт ее бросает в набежавшую волну. Как это? Чем объяснить? Несовершенством человеческой натуры, низкой нравственностью? – Она ждала ответа. А он затруднялся, он не думал над этой проблемой. Сказал нетвердо: – Возможно, среди людей мало голубых бриллиантов, больше стекляшек. Как ни странно, цивилизация привела к духовной деградации отдельного индивидуума и общества в целом. – Цивилизация ли? – усомнилась Маша. – Я думаю, причина в другом. Виновника надо искать в самом человеке. В монстре, возомнившем себя сверхчеловеком, поправшем мораль, нравственность и все нормы общежития. Его мораль – он сам, царь и Бог. Все, что вокруг, – его собственность: животные, вещи, движимое и недвижимое и сама природа. Все подчинено его прихоти. Их, этих монстров, легион. Они спаяны между собой, хотя и разбросаны по всему свету. Это всемирная организация. – Антихристов? – Дело не в названии: бесы, масоны, космополиты, сионисты. Цель у них одна – мировое господство. А чтоб подчинить себе все остальные народы, заставить их работать на себя, они изобрели целую систему духовного растления, придумали различные теории, партии, демократии. Для них главное – лишить народы их здоровых национальных корней. Веру заменить неверием, цинизмом и нигилизмом. Они внедрили вирус разложения в духовные сферы всех наций – в культуру, искусство; вирус, который возбуждает все животные инстинкты: жестокость, секс, предательство. Они оболванили людей, создали послушных рабов, безмозглых роботов. – Удивительно! – искренне воскликнул он. – Ты высказала мои мысли. Ты их читаешь? – Мы же единомышленники, – сказала Маша и поднялась, чтоб потушить ночник. И тут Алексей Петрович обратил внимание на темное пятно, размером с березовый лист, на ее бедре. Это пятно он заметил еще в ванне, но деликатно промолчал. Теперь решил полюбопытствовать: – Это у тебя ожог? – Нет, родимое пятно, особая мета, – улыбаясь, шутливо прибавила: – Как у Горбачева. Выключив ночник, она обняла его, и, нащупав у него на плече родинку величиной с лесной орех, сказала: – А у тебя тоже… – Знакомый хирург предлагал удалить, да я отказался. Зачем резать? Она мне не мешает. Мелкая и совсем необязательная деталь, скажет читатель и будет несправедлив, потому что через несколько месяцев в жизни Алексея Петровича и Маши и темное пятно, и родинка величиной с лесной орех одновременно исчезнут при обстоятельствах не столько загадочных, сколько чрезвычайных.Глава девятая. Лебединая песня
1
Теперь они встречались часто, иногда по нескольку раз в неделю. Один выходной – суббота или воскресенье – был целиком их день. В будни она выкраивала время, чтоб забежать к нему хоть на часок. Это был их «час любви», миг блаженства и счастья. Однажды в такой час Иванов завел разговор о том, как трудно Маше жить на ее более чем скромную зарплату и нищенскую пенсию Ларисы Матвеевны, и деликатно предложил свою помощь хотя бы для Настеньки. Маша хмуро взглянула на него и, отведя глаза в сторону, как бы походя обронила: – Сначала надо решить статус наших отношений. Кто мы? – Это решать тебе, – покорно ответил Алексей Петрович. – Ты сделала первый шаг, зная, что я приму его, как дар судьбы. В этом ты не сомневалась. Тебе делать и решающий шаг – сказать, кто мы. Я во всем полагаюсь на тебя и свою судьбу вверяю тебе. – А если мое решение тебя не устроит, не оправдает твоих ожиданий? – Я смиренно приму его. Если же случится обратное и ты решишь статус наших отношений в духе великой и святой любви нашей, то я буду безмерно счастлив. – Ну так слушай мой ответ. Я хочу быть всегда с тобой, на веки вечные связать свою жизнь с твоей. Мне совершенно не важно, будет ли наш союз скреплен брачным свидетельством. А теперь решай ты. У меня ребенок… – напомнила она как бы между прочим, но для нее это был главный вопрос. Он понял и твердо, без колебаний ответил: – Я за то, чтобы официально оформить наш брак и удочерить Настеньку. Она согласилась. Дальше надо было решить, где будут жить – переедет ли Маша к Иванову или он на квартиру Зорянкиных. Тут были свои нюансы и некоторые сложности. Их надо было обсудить. Но в это время по телефону позвонил уже знакомый швед – коллекционер изящных искусств. Настойчиво просил о встрече, и даже безотлагательно, поскольку завтра он отбывает на родину. Иванов согласился. Сказал Маше: – Сейчас я познакомлю тебя со шведом, который купил у меня «Первую любовь». Не возражаешь? Маша не возражала. Не прошло и часа, как появился заморский гость. Как всегда возбужденный, в приподнятом настроении, немного суетливый, с тщательно выработанными манерами. Сделав комплимент «очаровательной даме», он тут же, не теряя драгоценного времени (время – деньги), перешел к делу. В газете он видел фотографии новых работ господина Иванова, которого считает своим приятелем, и воспылал желанием увидеть эти работы в натуре. В гостиной наметанным, всевидящим глазом он обратил внимание на Машин портрет, отвесив комплимент скульптору и «модели», еще раз повнимательней разглядел уже знакомый ему по прошлой встрече рельеф женского пляжа и попросил показать «Девичьи грезы». Они прошли в цех, где стояла уже отформованная в гипсе и тонированная под бронзу композиция. Швед хорошо разбирался в искусстве, это был тонкий ценитель прекрасного. Не скрывая своего восторга, он ходил вокруг «Девичьих грез», бросая взгляд то на Машу, то на ее отображение с ромашкой в руке и довольно покачивая головой. И уже обратясь к Иванову, с искренним восхищением сказал: – Вы – Роден, русский Роден. На Западе так уже не могут. В каком материале вы намерены ее воплотить? – У меня есть блок белого мрамора, – ответил Иванов. – Да, в белом мраморе она засверкает первозданной красотой. Здесь столько чувств, души, – сказал гость. Продолговатые блестящие глаза его щурились. – Да, вы умеете одушевлять мертвый камень. Этот шедевр достоин Лувра и любого национального музея… И вашей Третьяковки, – торопливо добавил он после некоторой паузы. – Я вас искренне поздравляю. И мне бы хотелось ваш успех отметить по русскому обычаю. С этими словами он извлек из «кейса» бутылку французского «Наполеона». Они перешли в гостиную. Маша на правах молодой хозяйки нарезала ломтики сыра и поставила на стол вместе с тремя рюмками. Иванов догадывался: не желание посмотреть его новые работы привело сюда предприимчивого шведа, а нечто другое. И он не ошибся: деловой разговор начался после первой рюмки коньяка. Прежде всего «честный и совестливый» коллекционер признался, что слишком дешево заплатил за «Первую любовь» и теперь решил исправить оплошность скромного скульптора, неискушенного в бизнесе. И тут же выложил на стол пятьсот американских долларов, со словами: – Это вам за «Первую любовь». Такой благородный широкий жест удивил Машу, но не Алексея Петровича, который, во-первых, знал, что он тогда продешевил по неопытности, а во-вторых, смотрел на эти дополнительные доллары как на аванс. Но под что? Чего еще от него хочет этот швед? А деловой гость не заставил мучиться над загадкой. Не напрасно ж он упомянул Лувр и национальные музеи. Он сказал, что желает приобрести «Девичьи грезы» для одного очень солидного музея на Западе. Сам он в данном случае выступает в роли посредника. Иванов ответил категоричным «нет!», прибавив при этом: – Вы же сами считаете, что мои «Грезы» достойны Третьяковской галереи. Пусть так и будет. – Конечно, я вас понимаю. Но ведь Третьяковка при нынешнем финансовом состоянии России не сможет предложить вам и десятой доли того, что можем предложить мы. – Например? – вяло, без особого интереса полюбопытствовал Иванов. – Пятьдесят тысяч долларов. Швед рассчитывал этой сравнительно солидной суммой сразить Иванова, но Алексей Петрович рассеянно продолжал смотреть мимо гостя, и лишь вежливая улыбка затерялась в его усах. Наконец он спросил: – А что, сокровища Лувра так низко упали в цене? – Не только сокровища Лувра, а вся культура в наше время обесценена. Люди признают только материальные наслаждения, – ответил гость, обнажив крупные, неровные, с желтизной зубы. Равнодушную реакцию Иванова на его предложение гость воспринял с суровым недоумением. Он даже опешил и не смог совладать с собой: – Вы не согласны на пятьдесят тысяч долларов?! Или вы не поняли – не пять, а пятьдесят?! – напористо повторил он, раздувая толстые ноздри и приняв чинную осанистую позу. – «Девичьи грезы» я вообще не собираюсь продавать кому бы то ни было, в том числе и Лувру, – смиренно и с вежливой учтивостью ответил Иванов. – А если ее повторение, отлитое в матовом фарфоре, как эти очаровательные грации? – гость глазами указал на рельеф «Пляжа». – Такой вариант можно было бы обсудить. Но есть проблемы с исполнителями. Они заломят ту еще рыночную цену. Во всяком случае, для вас это будут те же пятьдесят тысяч. Гость попробовал торговаться, но, встретив непреклонность хозяина, предпочел не настаивать. Решили подумать, все взвесить и вернуться к этому делу в другой раз. Швед ушел, раздосадованный несговорчивостью Иванова. После такой напряженной, изнурительной работы в последние недели, сменившейся эмоциональной нагрузкой в связи с супружеством – а они официально оформили свой брак, Алексей Петрович удочерил Настеньку, дал ей и Маше свою фамилию, – почувствовал впервые в жизни безмерную усталость. Маша посоветовала Иванову дать себе полный отдых на целый месяц и предложила вместе с ней или одному уехать в санаторий на юг, благо с путевками из-за бешеных цен теперь не было проблем, а из пятисот долларов, оставленных шведом, можно было выделить сотни полторы, обменяв их на рубли. Алексей Петрович не любил санаториев и клятвенно убеждал Машу, что он отлично отдохнет в своей мастерской, если Маша будет рядом с ним. Маша уступила, взяв с него слово, что в течение месяца он не притронется ни к глине и пластилину, ни тем более к мрамору, в котором он собирался изваять «Девичьи грезы». – Хорошо, даже отлично! – радостно согласился Алексей Петрович. – Это будет наш медовый месяц. Походим по выставкам, по музеям и театрам, будем много читать. И вообще бросимся в океан культуры! – Хорошо бы, только океана нет, а есть грязное болото порнографии, – заметила Маша. – А может, нам повезет, может, найдется для нас чистый и светлый родничок. Не может быть, чтоб демократы все изгадили. Родничок этот обнаружила Маша: в Центральном концертном зале «Россия» выступал недавно созданный молодым, необыкновенно талантливым режиссером, патриотом-энтузиастом Владимиром Захаровым театр «Гжель». Об этом коллективе не кричали метровые буквы пестрыхафиш, молчали телеэкраны, но молва народная из уст в уста передавала не как сенсацию, а как весенний благовест почти таинственно: «Неповторимо и сказочно. Там русский дух, там Русью пахнет». Несмотря на огромный зал, достать билеты было трудно, и Маша воспользовалась своим редакционным удостоверением и напрямую вышла на самого Захарова. «Читаю вашу газету и разделяю ваши позиции», – сказал Владимир Михайлович и дал Маше пригласительный билет на два лица. Это был сказочный фейерверк танца, пляски, песни, чарующие звуки родных мелодий, знакомых и сердцу милых с пионерского детства, но однажды кем-то похищенных и цинично оплеванных, осмеянных и выброшенных на свалку истории, чтобы их место заполнить зловонными нечистотами, завезенными из заокеанских помоек. На большой сцене одна композиция сменялась другой искрометным фейерверком: «Русская тройка», «Гжель», «Зима», «Хохлома», «Павлов Посад», «Палех» – одним словом, Русь великая, вечно молодая, задорная, искристая, сверкала многоцветьем своей немеркнущей красы. И подступал к горлу комок радости и боли, воскрешал в памяти сердца счастливые дни расцвета отечественной культуры, искусства, литературы. Радость и боль. И все тело сжималось в пружину. Душа переполнялась чувствами, готовыми выплеснуться наружу фонтаном восторга. Алексей Петрович крепко сжал руку Маши своей горячей рукой каменотеса и, повернувшись лицом почти вплотную к ее щеке, хотел что-то сказать, но она упредила его взволнованным шепотом: «Молчи…» Не нужно слов – она чувствовала то же, что и он. Утром Алексей Петрович проснулся раньше Маши и с умилением обратил на нее взгляд. Молодое чистое лицо ее, утопающее в красивой волне игриво разбросанных на подушках волос, сияло счастьем, а трепетные сочные губы блаженно улыбались. «Ей снится хороший сон», – решил Иванов, не сводя с ее лица влюбленных глаз. Почему-то приятно мелькнуло в сознании: «Спящая красавица». Его взгляд потревожил ее, она сделала легкое движение рукой и приоткрыла веки. Глаза их встретились – восторженные Алексея Петровича и смущенные Маши. – Тебе снился приятный сон, – сказал Иванов. – Откуда ты знаешь? – Я читал об этом на твоем лице. – Правда. А сон и в самом деле был какой-то необыкновенный. – Маша приподнялась, облокотилась на подушку и продолжала: – Меня часто посещают сны детства – мой Алжир. Ты уже знаешь, что детство мое прошло в Алжире, где отец работал. Белый город на берегу Средиземного моря террасами поднимается в гору, а за горами бескрайняя пустыня Сахара. Город-амфитеатр. Улицы-ярусы – параллельно морю, а переулки – это ступенчатые лесенки, соединяющие улицы. Теплое море с песчаными пляжами, синее знойное небо и белые здания с балконами; кружева решеток балконов неповторимы. В каждом доме свой рисунок. Есть там улица – забыла ее название – пешеходная, вроде нашего Арбата, то ли на четвертом, то ли на пятом ярусе… Первые этажи – сплошные магазины. В центре улицы – небольшая площадь, а на ней памятник национальному герою Кадиру – вождю восставших против оккупантов. Мне нравился этот монумент. Представь себе – бронзовый витязь на вздыбленном горячем коне, с поднятой вверх обнаженной саблей вот-вот сорвется с пьедестала и пойдет крушить врагов-пришельцев. Так мне рисовала детская фантазия. Там столько экспрессии, благородства и мужества, такая гармония между всадником и лошадью, что глаз нельзя отвести. Когда мы с мамой проходили по этой площади, я всегда просила ее не спешить, давай, мол, посидим на скамеечке напротив памятника. Мое детское воображение рисовало мне картину жестокой битвы за свободу родины, а Кадир олицетворял героизм и благородство. Для меня он был не бронзовый, а настоящий, живой, которого могли ранить и даже убить. И вот сегодня я снова побывала в Алжире. И разговаривала с Кадиром. Не с бронзовым, с живым. Она смотрела на Иванова большими возбужденными глазами, словно хотела воскресить в памяти только что прерванное сновидение. – Представляешь, Алеша, будто я стою у памятника а он, Кадир, легко соскочил с коня и обращается ко мне: «Ты русская? Мы были вашими друзьями. А вы нас предали. Сами продались сионистам и нас предали. Вы жалкие рабы, подлые рабы. Вы недостойны свободы!» Мне было стыдно и больно от его слов, которыми он беспощадно хлестал меня, я попыталась возразить, что не русские предали арабов, а американские лакеи – Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин. А он мне: «У вас у власти хасиды. Вами правят сионисты и ваши русские ослы, женатые на еврейках. Ваш Козырев хасид. „Так что же делать, храбрый и мудрый Кадир? Где наше спасение?“ – спросила я в отчаянии. „Там!“ – воскликнул он и резким взмахом сабли указал на небо. „Аллах?“ – спросила я. „Аллах пришлет своих ангелов, которых мы называем инопланетянами, и они спасут человечество от сынов дьявола. Я лечу за ними в космические дали, я приведу на землю небесных спасителей!“ Он пришпорил разгоряченного коня, сверкнул огненной саблей и улетел в небо. Алексей Петрович слушал ее с напряженным вниманием, как слушают подлинную быль, а не сон. Лицо его было серьезным. – Ты что, Алеша? – Что-то невероятное, Машенька, – таинственно произнес Иванов. – Фантастика. Нечто подобное снилось и мне. Представляешь. Мне снилась Куба, где я никогда не был. На фотографии видел памятник кубинскому национальному герою Хосе Марти. Высоченная ребристая стела, а у ее подножия сидит белокаменный Марти. Я оказался рядом с ним. И каменный Марти спрашивает меня: «Ну что, ветеран, больно России?» Я говорю: «Очень больно, товарищ Марти». И вижу, что передо мной уже не Марти, а Фидель Кастро. И представь себе, уже не Хосе, а Фидель говорит мне: «Предали вы и советскую власть, и революционную Кубу. Социализм предали». Я хочу что-то сказать, объяснить, что нас самих предали и продали американцам, а слов нет, голоса нет. А Фидель продолжает с присущей ему страстью: «Но Куба не сдается! Россия стала американской колонией. Куба не станет на колени перед янки. К нам придут на помощь небесные ангелы, и мы победим! Они уже летят в сторону Земли, я слышу их позывные. Они торопятся: до рокового года, когда сатана намерен овладеть миром, осталось восемь лет, всего восемь! Смотрите, вон они летят, наши спасители-инопланетяне. Видите их корабли-тарелки?!» Я смотрю в небо и вижу действительно летящую стаю серебристых дисков. Они приближаются к стеле. На ее вершину садится первый диск. Из него выходят какие-то человеки в скафандрах и быстро-быстро, как муравьи, спускаются вниз по ребристой стеле. Один диск, высадив десант, отчаливает, и его место занимает другой, потом третий, четвертый. И уже вся площадь перед монументом заполнена инопланетянами. Над ними реют алые флаги. И откуда-то из мощного репродуктора раздается женский голос, твой, родной голос: «Вива, Куба! Нет сионизму! Нет империализму!» Я мечусь в толпе, пытаюсь найти тебя, иду на твой голос и просыпаюсь. А ты рядом. Родная, несказанная, очаровательная, улыбающаяся во сне. – Невероятно, – воскликнула Маша. – По сути, нам снился один и тот же сон: памятники национальным героям Кадиру и Марти, превратившиеся в живых героев, тревога за будущее человечества, над которым занесен сионистский топор, и инопланетяне. К чему бы это? Какая связь? – А скажи, признайся, родная, к тебе никогда не приходила мысль, что Земля подошла к последней черте, что обезумевшее племя дьявола в своем эгоизме, в стремлении владеть миром погубит планету. И об этом знают инопланетяне, цивилизация которых на десять порядков выше нашей. – У нас вообще нет никакой цивилизации, – горячо вставила Маша. – И они в тревоге за судьбу нашей планеты и ее человечества. Они не допустят их гибели. Они придут в последний час, как спасители. Ты думала об этом? – Да, но несколько по-иному. Я убеждена, что за нами наблюдают инопланетяне. И вмешаются в жизнь Земли в критический момент. Но другим способом: они откроют людям глаза, рассеется обман, и люди увидят и поймут, кто их враги. И сами расправятся с ними. Жестоко, но справедливо. Будет суд – Божий суд, народный суд. Потому что из толпы, из массы людей возродится народ. И суд народа не пощадит никого, потому что народ поименно запомнит своих предателей, мучителей, врагов.2
Лариса Матвеевна не одобрила брак дочери с Ивановым. На это у нее были и личные мотивы – ревность. Втайне она надеялась, что Алексей Петрович вспомнит свою первую любовь, простит и забудет ее вероломство и они, хоть и с большим опозданием, на закате жизни свяжут свои судьбы. Но он, «старый гриб, бесстыжий нахал, каким-то образом сумел охмурить», ворчала новоиспеченная теща, красавицу дочь, «этот бабник, развратник, видеть его не желаю, слышать о нем не хочу, и Настеньку не допущу в его бордель, хоть он и удочерил ее. Тоже – папаша нашелся. А Маша – дура, совсем потеряла рассудок. Столько хороших, молодых и состоятельных мужиков к ней кадрились, а она выбрала пенсионера». Все это она высказывала в лицо дочери, от которой ее гневные, ядовитые слова отлетали как от стенки горох. Маша даже не считала нужным отвечать матери или что-то объяснять: она просто демонстративно закрывалась в своей комнате или уходила из дома. Две недели (за свой счет) Машиного отпуска пролетели, как два дня. Маша считала, что эти полмесяца были испытательным сроком, который они выдержали без сучка .и задоринки. Чем лучше они узнавали друг друга, тем сильнее разгорались их чувства. И напрасно Лариса Матвеевна тешила себя мыслью, что этот странный, скороспелый и, конечно же, неравный брак продлится какой-нибудь месяц, ну от силы полгода. Маша поймет свою ошибку, первый угар пройдет, наступит разочарование, и дочь вернется в родные пенаты. Напрасные иллюзии: Маша боготворила Алексея Петровича прежде всего не как художника, талант которого она высоко ценила, а как человека. Она признавалась ему: – Знаешь, Алеша, если для тебя наша любовь последняя, то для меня первая. По-настоящему я никого не любила и только сейчас познала, что такое любовь и счастье. Твой Лев Толстой был прав, когда говорил: кто любит, тот счастлив. Что же касается Иванова, то он считал себя самым счастливым человеком в этом поганом, мерзком мире и в униженной, разграбленной и обездоленной России, где, кажется, уже не может быть не только счастья, но и первозданных высоких чувств. И все-таки, несмотря на голод, невзгоды, агрессивность и озлобление, на ненависть и нравственное гниение, большинство людей не роняло своего человеческого достоинства, не превращалось в скотов и зверей и хранило в своих сердцах святое чувство – любовь. Конечно, в годы Великой Отечественной это чувство было намного возвышенней, ярче, чище и светлей, чем в годы перестроечной смуты. Но то было и время другое, и люди другие – духовно и нравственно богаче, сознание и сердца которых не поразил заморский вирус. Как только закончился отпуск Маши и она вышла на работу, Иванов как-то особенно остро ощутил тоску по делу. Он не терпел праздности и безделья, они тяготили его, создавали тот душевный неуют, когда человек чувствует себя растерянным и потерянным. А дел у Алексея Петровича всегда было по горло. И все неотложные, все важные. Отформованные в гипсе работы надо было переводить в материал: камень, металл, фарфор, дерево. И прежде всего «Девичьи грезы», для которых и блок мрамора уже был приготовлен. Помнил он и заявку шведа. Своими замыслами он поделился с Машей и получил ее благословение. В тот день Маша трижды звонила ему из редакции, задавала один и тот же вопрос: – Что делаешь, родной? – Рисую. – Кого? – Тебя, любимая. – Зачем? – Скучаю по тебе. – А рисунок помогает? – Чуть-чуть. Я рисую и мысленно разговариваю с тобой. – Но там же есть гранитная Маша. Поговори с ней. Через полчаса она снова позвонила: – Насчет обеда все помнишь? – Спасибо, любимая, не беспокойся. Потом через час еще позвонила, но телефон не ответил. Вечером он пришел домой раньше Маши и сразу позвонил Зорянкиным. Трубку взяла Лариса Матвеевна. Он вежливо поздоровался и не успел спросить о Маше, как теща ответила подчеркнуто холодно: – Она уже уехала. Он начал готовить ужин. За ужином они рассказали друг другу, как провели этот день. Маша напомнила Иванову о рисунке: – Ты вправду меня рисовал? – Конечно. Хочешь удостовериться? – Сгораю от нетерпения, – шутливо ответила Маша. – Ты же знаешь, что все женщины немножко тщеславны. Показывай. Алексей Петрович принес лист картона, на котором углем была нарисована скульптурная композиция. Ее он задумал полмесяца тому назад в ту первую брачную ночь, когда Маша предстала перед ним в костюме Евы. Тогда он был потрясен изяществом ее грациозной фигуры, над которой мать-природа поработала на славу. Поражала и очаровывала строгая и стройная гармония плавность линий. И какая-то неуловимая, воздушная легкость движений и целомудренная женская стать. Тогда он мысленно воскликнул: «Неповторимый идеал!» И тогда же представил себе, как он воплотит это неземное очарование в неотразимой по красоте и возвышенности композиции. Эту композицию он вынашивал в течение двух брачных недель, проведенных вместе с Машей. Да, он подчинился ее просьбе не работать целый месяц, дать себе отдых: две недели не прикасался ни к пластилину, ни к глине, не держал в руках молоток. Но мысль его работала постоянно, даже тогда, когда сидели с Машей в концертном зале «Россия» и наслаждались изяществом и гармонией музыки и танца славного коллектива «Гжель», очаровательной статью и красотой танцовщиц. (В антракте Маша тогда сказала Иванову: «А девчонки – одна краше другой. Благодатная натура хоть для живописца, хоть для скульптора. Ты не находишь?» – «Я уже нашел, – ответил он, нежно сжимая ее руку. – От добра добра не ищут: и ни одна из этих красавиц не сравнится с тобой».) Фантазия Алексея Петровича рисовала несколько вариантов новой композиции, пока не набрела на ту, что была изображена углем на листе картона. В композиции две фигуры: обнаженная молодая женщина и лебедь – символ верности и чистоты. В женщине Маша узнала себя. Композиция произвела на нее сильное впечатление. – Милый Алеша, мне незачем тебе льстить, – заговорила она, не отрывая глаз от рисунка. – Здесь ты превзошел самого себя. Я представляю это чудо в материале. – В каком именно? – В любом – в мраморе, бронзе, фарфоре. – А в дереве? – Маша не ответила, и Алексей Петрович продолжал: – Этот сюжет требует такой нежной теплоты, которую может дать лучше всего дерево. В дереве работали многие известные скульпторы – Коненков, Мухина. Был такой художник Эрзя. Настоящая его фамилия Нефедов. Он, как и Коненков, жил за границей, в эмиграции. После войны вернулся на Родину со своими работами, выполненными в дереве. Обнаженные женские фигуры – какое очарование! Студентом я попал на его выставку в Москве и был изумлен колдовством большого мастера. Потом я раз пять побывал на его выставке, и, возможно, он повлиял на мой творческий выбор. – Может, ты прав, тебе видней, дорогой. Но мне кажется, в любом материале шедевр остается шедевром. – Она прижалась к Алексею Петровичу, посмотрела ему в лицо счастливыми глазами, спросила: – Как назовешь? – Не думал. Название дашь ты. Тебе посвящается. – Лебедушка, – быстро, не раздумывая, предложила Маша. – Слишком приземленно, буднично. Ведь ты – царица. Тогда уж – «Лебедица». – Ты мой лебедь. – Маша обняла его и нежно поцеловала, а он с неожиданной грустинкой, будто походя обронил: – Лебединая песня. Маша не сразу уловила смысл этой фразы, восторженно подхватила: – Прекрасное название – «Лебединая песня». А он подумал: начать да закончить эту вещь у него еще хватит пороха. А на большее – как будет угодно Всевышнему. Пожалуй, Маша права, заметив: «Превзошел самого себя». Так что и впрямь лебединая песня. После, конечно, будут еще работы. Но подняться выше этой будет нелегко. Даже почитаемый им Вучетич не смог подняться выше своей лебединой песни – берлинского воина-освободителя, хотя после создал еще Несколько хороших монументов, в том числе Сталинградский мемориал. Сказал, глядя на нее: – Ты, родная, навеяла мне этот сюжет, ты мой соавтор, и мы споем с тобой эту лебединую песню, дуэтом споем. Маша знала, что это не лесть, что он искренен, и она гордилась им. В глубине души она считала себя сопричастной ко всему будущему творчеству Алексея Петровича, теперь ее жизнь наполнится новым содержанием обретет больший смысл, и это ее радовало. Ей было приятно сообщить Иванову сегодняшний разговор с художником. Маше было поручено связаться с именитым живописцем – академиком, побывать у него в мастерской и взять интервью. «Народный» и многократный лауреат согласился встретиться с корреспондентом без особого энтузиазма, скорее из любопытства. На традиционный вопрос о творчестве живописец отвечал раздраженно: «Какое может быть творчество во время чумы?! Когда государство разрушили до основания, а культуру окунули в дерьмо. Кому нужно наше творчество? И что я, художник, могу творить? И для кого, скажите мне?» – «Для людей, разумеется, для народа», –ответила Маша. «А где вы видели людей? Которые они? Те, что горло драли за Горбачева и Ельцина, за демократов? Это не люди, это дерьмо, у них нет ни чести, ни достоинства. Скот, который только и думает, чем бы брюхо набить. А вы – „для народа“. Да нет же народа. Есть выродки, торгаши». Интервью он не дал, сказал, что вся нынешняя печать проституирована. Машу подмывало сказать, что есть художники, которые и в это кошмарное время создают прекрасные произведения, но воздержалась, опасаясь, что в ответ прозвучит резкое: «Кто?! Назовите?» Назвать имя мужа она не могла. Вместо этого она сказала: «В годы войны художники не переставали творить и создали много прекрасного. Вы не согласны?» – «То была не просто война, а Отечественная! Тогда был народ, были люди, а не мразь, не предатели-торгаши. Тогда был Сталин, был Жуков, были Александр Матросов и двадцать восемь панфиловцев. А сейчас? Кто сейчас – Ельцин и „герои“ – защитники Белого Дома? Черт знает какой цинизм. „Три жертвою пали в борьбе роковой“. А как говорит Жириновский, эти трое, погибшие у Белого Дома, жертвы дорожно-транспортного происшествия. И никакие не герои». Выслушав рассказ Маши, Иванов сказал: – Художник – творец, это его работа, как и работа шахтера. И творить, работать он должен в любое, даже самое гнусное время, будь то война и смута. Великие произведения не всегда создавались в райских садах. Не в лучшее время писал Шолохов «Тихий Дон», Корин «Уходящую Русь» или Пластов «Немец пролетел». Это ложь, что русское искусство за семьдесят лет не создало ничего достойного, басни врагов России, называющих себя демократами. Прекрасное всегда нужно людям, потому что оно согревает душу, облагораживает человека. Сама природа – это храм красоты и совершенства. Красота и любовь неразделимы. Обрати внимание на животных, на птиц. Самцы у птиц весной в брачные дни наряжаются в праздничное оперенье, чтоб радовать своих подруг. Брачное время птицы славят песнями. Красота и любовь – вот высшее творение природы или создателя. – И ты создаешь эту красоту даже в кошмарное время сионистской оккупации, – сказала Маша, в тот же миг спохватившись: – Извини, родной, чуть не забыла. К нам в редакцию поступил страшный документ, который объясняет истоки перестройки, планы разрушения нашего государства, разработанные в ЦРУ США. Они изложены в послевоенной доктрине шефа американской секретной службы Алена Даллеса. – Маша быстро извлекла из своей сумочки рукописный листок. – Вот послушай, как рекомендует действовать в нашей стране руководитель ЦРУ: «Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России». – Прежде всего среди сионистов и масонов, – вставил Иванов. – Слушай дальше: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, необратимого угасания его самосознания». – Прости, родная, так и написано: гибели нашего народа? – Да. Трагедия, которую мы переживаем, была запрограммирована много лет тому назад за океаном. И эта директива точно осуществлялась. Как? А вот слушай: – Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художнике, отобьем у них охоту заниматься изображением, расследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства». – Погоди, остановись на минуту, – снова прервал Иванов. – Это им удалось: вытравили, отучили, отбили охоту. – У тебя не вытравили и не отбили, иначе ты не создал бы своего нищего ветерана. – И прославляли самые низменные чувства, – продолжал Иванов комментировать. – Когда это началось? Еще при Никите, с его «оттепели» началось. Поэтапно: сначала «оттепель», потом «перестройка» с «новым мышлением». – Ты упустил восемнадцать брежневских лет. А и в те годы союзники и помощники Даллеса не сидели сложа руки, ибо им предписывалось «всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху». – Все по указанию из-за океана: поддерживали подонков, награждали лауреатскими медалями и звездами Героев, – сказал Иванов. – Зять Хрущева Аджубей получил высшую награду – Ленинскую премию. А за что, за какой шедевр? Или журналист Юрий Жуков – Героя Соцтруда. За какие такие труды? – Слушай дальше: «…Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого… Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом». – При Горбачеве расцвело, при Ельцине процветает на законном основании. – Погоди минутку, еще несколько строк под занавес: «И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище: найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества». Как видишь, задание или директива ЦРУ выполняется без отклонений, с аптекарской точностью. – Да, к сожалению, очень немногие понимают происходящее. А генерал Якубенко отлично понимал. Он все, что произошло со страной, пророчески предсказал еще четверть века тому назад. Честно говоря, я сомневался в его пророчествах, спорил с ним, хотя многое понимал. Собственно, кто имел глаза, тот видел. Но не каждый имел мужество сказать правду, открыть глаза незрячим. А кто осмеливался, того морально убивали, превращали в посмешище, в отбросы общества, навешивали ярлык антисемита. Так поступили с Дмитрием Михеевичем. Уволили в отставку преждевременно. А документ этот, ты права, – страшный. И вы его опубликуете? – Не знаю, Алешенька, хватит ли смелости у нашего главного. Наша газета в последнее время дала сильный крен в сторону монархии и религии. Заканчивался ужин. На столе стояли две чашки остывающего чая, к которому ни Маша, ни Иванов так и не притронулись. Алексей Петрович взял у Маши листок с инструкцией ЦРУ, прошелся глазами по строкам, словно хотел удостовериться в том, что прочитала Маша. Лицо его хмурилось, взгляд ожесточался. Казалось, он только сейчас начал постигать весь смысл, всю сущность этого циничного документа. Он встал из-за стола в какой-то нерешительности, хотел что-то сказать, но передумал и, закусив губу, устремил на Машу взгляд беспомощной растерянности и священного негодования. Потом заговорил негромко, даже как будто спокойно, но Маша видела, что это спокойствие достается ему ценой огромных усилий: – Этот документ напоминает мне «Протоколы сионских мудрецов». И там и здесь сбывается все, как запланировано. Развал страны и уничтожение русского народа планировало ЦРУ, и план этот выполняет его агентура в лице Горбачевых, Яковлевых и прочих врагов России. Этот документ надо размножить в миллионах экземпляров, зачитать и прокомментировать по телевидению, на сессии Верховного Совета, на Съезде народных депутатов, на собраниях рабочих и крестьян, огласить с амвона в церквах, довести до сознания каждого россиянина. От мала до велика. Чтоб каждый вдумался в дьявольские слова: «…будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа». Она разыгрывается точно по плану, и народ оказался самым покорным, как стадо баранов. – Но ты же сам говорил, что народа нет, а есть толпа, масса, – сказала Маша. – А довести до сознания россиян эту коварную инструкцию Даллеса сможет только правительство национального спасения, которое придет на смену преступному оккупационному режиму. – Ты уверена, что оно придет? – Надеюсь, что сегодняшняя обманутая толпа завтра превратится в народ. Но народу русскому очень тяжело будет поднимать страну, потому что внутри народа за годы перестройки появилось много врагов России. И главные среди них – молодежь. Да, да, Алеша, не спорь, нынешние двадцатилетние недоросли в большинстве своем враги России. Это худший вариант хунвейбинов. Худший потому, что они отрицают чувство Родины, они нравственно и духовно растлены. Они запросто насилуют и убивают своих подруг за джинсы, за «видик». Их Бог и вера – деньги. Любой ценой. Они презирают труд, совесть, честь. Это уроды, агрессивные, жестокие, неспособные самостоятельно думать. На них нет надежды. Это потерянное поколение. Так кто же будет работать, восстанавливать разрушенное бандой преступников, агентов ЦРУ? Пенсионеры? Кто будет служить в армии? Можно ли этим подонкам доверить безопасность Отечества? – Ты преувеличиваешь. Я не верю. Ты судишь по столичным спекулянтам, уголовникам. Москва не показатель. Москва не Россия. Ты смотришь на жизнь, извини меня, с позиций милиции, прокуратуры и суда. Твоя профессия журналиста-криминалиста вынуждает тебя сгущать краски. Я имею в виду твои мысли о молодежи. В массе своей молодежь пассивна, она как бы находится на обочине жизни и молча наблюдает за событиями. Разные «Московские комсомольцы» и «Комсомолки» искалечили их души, я с тобой согласен. Но кошмар, который устроили демократы, касается не только родителей, но и детей. И дети будут прозревать вместе с родителями. Сыновья прислушаются к голосу отцов, нужда заставит. При новой власти в новой патриотической атмосфере заблудшие опомнятся, поймут, что заблуждались. Если уже многие пожилые, солидные люди, вчера еще дравшие глотки за Ельцина, опомнились, то молодежь тем более одумается. Будем надеяться и верить. А теперь, родная, давай спать. Пусть нам приснятся приятные сны.3 А сны им снились и впрямь приятные, но самое удивительное, что и Маше и Алексею Петровичу снились инопланетяне, тайно проникшие на землю, чтобы спасти род людской от дьявола, а русский народ от уничтожения. В образе дьявола Иванову снился Ален Даллес. Это было естественно, если принять во внимание прочитанную накануне директиву шефа ЦРУ. Инопланетяне снились Алексею Петровичу и до того, как приснился ему кубинский монумент с Хосе Марти, и после, необычным было другое: вот уже второй раз им обоим одновременно снились инопланетяне и, как в прошлый раз, в образе ангелов – спасителей цивилизации на Земле и России в частности. Алексей Петрович говорил Маше: – Не знаю, кого мне и как благодарить – судьбу, что ли, которая свела нас друг с другом. – Возможно, инопланетян. Я верю в их гуманизм и порядочность. Они – ангелы добра и счастья. Недаром они нам так часто снятся. Как только Маша вышла на работу после двухнедельного отпуска, начал работать и Алексей Петрович. Он сгорал от нетерпения лепить «Лебединую песню». Маша охотно согласилась позировать обнаженной. Иванов нисколько не преувеличивал, когда говорил, что лучшей модели и желать нельзя, что никакая Венера не может сравниться «с моей Афродитой». Известно, что все пылко влюбленные переоценивают красоту и достоинства любимых. Не был исключением и Алексей Петрович, но если и завышал оценку, то совсем ненамного. Теперь Маша жила на два дома. После работы забегала на часок-другой к себе на квартиру, где ее ждала Настенька, а пообщавшись с дочерью, спешила в мастерскую, где ее ждал с большим нетерпением, чем Настенька, Алексей Петрович. Специфика работы журналиста и тем более должность специального корреспондента давала некоторую свободу, и Маша иногда в середине дня заходила в мастерскую и позировала Иванову для «Лебединой песни». Лариса Матвеевна ворчала: – Дочь тебя забудет. Совсем от дому отбилась. Хотела ребенку отца найти, а вышло, что ни отца, ни матери. И квартира пустая. Что мы – старый да малый, так и слоняемся по комнатам. Пусть бы твой дед – иначе Алексея Петровича теща и не называла – жил там в своем сарае, а ты здесь, у себя. – С милым и в шалаше рай, – игриво отшучивалась Маша. И, поцеловав дочку, спешила в мастерскую. Композиция новой скульптуры очень нравилась Маше, потому она позировала, как она сама признавалась, с наслаждением и просила Иванова не проявлять спешки в ущерб качеству. Сам автор считал, что для него будет достаточно десяти – двенадцати сеансов в среднем по полтора-два часа. Уже после третьего сеанса, когда появилась фигура Лебедя, Маша заметила, что название «Лебединая песня» не подходит. Алексей Петрович это чувствовал и сам, но, желая угодить молодой жене, не стал высказывать свои мысли вслух, пока сама Маша не заговорила об этом. Тем более что сам Иванов не придавал значения названиям в скульптуре. – Лешенька, а ты не находишь, что «Лебедица» лучше «Лебединой песни»? – говорила Маша и поясняла почему: – Во-первых, твой лебедь не поет, ему не до песни. Во-вторых, говорят, что лебеди поют раз в жизни перед своей кончиной. А здесь этот символ неуместен. Я не права? – Совершенно права, детка. Ты же умница. – Может, лучше сделать, чтоб он пел? – все же спросила она. – Это невозможно технически, вернее, сложно. Поднятую голову лебедя, его длинную тонкую шею пришлось бы отливать только в металле. В дереве и тем более в камне изобразить довольно сложно. А в монолите проще простого. Лебедь с полураскрытыми крыльями, стоящий сзади девушки, нежно касается ее обнаженных плеч. Голова девушки с распущенными волосами слегка запрокинута назад в сладкой истоме. Изящная шея лебедя покоится на тугой девичьей груди, а клюв его касается соска. У девушки классическая фигура. Самое главное и самое сложное для ваятеля в этой композиции – донести до зрителя, заставить его почувствовать трепет обнаженного тела. Иванову это удается, как никому другому. Маша рада. После сеанса она стремительно соскакивает с подмостка и порывисто обнимает мужа, прильнув к нему чуть-чуть озябшим обнаженным телом. – Согрей меня, любимый. Алексей Петрович переносит электрообогреватель в спальню, куда уже упорхнула Маша. И снова воркование возлюбленных в постели: – Алешенька, тебе хорошо со мной, ты не жалеешь? – Родная, зачем спрашиваешь? Мне до сих пор кажется, что это сон. Не могу поверить. Хочется кричать: «Люди! Я счастлив!» – Алешенька, милый, я люблю тебя. Впервые в жизни люблю. Ты мой гений. Ты сам не знаешь, какой ты необыкновенный, ни на кого не похожий, ни с кем не сравнимый. Мы долго искали друг друга. Кто нам помог? Инопланетяне? С работы она звонит по нескольку раз на день. – Чем занимаешься, любимый? – Колдую над Лебедем. Надо бы с натуры, но не могу найти лебедя-натурщика. Работая над фигурой лебедя, он не без тревоги задумывался над вопросом, который волнует девяносто процентов граждан несчастной России: как выжить, как свести концы с концами при немыслимых ценах? Когда не было Маши и Настеньки, проблема выживания его не очень волновала, он не задумывался над ней всерьез. Пенсии и кое-каких сбережений ему хватало на скромное питание и на содержание мастерской-квартиры. Имелся и необходимый запас одежды и обуви, так что в промтоварные магазины он мог не заглядывать года два-три, а при особой нужде и до пяти лет. Но теперь он обязан заботиться о горячо любимой жене и приемной дочери. Отлить в фарфоре «Девичьи грезы» вдруг оказалось невозможным. Да и швед не давал о себе знать. Из оставленных им пятисот долларов почти половину пришлось платить мраморщику. Остальные он решил отдать Маше. Пусть распорядится ими как знает. Вспомнил ее слова: влюбленным сулят златые горы и реки, полные вина, и буйну голову. Да, но при одном условии: «когда б имел». А он, скульптор Иванов, не имеет возможности сделать любимой женщине достойный ее подарок. За флакон заморских духов он заплатил полторы тысячи. Остается предложить лишь буйну голову. Когда-то в «застойное» время (Маша называла его «застольным») у Иванова не было недостатка от частных заказов надгробий. Иногда он делал и мемориальные доски в честь «выдающихся и достойных». К нему шли с просьбами – знали, что он делает добротно и лишнего не запросит. За годы перестройки не было ни одного заказа. Властям и гражданам в смутное время было не до покойников. Ловкие пальцы скатывают податливую глину жгутом – это шея лебедя – и бережно укладывают ее на грудь девушки. Клюв царственной птицы робко и нежно касается соска. Иванову нравится эта композиция, он доволен. Но главное – нравится Маше. Это ей свадебный подарок. Он зримо представляет, как будет смотреться выполненная в дереве. Походя Иванов бросает взгляд на мраморные «Девичьи грезы», и его как-то исподтишка, но походя задевает мысль: «А может, отдать шведу?» И он тут же стряхивает с себя эту коварную, провокационную мысль. «Продать, как продал „Первую любовь“? Какая нелепость!» Он подходит к скульптуре, кладет руку на мраморное плечо, и белый камень ему кажется горячим. Он любовно смотрит на такие знакомые и родные черты мраморного лица и мысленно произносит: «Милая, прекрасная девочка. Извини. Разве могу я с тобой расстаться, моя последняя любовь? Здесь твои грезы. Они сбылись и воплотились в „Лебедице“. Он не услышал, как вошла Маша, возбужденная, радостная. Расцеловала его и сразу, не переводя дыхания: – Ну как твой лебедь? – И замерла перед композицией, испаряющей специфический запах глины. Лицо сияет, в глазах озорная смешинка. – А он довольно агрессивен. – Что ты, Машенька, это благородная и добрая птица. Он целует. Ты погляди на лицо девушки, всмотрись. Ей приятно? Или… больно? – Приятно. А теперь хватит вкалывать. Оставим их вдвоем – лебедя и лебедицу – и пойдем ужинать. Они вошли в гостиную, где в центре стола демонстративно возвышалась бутылка портвейна. – В честь чего? – спросил Алексей Петрович. – У меня сегодня гонорар. Решила по этому поводу устроить пир. А это тебе. – И она подала мужу носки. – Спасибо, девочка. – Он грустно улыбнулся и поцеловал ее горячую щеку. – К сожалению, у меня гонораров не предвидится. – И не нужно сожалеть: у тебя есть пенсия, у меня зарплата да плюс гонорары иногда набегают. Будем жить – не тужить, – с нарочитой беспечностью сказала Маша и начала накрывать на стол. – И все же досадно, что мы не встретились с тобой в пору моего материального благоденствия. Алексей Петрович с грустью вздохнул, и Маша правильно поняла его вздох. Она вообще умела тонко улавливать его душевное состояние и настроение, иногда безошибочно читала его мысли по выражению лица, по голосу. «Он переживает, сокрушается», – подумала она. – Не досадуй, родной. Материальное благополучие – дело третьестепенное. Вдвоем мы выстоим назло всем мафиозным демократам, миллионерам и американским лакеям. У нас есть главное – наша любовь, вечная, неугасимая, святая. Она нам поможет не просто выжить, а выстоять в жестокой войне. Он осенил ее благодарным взглядом, тихие глаза его блеснули влагой, бережно, как хрупкую драгоценную чашу, взял ее тонкую руку и поднес к своим губам; в ответ она нежно потрепала его по щеке и сказала: – Не надо падать духом: мы с тобой патриоты. – Какая ж ты необыкновенная, моя лебедица. – Она хочет быть достойной своего нежного и чистого душой лебедя. Он был безмерно благодарен ей за понимание, поддержку, за любовь. На другой день в мастерскую Иванова наведался представитель «Демроссии» – именно так отрекомендовал себя шустрый, упитанный молодой человек по имени Роман Сергеевич – и сразу же, без лишних церемоний, усевшись в предложенное кресло, приступил к делу: – Демократическая общественность решила воздвигнуть памятник защитникам Белого Дома, нашим героям. – Он сделал внушительную паузу и устремил на Иванова торжествующе-величественный взгляд, на который Алексей Петрович никак не реагировал. – В Союзе художников, куда мы обратились, нам предложили несколько известных скульпторов, которые могли бы выполнить этот благородный заказ. В том числе и вас, уважаемый Алексей Петрович. По лицу Иванова скользнула мимолетная улыбка легкого удивления. Предложение было неожиданным и не очень логичным. – Мне? – переспросил он, не скрывая своего изумления. – Странно. Я же не монументалист. Почему именно мне такая честь? – Вы художник, можно сказать, деполитизированный, без идеологических комплексов. – Энергичный Роман Сергеевич не уловил иронии в последних словах Иванова. – Вы мастер, профессионал высокого класса. Мы знаем ваши произведения. – Какие, например? – Иванов решил остудить апломб самоуверенного гостя. – Те, что публиковались недавно в газете. Девушка с ромашкой гадает: любит – не любит. – Роман Сергеевич состроил игривую улыбку. – Похвально, – загадочно отозвался Иванов, и снова коварный вопросик: – А вы не обратили внимания в той же газете на другую мою работу – «Ветеран»? – Разумеется, – мельком обронил Роман Сергеевич. – Так что, по-вашему, там нет ни политики, ни идеологии? – Эта работа не в вашем стиле, нетипичная для вас. Скорее дань вашим однополчанам. Вы ведь сами участник войны? «Они считают меня „нейтралом“, „ничейным“. Любопытно. Может, потому их критики, клеймящие реалистическое, патриотическое искусство, не трогают меня, награждают замалчиванием», – подумал Иванов и спросил, опять же не без шпильки: – А почему бы вам не обратиться с этим, как вы изволили выразиться, благородным заказом к маститым, к академикам-лауреатам: Кербелю, Цигалю, Чернову? – Да, нам их рекомендовали. Но, понимаете, в данной ситуации желательно, чтоб автор был русский. Среди погибших героев два русских и один еврей. – Он испытующе устремил на Иванова заговорщический взгляд, но Алексей Петрович молчал. Тогда напористый господин решил подбросить козырную карту: – Вы имейте в виду – мы хорошо заплатим. У нас богатые спонсоры. – Фонд Горбачева, Боровой? Еще бы – ограбили народ. Моими деньгами, украденными у меня, и расплатитесь. – Вы имеете в виду вклады в сбербанках? Да, это наша общая беда. Я так же пострадал, как и все. Эта акция на совести Горбачева, которого, как я понимаю, вы не жалуете. И тут я с вами солидарен: он принес много бед нашему народу своей нерешительностью и непоследовательностью. Но как бы мы к нему ни относились, несмотря на восторги и проклятия, он войдет в Историю России, как Ленин. – Сравнение довольно рискованное. Вам не кажется? – сказал Иванов и подумал: «А он не торопится решать дело, которое привело его сюда. А может, догадался, что не соглашусь». И ему вспомнилась история с памятником Свердлову, когда он отказался от «престижного заказа», и тоже по идеологическому мотиву. От бронзового палача казачества остался только постамент. Что останется от героев Белого Дома, даже если им сварганит монумент вездесущий скульптор, выступающий под псевдонимом Чернов? – И нисколько не рискованное. Согласитесь, что и Ленин, и Горбачев перевернули Россию вверх ногами, хоть и вели в противоположные стороны. Как к Ленину, так и к Горбачеву отношения граждан были полярные: одни молились, другие проклинали. Иванову любопытно было вот так, лицом к лицу, встретиться с представителем «Демроссии». Гость кого-то ему напоминал, какого-то партчиновника. Он спросил: – Ну а вы, Роман Сергеевич? Молились? – Отнюдь – проклинал и того и другого. – Вы были в партии? – Состоял. Но вышел, как и тысячи подобных. «Ах, как он похож на того функционера со Старой площади! – сверлила мозг навязчивая мысль. – Нет, не он, конечно, у того была другая фамилия и имя другое. Но похож – и манеры, и апломб, и самоуверенность». – Вы, Роман Сергеевич, не работали в ЦК? – Бог миловал, – как-то даже с гордостью ответил гость. – А почему вы спросили? – Может, случайно знали – был там такой деятель от культуры по имени Альберт? – Альберт? А фамилия? – без особого интереса спросил гость. – Точно не помню, то ли Белов, то ли Беляков. Такой важный, надутый индюк. И глупый, как индюк. Лет десять тому назад он обратился ко мне тоже, как и вы, с благородным заказом – сделать мемориальную доску одному члену политбюро. Для дома, в котором он жил. – И что? Вы сделали? – Нет. – Почему? Не ваше амплуа? – Не поэтому. Покойный был такой же дурак, как и Альберт. А у меня какая-то аллергия на дураков. Не на всех, конечно, а только на тех, которые напускают на себя важность, чтоб показаться умным. Но это между прочим, мы отвлеклись. С вами интересно побеседовать. Ленин и Горбачев. Оригинальная мысль. Первый – гений, второй – подлец. Если ей следовать, можно провести следующую параллель: Сталин и Ельцин. – Не вижу связи. – Первый – гений, второй – наоборот. Ельцин сделал себе карьеру на критике привилегий. Сталин был аскетом и органически не терпел привилегий. – Ну уж оставьте сказки о сталинском аскетизме, – как неопровержимую истину изрек Роман Сергеевич и брезгливо поморщился. – Сказки? Нет, уважаемый Роман Сергеевич, я не любитель сказок, это удел вашей демократической прессы. Япредпочитаю подлинные факты, подтвержденные документами. А документы – опись личного имущества Сталина, составленная после его смерти, свидетельствует: три костюма, трое брюк, одни подтяжки, четыре пары кальсон, семь пар носков и четыре трубки. А теперь сравните с имуществом отважного борца с привилегиями вашего дорогого Бориса Николаевича и его ближайших подручных. – Я понял, что вы не жалуете Бориса Николаевича, – холодно сказал Роман Сергеевич и посмотрел на Иванова тяжелым, отчужденным взглядом. – Презираю, как и большинство людей бывшего СССР. – Насчет большинства можно спорить, но это не входит в программу моего визита. Значит, вы не хотите делать памятник героям августа? По идейным соображениям. Правильно? – В голосе гостя прозвучал металл, вызвав на лице Иванова ироническую улыбку. – Как вам будет угодно. – А кого бы вы порекомендовали? Реалиста и русского. – Вячеслава Клыкова, например, – с умыслом подбросил Иванов. – Ой, нет. Он же красно-коричневый. – Вячеслав? Красный? Да для него красный флаг все равно что красный плащ для быка. Уж скорее я красный, хотя в партии никогда не состоял. – Вы – беспартийный большевик, – съязвил гость. – У меня было и есть много друзей-коммунистов. Особенно среди фронтовых ребят. Прекрасные люди, честные, патриоты. Недавно схоронил своего самого близкого друга, генерала. Благороднейший гражданин. Отважный был воин. – И, конечно, сталинист. – Горячий и убежденный, – с вызовом ответил Иванов. – Это он вам рассказал, сколько у Сталина было кальсон? Беда всех воинов и боль. – Он встал. – Я вам искренне сочувствую. И прощайте. Приблизительно через час после ухода незваного гостя появилась Маша. – У тебя кто-то был? – с порога полюбопытствовала она. – А ты как догадалась? – удивился Алексей Петрович. – Предчувствие. – А если всерьез? – Серьезно. Еду в метро, как всегда, тороплюсь. И вдруг ловлю себя на мысли, что спешу больше обычного и что ты сейчас не один в мастерской. Притом уверена, что не один. Подмывает любопытство: с кем? – Неужто ревность? – Нет, просто любопытство. Меня это не удивило: предчувствие поселилось во мне с тех пор, как я начала думать об инопланетянах, уверовала в них. Но у тебя действительно кто-то был? – Был, Машенька, представитель демократии, – весело ответил Иванов, целуя жену. – По случаю? – Новая власть пыталась меня облагодетельствовать: предлагала престижный государственный заказ. – Статую Ельцина? – Ты почти угадала: пока что памятник героям Белого Дома. – И ты согласился? – встревоженным тоном спросила она. – Что ты, родная, я б не стал себя уважать, если б принял такой позорный заказ. Пусть поищут среди своих. Желающие найдутся. Тем более сулят большие деньги. – И я б тебя сразу разлюбила. Я б тебя не простила, если б ты согласился. Помню, ты мне рассказывал, как отказался делать памятник Свердлову. Нам нельзя терять достоинство ни при какой погоде и ни за какие блага. Талант и совесть неразделимы. – Спасибо, родная, я рад, что ты одобрила мой поступок.
Глава десятая. Вознесение
1
Весна наступала стремительно, сухая и жаркая. Сразу же после оплеванных демократами майских праздников – Первомая и Дня Победы – Лариса Матвеевна с Настенькой переехали на дачу, купленную когда-то отставным дипломатом Сергеем Зорянкиным на севере от Москвы в зеленом Радонежье. Днями раньше Иванов и Маша субботу и воскресенье провели на даче, вскопали грядки под огород, сделали уборку в доме, словом, приготовили дачу к летнему сезону. Маша любила свою дачу, и не столько сам дом, небольшой, бревенчатый и далеко не новый, сколько здешние окрестности, с зелеными лесными массивами, солнечными полянами и голубыми прудами, которые дачники величали озерами и даже морями. «Загорское море!» Это звучит солидно и заманчиво, хотя воды в этом море по колено, зато есть флот – полдюжины лодок, которыми пользуются и рыбаки, и просто отдыхающие. Маша такое море не принимала всерьез и не завидовала барахтающимся в его не очень чистой, несточной воде. Маша родилась на берегу Средиземного моря и на всю жизнь запомнила его песчаные пляжи, тихие всплески теплой воды. Память детства самая цепкая и впечатляющая. Беспощадное время не в состоянии стереть или затмить трогательные, милые сердцу картины. Они чисты, светлы и безоблачны. Они – навечно. Радонежский край Маша увидела уже в зрелые лета, когда вместе с родителями приезжала смотреть свою будущую дачу. Из Москвы они приехали в Сергиев Посад, который тогда носил позорное имя большевика-троцкиста Загорского-Лубоцкого. Был теплый солнечный день середины сентября, ярким многоцветьем листвы полыхало бабье лето. Ослепительным золотом блистала Троице-Сергиева Лавра. Словно дети солнца, играли и струились в голубом просторе купола соборов и корона колокольни, высотой своей превосходящая колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Ее узрела Маша еще с вокзальной площади – она впервые была в городе преподобного Сергия Радонежского, – узрела и ахнула, встрепенулась душой. И не красота неописуемая, не чудесное творение рук человеческих поразили ее, а то, что она это великолепие уже видела и знает его с давних пор, с самого детства носит его в сердце своем. Видела не на фотографиях и открытках, не на картинах и в кино. Видела не глазами, а всем своим существом, каждой клеточкой своего тела. Какая-то невиданная, властная сила потянула ее к Лавре, исходящие от куполов золотистые струи проникали в душу, просветляли разум, манили к себе невидимыми чарами и окрыляли. Ей хотелось лететь. И она быстрым и легким шагом, опередив родителей, полетела навстречу неземному видению, на его кровный зов, и ей казалось, что золотистые звезды, рассыпанные по голубым куполам Успенского собора, не что иное, как посланцы Вселенной. И тогда ее осенила ясная мысль о нетленной вечности всего сущего – природы, человека и творения рук его, о мудром творце мироздания, о бессмертии души. В бессмертие души Маша уверовала еще в студенческие годы и считала, что в незапамятные времена душа ее обитала в другом бренном теле и, покинув его в свое время, странствовала в беспределах Вселенной, пока не воплотилась в ней – Маше Зорянкиной. Этим она объясняла сновидения, когда неоднократно видела во сне один и тот же город, который не существовал в действительности, знала его обитателей в лицо, их имена, но наяву, в жизни их не было. И делала вывод, что она, то есть душа ее, но в другой плоти, жила в этом городе и среди этих людей, что это были се друзья и знакомые. Об этом она подумала, увидав впервые Троице-Сергиеву Лавру, которая, между прочим, ей никогда не снилась. Просто в этой обители, представшей перед ней так неожиданно, она нашла что-то очень родное и близкое для своей души. С тех пор в дачный сезон она нередко посещала Лавру в надежде найти там умиротворение и душевный покой. Находясь на своей даче, она с трепетным волнением слушала доносимый ветром из Сергиева Посада далекий колокольный звон, который теплыми струями разливался в душе. Маша была убеждена, что ее доисторические предки жили в этих благодатных краях, потому и влечет ее сюда божественная сила и шепчет внушительно ей внутренний голос: здесь твои корни, здесь тысячи лет тому назад была предана земле твоя плоть перед тем, как бессмертная душа твоя отправилась в долгое странствие, чтоб в середине двадцатого столетия снова войти в твою плоть. Потому и дороги и любы тебе эти места, которые ты считаешь своей родиной, – не южный берег Средиземного моря, где ты родилась и провела свое детство, и не Москва, в которой безоблачно прошли твоя юность и молодость, а радонежское Копнино. В четырех километрах от дачи Зорянкиных, среди полян и перелесков, где на березовых опушках водятся подберезовики, а в молодом ельнике в грибную пору встречается благородный рыжик, высоко ценимый знатоками, даже выше боровика и груздя, есть урочище или большая поляна с названием Копнино. Должно быть, оно получило это имя от копен, которые маячат тут в пору сенокоса. В самом центре поляны заросший мхом пруд круглой формы, обрамленный сибирским кедром. Говорят, когда-то давным-давно здесь был скит, и пруд этот вырыли монахи. Вот это Копнино Маша считала своей кровной родиной – оно жило в ней самой, в ее сознании, в ее сердце, неотлучно, постоянно, как драгоценный дар, унаследованный от далеких предков, которые являлись к ней только в радужных, безгреховных снах. Копнино снилось нечасто, реже, чем белоснежный Алжир в голубом мареве знойного неба и теплого моря. То было просто приятное путешествие в детство, не содержащее в себе ничего вещего. Этим средиземноморским сновидениям, в которых она всегда была веселым, беззаботным ребенком, Маша не придавала никакого значения. Иное дело – Копнино. Оно всегда предвещало нечто неожиданное, необычное и судьбоносное. В один из дней середины мая – это был четверг (Маша считала, что вещие сны бывают в ночь с понедельника на вторник и с четверга на пятницу) – она проснулась в четыре утра в небывалом возбуждении и совершенно бодром состоянии, словно и не спала. Одновременно с ней проснулся и Алексей Петрович, и не она его потревожила, а проснулся сам, нежно прошептав: – Ты не спишь, зоряночка? Ты чем-то встревожена? Вместо ответа Маша прижалась к нему теплым трепетным телом, словно ища защиты. Она часто дышала, и Алексей Петрович слышал, как колотится ее сердце. Он поцеловал ее, как всегда, трогательно и нежно и снова спросил: – Тебе приснился нехороший сон? – Да, милый, приснился. Копнино мое снилось. Нет, никаких кошмаров. Просто очень явственно и… – она запнулась, не находя слов, – и жутко, эмоционально, когда мороз по коже. Представь себе – колокольный звон и тревожные голоса глашатая: «На митинг, все на митинг! Судный час настал!» Это слово «судный» меня как огнем обожгло, и я пошла на митинг со всем народом. А митинг почему-то в Копнино. Вся поляна заполнена людьми, от края до края, а в центре белая церковь с ярко-золотым куполом, совсем небольшая, точно такая, как в Радонеже. Ты помнишь? Ну, там, где Клыков памятник преподобному Сергию поставил? Я пробираюсь сквозь толпу ближе к церкви, где стоит каменный Сергий. Колокола гудят тревожно, надрывно, а потом сразу умолкают, и воцаряется тишина, глухая, непроницаемая тишина. Маша притихла, затаилась, словно прислушалась к тишине. Алексей Петрович настороженно ждал. – А вот преподобный Сергий из каменного превратился в живого, стукнул грозно посохом о землю и громко сказал: «Люди!» Он говорил страстную речь, слова его обжигали огнем, возбуждали душу. Это были какие-то особые слова, я не могу тебе их передать, но я хорошо помню их смысл. Мол, на землю русскую пришел враг лживый и коварный. Он принес народу голод, страдания и смерть. Восстаньте, русичи, и стар и млад, забудьте распри и обиды, всем миром навалитесь на заморское чудище. Мне врезались в память эти слова: «заморское чудище». «Князья Александр и Дмитрий! Маршалы Кутузов и Жуков! Воскресните в образе своих потомков, внуков и правнуков! Не пожалейте живота своего за Русь святую!» И трубный глас его, как раскат грома, как ураганный шквал, пронесся над Радонежем. Представляешь, Алеша?! Этого невозможно передать. Он еще и сейчас звучит во мне, не в ушах, а где-то в глубинах души, этот призывный набат, как глас Божий. Она все еще дрожала от волнения и спасительно прижималась к Алексею Петровичу. – К сожалению, Машенька, народ глух, и слеп, и глуп, – произнес Иванов. – Он ничего не видит и не слышит и по глупости своей не желает посмотреть правде в глаза и прислушаться к трезвым голосам патриотов. Помолчали. Затем Маша сказала все еще возбужденно и торопливо: – Алешенька, я уже не усну. Я должна поехать. Я волнуюсь – как там Настенька и мама? – Почему ты должна, а не мы? – А ты сможешь? Со мной? – Я смогу в любое время, а как ты? Сегодня пятница. – Я не пойду на работу. Поедем сейчас, с первой электричкой. Я очень волнуюсь: такие сны мне снятся непременно к чему-то. – Хорошо, зоряночка, поедем утром. Только не волнуйся. Твой сон – отражение наших дум и забот. С появлением первых солнечных лучей электричка мчала их на север от столицы. По обе стороны Ярославской железной дороги буйно цвели черемуха и сирень. День выдался безоблачным и теплым. Большие бетонные плиты, ограждающие рельсовые пути от близко примыкающих к железной дороге жилых массивов, метровыми буквами посылали проклятья Горбачеву и Ельцину. Чаще всего их величали предателями, иудами, агентами ЦРУ. И не видно было ни одного «лозунга» в поддержку этих лидеров перестройки. По этому поводу Маша заметила: – Вот он – настоящий рейтинг отношения народа к «вождям», а не та ложь, которой пичкают телезрителей фальшивых дел мастера социологических исследований. На дачу приехали, когда цвели вишни и только-только распускалась сирень. На все лады заливались птицы. Особенно усердствовали неутомимые зяблики и садовые славки. Им подпевала зорянка: то умолкала, то снова насвистывала свой незатейливый мотив, перелетая с ветки на ветку. Осторожная, но не пугливая, она позволяла людям рассмотреть ее брачный наряд – ярко-оранжевую манишку. – Твоя однофамилица, для тебя поет-старается, – сказал Иванов, кивком головы указывая Маше на серенькую пичужку с малюсенькими глазками-пуговками на круглой головке. Маша плохо разбиралась в птицах, хотя трясогузку могла отличить от синицы и воробья от зяблика. В Москве в это время в Останкинском парке выводили свои рулады соловьи. Здесь же, в семидесяти километрах на север от Москвы, они еще помалкивали. Зато неугомонные и вездесущие дрозды-белобровики, певчие, дерябы «отбивали» утренние зори, тщетно пытаясь подражать соловьям. Алмазные росы сверкали в лучах солнца на желтых нарциссах и на бутонах еще не распустившихся ранних темно-красных пионов. Вопреки всем невзгодам и напастям природа жила по своим извечным законам, хотя неразумные двуногие эгоисты постоянно пытаются помешать естественному ходу ее жизнедеятельности. Весна торжественно справляла пробуждение природы, выставляла напоказ ее жизненные силы и нерукотворную красоту, и человек хоть на короткое время отвлекался от бремени житейских забот и бед и находил в душе своей мимолетную радость и восторг окружающим миром, его божественным совершенством. Алексей Петрович всего лишь второй раз был на даче Зорянкиных – первый раз в конце апреля, когда природа только-только пробуждалась от зимнего сна. И теперь, пока Маша и Лариса Матвеевна готовили завтрак, он подвесил гамак и сооружал между двух берез качели для Настеньки, которая ни на шаг не отходила от него, все щебетала, восторгалась и гамаком, и качелями. Машу же не покидало возбуждение, охватившее ее в четыре часа утра. Напротив, оно как бы даже усиливалось, хотя уже и без тревожных предчувствий. Во всех ее действиях и движениях сквозили приподнятая торопливость и окрыленность, стремление поскорей отозваться на смутный, но неукротимый зов, боязнь куда-то опоздать. И это «куда-то» называлось Копнино, где она побывала минувшей ночью на вселенском соборе и слушала трубный голос преподобного Сергия Радонежского. Она все еще находилась во власти странного, но до осязаемости четкого сновидения, воспринимала его как пророчество, как веление вселенских сил. В Копнино Маша отправилась вдвоем с Алексеем Петровичем. Настеньку с собой не взяли: воспротивилась бабушка, считая такую прогулку для девочки утомительной. У Маши было приподнятое настроение, она шла легко, стремительно, и лицо ее сияло блаженством и радостью. От дачи к Копнину вела неширокая лесная просека, по которой в пору сенокоса проходил трактор с прицепом, груженным сеном. Из чащи справа и слева с шумом выстреливали дрозды. Где-то свиристела пеночка-веснянка, но ее тоненький мелодичный голосок заглушала своей трескотней пеночка-трещотка. По обочине просеки сверкали золотые головки купавы. Маша походя сорвала три цветка и поднесла к лицу, понюхала. – Какой тонкий, едва уловимый аромат. Скоро зацветут ландыши. – А, между прочим, и купава, и ландыши занесены в Красную книгу, – дружески напомнил Иванов. – Ландыши – да, а вот купава – извини, не знала. День разгорался теплый и тихий. Солнце разбрасывало по лесу золотистые блики. Густой аромат молодой листвы, свежей травы и цветов пьянил, радовал. Маша взяла Иванова за руку и энергично потащила за собой приговаривая: – Не отставай, прибавь шагу, быстрей, быстрей! – А зачем спешить, куда спешить? Дай насладиться природой. – Иванов не мог понять ее неукротимого стремительного бега. Да она и сама не понимала, что с ней происходит, какие магниты влекут ее к заветной поляне. Она была в состоянии необъяснимого порыва, и Алексей Петрович едва поспевал за ней. – Там насладимся, там моя родина, там нас ждут, – запыхавшись, восторженно говорила она, устремив вперед разгоряченный взгляд. Большие глаза ее лихорадочно искрились. – Кто нас ждет? – недоумевал Алексей Петрович. – Наши колокольчики, ромашки, фиалки, незабудки, ландыши. – Но их еще нет, их время не подошло. Они зацветут попозже. – Нет, ты не знаешь, не спорь. Они ждут меня, – настойчиво и властно возражала она вполне серьезно, что несколько озадачивало Алексея Петровича. «Неужто на нее так подействовал странный сон», – думал Иванов. Поляна открылась сразу во всю ширь, залитая солнцем и обрамленная кущами деревьев. В центре ее торжественно возвышался темно-зеленый хоровод сибирского кедра вокруг бывшего монастырского пруда. Маша остановилась на опушке молодого березняка, быстрым взглядом окинула поляну, и на ее лице Иванов прочитал разочарование, которое она в тот же миг попыталась скрыть, заговорив с неестественным восторгом: – Ну как? Правда прекрасное местечко? А через неделю, когда все зацветет… будет райское очарование. – Да, родная, места здесь и в самом деле райские, – поддержал ее восторг Алексей Петрович. – В другой раз я приду сюда с красками и напишу панораму по горизонтали в духе Павла Корина. Ты видела его палехские пейзажи? И итальянские тоже. Он любил изображать горизонтальную ширь. Напишу и подарю тебе, чтоб твое заповедное было всегда рядом с тобой. – Спасибо, милый, ты доставишь мне радость. И вообще, ты моя радость, моя гордость, мое счастье, моя речная неземная любовь. – Она нежно прильнула к чему и поцеловала. – А ты мой голубой бриллиант, – прошептал он. – Скажи, в природе вообще существуют голубые бриллианты? Или ты сочинил? – Существует в единственном экземпляре – это ты. Он бросил на молодую траву плед, который велела прихватить с собой Маша, и предложил: – Отдохнем, присядем? Она проворно расстелила плед и первой села. Алексей Петрович опустился рядом, заговорил: – Сейчас принято вспоминать слова Достоевского, что красота спасет мир. Я много думал об этом – каким образом? Ведь красота хрупка и беззащитна. Красоту создает сама природа, а человек, художник, подражает природе и делает копии прекрасного, старается продлить красоту. Красота – основа, первоисточник духовности. Ты согласна? – Да, конечно, прекрасное облагораживает душу и возвышает разум. – Ты обратила внимание: к прекрасному тянется все живое – люди, животные, растения. Возьми птиц, их брачное время, – они наряжаются в новое оперение, поют песни, славят жизнь, рождение детей, своего будущего. Вывелись птенцы, и самцы надевают будничный наряд, и, как правило, многие не поют. В природе все разумно, гармонично. Творец Бог предусмотрел все детали, позаботился о своих созданиях. Он знал, что у зайца и белки будут враги, и наделил их на зиму белыми шубками. Так сказать, сезонной одеждой. – Он хотел еще привести примеры о красоте и гармонии в природе, но в этот самый момент увидел в голубом небе над прудом серебристый диск. – Смотри, зоряночка, что это? Маша быстро посмотрела, куда показывал Иванов, и тревожно воскликнула: – Это они! Я знала, я предчувствовала… «Они? Кто они?» – мысленно спросил он, с любопытством наблюдая за необычным воздушным аппаратом, неподвижно застывшим в небе. В лучах солнца он то сверкал и переливался струящимся блеском, то сливался с белесым фоном неба и был едва заметен. Алексей Петрович посмотрел на часы – было двадцать минут двенадцатого. Маша быстро вскочила на ноги и возбужденно замахала руками в сторону странного предмета. И тогда вдруг, в одно мгновение, точно повинуясь Машиному зову, воздушный диск снизился до высоты верхушек деревьев и за какие-то секунды очутился рядом с Машей и Алексеем Петровичем. В то время как Маша испытывала чувства радости, восторга с некоторой долей тревоги и опасения, Иванов смотрел на приземлившийся рядом с ними серебристый аппарат с холодным любопытством, как на нечто заранее запрограммированное не без участия Маши. Теперь он понимал ее странное поведение начиная с четырех часов утра, ее неумолимое стремление можно сказать, бег, на копнинскую поляну. Живо интересуясь НЛО и инопланетянами, веря в их существование, теперь он не испытывал ни страха, ни осторожности. Он покорно, с интересом и доверием отдавал себя во власть неизвестных, но предполагаемых сил. То, что с ним была Маша, его зоряночка, «голубой бриллиант», его неземная любовь, вселяло в него спокойствие и выдержку. Страха не было. С ней он был готов хоть в преисподнюю, хоть в любую галактику. Он ощутил, как невидимая сила обдала их приятным теплом, превратила в легкие пушинки, потянула в проем, образовавшийся в серебристом пришельце. А там, в уютном покое, неярко освещенном, оба они окунулись в блаженную полудрему в мягкой, ласкающей тишине, где не было ни единого звука. Маша сказала с трепетным возбуждением: – Мы в гостях у инопланетян! Он не слышал ее слов, но каким-то внутренним чутьем четко понимал ее мысли и слова. – А может, в плену? – ответил Иванов, и тоже без слов, и Маша понимала его ответ. Постепенно они погружались как бы в невесомость, какую-то странную бесчувственность тела, бесплотность. В помещении, где они находились, не видно было никаких предметов, все затянуто серым туманом, напоминающим вечерние сумерки. К ним обращались невидимые гуманоиды без привычных слов, вернее, слова их и речи Маша и Алексей Петрович воспринимали не ушами, а как бы сознанием, и произносились они на чистом русском языке. Более того, Иванова поразило, что вопросы задают ему его же голосом, будто он сам себя спрашивает, как это случалось с ним не однажды дома во время неглубокого сна. Он, как и Маша, отвечал на вопросы без запинки и затруднений, легко и ясно, и сами они спрашивали невидимок, но опять же без слов, мысленно. Но их диалог не задерживался в памяти, исчезал, как исчезает изображение на засвеченной пленке. Алексей Петрович и Маша были уверены, что они встретились с обитателями планеты, достигшей очень высокой цивилизации. На вопрос Иванова, почему инопланетяне не идут на прямой, открытый контакт с землянами, был получен ответ, очень похожий на тот, как когда-то отвечал на него епископу и генералу сам Алексей Петрович: земляне нашпиговали свою планету смертоносным оружием, которым владеют жестокие и бессовестные персоны, облаченные верховной властью, психически ущербные и нравственно порочные. Они непредсказуемы в своих поступках и действиях. В один роковой миг они могут превратить планету Земля в безжизненную пустыню. Такое уже случалось в других галактиках. – А бывали ли на вашей планете земляне? – спросила Маша. – Нет, не бывали, – четко ответил ее же голосом невидимый гуманоид и пояснил: – Но такой вопрос обсуждался у нас. Высказывались разные мнения. Одни считали, что сначала нужно вступить в прямой контакт с неразумными, извините, так мы называем землян, и уж потом доставить на нашу планету всего несколько пар неразумных обоего пола и разного возраста, как эксперимент. Другие предлагали тайно взять пару особей неразумных обоих полов с ребенком, но, разумеется, с их согласия. – Я согласна, – торопливо воскликнула Маша. – Мы оба согласны – я и мой муж. – Мы должны отобрать из числа неразумных нравственно и духовно чистую пару, физически здоровых и разного возраста, – был ответ. – У нас большая разница в годах, это то, что надо! – как-то по-детски весело и беспечно сообщила Маша. Она была в состоянии беззаветного азарта, бездумного восторга и радости, не отдавая трезвого отчета своим словам. – Мы опасаемся занести на свою планету нездоровый вирус нравственного и физического порока. Нам известно, что вы оба не принадлежите к племени паразитов-эгоистов, которое испоганило когда-то прекрасную планету Земля, растлило и обездолило ее коренных обитателей. Слово «коренных», так часто употребляемое ныне в нашей прессе, зацепилось в сознании Иванова. – Вы сказали «коренных»? А разве среди землян есть не коренные? – полюбопытствовал Алексей Петрович. – Много тысячелетий тому назад на заре вашей цивилизации на планету Земля из другой галактики было занесено племя энергичных человекообразных. Это были сообразительные, ловкие, очень коварные и жестокие двуногие, высокомерные эгоисты. Оказавшись среди доверчивых, наивных аборигенов, они объявили себя господами, присланными царствовать над землянами. Они, как паразиты, расползлись по всей планете и везде вели себя вирусами – возбудителями зла. У этого племени пришельцев сильно развит инстинкт приспособления к любым условиям, что сделало их устойчивыми к выживанию. Они легко входят в среду аборигенов но не растворяются в ней, не меняют своей сути разрушителей, носителей и сеятелей зла. Многие тысячелетия аборигены земли ведут с этим дьявольским племенем безуспешную борьбу. Неразумные земляне не могут понять, что пришельцы – их враги, хитрые и коварные. Они не отказались от вредной миссии – царствовать над планетой. Они создали тайную секту, через которую уже правят планетой Земля, но пока еще тайно. Эту секту у вас называют масонами. В эту секту входят избранные пришельцами аборигены, часто состоящие в родстве с пришельцами. К двухтысячному году они намерены уже не тайно, а явно овладеть всей планетой Земля. На пути к мировому господству у этого преступного племени и руководимой им дьявольской секты стояла ваша великая страна. Теперь ее нет, они убрали препятствие со своего черного пути. Как им удалось, мы не знаем. Этот феномен мы хотим разгадать в интересах других цивилизаций. Мы надеемся, что сами земляне нам помогут. Мы, возможно, с вами еще встретимся. Мы вас позовем. Ваша планета погружена в океан лжи. После этих слов сумерки начали сгущаться, а Маша и Алексей Петрович стали погружаться в легкую приятную дрему, в которой медленно угасал голос инопланетянина: «Позовем, позовем, позовем…»2
Они проснулись одновременно на том же месте, с которого были взяты инопланетянами. Только плед, на котором они сидели, теперь валялся метрах в двадцати от них. Солнце висело низко над лесом, едва касаясь верхушек деревьев. Иванов посмотрел на часы – стрелки показывали без четверти восемь, мысленно сказал: «Почти девять часов» – и тут же услыхал не голос, а ответную мысль Маши: «Девять часов нас держали инопланетяне. Целый день». Они смотрели друг на друга растерянные и изумленные, одновременно мысленно спрашивая друг друга: «Что это было? Сон или в самом деле…?» – Почему мы не говорим словами, а читаем мысли друг друга? – спросила Маша голосом, пытливо всматриваясь в Иванова. И вдруг с удивлением: – Алешенька, из твоей бороды исчезла седина. И волосы потемнели. И лицо стало совсем молодым, ни одной морщинки, будто их и не было. Как ты себя чувствуешь? – Бодро, – ответил он тоже голосом. – Это фантастика. Расскажи кому-нибудь – не поверят. «Я напишу об этом, выдам целую серию в нашей газете. Телевидение. Сенсация!» – подумала Маша и в ответ прочитала его мысли: «Не надо никакой сенсации. Все надо обдумать, взвесить, проанализировать. Кто нам поверит? Где доказательства? Нас объявят шарлатанами, сделают посмешищем». – «А исчезновение седины? Это разве не доказательство?» – Для тебя – да, но не для публики. Я забираю плед, и нам надо спешить домой. Дома все продумаем и обговорим». Алексей Петрович чувствовал необыкновенный прилив сил, энергии, бодрости. Они торопились домой, только сейчас Маша сообразила, как там волнуется Лариса Матвеевна из-за их столь продолжительного отсутствия, как переживает. «Пожалуй, Алеша прав – никакой сенсации, чтобы не быть смешными, – размышляла Маша, легко и быстро шагая впереди Иванова. – Это же невероятно, но факт. Это быль. А как докажешь?» – «И никому ничего доказывать не надо, – донеслись до нее не слова, а мысли Иванова. – Подождем. Они же сказали: „Позовем“. „Они много чего сказали, – подумала Маша. – Надо вспомнить. Я начинаю вспоминать. А ты?“ – „Я тоже. Удивительно: мы на расстоянии читаем мысли друг друга. Интересно, на каком? Давай проверим, я немного отстану – метров на двадцать“. Но и на этом расстоянии они мысленно разговаривали друг с другом. «А разве этот феномен не убедительное доказательство нашей встречи с инопланетянами?» – настаивала Маша, все еще склонная потрясти мир сенсацией. «Мысли могла читать и болгарка Ванга. И не только она, – охладил ее пыл Иванов и добавил: – Еще неизвестно, можем ли мы читать мысли посторонних, или только друг друга?» Ответ на этот вопрос они получили, как только возвратились на дачу. Лариса Матвеевна набросилась на дочь с упреками, почему так долго не появлялись, и недружелюбно подумала об Иванове: «Это все из-за него». И тут же получила реплику Маши: – Алексей Петрович тут ни при чем: задержались мы по другой причине. Лариса Матвеевна с удивлением и растерянностью посмотрела на дочь и виновато произнесла: – А разве я сказала про Алексея? – Подумала, – ответила Маша. Слова дочери окончательно смутили Ларису Матвеевну, она смотрела на Машу с растерянным недоумением и спрашивала себя мысленно: «Да что это – она мои мысли читает?» – Да, мама, читаю. И не только твои, – открылась Маша и предупредила: – А больше ни о чем меня не спрашивай. В воскресенье после обеда Маша и Алексей Петрович выехали в Москву. В электричке, как всегда в это время, вагоны переполнены, и им пришлось стоять в проходе весь путь до Ярославского вокзала столицы. Они всматривались в лица пассажиров и, обуреваемые любопытством, читали их мысли, как правило, невеселые, безрадостные, обремененные заботой о дне насущном и завтрашнем. Мужчины пялили глаза на Машу, привлекавшую внимание не только элегантным нарядом – белая блузка с черными штрихами и белая юбка с черным кленовым листом – любимое сочетание Маши – черного с белым. Она выглядела как никогда молодо. Цветущая, взволнованная, она сияла неожиданным счастьем. Один франт, импозантной внешности, очевидно, набалованный вниманием женщин, считающий себя неотразимым, мысленно поклялся, что «она будет моей». «Я приглашу ее в ночной клуб миллионеров в концертный зал „Россия“. Я подарю ей норковую шубу», – читала его мысли Маша. Его самоуверенность возмутила Машу, и, когда он в толчее приблизился к ней вплотную с намерением заговорить и начать атаку, она упредила его, резанув презрительным взглядом и сказав вполголоса: – Примите к сведению: клуб миллионеров меня не интересует. И в вашей шубе я не нуждаюсь. Так что не тратьте зря времени. – Ошеломленный ловелас поспешил отойти. Вечером того же дня уже дома они приняли ванну и вдруг обнаружили, что у Маши исчезло родимое пятно, а у Иванова на теле пропала родинка величиной с лесной орех. Маша, все еще находясь в состоянии радостного возбуждения, возвращалась к мысли обнародовать случившееся: – Разве не доказательство: исчезли мое пятно, твоя родинка? – Кому и каким образом будешь это доказывать? Разденешься догола и скажешь: вот тут у меня было черное пятно, а теперь его нет? – иронизировал Иванов. – И если я правильно ИХ понял, ОНИ не велели нам обнародовать встречу С НИМИ. – Да, кажется, я что-то припоминаю, – согласилась она и продолжила: – А вообще я нахожусь в каком-то шоковом состоянии. Когда мы снова оказались на земле, я не соображала, что с нами случилось, просто как бы память отшибло. И только сейчас постепенно, как из тумана, всплывают воспоминания. Между нами и ИМИ был диалог. Спрашивали и мы и ОНИ. О чем? – Вот это главное – о чем? Нам надо все вспомнить, о чем говорили ОНИ. Давай будем вспоминать. Я тоже чувствую нечто вроде пробуждения памяти. Алексей Петрович после ванной стоял у стола в гостиной в одних плавках, стройный, жилистый, молодцеватый, каким он был лет тридцать тому назад. Взгляд вдумчивый, напряженно-сосредоточенный. Маша в легком пестром халате, наброшенном на голое тело и свободно подпоясанном, разливала в чашки кофе. Движения ее рук были быстрыми, но не резкими, а плавными, что придавало всей фигуре грациозность и естественное изящество, – лицо озарено большими горящими глазами. Она бросила взгляд на мужа и вдруг замерла в радостном изумлении и, выдержав паузу, выдохнула вполголоса: – Алешенька, милый! Я не узнаю тебя. Ты совсем юноша. Аполлон Радонежский. Подойди к зеркалу, посмотри на себя. – Что смотреть? Я и без зеркала чувствую необыкновенный прилив энергии и силы, как будто сбросил груз многих лет. Я – что! А вот ты! Ты похожа на молоденькую березку. Или на десятиклассницу. «А разве это не доказательство нашей встречи с инопланетянами?» – опять подумала Маша, и муж ответил на ее мысли тоже без слов: «Девочка, зоряночка прошу тебя – забудь о публикации. Давай сначала все продумаем и взвесим». Он подошел к ней, крепко обнял и осыпал страстными поцелуями. Не выпуская ее из объятий, спросил: – Скажи, родная, когда мы увидели над лесом серебристый диск, ты воскликнула: «Это ОНИ! Я знаю, я предчувствовала». Объясни, пожалуйста: почему ты знала? – Мне трудно, Алешенька, объяснить. Просто предчувствовала. Я давно думала, можно сказать, мечтала о них. С тех пор как поняла, что планете нашей грозит гибель экологическая, ядерная, социальная и что человечество, сами мы, погрязшие в эгоизме, распрях и просто в идиотизме, не сможем навести порядок и спасти нашу цивилизацию, я решила, что это сделают инопланетяне, одаренные божественным разумом. Как верующая, я рассчитывала, что Творец – Бог – не допустит уничтожения его прекрасного творения и пошлет для спасения Земли своих ангелов в лице инопланетян. Вот ты сам давно интересуешься всерьез НЛО, признайся: к тебе такая мысль не приходила? – Признаюсь, Машенька, думал и об этом. Потом эти лекции-проповеди, которые во сне внушал кто-то мне моим же голосом, я уже рассказывал: моим голосом, но не мои мысли-откровения, заставляли задумываться над явлениями неземного происхождения. – Поэтому и встреча наша не случайна. Родство душ – это не просто избитая фраза. Когда я увидела тебя впервые на выставке в Манеже, я каким-то чутьем поняла: этот человек мне нужен и я ему нужна. Мы долго искали друг друга, и вот судьба свела нас навсегда, мой сокол, навечно, любовь моя, и жизнь моя, и счастье мое. После легкого ужина они ушли в спальню. Это была безумная ночь влюбленных, освященная полнотой счастья, глубокого, истинного, необратимого. Засыпая уже под утро, Алексей Петрович сказал: – А ты помнишь, что ответили ОНИ на твою просьбу прийти на помощь землянам и спасти нашу планету? – Помню. Но я просила о спасении только нашей страны, и не России, а всего СССР. – И что они ответили? – Они опасаются, что в ответ на их активное вмешательство безумная секта господ, не желая терять свою власть над человечеством, может взорвать планету Земля, одну из самых прекрасных во всей Вселенной, – твердо ответила Маша. К ней, как и к Алексею Петровичу, память возвращала отдельные мысли их диалога с инопланетянами. – И вместе с тем, – вспоминал Иванов, – ОНИ хотят разобраться, что же сейчас происходит на Земле, и в первую очередь в нашей стране. Им непонятно, что случилось с СССР. Они сказали: «Ваша планета плотно окутана ядовитым туманом ЛЖИ, изобретенным пришельцами для оболванивания неразумных землян. Нам нужна честная, правдивая информация от честных, пронизанных святой любовью индивидуумов». – Возможно, они хотели получить такую информацию от нас? – предположила Маша. Они спали всего три часа и проснулись как никогда бодрыми, полными сил. Наскоро выпив чашку кофе – кушать не хотелось, – Маша поехала в редакцию, а Иванов остался дома в состоянии какой-то неопределенности. Он не знал, чем занять себя. Идти в «цех» не хотелось: все его мысли сосредоточились вокруг главного, что случилось с ним в субботу. Он воскрешал в памяти слова и отдельные фразы, произнесенные ИМИ. «Тайная секта правит миром, и у нас эту секту называют масонами, – вспоминал Иванов. – Епископ Хрисанф интересуется проблемой масонства. Надо бы с ним повидаться». Не прошло и пяти минут, как раздался телефонный звонок, и в трубке Алексей Петрович услышал голос Хрисанфа: – Здравствуйте, уважаемый Алексей Петрович! – Рад слышать, ваше преосвященство. Только что думал о вас. Как поживаете, что происходит с православием? – Об этом мне хочется с вами поговорить. – Тогда приезжайте, я вас жду. Владыка приехал через час, как всегда бодрый, подтянутый, аккуратный, но чем-то озабоченный. Окинув наметанным взглядом Иванова, он с искренним восторгом произнес: – Вы прекрасно выглядите, дорогой друг! – и, постучав по столу, продолжал с нескрываемым изумлением смотреть на Алексея Петровича. Решил: – Вы были в санатории? – Нет, владыко. Я вообще не приемлю эти заведения, а сейчас тем более. Там, рассказывают, теперь наслаждается советская буржуазия. Пристально всматриваясь в Алексея Петровича, Хрисанф обратил внимание на отсутствие двух мазков седины в его бороде. Подумал: «Вот в чем дело: покрасил. И волосы тоже». – Ничего подобного, владыка, не красил. Все исчезло само собой, по Божьей воле, – опроверг его мысли Иванов, что несколько удивило епископа. – Сейчас мы с вами будем чаевничать. Или вы – кофе? Владыко предпочел чай. За столом Иванов, читая мысли епископа, сказал без малейшего сомнения: – Вижу, вы обеспокоены положением в православной церкви. Вы считаете, что причина нынешнего разброда кроются в общем положении страны. – Несомненно, – ответил епископ и немного удивился: Иванов сказал то, что хотел он сам и теми же словами. – Скажите, Николай Семенович, вы и впрямь считаете, что бедственное, катастрофическое состояние, в котором находится наша страна, есть кара Господня за грехи наши? – Да, я и тогда вам говорил: это дело дьявольских рук антихристов. – То есть масонов? – Ну, я… так не сказал, – замялся епископ. – Вы так подумали. Владыка с удивлением уставился на Иванова: он действительно так подумал. А Иванов с твердой решимостью продолжал допрашивать: – Тогда объясните мне, грешному, кто такие масоны? – Это тайная организация, которая опутала сетью своих агентов весь мир. Она правит миром руками своих ставленников – президентов, министров, генералов. В масонских ложах встречается и ваш брат – художник. Ему создают рекламу через прессу, а она, мировая пресса, почти вся находится в руках масонов. Масонами были американские президенты Трумэн, Эйзенхауэр, Форд, Никсон, Картер. И Черчилль был масон, и Муссолини. Сила масонов, уважаемый Алексей Петрович, в глубокой конспирации. Тому, кто нарушит их тайну, грозит смерть. – В таком случае спрашивается: зачем нужна тайна? Чтоб скрыть от народа свои преступные деяния? Так надо понимать? – Совершенно верно. Русский патриот генерал Ермолов говорил о масонах: общество, имеющее цель полезную, не имеет необходимости быть тайным. – А у нас, в России, есть масоны? – напрямую спросил Иванов. – Были и есть, – с убежденностью ответил епископ. – На самом верху и во всех эшелонах власти. И все архитекторы и прорабы перестройки, несомненно, масоны. – Вы имеете в виду Яковлева, Горбачева и Шеварднадзе? – И не только их. Каждый второй член Политбюро был масоном. И работал на перестройку, во вред народу. – Вы сказали, что среди нашего брата – художника были и есть масоны. А среди вашего брата – духовенства? Прямой вопрос Иванова смутил епископа, он медлил с ответом, но Иванов не нуждался в ответе: он читал мысли епископа и спросил: – Вы уверены? – В чем? Что вы имеете в виду? – не понял епископ. – Что патриарх масон, – выстрелил Иванов, глядя на владыку в упор. – Я этого не сказал, – в замешательстве ответил владыка. – Вы подумали. В глазах епископа забегали огоньки смущения и растерянности. Алексей Петрович решил выручить его и продолжал: – Может, в этом и есть причина всех неурядиц, которые вдруг появились в вашем «Хозяйстве»? – Он пристально смотрел на озадаченного епископа и, прочитав его мысли, сказал: – Да, в этом нет сомнения, Александр Мень был масон и сионист. Вы правы. – Я этого не говорил, – дрогнувшим голосом произнес епископ. В глазах его застыл испуг. – Да, да, вы не говорили, вы только так думаете, – с каким-то мальчишеским озорством сказал Иванов. Но епископу Хрисанфу было не до озорства. Он с подозрением посмотрел на Алексея Петровича, потом, торопливо взглянув на часы, приглушенно молвил: – Мне пора. Благодарю вас за чай, рад был повидаться. – И поспешно встал из-за стола. – Да что же вы так быстро: мы и поговорить не успели, – сказал Иванов, и в голосе его прозвучали насмешливые нотки. – Да о чем еще говорить, все уже говорено-переговорено. Только разговоры наши никак не влияют на жизнь. А она с каждым часом все хуже и хуже, и, похоже, недалек и конец. Мой оптимизм, Алексей Петрович, признаюсь вам, иссяк. Зло оказалось сильней добра, ложь победила правду. – С этими словами он протянул Иванову свою могучую руку, в которой Алексей Петрович ощутил дрожь. – Будьте здоровы. Супруге поклон. Как только ушел епископ Хрисанф, Алексей Петрович почувствовал угрызения совести: зачем позволил такое мальчишество, похожее на хвастовство? Удивил поразил, даже напугал, демонстрируя своюспособность читать чужие мысли, не удержался от соблазна. Конечно же, глупо и непростительно. И тем не менее он искал оправдание своему поступку. Вспомнил, как еще совсем недавно, и полгода не прошло с тех пор, в присутствии генерала Якубенко епископ Хрисанф защищал и патриарха, и Меня. Выходит, говорил одно, а думал совсем другое. Нехорошо, владыко, несолидно для вашего сана. Лицемерие – привилегия политиканов, дипломатов, руководителей разных рангов и прочих уголовников. «Если бы все люди могли читать мысли друг друга, из жизни исчезли б подлецы и подонки, сгинула бы ложь и торжествовала правда. А где правда, там и справедливость, – успокаивал себя Алексей Петрович. А тем временем нечто подобное происходило и с Машей. В редакцию она вошла красным солнышком, сияя здоровым оптимизмом. – Не спрашиваю, как провела выходные: все на лице написано, – с женской завистью сказала ответсекретарь, окинув Машу ревнивым взглядом. – Зайди к главному, он тебя спрашивал. Главный осмотрел Машу с головы до ног с некоторым удивлением, подумал: «Какая ж она… обалденная, преступно красивая». И не успел он произнести первое слово, как Маша парировала: – Я не очень понимаю, Александр Александрович, что вы имеете в виду под словом «обалденная». Что же касается красоты, то вы тут заблуждаетесь: красота в отличие от уродства не бывает преступной. После такой реплики редактор смотрел на Машу и в самом деле обалденно: как она могла узнать его мысли? Лицо его вспыхнуло румянцем смущения и недоумения. А она, довольная эффектом, со сдержанным торжеством нарушила неловкую паузу: – Я слушаю вас, Александр Александрович. – Вам, Мария Сергеевна, нужно встретиться с депутатом Верховного Совета, демократом, и взять у него интервью. Есть договоренность. Вот его телефон, назначайте встречу. Короче, он ждет вашего звонка. – Интервью? Но о чем, что вас интересует? – Решите сами. Поинтересуйтесь, что себе думают демократы, развалившие страну? На что надеются? Маша понимала, что редактор еще не оправился от шока и торопится избавиться от нее. Она взяла бумажку с номером телефона депутата и, не говоря ни слова, повернулась к двери. Но не успела переступить порог, как редактор окликнул ее: – Извините, Мария Сергеевна. Объясните, пожалуйста, – я же не сказал о преступной обалденной красоте. – Вы подумали, – с игривой улыбкой ответила Маша. – Это точно – я подумал. Но как вы догадались? – Есть категории людей, Александр Александрович, у которых душа нараспашку, а у некоторых – они встречаются очень редко – мысли нараспашку. Вы относитесь к последним. Так сказать, феномен. Учтите – сотрудники редакции давно читают ваши мысли. Будьте осторожны. – И поспешила удалиться, оставив редактора в растерянности и недоумении. Депутат-демократ встретил Машу с холодной любезностью, газету, которую она представляла, он не читал, но до встречи с журналисткой получил информацию от своих коллег, что газета в оппозиции к правительству, с ярко выраженным монархическим и церковным уклоном. Что ж, это даже любопытно, решил депутат, послушать, как патриоты собираются посадить на престол царя-батюшку и отдать попам воспитание молодого поколения. Естественно, разговор начала Маша. – Как известно, вы, господин депутат, поддерживаете все преступные действия вашего антинародного правительства. – Депутат поморщился, но смолчал, решив выслушать до конца. – Вы знаете, что оккупационный режим Ельцина будет сметен волной народного гнева. – Восстание голодных, безработных рабов, – с иронией вставил депутат. – Это мы уже слышали и читали. – С падением правительства падете и вы лично. Вы об этом догадываетесь, – не обращая внимания на реплику депутата, с твердым спокойствием продолжала Маша. – У меня к вам один-единственный вопрос: задумываетесь ли вы об ответственности за все немыслимые злодеяния, которые вы – демократы – со своим правительством сотворили над великой державой? Ведь будет суд, страшный и праведный. Не Божий, а народный суд. «Рита мне говорила то же самое», – подумал депутат, и Маша в ту же секунду спросила: – Рита – это ваша жена? – Да, – машинально и с удивлением ответил депутат. – А вы с ней знакомы? – Вот и жена вас предупреждала о неминуемой ответственности, – продолжала Маша, игнорируя вопрос депутата, в глазах которого вспыхнули иронические огоньки, а губы скривились в усмешке. Он подумал: «Не пугай, дорогая, все предусмотрено: когда начнется этот ваш бунт, я успею махнуть за границу, к себе на родину, на Украину». – Не успеете, – быстро ответила на его мысли Маша, – суд и там вас найдет. С крахом Ельцина сработает принцип «домино»: зашатаются Кравчуки и прочие шушкевичи. И вновь прозвучит гимн: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь!» Депутат уставился на Машу одеревенелым взглядом, в расширенных глазах его Маша увидела смятение и страх. Маша преднамеренно выдерживала паузу, ожидая его слов. А они застряли в горле ошарашенного депутата. Наконец, заикаясь, он произнес: – Вы что, экстрасенс? Вы ясновидица? – Ясновидение – это профессиональная черта журналиста, – четко, с чувством достоинства ответила Маша и прибавила: – Если он, конечно, не проституирует и не идет на сделку со своей совестью. Разумеется, при наличии таковой. – Понятно, – с раздражением молвил депутат и встал. – Подослали экстрасенса – провокаторы. Будем считать, что интервью не состоялось. И вообще ничего не было и мы с вами, уважаемая, не встречались. Маша молча в знак согласия закивала головой, оставив депутата в состоянии растерянности и испуга. Встреча с инопланетянами, а главное – способность читать мысли посторонних людей как-то перевернули, опрокинули всю жизнь Маши и Алексея Петровича, поставили их в какое-то новое, непривычное и необычное измерение человеческого бытия. Иногда они ощущали нереальность своего положения, им казалось, что они находятся в состоянии летаргического сна и происходящая вокруг них жизнь – это цепь сновидений, тем более что реальные, подлинные сновидения, которые раньше их навещали каждую ночь, теперь совсем исчезли. Общались друг с другом чаще всего без слов, мысленно. Вначале их это забавляло. Но, находясь среди людей и читая их тайные мысли, они чувствовали себя как в аквариуме, испытывали неловкость. Обладая великой тайной, они не могли ее никому открыть напрямую. А те эпизоды, вроде беседы Алексея Петровича с епископом о масонах или разговора Маши с главным редактором и депутатом, имели для них неприятные последствия. Знакомые, особенно сослуживцы Маши, чтоб не выдать своих интимных мыслей, просто избегали встречи с «ясновидицей» Епископ Хрисанф перестал встречаться с Ивановым и даже не звонил. Им было неуютно и неловко, как людям, живущим в полностью стеклянном доме, где все – стены, полы, потолки – прозрачно. Так продолжалось дней десять. Однажды часа в три ночи Маша проснулась от сновидения, первого после встречи с инопланетянами. Ей снилось что-то приятное, торжественно-возвышенное, какое-то хоральное пение, разбудившее ее. И потом тихий голос Алексея Петровича: – Ты проснулась, зоряночка? – А ты давно не спишь? – Только что. Но я выспался. Представь себе – ко мне снова вернулось сновидение. А что снилось – не помню. Что-то хорошее. Какие-то ангелы. Я уже не усну. С которого часа начинают ходить электрички? – Не знаю, милый. Но мы поедем. Я рада, что желания наши совпали. Я чувствую зов. Он как набат. Как и в прошлый раз, они поехали на дачу едва ли не на первой электричке. От платформы шли словно на крыльях летели, охваченные праздничным состоянием. И весь мир вокруг был праздничным и новым: молодое, игристое и неяркое солнце струилось бриллиантами в росистой траве, в черемуховых зарослях заливались восторженные соловьи, синее звонкое небо дышало свежестью и первозданной чистотой, еще досматривали последние сны жители поселка, вокруг не видно было ни души. Лишь они вдвоем заполняли этот прекрасный и опозоренный негодяями мир. Им дышалось легко и просторно, и сердца их, осененные светлой и чистой любовью, бились в едином ритме, и мысли их, благие и ясные, были общими: «Они позвали нас! Мы идем на ИХ зов смело и радостно, с открытыми душами». Они уже не произносили слов, они разговаривали мысленно. «Если повторится встреча с НИМИ, что мы им скажем?» – спросил Алексей Петрович. «Мы скажем то чего не сказали в прошлый раз: помогите землянам, отравленным ядом лжи, лицемерия и жестокости. Спасите нашу планету!» – «А еще мы скажем им, – продолжил ее мысли Алексей Петрович, – что люди Земли, погруженные в муки и страдания, всегда с надеждой о спасении обращали свой взор на небеса. Будьте же посланцами неба, ангелами-спасителями – вы, всесильные, и всесущие, и всеведущие, помогите землянам избавиться от зла и ненависти, посеять навечно семена добра и любви. Вас просят униженные и оскорбленные. Снизойдите!» Было раннее-раннее, звонкое и ясное утро, когда они пришли на дачу. И, несмотря на такую рань, они почему-то совсем не удивились, увидав на крыльце поджидающих их бабушку и внучку. Настенька с восторженной радостью бросилась к ним навстречу. Маша легко подхватила ее на руки, прижала к себе и расцеловала. А Лариса Матвеевна посетовала: – Проснулась чуть свет-заря, и мне спать не дала. Идем, говорит, «наших» встречать. Я уж начала волноваться: не случилось ли что? – Все в порядке, мама. Мы пойдем в Копнино. – И я, и я, мамочка, и я с вами! – радостно завопила Настенька. «Возьмем ее», – мысленно произнес Алексей Петрович. «Возьмем, обязательно возьмем, – охотно согласилась Маша и добавила: – Пойдем сейчас. Попьем чаю с бутербродами и пойдем». Конечно же, Лариса Матвеевна воспротивилась, удивилась и возражала: зачем в такую рань, когда роса еще не спала, и зачем тащить ребенка? – Она поедет на лошадке, – урезонивала Маша. – Алексей Петрович согласился быть лошадкой, и для нее эта прогулка не будет утомительной, зато полезной и приятной: девочка давно мечтает побывать в Копнино. А сейчас самая прекрасная пора – расцвел на полянах пестрый ковер. Маша была настроена решительно, и никакие уговоры матери не могли поколебать ее намерения взять с собой Настеньку. Девочка прекрасно себя чувствовала на плечах Алексея Петровича. Она была переполнена радостью и восторгалась всем, что встречалось им на лесном пути, озаренном игристым утренним солнцем. Эта маленькая дочь планеты Земля воплощала собой очарование и счастье в этом еще не познанном и не разгаданном ею мире, где царствуют законы двуногих хищников, восседающих на троне, сделанном из всесильного желтого металла. Огромная поляна, озаренная солнцем, еще не успевшим испить росу, пестрела несметными колокольчиками и ромашками. Синие и белые блестки по зеленому полю искрились и переливались звучной радугой. Дети очень чувствительны к прекрасному. Их чистые, неиспорченные души поражают и очаровывают своим непосредственным восприятием мира. Недаром же говорят: устами младенца глаголет истина. И уста Настеньки с восторгом и удивлением произнесли: – Как красиво! А можно мне побегать и поваляться? И колокольчик с ромашкой сорвать? – Погоди немного: спадет роса, и ты побегаешь, – ответила Маша, с умилением глядя на дочурку. Она расстелила тот же плед на том же месте и предложила: – А пока поваляйся здесь. Маша и Алексей Петрович вдруг одновременно ощутили необычное, напряженное волнение, о чем мысленно сообщили друг другу. Оно неотвратимо нарастало в них, как бы извне проникая в организм. И тогда внезапно и совсем бесшумно, уже с противоположной стороны, рядом с ними опять приземлился серебристый диск и мгновенно открылась дверь. Маша с волнением схватила на руки дочь, и та же, что и в прошлый раз, невидимая сила приподняла их, превратив в легкие пушинки, и втянула в открывшийся проем… …Ни вечером, ни ночью, ни утром Лариса Матвеевна не дождалась своих чад. По совету соседей подождала еще до вечера, а потом заявила в милицию. Через несколько дней по телевидению в программе криминальной хроники среди других сообщений о пропавших людях было предельно кратко оповещено, что семья из трех человек утром ушла на прогулку на Копнинские поляны и не вернулась домой. Говорили, какая-то женщина утром видела в небе над Копнином серебристый диск. Но ее слова всерьез никто не принял. Пресса и телевидение в те дни занимались более важным государственным делом – пикетированием трудовой Москвой Останкинской империи лжи. Им было не до космических сенсаций. …Прошло пять месяцев, выпал первый снег и растаял. Кто-то вышиб окно в мастерской Иванова, раскрошил вдребезги отформованные в гипсе «Ветерана» и «Лебединую песню» и прихватил два живописных этюда Алексея Петровича. Мраморный портрет Маши и композицию «Девичьи грезы» унести не смог. Да вряд ли они его интересовали. Искусство и перестройка по Горбачеву-Ельцину – понятия несовместимые. Недавно я побывал на квартире Ларисы Матвеевны и был несказанно рад, увидав там шедевры Алексея Петровича – портрет Маши и «Девичьи грезы». От них искрилась и сияла светлая и чистая любовь, они сверкали как голубой бриллиант. Вопреки милицейской версии, что семья Ивановых – Зорянкиных стала жертвой расплодившихся в России с благословения демократов уголовных банд, Лариса Матвеевна, убитая неутешным горем, верит рассказу женщины, видевшей над Копнином «серебристую тарелку», и верит в непременное возвращение на Землю своих родных. Считает, что это произойдет тогда, когда состоится суд над Горбачевым, Ельциным, Яковлевым, Шеварднадзе и всеми иными предателями Великой Державы.Эпилог
«На протяжении семи месяцев в небе над Бельгией регулярно появлялись НЛО. Они были зафиксированы как радарами, установленными на поверхности земли, так и радарами с воздуха, установленными на истребителях противовоздушной обороны, поднятыми по тревоге. Это были летающие объекты треугольной формы со светящимися по углам прожекторами. Истребителей они допускали до себя не ближе, чем на десять километров, потом гасили прожектора, давали красную вспышку и на немыслимой скорости исчезали. Одному из бельгийских инженеров удалось на две минуты заснять на видеопленку это необычное явление». (Из газет)
1. Во Вселенной
Первые минуты, – впрочем, не минуты, а часы, на небесном корабле инопланетян мы чувствовали себя мало сказать неуютно, – очень даже плохо. Как это ни странно, лучше нас с Машей чувствовала себя Настенька. Состояние невесомости – а это было главное неудобство – ее просто удивило, как катание на каруселе в парке Сокольники. Маша находилась в растерянности, доходящей до ужаса. Страх не столько за себя, сколько за ребенка погрузил ее в оцепенение, и она, крепко прижав к себе Настеньку, свободно парила в довольно широком пространстве корабля, пока я не подхватил их и не посадил в мягкое удобное кресло, снабженное автоматическим креплением. Сам сел в другое, стоящее рядом кресло. Все это я делал по команде, исходящей от невидимого источника, притом воспринимал я ее не внешним духом, а так, как мы разговаривали с Машей мысленно, безголосо. Естественно, команду садиться в кресле должна была воспринимать и Маша, но, как я уже сказал, она находилась в эти первые минуты в состоянии близком к шоку. И это несмотря на то, что у нас уже был опыт, мы уже летали на межпланетном корабле. Но в тот раз все было по-иному, все было проще: тогда мы находились в состоянии полудремы или легкого гипноза. Нами манипулировали. Теперь же мы были в полном здравии, в состоянии душевного и физического взлета. Коротко расскажу о корабле, вернее о том помещении, в которое нас буквально затащила какая-то невидимая сила. По крайней мере, как и при первой нашей встрече с инопланетянами, так и на этот раз мы не видели хозяев или обитателей так называемого НЛО. Помещение представляло форму несколько сплюстнутого цилиндра, стены, пол и потолок которого состояли из одного материала и были как бы затянуты легкой голубоватой дымкой, струящейся словно туман и навевающий приятное умиротворение. Эта дымка и составляла источник света, мягкого, спокойного и в то же время способного усиливать или убивать яркость свечения и принимать разные оттенки. Три вертящихся кресла у стены по правую сторону; у противоположной стены невысокое в виде эстрады возвышение, как не трудно было догадаться, предназначавшееся для сна. Рядом дверь в туалетную комнату. Где что находится и как им пользоваться, нам объяснял все тот же невидимый, доброжелательный голос, мелодичный, богатый оттенками. Он доносился откуда-то издалека и в то же время был как будто рядом и воспринимался не ушами, а всем существом. Это трудно объяснить. Ведь мы с Машей уже разговаривали без слов, то есть читали мысли друг друга. Кстати, отвечу сразу на непременный вопрос любопытного читателя: а как насчет харчи? Все очень просто, принимали мы по одной таблетке в день и в неограниченном количестве ароматной, нечто вроде сока жидкости, очень неприятной на вкус. Первые дни мы, то есть я, и Маша, разговаривали между собой мысленно, без слов, точно боялись выдать невидимым похитителям нас свое сокровенное, хотя, конечно, догадывались, что они «слышат» и понимают наш бессловесный разговор. Однажды Маша сказала вслух: «Алеша, мы же так можем разучиться по-человечески говорить. Давай с этим кончать. Согласен?» «А как из это посмотрят наши… хозяева?» – также вслух ответил я. И в тот же момент раздался мелодичный голос инопланетянина: «Пожалуйста, разговаривайте, как хотите. И вообще чувствуйте себя, как дома. Вы здесь одни». Это прозвучало, как ирония: хорошенькое дело – «одни», когда даже наши мысли контролируются. Воцарилось молчание. По бледному лицу Маши скользнула натянутая улыбка, а в бездонных глазах ее только на миг сверкнули лукавые огоньки. Настенька настороженно посмотрела вокруг, будто хотела увидеть говорящего, и спросила: «Папа – так она меня называет, – а кто это говорил? Где этот дяденька? Как его зовут?» Я замедлил с ответом, не зная, что сказать, как тот же очень дружелюбный голос оповестил: «Меня зовут Ангел». Так мы «познакомились». Но детское любопытство неистощимо. «А вы где, дядя Ангел?» – поинтересовалась Настенька. Ответ последовал немедленно: «Мы везде, во всей Вселенной. И в вас – в тебе, в маме, в папе». Наступила мягкая, вдумчивая пауза, которую нарушил приятный, мелодичный голос Ангела: «Знаю – у вас много к нам вопросов. Но прошу вас воздержаться задавать их. Со временем вы получите ответы. Частично», – прибавил он и умолк. И сразу же туманная дымка, облажившая стены и потолок, медленно начала принимать розоватый оттенок, похожий на дым, освещенный утренним солнцем в морозный день. Мы почувствовали необыкновенный тонкий запах, напоминающий аромат роз, который, казалось, источают стены и потолок. Этот аромат благостно действовал на нас, навевая покой и умиротворение. Мы как бы погружались в беспечную дрему, расслабив свое тело, но мысль оставалась светлой, ясной и более восприимчивой, обостренной. Я смотрел на Машу, на ее веселое лицо, осененное ослепительной улыбкой, исторгающей обаяние и любовь. Глаза ее лучились нежностью и добротой. В них я читал ее утешительные мысли: все хорошо, все прекрасно. Не нужно беспокоиться. И я восхищался ей и в мыслях говорил о своей беззаветной любви к ней, о моем неземном обожании. Да, я боготворил ее еще сильней, чем на земле, и благодарил судьбу, сделавшую меня самым счастливым человеком теперь можно было сказать во вселенной. Пелена тумана, обтянувшая потолок и стены, постепенно тускнела, принимая сиреневый оттенок, как это бывает на закате солнца в апрельском лесу, еще не одетом в листву. Настенька погрузилась в сон, а мы с Машей слушали внутренний голос Ангела, думалось, он отвечал на наши заданные вопросы. Это было очень похоже на то, что когда-то лет десять тому назад мне часто снилось: чей-то голос внушал мне не мои, даже неизвестные мне идеи и мысли, но неожиданно оригинальные, заслуживающие внимания. Теперь же Ангел говорил, что они давно, уже много лет постоянно ведут наблюдение за нашей планетой, молодой и едва ли не самой прекрасной во Вселенной – гордостью Всевышнего Творца, и что гордость эту сменило разочарование. Потому что силы Добра уступили силам Зла, своей беспечностью и доверчивостью не смогли противостоять силам Зла, не сумели объединиться и победить, своим непротивлением дали возможность тлетворным бациллам разрушения расплодиться по всей планете, позволили вирусам духовного и нравственного разложения поразить изначально здоровый организм человечества. Обитатели планеты земля, то есть мы, люди, подверженные эгоизму и алчности, своими неразумными деяниями довели планету до серьезной болезни. «Земля больна, – говорил Ангел, – и болезнь эта стремительно прогрессирует. Многие тысячелетия на планете действуют силы Добра и Зла, создатели и разрушители. Последние, по одной из версий, суть не земного происхождения. Их имя – бесы. На противоположной от нас стене, то есть над спальным ложе, вспыхнул экран с изображением карты западного полушария. – Здесь, – сказал Ангел, имея в виду обе Америки, – сегодня властвуют бесы и преданные выродки. Как, впрочем, и во всей Европе. Это одна версия происхождения бесов. И она ошибочная. Но есть и другая, правдивая версия, – продолжал Ангел. – Суть ее в том, что бесы земного происхождения. И он пояснил: «Сатана – это воплощение Зла во вред Творцу Вселенной решил испохабить его прекрасное творение, его гордость – планету Земля. Для этой цели он спустился на землю и побывал во всех населяющих ее племенах, отыскивая подходящее для воплощения своего коварного замысла. После долгих исканий он все-таки нашел племя, отличающееся высокомерием, эгоизмом, жестокостью и цинизмом, лишенное элементарных нравственных и духовных начал. Поселившись среди них, он привил им инстинкт разрушения, развил и укоренил в них все их пороки и сказал им: вы мои избранники, я дарую и повелеваю вам владеть над всеми двуногими, населяющими эту землю. Он дал им инструкцию, следуя которой бесы должны прийти к мировому господству». Перед нашим взором на экране Ангел развернул карту планеты, на которой шестиконечными звездочками были обозначены страны, уже покоренные бесами. Эти звездочки, как кароста, покрывали оба американских материка, Европу, Австралию. И к немалому моему удивлению – Индию. Только Китай, Корея, Япония были почти чисты от этих бесовских символов. Зато они густо покрывали огромные просторы, когда-то носившие гордое имя СССР. Таяли и смывались с карты другие страны и континенты, и перед нашим взором крупным планом предстала карта США. «Здесь главное обиталище бесов, – вслух прозвучал твердый голос Ангела. – Здесь хранилище земных сокровищ, награбленных алчными, ненасытными бесами и их лакеями-выродками, аборигенами, которым бесы подставляют жен из своего племени. И тогда рождаются бесята-полукровки, самые отвратительные из бесов. Отсюда из этой страны бесы правят миром через купленных ими выродков. Здесь они создали свой дьявольский штаб наподобие всемирного правительства, которым тайно правит сатана. Здесь плетутся интриги и заговоры против непокорных. Здесь решалась судьба вашей страны». После этих слов Ангела перед нашим взором вместо карты США предстала карта СССР, каким он был до Беловежской авантюры. А голос Ангела продолжал: «Чтоб покорить все племена Земли, бесы придумали разные лживые теории, вроде „общего дома“, построенного по проекту их главного архитектора Зла – сатаны. Их цель – заставить все народы отказаться от своих корней и принять однообразный образ жизни, предложенный сатаной. Всевышний Творец создал на планете Земля гармонию несметного многообразия среди людей и в природе. В этом величие и мудрость Создателя. Бесы хотят истребить эту гармонию. Прирожденный инстинкт разрушения зовет их к насилию над природой и человеком, и это свое насилие они обставляют различными лживыми теориями, вроде „цивилизации“, „демократии“, „прогресса“ и прочей выдумки. Их „цивилизация“ и „прогресс“ построены на фальшивом фундаменте разрушения: жестокого насилия над природой, нравственного и духовного растления человека, его физического истребления голодом». Слова Ангела давали пищу для размышлений. Меня естественно, интересовала судьба родины: кто и как разрушил ее, вверг смуту? Откуда вдруг в одночасье появились сотни миллионеров и миллионы нищих? Почему на ее окраинах полилась кровь и потянулись караваны беженцев? И ответил мне Ангел почти так же, как говорил когда-то мой покойный друг и однополчанин генерал Якубенко Дмитрий Михеевич. «На Россию, как на лакомый кусочек, давно зарились ее ближние и дальние соседи. Не однажды они пытались покорить ее силой оружия и разграбить, но каждая такая попытка кончилась для них жестоким поражением. И тогда за дело взялись бесы-внешние и внутренние. Начали разрушать ее с растления молодежи. Вталкивали в их неокрепшие души свою бесовскую „культуру“, густо заправленную на животных инстинктах – на сексе, насилии, цинизме, неверии. И ваша трагедия – дело рук бесов и оборигенов-выродков. Они насильственно отучили вас от веры, заставили забыть десять Божьих заповедей Добра. Они растлили человечество, погрузив в разврат, эгоизм, бездуховность, жестокость, алчность. Люди приобрели повадки зверей, погрязли в плотском удовольствии и отвергли духовность, перестали отличать прекрасное и возвышенное от пошлого и мерзкого. Алчность привела вас к конфликту с природой, которую вы губите ради своего удовольствия, рубите сук, на котором сидите, – вы берете от природы больше, чем вам нужно для жизни, больше, чем она может дать. Ваши правители – глупые лицемеры, безнравственное, тщеславное, бездуховное отребье, вознесенное на олимп власти все теми же бесами. Вы жадно ищите правды, а верите в ложь, которой вас денно и нощно кормят бесы и выродки. Они издеваются, насмехаются над вами, оскверняют и порочат все чистое, светлое, здоровье. А все уродливое мерзкое эти могильные черви объявляют гениальным. И одураченная толпа рабов принимает всерьез их рекламу и преклоняется перед пошлостью и уродством. Когда умолк его голос, Маша в тревоге спросила: «А где же спасение?» И Ангел ответил: «В борьбе со злом. Когда все люди планеты сбросят с себя покров лжи, навешенный на них бесами и выродками, откроют глаза, просветят свой разум и узреют правду и распознают под благородной личиной врагов своих – угнетателей и притеснителей из племени бесов и вырвут у них ядовитое жало, источающее лицемерие, ложь, жестокость и разврат, отнимут у них награбленное золото, алмазы, запретят им терзать и отравлять недра, воды и атмосферу, заставят жить по справедливости, отдавая предпочтение не плотской, а духовной пище; когда народы и племена с презрением отбросят чуждые им сатанинские одежды и нравы и предпочтут им обычаи и традиции своих предков; когда люди планеты прогонят бесов и выродков с командных и доходных постов, захваченных ими обманом и подкупом, тогда Земля избавится от болезни и восторжествует Добро над Злом». Ангел умолк, и вновь в помещении воцарилась мягкая, завораживающая тишина. Но через минуту мы восприняли внутренний голос Ангела: «У бесов есть устав, по которому они идут к господству над Миром. Называется он Протоколы. Бесы скрывают его от людей, ибо если все люди Земли ознакомятся с этим дьявольским планом порабощения, они возмутятся и разрушат коварный замысел бесовщины. Этот сатанинский план должен получить широкую огласку среди людей, особенно молодежи. С ним учителя должны знакомить школьников». Я смотрел на Машу, и мне казалось, что она засыпает. Да я и сам почувствовал, как погружаюсь в легкую дрему. Не могу сказать, был ли это естественный сон или нас преднамеренно усыпили. Первый проснулась Настенька. «Мамочка, посмотри, какой голубой шар», – с восторгом и удивлением воскликнула она. И было чему удивляться: стена, у которой стояли наши кресла, неожиданно оказалась прозрачной, и перед нами открывались безбрежные просторы Вселенной. Среди необыкновенно крупных не по-земному ярких звезд в черном безмолвном медленно плыла наша до боли родная Земля, излучая голубой ореол. Солнце не было видно – оно находилось с противоположной стороны корабля. И в эти минуты я всем своим существом почувствовал величие и бесконечность Вселенной, ее непостижимость для нашего ума, и этот прекрасный голубой шарик показался маленькой рождественской игрушкой, песчинкой необъятного Мироздания, где все подчинено вселенскому закону Разума и Гармонии. Необычность положения, в котором мы очутились в первые часы, да и дни, погружала меня в состояние тревоги и, признаюсь, даже страха. Но потом все это исчезло и не без влияния. Маши. Она вела себя так, словно попала в свою стихию, о которой всю жизнь мечтала Она была возбуждена до состояния восторга, и это состояние казалось настолько естественным, что все мои тревоги выглядели ничтожными. «Алешенька, ты не находишь, что это судьба, наша с тобой судьба, – весело говорила она. – Ты веришь в судьбу? В предначертание свыше? То, что мы встретились с тобой и полюбили друг друга? Это не случайно: ведь мы же оба мечтали о встрече с инопланетянами. И поэтому они выбрали нас. Из миллионов землян нам оказана такая честь. Мы должны благодарить судьбу за это». Глаза ее сверкали неземным блеском. Лицо излучало чистый свет, она вся пылала счастьем и, позабыв, что за нами наблюдают ласкалась ко мне, шепча: «Алешенька, родной, как я тебя люблю. Нет, ты не представляешь, что ты для меня. Ты – моя жизнь, мое счастье». Она была восхитительна, эта великая и мужественная женщина – моя неземная любовь. А время шло. Понятия «день» и «ночь» утратили свой смысл. Когда нас одолевал сон, мы из кресел перебирались на постель, устроенную с искусственным земным притяжением, и ложась, мы уже не находились в состоянии невесомости, к которому привыкали и мучительно и долго, с Ангелом разговаривали все реже и реже, зато чаще погружались в состояние полусна. Мы понимали: над нами делают какие-то эксперименты. Физически мы чувствовали себя превосходно. Прозрачная стена открывалась не часто и не надолго. Ощущение необъятности Вселенной всегда приводило в трепет и одновременно порождало чувство гордости за дарованную нам судьбу. Ведь мы считали себя «избранниками неба», полномочными представителями землян в Космосе и нисколько не жалели, что нам выпала такая доля. Маша постоянно была в состоянии восторга и все повторяла, что она мечтала о такой участи и что ее мечта сбылась. Ее совсем не огорчала перспектива не вернуться на землю. «Мы не жертвы, – говорила она, давая волю эмоциям. – Пойми, Алешенька, мы миссионеры, и миссия наша особая, исключительная, чрезвычайная. Помнишь, в твоей мастерской, упиваясь нашим счастьем, мы радовались и говорили: мы одни в этом мире. Теперь же мы действительно одни во Вселенной, и я тебя очень люблю». Она была по-прежнему ласкова, нежна и очаровательна, и мы, не стесняясь Ангела, любили друг друга. А мне все же хотелось вернуться на Землю, хотя я не говорил об этом Маше, и был солидарен с ней, разделяя ее восторг. Я постоянно думал о нашей родине, разграбленной, опозоренной и оплеванной бесами, которые там правят свой шабаш. Я даже однажды обратился к Ангелу с просьбой помочь России избавиться от власть придержащих палачей. Ответа не было. Мы не замечали бега времени. Но вот после долгого молчания мы услышали голос Ангела. Это случилось после того, как Настенька начала капризничать: хочу к бабушке, там мои игрушки, мои книжки. Мы с Машей пытались успокоить ее, рассказывали сказки, читали наизусть детские стихи. Не подействовало. «Вы вернетесь на Землю, и нашу с вами встречу сохраните в тайне, – объявил Ангел. – Но прежде мы научим вас врачевать людей, пробуждая в них внутреннюю, неиспользованную энергию. Вы будете устранять в людях их физические недуги и проповедовать им правду о бесах. И они, исцеленные вами, понесут эту правду и уст в уста своим близким и знакомым, освобождая их от сатанинской лжи. Они станут апостолами Правды и Добра. И однажды к вам придет совершенно здоровый человек, и вы наградите его силой, какую получили от нас, и расскажете ему всю правду о бесах и их дьявольских Протоколах и от нашего имени благословите его возглавить все сущие народы российские на священную битву с бесовским Злом». Когда он умолк, Маша спросила: «А как мы узнаем его?» «По лицу, осеянному чистым светом глаз, излучающих веру, справедливость, честность, неподкупность, правду и добро», – был ответ Ангела. Меня порадовало предстоящее возвращение на Землю. А Маша, кажется, была немного разочарована, зато Настенька оживилась, повеселела, от хандры ее не осталось и следа. О времени мы в течение первых месяцев ориентировались по моим часам. Потом, спустя два месяца пребывания во Вселенной, запутались, поскольку не имели при себе ни бумаги, ни карандаша, чтобы вести счет. Интуиция подсказывала нам, что прошел год, а возможно, и больше. Время тянулось очень медленно, особенно после того, как нам сообщили о решении вернуть нас на Землю. Подмывало нетерпение. Огорчало и то, что в последний раз, когда стена становилась на недолгое время прозрачной, мы не обнаруживали нашего родного голубого шара. Только звезды, яркие, холодные и какие-то безучастные. По ним мы определяли, что корабль наш летит. А при закрытой стене создавалось впечатление, что мы стоим на месте, просто висим в небесном пространстве. Прошел приблизительно месяц в напряженном ожидании. Когда же? – спрашивали мы себя. Неожиданно на нас обрушилось какое-то странное чувство: необъяснимое, все нарастающее беспокойство, переходящее в тревогу. Мы не находили себе места, нервничали, метались из угла у угол. Но удивительно: Настеньку это состояние не коснулось, она была спокойна и даже весела. Наконец, голос Ангела: «Летим к Земле. – И долгая пауза. Затем тот же голос: – На вашу страну надвигается трагедия: бесы и выродки решили пролить русскую кровь. Мы вас посадим после того, как совершится это сатанинское преступление». Бог мой! Что ж эта такое? Неужели гражданская война? Бесы решили… И выродки… Не народ, не патриоты, а бесы. Значит, власть придержащие, демократы. Вот, оказывается, источник нашей необъяснимой тревоги. Теперь все прояснилось. Выходит ОНИ, то есть Ангелы, могут предсказать события. «А нельзя ли предотвратить преступление, помешать ему свершится?» Я сказал это вслух, глядя на Машу, но вопрос был адресован Ангелу. Он промолчал. Только минут через десять стена сделалась прозрачной, и мы увидели шар земной, окутанный сизым туманом. Смутно вырисовывались очертания материков среди океана. Где-то там, на самом большом материке, пролегла наша родная, многострадальная Россия, растерзанная и оплеванная бесами и выродками. Какую ж еще кровавую пытку придумали они? Неожиданно за прозрачным бортом корабля поплыли словно в дымке тумана какие-то странные тени, напоминающие человеческие лики. Они, как признаки, совершенно бесплотные, прозрачные наплывали и колыхались. С каждой секундой они становились все гуще, и лики вырисовывались четче. Солдаты, матросы, штатские люди, пожилые и совсем молоденькие, мальчишки. Это было невероятное, я бы сказал жутковатое зрелище, когда мороз по коже. Я видел, как побледнела Маша. А сонмище ликов медленно плыло вдоль корабля, заслоняя собой звезды, и лики с каждым мгновением виделись ярче и четче. И мы с Машей одновременно воскликнули: «Жуков, маршал Жуков!» Да, это его образ проплывал перед нашим изумленным взором среди массы солдат. «Смотри, Пушкин!» – воскликнула Маша. «А рядом Кутузов, – отозвался я и вновь: – А там, похоже, Александр Матросов и еще Якубенко Дмитрий Михеевич, мой генерал!» Были и еще знакомые. Я узнал своего школьного друга Петю Цимбалова, погибшего под Кенигсбергом, Маша увидела свою покойную бабушку. Это видение ошеломляло, бросало в дрожь. Что все это значит? – мысленно спросил я, и в ответ услышал голос Ангела: «Под нами Россия. А здесь обитают души ваших соотечественников. Они возмущены преступными деяниями бесов и выродков и бездействием, слепотой и глупостью своих потомков. Они корят и проклинают вас, хотят пробудить в вас совесть, честь и достоинство». После этих слов прозрачная стена покрылась туманной пеленой и приобрела свой обычный вид. Но какой-то неестественный, неземной, потусторонний гул, печальный и гневный, заполнял все помещение. Мы ощущали его всем своим существом, каждым атомом тела. Казалось, что в этом гуле, как тревожные всплески, как стон, вырываются человеческие голоса и травят наши души. Мы были взволнованы услышанным и увиденным: кровавое побоище на земле и возмущенные души покойников в небесах. Что это – мистика или реальность? Я вспомнил наши разговоры с епископом Хрисанфом о бессмертии души. Владыка на этот счет имел твердые убеждения, у меня же возникали сомнения, я колебался. И вот они – души усопших и погибших в боях за Родину собрались над Россией в ее трагический час предательства и позора и теперь корят и проклинают своих наследников, которые не уберегли наследства, поверили лжецам, позволили себя оскотинить, отдали власть бесам, оборотням, ворам. Мысли мои метались от душ усопших к кровавой бойне там, на Земле, в моей России, к битве, которая должна произойти или, может быть, уже началась. Неожиданно на противоположной стене прямо над чащей постелью вспыхнул большой голубой экран точь-в-точь как на телевизоре, и на нем раскрылась панорама Москвы. Сначала общий план, потом отдельные районы и, наконец, Кремль, заполненный войсками. И гул, тревожный, вздрагивающий, орудийные выстрелы вперемежку с пулеметной трескатней. Кадры на экране менялись. Вот Горбатый мост напротив Дома Советов, на нем танки. Стреляют по белому зданию Парламента. Белое здание – Лебедь в огне. Горят верхние этажи. Толпы людей за танками. Трупы на асфальте и кровь. Трупы безоружных. На экране крупным планом девушка, совсем ребенок. Лежит навзничь, раскинула руки, как распятие. Глаза открыты, волосы растрепаны. Кровь на виске. Она мертва. «Это Россия», – слышится приглушенный голос Ангела, и меня бросает в дрожь: я с ужасом мысленно говорю: «Расстрелянная Россия» и слышу безмолвное добавление Маши: «Убитое будущее России». И словно в ответ на экране появляются убийцы – сначала те, кто отдал приказ убивать: Ельцин, Черномырдин, Грачев. Среди них какой-то черненький, вертлявый, захлебывающийся, в восторге кричит: «Давите их, Виктор Степанович!» «Это нижегородский губернатор Немцов», – поясняет Маша. Потом на экране появляются омоновцы. Их лица крупным планом – озверелые, обезумевшие от водки и крови, те, кто выполнял приказ главных убийц. В моем сознании всплывает образ фашистских эсесовцев, убивающих русских детей. Они стреляли в будущее великой державы, как и эти. До чего ж они похожи – эсесовцы и омоновцы. И те и эти кровожадные твари убивали безвинных людей только за то, что они любили свою родину. Убивали патриотов. А на экране новый кадр: во дворе какого-то дома на грязной земле раненый юноша, совсем еще мальчишка. Лицо в крови. Он пытается подняться, но сил не хватает. Испуганный взгляд его просит о помощи. Но вокруг – никого из людей. Он истекает кровью. В умаляющих глазах жажды жизни. Откуда-то из угла появляются двое в черных одеждах и черных масках с пистолетами в руках. Они останавливаются возле раненого и, осмотревшись кругом, хладнокровно стреляют в русского юношу. «Да это же бейтары!», – в ужасе воскликнула Маша. «Кто такие, что за бейтары?» – спросил я, совершенно подавленный увиденным. «Еврейская молодежная организация, – ответила Маша и добавила: „Бесенята, жаждущие русской крови. Дождались своего часа“. А я подумал: придет ли когда-нибудь возмездие? И в ответ услышал голос Ангела: „Вы русские умеете прощать и любить. Пора бы вам научиться ненавидеть и мстить“. И с этими словами погас экран.2. В расстрелянной Москве
Нас высадили в шесть утра недалеко от платформы Семхоз Ярославской железной дороги. Было еще темно, но электрички уже ходили. Алексей предлагал сразу пойти на нашу дачу и осмотреться, разобраться в обстановке. Я предлагала сразу же ехать в Москву. Во-первых, у нас не было от дачи ключей, а мама обычно уезжала с дачи на московскую квартиру в середине сентября. Сейчас же, судя по прохладной погоде, должно быть, заканчивается сентябрь, и мы могли не попасть на дачу. Конечно, можно было зайти к соседям, подсказал Алеша, выяснить обстановку и потом добираться до дома. Я отвергла и этот вариант: мы были одеты по-летнему, пледом, который оказался при нас, мы укутали Настеньку. И пока мы дискутировали, стоя на платформе, подошла электричка, и мы сели в полупустой вагон. У пассажира узнали, что сегодня вторник 5 октября. Первое, на что обратили внимание, было мрачное, какое-то подавленное состояние пассажиров. Значит, свершилась трагедия, частицу которой мы видели из космоса. В Москве у трех вокзалов было много вооруженных людей: военных, милиции. Мы спешили домой. Мы понимали, что наше появление на пороге собственной квартиры будет ударом для мамы. Надо бы предварительно позвонить по телефону. Но у нас не оказалось монет, у нас вообще не было ни копейки денег, и потому мы не могли воспользоваться метро, – пришлось добираться наземным транспортом с тремя пересадками. Наш звонок в квартиру, тем более в такую рань встревожил маму: – Кто? – настороженно спросила она. – Мама, это мы, – сказала я, и, наученная нами, повторила Настенька с радостным возбуждением: – Это мы, бабушка. Ну, конечно, слезы, рыдания, радость. Нас считали пропавшими без вести и не чаяли нашего воскресения. Мама за этот год очень сдала, постарела, осунулась. Наше исчезновение здорово ее подкосило. Гипертония, астма, радикулит, словом, целый набор недугов обручился на нее. «Будем лечить», – прочла я мысль Алексея и сказала вслух: – Мы тебя подлечим, мама, поправим твое здоровье. На все расспросы мамы мы отвечали, как условились: мол, совершали свадебное путешествие. – Да разве ж так можно: раздетые, с одним пледом? Да что ж это за путешествие? – недоверчиво проговорила мама, глядя на нас подозрительно. Но от дальнейших вопросов мы отвлекли ее расспросами о кровавой бойне в Москве. И она начала рассказывать об ужасах,творимых бандой Ельцина в эти октябрьские дни в столице. Тут и Настенька совсем не к месту встряла в разговор: – Бабушка, мы видели застрелянную девушку и мальчика, которого застрелили два бандита в черных масках. По телевидению… – Ты помолчи, дай нам поговорить с бабушкой, – оборвала я ее, но мама что-то заподозрила и снова пошли вопросы: какое телевидение и где? И почему больше года не давали о себе знать? И все это очень странно и совсем не понятно. Могли бы хоть письма, хоть коротенькую записку прислать. – Не могли, мама, в том-то и дело, что не могли, и давай эту тему навсегда исключим из нашего разговора. Лучше займемся твоими хворями. Сегодня же. Мне действительно не терпелось испробывать свои лекарские способности, которыми нас одарил Ангел. И я с каким-то необычным душевным подъемом, как наэлектризованная тотчас же занялась этим благородным делом. Даже мама удивилась: зачем такая спешка? Но я не могла себя остановить, я должна была, обязана, я подчинялась какой-то внутренней энергии заняться врачеванием, точно это было теперь главное в моей жизни Первые три дня мы не выходили из квартиры: надо было «акклиматизироваться». На четвертый день Алеша решил сделать выход в город, прежде всего надо было зайти в Сбербанк и получить пенсию за год с лишнем, и посмотреть мастерскую. Он возвратился к вечеру с кучей денег. Побывал в своей мастерской, наводил там порядок после «визита» туда грабителей. Я думаю, в мастерской мы сделаем нечто лечебного пункта, будем там принимать больных. На другой день Алеша позвонил владыке Хрисанфу. Тот очень обрадовался его звонку и пожелал встретиться у него на квартире. Мы решили навестить архиепископа вдвоем. Настеньку оставили с бабушкой. За прошедший год Москва еще больше захирела. Грязные улицы заставлены сплошь торговыми палатками, в которых восседают молодые откормленные, самодовольные, наглые парни и девицы, предлагая импорт на любой вкус, а главное – несметный выбор спиртного с яркими кричащими этикетками. Цены фантастические. Это и есть рынок, в который кнутом, как скот, загоняют народ демократы. В подземных переходах и в метро сидят и лежат нищие, среди них много детей, в том числе и школьного возраста, истощенных, голодных, больных. И это новая Россия, страна рабов, страна господ!.. С замиранием сердца я смотрю на этих обездоленных, обреченных, ограбленных, униженных и оскорбленных, до которых никому нет дела И в памяти всплывает святой образ девочки на асфальте, расстрелянной бесами, и юноши, приконченном бейтарами. Эти образы преследуют меня, как и то сонмище душ наших соотечественников, витающее в высоком небе над Россией И почему-то в сердце стучат некрасовские строки: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь!» Да, была могучей и обильной совсем недавно, как бы не лгали и не клеветали сионистские борзописцы. И сделали ее, насильно, вопреки воли и желанию народа, убогой и бессильной западные спецслужбы с помощью сионистов. Владыка Хрисанф встретил нас очень радушно. На его расспросы о нашем исчезновении мы отвечали уклончиво, он это понял, и не стал допытываться. Кровь, пролитая в октябре, заставила его пересмотреть свои прежние политические взгляды, особенно на роль патриарха в эти трагические дни. Святейший, переполненный ядом антисоветизма, не воспротивился и не осудил преступление Сатаны и его приспешников и фактически занял сторону президента. – Патриарх окончательно дискредитировал себя в глазах рядовых священников, – говорил владыка. – Его пассивное отношение к наплыву в страну из-за рубежа различных сектантов, свободно получающих у нас и телеэкран, и стадионы для распространения ереси, терпимость к растлению молодежи, и, наконец, молчаливое согласие на разгон и расстрел законного парламента, вызвали резкое недовольство среди Епископата. Назревает раскол. А это опасно, это очень нежелательно, друзья мои. – Выходит, что создается оппозиция патриарху? – сказала я. – Оппозиция существует давно, – ответил владыка. – Но она до сих пор была как бы внутри. Не выходила на поверхность. А сейчас проявилась. Не только в Епископате, но и в Синоде. По крайней мере позиции Митрополита Иоанна ощутимо отличаются от позиции патриарха. Владыка Иоанн истинный патриот, и он не скрывает своих взглядов. Недаром же на него набросилась сионистская пресса. В этой связи я вспоминаю вашего, Алексей Петрович, друга, генерала Якубенко. Он был прав, говоря о засилии в России еврейства. И главное, в духовной жизни. На это обращал внимание еще Сергей Николаевич Булгаков. – И тут владыка открыл толстую тетрадь и прочитал: – «Еврейство в самом низшем выражении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяком самоутверждении совершило… значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над святой Русью, которое было попыткой ее духовного и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства России». – Да разве только Булгаков обращал на это внимание, – сказала я. – Об этом говорили и Розанов, и Достоевский, и Куприн, и сотни других мыслящих патриотов. Ну и что? Что изменилось? Духовное и физическое удушение России никогда не прекращалось. И продолжается до сих пор. – Ну, не совсем так, – возразил Алеша. – Сталин попытался прекратить это удушение. – А в итоге его самого удушили, – заметила я. – Вы, владыка, вспомнили моего генерала и согласились с ним в отношении засилия еврейства в России. А я вот начинаю с ним соглашаться в отношении Сталина. Генерал утверждал, что сталинские репрессии были направлены против палачей русского народа, кто совершал, по словам Булгакова, духовное убийство России, – заговорил Алеша. – Представьте себе, какое кадровое наследство оставил Ленин Сталину. Да он и не Сталину, а тому же Троцкому, или Зиновьеву, или Бухарину, женатому на дочери Лурье, злобному русофобу. В Политбюро Сталин находился в плотном кольце ненавидящих его евреев и женатых на еврейках русских, вроде тех же Молотова, Ворошилова, Кирова и так далее. Это и были физические и духовные душители России. А на местах во всех государственных структурах ключевые посты, особенно в карательных органах, занимали евреи. И, конечно, в культуре. Сталину стоило большого труда и умения разделаться с этими душителями. И репрессии тридцать седьмого года были направлены прежде всего против этих палачей-душителей. – Но их потомки – внуки и внучатые племянники, все эти Гусевы-Драбкины, Афанасьевы взяли реванш, – вставила я. – Разрушили великое государство, уничтожили советскую власть, довели народ до обнищания и голода. И, наконец, расстреляли законный Парламент, устроили в Москве кровавое побоище. – И установили сионистскую диктатуру, – добавил Алексей. – Ужасно, ужасно, друзья мои, – горестно произнес владыка. – После того, что свершилось, после расстрела Парламента, я не верю в воскресение России. Сатана восторжествовал, предварительно обесчестив и оскотинив народ русский, обезмозглив и озверив. Вы видели черное пятно на Белом Доме Парламента. Это черное пятно на совести народа. Вы представьте себе: русские танки стреляют по русским людям и толпа русских людей спокойно и даже весело наблюдает за попаданием снарядов. Что это, как не патология? А писатель Булат Окуджава в интервью газете говорит, что он воспринял с ликованием расстрел Белого Дома. – Извините, владыка, Окуджава не имеет ничего общего с русскими. Он из племени бесов со всеми их людоедскими инстинктами. – Но в танках сидели русские, и зверствующие омоновцы тоже русские, – сказал владыка. – И генералы, которые приказ отдавали, тоже не немцы. Вот ведь в чем трагедия. В полной духовной деградации, в нравственном разложении. Стрелять по безоружным соотечественникам? Что это, каким словом назвать? Вы точное нашли слово для Окуджавы – людоедство. Да, да, именно людоедство. – Я думаю, ваше преосвященство, нужно создать «Черную книгу позора» и записать в нее имена главных палачей. И хранить ее вечно, – вдруг родилась у меня идея, – Так и написать на ней: «Хранить вечно!» Чтоб потомки с омерзением произносили их имена. Чтоб и дети и внуки душегубов чувствовали на себе пятна невинной крови. И чтоб церковь предала их анафеме. Как вы на это смотрите, владыка? – «Книга позора» – это дело серьезное. Но невинная кровь, пролитая душегубами, не должна запачкать их детей и внуков. Они не виноваты и не несут ответственности за злодеяния родителей. Что до анафемы, то это дело сложное, я бы сказал тонкое, – ответил епископ. – Конечно, нынешний патриарх – друг президента на это не пойдет, – сказал Алеша. – А вот идею твою с «Черной книгой» я позаимствую. Я создам обелиск позора, который будущая народная власть воздвигнет на Красной пресне. Представьте себе стелу из серого грубого, необработанного камня. Стела зиждится на куче извивающихся змей с человеческими головами и звериным оскалом. Они отлиты из черного металла. А на стеле черными буквами имена палачей и красные пятна крови. А у подножия на асфальте распластанная бронзовая фигура девочки-подростка… Я живо представила всю композицию, так зримо нарисованную Алешей. Я не успела высказать своего одобрения, владыка меня опередил: – Это будет впечатляюще, – сказал он. – Только доживем ли мы до открытия такого монумента, сохранится ли Россия, вот вопрос? – А помните, владыка, вы у меня в мастерской в присутствии Дмитрия Михеевича читали стихи Зинаиды Гиппиус? Там есть строки: она не погибнет, верьте, и близко ее воскресенье, – напомнил Алеша. – Хочется верить, да надежды нет, – ответил владыка. – Особую тревогу у меня вызывает молодежь. В ее неокрепшие души впрыснули ядовитые вирусы, через телеэкран и бульварную прессу. Ее окунули в грязное болото лжи, заморочили ей голову, отравили сексом, наркотиками. Это потерянное поколение. А другого не будет. Большие глаза его выражали бездонную тоску и тревогу. Печать безнадежности лежала на его порозовевшем лице. Он ждал от нас каких-то утешительных слов, но у нас их не было. И тогда после короткой паузы он снова заговорил: – Телевидение и газеты шумят о фашизме. Это о нас-то? Какая чушь! – В этой чуши кроется определенная сионистская стратегия, когда вор кричит «держите вора!», – сказала я. – Сионисты захватили власть в стране. В их руках средства массовой информации, банки, смешанные предприятия, торговля. Они понимают, что народу это засилие не нравится, и опасаются взрыва. А чтобы упредить его, вытаскивают излюбленный, испытанный веками жупел антисемитизма, которым пугают доверчивых граждан. – Да, да, вы правы, – согласился владыка. – Я слышал, что они готовят постановление о борьбе с антисемитизмом, наподобие того, что в свое время издал Бухарин. Тогда много патриотов – и священников, и деятелей культуры, и вообще русской интеллигенции погубили. И сейчас погубят. У них всемирная спайка. Мировой капитал, пресса, телевидение, радио. А мы доверчивы, беспечны. Не видим опасности, не хотим видеть, не желаем себя защитить, самих себя. Не можем договориться меж собою, чтоб отвести Зло. Вот на такой печальной, безысходной ноте закончилась наша встреча с епископом Хрисанфом. И все же мы не теряли надежды, хотя и отлично понимали, как нелегко будет подниматься нашей стране из того немыслимого развала, в который ввергли ее «демократы», и с какими трудностями столкнется народное правительство, которое придет на смену Ельцину. Придется выдержать жесточайшее давление Запада, главное, США и международного сионизма: шантаж, угрозы, инсинуации, клевету и, возможно, диверсии спецслужб, агентурой которых кишмя кишит Россия. Поправив здоровье мамы и убедившись в бесспорной эффективности нашего врачевания, я начала приглашать больных в мастерскую Алеши. Первые недели пациентов было не густо, но потом по мере того, как слух о чудодейственном экстрасенсе – так меня стали рекламировать мои первые пациенты – начал быстро расползаться, так что пришлось даже Алешу подключать к врачеванию. Плату мы брали очень сносную, а некоторых лечили бесплатно. Между тем Алеша всерьез занялся работой над монументом позора. Через своих знакомых журналистов я раздобыла имена военных Иуд, активных участников в расстреле Парламента. А к тому же 19 января уже нового 1994 года в «Правде» были опубликованы стихи известного публициста-патриота фронтовика Владимира Бушина «Как живется вам…», точнее его письмо к генералу Борису Полякову, командующему Кантемировской дивизией, чьи танки стреляли по Белому Дому. Мы с Алешей знали Бушина, как острого, язвительного публициста, всегда с восторгом читали его статьи и памфлеты в газете «Советская Россия». А тут вдруг – стихи! Да какие! Это стихотворение произвело на нас ошеломляющее впечатление. Алеша сравнивал его со стихотворением М.Ю. Лермонтова «На смерть поэта». И в самом деле, в нем заложен эмоциональный заряд необычной силы. Его нельзя читать про себя, хочется читать вслух и на миллионную аудиторию. И со слезой, со священным гневом. Я хочу привести его здесь полностью.Крах
И все-таки несмотря ни на что, жизнь неистребима, и человек живуч, и солнце богаче всех банкиров.С. Н. Сергеев-Ценский
Часть первая. Крах
Глава первая
Ни Таня, ни Евгений не слышали выстрелов: стреляли с глушителем. Они сидели, прижавшись друг к другу позади водителя, расслабленные, слегка хмельные и немного усталые. Длинный громоздкий «линкольн» легко и плавно катил по Кутузовскому проспекту. В машине был включен телевизор, и Евгений без особого интереса смотрел на выступающего перед телекамерой министра иностранных дел Козырева. Таня не смотрела на экран: она презирала этого американского лакея, одного из «новых русских», у которых не было ничего ни нового, ни русского, – в народе их теперь называли «русскоязычными». Козырев в своей обычной манере с нескрываемым раздражением поносил патриотов, называя их «красно-коричневыми» и предупреждал Запад об угрозе, нависшей над «реформами» и демократией в России. Тут-то и раздались выстрелы по их машине. Стреляли из обогнавшей их на большой скорости «вольво». «Линкольн» круто рванул вправо и резко затормозил. Супругов Соколовых швырнуло на спинки переднего сидения. Евгений, стукнувшись головой о спинку переднего кресла, хотел было спросить шофера: «Что случилось?», но вместо этих слов из уст его вырвался вопрос: «Ты жив?» Это касалось водителя. И хотя он не слышал звуков выстрела, его постоянно напряженная тревожная психика безошибочно подсказала ему, что стреляли по их машине. Руководитель коммерческой фирмы с невнятным названием «Пресс-банк» Евгений Захарович Соколов инстинктивно догадался, что случилось то, что рано или поздно должно было случиться, это было неизбежно, как рок. – Я-то жив. Как вы? – услышал он взволнованный ответ водителя на свой вопрос. – Ты в порядке, дорогая? – спросил он ласково жену. – Кажется, да. А что случилось? – Ничего особенного, слава Богу, – поспешно ответил Евгений и, предупредительно положив руку на плечо водителя, сказал скороговоркой: – Все в порядке. Поезжай, Саша. – Может… милицию?.. – растерянно спросил водитель. Он понял, что хозяин хочет скрыть от жены подлинный смысл произошедшего. – Нет-нет, никакой милиции. Давай домой. У подъезда дома, в котором жили Соколовы, водитель подал Евгению подобранную в салоне пулю: – Возьмите на память. Таясь от жены, Евгений молча взял пулю и украдкой опустил ее в карман пиджака. Однако это не ускользнуло от настороженного взгляда Тани, но она сделала вид, что не заметила. Необычная нервозность, взволнованность мужа вызвали ее подозрение. Но она не спешила с расспросами, в то же время ей не терпелось удостовериться, что передал шофер мужу «на память». Когда Евгений, сняв пиджак, ушел в ванную, преодолев неловкость, она решила заглянуть в карман пиджака. И к своему ужасу обнаружила там пулю. «Откуда она, где взял ее шофер? Кому предназначалась?» – стучали неумолимые вопросы в воспаленном мозгу Тани. Мгновенно в памяти всплыл недавний эпизод: крутой поворот машины, резкое торможение, тревожный вопрос мужа к водителю: «Ты жив?» Значит была опасность для жизни. Чьей? Конечно же, их троих, находящихся в машине. И эта пуля, которую прячет от нее муж. Трезвая логика и напряженная острота мысли привели ее к догадке: стреляли по их машине. Пуля предназначалась не шоферу и не ей, а, конечно же, Евгению. Но, говорят, пуля дура и не всегда она попадает в цель, иногда пролетает мимо, иногда поражает «случайных», «посторонних». «Это я посторонняя?» Ей стало страшно. На этот раз пронесло, пролетела мимо. Счастливый случай. Только теперь до ее сознания дошло, что счастливого случая могло и не быть. Она торопливо украдкой положила пулю на место, в карман пиджака, опасаясь, что муж застанет ее за недостойным поступком, – это был первый случай в их совместной жизни, когда она тайком забралась в карман мужа. Теперь она испытывала неловкость и стыд. Однако зачем он скрывает от нее то, что касается их жизни? Ее жизни? Евгений вышел из ванной наигранно-веселый, но за искусственной веселостью еще резче и отчетливей проступала растерянность, которую он старался скрыть от жены. – Как тебе понравился вечер? – спросил он. – Никак, – сухо обронила она. – Да что ты? – удивился он. – Цвет общества, новая элита. – Надменные, самонадеянные, хищные. А присмотришься – тревога и неуверенность, – продолжала она с холодной неприязнью. – Как будто ворвались в чужой дом незванными и алчно хватают, жрут и куражатся. Евгения коробили ее слова, он решил смягчить раздражение лестью: – А ты производишь впечатление. На тебя мужики клали глаз. Даже Анатолий Натанович, уж на что избалованный женским вниманием, удостоил тебя комплиментом. Между прочим, напрашивается в гости. – К нам? В гости? – В больших темных глазах Тани вспыхнули недобрые огоньки. – А что? Почему бы и нет! С таким человеком, как Яровой, любой сочтет за честь… – Неприятный тип. Отвратительный и самоуверенный нахал. Бледное лицо Тани скривило брезгливую гримасу, голос прозвучал сухо и раздраженно. – Ну, Танечка, это ты напрасно. Анатолий Натанович – это фигура! Звезда первой величины на небосклоне бизнеса. Он вхож и в Кремль и в «Белый дом». С ним советуются и прислушиваются даже на самом верху. – А то я не знаю, кто сидит в Кремле и в «Белом доме»? Такие же Натановичи. Вор на воре. Как будто ты там не знаешь. Сам-то он знал цену и кремлевским и белодомовским, и тому же Яровому, знал, конечно, но вслух об этом не говорил. Вслух он афишировал себя как «законопослушного гражданина и честного предпринимателя-банкира». У Тани на этот счет были свои и не безосновательные сомнения. И то, что она сходу отвергла Анатолия Натановича, Евгению не понравилось: это путало его расчеты и планы. И он сказал примирительно: – От Ярового, Танечка, многое зависит. В том числе и наше благополучие. Можно сказать, всё зависит. Он может помочь, поддержать и даже облагодетельствовать. А может и разорить. Такое время. Рынок. Приходится идти на компромисс. – Не надо меня убеждать. Я прекрасно понимаю, в какое время мы живем. – Вот и хорошо, – поспешно перебил ее Евгений. – Ради деда, ради благополучия иногда надо пересилить себя, поступиться принципом. Тем более, что я его уже пригласил, то есть, дал согласие… – Согласие на что? – съязвила Таня. – Ну, на встречу у нас в доме. Продолжать разговор на эту тему Таня сочла бессмысленным. Сейчас ее волновало произошедшее с ними в пути: пуля, спрятанная в кармане пиджака. Ее охватывал страх, он поселился в ней внезапно, и теперь со все нарастающей силой пронизывал ее насквозь. Ей надо было выяснить все до конца, именно сейчас, не откладывая, пока Евгений не выбросил и не перепрятал «вещественное доказательство», и она спросила, глядя на мужа цепким сверлящим взглядом, который всегда требовал правды, и только правды: – Что тебе Саша передал «на память»? – Мне? Саша? Когда? – стушевался Евгений. Неожиданный вопрос смутил его, на чистом гладком лице выступили багряные пятна. Он не предполагал, не ожидал такого вопроса. А Таня решила не заставлять его лгать и выкручиваться, спросила в лоб: – Кому предназначалась пуля? Но он все-таки продолжал свое: – Какая пуля? – невинным голосом спросил Евгений, но суетливый взгляд его выдавал замешательство и не выдерживал поединка. – Та, что в кармане пиджака, – твердо и с укором ответила Таня и прибавила, отведя глаза: – Не надо лгать. Женя. Я тебе уже говорила: недоверие и ложь к добру не приведут. – Лицо ее помрачнело. Его удручала прозорливость жены, он понимал ее правоту, звучавшую, как обвинение. – Хорошо, дорогая, я с тобой согласен, – виноватой скороговоркой пролепетал Евгений. Бегающий смущенный взгляд его выражал растерянность, решимость и сожаление. – Я не лгал, я просто не хотел тебя расстраивать. Ты же знаешь, есть благая, или как там – святая ложь, ложь во спасение. Знаешь, какая преступность в стране: мафия, рэкетиры, разбои, грабежи, убийства. Я тебя уже предупреждал об осторожности: у деятелей моего уровня есть враги. – И они стреляли в тебя? – стремительно спросила Таня. Голос ее звучал холодно и твердо. – Сказать определенно, что в меня, я не могу. Возможно, и в меня. Но, возможно, и по ошибке: приняли меня за какого-то другого. Но ты не придавай этому особого значения. – Жить в страхе, постоянно чувствовать свою беззащитность – это невыносимо. К этому нельзя привыкнуть. – Привыкают, – с деланной беспечностью сказал он. – А как же на войне?.. Сказал и понял, что это легкомысленное сравнение сорвалось у него случайно. Чтобы упредить ее ответ, он поспешно продолжал: – Все живут в страхе. Даже Ельцин и его окружение. Такое время, дорогая. Не мы с тобой его создали. Нам его навязали. И чтоб выжить, надо приспосабливаться, уметь находить компромиссы. Кто не сумеет, тот погибнет. Жестокая реальность, и от нее никуда не денешься. Такая страна. Преступная. – Преступная страна, потому что преступное правительство, – сказала Таня. – Причем здесь правительство? Преступность у нас всегда была, только мы ее не афишировали. А сейчас свобода печати… – Не смеши, Женя. Поешь ты с чужого голоса чужие песенки. Никто от нас преступности раньше не скрывал, потому что никто в нас не стрелял, и мы могли без страха ночью гулять по улицам. Что, не было этого? – Ну, было, было, – поспешно согласился он, уже не скрывая своего раздражения. Таня понимала: муж хочет ее успокоить. Но все его слова и доводы не могли выдворить из ее души поселившийся там страх, который обуял ее цепко, как рок. Ей не хотелось продолжать этот разговор, по крайней мере, сейчас. Она ощутила потребность остаться наедине со своими мыслями, разобраться в мыслях и чувствах, обрушившихся на нее вот так внезапно, как гром среди ясного неба. О дикой преступности в стране Горбачева-Ельцина она знала из газет, радио и телевидения, из рассказов сослуживцев и знакомых. Но все это было где-то, хотя и рядом, но непосредственно ее не касалось. И вот прозвучали выстрелы, и смерть прошла рядом, задев ее своим могильным дыханием, та самая реальность, от которой, как сказал Евгений, никуда не денешься. Таня ушла в спальню, сняла с себя элегантное вечернее платье, которое по настоянию Евгения она сшила в престижной русской фирме «Slava Zaitzev», расположенной на проспекте Мира, и задержалась на минуту у большого зеркала. В свои тридцать восемь лет она выглядела слишком молодо. Евгений правду сказал: сегодня на званом вечере она производила впечатление, постоянно находилась под обстрелом не только мужских, но и ревнивых женских взглядов, от которых она чувствовала себя неуютно. Это были незнакомые чужие ей люди, ее никто не знал и она не хотела их знать. И вообще это был их первый выезд в элитарный свет так называемых «новых русских», среди которых подлинно русских можно было сосчитать на пальцах одной руки, – абсолютное большинство составляли «русскоязычные», преимущественно евреи, уже обвально господствующие во властных структурах, экономике, в средствах массовой информации. До этого дня Евгений неоднократно предлагал Тане побывать на подобных сборищах «демократов», где ломились столы от изысканных блюд и дорогих вин, но Таня каждый раз находила причину, чтоб уклониться от престижного выезда, о чем Евгений не очень сожалел. Несколько раз на таких вечерах его сопровождала личный переводчик-референт Любочка Андреева – рослая, длинноногая девица с большими синими глазами на пухленьком кукольном личике и зазывно-таинственной сексуальной улыбкой. У Евгения Соколова с ней был роман, затянувшийся уже на третий год. Но об этом речь впереди. Глядя на свое зеркальное отражение, на стройную, гибкую, почти юную фигуру, украшенную лунным каскадом шелковистых волос, густо падающих на узкие покатые плечи, тонкой струйкой обтекающих длинную, белую лебяжью шею, Таня вдруг подумала, как хрупка, скоротечна женская красота. И хотя она находилась в расцвете, в самом его зените, какие-то тревожные и грустные мысли вдруг защемили, заныли в ее измученной душе: и предчувствие неотвратимо приближающегося увядания, и мысль о жизни, которую могла внезапно оборвать шальная, даже не ей предназначенная пуля. У Тани не было причин жаловаться на свою судьбу. Единственная дочь полковника милиции, ни в детстве, ни в юности она не испытывала лишений, недостатка родительского внимания и забот, но и не была приучена к материальным излишествам, к которым, впрочем, относилась равнодушно и даже презрительно, соглашаясь со словами отца своего: «Скромность украшает человека». Мать ее, учительница литературы, с детства привила ей любовь к поэзии, и эту любовь она сохранила на всю жизнь. Будучи студенткой медицинского института, она тайно от друзей пробовала сочинять стихи, но, поняв, что поэтом надо родиться, а она была убеждена, что родилась врачом, без особой досады и сожаления бросила не присущее ее призванию занятие, что не помешало ей с еще большей любовью и страстью увлекаться поэзией. Ее кумирами были Лермонтов и Некрасов, Есенин и Блок. Из современников на первое место ставила Василия Федорова и многие его стихи знала наизусть. Она часто повторяла первые строки из «Книги любви»:Глава вторая
1
Несмотря на бессонную ночь, Таня проснулась в обычное свое время – в семь часов. Евгений уже одетый сидел за письменным столом в детской – так называли комнату Егора – и что-то сосредоточенно писал. На ее «доброе утро» он ответил кивком головы, продолжая писать. Таня остановилась у самого стола и поинтересовалась: – Что сочиняешь? – Да вот – заявление в милицию, – буркнул он, не отрываясь от бумаги. Таня не стала продолжать вчерашний разговор, который потребовал бы немало времени, а они оба торопились на работу. Она быстро приготовила завтрак – омлет с беконом, но Евгений второпях выпил только чашку кофе и, походя спросив ее о самочувствии, поспешил уехать. Таня на работу добиралась всегда пешком, на что уходило всего семь-десять минут. Весь свой разговор в милиции Евгений хорошо продумал и на вопрос, не подозревает ли он кого-нибудь в покушении на его жизнь, отвечал с твердой определенностью: «нет». – Я вообще думаю, что произошла ошибка и меня приняли за кого-то другого. Пулю, как вещественное доказательство, он приложил к своему заявлению. В милиции, по горло перегруженной явными криминальными делами, заявление гражданина Соколова восприняли с облегчением и не стали возбуждать уголовного дела. В милиции же Евгений явно лукавил: не сомневаясь, что стреляли именно в него, он предполагал и кто стрелял. Два года назад у него был «деловой» контакт с одной мафиозной структурой, которая настойчиво попросила «Пресс-банк» «прокрутить» под завышенный процент крупную сумму денег. Давление мафии было довольно сильным, и Евгений не смог устоять – сдался на условии, что это будет первый и последний, единственный раз. Но аппетиты мафии разгорались, она не стала довольствоваться разовой уступкой и продолжала требовать повторения. «Хотели припугнуть или стреляли на поражение?» – размышлял Евгений, указывать на них в милиции считал не разумным: пришлось бы рассказать о многом нежелательном. Из милиции Евгений сразу поехал в свой офис. Чувствовал он себя прескверно. Он знал, что его «оппоненты» – мужики крутые: на этом они не остановятся. Надо было на что-то решиться, что-то предпринять. Но что именно, он не знал, – все случилось, как гром среди ясного неба, и обнажило всю шаткость и тщету его благополучия и процветания; он почувствовал колебание почвы под ногами, хотя это был всего лишь предупредительный толчок. Теперь он понял состояние Тани, когда она ему однажды призналась, что ее не радует их богатство, что и шубы, и все туалеты и драгоценности, и личный «мерседес», который большую часть времени простаивал в гараже, поскольку Евгений предпочитал «казенный» «линкольн», – все ей казалось временным, проходящим, чужим. Тогда он пытался утешить ее шуточками, мол, все в этом мире временно, как и мы сами; вон комета налетела на Юпитер, который уцелел только благодаря своей массе. А что б осталось от Земли, столкнись она с такой кометой? Одни осколки. «Все ходим под Богом, не знаем, что с нами будет завтра или через час. Так что, лови миг удачи и живи в свое удовольствие», – заключил Евгений. Но Таня не получала удовольствия, когда абсолютное большинство людей было обездолено. Таков уж ее характер, такое воспитание. В свои служебные дела и проблемы Евгений не посвящал Таню – сама же она не лезла с расспросами, решила оставаться в стороне после того, как однажды поинтересовалась, откуда же такие деньги. Тогда он, не вдаваясь в подробности, несколько элементарно пояснил: «Отцовские сбережения (отец Евгения много лет работал директором универмага) да плюс кредит, который я взял в Центральном банке, разумеется, под определенный процент. Потом к нам поступают деньги от населения. Тоже под процент. Мы эти деньги вкладываем в производство, в частный сектор и тоже под процент. Но уже высокий, гораздо выше того, что возвращали по кредитам госбанку. Разница остается нам». – «Но ты же выплачиваешь дивиденды вкладчикам очень высокие. Я не понимаю, откуда берутся деньги на выплату вкладчикам?» – недоумевала Таня. «У тех же вкладчиков: у одних берем, чтоб рассчитаться с другими. Такая вот цепочка получается», – с наигранной веселостью отвечал он, желая закончить неприятный для него разговор. Но Тане не все было ясно. «Когда-нибудь цепочка должна оборваться? Я правильно понимаю?» – «А зачем ей обрываться? У одних занимаем, чтоб рассчитаться с другими, – торопливо отвечал Евгений. – Знаешь, дорогая, у бизнеса свои законы, и они не всегда понятны не искушенному, как например, тебе. Так что лучше не ломать над ними голову, а заниматься тем, в чем ты силен». – «Своей медициной, ты хотел сказать?» – «Это уж кто в чем силен. Кстати, Танюша, ты все-таки решила уходить с работы?» – поспешил он уйти от неприятной темы. «И не подумаю. Зачем? Мне моя работа нравится». – «Но, дорогая, какой тебе смысл из-за жалких грошей надрываться? Разве тебе недостаточно того, что я зарабатываю? Ты в чем-то нуждаешься? Бери, сколько тебе нужно, и трать. Трать и не жадничай, ни в чем себе не отказывай». – «Боюсь я, Женя, этих денег. Когда-нибудь цепочка оборвется», – печально вздохнула Таня. Интуиция трезвомыслящего человека ей подсказывала авантюрность «цепочки», делающей деньги из воздуха. Учиненная «демократами» смута внесла разлад в супружескую жизнь Соколовых. Если раньше, до «перестройки», у них были общие интересы, взгляды, а иногда и вкусы – во всяком случае серьезных противоречий не наблюдалось, то теперь произошло резкое размежевание. И вовсе не в том, что Евгений опрометью бросился в бизнес. Таню тревожило, а потом и возмущало, что он бездумно принял веру «демократов», стал попугайски повторять их измышления, отвергать и поносить все советское прошлое, чего прежде за ним никогда не замечалось. Как-то она прямо в лицо ему сказала: «Да ты же настоящий оборотень». Но он не возмутился, даже не обиделся, он рассмеялся, заметив при этом: «Ты повторяешь слова Василия Ивановича, живешь его мыслями. А пора бы заиметь свои». В какой-то мере Евгений был прав: Таня действительно придерживалась взглядов своего отца на то, что происходит в стране, разделяла его позицию. Отставной полковник и коммунист Василий Иванович находился в самой гуще текущих событий, ходил на митинги патриотов, обладал большой информацией, внимательно следил за прессой и старался делиться своими наблюдениями с дочерью и зятем. На этой почве у Василия Ивановича возникали острые конфликты с Евгением, Таня всегда старалась в их споре быть арбитром и в душе разделяла позицию отца. Это было ее твердое убеждение. Как только Евгений возвратился из милиции в свой офис, к нему в ту же минуту зашла референт-переводчик Любочка Андреева. Она была одета, как всегда, в белую кружевную блузку и черную мини-юбку, укороченную до предела, от чего ее длинные стройные ножки казались еще длинней. Увидевший однажды ее в компании Евгения, Анатолий Натанович, ядовитый до неприличия, съязвил: «Она тебе не напоминает жирафу? Своими диспропорциями? Ну-ну, не хмурься: она и в самом деле пикантна. На любителя». Сейчас пухленькие подрумяненные щечки Любочки выражали тревогу. Подведенные длинные ресницы напряженно трепетали. Она устремила свои круглые, как у птицы, глаза на Евгения и заговорила таинственным полушепотом: – Дорогой мой, ты в порядке? Ничего не случилось? Ее вопрос удивил Евгения: откуда слух? И он, сделав недоуменный вид, ответил вопросом: – А что должно случиться? – Дело в том, что час тому назад позвонил какой-то тип и гнусавым голосом попросил к телефону тебя. Наташа сказала, что тебя нет и передала трубку мне. Я попросила его представиться. В ответ он прогнусавил: «Передай своему Соколу, что это только начало. А закончит он ощипанным петухом». И бросил трубку. На людях Любочка обращалась к Евгению на «вы» и не афишировала интимность их отношений. Она не скрывала своего волнения и продолжала сверлить Евгения цепким взглядом, не веря его хладнокровию. За два года интимных отношений она хорошо его изучила, знала его силу и слабость, плюсы и минусы. Любочка была у Евгения первой и единственной любовницей, сумевшей своими искусными до изощренности сексуальными способностями приворожить его всерьез и надолго. Нельзя сказать, что она была единственной, с кем Евгений изменял свой жене. Были у него и до нее легкие, «одноразовые» флирты, которые угасали так же легко, как и вспыхивали, и Евгений думал, что так будет и с Любочкой, когда однажды, проводив гостей поздним вечером, он попросил ее задержаться в офисе под предлогом убрать посуду. Любочкины чары основательно вскружили голову молодого банкира, так что вскоре на юную страстную любовницу посыпался град подарков, в числе которых была и однокомнатная квартира. И если Таня не была посвящена в служебные дела Евгения Соколова, то от Любочки у банкира не было секретов. Анонимная угроза превратить Сокола в общипанного петуха всерьез встревожила Любу Андрееву, создавала опасность далеко задуманным ею планам. Евгений с безмятежным хладнокровием выслушал сообщение об анонимном звонке, жестом руки пригласил Любочку сесть и сам сел в кресло за письменный стол. И начал перебирать положенные секретарем утренние газеты: «Коммерсант», «Известия» и «Московский комсомолец». Не отрывая взгляда от газет, спросил: – Чему сегодня учит нас «Комсомолец»? – Как пользоваться презервативом. Но мы и без них знаем, – ответила Любочка, не сводя с Евгения вопросительного взгляда. Она догадывалась, что он должен сообщить что-то важное, связанное с анонимным звонком, но почему-то преднамеренно тянет, словно хочет показать, что его это вовсе не беспокоит. А Евгений тем временем начал звонить по телефону Яровому. – Анатолий Натанович, добрый день. Как вы вчера добрались? Нормально? А мы не совсем, с маленьким ЧП. Меня, то есть, нас, машину нашу, обстреляли. На ходу. Две пробоины. Никого не задело. Сегодня заявил. Да, слушаю, Анатолий Натанович… В субботу? У меня?.. Хорошо, будем рады вас видеть. – Положив трубку, он пояснил Любочке: – Яровой напросился в гости. Татьяна ему приглянулась, старому коту. Но Любочке сейчас было не до жены Евгения и Ярового – ее встревожили выстрелы. – Женя, любимый, я не понимаю тебя, – заговорила она ласковым обеспокоенным голосом: – Тебя чуть не убили, а ты так беспечен, будто ничего не случилось. Так, пустячок, две пули, «маленькое ЧП». – Родная, ничего неожиданного не произошло, все в порядке вещей. Ты же знаешь разгул преступности, рэкетиры и прочая мразь… Перед серьезными проблемами эти выстрелы – сущий пустяк. – Пугают. Разве только меня одного? Всех предпринимателей пугают, вымогают, грабят. Смириться с этим нельзя, но привыкнуть можно и нужно. Я сейчас был в милиции, заявил. А толку что? – Но, Женечка, это ж покушение, террор. И судя по анонимному звонку, ты должен догадываться, кто это сделал. Милиция спросила тебя, кого подозреваешь? – Нужны доказательства, а не подозрения. А доказательств у меня нет. Да и для милиции это мелочь. Не убили, ну и слава Богу. Давай об этом больше не говорить и не думать. Есть дела поважней. Договорились?.. – Он ласково улыбнулся ей, как улыбаются, уговаривая капризного ребенка. Любочку он не стал убеждать, что стреляли возможно и не в него, приняв его за кого-то другого. Из его слов она поняла, что появились какие-то новые, более важные проблемы, чем эти выстрелы, ими-то и озабочен Евгений. Но расспрашивать не стала, знала, что сам расскажет в подходящее время. Поинтересовалась, как прошел вчерашний банкет, как на нем выглядела Таня, которую он впервые вывез в «высший свет» «новых русских». – Татьяна произвела впечатление, – как будто даже с гордостью ответил Евгений. – Мужики клали глаз. Особенно Яровой. – И ты решил не упустить случая? – В тоне ее прозвучали язвительные нотки. – Пригласил в гости. – Сам, нахал, напросился. Там, на банкете. А сейчас напомнил и даже день назначил, наглец. – А чего церемониться? Аппетиты у него о-го-го! Не мешай ему – пусть позабавится. Не убудет. – А ты не будь циничной, – деланно возмутился Евгений. – Татьяна не из тех… что б ты знала. Она порядочная женщина и гордости ей не занимать. – Ладно, ладно – не заводись. Лучше скажи, как сегодня? Приедешь?.. – И умиленно, зазывающе уставилась на него. – Приду. Там все обсудим. Только давай пораньше: не хотелось бы домой возвращаться в полночь. Идет? Она восторженно закивала головой в знак согласия. Задолго до окончания рабочего дня Любочка предупредила секретаршу, что она уходит выполнять поручение шефа и сегодня уже не вернется в офис. Наташа с тайной ревностью сверкнула по Любочке скользящим взглядом и вполголоса молвила «хорошо». Соколов, будучи сам высоким и стройным мужчиной, отдавал предпочтение рослым и стройным, длинноногим девушкам, эталоном которым служила Люба Андреева. Такой же высокой, с крепкими, обнаженными чрезмерно укороченной белой юбкой бедрами, склонная к полноте была секретарша Наташа. – молоденькая, с лицом ребенка девица, бросившая ради карьеры третий курс института, которому задолжала длинный хвост несданных зачетов. Наташа без особых колебаний приняла предложение Евгения работать в «Пресс-банке», соблазнившись приличным окладом и тайной надеждой на интимную связь с очаровавшим ее банкиром. Интимная связь состоялась, но была очень непродолжительной, поскольку вскоре появилась в офисе Соколова новая сотрудница с дипломом престижного вуза Любовь Андреева. Тайные иллюзии Наташи лопнули, как надувной детский шар. Соперница оказалась более удачливой, и на долю Наташи осталась лишь неумолимая ревность да глухая, еле теплящаяся надежда: авось надоест ему эта самоуверенная, хваткая особа, и он вернется к своей «малышке» – так Евгений называл Наташу в дни их пылкой страсти. Наташа догадывалась, какое поручение шефа отправилась выполнять референт-переводчик. К свиданию у себя на квартире Любочка всегда готовилась основательно – Евгений избегал с ней встреч в ресторанах: не хотел «засвечиваться». На рестораны Любочка не претендовала, она чутко улавливала желания своего шефа, никогда им не перечила и всегда старалась угождать. Она знала, что Евгения вполне устраивает ее «гнездышко», обставленное пока еще скромно, с минимальным набором необходимых для нормального обитания вещей, среди которых главенствовала широкая двуспальная кровать импортного производства. «Гнездышко» это Любовь Андреева считала временным, в перспективе ей виделась роскошная вилла где-нибудь в дальнем зарубежье на берегу теплого моря. Это были сладкие грезы молодой расчетливой женщины, верившей в свою фортуну, в то, что всё сбудется, как задумано. Уходя из офиса, Евгений позвонил жене и тоном глубокого сожаления предупредил ее, что он сегодня вынужден будет задержаться часов до одиннадцати, пояснив на всякий случай «в связи со вчерашней историей». Нет, он не обманывал жену, просто он часто пользовался «святой ложью», злоупотреблял «ложью во спасение» и ничего предосудительного в этом не находил. После разговора с Таней он позвонил Любочке и сказал только одно слово: «Выезжаю!» Дверь Евгений открыл своим ключом, и уже в прихожей Любочка в легком халатике, надетом на совершенно голое тело, густо благоухая дорогими духами, бросилась в его объятия, осыпав жаркими поцелуями, на которые она была неистощимая и неподражаемая искусница. Пестрый, с большими розовыми цветами халатик плотно обтягивал ее упругие плечи и одновременно обнажал кофейно-загорелые тугие груди и ляжки. Все ее тело излучало обжигающий огонь, в который любил бросаться Евгений с беззаветной опрометчивостью. Магнитофон исторгал истерическую какафонию, которую денно и нощно выплескивает на зрителей телеэкран, афишируя, как стада обезумевших двуногих баранов в психическом экстазе приветствуют безголосого козла, выкрикивающего в микрофон какие-то невнятные, режущие слух звуки. Любочка принадлежала к этому стаду, ей нравилась такая чертовщина. Постепенно и незаметно для себя под ее влияние попал и Евгений, и этот патологический визг уже не раздражал его, как прежде. Посреди комнаты, между двумя мягкими креслами, обтянутыми черной кожей, стоял круглый журнальный столик, сервированный холодными деликатесами, увенчанными бутылкой шампанского (для Евгения) и «Амаретти» (для Любы). – Я только что приняла душ, теперь твоя очередь, – как всегда деликатно напомнила Любочка и проводила Евгения в ванную. Из ванной Евгений вышел распаренный, розовый, ядреный. Упругое, мускулистое, упитанное тело прикрывали васильковые плавки и небрежно наброшенная на плечи незастегнутая рубашка. Он сел за стол, наполнил хрустальные фужеры, и Любочка, держа и одной руке свое «Амаретти», а другой игриво прикрывая халатиком кокетливо выглядывающую грудь, встала и с напыщенной торжественностью произнесла тост: – Дорогой мой Женечка, родной, любимый, обожаемый. Я хочу выпить, поблагодарить судьбу за то, что она отвела от тебя эти ужасные бандитские пули. – Не садясь, с молодецкой удалью она выпила до дна, поставила пустой фужер и, подойдя к Евгению сзади, охватила обеими руками его голову, крепко впилась в его губы и вонзила свой проворный язык в полость его рта. На второй тост не хватило терпения: распахнутая постель зазывно влекла, и у них не было желания противиться этому зову. В постели она почувствовала его недостаточную активность или неприсущую ему пассивность, спросила: – Что с тобой, милый? Ты сегодня сам не свой. Тебя расстроила стрельба? – Да причем здесь стрельба? – резко ответил он и тотчас же понял неуместность своей невольной вспышки, смягчился: – Есть, Любочка, более серьезные проблемы, и ты их знаешь. – Ты думаешь, крах неизбежен?.. – Он не ответил. – Скажи, тебя это тревожит?.. – А по-твоему это пустячок? Да? – Но ты же рассчитывал на содействие Ярового, – сказала она. От одного упоминания этого имени с недавних пор начало коробить Евгения. Яровой со вчерашнего дня, как познакомился с Таней, стал для Соколова второй, после возможного краха «Пресс-банка», зубной болью. – Ты говорил, – напомнила Люба, – что у вас дружеские отношения. Его покоробило от таких слов, будто удар под дых. – Какие там дружеские, – кисло поморщился он. – Запомни, детка, сейчас нет друзей. Есть компаньоны, есть соучастники, но друзей нет. А мы с Анатолием Натановичем просто знакомые. – А разве знакомым нельзя помочь? – донимала Любочка. В постели она привыкла чувствовать себя хозяйкой. – Даром и собака не гавкнет, а Яровой тем более. Эта собака с бульдожьей хваткой. Слишком дорогую цену хочет. Любочка знала, о какой цене идет речь. Сказала с прежним цинизмом: – Ну и пусть позабавится. Может, и у нее есть нужда и желания. – Я уже тебе сказал там, в кабинете: не хами. – Он начал раздражаться и сделал попытку встать. Она удержала его, облепив поцелуями, зажигательно, страстно, с мастерством опытной совратительницы. И он сдался, растаял в сладкой неге, приняв ее вызов. А когда утих, Любочка заговорила ласково, нежно, понизив свой воркующий голосок до полушепота: – А давай не будем дожидаться краха. Заберем все деньги и махнем за бугор. Купим виллу и будем наслаждаться жизнью. Никаких тебе Яровых, никакой стрельбы. А? Ты ж обещал. Евгений корректно, но довольно решительно отстранил Любочку и молча стал натягивать на себя плавки. Она наблюдала за ним выжидательно. И восхищалась его крепкой атлетической фигурой. А он был сосредоточенно мрачен. Да, когда-то Соколов действительно в пылу любовных грез делал такие прожекты, но это была скорее сладкая мечта, абстрактная, не учитывающая деталей реальности. Всерьез ее он не воспринимал, поскольку разводиться с Таней не собирался. Теперь он искренне пожалел, что когда-то позволил себе легкомысленную вольность, и решил как-то уклониться от неприятного разговора, затушевать его. – Я обещал этой весной поехать с тобой в Испанию недельки на две. По пути мне надо будет завернуть в Лондон, повидать сына. Это твердо. На Майорку. Знаменитый курорт. Его уклончивость насторожила и обескуражила Любочку: она была уверена, что Евгений сдержит обещание, что она заставит его сдержать, и ему не отвертеться, что он принадлежит ей, любит только ее, что с Таней его ничто не связывает (так она внушила себе, хотя сам Евгений о своих отношениях с женой никогда не говорил). Любочка просто повторяла заблуждения многих легковерных, самонадеянных любовниц. «Выходит, он обманул или передумал? Почему, как мог? Я отдала ему свою молодость, поверила. Ну, нет, я не допущу; два года совместной жизни, как жена, клятвы в любви, дорогие подарки, наконец, эта квартира, восторги, всякие ласковые красивые слова – богиня, ангел-хранитель и прочее; надежды, планы – и всё впустую», – лихорадочно размышляла Любочка, глядя, как Евгений застегивает рубашку и не может попасть пуговицей в петельку. Она перепелкой выпорхнула из-под одеяла в чем мать родила и стала усердно застегивать ему пуговицы. Потом, справившись, схватила его руку и приложила ладонью к своему теплому мягкому животу. Нежно прощебетала: – Послушай… Слышишь? – Что именно? Ничего не слышу, – не понял он. – Там шевелится твой наследник. – И обхватила обеими руками его шею, осыпала своими неземными неподражаемыми (слова Евгения) поцелуями. Эффектная вообще, она была прекрасна в этот миг. Изящно сложенное молодое тело излучало нежность и страсть. Темнорусые волосы двумя пышными локонами падали на плечи и своими концами шаловливо касались ее розовых сосков. Густая челка падала на лоб по самые ресницы. Говоря откровенно, Соколов ничего не мог и услышать, поскольку сама Любочка толком не знала, беременна она или ей так кажется, потому что хочется забеременеть; она была в полной уверенности, что ребенок прочно и окончательно свяжет ее с Евгением, и она станет госпожой Соколовой. Такой поворот дела вообще-то не представлял для Евгения особой неожиданности. Он, конечно, принимал все меры предосторожности, идя на связь с Любочкой, да и она разделяла его осторожность, по крайней мере, на словах. Весть эта ошеломила Евгения, словно ему не доставало уже существующих проблем. Он взорвался: – Ты что?! Как тебя понимать?! – Он стоял перед ней в плавках и рубахе, растерянный и разъяренный, смотрел на нее широко раскрытыми глазами и не находил других слов. – А я тут причем? Ты был неосторожен, я тебя предупреждала, – спокойно, соблюдая хладнокровие, ответила Любочка, вызывающе подбоченившись. Похоже, она была готова к такой реакции Евгения. – Удивительно! Непорочное зачатие. Так, наверно? – Горькая усмешка исказила его вдруг побледневшее лицо, и он начал торопливо одеваться. Любочка тоже набросила на себя халатик и, понурив голову, прошлась по комнате. – И он говорит: «удивительно». Он еще удивляется! «Непорочное зачатие». Нет бы вспомнить, сколько раз пренебрегал презервативом. «Авантюристка, коварная мошенница, все спланировала, продумала и рассчитала. Все, да не совсем все», – сверлили его мозг гневные мысли, но обратить их в слова он воздерживался, по крайней мере, до поры до времени. А сейчас – молчаливое презрение. Он быстро и без слов оделся и решительно направился к двери, но Любочка проворно бросилась наперерез, халатик ее распахнулся, обнажив пряную грудь. Она распростерла руки, чтоб обнять его, он резко остановился и отступил на полшага, демонстрируя всем своим видом решимость и неприступность. И Люба опустила руки и смиренным тоном произнесла: – Не пугайся: ребенка я воспитаю, сама воспитаю. Я люблю детей и ни в чьей помощи не нуждаюсь. Так что «не боись». Последнее слово она произнесла с язвительным вызовом и так же демонстративно отошла в сторону, как бы уступая ему дорогу. Евгений сделал шаг вперед и, обернувшись к ней лицом, глухо проговорил: – Этого ребенка не должно быть. Потом, со временем – пожалуйста, рожай сколько угодно. А пока… потерпи. – И, не сказав больше ни слова, выскочил за дверь, как ошпаренный. Такого крутого поворота Люба не ожидала. Конечно, она не думала, что своим сообщением обрадует Евгения, но чтоб так резко, грубо… Только что он дарил ей свои ласки, говорил слова любви, в искренности которых она не сомневалась; еще неделю тому назад в этой же постели они говорили о разводе, и Евгений заверял ее, что вопрос решенный, и все дело за временем и обстоятельствами. (Какими именно, он не сказал, а она не стала уточнять: важно, что он готов на развод.) И вдруг – хлопнул дверью, словно влепил ей пощечину. Вот уж действительно, от любви до ненависти один шаг. Люба упрекнула себя: не вовремя и не к месту сказала она о беременности. Он взвинчен стрельбой и тем, что резко сократилось число вкладчиков, клиенты напуганы, стараются изымать вклады, несмотря на высокий процент. Не доверяют, опасаются. Он растерян, озабочен, а тут я, как снег на голову – беременна. Да и он вообще не против ребенка: рожай, мол, сколько хочешь, но не сейчас. Почему не сейчас? Объяснил бы. Не сорвалась бы их поездка в Испанию и Англию. Ведь он обещал. В Испанию на две недели на взморье, поразвлечься. В Англию – навестить Егора. Надо завтра все уладить. В конце концов можно сказать, что с беременностью пошутила или это была ошибка врача. Люба впервые поняла, как зыбки, иллюзорны ее планы и расчеты «заполучить банкира». Но самоуверенная, «неотразимая красавица», какой считала себя Люба, не теряла надежды. Она не отступит и будет бороться до победного конца.2
В этот необычный для Соколовых день Таня работала по вызовам на дом. Вызовов было много; несмотря на начавшееся лето, люди болели, главным образом, пожилые, пенсионеры. Дни обслуживания больных на дому для доктора Соколовой были самыми тяжелыми, связанными с нравственной нагрузкой, с душевными переживаниями, когда она лицом к лицу сталкивалась с драмами и трагедиями человеческих судеб. Попадая в квартиру больного, она видела недуг, лечение которого не входит в компетенцию врача, имя этому недугу – нищета и безысходность. Она видела истощенных голодом старушек и стариков – ветеранов войны, тех самых, что защищали Сталинград и штурмовали Берлин, спасая человечество от гитлеровской чумы, что прошли кровавыми дорогами от Волги до Эльбы и на закате дней своих оказались заброшенными и никому не нужными. Чем и как она могла им помочь? Выписать рецепт на лекарство, на покупку которого уйдет половина пенсии? А какой рецепт она могла выписать от дистрофии, от полного истощения, чем могла помочь больной старушке, во рту которой второй день не было и росинки? Ей запомнились двое одиноких пенсионеров Борщевых – Петр Егорович и Анастасия Михайловна. Их единственный сын с женой и детьми жил на Сахалине, где остался работать после военной службы. До «перестройки» часто писали письма. А теперь – раз в год, и то хорошо. Денег нет и на конверты. Анастасия Михайловна мучилась от гипертонии, Петр Егорович страдал радикулитом и ишемией. Жили, как и миллионы им подобных, только на пенсии, которых еле-еле хватало на хлеб, сахар да картошку. Жили впроголодь, трогательно вспоминали свое недавнее прошлое, когда пенсии хватало и на харчи и на какую-никакую обнову. И были довольны. И вот настало сатанинское время, горбачевская «перестройка» да ельцинские реформы. Пошло все прахом, порушился устойчивый порядок, наступила дьявольская смута. Вспомнила Таня, как месяц тому назад ее вызвали Борщевы: у Петра Егоровича сердечный приступ, перебои пульса, аритмия. Анастасия Михайловна свой диагноз ему поставила: «От недоедания эти хвори у него. Вишь, как истощал, кости да кожа». – «Но вы в магазины ходите?» – сорвался у Тани глупый вопрос, которого она тут же устыдилась. И старуха ответила с иронией: «А то как же? Хожу. Будто в музей: посмотрю на полные витрины всякой вкусной снеди, постою, надышусь до головокружения, с тем и домой ворочусь. А дома, чтоб отвлечь себя от тех витрин, притупить голод, телевизор включу. А по телевизору, как нарочно, гладкий мужик красную икру жрет, а она по бороде его так и скатывается. А там стол показывают, уставленный всякими яствами. Все дразнят, издеваются над голодным народом». Таня вспомнила потрясшую ее картину в подземном переходе возле метро. Ухоженная девица-продавщица возле огромной кущи пышных роз и каллов, а напротив замызганное истощенное существо лет пяти от роду сидит на каменном полу, поджав в лохмотья ножки и держит обрывок картона, на котором неровным почерком начертано: «Я есть хочу!..» Рядом с ней бумажная коробочка, в которой топорщатся две синих сторублевых купюры. А мимо течет поток людей, разных, и таких же нищих, и богатых, бросают скользящие взгляды, либо вообще не замечают и спешат, спешат куда-то, и только двое бросили измятые купюры. Таня достала бумажку в пять тысяч, опустила в коробочку, ощутив какую-то неловкость или стыд. Больно язвил этот нелепый, совершенно дикий, какой-то нарочито неестественный, неуместный контраст дорогих цветов и голодного изможденного ребенка, и ей подумалось, что это и есть символ сегодняшней России, растерзанной, изнасилованной и ограбленной небывалым, неведомым в истории мира предательством. С этой щемящей душу мыслью Таня поднялась на третий этаж и направилась к квартире своих пациентов Борщевых. Дверь в квартиру была приоткрыта, и несколько пожилых людей молча толпились в прихожей. По их скорбным лицам Таня почувствовала беду. Кто-то вполголоса сумрачно произнес: – Опоздал доктор. Да, помочь она уже не могла: Петр Егорович был мертв. А на нее устремили вопросительные взгляды соседи, ожидающие каких-то магических действий, и растерянные, заплаканные глаза Анастасии Михайловны. – Отошел, отмучился, – говорила она негромким слабым голосом. – Наказал не давать телеграммы сыну, чтоб, значит, на похороны не приезжал. Одна дорога, говорят, миллион возьмет. А похоронить тоже миллион. А где ж его взять? – Да-а, и жисть горька и смерть не сладка, – произнес пожилой мужчина – сосед. – Все терпел, не жаловался особенно, – продолжала Анастасия Михайловна. – Только когда совсем стало плохо, попросил вызвать Татьяну Васильевну. Таня сделала все, что в таких случаях от нее требовалось, выдала свидетельство о смерти, затем, уединившись с овдовевшей, теряющей самообладание старухой, достала из сумочки деньги и, не считая их, все, до последнего рубля, отдала Анастасии Михайловне. – Это вам на похороны. И примите мое искреннее соболезнование. Она обняла несчастную, растроганную вниманием старуху и, с трудом сдерживая слезы, ушла. Она знала: в кошельке было около ста тысяч рублей, а похороны сейчас стоят в десять раз дороже. Больше она не могла. И об этих ста тысячах, подаренных на похороны, она скажет Евгению. Едва ли это ему понравится, но он промолчит, а возможно, даже одобрит. Он не знает счет деньгам. Домой пришла усталая, подавленная. Решила слегка перекусить. Большой холодильник был полон разных продуктов. Таня отрезала кусочек осетрины, но есть не стала: вспомнила рассказ Анастасии Михайловны о магазине-музее и о витринах, полных продуктов, при виде которых кружится голова, и аппетит пропал. Выпила чашечку кофе и, облачась в халат, включила телевизор. По одному каналу шел фильм «Ночь со Сталиным» – гаденькая карикатура, бездарная и пошлая, рассчитанная на недоразвитых и доверчивых гоев, не способных самостоятельно мыслить. С брезгливостью она нажала на клавиш и сменила канал. Там шел тоже фильм – об Иисусе Христе. Дешевая инсценировка на библейский сюжет, в которой Таню поразила одна существенная деталь: Иуда был изображен негром. Все пророки-иудеи белые, и только Иуда черный. «Боже мой, очередная сионистская стрепня, фальсификация, – возмутилась Таня. – Школьнику известно, что Иуда, как и остальные ученики Христа, был иудеем, значит, как и они, белым. Но он был предателем, он стал символом предательства. А разве может еврей быть предателем? По мнению сионистов – ни в коем случае. И авторы фильма, очевидно, евреи, сделали Иуду негром. Цинизм? Да, цинизм и ложь, фальсификация». Таня снова сменила канал, и экран разразился визгом саксофонов и грохотом барабанов. Какой-то полуодетый, с растрепанными волосами юнец, присосавшись к микрофону, метался по сцене, выкрикивая охрипшим простуженным голосом невнятные слова, непрестанно повторяя одну и ту же фразу: «Я тебя хочу!» Она подумала: «Безголосые ублюдки плюют с экранов телевизоров в лицо зрителей несусветной мерзостью, в то время, как в подземных переходах чарующие голоса подлинных талантов поют любимые народом песни за милостыню». Однажды она услышала в подземном переходе на Тверской, как пела нищая женщина. Отличное сопрано! Необыкновенной чистоты серебряный голос доносил до столпившихся вокруг прохожих-слушателей проникновенные некрасовские слова: «…горе горькое по свету шлялося и до нас невзначай добрело. Ой, беда приключилася страшная: мы такой не знавали вовек…» И от этих слов, проникающих в самую душу, хотелось рыдать вместе с певицей, кричать: «Люди, родные, русские! Отведем беду страшную от нашей России!» Телефонный звонок спугнул ее мысли. Она с непонятной опаской и напряжением взяла трубку. Незнакомый гнусавый, дребезжащий голос спросил: – Ты еще жива? То было только предупреждение. В следующий раз будем бить на поражение. Так и передай своему жулику. А потом – короткие гудки. Незнакомец поспешил положить трубку. Да и звонил, наверно, из автомата. У Тани перехватило дыхание, холодок пробежал по коже. Камнем запало в душу последнее слово – «жулик». Это Евгений. Положив трубку, она пошла в спальню, потом на кухню, заглянула в ванную, сама не зная зачем. Она, как тень, шаталась по квартире, растерянная и неприкаянная. «Евгений – жулик, его собираются убить, – стучало в разгоряченном мозгу. – Его, значит и меня?» Страх обволакивал ее плотным зябким покрывалом; ее начало знобить, а мысль продолжала выстукивать: «Евгений – жулик». Она не находила себе места, с опаской посматривала на телефонный аппарат, словно в нем таилось что-тострашное, угрожающее. Во рту пересохло, и она достала из холодильника «кока-колу» и выпила. Затем прилегла на диван и попыталась успокоиться и собраться с мыслями. Прежде всего жулик ли Евгений? Ее Женя, Женечка. С этим она не хотела согласиться: жулик – это нечто преднамеренно, сознательно преступное. Она хорошо знала Женю, толкового экономиста районного масштаба. На службе его ценили и уважали. В честности его она и близкие знакомые, в том числе и начальство его, не сомневались. Он легко и уверенно бежал вверх по служебной лестнице. Не терпел диссидентов, хотя сам открыто говорил о недостатках в стране. Особенно возмущался состоянием трудовой дисциплины, при котором лодырям жилось вольготно, и одобрял деятельность Андропова, пришедшего на смену «престарелому маразматику», – так он называл Брежнева. В те счастливые в их семейной жизни годы за ним не замечалось ни зависти к преуспевающим, ни жадности. Он был если и не образцовым, то хорошим, нормальным мужем, преданным семье. Таню он искренне любил, в чем она не сомневалась и платила ему тем же. Конечно, не всегда над ними было яркое солнце, изредка на короткое время над головами появлялись летучие тучки ревности, и это не удивительно: оба были молодые, представительные, внешне броские, заметные, часто одариваемые комплиментами с обеих сторон. Евгений рослый, спортивного телосложения, веселый, остроумный, знал себе цену и понимал, что он нравится женщинам, но серьезного повода для ревности Тане не давал. Ей в нем нравилась открытость и прямота, энергия и жизнелюбие. Внешне их что-то роднило. Красавицей Таню, пожалуй, нельзя было назвать: все в этой невысокой щупленькой девушке было миниатюрно – и овальная головка, и стройная гибкая фигура, сложенная гармонично, и нежный тихий, но выразительный голосок – все в точных пропорциях и… мелковато. Как говорят, на любителя. Выделялись ее карие глаза под темными бровями, контрастирующими светлым шелковистым волосам, маленький рот и открытый взгляд, осененный светлой, чистой, доверчивой детской улыбкой, в которой и таилось нечто необыкновенное, загадочное и притягательное, какая-то непостижимая душевная глубина, полная нерастраченной энергии и светлых помыслов. Глаза ее лучились добротой, сиянием нежности и любви. Сердце ее всегда было переполнено любовью и лаской, но своих чувств она никогда не выплескивала наружу, хранила их в себе, как святую тайну. Разве что в самые интимные минуты их близости с Евгением она позволяла себе расслабиться и давала волю эмоциям. В этом отношении ее девизом были строки любимого поэта Федора Тютчева:Глава третья
1
Анатолия Натановича Ярового Соколовы ждали в субботу к трем часам. Уже с утра Таня начала готовить стол. Закуски и спиртное были закуплены заранее, хотя холодильник и морозильник всегда были полны всевозможных яств. Но тут случай особый: Евгений старался потрафить вкусу гостя, он знал, что Яровой отдает предпочтение рыбным блюдам, потому на столе они и господствовали в виде горячей стерляди, холодной осетрины, лососины, сельди в винном соусе, черной и красной икры и крабов. Не обошлось и без салатов: из печени трески, из свеклы с орехами и майонезом и соленых огурцов. Кроме армянского коньяка, водки «Распутин» и шампанского, была припасена бутылочка грузинской «Хванчкары». На горячее блюдо румянилась индейка. Зная, как важна эта встреча для Евгения, Таня старалась сделать все «на высшем уровне», так как, по словам Евгения, от Ярового зависела их не просто благополучие, но вся судьба: он единственный, кто мог отвести нависшую над «Пресс-банком» беду, разогнать грозовые тучи. Каким-то внутренним, чисто женским чутьем Таня не очень верила во всемогущество и спасительную силу Анатолия Натановича; во всяком случае, его настойчивое желание встретиться дома, его слащаво-страстные дифирамбы, отпущенные ей в тот злопамятный вечер, его масляный, пожирающий взгляд настораживали Таню, а интуиция подсказывала ей быть начеку. Таня решила одеться скромно, по-домашнему – в коричневые брюки в обтяжку и не очень пеструю кофточку с закрытым воротником. Такой наряд эффектно выглядел на ней: позволяла стройная гибкая фигура. И никаких украшений, кроме обручального кольца. Преднамеренная простота наряда не могла остаться незамеченной Евгением. И он не преминул выразить свое неодобрение: – Ты сегодня совсем золушка, по-домашнему. – Естественно: дома по-домашнему, в театре по-театральному, – сказала она с многозначительной усмешкой. – Что тебя не устраивает? Евгений пожал плечами и тоже ухмыльнулся, не найдя слов для ответа. Но подумал: «Все-таки высокий гость, стоит ли демонстративно прибедняться?» Он считал, что Таня преднамеренно оделась так скромно. А гость и в самом деле предстал в праздничном наряде: в светлом с кремовым оттенком костюме, украшенном ярким галстуком, – высокий, статный, аккуратно подстриженный и причесанный, он выглядел молодцом. Даже рыжие короткие волосы, плотно приглаженные челкой к высокому лбу, не портили, а, пожалуй, усиливали впечатление, как и огромная охапка белых роз в цветном целлофане, которую он церемонно вручил Тане. Сытое, холеное лицо его, тронутое негустым загаром, дышало самодовольством и беззаботностью. Из-под бесцветных рыжих бровей колюче щурились маленькие глазки, излучая самоуверенность и жесткость. Окинув комнату оценивающим критическим взглядом, он иронически хмыкнул носом и заключил: – Однако же… Для банкира уж слишком, вызывающе скромно и никак не соответствует. Начинка импортная, первоклассная, но ей тесно в этих стенах. Впечатление временного пристанища. Или я не прав? – Цепкий доброжелательный взгляд на Таню. – Конечно, правы, – согласилась она и добавила: – Вся страна пребывает в состоянии временного. – Я не то хотел сказать, но я вас понял, – Яровой улыбнулся одними губами, между тем как глаза оставались властными. «А что, собственно, понял? Что страна находится в беде или что я недовольна оккупационным режимом?» – подумала Таня и предложила высокому гостю «пожаловать к столу». Гость, прежде чем сесть, так же критически осмотрел стол и похвалил: – У вас хороший повар. Видно, профессионал. Сколько вы ему платите? Это можно было принять за шутку, но Таня ответила серьезно: – Профессионал из меня никакой, но благодарю за комплимент. А платят мне по-божески: не обижают. – Вы это всерьез? – искренне удивился Яровой. – Я предлагал взять повара и прислугу, – быстро встрял в разговор Евгений, – но Танечка решительно отказалась. – Отказалась? – Бесцветные ниточки бровей Анатолия Натановича вытянулись в струнку. – Почему, Татьяна Васильевна? – Я предлагал и работу бросить, – опять поспешил Евгений. – Может вы, Анатолий Натанович, повлияете на нее? – Мд-да… Странная вы женщина, – молвил Яровой, садясь за стол, и прибавил: – Не ординарная. Кстати, я это заметил еще там, на вечере. «Как это он мог заметить? Играет», – подумала Таня, а гость, посмотрев на бутылки, вдруг с бестактным осуждением сказал: – Я почему-то не вижу «Амаретто»? Из всех вин я считаю его предпочтительным. – Он смотрел на Евгения требовательным, серьезным, если не сказать суровым взглядом, так что тот даже смутился и почувствовал себя виноватым. Он знал, что Яровой – поклонник этого «божественного» напитка, и совершенно случайно не предусмотрел его в меню, допустил непростительную оплошность, которую готов был исправить немедленно, только прикажи «высокий гость». – Прошу прощения, Анатолий Натанович, мой грех, получилась маленькая недоработка. – Ну, не такая уж маленькая, – голосом и взглядом гость приказывал исправить оплошность. – – Если позволите, Анатолий Натанович, я сейчас сбегаю. Магазин рядом, и я мигом. – Ну, если рядом… – позволил гость и напомнил: – желательно, чтоб венецианское. И вообще, чтоб настоящее, а не подделка. Сейчас много развелось фальсификаторов. Со сложным чувством удивления, обиды и возмущения наблюдала Таня эту унизительную картину и вспоминала слова Евгения о Яровом: «У него вся власть. Он вхож даже к президенту. В его руках оказались главные богатства России». – «Каким образом?» – поинтересовалась тогда она. «Сумел организовать, присвоить, прибрать к рукам, – раздраженно ответил тогда Евгений. – Другие не смогли, а он смог. У него связи с иностранными концернами. Он может и вознести и растоптать». Сейчас она впервые увидела мужа таким жалким до ничтожества, пресмыкающимся, ей было стыдно за него, и вместе с тем в ней усиливалась неприязнь к этому самовлюбленному и невоспитанному властолюбцу. Ей хотелось понять, почему Яровой поступил так грубо, бестактно, просто по-хамски? Хотел унизить Евгения, показать свою власть? Или это была выходка капризного эгоиста? Или… желание остаться с ней наедине? Последнее предположение вызывало в ней протест и возмущение. «Неужто начнет ухаживать и объясняться?» И чтоб перехватить инициативу, она спросила с явной иронией: – А вы не родственник Любы Яровой? Ну той, что в спектакле «Любовь Яровая»? Или однофамилец? Он понял едкую иронию, но отвечал вполне лояльно; – То была комедия или драма… В театре. А мы играем трагедию. И не в театре. – Он смотрел на Таню цепким взглядом жестокого хищника. Он понимал ее неприязнь, но не раскаивался в своем поведении. – И какова же ваша роль, Анатолий Натанович? – Главная. Да, дорогая Татьяна Васильевна, мне выпало в этой трагедии сыграть главную роль. Но не в этом дело. Я хочу повторить то, что уже сказал о вас. Признаюсь, и вы поверьте в мою искренность, я не был обижен вниманием женщин. Я их не искал – они меня выбирали. Я не открою вам тайны, если скажу о деградации современного общества. В частности, в этой стране. Вы прекрасно знаете, что духовная, нравственная инфляция коснулась прекрасного пола. Сейчас редко встретишь женщину, тем паче девушку, с цельным характером, с глубокими, чистыми и светлыми чувствами. Поверьте моему опыту – это правда. – Извините, вы женаты? – перебила Таня его монолог. – В разводе, – торопливо ответил он. – Но не в этом дело. Вы, дорогая Татьяна Васильевна, относитесь к тем редким, реликтовым женщинам, которые каким-то чудом сохранились в нашем обществе. – Что вы говорите, даже реликтовым, как секвойя, – откровенная ирония снова прозвучала в ее словах. – Секвойя? Это кто такая или что такое? Впервые слышу. – Это южно-американская сосна-гигант, долгожительница. Кстати, у нас в Закавказье есть несколько экземпляров. Яровой состроил недовольную мину – ему не понравилась ироническая реплика Тани, тем более приправленная какой-то секвойей, о которой он понятия не имел. Он потерял нить монолога и теперь укоризненно смотрел на Таню, не находя последующих слов. Он не терпел ни реплик, ни возражений, даже если они исходили от женщин, до которых Анатолий Натанович был большой охотник. Но Таня была редким, «реликтовым» исключением: на нее он имел особые виды и строил не столько сложные, сколько коварные замыслы и планы. В отношении женщин Яровой был романтик: он создавал в своем воображении идеал и шел к нему напролом, добивался своей цели любым путем. Свои желания он ставил превыше всего, и для их удовлетворения не признавал никаких преград, особенно, когда дело касалось «слабого пола», к которому он всегда пылал ненасытной страстью. Для достижения цели он не скупился (впрочем, тут не было проблем при его-то капиталах), был всегда размашисто щедр и не только на обещания. – Вы, Танечка, – позвольте мне вас так называть, – наконец нашелся он, – не знаете себя, не догадываетесь, чего вы стоите. Да, да, и пожалуйста, не возражайте. – Она и не думала возражать, ее начал забавлять его грубый и довольно примитивный панегирик. Хотя резкий переход на «Танечка» покоробил. А он продолжал: – Скажу вам откровенно: вы неправильно устроили свою жизнь. Вы достойны гораздо лучшего, и Евгений прав, я с ним согласен: вам надо оставить службу в поликлинике, и прислуга и повар вам тоже не лишни. Я понимаю вашу скромность, но вы заслуживаете гораздо большего, вы великая женщина, в вас редкое сочетание внешней прелести и внутренней красоты. Не сочтите за банальность, но такой бриллиант требует соответствующей оправы, как гениальная картина требует шикарной рамы. Он умолк, не сводя с Тани пронзительного взгляда, и она решила воспользоваться паузой, сохраняя все тот же иронический тон: – Насчет картин позвольте мне с вами не согласиться: никакая шикарная рама не способна возвеличить бездарную картину, так же, как и простенькая, скромная рама не может затмить шедевр. Я вспоминаю рамы художников-передвижников. – Легкая улыбка сверкнула в ее насмешливых глазах. – Что же касается жизни и ее устройства, то это вопрос сложный и не всегда от нас зависящий. Демократы, к которым вы очевидно относитесь, устроили для большинства народа невыносимую жизнь. Я согласна с вами, что мы живем в состоянии временного, проходящего. – Извините, я вас перебью: вы сказали о невыносимой жизни для большинства народа, и, как правильно сейчас заметили, это временное явление. Но вы-то, Танечка, не большинство. Вы избранное, при том вы лично редчайшее меньшинство. Вы не должны об этом забывать. Вас природа создала такой, редкостной, неповторимой. Вы заслуживаете хором, дворцов, а не этой, извините, халупы, напичканной добротными предметами. Такой диссонанс, что дальше некуда. Вот у вас шикарная чешская люстра. Но ей здесь тесно. Она не смотрится, она задыхается и вопит! И вы задыхаетесь, только не хотите в этом признаться. И Евгений не желает создать другую, достойную вас… – он хотел сказать «жизнь», но, сделав паузу, произнес: – обстановку. Он вцепился в нее алчущим взглядом, глазами раздевал ее, разгоряченным воображением представлял ее в своих объятиях, умную, нежную, страстную. А она никак не хотела отвечать на его определенный, недвусмысленный взгляд и по-прежнему оставалась холодно-ироничной, недоступной. – Вы смотрите на меня так, словно хотите сказать: «На чужой кровать рот не разевать», – попытался он сострить. – Говорят «на чужой каравай», – поправила Таня. – А это моя редакция. – Евгений не может создать достойную жизнь для большинства народа, для которого демократы создали недостойную жизнь, – заговорила она с умыслом обострить разговор. Он понял ее: – Это камешек в мой огород, не так ли? – А вы – демократ? – ненужно спросила Таня. – Да, я демократ, и этим горжусь. А вы разве? – Избави Бог, – быстро открестилась она. – Так кто же вы? Патриотка? – Поскольку общество наше делится на демократов и патриотов, то я – патриотка. – Красно-коричневая? – весело заулыбался он. – В этих цветах я не разбираюсь. Я люблю свой народ, свою страну, ее историю и ни на какую другую ее не променяю. Ее слова похоже его покоробили – он кисло поморщился и взял бутылку с шампанским. – Мы как-то сбились на политику. – сказал он и стал открывать, бутылку. – Это потому, что на сухую. У меня во рту пересохло. Я хочу этот первый бокал выпить с вами вдвоем и без свидетелей. За ваше очарование, за красоту, которую я встретил, возможно, впервые за последние двадцать лет, встретил случайно и был сражен, за ваше счастье, которого вы достойны, за будущее. – Он дотронулся своим искристым бокалом до ее бокала, хрусталь высек приятный звон. Он выпил лихо и до дна. А Таня лишь пригубила и поставила свой бокал на стол, заметив: – А как же «Амаретто»? – Да сколько можно ждать, когда стол накрыт, как сказал Антон Павлович Чехов. А между прочим, шампанское «Амаретто» не помеха, вполне совместимо. Но вы не пьете. Почему? – Я не любительница шампанского. – Тогда откроем «Хванчкару»… – И он потянулся к бутылке с вишневой этикеткой. – Лучше подождем… – ? – «Амаретто», – улыбнулась она. Таню удивила и озадачила такая бурная атака, выходящая за рамки приличия, дифирамбы Ярового ее уже не забавляли, скорее бы возвращался Евгений, хотя не было уверенности, что в присутствии мужа гость умерит свой пыл. Евгений явился без «Амаретто»: он был чрезмерно раздосадован, и Яровой даже попытался утешить его: – Не огорчайся, мы с Татьяной Васильевной начали с Шампанского. И представь себе – оно не хуже «Амаретто». Присоединяйся к нам. – Он был преувеличенно возбужден, весел и суетлив. Открыл бутылку коньяка и налил в рюмку Евгения, – Мы тут пили за здоровье и счастье твоей очаровательной супруги, которую ты так долго скрывал от общества и которую держишь в черном теле. А этот тост я предлагаю выпить за тебя, Женя, за твое благополучие и успехи. После второго бокала шампанского Яровой еще больше возбудился, овальное, упитанное лицо его зарделось, щелочки глаз излучали благодушную веселость, он стал покладист и говорлив. Наблюдавшая за ним Таня опасалась его излияний по ее адресу, но опасения оказались напрасными: Яровой поспешил сообщить Евгению, что в его отсутствие они с Татьяной Васильевной (не Танечкой) вели политический диспут. – Мы выяснили, что у вас в семье, дорогой Женя, царит плюрализм. – То есть? – не понял Евгений. – Муж – демократ, жена – патриотка. Классический пример демократии в новой России. Только вот Татьяна Васильевна считает, что новая власть – явление временное. А я утверждаю: обратного пути нет. К власти пришли новые русские и уступать власть красно-коричневым мы не собираемся. Силовые структуры в наших руках. Я что, не прав? – Конечно, прав, Анатолий Натанович, – согласился Евгений. – Запад победил, и это надо признать. Возврат к прошлой дикости, тоталитаризму невозможен. Эти слова мужа больно задели Таню: подыгрывает гостю или окончательно перестроился? – А если в результате выборов к власти придет оппозиция и президентом будет избран, например, Зюганов, Зорькин или Бабурин? – сказала Таня. – Такое исключено, – живо подхватил Евгений. – Красно-коричневым ни за что не набрать большинства голосов. Против них восстанет телевидение, газеты. Их с ног до головы обольют дерьмом. – Да уже обливали, а они прошли в Думу. И не мало: те же Зюганов, Бабурин – парировала Таня. – Это разные вещи, – мрачно проговорил Яровой. После шампанского и трех рюмок коньяка он заметно захмелел и как-то обмяк. Глаза покраснели, в них появился зловещий блеск. – В Думу прошли, а в президенты их просто недопустим. Президентом будет наш человек. Иначе все прахом. – Это кто же: Ельцин, Гайдар? – спросила Таня. – Не-ет, ни в коем разе, – брезгливо поморщился Яровой. – Эти господа – вчерашний день. Эти мавры свое дело сделали. – А кто тогда? У вас нет ярких лидеров, – настаивала Таня. – Есть лидеры, – подал голос Евгений. – Явлинский, Шахрай, Черномырдин. – Ни тот, ни другой, ни третий, – Яровой решительно замотал склоненной над рюмкой головой. рыжий чуб его взъерошился. – За них не будут голосовать массы. А нам надо голоса масс. Нужен человек, чтоб был приемлем и нам и оппозиции. Нужен архипатриот. – Он сделал внушительную паузу и заговорщицки уставился на Таню. – Понимаете, прекрасная леди, – архипатриот? – И демократы проголосуют за архипатриота? – искренне усомнилась Таня. – Проголосуют. Они не дураки, не идиоты, которых телевидение лишило мозгов. Они будут знать и знают настоящую цену архипатриота. Не ту, что у него на лбу написана, а ту, что вот здесь. – Он постучал себя в грудь и поднял рюмку с коньяком. Он уже дошел до кондиции, за которой начинают терять над собой контроль: – Очаровательная Татьяна Васильевна… – Так кто ж тот таинственный архипатриот? Или это секрет? – перебила Таня. – Секрет, – согласился Яровой и продолжил начатый монолог: – Я хочу выпить с прекрасной леди на брудершафт. Не возражаешь, Женя? – Напротив, рекомендую, – весело отозвался Евгений и скользнул на Таню виноватым поощрительным взглядом. – А все-таки мне, как избирателю, хотелось бы знать имя претендента на президентский пост, за которого я должна голосовать, – уклонилась Таня от поцелуя. – А то вдруг проголосую не за того, Ыза липового архипатриота… Кто же он? Неужто Жириновский? – За поцелуй готов я выдать тайну. Яровой, шатаясь, тяжело поднялся из-за стола и с рюмкой коньяка направился к Тане, которая вдруг смутилась и растерялась. Она представила себе эти слюнявые, плотоядные губы Ярового и физически ощутила чувство брезгливости и неприязни. «Нет-нет, только не это», – приказала она себе. А тем временем Яровой, подойдя к Тане, выпил коньяк и потянулся к подставленной щеке, которой успели только коснуться его влажные губы. – Это не по правилам, – недовольно сказал Яровой. – На брудершафт положено в губы. – Называйте имя архипатриота, – решительно потребовала Таня. – Итак, Жириновский? – Жириновский – антисемит, значит, фашист. За фашиста ни те ни другие голосовать не будут. – К сожалению, голосовали, – напомнил Евгений. – Ну так кто же? – проявляла нетерпение Таня. Яровой умолк, пристально посмотрел на Евгения, потом перевел доверительный взгляд на Таню. Выдержав паузу, вполголоса, словно опасаясь, что его услышат те, кто не должен этого знать, произнес: – Руцкой! Оба Соколовых удивленно переглянулись. – Руцкой? Кандидат от демократов? – переспросил Евгений, делая изумленные глаза. – Да не может быть. – Довольно неожиданно, – только и произнесла Таня. Она засомневалась в искренности Ярового. – А что вы нашли неожиданного? – осевшим голосом спросил Яровой. – Вспомните, в упряжке с кем он избирался в вице-президенты? И какой он был непримиримый демократ, как он чехвостил коммунистов, с какой жестокой ненавистью. – Но он сам был коммунистом, – как был размышляя, сказала Таня. – Хорошо воевал, героя получил. Дважды в плену побывал… – И дважды уходил из плена, – напомнил Яровой. – Не рядовой, а полковник, ас. Кто помог? – Говорят, наша дипломатия, – произнес Евгений. – Допустим. Один раз. А второй? Может, ЦРУ? То-то, – предположил Яровой. – А став вице-президентом, куда направил господин Руцкой свои зарубежные стопы? В Израиль.Засвидетельствовать свое почтение и походя сообщить, что у него мама еврейка, следовательно, по израильским законам он еврей. А вот Жириновского-Финкельштейна в Израиле за еврея не сочтут, потому что мама у него русская. – Жириновский антисемит. Притом, откровенный, – осуждающе изрек Евгений. – Да перестань ты, Женя, со своим антисемитизмом, – недовольно сказала Таня. – Вот заладил. Нету нас никакого антисемитизма. Скорей уж наоборот. – Как нет, когда Черномырдин заявил, что у правительства есть целая программа борьбы с антисемитизмом, – возразил Евгений. – Что ж получается: программа есть, а антисемитизма нет. – Не спорьте, вы оба правы: антисемитизма действительно нет, можете мне поверить, – вмешался Яровой уже заплетающимся языком. – А программа у Черномырдина есть, тут Женя прав. Программы реформ нет, а антисемитская есть. Подарок Израилю и США. – Ну как же нет, Анатолий Натанович, когда я сам видел надписи большими буквами на бетонных щитах: «Жиды правят Россией!», «Бей жидов!» – Ерунда, несерьезно, – опроверг Яровой и прибавил: – Такое могли написать сами евреи, бейтаровцы, чтоб оправдать черномырдинскую программу. Могли?.. Запросто. Это игра. – Нет, Анатолий Натанович, все, что вы говорите, очень интересно. Это так неожиданно, – настойчиво заговорила Таня. – Меня вот что интересует: предположим, что вашего Руцкого на президентских выборах победит Зюганов или кто-нибудь не из «липовых архипатриотов», а настоящий патриот? Что тогда? – Тогда?.. – в узеньких глазках Ярового засверкали колючие огоньки. – Тогда вмешаются американцы, НАТО под флагом ООН. – Это как же? Введут свои войска? – И такое возможно, как крайний случай. – Это же будет оккупация. – По просьбе того же Ельцина. Для спасения демократии. – А наша армия?.. – Будет выполнять приказ своего Верховного Главнокомандующего, то есть Ельцина. А вообще, – как бы спохватился Яровой, – политика – грязное дело, это давно сказано кем-то умным. И мы с вами не будем играть в грязные игры. Прекратим. Лучше поговорим о приятном, о прекрасном. О женщинах. Женщина – эт-та… – он встал и поднял вверх указательный палец, поводя осоловелыми глазами… – Это звучит гордо, как сказал классик. – Это Горький о человеке говорил, – поправила Таня. – Верно, о человеке, – согласился Яровой. – А вы, Татьяна Васильевна, что, не человек? Вы – человек с большой буквы, только вот он, этот банкир, новый русский, не понимает и не ценит, какой алмаз подарила ему судьба. – Почему вы так говорите? – возразила Таня. – И понимает и ценит. Вы глубоко заблуждаетесь. – Нет, Татьяна Васильевна, я не заблуждаюсь, а вы слишком… Скромничаете. Ни повара, ни прислуги сами и готовите и стираете. Это не для ваших рук. И ваша медицина не для вас. Вы не должны работать. Вы созданы для украшения… – Он взял пустую рюмку, посмотрел в нее мутными глазами и поставил на стол, приговаривая: – Все, больше ни-ни, ни грамма. И вообще… Я засиделся. Мне пора. Евгений проводил Ярового до машины, в которой рядом с водителем сидел телохранитель. Садясь в машину, Анатолий Натанович не забыл уточнить, когда Евгений уезжает в загранкомандировку. Для него это был важный вопрос, связанный с его коварным замыслом.2
– Ну и как тебе Анатолий Натанович? – весело спросил Евгений, войдя в квартиру. Таня уже успела переодеться в домашний халат и убирала посуду. Она метнула в мужа жесткий короткий взгляд и не ответила. Евгений насторожился: Таня чем-то недовольна. Осторожно спросил: – Почему не отвечаешь? Он тебе не понравился? – Удивительно, что эта акула нравится тебе, – сухо сказала Таня. – Ты перед ним так и стелил… – Я, стелил? Да что ты, Танюша. Он, конечно, акула, ты совершенно права. Но в данный момент это нужная для нас акула. – Для тебя, может, и нужная, а для меня – уволь. Евгению не хотелось сегодня раздражать Таню, он был настроен миролюбиво и благодушно. И голос у него елейный: – Конечно, хоть он и акула и удав, но в уме ему не откажешь: мыслит масштабно, по-государственному. Далеко смотрит вперед. Между прочим, остался доволен, – солгал Евгений. – Разоткровенничался. Сказал лишнего. Значит, доверяет. – Да, наговорил он много любопытного, – согласилась Таня. Откровения Ярового по поводу Руцкого и возможной высадки в России натовских, то есть американских, войск ее не просто удивили, но встревожили. Впрочем, она вспомнила, что о Руцком ей что-то подобное говорил Василий Иванович, он с недоверием относился к этому афганскому герою. Но тогда отец сказал как-то походя, и она не придала его словам особого значения. Яровой же все изложил предельно ясно и доходчиво. Словно угадывая ее мысли, Евгений сказал: – Что касается американской оккупации, то тут Анатолий Натанович малость загнул. – Почему загнул? Мы уже сейчас находимся в американо-еврейской оккупации. Разве ты не видишь? А перспективу он нарисовал страшную. Добровольно Ельцин и банда власть народу не отдадут. Ради спасения своей шкуры на все пойдут и американцев призовут. – Да они и сами без приглашения придут спасать свою демократию, – вдруг согласился Евгений. Идеи, высказанные под хмельком Яровым отложили и в нем нехороший, тревожный осадок. В его напуганной, издерганной последними событиями душе происходил какой-то разлад, похожий на хаос. Он во многом соглашался и с Таней и с совершенно противоположным мнением Ярового, и одновременно не принимал ни ту, ни другую стороны, не имея при этом своего собственного мнения. – Женя, скажи: неужели такое возможно? – О чем ты? – не сразу сообразил он. – Об американцах. У немцев не вышло, а у этих получится? – У Евгения не было слов для ответа, и она продолжала размышлять вслух: – Тогда против немцев поднялся весь народ, единый, сплоченный вокруг вождя. А сейчас нет вождя, и никто никому и ни во что не верит. Некоторые поверили было Ельцину, голосовали за него, а теперь обманутые, нищие побираются, умирают от голода. Жалкие беззащитные. – А мне их не жалко, – в сердцах бросил Евгений. – Пусть подыхают. Сами голосовали. – Но ты тоже голосовал за Ельцина. – Ну уж нет, я не за него голосовал. Я голосовал за свои миллионы. Ельцину я знал цену. А что ты выиграла, голосуя за Рыжкова? Анекдот: он пригрозил поднять цену на хлеб в два раза, и его забаллотировали. Ельцин пообещал лечь на рельсы, и его избрали, твои же коллеги – врачи, учителя, вшивая интеллигенция, бюджетные крысы. Самые глупые, как и те домохозяйки-пенсионерки, которые теперь слезы распустили. – Да не глупые, – возразила Таня. – Доверчивые, наивные, оболваненные телевизорами. Я вот все думаю: что ж он все-таки за человек, Борис Ельцин? Есть ли у него совесть, душа? – Он, если хочешь знать, Степан Разин, только наоборот. Тот богатых грабил и убивал, а этот грабит бедных и голодом морит. Тот, «веселый и хмельной», близкого ему человека, персидскую княжну этак шутя, по пьянке, бросает в Волгу-матушку. Ельцин своего верного слугу, помощника и тоже «веселый и хмельной» бросил с корабля в Волгу. Ответы Евгения, его какой-то взвинченный тон не успокаивали, не устраняли тревогу, порождали вопросы. – Нет, Женя, я не могу себе представить высадку американского десанта в России. Есть же у нас армия, наша, родная, «непобедимая и легендарная». – Армии, о которой ты говоришь, уже нет. А та, что есть, будет выполнять приказ наших отечественных американцев – тех же Грачевых и Кокошиных. И, конечно, Ельцина. В голосе Евгения Таня почувствовала апатию и безысходность. Ей вспомнились слова отца: пока у нас есть ядерное оружие, с нами будут считаться. И теперь у американцев главная стратегическая цель – любой ценой, под любым предлогом захватить наш ядерный арсенал или нейтрализовать его. Вот что страшно. На этот раз Евгений не стал стелить себе на диване: он первым, раньше Тани, принял душ и первым занял свое место в спальне. Он ждал Таню, перебирая в памяти события сегодняшнего вечера. С Яровым не удалось переговорить о делах «Пресс-банка» то ли из-за дурацкого «Амаретто», то ли из-за сенсационных откровений Анатолия Натановича и его быстрого опьянения. А с пьяным говорить о серьезном деле бесполезно. Евгений подозревал, что история с «Амаретто» была заранее задумана Яровым, как предлог побыть наедине с Таней. Евгения занимал вопрос: о чем они говорили в его отсутствие. Он видел, каким алчным взглядом пожирал Яровой Таню, и потом этот откровенный поцелуй на брудершафт. «А как она ловко ускользнула, подставив щеку», – одобрительно подумал Евгений. Но чувства ревности он не испытывал: важно было задобрить Ярового, угодить – тут уж не до ревности и нравственных условностей. Татьяна вела себя не лучшим образом, явно демонстрировала свою если не неприязнь, то нелюбезность. Ее поведение огорчало Евгения, потому что, как он понял, и не радовало Ярового. Могла, наконец, пересилить себя ради дела, ради своей же судьбы. Ведь если не поможет Яровой и банк «лопнет», то Евгений определенно смоется «за бугор» – этот вопрос решен им твердо и окончательно. К угрозе Тани не покидать страну он отнесся серьезно: она слов на ветер не бросает. В таком случае развал семьи предрешен. Егор, конечно, останется с ним, в Россию он не вернется. Мысли эти угнетали, вызывали душевную боль. Надо убедить Таню «завлечь» Ярового во имя сохранения семьи здесь, в России, оставаться в которой и для него было куда предпочтительней, чем доживать век где-то на чужбине, В слово «завлечь» он вкладывал вполне определенный смысл: стать любовницей. Ничего страшного в этом он не видел: не он первый и не он последний, по его мнению, половина мужей – рогоносцы, каждый второй награжден этой «короной». И большинство из них не знают, кто им наставляет рога. Здесь же все проще и ясней, – по обоюдному согласию. Никто ничего не теряет, во всяком случае, Евгений: к Татьяне он уже охладел, его больше устраивает, как женщина, Люба Андреева. Она вышла из ванной в халатике, туго перетянутом поясом, и, выключив свет, без слов нырнула под одеяло, отодвинувшись от Евгения на самый край кровати. «Сердится. Будут проблемы», – с досадой подумал Евгений и, приблизившись к ней вплотную, попытался осторожно обнять ее горячее, распаренное тело. Она резко отстранила его руку и натянула одеяло так, что оно разделило их. Он обиженно отодвинулся. Выждав паузу, произнес с явным укором: – Могла быть и поласковей… – Выдержав паузу, уточнил: – с Яровым. – Я прошу тебя: никогда не говори мне о нем, – раздраженно произнесла Таня, не двигаясь. – Почему, объясни? Он что, оскорбил тебя, обидел? – По-твоему как – наглое домогательство обижает или оскорбляет? – отозвалась Таня и повернулась на спину. – Это зависит от обстоятельств. Иногда надо прощать: не обижаться и не оскорбляться, просто, закрыв глаза, перешагнуть условности, пересилить себя во имя главного, – стараясь по возможности миролюбиво, дружелюбно ответил Евгений. – Не понимаю, на что я должна закрыть глаза и через что перешагнуть? Евгений прекрасно знал, что она понимает, о чем речь, и ждет не уклончивого, а прямого, пусть и жесткого ответа. И он сказал: – Ну, удовлетворить его желание. – Слова эти прозвучали уж слишком просто, обыденно. – Желание? – в тоне, каким это было сказано, вызывающее удивление. – А ты знаешь, что он желал? – Догадываюсь, – все так же просто ответил Евгений. – И тебя это никак не трогает, не смущает? – Когда речь идет о жизни, о будущем семьи, приходится идти на уступки. – Если я правильно тебя понимаю, ты толкаешь меня в объятия похотливого удава? Так? Он молча обдумывал ответ. Хотелось сказать: «Ну и что, разве тебя убудет». Но он не решился произнести эту циничную фразу и предпочел ей не менее циничную: – Тебе известно такое выражение: «Игра стоит свеч»? Эти слова шокировали ее, перехватили дыхание, и она выдавила из себя незаконченную фразу: – Какой же ты… – мысленно произнесла: «Такой же негодяй… Как же я раньше… Нет, он не был таким… Он им стал… Что за причина, почему?» Не было ответа. Она опять повернулась к нему спиной, и он сделал попытку обнять ее, провел рукой по обнаженному плечу, по шелковистой, такой знакомой, соблазнительной, родной, но она грубо отстранила его, сжалась в комок на самом краю кровати. – Что же ты за человек? – вполголоса произнесла она и затем решительно и зло: – Не прикасайся ко мне. Он чувствовал, как напряглось ее тело, как дрожал ее голос, и все же еще на что-то надеялся. – Ну пойми же ты меня, пойми положение, в котором мы оказались. Ее коробило это «мы», она не хотела и не могла понять, все, что сейчас происходило, никак не укладывалось в ее голове, было чуждо, даже враждебно и омерзительно. Теоретически она знала по рассказам, читала в книгах о том, как иные мужья не только закрывают глаза на измену своих жен, но и преднамеренно из корыстных соображений подталкивают их на это. Но это было где-то и с кем-то, и ее никак не касалось, И вдруг эта мерзость задела ее. Тане стало обидно, невыносимо горько и стыдно, что человек, которого она когда-то искренне любила, считала, если и не идеальным (а бывают ли такие в природе?), то во всяком случае порядочным, решился на такой отвратительный бесчестный поступок. И главное, что он не понимает, не сознает всей низости своего нравственного падения. Она чувствовала себя униженной, оскорбленной, словно ее пытались изнасиловать. Страх, который она пережила в связи со стрельбой по машине, угроза бегства за границу в случае краха банка и предложение удовлетворить желание Ярового слились теперь в один запутанный клубок безысходности и позора, и она не видела, не находила концов, за которые можно было бы уцепиться, чтоб размотать этот сатанинский, грязный клубок. Ее всю заколотило, как в ознобе, спазмы сжали горло, и она боялась разрыдаться, не хотела, чтоб он видел ее слабость и унижение. И только сейчас Евгений, почувствовав ее дрожь, понял, что перегнул палку, и смутился. И он ударился в сумбурное объяснение: – Извини меня, я виноват, это получилось скверно, я искренне раскаиваюсь… Я лишнего выпил, неуместно пошутил, прости. Давай уедем в Испанию, Швейцарию, Францию. Черт с ним, с Яровым. Я завтра же закажу билет в Англию, заеду к Егору, потом подыщу приличное пристанище, и заживем спокойно. Денег на наш век хватит и Егору останется. Но все его слова отторгались ею, не задевая ее сознания. Только одно слово – Егор – накрепко запало ей в душу. Она думала о своем мальчике, о его судьбе, о свалившейся на нее трагедии и опасалась, как бы эта пошлость, эта грязь не коснулась его. Ей хотелось как можно скорей вернуть его в Россию, в Москву, в отчий дом, под материнское крыло. Ей казалось, что Егор – это единственное существо, ради которого стоит жить. А все остальное – достаток, работа, муж – это ничтожное, проходящее, фальшивое, недостойное внимания. Она потребует от Евгения, чтоб он непременно в эту поездку привез Егора домой: как раз начинаются летние каникулы, а с осени он поступит учиться в московскую школу, и все будет хорошо, она уже никогда и ни за что не отпустит его от себя. Но об этом она скажет Евгению завтра, сейчас же она вся целиком, всем своим существом была поглощена думой о сыне и не хотела произнести ни единого звука, чтоб не спугнуть эти мысли, и опасалась, что это сделает Евгений, то есть заговорит. Но Евгений молчал, он замер в одном положении и не позволял себе даже пошевелиться. Он уснул раньше ее, слегка похрапывая, что за ним водилось очень редко. Таня засыпала медленно, с полудремы с думами о сыне, образ которого с яви незаметно перешел в сновидение только снился он ей не пятнадцатилетним отроком, а озорным дошкольником с сачком в руках, гоняющимся за майскими жуками, которые кружили возле молодой, еще клейкой листвы пушистой березы, росшей возле дедушкиной дачи. Неожиданно Егор очень ловко взобрался на березу и, весело хохоча, задирая вверх голову и цепляясь за сучья, поднимался все выше и выше, и под его тяжестью береза начала раскачиваться. Таня в тревоге закричала: «Слезь! Немедленно слезай!» А он задорно хохотал и лез на самую макушку, пока вдруг не сорвался. Таня вскрикнула в ужасе и проснулась в холодном поту.3
Утро в доме Соколовых было мрачным, натянутым и бессловесным. Евгений предпочел не вспоминать о вчерашнем дне и уехал на работу без завтрака: и аппетита не было и хотелось убежать от неприятного разговора и новых объяснений, которых, кстати, Таня так же не желала. Она была расстроена и напугана страшным сном, и все мысли ее были поглощены Егором. Страх, который вселили в ее душу выстрелы по машине и дополненный сновидением, теперь усилился и обрел как бы постоянство. Выходя из подъезда дома, она подозрительно осматривалась по сторонам, в поликлинике, во время приема больных, недоверчиво смотрела незнакомого пациента, с сестрой и коллегами держалась холодно и отчужденно. Мысленно она вела монолог с Евгением, поражалась метаморфозе, произошедшей с ним, упрекала его в лакействе, беспринципности, потере собственного достоинства и в прочих подлинных и мнимых грехах. Евгений понял, что его надежды на спасительную миссию Ярового иллюзорны, а крах банка произойдет не позже двух-трех месяцев, решил ускорить загранкомандировку и попросил Любочку заняться оформлением документов. С получением виз у деятелей его ранга проблем не существовало, как и с заказом на авиабилеты. Любочка очень обрадовалась предстоящему загранвояжу вместе со своим шефом, который к тому же предупредил, что ночевать сегодня будет у нее. Он хотел таким образом проучить, а по существу уязвить Таню, отвергнувшую его прошедшей ночью. Вообще он весь день злился на Таню, возлагая на нее все свои как домашние, так и служебные неприятности, среди которых он главной считал неминуемый и уже неотвратимый крах банка. Откровенно говоря, семейный разлад он воспринимал с несерьезным легкомыслием и особой трагедии в этом деле не видел. Он свыкся с мыслью, что скрываться от обманутых, ограбленных им же вкладчиков, своих сограждан, так или иначе придется и, конечно же, в «дальнем зарубежье» – конкретно намечалась Испания, – а кто разделит его печальную участь, Таня или Люба, в настоящее время серьезных тревог и волнений для него не имело особого значения. По крайней мере, при Любе он не стелил себе на диване, всегда получал избыток удовольствий и не выслушивал проклятий по адресу «демократов» и правящей кремлевской клики. Люба с пылкой радостью и всеобъемлющей благодарностью принимала от него дорогие подарки в то время, как Таня относилась к ним с терпимым равнодушием. Безучастно она восприняла его сообщение по телефону, что сегодня он не приедет ночевать, хотя такое случалось не так часто. Таня понимала, что их семейная жизнь дала глубокую трещину, которая стремительно расширяется, и не хотела, не видела смысла воспрепятствовать давно назревшему взрыву. Она находилась в состоянии страха, ввергнувшего ее в душевный паралич, когда главенствует одна и та же навязчивая идея или мысль. Для нее теперь это думы о сыне, которого непременно нужно вернуть на родину под родительский кров. В эту бурную ночь любовных утех Евгений с легкой иронией поведал Любочке о том, как Яровой пытался поцеловаться с Татьяной на брудершафт и она ловко вывернулась, и о том, что у него с женой произошла очень резкая, как никогда прежде, размолвка, что, конечно, должно ускорить их развод. – Но ты сказал ей об этом? – мягким вкрадчивым голоском допытывалась Любочка, сверкая ровными белыми зубами. Она смотрела на Евгения большими глазами, ослепленными восторгом. Ее открытое лицо и смеющийся рот пылали счастьем и верой в будущее. В ответ Евгений лишь покорно и утвердительно кивал головой. А она мечтательно говорила: – Так хочется поскорей уехать из этой страны и никогда не возвращаться. А эту хижину со всей обстановкой подарить твоему сыну. Евгения эти слова озадачили и насторожили. Он посмотрел на нее с изумлением и оторопью. – Это как понимать? Егор будет жить с нами. – Ну конечно же, с нами, – быстро спохватилась Любочка и, чтоб замять невольную оплошность, уткнулась головой в его грудь. Для Любочки предстоящая поездка за рубеж была не первой. До этого в качестве референта-переводчика вместе с Евгением она посетила многие европейские страны и мечтала побывать в западном полушарии. В день отлета в последнюю командировку, прощаясь с Таней на квартире – в аэропорт она его не провожала, так было заведено – Евгений спросил ее «в последний раз»: – Пожалуйста, ответь мне твердо и решительно: ты уедешь со мной на постоянное жительство за рубеж, чтоб я с этим учетом подбирал там удобное место. Вопрос был формальным, он знал заранее ее ответ. – Нет, – сухо, без колебаний ответила Таня и потом прибавила: – Я еще раз убедительно прошу тебя – привези Егора. Хотя бы на летние каникулы. Обещаешь? – Она смотрела на него с чувством отчужденности, и в больших темных глазах ее светилась грусть. – Там видно будет, – уклончиво ответил Евгений. – Если не будет никаких препятствий, то конечно. Так они расстались утром в субботу. Соколовы жили в новом голубом доме на первой Останкинской улице. Из окна их квартиры открывалась широкая панорама на ВДНХ и Шереметевский парк, который сливался с огромным зеленым массивом Главного ботанического сада площадью в полтысячи гектаров. Тане нравился этот район Москвы: в свободное время всегда можно было отдохнуть на природе, не отходя далеко от дома. Проводив мужа в дальние страны, или, как теперь называли, в страны дальнего зарубежья, Таня подошла К окну и распахнула створки. Погода в этом году не баловала москвичей, но этот субботний день обещал быть отменным. Яркое майское солнце искрилось и сияло на куполах и шпилях павильонов ВДНХ, над зеленым массивом зазывно струилась игривая тонкая дымка, манящая волшебством буйной весны, которую Таня всегда встречала с трепетной благодатью и нежным восторгом. Сегодня, может, впервые в жизни она не ощущала прилива высоких чувств: на душе было холодно и пусто, ее преследовал страх. Все неприятности, казавшиеся ранее не столь серьезными, мелочными, накапливались постепенно, незаметно, вдруг сошлись в общий сложный ком непредвиденных проблем. И началось это, как подумала Таня, все с выстрелов по их машине. Она попробовала спокойно во всем разобраться, но покоя не было, ее преследовало неприятное ощущение тесноты и нагромождения в квартире: вся эта добротная мебель, люстра, бра, шкафы, полные дорогой одежды, хрусталь, фарфор и серебро давили на психику. Здесь не было воздуха несмотря на распахнутое окно, не было пространства, и, чтоб снять душевное напряжение, она решила выйти в парк. В этот теплый субботний день народу в парке, как это ни странно, было не так много: очевидно, москвичи разъехались по дачам заниматься садами-огородами. Шереметевский парк восхищал Таню своими дубами-исполинами, много повидавшими на своем веку. Стволы в три обхвата, могучие, растопыренные во все стороны сучья создавали величавую крону и впечатляли своей исторической вечностью. Даже зарубцевавшиеся продольные шрамы, свидетели жестокого удара молнии, не разрушали их незыблемости и силы. Среди дубов, лип и вязов пестрели белые сполохи черемух. Их терпким приятным запахом был густо насыщен воздух. Таня прошла по центральной аллее до чугунных ворот, разделяющих Шереметьевский парк и ВДНХ, и, возвращаясь обратно, решила присесть на свободной скамейке. Парк был озвучен разноголосием пернатых, среди которых резко выделялись голоса дроздов и зябликов. Вдруг в стороне прудов, разделяющих парк и Главный ботанический сад, раздался робкий, как бы пробный голос соловья из черемуховых зарослей. Мимо скамейки, на которой сидела Таня, проходил мужчина средних лет с огромнейшей бело-палево-коричневой собакой породы московская сторожевая. Услыхав соловьиную трель, он замер на месте, настороженно, с блаженной улыбкой на тонком аскетическом лице прислушался. Потом, посмотрев на Таню добрыми умными глазами, с детской радостью произнес: – Слышите? Прилетел кудесник, порадует. Его восторженный, доброжелательный взгляд словно приглашал Таню разделить с ним радость первой в этом году встречи с соловьем. И в ее больших темных глазах вспыхнула дружеская ответная улыбка. – Это соловей? – спросила она на всякий случай поскольку иногда голосистых певчих дроздов принимала за соловья. – Он самый. Да к тому же молодой, еще робкий, неуверенный в себе. – И вдруг спросил: – Мы с Амуром вам не помешаем? Вы позволите присесть? Таня не возражала, лишь искоса посмотрела на собаку, заметив то ли с опаской, то ли с восхищением: – Какой богатырь! А он не… – Не беспокойтесь: с добрыми людьми он добряк, со злыми – беспощадно зол. Вы, я вижу, женщина не просто добрая, а как бы вам сказать, чтоб не сочли за комплимент, очаровательно добрая. Таня была настроена дружелюбно к этому крупному, но не тучному мужчине с тяжелой копной темнорусых волос и проницательными глазами, которые смотрели открыто и прямо из-под густых бровей. В его простодушных мягких манерах чувствовалась сердечность, доброта и душевная щедрость. «А он не лишен обаяния», – решила Таня, с любопытством поглядывая то на собаку, то на ее хозяина. В глазах ее таилось неотразимое очарование. – А как же вы с ним в транспорте? – поинтересовалась она. – Да ведь мы тут недалеко живем, на улице Королева. – Говоря «мы», он явно имел в виду себя и Амура. – А вы издалека сюда добрались? – Я еще ближе, с первой Останкинской. Знаете эти голубые корпуса? – Так мы с вами соседи. Это хорошо. «Почему хорошо и что в этом хорошего?» – подумала Таня и спросила: – Почему вы его Амуром назвали? Пес, услыхав свое имя из уст незнакомки, очень осторожно, как будто даже извиняясь, положил свою голову на колени Тани. – Амур, ты ведешь себя слишком фамильярно. Это неприлично для воспитанной собаки, – ласково пожурил пса хозяин. – Ничего, я его прощаю, он, видно, добрый. – Он несомненно добрый. Но тут есть своя причина такого поведения. – Какая же? Если не секрет… – сорвалось у Тани. – Особого секрета нет, – без охоты молвил хозяин. – Мы с вами еще не познакомились. Мой батюшка Харитон Силин нарек меня Костей, следовательно я Константин Харитонович. А как вас звать-величать? Извините, я не хочу быть навязчивым, можете не отвечать. – Ну почему же, тем более мы соседи. Меня зовут Татьяной Васильевной. Я врач-терапевт. И одарила его долгим взглядом. Он правильно понял этот взгляд и ответил просто: – Я судья. – А почему вы назвали свою собаку Амуром? Снова услыхав из ее уст свое имя, пес поднял на Таню умные доверчивые глаза и ласково потерся о ее ноги. Силин добродушно и в то же время как-то страдальчески усмехнулся, как будто вопрос ее для него был непростым, проговорил как бы размышляя: – Амур – великая река. И Амур – бог любви. Кому отдать предпочтение? Я отдал последнему. Вы спросите – почему? Да очень просто. Любовь – это божественный дар всевышнего, ниспосланный всем земным тварям и в первую очередь человеку. Кстати, многие животные, птицы не чужды этого дара. – Он говорил медленно, неторопливо и весомо выкладывая слова. – Вот он, – кивок на собаку, – ласково положил на вас свою голову. Выдумаете, почему? Тут есть веская причина. Недавно он расстался с любимым человеком, своей хозяйкой. Он тоскует по ней. И вы напомнили ему ее, и он дарит вам свою ласку. Силин умолк. Он думал: продолжать начатое, в сущности интимное, да еще первому встречному? Вообще он отличался болезненной застенчивостью и был удивлен, что вдруг разговорился с этой привлекательной женщиной, внушающей доверие и симпатию. Таня поняла, что задела что-то сокровенное, запретное и почувствовала некоторую неловкость: – Извините, мне, наверно, не следовало… – Нет, нет, тут совсем не то, о чем вы могли подумать, – поспешно перебил он. – Все гораздо проще и, я бы сказал, банально: на днях моя жена уехала в Штаты. Насовсем. Официально получила развод и уехала. А мы остались, нам с Амуром не нужны никакие Америки. (Он умолчал, что осталась с ним и его дочь Ольга – студентка МГУ.) – Я даже не знаю, как мне… выразить вам свое сочувствие или… – в некоторой растерянности проговорила Таня. – Сочувствие? Да нет же, скорее «или», – добродушно заулыбался Силин. – Во всяком случае, разлука была без печали. Вот только Амур. – Он потрепал собаку по голове. Таня обратила внимание на его руку – сильную, твердую, с крупными, как желуди, ногтями на довольно тонких пальцах. Удивительное прямодушие судьи, его откровенность вызывали в ней ответную симпатию. И она, преодолевая внезапное смущение, не дожидаясь его любопытства, которого, впрочем, могло и не быть, как-то непроизвольно сообщила: – А мой сегодня тоже улетел в дальнее зарубежье, в Испанию. Силин хотел спросить: «тоже насовсем»? Но решил не проявлять чрезмерного любопытства и промолвил, как бы размышляя про себя: – Теперь все понятно. – Что именно? – Таня уже пожалела о сказанном. – У вас такие печальные глаза, Татьяна Васильевна, что мне подумалось: у этой девушки какая-то неприятность. Сказанное так естественно слово «девушки» вызвало у Тани легкую улыбку, и, быстро погасив ее, Таня согласно кивнула: – Да, теперешняя жизнь – одни сплошные неприятности. – Неприятности? Нет, уважаемая, – кошмар. Иногда думаешь – а может это сон? Просто не верится, что такое возможно!.. История такого не знала. – Приятно слышать, значит, вы патриот, – искренне похвалила Таня. – Для судьи это очень важно. Силин понял, что она имеет в виду. Сказал: – Суд должен при любой власти быть праведным. Должен бы… – И потом без всякого перехода: – Тут на днях по телевидению русский американец небезызвестный телеопричник Познер изгалялся над великим Тютчевым, над его стихом «Умом Россию не понять» и, конечно, над Россией. Издевательски, цинично сравнил Россию с Панамой. Конечно, познерам Россию не понять. Для них она – географическое понятие, объект для грабежа и издевательства, жирная кормушка. При этих словах Таня вспомнила Анатолия Натановича Ярового и с болью в голосе произнесла: – И откуда только их набралось, этих познеров? Заполонили всю Россию. Амур заволновался, встал на ноги, огромный, могучий, понимающе посмотрел на хозяина. – Зовет. Нам пора, – сказал Силин. – Очень приятно было познакомиться. – Затем достал визитную карточку и протянул Тане: – Вот, возьмите на всякий случай. А вдруг понадобится консультация юриста. Обращайтесь, не стесняйтесь. Буду рад… – Он немного волновался, хотя и пытался скрыть это волнение, но скрыть от проницательных глаз Тани было невозможно. Она взяла визитку, поблагодарила, протянула руку Силину, которую он задержал чуть больше обычного, потом дотронулась до Амура, и они расстались.4
Таня решила еще немного погулять в парке. Встреча с Силиным не внесла успокоение в ее душу, а между тем мысли ее вертелись вокруг этого, как ей показалось, необычного, интересного человека. Ее занимало прежде всего, почему от него ушла, а вернее улетела за океан жена? И почему он воспринял этот разрыв равнодушно и даже с легкой иронией. «Наблюдательный глаз и проницательный ум: сразу понял мое душевное состояние – печальные глаза. А может это была лишь ответная учтивость? Нет, он человек искренний и прямой. И честный. С каким нетерпимым ожесточением он говорил о кошмаре нынешней жизни, об опричниках-познерах. Виден беспокойный, жадный ум. И деликатный. Не спросил о муже, уехавшем в Испанию. Ожидал, что я сама расскажу. Однако ж визитку свою предложил, и этот факт слегка заинтриговал Таню, хотя она и не была обижена вниманием мужчин. Домой Таня возвратилась в четвертом часу и посмотрела на табло телефонного аппарата. Да, был звонок. Включила запись автоответчика. Ба, знакомый голос Ярового. Анатолий Натанович настоятельно просил ее срочно позвонить ему. Она заволновалась: «Зачем? Что-нибудь с Евгением?» Она не испытывала желания разговаривать с Яровым: она была сыта от часов, проведенных с ним в их доме. Но этот неожиданный звонок в день отъезда Евгения ее насторожил. Таня набрала номер, указанный Яровым. Он сам взял трубку. Таня представилась. – Татьяна Васильевна, нам с вами нужно срочно встретиться, – очень решительно заговорил Яровой, даже забыв поздороваться. – И не задавайте никаких вопросов. Я буду у вас ровно через час. Когда подъеду к вашему дому, снизу позвоню из машины. До встречи через час. – Он говорил плотно, без пауз, не дав ей и слова вставить, и положил трубку. Озадаченная Таня в первые минуты почувствовала растерянность. В разгоряченном мозгу всплыла масса вопросов и предположений, и все они вертелись вокруг главных неприятностей: стрельбы по машине, предполагаемого краха банка и отбытия в командировку Евгения. Судя по тону, каким разговаривал Яровой, случилось что-то неприятное. Таня готовила себя к худшему. Она надела ту же, что и в прошлый раз, кофточку и те же брюки и стала ждать. Ровно через час, после телефонного звонка из машины. Яровой вместе с телохранителем позвонил в дверь. Таня на всякий случай – о предосторожности ее предупреждал Евгений – посмотрела в глазок и, убедившись, что это Яровой, открыла дверь. Анатолий Натанович, к ее удивлению, был в темно-синей рубахе с погончиками, без галстука и пиджака. Расстегнутый ворот обнажал высокую породистую шею, особую гордость Ярового, рыжие волосы по-прежнему были тщательно причесаны на боковой пробор, лицо, моложавое, цветущее, сияло счастьем! – Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой, – продекламировал он сходу заранее приготовленную фразу и, войдя в прихожую, подал Тане огромный букет на этот раз не белых, а ярко алых роз. Здоровенный розоволицый верзила стоял сзади у порога с тремя коробками. Передав коробки Яровому, телохранитель бесшумно исчез, тихо прикрыв за собой дверь, а Яровой бесцеремонно шагнул в комнату, положив на стол коробки. В одной была бутылка «Амаретто», в другой – шикарный набор шоколадных конфет, в третьей – набор духов «Все ароматы Франции». Он вел себя свободно, раскованно, с преувеличенным возбуждением, как будто был не то что старым знакомым в этом доме, но другом семьи. Тане даже показалось, что он слегка «навеселе». А Яровой, представ перед Таней во весь свой спортивный рост, непристойно уставился на нее пожирающим влюбленным взглядом и поддельно жалостливо вымолвил: – Татьяна Васильевна, дорогой доктор, я безнадежно болен, и спасти меня может только единственный в целом мире врач – вы, несравненная, божественная Татьяна Васильевна. Таня все поняла, и тревога, напряженность ожидания худшего отлегли от сердца. Ей было забавно смотреть на ловеласа высшей пробы, и она решила съязвить: – Вы же совсем недавно в этом доме утверждали, что наша медицина ломаного рубля не стоит. Что лучшие врачи обитают в Израиле и Штатах. Почему бы вам, при ваших-то возможностях, не обратиться к ним. – Все это так, я мог бы и в Израиль и в Штаты. Но моя болезнь особая, специфическая, подвластная только вам, – дурачился Яровой. – И что ж это за болезнь? – все так же иронически спросила Таня, догадываясь об ответе. – У меня болит душа. Понимаете – душа! – Тогда вам надо обратиться к психиатру, а я терапевт. – Нет, Татьяна Васильевна, не хотите вы меня понять, – раздосадованно вздохнул Яровой и начал открывать «Амаретто». – Доставайте, пожалуйста, рюмки, и мы отведаем этого божественного напитка, которого Евгений так и не мог достать. Я вам должен буду сообщить нечто важное и не совсем приятное. Таня насторожилась, нерешительно поставила на стол две хрустальные рюмки, а он тем временем открыл коробку с конфетами, сел к столу и быстро разлил по рюмкам вино. – Вы мне напрасно налили: у меня нет настроения, – сказала Таня, все еще не садясь за стол. Она не решила, как себя вести с этим непрошеным визитером. – Настроение создаст «Амаретто». У меня есть повод выпить: вчера я встречался с президентом Ельциным. Состоялся хороший разговор. – У меня тоже есть повод, – решительно подняла рюмку Таня. – И у меня, не вчера, а сегодня, только что состоялась встреча с одним очень интересным человеком. За его здоровье я с удовольствием выпью. Ну а вы пейте за своего президента. Яровой внимательно посмотрел, как Таня залпом выпила свою рюмку, и он вдруг явственно ощутил ее отчужденность и тоже выпил. – А человек, за здоровье которого вы пили, он что, лучше меня? – спросил как бы шутя. – Вы очень разные, даже антиподы. Он – истинный патриот, – с мягкой иронией ответила Таня. – А я по-вашему кто? Сионист, масон? – Это была тяжеловесная попытка сострить. Таня в ответ слегка улыбнулась и неопределенно пожала плечами. – Кстати, сионисты не такие уж страшные, как их малюют разные патриоты. Остерегаться надо не сионистов, а их лакеев и полукровок. И, разумеется, масонов. Но не будем о политике. – Он снова наполнил рюмки, продолжая аппетитно жевать шоколадные конфеты. – Почему же? В прошлый раз вы так интересно рассказывали. Например, о возможной американской оккупации, о Руцком, – напомнила Таня. Она сохраняла внешнее спокойствие. – Забудем этот вздор. Мало ли что по пьянке можно наболтать, – раздосадованно сказал Анатолий Натанович. – Все это чушь, фантазия. – А как же с пословицей: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? Яровой осклабился и с любезной небрежностью произнес: – Да будет вам, Татьяна Васильевна… Танечка. Мне можно вас так называть? – Для этого должны быть основания, которых у вас нет, Анатолий Натанович, – холодно осадила Таня. Однако это не смутило Ярового. Он напомнил: – В прошлый раз мы пили на брудершаф. – Таня промолчала, и он продолжал: – Я буду откровенен: когда я увидел вас, ваше лицо, ваши глаза, у меня дух захватило. – Вы повторяетесь, Анатолий Натанович, – перебила Таня: ей неприятно было слушать его излияния. Но он не обратил внимания на ее реплику и продолжал: – Побывав у вас дома, я понял, как вы несчастны. Понял, почему. Я знаю, что у Евгения есть любовница. И вы об этом знаете. Вас это угнетает, оскорбляет. Вам так же, наверно, известно, что Евгений решил расторгнуть ваш брак и связать себя семейными узами с Любочкой, этой высокой, костистой, сексуальной кобылой. Вы, конечно, знаете, о ком я говорю. Он не скрывает с ней своих отношений. Сегодня они вдвоем улетели в Испанию на песчаные пляжи. В ваших глазах я, наверно, со своей откровенностью выгляжу не лучшим образом. Но поверьте, мне искренне горько и обидно за вас, на которую я молюсь. Для меня вы святая. Не возражайте, выслушайте. Вы – моя мечта, идеал, который может только присниться в розовом сне. Я всю жизнь грезил встретить такую, в ком внутренняя красота, ее душа, так бы ослепительно сияли. Вы исключительное, неповторимое творение природы. – Я уже слышала – реликтовый экземпляр, – снова перебила Таня, но уже как-то помягче. – Остановитесь. Мы же не юноши, мы взрослые и, я надеюсь, не глупые, серьезные люди. – Хорошо, Татьяна Васильевна. Согласен. Давайте перейдем от лирики не на прозу, а на деловой тон. Ваш «Пресс-банк» обречен, как и другие ему подобные. Евгений это понимает. И он не станет ждать, когда его засадят в тюрягу, он смоется, как смылись уже некоторые. Я не уверен, что он из этой поездки возвратится. У Любочки хватка кобры. Возможно, она уже беременна. Из нашего разговора в прошлую встречу я понял, что вы ни за какие блага не покините страну, не составите компании мужу, который вам изменил и которого вы не любите. Пожалуйста, не перебивайте, выслушайте. – Он говорил быстро, напористо, не давая ей возможности вставить хотя б одно слово, страстно глядя ей в глаза. – Я предлагаю вам себя. Мое положение прочно, как никогда. – Вы в этом уверены? – не без иронии спросила Таня. – Ваш президент, по-моему, не уверен. – Мне наплевать на президента. Уйдет он, придет другой, до которого мне так же нет дела. У меня есть прочный фундамент. Это мой капитал, который Евгению и не снился. У меня есть все, о чем может мечтать нормальный человек. – Похоже, он терял терпение. – Нормальный человек не может мечтать об излишествах, о бешеной роскоши, – возразила Таня. – Это противоестественно самой природе. Она не потерпит непосильного грабежа. Она просто не выдержит, и планета погибнет от варварского истощения ее ресурсов. – Вы извините, вы начитались всякой ерунды разных там экологов, зеленых и красно-коричневых. Человек живет в свое удовольствие. Это высшее благо, в этом есть то, что называется счастьем. – Не может быть счастья за счет несчастья других, – сказала Таня. Незаметно для себя она ввязывалась в спор, ей хотелось высказать свое кредо. – Материальную роскошь, излишество вы возводите в критерий счастья. – Нет, конечно, не это главное, роскошь – сопутствующее счастью. Главное – любовь. Я с вами согласен. Но любовь в шалаше, извините, это сказка для простаков, ради утешения. – Любовь должна быть взаимной. Только такая любовь приносит счастье. Я так понимаю. – Но ведь вы не любите Евгения, а он любит не вас а свою сотрудницу, с которой укатил на приморские пляжи. Следовательно, вы несчастливы, – подтрунивал Яровой. У Тани не нашлось слов, чтоб немедленно парировать, и она сказала с наигранной улыбкой: – Но ведь вы тоже не счастливы, коль вам не хватает любви. – Именно так. И тут я встретил вас… – И что же? – в вопросе Тани прозвучали насмешливые нотки. – И полюбил вас с первого взгляда. И говорю вам словами гения: «Я опущусь на дно морское, я полечу за облака. Я дам тебе все, все земное – люби меня». – На Демона вы не похожи, не тянете, – с нескрываемой насмешкой сказала Таня. – Тогда кто же я по-вашему? Мефистофель? – И побагровевшее лицо Ярового исказила вымученная улыбка. Таня тоже улыбнулась и заметила: – Прямо, как в кино. Вы артист. Вы сами сказали, что играете роль в великом спектакле, который называется русской трагедией. Зачем же вам переходить на комедийную роль? Вы знаете такие стихи:Глава четвертая
1
После ухода Ярового Таня вдруг почувствовала себя смертельно усталой, измученной и расстроенной. Яровой вызывал в ней физическую гадливость. Она попробовала найти слово, точное и меткое, чтоб определить им Ярового, дать ему характеристику одним или двумя словами. «Циник?» «Подонок?» Да, конечно. И все же не совсем всеобъемлюще. И наконец решила: «Пошлая душонка», не просто пошляк, а именно – с пошлой душонкой, вообразившим себя Демоном. Честь, порядочность, приличие – для него пустые звуки. Ее больно поразило его откровенное доносительство о сожительстве Евгения с Любочкой – факт, о котором она даже не догадывалась. Сначала ей не хотелось верить: сочинил с подлой целью, чтоб добиться своего. И тут же соглашалась: похоже на правду. Но почему раньше ей эта мысль не приходила в голову – поводов для подозрений было больше, чем достаточно, но она их сходу отметала, она верила ему, своему Евгению, и считала, что и он верит ей. Впрочем, у него не было повода подозревать ее в измене, о которой она не помышляла, он даже не ревновал, когда мужчины глазели на нее бесцеремонно и делали дух захватывающие комплименты, он даже гордился, и ее это обижало. Усталая, издерганная, она впала в состояние безнадежной растерянности. Мысли об измене Евгения ее терзали сильнее всего: человек, которого она искренне любила, которого боготворила, оказался способен на предательство. Ну разлюбил, полубил другую, в жизни такое случается и довольно нередко. Что ж, скажи честно, откровенно, можно решить все по-хорошему. Все эти последние страшные годы русской трагедии, когда душа ее изнывала от переживаний за судьбу России и людские беды, он от души наслаждался жизнью и врал. Честная и гордая, она была ужасно оскорблена и не находила оправдания поведению Евгения. У нее даже возникло подозрение, что он преднамеренно, по обоюдному сговору подослал к ней сегодня Ярового. Вообще-то во второй половине дня она собиралась поехать на дачу, но появление Ярового спутало все карты. И теперь, не находя себе места под тяжестью размышлений, она подумала: «А может, сейчас, пока еще не поздно, уехать на дачу и провести там воскресный день?» Но одного такого желания оказалось недостаточно: у нее не было сил заставить себя выйти из дома. Не лучше ли завтра встать пораньше и уехать, а сейчас заняться домашними делами, которых у женщин всегда невпроворот. Так и порешила. В девять вечера, посмотрев по телевидению новости, она легла в постель, приняв таблетку успокоительного. Разбудил ее телефонный звонок. Часы показывали четверть одиннадцатого. Спросонья ей показалось, что звонок междугородний, и она решила, что это Евгений: он обещал позвонить. В трубке послышался уже знакомый ей гнусавый голос анонима. Он спрашивал Евгения. Она машинально, прежде чем поинтересоваться, кто говорит, ответила, что он в загранкомандировке. – Смылся, – прогнусавила трубка. – Найдем, из-под земли достанем и рассчитаемся. И к Тане вернулся страх, тот самый, охвативший ее после стрельбы по машине и, казалось, приглушенный, отодвинутый на задний план другими переживаниями. Сон как рукой сняло, душа сжалась в комок. Значит, охота за Евгением не прекращена, они требуют расчета, значит, он им что-то должен и они не упустят своего, заставят расплатиться, возможно, кровью и жизнью. С кем он связался? Почему она об этом ничего не знает? Ведь их угрозы падут на нее, на Егора. Нет-нет, только не на Егора – мальчик тут не при чем, как, впрочем, и она. А эти твари – она имеет в виду преступников – непредсказуемы. В печати, по телевидению она читала и слышала: убийство стало повседневным явлением, убивают средь бела дня. Убивают по заказу. Но что-то ей не приходилось слышать, что задержаны и осуждены убийцы. Она чувствовала себя совершенно беззащитной. В стране хозяйничают уголовники сплошные, сверху до низу уголовники. Никакие законы не действуют. Их никто не выполняет, начиная с самого президента. Он подает пример беззаконию. Это известно всем и каждому. Так она лежала в постели с открытыми глазами и зажженным у изголовья ночником. До двенадцати часов предавалась тяжким, тревожащим душу размышлениям. Сон не приходил, и она приняла таблетку снотворного. Засыпала медленно, погружаясь в хаос неприятных сновидений. Ей снилось, что за ней охотятся, ее преследуют какие-то субъекты, натравляемые Яровым, ей виделись его холодные глаза, язвительная усмешка на плотоядных губах. Она убегала, хотела спрятаться на даче, подбежала к калитке, нажала на кнопку звонка. И звонок разлаялся, только не мелодичный, а резкий, трескучий, от которого она с дрожью проснулась. Она с опаской посмотрела на телефон, потом на часы. Было начало третьего. Она не сразу взяла трубку: сердце ее трепетало. А звонки были настойчивыми, резкими. После пятого звонка она сняла трубку и тихо сказала: – Я слушаю. Ответа не было, но она знала, определенно чувствовала, что ее слышат, она даже ощущала дыхание в трубке. – Ну говорите же, я вас слушаю, – повторила Таня. Ей почему-то подумалось, что это звонит пьяный Яровой. Но трубка упорно молчала. Восточная сторона неба уже алела, и прячущийся далеко за горизонтом первый луч солнца заиграл на зловещей игле останкинского шприца. Начинался ранний рассвет. «Может, вставать не торопясь да ехать на дачу?» – подумала Таня и, вспомнив, что еще так рано, решила вздремнуть часок-другой. Очевидно, под воздействием снотворного ей удалось уснуть тревожным сном. И совсем не надолго: в пятом часу она явственно услышала странные звуки у входной двери, точно кто-то пытался совладать с замками. Таня встала с постели и без халата на цыпочках, крадучись, вышла в прихожую и с предельной осторожностью посмотрела в дверной глазок, напрягая слух. Так она стояла, затаясь и не дыша минуты три. Но никаких звуков, все было тихо. «Может, мне показалось», – подумала она и возвратилась в спальню, преследуемая страхом, который теперь безраздельно владел ею. Она подошла к окну: молодое солнце низко висело над подковообразной гостиницей «Космос», но с южной стороны небо хмурилось. Она вспомнила прогноз погоды на сегодня: облачно, с прояснениями, возможен местами небольшой дождь. Похоже, что прогноз оправдается, так стоит ли ей ехать на дачу? А в голове стучало: пытался ли кто-то открыть дверь квартиры или ей это показалось? Шорохи, похожие на возню с замком, она слышала явственно. Дверь у них железная, укрепленная, замки и внутренняя задвижка надежны. Ее можно открыть только взрывом. Неплохо бы иметь сторожевую собаку, у них с Евгением была такая мысль, но потом прикинули: с ней много мороки – выводить на прогулку два раза в день. И сразу вспомнила судью с Амуром: вот же как-то управляется мужик, и без жены. Интересно, есть ли у него дети или живет один? И что за причина развода? Да, решено – на дачу сегодня она не поедет: погуляет в парке. Возможно, встретит там этого симпатичного судью – как его имя? Ах, вспомнила: Константин Фомич. Нет, не Фомич, Харитонович. Кстати, можно рассказать ему о ночных звонках, посоветоваться. Он же сам просил обращаться за консультацией. Завтракала без аппетита – бутерброд с маслом и сыром и чашка крепкого кофе без молока. Вспомнила про вчерашние газеты, которые извлекла из ящика, возвращаясь из парка, и не успела прочитать: помешал Яровой. Развернула «Советскую Россию» и сразу на первой полосе вместо передовой небольшая заметка в виде письма в редакцию из Тулы. Автор – 56-летняя учительница Князева Эмма Ивановна, получающая нищенскую пенсию, писала: «Я вообще ничего не могу купить – ни лампочки, ни халата, ни тапочек. Пенсии едва хватает на квартиру, свет и кой-какое питание. Люди, я не могу так жить!.. Петлю на шею – единственный выход. Я сердечница, но не имею возможности купить самые необходимые лекарства. Даже валидол мне недоступен… Всю жизнь я учила своих учеников жить по чести и справедливости. А что получила за все свои труды? Медленную смерть. Погибаю». Таня зримо представила положение этой несчастной женщины, которая всю жизнь сеяла разумное, доброе, вечное, а теперь на склоне лет своих, больная, не имеет возможности купить даже валидол, чтоб поддержать свое сердце. Это жутко, страшно. Но ведь таких Князевых в России миллионы. Вымирающая нация, погибающий народ. И она почувствовала от этого письма какую-то неловкость и даже свою вину, потому что она врач Соколова, ни в чем не нуждается, что для нее и лампочки, и тапочки и халаты – это такие мелочи, пустяки… А сердце выстукивает слова поэта: «Стонет русская земля, банда стала у руля…» Да, банда, жестокая хищная, лишенная совести и чести, кровожадная и циничная, поселилась и в Кремле и в «Белом доме». Она получила приказ из Вашингтона и Тель-Авива уничтожить великую Россию, и она выполняет этот приказ. После завтрака Таня пошла в Шереметевский парк. Выходя из подъезда, пугливо осматривались по сторонам: страх теперь следовал за ней по пятам. День был безветренный, теплый, но не жаркий: солнце изредка выползало из-за низких туч всего на несколько минут. На Тане был легкий светлый плащ, она надела его на случай дождя, да еще на всякий случай зонт прихватила. Вообще весна этого года была сырой и мокрой, и люди выходили из дома с зонтами. Пестрые, колючие мысли, отталкивая друг друга, подобно облакам, плыли в ее разгоряченном мозгу. Может, все-таки следовало вместо парка поехать на дачу, поделиться последними событиями с отцом, от которого у нее не было никаких секретов? Он человек, умудренный жизнью, прошедший милицейской дорогой нелегкий путь от участкового до полковника – заместителя начальника отдела в следственном управлении. Потому ей незачем советоваться с каким-то случайным человеком, пусть даже судьей. Во всяком случае, Василий Иванович не меньше искушен в криминальных делах. И все же она шла, как и вчера, по самой многолюдной центральной аллее легкой, даже торопливой походкой, инстинктивно спеша к той вчерашней скамейке, на которой сейчас, к ее разочарованию, сидели незнакомые люди. «Почему не позвонил? Обещал же сразу, как прилетит в Лондон. Ах, да, если верить Яровому, то он где-то на испанских пляжах», – больно уколола мысль. И вдруг ее обогнала молоденькая легкая девушка с огромной собакой такой же породы, как и вчерашний Амур, Поравнявшись с Таней, собака притормозила. дружески посмотрела на Таню, ткнулась в нее мордой и приветливо завизжала. Девушка остановилась, дернула поводок, но собака не послушалась и по-прежнему ластилась к Тане. – Амур, – нежно молвила Таня и дотронулась рукой до головы собаки. Девушка стрельнула в Таню быстрым взглядом, на губах ее промелькнула тень улыбки. Взгляды их встретились: вопросительно пристальный девушки и чарующий Тани. – Мы с ним знакомы, – теплым голосом объяснила Таня и чтоб окончательно убедиться, спросила: – Это Амур, да? – Да, Амур. – Девушка смотрела на Таню изучающе. – Вы из нашего дома? – Нет. Мы познакомились с Амуром вчера, случайно, здесь, в парке, – все так же мило улыбаясь, отвечала Таня, как бы желая задержать эту симпатичную девушку с большими синими глазами и огромной охапкой каштановых волос. Оценивающий взгляд девушки излучал откровенное изумление, она не спешила уходить и проговорила дружески: – Вчера папа с ним гулял, а сегодня он уехал на дачу и оставил Амура на мое попечение. – Значит, вы дочь Константина Харитоновича? – Девушка кивнула. – А как ваше имя? – поинтересовалась Таня. – Меня зовут Оля. А вас? – Татьяна Васильевна. – А-а, папа говорил, что вы с Амуром подружились. Он у нас скучает по маме, – сказала она и осеклась, уголки рта ее опустились, а слегка смущенный взгляд она отвела в сторону. Таня не обратила на это внимания и ласково спросила: – А вы тоже скучаете? – Теперь они медленно шли по аллее бок о бок. Оля нахмурилась, тонкое лицо вдруг стало строгим, и Таня сразу поняла неделикатность своего вопроса и потому, не ожидая ответа, спросила совсем о другом: – Вы школьница или студентка? – Второго курса МГУ, – весело и непринужденно ответила Оля. У нее приятный голос и открытое детское лицо. Держится она легко и свободно. Оля не знала, что Татьяна Васильевна только вчера встретилась с се отцом, она почему-то думала, что они старые знакомые, и поэтому держалась с ней достаточно откровенно, чему способствовало и то, что Таня с первого взгляда вызвала симпатию сердечной теплотой и лаской, какой-то неизъяснимой прелестью своих глаз, излучающих нежность и теплоту. Скоро они разговаривали словно давние знакомые. Оля принадлежала к числу молодых людей, совершенно чуждых замкнутости и подозрительности, людей, которых мать-природа наделила открытой, доверчивой душой. От Оли Таня узнала, что ее младший брат – школьник-десятиклассник погиб третьего октября в Останкино возле телецентра во время кровавого побоища, устроенного американскими лакеями. Именно так она и сказала: «американскими лакеями». – Колонны людей с красными знаменами шли по нашей улице, по Королева, к телецентру. Коля в это время гулял с ребятами во дворе, ну они и пошли вместе со всеми, – рассказывала она. – Просто интересно было. Я в это время находилась дома, занималась и тоже хотела пойти посмотреть, но мама меня не пустила. Она как чувствовала. А то и я могла попасть под пули. Мы с мамой из окна видели, как летели огоньки пуль. Там много людей полегло… И наш Коля. Мы все очень переживали смерть Коли. Мы его очень любили. Он был отличником в школе. Мама не могла этого перенести, она заболела, начала поговаривать об отъезде вообще из России. В смерти Коли винила папу. А при чем тут папа, он совсем не виноват. Мама у нас была, как вам сказать, ну не то что демократка, но и не одобряла все антиправительственные демонстрации, хотя и правительству не сочувствовала. Она была далека от политики. По этим делам они с папой часто спорили. – А она работала, ваша мама? – Да, она преподавала английский язык и институте, а потом, когда началась эта перестройка, пошла работать переводчицей в иностранную фирму. Она требовала от папы, чтоб он поменял свою работу, ей не нравилось, что он судья. – А почему? – Она боялась. Преступники угрожали папе. Вы же знаете: они заложников берут. Она больше за меня и за себя боялась. В парке было все невыносимо прекрасно, воздух, густо напитанный ароматом цветов, молодой листвы и трав, пьянил и возбуждал высокие порывы души. Под кронами деревьев пенсионеры играли в шахматы и домино. Звучные голоса дроздов и зябликов раздавались со всех сторон. Соловей почему-то молчал, должно быть ночной певец берег голос до своего часа. Оля шла легкой твердой походкой, но без особой грации, ослепительная улыбка играла на розовощеком юном лице. Тане все нравилось в этой девушке – и открытая душа, и сердечный тон, и низкий, звучный голос, и этот отрывистый говор. Оля больше говорила, чем слушала, из деликатности не донимала Таню вопросами, лишь спросила о ее профессии. – Врач-терапевт, – коротко, но любезно ответила Таня и прибавила: – Если потребуется, милости прошу. – И назвала номер своего телефона. На третий день после отбытия Евгения в командировку как-то вечером Тане на квартиру позвонил англичанин – бывший партнер Соколова по бизнесу, сообщил, что он только что прилетел в Москву из Лондона и что ему нужно срочно встретиться с господином Соколовым. Он звонил ему в офис, но там ответили, что Соколов в отъезде, а так как дело важное и срочное, то он хотел бы встретиться с госпожой Татьяной. Остановился он в гостинице «Метрополь». Таня однажды встречалась с этим человеком, их тогда познакомил Евгений, и потому без каких-бы то ни было колебаний согласилась приехать в гостиницу. Этот господин в свое время принимал участие в устройстве Егора на учебу в Англии и потому она сразу поинтересовалась: – Как там Егор? – Поговорим при встрече, – уклончиво ответил англичанин. Он сносно владел русским, этим Таня попыталась объяснить его уклончивый ответ, но пожелала встретиться сегодня, немедленно. Из ее памяти не выходил тот кошмарный сон, когда она видела Егора, падающего с дерева. Выйдя на улицу Королева, она не стала ловить такси и села в троллейбус девятого маршрута, который довез ее до «Детского мира», где была его конечная остановка, а там от Лубянки до «Метрополя» рукой подать. В пути Таня немножко волновалась о причине такой экстренной встречи. «Возможно, какое-то поручение от Евгения, – предполагала она. – И почему я не спросила его, встречался ли он с Евгением? Впрочем, это уже неважно». Англичанин был сдержанно любезен, корректен. Землистое лицо его, несмотря на угрюмость, было сердечным. Он предложил Тане сесть, а сам ходил по комнате, как бы затрудняясь, с чего начать и отводил взгляд от Тани. Наконец он выдавил заранее заготовленную фразу, так же глядя в пол: – Мне выпала неприятная миссия сообщить вам очень печальную весть. Он сделал паузу. Сердце Тани бешено забилось, она напряженно ждала. Она впилась в англичанина широко раскрытыми глазами, которые требовали: «Ну говорите же!» – Ваш сын Георгий трагически погиб, – произнес он, потупив глаза. Голос его, сухой и холодный, прозвучал как удар грома. Для Тани он был страшнее любого удара. Она подхватилась с места, приоткрыв рот. В горле ее пересохло, перед глазами поплыли неясные круги, у нее не было сил вымолвить хоть слово, и она медленно, как пьяная, опустилась в кресло. Ее словно оглушило. А англичанин продолжал медленно и глухо: – Они втроем, приятели, вышли в море на парусной шлюпке. Течение отнесло их далеко от берега, а затем внезапно поднялся шквальный ветер, и они не справились с парусом. Все трое погибли. Был сильный шторм. Они утонули, и тела их, к сожалению, не удалось обнаружить. На какой-то миг Тане показалось, что она теряет сознание, и очнулась, когда англичанин предлагал ей стакан с водой, очевидно, заранее приготовленный. У нее закружилась голова и было ощущение, что она падает в пропасть. И вообще все вокруг казалось нереальным, точно в сновидении, и даже этот неизвестно откуда возникший человек со стаканом воды в руке. Лицо ее побледнело и осунулось, взор затуманился, она вся как-то обмякла, пыталась что-то сказать, какие-то бессвязные молитвы, но слова застряли в пересохшем горле. Она видела растерянное, беспомощное лицо иностранца, слышала его какие-то отрывистые слова, но смысла их не понимала. Наконец она приняла предложенный ей стакан, сделала глоток и, немного оправившись, спросила: – А вы с Евгением встречались в Лондоне? Он улетел в Лондон. Англичанин отвел глаза, как будто даже виновато пожал плечами и ответил: – Нет, он мне не звонил. Возможно, мы разминулись. «Вот именно… разминулись, – с горечью и злобой подумала Таня, вспомнив сообщение Ярового о том, что Евгений полетел в Испанию. – Сначала Майорка, а уж потом Лондон». Таня не плакала, слезы застыли в ее глазах, оледенели. Она смотрела на англичанина сосредоточенно и жалобно, ей хотелось его о чем-то спросить, но мысли путались. «Может, их еще спасут, может они не утонули, произошла какая-то ошибка?» Но она отдавала себе отчет в том, что никакой ошибки нет, и спросила: – Где его похоронили? – Она не понимала нелепость своего вопроса, вызвавшего недоумение англичанина. Сбитый с толку, он с сострадальческой учтивостью ответил: – Его поглотило море. Тела их остались на дне морском. – Да, да, на дне морском, – машинально повторила Таня тихим сухим голосом и сжала ладонями голову. У «Метрополя» ей подвернулось свободное такси, и уже в десять вечера она была дома. Первое, что ей попалось на глаза в квартире – фотография Егора на стене в позолоченной изящной рамочке. Он сфотографировался перед отъездом в Англию. Серьезный белобрысый юноша, коротко постриженный, с живо блестящими, темными, как у матери, глазами проницательно смотрел на Таню. И она не выдержала этого взгляда, она заплакала, слезы залили ее лицо, но плакала она беззвучно, размазывая слезы по щекам. Мысленно она причитала: «Сыночек мой родненький, кто ж тебя послал на погибель, и даже могилки нет… и никакого следа… Я ж просила тебя, уговаривала: оставайся в Москве…» Она, конечно же, во всем винила Евгения: это он соблазнил мальчика и настоял на своем. Она была в полной растерянности и подавленности. Удар словно парализовал ее, она была разбита и измучена. Надо было что-то делать, что-то предпринять, с кем-то разделить свое великое горе. Самым близким у нее был отец, и она потянулась было к телефону, но передумала: уже поздно, а он, конечно, услыхав такое, немедленно ворвется. Наземный транспорт ходит плохо, в вечерние, особенно поздние часы, в Москве не безопасно. И все же, пораздумав, решила: метро работает до полуночи, он доедет до ВДНХ, а тут от метро до их дома каких-то семь – десять минут пешком. И она позвонила. Время ожидания отца тянулось невероятно долго, состояние отчаяния оттеснило страх, который преследовал ее в последние дни. Ей казалось, что с потерей сына она потеряла смысл своего существования: Евгения она начисто вычеркнула из своей жизни. Она не станет с ним разговаривать, выслушивать его лживые объяснения. О, как язвила, унижала ее ложь! Василий Иванович приехал примерно через час. При нем она разрыдалась, пытаясь сквозь рыдания произнести какие-то слова: внучек, любимец дедушки, его надежда… Лицо ее побледнело и осунулось, она была в полном изнеможении. На отца смотрела безучастно, лишь только судорожно всхлипывала. Василию Ивановичу шел семьдесят второй год, но он для своего возраста выглядел молодцом. Высокий, с седой шевелюрой и такими же седыми усами на румяном лице, ровный и вежливый со всеми, он еще не отказался от давней привычки следить за своей спортивной формой и ежедневно занимался физзарядкой. По натуре он был молчалив, уравновешен, тверд в своих убеждениях, со своими близкими и друзьями внимателен и заботлив. Большие, темные, как и у дочери, глаза его всегда лучились добротой. Человек сильного характера, он умел владеть собой даже в самые роковые минуты. Конечно же, он не мог найти утешительных слов, но он все же сумел убедить дочь взять себя в руки и найти способ связаться с Евгением, который, по словам Тани, находится в Испании со своей любовницей. Ни Василий Иванович, ни Таня не знали, зачем именно надо было связаться, да еще срочно, с Евгением, – лишь ради того, чтоб он неделей раньше, чем прибудет в Лондон, узнал о гибели сына? Но Таня почему-то ухватилась за эту мысль и позвонила домой секретарю Евгения и спросила, не оставил ли он адреса, по которому можно связаться в случае чрезвычайных обстоятельств. Наташа отвечала не очень любезно и с язвительным намеком сообщила то, о чем она узнала от Ярового. – Испанского адреса Евгений Захарович не счел нужным оставить, – ответила она и полюбопытствовала: – А что-нибудь случилось? – Случилась беда, непоправимое горе, – ответила Таня, сдерживая рыдания, и положила трубку. И не отдавая себе отчета, она тут же позвонила Яровому с тем же вопросом. Но в отличие от разговора с Наташей Анатолию Натановичу она сообщила о гибели сына. Яровой принес свои соболезнования, но помочь ничем не мог, поскольку и он не знал, где и как можно отыскать в Испании (а может в Италии или Франции?) русского путешественника. С отцом они проговорили до полуночи. Василий Иванович сокрушался: – Эх, Евгений, не послушался нас… – Не напоминай его имя, папа, с ним все покончено. Раз и навсегда. Отец не стал вмешиваться в эти дела, мол, разберутся. Он лишь посоветовал: – Тебе бы надо на несколько дней взять отпуск. За свой счет или в счет очередного. Ты же не была в этом году? – Да, я возьму отпуск. Очередной, – согласилась Таня. – А завтра давай-ка поедем на дачу. Там сейчас славно. На природе оно… знаешь… Природа – она и тело и душу исцеляет, – предложил Василий Иванович. Василий Иванович остался ночевать. Для отца и дочери это была бессонная ночь, протекавшая в мучительно тревожной дреме с кошмарными сновидениями. Тане снился Егор не тем, каким она видела его перед отъездом в Англию, а малым ребенком, еще дошкольником, ласковым и озорным. Уже под самое утро в полудреме ей приснилась огромная толпа возле подъезда их дома, агрессивная, ожесточенная. Они угрожающе размахивали разными предметами в сторону их окон и кричали: «Жулик, негодяй, вор, верни наши деньги!» Она не сразу сообразила, что все это значило, но потом поняла, что это все вкладчики «Пресс-банка» и угрозы их адресованы Евгению. Она вышла на балкон, чтоб сказать людям, что Евгения нет дома, что он уехал в дальнее зарубежье, но толпа еще сильней разъярилась и грозила ее убить, если она не вернет деньги. Она не знала, не имела понятия, что может сделать, и просыпалась в холодном поту. Утром она позвонила шоферу и попросила его отвезти ее и Василия Ивановича на дачу. Шофер по ее опухшим от слез глазам понял, что с хозяйкой что-то неладное, но из деликатности не стал задавать лишних вопросов, но указал, что он у них работает только до возвращения Евгения Захаровича, а потом уйдет. Место он себе уже подыскал, пусть с меньшим заработком, зато безопасное, безо всякой степени риска. Таня на это никак не отозвалась, а Василий Иванович, хотя и догадывался, что имел в виду шофер, все же спросил: – Саша, а о какой степени риска ты говоришь? – О самой обыкновенной, Василий Иванович: я не хочу быть пристреленным случайно, за компанию. – Да, конечно, – понимающе обронил отставной полковник. Когда приехали на место, Таня сказала шоферу: – Пока не уезжайте, Саша, отдыхайте на природе: возможно к вечеру уедем в Москву. – Зачем в Москву? – удивился Василий Иванович. – Поживи тут несколько дней. – Нет, папа, а вдруг Евгений… – Она осеклась, печально взглянув на отца. – Но у него же есть ключи от квартиры, – напомнил Василий Иванович. Ему не хотелось оставлять дочь одну в таком состоянии, в то же время он понимал ее и считал бесполезным уговаривать. Авось к вечеру передумает и останется. Дача у Василия Ивановича добротная, деревянный сруб из бруса с верандой, а главное, уютная, две зимние комнаты внизу, две летние наверху, да маленькая прихожая и такого же размера кухонька. Зато постоянный газ и паровое отопление – великое благо для дачника. Участок ухожен, много зелени и цветов. Таня любила отцовскую дачу, здесь она выросла, провела здесь и детство и юность. Росла вместе с молодыми яблонями и вишнями. Последние теперь полыхали пышным белым цветом, у яблонь почки тоже приготовились к буйному цветению. В центре участка площадка – цветник. Нарциссы уже отцвели, доцветали тюльпаны, распускались ирисы, набухали почки ранних красных пионов. Под окнами летней кухни зацветала сирень. Сад благоухал ароматами. Но Таня их не ощущала, ее глаз не радовали любимые цветы. Ее слух не улавливал пения птиц. И только когда совсем рядом с ней пропела сидящая на ветке сирени чечевица, Таня вздрогнула. Ей вспомнилось, как Егор передразнивал эту птичку: «Чечевицу видел?» – щебетала птаха. «Видел, видел», – отвечал радостно Егор. Он хорошо знал птиц, водящихся в Подмосковье, по голосам отличал пеночку-веснянку от пеночки-трещетки, дрозда-дерябу от дрозда-белобровика, горехвостку от трясогузки. Этому обучал его Василий Иванович. Как пьяная ходила Таня по участку, по комнатам дачи и везде натыкалась на вещи и предметы, связанные с сыном, и сердце ее разрывалось от неутешного горя. На даче она повстречала соседку, женщину ее лет, муж которой погиб в Афганистане. Два года назад она снова вышла замуж за директора фабрики, человека уже не молодого, старше ее на двенадцать лет, и была счастлива. Эта душевная, добрая женщина питала к Тане особую симпатию и привязанность, была с ней предельно доверчива и откровенна, и Таня платила ей тем же. Бледное, угрюмое, озабоченное лицо Тани вызвало у прозорливой соседки настороженность, и она полюбопытствовала: – Вы здоровы, Татьяна Васильевна? В ответ Таня заплакала и рассказала о своем горе. Соседка выслушала ее с искренним участием и, печально вздохнув, проговорила: – Когда я своего Петюшу схоронила, три дня не могла прийти в себя. А потом мне знакомая посоветовала: «Ты, говорит, в церковь сходи. Свечу поставь. Легче будет». Я послушалась ее совета, сходила. И представьте себе – полегчало, отринуло от сердца. Таня вспомнила слова из старинной песни: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». И все же решила последовать совету, позвала Сашу: поехали, мол, в Сергиев Посад, в Лавру. К полудню погода разгулялась, восточный ветер развеял облака, и золото крестов и куполов, и особенно короны колокольни торжественно нарядно струилось в небесной синеве. Таня второй раз была в Троице-Сергиевой Лавре. Первый раз это было давно, в студенческие годы они с группой молодежи были на экскурсии, побродили по залам музея среди экспонатов истории, осмотрели драгоценности «ризницы», полюбовались внешней архитектурой храмов. Большое впечатление тогда на Таню произвела колокольня, которая, по словам экскурсовода, на восемь метров выше Кремлевской звонницы Ивана Великого. Ну и, конечно, драгоценные сокровища «Ризницы». Вовнутрь храмов не заходили, то ли времени не хватило, то ли это не предусматривалось программой. Теперь же Таня, ступив на территорию этого священного заповедника, минуя огромное здание Успенского собора, на голубом куполе которого сверкали золотые звезды, и изящно-строгую, легкую Духовскую церковь, направилась в далекий угол старейшего здесь Троицкого храма, стоящего впритык с «Ризницей». Внутри небольшого помещения, заполненного прихожанами, было мрачно, тесно и душно. Густо пахло воском и еще чем-то допотопно древним. Таня купила свечу и, протискиваясь сквозь плотную толпу, добралась до подсвечника с горящими на нем свечами, зажгла и водрузила свечу. Откуда-то справа из глубины от серебряной раки с мощами преподобного Сергия доносилось нестройное заунывное пение женских голосов, каких-то неестественных, вымученных потусторонних. Пели, как догадалась Таня, пожилые прихожанки, и пение их не то чтоб успокаивало душу, а напротив, нагоняло тоску обреченности. Этому способствовала и вся обстановка – мрачность, духота и непривычно спертый воздух. Затуманенным взглядом Таня прошлась по главному иконостасу, по преданию сотворенному учениками Андрея Рублева, медленно всматривалась в однообразные лики святых и не находила того умиротворения, на которое рассчитывала и надеялась. Ее угнетало. Тогда она решила зайти в другие храмы, в которых шла служба, и, выйдя из Троицкого, направилась через всю площадь в Успенский собор. Там было посвободней ввиду огромного пространства помещения, и никакого пения – просто священник читал молитву, массивные арочные колонны и колоссальная высота потолка под сводчатым главным куполом создавали впечатление незыблемого и вечного. Таня и здесь поставила свечу и, постояв с четверть часа, вышла на площадь глотнуть свежего воздуха. Под конец решила зайти в Трапезную, где в церкви преподобного Сергия также шла служба. Трапезная – уникальное архитектурное сооружение для своего времени: тут потолок и кровля над колоссальном залом держатся без опорных столбов, что создает открытое и, благодаря окнам, светлое пространство. Народу так же было и здесь много, но никакой толчеи, и дышалось легко и свободно. Она поставила свечу и по мраморному, выстланному яшмой полу прошла поближе к алтарю, любуясь искусной резьбой по дереву, покрытому золотом, древних мастеров, украсивших врата, алтарь и иконостас. И хотя здесь дышалось совсем по-иному, чем в Троицкой церкви, все же она не ощутила полного успокоения души, которая по-прежнему пребывала в глубокой, нестерпимой печали. Выйдя за ворота Лавры, где на площади у машины ожидал ее шофер Саша, она вдруг почувствовала необъяснимое стремление поскорее уехать в Москву, минуя дачу. Хорошо, что предупредила отца, что б не волновался, если она паче чаяния не заедет на дачу. В пути она пыталась найти объяснение, почему ее так неудержимо потянуло в Москву. Там она надеялась получить какие-то дополнительные сведения из Англии, какие-нибудь подробности. А вдруг Евгений уже вернулся, хотя на скорое возвращение, раньше, чем через неделю, она не надеялась. Ну а вдруг? Никакого «вдруг» не было: все та же квартира, из каждого угла которой веяло унынием и тоской, та же фотография Егора, тот же угрюмо молчащий телефон. Настольные часы показывали семь минут пятого, а солнце было еще высоко, и день казался бесконечно долгим, а потом, впереди, мучительно бессонная ночь. «Может быть, следовало остаться на даче?» – с некоторым сожалением подумала она и тут же нашла оправдание: не хотелось задерживать шофера. По дороге в Москву она все же поведала ему о своем горе. Дома она не стала переодеваться: ей все казалось, что ее кто-то позовет и надо будет куда-то и зачем-то выйти. (Куда и зачем, она не знала). Неожиданно она подумала, что после посещения Лавры ей стало легче: просто мысли ее стали сосредоточеннее, четче и яснее. Она понимала, как страшно терять родных и близких, но такова жизнь, никто от удара судьбы не застрахован. Но есть разница и в самой смерти. Когда из жизни уходит пожилой человек и дети хоронят родителя, это естественно и закономерно. Но когда родители теряют своего ребенка, свое продолжение, которое так нелепо обрывается, это несправедливо, неестественно, это противоречит здравому смыслу. Но, пожалуй самое страшное, жуткое, когда мать не может похоронить свое чадо, когда чудовищная смерть не оставляет места для последнего пристанища навеки ушедшего. Так рассуждала Таня накануне еще одной бессонной, тревожной, кошмарной ночи. Яровой ошибся, когда сказал Тане, что Евгений с Любочкой полетели в Испанию, он поверил Соколову, который по каким-то лишь ему известным соображениям солгал своему предполагаемому покровителю. Он не доверял Анатолию Натановичу, что было естественным у «новых русских» – не доверять друг другу, поскольку вся Россия в эти окаянные годы барахталась в пучине лжи и цинизма. Маршрут любовников лежал на Кипр, где они рассчитывали позабавляться десяток дней перед тем, как отправятся в Англию. На Кипр Евгения заманил знакомый бизнесмен, бывший в приятельских отношениях с Яровым, но потом рассорившийся с ним; он же и познакомил в свое время Соколова с Анатолием Натановичем. Это был шустрый, предприимчивый адвокатишка, сумевший в суматохе «перекройки» отхватить солидный кусок государственно-народного пирога и намеривавшийся открыть свой бизнес с грандиозными планами. Но победа Жириновского на выборах в Думу охладила его пыл предпринимательский, напугала и спутала все карты. Он решил бежать из «этой страны», притом немедленно, со всеми наворованными капиталами. На этой почве он поссорился с Яровым, который назвал его идиотом и трусом, убеждая, что «демократы» захватили в России власть навечно и уже никакие Жириновские, Зорькины или Зюгановы никогда не вселятся в Кремлевские палаты. Но у адвоката-бизнесмена на этот счет были свои убеждения, и он сгоряча вначале решил было махнуть в Израиль, но, опомнившись, до «земли предков» не долетел и совершил посадку на острове Кипр. Обосновался там прочно и, навестив как-то ненадолго Москву, соблазнил Соколова последовать его примеру. Кипр Соколову, и особенно Любочке, пришелся по душе, даже показался райским уголком, где имея бешеные деньги, можно жить в свое удовольствие. На теплом зеленом острове к удивлению Евгения оказалось много земляков, поселившихся там в последние годы. Все это были также «новые русские», как и знакомый Евгения адвокат, который, кстати, ошеломил Соколова цифрами: число офшорных фирм, открытых на Кипре российскими бизнесменами, давно перевалило за две тысячи. А за последние два года на имя российских граждан куплено около десяти тысяч квартир, не менее тысячи особняков и вилл на побережье Средиземного моря. Одна из таких вилл и квартира в Никоссии и принадлежали бывшему приятелю Ярового – адвокату-бизнесмену. Перспектива обзавестись такой виллой возбудила страсти у Евгения Соколова, а что касается Любочки, то в своих фантазиях она парила высоко в поднебесье, где ангелы поют, – она просила Евгения немедленно, сейчас же купить одну из облюбованных ею вилл. Счастливый любовник колебался, но не сумел выдержать массированного давления пылкой любовницы и согласился на покупку квартиры в том же доме, где обосновался и Боря – так звали земляка-адвоката. С виллой повременили до окончательного переезда на Кипр на постоянное место жительства. Любочка осталась довольна. Нет, больше: она была счастлива, наконец она почти уверовала, что Евгений решил навсегда связать с ней судьбу. А судьба – коварная дама, непредсказуемая и жестокая. Свои хищные когти она показала Евгению, когда он с Любочкой совершил перелет с одного острова на другой, от знойного солнечного Кипра на Туманный Альбион. Весть о гибели сына подкосила Евгения и раздавила. Она свалилась на его плечи чудовищной глыбой, под которой он корчился в душевных муках, растерянный и безвольный. Человек, которого друзья и знакомые считали сильным и неуязвимым, оказался совсем не таким: за внешней силой скрывалась слабость. В Лондоне от своего английского приятеля Евгений узнал, что тот был в Москве и Таня извещена о смерти Егора. Теперь его терзали вопросы и предположения, как он предстанет перед убитой горем матерью погибшего? Он понимал, что произошло непоправимое, и воспринимал это как рок, как завершающий удар судьбы, начало которого оповестили выстрелы по его машине. Мысленно он повторял: «Это крах… удар судьбы… Крах!» А была жизнь, была хорошая семья, любящая жена-красавица, умная, добрая, отличная мать. Одна беда не ходит, пришла беда – отворяй ворота. Все началось с бизнеса. Появились бешеные деньги, из воздуха. Деньги несли беду: послал Егора в Англию. Зачем? Были деньги. Для престижа – многие посылали. Таня возражала, она предчувствовала беду. Максим Горький сказал: будут деньги, будут и девки. Появились девки. Потом эта Любочка вскружила голову. Чего ему не хватало у Тани? От добра добра не ищут. Нет же – искал, нашел, но к добру не пришел. Искалечил Тане жизнь. А как она его любила. Да и он по-своему любил ее, по крайней мере, гордился ею, как гордился своим «линкольном». Он гонялся за престижем. Был сын, любимый, очаровательный мальчик, его радость, надежда, будущее. Была любовница, было богатство. И все рухнуло в одночасье. Погиб сын, разбилась семья, уплывает из рук богатство. Остается только любовница да продырявленный пулями «линкольн», при этом и это временно и зыбко, потому как дамокловым мечом висит над ним крах «Пресс-банка», а дальше – скамья подсудимых и зона с колючей проволокой. Как тут не отчаяться, не впасть в уныние, когда почва уплывает из-под ног и не видно соломинки, за которую можно было бы ухватиться. Соломинка была рядом – это Любочка. Она, как могла, старалась утешить, внушить в него надежду, вернуть веру. – Любимый мой, родной, я понимаю твое состояние, переживаю твое, наше общее горе, – трогательно увещевала она. – Но не все потеряно, и жизнь для тебя не окончена. Мы начнем ее сначала. У тебя есть я, есть деньги. Будет и сын и дочь. Я рожу тебе столько, сколько пожелаешь. Будет у нас и вилла на берегу теплого моря, как у Бориса, и мы так же будем счастливы. Время залечит раны. Только не надо отчаиваться. Он слушал ее рассеянно, цепляясь лишь за отдельные фразы и слова и мысленно возражал: «Нет, счастья больше не будет, во всяком случае того, что было, и никакое время не залечит его рану, нанесенную гибелью Егора. Возможно, и родит она сына и дочь, но Егора, умного,светлого мальчика (о, как он был похож на свою маму!), уже не будет никогда. И Тани не будет, той очаровательной, ласковой и милой Танюши». Он знал, что возврата к Тане нет, да она и не примет его ни за какие блага. Она никогда не променяет свою Россию ни на какие Кипры и виллы. – Как я посмотрю в глаза Татьяне? – сокрушался он, слушая утешительные слова Любочки. – Что я ей скажу, когда она спросит, где я был, когда наш мальчик?.. Он подавил в себе рыдания и холодно, вскользь взглянул на Любочку, которая сейчас его раздражала. Его мучило раскаяние, но ей этого не понять, она думает о деньгах и вилле. Сейчас он испытывал к ней ледяное презрение и судорожно сдерживал себя от оскорбительных, резких слов в ее адрес и в то же время понимал, что обстоятельства крепко привязали его к этой женщине, и она сейчас единственная, на кого он может опереться и кому доверить свою судьбу. Понимая его состояние, Любочка старалась быть покорной, ненавязчивой и предельно ласковой. Прибыв в Москву, они сразу направились в офис. День был дождливый и прохладный. В приемной их встретила Наташа с наигранной улыбочкой, которая постоянно была приклеена к ее подростковому лицу, и прощебетала: – С благополучным возвращением, Евгений Захарович. Евгений искоса взглянул на ее полные бедра, туго обтянутые белой мини-юбчонкой, которую она постоянно носила с черной кофточкой, вроде униформы, в противовес Любочке, носившей черную мини-юбку и белую блузку, и мрачно буркнул: – Зайди. – и потом в сторону Любочки: – И ты тоже. Люба вошла в кабинет вальяжно и села в черное кожаное кресло, стоящее у стены, Наташа остановилась у края стола, пытливо наблюдая за любовниками. По их опечаленному виду, по осунувшемуся лицу Евгения, по его непривычной сутуловатости Наташа поняла, что произошло с ними нечто неприятное, и в душе позлорадствовала. Она презирала их обоих, хотя и тщательно скрывала свою неприязнь, особенно от Евгения. После того, как он вдруг переметнулся от нее к Любочке, ее ревность постепенно переросла в ненависть и жаждала отмщения. – Кто мной интересовался? – садясь за свой письменный стол, все так же мрачно спросил Евгений и поднял на Наташу опечаленный взгляд. – Звонила Татьяна Васильевна. Но это сразу после вашего отъезда. Она сказала, что случилась беда, и тут же положила трубку. Она звонила мне домой, вечером. Только один раз, и больше не звонила. А еще звонили из милиции, просили позвонить, оставили свой телефон. Потом были еще звонки, но они не назывались. Наташа взяла со стола заранее приготовленный листок бумаги с номером телефона милиции, протянула Евгению и спросила с деланным подобострастием: – Будут какие указания? – Нет, – кивнул он, и Наташа, виляя ягодицами, удалилась. – Будешь звонить в милицию? – тихо спросила Люба. Они вообще сейчас разговаривали тихо, как говорят в доме, где случилась беда. – Сначала надо встретиться с Татьяной. – В голосе его и вопросительном взгляде была просьба посоветовать. Люба молча передернула плечами: мол решай сам. И Евгений позвонил в поликлинику. Там ответили, что доктор Соколова взяла краткосрочный отпуск. Тогда он позвонил домой. Не поздоровавшись, он негромко, мягким приглушенным голосом сказал: – Ты дома. Я только что из Шереметьева. Сейчас приеду. Он волновался и старался продумать каждый свой шаг и каждое слово при этой встрече с женой. Главное – первый миг, первый взгляд, первое слово. Дверь квартиры он открыл своим ключом. Надо было сыграть роль горем поверженного отца и мужа. Таня, одетая в черное платье, сохраняя внешнее спокойствие, стояла в прихожей. Большие темные глаза на бледном осунувшемся лице выражали боль и смирение. Он решительно, как-то суетливо шагнул к ней, обнял и поцеловал. Поцелуй вызвал у Тани безотчетное отвращение, она оттолкнула Евгения и высвободилась из объятия. Не говоря ни слова, она прошла в гостиную и тихо опустилась в кресло. Евгений побагровел, покорно пошел вслед за ней и в нерешительности остановился возле дивана. Он ждал ее слов. И Таня спросила сухим бесстрасным голосом: – Их не нашли? Он понимал, о ком вопрос, но все же переспросил: – Ты имеешь в виду тела ребят? Нет. Она не сводила с него пристального, как бы пронизывающего его насквозь взгляда, под которым он чувствовал себя более, чем неуютно. – Почему ты не звонил? – Я пытался, но ничего у меня не получилось. Знаешь, связь не очень, – ответил он запинаясь. – А почему так долго не приезжал? Что ты делал там две недели, когда я здесь сходила с ума? – Все это требовало протокольных формальностей, – говорил он, все так же запинаясь, отводя от нее смущенный, виноватый взгляд. – Следствие, свидетельство. – Голос его совсем глухой, упавший. Не сводя с него взгляда, она сказала: – Зачем ты врешь? Даже в такой момент ты не можешь без вранья. – Она опустила глаза в пол, и лицо ее сделалось страдальческим, так что казалось, еще мгновение, и она разрыдается. – Тебе трудно, трудно признаться, что ты не сразу полетел в Англию, ты повез свою шлюху на взморье. – Я виноват, я подлец, последний подлец, – вдруг прорвалось у него. – Я… я, ты права, мне нет прощения, нет пощады… И я не жду… Я недостоин. Глаза его, налитые влагой, расширились, как у безумного. Он стал заикаться. – Нет мне места на земле, и жить мне теперь незачем. Все под откос… Сам пустил, все сам. Один выход – застрелиться. Она знала: не застрелится, не верила в искренность его раскаяния. Это тоже поза артиста-неудачника. Она досмотрела на него с отвращением и, сдерживая себя, сказала тихо и спокойно: – А теперь уходи. Я не могу и не хочу тебя видеть. – Я понимаю, я все понимаю, согласен на все… – Уходи навсегда, – резко повторила она. Когда он ушел, ей стало жалко его, она укорила себя то, что обошлась с ним так жестоко. Нет, конечно же, ни о каком возврате быть не может, она тверда и непреклонна в своем решении – семья развалилась окончательно, но можно было об этом сказать ему помягче, «цивилизованно», как сейчас любят выражаться демократы. Но что сделано, то сделано. В квартире воцарилась тишина, какая-то гнетущая, сеющая чувство одиночества, которого она боялась. Прежде, когда ей случалось сойтись один на один с этим неприятным чувством, она призывала на помощь музыку, и одиночество отступало. В музыке она находила умиротворение и душевный покой. И сейчас она поставила диск Георгия Свиридова, и чарующий серебряный ручеек его знаменитого вальса вначале медленно, негромко полился по квартире. С каждым мгновением он становился все сильней и ярче, и на душу Тани, как небесная благодать, ложились покой и благоденствие.2
Евгений подошел к своей машине растерянный и подавленный. Это заметили шофер и телохранитель, они догадывались, какой трудный разговор произошел сейчас, между их шефом и женой. Сев в машину, как всегда, позади шофера, он пытался собраться с силами и погасить поразившую его дрожь. – Теперь куда, Евгений Захарович? – осторожно спросил Саша. – Свяжи меня с милицией. – Он протянул телохранителю бумажку: – Набери этот номер. Тот нажал на клавиши аппарата и передал Евгению трубку телефона. Переговорив со следователем, Евгений велел ехать в милицию. …Утром Наташе позвонил ее недавний сожитель Макс, фамилии которого она еще не знала. Вообще-то по паспорту он значился Максимом, но все его друзья и знакомые называли Максом, и он считал, что тут нет никакой разницы: что в лоб, что по лбу. Звонил он, как всегда, из автомата и поинтересовался, прибыл ли шеф. Наташа ответила утвердительно, и тогда Макс позвонил Любе и, зажав пальцами нос, прогнусавил и трубку: – Привет из Кипра. Поздравляем с покупкой квартиры. Когда будешь уезжать на Кипр, не забудь завещать мне свою хату. Ради твоей же безопасности. Тем более, что досталась она тебе даром. Мы зачтем ее в часть долга нам твоего шефа. Так и передай ему. Небольшую часть. Ответ жду сегодня вечером. Позвоню домой. Этот звонок ошеломил Любочку. Прежде всего тем, как быстро мафия узнала об их делах на Кипре? Выходит они, то есть их «Пресс-банк» попал в сферу деятельности международной мафии. И во-вторых, какая наглость – ультимативно требовать подарить квартиру, да еще в счет какого-то долга. Кому и сколько Евгений должен, она не знала. И причем тут она? Не она же должна. Люба хотела продать подаренную ей Евгением квартиру. Это же не маленькие деньги по нынешним временам. Они ей ой как пригодятся «за бугром». Складывается все одно к одному, невыносимо, какой-то кошмар. Надо побыстрей смываться. Но, оказывается, и в далеком зарубежье невозможно укрыться от хищных щупалец преступного спрута. Она с напряженным нетерпением ждала Евгения, чтоб сообщить ему неприятную новость. Она волновалась, подтачиваемая периодически возникаемыми сомнениями: а вдруг между супругами Соколовыми воцарится мир и согласие – и тогда все ее планы, все такие радужные, солнечные надежды рухнут и полетят в тарары? Важно, чем закончилась сегодняшняя встреча Евгения с Татьяной. И закончилась ли? Почему его так долго нет? Она набрала номер телефона в его машине. Трубку взял телохранитель и сказал, что минут через десять они приедут. Десять минут тревоги и волнения, напряженного ожидания и неясных домыслов. Она сидела в своем кабинете, не зная, чем занять себя. Наташу попросила, как только появится, сказать ей. О Наташе она думала с презрением и. понимала, что и Наташа настроена к ней недружелюбно: слишком много в ней гордости, зависти и, конечно же, ревности. И вот она, Наташа, вошла в кабинет – надутые губы, небрежный взгляд, грубый, оскорбляющий слух голос: – Шеф приехал. – Повернулась, вильнула бедрами, и удалилась вальяжной походкой. Люба вошла в кабинет Евгения без стука и с порога задала вопрос: – Чем закончилось? Он поднял на нее рассеянный, недоумевающий взгляд: – Что ты имеешь в виду? – Встречу с Татьяной. – Ах, да… Сожгли мосты. Отступать только в одном направлении – на Кипр, – небрежно бросил он. – Кстати о Кипре, – быстро подхватила Любочка. – Только что звонил все тот же анонимный гнусавый субъект. Поздравлял с покупкой квартиры на Кипре. Представляешь? – Что? Уже известно о кипрской квартире этим подонкам? Не может быть! Это же черт знает что, какая-то мистика… Работают сволочи. – Он поднялся из-за стола и нервно заходил по кабинету. Это сообщение он воспринял как очередной удар. – Больше того – этот тип потребовал себе в дар мою квартиру. Представляешь? В счет какого-то долга. – Ничего они не получат, ни копейки, – злобно выдавил из себя Евгений, мечась по кабинету. – Надо ускорить наш отъезд. Немедленно. Ты, пожалуйста, свяжись с нотариусом, пригласи его назавтра на утро, надо составить все необходимые документы. Я сейчас был в милиции. Следователь спросил меня, знаю ли я Максима Полозова? Пришлось сказать: да, знаю. Сначала он предлагал свои услуги в качестве охранника от рэкетиров. Я понял, что он не один, за ним стоит какая-то мафиозная группа. – Ну я помню – ты тогда отказался. Но его имя, кажется, Макс, – вспомнила Любочка, а он продолжал: – Потом этот Макс уже от имени некоей влиятельной силы потребовал, не попросил, а потребовал, прокрутить через банк довольно крупную сумму при высоких процентах. Не знаю, почему, но я согласился, сделал такое одолжение. О чем потом пожалел: с какой стати? Спустя некоторое время они опять с той же просьбой. Я отказал. Начались звонки, угрозы. – А почему ты не заявил об угрозе в милицию? – Там были нюансы… как тебе сказать – нежелательные для меня. Сейчас милиция подозревает, что выстрелы по машине – дело рук этого Полозова и его банды. Наташа приоткрыла наружную дверь кабинета и, затаясь, стала прислушиваться к их разговору. Но поскольку вторая, внутренняя дверь была закрыта, при крайнем напряжении слуха ей удавалось разобрать лишь отдельные слова. У нее это уже стало манией – подслушивать, о чем говорят любовники, оставаясь в кабинете вдвоем. И все же, сопоставляя отдельные слова, сам тон речи, ей удавалось «расшифровать» смысл разговора. Наташу по-прежнему сжигала ревность, порождала слепую, безотчетную месть. Ей хотелось отомстить им обоим, жестоко, коварно. Для этой цели она решила воспользоваться услугами Макса, который, как она поняла, имел свои счеты к банкиру. И то, что услышала и «расшифровала» из разговора между Евгением и Любой, она считала крайне важным как для себя, так и для Макса, с которым надо было непременно встретиться. К Максу ее влекла не то чтобы пылкая любовь, а просто привязанность, зов плоти. Она чувствовала, что у Макса нет такой, как у нее, сильной потребности встречаться, что он не испытывает к ней физического влечения, что он недостаточно уделяет ей внимания, бывает равнодушен, холоден и даже груб. Иногда ей хотелось порвать с ним, но отсутствие замены удерживало ее от такого шага. Привычка брала свое. Встречались они на квартире Макса, в его комнатушке, которую он снимал в двухкомнатной квартире стариков-пенсионеров. В квартире был телефон, но Макс не сообщил Наташе его номер, под предлогом, что хозяева возражают, и сам пользовался им в крайнем случае, предпочитал звонить своим знакомым и друзьям из автомата. Чем занимается Макс, Наташа не знала. На ее вопрос он отвечал уклончиво и неохотно: «Служу в коммерческих структурах». Деньги у него водились. Иногда он баловал Наташу недорогими подарками, о своих чувствах к ней не распространялся, отделываясь наивными шуточками. Максу только что исполнилось двадцать шесть лет, но черная, аккуратно постриженная борода не то чтобы старила, но при его крепкой, почти богатырской фигуре, придавала солидность и даже степенность, что совсем не соответствовало шустрому, озорному характеру. Да и быстрые плутоватые черные глаза вступали в противоречие с мошной фигурой. Он позвонил Наташе в конце рабочего дня и сообщил, что назначенная на сегодня их встреча отменяется. – Ну почему, Макс? – капризно спросила она. – Ты опять?.. – недовольно сказал он. Она сообразила о своей оплошности: он просил ее в телефонных разговорах не называть его по имени, вообще никак не называть. – Извини, дорогой, сорвалось… – На этот раз прощаю, – снисходительно сказал он. – Сегодня у меня вечером деловое свидание. – С кем? С женщиной? – А почему бы и нет? – Она красивая? – Дело вкуса. Например, для твоего шефа она божество. – А ты почему знаешь вкусы моего шефа? – А ты не догадываешься, о ком идет речь? Соображать надо. – И уже торопливо: – Ну ладно, потом поговорим. Завтра. Я позвоню. – Но у меня для тебя нечто сногсшибательное. – Все равно завтра. А теперь соедини меня с шефом. – Как доложить? – Скажи – Макс. Просто Макс. Наташа насторожилась: любопытство снедало ее – готовится что-то необыкновенное. Она вошла в кабинет и доложила. К ее удивлению, Евгений не стал интересоваться, кто такой Макс, и взял трубку. – Мое начальство поручило мне встретиться с вами. Желательно сегодня, – заговорил Макс без всяких предисловий. – Кстати, я сегодня буду встречаться с вашей сотрудницей Любой у нее дома. Нельзя ли, чтоб и вы там были, поскольку вопрос общий. После длительной паузы, позволившей Евгению все взвесить и обдумать, он согласился.Часть вторая. Месть
Глава пятая
1
За час до окончания рабочего дня Саша отвез Любу домой. По пути она забежала в магазин купить продуктов на ужин: она уже знала, что Евгений до их отъезда на Кипр будет жить у нее. В шесть вечера Евгений в сопровождении телохранителя подъехал к дому, где жила Люба, и позвонил ей из машины, коротко спросив: – Ты одна? – Да, – был такой же краткий ответ. – Мы поднимаемся. – «Мы» означало с телохранителем. Максу дверь открывала Люба: мужчины соблюдали меры предосторожности, так, на всякий случай. Но Макс был один. Он вежливо поздоровался, вел себя свободно, как со старыми знакомыми, хотя только раз встречался с Евгением. Телохранитель удалился в кухню, а они втроем расположились в единственной комнате. Евгений решил завладеть инициативой, первым спросил: – Это ваши хлопцы обрывают мои телефоны с угрозами? – Возможно, – нисколько не смутившись, ответил Макс и прибавил, делая веселое лицо: – Но вы нас к этому вынуждаете. Долги надо платить. – Какие еще долги? – поморщился Евгений. – Это вы мне должны заплатить за попытку убить меня. Ты стрелял? – Он строго устремил суровый взгляд на Макса. Но того не просто было смутить, он спокойно проговорил: – Евгений Захарович, роль следователя вам не идет. Давайте разговаривать серьезно: из-за вашего отказа принять наши разумные предложения мы потеряли сто тысяч долларов. Возместите нам эти убытки и будем квиты. Да еще в придачу вот этот пустячок, – он демонстративно обвел оценивающим взглядом комнату. – А причем здесь моя квартира? – не удержалась Люба. – При том, что она вам не нужна, вас ждет, если не ошибаюсь, квартира на Кипре? – Откуда такой бред, какой еще Кипр? – сердито пробурчал Евгений. Его до глубины души возмутил и взволновал тот факт, как быстро дошли до этой мафии сведения о Кипре. Его подмывало указать этому наглецу на дверь, но разумное чувство сдерживало его. И он заговорил, сохраняя спокойный рассудок: – Об этой квартире не может быть и речи, потому что я здесь буду жить. Понятно? А что касается ваших убытков, то вы их преувеличиваете раз в пять. Четвертной я еще мог бы вам пожертвовать. На этом и остановимся. – Боюсь, что на двадцать пять тысяч долларов наши не пойдут, – замотал кудлатой головой Макс. – Это нереально. Нас эти семечки не устроят. – Как хотите. Для вас это семечки, а для меня, при нынешнем тяжелом состоянии дел, это очень серьезная сумма. И выдать ее вам раньше, чем через месяц, у меня нет физической возможности. – Ой ли?! Что ж так? Обанкротились? – В черных сощуренных глазках Макса засверкали огоньки иронии. – Это наши проблемы, вас они не касаются, – недружелюбно произнес Евгений и холодно прибавил: – Так что звоните мне ровно через месяц. – Хорошо, доложу своему начальству. Я лишь доверенное лицо. – И уже уходя, добавил: – Ваша несговорчивость удивляет. Мне вас жаль. – В словах его прозвучала угроза. – Пожалейте лучше себя, Макс Полозов, – не без злорадного намека сказал Евгений, закрывая за ним дверь. – Какая наглость, а? – заговорила Люба, когда Макс ушел. – Требовать такие деньги, за что? И еще угрожают. Ты, надеюсь, сообщишь о его визите в милицию? Так оставлять нельзя, пусть примут меры. – В милицию я, конечно, сообщу. Но не это главное. Милиция милицией, это ерунда. – А что не ерунда, что главное? – возбуждаясь, допрашивала Люба. – Главное, дорогая, ускорить наш отъезд. Бежать надо – вот что главное. Макс Полозов и в самом деле выполнял обязанности доверенного лица в рэкетирской группе, состоящей из трех человек; он не был первой скрипкой, и не ему принадлежало последнее слово. Выйдя из дома Любы, он завел своего «жигуленка», доехал до первого телефона-автомата и позвонил Наташе. На его счастье она оказалась дома: только что пришла с работы. Он сказал ей что сейчас освободился, заедет за ней через двадцать минут и они поедут к нему домой. Сжигаемая любопытством, Наташа с радостью согласилась. Макс еще не успел подъехать, а она, высокая, костистая (весь наряд ее состоял из коротенького белого в черную полоску платьица), нетерпеливо ждала в сторонке от подъезда, не обращая внимания на любопытно-иронические взгляды прохожих. Внешний вид ее, впрочем, как и жеманные манеры и гулкий смех, отличались заметной вульгарностью. Завидя еще издали приближающуюся машину Макса, она суетливо бросилась ей навстречу. Большой рот ее весело улыбался, обнажая мелкие, ровные, белые зубы. Вид у нее был забавный. Она пристроилась в машине рядом с Максом, с какой-то душевной легкостью чмокнула его в волосатую щеку и предупредила: – Ночевать я у тебя не останусь. Поехали. Отсутствие в ней неподдельного, естественного темперамента, ее неспособность к глубокой страсти коробили и обескураживали Макса, но деловой интерес и привычка вынуждали его поддерживать с ней интимные отношения. В пути он спросил ее: – Выкладывай, что у тебя за сенсация? И она со своими домыслами и комментариями несколько сбивчиво поведала о том, что удалось ей услышать из разговора Евгения и Любы. – Твое имя называли, – таинственным тоном сообщила Наташа. – А Евгений: «Ни копейки, мол, не получат. Надо немедленно уезжать». И все что-то про милицию говорили. И нотариуса на завтра вызвали. Макс слушал ее внимательно, но вопросов не задавал, мысленно он анализировал, соображал. «Значит, решили бежать, – размышлял он. – И очень скоро, раньше, чем через месяц». В нем закипала злоба. О том, что Евгений сделал заявление в милицию, Макс уже знал: служба информации у них работала исправно. Об этом свидетельствовало и сообщение из Кипра, поразившее Соколова. Он искренне поблагодарил Наташу за ценную информацию. – Ты молодец, девочка. И мы с тобой им отомстим. Я не потерплю, чтоб эти буржуи, эти свиньи унижали и обижали тебя. Чем они ее унизили и обидели. Макс не знал. Просто Наташа не раз с презрением и злобой говорила ему о Любе и Евгении: «Как я их ненавижу!» Любу Наташа ненавидела, как свою соперницу, которая отбила у нее Евгения. («И что он в ней нашел?») А нашел он в Любе то, чего не хватало Наташе, – огненный темперамент и пылкую страсть, острый ум и цепкий характер. Да и внешностью Люба превосходила Наташу, которую при всяком удобном случае старалась унизить. Мстительная, самолюбивая Наташа не прощала обиды, копившиеся в ее сумасбродной душе. Евгения она возненавидела за измену, за то, как просто и легко он сменил постель. С детской доверчивостью и блаженством она внимала его нежным словам о любви и горько страдала, узнав о фальши возвышенных, сладостных слов. И поклялась отомстить. Каким образом, она еще не знала, как вдруг познакомилась с Максом, который был готов разделить ее горе, во всяком случае резко осудил поступок Евгения и его любовницы. И сейчас, лежа в постели после немудреного ужина с водкой и вином (Наташа пила только вино, Макс отдавал предпочтение водке), они разговаривали не о любви, а о ненависти, придумывая страшную месть. – Я б их задушила своими руками, – сквозь зубы выдавливала Наташа, сжимая крепкие кулаки. – Или расстреляла б, – подзуживал Макс. – Вот так, в упор, пиф-паф. – А что, могла бы, – соглашалась изрядно захмелевшая Наташа, все же не веря своим словам. – А подложить в кабинет шефу, например, под диван небольшую, но вот такую штучку размером с кусок туалетного мыла могла бы? – подначивал Макс. Для себя он уже решил, что ни двадцать пять тысяч долларов, ни тысячи рублей, как и Любиной квартиры, ему и его подельщикам не видать. Осталось единственное средство проучить упрямца – страшная месть. – И что эта штучка? Взорвется? – заинтересованно полюбопытствовала Наташа. – А это будет зависеть от тебя. Эта штучка с дистанционным управлением: нажмешь кнопку, когда в кабинете они будут оба, и произойдет взрыв. – А я где должна находиться? Ну, с этой кнопочкой? – В другой комнате. Или даже на улице. Наташа всерьез задумалась. Мысль ее работала напряженно, вытесняя хмель. Она начала трезветь. Спросила: – А что будет с ними? После взрыва? Их только напугает или, может, ранит? – Это уж как повезет, – уклончиво, с наигранной легкостью ответил Макс. – И погибнуть могут? – В голосе ее звучала тревога, Максу это не понравилось. Он с раздражением ответил: – Я ж тебе сказал: как повезет. Тут, как на войне, где стреляют, взрывают… там и ранят и убивают. А кому повезет – отделываются легким испугом. А тебя что смущает? Ты чего испугалась, народная мстительница? – Я – чтоб не убивать, а только напугать. Или легко ранить. – Ты, девочка, ненадежный партнер, – подосадовал Макс. – С тобой трудно иметь серьезное дело. Ты годна только для постели. – Он спустил свои волосатые толстые ноги на пол и закурил. Наташа лежала, по пояс прикрытая давно нестираной простыней, крепкими руками гладила его широкую твердую спину и приговаривала: – Ну не сердись, Максик. Я на убийство не способна. – А кто сказал, что обязательно – убийство? Как повезет. И какая ты убийца? Тебе только кнопку надо нажать. – Но сначала надо эту штучку подложить. Нет, я не смогу, – решительно сказала она. – Не сможешь, ну и не надо. И закроем тему. Пусть уезжают на свой Кипр и там наслаждаются любовью. – Не сердись, милый, – капризным тоном проговорила она. – Ну, иди ко мне. – Длинная рука ее потянулась к его животу и ниже. Макс смилостивился, уступил. Ткнув недокуренную сигарету в пепельницу, обнаженный, волосатый, он лег на спину и вытянулся поверх простыни. Он не хотел ссориться с Наташей, зная, что она ему пригодится в осуществлении его недоброго замысла.2
В пятницу вечером Евгений позвонил Тане и сказал, что он хотел бы забрать свои вещи. – Можешь завтра приезжать: я их собрала, – спокойно ответила она, хотя вещи Евгения еще не были собраны, она только думала собирать их и хотела позвонить ему и сказать, чтоб приезжал за своим барахлом. И теперь ей было досадно, что не она, а он позвонил первым, опередив ее. Вещей было много: полдюжины костюмов, пять демисезонных и зимних пальто, плащи, обувь, рубашки, шляпы, белье. Словом, на целую машину. Книги, конечно, он не возьмет, как впрочем, и посуду: не станет же мелочиться. Начнет новую жизнь – наживет. Сердце заныло от таких мыслей, но она взяла себя в руки и стала складывать в чемоданы и сумки обувь, белье, рубашки и прочую мелочь. Пальто и костюмы пусть тащит с вешалками. Делала она все это со степенным спокойствием, как делают привычное дело, без всяких эмоций, которые она, кстати сказать, подавляла усилием воли. Евгений приехал в субботу утром – как всегда, вместе с телохранителем. Выглядел он неважно: на лице и во всем облике уже не было прежнего самодовольства, печальные, затуманенные глаза выражали смирение и покорность неизбежному удару судьбы. В руках появилась дрожь, чего раньше не наблюдалось даже в минуты нервной вспышки. Пока телохранитель выносил вещи, сваленные в гостиной, Евгений пригласил Таню в спальню и заговорил тихим дрожащим голосом: – Обстоятельства сложились так, что я вынужден безотлагательно покинуть страну. Надежды на Ярового не оправдались. – Заметив на лице Тани ироническую усмешку, он запнулся и неожиданно спросил: – Вы что, встречались? – Да, он приходил свататься, – с саркастической улыбкой ответила Таня, но Евгений сделал вид, что его это уже не интересует, и продолжал: – Да, так распорядилась судьба. Ты была права, когда говорила, что счастье не в деньгах. Нам не повезло. Всё кончилось крахом. Говоря это, он смотрел на Таню в упор жадным вопросительным взглядом, на ее высокий лоб и густые блестящие солнечные волосы, в большие глаза, когда-то излучающие сияние любви. Теперь они были потухшими, холодными, безучастными. Он всматривался в тонкие черты еще недавно цветущего с нежной ослепительной кожей лица, – теперь аскетически бледного, потускневшего, усталого. Сердце его разрывалось от вдруг молнией сверкнувших воспоминаний, он ждал от нее каких-то спасительных, ну хотя бы утешительных слов. А она каменно молчала. «А что, если ей предложить: поедем на Кипр к теплому синему морю, все начнем сначала, я устрою для тебя рай, земной, вечный, желанный? Нет, она никуда из России не уедет, ни на что ее не променяет. А к тому же Люба… она должна родить сына. Итак, всё кончено, мосты сожжены». Голова шла кругом, разум помутился, что-то сжимало горло, мешало говорить. А надо кончать, быстрей заканчивать и навсегда оставлять этот блаженный уголок, где он испытал радость, счастье, любовь. И всё потерял. Он положил на широкую двухспальную кровать свой «кейс» (ох, эта кровать!), приоткрыл его и с усилием выдавил сухие слова: – Тут необходимые документы и деньги. Свой адрес я сообщу, когда определюсь. Прости и прощай… Он явно спешил, опасаясь, что разрыдается, что измученные нервы не выдержат. Дверь захлопнулась, и в квартире замерла необычная тишина, как после хлопка порванной струны. Таня стояла, как припаянная к полу, прямая, неподвижная, с печальной улыбкой на губах. Казалось, она вслушивается в его удаляющиеся шаги, которых не было слышно. Потом, словно во сне, повернулась к золотистому из карельской березы шкафу и настежь распахнула дверцу, обнажив пугающую пасть: там, где висели его костюмы, было пусто, и эта пустота болью отдавалась в душе. Такая же огромная гулкая пустота заполняла всю квартиру и даже кухню, откуда не исчез ни один предмет. Пустота овладевала и ею самой, и, чтоб избавиться от нее, чем-то заполнить, надо просто выйти из дома, – решила Таня. Теперь она уже явно, отчетливо почувствовала и осознала, что нить, связывающая ее с прошлым, навсегда оборвалась, что потеря необратима, и ни о чем не надо жалеть. Медленно скользящий взгляд ее задержался на лежащем на постели «кейсе». Она подошла и открыла его. В глаза бросились перетянутые резинкой пачки зеленых долларовых купюр и пятидесятитысячных рублевых. Поверх лежала отпечатанная на машинке и заверенная нотариусом бумага, удостоверяющая о том, что г-н Соколов Е. З. не возражает о расторжении брака с г-нкой Соколовой Т. В., так как семья их фактически распалась и не может быть восстановлена. В распаде семьи виноват он, Соколов Е. З., о чем и свидетельствует. Таня закрыла «кейс», содержимое которого восприняла совершенно равнодушно, словно не имеющее для нее никакого значения, взяла зонт и вышла из дома: синоптики обещали дождь. День был пасмурный, над Москвой плыли тяжелые набухшие свинцовые тучи, но дождя не было. Не раздумывая, машинально, по давно укоренившейся привычке она направилась в парк. Мысли о Евгении и о том, что сейчас произошло, она отгоняла от себя, как назойливых мух, но в ушах продолжала настырным комаром зудеть его последняя фраза: «Прости и прощай». Она прощает, хорошо, что вспомнил ее слова о деньгах, которые не приносят счастья. В данном случае они обернулись несчастьем. Она не желает ему зла хотя бы уж потому, что пусть ненадолго, но все же посетило их счастье до того, как появились эти неправедные деньги. Да, было счастье, была любовь, и всё рухнуло, прахом обернулось. Таня не торопясь шла по центральной аллее в сторону пруда и каруселей, но ноги сами сворачивали влево, точно какая-то невидимая сила направляла их туда, какой-то странный инстинкт подталкивал и звал. И она послушно повиновалась и вскоре в истерзанной душе ее сверкнул огонек радости: там, куда сами сворачивали ее ноги, она увидела Олю с Амуром. Оля была в белых брюках, плотно обтягивающих ноги, и темнокоричневой кожаной куртке. Она шла навстречу и радостно улыбалась. – Мы давно вас не видели, – весело сказала она. – Вы, наверно, редко бываете в парке. – В последнее время – да, не часто. А Константин Харитонович опять на дачу уехал? – Нет, папа наш приболел. – Что с ним? – Не знаем, врача не велит вызывать, а у самого высокая температура и горло болит. Я с ним ругаюсь, надо обратиться к врачу, а вдруг у него дифтерия? Только все бесполезно. Я даже хотела вам позвонить, пожаловаться на него. – Она покраснела и устремила на Таню слегка смущенный доверчивый взгляд. – Да постеснялась. – Зачем же стесняться? Я – врач, это мой долг. Надо было позвонить. Обязательно. Вы передайте отцу, что я зайду посмотреть его. Сегодня. Договорились? – Спасибо вам большое. Он будет рад. Только вы Татьяна Васильевна, называйте меня на «ты». Хорошо? А теперь нам с Амуром пора домой: мы уже давно гуляем, а мне еще надо в магазин сходить и других дел полно. На самом деле ей не терпелось сообщить отцу о предстоящем визите доктора, о котором он говорил Оле с большой симпатией. Оля дала Тане свой адрес и подробно растолковала, как их найти: дом, подъезд, этаж квартиру. – В нашем доме столько подъездов, что легко запутаться, – весело прощебетала она своим пронзительным голосом и торопливо потащила за собой Амура, который не испытывал особого желания возвращаться домой. «Откровенная, бесхитростная и добрая душа», – думала Таня, глядя вслед удалявшейся Оле. Густые тяжелые тучи обволакивали небо. Где-то недалеко прогрохотал гром, парк помрачнел в ожидании дождя. «Пожалуй, и мне надо возвращаться домой, пока дождь не застал, да идти к больному Силину», – решила Таня. Ей почему-то подумалось: стоит ли поведать Константину Харитоновичу о своих бедах или умолчать? Ведь и он потерял сына, убитого оккупантами у телецентра третьего октября. Еще и года не прошло с того рокового дня. «Там видно будет». Когда Оля сообщила отцу, что сегодня его навестит доктор Соколова Татьяна Васильевна, Силин заволновался. После встречи с Таней один единственный раз в Шереметевском парке он много думал о ней. Вспоминать было хорошо и приятно. Образ этой молодой и на первый взгляд, казалось, обыкновенной женщины как-то неожиданно, вдруг, запал в его душу и поселился там всерьез. Такое случилось с ним в первый раз, и он попытался разобраться, в чем тут дело или, может быть, какой-то секрет. Ему запомнились не столько отдельные детали ее лица, сколько общая, какая-то очаровательная женственность во всем ее облике. Ну и, конечно же, глаза – эти бездонные лесные омуты с сиянием любви. Семейная жизнь Константина Харитоновича сложилась не то что неудачно, но как-то совсем не так, как ему представлялась в молодости. Женился, как ему казалось, по любви на студентке института иностранных языков, дочери профессора искусствоведения, девушке с большими амбициями и непомерными претензиями. Вскоре у них родилась Оля, потом сын. Воспитанием детей, уходом за ними и вообще всеми семейными заботами занималась бабушка – мать Силина. Эту привилегию с удовольствием предоставила ей невестка, предпочитавшая работу сначала в школе, а затем в институте, избегая кухонно-домашних проблем. Хозяйкой она, по ее же словам, была «никакой», но обладала властным характером и повышенными требованиями к другим, в первую очередь к мужу. Запросы ее всегда превышали возможности супруга, главным образов материальные, и на этой почве после рождения второго ребенка в их семейной жизни пошли нелады. Дело доходило до развода, но в последние часы верх брал рассудок, и наступало примирение. Конечно же, временное – это было похоже на разбитый и кое-как склеенный сосуд. Внешне все казалось мирным, не вспыхивали ссоры или размолвки – во имя сохранения семьи, ради детей, между супругами установились добрососедские, сдержанной учтивости отношения. Каждый жил своей жизнью, но от детей такое положение скрывалось. На пути Силина встречались женщины, иногда довольно привлекательные, но он смотрел на них с недоверчивостью и подозрением, да они и не задевали в душе его сокровенных струн, даже после расторжения брака и отъезда жены в Штаты. И вот встреча в парке. Наверно, в каждом человеке заложен свой единственный и неповторимый магнит, который действует на окружающих строго избирательно. Так считал Константин Силин, и это было его убеждение и неразгаданная загадка души, ее непостижимая тайна, или, как говорил Лермонтов: «А душу можно ль рассказать?» Прошло уже два месяца, как он случайно повстречал Таню, а ее неотразимые черты, тот внутренний магнит не давали ему покоя, всплывали в памяти, заставляли думать о ней с приятной, волнующей грустинкой и тайным желанием какого-то несбыточного чуда. И хотя он знал, что чудес не бывает, но все-таки в глубине души верил, что очень редко, в порядке исключения, чудо может явиться на ответный зов, если только сильно и, главное, искренне его пожелать. Он желал, искренне и сильно, и чудо свершилось: она придет!.. Силин пытался скрыть свое волнение от дочери, но это было не просто сделать: он как-то весь вдруг преобразился, в живо блестящих глазах таился скрытый, сдерживаемый огонь, угрюмое лицо оживилось, в движениях и жестах появилась плохо скрываемая суетливость. Он принял ванну, надел новую серую рубаху с погончиками и нагрудными карманами, тщательно причесал серебристые волосы и, что позабавило наблюдательную Олю, побрился уже второй раз в этот день, чего раньше никогда не делал. Открыл флакон одеколона и остановился в нерешительности: а стоит ли «душиться»? Вдруг она неправильно истолкует? И решил: лучше не надо. – Зачем ты встал? Тебе надо лежать. Ты мерил температуру? – Заботливо хлопотала возле больного Оля. Ее радовали и забавляли внезапные перемены в поведении отца. – Нет у меня температуры, нормальная. Ты бы, доченька, немножко порядок навела. Вон тапочки валяются. Прибери их. И посмотри, что у нас есть к чаю: ну, сушки или печенье. Предложишь чай доктору или кофе. Как она пожелает. – Все, папа, будет в порядке. Ты не беспокойся, – весело улыбалась проницательная дочь, довольная тем, что ей удалось пригласить в дом такую симпатичную женщину. Она с пониманием относилась к неожиданному оживлению отца, знала, что он нуждается в женском обществе. Силин сидел в спальне на широкой кровати поверх покрывала. Весь его костюм состоял из рубахи, надетой на голое тело, и спортивных брюк. Рядом на тумбочке лежали термометр и томик Диккенса. – Волнуешься? – спросила Оля с детской доверчивостью. – От чего мне волноваться? – Напряженное угрюмое лицо Силина смягчилось смущенной улыбкой. – Я же вижу, папа, – озорно сверкнула глазами Оля. – Ничего ты не видишь. Просто любопытно… – с грубоватым равнодушием ответил Силин. Глаза его живо блестели. В нем не было ни тени позерства. Чувство достоинства никогда не покидало этого широкоплечего, мускулистого человека с открытым, простым, честным лицом. Друзья и просто знакомые говорили о нем: строг, справедлив и честен. Что может быть выше этой характеристики для судьи, тем паче в наше продажное, растленное время, когда отброшены все нравственные нормы? С Олей у Силина были отношения доверительнои дружбы, он питал к ней неподдельную нежность, особенно с тех пор, как она отказалась уехать с матерью в Штаты. К людям он был добр и терпим, не ворчлив и не раздражителен, со всеми держался с поразительным благородством. Большим его достоинством было и превосходное здоровье: серьезно он никогда не болел, легкие недомогания переносил на ногах, избегая врачей и разных таблеток, к которым относился всегда скептически. Он был очень восприимчив к прекрасному, особенно к женской красоте и классической музыке, обожествлял Бетховена. Страсть к самоанализу заставила Силина перед приходом Тани задать самому себе некоторые вопросы: почему он так взволнован? Что особенного, необычного нашел он в этой женщине, с которой и виделся-то всего несколько минут? Чем покорила она его воображение, проникла так глубоко в сознание? Что было в ней притягательным для чувственной души? А может, им просто завладела страсть: ведь он еще не стар, можно сказать, в расцвете сил, и оставаться в одиночестве после развала семьи он не помышлял. Но почему именно эта случайная, мимолетная встреча? Разве мало на его жизненном пути попадалось молодых женщин и девушек привлекательных и красивых, но ни одна из них не задела в его сердце тех глубинных струн, которые зазвучали лишь при встрече с Татьяной Васильевной. За прошедших два месяца после их первой встречи его воображение рисовало ее портрет: скорее миловидная, чем красивая, приятные манеры, хрупкая фигура, но эта хрупкость делала ее утонченной, и эта пленительная скромность, женственность… Но, пожалуй, главное – глаза, эти лесные озера, темные и чистые, как глаза ребенка, в них таилась нежность и неизъяснимая прелесть. В ее дивных глазах светилось что-то не мирское, небесное, какое-то сложное сияние. Звонок в дверь заставил Силина вздрогнуть, словно забарабанили по его нервам, он услышал, как Оля побежала открывать. Раздался голос, сдержанный, негромкий: «Где наш больной?» И вот врач вошла в спальню с тихой, печальной улыбкой усталых глаз. Во всем облике – смирение и покорность. Перед ним была она и как будто не она, и все же похожая на ту Татьяну Васильевну, образ которой так страстно творило его воображение. Осунувшееся невеселое лицо, хрупкая фигура, обтянутая черным платьем, на фоне которого четко выделялись струящиеся пряди золотистых волос, и только ее темные незабываемые глаза, в которые хочется смотреть и любоваться, были все те же, хотя в них проскальзывало тревожное выражение и усталость. Она изменилась, но не утратила прежней притягательной силы. «Как она изменилась за эти два месяца», – с грустинкой подумал Силин, устремив на Таню оценивающий взгляд. – Рад вас видеть, Татьяна Васильевна, – первым заговорил Силин. – Я тоже. Ну, рассказывайте, что с вами стряслось? – Ничего особенного, думаю, обыкновенная ангина и Оля напрасно вас побеспокоила. – Вот даже как! А говорите, рады видеть. – Приветливая улыбка преобразила ее лицо. Силин устремил на нее добрые, доверчивые глаза и тоже улыбнулся, молвив: – Я рад вас видеть не как доктора, а просто как человека. Он украдкой взглянул на дочь, и Оля, делая озабоченный вид, торопливо сказала: – Извините, Татьяна Васильевна, я должна сейчас с Амуром уйти. Папа, для чая или кофе в кухне все приготовлено. А это вам, наверно, потребуется. – И положила на тумбочку чайную ложечку. «Решила создать обстановку интима», – подумал Силин о дочери. Таня тем временем предложила больному поставить термометр, а сама взяла его руку, прощупала пульс. «Какие большие и сильные у него руки, – думала Таня, украдкой посматривая на Силина. – А глаза добрые, доверчивые». Температура оказалась почти нормальной. Таня осмотрела горло и заключила: – Да, у вас обыкновенная ангина. Раньше навещала она вас, ангина? – Нет, впервые вот пришлось… – Я на всякий случай взяла несколько таблеток. Индийский препарат и довольно эффективный. Она достала розовенькие круглые таблетки, пояснила: – Их надо сосать, как леденцы. Силин поблагодарил, подумав: «А ведь это, наверно, бешеныхденег стоит, как все сейчас лекарства. Надо рассчитаться, но как?» И решил: – Мы ведь с вами «бюджетники», но моя зарплата очевидно, повыше вашей. Поэтому я могу принять от вас эти леденцы при одном условии: назовите их цену и… – Никаких условий, – быстро и категорично перебила Таня. – Эти таблетки достались мне от моего бывшего мужа, считайте, что они ничего не стоят. Мой вам сувенир. – Бывший – это тот, который в день нашей первой встречи уезжал в загранкомандировку? – ровным голосом поинтересовался Силин, понимая деликатность вопроса. – Он самый, – грустная улыбка скользнула на ее губах. – Тогда он еще не был «бывшим», – прибавила она. – Вот оно в чем дело. Я смотрю на вас и не узнаю: вы очень изменились за эти два месяца. У вас появились какие-то трагические черты. – Он боялся показаться навязчивым и все же спросил: – Он что, не вернулся из-за бугра? Извините, если я сую нос не в свое дело. – Не надо извиняться. Он возвратился, и мы решили, как это официально говорят, расторгнуть наш брак. По моей инициативе. Теперь он собрался покинуть Россию навсегда. Но это не имеет отношения к моим трагическим чертам. Трагедия в другом, в более серьезном. Я бы сказала, страшная трагедия. Еще по пути к дому Силина Таня мысленно рассуждала: рассказать симпатичному судье о своей трагедии или не стоит. И решила: в зависимости от обстановки. Вообще-то по своему характеру она не склонна выставлять на показ свои переживания. Но боль и страдания, заполнявшие ее до краев, требовали выхода наружу. Она постоянно чувствовала себя измученной, ощущала непреодолимое желание кому-то излить душу. Но, конечно, не каждому встречному. В Силине она нашла что-то притягательное, способное к участию и состраданию. Решила, что это связано с его профессией: наверно, не один десяток человеческих судеб и трагедий пришлось ему выслушать и пережить. «Именно пережить. Такие способны к переживанию», – думала Таня, глядя в добрые, доверчивые глаза Силина. И она поведала ему о гибели сына и уже не могла утаить о причине разрыва с Евгением. Выложила всю свою боль. – Я знаю, что и вы почти год тому назад потеряли своего мальчика, мне Оля говорила, поэтому вы меня поймете, поймете мое состояние, мои, как вы подметили, «трагические черты». – Я вас понимаю, милейшая Татьяна Васильевна. Всей душой соболезную, сочувствую. Мы мало знакомы, хотя мне иногда кажется, я давно и хорошо знаю вас. Поверьте, это так. Вы цельная натура. А цельную натуру страдания не смогут сломать. Вы выстоите. Вы уже выстояли. Когда я потерял своего мальчика, мне показалось, что я и сам погиб вместе с ним там, у телецентра. Нужно время. Время – великий исцелитель души, ее настроя, ее переживаний. Я находил умиротворение в музыке. Мой любимый Бетховен говорил, что музыка должна высекать огонь в душе человеческой. – Согласна и не понимаю, почему Максим Горький, которого я так же люблю, как и Бетховена, позволил себе сказать, что музыка притупляет ум? – Горький забавлялся сочинением афоризмов. И эта глупость сорвалась у него ради оригинальности, красного словца. А возможно, он имел в виду так называемую поп-музыку, разные железные роки. – Легкая лукавинка сверкнула в глазах Силина. – От нее действительно можно не только отупеть, но и сойти с ума. Давайте, Татьяна Васильевна, продолжим наш разговор за чаем. Или вы пьете кофе? Потом они сидели на кухне и распивали чаи за разговорами, которым, казалось, не будет конца. Обычно немногословный и даже скрытный Силин вдруг разговорился, и на деликатный вопрос Тани, в чем была подлинная причина развала их семьи, неторопливо отвечал: – Прежде всего угасла любовь, улетучилась, растаяла. Тогда задаешь себе вопрос: а была ли она вообще? Вы видели у меня на тумбочке Диккенса. Там у него есть, по-моему, очень справедливые слова. Он говорит: любовь – это слепая преданность, беззаветная покорность, самоунижение. Это, когда веришь, не задаешь вопросов, наперекор себе и всему свету, когда всю душу отдаешь мучителю! Ведь это главное в человеке! Величие души. Человек силен верой, духом. В вере источник подвига. Как вы думаете, когда человек впервые запел? – спросил он, сверкая возбужденными глазами. Хмурое лицо его оживилось, порозовело. – Очевидно, когда научился извлекать огонь, – не очень твердо ответила Таня. – Когда влюбился, – вполголоса, с нажимом сказал он. – Но ведь вечной любви не бывает? – В тоне и во взгляде ее был вопрос. – Бывает, – твердо ответил Силин. – Это когда сходятся родственные души. – А вам не кажется, что это несбыточная мечта? – Не кажется. – Силин отрицательно покачал головой. – Теодор Драйзер говорил, что любовь – загадочное, необъяснимое творение духа, которому сильные подвержены больше, чем слабые. Вы человек сильный, так мне кажется. – А мне кажется, что вы тоже не слабый. Не сочтите за комплимент: вы – красивая женщина, и яркость вашей красоты в скромности. Вы воплощаете душу России. И вы оправитесь от жестокого удара судьбы. И Россия оправится. – Вы в это верите? В Россию? В обществе столько накопилось зла, что, кажется, добру его не одолеть. – Не согласен: добро сильнее зла. – Но оно доверчиво, беззащитно, милосердно. Мне кажется, порядочного человека сейчас трудно найти. Все испоганились. – Это зависит от того, где вы его ищете. Конечно, вы не найдете его среди «демократов» и богатых. Ищите среди тех, которых «демократы» называют красно-коричневыми, ищите среди патриотов. Я вам скажу, что честные люди не бывают богатыми и наоборот – богатые честными. Этот вывод я сделал из своей служебной практики. Понятно, каждый человек стремится к богатству, многие к славе. Но и слава, и богатство, добытые нечестным путем, непрочны, как надувной пузырь. Того и гляди – лопнет. «А ведь он прав», – подумала Таня, вспоминая Евгения. А Силин уже разговорился, ему хотелось излить свою душу до конца. – Вот вы спросили о причине распада моей семьи. Ваша семья распалась, как вы сказали, по вашей инициативе. Моя – по обоюдной. И дело не только в любви, доверии. Опять же дело в богатстве. Жена моя, бывшая, насмотревшись на шикарную жизнь так называемых «новых русских», пожелала миллионов. И не только пожелала, потребовала. А где их взять, спрашиваю. А она: «Пораскинь мозгами, сейчас только лентяи не берут, а ты, мол, судья, у тебя, мол, есть возможности, используй их». – Он на минуту умолк, плотно сжав губы, глаза потемнели, лицо сделалось угрюмым. – Однажды прихожу с работы домой, а она ко мне такая веселая, ласковая кошечка, выходит из спальни в прекрасной норковой шубе. «Посмотри на мою обнову. Как тебе? И совсем недорого, за гроши по нынешним временам». Я-то знаю, что это за гроши. «Откуда у тебя?» – спрашиваю. «Да тут, говорит, одна дама предложила. Богатая дама. Ее мужа посадили за какие-то пустяки». И дальше выясняется, что я должен разбирать дело ее мужа-вора и негодяя. Мне стоило труда не взорваться. Хотя я вообще-то не взрывчатый, достаточно хладнокровный. И я ей отчеканил железные слова: немедленно, сейчас же верни эту шубу. Я был возмущен до глубины души. Она же отлично знала, что на подобные штучки у меня твердый взгляд. И все же решилась, поддалась соблазну. Силин умолк. Черты его лица резче обозначились. Добрые, серые глаза ожесточились. – И как же… дальше? – осторожно полюбопытствовала Таня. – А что дальше? – он вскинул на нее несколько недоуменный и уже оттаявший взгляд: – Снесла, вернула в тот же день. Да иначе и не могло. Тут я непреклонен. То была последняя капля в чашу моего терпения. Правда, и до того между нами не было лада, а тут произошло полное отчуждение. Главное, что она не понимала не только преступности своих действий, но и их аморальности. Силин пододвинул к Тане вазу с сушками, на его непреклонном лице проскользнула тень умиротворения. – Угощайтесь сушками, Татьяна Васильевна. – Он с облегчением вздохнул, будто отлегло от сердца, в глазах появились насмешливые искорки. – Я вот вспомнил слова одного мудрого грека, который сказал, что лучше хорошей жены ничего не бывает на свете, и ничего не бывает ужасней жены нехорошей. – И, взглянув украдкой на Таню, прибавил: – Это в равной мере можно отнести и к мужьям. Таню подмывало спросить: «А вы – хороший муж?» Но она почему-то спросила совершенно как бы и не к месту: – Я вижу, вы – человек начитанный. Скажите, как вы относитесь к связи Тургенева и Полины Виардо? Вопрос для него был несколько неожиданным, застал его врасплох. Силин задумался, и Таня решила уточнить: – Была ли там настоящая любовь? – Наверно, была. Во всяком случае со стороны Тургенева. – Значит, безответная любовь?.. Со стороны Полины – только корысть. Она его использовала, как материальную базу? – Не знаю, не могу сказать. Я читал, конечно, но как-то не вникал. Вы это к чему? – Я вспомнила ваши слова: понимала ли, что это аморально? Она же, Полина, отказалась навестить в больнице умирающего Тургенева. Она заявила, что, мол, за свою жизнь слишком много видела умирающих стариков. Неужели Тургенев, знаток человеческих душ, не видел, не понимал подлинного лица своей возлюбленной, ее душу? Он был слеп? – Несомненно. Любовь ослепляет. – И даже безответная? – Так получается. Выходит, что Диккенс прав: слепая преданность, беззаветная покорность, самоунижение, вера без вопросов, наперекор себе и всему свету, когда душу отдаешь мучителю. Виардо и была его мучителем. Он либо этого не замечал, либо прощал, потому что любил сильно, страстно. Любовь – это загадка, неразгаданная тайна человеческой души. Это, быть может, самое ценное, чем одарила природа человека. Влюбленный способен как на великий подвиг, так и на великую глупость, например, на самоубийство. Настоящая любовь держится на одних чувствах, разум она исключает. – Мне жаль Тургенева, – заключила Таня. И вдруг без всякого перехода: – Мне еще предстоит иметь дело с судом. Никогда не думала. Бывший муж оставил мне нечто вроде завещания, заверенного нотариусом: мол, не возражаю против расторжения брака. А суд будет решать. Может, даже вы. В прекрасных глазах ее сверкнула ослепительная улыбка, которая, как молния, проникала в душу, задевая там самые чувствительные, самые нежные струны. «Подчеркивает, что муж бывший», – мысленно отметил про себя Силин. Он любовался ею, ее улыбкой, ее бездонными глазами, ее чистым, звонким голосом, нежной кожей лица и обнаженной шеи. Им овладела страсть, и он опасался порыва нежности со своей стороны. И, наверно, эти чувства были написаны у него на лице, и она их прочитала. У нее тоже появилось желание прильнуть к нему, и она устыдилась этого вдруг вспыхнувшего чувства и смущенно отвела взгляд. Лицо ее пылало. Она спросила, и в ее вопросе прозвучала просьба: – А, может, вы согласитесь вести мой разводный процесс? Или как там по-вашему называется? – Дело о расторжении брака, – ласково улыбнулся Силин. – Но об этом поговорим после. Не все сразу. Даст Бог, еще увидимся? – Он вопросительно уставился на нее взглядом. – Было бы желание, – утвердительно ответила Таня. – Желание есть. И очень большое, очень серьезное. – Он сделал ударение на последнем слове и после паузы продолжал: – Вы такая… как бы лучше сказать? Неотразимая. Слова не способны. Тут нужна музыка, Бетховен. – Голос его дрогнул. – А может, Чайковский? – улыбнулась Таня и, сделав серьезное лицо, сказала: – Вы интересный человек, вы – личность, и с вами интересно. Правда. – Печальная улыбка застыла на ее губах. – Это, наверно, оттого, что у нас есть много общего. В характерах, во взглядах. Нам еще о многом надо поговорить. Мы совсем не коснулись главного, о чем сейчас все говорят: о кровавом Борисе. Так сейчас в народе называют президента. О том, что он и его шайка сделали с Россией. Как и почему? – Да, да, мы еще встретимся и выговоримся. А сейчас, вы извините меня, я сосем забыла, что вы – больной. Вы меня простите. Силин проводил ее до двери. Таня ласково пожала его большую сильную руку и сказала: – Звоните, не стесняйтесь. И приходите в парк с Амуром. – Обязательно. И вы звоните, всегда рад. «Какая женщина! Мечта…» – нежно подумал Силин, возвратясь в спальню. Он достал розовую индийскую таблетку и положил в рот. Таблетка приятно таяла. «А деньги-то, деньги так и не отдал, – подосадовал он. – Да и неудобно как-то. Все равно она бы не взяла. Ну хорошо – потом сочтемся», – успокоил себя и, закрыв глаза, вслух произнес: «Мечта… Да воплотится она в действительность!» В это время вернулась Оля с Амуром, задорно прощебетала: – Мы встретили Татьяну Васильевну. Она такая милая, добрая и красивая. Да, папа? Она тебе нравится? – Нравится, даже очень, – улыбнулся Силин. – Вот и женись на ней, – выпалила Оля. – Спасибо за совет. Примем к сведению и подумаем, – шутливо ответил Силин. – Главное, что есть твое согласие.Глава шестая
1
Итак, решено, мосты сожжены: Евгений и Люба уезжают из страны навсегда. Прощай Россия, здравствуй… пока что Кипр! Оформлены паспорта, куплены билеты. Впрочем, свою квартиру Любочка решила сохранить на всякий случай, поручив ее своим родителям. Завтра в аэропорту Шереметьево они мысленно скажут России «прости и прощай». Суетным этот день был для Евгения Соколова; обычно собранный и хладнокровный, он как-то мельтешил, пытался что-то сделать, давать какие-то совсем не обязательные распоряжения своим подчиненным и тут же их отменял, рассеянно выслушивал сотрудников и со всем соглашался. На телефонные звонки не отвечал, с Наташей был подчеркнуто любезен, даже ласков, а с Любочкой напротив – холоден и сух, как будто избегал ее, что озадачивало настороженную, бдительную любовницу. До сего дня она была в волнении: а вдруг он в последние часы передумает, или что-нибудь непредвиденное помешает осуществлению их замысла. Скорей бы в Шереметьево… Прощание с Москвой наметили в ресторане «Савойя». Был заказан отдельный столик на двоих, сервированный изысканными блюдами. Но к удивлению Любочки, Евгений почти не дотрагивался до любимых яств и выпил только один фужер шампанского, был напряжен и сосредоточен, с подозрительностью осматривал присутствующих в зале и, не дожидаясь горячего блюда, решил уходить, подгоняемый чувством неуверенности и обуявшего его страха. На лестничной площадке Любочка не могла найти свои ключи от квартиры, и Евгению пришлось открывать своими. Потеря ключей огорчила Любочку. – Ну где я их могла «посеять»? Как это могло случиться? – досадовала Любочка, мысленно соображая, когда и как она могла обронить ключи. Но не столько ключи, сколько состояние Евгения ее беспокоило. Черт с ними с ключами, родителям она оставит ключи Евгения. А вот что с ним, что творится в его душе? А то, что творится там неладное, она догадывалась по его поведению. Дома он спросил, нет ли у нее коньяка и чего-нибудь «пожевать». В холодильнике наелось и то и другое. «Но почему же он в ресторане не стал „жевать“ и не заказал коньяка?» – недоумевала Люба, вслух же произнести этот вопрос не решилась, Она поставила на стол икру, начатую бутылку коньяка и одну хрустальную рюмку. – Почему одну? А ты что, не хочешь разделить со мной? – Он указал глазами на коньяк. – С превеликой радостью, – ответила Люба, и розовое лицо ее засияло счастьем. Изо всех сил она старалась угождать любимому, а она действительно любила Евгения пылкой, страстной любовью и готова была исполнить все его желания и прихоти, особенно в эти, как она считала, решающие для них дни. У них было по два заграничных паспорта – на настоящие и вымышленные имена. Евгений все предусмотрел, и тем не менее тревога и сомнения напирали на него со всех сторон. В фальшивых паспортах они значились как супруги, и теперь, наполнив рюмки коньяком, он сказал, не вставая из-за стола: – Я хочу выпить за здоровье и удачу молодых – Людмилы и Павла Петровых. – Так они значились в фальшивых паспортах. Опорожнив рюмку, новонареченная Людмила бросилась к новоиспеченному Павлу Петрову и страстным поцелуем опечатала уста новобрачного. Она была слишком возбуждена, как наэлектризованная; казалось, прикоснись к ней, и ударят искры. – У нас сегодня будет брачная ночь, – сияя от счастья, лепетала Любочка-Людмила. – Да, милый? Ты хочешь брачную ночь? В ответ Евгений снова наполнил рюмки и, вымученно улыбнувшись, сказал: – Давай за брачную ночь. Безумной ночи, которую замышляла Люба, не получилось: Евгений был пассивен, словно отрешенный от земных наслаждений. Исцелованный весь с головы до ног, он оставался безучастным, как бы отсутствующим, и никакие ухищрения Любочки и ее безумный пламень не в состоянии были его зажечь. Наконец успокоившись и приутомившись, она спросила: – На Кипре мы обвенчаемся? Я хочу венчаться. – А ты крещеная? – почему-то спросил Евгений. – Конечно, – решительно подтвердила Любочка и уточнила: – В позапрошлом году отец Артемий меня крестил. – Почему так поздно? Ты верующая? – Раньше я как-то была безразлична к религии. Меня она не интересовала. В церковь заходила всего дважды и то из любопытства. А теперь, когда многие обратились к религии… – И ты за компанию, поскольку это модно. – Ну, не совсем так. А разве ты?.. – И я такой же, как все или многие, вроде тебя, – откровенно признался Евгений и прибавил: – Мы гоняемся за модой, это инстинкт стадности. В комнате было душно, они лежали обнаженными, изморенными. Люба – в состоянии блаженства, Евгений – в отрешенности и усталости. Его разморило. Он лениво выталкивал из себя вялые слова, не очень заботясь об их смысле. А она ластилась к нему набалованной кошечкой и сладко мурлыкала: – Женечка, любимый, ты веришь в судьбу? – И не дожидаясь ответа, продолжала: – Наша встреча – это судьба, самим Богом назначенная. Мы созданы друг для друга. Ты не находишь? У нас много общего, в характерах, даже во внешности. Он не находил, но фразу эту где-то слышал или читал. «Наверно, все влюбленные так говорят, – размышлял он. – Она влюблена по уши. А я? Не знаю. Во всяком случае она меня устраивает, с ней хорошо. И не только в постели. Тут она кудесница, не то что… Наташа или… Таня». Имя последней горечью царапнуло по сердцу. Он не хотел себе признаться, что Таня была единственная и неповторимая, он не мог отрицать ее целомудрие, неподкупную честность, женское обаяние и светлый, природный ум. Люба тоже умна, скорее хитра и расчетлива, в этом ей не откажешь. Но какие же они разные, не похожие. «Таня, она… – он не находил слов, чтобы определить ее сущность и, не найдя нужных, решил: – она не от мира сего. И я виноват перед ней. Не понял, не оценил. Но что теперь об этом… Как говорят на Востоке: „О прошлом не жалей, грядущего не бойся“. А он не столько жалел о прошлом, сколько боялся грядущего. Ныла душа, он старался не думать о Тане, а Люба спрашивала: – О чем ты, милый, думаешь? – Так, о разном, о жизни, о судьбе, о человеческой трагедии… О Егорке, бедном мальчике. Она взяла его руку, поцеловала, приговаривая: – У нас будет мальчик. – Нет, такого не будет. – Он тяжело вздохнул и убрал свою руку, повторив: – Такого не будет. Его обуяли сомнения, мучительные, неотступные. Он сомневался и в ее любви к нему и в своей любви к ней и в том, что им удастся создать новую счастливую семью. На душе лежал камень сомнений и тревог, и не в силах сбросить этот камень, он сознавал, что совершил преступление перед тысячами доверчивых граждан, так беспечно отдавших ему свои сбережения. «Да, я преступник, – мысленно соглашался Евгений, – но разве я один такой? Главные преступники в Кремле, в „Белом доме“ и на Старой площади… Это они сотворили время безнаказанных преступлений против своего народа. Вот только своего ли? Нет, они чужие этому обездоленному, ограбленному и обманутому народу. Но где же их родня? Может, в США, в Израиле?» – Женечка, а тебя не будут искать? Интерпол? – вдруг спугнула его мысли Люба. – Едва ли, – неуверенно ответил он. – У нас же есть запасные паспорта. Может, потом Людмила и Павел Петровы махнут за океан, куда-нибудь в Аргентину. – Почему не в Бразилию? Рио-де-Жанейро, пляжи. Или в Сингапур. Хочу в Сингапур, – шептала она, прижимаясь к нему. В это время в их комнате раздался мощный взрыв. Взрывной волной их постель подбросило к потолку, вышибло оконную раму, раздробило мебель, люстру. Осколки хрусталя, стекла, фарфора и дерева засыпали комнату. Окровавленные, обнаженные изуродованные тела Евгения и Любы жутко лежали поверх этого хаоса, присыпанные отлетевшей от потолка штукатуркой. Взрыв был настолько мощным, что разбудил всех жильцов большого дома. Перепуганные соседи тотчас же позвонили в милицию. Оперативная группа примчалась минут через десять. Входную дверь в квартиру Любы Андреевой пришлось взломать. Страшную картину увидели сотрудники милиции. Среди двух трупов и обломков нашли четыре загранпаспорта и одну связку ключей. Именно ключи привлекали особое внимание опытного следователя. Вспомнили последний визит Евгения Соколова в милицию и его заявление об угрозах Максима Полозова, потому-то этот Макс и оказался первым в числе подозреваемых организаторов взрыва. Логика размышлении следователя была простой и естественной: чтобы войти в квартиру и заложить взрывчатку с часовым механизмом – среди обломков были обнаружены простые наручные часы с будильником, – надо было иметь ключи. Потому-то под утро того же дня у себя на квартире был задержан Максим Полозов, при обыске у которого была изъята целая связка ключей. Задержанный оказался неплохо разбирающимся в юриспруденции и сразу потребовал адвоката, без которого наотрез отказался давать какие бы то ни было показания. В тот же день были приглашены родители Любы Андреевой и Татьяна Соколова для опознания трупов. Эта жуткая процедура для Тани была тяжелым душевным испытанием. Видеть изуродованное обнаженное, слегка прикрытое окровавленной простыней тело когда-то любимого, хоть и предавшего ее человека, было невыносимо больно. Тем паче рядом с трупом его любовницы. «Божья кара», – решила про себя Таня, не испытывая ни жалости, ни неприязни к покойным. Она ощутила неожиданную развязку какого-то неудобного узелка, беспокоящего ее в последнее время: само собой отпала необходимость затевать бракоразводное дело. К своему стыду она почувствовала какое-то облегчение. Ей хотелось в тот же день позвонить Силину и сообщить эту печальную весть, но она воздержалась и позвонила отцу. Василий Иванович воспринял сообщение дочери совершенно спокойно, как нечто обыкновенное, обыденное, отозвавшись краткой фразой: «Этого следовало ожидать». Казалось, он давно предугадывал такой исход, как нечто неотвратимое и естественное. Он даже не спросил Таню, кто будет хоронить бывшего зятя, считая, что это забота руководителей «Пресс-банка». О загранпаспортах супругов Петровых ни Таня, ни Василий Иванович ничего не знали.2
В качестве свидетелей следователь допросил шофера и телохранителя Евгения Соколова, а так же его секретаршу Наташу, которая по паспорту именовалась Дива Голопупенко. Наташей она стала называть себя, когда поступила на службу в «Пресс-банк». «Вот так диво! – воскликнул тогда Евгений. – Весь банк будет дивиться такому диву». – «Да, вообще все мои знакомые называют меня Наташей», – слегка смутившись, ответила тогда Голопупенко. «Ну и будь Наташей», – благословил Евгений. Показания Саши – шофера – мало что дали следствию. Телохранитель рассказал о последней встрече Макса Полозова с Евгением и Любой на ее квартире и кратко изложил содержание разговора между ними, который он слышал, находясь в это время на кухне. Это был существенный факт для следствия. Макс требовал каких-то денег, называл даже сумму, но Евгений соглашался уплатить лишь четверть той суммы. Макс сказал, что доложит своему руководству. Кроме денег он еще требовал квартиру Любы Андреевой, которую она оставляет в связи с отбытием за рубеж, на что получил категорическое «нет». У следователя не было сомнения о причастности к взрыву Максима Полозова. Но нужны были факты. Он тщательно изучил довольно сложные замки от входной двери Любиной квартиры. Ключи подобрались из связки, найденной среди обломков комнаты. По элементарной логике следователь считал, что должны быть какие-никакие ключи и у Соколова, и у Андреевой: от квартиры, от кабинета и от сейфа. Одних ключей не было. Он спросил телохранителя: – Когда вы подошли к двери квартиры все втроем, вы обратили внимание, кто открывал дверь, Андреева или Соколов? Телохранитель понял смысл вопроса, вспомнил – дверь открывал Евгений, поскольку Люба не могла найти свои ключи и была раздосадована. Для следствия еще одна существенная деталь: ключи были похищены у Любы, решил следователь. Кем? Это надо было выяснить. А пока он сличал ключи Соколова с ключами, изъятыми у Максима Полозова. И ахнул: в связке ключей Макса был дубликат ключей Евгения! Это уже неотразимая улика, вещественное доказательство. Следователь подозревал прямую связь между выстрелами по машине Соколова и взрывом в квартире Андреевой. Когда у Полозова милиция забрала ключи – все это было, как и положено, оформлено при понятых – он очень расстроился, что допустил непростительную оплошность – не выбросил ключи от квартиры Любы. Он не мог понять, почему этого не сделал. Ну, казалось, все предусмотрел. А ведь это не такое уж редкое явление в криминальном мире. Даже опытный преступник все тщательно наперед просчитает, продумает, взвесит, ан нет – все, да не все: оставит какую-то очень существенную, важную улику, после чего потом хватается за голову, трижды назовет себя идиотом. В беседе со своим адвокатом, перед тем, как давать показания следователю, Макс не был откровенен: он вообще не доверял адвокатам. Он лишь сказал, что его обвиняют в организации взрыва в квартире какой-то гражданки, которой он и в глаза не видел. – Тогда отрицайте, – посоветовал адвокат, поняв, что его подзащитный не намерен идти с ним на контакт. – Все отрицайте начисто. Это была обычная тактика почти всех преступников. И ею решил воспользоваться Максим Полозов. – Вы знакомы с гражданином Соколовым Евгением Захаровичем? – спросил следователь. – Нет, – твердо ответил Макс. Он сидел перед следователем в спокойной, независимой позе, и невинные глаза его выражали обиду и возмущение. – А с гражданкой Андреевой Любовью вы знакомы? – Нет. – И в квартире ее не бывали? В квартире Андреевой? – Естественно. – Что естественно, уточните? – попросил следователь. Макс быстро взглянул на адвоката и ответил с раздражением: – Не был я в квартире Андреевой. – Тогда объясните, как у вас оказались ключи от квартиры Андреевой? – Следователь рассчитывал сразить этим вопросом подозреваемого. Но лицо Макса оставалось спокойным и неуязвимым, только в глазах сверкнула ироническая ухмылка: – Чужих ключей мы не держим. – Ну, а эти – ваши ключи? – Следователь предъявил Максу два ключа от квартиры Андреевой. – Впервые вижу. Хотите подбросить мне дохлую кошку? Не выйдет, господин следователь. Конечно, следователь не исключал такого ответа. Он спокойно твердым голосом сказал: – Эти ключи изъяты у вас, что засвидетельствовано понятыми. Вы говорите неправду, и тем самым лишь Усугубляете дело. Вы только что сказали, что незнакомы с гражданкой Андреевой и никогда не были в ее квартиры Так? А вот показание свидетеля Лидова – телохранителя Соколова: пятого числа сего месяца вы навестили гражданку Андрееву Любовь Андреевну в ее квартире, где в это время находились гражданин Соколов и его телохранитель Лидов. Вот содержание вашего с ними разговора. Хотите зачитать? Следователь Фадеев, мужчина крепкого телосложения и обаятельной внешности, пытливо, но как бы дружески уставился на Макса, который с большим усилием старался не показать своего волнения, но это ему не удалось: он был явно ошарашен сообщением о свидетеле и, чтобы скрыть свое состояние, дерзко ответил: – Я не интересуюсь фальшивками и никакого Лидова не знаю и знать не хочу. – Похоже, он уж слишком строго придерживался совета адвоката – все отрицать. В запасе Фадеева был еще один свидетель, от которого он надеялся получить существенные показания. Этим свидетелем была Дива-Наташа Голопупенко. – Что ж, сделаем очную ставку со свидетелем Лядовым. А пока прочтите и подпишите свои показания, – сказал следователь и протянул Максу исписанный листок протокола допроса. Макс читал с наигранным пренебрежением, при этом губы его изображали высокомерную ухмылку, и вообще всем своим видом он давал понять следователю о своей неуязвимости. После допроса он был направлен в КПЗ, а Фадеев приступил к допросу Наташи, которая, между прочим, еще не знала о гибели Евгения и Любы. Когда ей об этом сообщил Фадеев, она в первый миг как бы остолбенела с полуоткрытым ртом и широко раскрытыми глазами. Цепким, интригующим взглядом сверлил ее следователь, и взгляд его как бы говорил: «Ну что, попалась?» Он долго не сводил с нее этого терзающего сердце взгляда и не задавал вопросов. И вдруг ее прорвало: она заплакала по-детски жалобно, со всхлипом, закрыв лицо ладонями. Этого Фадеев не предвидел, раздумывая, каким должен быть его первый вопрос свидетелю. Он знал, что от ответа на первый вопрос зависит очень многое, иногда он может стать решающим во всем деле. И он спросил, как только Наташа немного успокоилась: – Когда вы передали Максу Полозову ключи от квартиры Любы Андреевой? Вопрос прозвучал так, словно ответ следователю уже был известен: мол, он все знает и спрашивает только для протокола. И все же он решил прибавить: – От вашего правдивого ответа зависит ваша судьба, гражданка Голопупенко. – Вчера, – тихо ответила свидетельница, размазывая по лицу слезы. Фадеев ликовал: он никак не ожидал такого быстрого признания и теперь стремительно атаковал: – Как вам удалось заполучить ключи от квартиры потерпевшей Андреевой? – Взяла из ее сумочки, когда Люба была у шефа. – И тут же передали Максу? Каким образом? – Он дома ждал моего звонка. Я позвонила, и он подъехал. – За ключами? – Да. – Он зашел к вам в офис? – Нет, я сама вышла. – И отдали ему ключи? – Да. «Давай, давай, Фадеев, нажимай, пока эта Дива Голопупенко не опомнилась». – А вы знали, зачем понадобились Максу ключи от квартиры Андреевой? – Он хотел отомстить Любе за меня. – А в каких отношениях вы с Максом Полозовым? – Мы собирались пожениться. – Так за что же Макс хотел отомстить Андреевой? – Я же сказала: из-за меня. Люба возненавидела меня и хотела уволить с работы. Настраивала против меня шефа. – Что ж, она имела такое влияние на Соколова? – Она его любовница. Она вертит им, как хочет. – Вы знали, что шеф в последнее время живет у Андреевой, то есть ночует в ее квартире? На этот вопрос Голопупенко не спешила отвечать. Получилась продолжительная пауза. Наконец, она сказала: – Я догадывалась, что они там встречаются, на квартире Любы, но что он ночует – я не знала. – Полозов говорил вам, каким образом, как он должен отомстить Андреевой, пробравшись в ее квартиру? – Нет, не говорил. – Постепенно свидетельница вышла из шокового состояния и теперь старалась взвешивать свои ответы. – А вы сами догадывались, в чем будет заключаться месть Полозова? Обворует, напакостит или подложит в постель мину? – Над этим я не думала, – растягивая фразу, ответила она и прибавила: – Что угодно, только не мину. Задав еще несколько вопросов, окрыленный успехом Фадеев решил тотчас же продолжить допрос Макса Полозова, после чего в тот же день провести очную ставку с Голопупенко, которую решено было задержать до окончания допроса Макса. На этот раз Полозов предстал перед следователем Фадеевым с видом невинного страдальца, присмиревший и вежливый. – Вы знакомы с гражданкой Голопупенко Дивой-Наташей? – был первый вопрос. Он не смутил Макса: видно, он догадывался, что следствие непременно допросит ближайшее окружение погибших. – Ну, знаком, – передернув плечами, вяло ответил Полозов. – Она передавала вам вот эти ключи от квартиры Андреевой? Для Макса это был роковой вопрос, содержащий в себе зловещий смысл, он прозвучал, как выстрел. Макс, сделав над собой усилие, с кислой миной раздраженно ответил: – Я вам уже говорил и повторяю: никакого отношения к этим ключам я не имею. Это не мои, а ваши ключи. Вы пытаетесь мне их подбросить – Вы не ответили на мой вопрос, – сказал Фадеев. – Отвечаю: никаких ключей Наташа мне не передавала. – Да поймите же, Полозов, ваше упорство бессмысленно, оно вам не поможет. Следствие располагает неопровержимыми данными, что вы, решив за что-то отомстить гражданину Евгению Соколову и зная, что тот ночует у гражданки Андреевой, решили совершить против Соколова, а заодно и Андреевой, террористический акт. Вы попросили свою сожительницу Голопупенко раздобыть вам ключи от квартиры Андреевой и, получив их, вошли в квартиру Андреевой и заложили под кровать взрывное устройство с часовым механизмом. В результате взрыва погибли Соколов и Андреева. Перед этим в той же квартире, встречаясь с Соколовым, Андреевой и Лидовым, вы требовали от Соколова деньги, а от Андреевой ее однокомнатную квартиру. И угрожали им. Угрожали вы и по телефону. У нас есть письменное заявление Соколова и показания свидетелей. Надеюсь, вы нам расскажете, какие деньги и за что вы требовали от Соколова? А теперь мы проведем очную ставку с гражданкой Голопупенко. Тревожное выражение глаз выдавало растерянность Полозова. Он понял: Наташа «раскололась». Вопреки опасению Фадеева на очной ставке Дива-Наташа Голопупенко подтвердила свои показания. Подтвердил свои показания на очной ставке, состоявшейся на другой день, и телохранитель Соколова Лидов. Полозов же и на очных и на последующих допросах продолжал все отрицать и виновным себя не признал, несмотря на все очевидные улики и показания свидетелей. Его сообщники через адвоката были посвящены в ход следствия, и Полозов надеялся, что путем угроз они заставят Наташу в суде отказаться от показаний, данных ею в процессе следствия. Такой вариант имел в виду и следователь Фадеев: из собственного опыта он знал, что во время господства в стране организованной преступности мафия, как правило, оказывала давление путем угроз и подкупа свидетелей, и те на суде изменяли свои прежние показания, и преступник выходил сухим из воды. Тем более, что и судьи испытывали на себе давление как со стороны мафиозных структур, так и со стороны повязанных с мафией чиновников от юстиции и прочих власть имущих дельцов. Как бы то ни было, но следствие по делу преднамеренного убийства руководителя «Пресс-банка» и его референта было в короткий срок завершено и передано в суд. Кроме главного обвиняемого Полозова, обвинение в соучастии в преступлении предъявлялось и Голопупенко. Таким образом, очень часто тяжелая, кропотливая и небезопасная работа сотрудников милиции шла насмарку: только один из десяти задержанных и разоблаченных ими преступников был осужден, при этом, не отбыв до конца срока заключения, каким-то непонятным образом оказывался на свободе и продолжал свои прежние противозаконные действия. Таковы уж нравы во времена торжества беззакония и беспредела.3
Таня колебалась: идти ей на похороны Евгения и Любы или не идти? Евгения она простила, злой рок жестоко наказал его, но то, что она увидела в квартире Андреевой – окровавленные, обнаженные тела несчастных любовников – ее глубоко потрясло и породило чувство неприязни. И она не пошла на похороны, организованные управлением «Пресс-банка». На третий день после похорон Тане позвонил Яровой и выразил свое соболезнование. Таня поблагодарила и уже хотела положить трубку, как вдруг Анатолий Натанович задал неуместный в данном случае вопрос: – Что вы думаете дальше делать? – В смысле? Я вас не понимаю? – с нескрываемой неприязнью ответила Таня. – Меня интересует, как сложится ваша дальнейшая судьба? – Почему она вас интересует? – Праздный вопрос, Татьяна Васильевна. Вам хорошо известно мое отношение. И вообще, предложения, которые я сделал вам раньше, остаются в силе. Я хотел, чтоб вы знали. – Всего доброго, Анатолий Натанович, – сдерживая возмущение, ответила Таня и положила трубку. «Наглец и циник. Нашел подходящее время напомнить о себе», – с неприязнью подумала она. Сырое московское лето катилось к закату. Скупое солнце так и не дало возможности людям насладиться теплом, но Василий Иванович, исходя из житейского опыта, предрекал сухую солнечную осень. «В природе все сбалансировано, и свои долги она обязательно возвращает. Пусть с опозданием, за июнь-июль она отдаст в сентябре-октябре». И он не ошибся: в конце августа южные ветры принесли тепло и мягкое, ласкающее солнце. Напоенные досыта частыми дождями деревья не спешили наряжаться в золото и багрянец. В Шереметевском парке было сухо и вольготно в эти теплые предосенние дни. Летом выходные дни Таня проводила на отцовской даче, будни поглощала работа, и в парк она заходила редко. После всего случившегося в это трагическое для нее лето – гибель сына, а затем разрыв с Евгением и его смерть – совершился в ее душе какой-то немыслимый переворот: она утратила смысл жизни и веру в людей. Таня внушила себе, что в мире господствует зло, что оно всесильно и неистребимо, а добро – это всего-навсего несбыточная мечта человечества, оно редкий гость, появляющийся от случая к случаю в праздничные дни. В мире царит ложь, предательство, жестокость, лицемерие, нравственный беспредел, и правит этим миром немногочисленная, но спаянная общими эгоистическими интересами банда алчных уголовников, обладающих несметными богатствами, совершенно лишенных нравственных и моральных критериев. Богатство, деньги дают им власть над людьми, которой они пользуются без ограничений, законов и правил. А придуманные ими законы – всего лишь демагогия, рассчитанная на доверчивых простаков и невежественных дураков. Таня перестала читать газеты и смотреть телевидение, видя в них ядовитый источник лжи, лицемерия, умственного оглупления и нравственного разврата. Но что хуже всего – она погрузилась в пучину одиночества, оставаясь наедине со своими мыслями и чувствами. Ей расхотелось иметь друзей и общаться с ними. Она надела на свою душу непроницаемый панцирь, надеясь, что он оградит ее от мерзостей действительности и пороков. Одно время она хотела найти утешение в религии. Первая попытка обратиться к церкви после гибели сына особого покоя не принесла. После гибели Евгения она решила сделать вторую попытку: будучи на даче, на Троицу – большой престольный праздник – она предложила отцу поехать вместе с ней в Лавру. Василий Иванович сочувственно посмотрел на дочь и сказал: – Я, Танюша, не атеист. Но с некоторых пор во мне появились сомнения в святости служителей культа. Сейчас в православие пошли иудеи, активно пошли. И многие дослужились до высокого сана. В чем тут причина или секрет? Да очень просто: когда демократам через телевидение и прочие СМИ удалось подорвать духовные устои общества, нравственно растлить молодежь, церковь попыталась поставить заслон всей этой похабщине, взяла на себя роль духовного воспитателя. Сионистам это не понравилось, и они решили разрушить православную церковь изнутри, как разрушили Советский Союз. И вот тебе наглядный пример – поп-расстрига Глеб Якунин – личность, прямо скажем, омерзительная и, кажется, всеми презираемая, или здешний поп Александр Мень. – Которого убили? – уточнила Таня. – Да, тот самый. Один мой товарищ, отставной полковник из бывшего КГБ рассказал мне, что этот самый Мень был агентом сразу трех разведок: ЦРУ, израильского «Моссада» и КГБ. Сионисты же делают его святым. На днях я ходил в совхоз «Конкурсный» и видел, как на месте убийства сооружается кирпичная часовня, то есть памятник попу-шпиону. А между прочим, этот святоша дома в своем кабинете пользовался пепельницей из человеческого черепа. Просто натуральный череп использовал, как пепельницу. Когда ему мой знакомый заметил: «Отец Александр, а вам не кажется, что это святотатство», он и глазом не моргнул, ответил: «А что ж тут такого непристойного? Просто даже оригинально». Вот такие «святые» и проникают в православие чтоб разрушать его, пакостить, компрометировать. Так что ты уж уволь меня, в Лавру я не пойду. А ты как хочешь, так и поступай. А между прочим, книжонка этого «святоши» по истории религии рекомендована как школьный учебник. Так что эти Якунины, Мени и им подобные ныне в большой чести у власть имущих. Хозяева России, победители. А победителей не судят, как говорится. Нет, будет суд, справедливый и жестокий. Придет время, поднимется Россия и народ поименно назовет своих мучителей и растлителей душ. Душегубов. Рассказ отца огорчил Таню – в Лавру она не поехала, но спросила: – А все же, кто убил Меня и за что? – Версии есть разные. Когда шпион работает на две или на три разведки, кой-кому это не нравится. Руководитель службы контрразведки Степашин объявил по телевидению, что убийца арестован и имя его будет обнародовано еще в этом году. Так что подождем. Вера, Танюша, дело благое и серьезное. Она требует самоотрешения. Помнишь, в Сталинграде есть дом Павлова? – Слышала, – тихо подтвердила Таня, с большим интересом слушая отца. Для нее он был авторитет. – Сержант Павлов со своими товарищами геройски оборонял этот дом. Немцам так и не удалось взять его. Бои были ожесточенные, силы неравные. Павлов, наверно, был верующий человек, и он там, в этом смертельном бою, дал себе клятву: если останусь жив, пойду в монастырь. И он исполнил свою клятву. Он пришел к Богу по велению сердца своего, по зову совести. По убеждению. Но этому способствовала, послужила толчком, как теперь говорят, экстремальная обстановка: жизнь или смерть – так стоял вопрос. Он был храбрый человек, не боялся смерти, но и любил жизнь. – Ты говоришь «был». Ончто, умер? – Нет, он здравствует, но под другим, монашеским именем. Ему, надо полагать, уже далеко за семьдесят. – Экстремальная обстановка, толчок, – вслух рассуждала Таня. – Я получила не толчок, а такой удар, что и врагу не пожелаешь. И что? Разуверилась в добре, в человеке и вообще потеряла всякую веру, интерес к жизни. Меня ничто не интересует, потому что я не могу ни на что влиять, от меня в этой жизни ничто не зависит. – Да что ты говоришь, как это от тебя не зависит? – дружески удивился Василий Иванович, вздернув крутые брови. Лицо его выражало несокрушимое упорство, глаза неподвижно глядели на дочь. – А судьба больных, их жизнь разве не от тебя зависит? – То другое дело, это моя работа, обязанность, долг. – Так ведь это и есть смысл жизни – любимая работа, обязанности, честно исполненный долг. – Все верно, папа. Но я о другом: во мне образовалась какая-то внутренняя пустота, как будто из души что-то испарилось, что-то очень дорогое и прекрасное… Я не могу тебе толком объяснить, да и сама не понимаю. – И не нужно никаких объяснений. Оно само придет и заполнит пустоту. Только не надо преднамеренно подавлять в себе все естественные человеческие инстинкты, чувства, не надо чураться людей. Не застегивай душу на все пуговицы, открой ее, и к тебе вернется дорогое и прекрасное в новом варианте, быть может, еще лучшем. Веру нельзя терять – вот главное. Веру и цель жизни, ее смысл. Таня понимала, что имеет в виду отец, и готова была согласиться с ним. Конечно же, это не дело – подавлять чувства, умерщвлять душу. Разговор этот состоялся на даче Василия Ивановича, и теперь, будучи в Москве, она вспомнила справедливые слова отца, собираясь после работы пойти на часок в парк. Около месяца она здесь не появлялась, проводя выходные дни на даче, в будни после работы убивала время за вязанием. Вязала совершенно ненужные ей перчатки, лишь бы занять себя. Это занятие не то чтоб успокаивало, но приглушало, а, возможно, и притупляло мысль, погружая ее в душевное одиночество. Перчатки, конечно, можно кому-то подарить, тому же отцу или… И тут она вспомнила судью Силина, мысль о котором весь этот последний месяц с упрямством гнала прочь. И она пошла по знакомой аллее, на которой состоялась их первая встреча. Может быть, он опять вывел на прогулку своего Амура? Ну если не он, то хотя бы его дочь, вызвавшая у Тани особую симпатию. В парке было немного посетителей. Пригретые последним летним солнцем все еще зеленые деревья стояли погруженными в безмолвную дрему, своим величием навевая покой и умиротворение. Таня шла медленно, всматриваясь по сторонам, но тайно желанного человека нигде не было. «Да что ж это я, – подумала она, – не поинтересовалась его состоянием? Ну, хотя бы позвонила. Нехорошо, неэтично, доктор Соколова». Правда, тут же нашлось оправдание: взрыв на квартире Андреевой, гибель Евгения и Любы. Он, наверно, об этом не знает. Надо бы позвонить, она же обещала. Так вдруг начал давать трещины панцирь, в который она упрятала свою душу; вздрогнули дремавшие струны души, им стало неуютно от одиночества, и они нуждались в слушателях. Таким слушателем непременно должен быть Силин, и Таня, воэвратясь из парка, набрала номер его телефона. Он сам взял трубку и был искренне рад ее звонку. – Дорогая Татьяна Васильевна, – перехватив инициативу, поспешно заговорил он. – Куда вы исчезли? Представьте себе – я даже волновался, частенько бывал в парке, надеясь вас там встретить, но увы! «Мог бы позвонить, если волновался», – с обидой подумала Таня, но вслух сказала: – У меня тут были сложности, – скороговоркой произнесла она и сразу вопрос: – Как ваша ангина, как себя чувствуете? – Ангина с вашей помощью исчезла без следа, а чувствую себя великолепно, услыхав ваш музыкальный, неповторимый голос. И жажду видеть. – Когда? – сорвалось у нее неожиданно и весело. – Да хоть сейчас, – обрадованно ответил он. – В таком случае нанесите ответный визит. Я у вас уже была, теперь ваша очередь. Я вас жду. – Говорите адрес, – с нетерпеливым восторгом сказал он. Таня была приятно поражена: как все это произошло? Ее, можно сказать, случайный телефонный звонок, и такой непредвиденный результат?! Какая странная стихия чувств, какой необъяснимый, непредсказуемый порыв! Это все он, от него исходила инициатива, она лишь покорно соглашалась, – словно оправдывалась перед собой Таня, засуетилась, возбужденно стала готовиться к неожиданной встрече. Прежде всего надо приготовить легкий ужин, хорошую закуску, чай или кофе и, конечно, предложить можно чего-то покрепче. Спиртное в доме водилось, тут никаких проблем, как, впрочем, и набор холодных закусок. Она торопливо сервировала стол и начала приводить себя в порядок. Ее забавляла эта суета: отчего так волнуешься, Татьяна Васильевна? Какого необычного гостя ты ждешь? Почему порозовели твои прелестные щечки и затрепетало, казалось, навсегда закаменелое сердечко? Она нарядилась в темнокоричневое платье, элегантно и выразительно подчеркивающее и гибкую фигуру, и маленькую, почти девичью грудь; привела в порядок свои блестящие шелковые волосы цвета спелой кукурузы и, остановившись у зеркала, не могла решить, украшать свои маленькие изящные ушки сережками или не стоит: ведь он, кажется что-то говорил ей о скромной красоте. Пожалуй, лучше без сережек: чем скромней, тем ярче красота. И никаких румян и помады, пусть будет все естественно. Она смотрела в зеркало на свое зарумянившееся лицо, озаренное возбужденным блеском больших карих глаз. Она давно не видела себя такой. И вновь вспомнились вещие слова отца: пустота заполнится, только не надо подавлять в себе естественные чувства. Эти чувства вспыхнули вдруг, и она их не подавляла. «Молодец, Таня», – вслух похвалила сама себя, и тут звонок в прихожей заставил ее вздрогнуть: «Это он». Силин был одет в серый костюм, коричневую рубашку и при галстуке. Плотный, но не грузный, с тяжелой копной черных без единой сединки волос, он выглядел молодцевато. Тяжелая линия подбородка выдавала твердый, упрямый характер. Чисто выбритое до синевы лицо излучало радость и доброту. Он нежно пожал протянутую ему руку и негромко, тепло выдохнул: – Очень рад. Таня пригласила Силина в гостиную, где уже был накрыт стол с холодными закусками, и сказала: – Я собиралась ужинать, когда вы позвонили. Поужинаем вместе. – Тихая дружеская улыбка осветила ее тонкое лицо. – С благодарностью разделю с вами трапезу, – любезно ответил Силин, садясь за стол. Таня взяла бутылку греческого коньяка и, задержав 6s над рюмкой гостя, спросила: – Употребляете? – От такого бальзама грех отказываться. Она наполнила рюмку Силина, затем свою и все с той же милой улыбкой спросила: – Итак, за что пьем? – За ваше благоденствие, за то, чтоб вы обрели счастье, которого вы достойны, за вас, Татьяна Васильевна. – За нас, – вдруг сказала она, сверкнув на него слегка смущенным взглядом. Это краткое «за нас», как бальзам, легло на сердце Силина. Он признался с трогательной откровенностью: – Я много думал о вас все эти долгие-долгие недели. – Я рада вас видеть, – сердечно ответила она. – Вы сказали о каких-то сложностях? Что с вами случилось? – Случилось не со мной, а с моим бывшим мужем. Он погиб. Его убили, как полагают, рэкетиры. Силин насторожился. Сосредоточенный взгляд его вопросительно устремился на Таню. – Как его имя? Вашего мужа. – Евгений. Евгений Соколов. – Я так и подумал, – упавшим голосом молвил Силин и опустил глаза. – Руководитель «Пресс-банка» Евгений Соколов, – не то спросил, не то утвердительно сказал он. Таня приняла это как вопрос и ответила: – Да. А что вы подумали? – На днях в городской суд поступило дело об этом убийстве. Я с ним ознакомился. Когда читал, вспомнил некоторые детали из последнего разговора с вами. Я даже собирался вам звонить, но не решился. – Не решились? Почему? Мне кажется, вы человек решительный. – Не знаю почему. Не спрашивайте. – По его лицу вскользь пробежала тень легкого смущения. – Примите мое соболезнование. Таня молча кивнула и после паузы негромко спросила: – Это дело будете вести вы? – Да. И дело-то не такое уж сложное, как мне кажется: убийца арестован, все улики против него, хотя он все отрицает. Но это обычная метода всех профессионалов-уголовников. – Это рэкет? – В общем – да. Возможно, заказное убийство на почве сведения счетов. – Кто он? Убийца? – Рецидивист, уже судимый. – И что ему грозит? – продолжала любопытствовать Таня и прибавила: – Если это не секрет. – Какие уж тут секреты. Явный терракт, жестокий. Думаю, что он только исполнитель, а за ним стоят главные. По делу проходит сообщница – любовница убийцы и секретарша убитого. Но она – фигура случайная. Настоящие сообщники на свободе. Если б удалось в процессе судебного разбирательства выйти на них. Но боюсь, он не выдаст, испугается. – Его расстреляют? – Это будет зависеть от хода судебного разбирательства. – Я могу присутствовать в зале суда? – Конечно. Заседание открытое. Мысль присутствовать в зале суда у Тани родилась внезапно, только сейчас. Да она еще и не решила, нужно ли ей присутствовать в суде. Она украдкой бросала теплые взгляды на Силина, пытаясь представить его на высоком троне судьи. Там он, наверно, совсем по-другому выглядит: строгий, неподкупный, требующий от подсудимого и свидетелей «правду, только правду». И в его власти судьбы человеческие: наказывать и миловать. Интересно. – Вам приходилось выносить смертные приговоры? – Приходилось. – В голосе Силина прозвучала нотка сожаления, лицо нахмурилось. – И часто? – Нет. А потом имейте в виду: от вынесения смертного приговора до его исполнения длинная дистанция, и нередко высшая мера заменяется длительным заключением. Наше правосудие далеко от совершенства. Особенно уголовный кодекс. В нем много лазеек для преступников. Я вам не открою тайны, если скажу, что преступность в это проклятое время так называемой демократии и реформ буквально парализовала общество. Борьба с преступностью должна быть одной из главных задач правительства. А у нас только разговоры о преступности, а серьезных крутых мер, практических действий нет. – Но ведь борьба с преступностью зависит и от вас, судей. Вы находитесь на переднем крае, – возбужденно сказала Таня. – Только отчасти. Главная беда состоит в том, что преступность проникла в государственные, административные и хозяйственные структуры. Она, как раковая опухоль, поразила все сферы жизни. Сама власть у нас преступная и держится она на преступности. Уберите преступность, и она падет. Вместе с президентом – главным преступником. Он возбудился, в глазах засверкали тревожные огоньки. Он продолжал: – В этом отношении поразительный пример: голосование в Думе проекта закона об организованной преступности. Закон принят большинством голосов. Против проголосовало всего сорок три депутата. Из них сорок – члены фракции «Выбор России», то есть дерьмократы-гайдарчики. А конкретно – Бунич, Волкогонов, Гербер, Денисенко, Емельянов, Заславский, Нуйкин, поп-расстрига Якунин… Какой букет апологетов организованной преступности. Им она нужна, как воздух. – Вы говорите точно, как мой отец. Он у меня сталинист. – В голосе Тани прозвучали горделивые нотки свидетельствующие о том, что она солидарна с отцом. – А вы как относитесь к Сталину? Силин не спешил с ответом. В отношении Сталина у него сложилось твердое убеждение, неподвластное никаким колебаниям и сомнениям. Ответ на подобный вопрос ему приходилось давать не однажды совершенно разным собеседникам, в том числе и ярым антисталинистам. Но как ответить кратко и убедительно этой очаровательной женщине, слегка возбужденной от выпитого коньяка и позволившей себе расслабиться? Перечислять все заслуги Сталина перед советским народом, говорить о нем, как о прозорливом государственном деятеле и великом полководце, смывать всю грязь, инсинуации и ложь, выплеснутые на него врагами социализма и советской власти – это долго. После небольшого размышления Силин ответил: – Сталин – это наша славная история. Сталин – это социализм на практике. А социализм – это завтрашний день человечества, независимо от того, воскреснет Россия в былом своем могуществе или на несколько десятилетий останется американо-израильской колонией. – А такое может случиться – колония? – с тревогой в голосе спросила Таня. – Я не исключаю. Есть страшные преступления, которые совершили демократы с Ельциным во главе. Первое – это приватизация, разгосударствление, то, чем занимается ставленник Запада Чубайс, фигура по своему злодеянию не имеющая аналогов. Что такое приватизация? Это развал экономического потенциала. Десятилетиями народ в поте лица, не доедая и не досыпая, на одном энтузиазме создавал заводы-гиганты, возводил, строил, чем мы гордились, и мир восхищался. И все это народное достояние за бесценок, за гроши отдано дельцам, жулью. А в итоге – миллионы безработных. Народ еще не понял всего ужаса приватизации, которую Ельцину навязали израильско-американские советники! Чубайс и его команда должна быть моими клиентами, сидеть на скамье подсудимых. А они правят бал. Он умолк, мрачно насупив взгляд. Казалось, он весь охвачен предельным напряжением, большие руки сжаты в кулаки, на лице выступили желваки. – А что второе? – спросила Таня, не сводя с него пытливого взволнованного взгляда. Глаза ее горели. – Второе – молодежь, наше будущее, которое планомерно уничтожается. Мне приходится разбирать преступления юношей, выбравших «пепси-колу». Совершенная деградация душ, никаких нравственных норм, полнейшая бездуховность. Главное – деньги и любой ценой. Что-нибудь делать полезное обществу, трудиться они не умеют и не хотят. Загублено и сознательно развращено целое поколение. А оно – неисчерпаемый резерв уголовщины. Для них, кроме денег и удовольствия, нет ничего святого. За деньги хладнокровно убивают свою бабушку, мать, сестру, престарелого ветерана войны. Насилуют. Поколение жестоких тунеядцев, воров, наркоманов. Их сделали такими телевидение, пресса, кино. По заказу. Ни в одной стране мира так настойчиво и откровенно не пропагандируются пороки: жестокость, разврат. Только у нас позволительно такое. Россию превратили в свалку духовных нечистот и уголовников. – Вы их судите? Уголовников? – За совершенные преступления даем срок, направляем в колонии. А там, за колючей проволокой, они совершенствуются у профессиональных преступников и выходят оттуда не раскаявшимися, а матерыми уголовниками и продолжают свое дело. Получается какой-то замкнутый ведьмин круг, из которого трудно найти выход. Но самое обидное, что за решетку редко попадают крупные криминальные акулы, разные «крестные отцы», воры в законе и обладатели краденых миллиардов, владельцы трехэтажных вилл, «мерседесов» и замков за рубежом. – Но почему, почему они выходят сухими из воды? Наш долг – судить их по закону, по заслугам! – Да законы-то, Татьяна Васильевна, у нас грубо попираются. Давление на судей как со стороны сообщников подсудимых, так и их покровителей в высших эшелонах власти стало нормой. Угрозы, попытки подкупа. Представьте себе судью – молодую женщину, а их у нас немало, вот она решает дело об убийце, который занимает скамью подсудимых. А в зале суда сидит его неразоблаченный сообщник, этакая харя-образина. Сидит и угрожающе сверлит звериным взглядом это беззащитное существо – судью-девчонку или женщину-мать двоих детей. У судьи даже оружия нет, не положено. Вот она и думает: какой приговор вынести? Суровый, по справедливости, по заслугам? Но ее, беззащитную, могут уже сегодня подстеречь в подъезде ее дома и прикончить. И она дает минимальное наказание, а то и вообще оправдывает. – Какой ужас! – содрогнулась Таня. – А вы не боитесь? Вам угрожали? – Всякое бывало: и домой звонили, и жену на улице останавливали – угрожали расправиться с дочерью. Конечно, это нервировало жену, держало ее в постоянном напряжении и страхе. Она даже требовала от меня уйти с должности. Но я рассуждал и рассуждаю так: волков бояться – в лес не ходить. Чутьем проницательной женщины Таня угадывала за внешней мягкостью, душевностью Силина непреклонную твердость и силу, взрывной характер, мучительную боль и сострадание к обездоленным. Она видела, что под мягкой оболочкой живет гордая натура, благородный, цельный, независимый характер. Она представила себе, сколько человеческих судеб, изломов и бед прошло через сердце этого богатыря – а он ей представлялся именно богатырем, мудрым, кондово-русским, – и в ее сердце разгорался светлый огонек искренней симпатии и восхищения. Он вызывал в ее душе уважение и веру. «Как же он похож на моего отца, – с искренней радостью думала Таня. – Их надо познакомить. Вот бы отвели душу». А Силин, словно ощущая ее биотоки, как-то очень тепло и проникновенно заговорил после паузы: – Вы спросили, боюсь ли я? Так вот, расскажу вам эпизод из жизни одного очень яркого и тихого русского патриота Виктора Ивановича Корчагина. Вы едва ли слышали это имя. Таня покачала головой и тихо сказала: – Нет. – Этот уже немолодой человек, очень скромный, бухгалтер по профессии, быть может лучше, чем какой-нибудь шустрый ура-патриот понял всю глубину опасности для России со стороны ее главного врага – сионизма. И он создал небольшое издательство, так как на большое у него просто не нашлось денег, и начал издавать книги, раскрывающие сущность сионизма. Прежде всего он обнародовал «Протоколы сионских мудрецов» – эту сатанинскую программу по захвату евреями власти на всей планете. Во времена Троцкого только за хранение и чтение этого документа людей убивали без суда и следствия. Издал он и другие подобные книги: «Спор о Сионе» Дугласа Рида, «Евреи в Америке» Генри Форда и так далее. Книги эти открыли людям глаза, показали, что миром правят тайные силы Зла. Они сильные, сплоченные, изощренные в своих злодеяниях. Они обладают не только несметными богатствами, но и адской машиной лжи, оболванивания людей. И вот однажды к Виктору Ивановичу в его рабочий кабинет являются два еврея и говорят с угрозой: если не прекратишь издания такой литературы, то пожалеешь. И Корчагин сказал им то, что ответил я на ваш вопрос: волков бояться – в лес не ходить, и продолжал свое поистине благородное дело – нести людям страшную правду. И однажды на Корчагина наезжает машина, сбивает его на улице. И в тот же день в газете «Известия» появляется восторженное сообщение: мол, в автокатастрофе погиб известный антисемит, издатель Корчагин. Они были уверены, что терракт удался, но, к счастью, Виктор Иванович остался жив. Представляете? Поспешили с некрологом. Казалось бы, тут самое время заняться контрразведке, уголовному розыску, прокуратуре, найти террористов. Ничего подобного. Корчагина по-прежнему таскают по судам, обвиняя по статье семьдесят четвертой – разжигание национальной вражды. Этому патриоту памятник надо поставить, а его травят, покушаются на жизнь. И безнаказанно. Мы живем в стране произвола и беззакония, и все разглагольствования о правовом государстве – это циничная болтовня, ложь. – Скажите, Константин Харитонович, есть ли предел этому беспределу? Виден ли какой-то хоть малюсенький просвет? Подумав, Силин мрачно вздохнул и глухо заговорил: – К сожалению, пока что царствует беспредел. Страхи правит израильская и американская агентура, проникшая во все поры власти, разумеется, под русскими именами: разного рода Андреи, Анатолии, Егоры и прочие Александры Николаевичи. Но я верю: проснется русский медведь, вылезет из берлоги истощенный, голодный, свирепый. И не будет тогда пощады сионо-масонским поработителям. Припомним всё – унижения, оскорбления, грабежи, убийства. Вспомним поименно преступников, и будет суд, народный суд, праведный и немилостивый. И побегут тогда Чубайсы и чубайсики, Гайдары и гайдарчики, бурбулисы и бурбулисята в Израиль, в США, как в свое время бежали гитлеровские палачи в Гондурасы и Сальвадоры. Если, конечно, смогут убежать. – Я представляю, какой поднимет гвалт «цивилизованный» Запад, – сказала Таня. – Но вот куда побегут ельцинские лакеи от культуры – Зыкины, Окуджавы, Астафьевы, Ульяновы? На родине простые люди будут плевать в их мордюки. По мрачному лицу Силина легкой тенью скользнула улыбка: он понял, кого Таня подразумевала под словом «мордюки». В ответ улыбнулась и Таня. А он продолжал: – Запад, конечно, завопит, истошно, истерично: о зверствах, о попранной свободе, о правах человека. Тот сионистский Запад, который помалкивал, втайне ликовал, когда Ельцин расстреливал из танков законный парламент; тогда он, этот «цивилизованный» Запад не вспомнил о правах человека, о мальчишках, которых хладнокровно расстреливали у телецентра. Да и сегодня он молчит, не видит и не слышит стона насилуемой его агентурой России. Силин замолчал, устремив на Таню притягательный взгляд. Лицо его потеплело, смягчилось, в ласковых глазах заискрились веселые огоньки. Сказал с тихой улыбкой: – Вам не надоело о политике? – Наоборот, я очень рада. Мне приятно, что наши мысли совпадают, я думаю так же, как и вы. Мы с вами единомышленники, и говорим о том, что наболело. Это жизнь. Мне кажется, большинство народа сегодня так думает. Он не стал развивать ее мысль, как и о чем думает большинство народа, – он смотрел на нее умиленным взглядом и думал о ней, о ее дополнении к его тосту «за нас», и в его возбужденной душе пробуждалось очарование и любовь. А она догадывалась, вернее – определенно знала, чувствовала, что нравится ему, и ей это приятно льстило и вселяло смутную надежду. К ней возвращалось что-то утраченное, как бы позабытое, но очень дорогое, оживали чувства. И ей хотелось признаться ему, что душа ее, как будто на время окаменелая, замороженная, начала оттаивать благодаря их встрече, что с ним ей легко, что он такой прямой, открытый и честный, перед которым душа сама распахивается. Ей хотелось сказать ему много лестных, ласковых, нежных слов, но вместо этого она наполнила рюмки коньяком и неторопливо, с паузами произнесла: – За свою жизнь я встречала разных людей, хороших, порядочных и плохих, лживых себялюбцев. Вы – человек особенный. Сердце мне подсказывает, а я ему доверяю. Вы – личность. Я часто думала о вас и, признаюсь, втайне ждала вашего звонка. Я рада, что мы встретились. Я хочу выпить за вас, за то, чтобы эта встреча была не последней. Она выпила до дна и, приблизившись к нему, решительно преодолев робость и смущение, сказала: – Разрешите вас поцеловать. От неожиданности он оторопел, и лицо его запылало огнем. Она стремительно чмокнула его в щеку влажными горячими губами и опустилась на стул, то ли от смущения, то ли от блаженства зажмурила глаза. А он уставился на нее ошалелым взглядом и тихо выдавил из себя: – У меня нет слов. Спасибо, дорогая. Лицо его растаяло в улыбке, искренней, открытой и доверчивой. Он весь светился несказанным счастьем и в самом деле не находил слов – он просто любовался ею. Он был весь перед нею со своими чувствами и настежь распахнутой душой, в которой расцветала любовь. Таня это видела, понимала и радовалась. Она ощущала потребность говорить, заполнить словами вдруг образовавшуюся необычную паузу. И она сказала: – Наверно, большое счастье, когда два человека думают одинаково и смотрят одними глазами на одни и те же события. Это, наверно, и есть духовная гармония. – Да, да, именно гармония, единение душ, – волнуясь, согласился он, не сводя с нее взгляда. Прощаясь, они долго стояли в прихожей, наказывая друг другу не забывать, звонить, восторгаясь состоявшейся встречей и приятно проведенным вечером. Ему не хотелось отпускать ее руку, которая уютно покоилась в его сильной лапище. Наконец, преодолев смущение, он повторил ее же вопрос: – Можно вас поцеловать? В ответ она пылко поцеловала его в губы.Глава седьмая
1
Таня вошла в почти заполненный зал суда и нашла для себя свободное местечко в заднем ряду. Она волновалась. За свою жизнь она впервые оказалась в этом непривлекательном заведении, правда, по своей воле в качестве любопытствующего зрителя, который вообще-то составлял половину присутствующих в зале. Вели себя они, к ее удивлению, непринужденно: толпились в проходе, входили и выходили, оживленно разговаривали. Во всяком случае, Таня не почувствовала той сдержанной напряженности, которую поначалу представляла себе. Среди всей этой разношерстной публики преобладали мужчины, и Таня, внимательно всматриваясь в них, пыталась обнаружить ту «харю-образину», о которой говорил ей Силин, – неразоблаченного соучастника подсудимого, но ничего подобного не находила. Накануне ей позвонил Константин Харитонович и, выполняя ее же просьбу, сообщил время начала процесса. На скамье подсудимых было двое – Макс Полозов и Наташа-Дива Голопупенко. Полозов, чернобровый, плечистый, держался спокойно и невозмутимо. Он даже с каким-то вызовом смотрел в зал ироническим взглядом человека, уверенного в своей неуязвимости. Наташа, напротив, была подавлена, напряжена и не смотрела в зал. Издали Таня пыталась рассмотреть ее лицо, но оно ей виделось серым и невыразительным. И вот команда: «Встать! Суд идет!», – и зал собранно подтянулся и насторожился. Силин в сопровождении двух заседателей – щупленького рыжеусого мужчины и полной, среднего роста женщины, – огромный, монументальный в черной мантии торжественно-деловито занял председательский «трон». Теперь взгляд Тани был сосредоточен всецело на нем. А он строго и не спеша осмотрел зал и, как показалось Тане, заметил ее и, открыв заседание, зачитал обвинительное заключение четкий хорошо натренированным голосом, в котором слышалось твердое убеждение в доказанности вины подсудимых. Как и на следствии, Полозов не признал себя виновным в совершении взрыва в квартире Андреевой с целью преднамеренного убийства. Правда, здесь он не стал отрицать, что встречался с Соколовым и Андреевой в ее квартире, но с единственной целью: предупредить Соколова и Андрееву, чтобы они прекратили преследование Наташи. – Соколов склонял мою невесту Наташу к сожительству, – говорил суду Макс. – А его любовница Андреева знала об этом и из ревности всячески третировала и травила Наташу, подбивала Соколова уволить ее с работы. – Вам передавала ключи от квартиры Андреевой подсудимая Голопупенко? – спокойно спросил Силин. – Нет, – твердо и самоуверенно ответил Макс. – Подсудимая Голопупенко, на следствии вы заявили, что передали ключи от квартиры Андреевой подсудимому Полозову. Вы подтверждаете свои показания? – спросил Силин. – Нет, – тихо ответила Наташа, потупив взгляд. – Значит ли это, что на следствии вы давали ложные показания, попросту говоря – лгали? Или вы лжете сейчас, выгораживая подсудимого Полозова? – чеканно спросил Силин. Он предвидел такой поворот: это был довольно распространенный метод в судебной практике, когда обвиняемый или свидетель отказывались от своих показаний, данных на предварительном следствии. Он даже предугадывал ее ответ, и был прав. Подсудимая, все так же потупив взгляд, сказала: – Это следователь все сочинил и дал мне подписать. – И вы подписали. Значит, вы были согласны с тем, что подписывали? – Я не читала, я просто расписалась, – после некоторой паузы ответила Голопупенко. Силин не сомневался, что подсудимая лжет, что на следствии она говорила правду, а теперь меняет свои показания по подсказке или под угрозой, переданной ей через адвоката. Он спросил: – Вы знали, что Полозов встречался с Соколовым и Андреевой на ее квартире? Видно, вопрос этот застал Наташу врасплох. Она растерянно переглянулась с Максом и не знала, что сказать. Силин напомнил: – Подсудимая Голопупенко, вы поняли мой вопрос? Отвечайте. – Он мне что-то говорил… Я не помню, – запинаясь, произнесла Наташа. – Полозов по вашей просьбе встречался с Андреевой и Соколовым? И снова после длительной паузы тягуче ответила Наташа: – Ну, я говорила… мы с Максом разговаривали… – О чем разговаривали? – Ну, что Соколов пристает ко мне. – Это у нее сорвалось непродуманно. Быстрый вопрос Силина: – Вы сожительствовали с Соколовым? – Ну, было… В самом начале… До Андреевой. – Вы ревновали к Андреевой? – Я ее ненавидела, – опять сорвалось у Наташи. – И решили отомстить ей и ее любовнику Соколову? – Макс хотел… припугнуть… – И попросил у вас ключи от квартиры Андреевой? – Никаких ключей я ему не давала, и он не просил у меня. У меня их и не было. Откуда? Похоже, она опомнилась и брала себя в руки. – Вы знали, каким образом Полозов хотел припугнуть, как вы выразились, Соколова и Андрееву? – Поговорить с ними. – То есть, пригрозить? – Ну, я не знаю. Задав еще несколько вопросов подсудимым, Силин предоставил слово обвинению и защите. Таня рассеянно слушала прокурора и адвоката: она думала о Евгении, о том, как подло он изменял ей и с Наташей и с Любой. «Почему? Чем я хуже их, в чем их превосходство?» – мысленно спрашивала она себя и не находила ответа, а втайне думала: неужто все дело в постели? в сексе? И в эти ее размышления врывались жесткие слова прокурора, убедительно доказывающие факт преднамеренного убийства, и требующего высшей меры наказания для Максима Полозова и пяти лет лишения свободы для соучастницы преступления Голопупенко. Прокурор высказывал подозрение, что Полозов принадлежит к преступной группе террористов, имена которых он отказывается назвать и тем самым усугубляет тяжесть своего преступления, что влечет за собой высшую меру наказания. Он как бы подсказывает обвиняемому: назови своих соучастников, и суд учтет это при определении приговора. Прокурор считал абсолютно доказанным, что Голопупенко выкрала у Андреевой ключи и передала их Полозову. Она знала, что ключи эти будут использованы в преступных целях, уж если и не для террористического акта, то для ограбления. Перед судом она неискренна и лжива, и своей преднамеренной ложью она пытается выгородить подсудимого Полозова, совершившего тягчайшее преступление. И в этом ее главная вина. Последние слова прокурора всколыхнули что-то в сознании Наташи, перевернули события и факты с головы на ноги. До нее дошло, что главное ее преступление не в том, что она выкрала ключи и передала их Полозову, совсем не думая, зачем они ему нужны. Главное же ее преступление заключается во лжи, в отказе от показания, данного на следствии. И за это ей сулят пять лет за колючей проволокой. И сердце ее запротестовало: «Нет! Нет, только не это!» И она уже не смогла сдерживать себя, обратив взгляд на судей, она в истерике воскликнула: – Нет! Я хочу сказать правду! Дайте мне слово. Зал затаил дыхание. Силин спокойно сказал: – Говорите. – Я лгала тут в суде. Это насчет ключей. А следователю я говорила правду и подписала. Я взяла у Андреевой ключи и передала Максу. Он у меня попросил. Я не знала, зачем нужны ему ключи. И всю антипатию, которую питала к Наташе Таня, как ветром сдуло. Чуткое сердце ее отличало правду от лжи, внутренне она негодовала, слушая ложь, она жаждала правды, и вот эта девчонка, испуганная, загнанная в угол лгунья, нашла в себе мужество сказать правду. И только за одно это Таня прощала ей все ее грехи. Таню, впервые присутствующую в суде, удивили выступления адвокатов, особенно защитника Полозова, вину которого он бездоказательно, голословно оспаривал. Мол, не доказано, что он имел ключи от квартиры Андреевой и, следовательно, не он подстроил взрыв. Адвокат Наташи характеризовал ее, как жертву ревности, и ее желание мстить сопернице и начальнику-вымогателю было вполне естественным и по-человечески оправданным. Что же касается ее отказа от прежних показаний, то объяснения ее вполне правдивы: девчонка была напугана следователем и в состоянии шока поставила свою подпись под протоколом допроса, не читая его и не думая о последствиях. Таким образом, он обвинял следователя в подлоге. Но неожиданный возглас Наташи «хочу сказать правду!» и ее новые показания, подтвердившие данные на следствии, спутали карты адвокатов и свели на нет все их и до того неубедительные аргументы. Таня внимательно наблюдала за Силиным. Его властный и вместе с тем спокойный голос решительно обрывал нелепую перепалку между прокурором и адвокатами, отметал или удовлетворял протесты сторон. Во всех его репликах чувствовалась беспристрастность, желание установить истину. Его выдержка, спокойная реакция на явную ложь и на увертки обвиняемых приятно радовали Таню. Она представляла, как трудно судье принять единственно правильное решение и не ошибиться: ведь речь идет о человеческих судьбах, о жизни и смерти. Она попыталась поставить себя на место судьи: как отнестись к показаниям подсудимых, к доводам прокурора и адвокатов, и в конце концов, кому верить? Трезво и взвешенно думал и Силин. Еще до выступления прокурора он был убежден, что субъектом террористического акта был только Соколов, – Андреева тут оказалась случайно. И мелочная месть «ревнивцев» тут была пришита белыми нитками: руководитель «Пресс-банка» был связан с мафиозной группой, они что-то не поделили, он отказался им платить и собирался вместе с любовницей укатить за границу. Но мафия следила за ним, разгадала его намерения и упредила, исполнив свою угрозу. Он так же не сомневался, что Полозов не одиночка, что за ним стоит какая-то группа преступников, которых он не выдаст. Он стоит перед выбором: выдать соучастников, значит, подписать себе смертный приговор. Тут никаких сомнений – в живых его они не оставят. Остается единственное – молчать и рассчитывать на снисходительность суда. Тем более он знал, что к высшей мере наказания наши суды прибегают очень осторожно. Силин не ожидал от Голопупенко ее внезапного прозрения, хотя и не видел в нем сверхъестественного поступка. Решившись на него, она едва ли понимала последствия. А они могут быть для нее трагическими: мафиози жестоки, мстительны и беспощадны. Он искренне пожалел ее и учтет это при вынесении приговора. В своем последнем слове Наташа сказала, что она раскаивается в своих действиях, она не думала, что передача ключей закончится такой страшной трагедией. Но всех присутствующих, исключая, пожалуй, Силина, удивило последнее слово Макса Полозова, который с дрожью в голосе сказал: – У меня единственная просьба к суду: пощадить Наташу, не наказывать, она ни в чем не виновата. Силин считал, что с этой просьбой Полозов обращается не к суду, а к своим соучастникам по криминальным деяниям. Именно их он просил пощадить Наташу. Если с Голопупенко у Константина Харитоновича не было проблем или сомнений в отношении приговора – и тут он нашел полное понимание со стороны заседателей, то вопрос о наказании Полозова вызвал в нем колебания. Он вспомнил митинги и пикеты обманутых и ограбленных клиентов «Пресс-банка», требующих возврата своих сбережений и наказания жуликов-авантюристов во главе с Соколовым. Но Соколов наказан, наказан жестоко и незаконно. Наказали его такие же, как и он, уголовники, живущие не в ладах с законом, сводя личные счеты. Они нарушили закон, совершив тягчайшее преступление, лишив жизни двух человек, и должны понести наказание, соответствующее содеянному. Силин был немилосерден к убийцам. Преднамеренное лишение человека жизни он считал самым страшным преступлением, заслуживающим высшей меры наказания. И никаких компромиссов он не признавал, исключая особые обстоятельства, смягчающие вину преступника. Никаких таких обстоятельств в деле Полозова он не находил. Но вот женщина-заседатель заколебалась: ее размягчило последнее слово Полозова, разжалобило – пожалел девушку, значит, совесть еще не вся потеряна, остатки ее пробудились в смертный час. Силин попробовал развеять колебания заседателя: не к суду Полозов обращался с просьбой, а к своим «коллегам», которых просил не убивать женщину, оказавшую ему услугу. Всю вину он взял на себя, ну и пусть понесет заслуженную кару. – Смягчающих вину обстоятельств нет, – убеждал Силин. – Убийцы должны помнить, что за загубленную жизнь они неминуемо заплатят собственной жизнью. Только так можно притормозить разгул тяжких преступлений. Суд вынес приговор: Полозова – к высшей мере наказания, к расстрелу, Голопупенко – к трем годам лишения свободы – условно. Таня с одобрением восприняла этот приговор. Она считала его беспристрастным и справедливым. «Вечером надо позвонить Константину и поделиться впечатлениями», – решила Таня.2
Силин возвращался из суда на служебной машине. В памяти его четко отпечатался образ Полозова, он как-то двоился: в начале судебного заседания Силин видел надменного, самоуверенного громилу с хищным блеском в прищуренных глазах, которые как бы гипнотизировали судей. В процессе же судебного разбирательства надменность во взгляде подсудимого постепенно таяла, а после речи прокурора, потребовавшего высшей меры наказания, и совсем исчезла с его смуглого лица. Теперь в его глазах заметались трусливые огоньки растерянности и страха. Это был уже другой Полозов, похожий на крысу, попавшуюся в железную западню. Но раскаяния в нем не наблюдалось, и это убеждало Силина в том, что перед ним неисправимый, профессионально-матерый убийца, жестокий и опасный для окружающих. «Такие не должны жить. Их надо не просто изолировать, а истреблять, как бешеных волков», – размышлял Константин Харитонович. Он знал, что приговор этот не обязательно будет приведен в исполнение: пойдет кассация в Верховный Суд, который может смягчить приговор – заменить «вышку» на пятнадцать лет строгой изоляции, а там, глядишь, лет через пять каким-то неведомым образом Полозов окажется на свободе. Силин попросил водителя высадить его у булочной, недалеко от дома: надо было купить хлеба и ванильных сухарей, любимых им и Олей. Сделав необходимые покупки, с улицы через арку большого дома он вышел во двор, где всегда стояло несколько автомашин. Напротив своего подъезда привычным взглядом охватил вишневого цвета «москвича», в салоне которого сидели двое мужчин – оба в темных очках. При его появлении мотор «москвича» заворчал, а из машины глухо прозвучали три выстрела, и «москвич», как спугнутая птица, рванул с места и, стремительно выскочив на улицу Королева, помчался в сторону проспекта Мира. Силин почувствовал толчок в спину и боль в левом предплечье. Он сразу понял, в чем дело, и не мешкая шагнул в подъезд к лифту. Оля была дома и, как только он ступил через порог, весело прощебетала: – Тебе сейчас звонила Татьяна Васильевна. Бледный, взволнованный, он молча передал дочери портфель с продуктами и быстро снял с себя пиджак. И тут Оля увидела кровавое пятно на рубашке и ужаснулась: – Что с тобой, папа? – Ничего страшного: в меня сейчас стреляли, но слава Богу, кажется, спас бронежилет. Силин быстро снял бронежилет, на матерчатой обшивке которого сразу же увидел две пулевые дырочки и нащупал две застрявшие между броней и обшивкой пули. – Вызови, пожалуйста, «скорую», – распорядился Силин и снял рубашку. Третья пуля попала в незащищенное жилетом место, прошла навылет в предплечье, не задев кости, поэтому острой боли Константин Харитонович не ощущал, но крови было много. До приезда «скорой» Оля перевязала рану, да так искусно, что приехавший врач похвалил ее. Силина увезли в институт имени Склифосовского. Уезжая, Константин Харитонович наказал дочери, кому позвонить и сообщить о случившемся, и под конец сказал: – Если будешь разговаривать с Татьяной Васильевной, объясни ей, что ранение легкое, и я думаю на днях буду уже дома. Навещать меня не надо. Если будет возможность, я позвоню. Добро? Будь умницей, не придавай значения, не принимай все близко к сердцу, но и не теряй бдительности. Проводив отца, по его просьбе Оля тотчас же позвонила в милицию, а потом Тане. Та была чрезвычайно встревожена и сказала, что она сейчас же придет в дом Силиных, чтоб подробно расспросить о случившемся. Получилось так, что и милиция и Таня прибыли одновременно, и Таня оказалась кстати. Она поведала сотрудникам милиции, что присутствовала на только что закончившемся судебном процессе, который вел Силин, о вынесенном преступнику смертном приговоре. Эту существенную деталь сотрудники милиции приняли к сведению, и по факту покушения на жизнь судьи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции тщательно осмотрели бронежилет, пули, окровавленную рубашку, и все это сложили в свою машину, однако уезжать не спешили: надо было опросить соседей, может, кто видел стрелявших или слышал выстрелы. Таких не оказалось. Но тут из соседнего подъезда вышел сухонький старичок с посошком и с клочком бумажки в руке и направился к милицейской машине, уже собравшейся отъезжать. Протягивая бумажку капитану милиции, хриплым голосом сказал: – Вот возьмите, может, вам пригодится. – Что это? – не понял капитан. – Номерок машины. Записал на всякий случай. Она, значит, долго тут стояла. Наверно, с час. Я из аптеки домой возвращался. Ну, тут аптека на углу, на Цандера. За лекарством ходил. Смотрю, стоит напротив того подъезда красный «москвичонок», незнакомый, чужой. Своих-то я знаю. А внутри двое мужиков, и оба в темных очках. Я и подумал: солнца нет, а они в темных очках. Сидят и молчат. Думаю, приятеля ждут. Поднялся я к себе, чай поставил, окно открыл. Смотрю – всё стоит. И те двое в очках не вылазят. Попил чайку, посмотрел в окно – стоит на месте. Туг у меня подозрение: зачем темные очки? Сами знаете, время какое – бандитское время. Я возьми да и запиши номерок, на всякий пожарный… Капитан поблагодарил старика, записал его фамилию и номер квартиры: это была важная ниточка для милиции, за нее с энтузиазмом и надеждой сразу же ухватились. Но ниточка оказалась непрочной, на другой же день и оборвалась. Владельца машины установили в тот же вечер. Но оказалось, что машину его угнали два дня тому назад, и она уже числиласьв розыске. Вскоре и ее обнаружили, припаркованную к дому в Банном переулке, целой и невредимой. Похоже, преступники воспользовались ею для разовой операции и, заметая следы, решили бросить ее. Побывал следователь и в больничной палате, расспросил о подробностях происшествия потерпевшего. Силин не питал особых иллюзий и не надеялся на быстрый успех в поиске террористов, но подсказал следователю, чтобы он связался со своим коллегой Фадеевым, который вел дело Полозова и Голопупенко, и попытался там поискать следы преступников. Лежа на больничной койке, он хладнокровно анализировал происшествие. Для него оно не было неожиданным. Он внушил себе неприятную мысль, что рано или поздно нечто подобное должно случиться: идет самая настоящая война с мафией, оккупировавшей страну, а на войне, как известно, стреляют, и он, как и тысячи солдат правоохранительных органов, находится на самом переднем крае этой войны, притом враги превосходят его в техническом оснащении – у них всевозможные виды современного оружия, рации, автомашины, бешеные деньги для подкупа влиятельных особ и хорошо поставленная служба информации. А у него на вооружении всего лишь бронежилет. Сегодня он спас его, возможно, по чистой случайности: преступники, очевидно, нервничали, потому, боясь промахнуться, стреляли не в голову, а в спину. А могли… Невольный холодок пробежал по сердцу. Его поражала оперативность преступников, их дерзкая наглость: небось, преднамеренно решили не откладывать акта мести за своего приятеля, а совершить возмездие в день вынесения приговора. Мол, вынесенный приговор еще неизвестно, будет ли приведен в исполнение, а мы свой приговор исполняем немедленно. Как урок и предупреждение для тебе подобных, для твоих коллег. Демонстрировали свою силу и власть. Он подумал: будет ли повторная попытка? В ближайшее время едва ли. А там – посмотрим, отступать он не намерен, как впрочем, и паниковать или изменять своим принципам быть беспощадным к рецидивистам. Однако постоянную тревогу и беспокойство вызывали в нем думы о безопасности дочери. Эти кровожадные, нравственно деградированные гады нередко наносят удары по своим жертвам через похищение и угрозы убийства их детей. А это самая чувствительная, самая страшная, самая болезненная пытка. Силин думал о Тане: как она отнесется к случившемуся с ним, испугается? А он так надеялся связать свою судьбу с ней. Она уже побывала под прицелом мафии: выстрел по их машине, убийство Соколова, и вот теперь это… Он пожалел, что просил Олю не навещать его, ему вдруг захотелось видеть их обеих. Но главное – Таню. Очень хотелось. Наверно, его сильное желание биотоками передалось им: на другой день под вечер они заявились обе, не сговариваясь, но почти одновременно – сначала пришла Оля, а через полчаса прямо с работы – Таня. Оля рассказала отцу о старике-соседе, который записал номер машины. – Их найдут, папа, обязательно найдут, – возбужденно убеждала Оля и продолжала: – А ты знаешь, как вел себя Амур? Это удивительно. Минут за десять до твоего появления в квартире он неожиданно вскочил на ноги, настороженно прислушался, глядя на дверь, потом заскулил, стал царапать дверь лапой, требовать, чтоб его выпустили. И наконец, начал громко, тревожно лаять. Понимаешь? Такого раньше за ним не водилось. Он никогда в квартире не лаял. Он предчувствовал опасность для тебя, он хотел предупредить, уберечь. Да, папа? Ты как думаешь? – Возможно. У многих животных хорошо развито предчувствие. – Амур скучает по тебе, нервничает. – Передай ему, что я скоро вернусь; через неделю обещают выписать. А мне так хочется скорей выбраться отсюда. – Он посмотрел на Таню такими откровенно влюбленными, тающими глазами, что она почувствовала себя неловко перед Олей. Он это понял и прибавил, отведя взгляд на дочь: – Перевязки меня здесь задерживают. – Эти процедуры мы могли бы и дома организовать, – сказала Таня, вопросительно посмотрев на Олю. И та с энтузиазмом отозвалась: – Конечно. Под вашим руководством. Согласен, папа? Мы с Татьяной Васильевной… «Как это мило, замечательно», – думал Силин, а вслух сказал: – Да когда ж Татьяне Васильевне. Она при деле. – Я врач, Константин Харитонович. Моя обязанность, долг, если хотите, исцелять больных и раненых. А свободного времени у меня достаточно. – Перевязки делают обычно сестры, а не врач, – очень мягко, ласково заметил он. – Сестры под руководством врачей, – бойко возразила Оля. – Я буду сестрой, а Татьяна Васильевна врач. – Вот и договорились. И никаких проблем, – решила Таня. Ей многое хотелось сказать Константину Харитоновичу – и о своих впечатлениях от суда, и о нем самом, и о своих чувствах к нему в связи с покушением, но это разговор не для постороннего уха. Излить свою душу она могла только наедине с ним. – И никаких проблем, – как бы размышляя повторил Силин Танины слова. – Есть только одна проблема – вот эта егоза. – Кивок в сторону Оли. – Ее беспечность. – Он хотел сказать «безопасность», но решил смягчить. – Бдительность, осторожность всегда надо иметь при себе. – А я имею. Вот, пожалуйста, – откликнулась Оля и мгновенно выхватила из сумочки баллончик со слезоточивым газом. – Не очень внушительно, но на худой конец… – проговорил Силин. – На безрыбье и рак – рыба. Впрочем, это устарело: раков сейчас днем с огнем не сыщешь. Ну, а вы, Татьяна Васильевна, чем вооружены? – Вообще-то таким же «раком». Хотя у меня более надежный – нервнопаралитический. – Да не беспокойся ты, папа: я и бдительна, и осторожна, и вооружена. Разве что бронежилета не хватает, – расхвасталась Оля. В палату вошла санитарка, пригласила на ужин. Силин занимал одноместную крохотную палату, где при двух посетителях уже было тесно. – Вам, наверно, скучно одному? – спросила Таня. В ее вопросе ему чудился желанный подтекст, он не сразу ответил. Наконец сказал: – Скука – понятие не однозначное. Ее иногда путают с одиночеством, но это разные понятия. Скука от безделья – это одно, тоска по другу – совсем другое. Вот только жаль, что вы не догадались принести мне книг. – Последней фразой он преднамеренно замял вопрос Тани. – Я думаю, это дело поправимое, – сказала Таня. – Я завтра принесу, – поспешила Оля. – Скажи, что тебе принести? – Прежде всего газеты: «Советскую Россию», «Правду», «Завтра», «Литературную Россию». И еще прихвати роман Петра Проскурина «Отречение». – А ты разве его не прочитал? – Только начал. Таня и Оля возвращались домой вместе в девятом троллейбусе. Оля была возбуждена, она говорила, не закрывая рта, рассказывала, как волновался Амур во время покушения на Силина. – Может, он выстрелы услышал? – предположила Таня. – Нет, нет, выстрелов никто в доме не слышал. Он чувствовал. Открытым доверчивым взглядом она глядела на Таню, и Таня поняла, что эта девочка в ней нуждается.3
Всего шесть дней пролежал Силин в больнице: рана его хорошо заживала, сказывался могучий, не расположенный к всевозможным хворям организм. Перевязку решили делать на дому. Раза два Таня после работы в поликлинике, не заходя домой, шла на квартиру Константина Харитоновича, и они вместе с Олей делали эту не столь мудреную процедуру. Во время этих посещений между ними происходили «нейтральные» разговоры, далеко не те, о чем хотелось бы им поговорить наедине. Присутствие Оли стесняло обоих. И однажды Силин сказал: – Я очень признателен вам Татьяна Васильевна, за хлопоты, но мне как-то неловко утруждать вас, отрывать от дома. – Моя помощь вас тяготит, вы это хотите сказать? – со своей неизменной дружеской улыбкой сказала Таня, сверкая насмешливо глазами. – Вовсе нет. Но у меня родилась идея: а не лучше ли мне самому ходить к вам домой на перевязку. Вы простите мою дерзость, но мне кажется, такой вариант будет удобным для нас обоих. Как вы считаете? Идея Тане пришлась по душе, и Силин в сопровождении Амура в приподнятом настроении шел в конце рабочего дня с улицы Королева на Первую Останкинскую. На квартире Тани в полном одиночестве они наслаждались интимными разговорами. Силин рассказывал много увлекательного из своей судебной практики. Таня слушала его с жадным интересом, ибо речь шла о судьбах людских. Когда пришло время снимать бинты, Силин пришел с бутылкой шампанского и с тортом: надо же было отметить его выздоровление и отблагодарить доктора за внимание и помощь. Был субботний день, и Константин Харитонович, на этот раз без Амура, пришел в полдень. Таня приготовила холодную закуску и пожарила импортные рыбные палочки. Силин, разлив по фужерам шампанское, произнес благодарственное слово по адресу милого, душевного, доброго доктора, который своей нежной теплотой способствовал быстрому заживлению раны. Между прочим он сообщил, что московским сыщикам удалось напасть на след покушавшихся, установить их имена – это были, как и предполагалось, сообщники Полозова по рэкету – матерые рецидивисты. К сожалению, задержать их не удалось, очевидно, «залегли на дно» или перебрались в ближнее, а, может, и дальнее зарубежье. Был объявлен розыск, на успех которого Силин не надеялся, но рассчитывал, что его теперь оставят в покое. Когда снова были наполнены фужеры, Таня, устремив на Силина теплый душевный взгляд, сказала: – Дорогой Константин Харитонович, я пью это игристое вино за вашу мечту, за ее осуществление. Я восхищена вашим мужеством, честностью и патриотизмом. – Спасибо, Татьяна Васильевна. Но мне с трудом верится, что ваше пожелание когда-нибудь сбудется. – Почему же? Любопытно, что за несбыточная мечта? Или это тайна? Не хотите ее открыть? Силин в смущении закрыл глаза. Потом поднял на нее как бы виноватый взгляд, решился: – Открою. Вам открою. Только прошу вас, не судите меня строго. – Он волновался, и это волнение, эти смущенные глаза, и весь облик его совсем не напоминали строгого и сильного судью, облаченного в черную мантию и восседающего на «троне» в зале суда. Дрогнувшим голосом он проговорил, не глядя на Таню: – Моя заветная мечта, милейшая Татьяна Васильевна, на веки вечные связать свою жизнь с вашей. Она не ожидала такого ответа, хотя в мыслях в последние дни и в бессонные ночи иногда тайком думала об этом. Лицо ее вспыхнуло, густые длинные ресницы смущенно затрепетали. Она растерянно молчала, и ее молчание приводило его в уныние. Наконец она спросила очень дружелюбно и тепло: – А вы уверены… в выборе? Мы так мало знакомы. Вы уверены, что я могу вам принести счастье, которого вы заслуживаете? Не скрою, вы мне нравитесь, даже больше, – призналась она очень спокойно. Таня ждала такого объяснения, она видела, что он неравнодушен к ней и, пожалуй, по-настоящему влюблен. – А я вас люблю, как никого в жизни не любил, – глухо, проникновенно прошептал он. – Вы моя единственная мечта и надежда. У нас много общего во взглядах, вкусах… – Вы хотите сказать «родство душ»? – Именно это, – с жаром подтвердил Силин. – Для полного счастья, пожалуй, маловато. – А что по-вашему, Татьяна Васильевна, нужно для полного счастья? – Зовите меня просто Таней. – Хорошо, очень рад. Ну тогда и вы меня без Харитоновича. – Не сразу, постепенно привыкну. – Вы не ответили на мой вопрос, – напомнил он, сдерживая волнение. Она это видела и думала: «Боже мой, такой сильный, основательный, на вид даже суровый, он дрожит, как влюбленный юноша». – Для полного счастья нужно не так уж много: любить и быть любимой, – ответила она, сверкнув горящими глазами, и продолжала: – Все остальное – достаток, тряпки, дачи, машины – они вторичны и без взаимной любви ничего не стоят. Поверьте, я убедилась в этом на собственном опыте. Силин слушал ее с замиранием сердца и пытался в ее словах найти ответ на волнующий его главный вопрос: а любит ли она его? Спросить напрямую не решался, однако помнил ее слова: «Вы мне нравитесь, даже больше». Что означает это «больше»? Во всяком случае, оно обнадеживало. Телефонный звонок прервал их такую важную, волнующую беседу. Звонил Василий Иванович. – Здравствуй, Танюша. Ты дома? А я из автомата, от ВДНХ. На митинге был. Хочу к тебе подойти. Иду. Тебе ничего не надо из продуктов? По пути могу захватить. Холодильник у Тани был полон. – Сейчас придет отец. Он с митинга. Расскажет. Он у меня активно политизирован, ни одного патриотического митинга не пропускает, – пояснила Таня. – Думаю, вы найдете с ним общий язык. Правда, он резковат, придерживается крайних взглядов и неисправимый сталинист. Заочно он вас знает: я ему рассказывала. – Таня давно хотела познакомить Силина с отцом и теперь была рада случаю. Она говорила ему и о суде, и о ранении Силина. – Ничего, поладим, – сказал Силин и подумал, как Василий Иванович посмотрит на их отношения с Таней: обычно родители в этом деле придирчивы и ревнивы. Таня поставила прибор для отца и водку: шампанским Василий Иванович пренебрегал. Прошло не больше десяти минут, как появился собственной персоной отставной полковник милиции. Он был слегка возбужден то ли от митинга, то ли от быстрой десятиминутной ходьбы. – Папа, у меня гость, – предупредила его еще в прихожей Таня, а когда Василий Иванович вошел в гостиную, представила: – Знакомьтесь – Константин Харитонович Силин, мой большой друг, судья и, можно сказать, именинник: мы сегодня сняли повязку с его раны. И вот по этому поводу решили… – Она не закончила фразу, улыбнулась. И Силин и полковник обратили внимание на ее слова: не просто «друг», а «большой друг». – По рассказам Тани я вас именно таким и представлял, – сказал полковник весело и приподнято. – Значит, рана залечена и вы снова в строю. – Выходит, так. Василий Иванович налил себе полную рюмку водки и, не садясь за стол, стоя произнес: – За ваше исцеление, за знакомство! – Он отпил половину, поставил рюмку на стол, торопливо прожевал кусочек ветчины и продолжал: – Я сейчас был на митинге. Сегодня целых три митинга: профсоюзы собрали беспартийных, коммунистов – Зюганов и «Трудовая Москва» Анпилова. Это все на одной площади, но с разными трибунами и с разными лозунгами. А на Лубянке митинговали демократические отбросы, или «выбросы», как они себя называют, разные «мемориалы». Одним словом, произраильско-проамериканская шваль, типа Новодворской. Кстати, народишку у них не густо, как впрочем и у профсоюзов. Они же, наши профсоюзы, всегда были лакеями при властях. Так и сохранили за собой эту должность. И вот это меня удивляет и возмущает: народ нищенствует, заводы закрываются, безработица, а они, видите ли, вне политики, как бараны идут за своими продажными лидерами. – Он говорил приподнято, возбужденно, ему хотелось излить свою душу тому, кто его понимал, хотя он мог и поспорить. Он взял бутылку шампанского, налил в фужер Силину, плеснул немного Тане, чокнулся – за Россию, за Советский Союз. – Силин одобрительно кивнул и сделал два глотка, а Василий Иванович, захватив инициативу, продолжил: – Самая мощная демонстрация была у коммунистов и по численности, и по содержанию. – Это у кого же: у Анпилова или Зюганова? – уточнил Силин, хотя и догадывался, кого имеет в виду полковник. – Да какой из Анпилова коммунист? – презрительно поморщился Василий Иванович. – Амбициозный мальчишка. Называется «Трудовая Россия» и «Трудовая Москва», а в рядах его одни старушенции да предпенсионные домохозяйки. Рабочих-то нет. И молодежи нет. Лозунги правильные, портреты Ленина и Сталина, красные знамена – это хорошо, я «за». Но зачем же отстраняться от коммунистов, от Зюганова? Это же общее дело, общие цели. Вы не согласны? – уставился на молчавшего Силина. – Конечно же, достойна сожаления разобщенность коммунистов, – проговорил Силин. – Все хотят быть лидерами, а данных для лидерства нет, у того же Анпилова. – А у Зюганова? Его же называют оппортунистом, – заметил Василий Иванович, – соглашателем. – Думаю, что это заблуждение. Он реалист, действия его достаточно взвешены. Он – лидер без всяких «но». Я так считаю. Теоретически подготовленный, твердый, решительный, но без экстремизма. – А на президента он потянул бы? – спросил Василий Иванович. Таня внимательно слушала, но пока молчала. – Вполне. – А мне кажется, отличный президент получился бы из Зорькина. Умный, спокойный, честный. Как он вел себя будучи председателем Конституционного суда – объективно, смело, по справедливости. – А я думаю, – нарушила молчание Таня, – что лучшим президентом был бы Николай Иванович Рыжков. Я за него голосовала. И если б его тогда избрали, сегодня не было той трагедии, в которую попала Россия по воле демократов. – Николай Иванович человек честный, порядочный, компетентный. Но у него есть одна серьезная слабость – приязнь к сионизму, – сказал Силин. – Он никогда не понимал и не поймет, что самый страшный враг России – это мировой сионизм и его «пятая колонна» внутри страны. Они, сионисты, разрушили Союз, уничтожили Советскую власть и установили в России сионистскую диктатуру. Посмотрите, кто сегодня правит Россией? Чубайсы, Лившицы, Козыревы, Гайдары, Наины, Черномырдины и целая свора американо-израильских советников и консультантов. Кто завладел народным имуществом, кто возглавляет банки, концерны? Все они же. Я убежден: сионизм – это раковая опухоль, и ее метастазы поражают прежде всего молодой организм, то есть молодежь. Таким образом уничтожается будущее нации. Наша молодежь беззащитна перед этой смертоносной заразой, для нее не существует проблемы сионизма, она ее не понимает. И в этом весь ужас положения. – Да, я с вами согласен, – сказал Василий Иванович. – Но причем тут Черномырдин? – А притом, что в беседе с израильским премьером он, Черномырдин, торжественно заявил, что его правительство уже подготовило программу борьбы с антисемитизмом, наподобие бухаринской. В стране нет антисемитизма, есть разнузданная русофобия. Но под флагом борьбы с антисемитизмом господин Черномырдин намерен чинить жесткую расправу с патриотами, с теми, кого сионисты называют «красно-коричневыми», фашистами. – С больной головы на здоровую, – энергично встрял Василий Иванович. – Фашисты они, сионисты. У них одна идеология – расовое превосходство, право владеть миром. Вот этот их «Мемориал», что это такое, объясните? – Вопрос был адресован Силину. – «Мемориал» – это еврейское сооружение в память их сородичей, палачей русского народа, которых Сталин разгромил и покарал в тридцатые годы. Это сборище внуков и правнуков троцкистов. – Вы мне, Константин Харитонович, открываете глаза, – проговорил полковник и, наполнив свою рюмку, пояснил: – Это последняя, моя норма. За Россию, за Советскую власть и Союз. – На этот раз он выпил залпом. Слегка закусив, продолжал: – Я о Черномырдине. Вот он какой, Виктор Степанович. То-то ему кричал нижегородский губернатор: «Давите их», то есть депутатов, патриотов. Видно, рыло в пуху. Помните, как он растерялся, когда в Думе его спросили, сколько имеет акций Нефтегазпрома? Не ответил, постеснялся. Видно, сумма не миллиардами исчисляется. Мм-да… – И вдруг вопрос: – А вы не знаете, кто такой Петр Романов? – Вы, конечно, имеете в виду не царя Петра Великого, а директора комбината? – Естественно, не царя. Хотя его кандидатура в президенты России тоже называлась. От коммунистов. – Я читал его книгу, – ответил Силин. – Чувствуется незаурядный ум и твердый характер, практик-профессионал и патриот. Вот вам и еще один лидер. Но, боюсь, что и его просионистское телевидение и пресса постараются вывалять в дерьме, как это в свое время делали с Рыжковым. А избиратель-обыватель своих мозгов не имеет. – Что будете, чай или кофе? – прервала их диалог Таня. Ей было приятно слушать разговор единомышленников. Оба согласились на чай, и она ушла на кухню. Какое-то время уныло молчали. Наконец Василий Иванович спросил: – Скажите, Константин Харитонович, что же дальше… с Россией? Или уже покончено? – Не совсем. Чубайс, конечно, со своей дьявольской приватизацией разорил экономику на долгие времена. Грачев разорил армию. Все это по плану Вашингтона и Тель-Авива. Но им пока что не удалось осуществить свою главную и последнюю цель – лишить нас ядерного потенциала. Потому и хотят отделить от министерства Генштаб, а министром поставить гражданского человека и обязательно своего, вроде Кокошина, чтоб легче было захватить или нейтрализовать ядерное оружие. Вот когда они достигнут этой цели, с Россией и вообще с русскими будет покончено и, возможно, навсегда. – Вы говорите страшные вещи. Этого не произойдет. Не могу поверить, – взволнованно сказал Василий Иванович. – Будем надеяться, что не произойдет. Таня принесла чай, весело спросила: – Ну как, все стратегические проблемы решили? – Всего лишь обсудили, – ответил Силин. Было уже поздно, и Таня предложила отцу остаться у нее заночевать. Он согласился. Прощаясь с Силиным в прихожей, Таня вполголоса сказала: – Звоните, заходите. Не теряйте надежды и верьте в свою мечту: мне она нравится. Она подтянулась на носках и поцеловала его в щеку. А он растроганно произнес: – Спасибо, дорогая Танечка, – впервые назвав ее по имени, и добавил: – У вас прекрасный отец. Когда отец и дочь остались одни, Таня спросила: – Ну, как тебе мой гость? – Ей очень хотелось знать мнение отца, которому она всегда доверяла. – Твой большой друг? – шутливо напомнил ее слова Василий Иванович. – Первое впечатление положительное. Мужик твердый, капитальный, со светлой головой. А в остальном, как говорится, надо пуд соли съесть. А У тебя что, на него серьезные виды? – У него на меня… Он сегодня сделал мне предложение. – И ты что ответила? – Пока решила повременить, разобраться. – Это верно, с таким делом спешить не следует. Хотя и тянуть волынку тоже ни к чему. Как я успел заметить, он тебя обожает. А как ты? Ты его любишь? – Мне он нравится. На фоне современных мужиков он – заметная личность во всех отношениях. – Даже «во всех»? Тогда, я думаю, дело идет к положительной развязке. – Василий Иванович легко вздохнул и, как бы размышляя вслух, продолжал: – Коль он сумел растопить твой душевный лед, значит у него доброе горячее сердце. Тебе уже не двадцать, а годы ой как быстро летят, как в той песне: «а годы летят, наши годы как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад». А может, и не надо оглядываться. Решай. Тебе решать – тебе жить.4
Знакомый адвокат предложил Силину два билета в Большой театр на сольный концерт обладателя великолепного баса Владимира Маторина. Сам адвокат по какой-то причине не смог пойти, и чтоб не пропадали билеты, решил услужить Константину Харитоновичу. Тот с благодарностью принял подарок – все-таки Большой театр, тем более концерт состоится в Бетховенском зале, в котором Силин никогда не был. Лишь однажды по телевидению он видел, как в Бетховенском зале Большого театра Ельцин собирал своих лакеев под маркой творческой интеллигенции, демократическую шваль, большинство из которых составляли представители «богоизбранного народа». Концерт приходился на субботу, и Таня с радостью согласилась пойти в театр. Был холодный осенний день, дул колючий, жесткий ветер. На девятом троллейбусе они доехали до конечной остановки – Детского мира, а там пешочком минут за семь добрались до Театральной площади. Небольшой, но уютный зал, вмещающий в себя три сотни зрителей, был заполнен до предела. Так как места в билетах не были указаны, Таня и Силин сели в третьем ряду, причем Константин Харитонович расположился у самой сцены, обтянутой вишневого цвета шелком, чтобы своей могучей фигурой не заслонять сцену от позади сидящих. Зрители, в основном люди среднего возраста, но были и пожилые и совсем немного молодежи. И все почтенные, даже добродушные, видно, искренние любители искусства и поклонники талантливого певца, звезды, так внезапно засверкавшей на вокальном небосклоне. Ни Силин, ни Таня до того ничего не знали об этом артисте, даже имени его не слышали – В. Маторин. Кто такой, откуда? В программе – арии из опер. В основном, Мусоргский. Силин давно не был в театрах вообще, а в Большом тем более, потому что попасть туда было не так просто. Таня, одетая в свое новое, нарядное платье, которое впервые надела в тот злопамятный вечер-банкет, когда обстреляли их машину, немножечко стеснялась своего богатого наряда. По скромным манерам и некричащим нарядам она догадывалась, что среди зрителей тут нет «новых русских»: классику, особенно отечественную они не приемлют. Силин шел на этот концерт с превеликой охотой и радостью, потому что с ним была любимая женщина, которую он теперь уже называл просто по имени: Таня, Танечка, Танюша. И вот вышел на сцену уверенной быстрой походкой богатырского телосложения человек с черной бородой и усами, с густыми, тщательно зачесанными, со стальным отливом черными волосами, полнолицый, с тихой, приветливой улыбкой добрых глаз. Взгляд Тани сосредоточен на нем: своей богатырской фигурой, скромной, доверчивой улыбкой и открытым взглядом он напоминал ей рядом сидящего Силина. Она не обратила внимания на концертмейстера, просто не заметила хрупкую, очаровательную, уже не молодую, но еще и не пожилую женщину, одетую скромно: черное платье с белым воротничком, потому что Таня не спускала глаз с певца. А Силин заметил концертмейстера и невольно сравнил ее с Таней, найдя между ними разительное сходство. Зал напряженно притих. И вот прозвучали первые аккорды рояля, вспугнувшие настороженную тишину, их подхватил могучий многокрасочный голос певца, стремительно, как водопад, хлынувший в зал, и дивное творение двух русских гениев – Пушкина и Мусоргского – арии из оперы «Борис Годунов» – колдовской силой пленили зрителей, врываясь в души, поднимали ответный ураган чувств. Гибкий, как ветер, то плавно журчащий ручьем, то вдруг взметенный вздыбленной волной, голос захватывал одновременно и сердце, и разум, и безраздельно овладел ими. И уже не Владимир Маторин, а Борис Годунов изливал свою черную преступную душу:Что за горизонтом?
Глава первая
Автор
В середине мая мой давнишний друг народный артист, мхатовец Егор Лукич Богородский пригласил меня на презентацию. Мне противно произносить это чужеродное дурацкое слово, как неприятно и само действо, которое оно выражает. Почему бы не сказать по-русски: представление или смотрины? Наш общий приятель живописец Игорь Ююкин написал портрет Богородского, приурочив его к предстоящему семидесятилетию артиста. И вот они, то есть Игорь и Егор Лукич, поддавшись моде, решили устроить презентацию этого портрета в мастерской художника. На смотрины Богородский пригласил минимально узкий круг гостей: меня и нашего общего друга поэта Виталия Воронина. Мы все четверо соседи по дачам, из одного подмосковного поселка, и видимся довольно часто. Я пришел в мастерскую последним: Виталий и Егор Лукич сидели за круглым столом, заставленным бутылками спиртного и нехитрыми закусками, а Игорь хлопотал у плиты на кухне, благоухающей жареной картошкой. Посредине просторной квадратной комнаты с окном во всю стену на мольберте возвышался закрытый холстиной предмет презентации. Вид у Богородского и Вороним был озабоченный, совсем не соответствующий торжеству момента. Похоже речь вели они все о том же – о судьбе России, распятой и разграбленной ельцинской шайкой реформаторов. – Почему пустые рюмки? – весело сказал я, здороваясь с артистом и поэтом. – Чего ждете? – Не чего, а кого, ваша милость. Изволите опаздывать, – дружески проворчал Богородский. Он сидел в большом старинном кресле, на спинке которого покоился его светло-серый пиджак. Сам артист, облаченный в коричневую рубаху и строгий галстук, выглядел торжественно нарядным. Высокий, подтянутый, круглолицый, с остатками седых волос, он казался моложе своих семидесяти лет, несмотря на суровое выражение васильковых глаз. Из кухни появился юркий возбужденный Ююкин и торжественно объявил: – Господа товарищи! Кворум, насколько я понимаю, есть, и мы можем начинать? – Он устремил быстрый озорной взгляд на Богородского, спросил: – Не возражаете, Лукич? К Богородскому мы все почему-то обращались по отчеству, словно у него имени совсем и не было. – Ты тут хозяин. Мы – гости. Тебе и командовать. – ответил Богородский и встал из-за стола. Поднялся и поэт. Все мы подошли к мольберту в ожидании ритуала презентации. – Надо было телевидение пригласить? – пошутил Виталий Воронин. Решительное здоровое лицо придавало ему энергичный вид. «Физиономии у нас не телевизионные, да и фамилии… не русскоязычные, – сказал Ююкин, блестя насмешливыми карими глазами. – Твоя-то вообще какая-то марсианская, – беззлобно уколол Воронин. – Рядом две гласных, да к тому еще «Ю». Одной хватило бы за глаза. А то сразу две. Зачем излишество? Одну можно сократить. – Художник не удостоил его ответом, проигнорировал. – Внимание! – объявил Ююкин и неторопливо снял холстину, совершая таинство. Мы смотрели на мольберт затаив дыхание. Я хорошо знал творчество Игоря Ююкина. Он успешно работал в пейзаже, в жанровой картине, и особенно силен был в портрете. Но то, что предстало сейчас перед нами, превзошло все мои ожидания. С холста на нас смотрели умные, совестливые глаза человека, умудренного опытом большой и сложной жизни, владеющего только ему известной тайной бытия человеческого. Смотрели открыто, доверчиво и в то же время с оттенком тревоги, с едва уловимой скорбью. В них было что-то притягательное, какая-то дерзкая самоуверенность и вместе с тем душевная теплота. Я невольно посмотрел на Лукича натурального, устремившего беспокойный взгляд на свой портрет и увидел в его глазах ту же тревогу, которую сумел уловить и передать на холсте одаренный живописец. – Ну, Игорь, ты сотворил на этот раз чудо, – не удержался я, сказав это совершенно искренне. И добавил: – В этих глазах ты раскрыл сокровенные тайны души. – А я в них увидел вековую скорбь, – негромко произнес Виталий Воронин. Гладкое, смугловатое лицо его сияло. – Да будет вам, сочинители, – с деланным упреком проворчал Лукич. – Сокровенные тайны, вековая скорбь – это вы в своих стихах и романах сочиняете. Думаете, так просто открыть сокровенную тайну души. Еще юный Лермонтов подметил: «А душу можно ль рассказать?» Выходит, нельзя. Ююкин безмолвствовал. Он пытал нас то любопытным, то требовательным взглядом, и особенно Лукича. Судя по умному, мягкому взгляду, которым Лукич скользил по своему портрету, он был доволен. Но иронический гибкий ум не позволял ему вслух выражать свое отношение. Он умел скрывать свои эмоции. Доволен остался и художник. Труд его мы оценили на пять с плюсом. И утвердили такую высокую оценку звоном бокалов стоя у портрета и сидя за столом. Обычно Лукич был равнодушен к спиртному, пил только хорошие вина, да и то понемногу: сделает один глоток и отставит бокал в сторону. Водку и даже коньяк он решительно отвергал. Но сегодня я его не узнавал, – он явно был в ударе, изменив своей привычке. Первый бокал демонстративно осушил до дна одним махом , и, похвалив вино (а это была ходовая «Монастырская изба»), попросил налить ему еще. Предложил тост за одаренного мастера – дважды повторив эти слова – Игоря Ююкина и снова выпил до дна. Он быстро хмелел, – это видно было по необычному блеску глаз и порозовевшему лицу. И как водится в наше сатанинское время, мы опять заговорили о неслыханных доселе преступлениях, творимых ельцинскими реформаторами, о море лицемерия и лжи, захлестнувшим Россию. И Лукич откликнулся монологом горьковского Сатина: – «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею». Произнеся эти вещие слова с артистическим блеском, он весь преобразился, помолодел. А Ююкин захлопал в ладоши и попросил: – Пожалуйста, Лукич, прочтите еще что-нибудь. Это же здорово, как будто о нашем времени. – Он смешно, по-детски таращил глаза на Богородского. – Классика не стареет, – заметил Воронин и прибавил: – То-то на Горького набросились нынешние демократы. Он им – кость в горле. – Виталий отличался категоричностью в суждениях, как все вспыльчивые натуры. – Зло расползлось по всей России, зло оказалось сильней добра, потому что добро не умеет себя защищать, – заговорил Ююкин, – добро оно добренькое, оно гуманное. Лукич посмотрел на художника с иронической ухмылкой, затем поднялся, выпрямился, высокий, элегантный, обвел нас пристальным взглядом, устремил глаза в дальний угол и заговорил театрально: – «Достопочтенные двуногие. Когда вы говорите, что за зло следует оплачивать добром, – вы ошибаетесь… За зло всегда платите сторицею зла! Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам! Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, – опрокиньте гору на голову его». Голос Лукича, чистый, мягкий, звучал молодо и грозно. И опять Ююкин не скрывал своего восхищения: – Необыкновенно! Сила и красота. Откуда это? – Тетерев. Из «Мещан», – поспешил поэт проявить свою осведомленность в литературе. Его открытый нетерпеливый взгляд и твердый, чисто выбритый подбородок нацелены на художника. – Только вот вопрос, – продолжал оживленно Ююкин, – как же совместить эти слова с Библией: возлюби врага своего, подставь другое ухо? Растолкуйте, Лукич. – А ты точно следуешь евангельским заветам? – иронически уставился на художника Богородский, приподняв густую жесткую бровь. – Стараюсь, – с ужимкой ответил Ююкин. – И десять Божьих заповедей помнишь? И приемлешь? – Приемлю. А то как же? Я верующий. – А как насчет прелюбодейства? – напирал Лукич. – Тут мне кажется у тебя нестыковка. – Почему нестыковка? – Ююкин сделал невинную позу. – Там как говорится: не пожелай жену ближнего своего. А о дальней ничего не сказано, значит можно. А если она пожелает меня, то и греха нет. Напротив, я иду на помощьжаждущим и страждущим. – Хитер ты, Игорек, прямо альтруист. И многих ты облагодетельствовал? – не унимался Богородский. – Да и у вас, Лукич, было много романов, – парировал Ююкин, озорно сверкая маленькими острыми глазками. – Романов… – пророкотал Богородский и плотнее устроился в кресле. Похоже его устраивал переход от политики на амурную тему. – Роман – это роман. А любовь – это любовь – чувство священное и неприкосновенное. Любовь – это талант, и он не каждому человеку дается Всевышним. У тебя талант живописца, у Виталия – поэта, у Ивана – прозаика. А дал ли Господь вам талант любви? Вот вопрос! По крайней мере, тебя, Игорек, он обделил, не удостоил, потому ты и принимаешь обычный, часто пошлый, роман за любовь. Ююкин не обижался, он привык к колкостям Богородского принимая их как шутку ворчливого дедушки. Лукича он уважал за искренность и доброту и высоко ценил его актерский талант. Их дачи были на одной улице, и они часто, особенно летом, встречались главным образом у Богородского. К Ююкиным Лукич заглядывал лишь по крайней нужде: он не терпел Игорева тестя – в прошлом мидовского работника, в ельцинские годы перешедшего в солидный бизнес. Не терпел за высокомерие и хамство, с каким тот относился к зятю и вообще к деятелям искусства, которых считал племенем ничтожным, а потому и бесполезным. Игорь Ююкин происходил из псковских крестьян, в Москве окончил Суриковский художественный институт, – учился в портретном классе Ильи Глазунова. На четвертом курсе познакомился с розовощекой насмешливой блондинкой Настей, веселой, общительной студенткой педагогического института, и не успел оглянуться, как очутился на даче ее родителей, которые в тот день пребывали в Москве, предоставив возможность юной парочке приятно провести время в интимной обстановке. Игорь тогда жил в общежитии и даже не мечтал в обозримом будущем обзавестись в Москве собственным углом. Склонная к полноте Настя не была красавицей, но ее веселый общительный нрав, слишком чувственный рот, непосредственность в поступках и живость характера слегка компенсировали неброскую внешность. Игорю с ней было хорошо особенно в первую ночь на двухэтажной даче со всеми удобствами, с газовым отоплением, ванной, водопроводом. Его удивляло множество комнат в основном здании да три комнаты в летнем домике-кухне. Поскольку Настя была единственной дочкой у родителя, то по подсчетам Игоря на каждого члена семьи приходилось по три комнаты. Будучи под хмельком и слушая прелестные излияния Насти о возможном их совместном будущем, он уже прикидывал, что одну из просторных комнат можно было бы приспособить под мастерскую. Для любого художника мастерская – это жизнь и мечта. Восторженная Настя не преминула сообщить, что московская квартира их из четырех комнат и что самая светлая и уютная комната принадлежит безраздельно ей. Намек был принят к сведению. Если судить по внешности, то Настя и Игорь не очень подходят друг другу, пожалуй совсем не подходят. Он стройный, высокий, гибкий в талии, худой и мелколицый, с упругой пружинистой походкой, она невысокого роста, пышногрудая, круглобедрая толстушка. Он по характеру покладист, спокоен, простодушен, с грубоватыми неуклюжими манерами. Она с неустойчивым переменным характером, как апрельская погода: то всплеск веселья и ласки, то взрыв беспочвенных претензий и властных, капризных требований. Покладистый характер Игоря, отсутствие твердых убеждений позволяли ему не обращать внимания на дурные инстинкты жены. Как бы то ни было, ему нравилось встречаться с Настей особенно на даче, где воздух чист, покой и уединение, где в промежутке между любовью и трапезой можно писать этюды, благо природа для пейзажиста здесь превосходная. Там же на даче Игорь начал писать на пленере портрет девушки освещенной солнцем, то-есть Насти. Время летело быстро, портрет почему-то давался туго, что-то в нем ускользало, не получалось, или получалось совсем не то, что хотелось. И во время одного из сеансов Настя объявила Игорю, что она беременна. К такому сообщению Игорь отнесся спокойно, даже с безразличием, словно его это никак не касалось. Тогда ему об отцовских обязанностях очень доходчиво, строго и внушительно растолковал будущий грозный тесть. Свадьбу сотворили в спешном порядке, ибо меньше чем через месяц после свадебных торжеств на белый свет появились два близнеца Ююкиных, два мальчика очень похожих на Игоря, о чем не уставала твердить весьма довольная зятем теща и бабушка. В виде приданного Игорь получил московскую прописку в просторной квартире тестя, мастерскую в столице, ту самую, в которой происходила презентация портрета Богородского. Кажется, он был доволен. Не очень заботясь о хлебе насущном, учитывая достаток тестя, писал заказные портреты «новых русских», которых рекомендовал ему тесть, обзавелся «иномаркой», два раза побывал на курортах экзотических стран. Нынешний летний отдых Ююкины решили провести не на море, а на реке, на матушке Волге, проплыть до Сталинграда, а обратно возвратиться в Москву на поезде или самолете. Идею путешествия по Волге предложил Лукич, он давно мечтал совершить такое турне по Волге со своей возлюбленной Альбиной, с которой его связывала целых десять лет негасимая, неземная любовь. Богородский родился в Саратове, там провел свое детство и юность, и живя в Москве, он грезил Волгой, погружаясь в воспоминания детства, она была притягательной звездой его души и юношеских грез. Решено было отправиться в турне вчетвером: Лукич с Альбиной и чета Ююкиных. Когда Игорь сказал жене об идее Богородского и что тот будет на теплоходе со своей возлюбленной, Настя, не раздумывая, согласилась составить компанию. Она не была знакома с Альбиной, но видела ее на даче Лукича, слышала о ней лестные слова от мужа, и чисто женское любопытство влекло ее к знакомству. Заранее были куплены билеты на теплоход, до отплытия оставалось меньше недели, и теперь, балагуря за столом о женщинах и любви, Ююкин решил напомнить Богородскому: – А вы не забыли, Лукич, о Волге? Приготовили чемоданы, все уложили? Эти, казалось, такие обычные и совсем не обязательные слова вдруг передернули, точно спугнули Богородского. Он занервничал, как-то поднапрягся, подтянулся, мрачно посмотрел на Игоря и властно попросил, протянув свой бокал: – Налей мне, да не вина, коньяка налей. – Мы с Игорем удивленно переглянулись. Что это? Шутка? А если всерьез, то с чего бы это? Лукич и коньяк – такого за долгие годы нашего знакомства и дружбы я не помню. Ююкин поднес бутылку коньяка к бокалу, прицелился, но наливать не стал, вопросительно уставившись на Богородского, удостоверился: – Вы всерьез, Лукич? – А я что? По-твоему я несерьезный человек! Ты знай свое дело, наливай. Наше дело пить, а твое наливать. Ты хозяин, мы гости. Ты обязан угощать. – Погоди, Игорь, – вмешался я. Поведение Богородского меня начало беспокоить. – Дай мне бутылку. Но не успел Игорь передать мне коньяк, как Богородский выдернул у него из рук бутылку и налил себе грамм пятьдесят. Поднял бокал, обвел нас возбужденным заговорщицким взглядом, сказал: – Ну, кто со мной? За Россию, за ее воскресенье и за погибель ее врагов! – И лихо осушил бокал. Поморщился, крякнул, похрустел огурцом. Задумчиво понурил взгляд, заговорил, делая паузу между словами. Эта манера говорить медленно, с паузами у него, как я заметил, появилась недавно, с год тому назад. – А с чемоданами, Игорек, случилась проблема. Да, ситуация. Че-пе, не ЧП, а нечто не предвиденное. Спутница моя исчезла… – Альбина? – ненужно уточнил Ююкин, изобразив на лице испуг и растерянность. – Что значит исчезла? – спросил я. – То-то и значит. Выходит, исчезла и любовь, – ответил Богородский, глядя на нас влажными хмельными глазами. – Бунин прав: «разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить». Камин у меня на даче, собаку, пожалуй, не плохо бы завести. Собака – верный друг, она не предаст и не изменит. Только мороки с ней много. Остается – пить. Да камин растопить. – Что за вздор – пить! От тебя ли слышу, Лукич? – сказал я. – Лучше поведай нам – друзьям своим тоску-кручинушку. Может и размыкаем. – И поведала Аринушка мне печаль свою великую, – продолжал Богородский некрасовской строкой, склонившись над столом. Возможно он раньше, когда завели речь о женщинах и любви, решил излить то, что накипело в его душе и потому для стимула принял коньяк. С его возлюбленной Альбиной я был знаком. Своими сердечными делами Лукич откровенно делился со мной. Последние тридцать лет его жизни проходили на моих глазах. Мы были единомышленниками, у нас не было друг от друга тайн. Он был одним из самых близких мне друзей. Его открытая душа, широкий самобытный ум и светлый артистический талант притягивали к себе людей. Но он не многим открывал себя настежь, утверждая, что человек похож на айсберг: лишь одна третья часть его открыта людям. Но сам он не был таким. Он не просто казался, он на самом деле был приветливым и общительным. За грубоватыми манерами его скрывался добрый, сердечный характер. С первой его женой я не был знаком, она погибла в автомобильной катастрофе, оставив ему семилетнего сына Василия. Он подполковник погранвойск, живет в Хабаровске. Есть и у него сын, то есть внук Лукича Артем – курсант высшего погранучилища, что в подмосковном городе Бабушкине. Вторую жену Лукича я знал. Это была смазливая, рафинированная и экзальтированная дамочка из породы тех, которые подвизаются на ниве культуры и мнят себя духовной элитой общества. Звали ее Эра. Брак их я считал случайным и заведомо недолговечным. Так оно и случилось: их совместная жизнь продолжалась меньше трех лет. Несовместимость их характеров, интересов и взглядов обнаружилась вскоре после женитьбы. Пылкая страсть обернулась непримиримой ненавистью, и Эра, скоропалительно, даже не расторгнув брака, укатила в Израиль, с ненавистью выдавив на прощанье злые слова: «В эту страну я никогда не вернусь». Богородский не совсем понимал, причем тут «эта» страна и чем она виновата перед Эрой. Допустим, виноват он, Егор Богородский. А страна? После разрыва со второй женой и ее отъездом в Израиль Богородский признавался мне, что Эру он никогда и не любил, что это была мимолетная вспышка страстей, зов плоти, в котором невероятную активность показала Эра, а он всего лишь не смел противиться и оказался пленником. Словом, его поженили. И вот теперь в мастерской Ююкина, говоря о любви, мы задели до предела натянутую душевную струну Богородского. Я знал Альбину, встречал ее и на даче Лукича и в его московской квартире. Это была молодая, но уже поседевшая женщина, стройная, хрупкая, с тонкими чертами лица, мягким певучим голосом и доброжелательным взглядом светло-голубых глаз. У нее был выразительный рот с алыми лепестками трепетных, словно жаждущих поцелуя, губ. Ее ласковый, скрытный характер и бледный цвет лица придавали особую прелесть этой незаурядной женщине. – Так что с Альбиной? спросил я. – Поведай нам свою печаль великую. – Женщины, любовь… Что вы понимаете? Это тайна, извечная драма души. После разрыва с Эрой к женщинам я относился с осторожностью, с опаской, обжегшись на молоке дул на воду. Были, конечно, непродолжительные связи, временные увлечения, как отклик на зов плоти, но настоящих, глубоких чувств, тех, что называют любовью, в которой есть гармония тела и духа, я не испытывал. Любовь в священном, божественном смысле этого слова. В наше нравственно порочное духовно растленное время под словом любовь подразумевают скотское совокупление. Ежедневно по телевидению мы слышим и видим, как он или она говорят: «Пойдем, позанимаемся любовью». И идут в постель, чтоб показать свою любовь миллионам телезрителей, старым и малым. А ведь этот акт, по любви или похоти всегда считался интимным, запретным для постороннего глаза. Это тайна двоих. Только животные делают это открыто. Истинной и светлой любовь бывает только у возлюбленных. Возлюбленная – это божество, или как сказал поэт, «небесное созданье», дороже и святей для нас нет ничего на свете. Это частица твоей души и твоего внутреннего мира, за нее идут на муки, унижение, на смерть. К сожалению, до пятидесяти лет я не знал такой любви. Потому что не встретил Ее, единственную, судьбой предназначенную. При желании я мог пользоваться успехом у женщин, – природа меня не обделила ни внешностью, ни талантом, говоря без ложной скромности. В театре мне сопутствовал успех. В сорок лет я уже имел титул Народного. Коронные роли мои были ЕгорБулычев и Сатин Горького, Вершинин и Лопахин Чехова, Годунов в «Царе Федоре Ивановиче». Он умолк, поднял глаза, протянул руку к бокалу, где на донышке оставалось немного вина, но только дотронулся, передумал, отодвинул бокал. По лицу его пробежал веселый лучик, глаза оживленно заблестели, и он продолжал уже потеплевшим голосом: – Через десять лет после разрыва с женой я совершенно случайно встретил ее – ту, которую называют единственной, Альбину, Алю, и она зажгла в моей душе огонь любви. Мне она казалась совершенством. Божеством, достойным восхищения и поклонения, и я восхищался и поклонялся ей. Мне было пятьдесят, ей тридцать пять, но эту разницу в возрасте мы совсем не ощущали. Она подкупала неподдельной скромностью и добротой. Она одарила меня лаской, нежностью и теплом, чего я был лишен прежде, даже состоя в браке. И в постели, или как сейчас говорят, в сексе у нас не было проблем. Но семьи мы с ней не создали, потому счастье наше было неполным. – А что мешало вам создать семью? – спросил Виталий Воронин. – Многое. Во-первых, у нее был муж и двое детей. Семейная жизнь, по ее признанию, у них не сложилась. Мужа она не любила. Он много и постоянно пил, а поддатый устраивал дома погром. Она готова была уйти от мужа-алкоголика. Но тут загвоздка с моей стороны: я не был разведен. Эра, то есть моя бывшая жена, уехала в Израиль, не дав мне развода. – А она, ну эта ваша возлюбленная, была тоже актрисой? – поинтересовался Воронин. – Аля работала в одном московском НИИ инженером. Мы встречались у меня дома, иногда на даче, довольно часто даже умудрялись во время ее отпуска выезжать на морские курорты. Для меня тут особых проблем не было, я – человек свободный, – а ей все это давалось не просто, приходилось изворачиваться, ловчить. Но я был счастлив. – А она? – опять полюбопытствовал поэт, проявляя свой пытливый нрав. – Она? – Богородский сделал паузу и, вздохнув, сказал: – Боюсь до полного счастья ей не хватило. Но мы любили друг друга искренней, нежной любовью. Она была искренно привязана ко мне. – Между вами была духовная близость? Она интересовалась твоим творчеством? – спросил я. – Она бывала на моих спектаклях, ценила меня как артиста. Но что бы такого духовного единства, слияния, то я бы не сказал. У нас разные характеры. Без слабостей и недостатков людей не бывает. Да сами-то недостатки и слабость – понятия относительные. Как обычаи и вкусы. То, что одному кажется недостатком, другому видится как достоинство, что для одного порок, для другого – добродетель. Идеалы, безгрешные существуют только в ваших сочинениях. В жизни их нет. Конечно, и у Альбины были свои слабости, капризы, да и особой внешностью она не блистала, хотя в общем симпатичная. Но это был мой идеал, и все в ней было для меня блистательно, и я считал ее несравненной красавицей, умницей и добродетельницей. – Почему ты говоришь о ней в прошедшем времени? Ее что – нет в живых? – спросил я. – Для меня ее нет. Лично для меня. Об этом после. Ты слушай и не перебивай, – и, перейдя на актерский тон, он заговорил словами Сатина, слегка перефразируя монолог. – Я сегодня добрый! Когда я пьян, я всегда добрый. А коль вы меня напоили, так извольте выслушать исповедь актера. «Вы знаете, почему в России много пьяниц? Потому что быть пьяницей удобно. Пьяниц у нас любят». Этот монолог он снова произнес приподнято, по-актерски и вопросительно посмотрел на поэта. – Тоже Тетерев, – догадался Воронин. А Богородский, прикрыв веками глаза, продолжал свою исповедь: – Да, мы были счастливы, и счастье наше продолжалось свыше десяти лет и казалось, конца ему не будет. Я, естественно, делал ей подарки, иногда дорогие, но чаще по мелочам. Она принимала спокойно, как нечто полагающееся, естественное. Скажу без хвастовства: я был щедр, потому что и зарабатывал в то время неплохо. Грех жаловаться. То было время… Кроме театра, я снимался в кино. Трижды в главных ролях. Жил скромно, но и не бедно, в достатке. Не шиковал. А много ли одинокому надо? Часто питался в трактирах, то есть, ресторанах. Между прочим, Алю я познакомил со всеми ресторанами Москвы. Тогдашними, советскими. Ей это нравилось. Наш любимый ресторан был «Будапешт». Он умолк, медленно прошелся по нам усталым, но возбужденным взглядом. Зрачки его глаз казались воспаленными. Выпил глоток воды и продолжал: – О нашей связи каким-то образом узнал ее муж, учинил ей скандал. В ответ она пригрозила разводом, чего он никак не хотел. Все же он, наверно, по-своему любил ее, и дал слово покончить с алкоголем. И слово свое сдержал, «завязал». Я об этом ничего не знал и был удивлен, когда она все реже стала появляться в моем доме. Ссылалась то на непомерную занятость на службе, то на разные семейные проблемы, конкретно о которых предпочитала не говорить, и нервничала, когда я пытался выяснить. Когда я предложил ей в этот летний сезон во время ее отпуска совершить турне на теплоходе по Волге, она охотно согласилась. Я сказал, что Игорь с женой хотят плыть по Волге. И это ее устраивало. Мы купили билеты. О чем я ее предупредил по телефону. Не встречались мы уже больше месяца и я просил о встрече. Она отвечала, что занята и говорила, что сама позвонит. Но не звонила. Я снова напоминал о себе, и она опять твердила, что позвонит, когда найдет время. В ее голосе я чувствовал сдержанное раздражение. Меня это настораживало. Я нервничал, злился и начал рыться в догадках: в чем дело? Явно что-то произошло. Но что именно, что за причина такого внезапного отчуждения? Почему бы не встретиться и выяснить все на чистоту, объясниться? Меня мучило недоброе предчувствие. Наедине с самим собой я часто вслух произносил ее имя, – оно срывалось с языка невольно, даже тогда, когда я думал не о ней. По ночам, страдая бессонницей, я мысленно перебирал все наши встречи. В памяти всплывали уже неповторимые эпизоды и картины. Домой ей не звонил, она не велела, потому что трубку всегда брал муж. Меня охватило чувство одиночества. Мне хотелось крикнуть ей строки из бунинского стихотворения: «Мне крикнуть хотелось вослед: „Воротись, я сроднился с тобой!“ но у женщины прошлого нет: разлюбила – и стал ей чужой». Меня даже подмывало послать ей письмо, составленное из есенинского «Письма к женщине»: «Простите мне… Я знаю, вы не та – живете вы с серьезным, умным мужем; что не нужна вам наша маета, и сам я вам ни капельки не нужен». Я зацепился за слово «не та». А какая? И почему не та, которую я знал и обожествлял десять с лишним лет, а другая? И когда же она стала другой? И тогда я стал выискивать ее слабости и недостатки, пытался посмотреть на нее другими глазами, сняв розовые очки. И увидел то, чего раньше не замечал, ослепленный безумной любовью. Нет, никаких пороков или изъянов в ней я не находил, – так, отдельные неприятные черточки и штрихи, от которых никто не застрахован. Но раньше я их не видел. В моих глазах она по-прежнему оставалась прекрасной, и осуждать ее у меня не было причин. Да, меня иногда огорчало, что она не проявляла особого интереса к моей профессии, к нашей театральной артисунческой жизни и смотрела на нее с недобрым предубеждением. Но я тоже не интересовался ее служебными делами, а если и слушал иногда ее рассказ, то больше из приличия, чтоб не обидеть ее. Если верить Бунину – разлюбила и стал ей чужой. Я не хотел этому верить. Я понимаю, вечная любовь – редкость, с этим приходится мириться. Она разлюбила, но я продолжал любить. Я с нетерпением ждал того дня, когда мы отправимся в турне по Волге, и день этот приближался, а она не давала о себе знать. Я волновался и позвонил ей домой. Она сама подошла к телефону и на мой вопрос о путешествии ответила: «Извини, я не смогу составить тебе компанию». Я сказал: «Давай встретимся, объяснишь?» «Сейчас не могу. Как-нибудь потом». Я чувствовал холод в ее голосе и это коварное «как-нибудь» и понял: все кончено, я потерял ее. Нет, хуже: я чувствовал себя так, словно меня обокрали, душу из меня вынули. Образовалась пустота. Вот и весь мой сказ. Наступила долгая, глухая пауза. Нарушил ее Ююкин. Он был искренне огорчен и растерян: – И как все это понимать? Выходит вы, Лукич, не едете? – Это почему я не еду? Напротив, я непременно поплыву. Вот только не хотелось бы терять ее билет. Может из вас кто пожелает? Иван или Виталий? – Я – пас, у меня весь месяц, да и все лето расписано, – сказал Воронин. – Ну что, Иван? – обратился ко мне Богородский. – Вспомним дни былые, нашу молодость. Поедем по изведанному однажды маршруту? Это было лет пятнадцать, а может и больше тому назад. Мы с Богородским уже плыли на теплоходе до Астрахани, а возвращались в Москву на самолете. Приятное было путешествие, оно вызвало добрые воспоминания, и я сказал: – Подумаю. – А чего думать? Плывем. Может найдешь материал для нового романа. – Тебе просто: ты свободная птица. А у меня семейные дела, проблемы, заботы. – У всех проблемы и заботы… Из Химкинского порта мы отчалили утром в середине июня. День обещал быть жарким, солнечным и тихим. На высоком, чистом небе от горизонта до горизонта ни единого облачка. Над спокойной водой, отражавшей небесную синь, в легком мареве струились и безмятежно трепетали жаркие солнечные лучи. Вокруг в небе и на земле простиралась благостная ширь и умиротворение, что уже само по себе создавало особый душевный настрой, – этакого сплава грусти и свободы. Справа по борту зеленели заливные луга, на которых паслись две коровы с теленком и несколько остриженных овец, слева на косогоре, усыпанном золотистыми одуванчиками, горбились с полдюжины убогих строений. Казалось, они медленно плывут в противоположную нашему курсу сторону. Ни одной живой человеческой души не было видно ни справа, ни слева. Мы с Лукичом, стояли у правого борта и, опершись на перила, созерцали зеленый простор. Пассажиров на палубе было не много. Они, так же как и мы, стояли по бортам, наслаждаясь природой. От воды исходила приятная свежесть, перемешанная с молодой зеленью земли. Словом, воздух был чист и прозрачен, как сказал Тургенев, и я решил поблагодарить Лукича: – Спасибо тебе, друг, что ты настоял и вытащил меня на этот простор. Здесь вольготно дышится и глаз радует. Я доволен. – Еще бы! Ты бы сказал: нет худа без добра. – Он вздохнул и взглянул на меня пристально и вопросительно. Взгляд его светился тоской. – Я не понял, растолкуй: для кого худо и для кого добро? – Для тебя, во всяком случае, добро, – наигранно холодно ответил он и выпрямился, подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами. – А худо, выходит, для тебя? Так, что ли? – Видишь ли, я не могу понять и потому не могу смириться, почему она так поступила со мной? Почему не захотела объясниться? В чем причина? – Он повернулся спиной к берегу. Голос его дрожал, как ослабленная струна. В нем пробудилось пылкое негодование. К нам подошел довольно улыбающийся Ююкин, расслабленный, блаженный: – Ну, что мужики, чего носы повесили? – Никто ничего не вешал, – недовольно буркнул Лукич, а я продолжал свой разговор: – А тебе так уж нужна ее причина? Ты ж сам сказал словами Бунина: разлюбила, и стал чужой. В этом и вся причина. – Ах, вот вы о чем, все о ней? – сообразил Игорь. – Да выбросите, Лукич, вы ее из своего сердца раз и навсегда. Она недостойна вас. – В том-то и дело, что достойна, потому и выбросить ее не просто, – напряженно произнес Богородский. – Недостойные – они на поверхности, их легко смахнуть. Дунул – и привет. А достойные – они вот здесь, глубоко, в самом сердце. – Лукич приложил руку к груди. – Нельзя, Игорек, зачеркнуть десять счастливых лет. Память она штука независимая, память и любовь. Как в народе говорили: любовь не картошка, не выбросишь в окошко. – А вы поройтесь в памяти, разберите свою любимую по косточкам и отыщите все ее пороки мнимые и подлинные, соедините в одну кучу и получится один большой порок. И вы поймете, что она недостойна, – весело наставлял Игорь. – Или влюбитесь. Клин клином. А? – Как у тебя все просто – клин клином. – Богородский уколол его ироническим взглядом. – Своим аршином меришь, натурщицами. Аля не чета твоим натурщицам. Она единственная из женщин, кого я любил. Такое бывает раз в жизни. Один единственный раз. – А что, Лукач, может Игорь и прав – клин клином. Влюбись. – Богородский посмотрел на меня пристально и недоверчиво. Я повторил: – А почему бы и нет? – В моем-то возрасте? И в кого? – Любви все возрасты покорны, – напомнил Игорь. – Да дело может и не в возрасте, – сказал Богородский. – Дело в том, что природа неправильно, не разумно распорядилась с человеком. – В каком смысле? Что ты имеешь в виду? – спросил я. – А в том, что старится плоть, а душа остается молодой. Разве это справедливо? – Душа не старится, потому она и бессмертна, – сказал я. – А я о чем говорю? – вновь заявил Игорь. – Если душа молода, то и люби покуда любится. – Кого? Вот вопрос. Допустим, встретил, влюбился. А она? Смешно даже мечтать. Тут с клиньями ничего не получится. А возврата к прошлому, к Альбине, нет. Во всяком случае, я ей никогда не позвоню. – А если она тебе позвонит? – сказал я. – Не позвонит. – А вдруг? Откликнешься на зов, пойдешь, и все начнется сначала. – Я испытывал противоречивые чувства. У них и до этого были размолвки, но потом все устраивалось. Я знал его пылкий, темпераментный характер и сильно развитую привязанность к Альбине. Не хотелось верить, что этот разрыв окончательный. А если, так, то он глубоко ранит тонкую душу Богородского. Я искренне сочувствовал ему, считался с его переживаниями. – Ты, Лукич, преувеличиваешь ее достоинства. Ты простил Альбину. Но она же, в сущности, предала тебя, – сказал я. – Ее можно понять. Стань на ее место… Или на мое. Любовь не стареет. Она всегда юная. Тебе этого не понять. У вас, писателей, в ваших сочинениях любовь не настоящая, придуманная. Настоящей любви вы не знаете, – ворчал Богородский, лукаво прищуривая голубые глаза и поводя седой бровью. Он говорил густым баритоном. – Но до Альбины у тебя была Эра. Тоже любовь. – То другое дело. Там была мимолетная страсть. Вспышка. – Получается: сколько женщин, столько и любовей, – весело подбросил Игорь. – А Есенин как говорил? Кто любил, тот полюбить не сможет. – Есенин поэт. А поэты часто говорят глупости, для рифмы, – ответил Богородский. – А ты знаешь, сам он сколько раз влюблялся, и кого только не боготворил. Поэтам по штату положено говорить о любви. И у всех одно и тоже. Возьми хоть Пушкина, хоть Лермонтова, Тютчева, Гете. У всех красивые слова. – Ну, хорошо, оставим поэтов, – сказал я. – Ты не ответил: а вдруг Альбина позвонит? – Не будет этого «вдруг», – с убежденностью сказал Богородский. – Ничего вы не знаете, – весело донимал Игорь. – И себя не знаете, все прибедняетесь. Выглядите вы молодцом. В театре любовников играете. Да на вас еще не то, что дамочки, девицы глаз кладут. – Театр – одна статья, а жизнь совсем другая. Да и в театре еще один сезон сыграю, отмечу свое семидесятилетие и на покой. – Какой покой, Лукич? О чем ты говоришь? Покой только снится, – сказал я, заметив, что к нам приближается плавной, мягкой походкой супруга Ююкина Настасья. Мужской разговор о делах сердечных не был предназначен для ее любопытных ушей. Я поспешил сменить тему разговора. – Коль вы взяли с собой инструменты, то естественно должен быть концерт. Наряженная в светлый, просторный балахон при непомерно широких рукавах, сшитый из легкой ткани и васильковую, до немыслимых пределов короткую юбку в обтяжку, и широкополую прозрачную шляпу, она шла к нам с восторженной улыбкой во все лицо и открытым беспечным ртом, что можно было принять за сексуальную озабоченность этой молодой, здоровой и самоуверенной женщины. В таком наряде при её-то толстых ягодицах и полных икрах коротких ног она имела экстравагантный, если не сказать пошловатый, пожалуй смешной, нелепый вид. Заметив ее, Лукич скорчил гримасу, и тут же прикрыв ее иронической улыбкой, с поддельной учтивостью сказал: – А вот и Настя на наше счастье. Вы, сударыня, смею заверить неотразимы в своем курортном наряде. – Вы, Егор Лукич, неисправимый насмешник. Но я вас прощаю, учитывая ваш возраст. – Какой возраст, что за чушь, – быстро вмешался Игорь. – Возраст самый что ни есть, можно сказать, возраст любви. Лукич вовсе не хотел уязвить Настю, он вообще к женщинам относился с трогательным почтением и утверждал, что плохих женщин в мире не бывает, а если и встречаются порочные, то в их пороках повинны мужчины. Он говорил, что женщина и природа – это самое прекрасное, что есть на планете Земля. Настя осмотрела нас с любопытством и подозрением и наигранно спросила: – Ну, о чем вы тут секретничаете? – О предстоящем концерте с вашем участием, – ответил я и подумал: «Чисто женская интуиция подсказала ей, о чем мы сейчас вели разговор. Удивительно». – А какое мое участие, в чем оно состоит? – с деланной учтивостью поинтересовалась Настя, щуря круглые глаза. – Вы будете петь под аккомпанемент вот этих двух маэстро. – Так. Значит, я солистка, они музыканты, ну а вы, господин писатель, в каком амплуа выступаете? – В амплуа благодарного зрителя. Я буду горячо хлопать в ладоши и неистово кричать «Браво!» У Богородского и Ююкина было свое хобби: музицировать. Лукич хорошо играл на гитаре, Игорь на балалайке. В дружеских компаниях на даче, особенно в летнее время, они составляли отменный дуэт: играли и пели, и естественно, как уж водится, перед этим пили. В путешествие они прихватили с собой гитару и балалайку, чтоб оживить наш отдых. Но музыкой мы решили заняться под вечер, на закате дня. А сейчас, когда солнце стало сильно припекать, хотелось спрятаться куда-нибудь в тень. И я ушел в каюту. Впереди предстояли длинные дни безделья. Их надо было как-то скоротать. С собой я взял две книги, но читать их мне не хотелось. Я не знал чем себя занять. В «блокноте писателя», который я с собой захватил, не было пока что ни одной строки, и откровенно говоря, не предвиделось. Болела душа, и болезнь эта была связана с общим положением в оккупированной сионистами стране, установивший свою диктатуру. Часто в пригородных электропоездах я прислушивался к разговору простых людей о том, что сотворили «демократы» с некогда великой державой – СССР. Люди возмущались, роптали, проклинали правительство, Ельцина, Горбачева. И самое обидное было то, что эти же нищие, голодные, ограбленные до ниточки голосовали за Ельцина и на последних выборах президента. Почему? Что это – затмение разума, зомбизм, необратимая умственная деградация? Я искал ответа, хотя он лежал на поверхности: привычка жить чужим умом, доверчивость и детская наивность, полное подчинение телеящику, отсутствие элементарного иммунитета к откровенной, циничной лжи. Однажды в электричке, слушая жалобы пожилой женщины о том, что даже хлеба не на что купить, я спросил: «А за кого ты голосовала?» И она так просто, без раскаяния ответила: «Да за Ельцина. А за кого ж еще». И мне хотелось ей бросить в лицо: «Ну и подыхай теперь, безмозглое животное!» Я понимаю, что грубо, что «безмозглое животное» не виновато, что мозги его вынули ловкие шулера, что ложь их хитроумна, изобретенная в специальных адских лабораториях, научно-исследовательских институтах, выверенная на новейших компьютерах, что народ наш, прежде, чем обобрать и унизить, лишили его главного иммунитета: чувства достоинства и национальной гордости, патриотизма, символа веры. Я мысленно искал выход из этого чудовищного тупика и не находил, утрачивал последнюю надежду. А без веры, без надежды жизнь становилась бессмысленной. Мои изобличительные романы и статьи не доходили до массового читателя, их читали каких-нибудь – в лучшем случае – сто тысяч человек, главным образом ветеранов, таких же, как я сам, хорошо понимающих, кто враг, но совершение бессильных что либо предпринять, чтоб изменить положение. Я согласился на это турне по Волге в надежде найти хоть на время душевный покой, но понял, что все напрасно: никакой теплоход не оградит от душевной боли. Конечно, там, в мастерской Ююкина, я был удивлен неожиданной, не присущей его характеру, откровенной исповеди своего друга Богородского. У нас не было тайн, мы доверительно относились друг с другом, я был посвящен в его сердечные дела, хорошо знал и понимал Альбину, не всегда разделял восторги Егора Лукича, ослепленного большой любовью, мне со стороны были видны и слабости Альбины, но я искренне радовался их любви. Изумило меня то, что в мастерской Ююкина Богородский нарушил свое правило и выпил сверх обычного и произнес свой монолог о любви в присутствии Игоря и Виталия. Обычно о своих чувствах он открывался только мне. И вдруг напоказ, на распашку выставил сокровенное. Значит, припекло. И уход Альбины, ее нежелание не только плыть вместе с ним по Волге, но и объясниться, не повлияло на его любовь к ней. Я понимал его состояние, знал его скрытую сентиментальность, легко ранимую натуру. Я знал, как много он сделал для Альбины, для ее детей. Фактически десять лет они жили, как муж и жена, и дети Альбины знали об их отношениях и занимали сторону матери. Егор Лукич для них был ближе и желанней родного отца. Богородский это знал и ценил. Он принадлежал к той породе людей, которые любят дарить ближним, не требуя ни благодарности, ни тем более наград. Он хорошо разбирался в людях и событиях, судил о них трезво и непредвзято и, насколько я помню, редко ошибался. И люди тянулись к нему, как тянуться к магниту рассыпанные гвозди. Но вот удивительно: я заметил, что возле него не было плохих, неискренних и нечестных людей. Душа его, полная любви и благоденствия, была всегда открыта для себе подобных. К полудню воздух нагрелся так, что термометр в тени показывал плюс двадцать восемь. Многие пассажиры загорали на палубе. В каюте было душно даже при открытом иллюминаторе. Богородский, обнаженный по пояс, сидел на палубе под навесом и своей соломенной шляпой, как веером, махал на вспотевшие лицо и грудь. Я подошел к нему в тот момент, когда он разговаривал с каким-то мужчиной, низкорослым, коренастым. Изборожденное морщинами его доброе лицо учтиво улыбалось, обнажив белые зубы. Завидя меня, Богородский призывно помахал мне рукой и лениво проговорил: – Проходи, садись. Тут хоть слегка продувает, – И, обращаясь к своему собеседнику, представил, назвав мое имя. – А это профессор из Твери. Мой старый поклонник. А я даже не знал. Вот оказывается… – Павел Федорович Малинин, – учтиво наклонил голову профессор и протянул мне руку. На вид ему было за шестьдесят, седые, довольно поредевшие волосы, серые, тихие глаза. – Профессор каких наук? – полюбопытствовал я. – Историк, – кратко ответил профессор и продолжал: – Мы с дочерью сели в Твери, плывем до Нижнего. Недавно по телевидению крутили старые советских времен фильмы, и там вот в главной роли Егор Лукич. Было очень приятно. Вся наша семья горячие поклонники таланта Егора Лукича. Я помню вас по МХАТу, Егор Булычев, какой образ! С кем сравнить? Вы, наверное, последний из могикан. – голос у него глубокий и приятный, полный благородства и учтивости. – Вот видишь, Лукич, тебя помнят, знают, а ты собираешься покинуть театр. Неразумно, – сказал я. – Что вы, разве можно? – воскликнул Малинки, глядя на Богородского долгим взором восхищения. – К сожалению, в последний раз в театре я был в советское время, где-то незадолго до горбачевской перестройки. А сейчас, откровенно говоря, не до зрелищ. – Да и смотреть нечего, – сказал Богородский и прикрыл шляпой свою тяжелую круглую голову и уперся в колени крупными, мягкими ладонями. – Нет театра, тем паче – кино. Все искусство угробили, похоронили израильские пришельцы, разные марки захаровы, любимовы и всякая бездарная шантрапа. – Круглое лицо Богородского скорчило презрительную гримасу, а раскатистый голос его и слова высек в глазах профессора немое удивление. Он растерянно, с оттенком смущения посмотрел на Богородского, потом перевел взгляд на меня и тихо спросил: – А он, что? Юрий Любимов – тоже? – Тоже, тоже, – подтвердил Богородский, – что и Марк Захаров, из одной стаи разрушителей прекрасного, достойные наследники и продолжатели гнусного маразматика Мейерхольда. Профессор робко подернул плечами, морщинистое смуглое лицо его выражало недоумение и озабоченность. – Вы не согласны с Егором Лукичом? – спросил я. – Не то что не согласен, – растерянно проговорил профессор, и странная улыбка сверкнула на его тонких, сухих губах. – Я просто не знал. Что касается Мейерхольда, то вы совершенно правы: это такой же разрушитель-реформатор, как нынешние Чубайс и Немцов. – Отлично сказано, Павел Федорович, – пробасил Богородский. – Дайте вашу руку. Удачное сравнение. С той только разницей, что Мейерхольд разрушал театр, а эти недоноски разрушают великую державу. А им усердно помогают шабес-гои типа Михаила Ульянова, Ефремова, братьев Михалковых, этих яблок-гимнюков, да еще бериевско-шеворнадьевского земляка Басилашвили. Я говорю о лакеях, русских по крови, но служащих оккупантам, то есть о предателях. Я вам так скажу, уважаемый профессор: чем глубже думаю над жизнью, наблюдаю за людьми, за их поведением, тем больше убеждаюсь, что из всех тварей рода человеческого, самая мерзкая и самая подлая – лакей. Никакая ядовитая змея, или чумная крыса не может сравниться по зловредности, гадости с лакеем. Это существо вне нации и расы, оно лишено чувства родины, идеала, красоты, порядочности, достоинства и чести, долга, совести, всего того, чем человек отличается от гниды. Лакей труслив, жесток, коварен, льстив, мелочен, жаден. Предел его желаний – собственное брюхо. Ради этого он зарежет свою мать, растлит дочь, будет служить кому угодно, хоть дьяволу. Сегодня оккупанты России готовят таких выродков из наших мальчишек. Богородский разволновался, на потном лице его выступили розовые пятна. Он достал платок и вытер лицо. Профессор Малинин осторожно спросил: – У вас дети есть, Егор Лукич? – Сын, подполковник-пограничник. На Дальнем Востоке служит, – тяжело дыша, ответил Лукич. – Внук – Артем. Здесь, под Москвой в Лосиноостровске, заканчивает Высшее военное училище погранвойск. Хороший парень, рассудительный, но многое не понимает в нашей подлой жизни. Верит ящику, лживой, оккупационной прессе. Как и миллионы других. – Я согласен с вами, уважаемый Егор Лукич, лакеи – это великое зло. Они переполнены ненавистью к своей стране. Чубайса, Немцова я еще могу понять, для них Россия – территория. Ну а Михаил Ульянов, Ефремов? Или тот же Солженицын. Он же сказал: «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская». Что же получается? Он не принадлежит к этой нации? Так выходит. – Выходит так: Солженицын, Солженицер, – согласился Богородский и прибавил: – Да его б за такие слова снова выдворить за океан. – Там он уже не нужен. Там он свои тридцать серебряников получил, – заметил я. – А теперь за такие слова и здесь получил серебряники от режима, – сказал Малинин. – Чин академика. – Да, удивительно, – сказал я. – Каким местом думали академики, голосуя за него? И не нашелся среди них хотя бы один честный, порядочный ученый патриот, который бы перед голосованием встал и огласил слова кандидата в академики о русском народе. Не нашлось. – Такие уж там академики, вроде Лихачева, – язвительно заметал Малинин. – Этот липовый патриот и профессиональный русофоб даже пытался оспорить, что река, по которой мы плывем, вот эта самая Волга-матушка и вовсе не русская река, потому как протекает она по землям, где живут не только русские. Профессор во мне вызвал симпатию своей провинциальной непосредственностью и неподдельной прямотой. Думаю, что такого же мнения был и Лукич. – Вот даже как?! – Богородский расправил широкие плечи и задвигался всем своим могучим корпусом. – А ведь из него телевидение делает икону. Па-три-от… Хотя, чему удивляться. Я так скажу: кого телевизор хвалит и постоянно рекламирует, считай, что это явный подлец. На экране господствуют лица еврейской национальности. Не просто евреи, а лица, то есть особые, сионизированные, имеющие какие-то заслуги перед их главным штабом. Скажем, заслуги в деле свержения советской власти. Вы обратили внимание, какие царственные похороны были устроены заурядным актерам Гердту и Никулину? Сверх царственные. Не то, что какому-то там маршалу Жукову или Рокоссовскому. Значит, одни служили России, другие Сиону. Голос Богородского приглушенно дрогнул и замолчал. Малинин горестно вздохнул и, выдержав паузу, заговорил, желая увести беседу в сторону от злободневной политики. – А скажите, Егор Лукич, все-таки есть еще, сохранились русские театры? Тот же ваш или Малый. – Как вы относитесь к Юрию Соломину? – Нормально. На нем и держится театр. – А что из себя представляет Валерий Золотухин? – Обыкновенный космополит в маске патриота, шабес-патриот, – небрежно бросил Богородский. – Теперь их много развесь таких патриотов, всеядных скотов, хоть в искусстве, хоть в политике. Целые лебяжьи стаи, во главе с рычащим генералом. Скажите, какой нормальный русский режиссер позволил бы себе ставить в театре обезьяний бред графомана Иосифа Бродского, который, между прочим, и сам не считает себя русским поэтом? – Очевидно, прельстила Нобелевская премия, – предположил Малинин. – Поддался коньюктуре. – Просто слакейничил, – поморщился Богородский, замотав тяжелой головой. – Что такое Нобелевская премия? Еврейская мастерская, где политические шулера играют в бесчестные игры, на потребу дня лепят пластилиновые фигуры гениев. Так были слеплены и Пастернак и Солженицын и десятки подобных Бродскому шарлатанов. – Конечно, Валерий Золотухин всеядный, вы правильно подметили, – со свойственной ему учтивостью сказал Малинин. – Но вот на режиссерской ниве, как мне кажется, и в театре, и в кино, пусто, глухо. Ушел из жизни великий СергейБондарчук, артист и режиссер. Равных ему нет. В театральном мире кроме Соломина и Дорониной да, пожалуй, питерского Горбачева я не вижу. – Вы, профессор, не только историк, но и театрал, – искренне польстил я. – Я нет, я просто рядовой любитель. Моя дочь Лариса, вот она – да, театральный фанат. Кстати, вот она идет к нам. Лара! – позвал он, замахав рукой энергично и торопливо. К нам подошла стройная с осиной талией девушка на вид лет двадцати пяти с улыбающимся овальным лицом, обрамленным волной густых, черных, со стальным отливом волос и мягким, скромным кивком головы поздоровалась с нами. – Моя дочь Лариса. Историк, преподаватель, – представил Малинин. – А это, Ларочка, выдающийся народный, подлинно народный, а не какой-нибудь Гафт, артист Егор Лукич Богородский. – Я узнала. – Бледное, еще не тронутое летним загаром, лицо девушки засветилось смущенной улыбкой, а в зелено-янтарных глазах засверкали огоньки неподдельной радости. – Я вас узнала. Недавно по телевидению шел советский фильм с вашим участием в главной роли. Голос у девушки высокий, густой и приятный. Взгляд загадочный, обаятельно-таинственный. – Я вас помню по театру, – продолжала девушка после некоторой паузы. – В годы своего студенчества в МГУ смотрела «Егора Булычева» и «На дне». Вы исполняли главные роли. – Она смотрела на Богородского со сдержанной улыбкой обожания открыто, без тени смущения. Внешне в ней не было ничего броского, все, что называется, в пределах нормы – тонкие черты строгого лица, длинные черные брови и длинные спокойные ресницы, небольшой рот и не очень трепетные губы, застенчивая и в то же время манящая улыбка. Вот это, последнее, и привлекало внимание, останавливало взгляд, заставляло присмотреться и увидеть то, что не сразу замечалось – ее глаза. Это были необыкновенные глаза молодой рыси. В них, как в зеркале, отражались характер и состояние души. Видно и Богородский обратил внимание на ее глаза. Он встал, выпрямился, расправил могучие плечи, выпятил круглую грудь и немного театрально пророкотал: – Благодарю вас, очаровательная сеньорита. – Он поклонился, приложив ладонь к сердцу, и смотрел на нее с застывшим вопросом. – Очевидно, Лариса смотрела не столько Егора Булычева, сколько Егора Богородского, – сорвалось у меня не очень уместно. – Лариса, в отличие от тебя, хорошо понимает, что эти два Егора неразделимы, – раскатисто парировал Лукич и принял вид человека, исполненного достоинства и простоты. Не каждый обращал внимание на ее глаза, не каждому они светились, но те, кто приметил их, уже не могли забыть. В них таился какой-то сложный сгусток чувств – тайная надежда и боль утраты, несбыточные желания и мечтательный порыв, ураган нерастраченных страстей и всепожирающий огонь вечно желанной любви. Эти глаза ранили тонкие чувственные и благородные натуры, манили и многообещающе влекли. Их миндальный разрез хранил нечто загадочное и непостижимое. – Мы, Ларочка, о театре говорили, – сказал Малинин. – Егор Лукич много интересного сообщил, о чем в нашей провинциальной и густо сионизированной Твери мы с тобой только догадывались. – А нам бы, уважаемый Павел Федорович и почтенная Лариса Павловна, хотелось бы послушать ваше просвещенное мнение, как профессионалов, что сегодня творится на фронте истории? – сказал Богородский, не сводя цепкого взгляда с Ларисы. – В истории еще хуже, чем в искусстве, – ответил Малинин. – Историю России нам теперь пишут иностранные шулера. Наши дети-школьники уже и не ведают, что была в семнадцатом Октябрьская революция что в двадцать втором был образован СССР. Им говорят, что вторую мировую войну развязал Сталин, что главные ее герои – Эйзенхауэр и Монтгомери. О Жукове, Рокоссовском ни слова. Такую «Новейшую историю XX века» сочинил некий господин Кредер. – Все понятно: гражданин Израиля, – хмуро и с раздражением пробурчал Богородский. Откуда-то появились разомлевшие от солнечных лучей Ююкины, и Настя, блестя вспотевшим лицом, весело прощебетала: – Господа товарищи, приглашают на обед. После обеда, разморенные духотой и пивом, мы с Богородским решили поспать и проснулись незадолго до ужина. За ужином мы распили припасенную Игорем бутылку болгарского коньяка, и я напомнил артисту и художнику, что их инструменты, – гитара и балалайка, пока что лежат в каютах невостребованными. – О!.. Совершенно верно – обещанный концерт! –восторженно воскликнула Настя. От коньяка ее возбужденное лицо покрылось багровыми пятнами. – Только при вашем активном участии, госпожа Настасья, – согласился Богородский и вполголоса пропел: – Эх, Настасья, ты Настасья, отворяй-ка ворота, отворяй-ка ворота, да встречай-ка молодца. Смотрю я на вас господа Ююкины, и думаю с белой завистью: привалило Игорю счастье – есть у него красавица Настя. Настя не считала себя красавицей, но и не обижалась на иронические колкости Лукича, ответила: – Только Игорь этого не понимает, все по сторонам глазами бегает, ищет какого-то другого счастья. – Да будет вам известно, милейшая Анастасия, что все женщины делятся на два сорта: на страстных и нежных, – сказал Богородский. – Так вы к какой категории относите себя? – Я? – Лживые глазки Насти заметались. – Я – к первой. – Следовательно, страстных, – подтвердил Богородский. – А Игорю, положим, больше подходят нежные. Вот он и зыркает по сторонам, ищет. По своему вкусу. А вы ему мешаете искать, вы навязываете ему свое, свои страсти. А он от них сыт по горло, ему подавай что послаще, потоньше. Ему нежность нужна. А вы ее дать не можете, потому, как у вас ее нет. Не наградил господь. Вот на этой почве и рушатся семьи. В Америке, по последним данным, разводится каждая вторая семья. – Ваша теория, Егор Лукич, неправильная и вредная, – решительно отчеканила Настя, и в глазах ее заметались колючие огоньки. – Вы все примеряете к своему опыту, вся ваша философия исходит от ваших личных семейных неудач. А ваши неудачи – это ваше личное дело, они от вашего характера. А он не мед, злой у вас характер, язвительный. – Согласен, абсолютно с вами согласен: язвительный у меня характер, и совсем не мед, не сахар, – добродушно заулыбался Богородский. Зная неуравновешенный характер Насти, он не хотел накалять напряжение. – Но что поделаешь? Характер он тоже от Бога. Его не поменяешь. Он дается на всю жизнь. Так частенько бывало на даче: подбрасывал Лукич соседке иронических язвительных колючек, но совершенно беззлобных, и когда в ответ на его колкости Настя начинала «заводиться», он тут же проявлял благодушие и миролюбиво отступал. Отступил и сейчас, тем более мы, то есть нас четверо, были настроены на «концерт». Когда после ужина пошли за инструментами, Ююкин шепнул Богородскому: – Не раскаляйте, Лукич, Настю: сегодня она не в духе. Она заподозрила мой интерес к профессоровой дочке и теперь неотступно бдит. – Вот как? Когда же ты успел проявить этот интерес? – А что – она симпатичная. Вы не находите? В ней что-то есть. – Ты уже успел разглядеть это «что-то»? – Пока что нет, но есть надежда. – Надейся. Надежда юношей питает, – сердито промчал Богородский, выразил этим свое неодобрение надеждам Игоря. И уходя в каюту, напомнил: – Не забывай, что Настя всегда настороже. Да и профессор… присматривает. Как бы не оказаться тебе за бортом… в прямом смысле. Это были слова ревности: Богородский и сам «положил глаз» на Ларису, и ему увиделось в этой девушке таинственное «что-то», как когда-то нашел он его в Альбине. Под вечер жара поубавилась, от воды потянуло прохладой. Пожар заката начал угасать, западный горизонт озарился ровным сиянием. И лишь окна прибрежных домов еще полыхали огнем уходящего солнца. Мы расселись на палубе под навесом. К нам присоединились и Малинины. Репертуар дуэта Богородский – Ююкин – был традиционно неизменным, хорошо обкатанным на дачах, – русский романс. Задорно смеялась и озорничала балалайка в руках Игоря, искрилась и заливалась то светлой, то грустной мелодией. Стонала и ныла гитара Лукича, то, протяжно вибрируя, тянулась куда-то ввысь и вдаль, то гулко падала и обрывалась. И не громко, но задушевно сливались сочный тенор художника и мягкий, ласкающий баритон артиста в один светлый поток мелодии. Временами в эту струю вливался не сильный, даже робкий, но приятный голосок Насти. Постепенно к нам подходили пассажиры, останавливались, слушали. Я наблюдал за Малиниными. Одухотворенное лицо профессора сияло радостью, а губы его шевелились в такт мелодии: он мысленно, без слов подпевал. Лицо же Ларисы мне показалось печальным с застывшей на нем улыбкой. Спокойные глаза ее из-под длинных ресниц были нацелены на Богородского, который уже давно заметил этот пристальный взгляд, но старался не подавать вида, точно боялся спугнуть его. И вот неожиданно их взгляды столкнулись и улыбка смущения обнажила крупные, белые зубы Ларисы, а Лукич отвел глаза. Кончив играть, он обратился к девушке: – Присоединяйтесь. Ведь вы поете, я знаю. – Почему вы знаете? – смутилась Лариса. – Догадываюсь. Интуиция. Ну, смелее, – очень ласково и тепло попросил Лукич. – Не стесняйтесь. Туг публика доброжелательна. – А вы сможете аккомпанировать? – Вдруг решилась она и посмотрела на отца. Тот одобрительно кивнул. – Вы что хотите петь? – спросил Лукич. – Романс «Не уходи». – Гм… Как там: «не уходи, побудь со мною». Так? – Я не знаю такого романса, – быстро вклинился Игорь. – А тебе и не надо знать, – лукаво улыбаясь, сказал Лукич. – «Не уходи» – касается не тебя. Ты лучше уходи и не мешай мне. Я попробую. А вдруг получится. Согласны? – Да, – тихо подтвердила Лариса и в совестливых глазах ее сверкнула печаль и беззащитность, в то же время энергичное лицо ее преисполнено спокойной уверенности. Она начала негромко, как бы нащупывая мелодию:
Глава вторая
Лукич
Поздно вечером в мою каюту постучала Настасья Ююкина и, приоткрыв дверь, медово прощебетала: – Можно к вам, Егор Лукич? Вы не спите? Я не спал, я думал о наших попутчиках Малининых, о неподдельных, кондовых патриотах из российской глубинки, о провинциальных интеллигентах, пекущихся о судьбе Отечества искренней и глубже ожиревших от равнодушия столичных интеллектуалов. Настя спугнула мои мысли, и я не очень любезно ответил: – Входите. Что стряслось? – Вид у нее был возбужденный. – Вы один? Я не помешала? – Она подозрительно обшарила торопливым взглядом каюту. – А кого бы вы хотели застать в моей берлоге? – Она слегка стушевалась, подернула плечами: – Ну, гости могли быть, эти профессор со своей дочкой. – Вот те на, – и ее интересуют Малинины, с какой стати? И уж конечно не профессор, а его очаровательная дочь. – К сожалению, они покинули наш корабль сразу после ужина: сошли в Нижнем, – ответил я. – И вы сожалеете, – не спросила, а подтвердила мои слова Настя. – Приятные люди, открытые, добрые, думающие, без мещанских комплексов, присущих москвичам, – сказал я с явным намеком, который она пропустила мимо ушей. – А мой не заходил? – поинтересовалась она довольно вяло, как бы между прочим. – Не удостоил, – ответил я и, вспомнив слова Игоря – «Настя бдит», прибавил: – Ревность, Настасья, – высшая стадия эгоизма. – А я думала, что ревность – признак любви, – возразила она. – Стародавнее заблуждение собственников, не понимающих высокого смысла любви. – А в чем же он состоит этот высокий смысл? – На этот счет существует множество мнений известных представителей рода человеческого. К примеру, поэт Гейне считал, что быть любимым и любить – это величайшее счастье. А другой немецкий поэт, Гете, утверждал, что любовь – это венец природы. А Тургенев говорил, что только любовь вызывает расцвет всего существа, какого не может дать ни что другое. Он даже утверждал, что любовь сильнее смерти. Любовь – поэзия и солнце жизни, – считал Белинский. – Ну, а вы, вы сами, как считаете? – перебила она. – Я считаю… Я согласен с предыдущими товарищами, – попытался шуткой отделаться, но она настаивала, и тогда я сказал: – Любовь – это пожар души, но не уничтожающий, а возвышающий. – А мой Игорь считает, что любовь – это стихийное бедствие, – сказала она. «Мой Игорь! Мы с Игорем напишем такую картину!» Эти ее восклицания всегда вызывали во мне нехорошую улыбку. Она была убеждена в своей причастности к таланту мужа, в своем соавторстве. Она считала, что без нее нет и не может быть художника Ююкина. Всем, что он создал, он обязан ей. Она, то есть ее состоятельный отец, создал материальную базу, нормальные условия для творчества. Не будь этой базы, Игорь не состоялся б как художник! Чепуха, не верю: Игорь несомненно талантлив. Просто трудней бы ему пришлось. А впрочем, кто знает. – А голос у нее так себе, ничего особенного, – вдруг сказала Настя. – Это у кого же? – попросил я уточнить, хотя и догадался. – Да у этой, как ее там – профессорши, Ларисы, что ли? – Приятный голос, вы напрасно. И сама она – прелесть – умная, скромная, без комплексов. – Интересно, когда вы это успели обнаружить ум? – игриво заметила она. – Для этого времени много и не надо: стоит только поговорить, и ум тотчас блеснет. Это дурака не сразу раскусишь. – Ну, не скажите: женщины умеют притворяться… умными, чтоб соблазнять вас, уж если не красотой, когда ее нет, то хоть видимостью ума. – Да вы, Настасья, похоже ревнуете, следовательно – грешите. Ревность – штука коварная: она из мухи делает слона и приносит страдания ревнивцу. – Она игриво запрокинула голову, приняв независимую позу и самодовольно заулыбалась. – С чего это вы взяли, Егор Лукич, что я ревную? И какой же в ревности грех? Ревность – чувство естественное. Даже животные ревнуют. Я по телеку видела, как из ревности дерутся лоси. Из-за лосих, конечно. – А ведь и вас, милейшая Анастасия, ревность ко мне привела. Да, да, не возражайте. Вы ищите Игоря, как не трудно догадаться. Не волнуйтесь, никуда он не денется. И в Нижнем он не сошел на берег, не переступил борт корабля. Он где-то здесь. Но если появится мне на глаза сегодня, обещаю вам немедленно выпроводить его по месту жительства, то есть – в вашу каюту. – Она поняла мой иронический монолог, дружески заулыбалась и, пожелав мне покойной ночи, оставила мою берлогу. Время приближалось к полуночи, я разделся, лег в постель, но спать не хотелось. Привыкший к одиночеству, я погрузился в думы, которые прервал неожиданный визит Насти. Только теперь я думал не о профессоре. Профессор мне был симпатичен, и этого довольно. Я думал о Ларисе. Мы простились у трапа. Я запомнил ее солнечную улыбку, сияние необыкновенных глаз, внезапный порыв и тайное смущение. Сколько часов мы провели вместе за откровенными, иногда интимными и задушевными разговорами. Казалось целую жизнь. О чем мы только не говорили. Она искренне призналась, что в студенческие годы была влюблена в Егора Булычева, что для нее оба Егора, то есть Булычев и Богородский, были неделимы. Она по-детски смущалась этого признания, на бледных щеках ее вспыхивал багрянец, ресницы трепетали, и она опускала глаза. Меня приятно поражало совпадение наших взглядов по всем, или почти по всем жизненно важным вопросам и проблемам, будь то политика, искусство или простой быт, взаимоотношение людей и даже любовь. Да, да, о любви №1 тоже говорили, естественно, в теоретическом плане. Несмотря на свою нежную душу и даже некоторую сентиментальность, она наделена твердым характером и убеждениями, которые умеет отстаивать и защищать. В ней есть все, из чего складывается характер – самоуверенность, властность, даже упрямство, апломб и тщеславие. Она высоко ставит авторитет своего отца, как ученого историка. Мы говорили о роли личности в истории и называли конкретные имена. Мне было приятно узнать, что мы оба оказались сталинистами, отдавали должное этому великому деятелю двадцатого века, государственнику и патриоту, и в то же время прямотаки ошарашила меня своим неприятием Ленина, с чем я никак не мог согласиться. «Это же Ленин навязал Конституции право наций на самоопределение, на суверенитеты, и в результате мы получили Чечню», – возмущалась она и прибавляла: «А Сталин, между прочим, был против». «Тогда почему же Сталин, придя к власти, не поправил Ленина?» Но она не ответила на прямой вопрос, она сказала о другом, что, очевидно больше всего ее волновало: «Ленин был в плену у евреев, потому что сам наполовину еврей. Вы же не станете отрицать, что при Ленине правительство новой России состояло сплошь из евреев или женатых на еврейках». Я не стал, конечно, отрицать, потому что говорила она правду, я только, между прочим, заметил: «Вы повторяете версию Владимира Солоухина». «Да какая ж это версия, – запальчиво возразила она. – Это факты. Списки ответственных работников всех государственных и партийных учреждений теперь опубликованы в патриотической печати и с ними может ознакомиться любой». Откровенно говоря, это радовало, потому что это были и мои мысли, мои убеждения, и мы в один голос сказали: нынешняя распятая и опозоренная Россия – дело рук международного сионизма. «Вы верите, что Россия поднимется и сбросит с себя, со своего тела, со своей земли этих тифозных тараканов и чумных крыс?» – с негодованием спрашивала она. «Хочется верить, – не очень твердо отвечал я. – В своей истории, а вы как историк, должны знать, Россия попадала и не в такие переплеты, но в конце концов, воскресала». «Да, я знаю историю, это моя профессия. Но такого, что твориться сегодня, не было. Такого всемирного, хитрого, коварного и жестокого врага, как нынешний, не было на Руси. По-моему России уготована судьба нынешней Греции: когда-то великая и процветающая, светоч цивилизации, культуры, оказалась на задворках истории. И это сделали евреи, захватив власть в стране и растоптав ее культуру, навязав свою псевдо культуру, а точнее, макулатуру». Она все больше возбуждалась, лицо ее сияло, глаза колюче искрились, и вся она напрягалась, сжималась как пружина, и вид ее в таком состоянии был еще прекраснее, чем в минуты спокойной беседы. Мне нравилось видеть ее именно такой, неистово возбужденной и, решив не терять нить беседы, я спросил: «И где же выход? Смириться с рабством, которое нам готовят еврейские банкиры вместе с американскими евреями – березовские, гусинские, соросы?» «Не знаю, – грустно обронила она. – Отец говорит: надо создавать партизанские отряды, вооружать народ, молодежь, которую лишили будущего». «Да ведь нет народа, – возразил я. – Есть биомасса безвольных, лишенных человеческого достоинства, трусливых, полудохлых, больных двуногих». Я сказал это с ожесточением, с гневом и чувством собственного бессилия, безверия и безнадежности. Она посмотрела на меня строго и требовательно. Лицо ее напряглось, брови сдвинулись. Сказала осуждающе: «Вы меня удивляете, Егор Лукич!» «Но это же прискорбная правда. Те, кого вы называете народом, безмолвствуют, вымирают, хоронят стариков и детей и терпят. Совсем не видят, куда идет страна, не понимают, кто ее губитель-враг. Огромными богатствами страны завладели в основном евреи, преступники-воры и вывезли капиталы в иностранные банки. Правительство еврейское. Чубайс, Немцов, Лифшиц, Есин, и им подобные, местечковая шпана, внуки палачей русского народа, которых Сталин покарал в предвоенные и первые послевоенные годы. Председатель Госкомимущества Максим Бойко, он же Шамберг – внук сиониста Лозовского, расстрелянного еще во времена Сталина за антигосударственную деятельность. А отец Максима Владимир Шамберг – ответственный сотрудник американской разведки. Все слилось-переплелось, все продано, отдано врагам России. Можно себе представить, как сын разведчика США Максим Шамберг-Бойко распродает государственное имущество и государственные секреты России. Воруют открыто, беспардонно, безбоязненно, зная, что их покрывает главный палач Ельцин, у которого руки по локоть в крови, ненормальное чудовище, лишенное элементарной совести и чести». «Выходит, отец прав: надо создавать партизанские отряды», – сказала она, и в голосе ее прозвучала неколебимая решимость взять хоть сейчас автомат Калашникова. «Вы мне напоминаете Зою Космодемьянскую», – ласково сказал я. В ответ она вспыхнула: «Настало время космодемьянских, матросовых, талалихиных, время героев. Раздумывать некогда завтра будет поздно… Если вообще уже не поздно», – последние слова она произнесла упавшим голосом. Я представил ее с автоматом в руках во главе молодежного отряда народных мстителей и сказал: «Слушая вас, глядя на вас, я думаю, что возрождение России начнется из провинции, из глубинки». «Опасное заблуждение. Провинция ничего не решает», – возразила она. «Но там есть трезво мыслящая патриотическая интеллигенция», – не согласился я. «Никакой трезвой интеллигенции там нет. Я сужу по своей Твери. Наша интеллигенция сионизирована. Она в плену еврейского телевидения и московских „комсомольцев“ и „комсомолок“. Она бездумно, рабски смотрит в рот московской русскоязычной интеллигенции, вашим маркзахаровым и лихачевым». «Лихачев не московский, он питерский, его Собчак сделал почетным гражданином Питера. А вы, ваш отец, разве не интеллигенция?» «Это исключение из правил: раз, два и обчелся. Добавьте еще профессора Владимира Юдина из Тверского университета, настоящего патриота, филолога, а еще двух-трех трезвомыслящих и перечтете их на пальцах одной руки. Нет, Егор Лукич, на провинцию не надейтесь, все решается в столице». Ее рассуждения не были лишены основания, и все же я возражал: «Но Тверь – это еще не российская глубинка. У Твери есть свое родовое пятно – холуйство. Оно тянется еще с царских времен. В московских трактирах половыми, то есть официантами работали тверяне. Полотенце через руку, и, „чего изволите? Слушаюсь“. Это холуйство вошло в гены и сохранилось до наших времен, как и купеческое прислужничество властям У нижегородцев, самарцев, саратовцев. За них думает власть и они голосуют за власть». «Вот вы и противоречите сами себе, – уличила она. – Разве Нижний, Самара, Саратов не российская глубинка? И чем они лучше, патриотичней Твери? Те же лакеи, отравленные телеядом, зараженные этим духовным СПИДом. Нет, Егор Лукич, гены и родовые пятна тут не при чем. Зараза, ее вирус, идет из Москвы, жирующей, довольной, что во время получают зарплату, пенсии. А что провинция голодает, вымирает Москве наплевать. Как-то по телевидению показывали концерт с участием одаренных, но больных детей. Конечно, это зрелище вызывало сострадание, боль. Но камеру все время наводили в зал, где сидела супруга Бориса Кровавого Наина Иосифовна. Оператор старался показать нам, как она артистически платочком выдавливала из себя слезу. На показ тверским и саратовским обывателям, смотрите, мол, как она переживает. А мне было противно и гадко ее лицедейство. Я подумала: стерва ты бессердечная, а почему же ты не позаботишься о тысячах, миллионах голодных, больных, бездомных детишек по всей России? Ненавижу. Она омерзительней горбачевской Райки, из которой крутили рекламные ролики». В каюте стало совсем темно, и в иллюминаторе не сверкали огоньки, только слышался заунывный, глухой стук машины. Мы плыли, очевидно, по средине реки вдали от берегов, на которых, возможно, и не было жилья с электричеством. И думы мои, как этот теплоход, так же плавно и неторопливо плыли, воскрешая в памяти эпизод за эпизодом. Эти приятные воспоминания куда-то оттеснили сон. Вчера она спросила меня об Игоре Ююкине, что он из себя представляет, как художник. «Способный живописец, – похвалил я. – Недавно закончил мой портрет и довольно удачный». «Этим он и прославится, – иронически сказала она и добавила: – Потомки будут говорить: Ююкин? А, это тот, что создал портрет великого Егора Богородского!» «Вы ошибаетесь, – возразил я. – В России великими бывают только евреи. Великий Мейерхольд! Великий Смактуновский, гениальные Гердт и Никулин. А почему вы спросили о Ююкине?» «Он предложил позировать ему для какого-то шедевра, где будет на фоне майского утра изображен один лишь персонаж – молодая женщина». «В обнаженном виде?» Лариса весело рассмеялась: «К счастью, нет, в легком прозрачном халате». «Ну, что ж, такой образ, бесспорно, обессмертит Игоря Ююкина. Мне с вами не под силу соревноваться». Потом я спросил Ларису, кого она считает идеалом, достойным подражания. И ответ ее поразил меня: «Иисуса Христа. Он коротко и просто определил смысл человеческой жизни – творить добро. В его заповедях, переданных им апостолами, заложен устав человеческого бытия. Если б человечество восприняло к действию все им заданное, наступило бы царство земное, и люди жили бы в мире, в любви счастливо и свободно». «И тогда не было бы ни ельциных, ни чубайсов, ни Гитлеров и прочей нечисти», – сказал я, как бы продолжая ее ответ. «Да, и была бы полная гармония любви», – подтвердила Лариса и, освещенное солнцем лицо ее озарилось счастливой блаженной улыбкой. И сама она вся, казалось, сияет счастьем и благостной верой. Я спросил ее: «Вы верующая?» «Да, истинно верующая», – ответила она, сделав ударение на «истинно». «И в храм ходите?» «Посещаю по большим православным праздникам». «Мне очень приятно, – искренне, а не в порядке комплимента, сказал я. – Очень хорошо, что молодежь стала обращаться к православию. Атеизм, кажется, отступил. Прошел этот дурман неверия». Она внимательно посмотрела на меня не то с сомнением, не то с непроизнесенным вслух вопросом, поправила крутую волну своих черных, густых волос и устремила взгляд на реку. Мне показалось, что она хотела что-то спросить, но не решилась. Тогда я сказал: «Вы хотели узнать мое отношение к религии? Так?» «Вы догадались. Но мне кажется – я знаю: вы верующий». «Да. Мой отец был протоиереем, то есть старшим священником. Даже митрофорным протоиреем, то есть ему позволялось вести службу в митре. Знаете, что такое митра?» Она кивнула и сказала: «Это такой нарядный головной убор». «А дед мой, по материнской линии, был архимандритом. Это последняя ступенька перед архиереем. Там уж идут епископ, архиепископ, митрополит». «Как интересно!» – восторженно воскликнула она, и в глазах ее забегали светлые огоньки какой-то детской радости, и вся она в этот миг показалась девчонкой, студенткой не старше первого курса. Тогда я решился: «Извините за нескромный вопрос: вы были замужем?» «Нет», – ответила она и подернула круглыми плечами. Мы стояли у борта, опершись на перила, и смотрели на берег. Она молчала и, как мне показалась, сдерживала вдруг возникшее напряжение. Вероятно, своим бестактным вопросом я задел ее чувственную, всегда туго натянутую душевную струну. Ведь я вызывал ее на откровенность. Как все замкнутые натуры, Лариса умела скрывать свои чувства. Но какой-то недобрый червячок искушал меня проникнуть в запретное, побольше узнать об этой девушке, наделенной какой-то притягательной неотразимой тайной. Меня подмывало спросить, сколько ей лет. Внешне она походила на студентку первого курса, а в действительности она уже читала лекции студентам. Я не хотел быть навязчивым и не решился спросить ее о возрасте. Но червячок– искуситель подтачивал меня, вызывая не просто любопытство, а нечто особенное, запрятанное в глубинах души. Необыкновенная сила обаяния этой юной девушки, ее внутренний огонь доставал меня и был очень желанным. Получилась продолжительная пауза, нарушить которую ни я, ни она первым не решались. Ее восприимчивый ум и чувственное сердце разгадали мои мысли. Насмешливая улыбка мелькнула на ее влажных, трепетных губах, и она спросила: «Ну, что ж вы замолчали? Спрашивайте дальше: почему не замужем? Дожила до тридцати лет, а замужем так и не побывала. Или это праздный вопрос? Не вышла, значит не берут. Так по-вашему получается?» – В голосе ее звучала язвительная жесткость, а в глазах мерцала игривая беспечность. «По-нашему совсем не так получается», – сказал я. «А как же?» «По-нашему получается, что на своем жизненном пути вы не встретили достойного вас человека. И не влюбились. А без любви, такие, как вы, замуж не выходят». Она резко вскинула голову и с любопытством посмотрела на меня в упор. Спросила: «Почему вы так думаете? А вот и неправда. Влюблялась. Всего один раз. В первый и последний». Эта детская запальчивость заставила меня рассмеяться. А она продолжала: «И что значит, такая, как я? А какая я? Откуда вам знать, когда я сама не знаю или не понимаю, какая я?» Инстинкт подсознательно заставлял ее вооружаться. И хотя не в ее характере было выставлять на показ свои чувства, ее прямота нарушила эту заповедь. «Вы лукавите, очаровательная Лариса Павловна, – сказал я. – Вы отлично себя знаете, и знаете, чего хотите. И я, имея за плечами не малый жизненный опыт, понимаю вас и очень хочу получше узнать вас». «Зачем?» – резко, как выстрел спросила она, глядя на меня прямо и требовательно. «Зачем? А затем, что, по первым впечатлениям, вы человек особенный, необыкновенный. И мечтаете встретить в жизни себе подобного. А тот, в которого вы в юности были влюблены, как вы лазали, в первый, но извините, в это я не поверю, и в последний раз, оказался недостойным вашей любви. Он обманул ваши ожидания и надежды. В юности такое часто случается. Настоящей любви вы еще не испытали. Настоящая любовь – штука редкая, она доступна только глубоким натурам. А вы, по-моему, из них. Я редко ошибаюсь в людях». «Я считаю, что из всех ошибок, присущих человеку, самая печальная – ошибиться в любви, – заговорила она рассудочно. – Любовь – это нечто среднее между колдовством и гипнозом, когда предмет любви кажется в преувеличенном, розовом свете. А как только гипноз перестает действовать, наступает отрезвление, разочарование, безразличие к только что обожаемому. И все, и нет любви. Была, да сплыла, вон, как тот целлофановый пакет, который по ненадобности, кто-то выбросил в Волгу. Как Степан Разин персидскую княжну». По лицу ее пробежала страдальческая тень, а глаза жестоко сощурились, глядя на плывущий целлофановый пакет. Потом она выпрямилась, стройная, красивая, легкая, кремовая кофточка, плотно облегавшая ее тело, тонкими изящными линиями обрисовала не очень крупные, тугие груди. Все в ней дышало ароматом свежести и здорового молодого тела. Задумчиво глядя в даль синеющего лесом Заволжья, она сказала: «А может наши мечты об идеале всего лишь иллюзии? Может идеальных людей в действительности и вовсе не бывает. Как вы думаете со своим богатым житейским опытом? Что вы больше всего цените в человеке?» Ее вопрос не застал меня врасплох: я сам не раз задавал его себе. Мне даже было приятно на него отвечать. И я сказал: «Главное в человеке – его душа, красота и богатство ее, возвышенность и величие. Тут и любовь, и жажда правды, справедливости, желание делать людям добро, самопожертвование, мужество, чувство собственного достоинства и долга. И главное – любовь. Она делает человека прекрасным. Вы обратили внимание: все влюбленные прекрасны?» …Дивные воспоминания куда-то угнали сон. Но что это со мной? Что-то необычное и незнакомое или давно позабытое пробудилось во мне и осветило, обновило душу и будоражило мысль. И в чем состоит притягательная колдовская сила этой тридцатилетней юной душой девушки по имени Лариса, которая появилась на теплоходе так неожиданно, как неожиданно оставила его борт? Поражает меня то, что не смотря на большую, можно сказать, предельную возрастную разницу, мы были на равных, совершенно не чувствовалась разница лет. Наверно, в какой-то мере, сказывался ее широкий взгляд на историю, на текущие события и на людей. Неужто Игорь Ююкин прав: клин клином вышибают? Ведь за все это врмя я ни разу не вспомнил об Альбине. Я посмотрел на часы – было начало третьего – и вышел на палубу. На востоке проклевывался рассвет. Звезды уже погасли, и лишь одна, как поставленная на дежурство, продолжала бриллиантово сверкать. Глядя на нее, я думал о Ларисе: может это ее звезда… или моя? Спугнутая с палубы красавица чайка взлетела, что-то прокричав, и скрылась за бортом, помахав мне крепкими упругими крыльями. По-гречески Чайка – Лариса. Может эта чайка – доверенная Ларисы и подосланная ею на палубу теплохода слушать мои мысли. Утренняя свежесть приятно бодрила. Улетела чайка, унесла мои воспоминания, и ко мне вернулся сон. Я помнил, что прощаясь с Ларисой, дал ей свою визитную карточку со своими телефоном и адресом, записал ее тверской адрес и телефон и пригласил ее на свой юбилейный спектакль, который должен состояться в сентябре. Разбудил меня стук в дверь. Я проспал завтрак, об этом мне объявил Игорь. Он зашел «поговорить по душам» с бутылкой португальского полусладкого вина. Я сразу дал отбой, заявив решительно: – С утра не употребляю. – Да что вы за мужики – писатели, артисты? Один орет: с утра не принимаю, другой: с утра не употребляю. Вы что, при исполнении служебных обязанностей? Мы на отдыхе, и для организма нет никакой разницы – утро, вечер, ночь. Давайте сосуды. – Он ловко отвинтил пробку. – А между прочим, ночью Настя тебя искала, – сказал я. – И пришел ты ко мне только потому, что у себя в каюте Настасья не позволит. – Естественно, – согласился Игорь, – и еще потому, что в одиночестве пить нецивилизованно. Это удел алкашей. Я же не алкаш. Как вы считаете? – Он наполнил стакан и попросил второй. – Пока ты не алкаш, но в перспективе… – Он наполнил второй стакан и спросил: – Значит и к вам заглянула? – Кого ты имеешь в виду? – ненужно переспросил я. – Естественно, не Ларису, – ответил он и лукаво улыбнулся. Затем поднял стакан, состроил торжественно-бравый вид, провозгласил: – У меня тост! За здоровье и процветание прекрасной Ларисы, которая помогла вам скоротать одиночество и отвлекла вас от тягостных дум об Альбине. Любопытно: за все время пребывания на теплоходе, а точнее после встречи с Ларисой, я ни разу не вспомнил об Альбине. Ну, что ж, тост мне пришелся по душе, ради него можно позволить себе и с утра. Игорь выпил полстакана, провел тыльной стороной ладони по влажным губам и, похвалив вино, поставил стакан. Не глядя на меня, заговорил, словно размышляя сам с собой: – А она стоящая, вообще характер есть. Ее интересно писать. – Понятно, что речь шла о Ларисе. Я смолчал, а он допил вино, наполнил снова стакан и продолжал, преднамеренно не называя имени Ларисы: – Будет позировать. – Сама напросилась? – не без подначки сказал я. – Обещала, – обронил он и, стукнув своим полным стаканом об мой стакан, буркнул: – За успехи. – Какие и чьи успехи имелись в виду, я не понял. – Каким же образом она будет тебе позировать? Наездами из Твери или временно поселится в твоей мастерской? – Игорь с лукавинкой в глазах сверкнул на меня и ответил: – Там посмотрим. – Конечно, это будет не просто портрет незнакомки, а жанровый шедевр, – продолжал я безобидно подкалывать. – Или просто девушка, освещенная солнцем или девочка с персиками? Чем Ююкин хуже Серова? – Он скривил влажные от вина губы в улыбку, но промолчал. А я все продолжал: – Значит, ты положил на Ларису глаз? – После вас, – съязвил он. – Я наблюдал за вами. Вы хорошо смотрелись, красиво. Да-да, я серьезно: импозантно смотрелись, молодцом. Преобразились, воспряли, даже помолодели. От нее на вас исходила благотворная аура. Она, аура эта, стариков молодит. Не омолаживает, а молодит, – ехидно уколол Игорь, ожидая от меня наигранного возмущения: мол, о каком старике ты болтаешь? Но на этот раз я не поддался на его крючок. Я спросил: – А на юнцов, вроде тебя, тоже действует? – Поджигает, накаляет до бела, – согласился он. – Ты будь осторожен: так и сжечь может. – А что сказал Есенин по этому поводу? Кто сгорел, того не подожжешь. Так что вас не подожжешь, вы сгорели на Альбине. – Опять шпилька. Мы с ним часто так пикировались. И я ответил: – Да будет тебе, юнец, известно: я горел, но не сгорел. – Ну, так испылать вам. – Он налил вина в свой стакан и протянул бутылку к моему, но я его остановил: – Мне не наливай. Остаток допью до дна за Ларису, и точка: до самой Москвы карантин объявляю, диета. Так что в компаньоны пригласи писателя. – Он не может. Стакан взять не может, потому, как руки заняты: в одной – карандаш, в другой – тетрадь. – А-а, понятно, творит. Тогда не мешай. Он роман пишет. Говорил – последний роман. И грозился нас с тобой вывести… на чистую воду. – Это как? Живьем? Под нашими именами? – всерьез принял Игорь. – Фамилии можно и заменить, – сказал я. – Тебя-то куда с такой фамилией – полукитайская, полумарсианская. Выбросит одно «Ю», как ненужный аппендикс, и будет нормально – Юкин. – А вас так и нарисует – Богородский? – Ну, это не проблема. Фамилию придумает. Ты вот что скажи мне: кто из современных здравствующих художников по-настоящему большой, достойный школы великих мастеров прошлого? Он не сразу ответил, посмотрел на меня как-то подозрительно и недоверчиво, словно ожидая подвоха. Отодвинул в сторону стакан с недопитым вином, заговорил не очень уверенно: – Наверно Глазунов и Шилов. – А из них кто по-твоему талантливей? – настаивал я. Он сбочил голову, подернул тонкой бровью. – Оба талантливы. Они очень разные. Как сказать? Вот если я вас спрошу, кто талантливей: Лев Толстой или Достоевский? Что вы скажете? Или поближе к вам, из вашей театральной братии: кто выше: Качалов или Москвин? – И уставился на меня взглядом победителя. Я развел руками, мол, сдаюсь. – На этот раз ты прав, юноша. Ты рассуждаешь, как взрослый. Ты даже мудр, пожалуй, умен и по-своему хитер. Так что ты созрел, как тип для романа. Последнего романа. – Но он уже не слушал меня. Упершись хмельным взглядом в угол каюты, он был погружен в какие-то сферы, далекие от искусства. Я молча смотрел на него, быстро захмелевшего, расслабленного, сентиментального. Увидев мой внимательный взгляд, он вздрогнул, выпрямился, заговорил: – А знаете, Лукич, по сравнению с Альбиной она намного выигрывает. И не только молодостью. Обратили внимание, как она одета: просто, но изящно. Со вкусом столичный стиль, а сама провинциалка. Альбина москвичка, а вкусы, манеры провинциальные. Почему так? – Есть, Игорек, понятие – внутренний вкус, такт, данный при рождении, возможно, генетический, наследственный. Тут их незачем сравнивать. И вообще – Лариса ни с кем не сравнима. Она единственный экземпляр. В общем, реликтовая. Но ты ее напиши. И не только портрет: картину с нее напиши. – В ответ он согласно закивал головой и прикрыл веками глаза. В это время в дверь осторожно постучали. – Это по мою душу, – недовольно и торопливо прошептал Игорь и проворно спрятал уже пустую бутылку под одеяло, сдвинул стаканы и накрыл их моей шляпой. Вошла Настя, разрумяненная, возбужденная, а в глазах недобрые огоньки. Наметанным взглядом пробежала по каюте, защебетала: – Что это вы в такой день сидите в душной конуре? На воздух идите, на солнце. И шляпа на столе. Дурная примета: деньги водиться не будут. – Так они и без шляпы и при шляпе не водятся, – сказал я, понимая, куда она метит. Но сегодня она была миролюбиво настроена, не стала трогать шляпу, хотя и догадывалась, что под ней спрятано.
Глава третья
Лариса
Вот уж действительно, как в стихах: «Соловьем заветным лето пролетело», или в других: «Лето красное пропела, оглянуться не успела…»Именно, не успела оглянуться, как перевалило за тридцать. А это тоже в жизни важный рубеж: прощай молодость, вершина зрелости, пик. И через два дня я его перешагну. Через два дня мне будет тридцать один год. А в душе все чаще звучит мотив популярной песни: «И некогда нам оглянуться назад». Некогда и стоит ли оглядываться? Ничего особо выдающегося там, в ушедшем, не было. А что есть в настоящем, что в будущем? Настоящее – это сплошной кошмар. Будущее покрыто мраком. И будет ли оно вообще это будущее? Будет ли Россия, как государство, в двадцать первом столетии? Будут ли русские, как нация, этнос? Эти тревожные, тоскливые вопросы угнетают, наверно, не одну меня. Они волнуют миллионы русичей, обращенных в рабство американо-израильскими оккупантами. Лето пролетело безалаберно, сумбурно, и нечего вспомнить… Хотя нет – есть что вспомнить, пусть мимолетное, как дым, как утренний туман. И в самом деле, был туман над Волгой, именно утром, когда мы плыли на теплоходе в Нижний. И были приятные встречи, беседы с Егором Лукичом, с моим Булычевым. Да, в юности, заядлая театралка, я была заочно влюблена в Егора Булычева, мне нравился тип сильного и умного мужчины, деятельного и обаятельного. И вот эта неожиданная встреча на теплоходе. Я увидела его таким, каким представляла в свои студенческие годы: обаятельным, умным, душевным. С ним приятно и легко говорить, душа его открыта, без лукавства и ханжества. В нем есть нечто притягательное, располагающее к откровенности, какая-то тихая, доверчивая открытость души. С ним я чувствовала себя, как давним другом и совсем не замечала, что нас разделяют сорок лет. Да, ему было сорок, когда я родилась. Он много видел, много знает. Рассказывал интересные истории из жизни великих актеров, ветеранов МХАТа Качалова, Москвина, Топоркова, Грибова. От него я узнала, что Шекспир и Сервантес умерли в один день – 23 апреля 1616 года, что Лапе де Бега написал две тысячи двести пьес, а Кальдерон сто десять. Как он понимает меня. Мне казалось, он читал мои мысли. Он говорил: «Вы не знали настоящей любви». Наверно не знала, а то что знала, было ненастоящим. Не хочется об этом вспоминать. Мы были студентами, беспечными мечтателями, строили планы, питали надежды, жаждали любви, красивой и большой. Я – провинциалка, влюбленная в Москву, он – москвич, видный, веселый, общительный. Пользовался успехом у девчат, – это подогревало его самомнение. Он считал себя неотразимым и внушал эту мысль нам, неопытным, доверчивым. В том числе и мне. Он был старше меня тремя годами. Ослепленная своей мечтой, я видела в нем только хорошее. Легкомыслие, эгоизм, самовлюбленность его я не замечала, хотя все оно лежало на поверхности. Я увлеклась, я верила его пустым, неискренним словам, видела в нем наше будущее, семью, детей, то, о чем мечтает большинство нормальных девушек. В тумане пылких чувств, сладких речей, подогретых вином, я отдалась. Для него это было привычным делом, как глоток вина – минутное удовольствие. А для меня – трагедия. Не таким я себе все это представляла. Я жаждала ласки, нежности, поэзии. А получила нечто недостойное, оскорбительное. Добившись своего, удовлетворив свою похоть, он стал холодным, циничным. Сказал, что связывать себя семейными, узами он не намерен, что вообще я не подхожу для роли его жены. Для меня это было не просто разочарование, – это был страшной силы удар, крушение всех светлых надежд, веры в добро, в человека. После этого я всех мужчин мерила его мерой, я их ненавидела. Мне они казались все на одно лицо, и их интерес ко мне сводился только как к постельной принадлежности. Так продолжалось несколько лет. В двадцать семь я сама себе казалась старухой. Шансов создать семью – никаких. Время упущено. Женихов на всех невест не хватает. На одного мужчину приходится две женщины, такова жестокая статистика. Браки стали не прочными, каждый третий распадается. Разводы плодят безотцовщину. Это, конечно, ужасно. Но я согласна на безотцовщину – я хочу ребенка, очень хочу. Пусть без отца, пусть это будет только мой ребенок с моей фамилией, продолжение рода Малининых. Во мне клокочет чувство материнства. Я хочу испытать радость матери, хочу иметь надежду и опору в старости. Мне не нужен чужой ребенок из детского приюта, я хочу своего, мной выношенного. Пусть не от мужа, но от здорового, нормального и в меру симпатичного мне человека – производителя. Родители переживают, часто и не без намека говорят о внуке. Мечтают, и я их понимаю, а они меня не хотят понять. Говорят, что я слишком требовательна к мужчинам, с непомерными претензиями. Мама корит мой невыносимый, как она выражается, характер. Может, они по-своему правы, надо быть снисходительной, без особых претензий. Они не убедили меня, нет. Просто поколебали, размягчили, и я решилась: будь, что будет – не получится муж, может, получится отец ребенка, не нашего, а моего, мой маленький Малинин. И мне повстречался «производитель», внешне здоровый, даже и симпатичный. Уже после первой ночи поняла: такой муж мне не нужен. Педант, сухарь, скряга и вообще зануда. Нет под нами того прочного фундамента, на котором строится нормальная, здоровая семья. Какая там любовь – о ней и думать не думала. А то, что теперь называют просто сексом, к любви не имеет никакого отношения. Нам не о чем с ним было говорить. Мы были чужими. Голый секс, без чувств, без духовной связи меня не устраивал, и мы разошлись не сходясь. И снова чувства настороженности, недоверия мужчинам, и даже отчуждения одолели меня. А время шло, и годы бежали все быстрей и быстрей, и уже всем существом своим я ощущала их коварный бег и утраченные надежды, что-то дорогое и безвозвратное. И совпало это с проклятым горбачевско-ельцинским лихолетьем. Беда пришла всеобщая, – я понимала и понимаю, что таких судеб, как моя, миллионы, что есть и похуже во много раз, что мы переживаем вторую войну. Но разве это причина для утешения? Я представила себя в старости одинокой, беспомощной, никому не нужной, когда нет рядом ни родных, ни близких. Меня тревожит одна неприятная мысль. Я мечтаю о своем ребенке. Но ведь я имела связь с двумя мужчинами, пусть краткую. Но я не забеременела. Почему? А вдруг я не могу рожать? Это ужасно. Пойти к врачам, исследоваться – боязно, я трусиха. Если будет установлено мое бесплодие, что тогда? Взять из приюта? Но это опасно: туда попадают не с хорошей наследственностью. Да наверное и не дадут одинокой, незамужней женщине. Сплошной тупик, куда не кинь, везде клин. И вот эта встреча с Богородским. Такое ощущение, словно я вдруг оказалась в стране моих грез. На меня повеяло чем-то новым, неведанным, но желанным. Я почувствовала между нами незримую, но явно ощутимую духовную связь. Нам было легко говорить на любую тему даже тогда, когда наши точки зрения не совпадали. У нас была общая платформа, о чем бы мы не заговорили. Казалось, что мы вышли из одной семьи, как родные. Когда я спросила его, почему пассивны и безответны русские, превращенные в рабов ельциноидами, почему они голосуют за Ельцина, Явлинского, Жириновского, Лебедя, он спокойно, с нотками досады и сожаления ответил: «Русский обыватель похож на рыбку, которая легко, с глупой наивностью, заглатывает популистскую блесну политических авантюристов. Мозги у рыбки малюсенькие, да и те уже до предела высушены лучами телеэкрана». Иного ответа я и не ждала. Я думала точно так же. У него приятный голос: то с саркастическим, то с язвительным оттенком и такой доверчивый и в тоже время таинственный взгляд, который располагает к откровенности. Ему можно открыть душу, поделиться сокровенным, посоветоваться. Таких людей я еще не встречала. Когда мы прощались, я сказала: – Вы интересный собеседник. Вы много знаете. И жаль, что наши беседы так быстро обрываются. – Зачем жалеть? – сказал он. – Мы можем их продолжить в Москве. Вы тоже много знаете, как историк. Например, я от вас узнал, что убийцы князя Андрея Боголюбского Ефрем Мойзич и Амбал были евреями. Дело в том, что я всерьез занимаюсь еврейским вопросом. У меня на эту тему собрано много материалов. Раньше все это было под строжайшим запретом, как государственная тайна. Они постарались скрыть от народа свою вражескую деятельность. Мы боялись слово «еврей» вслух произносить, чтобы не прослыть антисемитом. – Он помолчал, как бы что-то обдумывая. Глаза его затянула печаль, потом резко посмотрел на меня и решительно вполголоса произнес: – Ведь мы друзья? – В ответ я кивнула и смешно перефразировала вслух: – Умный друг лучше глупых двух. Больше месяца, почти половину лета я провела у наших родственников – папины братья – в Нижнем. Впрочем, в самом городе я жила всего несколько дней. Меня отравляла только мысль о том, что здесь правит бал ельцинский выскочка, местечковый еврейчик Борис Немцов, самовлюбленный временщик, которому в виде дани отдан во владение старинный русский град. И сюда, как на мед, слетаются сионистские шершни и осы, разные «новаторы-реформаторы» Явлинские, соплеменники Немцова. И даже Маргаритка Тэтчер в порядке поддержки губернатора-выскочки соизволила осчастливить своим присутствием Немцовск Бор. Умеют они своих выдвигать, поддерживать и возвеличивать. Осмотрела город, – памятники Горькому и Чкалову пока стоят нетронутыми, хотя и мутят глаза немцовам. Они бы не прочь заменить Чкалова Свердловым (тоже земляк), ну а Горького Бабелем или Эренбургом. Из Нижнего я перебралась в село на берегу Волги и месяц жила у дяди. Купалась, загорала и скучала. Скучала не по Твери, не по дому. Скучала по Москве, которая со студенческих лет покорила меня, наверно, на всю жизнь. Даже сейчас, когда за последние ельцинские годы, она сильно изменилась в худшую сторону, я не перестаю ее любить. О, как я понимаю чеховских трех сестер, вопиющих: «В Москву! В Москву!» Как близок мне их журавлиный клик! Тверь я не люблю. С древних времен она была помечена лакейством и предательством. Ее князья переходили на сторону врагов Москвы. Да что история. И в наше омерзительное время Тверь поставляла в Москву ельциноидам самых подлых и лакейских своих демократов. В девяносто третьем, когда Ельцин расстреливал у телецентра безоружных людей, этим крысиным гнездом, телецентром, руководил тверской демократ-большевик Брагин. Он даже собирался взорвать Останкинскую телебашню, если бы патриотам удалось захватить телецентр. Такова звериная сущность поклонников и носителей «нового мышления»: один – авиатор Шапошников готов был бомбить Кремль, если б там оказались патриоты, другой взорвать телебашню. Им, лишенным совести, чести и вообще элементарной морали наплевать на исторические памятники, созданные гением народа. Им бы только сохранить свои привилегии, набить брюхо и хапать, хапать. После Нижнего, дома, в Твери, я еще острей, чем на волжском пляже, почувствовала настойчивый зов Москвы. И не просто города – зов друга. Лукич так и сказал, прощаясь: «Мы друзья?» А в ответ я выпалила какую-то чушь. Я много думала о нем, естественно, как о друге. Ни о чем другом и мысли не было, учитывая наш возрастной барьер, который даже теоретически казался непреодолимым. Свой тридцать первый день рождения я не стала отмечать и уехала в Москву. Хотелось побродить по знакомым и милым сердцу местам, навестить университетских однокурсниц. Но мысли мои все время возвращались к Лукичу. О встрече с ним на теплоходе я рассказывала своей подруге Лиде, та заподозрила меня совсем в несуразном, заметив: «А ты не влюбилась, девочка? Личико твое горит и глазки сверкают, как майское солнышко». Я беспечно рассмеялась: какая уж тут любовь? Дружба, и то – куда ни шло. На всякий случай я взяла с собой его визитную карточку, показав Лиде, похвасталась. «Будешь звонить?» – спросила она. «Не знаю», – с деланным безразличием ответила я, хотя и собиралась звонить. «А чего – позвони», – советовала Лида. «А что я ему скажу? Здравствуйте, я ваша тетя? Так?» «Зачем тетя? Скажи: я ваша внучка», – пошутила Лида, и мы обе рассмеялись. «Звони, звони», – подталкивала подруга, – она сгорала от любопытства. И я позвонила. Он сам взял трубку. – Слушаю внимательно, – прозвучал бодрый, даже приподнятый голос. Его, Лукича, голос. Я от волнения не знала что сказать, первого слова не могла найти. Получилась заминка. И он повторил: – Я вас внимательно слушаю, говорите. – Егор Лукич, здравствуйте, – преодолев робость, сказала я. – Это ваша теплоходная спутница. Лариса. – Лариса? – воскликнул он. – Как я рад. Я думал о вас и даже намеривался звонить в Тверь, да все не решался. Вы где сейчас, откуда звоните? – Я в Москве, у подруги, – сказала я, подавляя в себе подступившую радость. – Так приезжайте сейчас ко мне, продолжим наши беседы, как договорились. – Я не помню, что б мы договаривались, но почему-то спросила: – Прямо сейчас? – А чего ждать? Прямо сейчас и приезжайте. Адрес мой у вас есть? – Да, я знаю. Тот, что в визитке? – Тот самый. Скажите пожалуйста, вы что пьете? Этот неожиданный вопрос обескуражил меня, опрокинул. Я не знала, как его понимать. Что я пью? Ну конечно же речь шла не о чае или кофе, не о квасе или пепси. Наверно, и он понял мою растерянность, уточнил: – Вино, коньяк, водку? – Да я вообще… Наверно, вино, – сказала неуверенно. – Ну хорошо, разберемся, – быстро поправился он. Провожая меня, Лида напутствовала: «Ты там смотри, никаких водок-коньяков. Только вино, да и то, в меру». У Лукича трехкомнатная квартира в хорошем доме. Он был один. Несмотря на холостятство, квартира была прибрана. Возможно, навел порядок перед моим приходом. Встретил меня дружеской улыбкой, как и после исполнения мной на теплоходе романса «Не уходи» поцеловал руку. Но, как я заметила, это был уже другой, более страстный и нежный поцелуй. Загорелый, одетый в серую, с короткими рукавами рубаху и кремового цвета брюки, он выглядел возбужденным и слегка суетливым. Расстегнутый ворот рубахи обнажал бронзовую шею, и весь его облик напоминал того, «теплоходского» Лукича, словно мы с ним встречались вчера. Он провел меня в просторную гостиную с диваном, двумя креслами с высокими спинками обитыми зеленым материалом и деревянными подлокотниками, низким квадратным столом, на котором стояли бутылки и холодные закуски. Всю торцовую стену занимал большой живописный портрет Лукича в скромной раме. Он сразу бросался в глаза и привлекал внимание каким-то колдовским, пронизывающим душу взглядом портретируемого. Он казался живым, проницательным, знающим какую-то тайну, но не желающим открыть ее. Он приковывал к себе, как будто что-то обещая. В синих чистых глазах искрились тихие огоньки иронии. – Это меня Игорь Ююкин изобразил, – пояснил Лукич. Он стоял за моей спиной, и я чувствовала его дыхание. – Ну, что вы скажете? – спросил он, чуть-чуть дотронувшись моего плеча. Я обернулась и взгляды наши встретились. – Я не ожидала, что Ююкин такой большой мастер, – не скрывая своего искреннего восхищения, ответила я. – А на вид он мне показался несколько легкомысленным. – А вы не ошиблись: легкомыслия в нем предостаточно, а глаз меткий и руки золотые. Стены увешаны фотографиями: Лукич в роли Егора Булычева, он же с ветераном МХАТа народным артистом Ершовым – неповторимым Сатиным, двое военных. – Это мои пограничники, – пояснил Лукич: – Сын Василий и внук Артем, курсант Высшего училища погранвойск. Был тут и портрет Лукича, выполненный углем. Я обратила внимание, что среди фотографий нет женских. Спросила: почему? – Очевидно, не было достойных, – с мягкой улыбкой ответил он. – Впрочем, была одна, – признался он, – но от нее остался только вот этот маленький гвоздик. По возвращении из плавания я ее удалил. – Зачем? – По принципу: «С глаз долой, из сердца вон». – Покажите мне? – Зачем? – Любопытно. Я хотела видеть ту счастливицу, которой он подарил десять лет. Он удалился в кабинет и принес фотографию, вставленную в очень изящную под золото рамочку. С фотографии смотрела миловидная, с тонкими чертами лица и гладкими короткими волосами, слегка тронутыми сединой, женщина. Взгляд у нее строгий и, как мне казалось, холодный. Я решила, что он снял со стены эту фотографию перед моим приходом и спросила: – Не хотите водрузить на место? Гвоздь не должен пустовать. – Он лукаво ухмыльнулся и проговорил, извлекая фотографию из рамочки: – Свято место пусто не бывает. А вдруг найдется замена? Я не теряю надежды. Пустую рамочку он повесил на стену, на то же место, где она и раньше висела, и обратился ко мне: – А фотографию отнесем туда, где ей и положено быть. – Он осторожно дотронулся до моего локтя и предложил: – Пойдемте, покажу вам свой кабинет. Это была комната раза в два поменьше гостиной, с книжным шкафом, письменным столом, заваленным книгами, газетами и какими-то бумагами. Я обратила внимание на стоящий в углу бюст Лукича. Он был без галстука, с расстегнутым воротом рубахи и с иронической ухмылкой на губах. И совсем еще молодой, такой, каким я видела его в студенческие годы. – Это меня скульптор Борис Едунов изваял. Мы тогда были молодые, озорные, – сказал Лукич, и кивнул головой на письменный стол: – Сочиняю воспоминания. Нечто вроде мемуаров. Сорок пять лет отдал театру. Есть что вспомнить. Вот только будет ли это интересно нынешнему поколению, которое довольствуется телевизором, а книги если и берет в руки, так про убийства или секс. – А в ваших мемуарах, как я понимаю, ничего подобного он не найдет, – сказала я с намеком на секс. Он, очевидно, понял мой намек, загадочная улыбка сверкнула в его глазах, но смолчал. Когда мы сели за стол, я рассмотрела бутылки: их было аж четыре – шампанское, коньяк, какое-то вино и пепси. Я вспомнила напутствие Лиды и подумала с дерзостью: решил напоить. Ну что ж, будем дерзить, – и я сказала: – А между прочим, сегодня мой день рождения. – Он сделал удивленные глаза и спросил весело и недоверчиво: – Серьезно? Или вы шутите? – Вполне серьезно. Могу паспорт показать, – подтвердила я, хотя при мне не было паспорта. – Ну что вы, Ларочка, я вам верю. Это же здорово, это бесподобно. Лицо его сияло неподдельной радостью. Я, конечно, обратила внимание на «Ларочка». Так он назвал меня впервые. На теплоходе я была Лариса Павловна и только в последний день просто Лариса. И вот Ларочка. Мне, конечно, было приятно, и в то же время напутственное предостережение Лиды пробуждало во мне защитную реакцию. Я была готова к решительной обороне. – С чего начнем? – торжественно, с сияющим лицом спросил он и, взяв бутылку шампанского, сам себе ответил: – Ну, конечно, по случаю большого праздника, вашего торжества, – а для меня, Ларочка, Поверьте, это не просто слова любезности, это от чистого сердца – радость… – И не договорив фразы он выстрелил в угол потолка и наполнил хрустальные бокалы. Мы чокнулись. Значит, я Ларочка на постоянно, уже не будет здесь просто Ларисы, тем паче Ларисы Павловны. Мы пили, закусывали и снова пили пенистое, бодряще полусладкое. Мы говорили о чем-то несущественном, не сводя взглядов друг с друга, но глаза наши говорили совсем о другом, о чрезвычайно важном, сокровенном. Он был учтив и любезен, но по дрожи его рук, по трепету губ, которые он покусывал, по распаленному лицу и мятежным глазам я понимала, что чувства его достаточно накалились и доходят до критической черты. Он раздевал меня глазами и торопился опорожнить бутылку шампанского, провозглашая тост за тостом. Он награждал меня такими качествами, о которых я не только никогда не слышала, но и не подозревала их в себе самой. Очаровательная, прелестная – это только первая ступень. Дальше следовали такие жемчужины, как ангел небесный, посланная из Вселенной, несказанная, нежная. Откуда он знал о моей нежности? И удивительно: все эти высокие словеса вызывали во мне отрицательные эмоции, какую-то неосознанную, стихийную агрессивность. И я неожиданно для себя перешла от обороны к наступлению. – Ах, оставьте ваши пламенные речи, Егор Лукич. Вы, очевидно, забыли, что мне сегодня исполнился тридцать один, а не двадцать, и все, что вы говорите, я проходила. Я уже не девочка, и жизнь меня довольно ломала и корежила. Вы думаете, я не знаю, чего вы хотите? Чего добиваетесь? Увидели смазливую бабенку и распустили хвост. Ничего нового вы не сказали, избитые штампы. Я понимала, что перебарщиваю, хватила через край, но уже завелась на все обороты, и не могу остановиться. Я читала ему лекцию о морали и нравственности, изливала на него всю накопившуюся у меня горечь, обиду, досаду и тоску одинокой женщины, мечтающей о счастье, большой любви. «Я все это уже проходила» было сказано мной для красного словца. На самом деле ничего подобного я не проходила, и все тут было для меня ново, необыкновенно и удивительно. Я даже верила в искренность его слов, смотрела на его поникшую голову и сжавшуюся фигуру, и уже стыдилась за свою резкость, которую считала несправедливой. Мне было жаль его. Он не перебивал меня, он молчал, как нашкодивший мальчишка, которого строгая мать учит уму-разуму. Он был огорчен и подавлен. Он не ожидал такой агрессивной атаки от ангела-Ларочки. К чести его – он не позволял в отношении меня ни словом, ни жестом никакой пошлости, он вел себя достойно, даже старался сдерживать свои эмоции, но ему это не всегда удавалось: он был слишком возбужден. Я выпустила пар своей нотацией, и сердце мое смягчилось, я уже смотрела на него трезвыми, как на теплоходе, глазами. Он не был похож на тех мужчин, которых я знала раньше. Он совсем другой – в этом я не сомневалась – и не заслуживает такого нападения. Когда я закончила свой язвительный монолог, который он выслушал молча, даже не шевелясь, словно каменный, Лукич вышел из оцепенения, вскинул голову и посмотрел мне в лицо. Взгляд у него был растерянный, униженный, покорный, – ни протеста, ни порицания. Я невольно снисходительно улыбнулась. А он не замечая моего снисхождения, дрогнувшим голосом произнес: – В принципе ваши обвинения справедливы. Я вас хорошо понимаю. Но в данном конкретном случае вы не правы. Вы просто меня не знаете. Как и я вас. В этом вся проблема. К сожалению. А мне очень хотелось вас понять. Потому что… вы можете, как вам угодно истолковывать мои слова… вы женщина особая. В вас есть тайна, о ней говорят ваши необыкновенные глаза, и эту тайну пытаются и будут пытаться разгадать только редкие мужчины, вроде меня. Он отвел свой задумчиво-опечаленный взгляд в сторону и, сцепив напряженно пальцы, уже не смотрел на меня, смущенно избегал встречи наших глаз. Я ощутила свою власть, я чувствовала себя победителем, мне хотелось озорничать. И озорством как-то разрядить напряжение, но я не находила нужных слов. Мне было просто весело и свободно. И в то же время я боялась, что он сейчас встанет и скажет: «Пойдемте. Я вас провожу». Мне не хотелось уходить, и я сказала: – Налейте мне коньяка. – Он удивленно вскинул взгляд и глаза его потеплели. – Может лучше вина? – очень мягко спросил он. – Я не пью красное вино, лучше коньяк, – настояла я. Он налил мне в серебряную рюмочку коньяк, бокал наполнил пепси и с любопытством ожидал, что будет дальше. – А себе почему не налили? – спросила я, пряча лукавую улыбку. Он, не говоря ни слова, налил себе коньяк и осторожно стукнув своей рюмкой о мою, молча выпил до дна, потом сделав глоток пепси, встал из-за стола и отошел к окну, выходящему на тихую улицу. Я смотрела на его широкую монолитную спину и казалось, чувствовала ее напряжение. Мне захотелось прикоснуться к ней и снять, разрядить это напряжение. Я тихонько подошла к нему и осторожно, чтоб не спугнуть, положила ему руки на плечи. Он не вздрогнул, он стоял гранитным монументом, не шелохнувшись. Бесчувственный камень. Вдруг он круто повернулся, и лица наши оказались рядом. Он сильно, но ласково обнял меня и прижал к своей груди, и мне не было ни больно, ни страшно, потому что в его действиях я чувствовала силу и нежность, которой прежде не испытывала. Я, как обессиленная, и не пыталась противиться, отдав себя в его власть. Я была, как во сне, и все последующее произошло, как сон. Я опомнилась лишь лежа на широкой кровати совершенно обнаженная. Я только чувствовала его горячие губы и мягкие, нежные руки, касающиеся моего тела. Трудно передать словами мое ощущение и состояние. Но это было нечто новое, доселе мне незнакомое. До Лукича я знала только двух, о которых уже говорила. Там был просто акт, животное совокупление, дань похоти. Здесь же все совершенно другое. Одно его прикосновение, нежное, как дуновение теплого ветра, разливало по всему телу сладостный бальзам и погружало в приятный, пронизывающий все тело зной. Его руки, обнимавшие меня, были удивительно мягкими, ласковыми, нежными, и кожа его тела была шелковистая, что я невольно сравнила ее с грубой, потной, отталкивающей кожей его предшественника. Он тихо шептал: – Помнишь, ты пела: я поцелуями покрою уста и очи, и чело? Я покрою гораздо больше. И он целовал мои плечи, шею, уши, глаза, нос, груди, называя их лебедями, и уже не оставалось сантиметра моего тела, где бы не касались его горячие губы. Откровенно говоря, я не ожидала от него такой страсти и силы. Он был неутомим. Да, он был тот, о котором я мечтала, он превзошел все мои грезы. О своих чувствах я не говорила вслух, я только радовалась и удивлялась неожиданному открытию. Я слушала его нежные слова любви. Мы встали размягченные, выжатые, но довольные, счастливые, пили кофе и коньяк и снова шли в спальню, и все продолжалось. Не помню, то ли за столом, то ли в спальне он сказал: – Я говорил тебе о своем прошлом, ты знаешь об Альбине. Я не спрашиваю о твоем и не хочу знать. Мы начнем с нуля создавать свое, наше будущее. Ты согласна? Я шептала «да» и прижималась головой к его широкой, горячей груди, а он погружал свое лицо в мои волосы и просил: – Пожалуйста, родная, называй меня на «ты», а то мне как-то неудобно. – Не сейчас, не торопи, потом это придет само собой, попозже. – Он часто повторял слова «любимая», «родная», «небесная», которые были для меня непривычными. Все это вызывало во мне удивление, любопытство, привязанность и досаду на свое сдержанное привыкание, неловкость от того, что даже возможна подобная связь и такие отношения. У меня рождалось чувство благодарности ему за понимание, за открытую, распахнутую душу, за то, что я могу делиться с ним своим сокровенным и что он может так же тонко чувствовать, как и я. Меня прельщало его благородство, возвышенность его души. Он говорил: – Любовь не стареет. Она не знает возраста. Стареет плоть, а любящая душа всегда молода. Любовь – это поэзия, это свет. У любви нет предела. Красота тела недолговечна. Красота души – бессмертна. Главное в человеке – величие души. Если этого нет – он ничтожество. – И я верила в величие и красоту его души. Я верила каждому его слову, сказанному искренне, с убеждением. Но я сказала: – Вы говорите, что любовь это огонь, пламя. Но пламя когда никогда все же гаснет. Так и любовь? Говорят, вечная любовь – несбыточная мечта? Как вы считаете? – Это зависит от человека. У кого-то несбыточная. У меня сбыточная. Даже если ты захочешь, – не дай бог, – оставить меня и больше не встречаться со мной, я все равно буду тебя любить. И любовь свою унесу в могилу. Потому что ты послана мне – пусть с огромным опозданием – из Вселенной. – Потому, наверно, и опоздала, что издалека шла, – радостно сказала я. Незаметно подкрался вечер. – Мне пора собираться в Тверь, – с сожалением сказала я, глядя на него умоляюще. – Как?! – воскликнул он. – А ты не можешь остаться? Этого я и ожидала. – Могу, – тихо согласилась я. – Только позвоню родителям. Предупрежу. Потом я, как и обещала, позвонила Лиде, когда Лукич удалился в ванну. – Лидочка, дорогая, все как во сне. Сверх всех ожиданий. У меня слов нет, одни восклицания. При встрече расскажу. Я остаюсь у него на ночь. Лукич вышел из ванной в одних плавках. Я прильнула к нему и поцеловала. Спросила: – Я слышала в ванной вы с кем-то разговаривали? – Это я стихи читал. О любви. Они меня заполнили до краев и требовали выпустить на люди, – возбужденно ответил он, а я сказала: – Но в ванной людей не было. Кому вы читали? – Естественно, тебе. – Но я не слышала. Вам придется повторить. – С удовольствием.
Глава четвертая
Лукич
Я люблю, обожаю природу. У меня с ней божественная связь. Люблю не только леса и поляны, луга и реки, я люблю ее во всем планетарном объеме, от облаков и океанов, от грозных стихий и до последней букашки. Но больше всего, до сердечного обожания, я люблю природу среднерусской полосы и в частности Подмосковья. Люблю круглый год: весну и лето, осень и зиму, не зависимо от погоды. Кто-то верно сказал в песне: у природы нет плохой погоды. Вот почему я предпочитаю больше жить на даче, когда свободен от спектакля и репетиций в театре. Я люблю одиночество. Но не просто уединение в тиши кабинета в объятье тягостных дум, трогательных воспоминаний и несбыточных грез. Мне более по душе погружаться в сказочный мир природы, становясь частицей ее самой, быть с ней на «ты», наслаждаться ее удивительной гармонией и нерукотворной, первозданной красотой. В городе мы лишены такого блаженства, и при первой возможности я убегаю из московской квартиры, сажусь в электричку и мчусь на дачу, в мой уют и пристанище души. Переступив порог калитки, прежде, чем открыть дверь дома, я иду в сад – это главное мое детище, моя любовь и вдохновение. Его я сотворил своими руками, своим мозолистым трудом. Я корчевал пни, выкапывал дерн, рыхлил землю и сажал. Сажал то, что дает плоды – кусты смородины, крыжовника, стебли малины и конечно же – яблони, вишни, сливы. Работал до пота, до устали, после чего было приятно прилечь на раскладушку и смотреть в безбрежную синеву неба, созерцать паруса облаков, их плавное, свободное движение в мировом океане. Театр для меня вторичен, после сада. Он источник существования, он дает мне кусок хлеба, одежду, крышу над головой. А дача, сад – это для души. Утром я выхожу в сад в приподнятом настроении и здороваюсь с каждым деревом, каждым кустом. Они отвечают приветливой, благодарной и только мне одному понятной улыбкой. Я знаю их характеры, их просьбы ко мне, я дал им жизнь, они мои сокровища. Вам приходилось видеть сад весной во время его цветения? В нем воплощение молодости, ее всплеск и порыв в поднебесье, надежда и мечта, красота и гармония природы, созерцая которую и ваша душа наполняется юными порывами, этой прекрасной, не имеющей границ стихией. А пора зрелости, разве не дивная сказка? Сегодня утром я вышел в сад, и спелые увесистые антоновки и краснобокие штрифлинги радовали и ласкали мой взор и сами тянулись ко мне: на, мол, возьми, отведай. И я сорвал зелено– оранжевый плод и с хрустом надкусил его сочный, ароматный бок. Стая настырных, ненасытных дроздов с визгом разлетелась с высокой красной рябины, и мне вспомнились стихи тонкого лирика и непреклонного патриота Геннадия Серебрякова:
Глава пятая
Автор
В начале сентября мне позвонил Лукич и сказал, что есть необходимость повидаться с ним. Я предложил ему встретиться у меня дома, но он настаивал, чтоб встреча состоялась у него на московской квартире: мол, надо обсудить важный вопрос. – У тебя кто-нибудь будет? – полюбопытствовал я, зная, что последние дни августа у него часто бывала Лариса. – Никого, – кратко ответил он и на всякий случай предупредил, чтоб я приезжал один, зная, что иногда мы заявлялись к нему то с Виталием Ворониным, то еще с кем-нибудь из моих друзей-писателей. «Важный вопрос» на мой взгляд оказался довольно простым, хотя Лукич придавал ему особое значение. С видом озабоченности он усадил меня в кресло, а сам продолжал стоять этаким монументом посреди гостиной. – Выкладывай, что за проблемы волнуют тебя? – обратился я, стараясь придерживаться веселого тона. – С Ларисой поссорился? – Да нет, с Ларисой у нас все хорошо, даже очень хорошо, – ответил он с особой теплотой в голосе. – Лариса – женщина с большой буквы. Женщина – мечта! Ты не находишь в чертах ее лица нечто евангельское, не лицо, а лик? – Нет, не нахожу: обыкновенное лицо с правильными чертами, строгое, мужественное, – попытался я остудить его пыл. Но он не мог остановиться: – А уши?! Ты не видел ее уши – это классика, совершенство! А нежность, заботливость! Ты же знаешь: я ценю в человеке прежде всего честность и порядочность. Я ненавижу ложь, лицемерие, лесть. Это удел подлых душонок. К твоему сведению, честность и порядочность Ларисы меня восхищают. Я понимал: он по уши влюблен, как мальчишка. Ему хотелось вслух высказать свои чувства, и он был возбужден, глаза его светились счастьем, лицо побагровело. Мне было забавно смотреть на него, но я, сдерживаю свою иронию, я просто сказал: – Ты отрастил ей крылья. Будь бдителен: может улететь к новому русскому, который помоложе, да и побогаче тебя. Озорная улыбка блеснула в его глазах: – А крылышки-то я воском приклеил, как Икар. Улетит – погибнет. Он сел на диван, скрестив на коленях пальцы рук, и, задумчиво глядя на меня, произнес очень тепло и искренне: – А знаешь, она вдохнула в меня вторую молодость. – Наверно, третью, – поправил я. – Вторую тебе вдохнула Альбина на целых десять лет. А поскольку Лариса превосходит Альбину в два раза, будем надеяться, что она вдохнула в тебя молодость аж на двадцать лет. Так что живи и здравствуй до девяносто пяти. – Да, верно говорят: самый сильный человек в мире – женщина, – философски произнес Лукич. – Она может покорить и отпетого деспота и богатыря. – Когда мы любим, все они нам кажутся небесными ангелами, а угаснет любовь, и ангел превращается в бабу-ягу. – Не всегда и не все, – возразил Лукич. – Альбина не превратилась, и я по-прежнему питаю к ней чувства уважения и благодарности. – Но ты же знаешь, что бурная любовь неустойчива. Она легко переходит в ненависть, – сказал я. – У меня не бурная, у меня основательно осознанная, ненависть ей не грозит, – ответил Лукич. – Ну, дай-то Бог. – подытожил я. – Надеюсь, ты меня пригласил не затем, чтоб я засвидетельствовать, какие дивные серенады ты поешь своей возлюбленной. – Да, конечно, – сказал Лукич и поднялся. – Дело вот какое: завтра в театре будет нечто вроде моего бенефиса. Будут чествовать и прочая ерунда. Меня это совсем не радует. Время-то какое: гибнет народ, Россия гибнет. Тут не до юбилейных торжеств. За автоматы надо браться и Русь от израильтян спасать. Решили в дирекции все-таки отметить. Сыграю в двух действиях – в «Булычеве» и в «На дне». И на этом поставим точку… Так вот, я пригласил по телефону на этот вечер очень узкий круг своих друзей: начну с тебя, Ююкиных, Воронина, известного тебе генерала-авиатора, а так же депутата, тоже тебе знакомого и солиста из оперы, ты его знаешь. Кстати, он будет вдвоем, то ли с женой, то ли с любовницей: она пианистка. И конечно, будет Лариса. Она приедет прямо с занятий в университете. Договорились, что за полчаса до начала ты встретишь всех их у входа и вручишь билеты. Вот за этим я и потревожил вас, ваше степенство. Надеюсь, милостивый государь, ты не откажешь мне в такой услуге. Завтра у нас, значит, пятница, а в субботу соберемся у меня вот здесь и в домашней обстановке по-семейному отметим мой юбилей. Сбор ровно в полдень, то есть в двенадцать ноль-ноль. Вопросы есть? Нет. Вот тебе билеты и действуй. – Слушаюсь, господин Народный артист! Все исполню, как приказано! – То-то. – С деланной важностью пророкотал Лукич и вручил мне билеты. Лариса пришла к театру даже раньше меня. Лицо ее было, как и прежде, строго и торжественно, но в глазах играли радостные огоньки. Одета она была в длинную черную юбку, разрисованную белым пунктиром и черную с серебристым блеском-переливом блузку с длинными рукавами и свободным воротником, обнажавшим красивую шею. Через руку переброшено черное из тонкого трикотажа легкое пальто. Вообще, в этом сдержанном, не кричащем, но со вкусом подобранном наряде, при черных, как крыло ворон, густых волосах она выглядела очаровательно. У нас были хорошие места – пятый ряд портера. Лариса сидела между мной и Виталием Ворониным. Виталий был явно доволен таким соседством, с ним Ларисе не было скучно, он безумолчно говорил, будучи в хорошем, даже приподнятом настроении. Лариса ему определенно нравилась. Я слышал, как она поинтересовалась у Виталия, почему он без жены. – Она у меня ревнивая, – полушутя ответил он. – Она помешала бы мне ухаживать за вами. – Но ты рискуешь напороться на ревность Лукича, – вмешался я. – Лукич там, за кулисами. Он не видит, – живо отозвался Воронин и, наклонясь к Ларисе, что-то прошептал ей, отчего она похоже смутилась. Я ожидал, что перед началом спектакля кто-то выйдет на авансцену, скажет вступительное слово о юбиляре, сделает какое-то объявление. Но я ошибся. Занавес открылся внезапно, и перед нами предстали обитатели ночлежки из «На дне». И босяк Сатин вдохновенно и убедительно говорил о свободном человеке. Лукич был прекрасен в этой роли, я бы сказал – бесподобен. Я видел Сатина в исполнении таких корифеев МХАТа, как Качалов и Ершов. Но честно скажу – Богородский им не уступал даже сейчас, уже на исходе своего творчества. Обычно спокойный, несуетливый, сдержанный в жестах, он держался на сцене энергично, молодцевато, полный эмоций и здорового задора. Глядя на него я поражался и радовался: какая мощь внутреннего огня, откуда взялось столько духовных сил? Или он хранил и берег их на этот, особый, случай, чтоб достойно, под занавес, спеть свою лебединую песню? Я догадывался: он поет ее для Ларисы, ради нее. Понимала это и она. Я тайком наблюдал за ней. Сжавшись в пружину, онасосредоточенно и самозабвенно смотрела на сцену, вытянув вперед голову и даже не обращала внимания на Виталия, который бесцеремонно прижимался к ней и пытался что-то шептать ей на ухо. Она казалась завороженной и отключенной, вобравшей в себя два чувства: волнения и радости. В антракте мы прогуливались в фойе, делясь впечатлениями. Виталий не жалел громких слов по адресу Богородского, притом самым его излюбленным было слово «мощный». Лариса сдерживала свои эмоции, она лишь молча, кивком головы, выражала свое согласие с Ворониным. Ко мне подошел генерал, и к радости Виталия, отвлек меня от Ларисы. Генерал напомнил, что в понедельник мы должны встречаться с ветеранами воздушной армии, то есть Богородский, Воронин и я. Пока мы разговаривали с генералом мое место возле Ларисы занял депутат Госдумы, из фракции КПРФ, молодой, разбитной юрист, довольно импозантной наружности, самоуверенный, но ненавязчиво учтивый. Лариса привлекала мужиков. Даже почтенный генерал полюбопытствовал у меня, кто эта «обаятельная особа, на которую поэт и депутат положили глаз». «Но и ты не стал исключением, – по-дружески подмигнул я и удовлетворил его любопытство: – Хорошая знакомая Лукича. Поклонница его таланта». «Да, талант у Егора от Бога», – согласился генерал. Устав от бурной атаки Воронина, она, очевидно, преднамеренно в пику поэту уделяла внимание депутату, и этим досаждала любвеобильному стихотворцу. После перерыва во втором отделении дали сцену из «Булычева». И здесь Богородский показал себя во всем блеске своего могучего артистического дарования. В эту роль он вкладывал себя всего до остатка. По своему характеру Булычев был ему ближе Сатина, привлекательней своей прямотой, искренностью, открытостью, афоризмами речи: «Одни воюют, другие воруют… Воровство дело законное». «Колокольным звоном болезни не лечат». «Разбогатели от нищего Христа». «Хороших людей мало. Хорошие редки, как фальшивые деньги». Эти и им подобные фразы Лукич произносил с особой интонацией, чтоб они накрепко входили в душу, врезались в память и долго звучали в сознании. Зал восторженно аплодировал. Последняя сцена проходила уже без Лукича, и он появился вместе с другими актерами перед закрытием занавеса но уже без грима в черном парадном костюме, на лацкане которого сверкали золотом две медали сталинского лауреата, орден Ленина и орден Трудового Красного знамени. Официальный представитель власти жестом руки попросил внимания зрителей, подошел к микрофону и зачитал указ президента о награждении Народного артиста России Егора Лукича Богородского орденом «За заслуги перед Отечеством второй степени». В зале раздались вялые хлопки, под которые правительственный чиновник попытался вручить артисту награду. Но Лукич решительным жестом отстранил от себя чиновника и подошел к микрофону, пророкотал, делая паузы между словами: – Господа… товарищи… друзья! – В напряженном, взволнованном голосе его прозвучали металлические ноты. – Я благодарю вас, что пришли на мой последний спектакль, который завершил мой долгий творческий театральный путь. Мне горько и обидно, что этот путь окончился в позорное и трагическое для нашего Отечества время. – Он сделал внушительную паузу, словно собирался совершить какой-то чрезвычайный поступок, медленно поднял голову, устремив взгляд в конец замершего зала, дрогнувшим голосом продолжал: – Великий Микеланджело сказал: «достигнув в подлости больших высот, наш мир живет в духовном ослеплении. Им правит ложь, а истина в забвении. И рухнул светлых чаяний оплот…» Если б гений предвидел, что сотворят в конце двадцатого века с моей Россией самые омерзительные, двуногие отбросы рода человеческого, которые суют мне, как подачку окропленный кровью невинных жертв кусок металла… – И вновь задумчивая, звонкая пауза, прерванная решительным, как удар меча, стальным голосом: – Совесть гражданина и честь артиста не позволяют мне принять этот сгусток крови, как знак позора и унижения. Он энергично поклонился в зал и, резко повернувшись, твердо зашагал за кулисы. Несколько секунд зал молчал в растерянном оцепенении. Вдруг мы, то есть Лариса, Воронин, я, Ююкины ударили в ладоши, и как морская волна, поднятая ветром, подхватила аплодисменты и уже шквал, прокатившийся по залу, выбрасывал голоса «Браво!», «Молодец!», «Слава Богородскому!» Откровенно говоря, я не рассчитывал на такой решительный шаг Лукича и тем более на бурный, солидарный восторг зала, наполовину состоящего из «новых русских», тех самых, кому в лицо плюнул Народный артист СССР Егор Богородский. Что это, чувство стадности: одна птица вспорхнула и другие тут же подхватились. – Не думаю, что только инстинкт стадности, – ответил на мое замечание депутат. – Новые русские, даже хапнувшие миллиарды и соорудившие себе дворцы в России и на Кипре, не чувствуют себя в безопасности. Они в постоянной тревоге, потому что счастье их ворованное, не праведным трудом полученное. Из театра мы выходили в приподнятом настроении победителей. Ждали выхода Лукича. Он не заставил нас долго ждать, вышел возбужденный, лукаво улыбающийся. Мы бросились его поздравлять. А он отвечал нам торопливо и односложно: «Завтра в двенадцать у меня дома». И подхватив под руку Ларису быстро направился к машине депутата, с которым договорился заранее, что тот доставит его из театра домой. На другой день – это была суббота – мы в узкой компании собрались у Лукича. К нашему приходу в гостиной стол был накрыт на двенадцать персон. Были выставлены праздничные сервизы из дорогого фарфора и хрусталя ради такого торжественного, чрезвычайного случая. Настроение у всех было приподнятое: мы поздравляли Лукича с юбилеем, но главное, что всех нас восхитило – его мужественный благородный поступок с отказом от ордена. Звонкая пощечина режиму. Мы задавали себе вопрос: станет этот эпизод достоянием народа, или американо-израильские СМИ постараются замолчать неприятный для них поступок подлинного народного артиста? И как всегда говорили о политике, о чем болят сердца. – Что там в вашей Думе о монархии заговорили? – обратился генерал к депутату. – Был брошен пробный шар ельцинистами, но вхолостую, не нашел отклика, – ответил депутат. – О монархии мечтают художники патриотического разлива, – заметил Воронин, сияя возбужденным лицом. Его взгляд сверлил тихую бессловесную Ларису. Мне казалось она смущается его взгляда и избегает его. – Не сочиняй, Виталий. Зачем художникам царь? Мне он зачем? Скорей поэты монархией грешат, – категорично возразил Ююкин. Он тоже бросал на Ларису нескромные взгляды и быстро определил в поэте своего соперника. – А я не о тебе, – отозвался Воронин. – Я о знаменитых художниках, которые мечтают увековечить себя царскими портретами и памятниками. – Камешки в огород Глазунова и Клыкова, – сообразил генерал. Сокрушенно рассудил: – Странно получается, оба талантливые ребята, за Россию держатся, а никак не поймут, что России не наследственный царь нужен, а умный правитель. России нужен Сталин. – Но Ельцин уже объявил себя царем, пока в шутку, – сказал Воронин. – Ельцин ублюдок, выродок, животное, без души и совести, – раздраженно пророкотал Лукич. – Он подлее Тамерлана, Наполеона и Гитлера вместе взятых… Да, подлее и страшнее. Он загубил великую державу, оскотинил великий народ. – Руками подавляющего меньшинства, – вставил депутат. – А это кто такие, – стрельнул глазами в Ларису Ююкин. – Те, кого до недавнего времени вслух не решались называть. – Чубайсы., березовские, лившицы? – лукаво переспросил Ююкин. – Ты очень сообразителен, Игорек: и Лившица не забыл, – съязвил Воронин и, посмотрев печально на Ларису, прибавил: – «Все будет хорошо, Русь будет великой, но как трудно ждать и как трудно дождаться». Это сказал Александр Блок. – Он и не дождался, – с грустью молвил Лукич. – И не многие из здесь присутствующих дождутся. – Артем дождется, – сказал я и взглядом указал на скромно сидящего, безмолвного курсанта высшего пограничного училища Артема Богородского – внука Лукича. – Боюсь я, друзья-товарищи, что наш оптимизм ничем не подкреплен. И я больше склоняюсь к пессимизму, – вздохнув с грустинкой, сказал Лукич. – Будущее России мне видится в сплошном кошмаре. Иногда… Русские, украинцы, белорусы, и другие народы, населяющие российские просторы, исчезнут, как нации. Из их осколков нынешние Чубайсы и гусинские создадут совершенно новый конгломерат биомассы без истории, без корней. И дадут ему имя – гой. И будет страна Гойяния, не государство, а страна. Страна рабов, страна господ. Рабы – гои, господа – евреи. Вот тогда они и не будут протестовать против пятого пункта ни в паспорте, ни в анкете. Они с гордостью будут писать в своих паспортах национальность – еврей. Артем же Богородский в своем паспорте напишет – гой, что будет означать недочеловек, скотина, раб. Дело к этому идет. К сожалению, ни Артем, ни его сверстники это не понимают. Вот так-то господа-товарищи. Он опустил голову и мрачно уставился в стол. Мы молчали. Никто не решался ни возразить, ни поддержать. Какая-то зловещая тишина опрокинулась на нас и словно парализовала, лишив дара речи. Мы были все единомышленники, друзья Лукича, поклонники его большого таланта. Мы уважали его, как патриота и гражданина, за его прямоту и честность. Мы спорили по частностям, дружески подтрунивали над товарищами. Лукич говорил: – Друзья мои, я хочу что б о каждом из вас потомки могли сказать словами Шекспира: «Он человеком был, человек во всем». Попросили Виталия почитать стихи. И он читал. Сначала патриотические, разящие, как меч, о распятой и опозоренной России, читал с болью, с надрывом. Они звучали как набатный колокол, волновали до слез, до спазм в горле. Наши восторги его воодушевляли и поднимали. Пили тост за его творчество. А он разрумяненный, возбужденный прибирал падающие на крутой лоб пряди седых волос, прочно овладел аудиторией и уже не мог остановиться. – Отдохнем от политики, перейдем на лирику, – весело сказал Виталий и проникновенно посмотрел на Ларису. – Я прочту вам два лирических стихотворения. Одно давнишнее, еще в советские годы написанное, и совсем новое, не опубликованное. И удивительно: эти стихи в его исполнении звучали как-то непривычно, однотонно – певуче и мягко, словно ласкали. И я понял: он читает их для Ларисы, которая ему приглянулась. Он хотел ей нравиться, хотел обратить на себя ее внимание. Самоуверенный и самовлюбленный, он считал себя неотразимым сердцеедом перед чарами и поэзией которого ни одна интеллектуальная девица не устоит. По этому поводу я иронизировал: «Ты не прав, Виталий, интеллектуалки более устойчивы, чем дуры». Он не обижался. Ларису он считал интеллектуалкой, хоть и познакомился с ней только вчера в театре. На Ларису «клал глаз» и думский депутат, который старался выдать себя за важную государственную персону. Лариса сидела между депутатом и Ююкиным, за которым неустанно бдила Настя, и потому художник вел себя довольно скромно, оставив свою соседку на присмотр думца, который ни на минуту не оставлял пустым ее фужер и все чокался о него своей рюмкой с коньяком, предлагая ей выпить. Его излишнее внимание к Ларисе явно не понравилось Лукичу, и тот без всякого повода съязвил: – У вас в Думе уж больно важничают. А важность – это маска посредственности. Вы обратили внимание: серенькие птицы лучше поют, чем пестрые, с разукрашенным опереньем. Самый главный певец – соловей, он внешне совсем невзрачный. За то голос! Божественный. А пестрая сойка вместо песни издает скрежет и визг, будто ей на хвост наступили. – А иволга! – вставил я. – Прекрасный голос-флейта. И оперенье, что надо: золото с чернью. Очарование! – Это исключение, – возразил Лукич. – Да к тому же она не здешняя, приблудная, из теплых краев южного полушария. Спорить с Лукичом было трудно: в птицах он хорошо разбирался, знал их жизнь, повадки, привычки. Воронин сидел напротив Ларисы и злился на депутата. Что б отвлечь на себя внимание Ларисы, он предложил послушать шуточные стихи своих друзей-поэтов. Сначала прочитал Феликса Чуева:
Глава шестая
Лариса
Время летит, годы бегут. Их не остановишь и не вернешь. «Почему так?» – спросила я Егора Лукича. – Не знаю, – ответил он, пожав плечами и прибавил: – Я сам не заметил, как дедушкой стал. И внук мой влюбился в мою жену, выходит, в свою бабушку. – Это я – бабушка? Не став матерью. Комедия. – Скорей трагедия или драма, – поправил Лукич. – А может просто водевиль? Он называет меня женой. Он предлагает прописать меня в своей приватизированной квартире, стать хозяйкой этой квартиры. Я пока воздерживаюсь: его поведение, отношение ко мне, полное доверие, его страстная любовь, в искренности которой у меня нет сомнения, – все это так неожиданно, непривычно для меня, что я нахожусь в растерянности. У меня голова кругом идет, не могу разобраться в своих чувствах. Мне кажется, он околдовал меня, я уже не могу о нем не думать, мне хочется как можно чаще видеть и слышать его. Как-то еще летом я сказала ему: «Вы хотите меня влюбить в себя?» Он ответил: «А разве это возможно насильно влюбить? По-моему – нет. Любовь возникает стихийно, независимо от разума». «Бурная любовь может легко переходить в ненависть», – сказала я и тут же вспомнила про трагичность безответной любви. В студенчестве в меня был безумно влюблен однокурсник. Он буквально преследовал меня, пылко изъяснялся, клялся в своей вечной любви. Но у меня к нему не было никаких чувств, а его настойчивое нытье было мне оскорбительно и противно, вызывало отвращение, которого я сама стыдилась. Когда он понял, что его домогательства мне противны, он возненавидел меня, о чем и объявил тут же. Помню, в тот юбилейный вечер, когда я осталась у него ночевать, он деликатно упрекнул меня в кокетстве. – Ты меня ревнуешь? – с приятным удивлением спросила я. – Тайком. Разумом я понимаю, что ревность – коварное чувство: она из мухи делает слона. Но мы бессильны от нее отказаться. – А мне нравится, когда ты ревнуешь: значит любишь. Я тоже тебя ревную, – призналась я. – Ты? Ревнуешь? Это уж слишком! К кому? Ты мой последний роман. – Вот даже как? Ты считаешь, что у нас роман? А я-то думала любовь. – Романов без любви не бывает, – попытался поправиться он. – Я имел в виду то, что больше я уже никогда никого не полюблю. Он называет меня женой, я в шутку раза два назвала его мужем. Рассказала об этом Лиде, думала она мне поможет разобраться в истории, в которую я влипла. Лида еще больше запутала меня. – Ты хочешь ребенка, – рассуждала Лида. – Лукич тебе не может сделать ребенка уже в силу своего возраста. Тебе нужен если не муж, то производитель помоложе. Ты говоришь, что он тебе нравится, он талантливый, нежный, заботливый, твой единомышленник. – Он – моя судьба, он послан мне небом, – перебила я. – Как мужик он тебя удовлетворяет? – спросила она в лоб. – Вполне и даже больше. С ним я почувствовала себя женщиной, получила истинное наслаждение. Настоящее блаженство, а не скотство, которое знала раньше. – Ну ладно, я рада за тебя. Но сколько твое блаженство может еще продлиться? Тебе через десять лет будет сорок один, а ему восемьдесят один. Ты и там думаешь иметь блаженство? Об этом ты подумала? Ты ж будешь в самом соку, будешь цепляться за каждые мужские штаны. Это в том случае, если твой Лукич доживет до восьмидесяти, дай Бог ему здоровья. – Бог даст, он заслужил, и перед Богом чист. А прожить с таким человеком во взаимной любви даже пять лет – это счастье. Мечта любой женщины. – Он не скряга? Помогает? Подарки там какие и все прочее? Состоятельный мужик? – Он из «старых русских» в полном смысле этих слов. И старый и русский. Живет на пенсию, да еще подрабатывает в ГИТИСе, студентам преподает. Одет, обут, не голодает. Содержит дачу. Машину продал. А подарки? Разве в них дело? Подарил мне два костюма, теплые сапоги, кольцо, духи. Я благодарна, при моей зарплате и это подспорье. Хочется одеться, особенно теперь, когда бываю с ним в компаниях. Раньше я как-то была равнодушна: зачем нужна красота, когда ей некому любоваться? Теперь хочется. Приличного пальто нет, а шуба – моя несбыточная мечта. Но не это главное в жизни. Мы оба с ним нищие интеллигенты в нищей стране среди нищего народа. Мы богаты в другом, в духовном. Этого богатства у нас никто не может отнять, никакие чубайсы, гусинские, ельцины. – Ну не знаю, может по-своему ты и права. Только вот ребенок тебе обязательно нужен. Как он посмотрит, если ты принесешь ему сына со стороны? Вы об этом не говорили? – Говорили. Он меня понимает. – Если понимает, значит всерьез любит. Да и как тебя не любить? Ты у нас всегда была на особом счету. – А вот удивительно, Лидок, не знаю, чем это объяснить. До встречи с ним на меня мужчины не обращали внимания, хотя я и бывала в компаниях. Так, мимо смотрели. И мне было очень обидно. Мол, все, вышла в тираж, или я какая-нибудь дурнушка? А как Лукич появился, представь себе, интерес у мужиков вспыхнул, глаз кладут, комплименты расточают. В чем дело, где причина? – Причина или тайна? Я думаю рядом с ним ты похорошела, расцвела, силу свою женскую почувствовала. Ты и вправду влюбилась? – Влюбилась, Лидок,. Родным он мне стал. Не могу без него. Какими только словами меня не величает: и несказанный свет, и ангел небесный, и солнышко, и родничок и чистый ручеек. – Если так, то выходи замуж. Переезжай в Москву, пропишись, устраивайся на работу. Сыграем свадьбу. – Свадьбы не будет. Нас сочтут сумасшедшими, будут трепать имена, указывать на нас пальцами. Одни будут осуждать, другие завидовать, мол, «Какая сила духа! Такой любви не знала Россия!» – И мы обе рассмеялись. – Можно состоять и в гражданском браке. Для меня это не имеет значения. Проблема – родители. Мои родители. Для них это будет удар. Сейчас мама уже проявляет особое любопытство: у кого я остаюсь ночевать, да скоро ли переберусь в Москву. А папа о внуке мечтает. Самое пикантное, что папа знаком с Лукичом. – Ну, тем более, – успокоила Лида. – Пошумят-поворчат, да и смирятся. Ты же не у них будешь жить. И ты не семнадцатилетняя девчонка, сама решаешь свою судьбу. Главное, позаботься о ребенке. Лида, конечно, права – ребенок нужен. А где его возьмешь? Я всегда с волнением прохожу мимо детского сада, с трепетом смотрю на малышей. Видно во мне сильно развито материнское чувство. Иногда я думаю о друзьях Лукича, рассматриваю их, как потенциальных производителей, глядя на того или другого, я мысленно представляю своего ребенка, почему-то мальчика, и каким он будет, если даже внешностью пойдет в отца. Вот Виталий Воронин. Мужественное лицо, правильные черты, серые глаза. Только живот великоват. А у Игоря Ююкина с животом порядок: стройный, подтянутый, мордашка симпатичная, балагур. Но это можно поправить в процессе воспитания. Смешно: как будто я уже готова обратиться к ним за услугами, пожалуйста, мол, не хотите ли поразвлечься? Не так просто. Но зато тут гарантия от СПИДа и прочей мерзости. Конечно, Лида – плохой советчик, у самой семейная жизнь не получилась. Единственный ее плюс – так это внебрачный ребенок, который не знает своего отца. Да и сама Лида не знает, где нынче живет – пребывает отец ее мальчика. У Лиды теперь новый друг, а точнее сожитель, который, по ее словам, пока что ее устраивает. Появляется, когда ему вздумается. Неделю поживет, потом недели на две куда-то исчезает.Кто он и что есть на самом деле, Лида не знает. Нет, такая жизнь не для меня, Лида не может быть примером. Хотя сама она смирилась и считает, что лучше кто-то, чем никто и ничего. У нас с Лукичом все по-другому. У нас духовное единство. Я полюбила его среду, о такой я мечтала со школьных лет. Мне приятно бывать в компании его друзей – это интеллигенты, истинные патриоты, образованные, талантливые, порядочные люди, «старые русские», художники, писатели, музыканты. Русская элита, а не русскоязычные выскочки с двойным гражданством, оседлавшие телевидение и прессу – растленные циники. Не прошло и года, как мы познакомились с Егором Лукичом, а мы уже побывали на концертах двух замечательных, подлинно русских коллективов. Сначала мы были на концерте оркестра «Боян», которым руководит друг Егора Лукича народный артист СССР и России Анатолий Иванович Полетаев. Какой разительный контраст с эстрадной какофонией, с оглушительным грохотом, высверками и туманом, которую крутят по телевидению. Оркестр «Боян» – живой, чистый, светлый родник русской национальной музыки, ее души. Я слушала эту музыку всем своим существом, она перенесла меня в сказочный мир недавнего советского прошлого, которое у нас украли, растоптали, оплевали. А театр «Гжель», музыкально-хореографический, руководимый народным артистом России Владимиром Захаровым – это же чудо, духовный взлет, крылатая Русь! У меня нет слов, чтоб передать впечатление. Это надо видеть, пережить. Кстати, оба, и Полетаев и Захаров друзья– единомышленники и патриоты. Они создали свои коллективы и хранят их в первозданной нравственной чистоте, находясь в окружении массовой псевдокультуры разврата и духовной деградации. Егор Лукич любит и знает музыку. Его кумиры Чайковский, Мусоргский, Бетховен и Вагнер. Особенно последний – громовержец, Бог, как величает его Лукич. Мы часто вместе ставим пластинки и слушаем, наслаждаясь. Я с детства обожала Чайковского, а в студенческие годы открыла для себя Бетховена. Но Лукич поколебал мое пристрастие к Бетховену, процитировав его кощунственные слова: «В конце концов Христос был всего-навсего распятым евреем». Меня это очень возмутило. Я сказала, что не верю, чтоб такую неправду мог сказать великий композитор. И, вообще, Христос не был евреем, он был самаритянином. Я, глубоко верующая, не принимаю Ветхий завет Библии, считаю его фальшивкой, сочиненной иудеями с целью охмурить и поработить другие народы – гаев. Иудеи глубоко внедрились в другие религии, в том числе и православие, чтоб изнутри разрушать их духовную сущность. Лукич рассказывал мне, что настоятель Кантерберийского собора иудей Коган, французский католический кардинал тоже еврей. Покушение на русскую православную церковь ведется издавна и экуменизм вырос не на голом месте, – еще Владимир Соловьев предложил объединить православие с католицизмом. Сегодня враги России видят в православии серьезную для себя опасность, потому и атакуют его как изнутри, так и со внешней стороны. Им легко, на их стороне и патриарх Всея Руси господин Ридигер, и разные «Свидетели Иеговы» – детища Израильских спецслужб. А между прочим, эта зловредная секта запрещена в тридцати пяти странах. У нас она процветает, совращает верующих с пути истинного. У нас с Лукичом бывали споры и по некоторым историческим и политическим вопросам. Но это нисколько не мешало нашим теплым отношениям. Вот взорвали в Тайнинском памятник Николаю второму. Я считаю это диким варварством. У Лукича другое мнение. По его словам, не было никаких оснований воздвигать этот памятник, – просто самодеятельность монархистов и прежде всего скульптора Клыкова, человека, несомненно, одаренного, но соорудившего очень посредственный памятник маршалу Жукову. Таких конных статуй в Москве всего три: Юрию Долгорукому скульптора Орлова, Кутузову скульпторов Томского и Едунова и Жукову. Самый неудачный – последний. Так считает Лукич и его друзья. А что касается Николая второго, то Лукич считает, что он вообще недостоин памятника, поскольку для России ничего хорошего не сделал, а плохого предостаточно. Как и его потомки – Хрущев и Брежнев. Если разрешить самодеятельность скульпторам, то они понаставят монументы и Хрущеву, и Брежневу, и Окуджаве с Никулиным, как соорудили Высоцкому. А Церетели, изуродовавший Поклонную гору, и вообще, Москву, может соорудить монумент и Лужкову и Ельцину и самому дьяволу. Он же никакой не художник, а просто делец. Так мне объяснил Лукич. В университете у меня бывают в неделю четыре свободных дня, считая выходные, и я обычно провожу их в Москве с Лукичом. Какая– то неведомая сила влечет меня к нему, не просто в Москву, как прежде, но именно к Лукичу в его уютную квартиру, где мне все знакомо и мило. Он говорит, что каждый мой приезд – для него праздник, а я яркое солнце, которое согревает его душу. Похоже, он боготворит меня, считается с моим мнением, старается предвосхитить мои желания. В одежде он консервативен, традиционен. А мне хочется видеть его все время нарядным, современным. – К чему это? – недоумевала Лукич. – Разве так важно, какая у тебя рубаха, с пуговицами на воротнике или без них. Была бы чистая. – И современная, – убеждала я. – Ты бываешь на людях, ты знаменитый, тебя узнают на улице, в метро. Ты должен быть всегда элегантен, как эталон. Он внял моим советам, обрадовался, когда я купила ему модную рубаху и свитер. Сердечно благодарил, сказал, что это самые любимые его вещи и тут же в ответ подарил мне малахитовые колечко и сережки. Он не знал, что я не ношу сережки, что у меня даже мочки ушей не проколоты. Он удивился, осмотрел мои уши и восторженно объявил: – К таким классическим, идеальным ушам не нужны никакие украшения. Они сами есть жемчужины, сами тебя украшают. Я стараюсь быть всегда в форме, всегда нарядной, чтоб нравиться ему. И мне обидно, что он не обращает на это внимание, говорит, что я много трачу времени на прическу, на ресницы и брови, что важна не форма, а содержание, а его он находит во мне даже с избытком. Меня радует его жизнелюбие, вдохновение, с которым он пишет свои воспоминания, читает вслух стихи, монологи пьес. Мне нравится, как он читает. Бесподобно, страстно, проникновенно. И своим чтением волнует меня. Я часто прошу его: «Егор, прочти что-нибудь? „ „Что именно, родная, заказывай?“ «Прочти Есенина или Василия Федорова. О любви“. И он читает вдохновенно, до самозабвения. Однажды прослушав его чтение о любви, я сказала: – Говорят, бурная любовь, неустойчива, она легко переходит в ненависть. Он посмотрел на меня пристально, испытующе и ответил: – У меня не бурная. У меня основательная, осознанная, и ненависть ей не грозит. Запомни это, любимая. В последнюю неделю перед зимними каникулами у меня на кафедре произошел инцидент со студентами. Речь зашла о псевдокультуре, которую значительная часть молодежи считает современной и отличной от традиционной, классической. Между мной и студентами первокурсниками завязался довольно острый диалог. Я утверждала, что в сегодняшней России национальная, подлинная культура, исповедующая красоту и гармонию, духовную возвышенность подавлена мировым потоком грязи, макулатуры, разврата, которым заполнен эфир, телеэкраны, издания. И делается это преднамеренно врагами России, с целью воспитать новое поколение потребителей, с низменными инстинктами, циниками– индивидами, которые заботятся только о своем брюхе. На общество, на страну, на ее интересы им наплевать. Они бездумно готовы стать рабами пришельцев. Национальная культура, патриотизм их не интересуют, для них она не представляет ценности. Да они ее и не знают, ибо на эстраде, в эфире, на телевидении господствуют бумажно-стеклянные звезды, бездарные, пошлые и примитивные, антихудожественные маразматики. Все эти леонтьевы, буйновы, аллегровы, долины ничего общего с искусством подлинным, возвышенным и прекрасным не имеют. И тут поднялся галдеж: как, мол, так, это звезды, таланты, современно, интересно, нам это нравится. – Вы можете спеть их песни? – спросила я. Желающих не нашлось, потому что их песни – просто визг, слова без смысла, неприличные, лишенные мелодичности. Душа песни в мелодии, в поэзии слов. Такие песни способны волновать. Возьмите русские народные песни или песни советские. Отечественной войны. В них и любовь, и нежность, и тоска, и печаль. В них все, чем живет человек, что возвышает и облагораживает его. А слова какие? «Скажи, зачем на этом свете есть безответная любовь?» Или «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» или «Я люблю тебя так, что не можешь никак ты меня никогда ни за что разлюбить?» Или «Где-то под рябинушкой парни ждут меня»? А какие слова у Леонтьева или Буйнова, у той же телевизионной звезды Ларисы Долиной? Бред, тарабарщина. Поднялся галдеж: одни не соглашались, протестовали, другие поддерживали меня. Один спросил с вызовом: – А что по-вашему Алла Пугачева? Тоже стекляшка? – Стекляшка. Изрядно потускневшая, давно угасшая. Ей, как и Высоцкому американо-израильское телевидение сделало рекламу. А настоящих звезд, таких как Петрова и ей равных к экрану на пушечный выстрел не допускают. А Талькова просто убили и убийцу спрятали в Израиле. Тогда в диспут вступила Инна Гехт – всегда очень активная, самоуверенная девчонка из «авторитетов», внешне смазливая, большеглазая, рафинированная. Я ждала, что она еще в начале нашей беседы выскочит и попытается завладеть инициативой. Языкастая и остроумная, она всегда задавала тон и владела аудиторией смелыми и дерзкими высказываниями. На этот же раз она помалкивала, очевидно, ожидая своего часа. Это меня настораживало. И когда я противопоставила Талькова и Петрову Высоцкому и Пугачевой, ее прорвало. – Если я вас правильно поняла, Лариса Павловна, то вам не нравятся Алла Пугачева и Владимир Высоцкий, Александр Бубнов, Валерий Леонтьев и Лариса Долина только потому, что в отличие от патриотов Игоря Талькова и Петровой, они евреи? По той же причине вам не нравятся молодые реформаторы Чубайс и Немцов. Ваша позиция не нова, она нам давно и хорошо известна. Называется она антисемизм или фашизм, что одно и тоже. Я даже обрадовалась, что она перевела разговор в область политики. Итак, реформаторы Чубайс и Немцов. К чему привели их реформы? Что дали они народу? В частности нам, работникам бюджетной сферы – педагогам, врачам, да и рабочим? Не выплату зарплаты по пол году. На что прикажите жить? И было ли такое когда– нибудь при советской власти, чтоб хотя на две недели задержали б зарплату? Такое немыслимо. Но вам, молодым, в том числе и вам, Инна Гехт, это неведомо, потому что всем вам нагло внушили американо-израильские СМИ, что советская власть – это плохо, это ужасно. А вот нынешний дикий капитализм – это благо. – А почему, Лариса Павловна, вы считаете телевидение израильским? – не унималась Гехт. – Да потому, его хозяева – евреи. Господин Березовский – гражданин Израиля. Господин Гусинский вицепредседатель Всемирной еврейской организации. И вдруг в разговор вмешался Витя Елизаров, отличавшийся всегда своими непосредственными вопросами. – Я недавно прочитал в одной газете, что девяносто процентов населения народа – это рабы. А десять процентов – рабовладельцы, «новые русские», в том числе и Чубайс, и Немцов и Березовский с Гусинским. И вот недавно я смотрел фильм о Спартаке, как рабы восстали против рабовладельцев, пошли на смертный бой. Неграмотные рабы, превращенные в животных, в скот. Это было две тысячи лет тому назад. И мне подумалось: почему же нынешние грамотные, образованные рабы не восстанут против своих рабовладельцев? Боятся крови? А индусы не испугались крови и пошли за Ганди, изгнали рабовладельцев-колонизаторов англичан. И юаровские африканцы не побоялись репрессий, шли в тюрьмы, под пули, но сражались и победили. Что наши рабы трусливей индусов или негров? Да нет, пошли против Гитлера и победили. – То было другое поколение, – сказала я и с благодарностью посмотрела на Витю за поддержку. – Наш народ, к сожалению, доверчив и его рабовладельцы опутали ложью. Он поверил телевизионной лжи. – Но тогда в магазинах были очереди за колбасой, и водка по талонам, а за границу людей не пускали, и за критику правителей сажали. Магазины пусты. Была цензура, – заговорил приятель Инны Саша Быков, разбитной паренек из семьи местных предпринимателей. В учебе он успевал, среди ребят пользовался авторитетом и влиянием. Я ожидала от него «каверзных» вопросов, он откровенно поддерживал демократов, считал себя «нашдомовцем». В группе были и жириновцы, и лебединцы, и явлинцы, и поклонники рыжковского «Народовластия», и зюгановцы, – которые называли себя просто патриотами-государственниками. Но я почему-то думала, что Саша первым атакует меня вопросами. Но он уступил первенство Инне, которая обычно предпочитала иметь «последнее слово». Сегодня последнее слово я решила оставить за собой. – Хорошо Быков, – сказала я. – Давайте разберем ваши тезисы по пунктам. Перед самой горбачевской перестройкой в магазинах действительно не хватало товаров. Но товаров было достаточно на складах, как теперь выяснилось, их придерживали будущие «новые русские», чтоб создать недовольство среди народа и потом спекульнуть ими на свободном рынке. Это было запланированное вредительство. Да, поездку людей за границу ограничивали. Зато сейчас свободно путешествуют шпионы, контрабандисты, уголовники. Да, за критику наказывали и это было глупо. Сегодня критикуют и президента и его окружение, вскрывают жуткие преступные их деяния. А толку что? Они как нарушали законы, так и нарушают, как грабили, так и грабят. Но вы не помните и то хорошее, что было при Советской власти. По ночам вы свободно гуляли в парках, на улице, не боясь преступников. Вы отдыхали в пионерских лагерях, санаториях, ваши родители платили гроши за лекарства и квартиры, которые получали от государства бесплатно. Я перечисляла все блага, что дала народу Советская власть. Словом, у нас произошел острый и откровенный разговор. Позиции студентов разделились, пожалуй, на две равные части. И это печально, что половина поддерживали бездумно Инну Гехт. Проблемы сионизма, а тем более еврейства для них не существовало. Многие просто не понимали и не знали, что такое сионизм и его главная роль в разгроме СССР и превращение России в страну рабов, страну господ. И наш диспут имел потом для меня неприятные последствия. Конечно, Инна Гехт проинформировала своих из университетского начальства о моих крамольных, антирежимных не просто настроениях, – о них там давно знали по позициям моего отца, – но и о попытке просветить студентов. Ко мне стали придираться главным образом русскоязычные деятели. Мне стали устраивать обструкцию. Намекали о моем поведении и отцу. Он решительно поддержал меня. Но тем не менее в университете постарались создать вокруг меня атмосферу отчуждения и неприязни. Произошло это перед самыми зимними каникулами. Я сказала своим, что на все каникулы уезжаю в Москву, буду жить у Лиды (о Лукиче они ничего не знают). И все рассказала Лукичу. Егор встретил меня, как всегда, с юношеским восторгом. Я рассказала ему о своих неприятностях в университете. Он попытался успокоить меня: – Все это мелкие интриги. Не обращай внимания. Или бросай к черту эту дерьмократовскую Тверь и переезжай в Москву, которая не намного лучше Твери. Устроим тебя на работу по специальности. На худой конец пойдешь учителем истории в среднюю школу. А там посмотрим. Я переговорю со своим другом всемирно известным нашим историкам академиком Рыбаковым Борисом Александровичем. Может он посодействует. Ты, надеюсь, слышала о нем? Я слушала его лекции в МГУ, знаю его труды. Так ты с ним знаком? – Даже дружен. – Удивительный у тебя круг знакомых и друзей. Я привыкла к Лукичу, к его уютной и такой гостеприимной квартире. Да что значит – привыкла? Я полюбила его, он стал мне родным и самым близким. Я уже не мыслю себя без него. В этот приезд лежа в постели он говорил мне, откровенничал: – Я знал женщин. За свою долгую жизнь повидал разных – добрых и капризных, ласковых и холодных, искренних и лживых, расчетливых стяжательниц и влюбленных поклонниц, болтливых тараторок и сдержанных, вдумчивых. Они приходили и уходили, не оставив в душе и памяти заметных следов. Исключением была разве что Альбина, немногословная, ценившая мой талант и мой авторитет, которым охотно пользовалась, и любящая подарки. А кто их не любит? Я всегда был щедр, а в то время мои заработки позволяли мне быть щедрым, не то, что нынче. Я часто теперь задаю себе вопрос: любил ли я Альбину? Или был просто привязан к ней, поскольку других, лучших ее, не встречал и не знал. Был ли я счастлив с ней? Думаю, что нет. Для полного счастья чего-то мне не хватало. Она говорила, что счастлива. О себе я такого сказать не мог. Не было у нас духовного единения. Близость духовная была, но слияния не было. Сегодня я от чистого сердца говорю: я счастлив. В тебе я нашел все, о чем мог мечтать и даже сверх того. Без тебя и вне тебя я не мыслю своей жизни. Ты моя совесть, и мысленно не посоветовавшись с тобой, я ничего серьезного не делаю. Я боюсь тебя потерять. Уйдешь ты от меня, и жизнь моя остановится, станет ненужной, бессмысленной, не жизнь, а прозябание. А зачем тогда она? Я человек деятельный и полный любви. Без любви я не смогу жить. Без тебя я ничто. Он говорил искренно, как на исповеди, взволнованным голосом, и слова его согревали душу, как волшебный бальзам. Мне приятно было его слушать и сознавать неотвратимость моих чувств к нему, мою любовь, я прижалась к его горячей сильной и нежной груди, мне хотелось слиться с ним навсегда, стать частицей его самого, переполненного, несмотря на возраст, пылкими благородными чувствами. Да и разницы в возрасте я не ощущала. В метро, в электричке я смотрела на мужчин, по разному одетых, но на их лицах, в их глазах я видела бездуховных и бессердечных дебилов, которые лет десять тому назад встречались очень редко. Я сказала: – Любимый мой Егор, нам надо спланировать наше время каникул. – У меня есть планы, – ответил он. – Я заказал Игорю твой портрет. Мы завтра пойдем к нему на первый сеанс. Если ты, конечно, не возражаешь. Я не возражала. Я никогда не позировала художникам. Для меня было любопытно и престижно. Я уже представляла свой портрет рядом с портретом Лукича в его гостиной. Это высокая честь, символ нашей любви. К Ююкину мы с Лукичом поехали в январе во время каникул. День был не очень морозный и не ветреный. Падал мягкий, пушистый, ленивый снег, как это бывает на театральной сцене. Он создавал праздничное настроение. На душе было легко и радостно. Ююкин нас ждал к десяти часам, но мы уснули где-то во втором часу, проспали и приехали к нему только в одиннадцать. Уже с порога Лукич оповестил: – Не ворчи, Игорек: проспали. А потом дело житейское – девчонка долго марафет наводила. Я говорил: не надо, натуральная ты еще прекрасней. Но разве их убедишь. Я впервые была в мастерской художника. Мне все здесь нравилось своей необычной обстановкой: обилие картин, самовары, вазочки, тюбики красок, кисти. И посреди большой комнаты мольберт с прикрепленным к нему листом чистого белого картона. За мольбертом, немного в сторонке невысокий помост, покрытый старым ковром, на помосте небольшое кресло с резными, деревянными, покрашенными под бронзу, подлокотничками. – Это твой трон, милая моя королева, – сказал Лукич, кивнув на кресло. Он по-хозяйски расхаживал по мастерской, шарил привычным взглядом по картинам и вдруг, остановившись у мольберта, недовольно проворчал: – Ты все таки решил картон. Но я же просил тебя о холсте. – Так лучше, Лукич. Мы ж договорились: сделаю рисунок углем на картоне, а на холсте композиционный портрет маслом. – И углем можно было на холсте, – смирительно молвил Лукич. – Скажи, что пожадничал. – А ты знаешь, сколько теперь стоит холст? Это тебе не советские времена, – оправдывался Ююкин. Пока мужчины припирались, я с интересом рассматривала картины. Тут были и пейзажи – зимние и летние, в которых угадывались знакомые мне по дачном поселке Лукича и Ююкина места, и цветы, и натюрморты, сочные, словно живые. Но особое мое внимание привлекли женские портреты. В основном это была одна и та же женщина – Настя, жена Игоря. Поясной портрет в пестром летнем платье с полуобнаженными плечами и грудью с букетом полевых цветов в руках. Другой портрет – она же в темно-зеленом бархатном платье с глубоким вырезом, обнажившим короткую шею и часть груди, украшенной золотой цепочкой и янтарным кулоном, восседающая вот в этом кресле. Левая рука оперлась в подлокотник и подбородок, правая в кольцах свободно покоится на коленях. Взгляд задумчивый, естественный. Этот портрет мне понравился. Мне даже захотелось иметь именно такой. Только вот фон, какой-то золотистый мне показался не совсем здесь уместным. Другие же портреты той же Насти, написанные в разных позах и одеждах, мне показались неестественными, безликими и пустоглазыми. А большая картина, на которой была изображена Настя, лежащая на тахте в халате, наброшенном на обнаженное тело с кокетливой улыбкой, отдавала фальшью. – Ну, как тебе «Настениана»? – спросил меня Лукич, глядя как я внимательно рассматриваю женские портреты. – Игорь, как Рубенс – у него одна натурщица – собственная жена. Однообразно и скучно. – Попробуем создать «Ларисиану», может она оживит и украсит мою женскую коллекцию, – ответил Игорь и мило улыбнувшись, вопросительно посмотрел на меня. – Как Лариса? Согласны? – Ты не забывай, что Лариса не имеет столько свободного времени, как твоя неизменная модель Анастасия, – за меня ответил Лукич, и в голосе его я уловила ревнивые нотки. Вдруг спросил: – Ты своих «Циников» закончил? – В общем, да. – Покажешь? – Тон Лукича дружески покровительственен. – Эту вещицу еще никто не видел. Вы будете первыми, – объявил Игорь и вытащил из-за шкафа большое полотно. На нем было изображено всего две фигуры, написанные в полный рост на золотистом фоне церковного интерьера: патриарх Алексий-Ридигер (не путать с патриархом Алексием-Симанским) и Борис Ельцин с лукаво потупленным взором и свечой в руке, а патриарх, облаченный в торжественные ризы и сверкающую драгоценными камнями митру с крестом и тресвечником в руках. При помпезном золоченом фоне уж очень ярко были выписаны художником характеры персонажей: ханжество недавнего атеиста Ельцина-оборотня, и торжествующая самоуверенность, граничащая с наглостью, бывшего лютеранина-иноверца, а ныне православного патриарха Веся Руси, ярого экумениста и поклонника иудаизма. Оба ненавистники России. В девяносто третьем в октябре с благословенья антисоветчика – патриарха, антипатриот Ельцин расстрелял из танков законный парламент. Долго и внимательно рассматривая эту картину Лукич заключил: – Ну, Игорек, я поражен и обрадован: ты сотворил шедевр! Я очень опасался карикатуры, очень. А у тебя получилось ядовитое, но правдивое историческое полотно. Документ. Это посерьезнее репинского «Крестного хода». Это, скажу тебе уровень «Боярыни Морозовой» и «Что есть истина». Ты не смущайся, что я поставил тебя рядом с такими титанами русской живописи, как Репин, Суриков и Ге. Ты достоин. – Спасибо, Лукич, – смущенно ответил Игорь. – Ваше мнение для меня очень важно. Я знаю: вы дружили с Кориным, с Пластовым. А теперь не будем терять время – за работу. Сегодня сделаем рисунок углем. Для начала. Немного волнуясь, я взошла на свой «трон». Лукич, не обращая на нас внимания, продолжал расхаживать по залу и рассматривать картины, которые он уже не однажды видел. Он просто старался не мешать работе художника. Игорь определил мне позу и посоветовал не напрягаться и не делать искусственным лицо и глаза. – Сидите естественно и думайте о чем-нибудь хорошем, например, о Лукиче, – сказал он, слегка улыбнувшись. А я внимательно наблюдала за Игорем, всматривалась в его черты лица, и постепенно открывала для себя что-то новое, чего прежде не замечала. У него были круглые, очень живые, подвижные глаза, которые придавали ему юные черты. В них сверкали озорные искорки. Всматриваясь пристально в меня, он щурил их, делал серьезный, озабоченный вид. В одной руке он держал уголь, которым колдовал на картоне, в другой обыкновенный школьный ластик, которым стирал какие-то лишние штрихи. Стройный, подтянутый, мелколицый и худой, он то подходил вплотную к мольберту, то отступал от него и, щурясь смотрел то на меня, то на рисунок, который, конечно, я не видела. У него были светлые, наверно, мягкие волосы и очень выразительные пухлые, почти детские губы, такие беспокойные, как глаза, пожалуй, даже страстные. Мне он показался симпатичным парнем, несмотря на его простые, даже неуклюжие манеры. Не отрываясь от рисунка и не оборачиваясь, он сказал как бы между прочим: – Лукич, чтоб вам не томиться от безделья, соизвольте поставить на плиту чайник для будущего кофея. Если вас, конечно, не затруднит. Прошло около часа и я почувствовала нечто вроде усталости. Оказывается, это совсем не просто, как я думала, сидеть без движения и смотреть в одну точку. Лукич ушел на кухню, поставил чайник и вернулся с тремя чашками, блюдцами, баночкой растворимого кофе и сахарницей. Все он это поставил на стол и обратился к Игорю: – Ты, Игорек, что-то сегодня в молчальники играешь? «Не узнаю Григория Грязнова». Ты бы Ларису просветил, о художниках что-нибудь рассказал. О каком-нибудь Пикассо. – О Пикассо? Хорошо, извольте. Вы слышали о Женевьене? – Женева – это город. А Женевьена – может пригород, – ответил Лукич. – А вы, Лариса? – Я отрицательно замотала головой, боясь потерять позу. – Женевьена – это возлюбленная престарелого Пикассо. Она была моложе его почти на пятьдесят лет. Это когда Пабло было за восемьдесят, – продолжал Игорь, не отрываясь от дела равнодушным тоном, как бы между прочим. Я была удивлена, у меня даже появилось сомнение, может Игорь сочиняет. Но я не посмела раскрыть рта. Зато Лукич, который непонятным образом как бы читал мои мысли, и это было далеко не в первый раз, спросил: – Это факт или легенда? – Это факт, – уверенно подтвердил Игорь и сообщил: – Пикассо много рисовал свою возлюбленную в разных позах, в разных ракурсах и в разной манере. Поезжайте в Эрмитаж и там вы сможете ознакомиться с целой серией этих рисунков. Для меня это была неожиданная и приятная новость. По сравнению с Пикассо наш с Лукичом возрастной барьер показался не таким уж невероятным. Сообщение Игоря, как я обратила внимание, Лукич воспринял с едва заметной, но милой улыбкой. И чтоб не распространяться на эту тему, сказал: – Господин маэстро, а тебе не кажется, что модель устала? Надо бы объявить антракт. – Господин Народный, я бы просил вас не вмешиваться в творческий процесс. Здесь я хозяин, и, как вам известно, лишь в исключительных случаях разрешаю посторонним присутствовать во время сеансов. Да и то, только когда рисую. А когда работаю красками, посторонним вход воспрещен, – полушутя, полу всерьез ответил Игорь и уже ко мне: – Отдохнем, Лариса Павловна. И повернул портрет лицевой стороной к мольберту, он не хотел, чтоб портретируемый видел незаконченную работу. Мы пили кофе с овсяными печениями и сыром и разговаривали. Я все же попросила Игоря рассказать еще что-нибудь интересное из жизни художников. – Ну, что ж, – охотно согласился он. – Продолжим о французах. Вы слышали о Гюставе Курбе? – Это вопрос ко мне. Я немного смутилась. Имя это я слышала, вспомнила его картину: женщина с красным знаменем на баррикадах. Неуверенно сказала об этом. – Да, это Курбе, – подтвердил Игорь. – Это был одаренный художник реалист. А уже в то время во Франции свирепствовала всякая формалистическая декадентская зараза. Травили реалистов. Травила еврейская критика и печать. – Как и у нас, – вставил Лукич. – Да, один к одному. Даже Бодлер, который прежде был приживалкой в студии Курбе, и тот приложил руку к травле. Его картины не принимали на выставки. Наполеон третий хлыстом стеганул его «купальщицу». Дюма-сын назвал Курбе ублюдком. Одна еврейская газетенка сообщила, что Курбе умер, и мать художника, прочитав эту провокационную ложь, тут же скончалась. Его посадили в тюрьму, конфисковали все имущество. Выйдя на свободу, он покинул Францию, эту вотчину евреев, и уехал в Швейцарию. Между прочим, в последствии он, как и Лукич, отказался от ордена «Почетного легиона», а Наполеону третьему дерзко заявил, что он не желает вступать ни в какие отношения с государством. Мол, я – свободный художник. А между тем, в дни Парижской Коммуны он был в рядах коммунаров. Слава пришла к нему только после смерти. Трагическая судьба. Как и многих талантливых деятелей искусства, литературы, науки. За то бездари, особенно евреи и полу евреи, всегда процветают, поддерживаемые их прессой, критикой. Слушая рассказ Игоря, я все больше питала к нему симпатии. Ведь в начале он мне казался несколько легкомысленным, не серьезным. А тут он обнаружил и эрудицию и, главное, идейную платформу. – Вот ты сказал о полукровках, – заговорил Лукич. – А известно ли вам, что в России уже появилась новая национальность – вот эти самые полукровки: мать – еврейка, отец – русский и фамилия отпрыска, конечно, русская. Но Россию они не то что не любят, ненавидят. Все эти чубайсы, явлинские, боровые. Это нация господ. Она уже покорила Россию, захватила власть. Вначале, в советское время, она овладела культурой, наукой, юриспруденцией, медициной.. а теперь и экономикой и всей властью. – Бедная Россия, – сказала я. – Трагическая судьба. Россия крепла и развивалась на продолжении всей своей истории в непрерывных битвах с внешним и внутренним врагом. Половцы, печенеги, хазары. Всех их она перемолола. Потом Орда. Она не исчезла, она отступила, рассеялась. А Россия ширилась на Восток и на Запад, осваивала свободные земли, очищала свои исконные от пришельцев. Вспомните: шведы были под Полтавой, поляки в Москве, и французы, и немцы. Объединяла славян православная Русь сначала единокровных: великороссов, малороссов, белороссов. А затем и других народов объединила в СССР. И победила. Но вот появились новые оккупанты изнутри, пятая колонна – евреи. И поставили Россию на колени, распяли. И я не вижу спасения. Потому что нет народа, нет у людей чувства гордости, национального самосознания. Их окутали ложью, черное выдали за белое, и русские люди не знают, кто же их главный враг. И коммунисты, радетели за народ, стесняются назвать имя главных врагов и России, и всего человечества – сионистов. Так за кофием быстро пролетело время, Игорь объявил: – Продолжим, – И глядя мне прямо в лицо каким-то новым, ласковым взглядом, озорным и таинственным, прибавил: – Потерпите еще полчасика, и ваш очаровательный образ войдет в историю. Эти последние полчаса прошли незаметно, Игорь работал с веселым оживлением, рассыпал анекдоты и совсем неожиданно объявил, протянув мне руку: – Прошу вас сеньорита Лариса оставить свой трон и спуститься на грешную землю, чтоб лицезреть, как будет поставлен последний штрих. Он подвел меня к мольберту и в правом нижнем углу поставил свою подпись всего два «Юю» и дату. Я смотрела с радостным удивлением на свой портрет и находила его удачным, о чем и сказала вслух, вопросительно взглянув на Лукича. Он одобрительно кивнул головой, а я сказала Игорю «спасибо» и поцеловала его в щеку. – О! Сеньорита! – воскликнул дурашливо Игорь. – Этот поцелуй нужно закрепить несмываемым лаком на долгие времена. – Он взял какой-то флакончик и брызнул себе на щеку. Думаю, что это был одеколон, а не лак, потому что рисунок, чтоб не размазать уголь, он брызгал из другого флакона. Лукич достал из своего кейса бутылку шампанского, водрузил ее на стол, потом извлек коробку шоколадных конфет и, обращаясь к Игорю, сказал: – Доставай фужеры. И самые шикарные, из хрусталя. Твой бесценный труд, твой шедевр мы закрепим брызгами божественного напитка. Я думаю положено удачное начало. Главный портрет впереди. – Если нам в работе не будут мешать посторонние зрители, – с лукавой улыбкой уколол Игорь. – Не будут, – заверил Лукич и прибавил: – А этот портрет мы заберем сейчас. Потом рассчитаемся. – Не терпится? – заметил Игорь. – Значит понравился. Я рад. Откровенно говоря, я побаивался оценки Лукича: ему трудно угодить. На этот раз я позировала в серебристой с блестками блузке и черной в крапинку юбке. Игорь поинтересовался в чем я буду позировать завтра. – А в чем бы вы посоветовали? – спросила я. – Да в чем-нибудь поярче, поконтрастнее, – ответил он. – Например: кремовые джинсы и розовая безрукавка, – предложила я. – Гадится. Даже очень: черные волосы, розовое и кремовое. Работать будем все светлое время, учитывая, что его в январе не так еще много. Начнем в одиннадцать и закончим в три. Идет? – Вам видней. Я согласна. Дома Лукич предупредил: – Похоже он глаз на тебя положил. За ним такое водится. – И после долгой паузы почему-то молвил: – Производитель. Мне запомнилось это последнее слово. Я недоумевала: к чему оно сказано? О том, что я очень хочу ребенка Лукич знает и разделяет мое желание. Он даже как-то сказал, что к приличному «производителю» он ревновать не будет. И добавил при этом: – Только не забывай о СПИДе и прочей мерзости. Встретил меня Игорь радушно, помог снять пальто, спросил, не холодно мне. Предложил не снимать белую шаль. Внимательно осмотрел мой наряд и заключил: – Очаровательно! Этот портрет я буду писать сердцем. – А почему не красками? – рассмеялась я. – Потому, что ты красивая. Давай перейдем на «ты», мы же почти ровесники. Согласна? – Давай, – без особого энтузиазма ответила я, глядя на большой холст, стоящий на мольберте. На холсте уже слабым контуром намечена композиция: девушка сидит в кресле, забросив правую руку на спинку, а левая рука с букетом цветов свободно покоится на коленях. – Такой вариант тебя устроит? – любезно спросил он и прибавил: – Конечно, было бы интересней, если б вместо брюк была короткая юбка. У тебя красивые ноги. Есть у тебя такая юбка? – Найдется. И тоже бежевая. – Прекрасно! – обрадовано воскликнул он. – Завтра ты ее прихватишь. Здесь переоденешься. А сегодня займемся головой. Голова, лицо – главное. Особенно твои глаза. У тебя глаза молодой рыси. Тебе никто так не говорил? В них что-то есть и восточное, персианское. И какая-то неразгаданная тайна. Усадив меня в кресло и смешивая кистями краски на палитре, он продолжал говорить любезности, которые можно было расценивать, как признания в любви. – Когда я увидел тебя на теплоходе впервые, ты на меня не произвела впечатления. Разве что пышные, густые, черные волосы. Я на них обратил внимание просто как профессионал-художник. Но вот когда ты запела «Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю», тут я вздрогнул. Передо мной была женщина-мечта. Мне захотелось с тобой познакомиться, поговорить, написать твой портрет, картину. Между прочим, после этого портрета я попрошу тебя позировать для большой картины, давно мной задуманной. Назовем ее «Майское утро» и будем писать на даче Лукича, на террасе… Да, но пока я искал случая, чтоб с тобой встретиться наедине, потому как Настя неусыпно бдила, мой старший друг и соперник Лукич обскакал меня. Вступать с ним в соревнования я счел бестактным, пощадил старика, уступил, отвалил в сторону, но в памяти своей и в сердце твой образ хранил и надеялся, что наши пути еще сойдутся. Портрет, картина и все такое. Да, в тебе что-то есть неотразимое. Удивительно: нечто подобное я уже слышала от Лукича. И только от него. До Лукича никто ничего подобного мне не говорил. Я молча слушала Игоря и мысленно представляла, каким от него был бы мой мальчик. Рослый, стройный, мелколицый, белобрысый… Нет, волосы могут быть мои или нечто среднее между черными и светлыми – русые. И глаза могут быть мои. – У тебя сейчас счастливое выражение лица, – перебил мои мысли Игорь. – О чем ты мечтала? Я ответила легкой улыбкой. В половине первого он сделал перерыв. Опять мы пили кофе с пирожными. Игорь снова попытался осыпать меня комплементами, но чтоб оградить от них себя, я попросила рассказать о художниках. Что такое «авангард» в живописи? – Авангардисты – это шарлатаны и бездари. Отсутствие таланта они заменяют всяческой бессмысленной мазней, уродующей реальную действительность, – ответил Игорь и продолжал: – Вот один из таких некто Борис Алимов. Слетал на Камчатку, но там не писал и не рисовал. Вернулся в Москву, и по памяти создал такой шедевр: две бабы стоят раком, упершись лоб в лоб. А на голове у них оленьи рога. Такая вот чушь. – Но их иногда называют гениями, – сказала я. – Называют. Такие же идиоты. – А кто такой Сальвадор Дали? Гений или шарлатан? – То же, что и Борис Алимов. Вот что он сам о себе пишет в своей книге «Покорение иррационального». Послушай: «Мне кажется совершенно ясным, почему мои друзья и враги делают вид, что не понимают значения тех образов, которые возникают и которые я переношу на свои картины. Как вы хотели, чтоб понять их, когда я сам их не понимаю». Откровенное признание. – Выходит, сам не понимает, что творит, – сказала я. – Он психически-ненормальный. – А они все «авангардисты» чокнутые. Игорь интересно говорил об искусстве, о художниках. И после перерыва я взобралась на свой трон, и он работал еще не больше часа. На этот раз холст не прятал от меня. Лицо уже было почти написано, и мне нравилось. Пока я рассматривала свой портрет, он быстро поставил на стол бутылку шампанского, плитку шоколада, сыр и ветчину, приготовленную к моему приходу. Мы выпили за успех этого портрета и за будущую картину «Майское утро», где я буду единственным персонажем. Между прочим, он как-то походя спросил, а могла бы я позировать ему обнаженной для картины «Майское утро»? – У тебя прекрасное тело, классическое. – Откуда ты знаешь о моем теле? Ты обладаешь особым зрением, вроде рентгена, видеть через одежду? – Представь себе – да! Потом он вышел из-за стола, подошел ко мне сзади и обхватив мою голову, страстно, несмотря на мой протест, поцеловал меня. – Что это значит? – сухо спросила я и посмотрела на него осуждающе. – Это значит, что я тебя люблю, – как ни в чем не бывало ответил он и сделал попытку повторить поцелуй. Я увернулась и быстро встала. Он обхватил меня за плечи и крепко прижал к себе. Руки у него оказались сильными, несмотря на худобу. Лицо его пылало. Он тяжело дышал и как бы второпях выталкивал из себя глухие слова: – Я люблю тебя и хочу, чтоб ты была со мной. – С тобой у тебя Настя, – сказала я и с силой расцепила его руки. – Настя мое несчастье, а твой Егорий – твое горе. – Настя и двое ребят. А Егория не трогай. Он – мой. – Хорошо, присядь, давай поговорим. – Он усадил меня на тахту и сам сел рядом. – Я серьезно, это не флирт. Я готов на тебе жениться. Я уйду от Насти. Она дура, и брак наш тоже дурной, случайный, глупый. – Уйдешь. А твои мальчишки, как они без отца. Ты ведь их любишь? – Люблю. И они меня любят. Я их с собой возьму и будем жить вот в этой мастерской. А потом куплю квартиру. Я заработаю. «Новые русские» хорошо платят за портреты, за пейзажи. Вдруг он обхватил меня, стал целовать и повалил на тахту, шепча умоляющие нежные слова. Шампанское действовало на нас обоих. Он говорил, гладя мои волосы: – Лукич не узнает. Как он может узнать? – Я сама ему расскажу. У нас нет тайн друг от друга. , – Да это же глупо. Нам будет с тобой хорошо. – И тут я вспомнила последнее слово Лукича – «производитель» и произнесла его вслух. Игорь тот час же уцепился за это слово: – Да, я производитель, достойный, хорошей породы. Я сделаю тебе сына, обязательно сына. От меня бывают только мальчики. И он проворно уже сбросил с себя брюки и расстегнул молнию моих джинсов. «Да, сынишка, мальчик, моя мечта, – лихорадочно стучало в моей голове. – Лукичу не скажу, скрою. Он же не возражал». И в это время я почувствовала на своем животе его горячую руку, и джинсы мои были спущены до самых пяток. И какая-то неведомая сила пронзила меня, и я в тревоге вскрикнула: «Егор!» и одновременно сильным рывком сбросила его на ковер, а сама в ужасе соскочила с тахты и убежала почему-то на кухню, где быстро привела себя в порядок. Когда я вернулась в зал, Игорь метался по комнате, обхватив руками поникшую голову и бормотал: – Это ужасно, жестоко, несправедливо! Довести мужика до высшей точки кипения и отбросить, отшвырнуть. – Он поднял голову с легким смущением глядя на меня, продолжал: – Ты ж сама уже была готова, созрела, ты хотела меня, и потом этот ужасный вопль «Егор!» Какая змея тебя ужалила? Я не отвечала, я молча надела сапоги и пальто, решив поскорей выйти на воздух. Я не сожалела и не раскаивалась в своем поступке, я даже мысленно похвалила себя. А он стал у двери, преграждая мне путь и примирительно заговорил: – Ты извини меня. Я виноват и отчасти шампанское. Впредь ничего подобного не повториться. Ты идеальная женщина, и я рад за Лукича, по-хорошему завидую ему. И жду тебя завтра в одиннадцать. Портрет напишем классический и подумаем о «Майском утре». А Лукичу не рассказывай, не тревожь. Он тонкая натура. Еще раз прости. Ты действительно мне нравишься. – Похоже он был искренен. Домой, то есть к Лукичу, я возвращалась в растрепанных чувствах. Я мечтаю о ребенке, мое желание разделяет и Лукич, во всяком случае на словах. Мы даже говорили с ним о «производителе»«, не называя никого конкретно. И его последнее слово, когда я шла в мастерскую Ююкина, „производитель“, можно было истолковывать по разному: и как благословение Игоря на эту роль, и как ревнивое осуждение. Если благословение, то я упустила хорошую возможность. Ведь я в какие-то минуты была готова уступить Игорю и испытать шанс. Я не могла себе объяснить, почему не воспользовалась. В чем тут дело? Что помешало? Думаю, моя привязанность к Лукичу, которая, как мне кажется, уже перевала в любовь. То, что он меня искренне, горячо, или как говорится, безумно любит, у меня нет сомнения. Мне с ним хорошо, как никогда. Ничего подобного в жизни я не испытывала. Он человек особенный, редкостный. И дело тут не в таланте, а скорее в человеческой личности, в обаянии и характере. Его нежность, ласка, внимание меня очаровывает. И вот подходя к его дому, я спросила себя: что я ему скажу? Игорь посоветовал скрыть, не волновать. А я не сомневаюсь, что он расстроится, всяэта история, которой в сущности и не было, огорчит его, вызовет недоверие, подозрительность. И я согласилась с Игорем: не стану рассказывать, скрою. Пусть это будет ложь во спасение. Разве мало нам приходится что-то скрывать, утаивать? Даже от родителей, от друзей? Ведь наша связь с Лукичом – это же строжайшая тайна для моих родителей, что называется „совершенно секретно“. Хотя говорят, что нет таких тайн, которые бы рано или поздно не открывались. Но о своей тайне, родительской, я пока что не думаю. Квартиру я открыла своим ключом, и Лукич в ту же минуту появился в прихожей и как всегда помог мне снять пальто и сапоги. Впрочем, не совсем, как всегда. Обычно прежде чем снять пальто, он целовал меня в губы. На сей раз этот ритуал был опущен, что не прошло мной незамеченным, насторожило. Я решила проявить инициативу, обняла его и поцеловала горячо, страстно. Я почувствовала с его стороны какую-то настороженную отрешенность, холодок. Или мне это только казалось. Я сама была напряжена, и думаю он это заметил. Он всегда внимательно следил за моим настроением, все замечал и даже угадывал. Такова способность тонких, чувственных натур. Еще в прихожей Лукич обратился с обычным: – Кушать будешь? Не проголодалась? – Попозже, – ответила я и вошла в гостиную. Следом за мной вошел и Лукич. На журнальном столике я увидела в конвертах пачку моих писем, которые я посылала Лукичу из Твери. Не имея возможности часто встречаться из-за недостатка свободного времени и подолгу разговаривать по телефону из-за дороговизны, мы раз в неделю обменивались письмами. Это вошло в нашу привычку, письма нас сближали, согревали, и мы тосковали и беспокоились, когда почта их по непонятным причинам вовремя не доставляла. – Чем ты занимался? – спросила я, решив овладеть инициативой. – Перечитывал твои письма, – сухо и вяло ответил он. – Зачем? – Хотел лучше понять тебя. – И как? Понял? – Человек узнается не сразу. Время и опыт открывают в нем новые грани, – уклончиво ответил он. А я подумала: вот и ты открылся для меня сегодня новой гранью, ты какой-то другой, или чем-то озабоченный, недовольный или равнодушный. – Как ты себя чувствуешь? Ты чем обеспокоен? – спросила я, садясь к нему на колени, как это делала раньше. Мне нравилось сидеть на его крупных теплых коленях и целоваться, обняв его за шею. В ответ он спросил: – Расскажи, как случилась? – А что должно было случиться? – Не что, а кто, – с ударением на последнее слово сказал он. – Ты же на случку ходила. Такого я не ожидала. Это прозвучало у него не остроумно, а грубо. – Можешь не волноваться: не случилось, – с вызовом ответила я, и сделала попытку сойти с колен. Но он удержал меня, крепко обхватив за талию. – Должен признаться: я волновался. Места себе не находил. Ничем не мог заняться. Только когда обратился к письмам, немного успокоился. – А почему волновался? – Не знаю, родная, не смогу объяснить. Это не в моих силах. – Тогда и я должна признаться: чуть было не случилась. Но в последний момент я сама не пойму в ужасе выкрикнула твое имя – Егор! – и ничего не произошло. Он только целовал меня и от моего толчка свалился на пол. Хорошо, что на ковер, а то мог бы ушибиться. – Мы оба засмеялись. А он все-таки полюбопытствовал: – От кого же исходила инициатива? – Естественно, от Игоря. Он и в любви объяснился и даже жениться предлагал. – Для меня это не новость: не одной тебе он предлагал. И даже затевал раза три бракоразводный процесс, а потом забирал заявления обратно. – Вот какой гусь. А у него это получалось искренне, – удивилась я. – Да, ему можно посочувствовать. Настасья не дала ему счастья. Женился он не по любви, а скорее по расчету. А для серьезной любви Игорь не создан. Нет У него для этого таланта… А теперь, дорогая, пойди в ванну, а я тем временем приготовлю тебе поесть. – А ты не проводишь меня в ванну? Я забыла дорогу. – С удовольствием. – Ты мне веришь? – спросила я ненужно. – Конечно, дорогая. Как и ты мне. Теперь передо мной был прежний Егор, родной, нежный, ласковый. Я сказала ему, что Игорь очень извинялся, сожалел, что сорвался, просил не говорить, чтоб не расстраивать, обещал, что ничего подобного не повторится и пригласил завтра продолжать работу. – Ты видела, что он там намалевал? – Видела. И мне кажется даже очень не плохо. Пока что лицо написал. Ты не против продолжения? – Конечно же нет. Я хочу иметь твой прекрасный портрет. После раннего ужина мы не включая телевизионные новости, пошли в спальню. Там, уже лежа в постели, разговор продолжили уже более откровенный. Я спросила Лукича, напрямую: – А представь себе, если б с Ююкиным у нас получилось, и я уступила его притязанию ради ребенка? Как бы отнесся? Ты перестал бы меня любить, отказался б от меня? Он ответил не сразу. На какой-то миг я думаю у него мелькнуло подозрение, что у нас с Игорем «получилось», и я сказала ему неправду. Я ждала ответа и повторила свой вопрос. – В сущности ты задала два вопроса, – медленно, задумчиво ответил он. – Первый: разлюбил бы я тебя? Конечно, нет. Я уже говорил тебе и в сотый раз могу тебе повторить: я никогда не смогу тебя разлюбить. Любовь к тебе стала смыслом моей жизни. Все остальное – второстепенно, – он обнял меня и страстно поцеловал, как у Есенина «аж до боли». – И второй вопрос: отказался б я от тебя? Нет, не отказался. Мы оба с тобой хотим ребенка. И ради него, ради исполнения нашего общего желания я подавил бы в себе этот инстинкт ревности. – Ты необыкновенный человек, – прошептала я и прижалась к нему так нежно, будто хотела слиться с ним, раствориться в нем. И тут у меня родилась коварная мысль, которую я произнесла вслух: – А если бы с первого раза не забеременела? Так же часто случается: месяц живут, год живут не предохраняясь, и только на второй год вдруг забеременеет. – Он ухмыльнулся и размышляя произнес: – Да, ситуация. Не хочешь ли ты сказать, что тебе необходимо пожить с Игорем или с кем-то другим? Месяц или год? Но так легко превратиться в куртизанку. – Я этого не хотела сказать. И вообще, ради Бога, прошу тебя, милый мой, не волнуйся, даю тебе слово: ни с Игорем, ни с кем-нибудь другим без твоего согласия ничего не будет. Да даже и при твоем согласии я пожалуй, не смогу. Физически, нравственно не посмею. Я живу только тобой. Для меня никакие мужчины кроме тебя, не существуют. Ты мой идеал, и я счастлива, что Господь соединил нас. А у меня в мыслях все спуталось, смешалось, образовалась какая– то тупиковая ситуация: хочу ребенка и не вижу возможности его заиметь. Казалось бы все просто – и Лукич не возражает. Но… Сколько этих «но». Может быть стоило отдаться Игорю. Но… но. Удивительно, тысячи, сотни тысяч женщин просто не желают иметь детей, делают аборты, предохраняются, случайно без желания беременеют, даже предохраняясь. А я так хочу иметь ребенка и не могу. Завтра пойду опять к Ююкину. Но там ничего не произойдет. У меня нет к нему влечения, чувства, а без этого я не могу. Хотя странно: до встречи с Лукичом могла. А теперь он стал непреодолимой преградой. Лукич любит забавлять меня анекдотами. Ими он переполнен, как и стихами. Но стихам в его исполнении я отдаю предпочтение. В них много любви. А я влюблена безнадежно и, кажется, на всю жизнь. И если случится так, – а пути Господни неисповедимы, – что найдется человек, который станет для меня мужем и отцом, я все равно буду любить Лукича и буду встречаться с ним тайно или явно, чего б мне это не стоило. Его мягкая горячая рука бережно и нежно легла мне на грудь и ласковой теплой волной растеклась по всему телу. И я прошептала: «Любимый, родной».
Глава седьмая
Лукич
Отцвела сирень в моем саду, буйствует белая кипень жасмина, источая сладковатый, нежный аромат. Я люблю сирень, у меня она трех сортов. Мне больше нравится белая и темно-фиолетовая махровая. И все же я отдаю предпочтение белой. Сегодня долго не мог уснуть, до трех часов думал о Ларисе, о ее и нашей судьбе. Что делать? Освободить ее от себя насильно? Я говорил ей об этом. Она ни в какую. Опять назвала меня мужем. Она согласна на гражданский брак, коль скоро я не могу отыскать в Израиле следов Эры и расторгнуть наш брак. Ларису я прописал в своей московской квартире. Пусть переезжает в Москву и живет. Пытаемся найти ей здесь работу. Пока что есть лишь перспектива преподавателем истории в старших классах. Ее это не устраивает: и престиж и зарплата. Последнее не так важно: моя пенсия и хоть небольшие, но дополнительные заработки. Как-нибудь проживем. Но я-то знаю: такая женщина не может «как-нибудь». Тем более со стариком. Она достойна лучшего, чем я могу ей предложить. Пусть решает сама. Я готов на все, я соглашусь с любым ее решением, с любым поступком. Она мое божество. Нет, я не раб ее, я рыцарь! Сегодня она приснилась мне, и я сразу решил позвонить в Тверь. К несчастью, мой дачный телефон почему-то отключился. Надо пойти на почту и позвонить в бюро ремонта или ехать в Москву и вечером звонить в Тверь. Но вот появился почтальон. Мне письмо. Конечно же от нее. Как я обрадовался. Сел на скамеечку под кустом жасмина, распечатал конверт, и перед глазами замелькали такие знакомые, желанные строки: «Егор, дорогой мой! Ну что ты расстраиваешься?! И почему, не возьму в толк, ты иногда не понимаешь меня? При такой чуткости и любви. Ты же артист – должен понимать больше других, видеть дальше других, думать глубже и вернее прочих… Сейчас идут экзамены, много приходится работать. А тут еще весна – моя соперница, вернее, начало лета. Атакуют вопросы: где и с кем провести лето. Хочется к морю и непременно с тобой. Помню, ты говорил о Крыме, об Алуште. Я никогда там не была. Непосредственность, беспомощность и обреченность сейчас особенно на меня сильно влияют. Опускаются руки, ничего не хочется делать, потому что надежды нет. В Твери меня ожидает только пустота на многие годы. С этим жить нельзя. И перспектива на Москву весьма зыбкая. К этому добавилась еще и такая любовь. Очень хочу к тебе, мой милый и родной. Ты же знаешь: возле тебя я спокойна и весела. Разве не так? И все уже связано очень крепко – никуда не денешься. И Москва мне нужна с тобой… Не казни меня, я много думаю о тебе, как и ты обо мне. Наши биотоки сталкиваются и не дают нам спать по ночам. Удивительное дело! Как только мне нужно рано вставать, так именно в эту ночь ты не даешь мне выспаться: биотоки заставляют ворочаться. До глубокой ночи. Остается 2–3 часа, я засыпаю. И знаю, что это твоя работа. Встаю в шесть утра и тащусь разбитая читать лекции. Хочется быть привлекательной и молодой. А время между тем, безжалостно к женщинам, гораздо суровее, чем мужчин наказывает. Значит еще один комплекс – страх перед морщинами. И опять растерянность и беспомощность. Прости, милый мой и родной… Крепко обнимаю тебя, целую. Будь здоров! Надеюсь в одну из ближайших суббот или воскресенье прилететь к тебе. Твоя Чайка». Да, моя Чайка, заря моя вечерняя, любовь неугасимая. А ведь сегодня пятница. Завтра она может прилететь. Надо немедленно ехать в Москву. Я закрыл дачу и выйдя за калитку встретил Ююкина. Он шел ко мне. Спросил: – Вы далеко собрались? – В Москву. – Лукич, мне надо заканчивать «Майское утро». – Заканчивай. Сирень мою ты для своего «Утро» уже написал. – С сиренью порядок. Нет главного – человека, который должен сидеть под утренним солнцем. – Короче, тебе нужна Лариса? – Естественно. Хотя бы на один сеанс. Когда она может появиться здесь, на даче? – Трудно сказать. Сам жду, потому и еду в Москву. – Очень прошу вас: привезите ее. Погода стоит хорошая. Всего один сеанс на пленэре. Вещь получится музейная. Обещаю. – «Девушка, освещенная солнцем»? – Лучше. Я переплюну Серова, – шутливо отозвался Игорь. Неприятный для него эпизод с Ларисой во время работы над ее портретом, был улажен. Я сурово пожурил его, он извинился. Лариса согласилась позировать ему для картины «Майское утро» у меня на даче в моем присутствии и всего два сеанса. Этого было достаточно, чтоб написать голову и в общих чертах фигуру. Лариса появилась не в субботу, как я ожидал, а в тот же день, в пятницу, что меня очень обрадовало. Я всегда с нетерпением ожидал ее приезда. И каждый раз волновался, как перед большим праздником. Веселая, возбужденная, вся излучающая свет и тепло, она в прихожей поцеловала меня и притулила свою голову к моей груди, прошептала: – Стосковалась ужасно. Прямо с лекции, не заходя домой, помчалась на вокзал. Я целовал ее волосы, подхватил на руки и внес в гостиную. В красных джинсах и кремовой короткой кофточке со множеством пуговиц она была неотразима. Пока она переодевалась и принимала душ, я быстро приготовил ее любимые пельмени и откупорил бутылку полусухого белого вина. Мы не виделись с ней больше двух недель, и мне показалось, она похудела, под глазами появились синие круги, а лицо немного осунулось. Я внимательно вглядывался в нее, и она, кажется, смутилась, спросила: – Я плохо выгляжу? – В ответ я отрицательно покачал головой. – Знаю, очень устала. Потом разные дрязги, неприятности. – Рассказывай, родная. Я так ждал тебя, целую вечность. – Когда я училась уже на последнем курсе МГУ, – начала она, – за мной волочился, а вернее пытался ухаживать один наш тверской журналист из породы диссидентов некий Гриша Трапер. Короче, пытался ухаживать. Когда летом я приезжала домой в Тверь, он буквально прохода мне не давал, преследовал. Мне он был не то, что не симпатичен, абсолютно безразличен, а под конец противен. Я понимаю, что безответная любовь ужасна не только для любящего. Она мучительна, обременительна и для не любящего. У нас однажды произошел с ним резкий и откровенный разговор. Я просила его оставить меня в покое, так как между нами ничего не было и быть не может. Мы разные люди, сделаны из разного теста, по разному мыслим. И тут он вспылил: «Ты хочешь сказать, что я – жид и потому мы не подходим друг для друга. Вы – Малинины – известные националисты, юдофобы. Ну что ж, поживем – увидим». И после этого мы больше не встречались. Гриша Трапер куда-то исчез. Говорили, что эмигрировал то ли в Канаду, то ли в Израиль. И вот год тому назад он снова объявился в Твери, респектабельный, откормленный демократ, хозяин одной бульварной газетенки и, помимо того, преуспевающий бизнесмен. Однажды мы случайно встретились с ним в университете. Он с высокомерной учтивостью кивнул мне, спросил, как жизнь, успехи, и не ожидая от меня ответа не преминул похвастаться своими успехами: имеет квартиру в Москве и в Твери, дачу на Кипре, был женат. Теперь разведен и потенциальный жених. «Может имеет смысл нам возобновить наши отношения?» – с лукавой улыбкой спросил он. «У нас никаких отношений не было, так что и возобновлять нечего». «А почему бы не махнуть на Кипр к теплому морю? Комфорт по высшему разряду гарантирую». «Благодарю. Меня вполне устраивает наша Волга и подмосковная природа», – ответила я довольно резко и удалилась. И вот совсем недавно в его бульварной газетенке появилась мерзостная статейка о моем отце, в которой его упрекают в консерватизме и ретроградстве, в игнорировании нового взгляда на историю России. Папа очень огорчен, но своих позиций сдавать не намерен и готов дать ответ где-нибудь в патриотической, оппозиционной режиму, прессе. Но где? Таких органов очень мало, а тираж их мизерный. Я показал Ларисе письмо от моего друга Александра Петровича Никитина, проживающего в Крыму в городе-курорте Алуште. У Никитина свой дом из шести комнат в «Рабочем уголке», и он приглашает нас с Ларисой хоть на все лето и просит сообщить, когда мы сможем приехать. Лариса обрадовалась. В Крыму она не была. Ни в Алуште, ни в Ялте, ни в Севастополе ей бывать не пришлось. Мы определили время ее каникул, когда можно нам поехать к морю. Пока в Твери Лариса занималась со студентами, здесь, в Москве, через своих знакомых и друзей я искал для нее работу. И, к сожалению, безуспешно. Определенным оставалось лишь должность преподавателя истории в лицее. Это огорчило Ларису. Она так надеялась, напомнила: – У тебя же друг знаменитый академик, ведущий историк России Борис Александрович Рыбаков. Я слушала его лекции будучи студенткой. Какой богатырь, глыбища. Ты хотел с ним поговорить. – Не смог, дорогая. Домашний телефон его молчит. Ведь он одинок. Наверно уехал на дачу. Дача у него в Хотькове под Сергиевом Посадом. Я обязательно разыщу его. Ведь ему в будущем году исполнится 90 лет. А он еще читает лекции студентам. Я утешал Ларису, просил не огорчаться. Все будет хорошо. Мы сильные духом. С ней я чувствовал себя на седьмом небе, в раю. Я испытывал истинное блаженство. Я боготворил ее. Нашим разговорам не было конца. Я сказал ей о просьбе Ююкина. Условились, что завтра или утром послезавтра уедем на дачу, и она будет позировать. В понедельник у нее свободный день, и в Тверь она вернется во вторник и будет готовиться к поездке в Крым, а я завтра же пошлю письмо и телеграмму в Алушту Никитину. Он – капитан первого ранга в отставке. Потомственный моряк. Как всегда, мы допоздна не спим. Засыпаем только под утро. Но на этот раз в девять часов нас разбудил звонок в дверь. Я никого не ждал и не хотел вставать. Звонок был настойчивый, и Лариса попросила: – Пойди, милый, открой: может очень важное. Да будь осторожен, посмотри в глазок, прежде чем открывать. И я посмотрел. Первым в глаза мне бросилась зеленая фуражка и золоченые погоны. «Неужто Вася, сынок?» – Мелькнула радостная мысль. Я открыл дверь и передо мной на вытяжку стоял, приложив как положено при докладе, руку к козырьку… Артем. Две звездочки сверкали на новых погонах. – Лейтенант Богородский прибыл по случаю окончания учебы и производства в офицеры! – четко и весело доложил он. Мы обнялись. Вошли в квартиру. Я крикнул в спальню: – Ларочка, у нас гость – лейтенант Артем Богородский! – Тем временем Артем открыл свой чемоданчик, Достал оттуда бутылку шампанского и бутылку коньяка и все это водрузил на стол. А мне шепнул: – Дедушка, я не знал, что здесь Лариса. Я сейчас на полчаса отлучусь. Не возражаешь? – А ты далеко? – не догадался я. – Всего на полчаса, – торопливо и возбужденно повторил внук. – Дай мне ключи. И тот же час выбежал. Я вошел в спальню. Лариса уже одевалась. Спросила: – Нежданный гость? – Новоиспеченный офицер погранвойск. Твой поклонник. – Почему убежал? – Возможно, чтоб дать тебе время привести себя в порядок, – шутя предположил я и добавил: – Поставил шампанское и коньяк. Значит, будем обмывать погоны. – Тогда займись закуской. А я – собой. Хорошо, милый? – Все будет, как надо. В холодильнике по случаю твоего приезда все необходимое приготовлено. Артем возвратился и в самом деле минут через сорок с тортом и букетом белых пионов. Статный, гибкий в талии, с сияющим лицом удачника, в новенькой форме, с золотым блеском погон и пуговиц, выглядел он элегантно. Не виделись мы с ним с осени прошлого года, когда он вернул фотокарточку Ларисы. Мы расположились на кухне. Открыли шампанское и выпили за успехи молодого пограничника, который, оказывается уже получил назначение в Дальневосточный округ. И поезд его уходит завтра вечером. Железнодорожный билет уже при нем. После фужера шампанского Артем решил перейти на мужской напиток и открыл бутылку коньяка. Он быстро пьянел и много говорил. Он провозгласил тост за своего любимого дедушку Егора Лукича, которого знает вся Россия. За честного и мужественного патриота, который бросил вызов власти и не принял ордена. – Вы любите природу? – обращался к Ларисе и рисовал перед ней величественную природу Приамурья с ее могучими лесами и полноводными реками, несметным животным миром, с богатой рыбалкой. – Тайга – это же уникальный край девственной природы. Он налил себе еще коньяк и сказал, что хочет говорить второй тост. Слегка пошатываясь, он встал и обернул лицо в сторону Ларисы, которая сидела с ним рядом. Нетвердым, немного заплетающимся голосом он сказал: – Красавица Лариса. Вы действительно самая красивая девушка в Москве, а может и во всей России. Не даром я нахально, будучи немного пьян, утащил тайком, без вашего и дедова позволения, вашу фотокарточку. Я виноват, я извинился. Но я сегодня все же хочу просить вас подарить мне на память. Я хочу выпить эту рюмку за вашу красоту, Лариса, и пожелать вам еще лет полсотни сохранять эту красоту. С юношеской бравадой вдруг почувствовал себя взрослым и самостоятельным, он лихо выпил и вторую рюмку коньяка. Я понял, что он уже изрядно захмелел и сказал: – Я думаю, Тема, тебе и нам уже достаточно. Надо оставить на обед. – Ерунда. На обед еще купим. Деньги у меня есть, – ответил он. – Есть пока что. А сорить ими без толку ни к чему, – сказал я и отставил бутылку с коньяком на край стола. Артем снял китель, повесив его на спинку стула, снял и галстук. Лицо его порозовело, глаза помутнели влагой. Он заговорил, что многое его товарищи едут к месту службы с молодыми женами, только вот он, бедолага, не сумел за время учебы обзавестись невестой. И снова обратился к Ларисе: – Вы не ответили на мой вопрос, уважаемая Лариса прекрасная: подарите мне на память свою фотографию? – Попросите Егора Лукича. Лично я не возражаю. – Как, дедушка, что скажешь? – Коль Лариса не против, то и я не возражаю. – Вот спасибо вам. Для меня это ценный подарок. Но самым ценным был бы другой, если б мой любимый дедушка подарил его своему любимому внуку. Не просто ценный, а бесценный. – И что ж это за подарок? – спросил я. – Может мой портрет, нарисованный углем? – Нет, дедушка. Вы только оба не удивляйтесь: подарите мне, дедушка, невесту. Вот эту красавицу, которую я полюбил еще тогда на твоем юбилее с первого взгляда. И он бесцеремонно обнял Ларису. Конечно, это можно было принять за шутку, но он заговорил всерьез по принципу «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». – Подарок действительно бесценный, – сказал я. С улыбкой удивления посмотрел на Ларису. – Но я не распоряжаюсь этим подарком. Обратись к Ларисе. – Ну как, Лариса, хотите быть моей женой? – Лариса восприняла это, конечно же, как шутку. – – Что ж я буду делать у тебя на заставе? – спросила она. – Там же нет университета. – Школы должны быть, детей будешь учить, – серьезно продолжал Артем. – А потом и своих будешь воспитывать. – Так ведь я стара для тебя. На целых десять лет старше. – Это не важно. А я через десять лет буду майором, а через двадцать генерал-майором. Мне будет сорок три года, и ты будешь генеральшей. – А мне тогда будет пятьдесят три, и ты заведешь себе молодую двадцатилетнюю любовницу. – Не заведу, – Артем замотал склоненной над столом головой. Потом умоляюще посмотрел на меня: – Дед, уговори ее выйти за меня замуж. Я знаю, ты любишь меня. Так исполни мою самую главную просьбу. – Я люблю тебя, это правда. Но я и Ларису люблю – это тоже правда. – Он с удивлением недоверчиво посмотрел на меня. – И я ее люблю – это тоже правда, – сказал Артем и неумело поднес у своим губам руку Ларисы. Она лишь снисходительно улыбалась. – Ты любишь – это понятно. А любит ли тебя Лариса? – спросил я. Видно мой вопрос несколько озадачил его. – А почему б ей не любить? Я что – урод какой? Я перспективный военный, с образованием. Почему б ей не любить? А тебя она любит? Вопрос как пощечина. Я даже не ожидал: Артем был всегда корректным. Спиртное его развезло, и я решил быть снисходительным. – Ты Ларису спроси, – сказал я, но довольно сухо. – Любишь дедушку? – Повернулся он к Ларисе. – Очень, – ответила улыбаясь Лариса. – А меня? – спросил Артем. – Я однолюбка, Артем. Нельзя сразу любить двоих. А твоя невеста еще ходит в детский сад. Артем задумался, шевеля алыми пухлыми губами. Он что-то считал в уме. Потом сказал: – Так сколько мне ее ждать? Двадцать лет? Нет, не согласен. Он сидел опечаленный, уткнувшись взглядом в стол и молчал, прикрыв глаза веками. Мне показалось, что он задремал, и я уже хотел препроводить его в гостиную и уложить на диван. Но он вдруг заговорил ровным, уже не заплетающимся голосом: – Дедушка, а сколько ж лет ты ждал Ларису? – Мы с веселой улыбкой переглянулись с Ларисой. – Долго, внучек, очень долго. Хорошие дела с налету не делаются. Потому и семьи распадаются, как игрушечные домики. А настоящая семья – не игрушка. Она строится на крепкой взаимной любви. Скоро женятся только кошки. Мы уложили его на диване, и он тот час же уснул сном праведника. Убирая со стола посуду, мы с Ларисой делились впечатлениями. – Жених, – весело говорила Лариса. – Совсем еще мальчишка, ну какой из него муж? А между тем есть женщины, которые предпочитают и любовников и мужей моложе себя лет на десять. Я таких не понимаю. Я с таким ни за что не легла бы в постель, будь он писанным красавцем. А вот одна моя знакомая вышла замуж за юнца, моложе ее на двенадцать лет. И родила от него. Представь себе. – И ты могла родить от Артема, – глупо сорвалось у меня. – Нет, не смогла бы. Мне было не по себе, когда он меня обнял. Я инстинктивно отторгала его прикосновения и рук, и губ. Объяснить это невозможно. Удивительно: с тобой я не ощущаю, не замечаю разницу в возрасте. Ведь мы на равных. Верно? Или я не права? – Ты, конечно, права. Это когда мы находимся вдвоем с тобой, один на один. Но в компании молодых, интересных мужчин ты чувствуешь эту разницу? Она помедлила с ответом, повела плечами, склонила голову, произнесла неопределенно: – Как тебе сказать? Пожалуй, да, появляется какой-то интерес или даже любопытство. Но не сожаление, не досада, а просто мимолетное любопытство. – Ты очень деликатна, щадяща. Я ведь знаю: мне не следует часто появляться с тобой в компаниях молодых мужчин, видеть их не скромные, алчные взгляды, иронические ухмылки. – Тебя это очень задевает? – Да не так, чтоб очень. Но появляется комплекс дискомфорта. – А ты не обращай внимания. Ты чувствуй себя королем, выше и достойней всех их вместе взятых. …Артем проспал беспробудно весь день. И только часов в десять вечера проснулся, чтоб утолить жажду. Лариса уже, спала, а я с Артемом вышел на кухню и поставил на плиту чайник. Артем чувствовал себя скверно. На мое предложение опохмелиться сморщил лицо и замотал головой. – До самого Хабаровска даже пива в рот не возьму. Я так никогда не напивался, – говорил он и виновато отводил глаза. – Ты извини меня, дедушка, я вел себя недостойно и говорил всякую глупость. И перед Ларисой мне стыдно. Я извинюсь. Я предложил ему поужинать. Он нехотя пожевал кусочек сыра, запивая его крепким чаем, и, словно оправдываясь, говорил сжимая голову: – Башка трещит. Ужасно. Никогда больше… в рот не возьму. – Слово даешь? – Даю, дедушка. Со мной такое случайно, на радостях. – Дал слово – это хорошо. У пограничников слова крепкие, как я понимаю. Отец твой никогда спиртным не увлекался. Я перевел разговор в другое русло, меня интересовал вопрос: как воспринимают молодые офицеры нынешнюю обстановку в стране. – По-разному, – ответил Артем. – Большинство отрицательно. Ельцину не доверяют, считают его придурком и шутом. Ну, не вслух, а между собой. А всех чубайсов, немцовых ненавидят и презирают, как жуликов и воров. И даже откровенно об этом говорят. У меня тут есть московский друг Семен Дроздов. Остроумный парень. Много знает. – Много знать, еще не значит быть умным. Остроумным может быть и безнадежная посредственность, – сказал я. – Но есть у нас и такие, которые верят телевидению, своими мозгами шевелить ленятся. Таких не много. У каждого свой кумир: у кого Лебедь, у кого Жириновский, Явлинский. У многих Зюганов. – Ну а твой кумир? Кто? В его глазах заиграли лукавые искорки. Он не сразу ответил, как бы не решаясь открыть свой секрет. – Что же ты молчишь? Или это тайна? Мне-то ты можешь довериться. – Ты только не удивляйся, дедушка. Мой кумир – Сталин. Я нисколько не удивился. Я даже порадовался за тебя. Но Сталина сегодня у нас нет среди живых лидеров. Хотя и настоящих лидеров тоже нет. – Вообще-то я бы предпочел военных, – сказал Артем. – Например, генерала Макашова или Радионова. И, конечно, наш пограничный начальник генерал Николаев Андрей Иванович. Ты не подумай, дедушка, что я субъективен. Он на самом деле очень порядочный, честный и умный генерал. – Что ж, мне они тоже нравятся. А из штатских? Что ты думаешь о Зюганове? Артем сморщил пренебрежительно лицо и сощурил глаза. С ответом не спешил. Наконец сказал: – Он какой-то вялый, осторожный. Там в Думе есть Илюхин. Он, мне кажется, более решительный и прямой. – Что ж, я с тобой, пожалуй, согласен. – Тогда объясни мне, дедушка, почему в этой «холодной войне победили демократы-американцы? В горячей мы победили, а в „холодной“ проиграли? – Потому, Артемка, что при Сталине в стране не было «пятой колонны», то есть внутренних предателей. Сталин разгромил ее еще перед войной. Но корни остались. И корни эти – было еврейство, тесно связанное с мировым капиталом и западными спецслужбами. Они умертвили Сталина и пробрались во все важные артерии власти, – экономику, культуру, в ЦК, в Кремль. Евреи многие столетия мечтали превратить Россию в свою вотчину. И в семнадцатом году уже были у цели. Ленин их сдерживал, они стрельнули в него отравленными пули. Сталин это понял и хотел навсегда выкорчевать их ядовитые корни. Они убили Сталина. – Наступила долгая пауза. Нарушил ее Артем: – Ты извини, дедушка. Можно тебе задать не совсем корректный, интимный вопрос? – Пожалуйста. Я готов ответить на все твои вопросы. – Ты сказал, что любишь Ларису. И я понял, что и она тебя любит. Как это все понимать? Она твоя жена, или…? – Я ждал этот вопрос. Я ответил: – Лариса – самый родной для меня человек. У нас с ней гражданский брак. – Артем закивал одобрительно головой. Сказал: – Теперь все понятно. Она хорошая и красивая. Я спросил о его планах на завтрашний день. Он сказал, что проведет его до отхода поезда у своего московского друга тоже молодого лейтенанта. Потом спросил меня, что я ему пожелаю. Я ответил: – Прежде всего будь верен России и своему народу. Помни, что Россия сейчас находится в ярме американо-израильских оккупантов. И от тебя и твоих друзей зависит ее судьба. Потом: не верь телевидению и газетам оккупантов, думай своей головой. И еще, когда падет этот преступный воровской режим жестоко накажите Ельцина, Горбачева и всю эту преступную банду. За кровь, расстрелянных в Москве в октябре девяносто третьего, за кровь, пролитую в Чечне, за горе детей, матерей, стариков пусть они заплатят своей черной подлой кровью. Никакой пощады. Ваша месть будет священной. Ну и последнее: не женись с налета. И не спеши. Юношеская любовь пылкая, но не прочная. Она что свеча на ветру. И, вообще, скажу я тебе, исходя из моего опыта, любовь-барышня многолика, изменчива, коварна и прекрасна. Она, как литература, выступает в разных жанрах, наряжается в разные одежды, потому она непредсказуема: она может быть и трогательной лирической песней, от которой душа замирает и тело размягчается, как воск на жаре, то возвышенной поэмой, от которой у тебя вырастают крылья, и ты паришь над грешной землей, то пошлым водевилем и глупой комедией, от которой потом надолго, а то и на всю жизнь в душе остается отвратительный кисло-горький осадок; то серьезным, благостно-поучительным романом, то драмой, оставляющей на душе болезненные царапины, а то и безысходной трагедией. Последняя – самая страшная. Как говорится: не дай Бог. – И ты, дедушка, все это испытал? – Далеко не все: но комедию пережил. И роман тоже. – Роман с Альбиной? – А ты проницательный. – А что теперь? – А как ты думаешь, проницатель? – Поэма? – Да, угадал: поэма и соловьиная песня. – А помнишь ты рассказывал, что с соловьем случается разрыв сердца, когда он заливается от любовного восторга? Не случилось бы с тобой? – предупредил Артем. – Что ж, тогда и будет трагедия. Утром мы простились с Артемом: он поехал к своему другу, мы с Ларисой на дачу, где нас уже поджидал Ююкин. Перед этим я позвонил в Алушту Никитину и назвал ему дату, когда мы приедем в Крым. До отъезда еще оставалось дней двадцать, но я хотел лучше заранее предупредить Александра Петровича. …В Крым мы с Ларисой прибыли в разгар курортного сезона – в жаркий июль. Никитин приготовил нам отличную комнату с видом на гору Кастель. Я не плохо знал Крым, побывал почти во всех его городах в том числе и в Алуште. Лариса же не знала Крыма. В студенчестве она предпочитала Кавказ, особенно уютную Гагру. Алушта с ее кипарисами, а особенно «Рабочий уголок» с его хорошо обустроенными пляжами, произвела на нее приятное впечатление. Александр Петрович, мой давнишний друг, жил вдвоем с пожилой супругой. У них я останавливался уже не первый раз, в том числе и с Альбиной. Единственный сын Никитиных, врач по профессии, со своей семьей жил в Киеве и отпуск свой проводил обычно в конце августа и начале сентября естественно в Алуште в родительских пенатах. Ларису Никитины встретили с любопытством, но вполне гостеприимно и доброжелательно. Я уже заранее и в письме и по телефону предупредил Александра Петровича, что с Альбиной мы разошлись, и что у меня есть теперь новый друг получше старых двух, и что это не просто флирт, а настоящая любовь, последний роман. Александр Петрович всю свою сознательную жизнь провел на флоте и, как профессиональный военный моряк, служил и на Северном и на Тихоокеанском флотах, кстати, где мы и познакомились, когда я выступал с концертом у военных моряков, – и закончил свой служебный путь на Черноморском, так и остался в Крыму, обменяв свою севастопольскую квартиру на Алушту. Он был моложе меня на семь лет, еще полный физических сил, среднего роста, с густой седой шевелюрой и при седых пышных усах. На вид он был строг и суров, но по характеру добрейший и покладистый человек. Как водится, хозяева накрыли стол, да и мы с собой прихватили кое-каких столичных продуктов. Пока мы обменивались новостями и тостами, зашел приятель Никитина, тоже отставной моряк-пограничник капитан третьего ранга. Его здесь ждали и до его появления Никитин еще в машине по пути в Алушту – а он нас встречал на своей машине на вокзале в Симферополе, – рассказал необыкновенную историю этого человека трагической судьбы. А разговор начался с Хрущева, подарившего Украине Крым, который никогда не принадлежал Украине. Фактически самодур Хрущев, хитрый, коварный и дурковатый сатрап совершил государственное преступление, единолично решив судьбу целой области, даже не спросив не то что мнения жителей Крыма, но и верховной власти союза. Я рассказал Никитиным, как это «дарение» происходило. Дело в том, что я был в дружеских отношениях с тогдашним министром иностранных дел, членом Политбюро Дмитрием Шипиловым, ныне уже покойным, который так изложил мне саму процедуру «дарения». «Было заседание Политбюро. Обсуждали разные текущие государственные дела, – рассказывал Шипилов. – Закончилось заседание, мы уже начали расходиться, как вдруг Никита, задержавшись у двери, сказал: минуточку, товарищи, есть еще один небольшой вопрос: – есть предложение к юбилею Украины сделать нашим братьям-украинцам подарок: присоединить Крым к УССР. Я думаю, возражений не будет? И никто не возразил». «„Почему?“ – спросил я Шипилова. „Бессмысленно было возражать. Так решил диктатор, так и должно быть. Такова была традиция в высшей власти“. – Никита был палач. Он расстрелял рабочих в Новочеркасске, – сказал я. – И его примеру последовал такой же палач Ельцин. И такой же коварный, как Ельцин. Вспомни, как он распорядился с Народным Героем маршалом Жуковым. – Как Ельцин с Лебедем, – сказал Никитин. – Ну, сравнил: Жуков и Лебедь – слон и моська. Лебедь просто говно, самолюбивый авантюрист. – К сожалению, порочная, преступная традиция, – печально сказал Никитин. –Она была сверху до низу, от Политбюро до райкома партии. Вы сегодня познакомитесь с моим другом, который на своей судьбе испытал эту традицию. Сергей Сергеевич командовал пограничным сторожевым кораблем здесь, на Черном море. Партийным боссом, или хозяином на Черноморском побережье был личный друг Брежнева, а вернее сатрап или лакей, который считал, что ему все дозволено, он здесь был царь и воинский начальник. Да-да – и воинский, поскольку он был и членом военного совета. Он часто устраивал пьяные оргии с собутыльниками и женщинами легкого поведения в своих особняках как на приморских пляжах, так и в горах. Однажды ему взбрела мысль устроить бардак на море, на подведомственной ему, естественно, государственной вахте. Словом – публичный дом на морских волнах. Собрав известную компанию своих приспешников и, конечно, приспешниц и не предупредив об этом пограничников, – а как же, он плевал на законы и пограничный режим, – и вышел в море. Естественно, коньяки, водки и вина на яхте лились рекой. Не важно, кто – то ли строптивая дамочка, то ли сам босс решил лицезреть турецкие берега и приказал капитану яхты нарушить государственную границу и выйти в нейтральные воды. Пограничники наши держали под наблюдением и контролем этот плывучий бардак, и Сережа, то есть мой друг Сергей Сергеевич, догадывался, кто командует этим летучим голландцем, и вышел ему на перехват, чтоб воспрепятствовать нарушению государственной границы. Как потом рассказывал мне Сергей, и такая мысль его осенила: а вдруг эта банда преступников захватила яхту и решила эмигрировать в Турцию. А что? – мысль вполне резонная. И он решил действовать по закону, как велит инструкция пограничной службы. – Ну и как же поступили пограничники? – не утерпела Лариса. – Приказали яхте дать обратный ход. Яхта, вернее ее капитан, не подчинился, потому что его босс так решил: мол, не обращай внимание. Пограничники в ответ дали предупредительный выстрел – все по уставу. Тогда яхта остановилась, и партийный босс потребовал к себе на яхту командира сторожевого корабля. Сергей поднялся на яхту и увидел босса, пьяного вдрызг. Тот обрушился на Сергея с грубой матерщиной, пригрозил ему суровой карой и демонстративно сорвал с него погоны и приказал вместе со своей «посудиной» скрыться с его глаз. «Здесь я хозяин – куда хочу, туда и плыву!» – куражился партийный вельможа. Сергей – офицер-пограничник. А пограничники они имеют характер и достоинство. Он не мог простить такого унижения и оскорбления. Сойдя на свой корабль он дал еще предупредительный выстрел из пулемета по удаляющемуся в сторону Турции взбесившемуся плавучему дому терпимости. Но тот проигнорировал и это предупреждение. Тогда Сережа пошел на крайний шаг: он саданул из пушки по рубке яхты. Это отрезвило обитателей борделя. Они поняли, что с ними не шутят. И повернули восвояси. Мы добрались до перевала. Никитин остановил машину, предложил нам выйти, размяться. – До сей точки мы поднимались вверх, в гору, – пояснил он Ларисе. – А теперь пойдем на спуск, к морю. Чувствуете, какой здесь свежий воздух и не жарко? – Да, заметно, дышится легко, – с удовлетворением согласилась Лариса. – Но что же было дальше? Чем кончился эпизод в море, столкновение закона с произволом? – Нередко произвол и в советское время оказывался сильнее закона. О нынешнем я не говорю: сейчас господствует сплошной произвол и беззаконие, – ответил Никитин. В машине когда начался спуск по просьбе Ларисы Александр Петрович продолжал: – Была созвана комиссия, дело хотели замять, но оно получило огласку. Преступник, то есть партийный босс благодаря поддержке Брежнева, был оправдан, а Сергей Сергеевич осужден на семь лет и лишен воинского звания. Пока он отбывал срок, жена от него ушла, нашла себе замену, а он, выйдя на свободу так и не женился. – Почему? – поинтересовалась Лариса. – Кто знает, – ответил неопределенно Никитин. – Причины могут быть разные, целый букет. Но одну знаю: он разуверился в женщинах. Говорит, только в книгах, да в песнях они ангелы. А в жизни, как верно заметил Маяковский, все бабы – трясогузки. Верить им нельзя. А вечной преданности и любви в природе не существует. Ее выдумали поэты. Я пытался догадаться, что думает об этом Лариса, мне хотелось проникнуть в ее мысли. И почему-то я невольно подумал: а искренна ли Лариса передо мной, и насколько крепки ее чувства ко мне? Я вспомнил Эру, вспомнил других женщин, с которыми у меня были флирты, мимолетные связи. Ни они мне, ни я им не клялись в вечности и верности. Я сравнивал их с Ларисой и с женой того пограничника. Осуждает ли ее Лариса, я ждал ее осуждения, но она молчала. Я думал о ее характере: сдержанная на эмоции, искренняя, в чем у меня не было сомнения, открыта и самозабвенна, нежна и ласкова. А разве этого мало? Тем более я говорил ей: она свободна. И тем не менее не одобрял и не поощрял эту свободу. Я ревновал, тайно, скрытно. Я знаю: она мечтает о ребенке, которого я не могу ей дать. Я виноват перед ней. Но в чем моя вина? Что я люблю ее и буду любить всегда, даже тогда, когда она выйдет замуж – если выйдет, что еще проблематично. Однажды она сказала: даже если выйду замуж, я тебя не брошу. Понимай как хочешь, как красивые слова? Для меня она последняя любовь, тот огонек, который согревает душу, ради которого стоит жить. Без нее жизнь моя бессмысленна. Она обладает удивительной способностью предстать передо мной всегда новой, необычной. Она не стандартна, и каждый проведенный с ней день или ночь – это новая, совершенно неожиданная страница. Меня это радует. Иногда я смотрю на ее шалости и вспоминаю давнишнюю песенку о Чилите: «Над нами она хохочет и делает все, что хочет». Но до определенной черты, переступить которую она не решается, хотя я ей и не запрещаю. Мои мысли оборвал восторженный голос Ларисы: – Смотрите, там море?! – Да, это море, – подтвердил Никитин.
…И вот мы сидим в просторной горнице гостеприимных моих друзей Никитиных, говорим то о политике, то о том, как нам с Ларисой провести здесь двадцатидневный отдых. Мы планировали побывать в Ялте и Севастополе, осмотреть дворцы, Никитский сад. И конечно же позагорать на пляже, купаться. За разговорами, сопровождающимися отличным вином, время летело быстро и не заметно, как вдруг Александр Петрович, глядя в окно объявил: – А вон и наш Сергей идет. Собственной персоной Сергей Сергеевич, о котором я вам уже рассказал. Историюморяка-пограничника я уже слышал здесь раньше и даже однажды накоротке нас познакомил Никитин. Я вспомнил худощавого, седоволосого, подтянутого в фигуре смуглолицего человека еще далеко не пенсионного возраста. Но с тех пор минуло около десяти лет. И теперь перед нами предстал совсем другой Сергей Сергеевич: белобородый пышно усатый с непричесанной седой шевелюрой. Пожалуй, от прежнего Сергея оставались только затуманенные печалью карие глаза, да черные, контрастирующие с бородой и усами брови. Он очень изменился, слегка располнел и ссутулился. Лариса потом мне сказала, что по рассказам Никитина представляла его другим. Он был сдержан на слова, отделывался краткими незначительными фразами. Задал лишь один вопрос: – Когда же вы избавитесь от своего полоумного президента? Или на Бога надеетесь, а сами оплошали? – Так ведь и наш Кучма не далеко ушел от Ельцина, – ответил за нас Никитин. Погода стояла отменная, солнечная. Температура в тени около тридцати градусов, вода в море двадцать два. Пляж в Рабочем уголке, которым мы пользовались, приятная, не очень крупная галька. Первые дни мы с Ларисой наслаждались морем. Чтоб не сгореть на солнцепеке, мы пользовались защитным кремом, втирая друг другу его в наши бледные, еще не тронутые солнцем тела. Мы действовали, чувствовали себя, как в раю. По вечерам по набережным ходили в центр Алушты к беломраморному памятнику великому русскому писателю, жившему в Алуште Сергееву-Ценскому. Побывали с Александром Петровичем в Никитском саду, в Ялте, в доме-музее Чехова. Кстати, хотели побывать и в алуштинском доме-музее Сергеева-Ценского. Но он был закрыт. Никого знакомых москвичей ни в Ялте, ни в Алуште я не встречал. Было два или три случая, когда во время прогулки, какие-то встречные раскланивались со мной. Возможно, узнавали по последнему фильму. Лариса интересовалась: – Кто это? – Понятия не имею. – Ну да – ты ж знаменитость. Тебя узнают. У Ларисы было хорошее настроение. Вечером она потащила меня на танцплощадку, вокруг которой стояли столики, за которыми отдыхающие пили кофе, вино. Не успели мы сесть за столик, как к нам подошел молодой человек и пригласил Ларису на танец. Она вопросительно улыбнулась мне, мол, разрешаешь? – и я согласно кивнул головой. Она резвилась, как девчонка, вырвавшаяся наконец из-под опеки родителей. Она любила танцевать, ей нравилось общество, и на этот раз я обнаружил в ней задорный нрав. После одного танца, пошел другой. Но теперь ее пригласил уже не прежний, а другой кавалер. И она с охотой пошла танцевать. Мне приятно было наблюдать ее веселую, счастливую и в то же время я чувствовал себя неуютно, обделенным судьбой. Во мне шевелился червячок ревности, и мне хотелось побыстрей уйти от этой дурацкой, кричащей, оглушающей музыки. И когда после второго танца она вернулась к столику, радостная, возбужденная, я ворчливо сказал: – Ты остаешься? Я ухожу. Меня раздражает этот скрежет. – Она виновато посмотрела на меня и сказала: – Извини, милый, увлеклась. Уходим. – С Никитиными мы виделись ежедневно. К Ларисе они отнеслись очень дружески и тепло. Иногда встречали и Сергея Сергеевича. Он сдержанно, но учтиво интересовался, как нам отдыхается, нравится ли Алушта, как нам понравилась Ялта? Мы сообщили, что Александр Петровича готовит нам поездку в Севастополь. Однажды он как бы между прочим спросил, не встречали ли здесь своих знакомых москвичей. Вопрос был обычный, ничего не значащий, мы не придали ему никакого значения. Но вот на второй день Сергей Сергеевич отыскал нас на пляже, чтоб поговорить со мной с глазу на глаз. Лариса оставалась лежать на гальке, а мы отошли на несколько метров в сторонку. Приглушенным густым голосом Сергей Сергеевич заговорил внимательно глядя на меня: – Егор Лукич, вчера я не зря поинтересовался о ваших знакомых москвичах здесь, в Алуште. Дело в том, что некто икс буквально охотиться за вами или за вашей спутницей. Конкретно – это местный курортный фотограф. У него фотокамера с дальнобойным объективом. Позавчера я видел, как он фотографировал вас, когда вы антизагарным кремом смазывали спину Ларисы. При этом он старался снимать ваши лица. Вчера он фотографировал вас, когда вы оба лежали на пляже и потом, когда вы вместе входили в море. Мне показалось это странным. Сегодня он пытался вас снова сфотографировать за столиком, когда вы пили кофе. Я подошел к нему, – он меня наверно знает, – меня многие местные знают, – и я спросил, почему его интересует эта пара? Он был смущен на какой-то миг, но тут же нашелся, ответив, что его интересуют все интересные. Но никакой пары персонально он не фотографировал. Тогда я строго спросил: «Отвечай, как на исповеди: на кого ты работаешь?» Он сделал удивленное лицо и сказал, что работает только на себя. Это его бизнес. «Так вот что, бизнесмен: имей в виду – это мои друзья, и в случае какой-нибудь пакости для них с твоей стороны, так будешь иметь дело со мной. О чем очень пожалеешь». Он побледнел, с наигранным недоумением пожал плечами и скрылся в толпе. Я считал своим долгом предупредить вас об этом. От подобных типов, вроде этого фотографа, можно ожидать всяких мерзостей. Излюбленная у них – шантаж. Так что если он осмелится после моего предупреждения предпринять что-нибудь против вас, вы меня предупредите. Через Александра Петровича. Сообщение Сергей Сергеевича озадачило и насторожило меня, хотя особого значения я ему не придал. Мне даже не хотелось о нем рассказывать Ларисе, зная ее тонкую, чувственную и впечатлительную натуру. Но как только я вернулся к ней на пляж, она тотчас же атаковала меня вопросом: – Что случилось, о чем вы говорили? – Да собственно, ни о чем, – пытался увильнуть я. – Не правда, я по глазам твоим вижу – вы говорили о чем-то серьезном. – Просто, обсуждали предстоящую поездку в Севастополь: как лучше туда добраться – по суше или по воде. Ты хорошо переносишь болтанку? – солгал я. Мне казался ответ мой убедительным. Но только не для Ларисы. Ведь мы с ней настолько сроднились, вошли друг в друга, что научились читать мысли. Она впилась в меня таким пронизывающим взглядом своих рысьих глаз, что я не выдержал, и все ей рассказал. Ее охватило волнение, даже беспричинный страх. Все мои попытки успокоить ее она решительно отвергала. Тут же собрались и мы ушли с пляжа в дом Никитиных. Она очень огорчилась и готова была немедленно возвращаться в Москву. Не действовали на нее и уговоры Александра Петровича. В разгоряченном мозгу она уже рисовала жуткие картины. Я знал чего она больше всего боится: своих родителей, для которых может открыться наша тайна. Она попросила постараться достать билеты на самолет на ближайший рейс. В разгар сезона сделать это было не легко. И все-таки нам удалось заказать билеты на самолет, вылетающий через три дня. Ни о каком Севастополе Лариса и слышать не хотела. По ночам она в невероятном напряжении прижималась ко мне, словно искала у меня защиты от неведомой беды. Я, как только мог, старался утешить ее. А она, целуя меня, жалобно шептала: – Родной мой, единственный Егорушка… Я очень боюсь потерять тебя. Я не знаю, как я буду без тебя… – Но почему ты должна меня терять? Что за причина, – недоумевал я. – Я знаю: злые люди хотят нас разлучить. У меня предчувствие. И надо же было такому случиться: за день до отлета, сделав прощальный визит морю, после полудня мы сидели вдвоем с Ларисой за столиком пляжного кафе, пили вино и ели мороженое. За соседним столиком молодая парочка тоже развлекалась вином и мороженым. Я даже не обратил внимание, когда к ним подсел, судя по их недовольству, посторонний человек среднего возраста, одетый в светлый костюм и черную рубаху с пестрым галстуком. Лариса его заметила раньше меня, вздрогнула, засуетилась и побледнела. – Что с тобой, моя дорогая? – буквально опешил я. – Посмотри на тот столик. К той паре подсел тип. Это знаешь кто? – голос ее дрожал. – Это тверской хмырь, тот самый Трапер, владелец бульварной газетенки и бизнесмен. Давай, зови официанта, рассчитываемся и уходим. – Почему? Ну и черт с ним, плевали мы на этого Трипера, – Я нарочно исказил его фамилию. – Чего нам бояться? Мы что – нелегалы какие? – Нет-нет, Егор, уходим. И мы ушли. Эта встреча еще пуще расстроила Ларису. За прощальным ужином, который нам устроили Никитины вместе с Сергей Сергеевичем, Лариса почти ничего не ела, но вместо вина, к удивлению хозяев, выпила две рюмки коньяка, пояснив это так: – Хочу перед отлетом выспаться. Последние ночи меня мучила бессонница. Сергей Сергеевич улучив момент сказал мне, что с тех пор фотографа он не видел, куда-то исчез. Спать мы легли раньше обычного, учитывая время вылета самолета. На этот раз она уснула быстро, лежа на моей руке. Я чувствовал, как сильно стучит ее сердце и пытался считать пульс. Он был ровный, хотя удары его были сильней обычного. Во втором часу ночи она вдруг взметнулась и сильно в ужасе вскрикнула «Егор!» – Что с тобой, девочка? – Я нежно обнял ее и прижал к своей груди. Она вся дрожала, прильнув губами к моему лицу. – Тебе приснился дурной сон? – Со мной это впервые. Я очень кричала? Мне приснилась сильная буря, мы шли с тобой и вдруг откуда-то возник ураган, в образе какого-то чудовища, и он нас разъединил и унес в разные стороны. Я потеряла тебя. Я кричала, звала тебя. Мне было жутко. – на все еще не могла успокоиться, прижимаясь ко мне горячим, нежным и таким родным телом. Я успокаивал ее, как только мог. А она дрожащим голосом взволнованно шептала: – Теперь ты со мной, и ничто нас не разлучит. Я знаю, я верю, ты мой вечный. – Успокойся, милая, постарайся уснуть. – Как прилетим в Москву, сразу сходим в церковь. Там, у твоего дома, в Брюсовом переулке. Пойдешь со мной? Я давно мечтала сходить с тобой в церковь. – Хорошо, обязательно сходим. – Ты же верующий, и предки твои были глубоко верующими. Она права, в глубине души я был истинно верующим в единого создателя, творца Вселенной. Не могла же из хаоса стихийного, без воли Творца, возникнуть такая гармония даже на одной планете, как наша Земля. Гармония нерукотворная, мудрая и прекрасная, в которой самое великое и святое – жизнь. Из хаоса мог родиться только хаос. Нет, вера во Всевышнего всегда жила в моей душе, даже тогда, когда бесновались антихристы и рушились храмы.
До Москвы мы добрались благополучно. Лариса позвонила в Тверь, разговаривала с отцом. Тот уверял ее, что дома все по– прежнему, и спросил ее, когда она появится. – Есть некоторые вопросы, о которых не по телефону – так что приезжай, не откладывая, – под конец разговора сказал он. И опять Лариса насторожилась: тон, которым говорил Павел Федорович, она нашла не обычным: сухим и сдержанным. В церковь мы решили пойти на другой день. Благо это был большой православный праздник – Успение Богородицы. Службу в этот день отправлял сам владыка митрополит Питирим. С этим архиереем – в миру Константин Владимирович Нечаев – я был немного знаком. Один из образованнейших церковнослужителей, истинный патриот Отечества в начале горбачевской «перестройки» он был жестоко оклеветан жидовскими «демократами». Его дед и отец, как и мои предки, были священниками. Красивый, высокий, обаятельный, обладающий широкой эрудицией, безупречной культурой, профессор-богослов, он пользовался большим авторитетом среди средних слоев духовенства. Небольшая церквушка в Брюсовом переулке была одним из его приходов. Мне редко приходилось бывать в храмах, иногда по большим праздникам – на Пасху или Рождество. И я был очень доволен, что Лариса предложила мне сходить на литургию. Народу было не много. Все-таки разгар лета, и москвичи предпочитали проводить время за городом. Мы купили свечи и поставили их, как и полагается. Лариса была моим руководителем, как профессионал в церковном деле. Я все повторял за ней, крестился, прислушивался к проповеди владыки и смотрел не столько на иконостас, сколько на Ларису, на ее чудесное преображение. Передо мной была какая-то другая Лариса: просветленная, возвышенная, с сияющим блаженством лицом. В глазах ее, тихих и мягких, струилось смирение и благоденствие. И вся ее фигура казалась мне легкой, воздушной, и тогда мне вспомнились слова, сказанные по ее адресу то ли Ворониным, то ли Ююкиным, что в ее образе есть что-то евангельское. Мне приятно было находиться рядом с ней, ощущая ее тепло и блаженство. И в моих глазах она приобретала не просто земную любовь, а нечто возвышенное, мною недосягаемое. Ее глубокая вера раскрывалась здесь с ангельским благочестием и не земной духовной красотой. Она была окружена аурой счастья. Когда мы вышли из церкви, она спросила нежным, милым голосом: – Ты доволен? – Я рад, я счастлив. Спасибо тебе, родная моя девочка, – с искренним восторгом ответил я и прибавил, взяв ее руку: – Ты меня чаще приглашай на такое… Для меня это было, как приятное открытие. Вообще Лариса часто радовала меня своими открытиями: каждый ее приезд в Москву меня чем-нибудь радовал, удивлял: она всегда была «новой», не зацикленной на чем-то постоянном, неизменном. В таких случаях я вспоминал Альбину и сравнивал. Та была постоянной: я знал ее привычки, манеры, даже жесты и слова, которые она мне скажет. Альбина блистала одним цветом, пусть даже золотым. Лариса сверкала разноцветными гранями бриллианта. После нашего похода в церковь она стала для меня еще ближе и дороже, и во мне начал шевелиться червячок страха потерять ее. На другой день Лариса уехала в Тверь и обещала позвонить мне после девяти вечера, что б рассказать о положении дел с ее уходом из университета, хотя приличной должности для нее в Москве мы пока что не нашли. Поэтому я не поехал на дачу, ожидая ее звонка. Уезжала она в Тверь просветленная. Я проводил ее до Ленинградского вокзала. И как всегда мне было тягостно расставаться с ней, хотя я и знал, что через несколько дней мы снова встретимся и поедем ко мне на дачу, сходим по грибы и вообще погуляем по лесу. Удивительно: когда от меня уходила Альбина, я провожал ее только до порога и никогда не печалился расставанием, знал, что рано или поздно мы снова встретимся у меня на квартире. Словом полное спокойствие. А с Ларисой всегда тревожно на душе, не хочется отпускать ее. И после каждого ее ухода я ощущал какую-то щемящую пустоту. А на этот раз особенно. И Лариса была уже особенной после посещения нами церкви. Лариса позвонила в тот же вечер, сказала, что дома без изменений, и что она на днях заявится и найдет меня либо в Москве, либо на даче. От московской квартиры она имеет ключи.
Глава восьмая
Лариса
Вообще-то я собиралась ехать в Москву только после завтра, о чем и предупредила Лукича по телефону. Но сегодня на меня что-то «нашло», такая тоска-кручинушка, что места себе не находишь. Проходя мимо университета, я почувствовала горечь и раздражение: он стал для меня чужим. Мне не хотелось опять возвращаться сюда, ввязываться в политические интриги, видеть самодовольные рыла сторонников режима. Но и в Москве все поиски для моей работы пока ничего положительного не дали. И я оказалась в какой-то безвыходной ловушке. Я металась по квартире, бралась то за одно, то за другое, и все бросала, все у меня валилось из рук даже в буквальном смысле. Неловким, резким движением я смахнула со стола хрустальный бокал – подарок Лукича. И мне со страшной силой захотелось быть с ним рядом, с моим Егором, с моим счастьем и горем. И ближе к вечеру я быстро собралась и поехала в Москву. Сразу с вокзала на метро я доехала, как обычно до «Охотного ряда» и уже через пять минут была на Брюсовом. Но вот результат спешки: второпях я оставила в Твери ключ от квартиры Лукича. Позвонила в дверь – молчание. Раз, другой – тишина. Значит, нет дома. Но все же от центрального телеграфа позвонила по телефону. И снова молчание. Значит, он на даче. Я быстренько на вокзал, что бы поехать на дачу – дело шло к вечеру, солнце уже почти касалось горизонта. До темна надо было добраться до поселка. На поезд успела за пять минут до отправления. Вошла в вагон запыхавшись, и вдруг сзади чья-то рука жестко легла мне на плечо. Рассердившись, я оглянулась. Ба! Виталий Воронин. Я была рада: значит он проводит меня до дачи Лукича, потому что солнце уже опустилось за горизонт. Всю дорогу мы с Виталием проговорили. Вернее, говорил в основном он, рассказывал, как он учился в Литературном институте, какие там свободные нравы. В поселок мы пришли уже в темноте. Сразу, на что я обратила внимание, это отсутствие света в окнах дачи Лукича. На калитке висел замок. – Приехали, – сказал Виталий, но не с досадой, а как будто даже с радостью. Такого обстоятельства я не только не предполагала, но и не могла предвидеть. Сразу возникло несколько неприятных вопросов. Во– первых, что с Лукичом? Где он может быть? И я тут же успокаивала себя: задержался у кого-нибудь из друзей. Сегодня он меня не ждал. Второй вопрос посерьезней: как теперь добраться до электрички и потом до Москвы или, что еще хуже до Твери. Вся надежда на Воронина: он проводит меня до электрички. Но через минуту и эта довольно зыбкая надежда рухнула в темноту. – Надеюсь, Виталий, ты меня проводишь до платформы? – Как? Зачем? В такую темень. Ну приедешь в Москву, а Лукича все еще нет. Что тогда? – Тогда в Тверь, – не очень твердо сказала я. – Да ты опоздаешь на последний тверской поезд. Он был прав: не успею. – Так что же мне делать? – с досадой проговорила я. – Подумаешь, проблему нашла. У меня переночуешь. Моих нет, они в Москве. – А если приедут? – почему-то обеспокоилась я. – Как это они приедут, когда только что отправили меня. Жена появится только послезавтра, а дочь и того позже. – Мм да, – процедила я. – У меня, кажется, нет выбора. – А зачем тебе выбор? Ты что боишься меня? Я совершенно безопасный. Выделю тебе отдельную комнату и пожелаю приятных сновидений. Может и Лукич приснится, может и я. Дружеский тон, миролюбивые слова меня успокоили. В конце концов он же приятель Лукича. Правда, я тут же вспомнила другого приятеля Лукича – Игоря Ююкина. Но там дело происходило днем. А здесь – целая ночь. Я подумала: будь что будет, посмотрим. – Ладно, пошли. Меня немного настораживало слишком приподнятое настроение Виталия, его открытая радость. Когда вошли на его дачу, он все с тем же возбуждением провел меня по всем комнатам, а их было четыре и сказал: – Выбирай себе любую, какая тебе больше нравится и располагайся. Вот эта комната жены, эта дочери, там мой кабинет, там гостиная. А пока давай попьем чайку. Я предпочла комнату дочери, осмотрела его кабинет с приличной библиотекой, в которой целая полка книг с дарственными автографами, а также сборники стихов самого Воронина. Среди них прекрасно изданный том «Избранных» с портретом поэта. Мужественное лицо, уверенный взгляд. Чем не «производитель», мысленно подумала я и рассмеялась. И тут послышался сзади голос: – Что смешного нашла? – Лицо очень строгое и вдохновенное, – сказала я и протянула ему томик. – Тебе нравится? Я тебе подарю. Он сел за письменный стол и энергично неровным почерком накарябал: «Ларисе Малининой. Прекрасная Чайка, давай не скучай-ка, мы оба не будем скучать». И пригласил меня на кухню, где на столе стояла бутылка вина и нехитрая закуска: колбаса, свежие огурцы и помидоры. Вино мне не нравилось, но он его нахваливал и настойчиво предлагал пить, потому, что, как он утверждал, оно целебное. Я догадывалась: он старается напоить меня, и я говорила, что вино его – «самоделка», и оно мне не нравится. Тогда он быстро извлек откуда-то уже на половину опустошенную бутылку водки и предложил: – А в самом деле: водка плохой не бывает. – Я наотрез отказалась. Вино его все же действовало. Мне было весело и забавно смотреть, как он суетливо петушился. Он все же налил себе водки и, высоко подняв рюмку, торжественно провозгласил: – За тебя, Лариса прекрасная! Ты мне очень нравишься. У поэтов особое чутье на женщин. Только поэт может по-настоящему оценить красоту. Он сверлил меня влажными хмельными глазами. И, как заправский выпивоха, выпил до дна и даже не поморщился. Он явно рисовался и был крайне возбужден. Меня это начало настораживать. А он предложил: – Хочешь послушать стихи? – Твои? – Конечно мои. – Читай. Буду слушать внимательно. Он прочитал с пафосом, и, как я ожидала, «любовную лирику», явно посвященную кому-то из поклонниц. Прочитав два стихотворения он спросил: – Ну как? Я не усыпил тебя? – Стихи хорошие, – польстила я. – А усыпить, пожалуй, пора. – Ну хорошо, пошли спать. – Каждый в свою комнату, – напомнила я. – Естественно, как договорились. Я разделась, выключила свет и легла в постель, чувствуя нервное напряжение. Я догадывалась, что его пожеланием «спокойной ночи», брошенным им как-то невнятно на мое пожелание, дело не кончится. И действительно, не прошло и пяти минут, как он вошел в мою комнату о одних трусах. «Начинается», – подумала я. Он подошел к кровати и наклонился к моему лицу, прошептал: – Я пришел сказать тебе спокойной ночи. – Ты уже сказал, – резко ответила я. – А за стихи, которые тебе понравились, положен поцелуй. – И он в ту же секунду поцеловал меня и попытался обнять. Я резко оттолкнула его и сказала осуждая: – Виталий, ты ж обещал. Я очень устала и не настроена на любовные утехи. Ты же поэт, должна быть тонкая натура. Ты должен знать психологию женщины. Такое бывает: нет желания, нет настроения. С этим надо считаться и мириться. Он сел на край постели, взял мою руку и преподнес к своим губам, сказал: – Желание появится. Стоит только обнять и поцеловать. Женщина всегда может, хотя и не всегда хочет. А мужчина наоборот: всегда хочет, но не всегда может. Тебе наверно это известно по Лукичу. – Последние слова его меня возмутили и я грубо бросила: – Лукича прошу не трогать. Тебе до него никогда не подняться. Запомни это, заруби себе на носу. Он не просто великий артист. Он необыкновенный человек. – Ну извини. Не будем о Лукиче, я согласен с тобой. Но ты же не давала ему подписку. Ты мне нравишься. Очень нравишься. – Ну что из того? Возможно, я многим нравлюсь. Так что же мне и под каждого ложиться? – Но я не каждый. Я известный в России поэт. Мои книги изданы миллионным тиражом. Меня знают миллионы. Иные считают за честь иметь интимные отношения с известным поэтом. Ты знаешь, сколько было у Пушкина любовных отношений с женщинами? Больше сотни. – А ты превзошел и Пушкина? – Не важно. Недостатка не было. Стоило только поманить. – И они летели, как мухи на мед, на ходу раздевались и спешили лечь под тебя. – Да, и ложились, и были довольны, благодарны. – Какой же ты хвастун. О психологии женщины ты судишь по стихам своего собрата Андрея Вознесенского: «сущность женщины горизонтальна». Так? – Вознесенский никакой не поэт. Это графоман и пошляк, – с яростью произнес Виталий. Он был взбешен. Я понимала его и, может, даже сочувствовала. Но не могла пересилить себя, хотя он мог бы сойти и за «производителя». Я сказала уже миролюбиво: – Ты не обижайся и не огорчайся. И не скучай-ка, это говорит тебе Чайка. – Не удачная рифма. Тебе больше подходит Лариса – крыса, – в сердцах выдавил он и уже вставая с кровати, сказал примирительно: – Надеюсь, до Лукича наш эпизод не дойдет. Обещай. – Я пообещала. – А теперь спи спокойно. Я тебя не потревожу. – И все же уходя, наверно на что-то надеясь, он поцеловал меня в губы. Я долго не могла уснуть. Я думала над психологией мужчин: если ты легла под него – значит ты белокрылая Чайка, отказала ему – ты уже Крыса. А как же любовь. «Ты мне нравишься», – вспомнила его слова. Ну и что, и ты и Ююкин мне нравитесь, но то разные понятия: нравиться и любить. Я люблю Лукича, люблю первой в своей жизни и, наверно, последней любовью. И он любит, он боготворит меня. Я мечтаю о ребенке и он поддерживает мою мечту, он «за», и если б у меня состоялась тогда в мастерской с Игорем или сегодня с Виталием, он бы не возражал. Думаю, он бы одобрил мой выбор. Это был шанс. Но я им не воспользовалась. Впрочем, еще не поздно: в соседней комнате лежит и возможно тоже не спит в расстроенных неудачей чувствах «производитель», который даже в какой-то мере и симпатичен мне, как мужчина. Он готов. Но не готова я. Не могу перешагнуть ту невиданную грань, которую создает высокое и святое понятие – любовь и женское чувство достоинства и гордости. В Москву я приехала в полдень и прямо с вокзала по автомату позвонила Лукичу. – Я с нетерпением жду тебя, – как всегда мило ответил он. Войдя в квартиру, я сразу же доложила ему о своих приключениях. Не умолчала и о притязаниях Виталия. Лукич выслушал с добродушной снисходительной улыбкой, лишь беззлобно проворчал: – Куда денешься – в каждом мужике прячется кобелина и ждет своего часа, удачного момента. А для Виталия момент был более, чем подходящий. – Ты прав, – подтвердила я. – Но как бы ты отнесся, если б я не устояла? – напрямую спросила я. Для меня был очень важен его ответ. Он заговорил не торопясь: – Я тебе уже раньше говорил: если дело шло о ребенке, то я поддерживаю любой твой шаг. Решающее слово всегда за тобой. – Он сделал паузу, лицо его приняло озабоченное выражение, глаза нахмурились, и он заговорил мрачным тоном: – Сегодня утром звонил твой отец. Из Твери звонил. Он просил тебя срочно приехать домой. – Что-нибудь случилось? – с тревогой спросила я. – На такой же мой вопрос, он ответил кратко и сухо: об этом поговорим при встрече в Москве. И положил трубку. Боже мой… Сердце мое затрепетало: произошло, очевидно, то, чего я больше всего опасалась. Я вся обмякла, как нагретая свеча и прижалась к Лукичу, ища в нем спасительной защиты. Он ласково поцеловал меня в лоб и нежно обнял. – Ну что ты, родная. Не надо волноваться и расстраиваться. Мы еще не знаем, в чем дело. – Я знаю, я догадываюсь. То, что он собирается поговорить с тобой в Москве, для меня все объясняет. Ему стали известны наши с тобой отношения. – Ну и что, даже если так – объяснимся. Мы что? Совершили преступление? – спокойно сказал Лукич. – Для моих родителей – да, преступление. Я должна сейчас же ехать. – Погоди, успокойся, позавтракай, давай все обсудим и потом поедешь. Что обсуждать? Скандала не избежать, большого скандала. Я оказалась права в своих догадках. Как только приехала в Тверь и вошла в дом, отец молча положил передо мной газету, ту самую, бульварную, которую издает Трапер. На странице две фотографии. На одной стоим на пляже мы с Лукичом, и он втирает мне в спину крем против загара. На другой, опубликованной рядом, мы с Лукичом лежим на пляже, он, конечно, в плавках, я в купальнике. Лица наши отпечатались четко. Тут никаких вопросов. Внизу под фотографиями подпись: «Жаркое лето на курорте Алушта». Пока я смотрела газету, мама и отец стояли рядом и понуро молчали. Потом все так же без слов отец протянул мне исписанный лист бумаги. Я сразу узнала: это было письмо Лукича ко мне. Каким образом оно попало к ним в руки? Ведь я так старательно, надежно хранила письма Лукича, – а их было не мало. И хотя он предупреждал сжигать их сразу же по прочтении, что бы «не влипнуть», но я берегла их как память, как дорогие для меня сувениры. Наконец отец угрюмо сказал: – Так что, дочь, оправдываться нет смысла. Документы достоверные и убедительные. Мы с мамой за эти часы много пережили. Ты нанесла нам страшный удар и мы хотим от тебя услышать объяснение: как ты могла? Как он мог, он, выдающий себя за порядочного человека? – теперь уже нервно воскликнул отец. – Ну, с ним у нас будет особый разговор. Сейчас мы хотим выслушать тебя. Искренне, правдиво. Мы слушаем? Я чувствовала себя преступником, пойманным с поличным. У меня пересохло во рту. И хотя я заранее продумывала, как себя вести в подобном случае, все во мне смешалось, ко мне подступило странное ожесточение, я как бы не понимала, что передо мной стоят мои родители, переживающие и болеющие за мою судьбу, а посторонние мне люди, сующие свой нос в чужие дела. Мне хотелось резко крикнуть этим посторонним: «Да пошли вы все…» И я ответила сухо глухим голосом: – У меня краткий ответ: мы с Егором Лукичом любим друг друга, и живем как муж и жена. – Вот даже как! – воскликнул отец, а мама только в отчаянии всплеснула руками. – Состоите в тайном браке? – В гражданском, что разрешает конституция, – сказала я. – А почему же родители об этом ничего не знают? – язвительно спросил отец. – Теперь уже знают, – ухмыльнувшись ответила я. – Да он же твой дедушка! – воскликнула мама. – Он мой муж, и этим все сказано. – И чтоб избежать дальнейшей пытки я ушла в свою комнату. Никогда в жизни я себя так скверно не чувствовала, как сейчас. В голове образовалась какая-то путаница, сумятица: ехидная улыбка Трапера в Алуште, фотограф, письмо по моей небрежности попало в руки родителям, неопределенность с работой, а скорее всего придется оставаться в Твери, в болоте интриг и сплетен, отношения с Лукичом. Да, он прописал меня в своей квартире. Что ж, переехать к нему и жить на его иждивении, на его скудной пенсии. Такого я себе не позволю. Пойти преподавать историю в школе. А моя ученая степень? Все рушится, все мечты, светлые надежды обернулись жалкими иллюзиями. Я слышу, как отец звонит по телефону, слышу, как говорит «Егор Лукич». Я приоткрываю дверь своей комнаты и чутко вслушиваюсь. Отец говорит: «Нам надо безотлагательно встретиться, – и язвительно добавляет – милый зятек. И обсудить возникшую ситуацию. Мы с вашей тещей, – опять укол, – хотели бы видеть у нас в Твери. Не можете. Тогда разрешите к вам пожаловать в столицу. Да, неудобно из столицы в провинцию. Будьте любезны, назовите свой адрес». Закончив разговор с Лукичом, отец сказал маме: «Он хочет встретиться только со мной, без тебя. Мол, состоится мужской разговор». Я решила завтра же ехать в Москву, чтоб до их встречи поговорить с Лукичом. Вся надежда моя была связана с Егором. Он найдет выход из западни, в которой я, да и он тоже, оказались. У меня даже появлялось желание, не ждать завтрашнего дня, а ехать сейчас в Москву. Но я чувствовала себя растерянной, опустошенной и предельно усталой. Мама зашла ко мне в комнату и позвала на ужин. Я отказалась. Мне было не до еды. Тогда она попыталась поговорить со мной по душам, расспрашивала, что он за человек, чем он меня привлек и что он из себя представляет, как мужчина в смысле секса. Мне не хотелось вступать в этот разговор, и я ответила ей кратко: – У нас все прекрасно. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я взрослая женщина, хочу жить своим умом. За свои ошибки буду расплачиваться сама. – А мы так хотели внука, так надеялись, – горестно произнесла она. – Даст Бог, будет и внук и внучка. Все зависит от Бога. – Нет, тут что-то не так, – вздохнула она. – Не колдун ли он? – Когда родители легли спать, я взяла телефонный аппарат к себе в комнату и позвонила Лукичу. Я говорила вполголоса, прикрыв рукой микрофон и все ему рассказала. И чтоб он ждал меня завтра в первой половине дня. Я понимала, что не смогу уснуть и решила принять снотворное. Засыпала медленно, ворочаясь с бока на бок. Попробовала ни о чем не думать. Ночью мне снились какие-то кошмары, но что именно, утром вспомнить не могла.
Глава девятая
Автор
О существовании биотоков между людьми даже на большие расстояния с давних пор, еще с довоенного времени у меня не было сомнений. Я верил в эту сверхъестественную силу, которую не однажды испытал на своем личном опыте. Впервые отчетливо в июне 1940 года. Наш 79 пограничный отряд расположился на левом берегу Днестра – тогда это была демаркационная граница с Румынией, – Сталин тогда предъявил ультиматум румынскому королю Фердинанду вернуть Советской державе незаконно оккупированную в годы гражданской войны русскую Бесарабию. Это был ультиматум Сталина: в случае не принятия его румынами на рассвете 28 июня 1940 года мы должны были форсировать Днестр и вступить в бой с румынами. Мы не знали, примет ли Фердинанд ультиматум, мы готовы были вступить в бой. Мне в то время шел двадцатый год, я был лейтенант-пограничник, уже прошедший перед этим финский фронт, где командовал взводом. Перед форсированием Днестра нам разрешили вздремнуть. Наш погранотряд был нацелен на город Измаил, в котором я никогда не был и не видел его фотографий. Я знал, естественно, как в свое время Суворов штурмом овладел Измаилом, изгнав из него турок. Мысленно и я, юный лейтенант, готовил себя к штурму этого города, расположенного на правом берегу широкого и далеко не голубого Дуная. Не знаю, сколько мне удалось поспать в эту теплую июньскую ночь на берегу Днестра, может час, а может два. Только я видел сон: в центре Измаила белый-белый с колоннадой храм и на площади памятник. Кому именно, я не разглядел. Утром нам объявили, что ультиматум румынами принят, и мы без боя вошли в Измаил. Каково же было мое удивление, когда в центре города я увидел тот же, что и во сне, храм и памятник Суворову. При том, храм точь в точь такой же, белый и с колоннадой. Нечто подобное случалось со мной не однажды и не только в сновидениях. Однажды я ехал из Москвы на дачу, и не доезжая до платформы, на которой мне сходить, вдруг вспомнил своего фронтового друга, который жил в Гомеле и с которым мы лет десять не виделись, я почему-то подумал, – сам не зная почему – вот выйду из электрички, и на платформе столкнусь лоб в лоб со этим другом, который, кстати, никогда не был у меня на даче и не обещал быть. И вот сюрприз: выхожу из вагона и вижу, он выходит из соседнего вагона. Нет, что не говорите, а есть что-то в космосе неведомое и пока что недоступное нам, и мы люди, частица космоса, он нами владеет и правит. Как однажды в откровенном разговоре Лукич сказал мне: «У нас с Ларисой не простая, обыкновенная встреча. Наши отношения запрограммированы там, в небесах». Зная их необыкновенную, и в самом деле, неземную любовь, я готов был всерьез принимать это откровение Лукича. Я был рад за своего верного друга и по-хорошему завидовал ему: их отношения с Ларисой были редким явлением, совершенно уникальным. Лукич не звонил мне целый месяц. Сам я не решался особенно тревожить молодоженов, думал так: надо будет – позвонит. И все же я соскучился по ним и решил позвонить. Только было протянул руку к телефонной трубке, а уж звонок мне, упреждающий. Звонит Лукич. И без обычного: «чем занимаешься?», «от чего я тебя оторвал?», даже не поздоровавшись натянутым голосом он сказал: – Ты мне очень нужен. Сейчас же, безотлагательно. Извини, дорогой, но это очень важно. Пожалуйста, отложи все дела и подъезжай. – Что-нибудь… – было заикнулся я, но он перебил: – Не спрашивай, я жду тебя. – И положил трубку. Конечно, я тот же час собрался и поехал, перебирая в памяти различные предположения. И очень серьезное, чего раньше у нас не случалось. Обычно он был спокойный, уравновешенный, сдержанный. Я был встревожен и немного волновался. Войдя в квартиру, я спросил с порога: – Ты один? Ларисы нет? – Она только что вышла, не дождавшись тебя. Она спешила. – Тогда рассказывай. Мы зашли в гостиную, я сел в глубокое кресло, в котором всегда себя уютно чувствовал, а Лукич, не садясь в нервном напряжении расхаживал по комнате и, не глядя на меня, говорил: – Случилось то, чего очень опасалась Лариса… – Он делал длинные паузы, словно силой выталкивал из себя слова, голос его был сухой, прерывистый. – Ее родители узнали о наших отношениях… Постарались мерзавцы, которые всегда водились среди людей, но сегодня ими переполнена русская земля. – Он замолчал, взял со стола тверскую газетенку с открытой страницей, на которой были опубликованы алуштинские фотографии, и протянул мне со словами: – Узнаешь? – Да, подленько сработано, – посочувствовал я. – Но этого мало: родителям попало одно мое письмо к ней. Случайно, по недосмотру. Говорил ей, просил: не храни, сжигай, от греха подальше. Так нет же, не послушалась, берегла, как память. А теперь разворачивается драма или может трагедия. Дело в том, что Павел Федорович, с которым ты познакомился на теплоходе, с минуту на минуту может появиться у меня. Для объяснения. Мы говорили по телефону, и он едет. Он посмотрел на меня проницательно, и в глазах его я уловил тревогу и просьбу. Я спросил: – Чем могу быть полезен? – Я хочу, что б ты при этом присутствовал. Думаю, что разговор будет неприятный, и я в некоторой растерянности. Я хочу, что б ты был нечто вроде арбитра и смягчал остроту. Напомни ему примеры подобных браков из Гете, из Пикассо, наконец из Михалкова, который в восемьдесят четыре года только что женился на сорокалетней. Я очень надеюсь на твою дипломатию. – Да какой из меня дипломат? Арбитр должен быть беспристрастен. А разве я могу в данном случае таким быть? Нет, конечно. – Но все-таки… одно твое присутствие утешит меня. Профессор Малинин не заставил себя долго ждать. Дверь ему открыл Лукич и проводил в гостиную, где находился я. Мое присутствие для него было неожиданным и нежелательным. Он хмуро кивнул мне вместе с невнятным «здравствуйте», на что я приветливой улыбкой четко сказал «добрый день». Думаю, что для нас троих мужиков это был далеко не добрый день. Во всем облике Малинина чувствовалось предельное напряжение. Свою речь, во всяком случае первые слова, думаю он заранее приготовил. От предложения сесть он отказался, заметив, что ему удобней разговаривать стоя. Не садился и Лукич. Он стоял у стены, почти касаясь головой портрета Ларисы, написанного Ююкиным, и Лариса как бы присутствовала при тяжелом разговоре. Не думаю, что Лукич преднамеренно стал у портрета, ища поддержки у своей любимой. Это получилось случайно. Всем своим видом он выявлял дружелюбие и мягкость. Малинин скользнув холодным взглядом по портрету дочери, натянутым, искусственным тоном обратился к Лукичу, не называл его никак: – Ну так что ж, любезный… зятек, или как там по-вашему… изволите объясниться? – В чем, Павел Федорович, я должен объясняться? – пожал плечами Лукич. – Вы еще смеете спрашивать? – возмущенно произнес Малинин. – Это звучит, как издевательство, насмешка. Вы соблазнили мою дочь, которая годится вам во внучки. – Хорошо, – мирно вымолвил Лукич. – Давайте спокойно, без лишних эмоций разберемся в сложившемся деле. Случилось то, что случается на протяжении тысяч лет с миллионами людей: мы с Ларисой полюбили друг друга, быть может оба впервые в жизни, большой любовью. – Последние слова, приготовленные заранее, Лукич произнес со сдержанной страстью, так что лицо его порозовело, а глаза излучали особый благостный блеск. – Она-то может и впервые. Но вы?! Вы были дважды женат, – почему-то напомнил Малинин. – Можно быть и пять и десять раз женатым, – спокойно сказал Лукич, – но не испытать настоящей любви. – По-вашему получается, что настоящая любовь бывает только у стариков и только с молоденькими девушками, – язвительно сказал профессор. – Все что у них было до того – ненастоящее. Так? Я молчал. Я ждал подходящего момента, чтоб вклиниться в разговор. Молчал и Лукич. Он, кажется, расслабился и был, а может казался спокоен. – Сейчас вы станете мне цитировать Пушкина о том, что любви все возрасты покорны, – иронически изрек Малинин. – Именно об этом я сейчас подумал, – не то в шутку, не то всерьез произнес Лукич. – Но это лирика, теория, – гневно взорвался Малинин и заходил по комнате. – Почему же теория? – решил вмешаться я. – Практика на этот счет довольно богата, и вы, как историк, наверно знаете не мало примеров из жизни исторических личностей. – Вы хотите сослаться на пример подлеца Мазепы? – презрительно сморщился Малинин. – И не только, – сказал я. – Есть много других, подобных. Например возлюбленная Пабло Пикассо была на полстолетья моложе именитого художника. – Тоже нашли пример – Пикассо, – пренебрежительно скривил лицо Малинин. – Не было такого художника и любви не было. Был шарлатан. И похотливый старец. Да, да, развратный. – Пожалуй я соглашусь с вами: был шарлатан. Но он был к тому же и мужчина. – сказал я. – Надеюсь вы, Павел Федорович, Гете признаете великим поэтом? И он в семьдесят пять лет позволил себе влюбиться в шестнадцатилетнюю девчонку и сделал ей предложение. И представьте себе – она согласилась стать его женой. – А родители не дали своего согласия, и брак не состоялся, – парировал Малинин. – Гете был благородный кавалер: он просил согласия родителей. Вы, Егор Лукич, почему-то пренебрегли мнением родителей своей возлюбленной? – Я очень уважаю родителей Ларисы и признаю свою вину: так случилось, что не обратился за согласием. Не посоветовала Лариса. Она не шестнадцатилетняя Ульрика, а вполне взрослая, самостоятельная женщина, способная решать свои проблемы. Тем не менее – извините. Тут я решил, что мне следует опять нарушить нить разговора. – Между прочим, Павел Федорович, хочу вам сообщить самый последний исторический факт из серии Гете-Пикассо: совсем недавно восьмидесятичетырехлетний Сергей Михалков – по популярности равный Пикассо – женился на сорокалетней. Покорился любви, Дорогой Павел Федорович: Пушкин прав. Малинин как-то неожиданно опустился в кресло и, наклонись, обнял голову двумя руками. С минуту в комнате стояла натянутая, как струна, тишина. Наконец профессор, не поднимая головы, глухо заговорил: – Вы украли, похитили мою единственную дочь. Вы человек, которого я считал честным и порядочным, совершили нравственное преступление… Любовь! Да, это святое понятие! Но преступно покрывать им безрассудство. Чувства должны контролироваться разумом. Особенно в преклонном возрасте. – Он опустил руки на колени, взглянул кратко сначала на меня, потом перевел взгляд на Лукича и уже говорил, обращаясь к нему: – Да, я не могу приказать Ларисе, не могу заставить. Она упряма, самонадеянна. Но я прошу вас, Егор Лукич, уразумить ее, освободить от себя, отпустить. Убедить ее, что у вашей любви, в ваших отношениях нет будущего. Представьте себя на моем месте. Я взываю к вашей совести, – Голос его дрогнул умоляюще, и выводы его были настолько убедительны, что я даже не мог себе представить, чем на них сможет ответить Лукич. Он слушал молча и как бы в знак согласия легко кивал головой. Когда Малинин умолк, Лукич, словно про себя повторил его слова. – «Освободить», «отпустить». Онасвободна, я ей не раз об этом говорил. И буду еще говорить и постараюсь вразумить. И о том, что нет будущего, тоже скажу. Пусть думает и решает. Последнее слово за ней. Лукич отошел от портрета и сделал шаг к креслу, в котором сидел профессор. Остановился перед ним, выпрямился во весь рост и мягко, очень дружелюбно произнес: – Я обещаю вам, Павел Федорович, сделать все от меня зависящее. Обещаю. На этой ноте и был завершен нелегкий для обеих сторон разговор. Простились они в прихожей, пожав друг другу руки. Я решил задержаться. Некоторое время мы молчали, как после пролетевшей мимо опасности. Наконец, Лукич сказал упавшим голосом: – Ты знаешь, что такое трагедия? Вот это то, что я сейчас пережил. Впрочем, не пережил: это только начало. В жизни у меня были личные драмы. Они оставляли на сердце рубцы. Заживали. Они не смертельны. Трагедия – это трагедия. Совсем другое. Пойдем на кухню, У меня есть армянский коньяк. Расслабимся. Мы выпили по рюмке. Я спросил Лукича, где Лариса. Он пожал плечами: – Не знаю. Я жду ее звонка. Я передам ей дословно весь разговор с Павлом Федоровичем. Пусть решает сама. Если ее решение будет во благо ей, я только порадуюсь. Я не эгоист. Для нее, ради нее я готов на любую жертву. Скажет она: «умри Егор!» Умру, спокойно, потому что без нее жизнь бессмысленна. Я понимаю: ты не веришь, ты считаешь, что я ее сочинил, превознес до неба. Ты знал Альбину. Пойми – Лариса не Альбина. Она богиня. И об этом знаю только я и никто более. Не мной придуманная, а мной открытая. – Так открывают новые звезды, – с легкой иронией заметил я. Он смолчал. Он быстро хмелел, и я на всякий случай взял наполовину выпитую бутылку коньяка и спрятал в холодильник. Он не стал возражать. Он размяк и казался безучастен. – Послушай, Лукич, ты знаешь: я написал четырнадцать романов, и во всех присутствует любовь и женщины. Очень разные, главным образом положительные, героические, светлые, добрые. Я вообще преклоняюсь перед женщиной, ты это знаешь. Но такой любви, как у тебя с Ларисой, я не встречал.. – И не встретишь, – упавшим голосом вставил он. – Потому что она единственна на всю Россию. А может и на Вселенную. – Ну, так считали и считают многие. Особенно юные. – Юные – да, пожилые – нет. Вот в чем разница. Несколько раз я порывался уходить, но он останавливал меня: – Посиди. Она должна позвонить. Непременно. И она позвонила. Она говорила бойко, торопливо, прерывисто, взвинченным тоном: – Егор, родной мой! Прости меня: случилась! – Я плохо тебя слышу, повтори, – просил он. – Я случилась. То самое, чего мы с тобой хотели. – Ты откуда говоришь? – Из машины, которая называется «Ауди». Я еду в Тверь. Всего на день – на два. Доложу своим родителям: пусть не волнуются. У меня появилась крыша над головой и производитель. Ты извини меня, я немножко под шампанским. Когда вернусь в Москву, я тебе позвоню и все объясню. Я прошу тебя, ради Бога, не расстраивайся и не переживай. Помни: ты был для меня и остался легендарным и единственным, навсегда остаешься таким. Не одному своему слову, тебе сказанному, я не изменю и не возьму обратно. Запомни, милый мой. Вот и весь разговор. Лукич растерянно посмотрел на телефонную трубку, словно ожидая от нее каких-то иных, утешительных слов. Трубка молчала. – Да… Трагедия, которую я ожидал, но в реальность которой не верил. И все-таки, несмотря ни на что – Любовь бессмертна! – убежденно сказал он, перефразировав уже ранее сказанное и Тургеневым и Сталиным, и может другими, нам неизвестными. Прощаясь, я сказал: – Не печалься, старина, все образуется. Звезд несметное число на небе и на земле. А ты отличный астроном-профессионал. Не думай о трагедии личной. На фоне трагедии России и русского народа твоя история великой любви лишь частный эпизод, касающийся только вас двоих. Лариса не исчезла. Она вернется. Вот увидишь. Лукич смотрел на меня каким-то странным смешенным взглядом, в котором соединились растерянность, недоумение, глубинная тоска и едва заметная искорка надежды. – Все образуется, – повторил я утешительные слова, в надежности которых и сам не был уверен, потому и прибавил: – Жизнь продолжается. Она – штука сложная и немилосердна к тем, кто не принимает ее вызов и в отчаянии опускает руки. Но мы не из тех, Лукич, мы из стального поколения. – Ты хотел сказать «из сталинского», – не спросил, а утвердительно поправил он и преднамеренно бодро произнес: – Примем вызов и поборемся! По лицу его пробежала вымученная улыбка, а глаза ожесточенно заблестели. – Мне хотелось пронести нашу любовь за горизонт, то есть в новый двадцать первый век, – сказал Лукич. – Мысль благородная. Символичная. Будем надеяться, что она осуществится. – Нет, не верю, – сказал он унылым голосом. Глаза его потухли, лицо потемнело. – А ты верь. Ты же принял вызов. Вот и борись, сражайся по-сталински. – Он коротко взглянул на меня и вымученно улыбнулся. – Позванивай мне и заходи, – сказал я прощаясь. – И ты не пропадай и не проходи мимо. По пути домой в метро и троллейбусе я думал над историей этой необычной любви. Сегодняшнее поведение Ларисы мне показалось очень странным, не объяснимым, никак не вяжущимся с ее цельным характером и образом, каким сложился он в моем сознании. В чем причина такого неожиданного, резкого оборота? Была ли настоящая, сильная любовь с ее стороны? Можно было бы понять и объяснить ее постепенное охлаждение, разочарование. Но что б так внезапно, вдруг?! Да и о разочаровании речи нет, она подтверждает свою верность и любовь, называет его легендарным и единственным и в то же время уходит к другому, который дал ей крышу над головой и возможно ребенка – ее мечту? Нет тут какая-то путаница, распутывать которую еще придется не одному Лукичу, но возможно и мне на правах его друга и быть может автора романа о необыкновенной Любви. Мысль написать такой роман у меня зародилась уже с год тому назад и постепенно зрела. Не доставало главного – конфликта. И вот, наконец, появился конфликт. Но разве дело в конфликте? – спрашивал я себя, придя домой и отвечал: – Тут главную основу, идею, мысль составляет Любовь. Конфликт – это лишь каркас, скелет романа. А содержимое, заполнявшее его – величайший взлет человеческого духа, бесценный, божественный дар природы – Любовь. Это высокое искусство, которым не каждый человек наделен одинаково природой, как и талантом. Страстно влюбленный не приемлет советов, точно так же, как отвергает их и великий художник, сердцем создающий свое творение. Лукич умел любить искренне, горячо, с открытой душой. Я знал его отношения с Альбиной, и радовался за него и сокрушался, когда между ними произошел разрыв. И не по вине Лукича. И я подумал: талант любить всегда сопутствует творческому таланту. Тут есть какая-то предпосланная закономерность. Я вспомнил его желание пронести свою любовь за горизонт. И мне захотелось спросить современного Нострадамуса: а что там, за горизонтом? Что уготовлено там России – гибель или возрождение? Черный жидовский шабаш или светлое православное воскресение? Сегодня из Петрограда я получил от профессора Протасова Бориса Ивановича – доктора биологических наук, с которым я лично не знаком письмо и экземпляр питерской газеты «Наше отечество» №78 за 1997 год. В этой газете на первой странице опубликовано «Обращение русских ученых к евреям России». Его подписали десять ученых разных наук: академики, доктора, профессоры. Среди них и Б. И. Протасов. Обращение написано в связи со столетием сионизма. Мне оно показалось взвешенным, откровенным и убедительным. Я готов подписаться под ним. В нем в частности говорится: «Еще несколько лет назад в своем благодушии мы полагали, что вы обладаете нормальными человеческими качествами: благодарностью, добросердечием, стремлением жить в мире с другими народами. Но время показало, что мы жестоко ошибались. Сегодня мы вынуждены констатировать, что власть в России, начиная с переворота в 1991 года, который вы учинили с помощью ваших холопов шабес-гоев, находится в ваших руках. Наконец-то маски сброшены – и мы увидели ваше истинное лицо: развал СССР по «беловежскому сговору», расстрел Верховного Совета в 1993 году, война в Чечне,… смерть людей от голода, самоубийство офицеров… и т.д. и т.п. Используя захваченные вами средства массовой информации, вы сеете вражду между народами… …Теперь мы знаем, что сионизм – это стремление захватить власть над всем миром, а Израиль – всего лишь то место, где вы рассчитываете отсидеться в случае чего. …В безмерной наглости своей вы не только оплевываете наши святыни, калечите души наших детей и внуков прославлением культа секса, насилия и продажности, но даже наше естественное стремление жить в соответствии с мирными традициями наших предков называете «русским фашизмом». Мы проанализировали ваши действия и заявляем: режим, установленный вами в России, является еврейским фашизмом. …Не обольщайтесь. С брезгливостью мы изучаем ваши методы по вашим делам и книгам. Мы создадим мощное, смертельное для вашей системы АНТИОРУЖИЕ и тогда действительно свободные народы вздохнут полной грудью, ощутив красоту нашего мира, очищенного от самой мерзкой и грязной власти – власти денег… Мы найдем способы раскрыть глаза нашим людям, нашим детям и внукам, всем другим народам на то, что нет ничего омерзительней вашей бездуховной власти. Запомните слова патриота Земли Русской – нашего незабвенного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна: «Иудаизм – религия ненависти». «Россия есть государство русского народа!» Мы говорим: «Сионизм не пройдет!» Прочитал я последнюю фразу этого обращения и горестно вздохнув, сказал: к сожалению, прошел. Прошел с триумфом. Как и в семнадцатом году, правительство России сплошь еврейское. И обращение десяти ученых-патриотов в малотиражной газете это еще не борьба, а всего лишь маленькая, едва заметная вспышка, глас вопиющего в пустыне. А нужен взрыв, нужен русский Спартак, который ценой собственной жизни поднял бы народ на смертельный бой с американо-израильскими пришельцами. Но нет в России Спартака, нет и Минина, да и маршала Жукова нет, – а его наследники превратились в трусливых стяжателей, хладнокровно расстреливающих свой народ по приказу кровавого оборотня. А Сталины рождаются раз в столетие, и того реже. Вот такие унынье, безнадега, тоска гложут постоянно душу миллионов обездоленных людей России. Народ ропщет. Этот ропот, как жуткий стон, исходящий из народных глубин, слышится на окраинах страны и кажется медленно приближается к центру. Не вулкан ли священного гнева созревает в недрах России? Слишком медленно зреет. Когда же наступит час извержения и сметет, испепелит эту чужеродную нечисть вместе с шабес-гоями и шабес– патриотами типа Лебедя, Говорухина и Никиты Михалкова? И все же верится: взрыв произойдет, Спартак объявится, Русь воскреснет!
Глава десятая
Лариса
Это трагедия. Ничего подобного со мной прежде не случалось. А ведь я должна была ее предвидеть. Должна. А я не желала, я была счастлива и думала только о хорошем. Я, как страус, прятала голову в песок, думала, авось обойдется, пронесет, и родители спокойно воспримут наши отношения с Егором. Так мне хотелось. Я представила, что в данную минуту сейчас происходит на квартире Лукича. Представила словесную дуэль Егора и отца. Папа наверно взбешен, и при всей его деликатности, он обрушил на Егора град оскорбительных слов. Он взбешен, и это ужасно. У него больное сердце, ему нельзя волноваться. А Егор? Как он ведет себя, оправдывается, объясняет или тоже грохочет грубыми словами? Не дошло бы до драки. И все из-за меня, во всем виновата я и никто больше. Егор не виноват. А в чем моя вина? Что первый раз в жизни встретила необыкновенного человека и полюбила? Но любовь – это не преступление, не грех. Любовь – это благо. Я шла по Тверской растерянная и подавленная, не зная, куда мне податься, где найти пристанище и приют своим неприкаянным, разметанным думам. От телеграфа я позвонила Лиде, но телефон ее молчал. Сама не зная почему я набрала телефон мастерской Ююкина. Он весело ответил: – Как здорово! На ловца и зверь бежит. Мы только что о тебе говорили. Ты мне очень нужна по важному делу. Приезжай и немедленно. Важное дело. Что б это могло быть? Может с отцом что случилось? Или с Егором? И я поспешила к Ююкину. В мастерской Игоря я встретила мужчину средних лет, спортивного телосложения блондина, розоволицего, с мужественным самоуверенным взглядом, одетого в темный элегантного покроя костюм и яркий модный галстук. Почему-то сразу подумала: «Новый русский». А Игорь тот час же, словно разгадав мои мысли, представил: – Знакомьтесь: Борис Ильич Денисов, преуспевающий бизнесмен, типичный «Новый русский». При том в самом деле русский, а не какой-нибудь Березовский. – Очень приятно, – улыбнулся карими глазами бизнесмен и добавил: – А с вами я уже познакомился. – И резким жестом твердой руки указал на прислоненную к мольберту картину «Майское утро». Вы конечно Лариса. И в натуре выглядите еще прекрасней, чем вас изобразил Игорь. Он стоял у стола, сервированного коньяком и холодными закусками, ассортимент которых был довольно богат и разнообразен, прямой, подтянутый, пышущий здоровьем и самодовольством. Отодвинул стул и предложил мне: – Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей скромной трапезе. Очень рад с вами познакомиться лично, как с прекрасным персонажем живописи. Голос его резкий, энергичный, как и вообще манеры человека властного, самоуверенного. Его галантность мне показалась искусственной. Он разлил коньяк по рюмкам, положил в мою тарелку осетрину, карбонат, пододвинул ко мне баночку черной икры и провозгласил тост: – За прекрасную Ларису, достойную счастливой судьбы. Я поняла, что до моего прихода Игорь уже рассказал ему все, что знал обо мне. И тут же перешли к делу. Оказывается, Денисову очень понравилась картина «Майское утро»« и он пожелал купить ее. Игорь не соглашался под разными предлогами: мол, картина еще не была на выставке, да к тому же нужно согласие модели, то есть меня, предлог явно надуманный. Он, Денисов, предлагал художнику самому назвать цену, мол, мы за ценой не постоим. Такой широкий, купеческий жест заинтересовал Игоря, и он предложил компромисс: – А давайте, Борис Ильич, я для вас сделаю повторение? – Это как понимать? – по-хозяйски спросил Денисов. – Копию, что ли? – Не копию, а повторение. Копия – это когда копирует другой художник. А я сам сделаю авторское повторение. Это разные вещи. – В таком случае и цена твоему повторению должна быть другая. Раза в два дешевле, – В карих глазах Денисова сверкнули лукавые огоньки, сразу обнаружив характер бизнесмена. – Но на это опять же нужно согласие Ларисы, – заметил Игорь, хотя на самом деле никакого моего согласия не требовалось, хозяином картины был автор, художник. – С Ларисой, я думаю, мы договоримся, – самоуверенно сказал Денисов и тут же обратился ко мне: – Признайтесь откровенно: какая ваша зарплата в Твери? – Около миллиона. – А если я предложу вам три миллиона и должность референта? Мне нужен референт, и именно историк. Понятно: Игорь проинформировал его достаточно подробно, – подумала я, а Денисов тем временем наполнил рюмки коньяком и спросил: – Ну так что, милейшая Лариса? Согласны? – А какие мои обязанности? – полюбопытствовала я, не принимая всерьез его предложения. – Самые простые: выполнять мои поручения, присутствовать на переговорах с фирмачами, иностранцами. – Вы думаете, я справлюсь? – Я не думаю, я уверен. – Он поднял свою рюмку и торжественно провозгласил: – Выпьем за нового референта моей фирмы и пожелаем ему удач. И не дав мне и рта раскрыть, чокнулся с моей рюмкой, которую я еще не взяла в руку и потом с Игорем, решительно, приказным тоном прибавил: – До дна! Все было так неожиданно, необычно и странно, как во сне и я послушно, бездумно подчинялась и выпила вторую рюмку до дна. И быстро начала хмелеть. Слишком много неожиданного, противоречивого, контрастного обрушалось на меня за какой-то час: встреча отца с Егором и какой-то проблеск в моей судьбе, во что не верилось, – все это перемешалось в сознании, как бы парализовало мою волю, и я отдала себя во власть стихии, не утруждая анализом происходящего. Я плыла по течению, не сопротивляясь, мне было все равно, куда вынесет рок. Предложение Денисова я считала для себя большим благом, даром судьбы, хотя все еще не верила в его серьезность и все же, думая о его реальности, спросила вслух саму себя: – Но как из Твери каждый день ездить в Москву? – А зачем ездить? Не надо. – твердо заверил Денисов. – У тебя будет квартира в Москве. Однокомнатная, приличная квартира. Нет, это уж слишком! Как в сказке. А Денисов извлек из кармана ключи и демонстративно положил их на мою ладонь, сжал ее и сказал: – Вот тебе ключи от твоей квартиры. Все его действия были основательны, без суеты и пафоса. Он сказал Игорю, что насчет повторения картины подумает, а сейчас он хочет показать мне мою квартиру и одно из предприятий. Потом он куда-то звонил, отдавал какие-то распоряжения и сказал, что мы будем минут через сорок. Я обратила внимание на «мы», решив, что это касалось меня. – Вы не были в моем меховом магазине? – спросил он меня и назвал адрес. – У вас свой магазин? – И не только. У меня есть все, что угодно душе хорошего человека. Вместе с Денисовым мы вышли из мастерской Ююкина. У подъезда стояла изящная машина, с эмблемой – кольцами на радиаторе. Денисов, поддерживая меня под локоть, проводил к машине, дверь которой открыл шофер. – Прошу вас, – учтиво предложил мне садиться. – Куда? Зачем? – не очень решительно спросила я. Воля моя была парализована. – Хочу показать вам свое хозяйство. Ведь вы не были в магазине меха. И я покорно подчиняясь ему, оказалась в машине на заднем сиденье. Денисов сел рядом со мной и сказал шоферу: – Андрей, это наша новая сотрудница референт Лариса. Ей нужна шуба, впереди грядет зима с морозами. – Слушаюсь, – услужливо ответил молодой человек, и машина плавно и легко тронулась с места. У меня действительно не было приличной шубы. Но не было и денег, чтоб купить ее. Денисов сидел, прижавшись ко мне, но никаких вольностей себе не позволял, вел себя в пределах приличия. Мы молчали, и это издавало некоторую неловкость. Я решила нарушить молчание: – Как называется ваша машина? – «Ауди» – ответил Денисов. – У меня есть и «Вольво», но я предпочитаю эту… Как вы находите картину Ююкина? вдруг спросил он. – Стоит мне ее покупать? Я имею в виду копию или повторение? – Не знаю, – робко ответила я. – Но вам она нравится? – Мне трудно судить о себе самой. – В жизни вы интересней, – польстил он. – Я хотел купить и подарить ее вам. – За какие заслуги? – За будущие. Ну просто потому, что вы мне нравитесь. Это меня настораживало. А вот и магазин «Меха». Каких только шуб здесь не было! Целое сокровище, глаза разбегаются. От самых дорогих, от белька и скунса, до самых «демократичных» – нутрии, хорька и дубленок разного фасона. Мы шли как бы по коридору из меха в сопровождении молодой дамы моего возраста, которая ревниво и с тайным сарказмом осмотрела меня, когда Денисов представил: – Мария Степановна, знакомьтесь: это Лариса Павловна – наш новый сотрудник – референт. Меня это несколько покоробило: второму человеку он представляет меня своим сотрудником, не получив на то моего согласия. Он считает себя моим благодетелем и не нуждается в моем согласии. Он решил за меня, будучи в полной уверенности в незыблемости его решения. Этот человек властного характера привык повелевать подчиненными или зависящими от него людьми. В принципе мне нравились сильные, твердые натуры, на которые всегда приятно опереться. Но я еще окончательно не решила, принять его предложение или отказаться. А он уже приказывал Марии Степановне: – Пожалуйста, подберите лучшую нутрию для Ларисы Павловны. – И когда та отошла выполнять распоряжение, вполголоса сказал мне: – Вы не удивляйтесь и не смущайтесь: таков у нас порядок – новому сотруднику мы что-нибудь презентуем. В данном случае шубу. Я думаю нутрия вам будет к лицу. Импортные, высшего класса. – Это как аванс, в счет зарплаты? – поинтересовалась я. – Нет, как презент, подарок. Тем временем Мария Степановна поднесла мне темно– коричневую с огненно-блестящим ворсом шубу и предложила померить. Шуба была отменная по качеству, и мне очень понравилась, тем более – подарок. Не спрашивая моего мнения, Денисов приказал завернуть и отнести в машину. Когда мы вышли из магазина, он спросил: – Ключ от своей квартиры не потеряли? – и не дожидаясь ответа, он сказал: – А теперь поедем смотреть квартиру. Я все еще находилась в состоянии какого-то странного, сказочного гипноза. Мне не верилось в реальность происходящего, порой казалось, что меня разыгрывают. Мы подъехали к многоэтажному башенного типа дому, поднялись по лестнице на второй этаж, и Денисов любезно сказал: – Ну, открывай, хозяйка. Андрей шел вместе с нами с шубой в руках. Квартира была однокомнатная с просторной кухней, в которой стоял холодильник, квадратный стол, четыре стула и небольшой сервант с посудой. Комната с одним окном и балконом имела прямоугольную форму. Одну треть ее занимала разложенная диван-кровать. В стороне у журнального столика с телефонным аппаратом стояли два мягких кресла и небольшой гардероб. На полу старый ковер. Денисов открыл платяной шкаф и сказал, что там постельное белье. Сверток с шубой приказал Андрею бросить в кресло. Показав мне ванную и туалет, распахнул стенные шкафы в интерьере, самодовольно спросил, глядя мне прямо в лицо веселым взглядом: – Ну как, годится апартамент? – Слов нет, мечта одинокой женщины, – ответила я, не находя других слов. А он подсказал: – Скажи Боре спасибо и не забудь поцеловать в знак благодарности. Я была смущена, полушепотом произнесла «большое спасибо» и чмокнула его в щеку, ощутив приятный запах одеколона. – А целоваться, милое дитя, ты не умеешь, – упрекнул он и увлек меня на кухню. Я обратила внимание на «ты» и «милое дитя», но не придала этому особого значения. Очевидно он ждал поцелуя в губы. Наверно этого не избежать, – подумала я без тревоги и сожаления. Как мужчина, он не вызывал во мне антипатии, пожалуй наоборот. Меня подкупала его самоуверенность, решительность, энергия. Да и непристойности в отношении меня он себе не позволял: все было в рамках приличия. Но и комплименты в мой адрес не расточал. Из холодильника он достал груши и бутылку шампанского, извлек два фужера, предложил мне садиться за стол и сказал, весело постреливая в меня карими глазами: – По христианскому обычаю и шубу и квартиру следует осветить брызгами шампанского. После коньяка шампанское. Я представляла, что это такое, но противиться не могла: плыла по течению. Мы молча пили шампанское, изучающе глядя друг на друга. Мне нравилось его мужественное лицо, крепкий подбородок, крутой лоб. Смущали карие холодные глаза – в них искрилось нечто хищное, жестокое. Или это мне только казалось. Я вспомнила о разложенном диване, о постельном белье, о котором как бы между прочим вымолвил Денисов и решила, что он своего не упустит. Это уж определенно. Не за красивые глаза он одарил меня такими щедротами. Я представила его в постели. Что ж, придется уступить. Как производитель, он мужчина, что надо. Я даже представила своего ребенка, похожего на него. Под воздействием шампанского ширилась и расцветала моя фантазия. Почему только производитель, а не муж, законный отец нашего ребенка? И только теперь я вспомнила Егора, бедного Лукича и мне стало не по себе. Мысли мои перебил Боря, как он сам себя назвал: – Мы с тобой поступим так: сегодня Андрей отвезет тебя в Тверь. Проинформируешь родителей, уладишь дела в университете. Двух дней на это тебе я думаю хватит и возвращайся к месту новой службы. Согласна? – Хорошо, – ответила я. – Сейчас мы с тобой ненадолго заедем на мою фазенду, а потом Андрей отвезет тебя в Тверь. Слово «домой» спровоцировало меня на вопрос, который я хотела, но не решалась задать: – Скажите, Борис Ильич, вы женаты? – Прежде всего запомни: у нас не принято задавать такие вопросы. А потом, тет-а-тет называй меня Борей. Голос его прозвучал жестко, с недовольством. Конечно, вопрос мой был неуместен, даже бестактен. Виновато шампанское, которое мы допили до дна. Он энергично встал из-за стола, – и вообще во всех его движениях и жестах чувствовалось избыток энергии и физической силы, что опять-таки мне нравилось. – Извините, Боря, мою бестактность. Провинциалка. – Можешь называть меня на «ты», – чуть мягче сказал он и распорядился: – Шубу отвези в Тверь, покажешь родителям. Я закрою дверь, но ключи ты возьмешь с собой. Вернешься сразу в эту квартиру и позвонишь мне. Он достал свою визитку, написал еще один номер телефона и протянул мне. Итак, мое опасение, а вернее предположение о разложенной тахте, не оправдалось. Это обстоятельство, а также резкий ответ о жене наводило на сложные размышления. Тут крылось что-то загадочное. Мысли мои путались, смесь коньяка и шампанского давала о себе знать. Мы ехали по загородному шоссе. В машине он обнял меня и поцеловал в губы. Я достойно и с удовольствием ответила ему. – Оказывается, ты умеешь целоваться, –пошутил он. – Пожалуй я буду брать у тебя уроки этого приятного ремесла. Согласна быть моей учительницей? – Согласна, – ответила я, припав своими губами к его губам. Иногда в моем сознании возникали неожиданно трезвые вопросы и тут же гасли без ответа. Например, какие у него виды на меня? Какой мой статус при нем? Жены? Но он с раздражением оборвал мой вообще-то безобидный намек. Любовницы – вероятней всего. Я знала, что иногда любовница становится со временем женой. Мысленно я пыталась представить себя его женой, отцом моих детей и хозяйкой мехового магазина. О Егоре Богородском я не думала, точно так же, как и не подумала о своих чисто женских чувствах к этому странному, случайно встреченному человеку, мое любопытство к которому уже переходило в симпатию. Я всегда считала невозможным не только супружество, но и внебрачную связь без взаимной любви. Без сомнения я ему приглянулась и понравилась. Но это еще не любовь. Слово «любовь», возникшее в моем распаленном сознании так внезапно, задело во мне очень чувствительную струну: я вспомнила Егора, его, нашу «вечную» любовь. Что-то ноющее встрепенулось во мне и подступило к горлу, я даже закрыла глаза, что бы утолить душевную боль, вызванную вдруг пробудившейся совестью. Я находилась в таком, как бы подвешенном состоянии, что даже не почувствовала, как остановилась машина, и Денисов, выйдя из нее, сказал: – Мы приехали, выходи, – и протянул мне руку. – Похоже ты вздремнула? – Меня укачало, – солгала я. – Виновато шампанское. Мы стояли у подъезда трехэтажного, сооруженного из красного кирпича особняка, обнесенного глухим забором. Ельцинская Россия густо обросла такими дворцами «новых русских». Тут же у парадного стояла серебристая «Вольво», и молодой человек, – я решила, что это водитель, – приглушенным голосом, точно опасался, что его подслушивают, доложил: – Все готово, Борис Ильич. Денисов, поддерживая меня под локоть, пригласил в дом. В просторной прихожей, сверкающим золотистым деревом, он задержался, обвел хозяйским взглядом вокруг, кивнул на лестницу, с нескрываемой гордостью: – Там основные апартаменты, но мы сегодня туда не пойдем. Пока что дом в стадии обживания. Но главную достопримечательность я тебе покажу. По блестящему паркетному полу из прихожей мы прошли в небольшую комнату, из которой по лестничным ступенькам спустились вниз. Пол там был выложен кафельной плиткой, стены обшиты деревом. Я сразу ощутила специфический запах тепла. – Здесь у меня оздоровительный комплекс, – пояснил Денисов, открывая двери комнат. В одной стоял дубовый стол с деревянными стульями. На столе, в окружении блюд с холодными закусками, маячила бутылка шампанского, бутылка коньяка, прохладительные напитки, фрукты. – Ты в сауне когда-нибудь была? – Нет, только слышала. – Сегодня примешь крещение. Мы шли дальше – мимо двух кабинок душевых, мимо двери, указав на которую, Денисов походя бросил: «Здесь туалет», и потом открыл соседнюю дверь, из которой пахнуло огненным жаром. – Это парилка. – Он закрыл дверь и повел меня дальше мимо широкой мягкой скамейки, покрытой простыней, к бассейну, в который из трубы бурлил водяной поток. – Ты какую воду любишь? – спросил меня. Я пожала плечами. – Некоторые предпочитают температуру в двадцать пять градусов, другие в тридцать, – пояснил он. – Ту, что потеплей, – ответила я. – Значит в тридцать, – решил он и, повернувшись лицом ко мне сказал: – Итак приступим к оздоровительным мероприятиям, выгоним из себя весь винно-коньячный хмель. Вот вешалка, раздевайся, и марш в парилку. Сказав это приказным тоном, он торопливо начал раздеваться. Снимая с себя одежду, он небрежно швырял ее на вешалку. Я стояла в растерянности. Раздевшись до трусов, он обратился ко мне: – Ну что стоишь? Тебе помочь? Будь, как дома. – И начал расстегивать пуговицы моей блузки. При том делал он это быстро и ловко, я не успела даже возразить, как моя блузка оказалась на вешалке, а он уже растянул молнию моей юбки. – Я сама, – робко произнесла я, чувствуя его власть над собой. Конечно, для меня здесь все было ново, необычно, и я не против была «пройти курс оздоровления». Я раздевалась не спеша, еще не решив, до какой степени обнажаться. Он понял мои колебания и тот час же снял свои трусы, оказавшись в костюме Адама. – Ты что, монахиня? – И так же ловко снял с меня лифчик. Остальное я сняла сама. Мы надели тапочки, он взял со скамейки байковое одеяло, и мы вошли в парную. На меня пахнуло горячим теплом и чем-то ароматным, напоминающим запах свежего ржаного хлеба. Я хотела присесть на нижнюю полку, – а они были в три этажа: две узкие и верхняя широкая, – но полки были горячими и я не решилась. Денисов понял мое затруднение, быстро вышел и вернулся с двумя гладко выструганными дощечками, одну подал мне со словами: «это тебе подгузник», другую оставил на скамейке, а сам расстелил одеяло на верхней полке. Все это он делал быстро, но не суетливо, как автомат. Я обратила внимание на его обнаженную фигуру. Она показалась мне если и не безукоризненной, то довольно ладной. Впечатление портил уже явно наметившийся живот. Я не люблю пузатых мужчин. Вначале мне было жарко даже на нижней полке, но постепенно я свыклась и даже почувствовала особую прелесть от горячего пара. А Денисов все хлопотал, выходил из парной, вернулся с флакончиком какой-то жидкости, набрал в ковш горячей воды, добавил в нее немного из флакона и плеснул на камни. Повеяло новым, очень терпким и незнакомым мне ароматом. – Поднимайся на верх и ложись животом на одеяло! – скомандовал он. – Там жарко, – взмолилась я. Тогда он вынул из ведра с горячей водой березовый веник, окунул его в ведро с холодной водой и шлепнул им по моей спине. Я вздрогнула, но было приятно, и я легла на одеяло. Он очень мягко, осторожно касался веником моего тела и спрашивал: – Не очень жарко? – Очень. Тогда он опять окунул веник в холодную воду и положил на меня. Так продолжалось минуты две-три после чего он велел мне лечь на спину и процедура продолжалась тоже минуты две-три. Положив веник мне на живот он поцеловал мою грудь и сказав «пока достаточно», помог мне сойти вниз. После парилки сразу в бассейн. Ощущение очень приятное, какое-то блаженное состояние. Из бассейна опять в парилку, но вместо березового был эвкалиптовый веник. И снова по две-три минуты и бассейн, где я почувствовала себя совершенно трезвой. – На сегодня хватит, – решил он, когда я вышла из бассейна, и, пристально оглядев меня, польстил: – У тебя хорошая фигура.. – И набросил на меня, а потом и на себя простыни. Мы пошли в комнату, где был накрыт стол, и из нее в следующую поменьше размером, в которой была единственная широкая тахта. Он силой посадил на нее меня, отбросил простыни, и я отдалась ему без сопротивления, молча, без ненужных слов, без любви и без страсти, из любопытства и как бы по обязанности, мне было и не плохо и не хорошо, мне было безразлично. Я по-прежнему находилась в каком-то тумане в состоянии отрешенности. Получив свое, Денисов отвернулся от меня, лежал неподвижно и молча, как бревно. Мы были чужими. Молчала и я, вспомнив Егора, ласкового, нежного, и во мне вспыхнуло чувство жалости к Егору и себе самой. Ведь мы были одно целое, и боль и жалость ощущали вместе, сообща. Меня подмывало сказать что-то язвительное, колючее, но подходящие слова не находились, и Денисов, вставая с постели, озабоченно проговорил: – Тебе надо поспешить, что б Андрей к полуночи возвратился в Москву. Выходит не я, а он меня уязвил, мол, случилась и отваливай. Он раньше меня вышел из комнаты и я услышала, как в соседней комнате, где был накрыт стол, прозвучал хлопок открытого шампанского. Когда я вошла туда, он сидел за столом, прикрывшись простыней, и наливал в узкий длинный фужер шампанское и затем рюмку наполнил коньяком. Скривил подобие иронической улыбки и лукаво сощурив глаза, предложил: – Садись, отметим твое вступление в должность. Завернувшись в простыню, я сказала: – Я хочу пойти одеться. – Потом оденешься. Шампанское можно пить и в костюме Евы. – Он схватил меня за руку, крепко сжал и посадил за стол, подав мне фужер. Его поведение и слова были для меня оскорбительными, и я не смолчала. Когда он стукнул своей рюмкой с коньяком о мой фужер с шампанским, я сказала: – Что я должна понимать под своей должностью? То, что сейчас произошло? – Ну, не только. Должность референта гораздо шире, серьезней, интересней и значительней. Будешь со мной принимать иностранцев – партнеров по бизнесу, сопровождать меня на приемах, разных презентациях. Об этом поговорим, когда возвратишься из Твери. А сейчас – посошок, на дорожку. – Он снова наполнил шампанским мой фужер, и себе вместо коньяка налил шампанского, не взглянув на меня, выпил залпом. Он явно спешил заняться делами, а может избавиться от меня, – и такая мысль пришла мне в голову. Когда я села в машину, Андрей спросил меня: – Куда прикажете, Лариса Павловна? – В Тверь. – А заезжать никуда не будем? И тут я вспомнила про шубу и решила забрать ее. Я зашла в квартиру – «свою» квартиру, и получше осмотрела ее. Да, хорошо бы иметь такую квартиру в Москве. Но какой ценой? После бани я не питала особых иллюзий в отношении своего будущего с Денисовыми Что ж, произошло то, что рано или поздно должно было произойти: я очень хочу ребенка, это моя главная мечта и забота, мое неукротимое желание. И сегодня я сделала решительный шаг к моей заветной мечте. Я отдаю себе отчет в, том, что с первого раза можешь и не забеременеть, для полной гарантии потребуется длительная связь, и я пойду на нее, чего б это мне не стоило, отступать поздно. Я посмотрела на телефонный аппарат, и сердце мое заныло. Я прошептала: «Егор, милый, прости. Ты же согласился, что мне нужен ребенок. Я не изменила тебе, не предала нашу любовь». Я взяла трубку и набрала номер Лукича. Услышав его такой родной и знакомый голос, повторивший дважды «Я слушаю», я не могла вымолвить ни слова и положила трубку на рычаг. Меня охватило непонятное оцепенение, которое тут же перешло в дрожь. Тогда я быстро схватила сверток с шубой и выбежала из квартиры. Наверно и Андрей заметил мое волнение, потому что, когда машина тронулась, он спросил: – С вами все в порядке? – Да, все, – пересохшим голосом ответила я. – Я только хотела позвонить. – Вы можете позвонить из машины. – Хорошо, спасибо, только потом, погодя, – лепетала я, все еще соображая, зачем я положила трубку и не стала говорить с Егором. Струсила. Да, я струсила, а он, конечно, догадался, что это я звоню. Так нельзя, так не поступают с друзьями, при том, самыми близкими, родными. И я попросила Андрея набрать номер телефона Лукича. Я была возбуждена, мне приятно было снова слышать его голос, хотя слышимость была неважная. Захлебываясь эмоциями, я кричала в трубку какие-то ласковые, нежные слова, не стесняясь Андрея. Глаза мои были полны слез, и Андрей это видел через зеркало и отнесся ко мне с пониманием, потому что сказал, когда я закончила разговор: – Видно у вас добрая душа и любящее сердце, Лариса Павловна. Вам трудно будет у нас… А впрочем, я этого вам не говорил. – Спасибо, Андрей, за доверие. Я вас не подведу. До самой Твери мы больше не разговаривали. На меня нашел сон, и я вздремнула, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Проснулась, когда уже въезжали в Тверь. Родители меня встретили настороженно, но не враждебно. Я решила сразу ошарашить их. Развернув шубу и надев ее на себя, я объяснила: – Можете успокоиться: с Егором Лукичом мы расстались. Я устроилась на работу в одну солидную фирму референтом с окладом в три миллиона рублей. А так же крышей над головой. А это мне в порядке сувенира от фирмы, как новому сотруднику. Конечно, пошли вопросы, что за работа, какие обязанности, кто помог устроиться, но главное о квартире: временно это или навсегда? А я и сама не знала, на каких правах мне предоставлена эта «крыша», но ключи от нее продемонстрировала и дала номер телефона: мол, можете звонить, а будете в Москве, милости прошу в гости. Выслушали меня с большим интересом. А мама заметила: – Ты плохо выглядишь. – Я устала. А потом приехала прямо с банкета. Было много шампанского. В машине спала, – попыталась я оправдаться. И уже к отцу: – За два дня я должна разделаться с университетом и возвращаться в Москву. В Твери я долго не могла уснуть. Теперь, когда рассеялся хмель, я попыталась собраться с мыслями, привести их в порядок и трезво посмотреть на произошедшее. А произошел крутой поворот в моей судьбе, если все, что случилось, принять всерьез. Родителям я сказала, что окончательно порвала с Егором, но сама в это не верила и вспоминала все, что в пьяном угаре я наговорила ему по телефону из машины. Я была искренне в своих эмоциональных словах и могла повторить их хоть сейчас. Мне понравился Андрей своей доверительностью, и его реплику или намек я восприняла, как предупреждение. Поведение Бориса в бане, особенно после того, как совершился акт, его злобная вспышка на невинный вопрос о семейном положении не давал повода для радужных иллюзий. Напротив, все это порождало тревогу и настороженность, подталкивало быть на чеку, не терять рассудка, достоинства и чести, быть самой собой, сохраняя свои принципы и лицо. Но при этом тайком подкрадывалась расхожее выражение: цель оправдывает средства. У меня есть цель, моя заветная мечта – ребенок. Но я кажется, не готова платить любую цену за эту цель. И опять коварный червячок зашевелился во мне: и не только ребенок, а материальные блага, высокая зарплата, квартира, положение, разве это не в счет? Впрочем, последнее, то есть «положение», вряд ли можно считать за благо. Нет, не веселые думы метались в моей голове. Я все четче осознавала, что попала в западню. Будучи в состоянии душевного разлада во время драматической встречи отца с Егором, я с отчаянием бездумно бросилась в случайно, на счастье или беду, оказавшийся рядом поток. И теперь обречена барахтаться в нем, плыть по течению через скалистые пороги, валуны и коряги, пожертвовав первой и может последней подлинной любовью и научной карьерой ради ребенка. Я признаюсь: перед Егором я преступница, я совершила подлость, предала нашу любовь, и нет мне ни оправдания, ни прощения. С такой сумятицей дум я засыпала далеко за полночь. Мне снились какие-то кошмары, что-то нереальное, невиданное, в ужасе я просыпалась, пробуя вспомнить картины сновидения, но они мгновенно смывались в памяти, исчезали без следа. Медленно и трудно я снова засыпала, и опять мне снились чудовища, каких можно увидеть лишь на картинах авангардистов. И так продолжалось до девяти утра, когда меня разбудила мама.
Глава одиннадцатая
Лукич
Минуло двое суток с тех пор, как Лариса в последний раз говорила со мной по телефону из какой-то машины будучи, как она сама призналась, под хмельком. Странный это был монолог, похожий на прощальный журавлиный клик. Два дня и две ночи прошло, а ее возбужденный, пронзительный голос звучит во мне, и я слышу его не ушами, а сердцем, встревоженным, снедаемым невыносимой тоской. Лариса исчезла, не оставив о себе и следа. Такой оборот я предполагал теоретически, но в реальность его не верил, не хотел верить, потому что над всем этим главенствовала наша совершенно необыкновенная, невиданная и неслыханная любовь, которую мы оба считали бессмертной. «Душа и любовь бессмертны», – говорили мы с Ларисой. Но что бы с ней не случилось – а я повторяю – ко всякому был готов, даже к замужеству ее, – моя любовь к этой неземной женщине умрет только вместе со мной. Двое суток я не выходил из дома: я ждал ее звонка. Я не мог ничем себя занять, работу над мемуарами я решил прекратить вообще: ведь я писал для нее, для моей Ларисы. Теперь же мои воспоминания теряли для меня всякий смысл. Мне было мучительно сидеть без дела в ожидании телефонного звонка. А телефон безнадежно и упрямо молчал. Даже друзья, которые часто позванивали ко мне, на этот раз молчали. И я не звонил им, боясь занять телефон долгими разговорами, в момент которых может позвонить Лариса. И тогда я решил перечитать все ее письма, адресованные мне. Это была разумная, спасительная мысль: читая ее письма, я как бы общался с ней. Они согревали мою душу, возвращали мне ее, и я заново переживал наше прошлое, которое теперь мне казалось таким далеким и невозвратимым. Вот они, ее почерк, такой уверенный, спокойный, родной.
«Егор Лукич! Вы заморочили совсем мою грешную голову. И не тяните меня с собой на розовые мечтательные облака. Оставьте на земле. Я не хочу сходить с платформы здравого смысла, не хочу, чтобы Вы меня идеализировали. Нет ничего из того, что Вы вообразили – никакого цельного характера. Есть взбаломошенная и капризная папенькина дочка, эстетствующаяинтеллигентка. И не говорите мне ничего хорошего. Не хочу я ничему верить. Буду бороться с вашими романтическими настроениями. Занимаю круговую оборону, – с меня хватит потрясений. Успокоить меня может только ребенок – все было бы по-другому. Вы найдите лучше производителя мне… Вот, Егор Лукич, допросилась… Холод, ветер, хочется в Москву. Вам я досталась не в лучшие времена. И мне не хочется терять возможность общаться с Вами. Вы человек и личность замечательная. И пока Вы еще не остыли, хочется задать вам вопрос и набраться житейского опыта. Как замечательно Вы описываете в своем письме дачные места: клены, рябину, белые грибы, луна висит над прудом. До сих пор висит? Нет? В том-то и беда? А душа бессмертна, Егор Лукич, потому и состариться не может. А я жду от Вас письмо. Обнимаю Вас и уже не знаю, кто я – чайка, тигрица или все-таки сама Лариса.»
«Мой дорогой Егор! Мне грустно, что ты не любишь монархистов, грустно и темно, потому что сегодня весь день идет дождь, весной и не пахнет; какая-то тускло-осенняя мгла и странное самочувствие: если б на самом деле поддалась твоим настроениям и поверила, что у меня нет будущего. С такими горькими ощущениями живут сейчас миллионы людей, в особенности 30-40 летних – потерянное поколение – рассыпавшиеся люди, не выдержавшие борьбы за свое счастье. Я совсем не хочу походить на них. А ты меня толкаешь к ним своими прогнозами. Тебе не дает подняться и распрямиться твое атеистическое сознание. Для верующего нет ничего невозможного, а горести земные – закалка и проверка на стойкость, выработка воли к жизни. И в том, что я так откровенно с тобой говорю, есть и твоя заслуга. Я стала доверчивей и ближе к тебе. Ты мне нужен! Мне нужен твой духовный опыт, нужна твоя забота, твоя любовь. Сохранив себя для меня, ты и сам обновишься, не засохнешь и не состаришься. Я тебе многое могу дать, т.к. во мне многие лучшие черты русской женщины… Кстати, ты писал о крыльях. Что толку в них, когда они даже не расправлены. Куда нам до Икара! Хотя лучше короткая и яркая судьба, чем десятилетия сидения в Твери, без чувств, без жизни… Ты и так виноват, что всю жизнь прожил без меня, любил не меня. Как ты мог? Разве ты не знал, что впереди ждет тебя идеал. Обнимаю тебя.Лариса»
«Вечный мой! Причина твоих огорчений проста: не разбираешься в психологии женщины моего типа. Как быть? Я жду одной реакции – получаю противоположную и удивляюсь. Оказывается, мужчина не может угадывать, он слишком прямолинеен. Но артист-то должен быть иным… Я вообще устала ждать от мужчин охлаждения. Сначала восторг и завоевание, потом привыкание, как к собственности, выискивание недостатков, разборки и обиды, наконец – разрыв. Таков обычный сценарий. Но он не для нас. Мы исключение из всех правил. Помнится, однажды я тебе сказала: если нет возможности встретить настоящего мужчину, то хотя бы удалось продлить свою жизнь в ребенке. Но для этого нужен подходящий производитель. А это, ты представить себе не можешь, для женщины моего складу души не простая проблема… Пожалуйста, Егор, дорогой мой, исполни просьбу: 11 сентября старайся не есть ничего круглого (лук, картофель, арбуз, яблоки), не резать ничего ножом. Работай, гуляй, пей чай, но только не нарушай моего запрета. Будь благоразумен. На Руси этот обычай исполняли и не думали роптать. А ты – русский человек. Обнимаю, целую.Твоя Лариса»
«Мой дорогой Егор, нежный, добрый, милый и ласковый. Пожалуйста, не посылай свои флюиды. Ты виноват, что я часто звоню тебе, а на это уходит пол зарплаты. Думай обо мне, не настраивай меня на звонок. Твои флюиды мешают мне спать… К вопросу о моем „статусе“. Это всегда беспокоит женщин в моем положении. Мужчина первым никогда не спросит, кто я тебе? Видимо потому, что женщина при тайных отношениях объективно всегда находится в приниженном положении. Мужчину тайна возвышает в собственных глазах. Он ищет в этом романтику, не задумываясь: а что дальше? Женщина по природе своей хочет уюта, спокойствия и надежности. Все это для нее возможно только при официальных отношениях. Потому любовницы и возлюбленные страдают больше, чем мужчины. И всегда женщины не находят понимания своей муки со стороны партнера… Родной мой, любимый. Я очень скучаю и готова быстрокрылой чайкой хоть сию минуту лететь к тебе. Но, увы! Раньше субботы не получится. А до субботы еще три дня томления. Крепко целую.Твоя Чайка»
Резкий телефонный звонок прервал чтение других писем. Молнией сверкнула мысль: «Это она». Но я ошибся: звонил Игорь Ююкин. – Как дела, Лукич? – очень быстро по своей привычке спросил он. – Скверны дела, Игорек. Хуже не бывает, – уныло ответил я. – Что стряслось? – Лариса исчезла. – Как исчезла? Когда? Я рассказал ему о последнем звонке Ларисы из машины. – Понятно, – загадочно молвил он и повторил: – Все понятно. В таком случае нам надо встретиться. – Ты что-нибудь знаешь? Можешь прояснить? – с тревогой и надеждой выпалил я. – Кое-что… – Так приезжай немедленно! Уже минут через сорок он был у меня, и эти сорок минут мне казались вечностью: я волновался, строя самые невероятные предположения. Игорь рассказал мне о Денисове, о его желании купить картину «Майское утро», о случайной встрече Денисова с Ларисой в его мастерской, о том, что Денисову она приглянулась, и он предложил ей должность референта с высокой оплатой, и Лариса уехала с ним в тот же день. О самом Денисове, что он за человек, Игорь практически мало что знает: его привел к нему тесть как покупателя живописи. Денисову понравилась героиня, и он поинтересовался натурщицей. Вот и все. – Обещал подумать насчет повторения картины, – сказал Игорь. – Но когда я ему позвонил и спросил, что он решил, Денисов твердо отрубил: «Повторение мне не нужно. Зачем мне копия, когда я имею живой оригинал». О, лучше б Игорь не говорил мне этих слов. Лариса – живой оригинал, собственность богача, как картина, как ваза, как «Мерседес». Меня словно обухом по голове огрели. Мне стало плохо, все вещи в комнате начали падать, голова шла кругом, и я, цепляясь за стену, бессильно опустился в кресло. Это было странное, еще не известное мне состояние. – Вам плохо, Лукич? – встревожился Игорь. – Вы побледнели. – Ничего, пройдет, – вяло успокоил я Ююкина. – Впрочем, налей мне валокордина. Там, на кухне флакончик и рюмочка. Нацеди тридцать капель и воды на донышке. Я пощупал свой пульс. Слегка учащенный. Выпил лекарство, я насильно улыбнулся Игорю и заговорил. Мне хотелось высказать все, что скопилось у меня за эти дни и последние часы и минуты на душе: – Ларисы больше нет, ушла навсегда. И моя жизнь окончилась. Зачем жить? Нет смысла. – Да, что вы, Лукич… – попытался утешить меня Игорь. – Не говори, не надо. Дай мне сказать. Весь смысл моей жизни был в ней. Я жил только ей и во имя ее, во имя нашей любви. Тебе, Игорек, этого не понять, ты еще молод, из другого материала сделан. Руки опустились. Вот уже третий день, как забросил писать свои воспоминания. Теперь они ни к чему, без надобности. Я для нее их писал, хотел ей свою жизнь, свою судьбу поведать, мечтал ей посвятить. А ей это уже не нужно. Она по-другому решила строить свою судьбу. Значит нашла, о чем мечтала. О муже мечтала, об отце ребенка. И я ее понимал. Мы были откровенны, доверчивы. Наши души открыты всем ветрам. И я ее не осуждаю, поверь, Игорек. Мне бы впору радоваться, если она нашла там свое счастье. Она – великая женщина, с великой душой и трезвым умом. Она не может ошибиться, не должна. Хотя едва ли она найдет среди «новых русских» своего единомышленника – патриота. Таких в природе не бывает. Все они жулики, лицемеры и воры. Среди них еще встречаются шабес-патриоты, но у нее на них чутье, она быстро разгадывает подлинное нутро. Я, Игорек, готовил себя к такому концу. И все же мне тяжело. Вот пред твоим звонком я перечитывал ее письма ко мне. Их целых два десятка. Они как огонек в печи, как фитилек освещают душу. Это великая женщина. – А вы, Лукич, не преувеличиваете? Может наш друг-писатель и прав: ничего в ней необыкновенного нет – и глаза обычные, и фигура, как у тысяч других, да и ум-то, и эрудиция не блещут. Да и характер.. Фактически она предала вас, бросилась на первого встречного, увидав его толстый кошелек. Так же? Он поманил ее своим меховым магазином. Шубу обещал. Променяла легендарного человека на обыкновенного торгаша. – Нет, Игорек, ты не прав. У нее были для этого веские основания. Она женщина… – И только. Заурядная женщина, – перебил он меня. – Нет и еще раз нет. На предательство она не способна. Она – эталон порядочности и чести. Ее надо знать, прежде чем говорить о ней. И не всякому дано познать ее. А я ее знаю, ее душу, ее ум. Она истинно верующая. А такие – благодарны. Кстати, ты телефон этого бизнесмена имеешь? Дай мне на всякий случай. – У меня его визитная карточка в мастерской. Я вам позвоню. А вас, Лукич, от себя и от имени ваших друзей прошу спокойно отнестись к бегству Ларисы. Взвесьте все хладнокровно. Бывают и не такие потери, бывают трагедии, удары судьбы и посерьезней. Не все потеряно и для вас, жизнь продолжается. Вам еще долго жить, и вы еще встретите женщину, не озабоченную поисками производителя, женщину постарше и постабильней Ларисы – этой самовлюбленной девчонки, которую вы вознесли на пьедестал. У меня не было ни желания ни сил возражать ему, на меня обрушилась апатия и усталость. Проводив его до прихожей, я сказал: – Спасибо, Игорек. Не исчезай и почаще позванивай. И телефон сообщи мне. Медленно тянулись дни. Я редко выходил из дома, только в магазин за продуктами. Я все ждал известий от Ларисы. Ююкин сообщил мне телефон бизнесмена по фамилии Денисов. Но практически он не был мне нужен. Кому звонить, зачем? Что я скажу своему сопернику? Друзья не забывали меня, заходили, утешали в духе Ююкина. Но я оставался при своем мнении: я по-прежнему, а быть может еще сильней, любил Ларису. Я признавал свою вину перед ней. Почему я позволил себе дать волю чувствам и не погасил любовь в самом начале, а дал разгореться пламенем? На что я надеялся, что я мог ей предложить? Я пытался мысленно представить Ларису в объятии этого «торгаша», и сердце мое сжималось от нестерпимой ревности. Иногда я подходил к ее портрету работы Ююкина, висящему на стене в гостиной рядом с моим, впивался в него печальным взглядом и вслух говорил: «Родная моя девочка, как ты там? Довольна судьбой? Тебя не обижают? Ну, и слава Богу». И вдруг я заметил в ее миндальных глазах бездонную тоску чего прежде не замечал. Что-то умоляющее было в ее застывшем взгляде, что я не мог дольше смотреть и отвел глаза. Мне хотелось крикнуть: «Ну что же ты молчишь, любимая! Ну издай звонок, скажи хоть одно слово, только одно. Я жажду слышать твой необычный голос, высокий и густой». Телефонные звонки были, странные звонки, безголосые. Никто не отзывался на мое «Я слушаю». На другом конце клали трубку. Так было и в первые недели после исчезновения Ларисы, и через месяц, и через полгода. Я догадывался: это она звонит. У меня не было на нее никакой обиды и претензий к ней. Во всем я винил себя и свой мужской эгоизм. Постепенно я свыкся с невозвратимой утратой. Начал продолжать работу над книгой воспоминаний, посвященной Ларисе и нашей Любви. Я по-прежнему люблю ее и буду любить вечно, потому что она открыла в душе моей какой-то новый с юности желанный мир, зажгла в нем огонь, который не в силах потушить никаким пожарным. Однажды, глядя на ее портрет, я как бы услышал ее голос – просьбу: позвони мне. И я решился набрать номер телефона господина Бориса Ильича. Ответил женский голос, очевидно секретарша. Я спросил, как мне связаться с Ларисой Малининой? – Представьтесь, пожалуйста, – вежливо, но официально попросила секретарша. – Я ее знакомый. – У вас, очевидно, есть имя и фамилия, – съязвила она. Да, разумеется, есть. Егор Лукич Богородский. – Будьте любезны, оставьте свой телефон. Я передам о вас Ларисе Павловне. – Она знает мой телефон. – Хорошо. До свидания. Прошел еще месяц после этого разговора. Лариса не позвонила. У меня появлялась мысль позвонить в Тверь, поговорить с Павлом Федоровичем. Но я отверг ее и уехал на дачу, отпустив за полгода бороду и усы. У меня пропал аппетит и я заметно похудел. И, как сказал Виталий Воронин, осунулся и превратился в бомжа. Да, я перестал следить за собой. На женщин не обращал внимания, в обществе не появлялся. Даже к друзьям не заходил. Так продолжалось около года. На меня нашла бессонница. В котором бы часу я не ложился в постель, – в десять или в двенадцать, все равно я не мог уснуть до трех – четырех часов. Я думал о ней, иногда пытался избавиться от этих дум, но мне это не удавалось, они атаковали меня со всех сторон, всплывали воспоминания трогательными эпизодами. Помню, однажды она сказала мне, что я открыл в ней женщину, что до меня она не знала радости взаимоотношения полов. Засыпая, я жаждал увидеть ее во сне. Но тщетно: мне снилась всякая несуразица, чертовщина, но только не Лариса. Сон мой был не глубокий, какая-то полудрема. Я ворочался с боку на бок, иногда вставал, ходил по квартире, как неприкаянный и лишь под утро засыпал. Однажды ночью в полудреме я очень четко, явственно слышал ее голос: «Егор!» она позвала меня. Казалось она была где-то рядом, в соседней комнате. Меня словно током пронзило. Я включил ночник, встал и вышел в гостиную, откуда, как мне казалось, раздался ее голос. Включил люстру. Часы показывали без четверти четыре. Я сел напротив ее портрета и напряженно уставился в ее лицо, разглядывая знакомые и родные мне черты. И вдруг я увидел, как губы ее шевельнулись, точно она хотела мне что-то сказать. Я с напряжением впился в нее взглядом, и увидел в ее печальных и необыкновенно прекрасных глазах слезы. Да, да, они блестели, переполненные влагой. Я вздрогнул, по всему телу прокатились колики. Мысли тревожно заметались: это вещее, она зовет меня на помощь, ей плохо. Спазмы сжимали мне горло, на глазах навертывались слезы. Я почувствовал себя беспомощным и виноватым перед ней. В чем состояла моя вина я не знал. Я чувствовал себя одиноким и ненужным в этой жизни. Мне не хотелось жить, хотелось просто исчезнуть, но прежде в последний миг встретиться с ней, сказать прощальное «прости» и «люблю» и провалиться. Просидев у портрета с час, я ушел в спальню и уснул. Разбудил меня телефон. Междугородний судя по частым тревожным звонкам. Было начало двенадцатого. За окном светило солнце. Я взял трубку, но никто не отзывался на мой голос. И я решил: звонила Лариса. Мне стало легче: значит она жива и помнит меня. И есть надежда еще увидеться.
Глава двенадцатая
Лариса
Вот уже месяц, как я референт президента фирмы Бориса Ильича Денисова. Должность референта придумана самим шефом, – на самом деле я его любовница со всеми вытекающими обязанностями. При том, любовница без любви, как предмет для его похотливых увлечений. Он, будучи цинично откровенным, так и сказал однажды «Я тебя приватизировал, и ты должна беспрекословно исполнять все мои требования». Это было сказано в грубой форме, когда он пожелал орального секса. Я решительно отказалась, заявив ему, что не могу. – Для меня нет такого слова «не могу», – властно сказал он. – Для референта есть слово «слушаюсь». Все другие могут, а она, видите ли не может. – Для этого у меня есть особая причина, – попыталась я объяснить. – Ты же знаешь, что я глубоко верующая и не могу позволить себе греха. А то, что ты требуешь – это грех. Я строго придерживаюсь заповеди: «И не введи мя во искушения». Ты должен считаться с моей верой и убеждениями и не принуждать меня к греховным деяниям. – Ты должна знать народное изречение: в чужой монастырь со своими молитвами не ходят, – парировал он. – Значит, я ошиблась монастырем: он не для меня, – решилась я на дерзость. На самом деле ссылка на «грех» была использована мной, как уловка. Но он, кажется, поверил и не стал настаивать на своих притязаниях: для этого занятия у него были другие «приватизированные». В моем твердом отказе «не могу» он, очевидно, почувствовал решимость добровольно покинуть «чужой монастырь», а ему этого не хотелось. Он привык ко мне, я его в чем-то устраивала, была не как «все другие». Как фиговый референт, я имела свое рабочее место – письменный стол в кабинете секретарши, за которым я, не имея никаких поручений, просматривала разного рода журналы, которых в ельцинской России расплодилось видимо-невидимо. Секретарша – молоденькая блондиночка, недавно окончившая среднюю школу, несомненно догадывалась о наших интимных отношениях с Денисовым, смотрела на меня, скучающую от безделья, с ревнивой завистью. Но и я не была совершенно свободна и без разрешения шефа не могла надолго отлучаться из офиса. Иногда он через секретаршу вызывал меня в кабинет и доброжелательно спрашивал: – Как у тебя сегодня настроение? – Как всегда: скучаю от безделья. – Пойди, пройдись по магазинам, купи чего-нибудь вкусненького на ужин. Жди меня к семи часам. И не вздумай появляться в Брюсовом переулке. От Ююкина он знал о Лукиче и строго запретил мне с ним встречаться. Я уже много месяцев не виделась с Лидой, позвонила ей, и мы решили встретиться у нее дома. По пути к Лиде я зашла в магазин, купила торт и бутылку шампанского. Я пришла к ней в новой дубленке с капюшоном, и Лида уже в прихожей, удивленная моим нарядом, начала осыпать меня комплиментами. – Да ты выглядишь королевой. А когда я сняла дубленку и предстала перед ней в короткой, выше колен черной юбке и черном жакете на белой блузке, она совсем заговорила междометиями: – О-о! Ух ты! Шикарно! Настоящая офисная девица. И хотя говорила Лида искренно, фраза «офисная девица» меня больно покоробила, – да, докатилась: кандидат исторических наук с перспективой доктора и профессора, превратилась в «офисную девицу». В этих словах было что-то непристойное, порочное, нечто среднее между куртизанкой и проституткой, хотя между той и другой я не вижу разницы. Лида с пристрастием разглядывала меня и пришла к заключению, что я очень изменилась и не в лучшую сторону. – Ты, Ларочка, совсем не та, а какая-то другая. Только не пойму, какая. Серьезная, что ли? И офисный наряд, скажу откровенно, не идет к твоей серьезности. Сколько мы с тобой не виделись? Ох., давно. Ты как-то внезапно пропала и не давала о себе знать. Она быстро поставила на плиту чайник, нарезала торт, а я тем временем открыла шампанское и мы уселись за стол. – Ну, давай рассказывай, отчитайся, – потребовала дружески Лида. Мы обе были рады этой встрече. – Как там твой Егор Лукич, – почему– то сразу поинтересовалась Лида, и вопрос ее больно ударил по мне. – Не знаю, Лидуся. Егора я потеряла. – Как?! – воскликнула она. – Он что? – Нет, он жив. Но я, не на счастье, а на беду рассталась с ним. – Как, объясни? – По глупости. Дурь на меня нашла. – Егора потеряла, а что нашла? Замену, лучшего? – Лучше Егора в природе не бывает. – Так в чем же дело? Что за дурь на тебя нашла? – Все расскажу, все выложу, как на духу. Только ты меня выслушай. Мне больше некому излить себя, поплакаться, посоветоваться. Егор да ты – вы мои самые близкие и родные. И я рассказала ей все начистоту, ничего не тая, как на исповеди. Она слушала меня внимательно, охала, вздыхала, иногда вставляла вопросы, слова сочувствия и осуждения: «бедная», «глупая», «почему со мной не посоветовалась?» – Словом, Лидуся, я сама загнала себя в угол из которого не вижу выхода, – с отчаянием сказала я. – Ерунда. Выход всегда можно найти. А тут тем более, – возразила я. – Я, Лидуся, живу, как во сне, все кажется нереальным, театром абсурда, без любви, без радости. Я приватизирована. Я для него вроде спортивного снаряда: пришел, сделал свое дело и поскорей ушел. Без слов, без ласки. – А ты требуй от него драгоценности, и чтоб квартиру на тебя оформил. А тогда и брось его, уходи. К Егору возвращайся. – Он не примет. Я страшно тоскую по нем. Я предала и убила его. – Не кори себя – ты много ему отдала. Самое большое – любовь. – Нет, я больше взяла от него. А любовь наша общая. За короткое время я как бы три жизни прошла. Сначала наша, провинциальная, скучная. Потом я вырвалась на простор, о котором мечтала, оказалась в обществе творческой интеллигенции, умных, красивых, талантливых, настоящих патриотов, моих единоверцев. Я была духовно богата. И вдруг это духовное богатство променяла на тряпки, на материальные блага. Жизнь духа поменяла на жизнь брюха, на все чуждое моему характеру, противное, на офисную юбочку. Представляю глаза Егора, если б он увидел меня в таком наряде. – А у него, у твоего шефа есть жена? – Жена, двое детей, сын и дочь. Студент и школьница. Это мне шофер его рассказывал. Сам он хочет казаться примерным семьянином, любящим мужем и отцом. На важные приемы, в театр ходит с женой. На разные тусовки, презентации, в казино появляется со мной. Однажды пригласил меня в ресторан. Несколько раз присутствовала на переговорах с фирмачами российскими и иностранными. Скорее в качестве обслуживающей: подавала выпивку, закуску. После той, первой бани, еще дважды приглашал меня в парилку. Все повторялось: до постели и в постели нам не о чем было говорить. До постели он как хищник-автомат. После постели – холодное бревно. Упругие мускулы, животная страсть с хищно– садистскими наклонностями. Не стесняется давать волю зубам. – А ты не позволяй. Дала бы по зубам. – Когда-нибудь и дам. Я хотела, чтоб он прописал меня в этой квартире. Ты понимаешь, что значит для меня свое жилье; – Но ты была прописана у Егора. И там твое жилье. – Я и сейчас там прописана. И Денисов сказал: зачем тебе прописка в однокомнатной квартире, когда ты прописана в трехкомнатной. – А как он узнал? – Он все, или многое знает обо мне. Эта квартира похожа на дом свиданий. Вечером, к концу дня приезжает, как на физзарядку. Удовлетворит свою похоть и быстро слиняет. На ночь никогда не оставался, спешит к законной жене. А я в полном одиночестве коротаю ночь, не смея отлучиться. Не доверяет, звонит по телефону, контролирует. Такова моя жизнь, Лидуся: есть только прошлое, нет настоящего и в тумане будущее. – А как Егор? Он звонит тебе? – Он не знает моего телефона. – Но ты-то ему звонишь? – Звоню. Только заговорить не решаюсь. услышу его голос, окаменею, слова произнести не могу и кладу трубку. – Так же нельзя, подружка. Не враг он тебе. Он наверно сильно переживает. Вам бы встретиться, объясниться. Ты же поступила так ради ребенка. Он же не возражал. Так? – Так-то оно так, он не возражал. Он даже говорил: встретишь хорошего человека, полюбишь – выходи замуж. – Ну вот – ты и встретила. – Встретила. Только не хорошего. И не полюбила. И наверно никогда никого не полюблю, как моего единственного Егора, милого, родного. – Я боялась, что сейчас расплачусь, разревусь. Иногда по ночам одна в квартире начиная вспоминать его ласки, и так на меня нахлынет боль и тоска, что я уткнусь головой в подушку и даю волю слезам. А Лида советовала: – Ты позвони ему. Сейчас же, при мне позвони. Спроси, как он себя чувствует. Спроси: можно навестить? Не враги же вы. Ты ж его любишь. И он тебя любит. Такая любовь быстро не кончается. Я опять расчувствовалась и поддалась на уговоры Лиды. Набрала его телефон, он ответил: «Я слушаю». Только не так бодро, как всегда, а как-то тихо, осторожно. У меня сжалось сердце, и я в растерянности молчала. Тогда он сказал: – Ну говорите же, что вы молчите? Это ты, Лариса? – Я, родной, любимый Егор. Это все я. – И не выдержала, разрыдалась прямо в телефон, и положила трубку. Лида обняла меня, стала утешать: – Все уладится, дорогая подружка. Не падай духом. Вспомни стихи Лоси Украинки, которые ты любила читать в наши студенческие годы. Как там начинается? И я прочитала, глотая слезы:
Эпилог
Автор
И опять, как тогда, в семидесятилетие Егора Лукича Богородского, был конец лета, и погода в Московии стояла солнечная, иногда жаркая и тихая. В садах обильно дозревали яблоки, леса и рощи еще не тронула осенняя позолота. И новое тысячелетие делало первые, еще робкие шаги по планете. Юбилей Лукича решено было отметить на его даче, скромно, по-семейному, без торжественных фанфар, в тесном кругу самых близких друзей. Так пожелал сам Лукич. Но он не учел, что время уже перевалило за горизонт и над Россией сквозь кучевые облака пробивались первые лучи обновленного солнца, и накануне во многих не еврейскх газетах были опубликованы статьи, посвященные юбиляру, а так же указ президента о присвоении народному артисту Богородскому звания Героя Социалистического труда. Утром, взяв с собой в качестве подарка только что вышедший из печати свой «Последний роман» я направился на дачу Лукича. Не дойдя ста метров до его дачи увидел идущего мне навстречу веселого, торжественно важного руководителя объединенного Союза писателей Виталия Воронина, одетого в белую, без пиджака, но при галстуке рубаху, с папками под мышкой. Мы сошлись у самой калитки. – Это что у тебя? – поинтересовался я, кивнул на папки. – Поздравительные адреса: от Союза писателей, от министра культуры. А это свежий экземпляр книги Лукича «Жизнь артиста». Он еще не видел: сигнальный экземпляр. – Виталий показал мне книгу воспоминаний нашего друга и юбиляра. Потом увидел у меня кожаную папку, поинтересовался: – Здесь что у тебя? Сувенир? Покажи. – Потом, когда будем расходиться по домам, – заинтриговал я. – Все мудришь, – хмыкнул Воронин и сказал с возмущением: – Шел мимо Ююкина, хотел зайти к ним, чтоб вместе появиться у этой калитки, но меня, бросаясь на забор, облаял его глупый и свирепый рыжий пес Чубайс. Почему он не посадит его на цепь, не понимаю? – Говорит, тесть не велит, – ответил я. – Его же тесть из «демократов». – Но он теперь не посмеет третировать зятя после того, как Игорь избран президентом Академии Художеств. – А Церетели, выходит, прокатили? – Этот хитрый Зураб смотался в Израиль под крыло миллионера Гусинского. Калитка у Богородского была открыта. Возле нее стояла глазастая симпатичная Наденька Малинина-Богородская. Она первая поздоровалась с нами и смущенно улыбнулась большими темно– зелеными глазами. В темно-каштановых густых волосах ее ярко алел бант. – Здравствуй, Надежда прекрасная, – обратился я и по привычке спросил: – Так сколько ж тебе лет? – она кокетливо улыбнулась и прощебетала: – Сам знаешь. – А сколько Лукичу? – спросил Виталий. Она растопырила пальцы и сложив губки трубочкой выдохнула: – Во сколько! И еще много! – Ты поздравила Лукича? – спросил я. Она гордо кивнула и улыбнулась довольной улыбкой. Потом спохватясь вспомнила новость и поспешила нам ее сообщить с детским восторгом: – А Лукич бороду постриг. – В это время на крыльце появился и сам юбиляр. Увидя его, Наденька в восторге закричала «Лукич!» и бросилась ему на встречу. Он ловко подхватил девочку на руки и посадил ее на плечо. – Да он и в самом деле побрился, – радостно засмеялся Воронин. – И по-моему напрасно, – сказал я подходящему к нам Лукичу. – Мы к твоей бороде уже привыкли, и она тебя украшала. – Демонтировал, – игриво пробасил Лукич и добавил: – Как на прошлой неделе на Поклонной горе демонтировали безобразный шампур и нелепое стадо бронзовых призраков Зураба Церетели. Теперь очередь за демонтажем каркасного нагромождения, именуемого Петром Великим. – Величия там нет, зато высочия навалом, – сострил Виталий. В это время у калитки появился Ююкин с большой картиной, вставленной в рамку, которую он держал обеими руками. Это было повторение «Майского утра». – Я не опоздал? – задорно прокричал новый президент Академии Художеств. – Ты, как большой начальник, просто задержался, – сказал я. – Только вот Чубайса своего держи на цепи, а то знаменитый поэт не смог проникнуть на твою дачу. – Да я не знаю, кому б его сплавить. – Отвези в Лефортово, пусть будет в одной камере с настоящим Чубайсом, – шутливо подсказал Лукич. – Но там же не один Анатолий Борисович, – сказал Воронин, – там и Немцов и Гайдар, и Грачев с Шапошниковым. Им будет обидно: почему такая привилегия Чубайсу? А мы что, менее сволочные, чем он? – Что-то не видно хозяйки? – спросил я. – Наденька, позови маму. Скажи: гости собрались. – Лукич снял девочку со своих плеч, и та бегом умчалась в сад с возгласом: – Мама! Иди скорей, гости пришли и картину твою принесли! Дядя Игорь принес. Из сада появилась Лариса, все такая же очаровательная, как и пять лет назад, веселая улыбка светилась в ее умных глазах. В руках она держала таз, наполненный спелыми яблоками. На ней была золотистая легкая кофточка и зеленые брюки. Черные длинные волосы густой волной падали на круглые плечи и спину и игриво искрились, споря с золотом кофточки. Она элегантно отвесила общий поклон и пригласила на террасу, где уже был накрыт стол. Наденька сидела на коленях у Лукича и с важным, полным серьезности и достоинства видом тянулась своим стаканом с соком к рюмкам гостей, предлагая чокнуться. Лариса смотрела влюбленными глазами на мужа и спрашивала: – Как вам нравится безбородый молодой Лукич? – Нам-то его борода не мешала, – ответил я. – Важно, чтоб он нравился тебе – молодой и безбородый. Мы пили за здоровье юбиляра, за вечную молодость и обаяние Ларисы, за малышку Наденьку, за новую Россию. Как неожиданно со двора раздался призывный голос лукичева соседа отставною полковника: – Слышали новость? В Америке убита Татьяна Дьяченко. Тремя выстрелами в упор. Террористу удалось скрыться. – Значит Бог есть, и он вершит свой праведный суд, – заключил Лукич. – Бог шельму метит. – Похоже, что так: каждому воздается по делам его, – сказала Лариса. – Александр Яковлев был застрелен пограничниками, когда пытался перейти границу с Литвой. Поганый прах Горбачева развеян с самолета над Заполярными льдами. Земля отказалась его принимать. Не ушел от возмездия Иуда. – А гибель Ельцина так и осталась загадкой? – то ли спросил, то ли утвердительно сказал Виталий. – А что тут загадочного: рухнул на землю вместе с горящим самолетом, – безоговорочно ответил Игорь. – Так-то оно так, но есть вопрос: от чего загорелся самолет в воздухе? – спросил Виталий. – Диверсия или поговаривали, что но нему саданула ракета ПВО, когда он пытался улизнуть за границу. Никто не ответил. Получилась долгая и какая-то натянутая пауза. Ее нарушил тот же Воронин: – Мне рассказывали, что милицейский генерал Огородников, который в октябре девяносто третьего расстреливал на улицах Москвы патриотов, переведен из Лефортова в «Матросскую тишину». Выходит, понизили: мелким подлецом оказался. Там он и повесился. – Это по официальной версии. А на самом деле, говорят, его повесили сокамерники за гнусную подлость. Они и Киселева там же прирезали. Так что собакам собачья смерть. – Я вот чего опасаюсь, – озабоченно заговорил юбиляр. – Образовалось новое государство в составе России, Беларуси, Украины и Казахстана. Это великая наша победа. Но где гарантия, что опять эти банкиры не вернутся назад в разграбленные ими же земли? Если не сами, то их посланцы – сыновья Израилевы? «Пятая колонна» не ликвидирована. Она существует, только присмирела, притаилась, ушла в подполье, ожидая своего часа. Понимают ли это в Кремле? Набрались ли ума-разума за годы смуты? Вопрос был насущный, прямой и острый, как меч. И никто из нас не решался на него отвечать. Тогда Виталий обращаясь ко мне, спросил: – Почему ты не вручил свой сувенир юбиляру? Чего ты таишь? Давай, открывай свою папку. Все посмотрели на меня с упреком и любопытством. Я извлек из папки только что изданный мой «Последний роман», наполнил свой бокал вином и предложил последовать моему примеру, затем поднялся и сказал тост: – Дорогие Лариса и Лукич! У вас появилась очаровательная Надежда, как символ будущего нашего многострадального Отечества и плод вашей великой любви. Так выпьем за незнающую преград, нестареющую и не умирающую Любовь. Затем я раскрыл свою книгу и написал:
«Моим верным и добрым друзьям Ларисе и Лукичу в день 75-го юбилея Егора Богородского – посвящаю.Иван Шевцов»
Лариса Щеблыкина. «Из пламени и света рожденное слово…»
Летом 1930 года в глухой белорусской деревушке Никитиничи Могилевской области прогремел выстрел. Стреляли в десятилетнего мальчика. Это была месть кулаков, поджигавших колхозные хлебные поля, месть ребенку, который нечаянно оказался свидетелем злодеяния и в числе других, опрашиваемых на суде, подтвердил увиденное. Нелегкие это были годы. Многим сегодня хотелось бы забыть о драматических событиях первых послеоктябрьских десятилетий. Но реальная история не гладкая дорога с двумя обозначенными в билете остановками. В тяжелом развороте общественного обновления 20–30 годов резко и кроваво обозначились две линии, две «правды» российского бытия. Кто сможет сегодня спокойно говорить об уничтожении в период коллективизации крепких крестьянских хозяйств, пахарей-тружеников – основы основ русского народа? Но с другой стороны, нельзя согласиться и с тем, кто в пылу нигилистического неистовства забывает о волне бедняцких возмущений, не говоря уже об известных преимуществах коллективных хозяйств, которые при разумном устроении могли и должны бы стать базою народного благосостояния. В этой полярности противоречивых убеждений еще долго не будет примирения, чем подтверждается глубочайший трагизм нашей истории в период гражданской войны и коллективизации. Раскол внутри одного народа (как бы ни объяснять его теперь) не мог обойти стороною ни прямых участников грандиозного противостояния, ни его невинных свидетелей, каким был упомянутый мальчик белорусского села Никитиничи. Тот мальчик – ныне известный русский писатель, автор многочисленных романов о нелегких испытаниях, выпавших на долю нашей многострадальной Родины, Иван Михайлович Шевцов. Есть нечто символическое в этом эпизоде, с которого начали мы свой рассказ: выстрелы в прямом и переносном смысле Ивану Михайловичу, побывавшему впоследствии и на фронтах Великой Отечественной войны, приходилось не раз принимать на себя в борьбе за честь родной страны, нравственное достоинство своих сограждан. Все последующие трагические повороты в его судьбе эхом отозвались в лесном краю поздним летним вечером. Про таких в народе говорят: «родился в рубашке». Трудно сказать, что может испытывать человек в десятилетнем возрасте, чудом избежавший смерти. Но можно предполагать, что при определенных природных задатках такое «рядовое» для 30-х годов происшествие могло послужить толчком для интенсивного внутреннего развития. Иван Шевцов унаследовал от отца кипучую энергию, жадный интерес к жизни, стремление к познанию, справедливости, резкое неприятие зла в любых проявлениях. Крестьянин Михаил Климович умер от тифа, когда его сыну исполнилось всего шесть месяцев. В свое время внутренняя неугомонность, желание до всего дойти своим умом, заставило Михаила Шевцова отправиться в столицу на поиски правды и лучшей доли. Из Петербурга он явился убежденным коммунистом и возглавил сельский совет в 1919 году. Через два года после смерти мужа Анна Евстигнеевна вышла замуж за Елисея Цымбалова, от которого родила еще шестерых детей. Иван был старший и сохранил фамилию своего отца – Шевцов. Черты крестьянского крепкого характера отца проявились у Ивана в непримиримости к ловкачеству районных чиновников, наезжающих с проверками колхозной работы. Уже в четырнадцать лет Иван Шевцов пишет критические заметки о жизни своей деревни и посылает их в Шкловскую районную газету «Луч коммунизма». Лаконичные, острые, яркие фельетоны принимали к печати, не ведая, что автор – подросток. В этих публикациях проявилась творческая одаренность Шевцова: умение в образной форме изобразить поведение местных бюрократов, не гнушавшихся жульничеством, остроумно высмеять их недостатки (фельетоны «Гастролеры», «Хочется пить»). Весной 1936 года на имя Шевцова пришло письмо из редакции с предложением занять должность спецкорреспондента: «Уважаемый товарищ Шевцов, редакция газеты „Промень коммунизма“ (луч коммунизма – Л. Щ.) приглашает Вас на постоянную работу инструктора сельхозотдела». Каково же было удивление сотрудников редакции, когда перед ними появился босой, небольшого роста щуплый паренек и протянул довольно уверенно присланное ему уведомление. Работа в редакции позволила юному фельетонисту расширить круг жизненных впечатлений и получить первый опыт журналистской практики. Этот эпизод и вся предвоенная биография писателя (учеба в Саратовском военном училище погранвойск, служба на границе) вошли составной частью в один из первых романов «Семя грядущего» (1960 г). Тревожная обстановка весны 1941 года, тяжелые предвоенные ожидания, первые часы боев с фашистскими ордами, форсировавшими реку Прут, составляют содержание романа. И еще один необычный факт биографии Шевцова: застава, которой командовал двадцатидвухлетний лейтенант, в течение девяти дней сдерживала наступление немцев на участке 79 погранотряда Юго-Западной границы России. К сожалению, нигде нет упоминания об этом, ни в одной хронике. Именно в таких условиях подчас гранились русские характеры, росло чувство личной ответственности за судьбу Отчизны. В этой связи уместно вспомнить недавнее интервью писателя журналу «Пограничник» (№6 1995 г): «Я всегда говорил и повторяю: меня физически и духовно закалила и воспитала граница, она вошла в мою плоть и кровь, и какую бы я в последствии ни носил форму, зеленая фуражка мне стала всех родней и дороже». Слово «граница» означает здесь не только территориальную линию, но и линию гражданского поведения, которая всегда должна быть у человека выверенной и четкой. Не потому ли образы пограничников можно встретить во многих романах Шевцова: Емельян Глебов («Семя грядущего», «Среди долины ровная…»), Анатолий Кузовкин («Любовь и ненависть»), Ярослав Серегин («Лесные дали»), лейтенант Гришин («Бородинское поле»), Иван Слугарев («Набат»). «Когда говорят пушки – музы молчат» – свидетельствует древний афоризм. Но в Великую Отечественную войну случилось обратное: «Музы» не молчали. Они страстно, в унисон с народной душой, с ее яростным гневом взывали к борьбе с фашистами, к отмщению за поруганную честь Отчизны. Трудная и ответственная миссия была у газетной хроники в это время. С нею и был связан лейтенант Шевцов. Осенью 1941 года, отступая с тяжелыми боями от Мценска до Тулы, он отправлял репортажи о военных действиях в дивизионную газету. Призвание к творчеству давало о себе знать у молодого журналиста даже в условиях кровопролитных боев. При этом всегда хотелось преодолеть рамки обычного газетного репортажа. В разгар войны (с 1942 года пограничник Шевцов возглавил один из разведывательных отрядов особого назначения, которые выполняли боевые операции в тылу врага), выйдя из госпиталя, он публикует в газете «Литература и искусство» критическую статью «О литературном современнике» – обзор трех номеров журнала «Новый мир». Публикация не осталась без внимания. Редакция журнала «Пограничник» разыскала капитана Шевцова и предложила ему штатную должность. Спец корреспондентом журнала проработал он до 1946 года. Так началась журналистская карьера молодого автора. Писал он не только о горячих событиях Отечественной войны, но создавал очерки о героях-пограничниках, задумывая одновременно исследование об истории пограничной службы XIX – XX веков. Судьба в те годы свела его с начальником студии погранвойск художником Павлом Судаковым и художественным руководителем студии, народным художником и академиком П. Соколовым-Скаля. Знакомство вскоре перешло в дружбу и помогло освоению нового для Шевцова дела, связанного с анализами произведений изобразительного искусства. Благодаря глубокому, профессиональному постижению искусства, врожденному чувству прекрасного он становится искусствоведом. Статьи о творчестве выдающихся баталистов Петра Кривоногова, П. Соколова-Скаля, В. Серова, П. Корина, А. Герасимова, Е. Вучетича сделали его имя известным. До сего времени проблемы искусства остаются важнейшими в творчестве писателя. К советам и мнению Шевцова-искусствоведа прислушиваются и первый президент Академии Художеств Александр Герасимов, и последующий – Николай Томский, который на своей книге «Художник и народ» написал: «Дорогому Ивану Михайловичу, страстному пропагандисту искусства, доброму в своих советах и дружбе. 2.10.64.» И так год за годом пополнялся запас жизненных впечатлений. Вместе с расширением журналисткой практики многое дали наблюдения военных лет. Работая спецкорреспондентом газеты «Красная звезда», он побывал во многих местах, где находились в военное время советские войска. В Польше он познакомится с Главкомом Северной группы войск маршалом Рокоссовским, а после встретится с ним в Варшаве, где Рокоссовский исполнял должность военного министра Польши. Впечатления о Польской земле нашли свое отражение в романе «Набат», где рассказывается о действиях польских и русских партизан. В послевоенные годы Иван Шевцов был направлен собственным корреспондентом газеты «Известия» в Болгарию. Решение о его назначении было подписано Сталиным. Два года (с 1952 по 1954) провел писатель в этой солнечной славянской стране. Человек редкого трудолюбия, пытливого ума, Шевцов всегда стремился к полноте познания жизни. Ничто не оставляло его равнодушным: на страницах своих очерков в яркой, образной форме он рассказывал о жизни и быте дружественного славянского народа. Шевцов пользовался уважением и доверием болгар, может быть еще и потому, что не поленился в короткий срок освоить язык Кирилла и Мефодия, узнал древнюю историю болгар, познакомился с новейшей болгарской литературой, даже высказывался о ней на встречах с болгарскими читателями, участвуя в диспутах и спорах. Материалы, присланные из Болгарии, печатались во многих изданиях: «Огонек», «Октябрь», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Нева», «Советский воин». Когда «Известия» упразднили свои корреспондентские пункты в соцстранах, Шевцов возвращается в военную печать, работает в газете «Советский флот». Здесь проявилось еще одно свойство творческого таланта писателя: он пробует себя в жанре фельетона, остро реагируя на нравственные изъяны в офицерской среде. Так постепенно, но неуклонно поднимался по ступенькам журналистской и писательской работы бывший босоногий подросток, выступавший в районной газете под псевдонимом Денис Дидро и удивлявший редактора своим бойким и метким слогом. Возможно, кому-то такой вывод покажется излишне патетическим. Но надобно заметить, что речь идет о формировании писателя редкой мужественности и последовательности в отстаивании нравственных идеалов русского народа, его духовной цельности и столь нужной, как убеждаемся теперь, самобытности. Далеко не каждому писателю под силу такая нелегкая работа. Многие, порой весьма даровитые, ушли в сторону от этой работы, посчитав ее и опасной, и как бы тривиальной на фоне господствующего эстетического снобизма. Увы! На исторических перепутьях не каждый воин, и не каждому писателю дана истинная страсть патриота. Иван Шевцов был последовательным на этом пути. Важной вехой в становлении писателя-патриота явились многочисленные литературно-критические статьи и рецензии Ивана Шевцова: «Эпос народного подвига» (обзор военной прозы в «Литературной газете»), «Фальшивый билет» (о романе В. Аксенова), «Клеветники в масках» (о радиостанции «Би-би-си»), «Наперекор логике жизни» (о романе А. Кузнецова «Огонь»). В этих статьях дана мастерская характеристика демагогии эстетствующих рафинированных интеллигентов, которые под видом обновления жизни проповедуют презрение и насмешку к нравственным нормам трудового народа, подтачивая веру в красоту и необходимость общественного служения, вливая яд в неокрепшие молодые души, отождествляя патриотизм с примитивизмом чувств. Тематическое многообразие и острота публицистических выступлений Шевцова подготовили и художественное творчество, задали «тон» многим его будущим произведениям. Существенную роль в своеобразном переходе от журналистики к собственно беллетристике сыграла встреча с одним из классиков русской словесности XX века С. Н. Сергеевым-Ценским. По заданию редакции И. Шевцов едет в Алушту, чтобы рассказать флотскому читателю о знаменитом авторе «Севастопольской страды». Сергей Николаевич, отметив свое восьмидесятилетие, вел уединенный образ жизни и неохотно вступал в общение с журналистской братией. Причина заключалась в необъективном отношении к писателю «клановых» слоев литературной критики, как в тридцатые, так и в пятидесятые годы, в замалчивании его заслуг перед отечественной литературой. Вопреки предположению адмирала Золина (редактор «Советского флота»), Сергей Николаевич встретил Шевцова с искренним радушием, словно давнего друга. Было что-то располагающее к доверительной беседе в облике журналиста. Фотография 1957 года запечатлела Ивана Михайловича таким, каким предстал он впервые перед домом Сергеева-Ценского: в форме морского офицера смотрит на вас человек с ясными, добрыми глазами и одновременно глубоко запрятанной хитринкой мудрого человека, что выражается в слегка склоненной голове и сдержанной улыбке. Легко был преодолен возрастной барьер (40 лет), разделявший двух писателей-патриотов. Удивительное свойство характера Шевцова – располагать к себе людей – сыграло свою роль в том, что Сергеев-Ценский растворил ворота своей творческой мастерской для молодого писателя, проявившего неподдельный интерес к его наследию. В жизни художника бывают моменты, когда встреча с общепризнанным известным мастером способствовала более глубокому осмыслению своего призвания, внутреннему росту и повороту к кропотливой шлифовке своего таланта. Вспомним, как повлияла на Гоголя его встреча с Пушкиным: «С тех пор ничего не предпринимал я без его совета». Можно сослаться и на пример А. П. Чехова, который изменился под влиянием письма Григоровича, стал более серьезно относиться к своему дару художника. В такой «оглядке» на признанные авторитеты есть свой глубокий и, в сущности, тайный смысл: так образуется живая связь между поколениями русских писателей, так передается эстафета высокого служения искусству. Личное общение в деле преемственности достижений культуры поистине бесценно, так как дает возможность начинающему автору у собрата по перу найти, получить ответы на многие вопросы и выйти на свою творческую дорогу. Истинное новаторство в литературе берет свое начало в умении понять и услышать своего предшественника. Это не лишает художника индивидуальности, но придает ему силу и стойкость, укрепляя его веру в эстетический идеал. Своеобразной школой писательского мастерства явилась для Шевцова дружба с С. Н. Сергеевым-Ценским. По признанию самого Ивана Михайловича, эта встреча произвела своего рода переворот в его судьбе. Находясь под обаянием личности Сергеева-Ценского, он всего за три месяца создает о нем книгу «Орел смотрит на солнце», которая с I960 года выдержала три издания. Предисловие к первому изданию написал известный писатель Ефим Пермитин, очень точно определив своеобразие труда И. Шевцова: обилие документального материала, глубокий анализ творчества Сергеева-Ценского в сочетании с беллетристическими зарисовками, гражданско-публицистический пафос книги. В издании 1963 года, дополненном новыми материалами писатель отразил борьбу Сергеева-Ценского за утверждение в литературе подлинно патриотического идеала, борьбу с «рапповскими» нападками. Рассказу об этом жестоком противостоянии Шевцов уделяет много внимания. Вот что пишет Пермитин: «Справедлив гнев автора (Шевцова – Л. Щ.), когда он говорит о грубой и вульгарной критике, которая столько „испортила крови“ чуткому, легко ранимому художнику, о гнусном замалчивании великого писателя на протяжении всей его воистину многострадальной жизни». Многое объединяло двух, встретившихся словно по велению судьбы, писателей. Прежде всего общность гражданских идеалов: «Как он любил Отчизну в настоящем и будущем! Как ненавидел ее недругов всех и всяких мастей. О них он не мог говорить без содрогания», – пишет Шевцов о своем учителе, воспевая любовь и ненависть как два полюса высокого горения души, определяющих высшую точку национального самосознания не просто личности, но и гражданина. Благоговейное отношение к природе, умение передать ее красоту в пластически ярких образах, чтобы читатель почувствовал дыхание полей, запах цветов и растений, зримо представил себе живую картину одинаково свойственно как Сергееву-Ценскому, так и Шевцову. Это рождено знанием родной земли, ее волнующих примет и необъятного богатства. Наконец – строгое отношение к слову, его чистоте, внимание к словесной форме, которое сам Сергеев-Ценский сформулировал в таких стихотворных строчках:Роман «Любовь и ненависть» занимает особое место в творчестве И. Шевцова. Его выход в свет (1970) окончательно закрепил философскую доминанту художественного творчества писателя – мотив «любви» и « ненависти». В фронтовом дневнике писателя есть короткая запись 1942 года: «Я с детства воспитывался на контрасте любви и ненависти.» Действительно, этим определяется логика личных человеческих поступков, и не только раздельно на войне. Любовь как источник вдохновенного труда, подвига, как символ света и добра. Ненависть как отвращения от низкого, презрения к подлости, трусости, стремления искоренить зло. Контрастность и одновременно тесное взаимодействие этих двух чувств определяют в конечном итоге ценность любой личности, способствует выработке мировоззренческих ориентиров. Значение для писателя именно такого восприятия союза «любви и ненависти» станет еще более очевидным, если мы вспомним, что в 70-е годы среди некоторой части интеллигенции, назвавшей себя «элитой» (потом выяснилось, что это обычные диссиденты), стало проскальзывать мысль о пагубности любви, которая «умеет ненавидеть», что гуманизм как важнейшее достоинство личности не может якобы заключаться в «волевых» проявлениях. Под эту концепцию так же подстраивалась извращенное представление о русском характере, который будто бы нередко побеждал своим мягкосердечием, «терпимостью». Возможность активного действия тем самым исключалась из реестра высших человеческих ценностей. Нет надобности доказывать, что это не так. Русский человек всегда формировался на контрасте любви и ненависти. Такой сплав давал примеры высокого горения души, именуемого доблестью. Другое дело, что эти чувства не должны быть чисто рефлекторными, проявлять себя на уровне примитивных или безотчетных ощущений: «нравится» – «не нравится». Это уже иная мера вещей. Степень и характер «любви» и «ненависти» в оценке жизненных явлений ориентирует человека на высший идеал, так сказать, по максимуму, требуя от него активного отношения к происходящему. Все эти пояснения необходимы для понимания того важного шага, который осуществил Иван Шевцов как писатель в романе «Любовь и ненависть». Роману предпослан эпиграф: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Эти знаменитые некрасовские слова получают очень своеобразное развитие сюжетной линии романа, в трактовке его образов. Одни герои живут и действуют во имя любви – будь то к человеку или Отчизне в целом – другие – одержимые завистью, злобой теряют способность к любви, а, значит, и возможность обрести достойное место в жизни. Первая часть романа называется «На краю света». В ней рассказывается о жизни моряков Заполярья – стране белого безмолвия. Главный герой Андрей Ясенев романтически воспринимает Север: «Я люблю этот край всей душой, всем сердцем, еще не уставшим, не охладевшим к жизни и не разучившимся любить». Таким он и остается: удивительно чистым и светлым, крепким, верным своему долгу, семье, любви. Благородство его натуры раскрывается не сразу. Это человек внешне довольно сдержанный, иногда почти суровый, но необыкновенно привлекательный своими истинно мужскими чертами характера. В полной мере они проявляются на службе в Московском уголовном розыске, куда попадает Андрей Ясенев, уволенный в запас из Военно-морских сил. Будням московской милиции, нелегкой работе по ограждению общества от растлителей, уголовников посвящена вторая часть романа. Антиподом главного героя выведен Марат Инофатьев, выбравший путь чистой «ненависти» без любви. Когда-то они были друзьями – курсантами Военно-морского училища. Но потом их дороги разошлись. Марат, благодаря поддержке своего отца-адмирала, получает назначение в южные края, где беспечно пускается в водоворот «красивой» жизни: рестораны, женщины. Андрей попадает на «край» света. Но в тяжелых полярных условиях не теряет присутствия духа, хотя его личная жизнь поначалу складывалась драматично: он тайно любил красавицу Ирину, которая стала женой Марата. Ирина, говоря бытовым слогом, «досталась» Марату так же легко, как легко появлялись у него в силу высокого служебного положения отца автомобиль, дача и даже должность. Казалось бы довольно банальная ситуация… Но Иван Шевцов сумел придать сюжетному развитию такую остроту, которая усилила значимость типизируемых характеров. Оказывается, что Марат, лишенный любви и получавший жизненные блага «по инерции», был не только легкомыслен, но и слеп. Слеп духовно – вот порок, постигший в 70–80-е годы многих и многих наших людей. Марат не смог рассмотреть и оценить по достоинству внутренний мир своей молодой супруги. Трещина в семейной жизни оказалась неизбежной. Если в первой части романа Марат и Андрей соперники в любви, то во второй соперничество переходит в иную плоскость – в идеологическое противостояние. В такой перестановке акцентов надо видеть удачу писателя: в жизни очень часто бытовые привычки предопределяют в конечном счете мировоззренческую линию. Это убедительно подчеркнуто писателем на примере жизненных «перепетий» Марата. Став редактором столичного журнала «Новости» «это место он получил также легко, как и прочие блага» Марат, однако, не способен сделать свой журнал глашатаем истинно нового и полезного дня людей. Безалаберно прожитые годы опустошили его, погружение в омут грязной жизни оказалось неизбежным: у него появляются связи с наркоманами, всякого рода темными личностями. Редактирование журнала и сам журнал – лишь прикрытие «потаенной» и недостойной честного человека жизни. Все это приводит героя к ожесточению (есть и такая «ненависть», как мы понимаем), к деградации личности. Таким образом, все решает духовно-нравственная установка: для чего живешь, какая цель руководит твоими поступками. Любовь – кому и чему, ненависть – во имя чего и для чего? В одном из писем к писателю находим такие строчки о романе: «Прочитала роман залпом, на одном дыхании». Это признание читательницы подтверждает наличие в «Любви и ненависти» истинной художественности. Остросюжетность, насыщенность повествования конфликтными ситуациями, разнообразие и точность в характеристиках предметных деталей сообщают роману тот динамизм, без которого трудно завоевать внимание читателей. Этому способствует и оригинальная композиционная форма романа. Рассказ о событиях в первых двух частях идет от имени главных персонажей (соответственно: Андрея, Ирина, Марата, Василия – друга Ясенева, талантливого хирурга. А в итоговой части повествовательная линия переключается в свой традиционный регистр (изложение от третьего лица). Таким образом создается как бы «спектр» разных точек зрения, разных позиций, что глубже позволяет усвоить центральную мысль романа о «любви» и «ненависти» как качественных импульсах в духовно-нравственном и социалистическом развитии личности. К тому же смена повествовательных пластов позволяет углубить психологический анализ. Автор как бы скрыт, а то и вовсе отсутствует. Будучи «один на один» с героем, читатель оказывается свидетелем его затаенных истинных желаний. Всякого рода «разъяснительный» и даже публицистический элемент в его прямом выражении при такой форме повествования оказывается излишним. Хотя сама публицистичность – одно из достоинств романов Шевцова – отнюдь не исчезает. Она пронизывает всю фактуру романа посредством самохарактеристики героев. И, наконец, если говорить о степени наглядности, типичности героев, то к числу наиболее ярких и убедительных персонажей романа следует отнести образ Ирины. Она воплощает в себе то, что именуют женственностью. Даже ошибки, совершаемые ею, не мешают ее обаятельности. Ирина – не «ходульный» персонаж, а живое лицо с резко индивидуальными признаками. Но вместе с тем ее путь (разрыв с Маратом, сближение с Андреем) отражает тот путь, которым следуют чистые и честные натуры в поисках добра и любви, отталкивая или преодолевая ненависть. Заметной вехой в творческом развитии Ивана Шевцова явился и роман «Бородинское поле» (1982). Как свидетельствует название, писатель обратился к одной из самых ответственных тем русской литературы и истории вместе взятых – к теме Отечества, его защиты от иноземного разрушения. Здесь и Пушкин, и Лермонтов, и Загоскин и Л. Толстой сего обширным романом «Война и мир». Нельзя было допустить ни повторения, ни сужения темы. И Шевцову удалось избежать такой опасности. «Бородинское поле» – многослойное, крупное, в полном смысле эпопейное произведение. История – народ – человеческие судьбы – вот панорама событий, которые символически стянуты как бы к одной точке – полю под Бородиным. Это поле знакомо каждому русскому человеку со школьных лет. И надо было отыскать свежие сюжетные ходы, чтобы на знакомом материале высветить новые явления русской жизни, точно и ярко обозначить ключевые повороты истории. Шевцову удалось это сделать благодаря «совмещению» временных пластов. Роман имеет две части. Главным событием в первой части является битва под Москвой, в том числе и на поле русской славы, где каждый камень напоминает о былом сражении. Автор прослеживает историческую связь военных действий осени 1941 года с событиями Отечественной войны 1812 года. Анатолий Иванов в предисловии к роману отметил мастерство Шевцова в описании боев: «В художественную ткань повествования Шевцов широко вплетает исторически подлинные факты, события, имена. Они вливаются органически, нисколько не нарушая целостности произведения. Нарисованные им сцены боев до того объемны и точны, что их видишь зримо, будто сам участвуешь в них». Картины танковых поединков на улицах Мценска, сражение в районе багратионовских флешей – как нельзя лучше подтверждают сказанное. Но «батальная» живопись, несмотря на достоинства, не могла сама по себе решить всех художественных задач нового романа. В конкретных, оригинальных, притом невыдуманных картинах воплощен дух непрерывности ратно-патриотической стойкости русского человека. Эти картины оставляют неизгладимое впечатление, наталкивают на глубокие раздумья об источнике народной стойкости, законной ярости лучших сынов нашей Родины, проявленной в 1941–1945 годах. Особо в этом ряду надо выделить эпизод, почти немыслимый с точки зрения житейских представлений о личном благе, но реальный и значимый в русле тех традиций, которыми жива и по сей день земля русская. Речь идет о самопожертвовании во имя интересов близких, а, значит, и во имя чести Отчизны. Войска были вынуждены оставить рубежи Бородинского поля, как и тогда, в 1812 году, после кровопролитного сражения. И вот торжествующая армада фашистов уже вступает на священное русское поле… Но самоуверенность немецких воякпереходит в растерянность, когда по колонне внезапно ударил огонь из подбитого немецкого танка на обочине дороги. Оказывается, что Кузьма Акулов – русский солдат – дерзко , казалось бы безрассудно, решил «встретить» немцев там, где они не ожидали уже никакого сопротивления. Подвиг Кузьмы Акулова на Бородинском поле был своеобразным напоминанием фашистам об уроке Наполеону. В то же время – это свидетельство несгибаемости русского духа и бессмертии воинской славы. Так действовали в свое время русичи в эпоху татаро-монгольского нашествия, и во времена Минина и Пожарского, и в 1812, когда бесчисленные Карпы и Власы в одиночку истребляли непрошеных завоевателей. Поступок Кузьмы Акулова, добровольно решившего «замуровать» себя в бронированном танке и нанести врагу ощутимый урон имеет глубоко символический смысл. В сущности, перед нами высшая степень героического самопожертвования (причем субъективного вовсе не осознаваемого как «героическое»), которая отличала нашего человека в моменты, когда возникала угроза не только его личному существованию, но и существованию всей Земли Русской. Побеждает чаще решимость умереть достойно, а не крик бессильного отчаяния. Не в этом ли одна из «загадок» русской души? В необычном и редком, конечно, случае прошедшей войны автор сумел показать то, что составляет глубинную основу русского характера. Этот эпизод дан не для кичливости, а для того, чтобы подчеркнуть необходимость личного подвига в трагические минуты родной истории. Знаменательно и то, что в ожидании вражеской колонны и, значит, неминуемой смерти Кузьма Акулов думает не о самой смерти, а о жизни, которая придет после победы. Солдат верит в грядущую победу. Понятно, что он мечтает о хорошем, о том, что за гранью нового послевоенного мира немыслимы будут фальшь и цинизм, своекорыстие и эгоизм. Порочное не смеет перешагнуть черту, отделяющую войну от мира. Светлые добрые надежды… Роман продолжает тему преемственности детьми доблестных подвигов родителей. Во второй части изображаются события, происшедшие двадцать лет спустя после окончания войны. По-разному складываются судьбы героев. Мечты Кузьмы Акулова не во всем оправдались. Его командир Глеб Макаров, уже постаревший генерал, озабочен тем, как противодействовать наплыву потребительства, стяжательства, идейной инфантильности, набирающему силу в обществе. Он выступает перед молодежной аудиторией, размышляет о нравственном облике советского гражданина, пытается определить суть советского характера: готовность защищать идеалы Отечества, честность и самопожертвование. Благородные, хорошие намерения, но воспринимались они по-разному новым поколением. В романе множество сюжетных линий. Переплетаясь между собой, они образуют непрерывную цепь событий, вовлекая читателя в потоки самой жизни, освещая вопросы послевоенной действительности. В частности, архитектуры, перспектив новых застроек Москвы и других городов. Казалось бы частный вопрос, не имеющий прямого отношения к самим основам нашей жизни. Но оказывается это вовсе не так. Шевцов убедительно показывает, что стандартность в архитектурных формах влияет на… сужение внутреннего мира человека. Ограничение так называемых архитектурных «излишеств» ведет к обеднению духовных запросов личности, стандартизации мышления. За индивидуальный архитектурный стиль, основанный на лучших традициях русских зодчих выступает Олег Остапов – талантливый архитектор. Споры ведутся по вопросам градостроительства и неизбежным образом переходят и на проблемы идеологии. Например, интересное толкование получает на страницах романа движение диссидентов. Американские родственники генерала Макарова, защищая советских диссидентов, пытаются представить их поборниками прав человека. Олег, обыгрывая последнее слово, иронически называет их «поберушками», нищими духом, которые побираются среди иностранцев. Это была явная шутка. Но прошли годы и стало ясно, что эта шутка не так уж далека от истины. И таких примеров умелого, ненавязчивого «выхода» в разнообразные сферы нашего общественного бытия послевоенных лет можно привести множество, что свидетельствует и о структурном богатстве романа. Становится ясно, что «поле Бородина» не может быть забыто как перелистнутая страница истории. Дарственная надпись маршала Жукова на экземпляре книги «Воспоминания и размышления», к которой обращается Глеб Макаров, проясняет центральную мысль романа: «В сущности, вся наша жизнь есть Бородинское поле, на котором решается судьба Отечества». Глубоко верные и волнующие слова. И можно ли их посчитать «устаревшими»? Несмотря на появление таких крупных, значительных произведений, писателя долго не принимали в профессиональный союз.
Шевцов уже был зрелым, сложившимся художником, когда, наконец, уже в 1979 году решился вопрос о приеме его в члены Союза советских писателей. Случай в истории организации беспрецедентный; автора семи романов, некоторые из которых буквально зачитаны «до дыр» в провинциальных библиотеках, не допускали в писательскую организацию в течение долгих лет. Воспоминаниями об этом поделился недавно Шевцов в газете «Завтра» («Что было, то было»). Обсуждение на заседании секретариата Московской организации проходило в напряженной атмосфере. Шевцова поддержал Петр Проскурин, дав объективный положительный анализ его творчества. Иван Акулов (ныне покойный), автор знаменитого романа о войне «Крещение» тоже выступил с добрым словом: «Значимость каждого писателя измеряется прежде всего широтой общественного звучания его произведений. И справедливо говорят, что писатель – это голос своего времени, это совесть и память народа… Именно таким писателем своего времени я считаю И.М. Шевцова». Журналист газеты «Правда» Юрий Жуков и Валентин Катаев выступали оппонентами Шевцова, подчеркнуто выражая свою неприязнь общественно-политическим симпатиям самого писателя. Под «политическими симпатиями» подразумевалась четко выраженная ориентация на патриотизм, с которой всегда выступал и выступает Шевцов. Для всех русоненавистников он является «раздражающим» фактором. Попытки очернить, потопить, заставить замолчать писателя никогда не прекращались. Но он с упорством продолжал работать, нести свой нелегкий крест защитника русских, патриотических начал на литературной ниве. Два десятилетия плодотворных литературных поисков ознаменовались в 1988 году выходом 3-х томного собрания сочинений. В него вошли пять романов: «Семя грядущего», «Среди долины ровныя…», «Свет не без добрых людей», «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть». Вместе с вышедшими позднее («Бородинское поле» – 1982, «Лесные дали» – 1986) книгами это трехтомное издание и роман «Грабеж» 1990 года подвели определенную черту под этим творческим этапом. Оглядывая все сделанное Иваном Михайловичем в период с 1965 по 1986 год, надо отметить, во-первых, тематическое разнообразие его произведений, широту отражения и полноту охвата жизненных явлений 60–70 годов XX века. Его героями были военные, моряки, художники и артисты, врачи, милиционеры, партийные работники, заводская молодежь, лесники и пахари. Целая галерея живых и ярких образов. Знакомясь с героями его произведений, мы постигаем эволюцию характера русского человека: как складывалось его мироощущение в годы войны, что изменилось с приходом космической эры, какие надломы и потери произошли в его душе, пораженной идейной инфантильностью и безразличием к нравственным ценностям в так называемые «застойные» времена. Вместе с тем, романы Шевцова своеобразная летопись борьбы русского человека за сохранение своей самобытности. Как автор Шевцов всегда очень чутко реагирует на любые изменения в общественной среде. Часто опережая своих современников, он удивительно точно предугадывает те явления нашей жизни, которые в последствии станут узловыми или в чем-то значимыми. Пророческими и часто набатными оказывались его образные характеристики. Например, наркомания и проституция, захлестнувшая улицы наших современных городов, была описана в романе «Любовь и ненависть». Когда читаешь страницы второй части этого романа, как-то не верится, что автор писал их в 1968 году, а не в наши дни. А в романе «Грабеж» речь идет об организованной преступности. На реплику одного персонажа, что мафия в Россию не придет, преступник Пришелец отвечает: «Придет, уверяю Вас, придет, как пришли твисты и рок-н-ролы, длинные прически и короткие юбки, абстракционистская мазня и музыка, рвущая барабанные перепонки… Мода не знает государственных границ. А мафия – тоже мода». Писатель оказался прав. Устами своего героя Глеба Макарова в «Бородинском поле» он предупреждает: «В наше время идеологическая беспечность равносильна беспечности военной». Конечно, основное внимание Шевцов всегда уделял разоблачению тлетворного влияния «дипломированного мещанина с философией неудачника», у которого за душой нет ничего святого. Предвидение в сочетании с глубокой точностью и наглядностью изображения составляют преимущество романов Шевцова. В этом смысле он ориентировался на крылатую фразу В.Гюго : «Не жажда нового волнует умы, а потребность в правде». Заметим, что таковая потребность есть характерная черта русской жизни вообще и русской литературы в частности. Настоящие художники всегда ориентировались у нас прежде всего на правду-истину. Так что в своем главном творческом «кредо» Шевцов является наследником самой фундаментальной традиции русской классической литературы. О степени правдивости свидетельствует читательская реакция на романы Шевцова в своих теплых письмах они подтверждали невыдуманность многих ситуаций в его произведениях, необычайную точность в характеристиках профессиональных свойств действующих персонажей. А самого автора многие считали, кто военным моряком, кто пограничником, кто врачом, а иные – профессиональным художником. Все это говорит о том, что изобразительная сторона романов Ивана Шевцова характеризуется не внешним схватыванием портрета или бытовой обстановки, а точным и запоминающимся воссозданием психологической атмосферы, в которой действует тот или иной герой. Нечего доказывать, что эта высшая степень правдивости в литературной работе, усиленная верным взглядом на действительность, освещением ее с подлинно патриотических, русских позиций, притом открыто защищаемых автором. Такая правда не может не волновать, не привлекать читателя как правда самой жизни. Шевцов – писатель широкого, истинно поэтического диапазона. В его романах много мягких, лирических красок, большое место занимает природа, а вся сюжетная конструкция основана, как правило, на тесном слиянии гражданско-публицистической линии с лирико-психологической, часто усложненной любовной коллизией. В целом же, говоря о творческой концепции Шевцова, надо сказать, что его мироощущение и архитектоника его произведений строятся на единстве четырех компонентов: Природа – Человек – Любовь – Добро. Чем ближе тот или иной герой к природе, чем органичнее он ее ощущает, тем больше в нем нравственных достоинств, тем глубже чувство любви, более способен к добру – тем он человечнее, лучше. Эта система в чем-то даже универсальна по принципу художественного воспроизведения жизненных явлений. Природа в романах выступает не просто как фон или частная деталь, а как хранительница красоты, целомудрия. Показателен в этом отношении роман «Лесные дали», где дано описание четырех времен года, каждое из которых оказывается неповторимым и прекрасным в своих удивительных подробностях весеннего цветения или летнего аромата ягод, осенней позолоты или хрустальной белоснежной затаенности. Отличительную черту природных зарисовок Шевцова составляет, если можно так выразиться, их наполненность многочисленными голосами певчих искусников русского леса. Ни у какого другого автора не найдем, пожалуй, такого разнообразия птиц как у Шевцова. Наряду с тургеневскими классическими описаниями природы, картины Шевцова на сегодняшний день остаются лучшими в русской литературе второй половине XX века. Природа помогает человеку очиститься, возвыситься душой, «смириться» перед тем могучим и постоянным, что идет от природы, так как «природа – это едва ли не единственное, перед чем надо стать на колени». Столь же благоговейное отношение писателя к женской красоте как символу гармонически прекрасного начала Вселенной. В этом причина того, что мы часто встречаемся в романах Шевцова с описанием одухотворенных женских образов. Самые значительные из них Женя («Среди долины ровная…»), с ее детской непосредственностью и одновременно твердостью и упорством, Ирина из романа «Любовь и ненависть», покоряющая всех своей женственностью. И Валя («Бородинское поле»), в которой много внутреннего огня при внешней сдержанности и застенчивости. На поэтический строй произведений Шевцова мало обращали внимание критики, увлеченные в основном атакой на «политические симпатии» автора. Но мы убедились, что поэтическая сторона его творчества свидетельствует о высоком художественном уровня писателя. Она тесно связана с личностью самого художника. Анализируя его жизненный путь, невольно поражаешься стойкости и мужеству, с каким встречал он удары судьбы. Не каждый может выдержать повторяющиеся из года в год ернические нападки, интриги, замалчивания. И, кажется, одного дарования тут недостаточно. Сколько их, русских загубленных талантов погибших, потерявших веру в справедливость… Однажды группа писателей встретилась в Вешенской с Шолоховым. Жаловались, что на корню уничтожается все талантливое, живое. Как пример, вспоминали историю Ивана Шевцова (после выхода «Тли», «Во имя отца и сына»). На что Шолохов сказал: «Пытались съесть, но не съели. Орешек оказался не по зубам». В библиотеке Шевцова хранится экземпляр первой книги «Тихого Дона» с дарственной надписью: «Дорогому И. М. Шевцову с самыми добрыми чувствами. 29.8.58» Добрые чувства вызывает Иван Михайлович у всех, кто так или иначе сталкивается с ним в своей жизни. Кто-то из современных литературоведов назвал историю Шевцова феноменальной, а самого писателя – легендарным. Это действительно так, хотя Иван Михайлович склонен воспринимать это с улыбкой. Он больше привык к злостному шипению, чем к признанию своих заслуг. К тому же, звание «писатель» всегда считал самым почетным и высоким, не гнался за премиями и регалиями. Феномен Шевцова раскрывается в личности писателя. Человек и художник слиты в нем воедино. «Дум высокое стремленье», воплощенное в героях его романов, никогда не покидало и самого автора. В душе его как-то уживается нежное, трепетное отношение к природе, женской красоте, преклонение перед романтически-возвышенными чувствами и жесткость в оценке чести и бесчестья, правды и лжи. Чистота и порядочность в самом высоком значении этого слова всегда притягивали к И. М. Шевцову многих людей. Его общественная деятельность – яркое тому подтверждение. Двадцать лет назад при Главном управлении Подмосковной милиции был организован Общественный совет, который возглавил писатель Шевцов. На этом посту проявились блестящие организаторские способности Шевцова. К работе в совете удалось привлечь многих выдающихся деятелей культуры: солиста Большого театра Алексея Иванова, руководителя оркестра «Боян» Анатолия Полетаева, Народного артиста Евгения Беляева, руководителя театра танца «Гжель» Владимира Захарова, поэтов, писателей и многих других. С одной стороны, это было время самого острого противостояния недоброхотам русской культуры, лично для – писателя трагическое (в автомобильной катастрофе погиб его сын Володя в 1978 году). А с другой стороны, круг его друзей постоянно расширялся. Писатель находился в самой гуще культурной жизни. Обладая удивительной способностью собирать вокруг себя ярких талантливых людей, он объединил многих писателей-патриотов, художников, болеющих за Россию. В подмосковном поселке Сельхоз в пяти километрах от Сергиева Посада он купил себе дачу в 1964 году. С его легкой руки вскоре один за другим приобрели себе дачи два десятка московских писателей патриотической ориентации. Радиовещатели «Би-би-си» поспешили назвать это дачное место «Антипеределкино». Шевцов стал старостой этого объединения, не будучи членом писательской организации. И не просто старостой, но «душой» творческих встреч и бесед своеобразного литературного клуба. Организовывались встречи с жителями окрестностей Троице-Сергиевой Лавры и Москвы. Талантливые художники, писатели, музыканты охотно принимали участие в творческих встречах, которые проводил Иван Михайлович. Он бывал частым гостем и в Лавре, пользовался уважением в среде иерархов-священнослужителей, благодаря кристальной честности, эрудиции, душевной щедрости. Если бы не страсть к литературе, из писателя Шевцова мог бы получиться великолепный художник. Он профессионально разбирается во всех тонкостях живописного и скульпторского мастерства. Личная дружба со многими художниками (П. Корин, А. Герасимов, А. Лактионов, П. Судаков, Е. Вучетич, Б. Едунов) и необыкновенно тонко развитое чувство прекрасного, глубокое постижение реалистического искусства дало возможность ему написать книгу о Е. Вучетиче («Евгений Вучетич», 1960), Павле Корине («Сполохи». 1975), множество статей об изобразительном искусстве. К тому же тема искусства – одна из центральных в его творчестве, в раскрытии которой проявилась художественная одаренность писателя. К его советам прислушивались, его мнением интересовались и ориентировались в выборе решения как на признанный авторитет маститые художники. Любопытная деталь: А. Герасимов был старше Шевцова на 40 лет, академик Иван Виноградов (выдающийся математик) – на 19 лет, скульптор Е. Вучетич (автор знаменитого монумента в Трептов-парке) – на 12 лет, П. Корин – на 40 лет, артист МХАТа, А. Жильцов – на 30. Но это не сколько не мешало их искренней дружбе. Шевцов был для них «равным» по духу, по уровню восприятия и анализа жизненных явлений и их отражения в искусстве. Портрет Ивана Михайловича, написанный художником– баталистом из студии им. Грекова Петром Кривоноговым сейчас находится в музее Отечественной войны. Там же – и бюст работы Евгения Вучетича. …Многие задавались вопросом, какой «магнит» скрыт в его душе, что заставляет тянуться к нему и капризных, самолюбивых поэтов, и работяг-производственников, даже некоторых руководителей партийной верхушки, артистов и певцов, писателей и художников. Секрет обаяния его личности не только в чистоте нравственного чувства, которое (что скрывать!) не всегда удается сохранить в творческой среде, но и в редкой последовательности, с которой он отстаивает свои принципы. Он никогда не менял убеждений в течение всей многотрудной жизни. Никогда не подстраивался под сиюминутные политические мнения. Об этом свидетельствуют и многочисленные публицистические выступления и интервью последних лет в патриотической печати: газетах «Литературная Россия», «Завтра», «Правда – 5», «Дуэль», «Патриот», «Ветеран», журналах «Молодая гвардия» и «Пограничник». Отмечу, что в Коммунистическую партию он вступил в августе 1942 года по велению сердца, так как коммунисты, которых он знал лично, были для него примером высокой честности и порядочности. С тех пор это стало его жизненной позицией. Однако догматизм ряда коммунистических положений, а в особенности нравы партийной партократии всегда были чужды писателю. Когда бывшие партократы, забросив корочки, перекрасились и стали проповедовать иные, «демократические» ценности, то для Ивана Шевцова стало делом чести сохранить билет, полученный в фронтовых условиях. Он открыто говорит сегодня об этом и остается верен главному принципу – идее Отечества, идее коллективизма, проповедуя активность гражданской позиции каждого русского человека в защите Правды и Любви. В 1996–1997 годах журнал «Молодая гвардия» опубликовал целую серию очерков под названием «Великое служение Отчизне», где писатель делится воспоминаниями о своей дружбе с мастерами русской культуры и науки, оставившими след в истории России. Яркое документально-художественное повествование – это вклад писателя в дело сохранения исторической памяти нашего народа. Богатое событиями прошлое и не менее интересное настоящее писателя послужило основой этих зарисовок. Необходимость обращения к примерам подвижнической деятельности лучших представителей русской культуры, науки и искусства очевидна. К стыду нашему, мы не только не знаем, что было замечательного в отечественной истории 20 лет назад, но и не замечаем сегодняшних самородков. Уникальному коллективу «Гжель» под руководством Народного артиста России Владимира Захарова в этом году исполняется 10 лет. О нем пойдет речь в очередном очерке. Современному читателю безусловно интересно узнать и об архитекторе Д. Чечулине, авторе проекта гостиницы «Россия» в Москве, о солистах Большого театра А. Иванове и А. Огнивцеве. К поэтам у Шевцова особое отношение. Великолепная память позволяет ему знать стихи почти всех своих друзей. Умеет и любит читать произведения своих собратьев по перу: Василия Федорова, Владимира Фирсова, Феликса Чуева. Один из лучших русских лириков Геннадий Серебряков посвятил Ивану Михайловичу Шевцову стихи в честь его семидесятилетнего юбилея:
Последние годы были на редкость плодотворными для И. М. Шевцова. «Отгремела» перестройка, так наглядно и выпукло обозначив все пророческие предсказания писателя. Но он не ожесточился, не растерял веры в добро. Наступило время не только осмысления происшедшего и происходящего, но и раздумий о будущем. В эпоху пост перестроечных волнений, всеобщего духовного оцепенения и очерствления необходимость возвращения к нравственным идеалам Красоты, Правды и Добра стала яснее. И чем неблагополучнее, хуже жизнь, тем больше тоскует человеческое сердце по чистому и высокому. Это ощущение, еще не ставшее доминантой общественной жизни, еще только набирающее силу, отразилось в последних произведениях Шевцова. Новый этап в творчестве Шевцова связан со стремлением не только запечатлеть трагические события последних семи лет нашей жизни, но и отыскать положительные приметы, «заглянуть» в XXI век. Последние романы Ивана Шевцова небольшие по объему, остросюжетные, лаконичные и еще в большей степени, чем прежде, контрастны. Эту контрастность определяет любовь и ненависть, в их столкновении, поединке рождается будущая Россия. В интервью газете «Литературная Россия» (27.09.96) писатель так объясняет свой новый стиль: «… читатель прав, требуя лаконизма словесной живописи, упругого, занимательного сюжета, драматизма действия… Вместе с тем нельзя игнорировать описание среды, в которой происходят действия, описание природы, внешнего вида, характера персонажа. Для этого нужно искать лаконичные краски». Роман «Голубой бриллиант» (1993) описывает события 1991–1993 годов, которые остались в душе русских людей окаменевших болью. Шевцову удалось представить накал политических страстей этих лет в философско-этическом осмыслении, что и определило художественную новизну повествования, и даже сделало оправданным включение в сугубо реалистический контекст элементов фантастики. Впрочем, возможно именно фантастика и способствует переключению привычного публицистического материала в истинно философский, художественный регистр. В романе два плана: реальный /скульптор – генерал – епископ/ и ирреальный, фантастический, составляющий как бы «вторую часть бытия» главного персонажа-скульптора Иванова, и выраженный в необычных снах, где в аллегорической форме представлены размышления о таинстве жизни, трагедийно-драматических «узлах» нашей истории. Скульптор Иванов стремиться отыскать «голубой бриллиант» – своеобразный символ высшего совершенства в искусстве, связанный также с достижением и высшего нравственного идеала. Иванов принадлежит к тому поколению русских людей, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы с фашизмом, сумел отстоять независимость и свободу, построить великую державу. Это поколение с честью выполнило свою историческую миссию, не растеряв на суровой жизненной стезе добрых человеческих качеств. Сердце его не может смириться с потерей нравственных ориентиров в современной действительности. На каждом шагу замечает он приметы катастрофического распада: отчуждение и угрюмость, повышенную нервозность, утрату надежд на лучшее, – на всем печать безверия и душевной опустошенности. Активную жизненную позицию героя определяет чувство ответственности за происходящее, свойственное поколению людей, познавший трудности военного времени. Внутренняя неуспокоенность героя, его деятельный, целеустремленный характер, глубинная связь со своим народом, заставляют искать решения самых непростых вопросов нашего бытия. Вместе с ним пытаются найти ответы его фронтовой друг, генерал Якубенко, и священнослужитель епископ Хрисанф: «Почему молчит народ и терпит позор армия? Где ее честь?» И наконец самый главный и существенный вопрос: близко ли воскресение России, ее возрождение в самобытном и неповторимом облике? Споры в мастерской Иванова, куда приходят старый солдат и владыко отражают состояние нынешнего общества, раздробленного и расколотого разномыслием, всякого рода идеологическими пристрастиями. В этом смысле все три персонажа воспринимаются как образы-символы, отражающие сумятицу наших дней. Генерал Якубенко (коммунист по убеждению) и епископ Хрисанф воспринимаются поначалу как два противоположных полюса общественного размежевания. Но жизнь сложнее, как показывает автор, тех или иных идеологических «клише». Оказывается, у русских людей (и в это страстно верит Иван Шевцов) есть одна, говоря словами Достоевского, «скрепляющая идея». Этой идее подчиняются и «красные» и «белые», если они действительно оказываются людьми убеждения, а не рабами конъюктуры. Эта идея – идея Отечества. Она оказывается остается единственно верной и спасительной объединительной силой. Родина, Россия является точкой пересечения судеб героев, ее возрождение – смыслом и целью существования. Владыко Хрисанф убежден в том, что воскресение России «… начнется с духовного возрождения. Люди стосковались по вере. Без веры человеку нельзя, противоестественное его происхождение по сути, как и всему человечеству. Вера – это добро и созидание. Безверие – это зло, произвол и разрушение». Эти слова близки и понятны генералу, в них выражена идейная доминанта романа, то, на чем сходятся мнения героев. С поисками веры, признанием ее спасительного значения связано развитие и основной сюжетной линии – обретение скульптором Ивановым своего идеала красоты, «голубого бриллианта», именно в то время, когда «кажется, уже не может быть не только счастья, но и первозданных высоких чувств». Его неизбывная тоска по чему-то несостоявшемуся, но прекрасному и возвышенному определяет направление его творчества. Как художник он не приемлет дисгармонии действительности. Дисгармония импрессионистов отвергается скульптором, так как она разрушает, уродует искусство. Иванов стремится к воссозданию идеала, ищет в камне «нетленную красоту, воплощенную в строгой гармонии плоти и духа». Эти поиски отражены в волнующих своей притягательностью, лишенных чувственного начала, грациозных женских фигурах, а также скульптурных композициях, запечатлевших реалии «новой» жизни. Работы его потрясают чистотой и одухотворенностью образов. Недаром шведский коллекционер называет Иванова «русским Роденом». От природы герой наделен не только талантом, тонким эстетическим вкусом, но и способностью глубоко и преданно любить. Но настоящая любовь также редкость между людьми, как красота голубого бриллианта, потому так ценятся голубой бриллиант и поэзия истинной любви. Отыскать голубой бриллиант в природе дано не каждому, а повстречаться со своей мечтой – удивительное счастье. А в душе Иванова всегда жила эта романтическая мечта и теплилась надежда на ее осуществление. Идеальные представления обретают «плоть и кровь» в образе Маши, дочери его первой юношеской любви. Она не только дает «второе дыхание» творческому импульсу художника, но и открывает новую страницу его жизни. Преодолевая социальное неблагополучие, поднимаясь над пошлостью и бездуховностью, всепобеждающая сила земной любви утверждает выстраданное право на счастье. Неожиданно просто и верно решают для себя герои загадочную формулу Достоевского о красоте, которая спасет мир: «Красота – основа, первоисточник духовности», – говорит Иванов. И в том ее спасительное назначение, чтобы через ощущение прекрасного человек приобщался к высокому нравственному идеалу. Поэтому прекрасное влияет на степень духовного развития совершенства, наполняя добром и любовью наши сердца, а полнота чувства («красота и любовь неразделимы») рождает жажду деятельной любви. Пророческое, судьбоносное значение имеют в романе «вещие» сны влюбленных, о которых упомянуто выше. Через сны осуществляется предсказание, а точнее сказать – определение логики грядущего. Удачно использованная форма притчи помогает в данном случае углубить и расширить философский подтекст повествования. Повинуясь призывному гласу великого подвижника земли русской, преподобного Сергия, явившегося во сне грозным судией беспечных потомков, герои спешат на родину святого, в древнее Радонежье. Там, на Копнинской поляне, посланцы вселенной, ангелы Добра и Света наделяют влюбленных необычным даром телепатического видения и способностью врачевать человеческие недуги. Копнино – таинственное, загадочное место, которое хранит дух предков, святую память о монахах-подвижниках, сделав этот край местом притяжения всех людей, не утерявших в себе ощущение генетической сопричастности к вековому национальному духовному опыту. Поэтому так трепетно и благоговейно относится Маша к этому зеленому уголку Подмосковья, так стремится сюда ее душа. Ангелы в образе инопланетян (такое перевоплощение можно принять как композиционный прием, но вряд ли оно оправдано с точки зрения православных представлений о конкретной материализации сил добра и зла) как раз и открывает героям, а заодно и читателю истинную причину наших бедствий: «Силы Добра уступили силам (имеется в виду наша земная действительность – Л. Щ.) силам Зла… дали возможность тлетворным бациллам разрушения расплодиться по всей планете…» «Вы жадно ищите правды, а верите в ложь», – говорит Ангел о русском народе. Горько, прискорбно это осознавать, но слова справедливые, и без уяснения этой трагедии, происходившей и происходящей с нами, невозможно возрождение России. Постепенно стирается грань между реальным и ирреальным: происходит смещение повествовательных пластов, когда фантастическое путешествие на межпланетном корабле кажется более убедительным, чем черные октябрьские дни 1993 года в Москве. Разум отказывается принимать реальность происходящих событий, за которыми герои наблюдают из космоса. Причем контрастность такого изображения (с небесной Орбиты) нагляднее обозначает явь как кошмарный сон, в который трудно поверить. Вселенная не молчит: «слепота и глупость потомков отзываются в эфире гневом и печалью». В голосе Ангела слышаться металлические ноты укоризны, живущим во грехе людям. Герои возвращаются на землю, чтобы очистить души соотечественников от скверны, от налета лжи, открыть им духовный свет, указать путь к обновлению и спасению. Есть в романе Шевцова еще одно важное откровение Ангела (услышится ли оно сегодня?), помогающее увидеть не только «корень» наших страданий, но и пути возможного исцеления страны. Речь идет о том, куда идти? Вливаться ли в «мировое» единообразие («мировую цивилизацию», как часто любят выражаться репортеры) или же сохранить «гармонию несметного многообразия среди людей и в природе». Этот тезис перекликается с известной теорией К. Леонтьева о «цветущей сложности мира», что несомненно свидетельствует о масштабности авторской мысли, ее связи с гуманистическими исканиями, выдающихся русских мыслителей XIX века. Художественно убедительное, органическое сочетание публицистического начала с лирико-философским пафосом изображения, наглядный язык с его разнообразной стилевой орнамикой (в особенности в передаче эстетического впечатления от скульптурных групп, созданных рукою мастера), наконец общая гуманно-патриотическая позиция писателя позволяют отнести роман Ивана Шевцова «Голубой бриллиант» к числу заметных произведений русской прозы последних лет. Художественно-фантастический прием, который является новым для Шевцова, помогает подняться автору до глубоко продуманного реалистического символа. Смысл его многозначен. Голубой бриллиант – это символ добра и красоты в их высшем, идеальном значении. Это – сосредоточие любви и нравственного здоровья, символ возрождения и развития России, грани которого далеко, как убеждает художник, не исчерпаны, несмотря на нынешний позор и ослабление государства. Герои Шевцова верят в обновление России. Они ждут, что «… явится на Руси здоровый, честный и справедливый человек и возглавит все сущие народы российские на священную битву с бесовским злом… Не пришло его время. Но чувствуем всем существом своим его приближение. Он придет непременно. И скоро. И в жестокой битве народа с бесами… начнется не легкое, но благое дело по спасению и возрождению России». Пусть это выражено слишком метафорично и даже мечтательно, но без приближения к такой мечте, хотя бы частичного, не может быть и речи об импульсивных процессах реального возрождения Отчизны. В художественно емком и четком изъятии этой мысли – неоспоримое достоинство романа И. Шевцова. К числу произведений на новые темы, темы наших дней, следует отнести и роман «Цветок над асфальтом» (1996). Детективный сюжет романа связан с историей банкротства жульнической фирмы «Пресс-банк», с убийством ее руководителя Андрея Соколова. Бывший комсомольский деятель, Соколов легко вошел в «новую» реальность, сколотив «капиталец» путем махинаций со вкладами граждан. Оказавшись «денежным» человеком, он достаточно быстро меняет и свои убеждения. Соколов стремиться во всем следовать эталону так называемых «новых русских»: у него шикарный лимузин, «европейский» офис, и даже любовница, отвечающая требованиям «стандарта» (длинноногая блондинка с круглыми глазами, пухлыми губками, жадная до подарков и романтических путешествий на престижные курорты Европы). Воспитанием своего единственного сына предприниматель Соколов не занимается, предпочитая опять же, как «все», обучать его в закрытом колледже Англии, в отрыве от родной почвы. Вследствие таких перемен Евгений Соколов становится безразличным ко всему, кроме «бизнеса», душа его постепенно заполняется порочными страстями и принимает бесчеловечные «правила игры» мафиозных структур. Иначе воспринимает «новую» жизнь его жена – Татьяна. Она не может согласиться с «философией» потребителя, с циничным отношением к морально-нравственным принципом. Трещина в отношениях между супругами постепенно вырастает в непреодолимую пропасть, усугубляясь трагической гибелью их сына Егора в далекой чужой стране. Накопительство, рискованные финансовые и торговые операции, предпринимательская суета, унижение перед сильными мира сего – все теряет цену и становится бессмысленным в сравнении с тем горем, которое переживает молодая женщина. Да и Соколов со смертью сына ощущает себя человеком, лишенным будущего, теряет волю к жизни. Как снежный ком, увеличиваются беды героя: угрозы со стороны мафии страшат его, он чувствует, как неотвратимо близится крах «предприятия». «Да так распорядилась судьба. Ты была права, когда говорила, что счастье не в деньгах. Нам не повезло. Все кончилось крахом», – обращается он к жене в надежде на примирение и прощение. Судорожные попытки хоть как– то наладить жизнь с любовницей, выкрутиться из нелегкой ситуации с долгами лишь приближают его к краху. Итоговый вывод автора глубоко символичен: человек, лишенный нравственного стержня, не способный к любви, презирающий Отечество, неизбежно гибнет. И не только физически (взрыв бомбы оборвал судьбу «нового русского»). Неизбежен крах личности, связавшей свою судьбу с ложной идеей, ложными ценностями. Оставшись после гибели сына, а затем и мужа, на «перепелице», Татьяна находит в себе силы жить и любить, благодаря тому, что сохранила в душе своей чистоту нравственного идеала. «Вы воплощаете душу России. И вы оправитесь от жестокого удара судьбы. И Россия оправится» – эти слова, сказанные в адрес героини Силиным, проясняют смысл ее истории. Символично, что именно женская душа в силу своих природных особенностей вопреки неблагоприятным обстоятельствам личной жизни, тянется к солнцу, пробивается сквозь туман и грязь, как цветок над асфальтом. Потому что «жизнь неистребима и человек живуч, и солнце богаче всех банкиров». Эти слова Сергеева-Ценского, взятые эпиграфом к роману «Цветок над асфальтом», выражают центральный мотив трех последних произведений Шевцова – мотив преодоления жизненных невзгод в том случае, если у человека остается хотя бы частичка веры в доброе. Это заметно отличает романы Шевцова от той современной прозы, авторы которой предаются горьким стенаниям по утраченной России, которые оставляют порою и читателя своего в слезах, но без «надежд и упований». Преимущество героев Шевцова в том, что они, глубоко чувствуя трагедию нашего времени, не сдаются, не приспосабливаются, а ищут пути противостояния и сопротивления. В интервью газете «Правда – 5» в августе 1997 года писатель справедливо заметил, что герои в России «появляются внезапно, в самый критический для Отечества час». Час настал, Россия замерла в тревожном ожидании… Немаловажно и то, что в своем последнем романе «Что за горизонтом?» писатель расширил и углубил трактовку темы женской судьбы. Как и прежде, способность предвидеть будущие изменения вывела писателя на одну из острейших проблем века. От решения участи женщины в современном русском мире зависит многое, ибо она в семье выполняет роль хранительницы «очага», сердечно-эмоционального начала, без чего невозможна человеческая жизнь. Несердечное бытие нашего века, культивирующее разрушительную психологию потребительства, где уже нет места настоящей любви, ее таинствам, прочному браку, ласковым отношениям привело к оскудению человека, в первую очередь мужчины. Неполноценность, а часто и отсутствие эмоциональной сферы, он пытается компенсировать сферою «силовой», конкурентной, что приводит в конечном счете к обострению внутрисоциальных противоречий, гипертрофии индивидуалистического сознания, падению нравственности, не говоря уже о резком сокращении числа настоящих мужчин. Выход из этой предельно критической (по существу, эсхатологической) ситуации возможен только посредством изменений условий, в которых находится сейчас женщина, в первую очередь русская. Красота не сможет победить в мире где унижается, а часто и растлевается женщина. Если не измениться отношение к ней, остановить сползание человечества ко «дну» будет невозможно, невозможно предотвратить разрушение жизни. Эстетическая и этическая стихия романов Шевцове не приемлет такой перспективы. Пафос его последнего романа обращен в грядущее десятилетие, причем не только в социальном, но и в психологическом разрезе. Каким станет человек в ближайшее время? Что в нем возобладает: доброе, совестливое или бессердечное, мелкое, лишенное «крыльев», полета? Какой, наконец, станет Россия? Останется ли любовь началом всех начал или ненависть будет править миром? Думается, читатель разделит тревогу автора, познакомившись с последним его романом, противостоящим (в который раз!) «вихрям враждебным», хаосу и вседозволенности. И число горячих поклонников его таланта, не устрашившегося открыто выступить в защиту нравственного здоровья народа и самобытных основ нашего Отечества, возрастет, а, значит, и сама возможность воскресения России станет зримой и реальной в грядущем третьем тысячелетии. В завершении хотелось бы остановиться вот на каком моменте. Предвижу вопрос со стороны читателя: «А где же хотя бы косвенное упоминание о недостатках? Неужели романы Ивана Шевцова совершенно лишены промахов, без которых вообще невозможно художественное творчество, если оно настоящее?» Спешу успокоить недоумевающих: в романах Шевцова, как у любого писателя, есть свои недостатки. Скажем, некоторые повторяющие мотивы, незавершенность отдельных образов и т.д. О них можно было бы говорить в чисто «академическом» обзоре. Но назначение данного очерка в другом – защитить патриотическое направление в русской литературе, которое уже в XIX веке так или иначе, вольно или невольно отодвигалось на второй план. Вспомним, какой резкой критике подвергся талантливый русский поэт, любимец и друг Пушкина, Н. Языков, только за то, что выступил с прямым обличением тех, кто в пылу пустозвонного витийства старался принизить национальное достоинство России. Высмеяна была в 30–40-е годы мечта А. Хомякова о «русской художественной школе», хотя основные эстетические компоненты этой школы так или иначе сказались в творчестве Гоголя, Гончарова, Тургенева, Толстого и Достоевского. Несчастна литературная судьба М. Загоскина. Его роман «Юрий Милославский» в 30–50 гг. XIX века был настольной книгой русского человека. Однако в «передовой» (есть такое слово в нашем литературоведении) критике XIX века он значился как представитель «дидактического» направления, а в советской критике и прямо – «монархист» с «шовинистическим» уклоном, защитник «религиозного фанатизма», консервативных «устоев»русской жизни и пр. Доставалось и Достоевскому за его пристрастие к «русской идее», самобытности русской души («архискверный Достоевский», по словам В. И. Ленина). Дальше – больше: Есенин именно за свой патриотизм, за любовь к одной шестой «с названием кратким Русь» был подвергнут гонению и вычеркнут на долгие годы из истории русской литературы. Если продолжить этот список, он может получиться прискорбно обширным. В послевоенные годы идея патриотизма стала оживать на страницах произведений многих русских и национально-республиканских советских писателей. Но будем откровенны – оживать робко, неуверенно. И лишь немногими писателям (к примеру, Л. Леонову в романе «Русский лес, А. Иванову в романе „Вечный зов“, Кочетову в романе „Чего же ты хочешь?“) тему патриотизма, сохранения отечественных корней удавалось сделать главной. К числу таких писателей следует отнести Ивана Шевцова. При этом надо добавить, что именно в его произведениях всех жанров, в том числе и публицистике, в критике, тема патриотизма, тема России, ее перспектив в условиях ожесточенных идеологических боев стала главной. Главной и, так сказать, вовсе не чуждой художественности. Напротив, сама художественность его произведений органически вырастала из патриотической страстности, глубокой убежденности писателя. Если хотите, – это и есть „феномен“ Ивана Шевцова. Но разве это не заслуга автора, разве это не то, о чем мечтали многие писатели как прошлого, так и настоящего: слить пафос самобытности, отчизны с пафосом литературным? Возможно не все тут получилось у Шевцова, как ему хотелось бы, но в том, что он целеустремленно и талантливо шел к осуществлению трудной и большой задачи, без решения которой русская литература и сама русская жизнь обмелеет и отойдет в прошлое – сомневаться сегодня уже нельзя. Иван Шевцов не просто настоящий, но большой писатель всеми фибрами своей души прочувствовавший идею служения Отчизне и донесший ее с возможной полнотой и определенностью.
Иван Михайлович Шевцов Грабеж
Сотрудникам подмосковной милиции посвящаю. Автор
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В дверь постучали три раза негромко, и подполковник милиции Добросклонцев знал, что это Антонина Миронова. Только она так стучит. Обычно сослуживцы заходят к нему без стука. Знал он и о том, что Антонина неравнодушна к нему, но именно этого неравнодушия Добросклонцев и побаивался. Миронова была интересная женщина, не то чтобы красивая, но обаятельная, привлекающая не внешностью, а какой-то внутренней ненавязчивой, даже скрытой сердечностью и чистотой. Два года тому назад муж ее, майор Миронов, погиб в схватке с бандитом. Детей у Мироновых не было, и Антонина жила теперь одна. — Я тебе не помешала? — Тихая мягкая улыбка светилась в ее серых доверчивых глазах. — Прежде всего здравствуй, — ответил Добросклонцев, вставая из-за письменного стола, заваленного папками и разными бумагами. — Если мне не изменяет память, мы с тобой сегодня не виделись. — Разве? — Удивление отразилось на вспыхнувшем легким румянцем лице Мироновой. — Это, во-первых. А во-вторых, Антонина Николаевна, должен сказать, что штатский костюм тебе больше к лицу. В штатском ты какая-то… весенняя, что ли. — Естественно, Юрий Иванович, на дворе весна, мартовская капель… А погоны, прямо скажем, не украшают женщину, даже если они и генеральские. Ты не согласен? — Не представляю тебя в генеральских погонах. Добросклонцев обратил внимание на новое платье Мироновой из плотного материала шоколадного цвета с поясом и нагрудными карманами. Платье это как бы подчеркивало скромную простоту его хозяйки, придавало ее миниатюрной фигуре элегантную строгость. Добросклонцев хотел было сделать на этот счет комплимент, но Миронова упредила его: — Зато я тебя зримо представляю: Юрий Добросклонцев — е-не-рал! Черные, всегда ухоженные волосы, плотная, но не рыхлая фигура, черные глаза, то суровые, то дружески улыбающиеся, крепкая, упитанная шея и начальнический баритон, снисходительно-усталый, отеческий. — Нет, Тонечка, и не мечтаю. Хотя мечтать никому не противопоказано. Мне один знакомый полковник признался как-то: красные лампасы, говорит, во сне вижу. — Ну и как, он до сих пор полковник? — Представь себе — уже генерал. — Догадываюсь. Что ж, он заслужил. — Надеюсь, ты зашла ко мне не для разговора о генеральских лампасах? — Добросклонцев решил переменить тему разговора. — Угадал. Из Дядина звонил Станислав Беляев. Спрашивал насчет владельца часов. Как, мол, нашли его? — Часы — вот они. Симпатичные часики. А владельца жду. — Он кто? — поинтересовалась Миронова, взяла со стола наручные часы, довольно увесистые, с тремя циферблатами и множеством стрелок и цифр. — Ого, не часы, а целый комбайн. Японские. — Вслух прочитала надпись на золотой крышке: — «Илье Марковичу Норкину в день его 50-летия от друга». Выходит, Норкину за пятьдесят. Кто же он? — повторила вопрос. — Понятия не имею, — пожал круглыми плечами Добросклонцев и подошел к единственному в его крохотном кабинете окну, выходящему на улицу Белинского. Падала серебристая капель с крыши массивного серого здания Зоологического музея, и прохожие сворачивали с тротуара на середину улицы, тесной от служебных автомашин, прижавшихся двумя рядами к обочине. — Что сказать Станиславу Петровичу, если позвонит? — спросила Миронова. — Я сам ему позвоню, — глухо отозвался Добросклонцев, наблюдая за водителем, который никак не мог вырулить на проезжую часть улицы. Когда он повернулся, Мироновой уже не было в кабинете. Подумал о начальнике Дядинского горотдела милиции: что ему не терпится? Часы с монограммой изъяты дядинской милицией у некоего Конькова, задержанного за мелкое хулиганство. На часы с монограммой обратил внимание подполковник Беляев, спросил задержанного: — Вы давно знакомы с Норкиным Ильей Марковичем? Коньков растерялся: — Норкин? Первый раз слышу. — И никогда не встречались? — Никогда, — твердо ответил Коньков. — Тогда объясните, как попали к вам эти часы? Коньков смутился и еще больше растерялся. Начал говорить, что часы эти он купил случайно у одного незнакомого пьянчужки. — Давно? — Ну в позапрошлом или в прошлом году, точно не помню, — нетвердо ответил Коньков. Поведение задержанного было весьма подозрительным. Позавчера Добросклонцев был в Дядине, и Беляев рассказал ему историю с часами. Конькова пришлось отпустить, а часы под расписку начальник милиции временно задержал. Нужно было установить, кто такой Норкин. В Дядине среди ста тысяч жителей человека с такой фамилией не нашлось. Решили попытать счастья в Москве. Делом этим и занялся сам начальник отдела Главного управления внутренних дел Московской области подполковник Добросклонцев. Возвратясь из Дядина в столицу, Юрий Иванович быстро и легко навел справки: в Москве Норкиных оказалось несколько, среди них и Илья Маркович. Добросклонцеву сообщили его адрес и телефон, и, не откладывая дела в долгий ящик, Юрий Иванович позвонил владельцу часов, представился, извинился за беспокойство и очень любезно пригласил Илью Марковича зайти на улицу Белинского в Главное управление. По какому вопросу, Добросклонцев не сообщил. — Хорошо, я приду. Можно сейчас? — Милости прошу. Я вас жду, заказываю пропуск. Не забудьте паспорт. И вот он ждет — Норкин должен появиться с минуты на минуту. Кто он и что — подполковник не знает. «Ему за пятьдесят, как верно заметила Тоня», — подумал Добросклонцев, следя за бегом секундной стрелки на японских часах. Он вспомнил Конькова, которого тоже не видел и знает о нем со слов Станислава Беляева, своего давнего друга. Коньков последнее время работал в ремонтно-строительном управлении. До этого сменил несколько организаций, увольнялся, как правило, «по собственному желанию». Дважды судим: за квартирную кражу и за убийство. Состоит на учете в психдиспансере. Добросклонцев догадывался, что именно судимость Конькова и натолкнула Беляева на мысль заняться часами с монограммой. Внимательно всматриваясь в фотографию Конькова, сделанную в дядинской милиции, Добросклонцев хотел понять: что из себя представляет на самом деле Коньков — закоренелый преступник крупного калибра или потерявший почву под ногами заблудившийся неудачник? С фотографии на Добросклонцева смотрели безразличные отрешенные глаза, узко посаженные на вытянутом грушевидном лице. Широкий лоб и впалые щеки четко подчеркивали эту грушевидность. Что-то безвольное виделось Добросклонцеву в характере Конькова. «По фотографии трудно судить о человеке», — решил Юрий Иванович и спрятал карточку в ящик письменного стола. Туда же положил и часы. В дверь постучали, и в кабинет вошел человек в темно-сером строгого покроя плаще и синем берете и с порога как-то поспешно представился: — Здравствуйте, я — Норкин. — Добросклонцев, — вставая, ответил Юрий Иванович, жестом предложил садиться. Примерно таким он и представлял себе Норкина — с аккуратной седеющей бородкой, в очках золоченой оправы, сквозь которые настороженно смотрели круглые карие глаза. Только в его представлении Норкин должен быть плотней, солидней, степенней и выше ростом. Этот же, настоящий Норкин, был ниже среднего роста, подтянут, подвижен. Руки прятал в карманы: они предательски выдавали волнение. Норкин ждал первого вопроса напряженно, с нетерпением, — Добросклонцев его понимал и спросил сразу весело и дружески, чтобы расположить и успокоить: — Вы давно в Москве живете? — Всю жизнь, как себя помню, — стремительно выпалил Норкин, вглядываясь в собеседника пугливыми бегающими глазками. — Москвич, значит, — заключил Добросклонцев. — Скажите, Илья Маркович, вы знакомы с Коньковым? Вам ничего не говорит эта фамилия? Глазки Норкина встревоженно засуетились, холеное лицо вытянулось. Но с ответом он не медлил, сказал убежденно: — Ровным счетом ничего. И знаете ли — никогда такой фамилии не слыхал. Даже ничего похожего. Добросклонцев не спеша достал из ящика письменного стола часы и протянул их Норкину: — Не узнаете? — Мои часы?! — воскликнул Норкин, и в глазах его вспыхнула неподдельная радость. — Как они к вам попали?.. Вы их поймали? — Вы имеете в виду часы? — Да нет же, конечно, бандитов, грабителей. — В таком случае, Илья Маркович, давайте начнем по порядку. Сначала расскажите, как вы лишились своих прекрасных часов? И еще — извините за вопрос, не относящийся к делу: где вы работаете? — Я работаю в торговле. Директор магазина мехов. — Алые губы Норкина растянулись в невинной улыбке, отчего аккуратно постриженные усы ощетинились. Добросклонцев легким кивком головы дал понять, что он удовлетворен ответом и готов слушать рассказ о главном. — Да, так, значит, часы. — Норкин сделал выразительную паузу. — Видите ли, какая история вышла. Мы с женой и с одним моим приятелем, вернее, нашим знакомым, на его машине поехали в город Дядино. Это в сорока километрах от Москвы — вы знаете и, надо полагать, бывали там. Добросклонцев кивнул. Он обратил внимание на паузы, которые делает Норкин, обдумывая каждую фразу, точно опасается обронить лишнее слово. «Он, конечно, уверен, что наша беседа записывается на магнитную ленту, — подумал Добросклонцев. — Так считают многие, насмотревшись телефильмов о „Знатоках“. — В Дядино мы поехали к знакомому нашего знакомого, о котором я говорил, по частному делу. — Извините, Илья Маркович, — с улыбкой перебил Добросклонцев. — Мы с вами так можем запутаться: «знакомый знакомого». Давайте будем называть их фамилии, имена, должности и более конкретно цель вашей поездки в Дядино? — Да, конечно, я понимаю, это необходимо, — согласился Норкин. — Наш знакомый — это известный искусствовед — коллекционер антиквариата Ипполит Исаевич Пришелец. Знаете, был писатель Антон Пришелец. Так Ипполит Исаевич не имеет к нему совершенно никакого отношения. Ипполита Исаевича заинтересовала одна довольно ценная вещица. Она досталась нам от покойной бабушки, даже от прабабушки. В общем, старинная вещь — семейная реликвия. Ипполиту она понравилась, а мы сейчас испытываем некоторые материальные затруднения. Ну не так чтобы… Словом, собирались купить кооперативную квартиру. У нас дочь невеста, а вы сами знаете, что в наше время молодожены предпочитают жить отдельно от родителей. А приличная квартира, да плюс обстановка, все это стоит немалых денег. Жизнь дорожает. Да если откровенно сказать, то вещь эта лежит без дела — лежит мертвым грузом. От нее никому ни жарко, ни холодно. — Простите, что за вещь? — перебил Добросклонцев. Ему показалось, что Норкину не хочется назвать этой драгоценной семейной реликвии и он не знает, как это сделать. А назвать все равно придется. — Это кулон. Обыкновенный кулон, предмет женского украшения, так сказать, роскоши. — И за него можно купить квартиру с обстановкой? — Голос Добросклонцева тихий, спокойный, на полном смуглом лице и в темных глазах ни тени удивления. Обычное добродушное любопытство. — Даже две, — тихо, приглушенно и с гордостью ответил Норкин. — На крышке кулона большой бриллиант. — И товарищ Пришелец хотел у вас купить эту вещицу? — В общем он заинтересовался и хотел проконсультироваться у ювелира. Сами понимаете — кулон дорогой: тут семь раз примерь… — А почему именно в Дядино? — Там у него знакомый ювелир. Можно сказать — приятель. — Как фамилия ювелира? — Фамилия?.. Не знаю. Просто ни к чему мне была его фамилия. А имя и отчество… сейчас, минуточку, нужно вспомнить… Да, точно — Арсений Львович. Он уже в годах, на пенсии. Такой интеллигентный старичок. Он назначил нам время: от пяти до шести часов. Мы приехали где-то в начале шестого. Поднялись на третий этаж, позвонили. Дверь нам открыл мужчина, не знакомый Ипполиту — это уже выяснилось потом, — и пригласил нас, мол, проходите. Сам стал у двери, закрыл ее на ключ, а ключ положил себе в карман. Но это потом, когда мы разделись. Первым прошел в комнату Ипполит, и тут его встретили двое в милицейской форме. Один капитан, другой лейтенант, отвели его на кухню, а затем втолкнули в ванную комнату и заперли. В это самое время, как потом оказалось, сам хозяин квартиры уже был заперт в туалете. Таким образом мы попали в ловушку. Нас, то есть меня и жену мою, тут же обыскали, и все драгоценности, какие были при нас, и деньги забрали. Все подчистую. В том числе и эти часы. — И кулон тоже? — Да. Представляете наше положение? Мы, конечно, поняли, что милицейская форма — это камуфляж, что попали в ловушку грабителей. — Вы думаете, они ждали именно вас? — Трудно сказать. Арсений Львович ждал нас, и, когда в дверь позвонили, он открыл спокойно, он был уверен, что это мы. Они, то есть грабители, вошли, заперли его в туалете, а сами начали искать ценные вещи. Взломали секретер и, по словам Арсения Львовича, ограбили основательно. Но брали — обратите внимание, — брали только ювелирные ценности и деньги. Никаких тряпок, хрусталя и прочего не трогали. Даже меха их не интересовали. Брали то, что могли вместить в портфель. — У них был портфель? — Штатский был с «кейсом». А те двое — так, без всего. Дело принимало интересный оборот, и Добросклонцев догадывался, что грабители шли именно за бриллиантовым кулоном. Но это было лишь первоначальное предположение, против которого сам же Юрий Иванович выставлял не менее веские возражения. Например: если преступники хотели во что бы то ни стало заполучить кулон, они могли проникнуть в квартиру Норкина — в отсутствие хозяев или даже в их присутствии ворваться под видом той же милиции. Зачем им было вовлекать в это дело ювелира и Пришельца и создавать лишние сложности, чреватые разными неожиданностями, которые заранее немыслимо предусмотреть. Вполне возможно, что преступники решили ограбить ювелира, а появление Норкиных для них было неожиданным, случайным. В голове роились вопросы, они набегали с разных сторон, им, казалось, нет конца, потому что ответ на один вопрос порождал новый вопрос. — Кто-нибудь из ваших знакомых знал, что вы идете к ювелиру? — Нет. Разве что Белла. Дочь моя. Она оставалась дома, когда мы уходили, слышала наш разговор, видела, как мы брали кулон… Но нет, это исключено: она не знала, что мы едем именно в Дядино, и об Арсении Львовиче, как и мы с женой, понятия не имела. — А скажите, Пришельца они тоже обыскивали, прежде чем запереть его в ванной? — Да, он говорил, что обыскали, но при нем ничего не было. — Совсем ничего? А деньги, документы, наконец ключи от автомашины и квартиры? — Не знаю. Не могу сказать. Ключи, конечно, были. Но зачем им ключи? — Да, действительно — зачем ключи? Адреса Пришельца они не знали, и что именно его машина стоит внизу, тоже не знали, — как бы вслух размышлял Добросклонцев. И затем неожиданный для Норкина вопрос: — А ваша квартира, Илья Маркович, надежно охраняется? В том смысле, что не могли охотники за кулоном проникнуть туда днем, когда вас нет, или ночью, когда вы дома? Норкин внимательно следил за ходом мыслей Добросклонцева, за интонацией его голоса, за выражением лица, за жестами, при этом все тщательно взвешивал и оценивал, ничего не принимая на веру. Прежде всего ему не терпелось знать, как, каким образом попали его часы к следователю? Задержаны ли преступники? Но Добросклонцев об этом не говорил, и Норкин не решался задавать лишних вопросов. Он давно жил по принципу: все лишнее вредно, лишним словом можно накликать беду. Ведь он уже спросил о часах: «Как они к вам попали? Вы их поймали?» Он имел в виду грабителей, но Добросклонцев уклонился от ответа. Значит, он хитрит, и не такой уж простой, добродушный и ласковый, как кажется на вид, этот подполковник. Глаза темные, цыганские, с веселыми огоньками. Они располагают к откровенности, к интимной доверительной беседе. Но не такой простак Илья Маркович, он не склонен ни с кем откровенничать и тем более доверять. За многие годы лишь однажды доверился Ипполиту — и вот чем кончилось это доверие. Кончилось ли? Зачем следователю знать, как охраняется его квартира? Но вот же интересуется, и надо объяснять, — Вы можете не отвечать на этот вопрос, — сказал Добросклонцев, видя замешательство Норкина. — Нет, почему же. Тут никакого секрета, — словно опомнившись, с готовностью заговорил Илья Маркович. — Как у многих сейчас, квартира моя на пульте охраны. О другой охране — четвероногом стороже — Норкин умолчал. А пес был более надежен, считал хозяин, нежели сигнализация на пульте милиции. У Норкиных был здоровый хищный ротвейлер. Эта порода собак отличается не только большой физической силой, но прежде всего агрессивностью и недоверчивостью к посторонним. Вступать с ротвейлером в поединок в квартире дело весьма рискованное: тут и нож и пистолет не всегда помогут. — Некоторые еще собак держат, — безразлично заметил Добросклонцев. — Есть и у меня. Ротвейлер, — виновато признался Норкин. — Надежный сторож, — похвалил Добросклонцев. Завмага почему-то насторожил разговор об охране квартиры, он не мог понять, в какой связи подполковника интересует этот вопрос. И вообще ход беседы несколько озадачивал Илью Марковича. Он не чувствовал за собой никакой вины. Разве что сказал одну маленькую неправду, и неправда эта заключалась в том, что на самом деле бриллиантовый кулон в настоящее время хранился в квартире Норкина. Зачем он соврал? Вероятно, на всякий случай, потому что и Пришельцу и ювелиру он тогда же в квартире Арсения Львовича сказал, что кулон отняли. А между тем предусмотрительная супруга Норкина принесла кулон к ювелиру не в сумочке, а в зонтике. Грабителям и в голову не пришло осмотреть ее зонтик. Мысль Норкина работала стремительно. Если грабители задержаны, что вполне вероятно, то они, конечно, все будут отрицать. А кто им поверит? Верить должны пострадавшим, и Норкин решил твердо придерживаться своей версии. Это не ложь, убеждал он себя, а всегда лишь «маленькая неправда». И вот новый вопрос Добросклонцева, вопрос, который он давно ждал, приготовил на него ответ, но самому ему ответ этот казался неубедительным. — Вы заявляли в милицию о нападении? — Нет. — Лицо Норкина сделалось хмурым и печальным. Он знал, что сейчас последует самый неприятный вопрос. — Почему? — недоуменно спросил Добросклонцев. — Мы, то есть я и супруга, испугались. Бандиты предупредили нас: если заявим, поплатимся жизнью. Мы так рассудили: утерянное не вернешь, а жить потом в постоянном страхе, извините, удовольствие ниже среднего. Впервые Норкин заметил на лице Добросклонцева подобие иронической ухмылки. Ее можно было понять и как иронию и недоверие, и как осуждение поступка потерпевшего. — Вы говорите, утерянное не вернешь, — после некоторого раздумья отозвался Добросклонцев и взял в руки часы. — Вот вам конкретное опровержение. Не так ли? Юрий Иванович пытливо смотрел Норкину в глаза. Илье Марковичу подумалось, что, может быть, в ящике письменного стола подполковника хранятся и бирюзовые серьги, и кольца, и часы его жены. — Да, конечно, вы правы, нужно было заявить, — легко согласился он и с сожалением вздохнул. — Но, откровенно говоря, первое время мы растерялись и пребывали в состоянии шока. Все это было так неожиданно, дико. И конечно же, был страх. А потом, когда пришли в себя, решили, что поздно обращаться. И просто не верилось, что преступники могут быть пойманы. — А ювелир и Пришелец тоже не заявляли? — спросил Добросклонцев. Это обстоятельство для него казалось важным: за ним скрывалось нечто значительное, что могло пролить свет на все дело. — Пришелец не заявлял, потому что он, в сущности, ничего не потерял. Так сказать, материального урона не понес. А что касается Арсения Львовича, то я просто не знаю. Он был очень расстроен: когда увидел вскрытый секретер, схватился за голову, даже зарыдал. Вы представляете. Старый человек — мужчина — рыдает. — Пришелец и Арсений Львович были заперты: один в туалете, другой в ванной, — продолжал Добросклонцев. — Кто их выпустил? — Мы, то есть я. — Как вел себя Пришелец, выйдя из ванной? — Бросился к телефону. Но, увы, грабители оборвали шнур: телефон не работал. — Куда хотел звонить Пришелец? — Очевидно, в милицию. — Вы в этом уверены? — А куда же еще? — В застывшем взгляде Норкина Добросклонцев прочитал недоумение. Видно, вопрос озадачил его. Чтоб успокоить посетителя, Добросклонцев сказал: — Да, конечно, он хотел звонить в милицию. — Потом он достал из письменного стола несколько фотографий и разложил их перед Норкиным. — Посмотрите, нет ли среди них знакомых вам? Илья Маркович рассматривал снимки не спеша, глаза его то вспыхивали, то гасли, руки чуть подрагивали, но губы были плотно сжаты, словно он делал над собой усилие, чтоб не сорвалось преждевременное слово. Наконец, взял фотографию Конькова и сказал твердо, с убеждением, точно вынес приговор: — Он, вот этот. — Он был вооружен? — Не знаю. Я не видел оружия. — А те, в милицейской форме? — И у них не видел оружия. Добросклонцев спросил у Норкина номер телефона Пришельца. Он обратил внимание на то, что Илья Маркович без особой охоты отозвался на его просьбу, заметив, что до Ипполита Исаевича дозвониться трудно, почти невозможно, поскольку он человек холостой, дома бывает редко и даже ночует где-то у своей знакомой или невесты. Видя нежелание Норкина дать номер телефона, Добросклонцев не стал настаивать: в конце концов он узнает через справочное бюро. Прощаясь с Норкиным, Добросклонцев попросил об их сегодняшней встрече в интересах следствия пока никому не говорить. — И в ваших интересах, — прибавил Юрий Иванович, пожимая руку Норкина. — Да, да. Я понимаю, — с тихой покорностью согласился Илья Маркович. После ухода Ильи Марковича Добросклонцев позвонил в Дядино начальнику милиции: — Станислав Петрович, дело с часами принимает серьезный оборот. Я сейчас буду докладывать начальству. Только что встречался с хозяином часов. Ограбление в квартире. У вас проживает ювелир-пенсионер Арсений Львович, фамилии не знаю. По Первомайской улице. Дом, квартира — не знаю. Установишь. Нужны его показания. Он, как и владелец часов, тоже потерпевший. Трое грабителей вошли в его квартиру, в их числе и Коньков, которого ты отпустил. С ним были двое в нашей форме. Нужно немедленно у Конькова произвести обыск. Обратите внимание на ювелирные драгоценности: кольца, серьги и особенно кулон. Ты знаешь, что такое кулон? Именно. Так вот — бриллиантовый кулон, очень дорогой. Ты меня понял?.. Завтра я постараюсь подъехать к вам, если начальство не будет возражать. Действуй, Станислав! До встречи. Положив телефонную трубку, Добросклонцев встал из-за стола и подошел к окну. Он смотрел на угол здания Зоологического музея, где стояла будка телефона-автомата, думал: любопытно, сдержит слово Норкин или все же позвонит Пришельцу и расскажет о нашей встрече? В его интересах помогать следствию. Разве он не хочет, чтоб мы нашли преступников и вернули ему драгоценности? Есть что-то странное, нелогичное в его поведении: грабители отнимают ценные украшения, часы, а он и не думает заявлять в милицию. Как это понять? Испугался угроз? Едва ли, во всяком случае, причина мало убедительная. В квартире здоровенный пес — страж вполне надежный. И еще один, возможно, самый главный вопрос занимал Добросклонцева: случайно ли Норкины и Пришелец оказались у ювелира в момент, когда там уже были грабители, или ювелир, решив завладеть кулоном, устроил им западню? Размышления его прервал телефонный звонок. Звонила секретарь генерала Константинова. — Юрий Иванович, Василий Кириллович просит вас срочно зайти к нему. А когда Добросклонцев появился в приемной генерала, она же по-приятельски шепнула: — Имейте в виду: приехал из обкома — не в духе, сердитый. — У меня в кармане громоотвод: весь заряд в землю уйдет, — пошутил Добросклонцев и вошел в кабинет генерала. Константинов и в самом деле был чем-то расстроен. Обычно приветливое лицо его было серым, глаза хмурились, на лоб, прорезанный глубокой морщиной, мрачной тенью упала прядь темно-каштановых волос. На приветствие Добросклонцева Константинов кивком пригласил садиться. Добросклонцев сел. Генерал некоторое время молча читал какой-то документ, потом захлопнул папку и резко поднял взгляд на подполковника. Складка на лбу его разгладилась, повеселевшие с голубинкой глаза смотрели неожиданно доброжелательно. — Юрий Иванович, в каком у нас состоянии дело с пожаром на складе в Знаменском? Ты ведешь его? — Заканчиваем, Василий Кириллович. Но там появились новые обстоятельства, и поэтому мы несколько затянули. Добросклонцев подробно доложил генералу о неожиданно открывшемся деле с ограблением на квартире ювелира и попросил разрешения выехать завтра в Дядино. Генерал внимательно выслушал и, когда Добросклонцев закончил, спросил: — Пришелец, говоришь? Знакомая фамилия. Не он ли проходил у нас года три тому назад по делу об ограблении церквей и спекуляции иконами? Тогда осудили его подручных, а он сумел улизнуть. Если я не ошибаюсь, дело это вела Миронова. Ты поинтересуйся у Тони.2
Добросклонцев, пригласив Миронову к себе, достал показания Норкина и без слов подал ей. Она подошла к окну и, не садясь, углубилась в чтение. А закончив чтение, положила протокол на стол перед Добросклонцевым, прошлась по кабинету. — Что ж, Юра, поздравлять тебя не решаюсь. Вижу — помучаешься. Пришелец этот действительно мой старый знакомый, Ипполит Исаевич. — Расскажи о нем? И присядь, — попросил Добросклонцев. Миронова не села. Она продолжала медленно ходить по тесной комнате, вспоминая дело трехлетней давности. — Тогда была арестована шайка воров, занимавшаяся кражей икон и культовой утвари из церквей. В ходе следствия выяснилось, что самые древние иконы, представляющие особую ценность, сбывались «искусствоведу и коллекционеру», как он себя величал, Ипполиту Исаевичу Пришельцу. Через посредников, разумеется. Сами воры Пришельца не знали. Подступиться к нему было невозможно. Ворованные иконы и картины он тут же менял у других коллекционеров. Когда же устраивали им очную ставку, категорически отрицал обмен. У него был документ — купчая. Коллекцию из таких-то икон он за такую-то сумму купил у гражданина такого-то. Мы к этому гражданину, а он, оказывается, отбыл в Израиль. — Ловко… — «Ловко» — не то слово. Его четырехкомнатная кооперативная квартира — сущий музей. Вернее, склад антиквариата. — И что же представляет из себя твой знакомый? — Пришелец — жулик высокого класса. Персона. Внешне элегантен, светские манеры… Хитер, изворотлив, напорист. И вот что важно: самоуверен, чувство неуязвимости не случайно: у него много покровителей, занимающих видное положение и обладающих властью. — Может, рисуется, пену пускает? Я знал такого: пришли с обыском, а у него на стене в рамочке фотография: наш министр стоит с генеральным прокурором. На фотографии надпись: «Дорогому племяннику с пожеланием удач». И подпись генерального прокурора. Оказалось, заурядная фальшивка. Самоделка. — Пришелец, конечно, артист, но артист высокого класса. До такой дешевки он не опустится. А поддержка у него есть, и внушительная. Круг знакомств и связей необыкновенный — от известных ученых до юристов, министров и дипломатов. — Образован? — Окончил Московский институт инженеров транспорта. — МИИТ. Знакомо, — с горькой улыбкой произнес Добросклонцев. — Так кто ж он — инженер или искусствовед? Где работает? — Тогда он нигде не работал. Искусствовед липовый. И такой же инженер. Но зато юрист первоклассный. Из него мог выйти золотой адвокат, гений и маг. Не имея юридического образования, он знает кодексы и законодательство так, будто сам их разрабатывал и сам утверждал. — Не работал, значит, тунеядец. — В этом отношении у него все предусмотрено, не придерешься: член творческого коллектива. Есть у них какой-то групком литераторов. — Он что — пишет? Сочиняет? — Печатных трудов у него нет, но там это, говорят, необязательно. — Странно как-то получается, — засомневался Добросклонцев. Он в раздумье побарабанил пальцами по столу. — А что, если я сегодня заявлюсь к нему нежданным гостем? Без предупреждения. Побеседовать со свидетелем? Он где живет — не помнишь? — Точный адрес я тебе найду, где-то у меня был, а вообще-то он живет на моей улице в доме напротив. Хороший кооперативный дом, четырехкомнатная квартира. Но ты можешь его не застать. — Соседи, значит. Может, вместе нагрянем? Он и не думал идти к Пришельцу вдвоем с Тоней, понимал, что ей там нежелательно появляться, но вот же почему-то сказал «вместе», как-то само, произвольно, сказалось. Тоня привычно поправила пышную воздушную прическу: — Нет, мне туда нельзя. Мое появление все дело испортит. — Да, конечно, — быстро согласился Добросклонцев. Он пойдет один. Но ведь это же рядом с ее домом. Он не был в ее квартире с тех пор, как погиб Миронов. Тоня не приглашала, и у него не было желания. Но сегодня… Сегодня он словно заново увидел ее — одинокую и, наверно, страдающую от своего одиночества. Но, словно угадав его мысли, Тоня спросила, как отдыхает Екатерина Вячеславовна. Жена Добросклонцева уехала в Кисловодск. — Пишет, что там весна. Ходят без пальто, — ответил Добросклонцев, не очень довольный тем, что ему напомнили о жене. — С домашними делами управляешься? Может, помощь нужна? Ты скажи, не стесняйся. — Голос Тони звучал ровно, без интонаций. Предложение было неожиданным. Он хотел понять: было ли это не случайно или просто — предложение товарища по работе. — Да нет, спасибо. Мы с Евгением вполне управляемся. Он пылесосит квартиру, ходит в магазин. И даже обед может приготовить. Парень самостоятельный. — Как учится? — Четверки. Кроме математики. С этим беда. Весь класс на двойках едет. Да что класс — вся школа. Сами учителя не могут разобраться в учебнике математики для средней школы. Представляешь? Так все запутано, усложнено, сам черт голову сломает. — Наука двинулась вперед, сделала скачок… — Да при чем тут наука с ее скачками? Создается впечатление, что кто-то заинтересован, чтобы наши ребята отставали в математике: так считает доктор математических наук, с которым мне пришлось разговаривать. Так думают в институте математики Академии наук известные ученые. Добросклонцев как-то вдруг преобразился, напрягся и побледнел, будто задели его самую чувствительную струну. Тоне было знакомо его бурное негодование: когда дело касалось злоупотреблений, всевозможных нарушений и безобразий, Добросклонцев всегда реагировал резко, горячо, с душевной болью. Она не могла понять, почему он, имеющий по долгу службы своей повседневно, ежечасно дело со злом, не может к этому привыкнуть. Его постоянная непримиримость, излишняя горячность казались ей слишком дорогим, неоправданным расточительством жизненных сил. Он, конечно, изо всех сил старался сдерживать себя, внешне не показывать, что творится в душе, но это ему стоило немалых усилий. Чтобы как-то успокоиться, Добросклонцев взял телефонную трубку и набрал номер своей квартиры: — Женя, ты уже дома? Давно пришел? Занимаетесь? Ты не один? Оля и Таня… Никак не получается. Мм-да… И у Тани не получается?.. Но она же отличница… Сынок, я сегодня поздно приду, так что ты сходи в магазин, молока, кефиру купи. И хлеба, конечно. Ну не знаю, как освобожусь. Лады, сынок, занимайтесь. Тоня слушала телефонный разговор отца с сыном, бесстрастно разглядывая в окне серую громаду Зоологического музея. Казалось, здание затаилось, и прислушивается к звонкой капели на улице, и думает о чем-то своем, вековом и каменно-величественном.В ГУВД Мособлисполкома Тоня пришла сразу после института. С работой освоилась быстро и легко. Здесь ей все нравилось — и сама работа и, пожалуй, главное — здоровая, доброжелательная атмосфера в коллективе, который виделся ей как дружная семья, спаянная общими заботами и делами. На первых порах службы ей очень помог Юрий Добросклонцев. Она его хотя и в шутку, но ласково называла своим крестным отцом, и Юрию Ивановичу, который был старше Тони на целых десять лет, это льстило, — ему нравилось покровительствовать. — Послушай, дитя, сколько же лет прошло? — неожиданно спросил Добросклонцев. — С каких пор? — не поняла она. — Как я увидел тебя впервые? — Много. А что? — Ты не меняешься, а если и меняешься, то в лучшую сторону. — В жизни все меняется, только мы часто этого не замечаем в служебной суете, — вздохнула Тоня. Она легко поднялась, машинально поправила волосы. И, уже открывая дверь в коридор, обернулась: — Телефон и адрес Пришельца я тебе найду. — После встречи с ним я зайду к тебе домой, если можно? Чайком угостишь. Не возражаешь? — с напускным нахальством, будто в шутку, спросил Добросклонцев. — Заходи. — Тоня смутилась, отвернувшись, чтобы он не заметил этого ее какого-то детского смущения, быстро вышла из кабинета.
3
То, что операция «Кулон» сорвалась, Ипполита Исаевича Пришельца не очень раздосадовало. Он рассчитывал заполучить «семейную реликвию» Норкиных стоимостью в пятьдесят тысяч. О кулоне ему стало известно от Изабеллы — единственной дочери Ильи Марковича и, естественно, наследницы бриллианта, — студентки второго курса по случайному совпадению того самого МИИТа, дипломом которого обладал Ипполит Исаевич. Конечно же, было обидно, что тщательно разработанная операция оказалась безрезультатной, эти бестии Норкины, осторожные и предусмотрительные, перехитрили его. Пришелец принадлежал к тем целеустремленным натурам, охотничий пыл которых неудачи не охлаждают, а еще пуще разжигают. Он сказал себе: кулон будет мой, непременно, во что бы то ни стало. Он не верил Норкину, что кулон у него якобы отняли налетчики, потому что налетчиками были его люди, а они бы не посмели говорить своему шефу неправду, потому что в их мире подобная ложь карается жестоко и беспощадно. Пришелец уже готовил новую операцию «Кулон», сделав Изабеллу на этот раз своей прямой соучастницей. Изабелла не вышла ни лицом, ни статью. А пресыщенный, набалованный успехом у женщин Пришелец уделил внимание «очаровательной Норочке», как он иронически называл Изабеллу, позволяя ей время от времени навещать его холостяцкую обитель. Там Изабелла и проболталась, что кулон цел и хранится у них дома. Пришелец принял этот факт к сведению и решил не уличать Илью Марковича в обмане. Телефонный звонок Ильи Марковича и сообщение, что его вызывали к следователю и что один из грабителей якобы задержан, встревожили Пришельца. Ипполит Исаевич пригласил Норкина сейчас же приехать к нему и подробно рассказать о беседе на улице Белинского. Илья Маркович охотно согласился: он рассчитывал, что опытный в юридических вопросах Ипполит сумеет ему кое-что прояснить. Норкина Ипполит принимал в столовой — большой комнате, посреди которой этаким массивным дредноутом громоздился резной обеденный стол из мореного дуба, окруженный дюжиной таких же резных стульев с высокими спинками. По свидетельству самого хозяина, этому столовому гарнитуру перевалило за двести лет и принадлежал он какому-то знатному боярину. Правда, стулья были реставрированы уже Пришельцем: жесткие дубовые сиденья заменены мягкими, дубовые спинки удалены, и вместо них вставлены иконы: Николая Мерликийского, Серафима Саровского, Георгия Победоносца, Марии с младенцем и еще каких-то святых, чтимых в православии. На стенах висело пять икон, из которых три выделялись броскими золочеными окладами, украшенными драгоценными камнями. Две другие иконы — черные доски без окладов. У стены прочной скалой горбился черный буфет, украшенный искусной резьбой. Его утроба была заполнена старинным фарфором и серебром. В последнее время Пришелец воспылал страстью к серебру. Скупал серебряные изделия, особенно посуду, не очень заботясь о ее художественных достоинствах. Ему нужен был вес, так сказать, масса. Началось у него это со случайной встречи. В доме своего старинного друга, директора меховой фабрики, он познакомился с геологом, Героем Социалистического Труда Ященко Антоном Фомичом. Ященко в разговоре обмолвился, что недра матушки-земли почти освободились от серебряного бремени, запасы серебра исчерпаны и что оно скоро в цене превзойдет золото. У противоположной от окна стены лицом к свету стояла изящная — тоже из мореного дуба — горка, сверкающая толстым зеркальным стеклом и своим ценным содержимым — хрусталем. Чего там только не было, глаза разбегались от искристых играющих граней: рюмки, фужеры, вазы, конфетницы, одна лучше другой. И среди этого хрустального блеска — малиново-звонкая баккара. Нет, что ни говорите, а у Ипполита есть вкус к изящному. Да и сам он всегда одевался по последней моде. И в день встречи с Норкиным на нем была замшевая куртка, черная водолазка, темно-зеленые вельветовые брюки и цвета запекшейся крови ботинки на толстой подошве. Видно было, что он собирался куда-то уходить, но звонок Ильи Марковича заставил его задержаться. Высокий, гибкий в талии, в свои сорок три года Ипполит Пришелец производил впечатление человека, познавшего жизнь во всех ее проявлениях, испытавшего все ее прелести и муки и пришедшего к заключению, что «все суета сует». На его лице лежала, как любят говорить сентиментальные литераторы, печать усталости и равнодушия. Озабоченный, рассеянно осмотрев столовую, Илья Маркович остановил свой взгляд на спинках стульев. Пришелец не удивился: так было со всеми, кто впервые входил в его столовую — иконы в стульях неизменно привлекали внимание. И Норкин тоже не стал исключением. Он беззвучно ахнул, приоткрыл рот, но, точно опомнившись, смолчал, спрятав в кулачок свою аккуратно подстриженную бородку. Потом, блеснув на хозяина дымчатыми стеклами очков, сквозь которые суетливо смотрели хорьковые глазки, обронил: — Оригинально. — И снова быстрый взгляд на спинки стульев. — Но это же денег стоит. И, надо думать, немалых. — Норкин не принадлежал к модному племени икономанов, именующих себя коллекционерами древней живописи, в иконах не разбирался, лишь понаслышке знал, что это капитал. — Это ничего не стоит. Разве что на растопку камина, — небрежно ответил Пришелец и, подняв тяжелые веки на иконы, висевшие на стене, прибавил: — Вот те кое-что стоят: две — начала восемнадцатого века, а возможно, конец семнадцатого. В окладах — более поздние. Вы садитесь, пожалуйста, — элегантный жест в сторону Николая-угодника. Норкин почему-то предпочел Георгия Победоносца. Перед ним на столе появились бутылки виски, лимонада и коньяка, затем нарезанный лимон с сахарной пудрой и набор шоколадных конфет. — Коньяк, виски? — спросил хозяин дома. — Мне ведь еще на работу, — нетвердо засопротивлялся Норкин… и отдал предпочтение коньяку. Себе Ипполит небрежно плеснул в бокал виски и разбавил лимонадом. — За все хорошее, — сказал он и приподнял свой фужер на уровень глаз, точно хотел рассмотреть собеседника сквозь стекло. Норкин выпил до дна и, морщась, пожевал лимон. — Вас можно поздравить, — приступил Пришелец к делу. Он не любил попусту тратить время, тем более сейчас, когда нужно было действовать не мешкая. — Если я вас правильно понял, с кулоном все в порядке. — Да что вы, откуда? — насторожился Норкин. — А разве преступники не задержаны? — Я не знаю, мне об этом ничего не известно. Видите ли, подполковник почему-то уклонился от ответа на мой вопрос. Часы нашлись у одного из грабителей, того, что был в штатском, вроде бы Коньков его фамилия… — Ну, значит, этот Коньков арестован, так надо полагать? Норкин развел руками. Пришелец тем временем налил ему еще коньяку и попросил поточнее со всеми подробностями передать беседу с подполковником. — Они могут вас надуть с кулоном, — пояснил он. — Кто именно? — не понял Норкин. — Очаровавший вас подполковник. — В голосе Пришельца слышалась легкая ирония. — Каким образом? Что вы имеете в виду? — настоярожился Илья Маркович. — Присвоят кулон, а вам скажут, что не нашли. — Ипполиту хотелось побыстрей выпроводить своего гостя. Кое-какую полезную информацию он уже получил и понимал, что изосторожного Норкина больше ничего путного не выудить.
— Но, как я полагаю, будет следствие, наконец суд. — И на следствии н на суде бандиты покажут, что никакого кулона и в помине не было, они понятия о нем не имеют. — А свидетели? — Похоже, что Норкин увлекся игрой и уже позабыл, что кулон-то действительно целехонек, лежит у него дома. — Какие? Кого вы имеете в виду? — Арсений Львович, наконец — вы? Игра Норкина начала забавлять Пришельца. — Дорогой мой, я не могу ручаться за Арсения Львовича, но, зная его как человека безупречной репутации, не думаю, чтобы он согласился дать заведомо ложные показания, поверив вам на слово. Кулона он не видел — это же факт? Что же касается меня как свидетеля, то не хочу обнадеживать вас: я честный человек и при всем к вам уважении и нашей дружбе не могу поступиться своей репутацией. Дача ложных показаний, заведомо ложных, связана с известным риском: легко запутаться. — Ну хорошо, допустим Арсений Львович не видел кулона, хотя и знал. Но вы-то видели? — Что значит видел? — равнодушно спросил Пришелец, желая поскорей закончить ставшую уже бессмысленной игру. — Я видел его у вас дома. Но я не знаю, взяли вы его с собой или, может… забыли дома по рассеянности. — Это как же так — взял ли? А зачем мы ехали в это Дядино? Я отказываюсь вас понимать, Ипполит Исаевич. — Норкин был раздражен, он слишком вошел в свою роль, увлекся версией, которую сам же сочинил и готов был поверить в нее, и эта столь откровенная фальшь выводила Пришельца из равновесия. Сам отменный лицемер и циник, он из ревности, что ли, терпеть не мог себе подобных. Он считал фарисейство своей привилегией и не желал ее ни с кем делить. — Я вполне верю вам, Илья Маркович, верю, что кулон у вас отняли грабители, и не думаю, что потребуются какие-то свидетели. — Но вы же сами сказали, что кулон могут не вернуть, — нахально перебил Норкин. «Наглец ты из наглецов, я-то знаю, что кулон у тебя и никто у тебя его не отнимал!» — хотелось взорваться Пришельцу, но он сделал над собой усилие, перевел разговор в более спокойное русло: — Да будет вам, Илья Маркович. Если возникнет такая ситуация, я скажу, что видел, как вы взяли кулон и положили… Куда положили? Давайте условимся, чтоб нам не завраться. — Губы Пришельца скривились иронически, в глазах забегали смешинки. — В карман положил, вот сюда — во внутренний карман пиджака, — поспешно ответил Норкин. — В правый, в левый? — точно издеваясь, уточнил Пришелец. — Какое это имеет значение? — с раздражением отозвался Илья Маркович. — Но все-таки: следователи любят точность, обычно на таких мелочах ловят. — Хотел сказать «нашего брата», да вовремя удержался. — Ну хорошо — в правый карман положил, — смирился Норкин, решив, что с Пришельцем нужно сохранить хорошие отношения. Предусмотрительность его всегда брала верх над эмоциями. Он даже сконфузился, вдруг сообразив, что кулон-то действительно никто не отнимал, и Пришелец действительно не знал, взял он его с собой или нет. Может, забыл; может, потерял. Да мало ли что? — Отругал меня подполковник, — уже миролюбиво заговорил Норкин. — Надо было сразу заявить. А теперь подозрение: почему не заявили? А не кроется ли за этим что-то такое… Понимаете — у них все на подозрении… — Боялись мести, потому и не заявляли, — поспешил вмешаться Пришелец, хотя сам так не думал. Для себя он еще не решил, где подлинная причина, что ни Норкин, ни Бертулин не заявили в милицию об ограблении. И уже, противореча самому себе, прибавил: — А вообще-то вы сваляли дурака, что не заявили сразу в тот же день. Боялись… Все это ерунда, чушь. Кого бояться? Надо было, конечно, заявить. Зазвонил телефон, но не красный аппарат, стоящий в столовой, где они сидели, а другой, — в кабинете. В квартире Пришельца было два телефона. Один, официальный, и номер его можно было отыскать в телефонной книге. Другой ни в каких справочниках не значился, и номер его знал лишь узкий круг близких к Ипполиту людей. Ипполит извинился перед Норкиным и прошел в кабинет. Звонила Изабелла, она весело щебетала, что соскучилась, что ждет не дождется, когда они встретятся. — Да, да… — рассеянно отвечал Ипполит, чуть не назвал ее Норочкой, но вовремя спохватился: вдруг услышит Илья Маркович. И сказал после паузы: — Крошка! Хорошо, что позвонила. Нам надо бы увидеться… Сегодня? Золотко мое, сегодня никак невозможно. Совершенно. Ни малейшей возможности. Случилось что-нибудь? Просто соскучилась. Ну, потерпи, прелесть моя. Разлука обостряет чувства. Позвони завтра. Целую и жду. — И он торопливо положил трубку. Встречаться с Изабеллой ему совсем не хотелось — она ему изрядно надоела, и вообще, как он говорил, это «типичное не то». Но и рвать отношения теперь, когда он сделал на нее главную ставку в большой игре, связанной с охотой за кулоном, было бы просто глупо. Вернувшись в столовую, Ипполит озабоченно посмотрел на часы. Норкин правильно понял этот жест и поднялся. Но уходить не спешил и как бы между прочим сообщил: — Фельдманы получили разрешение на выезд. На Ипполита эта весть не произвела никакого впечатления. Он лишь нехотя пробурчал: — Значит, у них там есть солидная база. — Что вы имеете в виду? — Поверх очков посмотрел на него Норкин. — Металл, камешки и эти, — Ипполит сделал выразительное движение пальцами, словно подсчитывал купюры. — Вы думаете? — Норкин любил все подвергать сомнению, чтобы нащупать истину. Осторожный и практичный, он придерживался принципа «семь раз отмерь». — Это всем известно, — внушительно сказал Ипполит. — Без базы едут идеалисты и дураки. И те и другие потом слезно раскаиваются. Вы разве не видели по телевизору или не читали в газетах? — Да, но… — Норкин неопределенно пожал плечами. На этом «да, но» они и расстались. Проводив гостя, Пришелец закрыл входную дверь на крепкие запоры и прошел в гостиную, где был электрический камин и стены которой вместо обоев покрывал шелк золотисто-черного оттенка. Ипполит остановился посреди гостиной, скрестив по-наполеоновски руки на груди и в решительном раздумье глядя на большой, во весь пол текинский ковер. Следствие ведет незнакомый Пришельцу подполковник Добросклонцев. Нужно выяснить, кто он и что из себя представляет. Это сделает Зубров. Но все это потом. А сейчас ему нужен Анатоль, нужен срочно и немедленно. Он, то есть Анатолий Павлов, студент МИИТа, должен был позвонить. Но, кроме Изабеллы, сегодня никто не звонил. Да будь при нем сейчас Анатоль, все завертелось бы в порядке логической и разумной очередности, а именно: позвонить Конькову и, если его еще не арестовали, предложить ему немедленно ложиться в психлечебницу, где он уже дважды «отдыхал». Коньков состоял на учете в психдиспансере, там у него был знакомый врач, который — «услуга за услугу» — всегда готов был оказать помощь страдающему шизофренией. Звонить Конькову должен Павлов из уличного автомата, конечно. Но прежде, чем лечь в больницу, Коньков должен связаться с двумя другими налетчиками, теми, что были в милицейской форме, и передать им приказ немедленно покинуть Москву на несколько месяцев. Благо весна, и можно до конца курортного сезона обосноваться где-нибудь на юге. Ни Коньков, ни те двое никогда в глаза не видели своего «хозяина», не знают ни имени его, ни адреса. Связь с ними поддерживается через Анатолия Павлова. Лишь Коньков знает его в лицо, но не знает ни фамилии, ни подлинного имени. Для Конькова Павлов — просто Саша, сотрудник одного министерства. Какого? Это не важно. Но почему же Павлов не звонит? Пришелец сел в глубокое кресло возле журнального столика с телефоном и позвонил в Дядино Арсению Львовичу. Услыхав частые гудки, Ипполит досадливо поморщился, мысленно помянув Бертулина недобрым словом, и, немного повременив, снова набрал номер дядинского ювелира. Все еще занят, чтоб тебе околеть! С кем он может так долго разговаривать? Да мало ли с кем — клиентуры-то у него, дай бог. И вдруг зазвонил «официальный» телефон. Один звонок, второй, третий, Ипполит не двигается с места и не спешит брать трубку. Он возьмет ее только после седьмого звонка, а может, и вообще не возьмет — еще не решил. Звонки настойчивы: четвертый, пятый, шестой, — Ипполит поднял руку, но телефон неожиданно умолк. Значит, кто-то чужой. Кто? Может, тот же подполковник Добросклонцев хочет пригласить его на беседу? Рановато давать свидетельские показания, нужно детально выяснить обстановку. Наконец он дозвонился до Бертулина. — Как жизнь, старина? — весело спросил Пришелец. — Живу, — ответил Бертулин, и по одному его голосу опытный Пришелец почувствовал что-то неладное. Решил не очень дипломатничать. — Этим не все сказано — американские индейцы и юаровские негры тоже живут… в резервациях. Так-то, любезный Арсений Львович. — Каждому свое, — неопределенно произнес Бертулин, и в голосе его звучали явное отчуждение и подозрительность. «Хитрит», — решил Пришелец и спросил напрямую: — У вас есть новости? — Он сделал сильное ударение на последнем слове, так что вопрос прозвучал утвердительно. — А какие новости вас интересуют? — сухо, без обычной своей любезности вопросом на вопрос ответил Бертулин. Он не был ни другом, ни близким приятелем Пришельца, связывали их чисто деловые отношения. Ипполит был одним из клиентов ювелирных дел мастера, правда, клиент солидный, с деловым размахом и финансовыми возможностями, с хищной хваткой акулы. Вот это-то, последнее, и настораживало не расположенного к авантюрам Бертулина. Сегодня у Бертулина состоялся довольно неприятный разговор с начальником дядинской милиции Беляевым. Казалось, ничего необычного не было в этой встрече, и все же она оставила нехороший осадок в душе Арсения Львовича. Прежде всего подполковник с явным упреком и подозрением спросил: «Странное дело, в вашей квартире совершен наглый грабеж, а пострадавший никому об этом не заявил, словно ничего такого не произошло, обычная семейная свара: поругались, подрались и полюбовно разошлись. Как прикажете все это понимать?» — «Я вполне разделяю ваше недоумение, — ответил Бертулин, взвешивая каждое слово. — Но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что эти бандюги строго-настрого приказали молчать, а кому хочется умирать от бандитского ножа? Думаю, что желающих не найдется. И я решил молчать. Тем более, что убыток они мне нанесли небольшой, так, кой-какие мелочишки, что оказались на виду. И вообще надо сказать, они торопились». — «А может, у них и не было такой цели — грабить вас? — вдруг спросил Беляев. — Может, они ждали Норкиных с их богатой добычей?» — «Ждали? В моей квартире?» Пораженный столь неожиданным поворотом дела, Арсений Львович первые минуты не знал, что и сказать. Смысл вопроса подполковника до него дошел сразу: в его квартире кто-то преднамеренно устроил западню, чтобы отнять бриллиантовый кулон. «Тогда кто это подстроил? Пришелец?» — «Кто, кроме вас, знал о том, что вы ждете гостей, я имею в виду Пришельца и Норкиных? И кто такой Пришелец, давно вы с ним знакомы?» Вопросы подполковника загнали Бертулина в тупик. Он начинал понимать, что и его подозревают в соучастии, хотя и на самом деле был чист и никак непричастен к ограблению. Но ведь не случайно был задан вопрос: кто такой Пришелец? Да, именно, что из себя представляет Ипполит Исаевич? Случайно ли появились грабители в его квартире за полчаса до прихода Норкиных с Пришельцем или это было заранее подстроено? Этот вопрос задавали себе и Беляев, и Добросклонцев, и Бертулин, потому что ответ на него и был ключом к раскрытию дерзкого преступления. Потому-то и был сдержан Бертулин в разговоре с позвонившим ему Пришельцем. — Что-нибудь слышно по поводу инцидента в вашей квартире? — Наконец сдался Ипполит, не желая терять времени. — И это вы называете инцидентом? Наглый бандитский налет по-вашему всего-навсего инцидент? Тон Бертулина не понравился Пришельцу, и он сразу перестроился: смягчился, переходя на беспечно-веселый тон. — Слово это, дорогой Арсений Львович, резиновое. На границе идет перестрелка, льется кровь, а по официальным сообщениям всего-навсего инцидент. Ну да дело не в терминологии — в сути. Кажется, налетчики арестованы? — Да? — недоверчиво переспросил Бертулин. О задержании преступников подполковник Беляев ему ничего не говорил, но из беседы с начальником милиции можно было догадаться, что преступники еще на свободе, хотя следы их обнаружены. Пришелец в эти минуты отчаянно бился над вопросом: вызывали Бертулина к следователю или нет? Знает ли он, что один из налетчиков попался, или ему еще ничего неизвестно? Решил: знает. А коль так, то нужно без лишних слов сообщить ему, как новость: — Сегодня вызывали к следователю беднягу Илью Марковича и сообщили ему, что, по крайней мере, один из налетчиков задержан. Как видите, уголовный розыск работает на совесть. И самое удивительное, что Норкин не обращался в милицию. Сверхусердно работают товарищи. Надо полагать, что и остальные вещи будут найдены и возвращены владельцам. За исключением, пожалуй, злополучного кулона. — А почему вы исключаете кулон? — Преступники, надо полагать, не такие простофили, чтоб возвращать вещь, которой нет цены. Они могут просто отрицать: не было кулона, не брали. Что взяли, то взяли, а кулона в глаза не видели За это им не прибавят и не убавят. Норкину следователь сделал упрек — почему, мол, не заявил в милицию? Ну ясно почему — боялся мести, преступники пригрозили, приказали молчать. Бертулин вспомнил: такой вопрос задавал ему и Беляев. Бертулин решил не говорить Пришельцу о своей беседе с подполковником. И поспешил закончить этот телефонный разговор. — Да, да, боялся, дело ясное, — торопливо произнес ювелир, неожиданно для абонента закончил: — Вы извините: у меня клиент. Всего вам хорошего. — И, не дождавшись последних слов Пришельца, положил трубку. «Вот так гусь, — мысленно обругал Ипполит Бертулина, теперь уже твердо веря, что того вызывали к следователю. — Чистюля. В штаны наложил. А у самого рыло в пуху, потому и молчал, хорек, не заявлял. Впрочем, и заявлять не стоило: ничего у него ценного не взяли: ребята были проинструктированы». Пришелец уже пожалел, что дал указание Анатолию предупредить налетчиков не наносить убытка хозяину квартиры. Так, пошуровать в мелочишках для вида. А дай он команду — и его «мальчики» потрудились бы всерьез и до тайника, в котором хранились настоящие ценности, добрались бы. Пришелец прошелся по ковру: спокойствие и хладнокровие прежде всего. Таков был его девиз. Да он и не видел серьезных причин для тревоги: ничего необычного не произошло. По крайней мере, лично ему опасность не грозила. Коньков, по словам Павлова, тертый калач, его голыми руками не возьмешь. А засыпался на мелочи, что ж, как правило, все попадаются на мелочах. Утешение не велико, но и Коньков ведь еще не засыпался. Ипполит бродил из угла в угол, обдумывая, как должен вести себя на допросе Коньков. Отпираться бессмысленно: есть свидетели, Норкин, Бертулин и он сам, которые подтвердят, что Коньков один из тех, кто совершил налет на квартиру ювелира. Нужно придумать для Конькова убедительную версию, если он сам ее еще не придумал. Итак, версия… Пришелец остановился у мраморной феи, которую, как он считал, изваял сам Роден, провел ладонью по обнаженному плечу, с которого стыдливо упала бретелька воздушно-прозрачной сорочки, задумался. Версия. Коньков случайно проходил возле дома ювелира. К нему подошли два офицера милиции и попросили быть понятым. На ходу объяснили суть дела: нужно взять у жуликов не принадлежащие им драгоценности. Коньков согласился. Он просто присутствовал, как свидетель, как понятой. Все делали работники милиции. Он же был уверен, что участвует в законной операции. На прощание ему за услугу подарили часы. Если сделать скидку на шизофрению Конькова, то все получается довольно правдоподобно. Версия Ипполиту понравилась. Но ее нужно сообщить Конькову. Это должен сделать Павлов. А он не звонит. Пришелец опять начинал терять терпение. «Недоносок, подонок, ублюдок». Это о Павлове. Пришельцу нравится унижать людей. Ему по душе безропотные лакеи. Анатоль Павлов — один из них. Родители его живут в Крыму: мать и младшая сестренка. Отец от них ушел, у него где-то в Сибири другая семья. Анатолий парень одаренный. У него математический склад ума, способности к изобретательству. Кроме того, рисует, делает гравюры, занимается чеканкой. «Самородок», — говорит о нем Ипполит в кругу своих близких. Он ценит его, как серебряную ладью или хрустальную вазу, ценит не как личность, а как полезную вещь. Мелкими подачками Ипполит создал себе ореол отца-благодетеля, без которого будущий транспортник обречен на жалкое прозябание. Павлов предан шефу-покровителю и готов оказать ему любую услугу. Ему кажется, что Ипполит всемогущ и неуязвим, с академиками и министрами на «ты». Размышления Ипполита прервал звонок, но не телефонный, которого он ждал, а дверной, нежданный. Ипполит затаился, пытаясь решить: кто это может быть. К нему не заходят без предварительной договоренности по телефону. Звонок повторился. Ипполит снял ботинки, в носках на цыпочках осторожно подошел к двери и заглянул в глазок. Первое, что он увидел, был офицерский погон с двумя просветами и двумя звездочками. Потом, через несколько секунд, обратив внимание на фуражку, Ипполит понял, что за дверью стоит подполковник милиции. Ипполит затаил дыхание. В голове стучал вопрос: один или с группой? Молнией сверкнула неприятная мысль: Коньков и его соучастники арестованы, и Павлов тоже, потому и не звонит. Павлов «раскололся»! Теперь пришли за ним! Вариант на этот случай у него заготовлен: он будет все отрицать, прямых улик нет, он будет валить на Павлова: он знал, что иду к ювелиру, он и организовал засаду. Ипполит представил себе картину обыска, потом наручники, допросы. До суда дело не дойдет, успокаивал себя, но все решилось неожиданно просто: подполковник позвонил еще раз, потом круто повернулся и ушел. Он был один. «Возможно, Добросклонцев», — с облегчением подумал Пришелец, вспомнив фамилию следователя. Он задержался у двери еще на несколько секунд для большей уверенности, что подполковник был один, и тут требовательно зазвонил телефон. Ипполит прошел в свой кабинет, взял телефонную трубку. Звонил Павлов. Ипполиту стоило немалых усилий, чтобы удержаться от оскорблений. — Немедленно приезжай! — закричал он и, не желая выслушивать какие-либо возражения, бросил трубку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
У Добросклонцева мало было шансов застать Пришельца дома. Уходя из управления после работы, он уже хотел отменить свое прежнее решение, но вспомнил, что пообещал зайти к Тоне. Он решил идти пешком до Бронной, благо, тут рукой подать. Запахи ранней весны витали над предвечерней Москвой. На углу Белинского и Герцена он остановился, с наслаждением вдыхая какой-то неожиданно новый, бодрящий воздух. Сегодня для него все казалось новым — и Тоня, и предвечерний воздух, и Кремль, освещенный закатом и как бы помолодевший, и, главное, сам он казался себе преображенным. С минуту постояв, он повернул направо и не спеша пошел вверх по улице Герцена. Слегка покрытый тонкой пленкой льда асфальт сверкал отражением сиреневого заката, звонко струящегося в стороне Никитских ворот. Там, вдали, на фоне заката, четко рисовался зеленый купол и вонзенный в него крест: то была церковь, знаменитая тем, что в ней венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Возле консерватории у бронзового Чайковского толпились любители музыки, желающие попасть на авторский концерт композитора и дирижера Вячеслава Овчинникова. У прохожих спрашивали, нет ли свободного билетика, и Юрий Иванович почему-то подумал: пойти бы сейчас не к Пришельцу, а в Большой зал консерватории вместе с Тоней. Ему вдруг вспомнился ее муж, его друг — майор Миронов, который пошел один на трех вооруженных бандитов и погиб. Вспоминались похороны, речь начальника ГУВД… «Он вечно будет жить в наших сердцах…» Видимо, это не просто слова, это закон жизни. «Мы не посрамим своей чести перед его памятью…» Тоня… Добросклонцев почувствовал вдруг, что не может, даже не хочет в этот вечер видеть ее, будто эта их встреча перечеркнет и нежность его по отношению к ней, и… весну. Юрий Иванович не страдал телефономанией — болезнью трудноизлечимой, распространенной среди бездельников, домохозяек и мелких канцелярских чиновников. Но в сером телефонном аппарате автомата он вдруг увидел нечто спасительное, что может избавить его от неприятных мыслей и волнений. Он пошарил в кармане, нашел гривенник, набрал номер своей квартиры. — Как дела, Женя? — спросил сына. И ответ был машинальный, впрочем, как и вопрос: — Нормально. Ты скоро придешь? — И тут же, словно вспомнив, сын порывисто сообщил: — Да, звонила мама. У нее все нормально. Там уже весна. Ходят без пальто. — Хорошо. Я скоро приду. Ты уроки сделал? — Да. — Чем занимаешься? Телевизор смотришь? — Нет, читаю. Добросклонцев знал: сын, как и многие мальчики, увлекается детективами и приключенческой литературой и, как немногие мальчишки, равнодушен, если не сказать, безразличен к телевидению. Он думал о жене, которая сегодня впервые позвонила из санатория. И надо же — именно тогда, когда он собирался к Тоне. Казалось бы, ничего особенного, но Юрий Иванович расценил это по-своему: женское чутье, биотоки. Она, Катя, сердцем почуяла опасность и напомнила о себе. А ведь никакой опасности нет, ничто не угрожает благополучию их семейного очага. С Катей они прожили пятнадцать лет ровно, гладко, можно сказать, душа в душу, без серьезных ссор и обид. Когда поженились, Кате шел двадцатый год, ему двадцать девятый. Они были счастливы. Катя не была красавицей, внешностью своей ничем не выделялась: круглолицая, со здоровым румянцем на щеках, что называется, «кровь с молоком», невысокого роста, склонная к полноте, спокойная, рассудительная, она отличалась душевностью, добротой и преданностью семье. Работала экономистом на небольшом предприятии, работой своей была довольна, в коллективе пользовалась уважением. К работе мужа первое время относилась с непониманием и огорчением. Ей не нравилось, что Юрию часто приходилось задерживаться допоздна на службе, работать в выходные дни. Она видела, что муж устает, недосыпает, в то же время понимала, что он увлечен своей службой, что в ней он нашел свое призвание, может, смысл жизни. И она смирилась. И не просто смирилась, а старалась как-то помочь ему, создать здоровый семейный климат, освободить его от мелких домашних забот. В этом отношении хорошим помощником оказался Женя. Он охотно, без принуждения и уговоров, помогал матери по дому. Добросклонцев был уверен, что Катя назначена ему самой судьбой. Он находил много общего с ней и в характере и во взглядах на жизнь. Нет, Катя, конечно, хорошая женщина, прекрасная жена, мысленно убеждал он себя, пытаясь забыть о Тоне. Тоня… И опять вернулось то, о чем он запретил себе думать. Вспомнились первые дни ее работы в управлении, когда еще жив был Миронов. Ее называли тогда «куколкой»: мягкие пшеничные, слегка вьющиеся волосы, пухленькие губы, застенчивая улыбка, сопровождаемая непременным румянцем на бледных щеках. Помнится, генерал Константинов сказал тогда, что Миронова больше подходит для работы в детской комнате, какой, мол, из нее следователь. Но он ошибся: из Тони вышел отличный следователь. Ее мягкий, негромкий голос, искренность и доброжелательность располагали подследственных к откровенности. Даже закоренелые рецидивисты, к которым, казалось, ни с какой стороны не подступиться, вдруг раскрывались перед этой хрупкой, похожей на школьницу молодой женщиной. Сослуживцы говорили: под Тониным взглядом словно воск тает любая броня, которой закрылся преступник. Так неожиданно в размышлениях он переключился на службу, к тому, чем ему предстоит заняться вплотную с завтрашнего дня и на что уйдет не день и не неделя, а возможно, и не один месяц. На лифте он поднялся на седьмой этаж, тихо, стараясь не шуметь, открыл ключами дверь своей квартиры. Из комнаты сына приглушенно лилась музыка — многоголосая и полнозвучная, сверкающая радугой ритмов и мелодий — «Испанская хота» Глинки. Женя лежал на диване, укрывшись одеялом. Глаза его были закрыты. Слабый свет настольной лампы матово освещал мягкие русые волосы и бледное лицо. Он спал. Магнитофонная лента заканчивалась. Юрий Иванович сначала постепенно приглушил звук, а затем, чтоб не щелкать выключателем и не разбудить сына, выдернул вилку электрошнура из розетки. Не открывая глаз и не шевелясь, Женя сонно спросил: — Это ты, папа? — Спи, сынок, — ласково отозвался Юрий Иванович и выключил настольную лампу.2
Анатолий Павлов явился к Пришельцу спустя час после их разговора по телефону. Вид у него был такой, словно он весь этот час бежал. — Почему так долго? — недовольно спросил Пришелец в ответ на павловское «здравствуйте, Ипполит Исаевич». Руки Анатолию он не подал, такой чести Пришелец удостаивал своего подручного очень редко. Павлов положил на вешалку рыжую ондатровую шапку и хотел было снять куртку, но Пришелец остановил его жестом: — Погоди раздеваться, — и кивком головы приказал следовать за собой в кабинет. — Где тебя черти носят? Почему долго не звонил? — Да я, Ипполит Исаевич… — пытался оправдываться Павлов. — Не надо, — грубо перебил Пришелец, прикрыв глаза. — Ты мне кого подсунул?.. Кто такой Коньков? Не знаешь? Так знай — это шваль, мелкая шпана, такой же недоносок, как и ты. И он тебя посадит… на долгие-долгие годы, на вечные времена. Понял? И никто тебе не поможет. — Но ведь вы сами… — Что я сам?! — в ярости процедил Пришелец. — Я в глаза его не видел, а ты за него поручался… Предупреждал, учил тебя не связываться с подонками и всякой мелкой шпаной. Имей дело с порядочными надежными людьми. Он вдруг умолк и заходил по кабинету. Павлов стоял молча, опасливо посматривая на своего повелителя. Он понимал, что случилось серьезное. — Коньков засветился, можно сказать, влип. У него нашли часы Норкина, и Норкин его опознал. Ты понял, что все это значит? — Пришелец сел, откинулся на спинку стула. — Он арестован? — несмело спросил Анатолий. — Это ты должен выяснить. Сейчас же, немедленно. Если еще не арестован, что мало вероятно, пусть немедля сдается в психичку. А его приятелям надо смываться. И чем дальше, тем лучше. — Они уже в теплых краях, Ипполит Исаевич. — Ты уверен? — Абсолютно. — Как в Конькове? — мрачно и зло уколол Пришелец и, сменив гнев на милость, перешел на деловой тон, дал инструкции для Конькова, как тому вести себя у следователя. Затем достал из ящика письменного стола двадцатипятирублевую купюру, небрежно бросил ее Павлову: — Поезжай на такси. Да смотри, чтоб тебе на хвост не сели. И вообще будь осторожен: Коньков, возможно, обложен — не попади в капкан. Об этом Анатолий Павлов никогда не забывал. Он стоял перед Пришельцем с двадцатипятирублевой купюрой в руках, намеренно не пряча ее в карман. На лице его было ожидание чего-то. — Что еще? — нетерпеливо спросил Ипполит. — Это на такси, — Павлов похрустел купюрой. — А психам? Задаром не положат. — В прошлый раз они достаточно получили. — Не положат. Рвачи, — твердил свое Павлов. Когда было нужно, он умел проявлять завидную настойчивость. — У меня что — банк? Что, я обязан субсидировать взяточников и всякий сброд?! — возмутился Пришелец. — Как знаете, — сокрушенно вздохнул Павлов и, небрежно сунув деньги в карман куртки, повернулся к выходу. — Постой. — Ипполит достал из ящика письменного стола пачку денег и подал Павлову две сотенных. Павлов взял деньги, иронически ухмыляясь. — Что? Мало?! — Это заведующему. А врачу? Пришелец бросил еще сторублевку: — А теперь прочь с моих глаз… И сразу позвони мне. Держи в курсе и не пропадай. На другой день утром Добросклонцев позвонил в Дядино. Разговор с Беляевым не обрадовал его: Коньков, который в последнее время устроился рабочим на кладбище, находится в больнице — острый приступ шизофрении. Обыск на его квартире произведен. Изъят нагрудный крест. На вопрос, как попал к ним этот предмет, жена Конькова ответила: «Понятия не имею и вижу-то его в первый раз». Пришлось обратиться к настоятелю местного собора протоиерею Сергееву Петру Николаевичу. Тот, ничуть не сомневаясь, сказал, что это крест архимандрита Иринея (в миру Гаврила Жеребцов). По словам протоиерея Сергеева, архимандрит Ириней сдавал этот крест ювелирных дел мастеру, проживающему в Дядине. С этим крестом подполковник Беляев ездил к Бертулину. Арсений Львович подтвердил, что крест этот действительно давал ему поп по фамилии Жеребцов для ремонта: нужно было вставить и закрепить выпавшие из гнезд камешки рубина, что он, Бертулин, и сделал как раз накануне того бандитского налета. Значит, Коньков, кроме часов, прихватил еще и крест архимандрита. Беляев спросил Бертулина, сообщил ли тот архимандриту Иринею о том, что его крест похищен? Да, ответил Арсений Львович, сообщил, рассказал ему все, что произошло в тот злополучный вечер. Архимандрит был очень огорчен, но никаких материальных претензий к ювелиру не предъявлял. Он даже выразил ему свое сочувствие. — А вы связывались с гражданином Жеребцовым? — спросил Добросклонцев Беляева. — Да, я сам беседовал с архимандритом Иринеем, — ответил Станислав Петрович. — Он подтвердил показания Бертулина. — Крест у тебя? Он нам сегодня потребуется. Попытаемся навестить Конькова. Думаю, нам разрешат. Ты как считаешь? — Должны бы в интересах дела. — Ты не знаком с главврачом? — Не было повода. Зато Конькова знаю. — Что ж, навестим больного. Думаю, что он не очень обрадуется нашему визиту. Положив телефонную трубку, Юрий Иванович задумался. В деле появились новые плюсы и минусы. Плюсом был крест как еще одна вещественная улика против Конькова. Факт его участия в налете на квартиру Бертулина был неоспорим. Но то, что Коньков психически ненормален и что он успел до ареста лечь в больницу, осложняло следствие. Перед тем как ехать в Дядино, Добросклонцев зашел к начальнику следственного управления. Полковник выслушал Добросклонцева молча, согласился с его решением встретиться с Коньковым.В вагоне электрички Добросклонцев расположился у окна и начал просматривать свежие газеты, которые купил в метро: «Правду», «Красную звезду», «Советскую Россию». Быстро пробежав международную информацию, он отложил газеты к стенке и уставился в окно, за которым в мелькании городского и пригородного пейзажа бойко и многоголосо клокотала весна. За его спиной какой-то неугомонный густой бас громко разговаривает со своими соседями. — Сейчас что происходит в жизни? Большие перемены происходят, скажу я вам, — вещает бас. — Общество другим стало, интересы сместились в сторону потребительства, вкусы не те. Прежде, ну, скажем, до войны и в первые послевоенные годы, люди искали духовной пищи, и это несмотря на то, что хлебушка насущного не ели вдосыть. Считалось за честь быть знакомым с каким-нибудь известным артистом, художником. Ведь бывало как: скажет кто-нибудь: «У меня композитор знакомый», и к нему тут же друзья: познакомь, мол. А теперь похвались, что у тебя поэт или там скульптор приятель, — никто и глазом не моргнет. А вот если ты скажешь, что твой друг продавцом работает, не важно где — в ЦУМе, ГУМе, или в «Рыба — мясо», как тут же тебя атакуют: «Познакомь, мол, сделай одолжение». — Я с вами не согласен, — возразил ему сосед. Добросклонцев не видел разговаривающих, поскольку сидел к ним спиной. Но, судя по голосу, возразивший был помоложе. — Тяга к духовной пище и сейчас есть. Возьмите книги, художественную литературу. Попробуйте свободно купить. Дефицит. — Ну и что с того? — ответил бас. — Это не показатель. А известно ли вам, что многие покупают книги и ставят их в застекленный шкаф непрочитанными, как оформление интерьера, вроде фарфора и хрусталя. А один деятель, я где-то читал, умудрился имитировать корешки книг из дерева. Представляете себе — деревянные Пушкин, Толстой, Бальзак. Ловко? Мол, глядите, дорогие гости, какой я образованный, сколько книг у меня — вся мировая классика. — Но ведь эта имитация тоже денег стоила, — заметил сосед. — Искусство резьбы по дереву. — Да ничего ему не стоило: в столярке своего завода приказал умельцам, и они ему сработали. А что касается духовной пищи, то она разная: есть доброкачественная и есть подпорченная, с душком. И самое интересное, что есть любители подпорченной пищи, чтоб непременно с запахом, с дурным душком. На Западе там как? Есть культура и антикультура. И у нас тоже появилась антикультура. А куда денешься? Мы не изолированы, и западные ветры несут к нам всякое. — Что вы имеете в виду под антикультурой? — Антипоэзию, антиживопись, антимузыку, антиартиста, который поет хриплым-сиплым антиголосом. Да вы знаете — песенки его крутят на магнитофонах, друг у друга переписывают. — Значит, нравится. — А как же. Я ж сказал — у нас уже образовалось общество или племя — назовите, как хотите — любителей пищи с душком, потребителей антикультуры. — Но я знаю людей образованных, с положением и даже министров, которым это нравится. — Ну и что? Если нравится министру, это вовсе не значит, что должно нравиться его заместителям. Министру может нравиться Пугачева, а мне Зыкина. Добросклонцев недавно прочитал эпопею «Преображение России». Манера разговаривать вслух в общественном транспорте его всегда раздражала. В этих громких и общительных собеседниках было что-то эгоистичное, бесцеремонное, даже нахальное. Они не считались с окружающими их людьми, не думали, что их болтовня беспокоит других, как визг магнитофона, выставленного на балконе. Сидящие напротив Добросклонцева двое молодых людей разгадывали кроссворд. Один вполголоса читал: — Люди, заботящиеся только о себе в ущерб интересам других. Первая буква — «э». — Элита, — неожиданно выпалил бас и повернулся к юношам. Добросклонцев увидел его лицо. Это был мужчина лет шестидесяти, голубоглазый и белобровый, с доброй и мягкой улыбкой, совсем не соответствующей его голосу и резкому решительному тону, каким он разговаривал. — Не подходит. Последняя буква «т», — отозвался юноша, не поднимая глаз. — Эгоист, — сказал его приятель. — Подошло, — объявил юноша. — Да, это точней, — согласился бас. — Элита — штука посерьезней. Элита — это воровская шайка власть имущих, связанная родством и круговой порукой. Добросклонцев, пряча легкую улыбку, отвернулся к окну. Весенняя приподнятость в его душе улетучилась нечаянно и незаметно под напором разговорчивого белобрового баса. Теперь задумчивый, озабоченный взгляд его скользил по хорошо знакомым местам вдоль железной дороги. В недавние времена, когда, не имея квартиры в Москве, он жил здесь в доме своего тестя, приходилось ежедневно ездить на работу в управление. Через две остановки будет платформа, от которой до дома тестя ровно девятнадцать минут ходьбы. Пожалуй, на обратном пути надо бы заехать навестить стариков. Но все будет зависеть от главного, что сейчас занимало Юрия Ивановича. Именно к этому, главному, и возвращались его думы. Коньков. Преступник с опытом и стажем. Но почему он вел себя так глупо, неосторожно, зачем оставил у себя часы с монограммой и крест? Что это — самонадеянность или беспечность? И какова его роль в налете на квартиру Бертулина? Поспешил лечь в больницу, как только засыпался с часами. Сам сообразил или кто-то рангом повыше посоветовал, а быть может, и приказал. Совершенно очевидно, что кулон предназначался не для Конькова — ему достаточно часов и креста с рубинами. Тогда кто дирижировал всей этой дерзкой операцией? Кто такие те двое в милицейской форме — соучастники ограбления? На эти вопросы может дать ответ Коньков. Может, но даст ли? Как он себя поведет, какой путь самозащиты выберет? Скорее всего все возьмет на себя: у него есть щит — его болезнь. Но так ли уж он болен на самом деле? Размышления отвлекли, и Добросклонцев проглядел асфальтированную дорожку, которая вела от платформы к бревенчатому дому его тестя Вячеслава Александровича Ермолова.
Станислав Беляев ждал Добросклонцева у себя в кабинете. Он был настроен более оптимистично, чем Добросклонцев, ему казалось, что Коньков легко и быстро «расколется», то есть расскажет все, как было, и выдаст своих соучастников. Беляев — практик и на все смотрит с позиции опыта. Опыт он считает надежной основой при решении самых трудных вопросов и сложных, запутанных дел, когда все концы так ловко запрятаны, что решительно не за что уцепиться, чтоб размотать весь клубок.
Заведующий отделением больницы, человек с подчеркнуто светскими манерами, о болезни Конькова распространяться не стал, заметил лишь, что тот страдает манией преследования и что встреча с сотрудниками милиции может отрицательно подействовать на больного. Добросклонцев в свою очередь сообщил, что их пациент подозревается в тяжком преступлении и что встреча и беседа с ним именно сейчас очень важна для следствия. Завотделением понимающе кивнул головой и разрешил встречу и беседу с Коньковым в присутствии лечащего врача. В отличие от своего начальника лечащий врач, седой хмурый человек, уже приближающийся к пенсионной черте, встретил Добросклонцева и Беляева настороженно и недружелюбно, — пожимая круглыми массивными плечами и глядя сквозь стекла больших очков себе под ноги, пробурчал: — Не понимаю, что вам даст разговор с сумасшедшим? — Но ведь его уже посещали, — напористо возразил Беляев. Психиатр перевел взгляд на Добросклонцева и несколько смягчился: — Одно дело родственники и друзья, другое — вы. Вы для него — враги, преследователи. — Ну это напрасно: лично у меня с Коньковым самые добрые отношения, — добродушно заулыбался Беляев. — Кто из родственников или друзей навещал Конькова? — спросил Добросклонцев. Юрий Иванович не исключал возможности «дружеских» отношений если не самого Конькова, то тех, кто стоит за его спиной, с кем-нибудь из персонала больницы. Эта мысль зародилась сразу же, как только узнал, что Коньков поспешно лег в больницу. Он внимательно наблюдал за психиатром. Тот пробурчал вяло и нехотя: — Заходил какой-то, родственником назвался. — Фамилия? — поинтересовался Беляев. — Не помните? У вас записана? — Мы не спрашивали. У нас больница общего режима. И Коньков для нас не преступник, а обыкновенный больной. Поговорите с ним, он вам сам расскажет, кто его навещал. Человек он общительный. Подождите здесь, я сейчас за ним схожу. — И врач поспешил удалиться. — Как тебе нравится? — вполголоса спросил Добросклонцев Беляева, кивнув на дверь, за которой скрылся врач. — Нелюдим. Похоже, что ему все осточертело. Постоянное общение с такими больными, наверное, откладывает отпечаток на характер, — пожал плечами Беляев. В поведении психиатра он не находил ничего необычного.

Сопровождаемый врачом с широкой улыбкой на круглом скуластом лице, вошел Коньков, с порога объявил, скаля крупные крепкие зубы: — А вот и мы, приветик. Чем могу быть полезен? С кем имею честь? — И без приглашения сел на белый деревянный стул. Конькову на вид было под сорок. Русая прядь волос падала на широкий лоб до самых бровей, густых и таких же русых, и это придавало выражению его лица суровый вид, совершенно не соответствующий веселому и развязному тону. В светлых до блеклости глазах, подвижных и беспокойных, бегали тревожные искорки. Это беспокойство чувствовалось и во всей фигуре Конькова — плотной, основательной, с крутым крепким затылком, постриженным высоко, под «бокс». Обе руки откинуты назад, за узкую спинку стула, точно он их прятал. Обращаясь к Конькову, врач сказал: — Николай Демьянович, товарищи из милиции хотят с вами поговорить. — Три дня лежу в больнице я, и вот пришла милиция, — пропел Коньков и протянул Беляеву руку: — Мое почтение, товарищ начальник. Беляев кивнул на Добросклонцева, представил: — Это мой коллега из Главного управления. — Калека, калека, согрей человека. Коли не согреешь, сам околеешь. Водку пили? Вот, купили! — Коньков расхохотался деланно идиотским хохотом. — Вы — поэт, Коньков, — добродушно улыбнулся Добросклонцев. — Во! Понимающие люди оценили, а доктор считает меня шизиком. А что думает товарищ начальник? — вопрос относится к Беляеву. — И не шизик и не поэт, — отозвался Станислав Петрович. — Ты хитер, начальник, все знаешь. — Почти все, — улыбнулся лукаво Станислав Петрович. — Но кое-какие детали хотелось бы выяснить, уточнить. — А о том, что я тебя обманул, тоже знаешь? — Знаю. Только не понимаю, зачем ты это сделал? — Испугался. Ты б меня арестовал. — За что? — За часы. — А ты только часы взял или еще что-то? — Больше ничего. Не веришь? Вот те крест. — И Коньков неумело перекрестился. — Крест действительно «вот те». — Беляев достал из кармана плаща крест архимандрита Иринея. — Узнаешь? И Добросклонцев и Беляев ожидали, что Коньков стушуется, растеряется. Но ничего подобного — махнул небрежно рукой: — Это так, бесполезная игрушка. Часы — другое дело, часы — штука стоящая. — Тогда зачем же вы взяли ненужную вам вещь? — спросил Добросклонцев. Все это время он внимательно наблюдал за Коньковым, стараясь разгадать линию его поведения. О том, что Коньков играет, у Юрия Ивановича не было сомнений, играет довольно искусно, не переигрывая. Важно было другое: даст ли Коньков правдивые показания под давлением улик, назовет ли своих сообщников? — Я, что ли, брал? — хмыкнул Коньков. — На кой леший мне нужен крест, что, я поп какой-нибудь? Мне его сунули в карман вместе с часами. — Кто сунул? — снова включился в разговор Беляев. — Прежде вы говорили, что купили часы? — Говорил. Ну и что? Тогда говорил неправду. Испугался я. Страх у меня. Я боюсь, зоны боюсь. Кошмары по ночам. Вот и врал. А теперь буду правду говорить. Вид у Конькова серьезный и речь психически нормального человека. Это уже был не тот Коньков, что вошел в этот кабинет с развязными прибаутками. Добросклонцев и Беляев нетерпеливо переглянулись. Врач многозначительно вздохнул, и вздох его показалсяДобросклонцеву осуждающим или даже предупреждающим Конькова. — Итак, Николай Демьянович, будем говорить правду и начнем с самого начала, — дружелюбно предложил Добросклонцев. — Кто, когда, где и почему вам сунул в карман крест и часы? Коньков задумался. Пауза получилась напряженной и затяжной. Но его не торопили. Лишь врач кашлянул в кулак и опять громко вздохнул. И Коньков, как он сам выразился, сделал «чистосердечное признание». Собственно, он почти слово в слово изложил сочиненную Пришельцем и переданную ему накануне Павловым версию: он, Коньков, проходил возле дома, в котором жил ювелир, к нему подошли двое в милицейской форме, спросили, местный ли он, и, получив утвердительный ответ, категорично предложили быть понятым при обыске в квартире ювелира. Как проходил обыск, Коньков рассказал со всеми деталями и подробностями, ничего не тая, все, как было на самом деле. Врать ему не было смысла, он же прекрасно понимал, что все эти детали хорошо известны следствию из показаний потерпевших. Коньков закончил свой рассказ словами, произнесенными так искренне, что Беляев готов был поверить ему: — Вот все, товарищи начальники, вся правда, как на духу, и весь я перед вами виноватый и честный. Что хотите со мной делайте, а я весь тут как есть. Взгляд его погас. Он положил руки на колени и склонился точно под тяжестью непосильного груза. Добросклонцев спросил: — Но вы понимали, что люди, переодетые в форму милиции, — грабители? Не отрывая рук от коленей, Коньков чуть приподнял голову, с маниакальной подозрительностью посмотрел на Юрия Ивановича и тотчас же опустил голову. Он не торопился с ответом. Сказал негромко, вполголоса, глядя в пол: — Понимал. Только не сразу. В конце, когда дело было сделано. Испугался очень, когда понял. Я думал, они меня прихлопнут, потому как свидетель. — А почему потом не сообщил в милицию? — спросил Беляев. Коньков выпрямился. Вид у него был настороженный, словно он опасался подвоха. С недоверием посмотрел на Беляева, скорбно покачал головой и произнес устало: — Потому как боялся. Говорю вам — наказали они, чтоб рот на замок, иначе крышка… Ну те, которые… — Он не закончил фразу и опять погрузился в себя, замкнулся. — Ты мог нам рассказать это в прошлый раз, когда у тебя изъяли часы, рассказать, как сейчас, — как бы размышляя вслух, произнес Беляев. Коньков никак не прореагировал на его слова; он сидел отрешенный и безучастный. И снова напряженная пауза, которую нарушил Добросклонцев: — Николай Демьянович, а кто вас вчера навестил? Вопрос был неожиданным. Коньков вздрогнул, но, подавив волнение, заговорил с вымученной непринужденностью, избегая взглядов своих собеседников. — Тут ходят всякие, везде ходят. Через забор лезут, во все щели прут. Я жену жду. А чего ждать? Может, и придет. А не придет, и так будет ладно. Мне все равно — что жена, что соседка. Соседка, может, и лучше жены. — Он нервно рассмеялся. — Но все-таки, Николай Демьянович, кто лично тебя вчера навещал? — повторил вопрос Добросклонцева Станислав Петрович. — Лично, отлично, столично… Водка такая была — «Столичная», — балагурил Коньков, уклоняясь от ответа. Добросклонцев вопросительно посмотрел на врача, тот кивнул головой и тихо сказал: «Довольно». Потом положил Конькову руку на плечо и уже громко произнес: — Устал, Николай Демьянович, надо отдохнуть. Так закончилась беседа Добросклонцева и Беляева с подозреваемым Коньковым. Потом в кабинете начальника горотдела милиции они подвели итоги. Юрий Иванович считал, что Коньков сам сочинил версию о своем якобы невольном участии в ограблении, что на самом деле он был активным соучастником, что шизофрению он симулирует, чтоб таким образом уйти от ответственности. У Беляева же на этот счет были сомнения: он допускал правдивость версии Конькова, да и в симуляцию шизофрении не очень верил, полагаясь на авторитет врачей. По мнению Станислава Петровича, дело с кулоном зашло в тупик, и, пока не будут задержаны двое скрывшихся псевдомилиционеров, невозможно дать этому делу логический ход. Даже если Коньков и соучастник, он будет держаться своей версии, правдивых показаний не даст и не поможет розыску найти «приятелей». А без них трудно будет суду доказать преднамеренное участие Конькова в ограблении. — Коньков «расколется», — твердил Добросклонцев. — Ты обратил внимание, как он вздрогнул, когда я спросил о посетителе? — А какой смысл ему колоться? — возражал Беляев. — Его версия тщательно продумана, и если мы не задержим тех двоих, он практически неуязвим. Он играет под дурачка, на самом же деле — хитрая бестия. Я думаю, что и вздрогнул-то он преднамеренно, чтоб разыграть заключительную сцену. Артист! — Не думаю: вздрогнул он естественно, а сцену разыграл, чтоб скрыть свое волнение и вообще прекратить разговор. Накануне у него кто-то был и, возможно, с инструкцией. И если нам удалось бы выяснить, кто, я думаю, это и была бы та ниточка, при помощи которой можно размотать весь клубок. Надо проследить, кто навещает Конькова. Добросклонцев понимал, что за «делом о кулоне» скрывается нечто более серьезное, чем обычный налет с целью ограбления. На такую мысль наводило его несколько странное поведение Норкина и Бертулина. Он ничего не ответил на предложение Беляева, лишь спросил: — Что ты скажешь о врачах?.. — Разные они, не похожие друг на друга, — не задумываясь, сказал Беляев. — А ты что имеешь в виду? — Они могут помочь следствию? — спросил Добросклонцев, хотя думал о другом: не соучастники ли они. И добавил: — Или наоборот? Беляев не ответил: он не исключал, что Коньков симулирует и врачи вольно или невольно — это еще надо выяснить — поддерживают его. Но выяснение этого потребует больших усилий. А сотрудники и так перегружены, работают с напряжением, часто без выходных. — За Коньковым надо установить наблюдение, — продолжал Добросклонцев. — Нужно во что бы то ни стало выяснить, кто его навещал. Понимаешь? Это та ниточка, уцепившись за которую мы можем размотать весь клубок. Беляев понимал, что как бы не было трудно, а кулоном придется заниматься не только Главному управлению, но и ему, то есть сотрудникам Дядинского отдела милиции, на территории которого совершено преступление, да и основная ниточка к его раскрытию находится здесь, в Дядине. — Что молчишь, Станислав Петрович! Думаешь, я не понимаю, что придется попотеть? Всем нам, и тебе в том числе. Когда Коньков выйдет из больницы, ты мне сразу дашь знать. Я подъеду и сам им займусь или подключу Антонину Миронову. Но это потом. А сейчас — дело за тобой. — И неожиданно предложил; — А не пойти ли нам пообедать? — Можно, — кивнул Станислав Петрович.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Антонина Миронова возвращалась в Москву под вечер, и, хотя до конца рабочего дня оставалось каких-нибудь час-два, она прямо с вокзала поехала на улицу Белинского, зная, что Добросклонцев ждет ее. С ним она разговаривала по телефону перед отъездом из Дядина, и Юрий Иванович понял, что ничего обнадеживающего она не везет. Прошел уже месяц, а дело с кулоном так и не продвинулось ни на шаг. В Дядине Тоня допрашивала вышедшего из больницы Конькова. С согласия Добросклонцева взяла с собой свою подругу врача-психиатра Раису Ивановну. Добросклонцева продолжал мучить вопрос: в самом деле Коньков страдает психическим отклонением или ловко симулирует? Ответ имел для следствия если не первостепенное, то весьма и весьма важное значение. Раиса Ивановна в данном случае никаких официальных полномочий не имела. Она присутствовала на допросе, наблюдала и слушала молча, не произнеся ни единого слова. Для Юрия Ивановича было важно мнение специалиста. Он не исключал необходимости психиатрической экспертизы, но для этого надо было иметь какие-то веские основания. Кроме того, посылая Миронову произвести допрос Конькова, Добросклонцев рассчитывал на ее опыт, на умение расположить к себе подследственного, войти к нему в доверие. На этот раз расчет Юрия Ивановича не оправдался: Антонина Миронова не смогла выудить из Конькова ни одной сколько-нибудь существенной детали, которая помогла бы дальнейшему следствию. Дав подписку о невыезде, Коньков, как и на беседе с Добросклонцевым и Беляевым, упрямо повторял свою версию и не очень искусно «заговаривался», демонстрируя умственные «завихрения». Юрий Иванович посмотрел на часы: сегодня он хотел прийти домой пораньше, собирались всей семьей сходить в кино на новый французский фильм. Тоня вошла в кабинет без стука, румяная, возбужденная, и с порога пояснила: — Очень спешила, боялась, что не застану. А на дворе — теплынь. Настоящая весна. Она села на один из четырех стульев, прижавшихся к стенке напротив письменного стола, расстегнула блестящие крючки-застежки элегантного плаща и поправила прическу. — Рассказывай, — негромко попросил Юрий Иванович. — Рассказывать, собственно, нечего. Как я тебе уже говорила по телефону, никаких сенсаций. Как улитка закрылся в ракушке. Осторожничает, а стоит только наступить ему на хвост, как тут же разыгрывает из себя придурка, на что имеет официальный документ. Ну а насколько эта бумажка справедлива, мы не знаем, и проверять ее на данном этапе, по-моему, нецелесообразно. Слушая ее, Добросклонцев молча кивал головой и, когда Тоня сделала паузу, спросил: — А что думает Раиса Ивановна? — Рая считает, что Коньков больше симулянт, чем придурок. — Получается — и симулянт, и шизик?.. — Симулянт стопроцентный, а что касается шизика, то, по мнению Раи, это у него может быть в легкой форме. Как принято говорить в таких случаях: иногда на него находит. — Ну хорошо, допустим. А если потребовать экспертизу? Если будет установлено, что Коньков обыкновенный симулянт, а лечащие его врачи по доброте своей или по профессиональной некомпетентности, или в корыстных целях ошибались, то мы с тобой с полной уверенностью можем считать, что гражданин Коньков равноправный соучастник шайки налетчиков и версия его обыкновенный блеф. — В этом я не сомневаюсь, — уверенно подтвердила Тоня. — Но требовать экспертизы сейчас преждевременно. Коньков должен выйти на связь. Надо дать ему время. Успокоится, обвыкнется. — Конькова держать на прицеле… Логично, — вслух рассуждал Добросклонцев. — И только? — А что еще придумать? — Тоня пожала плечами. — Мне не дает покоя твой старый знакомый — Ипполит Исаевич. Хотелось бы с ним встретиться еще раз. Просто невзначай зайти на чашку чая и уточнить некоторые детали, любезно попросить помочь следствию. — Попробуй. В успех я не верю. Во-первых, он тебе не откроет или ничего нового не скажет. Пришелец — матерый волк, у него особое чутье: за километр чувствует капканы. — И в конце концов, обойдя все капканы, проваливается в западню. Ладно, посмотрим. У меня есть план, точнее, некоторые соображения. — На всякий случай предупреди меня, когда пойдешь к Пришельцу. — Непременно. Более того: позвоню тебе от него.2
Пришелец подробно знал о содержании беседы Добросклонцева и Беляева с Коньковым и был вполне удовлетворен поведением своего исполнителя. Пока что события развивались по сценарию, сочиненному Ипполитом Исаевичем, и опасности для себя он не ждал, хотя всегда был готов к неожиданностям. Провал операции «Кулон» вызвал в нем ярость — он возненавидел Норкина, который так ловко провел его. Но эта ненависть и порождала в нем азарт игрока. Пришелец готовил новую операцию «Кулон» и как артист упивался своим замыслом, который считал красивым и дерзким. После провала первой операции Пришелец поступил на службу. В одном из подмосковных городов начались работы по реставрации древнего храма, и, узнав, что там будут работать золотых дел мастера, Ипполит Исаевич, используя своих влиятельных знакомых, в которых он никогда не испытывал недостатка, устроился на ни к чему не обязывающую и в сущности безответственную должность консультанта: он слыл знатоком древнерусской иконописи. Но золото золотом, а брильянт брильянтом, и откладывать вторую операцию «Кулон» не было смысла, тем более, что план был, как считал Пришелец, гениальным в своей простоте. В свой замысел Ипполит Исаевич посвятил Павлова, поскольку ему отводилась главная роль. Пришелец любил баню, и не сауну, которую он называл мини-Сахарой, а русскую баню с березовым и дубовым вениками. И не Сандуны, не Центральные бани, у него была своя, районная, в которой к услугам такого солидного клиента всегда был готов отдельный номер с парилкой, с небольшим бассейном и довольно просторной раздевалкой, рассчитанной на пять персон. Вдоль стен вытянутой в длину комнаты стояли мягкие кресла, посередине прямоугольный стол, за которым могли уместиться не пять, а все десять человек; на отдельном столике — электрический самовар. На полу — ковровая дорожка. И, конечно же, вешалки и весы. Обслуживали номера два банщика — Гриша Хоменко и Леша Соколов. Хотя обоим им перевалило за сорок и оба имели институтские дипломы, а Соколов даже степень кандидата технических наук, для Ипполита Исаевича и для Анатоля они были Гришей и Лешей. Они не обижались. Пришельца в глаза величали по имени-отчеству, за глаза — боссом. Они хорошо знали свою службу, создали для клиентов настоящий сервис; имели свою постоянную клиентуру с тугими кошельками и купеческими замашками. И не задаром: ежедневно уносили домой в среднем по четвертному чаевых, что составляло среднемесячный заработок 500 — 600 рублей. Конечно же, приходилось делиться с директором бани, тут ничего не поделаешь, так заведено: что в бане, что в ресторане, да мало ли где еще? Нельзя сказать, чтоб Гриша и Леша делали что-то противозаконное, они знали запросы своей клиентуры и старались удовлетворить их с лихвой. Если находились обожатели воблы, снетка или еще какой-нибудь сухой и копченой рыбешки, — а кто ее не любит под свежее пиво, — у Гриши и Леши всегда был припас. Гриша водил дружбу с проводником поезда Москва — Калининград, Леша с проводником Москва — Мурманск. Водили они ну если и не дружбу, то знакомство с администратором магазина «Океан», страстным поклонником березового веника и легкого пара. Словом, рыба была всегда. А уж, как водится, платить за нее приходилось гораздо больше, чем втридорога. Опять-таки это же рынок: не хочешь — не бери, довольствуйся солеными сушками или брикетиком с этикеткой «Сыр к пиву». И венички у Гриши и Леши всегда свеженькие, аккуратненькие, веточка к веточке, хоть дубовые, и даже с можжевельничком и веткой черной смородины. По желанию любителей ароматного духа в парной появлялся терпкий запах эвкалипта, черной смородины. Григорий Хоменко когда-то окончил самый престижный вуз — Институт международных отношений и какое-то время работал за рубежом. Там у него случилась неприятность по семейной части: влюбился в машинистку, у той родился ребенок, пришлось расторгать один брак и заключать другой, а заодно и оставить дипломатическую карьеру. Второй брак оказался неудачным, что-то не клеилось в семейной жизни, Хоменко запил и вскоре потерял работу вообще. Кто знает, чем бы все это кончилось, если б Григорий не познакомился, притом совершенно случайно, с директором районной бани. И тот предложил ему не пыльную, но денежную работу. Директор был человек добрый, но чуточку тщеславный. Ему льстило иметь в подчинении дипломата, Хоменко недолго раздумывал: кошелек к тому времени был пуст. И не пожалел. Алексей Соколов пришел в баню позже. Своей новой и такой неожиданной должностью он обязан уже Григорию, с которым познакомился тоже случайно. Однажды в выходной день Хоменко сидел на скамейке на Рождественском бульваре, не обращая ни на что внимания. И не заметил, как рядом с ним на скамейке оказался мужчина таких же лет, как и Хоменко, одетый более чем скромно: далеко не новый плащ «болонья», предохраняющий от дождя, поношенный костюм и давно не чищенные ботинки. Небрежно завязанный темно-вишневый галстук вызывающе торчал из-под плаща. Густые русые волосы дыбились неприбранной копной, видно, хозяин давно не обращал на них внимания. В светлых выцветших глазах наблюдательный Хоменко прочитал горечь и безысходную тоску. Должно быть, в незнакомце Григорий уловил нечто такое, что так или иначе соприкасалось с его теперешними думами и настроением. Григорий Хоменко умел располагать к себе людей, а у Соколова было такое состояние, что он с доверчивой готовностью открывал свою душу любому. Алексей Соколов считал себя типичным неудачником и, вконец отчаявшись, перестал бороться за достойное место в этом сложном, противоречивом мире. Судьба над ним насмехалась, а пожалуй, даже издевалась. Отличник в школе, он преуспевал и в ПТУ редкой специальности — гранильщика алмазов. Руки имел поистине золотые, и после окончания училища два года эти руки заставляли алмаз сверкать искристыми гранями. А потом вдруг бросил работу и поступил в институт цветных металлов и золота. Блестяще защитил диплом. Перед ним открывалось заманчивое будущее. Но будущее порой и безжалостно обманчиво, особенно для талантливых, но доверчивых открытых сердец, талантом и доверчивостью которых ловко пользуются бездари и посредственности, природой наделенные наглостью, цинизмом и жестокостью. С такими людьми столкнулся и Алексей Соколов, начав свою служебную карьеру в должности младшего научного сотрудника НИИ. Начальство быстро оценило его талант искателя и, щедро потчуя молодого специалиста радужными обещаниями, без зазрения совести пользовалось его услугами. Соколов медленно работал над своей кандидатской диссертацией: не хватало времени, потому что попутно помогал писать докторскую директору института. Потом, когда директор стал доктором, а Соколов, наконец, кандидатом и старшим научным сотрудником, на него обратил внимание его непосредственный начальник, заведующий лабораторией. Обласкал, хвалил, прочил будущее и свою помощь, намекая при этом, что отнюдь не бескорыстную. И Соколов принялся за работу над докторской диссертацией для заведующего лабораторией. Для своих дел времени почти не оставалось. Понимал ли Соколов, что дельцы его эксплуатируют? Безусловно, понимал. Но терпел, потому что директор института и заведующий лабораторией давали ему понять, что без их помощи и содействия он ничего особенного для института и науки не представляет. Алексей взбунтовался, с большим запозданием проявил характер. Началась война между ним и начальством. Силы сторон были не равны, и старший научный сотрудник потерпел сокрушительное поражение. Оставаться в институте он не мог и был изгнан «по собственному желанию». Григорий Хоменко с сочувствием выслушал рассказ Алексея Соколова. — От же, собаки, что вытворяют, — повторял он. — И нет же на них никакой управы. И ты, выходит, без работы? — Да дело не в работе. Работу я найду. На худой конец могу и не по специальности. Обидно другое: что такое возможно в наше время. Вот от чего больно. — Как не обидно! Еще бы. Только что им от нашей обиды. А работать, оно, конечно, это ты верно говоришь: можно и не по специальности. Иной раз оно так еще и лучше. Вот взять меня: лучший в стране институт кончал — МГИМО. Слыхал такой? За границей работал в советском торгпредстве, дипломатический паспорт — и все такое прочее. Контракты заключал с иностранными фирмами, с капиталистами, миллионами ворочал, короче говоря — торговал. Но недолго проработал, два года с небольшим. Пришлось уйти. Обстоятельства так сложились, — признался Хоменко в порыве сочувствия. — И не жалею. Нашел работу не по своей специальности и доволен. Я тебе скажу, ни один посол не имеет такого заработка, какой у меня. В жизни никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, жизнь, она — потемки. Вот был бы ты в своем институте доктором, заведовал бы лабораторией. Сколько бы получал? Рублей пятьсот, а то и меньше? — Примерно, — ответил Соколов, присматриваясь к человеку, который зарабатывает больше посла. — А у меня иной месяц и шестьсот получается, — похвалился разоткровенничавшийся Хоменко. Соколов отметил про себя, что бывший дипломат одет с иголочки. Во всем его облике — в жестах, в голосе — была уверенность в прочности своего положения, а в покровительственном тоне проскальзывали снисходительные нотки. — Выпиваешь? — неожиданно спросил Хоменко. — Не на что. — А кабы было? — Не знаю. В принципе я не любитель. — А я пил. Вот когда пришлось уйти из Внешторга, запил. Да так, что думал — все, крышка тебе, Григорий Тарасович. А как на работу устроился — враз завязал. И ничем ты меня не соблазнишь. Слово себе дал железное. Бывает, но по праздникам или по особому случаю. Да и то в меру. — Он вдруг положил свою руку на плечо Соколова и без всякого перехода предложил: — Послушай, добрая душа, нравишься ты мне. Хочешь работать у нас в такой же должности, что и я? Плюнь на свои диссертации. Будешь сыт, одет, обут — и в доме достаток. А?.. — Я не знаю, что за работа и справлюсь ли, — насторожился Соколов. — Справишься. Работа не тяжелая, только делать ее надо с душой, со старанием, я бы сказал, со страстью. Как тебя зовут? — Алексей. — Так вот, Алексей, ты не пугайся и не смущайся, когда я назову тебе наше учреждение и свою должность. «Должно быть, официант в ресторане», — почему-то подумал Соколов, но когда Хоменко объяснил, он растерялся и не мог скрыть своего смущения. Хоменко хорошо его понимал, сказал дружески: — Ты сейчас не говори мне ни «да», ни «нет». Договоримся так: приходи завтра в баню, в номера. В двенадцать часов сможешь? Посмотришь, прикинешь. Потолкуем на месте, и тогда решишь. Идет? Так Алексей Соколов поступил на новую работу. В бане Хоменко познакомил его с постоянным клиентом, начальником какого-то главка, Ипполитом Исаевичем и его помощником Анатолем. — Птица, видать, важная, денег не жалеет. По-моему, занимает крупный пост в оборонной промышленности, — предположил Хоменко и добавил: — А может, и торгаш. Нас это не касается, кто он, мы анкеты не заполняем. Делай свое дело и помалкивай. Пришелец появлялся в бане чаще всего с Анатолем, иногда с компанией, редко — один. Обычно накануне в баню звонил Анатоль и заказывал номер на такой-то час. Позвонил и теперь. Было это в конце апреля, когда на московских бульварах появились первые листочки. Пришелец приехал в назначенный час, минута в минуту. Как все деловые люди, он отличался пунктуальностью. Приехал один и на немой вопрос Соколова лениво буркнул: — Анатоль заедет за мной позже. Необычная судьба Соколова, о которой Пришелец узнал от Павлова, заинтересовала Ипполита Исаевича. «Этот может пригодиться», — отметил он для себя. Вообще, Пришелец смотрел на людей с сугубо практичной утилитарной точки зрения: что можно от этого человека получить, где его использовать. Таким образом людей он делил на нужных и ненужных. Среди нужных были ответственные работники министерств и ведомств, ученые, директора предприятий, магазинов и ресторанов, уголовники, увенчанные лауреатскими медалями и Золотыми Звездами писатели, кинематографисты. Круг знакомств Ипполита Исаевича был необозрим, как просторы сибирской тайги, и разнообразен, как меню ресторана «Славянский базар». И совсем не случайно Пришелец решил поговорить с Соколовым один на один. К его приходу все было готово. В раздевалке, которую можно было назвать и предбанником и салоном, все сияло свежестью, чистотой и располагало к неге. На столе красовались свежие помидоры и огурцы, лоснящийся жирными боками ростовский рыбец. Водка, коньяк, пиво и вино хранились в холодильнике и по первому требованию Ипполита Исаевича могли дополнить натюрморт. В небольшой мыльной на мраморном лежаке в шайке, наполненной водой, томились два веника: березовый и дубовый. Зеленоватая вода в бассейне пахла хвоей. В парилке витал сухой дух, термометр показывал семьдесят градусов: более высокой температуры Пришелец не признавал, берег сердце. Главное, считал он, не температура пара, а фитонциды березового и дубового листа. На верхней полке у изголовья стояла шайка с холодной водой. Все шло однажды установившимся чередом: пройдя в мыльную, где в ожидании стоял Соколов, Ипполит Исаевич толкнул дверь парной, полез на полок. За ним с двумя вениками в руках вошел Соколов и, остановившись внизу на ступеньках лестницы, заботливо спросил: — Как самочувствие, Ипполит Исаевич? — В здоровом теле — здоровый дух, — ответил Пришелец не без гордости. Да и грешно ему было жаловаться на тело. В свои сорок три года он выглядел если не спортсменом, то по крайней мере спортивным тренером, сохранившим былую форму. Пришелец опустил лицо в шайку с холодной водой, довольно фырча, брызнул на грудь, лег на живот и подал команду: — Начнем, Алеша, (не «Алексей — божий человек», как обычно, а «Алеша».) Соколову понравилось такое обращение. Он поднялся наверх и одновременно двумя вениками начал колдовать над распаренным телом клиента. Сначала потряхивал, помахивал, обдавая паром, но, не касаясь тела листом, все сильнее и все ближе, ближе, и вот, наконец, оба веника мягко, осторожно, словно пробуя, коснулись плеч, спины, поясницы и, подпрыгивая, прошлись по вытянутым ногам. Это была проба, своего рода разведка, потому и спросил Алексей заботливо: — Терпимо, Ипполит Исаевич? — Благодать, Алеша, давай, работай. У тебя прирожденный талант. Народный, самобытный, — кряхтя, приговаривал Пришелец. Он поворачивался, ложился на спину, подставляя грудь и живот, потом вошел в бассейн. После бассейна снова в парную, на полок, под веники. И так несколько раз. Потом в мыльной улегся на мраморную плиту, и Соколов, вооружившись мочалкой, окутал его густым облаком мыльной пены, приговаривая: — Теперь можете говорить, Ипполит Исаевич: «Чист как стеклышко». Все грехи смыли. — А ты думаешь, за мной водятся грехи? — В голосе Пришельца Соколов уловил нотки недовольства. — Водились, Ипполит Исаевич, а теперь нет, смыли. А кто из нас безгрешен? Я таких не встречал. Как не существует в натуральной природе дистиллированной воды, так и безгрешных людей, исключая младенцев, нет. Да и жить, наверное, скучно было б с праведниками. — Разумная твоя философия, Алексей, — похвалил Пришелец, как всегда вяло, с пренебрежительной ленцой в голосе. Это была его манера: говорит — словно делает одолжение. — Грех — понятие теоретическое и сугубо субъективное. Что одному кажется грехом, то другому оборачивается благом. Даже Маркс говорил о себе: ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал основоположник. Запомни! Из прочитанного Пришелец помнил только это высказывание Карла Маркса, понимая его по-своему. После всех положенных процедур Ипполит Исаевич, завернутый в простыню, нежился в мягком кресле, приказав Соколову подать коньяк и две рюмки, а также стаканы для минеральной. Он впервые пригласил банщика сесть за стол. Такой неожиданный жест удивил и даже смутил Алексея. — Благодарю, Ипполит Исаевич, но мне никак нельзя: я ведь на работе, а у нас строго запрещено. — Глупость, Алеша. Одному мне никак не с руки. Я не алкаш. Ты когда-нибудь выпивал в одиночку? Нет? Тогда запомни — в одиночку пьют только алкаши. «В самом деле, пить одному — последнее дело», — подумал Соколов и сдался, отпив всего несколько глотков, чтобы не обидеть доброго человека, поддержать компанию. Звучно хрустя свежим огурцом, Пришелец поинтересовался в порядке консультации, знает ли кандидат технических наук, что такое жидкое золото. — Дело в том, — сразу же пояснил Ипполит Исаевич, — что одному моему приятелю подарили флакон жидкого золота, и он не знает, что с ним делать. — Позолотить что-нибудь, скажем, раму картины или фарфоровую вазу, — ответил Соколов и в свою очередь поинтересовался: — А какой процент золота, не знаете? — Кажется, двадцать пять. А что, оно разное бывает? — Бывает и двенадцать, и десять. Смотря для какой цели. — Так что ж, выходит: чем выше процент, тем лучше блестит? — Как раз наоборот. Если блеск матовый, значит, высокий процент. А если ярко сверкает как на фарфоровых чашках — значит жиденькое, десятипроцентное. — Интересно. А можно его разбавить? Из двадцатипятипроцентного сделать десяти? — Запросто. — И в твердое превратить можно? — Проще простого: вылейте в сковородку, добавьте туда бензина и поджаривайте при высокой температуре паяльной лампой, скажем. Раствор испарится, и останется чистое золото. — Только и всего? — преувеличенно удивился Пришелец и выпил вторую рюмку. — А то как же. Из литра жидкого золота можно получить грамм двести твердого. Пришелец в глубине души торжествовал. Все оказалось проще простого. Из десяти флаконов двадцатипятипроцентного пять флаконов можно превратить в двенадцатипроцентное и пустить в дело, а пять флаконов превратить в твердое золото и прикарманить. Анатолий Павлов появился в условленное время: минута в минуту — к этому его приучил пунктуальный хозяин. Соколов в тот же миг удалился к себе. Наскоро отстегав себя веником и окунувшись в бассейне, Анатоль предстал перед Пришельцем, готовый выполнить любое поручение. Он легко угадывал настроение своего хозяина и сразу понял, что тот в хорошем расположении духа. — Можешь сегодня себе позволить, — Ипполит Исаевич кивнул на бутылку. «Будет о чем-то просить», — отметил про себя Анатоль и налил себе коньяку. Каждая просьба или поручение Пришельца для Павлова означала приказ, ослушаться которого он не мог, по опыту зная, что шеф все равно настоит на своем. И каждая просьба требовала немалых усилий, иногда связанных с риском. Анатоль привык рисковать, но не безрассудно. Он только внешне казался этаким сорвиголовой. На самом же деле его изворотливый ум любое действие, прежде чем его совершить, подвергал точному расчету, при котором всегда имелись в виду возможности последствия. Небрежно чокнувшись с Павловым и отпив несколько глотков, Пришелец, нежась, лениво развалился в кресле: — Я вот о чем думаю: пора тебе иметь прочную базу — квартиру, дачу, машину. — Думы и грезы, Ипполит Исаевич, — заметил Анатоль. — Грезы потому, что много сложностей. И главная — у тебя нет постоянной московской прописки. А посему кооперативный вариант отпадает. — Пришелец сделал паузу. — В такой ситуации есть единственный вариант — женитьба. — Он не сводил взгляда с Анатоля, точно ожидал, какое впечатление на того произведут его слова. — На квартире? — Как-то беспечно выпалил Павлов, и в его вопросе прозвучала веселая ирония, которую Пришелец решил поддержать. — Со всеми удобствами, с дачей впридачу, но главное с солидным капиталом. — А жена? Она тоже впридачу? — Павлов уже уловил, куда клонит его шеф. — Вдова покойного академика или генерала? — Кретин! — недовольно проворчал Пришелец. — Девушка, дочь состоятельных родителей. Единственная дочь, следовательно, наследница. Четырехкомнатная квартира, дача в Абрамцеве, «Волга» — последняя модель, золотишко и прочие камешки, не считая сберкнижек на предъявителя. Понял, дубина? Теперь прикинь, взвесь, подсчитай. Четвертая часть всего принадлежит тебе. — Так, четвертая часть. Подсчитаем, прикинем, взвесим, — шутливо продолжал Анатоль. — Одна комната, одно колесо от «Волги»… — Прекрати ерничать! — Тяжелый хмурый взгляд Пришельца остановился на лице Павлова. — Пора стать серьезным. С женой ты можешь не жить, для этого есть институт любовниц. В конце концов разведешься. Твоя доля имущества достанется тебе. А не хочешь — черт с тобой. Ты всегда был неблагодарной скотиной. О тебе забочусь. Мне, что ли, нужна квартира?
Пришелец насупился, давая понять, что разговор окончен и он не только огорчен, но и возмущен поведением Павлова — этого легкомысленного щенка. Налил себе рюмку коньяка и одним махом опрокинул ее в рот. Запил боржоми и, достав двадцатипятирублевую купюру, небрежно бросил на стол, — это для Соколова. Павлов смутился, заискивающе глядя на шефа, сказал: — Извините, Ипполит Исаевич, я думал, что шутите, разыгрываете меня. А если всерьез, тогда другое дело. Кто она, невеста и будущая жена? — Так бы с самого начала, — оживился Пришелец. — А то выпендривается… Главное, что она в тебя влюблена как кошка. Она тебе заменит и жену и любовницу, это дьявол в юбке, огонь и пламень, всемирный пожар, если хочешь знать. — Но хотя бы имя моей избранницы? — Есть отличный сорт винограда. Из него делают прекрасное вино. Имя этого винограда носит твоя будущая жена, — благодушно сообщил Ипполит. — Неужто Изабелла Норкина?! — Павлов насторожился, соображая: «Решил отделаться. Надоела или ребенка ждет?» Последнее его не устраивало. — Ты угадал, Анатоль, она. — А как же вы, Ипполит Исаевич? — Мне она дала отставку, я для нее бесперспективен. Семьей обзаводиться не собираюсь, и она это знает. Павлов уже понял замысел шефа. Конечно же, не о его семейном благополучии заботится Пришелец. У него есть свой интерес, своя цель. Кулон! Как маленькую награду за свои хлопоты и участие, он потребует от Анатоля именно эту «безделушку», «камешек». Да, хитер Ипполит Исаевич и к тому же упрям. Уж если что надумал — не отступит. Хотя чем он рискует? Ничем. Все делает чужими руками. Ну что ж… — Надо подумать, Ипполит Исаевич. — Думай, думай только головой. Изабелла, конечно, не красавица. А когда у тебя будет своя хата и еще кое-что в кармане, тогда и красавицы найдутся. По вкусу. Сам будешь выбирать. А пока — тебя выбрали. «Вот именно — выбрали. Ты выбрал», — с горечью подумал Павлов. Он понимал, что от задуманной Пришельцем женитьбы ему не отвертеться. Павлов знал силу и возможности своего шефа, на себе их испытал. Два года тому назад Анатоль влип в грязную историю, из которой путь для него лежал прямо в тюрьму. Никаких надежд на спасение не было. И вдруг, как по мановению волшебной палочки следователь выносит постановление освободить за отсутствием улик. Ипполит Исаевич в то время активно промышлял возле вузов, проталкивая бестолковых абитуриентов в студенты, за которых Павлов сдавал экзамены. До суда дело не дошло и огласки не получило. Спасая Павлова, Пришелец спасал и себя, хотя Анатолий об этом и не догадывался. Он просто поверил в неограниченные возможности своего шефа, которому служил сначала за совесть, а потом за страх. Однажды он попытался ослушаться. Тогда разъяренный Ипполит процедил сквозь зубы: «Советую тебе раз и навсегда запомнить слова Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью». Павлов запомнил. Про себя он считал, что Пришелец главарь какой-то шайки, коль у него такие связи среди должностных лиц и коль он располагает крупными суммами денег. …Пришелец посмотрел на часы и засобирался. Павлов довез его до дому и простился у подъезда: в квартиру шеф его не пригласил, через полчаса должна была прийти Белла. И она пришла без опозданий в точно назначенный час. Когда сели за стол, он налил гостье вина, себе напитка «Байкал», сказав, что он в бане изрядно подзаправился коньяком и с него на сегодня достаточно. А заодно, как бы между прочим, поинтересовался, как относится девушка к замужеству. Выпив вино и лукаво поглядывая на Пришельца, Белла произнесла своим мягким ласкающим голосом: — О замужестве заговорил, очень-очень любопытно. Сам решил на мне жениться или есть жених на примете? — Есть. Отличная партия. — Ах, вот оно что: ты о моей судьбе печешься! — Да, твоя судьба волнует меня, — резко перебил Ипполит Исаевич. — Совесть, понимаешь, девочка, совесть мучает, кричит во мне: так больше нельзя. С моей стороны было бы подло продолжать наши отношения, обнадеживать тебя. Ты должна знать, что я не могу на тебе жениться. — И не надо, мне и так хорошо! Разве я требую?.. — Ты заблуждаешься, ты ослеплена и не даешь себе отчета. А тебе нужен муж, семья, дети. Ты молода, я старик. — Положим, я-то лучше знаю, какой ты старик. — В глазах Беллы промелькнули лукавые искорки. — А ты вперед смотри, в завтра, каким я буду через пять-семь лет, — не скрывая раздражения, продолжал Пришелец. Руки его не находили места, он начинал терять самообладание — два неприятных разговора — с Павловым, а теперь с Беллой — в один день: не много ли? Вместо «Байкала» он налил себе «Токая» и выпил одним махом. — Скажи прямо: ты не любишь меня? — умоляюще смотрела на него Белла. — Скажу больше: и никогда не любил. И это меня мучает, давит на совесть. Я не могу, не способен вообще любить — ни тебя, никого. Не знаю, почему, возможно, я так устроен, возможно, потому, что я слишком люблю себя. Да, да, я эгоист, отъявленный, неисправимый, стопроцентный эгоист. Я давно должен был об этом тебе сказать, хотел и не мог, не решался, потому что эгоист, о себе думал. А сегодня Анатоль признался, что ты ему нравишься. Я и раньше подозревал, что он неравнодушен к тебе и даже — представь себе банальность — ревновал. Но я не должен стоять между вами. Белла внимательно слушала его и наблюдала. Ее интересовали не сами слова, а то, как они произносились; не оболочка слов, а их существо, подлинный смысл. Ипполит умолк, театрально обхватил голову ладонями и, глубокомысленно уставившись в стол, после долгой паузы заговорил полушепотом: — Да, виноват… подло, но что делать… глядеть правде в глаза, трезво… думать о будущем. У тебя все впереди — жизнь, счастье, любовь. Все кончено… Она прервала бессвязное бормотанье, взяла его руку и поднесла к своей щеке, к губам. — Не надо, дорогой, все будет так, как ты хочешь. Я выйду замуж. Неважно, кто будет мой муж — Анатоль или кто-то другой. Но ты позволишь мне хотя бы изредка видеться с тобой? Позволишь? Умоляющий взгляд ее был кроток и жалок, преданные глаза блестели от слез. — Если это будет Анатоль — он нам все позволит, Я буду другом дома, — прошептал Ипполит Исаевич и поцеловал ее. — Только родители твои не должны мать, что я знаком с, Павловым. Имей это в виду. Так будет лучше для нас обоих.
3
Деньги к деньгам, удача к удаче — так говорят, в народе. Пришельцу сопутствовали удачи, все шло по его расчетам и задумкам: с женитьбой Павлова дело решилось без осложнений. Жених и невеста съездили на дачу в Абрамцево, вдвоем провели там субботу и возвратились в Москву в воскресенье вечером. Свою загородную прогулку они в шутку назвали помолвкой, и оба были довольны. Когда по телефону Ипполит Исаевич спросил Павлова, как прошла дачная прогулка, тот ответил одним словом: — О'кэй! Значит, все в порядке, полдела сделано. Остался доволен Пришелец и встречей с бригадиром золотых дел мастеров. Встреча эта состоялась на квартире Ипполита Исаевича, обставил он ее должным образом, показав гостю размах и широту, с каким живет консультант по русской древности, а заодно рассказал, как из двадцатипятипроцентного жидкого золота можно делать десятипроцентное и как образовавшиеся излишки жидкого золота превращать в твердое. Они быстро поняли друг друга, что называется, нашли общий язык. Гость остался доволен встречей, радостный хозяин проводил его до самого лифта. И тут произошло событие, испортившее Пришельцу настроение. Более того, будучи человеком немного суеверным, он усмотрел в этом событии дурной признак, недоброе предзнаменование. А случилось вот что: подойдя к лифту, Ипполит Исаевич нажал кнопку, ожидая прихода кабины на его этаж. Через минуту кабина остановилась перед прощающимися Пришельцем и его гостем и из нее вышел… Добросклонцев. Вышел и сказал несколько стушевавшемуся искусствоведу с дружеской улыбкой: — Здравствуйте, Ипполит Исаевич. Как хорошо, что я вас застал. Шел мимо и думаю, дай загляну, авось дома. И вот… мне повезло. По смущенному лицу Пришельца Юрий Иванович понял, что застигнутый врасплох Ипполит Исаевич не рад незваному гостю, хотя и ответил, преодолевая неловкость: — Проходите, пожалуйста. — И уже в прихожей спросил сухо, официально: — Чем обязан? — Вы меня простите, я не надолго. Просто нужно выяснить некоторые мелкие детали, но мне не хотелось вас беспокоить приглашением на улицу Белинского. Пришелец провел Добросклонцева не в гостиную, где еще не был убран стол после встречи с бригадиром золотых дел мастеров, а в кабинет. Внезапный приход подполковника насторожил его: тут можно ожидать подвоха. Прежде всего Ипполит Исаевич вспомнил, что он слегка под хмельком, поэтому приказал себе быть немногословным н осмотрительным. Сели в мягкие кресла у круглого журнального столика. Гость, сложив обе руки на столе, доверительно посматривая на Пришельца, заговорил мягко, почти смущенно: — Ипполит Исаевич, мы, то есть милиция, нуждаемся в вашей помощи, и поэтому буду с вами откровенен: дело с кулоном продвигается плохо, а вернее, совсем не продвинулось. Нам не удалось напасть на след налетчика. Мы задержали одного из участников, Конькова, того, что был в штатском, вы его помните, но он скорее невольная жертва, человек случайный и попал в эту историю по причине своего психического недуга. Помощь его следствию в сущности равна нулю. Вы вправе меня спросить: почему обратились именно к вам? Отвечу: вы человек проницательный, наблюдательный, у вас острый глаз. — Имеется в виду мое прошлое — судимость и так далее? — уточнил Пришелец и горько усмехнулся. — Грехи молодости, маленькое пятнышко в биографии, которое легло на меня, как позорная татуировка, которую невозможно вытравить. — Совсем нет, Ипполит Исаевич, я не об этом, — мягко возразил Добросклонцев. — Вы специалист по искусству, а эта профессия, как я понимаю, требует особого глаза, проницательности, глубокого анализа. Ведь вы, исследователи, проникаете в сущность вещей, видите то, что обыкновенному человеку, не специалисту, не видно. «Складно поешь, отрепетированно, — недоверчиво думал Пришелец, слушая Добросклонцева. — А вот зачем ты пришел на самом деле, с какой целью — этого не скажешь. Этот ребус надо разгадать. Что ж, поединок? Давай поединок!» — В чем конкретно должна выражаться моя помощь? — напрямую спросил он. — Вы видели тот злополучный кулон, — продолжал Добросклонцев по-прежнему доверительно и спокойно. — Скажите, пожалуйста, что он из себя представляет, и вообще, натуральный это бриллиант или, может быть, искусственный, которые сейчас получают в лабораториях? — Вы имеете в виду фианиты? — Пришелец, подперев подбородок рукой, задумался. После некоторой паузы заговорил, не глядя на Добросклонцева, не спеша, взвешивая каждоеслово: — Дело в том, что я не специалист по алмазам и не смог бы отличить настоящий бриллиант от фианита или тем более от белого сапфира, который гранят бриллиантовой гранью и затем выдают за натуральный бриллиант. Проба напильником ничего не дает. Напильник его не берет. Есть какие-то другие способы определить. Надо быть специалистом. Именно поэтому я и решил проконсультироваться у Бертулина. Арсений Львович мой старый знакомый, опытный ювелир. Ему я верю. — Вы хотели купить кулон? Вопрос Добросклонцева неприятно задел Пришельца. «Кончилась присказка, а теперь, похоже, начинается сказка, — подумал он. — Спокойно, Ипполит, гляди в оба!» Ответил уклончиво: — Такая мысль была, если бы сошлись в цене, — и вдруг предложил: — Хотите кофе? Я быстро сделаю. Не дав Добросклонцеву ответить, он поспешно удалился на кухню и вернулся через некоторое время с серебряным подносом, на котором стояли две голубые кофейные чашечки из тончайшего, прозрачного китайского фарфора, такая же сахарница, банка растворимого кофе, две коньячные хрустальные рюмочки, несколько брикетиков печенья, бутылка отборного молдавского коньяку и хрустальный графинчик с водкой. — Кофе и сахар по вкусу. Я лично предпочитаю густой и без сахара, но с водкой. Чайная ложка водки в кофе усиливает и обостряет аромат. — И когда Добросклонцев взял свою чашку, высыпал в нее ложечку кофе, Пришелец предложил: — По рюмке коньяку? — Благодарю, но мне еще на работу нужно. — Тридцать граммов работе не помешают. Юрий Иванович махнул рукой, улыбнулся дружески: — Ну да ладно — за знакомство грешно отказываться. Только разрешите, я позвоню в управление. Пришелец кивнул, и Добросклонцев набрал телефон Мироновой. Не называя ее, он сразу спросил: — Как там у нас дела? Меня никто не спрашивал?.. Да я неважно себя почувствовал. Что-то с желудком. Да, да, иду в поликлинику. Я позвоню, из дому позвоню. Тоня поняла, что Добросклонцев находится у Пришельца. А тем временем Ипполит Исаевич налил в рюмки коньяк: — Ваше здоровье, Юрий Иванович. За вашу третью звезду. — Да уж где там, Ипполит Исаевич, нам звезды не часто светят. Приходится думать не о третьей, а как бы эти сохранить. Если не найдем кулон, можем потерять звезду, — перейдя на шутливый тон, заговорил Добросклонцев и уже всерьез закончил: — Я пью за вашу помощь. — Я все-таки не совсем представляю, чем могу быть вам полезен, — сказал Пришелец, поставив на стол пустую рюмку и отхлебнув кофе. Добросклонцев подумал: «Разговор о покупке кулона ему не понравился. А мы возобновим». — Да, мы немного отвлеклись. Какая по-вашему цена этому кулону? — На такие вещи, как вы знаете, цены бывают разные, с невероятной вилкой. Государственная цена одна, на черном рынке другая. — Дороже или дешевле? На черном рынке? — Как кто сумеет сторговаться. Чаще дороже. Но бывает и дешевле. Например, ворованная вещь. — Значит, похитители кулона могут продать его подешевле. Ну а за какую цену вам предлагал Норкин? — О цене речь не шла, надо было проконсультироваться у специалиста. Подлинную цену мог определить Арсений Львович. — Норкин говорит, что цена кулону семьдесят тысяч. — Запрашивать он мог и дороже, а кто ему даст? — Да, найти покупателя на такую вещь, как я понимаю, не так-то просто. И потом — зачем он, этот кулон? Практически вещь бесполезная. Надеть на шею семьдесят тысяч, целое состояние — это же безумство! — Таких безумцев нет, чтоб носить на шее, зато капитал надежный от всяких инфляции. Деньги падают в цене, а камешки и презренный металл год от года дорожают. Он снова наполнил рюмки коньяком. Добросклонцева подмывало спросить: смог бы он, Пришелец, купить кулон, выложить семьдесят или пятьдесят тысяч? Но он сообразил, что вопрос этот только насторожит и испортит дело. Коль торговал, значит, и купить мог. И все-таки было любопытно, что ответил бы Пришелец. — Ипполит Исаевич, нас, следствие, волнует вопрос, ответ на который мог бы стать ключом для раскрытия преступления. Собственно, это главная; цель нашей сегодняшней встречи. Вы видели в лицо всех троих налетчиков, были главным свидетелем. Как вы считаете: грабители шли именно за кулоном, то есть заранее знали, что вы придете с Норкиным, или это было случайное совпадение, если они просто хотели ограбить ювелира?.. Сложный вопрос задал Добросклонцев, неожиданный, с подвохом. Ипполит Исаевич соображал и взвешивал, глядя мимо Добросклонцева, и понимал, что любой определенный ответ не выгоден для него. Он вообще предпочитал в официальных разговорах неопределенную форму и ответил уклончиво: — Представьте себе, Юрий Иванович, этот же вопрос возникал и у меня, и я не могу дать на него твердого ответа. О том, что те двое в милицейской форме уголовники, я понял сразу, — грубость в обращении, совершенно нехарактерная для работников милиции, да и соответствующие физиономии: что-то хищное, звериное в глазах, в жестах, во всем облике. Этого не скроешь никакой униформой. Ваш вопрос мне понятен: одно дело, если преступники заранее знали, что здесь живет ювелир, и шли, чтобы ограбить его, и совсем другой сюжет, если они шли конкретно за бриллиантом. В таком разе они знали время нашего прихода к Арсению Львовичу. Возникает логический вопрос: от кого? Кто дал им информацию? Сами Норкины — их трое: муж, жена и дочь: или Арсений Львович и я — ваш покорный слуга. Получается, что кто-то из нас. Теперь посмотрим персонально. Норкины могли дать такую информацию только через третье лицо — кому-нибудь проговорились. Процент вероятности незначительный. Следующий — Бертулин. Но ведь у него тоже кое-что взяли. Стоило ли шило на мыло менять?! Потом, насколько я знаю Арсения Львовича, он не способен на подобную авантюру, он человек глубоко порядочный. Да и смысла нет ему лезть в уголовную историю на закате жизни. Человек он обеспеченный, на его век хватит и того, что имеет. Как видите, процент вероятности равен почти нулю. — Но все же полпроцента вы допускаете? — вставил Добросклонцев, внимательно следя за Пришельцем. — Теоретически. В таких случаях нельзя исключать даже самое невероятное, — ответил Ипполит Исаевич и сделал небольшую, но мучительную паузу. — И, наконец, Пришелец. Тут процент вероятности самый большой. Во-первых, я в некоем роде антиквар, коллекционер; во-вторых, как я уже говорил вам, с татуировкой прошлого. В-третьих, в отличие от Норкина и Бертулина я в этой операции ничего не теряю, а только выигрываю. Допустим, я даю грабителям по две-три тысячи наличными, а они взамен этот камешек, безделушку, цена которой, если это натуральный бриллиант, а не белый сапфир, пятьдесят тысяч. Есть смысл? Несомненно. Правда, в таком случае грабители должны быть законченными болванами, и поручить им такую операцию мог только неопытный чурбан. Что из себя представляют налетчики, я не знаю. С одним из них вам приходилось беседовать. Ипполит Исаевич замолчал, взял бутылку коньяка, но Добросклонцев прикрыл свою рюмку ладонью: — Пожалуй, с меня достаточно. — Дело хозяйское, — негромко сказал Пришелец и, поставив бутылку на место, продолжал: — Итак, мы разобрали один сюжет. Что же касается второго, то, по-моему, там все ясно. — И какому же сюжету вы отдаете предпочтение? — Из логики моих рассуждений, если вы не считаете меня болваном, — полные губы Ипполита Исаевича изобразили улыбку, — можно сделать вывод, что предпочтение я отдаю второму варианту, хотя не исключаю и первый. — Ну что ж, я думаю, из вас получился бы хороший следователь. — Так думает и мой друг Зубров Михаил Михайлович, — ввернул Пришелец. — Он работает помощником министра. — Какого именно министерства, Пришелец предусмотрительно умолчал: мол, думай, что хочешь — министерство легкой промышленности, или министерство юстиции, или министерство соцобеспечения. Да мало ли у нас министерств. — Я понял, — сказал Добросклонцев, и Ипполит Исаевич с досадой спохватился: «Не следовало называть Зуброва. Ах, какая оплошность, какой идиотизм». — Именно поэтому я и обратился к вам с просьбой о содействии. Ведь если, предположим, бриллиант попал в руки, как вы выразились, болванов, то можно ожидать появления его на черном рынке. Вы антиквар, и, возможно, до вас дойдут какие-то сведения или даже слухи, сообщите, пожалуйста, нам, если вас это не затруднит. Добросклонцев встал. Поднялся и Пришелец. — Мне пора, — сказал Юрий Иванович. — Простите меня за неожиданное вторжение и за отнятое у вас время. Ипполит Исаевич развел руками, и жест этот говорил: да что там — раз надо, так надо. Он проводил гостя не до лифта, а лишь до двери и пожелал удачи. Расставшись, оба подводили итоги встречи, и, как ни странно, оба пришли к заключению, что встреча была полезной. Добросклонцев, опасаясь, что Пришелец может за ним следить, в управление не пошел, а направился пешком до Пушкинской площади, сел там на третий троллейбус и через час уже был у себя дома. В пути анализировал разговор с Пришельцем. Зачем Ипполит Исаевич, отвечая на его главный вопрос, вслух разбирал два возможных варианта нападения и при этом ставил себя в невыгодное положение? Конечно же, чтобы убедить в своей искренности. Впрочем, в искренность они играли оба, и оба не верили друг другу. Ставя себя в положение возможного наводчика, Пришелец тут же перечеркивал версию: он не такой чурбан, чтобы воспользоваться услугами заурядных уголовников, а в том, что они именно такие, болваны, Пришелец осторожно, без нажима, пытался убедить Добросклонцева. Юрий Иванович отдавал должное собеседнику: он тонко и, главное, уверенно вел партию. Все казалось естественно и логично. Разве что с Зубровым перебор получился, — хвастнуть решил и предупредить, смотрите, мол, какие у меня друзья, а потому и подозревать меня нелепо. Впрочем, кто такой Зубров, надо выяснить. Может, в природе такого не существует, или, нежели и есть такой, может, он о Пришельце никогда и не слыхал. Проверить не трудно. И что ж получается? Слишком упрямо, хотя и не грубо, Ипполит Исаевич отводит от себя подозрение. И чем настойчивей он это делает, тем больше на него падает подозрений. Но подозрения к делу не подошьешь, нужны неопровержимые факты, а их, пока нет.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
После ухода Добросклонцева Ипполит Исаевич почувствовал смертельную усталость, и не столько физическую, сколько духовную. К этой усталости примешивалось чувство настороженности и подозрительности, переходящее в тревогу. Он не верил ни одному слову Добросклонцева и считал, что его сегодняшний визит был не что иное, как своеобразная разведка. Ни в каком содействии Пришельца милиция не нуждалась, да и не могла рассчитывать на его помощь. Ипполит Исаевич допускал, что его подозревают в причастности к ограблению ювелира, но только подозревают: никаких фактов у следствия нет и быть не может. Стоило только так подумать, как в памяти всплывал Коньков. Где гарантия, что он не проболтается, не заговорит и не выведет следствие на Павлова? Анатоль — орешек твердый, на него можно положиться, но лучше бы этого не случилось. Ипполит Исаевич наполнил ванну теплой водой, сыпанул в нее хвойного порошка. Он вспоминал весь свой разговор с Добросклонцевым и мысленно похвалил себя за сдержанность и немногословие. Конечно, с Зубровым получилось нехорошо. Зачем было называть это имя? — упрекнул себя с досадой. Досада эта усиливала тревогу. Ипполит Исаевич разделся и вошел в ванну. Он лег на спину, подложив под голову поролоновую подушку. Расслабил мышцы и смежил веки, стараясь ни о чем не думать. Вообще не думать невозможно: он хоронился от неприятных мыслей. Никак не мог понять причины неожиданно нахлынувшей тревоги. Казалось, нет серьезной опасности. Никто не докажет, что он, Ипполит Пришелец, организовал налет на квартиру Бертулина. А Коньков? С Коньковым они незнакомы. Но… Коньков знает Павлова и еще — Коньков знает, зачем шли к, ювелиру, не за часами же. Павлову надо прекратить всякую связь с Коньковым, исчезнуть. А может, лучше исчезнуть Конькову? Исчезнуть навсегда. А это значит — «мокрое дело». Благословить на такое Пришелец мог только в крайнем случае. До сего времени крайнего случая не было. Да есть ли он и сейчас — Ипполит Исаевич не был уверен. Но отчего же такая тревога на душе? Он вышел из ванной, не испытав, как обычно, наслаждения и даже не почувствовал облегчения. На мокрое тело надел голубой, отороченный мехом махровый халат и лег на диван. Нужен срочно Анатоль. А он не звонит. И так всегда: когда не нужно, он мозолит глаза, а когда нужен, его днем с огнем не сыщешь. К тревоге добавилось чувство одиночества и неустроенности. В последнее время это чувство все чаще навещало его и в самое неподходящее время. Приходило оно обычно по вечерам, когда он один оставался дома в большой квартире, на вид такой обжитой, благоустроенной. Но в те часы казавшейся ему пустой, ненужной и чужой, словно он в ней временный жилец. Родители Пришельца умерли уже в послевоенные годы. Единственный брат его Михаил тогда же уехал в Венгрию и сейчас работает там в научно-исследовательском институте. У него семья: жена, двое детей. Иногда Михаил приезжает в Москву по служебным делам, и тогда братья встречаются на квартире Ипполита. Два раза побывал в Венгрии Ипполит Исаевич. Михаилу не нравится, что брат до сих пор не обзавелся семьей, живет бобылем и не имеет определенного занятия. Ипполит отшучивался: еще не встретил в жизни суженую. «Ты слишком разборчив», — говорил Михаил. «Не то слово, не разборчив, а требователен, — отвечал Ипполит. — Жена должна соответствовать высшим критериям. — Каким конкретно, он не уточнял, но тут же добавлял: — И вообще, семья ко многому обязывает, лишает свободы, а я люблю свободу и не желаю никому быть обязанным. „Нет счастья без свободы!“ — сказал какой-то классик, и я с ним вполне согласен». В этом была доля правды: Пришелец боялся, что семья свяжет его по рукам и ногам. У него было много знакомых, приятелей, но не было друзей. Не испытывал он недостатка и в женском обществе, по его собственному выражению «контингент был обширен и разнообразен», — от студенток-первокурсниц до сорокалетних замужних дам. Но среди этого множества и разнообразия не было той, которая растопила бы его черствую душу, зажгла в сердце тот огонек, если уж не огонь, который люди называют сладостным и нежным словом «любовь». Впрочем, возможно это не совсем так: Ипполит Исаевич считает, что первая любовь все же не прошла мимо него: она озарила его сердце двадцать лет тому назад, нашла молодого, только что получившего диплом инженера путей сообщения. В результате у красавицы Ольги появилась внебрачная дочь Альбина, ее первый — но увы! — не последний ребенок. Родилась Альбина за несколько недель до того, как отец ее сел на скамью подсудимых. Ольга рассудила трезво: такой отец не нужен ее ребенку, как и ей самой не нужен муж-уголовник. Молодая, красивая, обладающая незаурядным умом и прирожденной смекалкой, она поспешила выйти замуж за генерала, который только что отпраздновал свое пятидесятилетие. Генерал удочерил Альбину, а вскоре у них родился сын. Но судьба за что-то мстила молодой женщине: через год после рождения сына инфаркт оборвал жизнь ее мужа. Молодая вдова, не теряя времени, начала настойчиво и целеустремленно искать нового мужа на этот раз в Академии наук. И, как поется в популярной песне, кто ищет, тот всегда найдет. Новым избранником Ольги Николаевны оказался академик, но не от науки, а от изящных искусств. Одаренный живописец, еще не достигший пенсионного возраста, то есть шестидесяти лет, написав портрет Ольги Николаевны и получив за него золотую медаль лауреата, решит, что с его стороны было бы неразумно уступать такую модель кому бы то ни было. «Будешь навсегда моей», — сказал он натурщице во время сеанса в своей мастерской, и Ольга Николаевна ответила согласием, хотя и без особого восторга: художественный талант академика живописи намного превосходил его мужские достоинства. Тем не менее у Альбины появилась сестренка, а потом еще два брата, не похожих ни на Ольгу Николаевну, ни на академика живописи. Ипполит Исаевич встретился с Ольгой Николаевной совершенно случайно, на улице. К тому времени он уже отбыл назначенный срок в местах отдаленных, но еще не сумел упрочить свое положение в обществе. Встрече со своей первой любовью обрадовался, возможно, потому, что перед этим видел в журнале цветную репродукцию с ее портрета. Похоже было, что и Ольга Николаевна разделила его радость, предложив посидеть в ресторане, тем более, что муж ее в это время наслаждался искусством римлян в Италии. Из ресторана Ольга Николаевна позвонила к себе на дачу, отдала матери и домработнице необходимые распоряжения, сказала, что ночевать будет в Москве, и пригласила Ипполита Исаевича к себе домой на чашку кофе. Как это ни странно, ни в ресторане, ни на квартире художника, где Пришелец остался ночевать, не было разговора о детях вообще и об Альбине, в частности. Ипполит Исаевич не спросил о дочери, Ольга Николаевна тоже промолчала. Утром они обменялись телефонами, выпили по чашке кофе и расстались сухо и прохладно, будто и не было безумной ночи. Ольга Николаевна уехала к себе на дачу, Ипполит Исаевич — домой. Бумажку, на которой она записала свой телефон, он выбросил в мусорный ящик, дав себе слово больше никогда не встречаться со своей первой любовью. И слово это он держал крепко. Да и Ольга Николаевна с тех пор ни разу не напомнила о себе. Размышления его прервал телефонный звонок. Ипполит Исаевич поспешил взять трубку. Слава всевышнему — звонил Павлов. Не задавая обычного вопроса «ты где?», Ипполит Исаевич начальнически приказал: — Жду немедленно. Павлов появился минут через десять: он звонил из автомата от Пушкинской площади. Как всегда слегка возбужденный от быстрой ходьбы, в легкой куртке и без головного убора, подтянутый, с преданной готовностью во взгляде. На этот раз Пришелец ни в чем не упрекнул парня, сразу прошел в кабинет, сопровождаемый Анатолем, и опустился в кресло. Несколько минут Павлов стоял перед ним молча. Угрюмое молчание шефа и его озабоченно-подавленный вид красноречиво говорили, что случилось неприятное. Пришелец глянул на Павлова и взглядом пригласил садиться. — Дело принимает серьезный оборот, и если мы не примем срочных решительных мер, может кончиться популярной песней: едем мы, друзья, в дальние края, — угрюмо проговорил Пришелец. — Коньков — шваль, мусор. — Он сделал долгую паузу и стал рассматривать свои руки. Павлов знал эту манеру Пришельца: значит, всерьез встревожен. Не поднимая взгляда, Ипполит Исаевич произнес как приговор: — Он должен исчезнуть… Навсегда. Как — это твое дело. Он старался не смотреть на Павлова, который без труда догадывался, что от него хотят, и быстро соображал. Никакая самая совершенная электронно-вычислительная машина не могла тягаться с Анатолем в быстроте реакции. Этот природный дар Пришелец выше всего ценил в своем подручном. Он ждал от Павлова решения и знал, что оно не будет поспешным и потому скороспелым. — Я пошлю его в Одессу подышать морским воздухом, успокоить нервы и вообще, — сказал Павлов, как бы размышляя вслух и ожидая при этом мнения своего хозяина. Но тот молчал. Не желая испытывать его терпение, он продолжал: — Там его встретят ребята. Им я сообщу, что Коньков их предал, засыпался с часами и вообще… Дело повиснет на одесской милиции. — А ты уверен, что дело повиснет? — спросил Пришелец, сделав ударение на последнем слове. На обычном языке «повиснувшее дело» означало нераскрытое преступление, в данном случае убийство Конькова. — Каждый дорожит своей шкурой. Для одесских мастеров шкура Конькова дешевле коробки спичек. Они без сантиментов. — По алым губам Анатоля скользнула сухая ироническая улыбка. — Каким образом ты им сообщишь? — Письмом. К вам, мол, собирается Демьян. Учтите — это падла из подлюк, чтоб он подох или утонул в Черном море. Бойтесь его пуще врага заклятого… — Бред, собачий бред, — резко перебил Пришелец. И, поднявшись из кресла, взволнованно зашагал по комнате. — Письмо — документ, его можно подшить к делу. Соображаешь? — Павлов молча соображал, глядя в угол. А Пришелец продолжал уже твердо, уверенно: — Коньков поедет на юг поездом, а ты в тот же день вылетишь самолетом. И лично, лично предупредишь. Должна быть полная гарантия. Понял?.. — Голос его звучал жестко, повелительно. Это был приказ. — И как можно быстрей. Каждый лишний час задержки может привести к непоправимому. Сказав это, он ушел в спальню и возвратился с пачкой десятирублевых купюр. Протянул их Павлову: — Тут четверть. Полторы сотни отдашь ему на лечение. Сотня твоя. В Одессе с ним не встречайся. Возвращайся немедленно. Твое отсутствие в Москве не должно быть замечено. Вопросы есть? Павлов не успел ответить: помешал звонок в дверь. Оба настороженно посмотрели друг на друга. Они стояли затаив дыхание. Звонок повторился. Ипполит Исаевич снял тапочки, босиком подошел к двери и заглянул в глазок. За дверью стояла незнакомая девушка. Рядом с ней никого не было. Если б за дверью стоял незнакомый мужчина или даже пожилая женщина, Ипполит Исаевич не подал бы голоса, — до того были напряжены нервы только что состоявшимся разговором. Но вид молодой привлекательной девушки напрочь обезоружил его, разжигал любопытство, и Пришелец не устоял. — Одну минуту! — крикнул он в дверь и вернулся за тапочками. Девушка вошла в квартиру с какой-то деланной, заранее продуманной легкостью, радостная и возбужденная. Не снимая светлого распахнутого плаща, она бросилась к Пришельцу с распростертыми объятиями: — Здравствуй, папочка. — Звонким журчащим голоском щебетнула девушка и прильнула горячими губами к колючей щеке. И, покосившись на Павлова, доверительно спросила: — А это мой братец? Я не ошиблась? — Ты ошиблась, прелестное создание, — не сурово, а даже со снисходительной иронией ответил быстро оправившийся Ипполит Исаевич и подбородком указал Павлову на дверь. Анатоль исчез, и когда за ним бесшумно затворилась дверь, Ипполит Исаевич продолжал молча рассматривать нежданную гостью. Лицо ее казалось очень знакомым, хотя — он был абсолютно уверен, что видит девушку впервые. Она кого-то напоминала, вызывала в памяти что-то прежнее, давнишнее, позабытое. — Меня зовут Аля, Альбина, — виновато сказала девушка. — Разве мама тебе не говорила? Мама моя, Ольга Николаевна? Ольга Николаевна, Оля. Да, теперь все стало на свое место, прояснилось, вспомнилось, вызвав сложные чувства досады, неудовольствия, любопытства и даже сдержанной радости. Перед ним стояла не Альбина, которую он никогда не видел и не вспоминал, а Оля, далекая, пришедшая из юности, беззаботной, радужной, счастливой, сверкнувшей короткой вспышкой, после которой наступила черная ночь. Ипполит Исаевич почти машинально протянул руку, чтобы помочь девушке снять плащ. Повесив плащ, Ипполит Исаевич пригласил дочь в гостиную. Аля, переступив порог, остановилась у двери изумленная. Пришелец понимал состояние дочери: он читал его в ее восторженных глазах и сам испытывал удовольствие от ее восторга и удивления. Неожиданная встреча сняла усталость и напряжение необычно тяжелого для Ипполита Исаевича дня. — Проходи, — сказал он стоящей в нерешительности дочери, — я сейчас. Он ушел в спальню. Надо было переодеться, но это заняло бы какое-то время, а Ипполит Исаевич имел привычку не оставлять в квартире посторонних без присмотра. И он снова предстал перед дочерью в своем, как говорила Белла, сногсшибательном халате и отделанных мехом тапочках на босу ногу. Аля, стоя у стола, рассматривала дубовые стулья с высокими спинками из икон. — Ты извини меня за ультрадомашний вид, — усталым голосом заговорил Ипполит Исаевич, входя в комнату. — День сегодня чертовски тяжелый, устал, голова свинцом налита. Принял душ, собрался было отдохнуть. — А я помешала. Прошу прощения, но так вышло. Конечно, нежданный гость… — смущенно прощебетала Аля. — Неожиданный, нежданный — не в этом суть, — перебил Пришелец. — Важно, какой он: добрый или злой? С какими вестями приходит гость — вот в чем суть. — Из слов его Альбина поняла, что отец не испытывает ни восторга, ни радости от ее появления. — Да ты садись, садись. — Впервые вижу такие стулья с картинками. Как на иконах. — Они и есть самые натуральные иконы. — Пришелец отодвинул подальше от стола стул с иконой Серафима Саровского и солгал для пущей важности: — Семнадцатый век. Но слова отца не произвели на дочь никакого впечатления, ей было все равно, семнадцатый или двадцатый век. Она села на подвинутый стул основательно, глубоко и положила на стол обнаженные по локоть тонкие руки с ярким маникюром на беспокойных пальцах. — Сидеть на них неудобно: жестко, — с натянутой улыбкой сказала Аля. Ипполит Исаевич молча повел густой бровью, устроился напротив и, тоже положив на стол волосатые руки, постучал пальцами по столешнице мореного дуба. Он смотрел на девушку внимательно, цепко, и взгляд его, властный, самоуверенный, спрашивал: откуда ты взялась и зачем, с какой целью, что тебе нужно от меня? Ему хотелось знать: по своему желанию она пришла или кто-то подослал? «Ольга, копия Ольги», — думал Пришелец, рассматривая тонкую высокую шею, темные, с сизым отливом волосы, маленькие красивые уши, не обремененные сережками, и руки, гибкие, нежные. Аля интуитивно почувствовала его настороженность и подозрительность и, не зная, как быть, заговорила, с детской непосредственностью, глядя на отца смущенно и взволнованно: — Папа, ты не думай ничего такого, мне ничего не надо. Я взрослая, и у меня все есть. Мне только хотелось знать, кто мой отец, ну, понимаешь, просто хотелось посмотреть на тебя, какой ты. Я просила маму много раз, ну, словом, долго упрашивала. Она не хотела, а я была настойчивой, и она уступила. Такой у меня характер: если я что решила, то обязательно добьюсь. Мама говорит, что у меня твой характер. И улыбнулась доверчивой и немножко застенчивой улыбкой, как бы просящей прощения за откровенность и прямоту. То ли искренние слова ее, то ли внешний вид девушки — не дочери, а просто юной и такой красивой девушки, — смягчили Пришельца, сломали в нем барьер подозрительности. Глаза его потеплели. — Ничего, ничего, детка, это даже хорошо, что ты пришла. Я рад. Я сам тоже хотел встретиться с тобой, но твоя мама, увы… — Он лгал убедительно, привычно, прихлопнув своей ладонью, как птичку, ее маленькую, дрожащую от волнения, горячую руку. Он не спросил Алю о матери: зачем тратить время на пустые разговоры, а просто предложил: — Давай мы с тобой сварганим ужин. Ты умеешь готовить? Проверим твои кулинарные способности. Посмотрим, какая ты хозяйка. — И увлек дочь на кухню. Он шел сзади, слегка касаясь ее обнаженных локтей своими руками. Кухня просторная, с холодильником фирмы «Розенлев», с импортной мебелью и дорогой посудой, служила одновременно и столовой. Рядом с холодильником стоял телевизор. Не цветной, черно-белый, малогабаритный — «Юность». Цветной телевизор занимал почетное место в гостиной. Стены кухни в моющихся обоях с рисунком под красный кирпич. Под потолком старинный фонарь из разноцветного рельефного стекла — вещь дорогая, антикварная. И вообще, здесь все поражало воображение Альбины богатством, оригинальностью и вкусом. Пришельцу нравился откровенный восторг дочери. Когда стол был сервирован, Ипполит Исаевич сказал, что по такому чрезвычайному случаю не мешало бы распить бутылку шампанского, но, к сожалению, последняя была выпита вчера, а потому он предложил своей гостье не менее благородный напиток — «Русский сувенир». — Ты знаешь, что это такое? Когда-нибудь пила? Нет; Бедное дитя. Это чудо, эликсир-бальзам, мечта аристократок и кинозвезд. Он извлек из кухонного стола поллитровую бутылку и водрузил ее на стол. Альбине хотелось хоть час побыть в роли аристократки и кинозвезды. Напиток ей понравился: сладкая, густоватая влага, казалось, растекается по всему телу благостным теплом. После первой рюмки, которую пили за встречу и за знакомство, Пришелец попросил дочь рассказать о себе: чем занимается, где живет — и все такое. Она рассказывала охотно: работает стюардессой авиалайнера на международных трассах. Правда, стаж совсем маленький — всего один год. Но она довольна, даже очень. Интересно мир посмотреть. И вообще; в этой профессии есть что-то романтичное и неземное. Как. говорил штурман лайнера, полжизни проводишь под облаками. А потом — разные города, страны, континенты. Профессия дочери вызвала живой и далеко не бескорыстный интерес Пришельца. Он не навязчиво, а как бы между прочим полюбопытствовал об условиях быта экипажа в зарубежных аэропортах, режим, возможность общения с «туземцами», что можно купить и главное — провезти через таможенный кордон. Альбина отвечала живо, воодушевляясь от каждого глотка ароматного напитка. Щеки ее пылали ярким свежим румянцем, темные вишневые глаза радужно и восхищенно искрились. — Мама знает, что ты у меня? — Нет, я сказала, что поехала к подруге. — Она не будет волноваться, если ты останешься здесь. Нам о многом надо поговорить. — Нет, конечно. Я позвоню ей. — Только не говори, что ты у меня, Лучше потом, при встрече. Скажи, что ты у подруги ночуешь, — посоветовал Пришелец, наполняя рюмки. — А я вообще могу не звонить, — решила Аля. — Я человек взрослый: и вполне самостоятельный. У мамы есть хорошая черта — она не опекает нас, дает полную свободу. Она вполне современная женщина. — И правильно: опека — это цепи рабства, насилие над личностью, — одобрительно отозвался Пришелец. — Папа, а ты как живешь? Ты о себе ничего не рассказал, — осторожно спросила Альбина. — Будет время, наговоримся, — уклончиво ответил отец и снова потянулся к «Русскому сувениру», наполнил сначала ее рюмку, затем налил себе коньяку. Но до рюмки не дотронулся и продолжал неторопливо, с торжественными нотками в голосе: — В знак нашей встречи, нашего знакомства я хочу преподнести тебе не просто сувенир, а ценный подарок, точнее — драгоценный. — С этими словами он встал из-за стола и величественно ушел в кабинет. Аля ждала с нетерпеливым любопытством. Отец долго не возвращался. Она решила, что он переодевается: не совсем прилично при взрослой девушке, хотя она и дочь, сидеть в халате. Ей захотелось пройтись по квартире, осмотреть отцовские хоромы, но вставать было лень. Возбуждение сменилось тихим блаженством и умиротворенностью. Пришелец вернулся все в том же халате и тапочках на босу ногу. На ладони вытянутой руки лежала зеленая бархатная коробочка. Открыв коробочку, Аля ахнула: на золотом колечке сверкнул игристым огоньком бриллиант. Она надела на тонкий палец колечко и с детской непосредственностью спросила: — Настоящий? В ответ он молча кивнул, хотя прекрасно знал, что алмаз был искусственный, созданный в лабораторных условиях и обладающий почти всеми качествами природного алмаза, и только специалисты могут отличить натуральный алмаз от фианита. — Спасибо, папочка, можно тебя поцеловать? — Ее глаза светились восторгом. «Конечно же, не только можно, но и нужно», — мысленно произнес он и приблизился к ней. Аля встала, обхватила его рукой за шею и хотела поцеловать в щеку, но он подставил губы и сам поцеловал ее, и совсем не по-родственному, а так, как целовал своих сожительниц. Его поцелуй несколько смутил Алю, и он почувствовал ее смущение и, чтоб как-то сгладить его, щедро пообещал: — К этому колечку нужны такие же сережки. Комплект-гарнитур. Ты довольна? Будешь умницей, раздобудем и сережки. Он смотрел на Алю пристально, изучающе, хотелось отыскать в ней свои черты, ну хотя бы черточка во внешности, в характере. Тонкие брови ее, точно росчерк пером, касались черных упругих волос, падающих жесткой челкой на узкий лоб. Глаза темные, блестящие, восторженно-смеющиеся. «Это не от Ольги и не от меня, — подумал Пришелец. — Ольга в ее годы была посерьезней. А эта дурочка или играет дурочку? И что все-таки она взяла от меня? Пожалуй, ничего. А может, и в самом деле она не моя дочь? Да мало ли… У Ольги были поклонники и до замужества и после». — Ты одинок, папа, а? Совсем одинок? — Слова дочери были тягуче расслабленные, как и мысли. Он понимал нехитрый смысл вопроса, но ответил уклончиво: — Чувство одиночества мне еще не знакомо. Оно — удел стариков. А я к ним не принадлежу. Я из породы тех, о ком говорят: мужчина в расцвете лет. — Папа, дорогой, я о тебе ничего не знаю. Кто твои родители, откуда наш род? Мне это надо знать. Ну понимаешь, мне не для анкеты, для себя. — Родословная твоя знаменитая. Мой отец, а твой дед был известным адвокатом. Мой дед по матери — генерал-майор, другой дед, по отцу — пермский соборный протоиерей. Да и другие предки не подкачали. Экспромтом сочиненная родословная была воспринята Алей с восторгом и гордостью. — А тот юноша? Ну, который был у тебя сейчас, твой сын? Вопрос этот вызвал у Пришельца снисходительную улыбку. — Мой секретарь. У меня есть дочь, единственная моя наследница, прекрасная Аля. За ее здоровье мы сейчас и выпьем. — Папа, я уже пьяна. Может, хватит? — Надо: за наследницу — и до дна. Ну как не уважить такого отца? Наследницей объявил, наследницей такого богатства, всего вот этого, что мельком успела увидеть Аля, но уже догадывалась, какие сокровища собраны в этих апартаментах. И она лихо, по-мужски, выпила до дна. В народе говорят: опасна последняя рюмка, пьянит она, сшибает с ног, лишает памяти — эта коварнейшая последняя рюмка. Не пить бы ее, и все было бы хорошо. Но как узнаешь, какая она последняя, как отличить ее от предпоследней, особенно когда тебе двадцать лет и ты только начинаешь познавать мир, в котором тебе все кажется разумным, добрым и вечным? А эти рюмки, узенькие, высокие, сверкающие гранями звонкого хрусталя, да они сами зовут и манят. И Аля пила и уже не понимала, что она пьяна, — ей все казалось погруженным в розовый туман, сквозь который бриллиантовыми блестками сверкал и струился хрустальный луч, да звучали весомые, полные глубокого смысла слова отца. Впрочем, в смысл его слов она не вникала, достаточно было голоса и тона, уверенного и твердого, чтобы дать волю хмельному воображению. Пришелец смотрел на дочь. Темные хмельные глаза его светились хищными огоньками. В них не было и тени сомнения, был неукротимый азарт рыси, затаившейся на дереве и готовой к решающему неотразимому прыжку на свою жертву. Он считал себя высшим существом на этом свете, которому все дозволено. Он не мог, да и не хотел сдерживать свои инстинкты. «Хорошо» и «плохо» он понимал исключительно в личном плане: все хорошо, что доставляло ему радость и удовольствие, а все, что доставляло ему неудобства, что было противно ему, это относилось к категории плохого. Аля выпила последнюю рюмку, когда в поллитровой бутылке оставалось совсем ничего, каких-нибудь сто граммов напитка. …Ей снились кошмары: она падала в бездну, зажатую холодными скользкими скалами, на острых выступах которых сидели гигантские чудовища, похожие на жаб и крокодилов. Они издавали странные гортанные звуки, похожие на карканье ворон, и это карканье переходило в злорадный хохот, надрывное, дребезжащее эхо от которого раздавалось в темной глубине пропасти. То ли от ужаса, то ли от этого жестяного карканья Аля проснулась, однако не ощутила того внезапного: облегчения, которое обыкновенно наступает после пробуждения от кошмарных сновидений. Неприятные звуки продолжались и наяву, здесь, где-то совсем рядом с ней. Только теперь это был храп, резкий, глубокий, с завыванием и присвистом. Первое мгновение она не могла сообразить, где она находится. Ей хотелось закричать, но не было силы это сделать: состояние беспомощности и беззащитности сковало ее, лишив даже голоса. Не открывая глаз, инстинктивно натянула одеяло на голову и в ту же секунду поняла, что она совершенно нагая, и ощутила неизвестную ей ранее тяжесть своего тела, словно оно принадлежало не ей, а кому-то другому. Налитая свинцом голова, казалось, наглухо прикована к подушке. Во рту пересохло, и было ощущение чего-то отвратительного, мерзкого. И потом этот храп, чужой, непонятный, заставил ее, затаив дыхание, сжаться в комочек, не шевелиться. Страх парализовал ее. Мысль лихорадочно металась в поисках ответа на единственный и главный вопрос: где она и как здесь оказалась? Память выхватывала отрывочные бесформенные эпизоды, вернее, оборванные части эпизодов, Аля торопливо силилась как-то связать их, склеить в цельную картину, но жуткий храп мешал сосредоточиться, пугал и подавлял волю. Тупая, ноющая боль ощущалась во всем теле, беспомощном, чужом. Природный инстинкт стыдливости заставил ее дотронуться до своей груди, и вдруг она почувствовала прикосновение чего-то постороннего. «Кольцо!» — мелькнуло в сознании. И опять провал в памяти. Ей было плохо, да, ее тошнило, она была в ванной, судорожно держалась за края раковины и думала, что умирает. Первый раз в жизни ее тошнило, можно сказать, все нутро выворачивало. Потом ей стало легче, ее уложили в постель, помогли раздеться. Кто был тот добродетель? Ив ответ на ее мысленный вопрос она слышит дребезжащее «Хррр-си…». Он, отец!? Аля решительно сдернула с лица одеяло. Слабый свет ночника колко ударил в глаза. Пришелец лежал на спине, заложив за голову обе руки. Взгляд ее остановился на мраморной скульптуре полуобнаженной девушки. Ей показалось, что девушка эта вырвалась из лап двуногого животного и, полураздетая, убегает из мерзкого дома, пропитанного отвратительным запахом тления. «Это я, это было со мной!» — пронзила страшная мысль, к горлу подступил комок. Закрыв ладонями лицо, Аля зарыдала, забилась в истерике. Стон ее разбудил лежащего рядом на широкой постели Пришельца. Он протер глаза, натягивая на себя одеяло, с деланным участием и недоумением спросил: — Что с тобой, детка? Что случилось? Ты уж извини… Тебе не надо было пить… моя вина: я должен, был сказать «стоп!». Я не сказал, тоже был пьян, увлекся на радостях. Голова трещит. — Он театрально схватился обеими руками за голову и закрыл глаза. Потом мельком взглянул на Алю и продолжал: — Я понимаю, тебе было плохо. Это пройдет. Сейчас выпьем крепкого кофе, и все пройдет. Все будет хорошо. Ничего страшного. В жизни всякое случается… Его невозмутимый тон почему-то вызвал у нее страх. — Уйди! — закричала девушка. И в слове этом Пришелец услышал ненависть и презрение. Он встал с постели и, прихватив шерстяной спортивный костюм, ушел в ванную. Пока он умывался, ; обдумывая, как вести себя дальше, пока облачался в спортивный костюм, Аля оделась, и Пришелец только услышал, как щелкнул замок и хлопнула входная дверь. — Ушла, — выйдя из ванной, облегченно вздохнул он. Не было у него ни сожаления, ни угрызений совести, лишь холодная пустота там, где сердце, да неприятная горечь, решил — от коньяка. И вспомнил о бриллиантах, о тайнике, где они хранились и который ему вчера пришлось вскрывать, чтобы извлечь кольцо для дочери. Он зашел в спальню убедиться, оставила Аля его подарок или взяла с собой. Ни на туалетном столике, ни на тумбочке возле кровати кольца не было. «Ну и пусть, — без особого сожаления подумал он и тут же прикинул в уме: — Хотя семьсот двадцать пять рублей на дороге не валяются».2
Весь день Пришелец не мог избавиться от смешанного чувства досады и беспокойства. Это чувство ему было хорошо знакомо, он испытывал его всякий раз, когда, слишком увлекшись и потеряв над собой контроль, допускал промах, который мог впоследствии закончиться серьезными неприятностями. Такое на него находило довольно часто, иногда он даже не мог докопаться до причины. На этот раз был страх. Его беспокоило подаренное дочери кольцо с фианитовым бриллиантом, то, что именно это, а не какое другое кольцо, оказалось у дочери. А вдруг она сдаст его в комиссионный магазин, и тогда оно может оказаться той ниточкой, по которой следствие «неизбежно выйдет на него». При этой неприятной мысли Пришелец вспомнил своего приятеля Зуброва Михаила Михайловича, с которым судьба повязала их одной веревочкой. С Зубровым они познакомились во время антикварной деятельности Ипполита Исаевича. Зубров коллекционировал иконы и вообще предметы старины. Смекалистый Пришелец быстро сообразил, что такой человек, как Михаил Михайлович, может при случае пригодиться, и для начала оказал ему кое-какие услуги. Это был своеобразный аванс с дальним прицелом. Зубров как-то в шутку назвал Пришельца промысловиком и при встрече обычно спрашивал улыбаясь: — Так чем теперь промышляет наш промысловик? — Наш промысловик ведет скромный образ жизни представителя творческой интеллигенции, — в тон ему отвечал Ипполит Исаевич. Давно прошло то время, когда Пришелец промышлял иконами и разного рода антиквариатом, самолично присвоив себе титул искусствоведа. Тот промысел помог ему сколотить твердый капитал, своего рода финансовую базу, на которой можно было с широким размахом заняться более солидным бизнесом. И Пришелец занимался с вдохновением и. азартом, во всю силу таланта предпринимателя. После икон и антиквариата, занятия которыми едва не довели Ипполита Исаевича до скамьи подсудимых во второй раз, пришлось срочно переквалифицироваться на меха. Дело это оказалось весьма выгодным, меха с каждым годом набирали в цене, и Пришелец, занимаясь посредничеством между продавцом и покупателем, в течение года прибавил к своему антикварному капиталу еще кругленькую сумму. (Тогда-то он и познакомился с Ильей Марковичем Норкиным.) Продавцами были не только знакомые директора меховых магазинов и ателье, но и заурядные алчные браконьеры. Последние и отпугнули Ипполита Исаевича от мехового промысла. Лишенные чувства осторожности, зарвавшиеся бесшабашные хищники, они вскоре попали в поле зрения следственных органов и потянули за собой Пришельца. Для новоявленного меховых дел мастера все могло кончиться весьма печально, не приди на выручку Зубров. Благодарный Ипполит Исаевич не остался в долгу: четыре собольих шкурки самого высшего сорта он вручил своему спасителю, сказав при этом: — Надеюсь, супруга ваша будет довольна. Супруге Зуброва не довелось увидеть и оценить этих действительно отменных соболей: их хозяйкой в тот же день стала Наталья Максимовна — жена доктора технических наук, профессора Антона Фомича Ященко. Надо сказать, что Михаил Михайлович особой щедростью не отличался, и НатальеМаксимовне пришлось расплачиваться за соболей искусственными алмазами, к которым, используя свое служебное положение, имел доступ ее предприимчивый супруг. Фианиты Зубров принял от своей возлюбленной без особого восторга: он не представлял, каким образом их можно пустить в дело, и вообще не видел ценности в этих необработанных минералах — продукте технического прогресса. Однажды как бы случайно он заговорил о них с Пришельцем. Ипполит Исаевич выслушал своего приятеля с вниманием, но особого интереса не проявил. Впрочем, попросил один «камешек», чтобы проконсультироваться со специалистами. Он, конечно же, имел в виду знакомого ювелира Бертулина. Арсений Львович, мельком взглянув на алмаз, с деланным равнодушием сказал: — Сырье. Пока что это полуфабрикат. — А если его обработать? — поинтересовался Пришелец. — Может сойти за бриллиант. — И после паузы многозначительно прибавил: — Если повезет. Арсений Львович рассказал своему приятелю, что есть один банщик в Москве по имени Алексей Соколов, который когда-то занимался гранильным ремеслом. Попытайтесь, мол, с ним связаться, авось тряхнет стариной. И когда Бертулин назвал баню, в которой Пришелец был завсегдатаем, Ипполит Исаевич готов был плясать от радости. Но сдержал себя, ни словом, ни даже видом не дал знать, что он хорошо знаком с Алексеем Соколовым; напротив, сделал равнодушное лицо и тот час же перевел разговор на другое. Блеск бриллиантов всегда приводил Пришельца в состояние безумного восторга, в котором почти зоологическая алчность и патологические грезы сливались в нечто общее, болезненное и жестокое. Иногда он часами мог рассматривать в витринах ювелирных магазинов бриллиантовые кольца, серьги, броши, Но не изящество вещи, не искусство ювелира, а цена мутила разум Ипполита Исаевича. Вот ведь махонькая вещица, с булавочную головку, а по стоимости равна автомашине, рассуждал он, и тогда в его памяти почему-то возникали сокровища Ризницы в Троице-Сергиевой лавре. В память его врезалась одна митра, расшитая жемчугом и унизанная бриллиантами. Ему хотелось знать цену этой митры, он спрашивая экскурсоводов, но те почему-то уклонялись от ответа, и тогда один из посетителей Ризницы, мужчина солидный и, видно, бывший здесь не в первый раз, авторитетно и доверительно сказал ему вполголоса: — Одиннадцать миллионов. Не считая художественной ценности. Просто если извлечь бриллианты и жемчуг, то они потянут на такую сумму. — Не может быть! — воскликнул изумленный Пришелец. — Это достоверно? — Если я говорю, значит, знаю, — с видом собственного достоинства ответил мужчина, и, обиженно отвернувшись, отошел в сторону. С Алексеем Соколовым они договорились легко. Первый ограненный Соколовым алмаз привел вообще-то сдержанного на похвалы Пришельца в восторг. Он мечтал о большом алмазном бизнесе, видел себя этаким Оппенгеймером, бриллиантовым королем, перед которым все двери открываются, стоит только ему появиться у порога. Правда, его неудержимая фантазия преувеличивала алмазные ресурсы Зуброва, но волчьим чутьем догадывался, что полковник имеет солидный запасец полуфабрикатов, и алмаз, который Алексей Соколов так мастерски облагородил, был не единственным. И он не ошибся. Заурядная внешность Натальи Максимовны Ященко с лихвой компенсировалась неукротимой самоуверенностью, энергией и страстным, увлекающимся сердцем. Она принадлежала к типу тех женщин, которые вопреки истине внушали себе мысль, что они неотразимы. И что удивительно, умеют и других заставить поверить в свою неотразимость. Особым умом Наталья Максимовна не блистала, но зато решительность, настойчивость и апломб вполне заменяли ей ум и эрудицию. В свои тридцать лет она сохранила стройную, хотя и расположенную к полноте фигуру, обзавелась легкой проседью, которая даже украшала ее пышную копну каштановых волос. Муж ее, Антон Фомич Ященко, был старше своей супруги на двадцать три года, впрочем, эта разница в летах до последнего времени, не бросалась, в глаза. Антон Фомич когда-то, лет двадцать тому. назад, с геологами бродил по якутской тайге в поисках алмазных месторождений, и не безуспешно, о чем свидетельствовала золотая медаль лауреата. В последние десять лет, несколько изменив профиль своей специальности, он работал в области выращивания искусственных алмазов и, надо полагать, тоже преуспел, поскольку кандидатуру его выдвинули для баллотировки в членкоры, и теперь Ященко с нетерпением ждал очередного общего собрания академии и был уверен, что его непременно, изберут. Он уже наперед догадывался, кто из академиков проголосует за и кто против. Антон Фомич боготворил свою супругу, как говорится, души в ней не чаял, считал для себя счастьем исполнять все ее желания и прихоти. Он с гордостью называл ее «моя королева», верил и доверял ей как самому себе и стыдился чувства ревности, которое нет-нет, да и вспыхивало в нем, когда Наталья Максимовна откровенно кокетничала с мужчинами моложе и поинтересней его. Ему все в ней нравилось, все казалось необычным, оригинальным, свойственным только ей: характер, жесты, голос, зубы со щербинкой, ямочка на круглом подбородке, родинка на правой лопатке и даже плохо скрываемый холодок в глазах, когда она возвращалась со свиданий с Зубровым, впрочем, о свиданиях этих Антон Фомич мало что знал. Наталья Максимовна когда-то мечтала о театральных подмостках, но ее вокальные данные не позволили подняться выше областной филармонии, где ее и нашел профессор Ященко, только что расторгнувший брак со своей первой женой. Наталья Максимовна рассталась с филармонией сразу после замужества, но продолжала, считать себя актрисою и с удовольствием пела на пирушках в компании друзей и сослуживцев мужа, доставляя радость Антону Фомичу, который обычно шептал кому-нибудь из своих знакомых: «Попросите Наташу спеть». Наталья Максимовна любила комфорт, дорогие и Модные наряды были ее страстью, и, как сказал однажды Антон Фомич Зуброву: «Красивая жена — дорогая жена». Михаил Михайлович с недавних пор стал другом их дома. Самонадеянный и властолюбивый, Зубров обращал на себя внимание импозантной внешностью и пользовался неизменным успехом у женщин. Рослый, подтянутый, мускулистый, с резкими, но правильными чертами лица, голубоглазый брюнет, он покорил страстную и самоотверженную в любви Наталью Максимовну. Наталья Максимовна как-то сказала Михаилу Михайловичу, что их связывает родство душ. Зубров не возражал. Он тоже умел показать себя с лучшей стороны, изображая воплощение безупречности. Как и Наталье Максимовне, ему были присущи самоуверенность, надменность, властность и развязность. И если привыкшая повелевать Наталья Максимовна командовала только своим мужем, то власть Зуброва ощущал на себе довольно широкий круг людей. В их число входила, между прочим, и властолюбивая, своевольная Наталья Максимовна, покорившаяся более властному и более себялюбивому Зуброву. Это было скорее родство характеров, чем душ. Она полюбила Зуброва не за характер, а скорее за его возраст, за расцвет жизненных сил, за то, чем уже не мог похвастаться Антон Фомич, которого она, по ее искреннему убеждению, тоже по-своему любила и продолжала любить. Любовь, она ведь разная — на весах ее не взвесишь, метром не измеришь, на вкус не испробуешь. Она разнолика как природа. Ведь и Зубров тоже любил свою Наточку, любил эгоистично, за алмазы, хотя себя убеждал, что это искреннее чувство. Пользуясь своим служебным положением, предприимчивый Ященко сумел создать довольно солидный запасец как натуральных, так и искусственных алмазов, но, будучи человеком осторожным, даже трусоватым, он не спешил обращать эти камешки в капитал, и до знакомства с Зубровым через своего шурина Семена Фесенко, проживавшего в Кишиневе, сбыл всего два небольших алмаза, получив за них далеко не ту сумму, на которую рассчитывал. Вообще он долго и осторожно выбирал компаньона-посредника, через которого можно было бы превратить алмазы в деньги. Честный, порядочный для такого дела, естественно, не годился. Нужен был жулик, но свой, доверенный. Шурин был из таких. Война застала Семена на границе, и в первые же часы войны он угодил в лапы гитлеровцев, но в тот же день ему удалось бежать из плена. Потом, уже спустя много лет после войны, решив, что из его однополчан никого не осталось в живых, Семен Фесенко сочинил целую легенду о своих мнимых подвигах, поведал ее доверчивому журналисту, и легенда эта вскоре превратилась в печатное слово, к которому люди питают, непогрешимое доверие. Надо сказать, что придуманная Семеном Фесенко легенда была построена на подлинной документальной основе: то есть в ней присутствовала доля правды. Ложь состояла в том, что подвиги других Фесенко приписал себе. Вскоре появились участники и свидетели тех баталий, которые описывал самозваный герой, пошли возмущенные письма в редакцию и музей, куда Семен уже успел передать свои «воспоминания». Антон Фомич об этом узнал случайно, однако умолчал, решил не ставить шурина в смешное положение до поры до времени. А когда Фесенко «надул» и его с алмазами, то есть выплатил ему немыслимо малую сумму, Ященко решил не иметь с ним больше дела. И вскоре у Антона Фомича появился новый знакомый — Яков Николаевич Земцев, человек его круга, занимающий солидную должность и весомое общественное положение. Внешне они были совсем не похожие друг на друга люди. Огромный, тучный, угрюмый, с мясистым скуластым лицом и густой копной седеющих голос, Антон Фомич Ященко выглядел внушительно, монументально и даже благородно. Земцев же напротив: невысокого роста, бритоголовый, поджарый, со смуглым треугольным лицом, которому бесстрастно сомкнутые тонкие губы придавали черты деловитости, одетый всегда безукоризненно и со вкусом, он умел внушить к себе уважение. В отличие от Ященко Земцев был сдержан, с подчиненными высокомерен и покровительственно грубоват, с равными приветлив и любезен. Работал в сфере внешней торговли, в служебной деятельности преуспевал, слыл активистом-общественником. По долгу службы он часто выезжал за границу, закупал у различных фирм новейшее медицинское оборудование и приборы. Не сразу Антон Фомич завел с ним разговор об имеющихся у него камешках, с которыми он якобы не знал, что делать. Заговорил вроде бы посоветоваться. Мол, и выбрасывать жалко, и предложить официальным органам рискованно: начнутся неприятные вопросы: где взял? Земцев выслушал его внимательно, легко догадался, к чему этот разговор, однако личной заинтересованности ни словом, ни видом не проявил, лишь понимающе посочувствовал. Но немного погодя сказал довольно равнодушным тоном, что есть у него один знакомый, который как-то интересовался алмазами. Если, мол, желаете, могу с ним переговорить. К сожалению, человек этот на встречу и на знакомство не пойдет в силу разных обстоятельств, но он, Земцев, может показать ему эти «камешки». Ященко согласился и дал своему новому приятелю два небольших алмаза при этом Яков Николаевич поинтересовался, какую цену назначает Антон Фомич. Ященко понял, что никакого знакомого, интересующегося алмазами, у Земцева нет, что он сам хочет их купить, да к тому же по дешевке. Он назвал не очень дорогую сумму, что называется, без запроса. Через несколько дней Земцев передал Антону Фомичу деньги и спросил, нет ли у него еще «камешков». Ященко неопределенно ответил, что лично у него нет, но у жены, возможно, что-то есть. Спустя какое-то время Ященко сообщил Земцеву, что у Наташи действительно нашлось три «камешка», но она за них хотела бы получить в два раза дороже, чем получил он, Антон Фомич. Для вида Земцев заколебался, но в конце концов договорились о цене, приемлемой для обеих сторон. Фианиты Земцева не интересовали. Незадолго до того, как последние натуральные алмазы были вручены Земцеву, Ященко познакомились с Зубровым, который с первой встречи произвел неотразимое впечатление на Наталью Максимовну. Наталья Максимовна вообще принадлежала к широким натурам, во всяком случае, прижимистой ее никак нельзя было назвать. А для Зуброва она ничего не жалела, и будь у нее горсть алмазов, она осыпала бы ими своего возлюбленного. Но естественными алмазами успел завладеть Земцев, и Зуброву пришлось довольствоваться фианитами, которые он затем продавал Пришельцу. Ипполит Исаевич с помощью банщика Соколова превращал искусственные алмазы в бриллианты. Так складывалась цепочка, главным звеном в которой был Ипполит Исаевич. Став компаньоном Зуброва, Пришелец задался вопросом: откуда у того фианиты? Ответ пришел как-то неожиданно: однажды он встретил в ресторане «Прага» Зуброва с Натальей Максимовной и Антоном Фомичом. Михаил Михайлович отрекомендовал своим друзьям известного искусствоведа, антиквара и вообще безупречного ценителя всего изящного. — Представляешь, Антон Фомич, его квартира — сокровищница. Филиал Третьяковки и Оружейной палаты, — говорил Зубров. — Есть даже скульптура обнаженной девушки — настоящий Роден! Это была непростительная оплошность Зуброва, потому что Наталья Максимовна, сверкая игривой улыбкой, тут же спросила: — А можно ли простому смертному попасть к вам, чтобы хоть одним глазком посмотреть на бесценные сокровища? — Простому смертному нельзя, но для вас, для друзей моего друга, в порядке большого исключения мой храм всегда открыт, — подчеркнутая любезность прозвучала в сладком голосе Пришельца. Он протянул Наталье Максимовне свою визитную карточку. Ященки не замедлили воспользоваться любезностью Ипполита Исаевича и в ближайшие дни посетили его «Музей-квартиру». Так Пришелец узнал о профессии Антона Фомича и без особого труда нашел ответ на свой вопрос: откуда у Зуброва фианиты. Он понял, что его друг выступает в роли посредника между ним и Ященками и имеет на таком посредничестве немалый куш. «Это несправедливо, — сказал себе Пришелец. — Зубров мне друг, но денежки у каждого свои. К черту посредников!» Таким образом у четы Ященко появился еще один клиент на фианиты. Оплошность, допущенная Зубровым в ресторане «Прага», обернулась для него потерей «акций»: теперь Пришелец покупал у него фианиты по той же цене, что и у Антона Фомича. Благодаря старанию и усердию Алексея Соколова, которого интересовали не столько деньги, сколько работа гранильщика, Пришелец стал обладателем доброй горсти бриллиантов. Они и радовали его и в то же время повергали в уныние, когда он, наклонясь над витриной ювелирного магазина, рассматривал изделия из натуральных алмазов и фианита. Он видел разницу, и не столько в переливчатом сверкании граней, сколько в цене. Колечко с фианитом стоило от шестисот до тысячи рублей, в то время как с натуральным бриллиантом — от двух до пяти тысяч. Именно там, у ювелирной витрины, Ипполита Исаевича осенила дерзкая идея. Он присмотрел очень изящное колечко с натуральным алмазом, приблизительно такой же величины, как его собственные фианиты, обработанные Соколовым. Кольцо стоило немалых денег, но решительный и одержимый в своей страсти Пришелец не поскупился — купил. Он отдавал себе отчет в том, что идет на большой риск, но ничто уже не могло остановить его, удержать от сомнительного шага — слишком заманчивой казалась перспектива. С этим кольцом он и направился в Дядино к Арсению Львовичу, заранее предвидя, что разговор с ювелиром будет трудным и, возможно, безрезультатным. Бертулин встретил Пришельца холодно и настороженно, как, собственно, и ожидал Ипполит Исаевич. Чтобы смягчить отчужденность ювелира, Пришелец прибегнул к испытанному приему: выложил несколько сенсационных фактов, известных лишь узкому кругу избранных, затем, когда Бертулин и в самом деле внутренне расслабился, между прочим сообщил, что один из налетчиков, а именно Коньков, исчез. А так как не было заявлений от потерпевших, милиция решила дело это закрыть, рассказал он, подчеркивая в разговоре свою дружбу с Зубровым и даже с людьми рангом повыше. Он и прежде при встречах с Бертулиным — а они были всегда деловыми — козырял именами влиятельных и почтенных особ. На этот раз ему важно было убедить Арсения Львовича, что он, Пришелец, не имел никакого отношения к тому дерзкому нападению на квартиру ювелира, а оказался, как и ее хозяин, жертвой. Поведал Ипполит Исаевич как другу, разумеется, и о своих слабостях. Признался: — Люблю красивых женщин. Грешен. Удовольствие, как вы понимаете, дорогое. Недаром же мы говорим им «Дорогая моя». А красивая — она всегда дорогая. Сувенирчик желает иметь от дорогого — колечко, сережки, да что б с камешком, чтоб поизящней да драгоценней. После такого признания Ипполит Исаевич достал восемь сверкающих фианитов, три золотые царские монеты десятирублевого достоинства и небольшой слиток золота и спросил, сможет ли дорогой Арсений Львович сделать восемь бриллиантовых колечек. Слитка для восьми колец с лихвой хватит. А что касается монет, то их щедрый клиент просто дарит искусному мастеру в знак признательности и глубокого уважения. Бертулин знал цену десятирублевок с портретом Николая второго: на черном рынке в Москве пятьдесят-семьдесят рублей за штуку, за хребтом Кавказа — по сто рублей. Он положил на ладонь все три монеты, опуская руку вниз-вверх, точно взвешивал их. Потом надел лупу и стал внимательно рассматривать одну монету, словно определяя, не фальшивые ли. Нет, в их подлинности он не сомневался, только почему-то заметил походя и просто, без намека: — Новенькие. Впечатление такое, будто только что с Монетного двора. — У попа на икону выменял, — убежденно солгал Пришелец. Врал он отчаянно и вдохновенно. Монеты эти и в самом деле были новенькими, только что из-под пресса, и делали их из жидкого ворованного золота, превращенного ловкими махинаторами в твердое. Делали искусно, соблюдая пробу и вес. Чувствуя сомнение ювелира, прибавил: — За работу я уплачу все, как полагается, честь по чести. — Форма оправы? — кратко спросил Бертулин, и это прозвучало как согласие. — Вот такая. — Пришелец достал из кармана бриллиантовое кольцо, купленное в магазине, где директором работал его не то чтобы приятель, но вполне надежный человек, вроде того прораба из реставрационных мастерских, вместе с которым они переводили «излишки» жидкого золота в твердое. Впоследствии лишь одно из восьми колечек, наготовленных Бертулиным, Пришелец подарил представительнице прекрасного пола — своей дочери Але, да и то сгоряча, к тому же под сильным влиянием спиртного. Он был не настолько щедр, чтобы разбрасываться подобными подарками.3
День девятого мая выдался солнечным и теплым, будто сама природа хотела угодить людям в их светлый праздник. Добросклонцевы решили провести День Победы за городом, у тестя Юрия Ивановича — Вячеслава Александровича Ермолова, пенсионера, кавалера ордена Отечественной войны первой степени, трех орденов Славы и многих медалей. Вячеслав Александрович прошагал дорогами войны, что называется, от звонка до звонка, то есть с июня сорок первого по май сорок пятого, три года тому назад ушел на пенсию и жил в собственном деревянном домишке в дачном поселке, расположенном на полпути от Москвы до Дядина. Добросклонцев пригласил и Станислава Беляева с женой к Ермолову, чтобы вместе отметить свой самый любимый праздник. Екатерина Вячеславовна вместе с сыном уехала к своим родителям еще накануне в воскресенье, а Юрий Иванович дежурит по управлению и освободился только утром девятого, в понедельник. Электрички, как всегда в это время, были переполнены спешащими на весенний простор москвичами, и Добросклонцеву, прибывшему на вокзал минут за пять до отправления поезда, пришлось весь путь стоять в проходе. На нем был светло-серый костюм, темно-коричневый плащ и трикотажная серого цвета водолазка. Плащ взял на всякий случай: синоптики ожидали к концу дня кратковременный дождь. У Добросклонцева было превосходное настроение. Выйдя из вагона, глубоко вдохнул свежий загородный воздух, напоенный запахом молодой, только что распустившейся листвы, снял плащ и зашагал от платформы по асфальтированной дорожке в сторону дома Ермоловых. Откуда-то звучала веселая музыка, то ли из открытого окна, то ли кто-то шел с включенным транзистором или магнитофоном. Вдруг музыку сменил истерический голос модной певицы, и в уши Добросклонцева ударили слова, и которых при их слиянии слышалось что-то вызывающе неприличное: «С ручейком играю в прятки…» Настроение у Добросклонцева сразу испортилось. «Черт бы вас побрал с вашим „чайком“, — мысленно выругался Юрий Иванович. Но тут зазвучала другая песня и совершенно другой женский голос, раздольный, задорно-удалой, чистый и звонкий, разлился по праздничному поселку, заполнил берега улиц, украшенных алыми флагами. Пела Лидия Русланова. Песня была старинная, Добросклонцев не знал ее слов, помнил лишь одну только фразу, которую нельзя было не запомнить, потому что в простых словах лично для Юрия Ивановича содержался особый глубокий смысл: «В такую дурную погоду нельзя доверяться волнам». Сына Добросклонцев увидел издалека, в глаза бросилась его яркая светло-розовая рубаха. Длинный и костлявый Женя, слегка сутулясь, бодро шагал навстречу отцу. Утреннее солнце озаряло его улыбающееся лицо. «Что-то веселое несет», — подумал Юрий Иванович и невольно тоже улыбнулся, подходя к сыну. — Привет, папа. С праздником тебя. — И тебя, сынок. Как там дела? — Ух, дела! Ты знаешь, что дед отмочил? — Отмочил? Это как — в пруду или в речке отмачивал или в лужу угодил? — Ну, папа, не придирайся. — А ты следи за своей речью. — Говорят же так, — оправдывался Женя, слегка смутившись. — Говорят и не так, еще хуже говорят. Например, говорят: «Он взял большую половину». Правильно это? Разве может быть половина большая или меньшая? Половины равные. — А как надо? — Взял большую часть. Ну хорошо, так что дед отчудил? Он у нас по части чудачества большой мастак. — Куда большой — больше некуда. Ты знаешь, папа, что он сделал? Вывесил, как положено по праздникам, красный флаг, а рядом три портрета. Прямо на фронтоне. — Портреты? Что ж, по праздникам положены и портреты. Никакого чудачества не вижу. — Да чьи портреты, папа? Сталина, Жукова и свой! Понимаешь, его портрет, где он сфотографирован при всех орденах. Который в журнале был напечатан! Сегодня, говорит, День Победы, и, говорит, я имею полное право вывесить портреты главных героев войны. Он что — и себя считает главным героем? — Не главный, конечно, а все же герой. Чтоб получить три ордена Славы, сынок, надо было трижды со смертью поцеловаться. — Юрий Иванович сокрушенно вздохнул и после паузы прибавил: — Он, конечно, чудак, наш дед. В словах отца Женя не уловил осуждения, лишь в глазах его увидел блеснувшую лукавинку. — А знаешь из-за чего он? — продолжал весело Женя. — Из принципа. Оказывается, он на первомайскую демонстрацию в Дядино ходил. И там в колонне свой портрет пронес перед трибуной. Представляешь зрелище? Все решили, что он чокнутый. — Да-а, чудачит старик, — решил Юрий Иванович. На улице у калитки дома Ермоловых стояли трое: сам Вячеслав Александрович, его сосед — уже немолодой художник-фронтовик, поселившийся здесь после войны, и председатель жилищного кооператива Смирнов. С ними Юрий Иванович был знаком. Сосед Ермолова ему правился не только мастерством живописца, но и мягким покладистым характером. Тихий, доброжелательный, благообразный, несколько замкнутый, он никогда ни с кем не ссорился, избегал всевозможных распрей и склок, старался не вмешиваться в дела, особенно конфликтные, которые лично его не касались. С ним Вячеслав Александрович поддерживал самые что ни на есть добрососедские отношения. Иное дело председатель жилищного кооператива Смирнов. С ним ершистый Ермолов не ладил, считал его прохвостом, взяточником и склочником. Вячеслав Александрович, уйдя на пенсию, разводил нутрий, за что и был в анонимке назван «частнособственником-спекулянтом». Ермолов догадывался — писал анонимку Смирнов: больше некому. Вячеслав Александрович был при всех орденах и медалях. Невысокого роста, с живым подвижным лицом и быстрыми глазами, тесть производил впечатление человека задиристого и колючего. Он принадлежал к категории людей, которых в народе называют непоседами, не знающими покоя и часто доставляющими своей неиссякаемой энергией беспокойство другим. По возбужденным лицам Смирнова и Ермолова Добросклонцев определил, что здесь происходит острый, совсем не праздничный диалог. Юрий Иванович дружески поздоровался со всеми за руку, поздравил с Днем Победы и надеялся, что с его приходом конфликт угаснет. Но не тут-то было. Довольно взвинченный и уже принявший с утра по случаю праздника, Смирнов, высокий как жердь, болезненно-худой, попытался найти поддержку Добросклонцева и, еще пуще распалясь, заговорил, показывая длинной костлявой рукой на портреты: — Полюбуйтесь, Юрий Иванович, на своего тестя. Что это, как не политическое хулиганство? Такое может позволить себе только человек, у которого… это самое, — он выразительно повертел пальцами у своего виска, — мозги набекрень. — А ты не пугайся и других не пугай, — задиристо парировал Ермолов. — Набекрень не страшно. Худо, когда вместо мозгов куриный помет, тогда и начинает мерещиться политическое хулиганство и разные прочие ужасы. — Э-эх, товарищи, и не совестно вам в такой день? — укоризненно спросил Добросклонцев. Но слова его не возымели ожидаемого действия, а последняя фраза Ермолова еще пуще подстегнула Смирнова, и он процедил скрипучим голосом: — Нет, вы только подумайте: на первомайскую демонстрацию со своим портретом пошел и теперь вот опять себя выставил на всеобщее обозрение. Это, я вам доложу, форменный культ личности. — Ты, Смирнов, плохо в культах разбираешься, — язвил Ермолов. — Мне культ ни к чему, потому как я личность. А личность, она и без культа личность. Культ тебе нужен, потому как стержня в тебе нет. А из «нет» личности не создашь. А и создашь — все равно не поверят. Ты где воевал, на каком фронте? — Ты, Ермолов, своими фронтовыми заслугами не прикрывайся, — попытался уклониться от неприятного вопроса Смирнов. В годы войны он работал на Дальнем Востоке. — То было давно. А теперь ты во что превратился? Перерожденец, вот ты кто. Крыс наплодил — ферму завел, натуральный американец. Ге-рой… А на поверку — фермер. Ермоловские нутрии, или, по Смирнову, «крысы», были объектом зависти председателя дачного кооператива, и это больше всего не нравилось Вячеславу Александровичу. Он принадлежал к тем людям, которые предпочитают оставлять последнее слово за собой. — А ты, Смирнов, чужую фамилию носишь, — вдруг заявил Ермолов. — Это почему ж чужую? Я фамилию не менял! — с недоумением спросил Смирнов. — Обманчивая она, и совсем не подходит тебе. Фамилию носишь смирную, а сам злой. — Злые бывают собаки, а я, Ермолов, человек. На всякий случай поимей ввиду. — Глаза Смирнова обиженно поблескивали из-под отяжелевших век. — Да ведь люди, как и собаки, разные — добрые и злые, добрые и мерзкие пакостники. — Вячеслав Александрович, не заводись, не порти погожий день, — попытался прекратить перепалку Добросклонцев, беря Ермолова под руку и подталкивая к калитке. И шутливо прибавил уже вполголоса: — Это даже негостеприимно по отношению к зятю. Я к тебе в гости приехал с хорошим настроением, а ты меня встречаешь какой-то ненужной сварой. Ермолов и сам уже понял, что хватил лишку. — Да ну его, — махнул рукой так, что звякнули медали, и послушно пошел вслед за внуком, подталкиваемый зятем. Но угомониться не мог, видно, крепко допек его председатель кооператива. — Я вот иногда думаю: кто мы — русские люди? Мы особое племя самоедов. Поедом едим друг друга, как наши далекие предки — князья, пока их Дмитрий Донской не собрал на Куликовом поле. — Он остановился, не доходя до крыльца, и придержал зятя за локоть. — Я недавно в Москве в рыбном магазине в очереди стоял. Живого карпа продавали. Очередь медленно двигается, и вот там один такой же, как и я, говорливый мужичонка, только, видно, ученый, подкованный, рассказывал, что один русский царь — кто именно, я не расслышал, — хвастался перед чужестранным королем, приятелем своим: мне, говорит, мой народ кормить не надо, поскольку мои подданные с большой охотой едят друг друга, тем и сыты бывают. — А ты назовешь мне царя, который бы кормил свой народ? Такого история не знает. Наоборот, народ всегда кормил своих царей и их придворную челядь. — Да я ж не об этом, — огорченно возразил Ермолов. — Я к тому говорю, что самоеды мы, вроде нашего Смирнова, и это у нас наследственное. — Да брось ты, тоже мне — нашел самоеда… Твой Смирнов просто дурак. Из дома вышла Екатерина Вячеславовна, и разговор тестя с зятем оборвался. — Поспать не пришлось? — участливо спросила жена. — Может, приляжешь на часок? Я постелила наверху. Юрий Иванович ответить не успел, хлопнула калитка, и раздался бодрый голос Станислава Беляева: — Здорово, москвичи! С великим праздником вас! В темно-сером костюме, белой сорочке при галстуке он выглядел франтовато. Рядом с ним стояла жена, Нина Алексеевна, — белокурая, с застенчивой улыбкой на порозовевшем лице и с круглой коробкой — тортом в руках. Направляясь навстречу гостям, Ермолов спросил в ответ на приветствие Станислава: — Ну как, ты все воюешь? — Воюю, Вячеслав Александрович. Наше дело такое — очищать общество от разной нечисти. А она, к сожалению, не убывает. Во всяком случае, на наш век хватит. — Да уж куда там: убывает. Как бы не прибывала, — охотно согласился Ермолов. — По зятю сужу: ни сна, ни покоя… — Он хотел еще что-то добавить, но к ним подошел вразвалку Женя, стал, скрестив на груди руки, и иронически сказал: — Дед, а там, между прочим, вас заждались.
— Где там? — повернулся к нему Ермолов. — Бабушка и мама. Помогать надо. — А что отец, а ты? Вот так, Стас, без деда не могут обойтись. Дед всем нужен. Ладно, иду. Извини-прости. Ты уж располагайся, как дома. — Мне с Юрой надо потолковать, — мягко заметил Станислав и пошел к Добросклонцеву, который, присев на корточки, разжигал костер для шашлыка. Добросклонцеву тоже нужно было поговорить с Беляевым о деле. Когда тот подошел, он, не вставая и не отвлекаясь от своего занятия, как бы между делом спросил: — Ну что Коньков? Не объявлялся? — К сожалению, пока глухо — как сквозь землю провалился. Правда, удалось установить личность парня, с которым он встречался на другой день после бегства из психиатрички. Некто Анатолий Павлов, студент МИИТа. — С ним говорили? — поинтересовался Юрий Иванович. — Со студентом? — Я считаю преждевременно. Надо понаблюдать. Позавчера я разговаривал с Мироновой и передал ей данные. Она не докладывала тебе? Добросклонцев не ответил, и Беляев понял, что о Павлове он слышит впервые. Тоня и в самом деле еще не успела доложить Добросклонцеву и проинформировать Беляева о вчерашней ее встрече с Павловым. Разговор был кратким, но обнадеживающим. Когда Тоня спросила Анатолия, давно ли он знаком с Коньковым, тот так искренне недоуменно повел плечами, что в первый миг можно было подумать о каком-то недоразумении, ошибке со стороны сотрудников милиции. — Но вы же были у него на квартире третьего дня, встречались с ним! — Дядя Коля, вот кого вы, наверное, имеете в виду. — Павлов добродушно улыбнулся и рассказал, как познакомился с «дядей Колей» возле комиссионного магазина и тот пообещал продать по дешевке японский магнитофон, попросил взаймы десятку и дал свой адрес. Так что он заходил по поводу магнитофона. — И чем же кончилась ваша встреча с Коньковым? Вы купили магнитофон? — Какое там, — Павлов небрежно поморщился. — Половину аванса получил: пятерку. Он оказался банальным алкашом. — Значит, надул на пятерку. А в психлечебницу вы к нему зачем приходили? — спросила Тоня на всякий случай, авось клюнет. Павлов «клюнул», ответил с вежливым равнодушием: — Все за тем же. — За пятеркой? — Надеялся на магнитофон. — Японский магнитофон, надо полагать, немалых денег стоит? А вы человек небогатый, насколько мне известно, родители вам не помогают. — Тоня со слов студента-однокурсника Павлова знала, что Анатолий подрабатывает личным шофером у какой-то важной особы. Фраза «насколько мне известно», произнесенная с ударением, заставила Павлова насторожиться. Виноватая, застенчивая улыбка тенью скользнула по его румяному лицу. Он догадался, что эта симпатичная женщина-следователь навела о нем справки, и решил играть наивную откровенность, но игру вести не поспешную. — Приходится подрабатывать. — Чем? — в упор спросила Тоня. — По-разному, как придется: тому подсобишь… — Он запнулся, не стал дальше распространяться. — У вас есть водительские права? — опять забросила удочку. Павлов догадался, куда клонит следователь. — Да, я помогаю одному товарищу по шоферской части. Когда он возвращается из гостей, сами понимаете, под градусом за баранку не сядешь, тогда я в роли персонального шофера. — И опять тихая непринужденная улыбка заблестела в его глазах. — Кстати, вот вы говорите, что навещали Конькова в психиатрической лечебнице. А откуда вы узнали, что он там? — неожиданно спросила Тоня. Но Павлов и глазом не моргнул, не растерялся. Он был готов к такому вопросу. — Я пришел к нему на квартиру. Никого не застал. Спросил во дворе какого-то парня. Он мне и сказал, что дядя Коля в психичке. И адрес назвал. — Голос Павлова ровный, спокойный. Все кажется логично и естественно, но опыт подсказывал Мироновой, что логика и спокойствие Павлова обманчивы. Интуитивно она ждала от этой беседы чего-то важного, за что можно будет ухватиться в дальнейшем расследовании, и потому не спешила с вопросом, к которому их разговор подошел вплотную. Она не верила ни в магнитофон, ни в пятерку, как не верила наивным глазам студента. Уж больно он невозмутим. Пришла пора спросить о главном. — Так кто же ваш благодетель или работодатель, словом, товарищ, у которого вы служите шофером? На этот счет Павлов имел строгий наказ шефа: не афишировать их знакомство, тем паче дружбу. И теперь терялся в догадках, известно ли следователю имя человека, у которого он «работает шофером». Скрывать в данной ситуации было бы неразумно, и он назвал Ипполита Исаевича Пришельца. Не очень охотно, сдержанно и неопределенно отвечал он на последующие вопросы: чем тот занимается, где живет, бывал ли у него в квартире, сколько, наконец, «хозяин» платит своему «личному-персональному»? Павлов приготовился к долгому разговору, но Миронова вдруг поставила точку и, попросив Павлова сообщить в милицию, если ему станет известно местонахождение дяди Коли, простилась. Беляев и Добросклонцев о беседе Мироновой с Павловым в этот день еще не знали. Юрий Иванович считал, что через Конькова можно размотать уже довольно запутанный клубок следствия, и если его не найдут, продвигаться вперед будет очень трудно. Сухие дрова, зажатые с двух сторон поставленными на ребро кирпичами, пылали весело и жарко, и не прошло и часа, как они превратились в горячие угли, и сверху на кирпичи легли шампуры, унизанные сочной бараниной. Беляев сидел рядом с костром на низеньком стульчике и наблюдал, как Добросклонцев переворачивает шампуры, подставляя на угли то одну, то другую сторону, как вспыхивает вдруг пламя от капнувшего на угли жира, и Женя гасит огонь брызгами холодной воды. А неугомонный Вячеслав Александрович, звеня медалями, возбужденно сновал от костра к террасе, где женщины сооружали праздничный стол, давал советы и делал замечания, а больше всего изливал Добросклонцеву и Беляеву, по которым соскучился и был искренне рад встрече с ними, свои мнения и предложения, как всегда категоричные и безапелляционные. Возмущался болельщиками, которые пачкают стены зданий и заборы эмблемами спортивных клубов. И попутно ругал милицию, которая не принимает мер против этих пачкунов. — Мальчишки. Подрастут — опомнятся, — пытался было возразить Станислав, но его реплика еще пуще раззадорила Ермолова. — Коли так дело пойдет и дальше, то у этих мальчишек к тридцати-сорока годам хвосты отрастут, и пойдут они по деревьям лазить. — Не выйдет, — молвил Добросклонцев, продолжая ворочать шампуры. — Что не выйдет? — насторожился Ермолов. — Не смогут по деревьям лазить. Деревьев к тому времени не будет. — Разве что, — согласился Ермолов и опять к слову, как бы между прочим: — У нас новый лесничий. — Ну и как он? — Пока трудно сказать, на дурака не похож, а умного не сразу раскусишь. — А ты как, Вячеслав Александрович, дураков узнаешь, по каким признакам? — лукаво усмехаясь, спросил Беляев. — Дураков-то? Их с первого дня видно. Они перво-наперво обстановку в кабинете меняют. И секретарш новых берут. — А умный? Он не меняет секретарш? — без особого интереса спросил Добросклонцев. — Нет. Он замов меняет, это верно. И то не всех и не сразу. Сначала присмотрится, а потом — кого оставит, кого выдвинет или задвинет. — А кого больше — умных или дураков? — поинтересовался Беляев. Разговор с Ермоловым его забавлял. — Так это с какой стороны посмотреть. Дурак — понятие относительное. Есть еще и полудурки и полоумные. Все познаются в сравнении. Без дурака и умного не разглядишь, — ответил Ермолов уже на ходу и удалился в дом; через минуту донесся его призывно-восторженный клич: — Мужики, хозяйка просит к столу! За шашлыком Женя присмотрит! — Как, справишься с поручением деда? — спросил Юрий Иванович у сына. — Подумаешь, хитрость какая, чего там справляться, — по-мальчишески легко ответил Женя и прибавил улыбнувшись: — Поворачивай с боку на бок — и вся техника. Добросклонцев и Беляев направились к дому, где уже был накрыт праздничный стол. За столом Юрий Иванович пробовал шутить, но наблюдательный Станислав легко разгадал, что шутки его нарочитые, ими он пытается скрыть озабоченность, вызванную разговорами о Конькове, напасть на след которого пока не удалось. Станислава занимал вопрос: есть ли связь между исчезнувшим и студентом Павловым, и почему Антонина Миронова не поставила Добросклонцева в известность о Павлове? Она обязана была это сделать. — Мы, пожалуй, долго не будем у тебя задерживаться, — решил он. Но совершенно неожиданно, когда Беляевы собрались уходить, появилась сама Тоня. Появилась с букетом алых гвоздик. По-праздничному нарядная, Тоня казалась немного утомленной. Ее усадили за стол рядом с Беляевым. Добросклонцев сидел напротив, наискосок. Для Екатерины Вячеславовны появление Тони было неожиданным, но в этой неожиданности она не находила ничего предосудительного: такова милицейская служба. Каким-то чисто женским чутьем она догадывалась, что муж ее неравнодушен к этой женщине. Нет, она не ревновала, да и повода для ревности у нее не было. Наблюдая за Тоней, Екатерина Вячеславовна обратила внимание, что та избегает смотреть на Добросклонцева. Добросклонцев не мог не видеть, как пристально наблюдает его жена за Тоней; он испытывал неприятное чувство досады и огорчения. Он понимал, что неожиданное появление Тони совсем не связано со служебными делами — Коньков и Павлов всего лишь благовидный предлог. Как-то он сказал Мироновой, что самый любимый его праздник День Победы, потому что не будь его, не было бы не только Советской власти, не было бы России как государства вообще, и народ наш, по крайней мере его славянская часть, превратился бы в дым газовых камер, а представители других национальностей были бы отданы в рабство. Тогда Тоня ответила ему: представь себе, точно так же думала и я. Девятого мая и для меня самый дорогой праздник Юрий Иванович тогда подытожил разговор: следовательно, нам с тобой надо встретить как-нибудь этот праздник вместе. Сказал и забыл, а Тоня помнила, хотела напомнить и ему в эти майские дни, да не решилась: не позволило самолюбие. Долго боролась сама с собой, пыталась подавить в себе неумолимые желания. И не смогла, приехала. Нет, она не хотела, чтоб он догадался о подлинной причине ее сегодняшнего появления здесь незваной гостьей. И вообще, убеждала самое себя, что ей от него совсем-совсем ничего не нужно. Просто встретить вместе любимый праздник. Пусть это будет ее каприз, и пусть он впредь не бросает на ветер несерьезных обещаний. Украдкой наблюдая за Тоней, разговаривающей вполголоса с Беляевым, Добросклонцев замечал, что взгляд у нее рассеянный, хотя она и пытается изобразить преувеличенное внимание. Между тем Тоня как раз сообщала Беляеву, что есть интересные новости, которые могут дать им в руки ключ к делу о кулоне. Станислав бросил на Добросклонцева нетерпеливый взгляд и тихо постучал ногтем по стеклу своих наручных часов, сказав: — Не выйти ли нам на воздух. Юрий Иванович встал из-за стола. Поднялась и Тоня. Втроем они вышли на крыльцо и направились в сад. Тоня рассказала о своей встрече и беседе с Анатолием Павловым и под конец сообщила последнюю новость: вчера вечером Павлов с девицей выехали из Москвы в Абрамцево. Остановились на даче Ильи Марковича Норкина, где и заночевали. Личность девицы не установлена, но можно предположить, что это дочь Норкина. Это уже было «что-то». Нет, пожалуй, больше — вырисовывалась неожиданно замкнутая цепочка: Коньков — Норкин — Пришелец — Павлов — Бертулин. И «разомкнуть» ее обязаны они — сотрудники милиции — Юрий Добросклонцев, Станислав Беляев и Антонина Миронова.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
С Ипполитом Исаевичем случилось что-то такое, чего он и сам не мог бы объяснить, спроси кто его об этом. Но случилось определенно в его психике и, как следствие, в состоянии и поведении. Еще совсем недавно этот человек невозмутимо спокойный, уверенный в том, что почва у него под ногами как никогда тверда, а он, преуспевающий бизнесмен, неуязвим для любых землетрясений, ураганов и бурь, почувствовал не то что страх, тревогу, а какую-то странную зыбь, смутное душевное состояние, когда не находишь себе места. Сам Пришелец готов был признать это состояние обычной усталостью, которая приходит после активной напряженной умственной работы, но действительно какое-то время перед этим он находился в состоянии деятельного азарта, окончившегося победным опьянением. Последний год ему чертовски везло, и любое задуманное им дело шло гладко, как и должно идти там, где предварительнотщательно все продумано, взвешено и рассчитано. На жидком золоте он заработал неплохо, и главное — без малейшего риска, по крайней мере он сам так считал. Он не был лицом, материально ответственным, и формально к золоту не имел никакого отношения. Он всего-навсего внештатный консультант-искусствовед, с него взятки гладки. И никто не докажет, что именно он «консультировал» бригадира реставраторов, как из двадцатипятипроцентного золота получить десятипроцентное и как потом жидкое золото превратить в твердое. Никто не докажет, что именно он «подал идею» чеканить николаевские монеты и подсказал, как изготовить форму монеты и довольно примитивный станок. Кто конкретно смастерил это приспособление и сделал форму — он даже не знал и не хотел знать, поскольку предпочитал иметь дело лишь с одним человеком — бригадиром, лишних свидетелей он всегда сторонился. Но самое главное, венчающее его успех, конечно же, — операция с «камешками». Несколько дней тому назад он стал обладателем настоящих бриллиантовых колец, которые получил взамен фианитовых. Они были спрятаны здесь, в квартире, в тайнике, который он считал достаточно надежным — под плиткой паркета, на которой поверх ковра стояла ножка тяжелого буфета. Он хорошо «отблагодарил» Соколова — ведь тот брал отпуск, работал, по его словам, денно и нощно до рези в глазах и мозолей на руках. Но сработал чисто, мастеровито, потрафив требовательному заказчику, понимающему толк в алмазах. Разумеется, довольно прозрачным намеком Соколов был предупрежден не распространяться о выполненной работе, держать язык за зубами. Ипполит Исаевич, расслабившись, сидел в кресле и тупо смотрел на резную из мореного дуба ножку шкафа, изображающую лапу хищного зверя, и подсознательно чувствовал душевное беспокойство. Дубовая лапа хранила тайну и стерегла сокровища, не подверженные никаким девальвациям. Есть ли стопроцентная гарантия в надежности тайника? Вопрос этот возник только сегодня, сейчас, после того, как закрылась дверь за Зубровым. На обеденном столе еще стояла неубранная посуда, и Пришелец не собирался убирать ее до прихода Павлова, а тот должен появиться с минуты на минуту. Вот он и уберет стол. Зубров. Сегодняшний его визит несколько озадачил Ипполита Исаевича, и вместе с тем, выражаясь дипломатическим языком, он мог бы назвать их встречу конструктивной и полезной. Предложение исходило от Зуброва. Он позвонил Пришельцу в полдень и сказал, что, мол, давненько не виделись и хотелось бы пообщаться, на что Ипполит Исаевич с готовностью ответил: он рад встретиться в любое время. «Прекрасно! Тогда я сейчас еду», — заявил вдруг Зубров, и Пришелец с огорчением пожалел о необдуманной фразе «в любое время». Он не любил неожиданных визитеров. В конце концов можно было встретиться где-нибудь на нейтральной почве. О встрече с Зубровым Пришелец и сам подумывал после того, как Павлов сообщил ему о своей беседе с Мироновой. Беседа эта насторожила Пришельца, именно она и вывела его из душевного равновесия. Ему не нравилось, что в следственных органах его имя встало рядом с именем Конькова, и еще то, что следствие установило связь Конькова с Павловым. Пока что ничего конкретного, изобличающего в преступных действиях у следствия, по-видимому, нет. Но начнут копать. И всякое может случиться, чего нельзя ни предвидеть, ни предугадать. Похоже, что малость увлекся, нарушил свою первую заповедь, признался себе Ипполит Исаевич и тут же нашел оправдание: в азарте это неизбежно. Зато какой куш отхватил! Ради этого можно простить и маленькую беспечность. Совсем пустяковую. «Куш…» — Он криво ухмыльнулся своим мыслям. Вон Зубров рассказывал, как иные миллионами ворочают, наживают на тех же камешках, на платине, на антиквариате и даже — трудно поверить — на фруктах-овощах. Встревоженный взгляд Пришельца снова остановился на дубовой ножке буфета. И вдруг его пронзила неприятная мысль: а ведь начнут тормошить ювелиров, поинтересуются и у Бертулина. Как он поведет себя? Устоит ли? Человек опытный, тертый калач. Но кто знает — возраст! Хотя признаваться ему нет никакого смысла. Лучше молчать. Молчание всегда считалось золотом. Нет, неспокойно было на душе Ипполита Исаевича. Еще ожидая Зуброва, Пришелец рылся в догадках и предположениях, чем вызван этот визит. Но все оказалось банальностью: Зубров признался ему в своей связи с Натальей Максимовной, да вот беда: нет у них, как он выразился, «крыши» для интимных свиданий. Под «крышей» надо понимать уютное жилище. У Зуброва да и у Ященко есть дачи, но сейчас, в летний сезон, они ненадежны, тем более, что мадам Зуброва, очевидно, хорошо зная характер своего мужа, проявляет повышенную бдительность, держит его «под колпаком». Зубров обратился к Пришельцу за помощью, нет ли у него чего-нибудь на примете? А для начала попросил об одолжении: разрешить ему завтра встретиться с Натальей Максимовной здесь, у Ипполита Исаевича, разумеется, в отсутствие хозяина. Бесцеремонность Зуброва возмутила Ипполита Исаевича. Но положение было безвыходным. Отказать нельзя ни под каким предлогом, хотя бы уже потому, что Зубров считает Пришельца близким другом (перед тем, как изложить свою интимную просьбу, Михаил Михайлович пригласил Ипполита Исаевича на свое сорокалетие, которому быть через неделю). Кроме того, Зубров может быть полезен, особенно в трудные минуты, которые всегда надо иметь в виду. Пришелец не однажды убеждался в этом на собственном опыте, потому и широк круг его знакомств, состоящих из нужных людей. К таким «нужным» он отнес и Зуброва уже через несколько дней их знакомства. Просьба Зуброва поставила Пришельца в щекотливое положение. Оставить в этой сокровищнице кого бы то ни было! — такого допустить он не мог, это было бы безумство, вселенская глупость, равносильно пустить козла в огород. Понятий честность и порядочность для Пришельца не существовало. В каждом человеке, считал Ипполит Исаевич, живет хищник, только в одном он уже рыщет, в другом дремлет, в третьем спит глубоким сном. Где гарантия, что Зубров со своей Наталкой — эти алчные хищники — не произведут здесь тщательный обыск и не прикарманят самое драгоценное. Хорошо, что он предусмотрительно не сказал Зуброву твердого «да», обещал позвонить, уточнив лишь, в какое время им потребуется квартира. Теперь вся надежда на Павлова. Он должен срочно найти для Зуброва «крышу». На этот раз Пришелец решил посвятить Михаил Михалыча в историю с кулоном, и не без дальнего прицела он это сделал. Он изложил ему версию, прикидывая, чем располагает Добросклонцев. При этом выразил недовольство работниками милиции. «Странно ведут себя подполковник Добросклонцев и капитан Миронова, — негодовал Пришелец. — Потерпевшие в милицию не заявляли, никаких претензий к милиции не предъявляют, а те почему-то усердствуют на голом месте. Делать им, что ли, нечего?! Беспокоят людей, нервируют и хозяина кулона — почтенного человека, директора магазина „Меха“, и пожилого пенсионера из Дядина. Мне самому дважды пришлось разговаривать с этим Добросклонцевым, довольно примитивным, ограниченным товарищем. Я так и не понял, чего он хочет. Боюсь, что и сам он не понимает. Скорее всего не знает, как ему закрыть пустое дело. Просил меня помочь милиции поймать преступников. Вы представляете?! Хочет из меня какого-то дружинника сделать. Смех, цирк! А эта Миронова — говорят, она его любовница — судя по всему, вообще случайный человек в милиции. Моего шофера, студента, просто замучила. Я уж хотел кому-то пожаловаться, чтоб оставили нас в покое. Не буду я помогать милиции искать преступников, не желаю. Пусть сами своим делом занимаются, именно делом, и не чепухой, вроде какого-то кулона, которого, возможно, и не было. Да и свидетель Коньков утверждает, что не было кулона. Потому Норкин и не заявлял. Чепуха какая-то». Разгневанный монолог Пришельца Зубров выслушал молча с видом серьезным и сосредоточенным. Затем извлек из кармана записную книжку в палехском переплете, попросил повторить фамилии. Записав, обронил: «Хорошо, я поинтересуюсь». — «Пусть оставят нас в покое», — повторил Пришелец. — Что ж, ком грязи брошен с целью замутить воду, теперь слово за тобой, Зубров, действуй, покажи свое дружеское расположение. — Ипполит Исаевич мысленно улыбнулся. — Ну а насчет твоей деликатной просьбы мы постараемся. Павлов, где Павлов? Как всегда опаздывает! Но Анатоль не опаздывал: он позвонил в дверь вовремя, минута в минуту, запыхавшийся, возбужденный и веселый, в желтой канареечной тенниске с черным воротником, в светлых брюках и новых бежевых штиблетах. Он был весь новый, праздничный, улыбчивый, как и положено молодому супругу. Скороспелую свадьбу сыграли вчера в банкетном зале ресторана «Будапешт». Гостей было человек сорок, что называется, узкий круг, главным образом молодежь — друзья-приятели жениха и невесты. Родственники Норкиных соберутся завтра на даче в Абрамцеве, познакомятся с женихом, о котором уже наслышались, как о талантливом мальчике с большим будущим. Конечно, он провинциал, ему не хватает внешнего лоска, но это наживное, главное — помочь ему хорошо устроиться после окончания института, сделать карьеру. Природная хватка, по первым впечатлениям Норкиных, у зятя есть, а насчет карьеры Илья Маркович и его друзья позаботятся. Все дело в связях, а они у Норкина обширные и разнообразные. Словом, Анатолий Павлов попал в надежные руки, а Беллочке, можно сказать, крупно повезло. Но заблуждались Норкины: судьбой Павлова распоряжался Ипполит Исаевич. Павлов был его собственностью, как буфет и запрятанные под ним бриллианты. Пришелец на свадьбе не был: для Норкиных-родителей он с Павловым не знаком. На этот раз он не набросился на Анатолия с упреками и не выказал своего неудовольствия. Напротив, встретил ленивой улыбкой, загоревшейся и тут же погасшей. — Поздравляю с законным браком. Ну как свадьба? — Все путем, Ипполит Исаевич, — крепко пожимая вялую руку шефа, ответил Павлов. — А ты знаешь происхождение слова «свадьба»? — Никак нет, Ипполит Исаевич. — Слово это из двух корней, как и «спасибо», что значит «спаси бог». Так и «свадьба». «Сва» — значит «своя». Раньше по чужим бабам бегал, а теперь у тебя своя. Знать надо. — А вы лингвист, Ипполит Исаевич, — улыбнулся Павлов. — Как всякий истинный интеллигент. А интеллигент — значит интеллектуал, эрудит. Эрудиция — привилегия избранных. Так распорядилась мать-природа. В тебе вот нет интеллигентности. И никогда не будет, потому что она от бога, она в крови, по наследству передается. Самоуверенность шефа и высокомерие задели Анатолия за живое. — Извини, нескромный вопрос. Надеюсь, невеста, а теперь уже жена, то, что надо? Можно смело ставить Знак качества? — Его цинизм всегда граничил с пошлостью, но «истинный интеллигент» считал это нормой, особенно в отношениях с теми, кто от рождения «лишен интеллигентности». Прежде Павлов не находил в словах Пришельца ничего для себя оскорбительного, унижающего его человеческое достоинство. Он даже видел в этом особое к себе расположение и доверие, что-то дружеское, интимное. Но сейчас слова шефа задели его. На явную гнусность ответил в тоне самого Пришельца: — Прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. — Насчет коварства — сомнительно, но демоническое в ней что-то есть. — Вам лучше знать, — резко ответил Павлов, давая понять, что разговор ему не нравится. Они сидели в кабинете в глубоких креслах друг против друга у журнального столика. Анатолий — положив ногу на ногу, как бы демонстрируя ярко-оранжевые носки; Ипполит Исаевич, по своему обыкновению, водрузив ноги в тапочках на стол. В позе Пришельца, в подошвах тапочек, направленных в лицо Павлову, было все то же откровенное пренебрежение, что и в словах, в голосе, в тоне, в жестах и поступках. Он постоянно внушал Павлову свое превосходство, всячески подчеркивал, что между ними лежит непроходимая пропасть. Павлов был для Пришельца низшим существом, впрочем, как и Зубров, с той только разницей, что перед Зубровым он не демонстрировал своего превосходства, не унижал его, потому что обстоятельства не позволяли этого. Для него и Павлов и Зубров, впрочем, как и супруги Ященко со своими фианитами, как и банщик Соколов, были всего лишь орудиями производства, при помощи которых можно делать прибыль. Как люди со своими мыслями, думами, вкусами и взглядами, они его не интересовали, хотя он отлично знал их характеры, их человеческие слабости, чувствительные струны, на которых можно играть опять же в свою пользу. Его вовсе не интересовало, что думает о нем Павлов, — пусть думает что угодно, лишь бы он прилежно и безропотно делал то, что нужно ему, Ипполиту Исаевичу. Ему было совершенно безразлично, как прошла у Анатолия свадьба, и заговорил о невесте он лишь затем, чтобы еще раз уязвить это низшее существо, ужалить. В нем действовал инстинкт скорпиона. Ужалил, утолил свою прихоть и переходи к делу, незачем терять время на пустую болтовню. И он сразу же, без всякого перехода спросил: — А как с приданым? Ты поинтересовался? — Он имел в виду кулон. — Спросил, — Павлов с ухмылкой отвел глаза в сторону. — Как? Так прямо, в лоб? — Обыкновенно, — сонным капризным голосом ответил Павлов. — Спросил, что за история была с ювелиром, мол, я слышал краем уха. Сказал, что вас в милицию вызывали. Она рассказала. — Дельно, — одобрил Пришелец. — А потом, дальше? — Я спросил, что это за штука такая — кулон? Мол, никогда в жизни не видел и представления не имею. Обещала показать. — Грубовато, — промычал Пришелец, тупо уставившись в стол. — Надо потоньше, поосторожней. И не волынь: время деньги. А без денег… ты — ничто. И помни, когда приданое исчезнет, подозрение ляжет на тебя. Надо иметь алиби. В квартиру должны проникнуть опытные умельцы, обезвредить собаку и взять кое-что из вещичек, но самое ценное, в том числе и кулон. Но так, чтобы все вместилось в кейс. О деталях сам позаботишься, заставь свой котелок поработать. Алиби должно быть веское: тебя в это время не было в Москве, ты уезжал в Крым к матери. И билет случайно сохранил — туда и обратно. — А как обратный заполучить? Пришелец посмотрел на него с недоумением. Постепенно взгляд его становился скорбным, пухлые губы дрогнули, изобразив отвращение, и он произнес с деланной грустью: — Что-то с головой у тебя стало. Плохо, совсем плохо соображает. Женитьба, что ли, подействовала? Пойди к симферопольскому поезду и попроси билет у любого приехавшего в Москву пассажира. Павлов с досадой хлопнул себя по лбу. — Ну ладно, дошло. С похмелья бывает. Ослаб. Кстати, забываю тебя спросить: не удалось поближе сойтись с тем студентом, Комаровым, или как там его? — Малярчиком, — вяло подсказал Павлов. — Бывал у него дома и на даче. Отец его какой-то хмырь в прокуратуре. На даче зашли в сарай, и там, представляете, — целый склад консервов: свиная, говяжья тушенка, ветчина импортная в банках, сгущенное молоко. Черт-те что. Эрик рассказывал: соседские мальчишки однажды туда забрались и несколько банок реквизанули. Так отец пожаловался в районную милицию. Сгоряча, конечно, чтобы власть показать. А когда мальчишек милиция нашла — простил, приказал не заводить дела. — Боялся обнародовать свой продовольственный склад, только и всего. Ну что ж, деталька весьма и весьма… В ней, как в капле воды, весь Малярчик. То, что нам надо, с таким легче договориться. — Ипполит Исаевич прикрыл глаза рукой, сделав ладонь козырьком. — Постарайся узнать, что из себя представляет Денис и кто его отец. Иди на сближение и контакт. Пригласи в ресторан, пусти пыль в глаза, но не переборщи: элита не любит, чтоб над ней возвышались. Прояви услужливость и преданность. Пригласи к себе на дачу, с девчонками, разумеется. — У них свои дачи, — напомнил Анатолий. Он с первого слова понимал, к чему клонит шеф. — Свои — да не свои. Там родители. При предках не очень разгуляешься. — У меня тоже предки, Ипполит Исаевич. — Норкины не должны появляться. Скажи жене, что это нужно, это важно для твоего, для вашего будущего. Илья Маркович не дурак, поймет. А как с Добросклонцевым и Мироновой? Что еще удалось узнать? — О Мироновой ничего нового. Добросклонцев живет на улице Добролюбова, недалеко от нашего общежития. Сын — школьник, четверочник. Пассивный, замкнутый. С мальчишками не контачит, дружит с девчонками… — Стоп! — оборвал его Пришелец и снял ноги со стола. Утомленные глаза его оживились. — Девчонки, девчонки. Так. Узнай все подробно — что за девчонки. В каких отношениях, где встречаются, с кем у него любовь, кто ее родители. Понял? Это нужно, очень важно. Ты меня понял? Идею постиг? — Понял, Ипполит Исаевич. — А раз понял, то перейдем к следующему вопросу. — Пришелец прошелся по комнате, возвратился к столу и, закусив нижнюю губу, прищурясь, уставился на Павлова: — Дело срочное, важное. На завтра нужна квартира, на худой конец — комната. Меблированная. Пока что на один день. Нужна как воздух! Думай, шевели мозгами. Нелегкую задачу поставил он перед Павловым: не было на примете ничего подходящего. Анатолий жил в общежитии института, вернее, там только числился, а большую часть времени проводил у своей знакомой, которую он называл «моя подруга». От следователя районной прокуратуры Маркиной два года назад ушел муж, ушел к другой женщине с одним чемоданом личных вещей, оставив ей двухкомнатную квартиру со всем домашним скарбом. Одиночество Маркиной длилось всего несколько месяцев, пока на ее пути случайно не встретился симпатичный, веселый и находчивый юноша из МИИТа. Познакомились они при довольно обычных для Москвы обстоятельствах: она возвращалась домой от своей подруги воскресным вечером, слегка усталая, слегка хмельная, искала такси или хотя бы попутную машину: не хотелось добираться на городском транспорте с несколькими пересадками от Чертанова до Марьиной Рощи. Но такси с пассажирами проходили мимо. И вдруг к ее радости остановился «Жигуленок», за рулем которого сидел Анатолий Павлов. Дорога длинная, считай, через всю Москву с южной окраины до северной, юноша оказался на редкость разговорчивым, располагающим к себе. За приятной беседой Маркина и не заметила, как оказалась возле своего дома. И когда она открыла сумочку, чтобы расплатиться за услугу, Анатолий очень естественно смутился и как-то задушевно сказал: — Да что вы, Валерия Иосифовна… Это я вас должен поблагодарить за приятную компанию и пожелать вам самого светлого в жизни. (В пути она рассказала ему о своей семейной драме.) И тогда Маркина пригласила Павлова на чашку кофе. Анатолий не отказался. Не отказался и от рюмки коньяку, совсем забыв, что за рулем. Вспомнили об этом оба лишь тогда, когда настал час расставания. — Пожелайте мне не нарваться на ГАИ и избежать неприятностей, — сказал Павлов, задержав ее руку в своей и глядя на нее чистыми и нежными глазами, которые говорили: «А мне так не хочется уезжать». Она поняла его взгляд. — Не надо рисковать. Оставайся до утра, — сказала она проникновенно. И он остался. О женитьбе Павлова Маркина узнала за неделю до свадьбы. Он сам ей сказал об этом по телефону: опасался истеричных сцен, упреков. Но ничего подобного не произошло. Она сказала ему, сохраняя спокойствие: — Что ж, это прекрасно. Поздравляю. Ты вполне созрел для семейной жизни. Зашел бы, рассказал. Твое счастье — моя радость. Поверь, это от чистого сердца. Накануне свадьбы он забежал к ней на несколько минут, чтоб вернуть ключи от квартиры. Ключи она не взяла, сказав с грустной улыбкой: — Пусть будут у тебя. Может, когда-нибудь появится желание забежать на часок, устав от семейной жизни. Этот жест растрогал Павлова, он искренне жалел Маркину, к которой тоже привязался. В тот предсвадебный день он задержался у Маркиной не десять минут, как рассчитывал, а целых два часа, заполненных страстными поцелуями, слезами и ласками. Он сумбурно объяснял, что брак его случаен и нелеп, что не пройдет и года, как он разлетится в пух и прах, но обстоятельства сложились так, что сейчас он не в силах что-либо изменить. Со временем он все объяснит. И она не настаивала. О связи Павлова с Маркиной никто из друзей и знакомых не знал, это была их сокровенная тайна, в которой больше всего был заинтересован Анатолий. И даже Пришелец, который считал, что Павлов с ним открыт и откровенен, как на исповеди, ничего не знал о существовании Валерии Иосифовны, а уж она-то, хотя бы как лицо должностное, не могла не представлять для Ипполита Исаевича интереса в качестве экспоната его коллекции «нужных людей». И когда Пришелец дал задание найти на завтра «крышу», Павлов растерялся. Его возможности и в самом деле не были безграничными, а требования и задания шефа с каждым днем становились все сложней и порой просто невыполнимы. Анатолия это не только повергало в уныние, но и пробуждало давно подавленное чувство гордости, ему хотелось послать шефа к черту, раз и навсегда порвать с ним. Но внутренний голос подсказывал, что это невозможно, совсем нереально, что судьба его крепкой веревочкой привязала к Пришельцу. Его останавливало не то, что, порвав с Ипполитом Исаевичем, он лишится привычных материальных благ. Он боялся мести и жестокой расправы. Он знал злобный, коварный прав своего «благодетеля». Павлов стоял перед Пришельцем удрученный и растерянный. Ипполит Исаевич понимал, что задание дал нелегкое. Но отказать Зуброву не мог, а предоставить полковнику и Наталье Максимовне свою квартиру никак не решался. — Очень нужно. И прежде всего в твоих интересах, — произнес Пришелец после долгой паузы тоном, в котором уже звучала скорее просьба, нежели приказ. — Понимаю, что «крыша» нужна не для вас, — негромко отозвался Павлов. — Я попробую один вариант. Но хотелось бы знать, для кого? Это не праздное любопытство, меня это не касается. Но я должен быть абсолютно уверен, что в квартире все останется на своем месте. Не в том смысле, что пропадет, а даже не будет переставлено или сдвинуто хотя бы на один сантиметр. Ипполит Исаевич догадался, что речь идет о квартире близких Павлову людей и что эти люди не должны знать о посещении квартиры посторонними в их отсутствие. — Правильно соображаешь: «крыша» нужна моему близкому другу. Ключи передашь мне и, естественно, скажешь адрес. Насчет сохранности можешь не волноваться: гарантия стопроцентная. Если я правильно понял тебя, с «крышей» дело улажено? Ключи принесешь завтра утром. Идет? — Я должен поговорить. — Телефон к твоим услугам. — Нет, я должен лично встретиться. — В таком случае не теряй времени, встречайся. Гуд бай!2
Ключи от квартиры Маркиной Зубров привез Пришельцу на другой день поздно вечером, возвратясь из загородного ресторана «Сказка», что на Ярославском шоссе. Сначала он отвез домой Наталью Максимовну, с которой в ресторане, а затем в подмосковном парке «выяснял отношения», подпорченные вчерашней встречей на квартире Валерии Иосифовны. А все началось с того, что, войдя в незнакомую квартиру, которую Зубров открыл ключом, Наталья Максимовна с чисто женским любопытством стала осматривать то, что называют предметами домашнего уюта, не проявляя при этом особой деликатности к самим предметам и тем самым нарушив условия Павлова и Пришельца «ничего не трогать». Зубров пытался было отвлечь ее и деликатно предупредил оставить безделушки в покое, но его замечание задело своевольный нрав Натальи Максимовны, она небрежно швырнула на тахту африканскую статуэтку из черного дерева и, презрительно поджав пухлые губки, спросила: — Чья это квартира? — Одних моих знакомых, — торопливо и не очень убедительно соврал Зубров, вызвав тем самым новый вопрос. — Кто она, чем занимается эта твоя знакомая? В голосе Натальи Максимовны прозвучало ревнивое пренебрежение. — Да, собственно, я не знаю, кто хозяева этой хижины, и какое это имеет значение, — совсем запутался Зубров и, чтоб как-то исправить положение, прибавил: — Главное, что мы здесь одни, и нам с тобой хорошо. Верно, дружок? — Он попытался обнять Наталью Максимовну и поцеловать, но она решительно воспротивилась, увернулась от поцелуя, прикрыв его губы ладонью. — Ты ошибаешься, мне совсем не хорошо. Привел и сам не знает куда, в какой-то мещанский притон. Любовница твоя здесь обитает или, может, патентованная бандерша? Здесь мне делать нечего. Я ухожу. — Ну, знаешь ли… — обиделся Зубров. Но его опечаленный взгляд не смягчил Наталью Максимовну. Пришлось уступить женскому капризу: не стоило заходить слишком далеко. Притворясь раскаявшимся грешником, он нежно коснулся губами ее щеки и сдался на милость победителя. Победительница великодушно простила его, но тут же спросила, почему он изменяет своей жене, и вообще, что из себя представляет его Любовь Викторовна? В ее вопросе он увидел смесь лицемерия, глупости и эгоизма. В конце концов точно такой же вопрос мог бы задать и он, но с его стороны это выглядело бы не очень учтиво: ведь он-то знал разницу в годах супругов Ященко. В ответ Зубров пробормотал что-то банальное и неубедительное, вроде того, что его Любовь Викторовна очаровательная, даже красивая, но внутренне пустая, без огня и страсти, холодная кукла. Своим неуместным вопросом Ященко бессознательно причинила ему боль. — Я хочу с ней познакомиться, — настойчиво и капризно попросила Наталья Максимовна. — Нет проблемы. Если ты не забыла, в пятницу мне исполняется сорок лет, а в субботу я приглашаю тебя и Антона Фомича на юбилейный обед к себе на дачу, соберемся в узком кругу. Будут только самые близкие. — После некоторой вынужденной паузы он, как бы испытывая затруднение, продолжал: — Я хотел бы пригласить Якова Николаевича, но не знаю, как это сделать, правильно ли он поймет. Дело в том, что мы с ним не настолько близки — просто знакомы. Но поверишь, симпатичен мне этот человек. — Земцев? — Наталья Максимовна загадочно прищурилась. — Сфинкс, задача с тремя неизвестными. Зачем он тебе? Ищешь покровителей? Он осторожен и необщителен. — Просто интересный человек. Общение с умными людьми не только приятно, но и полезно. Может, через Антона Фомича? Они ведь дружат? — Повторяю: у Земцева нет друзей. Впрочем, возможно, и есть, только мы их не знаем. Но если тебе очень хочется видеть его у себя на даче, я постараюсь устроить — заранее переговорю, а ты потом пригласишь. Наталья Максимовна давно хотела разгадать сфинкса Земцева, но увлечение Зубровым помешало ей сблизиться с Яковом Николаевичем. Теперь же, понемногу разочаровываясь в Зуброве, она решила, что самое время заняться Земцевым. О хозяевах квартиры Наталья Максимовна больше не спрашивала, но зато попросила Зуброва свозить ее завтра же в загородный ресторан: ей так хотелось побыть на природе. Для Зуброва такая поездка создавала некоторые сложности и неудобства, он терял половину рабочего дня, но ради закрепления их отношений, которые нежданно-негаданно дали трещину, пришлось пойти на уступку. Надежды Зуброва на поездку в «Сказку» не оправдались: в ресторане Наталья Максимовна опять заговорила не столько о квартире, сколько о ее хозяйке, в постели которой они провели почти весь день. В ней снова зашевелилась разбуженная ревность. А Зубров и в самом деле не знал, кому принадлежит эта квартира, в чем клятвенно убеждал Наталью Максимовну. Она не поверила ему. Поэтому, явившись к Пришельцу с ключами, он первым делом поинтересовался, кто хозяева квартиры. Пришелец развел руками. — Понятия не имею. — Ему не хотелось распространяться на эту тему. — Похоже, что там живет женщина-юрист, — высказал предположение Зубров. — Кстати, о юристах. Вы не знаете Малярчика? — умело сменил тему Пришелец. — Петра Михайловича? — Да кто ж его не знает! Яркая фигура на тусклом небосклоне. Между прочим, лет семь тому назад мы с ним за хребтом Кавказа одно грандиозное дело провернули, за что и были отмечены высшими инстанциями, — сказал Зубров с веселой улыбкой, но в бодром голосе его играли иронические нотки. Кто знает, что на самом деле за ними скрывалось. Возможно, глубокая тайна Михаила Михайловича. Ведь именно с той закавказской операции и началась зажиточная жизнь Зуброва. Взяточники средней руки получили длительные сроки, а что касается акул, то они, как говорится, отделались легким испугом и потерей крупных сумм нетрудовых доходов, львиная доля которых застряла в карманах Зуброва и Малярчика, что, однако, не сблизило их, по крайней мере они не стали друзьями. Знакомство, а возможно, и приятельские отношения Зуброва с Малярчиком, Ипполит Исаевич принял к сведению как факт положительный. Наблюдая за Зубровым, Пришелец пришел к заключению, что тот сегодня не в духе. Спросил не очень деликатно, но зато с искренним участием: — У тебя неприятности?.. Вид утомленный. — Да, я устал. Служба у нас такая — ни дня, ни ночи покоя, — пожаловался Зубров. Они стояли друг перед другом в столовой, стройный, подтянутый Зубров, облаченный в легкий из черной кожи пиджак, темно-зеленые брюки и коричневые на тонкой подошве полуботинки, и слегка сутулый в домашнем халате и тапочках на босу ногу Пришелец. — Рюмка коньяку, виски, «Посольской», — предложил хозяин и жестом указал на стул с изображением Серафима Саровского. — А пива не найдется? — Зуброва мучила жажда. — Сейчас проверю. — Если нет, тогда какой-нибудь воды, — бросил Зубров вслед удалившемуся на кухню Пришельцу. Ипполит Исаевич возвратился через минуту с серебряным подносом, на котором громоздились хрустальный графинчик с коньяком, две серебряные рюмки, пивной бокал, две банки шведского пива и хрустальная вазочка соленых орехов. Спросил: — Пойдет? Или чего-нибудь покалорийней? — Нет-нет, я только пива. — А я пиво — пас, у меня от него изжога. Организм пока что приемлет коньяк, — сообщил Пришелец, садясь за стол. — Всякому овощу свое время, а также и напитку, — подытожил Зубров и открыл металлическую банку. — Да, служба у вас нелегкая, не позавидуешь, — посочувствовал Ипполит Исаевич и, подняв рюмочку с коньяком на уровень глаз, прибавил: — За твои успехи. Зубров одним махом осушил бокал пива, довольно крякнул и, посерьезнев, заговорил: — В Москве из ювелирного магазина похищена партия дорогих бриллиантовых колец. — Голос его звучал бесстрастно, ровно и обыденно. Сделав паузу, он сунул себе в рот щепотку орехов и, хрустя ими, продолжал, уставившись на молчавшего Пришельца цепким взглядом: — Сработано чисто и оригинально: не просто взяли лоток с кольцами, а подменили. Кольца из натурального алмаза заменили фианитовыми точно такой же формы. И что характерно, наши ювелирные фабрики не выпускали таких фианитовых колец. Значит, сработано частным ювелиром. И довольно искусно. Потому и не сразу обнаружилась подмена. — Участие в этом деле кого-то из работников магазина — факт бесспорный? — не то спросил, не то утвердительно сказал Пришелец, внимательно наблюдая за Зубровым. Его мучил тревожный вопрос: случайно или не случайно зашел этот разговор. Если не случайно, значит, его подозревают и предупреждают: в конце концов фианитами они оба повязаны. — Бесспорный, конечно, но кто именно — поди, узнай. Не так просто. Действовал опытный лис. — В конце концов узнают. Рано или поздно — найдут, — убежденно сказал Пришелец, и в голосе его звучала непреклонная вера в талант работников милиции. — Как только одно из похищенных колец объявится на свет божий в комиссионном магазине, а скорее всего на черном рынке, преступник будет найден, — сказал весомо и авторитетно Зубров, и в этих словах его Пришельцу снова послышалось дружеское предостережение. И тогда он вспомнил колечко, подаренное дочери. Фианитовое, а по форме точно такое, как похищенные бриллиантовые. Где гарантия, что оно не появится в комиссионном магазине или на черном рынке. Эта зловещая мысль вызвала мелкую дрожь в пальцах Ипполита Исаевича, и чтоб скрыть ее, он поставил рюмку и опустил руки под стол. Сердце сжалось тревожной тоской. Ему показалось, что он побледнел, и Зубров заметил это и не хочет показать, что заметил, потому и перевел разговор совсем в другое русло: — В пятницу мне стукнет сорок, вот так-то, дорогой Ипполит Исаевич. По этому поводу в субботу у меня на даче соберутся самые близкие друзья: Ященки, Земцев, хотелось бы видеть и тебя. У Пришельца потеплело на душе: «дорогой», приглашает, как самого близкого друга. Если бы над головой этого друга нависла угроза, не стал бы Зубров приглашать его на свой юбилей. Это уж точно. Значит, с бриллиантами всего лишь предостерегал… Видно, и сам побаивается. Земцева пригласил — это хорошо, — Пришелец давно пытается установить с Яковом Николаевичем дружеские отношения, да все никак не получается. Осторожничает Земцев. — А Малярчик — он тоже будет в числе приглашенных? — спросил Пришелец. Зубров посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Спросил в упор: — Ты знаком с Петром Михайловичем? — Нет, но хотел бы познакомиться. — В открытом взгляде Пришельца Зубров прочитал просьбу. Зубров поморщился, давая понять, что такое приглашение не входит в его планы, явно ожидал, что Ипполит Исаевич тут же «даст отбой», но Пришелец молчал. И Зубров помягчел, снисходительно улыбнулся, понимая, зачем Пришельцу нужен Малярчик. — Ну что ж, можно и его, хотя человек он скучный и вообще мелковат. Там всем правит его супруга, которую он горделиво величает «мой политкомиссар». — Она кто у него? — Жена. Просто жена. Но женщина та еще… Государственный ум и власть некоронованного монарха. — Тогда это не женщина, а функционер. Я бы на такой ни за какие блага не женился. — Что ж тебе мешает найти свой идеал жены? — спросил Зубров, предлагая новую тему для разговора. Он еще не остыл от недавней размолвки с Натальей Максимовной и в душе продолжал с ней спорить. Теперь он нуждался в оппоненте и мысленно приглашал на эту роль Пришельца. И Пришелец отозвался: — Других в природе не бывает. По крайней мере в наше время. Современная женщина сверх меры эмансипирована. Она жаждет возвышаться над мужчиной вопреки природе и здравому смыслу. Хочет командовать, Требует поклонения и преклонения. — Что здесь противоестественного? Не вижу и не нахожу. — Зубров преднамеренно возражал, вызывая Пришельца на спор. Шведское пиво смягчило напряжение, глаза слипались, клонило ко сну. Вместе с тем в голове его копошились мысли, которые он хотел, но не решился высказать Наталье Максимовне, теперь от них надо было освободиться. — Если хочешь завоевать расположение женщины, пойдешь и на преклонение, на известные издержки, моральные и материальные. Женщины любят, когда их носят на руках. Одни предпочитают вещественные знаки внимания — сувенирчик, подарочек, другие — ласку, заботу, приятное слово, третьи — то и другое. А то как же? Женщины любят, чтоб говорили им приятное, разные там комплименты. — Ну да, всякую чушь, — мрачно процедил Пришелец. — О, Белла, как ты прекрасна! И жабоподобное двуногое тает, как маргарин на солнце, и мнит из себя этакую Афродиту. Да ведь комплимент — это разновидность лести и лжи. Комплимент развращает женщину. Возводя женщину в культ, мы портим ее. А я ненавижу все виды культа — в политике, в искусстве, в науке, в любви! — Любовь — особая статья, — возразил Зубров и причмокнул сочно языком, — Одно дело мимолетное увлечение, легкий флирт, что-то случайное и несерьезное, не глубокое. Другое дело — любовь. А когда мы любим, мы теряем чувство реальности по отношению к любимой. Мы идеализируем ее и делаем это искренне. Сами верим в то, что говорим, в те добродетели, которыми так щедро одариваем любимую. И раскормленная толстуха нам кажется сказочной феей из «Лебединого озера», и в пустой легкомысленной девчонке вы видим кладезь ума, таланта и души, хищную эгоистку считаем воплощением доброты. Наделив ее всеми лучшими, какие только существуют в мире, качествами, мы внушаем ей со слезами умиления, что она самая прекрасная, самая-пресамая на всей планете, ангел во плоти. Из поколения в поколение, из века в век одними и теми же словами влюбленные пели гимны своим любимым. Украинцы ласкательно говорят: рыбонька моя, русские называют зоренькой, радугой, реченькой и как только не величают. Пели и будут петь, пока существует род людской. Миллионы женщин миллион раз задавали любимым один и тот же вопрос: «За что ты меня любишь?» И получали стандартный ответ: «Ты самая прекрасная в мире, самая умная и самая добрая», ну, в общем — «самая». — Но это же ложь, — нетерпеливо перебил Пришелец. — Ложь, которая оборачивается большими неприятностями. Обожествлять ничтожество, лгать, притворяться из-за поцелуя и тому подобного — глупо. Это разновидность язычества, когда создают из дубового полена истукана, обожествляют его, молятся и поклоняются ему. Сами создают добровольно и верят в свою же выдумку. Когда этот идол деревянный — там куда ни шло — молись, приноси ему жертвы и дары. А наши идолы живые, они тоже верят в сказки, которые мы им рассказываем, в добродетели, которыми мы их наделяем, Верят! И уже свысока смотрят на сочинителей этих сказок и думают: коль я такая необыкновенная, так зачем ты мне нужен, обыкновенный?! Поищу-ка я себе равного. Они неблагодарны. Вашей жертвы не оценят. Считают, что так и должно быть, что не они, а вы должны быть им благодарны за ваше же внимание и доброту. И знаете, к какому выводу я пришел на основе личного опыта? Женщине нельзя давать больше, чем она стоит, переплачивать нельзя. Ни в коем случае. Лучше недооценить, чем переоценить. Уверяю вас. Испытал на собственной шкуре. Ошибался и учился на ошибках. Если вы дадите ей больше, чем она заслужила, считайте, что ваша песенка спета. Она возомнит о себе и сядет вам на шею, она перестанет уважать вас как раба, не то что любить. От прежней любви к вам, или по крайней мере видимости, подобия любви и следа не останется. Она будет требовать от вас все больше и больше, а взамен вы не получите ровным счетом ничего. Даже доброго слова, искренней ласки не дождетесь. Ипполит Исаевич говорил вдохновенно, даже самозабвенно, словно с профессорской кафедры возвещал непререкаемые истины, которые открыл и первым поведал миру. Зубров слушал его с неожиданным интересом, не перебивал и не возражал. Ему казалось, что этот матерый специалист по женской психологии высказывает и его собственные мысли, что и он, Михаил Михайлович, совершенно согласен и готов подписаться под каждым словом Пришельца. Ему было приятно, что не один он так думает, что у него есть авторитетные единомышленники. Слушая Пришельца, он вспоминал Наталью Максимовну, ее капризы, вдруг вспыхнувшие вчера и особенно сегодня, в размолвке, когда они, выйдя из «Сказки», выехали на лесную поляну, и он в машине пытался обнять ее и получил такой неожиданно резкий отпор, что даже смутился, — перед ним была гордая и самонадеянная женщина, ни капельки не похожая на его прежнюю Наточку, удовлетворявшую все его желания. Он пытался найти причину такой перемены и, не найдя ничего другого, решил, что это результат вчерашнего выяснения отношений между супругами Ященко, о чем говорила в ресторане Наталья Максимовна. Антон Фомич, оказывается, вчера весь день был дома, поджидая свою супругу, ушедшую неизвестно куда и зачем, а потом под вечер видел, как она выходила из машины, за рулем которой сидел Зубров. Съедаемый ревностью и обидой, на этот раз Антон Фомич изменил своему прежнему многолетнему терпению, не выдержал и хоть негромко, без грубых слов, тактично напомнил жене, что своим поведением она компрометирует его, человека если нелюбимого своей супругой, то вполне уважаемого в порядочном обществе. При этом тихий, упавший голос Антона Фомича дрожал, прерывался, переходя на шепот отчаяния и безысходной тоски. И может, впервые в душе Натальи Максимовны слабым, едва мерцающим огоньком просветлело чувство жалости и стыда, пожалуй, даже не стыда, а неловкости и смущения. Тем более, что в ней неприятный осадок оставила квартира, несомненно, принадлежавшая одинокой женщине и, возможно, бывшей любовнице Зуброва. Тогда ей подумалось, что со временем и она может стать вот так же «бывшей». Так стоит ли долго ждать того времени, а не покончить ли сейчас? Побаловались — и хватит: лучше самой первой уйти, чем ждать, когда тебя бросят. Роль отвергнутой любовницы больно задевала ее самолюбие. И Наталья Максимовна на этот раз не перешла в контратаку, как это раньше бывало, а выслушала мужа с видом кротким, полным если не раскаяния, то сожаления. А потом, как всегда, говорила неправду: встретила его случайно, полчаса тому назад, он ехал к ним, чтобы пригласить на свой день рождения, что симпатизирует Зубров вовсе не ей, а Антону Фомичу. В дом не зашел потому, что спешил еще к кому-то с той же миссией, с какой ехал к нам, что как мужчина Зубров ей вовсе не нравится, что он груб, самонадеян и туп, а поддерживает она с ним только деловые отношения, и Антон Фомич знает, какие.
Вспышка ревности окончательно была погашена нежностью и лаской, по которым Антон Фомич давно тосковал. Монолог Пришельца Зубров мысленно примерил к Наталье Максимовне и находил, что он ей подходит тютелька в тютельку. Что она вовсе и не красавица, и никакого очарования в ней нет, и далеко не умна, пустая холодная эгоистка, злая, самонадеянная и, наверное, мстительная. Этот старый дурак Ященко набаловал ее вниманием, развратил неземными комплиментами и дорогими подарками, вознес до небес, А ее надобно спустить на землю, указать ей подлинную цену, дать понять, что она ничто, всего-навсего заурядная бабенка. И он, Зубров, это сделает и не позже, чем в следующую субботу. Вспомнилось ему, как во время последней встречи он нежно назвал ее ласточкой, а она вдруг возмутилась: — Как грубо, какие-то птичьи клички. — Да, я понимаю, тебя твой Антон рыбонькой называет… — А ты откуда знаешь? — удивилась она. — Все украинцы женщин рыбоньками называют. «Я ж тебя, рыбонька, я ж тебя милая, тай на руках понесу», — неумело пропел он и потом добавил с иронией: — Только не уточняют, что за рыба — селедка, щука, треска или нототения… под маринадом. Представляю: «Милая севрюжка», или «Кохана камбалка». Вяленая, жареная, копченая, сушеная… Наталья Максимовна невольно улыбнулась и сказала, уже смягчившись: — По-твоему, птичьи ласки благозвучней: «Любимая совушка», «Дорогая ворона»…
Когда Зубров уехал, Ипполит Исаевич по своему обыкновению после встречи с кем бы то ни было мысленно подводилитоги, анализировал и делал выводы. Последняя встреча с Зубровым дала ему пищу для серьезных размышлений. Во-первых, нужно готовить подарок имениннику: дата кругленькая, и какой-нибудь символической безделушкой не отделаешься. Но не это главное. Главное — бриллиантовые кольца. В памяти застряли слова Зуброва: «Как только одно из похищенных колец объявится на свет божий — в комиссионном магазине или на черном рынке, преступник будет найден». Ищут, конечно, не только бриллиантовые кольца, но и фианитовые аналоги. Аля, дочь. А что если она решит избавиться от подаренного кольца и снесет его в комиссионный? Тогда все — суши сухари. Этого допустить нельзя. Надо во что бы то ни стало вернуть кольцо. Любой ценой. И сделает это Павлов. Адрес и телефон бывшей жены он узнает через справочное бюро — это не проблема. Важно, чтобы Павлов сумел: купить, обменять на другое, равноценное, есть у него с бирюзой, с сапфиром, с яхонтом, рубином. Пусть скажет, что алмаз не натуральный, пусть сочинит легенду, что якобы кольцо это его, Павлова, невесты, и Пришелец не имел права распоряжаться им, что сделал он это в состоянии крайнего опьянения. Есть еще один не менее опасный источник угрозы: Арсений Львович Бертулин. Пришелец не без оснований полагал, что органы розыска опросят всех ювелиров, это, пожалуй, первое, с чего они начнут. Ясно, что фианитовые кольца сделаны частником-ювелиром по специальному заказу. Как поведет себя Бертулин? На этот вопрос у Ипполита Исаевича не было твердого ответа. Старик — орешек твердый, воробей стреляный и не клюнет на мякину. Это с виду он мягонький, чистенький, девственный интеллигентик. В его положении лучше молчать. Признаться — значит и себя выдать как соучастника. Но кто знает: нервы могут не выдержать, история с кулоном, несомненно, нанесла ему душевную травму. Старик, при всей его осторожности, сдержанной щепетильности, стал пугливым, а страх плохой помощник, он в самую критическую минуту создает помеху выдержке и хладнокровию. Надо съездить в Дядино, поговорить откровенно, начистоту и что-то придумать. Посоветовать ему на время уехать подальше от Москвы: к родственникам, в санаторий, в туристическое путешествие, да куда угодно, только бы избежать встречи с милицией. Пришелец может достать ему путевку в Дом творчества писателей, композиторов. Для него это раз плюнуть при его-то связях! Да, решено — завтра же ехать в Дядино, немедленно, с утра. И Павлову дать задание насчет Али тоже завтра. Сразу после того, как Павлов рассказал о встрече с капитаном милиции Мироновой, о ее колючих вопросах, Ипполит Исаевич интуитивно почувствовал, что над ним сгущаются тучи, но разумом не желал их принимать всерьез, по крайней мере не придавал им значения, поскольку не видел в них реальной опасности. Он даже не хотел сознаться самому себе, что в пылу самоуверенной неуязвимости где-то допустил оплошность, пренебрег осторожностью. В том числе и с опрометчивым подарком Але. Он понимал, что в его положении надобно на время замереть, прекратить всяческие операции, вроде аферы с жидким золотом и бриллиантовыми кольцами. Понимал разумом, но инстинкт хищника всегда оказывался сильнее здравого рассудка. Элементарная логика подсказывала, что новую попытку завладеть бриллиантовым кулоном Норкиных нужно отменить или по крайней мере перенести на более позднее время. Так нет же! Таков уж был характер Пришельца — на крупную наживу он шел с яростью и напором хищного зверя. Он считал, что время работает на него. Он располагал информацией о фактах крупномасштабных хищений, исчисляемых миллионами, фактах, которые даже не попадали на страницы печати, и это его вдохновляло. Мол, другие вон как орудуют и выходят сухими из воды. Не всегда, правда, — попадаются н получают длительные сроки, но попадаются дураки и зарвавшиеся дилетанты. Туда им и дорога. Он, Ипполит Исаевич, не из таких, — он понимает, что когда есть шанс упасть, надо заранее позаботиться о соломе, И он позаботился. Тот же Зубров — неужели не придет на помощь, как уже однажды приходил? Или Земцев. Хотя Яков Николаевич ему нужен для другой роли. Об этом человеке Пришельцу с большим трудом удалось навести кое-какие справки. Земцев, конечно, сила, авторитет, влияние его бесспорно: он имеет связи, пользуется доверием, слывет талантливым организатором, крупным специалистом в сфере международных экономических связей. Его знают за границей многие торгующие с нами фирмы. Но и у него, как стало достоверно известно Ипполиту Исаевичу, рыльце в пуху. Это он закупил у одной зарубежной фирмы медицинское оборудование по чересчур завышенной цене в ущерб государству и к бесспорной выгоде хозяина фирмы, якобы симпатизирующего СССР. Конечно же, на таких условиях можно не только симпатизировать, но и объявить себя другом «этих наивных русских». Фирма отблагодарила Якова Николаевича: на его счет в швейцарском банке поступила определенная сумма. Конечно же, это осталось тайной, неведомой не только Пришельцу, но и лицам более компетентным. Прирожденное чутье и житейский опыт подсказывали Пришельцу, что Земцев имеет за рубежом солидную «материальную базу». Для Якова Николаевича поездки за границу были явлением самым обычным, как для какого-нибудь столичного репортера командировка в Рязань, Ростов или Ригу. Ипполит Исаевич, как человек практичного ума, никогда прежде не мечтал о жизни за границей. Он был чужд наивных иллюзий и считал, что в том мире благополучие человека в большей степени зависит от фортуны. А в нее он не верил. Брату своему, который в прошлом году из Венгрии перебрался в Австралию, не завидовал. Ипполит Исаевич считал, что для его способностей и его характера СССР — самая идеальная, можно сказать, «страна обетованная». Здесь он процветал без особых усилий и риска. Там он не видел простора для своей деятельности «свободного предпринимателя», как он в шутку величал сам себя, — там и в мафии свирепствуют жестокие законы. Здесь же практически никакой конкуренции — простор, целина. Суд и непродолжительное пребывание в зоне не отпугнули его и кое-чему научили в профессиональном смысле. Он пробовал себя в самых различных сферах деятельности, которая в уголовном кодексе именуется преступной, и везде у него получалось! Он не относил это на счет слепого везения, а верил в свой талант, способности: ум, смекалку, хитрость, расчет, знание людской психологии, умение воспользоваться человеческими слабостями. Но в последнее время он стал думать, что хорошо бы иметь на случай «материальную базу» за границей. Основа для такой базы есть: в тайниках — и в московской квартире, и в Сокольническом парке — хранились драгоценные камешки, платина и золото, доллары и фунты. Не хватало лишь бриллиантового кулона. Да и он будет — в этом Ипполит Исаевич ни капельки не сомневался. Но как все эти сокровища, или хотя бы часть, переправить за границу, в ту же Австралию? Вопрос не простой, проблема из проблем. И разрешить ее можно только с помощью Земцева. Само собой разумеется, это потребует немалых расходов. Надо попытаться в субботу на даче Зуброва сойтись с ним поближе. Зубров — поддержка верная, но без достаточной гарантии. Он может помочь на первом этапе. А если дело дойдет до суда? Вот тут-то и будет полезен Петр Михайлович Малярчик. В суде у Пришельца есть надежный человек — Вероника Георгиевна Забродова — дама решительная и главное — алчная. Давно он не виделся с Забродовой, надо бы найти повод пообщаться. Сводить ее в ресторан или пригласить к себе домой — противно: уж больно она непривлекательна, ну просто каракатица. Но что-то нужно придумать. Ипполит Исаевич взглянул на часы: было без четверти двенадцать. И вдруг он ощутил смертельную усталость во всем теле, как будто весь день занимался тяжелой физической работой. Приказал себе: «Спать. Утро вечера мудренее», — и направился в спальню.
3
Дача у Зуброва по Дмитровскому шоссе — рубленая, с просторной мансардой под ломаной, крытой оцинкованным железом крышей. Михаил Михайлович купил ее в позапрошлом году у вдовы генерал-полковника, подремонтировал, все четыре комнаты внизу и две комнаты мансарды обшил вагонкой, добротно пропитанной олифой, отливающей мягким золотистым сиянием. Поставил новый забор из штакетника, покрасил под цвет дома густо-голубой краской; для контраста столбы, оконные рамы, а также балкон — белилами. Дача получилась веселая, внушительная. В пятницу чуть свет нежданно-негаданно для Михаила Михайловича приехал из Белоруссии его старший брат, Егор. Егор работал в колхозе комбайнером, а так как уборочная страда еще не началась, он не в ущерб делу позволил себе отлучиться на несколько деньков, чтобы от всей семьи Зубровых и вообще от земляков поздравить брата с сорокалетием. Привез он общий от всех Зубровых подарок — дорогую хрустальную вазу (специально в Минск за ней ездили) и портфель из натуральной кожи, импортный, внушительный, с золочеными застежками. И конечно же, деревенские гостинцы: увесистый кусок сала, сдобренного тмином, два кольца домашней колбасы, необыкновенно вкусной, неповторимой — какую могут делать только в Белоруссии. Неурочное появление нежданного гостя в первые минуты смутило Зуброва до такой степени, что он даже не смог скрыть своего неудовольствия фальшиво прозвучавшими словами: «Рад тебя видеть, Егор, совсем кстати приехал». Егор без труда угадал, что мысли и чувства брата совсем не соответствуют его радушным словам. Он явно был нежеланным гостем и никак не «вписывался» в компанию приглашенных. Егор был старше Михаила четырьмя годами и, по мнению младшего брата, особой скромностью не отличался; заядлый спорщик и говорун, он любил порассуждать по общественно-политическим и иным вопросам, хотя и имел всего-навсего среднее образование. «Да он может нам всю обедню испортить», — с досадой подумал Зубров-младший, приглашая Егора в большую квадратную комнату, называемую гостиной. А когда Егор разложил подарки, растерянные глаза Михаила потеплели, и голос звучал уже мягче и ласковей: — Я ведь, Егор, не собираюсь устраивать торжества. Дата не юбилейная, хотя и круглая. Сорок лет в наше время не возраст. Я человек скромный. Как это раньше говаривали — скромность украшает большевика. — Так это ж большевика, то давно было. А теперь где они большевики? — не совсем к месту ввернул Егор, но брат не обратил внимания на его реплику и продолжал говорить, главное, о чем он спешил заранее предупредить незапланированного гостя: — Возможно, завтра на дачу подъедут ко мне самые близкие друзья, два-три человека — хотят поздравить. Известные, высокие посты занимают люди, герои, лауреаты, депутаты. Ну, понимаешь, один крупный ученый, другой дипломат — по заграницам разъезжает, так ты уж постарайся не ударить лицом в грязь. Не вступай в дискуссии. Сиди и слушай. Умных людей я лично предпочитаю слушать молча. — И улыбнулся с дружеским покровительством. В голосе и в глазах брата Егор прочитал не только совет, но и просьбу, за которую тот смущенно извинялся. Именно это и не понравилось Егору, что-то обидное для себя уловил он в словах и в поведении брата. Да что теперь поделаешь — не возвращаться же. Раз уж попал на чужой пир незваным гостем, то сиди, помалкивай. Просьбу брата Егор выслушал молча, ничего не сказал. За завтраком отведали белорусского сала, колбасы. Любовь Викторовна и Михаил Михайлович ели с удовольствием, нахваливали, такого продукта в Москве и на рынке не найдешь! От рюмки водки Егор категорически отказался, сказал, что с утра он не употребляет и вообще ограничивает себя в спиртном. — Что так? — только для вида, чтобы поддержать разговор, полюбопытствовала Любовь Викторовна. — Раньше, мне помнится, ты выпивал. — Выпивал, — согласился Егор. — Но особенно не увлекался. А теперь так, по случаю когда. — Ограничитель поставил, — пошутил младший брат. — Организм воспротивился, — улыбка затерялась в подсмоленных табачным дымом рыжих усах Егора. Усы эти, густые, внушительные, с острыми концами, опущенными вниз, как-то не соответствовали внешнему облику хозяина — невысокого, остролицего, щуплого и подвижного. Егор совсем не был похож на Михаила, и трудно было поверить, что они родные братья. В семье Зубровых было четверо детей — две сестры и два брата, Михаил — самый младший и разительно непохожий ни на отца, ни на мать. Не только внешностью, но и характером. Хитрый, напористый эгоист — любимчик матери — он ловко создал для себя особое положение в семье, проявив недюжинные способности — сообразительность, смекалку и непреклонность в достижении цели. В семье Зубровых знали, если Мишка что задумал, то правдами и неправдами своего добьется. Он рано и без сожаления расстался с родной деревней: сразу после окончания школы уехал в город. Сны детства его не одолевали, о рябине под окном отчего дома он не вспоминал и за все время лишь дважды навестил родные края: первый раз появился в новеньких погонах лейтенанта, когда еще был жив отец, и в последний раз уже в звании майора приехал по зову больной, умирающей матери. С ее смертью зыбкая связь Михаила Зуброва с родной деревней практически совсем оборвалась. На редкие письма сестер и брата он отвечал коротко, да и то не всегда. Своими заботами, радостями и печалями не делился, жизнь брата и сестер его не интересовала. В последнем письме Егор писал брату, что сын его Александр решил поступить в Саратовское училище МВД имени Дзержинского и спрашивал мнение на сей счет: правильный ли выбор сделал Александр. В ответном письме Михаил похвалил племянника и сам уже не помнит, зачем и с какой стати сообщил, что время незаметно подвело его к ответственной жизненной черте, к сорокалетию. И для пущей, что ли, убедительности, сообщил дату рождения, о чем теперь горестно сожалел. Разговор за завтраком протекал как-то сумбурно, торопливо, Михаил спрашивал брата для вида, чтоб не молчать, ответы слушал рассеянно, они его нисколько не интересовали. О своем житье-бытье ничего не говорил. После завтрака Михаил поспешил на службу, а Егор отправился на ВДНХ и вообще побродить по Москве, благо погода стояла солнечная, теплая. Условились встретиться в пять часов, чтоб всем вместе ехать на дачу. В отличие от мужа Любовь Викторовна была довольна приездом Егора: он с утра начал приводить в порядок дачу, вымыл в доме полы, убрал двор, помог приготовить и накрыть праздничный стол. В конце концов и Михаил успокоился. Гостей ждали к двенадцати часам, но уже в одиннадцать с небольшим овальный стол на большой террасе, накрытый на десять персон, был готов к торжеству. С помощью Егора Любовь Викторовна все успела сделать досрочно. Оделась, как было задумано, очень скромно: белая кофточка и голубая с большими карманами юбка. Первыми приехали Малярчики — дородная, с глазами навыкате Виктория Лазаревна, одетая в длинное парчовое трубообразное платье без талии, напоминающее и серебристым цветом и формой межконтинентальную ракету; и вертлявый, непоседливый, с беспокойными бегающими глазками Петр Михайлович, в светлом, легкого спортивного покроя костюме. Торжественно водрузив на стул картонную коробку с электрическим мангалом, он сказал шутливым, почти дружеским тоном: — На память о кавказских шашлыках. В холодных глазах Малярчика Зубров увидел скрытую насмешку. Подумал: «Ты, жлоб, не раскошелишься. Небось самому кто-то подарил?» Ответил, однако, дружелюбно, как и полагается хозяину: — Теперь остановка за бараниной. — Думаю, что для тебя это не проблема: дай знать Тофику — и через три часа будешь иметь живого барана и ящик отборного коньяка, не разбавленного в Мытищах, — шутливо подсказал Петр Михайлович Малярчик. Их диалог прервал легкий шум мотора. У калитки остановилась светлая «Волга», приехали Ященки и с ними Земцев, один, без жены. За рулем сидел не пьющий Антон Фомич. Наталья Максимовна, нарядная, в платье декольте, шла к даче под руку с Яковом Николаевичем. Позади них двигалась тучная, монументальная фигура Антона Фомича, держащего как грудного ребенка полуметровую керамическую вазу. Вся нелепость этой вещи состояла в том, что не знаешь, куда ее поставить: на стол — она слишком громоздка, на пол — недостаточно высока… «Сплавили ненужную вещь», — зло подумал Михаил Михайлович, целуя руку Натальи Максимовны. Земцев подарил японскую шариковую ручку с электронными часами, показывающими время, число и месяц. Этот подарок тоже не привел в восторг именинника, а Малярчик язвительно заметил, что в этой ручке не хватает термометра, барометра и телевизора. — Со временем будет, к пятидесятилетию Зуброва японцы изобретут и такое. — Улыбка чуть оживила холодное лицо Земцева. Можно было садиться за стол, стрелки часов перевалили за двенадцать, и Любовь Викторовна вполголоса спросила мужа: — Кого ждем? — Одну крысу, — раздраженно ответил Зубров, злясь на Пришельца. Пришелец расчетливо приехал последним: он хотел, чтобы все видели его подарок имениннику: японский стереофонический магнитофон с вмонтированными в корпус двумя очень чувствительными микрофонами. Ипполит Исаевич по-братски обнял и облобызал именинника, вручил его супруге букет алых роз, дружески поздоровался с Земцевым и Ященками и отвесил почтительный поклон Малярчикам, которым он был представлен самим хозяином, из чего заключил, что магнитофон пришелся по душе. Старшего брата своего Михаил Зубров представил гостям сразу, как только они расселись за столом, сказав, что Егор бывший партизан Великой Отечественной, ныне — колхозный механизатор, пока еще не герой и не лауреат, но ударник, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Слова брата смутили Егора, он даже покраснел под перекрестными взглядами гостей, но вскоре о нем забыли и перестали обращать внимание. Он наблюдал за «высокопоставленными» друзьями брата, прислушивался к их застольным речам и пытался составить о каждом свое мнение. Прежде всего его заинтересовал Ипполит Исаевич, судя по подарку, самому дорогому из всех, заключил Егор, этот человек либо богатый и щедрый, либо подчиненный Михаила. В отличие от других гостей он вел себя скромно. За столом Пришелец сидел между Викторией Лазаревной и бритоголовым, тонкогубым дипломатом — так решил Егор — Земцевым, немногословным, сдержанным и вообще человеком «себе на уме». Вскоре Егор увидел, что скромность Ипполита Исаевича поддельна, что под личиной тихони кроется, старающийся беззастенчивой лестью и угодничеством понравиться Виктории Лазаревне хитрован. Хотя Ипполит Исаевич не забывал и о другом своем соседе, к которому все, исключая, пожалуй, Малярчиков, относились с подчеркнутым подобострастием. И что поразило и даже обидело Егора, так это отношение гостей к имениннику. Было в этом отношении нечто снисходительное, даже скрытно-ироническое, словно все забыли, по какому поводу собрались. В центре внимания оказался Яков Николаевич Земцев, хотя Виктория Лазаревна никак не хотела уступить ему пальму первенства. Она говорила громко, бесцеремонно перебивала других грубым низким голосом, в котором неизменно звучали поучительные нотки человека, совершенно уверенного в своем превосходстве. Когда Антон Фомич, которого Егор принял за министра, сообщил, что вчера он вычитал в газете, как одна пенсионерка-колхозница из Закарпатья внесла в Фонд мира пять тысяч рублей, Виктория Лазаревна, не моргнув глазом, осадила его резким окриком: — Чушь! Выдумка газетчиков. Ященки, которые не были раньше знакомы с Малярчиками, недоуменно переглянулись, Антон Фомич недовольно фыркнул, а Наталья Максимовна, найдя реплику Виктории Лазаревны грубой и оскорбительной, заметила: — Вы не доверяете нашим газетам? — Я не верю глупым сказкам падких на сенсацию газетчиков, — раздраженно ответила Малярчик. — Тогда, может, вы объясните цель подобных сказок? — насупился Антон Фомич. Виктория Лазаревна не сразу нашлась с ответом, на выручку ей мгновенно пришел Пришелец: — Это нечто вроде рекламы. Приглашение последовать примеру колхозницы-патриотки. Сдавайте лишние деньги в Фонд мира, не держите их в кубышках. Говорят, в деревне скопились огромные суммы денег, которые лежат мертвым балластом. — Лишних денег в природе не существует, — сказала Наталья Максимовна. — У вас они есть, Ипполит Исаевич? — Я говорил не о себе и не о вас, я говорил о деревне. — Вот представитель деревни, — продолжала Наталья Максимовна, глядя на Зуброва-старшего: — Как вы считаете, Егор Михайлович, бывают лишние деньги? — Может, и бывают, если они нетрудовые, — смущенно пожав плечами, ответил Егор. — А заработанные честным трудом, как же они могут быть лишними хоть в деревне, хоть в городе. Слова его вызвали лишь иронические ухмылки. — Мы говорим о разных вещах, дорогая Наталья Максимовна, — поспешил опять вмешаться Пришелец. — Колхозница-пенсионерка живет где-то в закарпатской глуши. Ее интересы и потребности нельзя сравнивать с вашими. Современные наряды ей не нужны, в ресторане она никогда не была, о Сочах и Ялтах не имеет представления, на самолете не летала. Ей не на что тратить деньги. Она заработала их на рынке, торговала продовольственным дефицитом, а это и есть натуральная спекуляция. В каждом слове Пришельца Егору слышалось высокомерное презрение. Вспыльчивый от природы, горячий и откровенный, он легко «заводился» в споре и иногда терял самообладание. С трудом преодолевая волнение, забыв о просьбе брата молчать, он резко оборвал Ипполита Исаевича: — Да, да, разумеется, конечно, зачем ей деньги?! И вообще, зачем ей жить?! Только небо коптить! В театре не была, в Третьяковке тоже. За границу туристом не ездила, по Парижам и Лондонам не хаживала, Толстого не читала. — Голос его дрожал от волнения и срывался. — Но она человек, она знает то, чего не знают… некоторые другие, и видела то, чего другие не видели: и как цветет лен, как восходит и заходит солнце, слышала курлыканье журавлей, звоночек жаворонка в небе и флейту иволги, она знает запах свежего сена, спелой ржи и парного молока. Вы правильно сказали, она не летала на самолете. Но и вы не летали на автомобиле, на котором будут летать по воздуху наши внуки или правнуки, вы, к примеру, не были на луне… — А мне там нечего делать, — перебил Пришелец. Наталья Максимовна по кислому выражению лица Зуброва поняла, что он недоволен братом, осуждает его и стыдится, потому и заняла сторону Егора. Ее последняя встреча с Михаилом Михайловичем в ресторане «Сказка» внесла в их отношения что-то непоправимое. Она вдруг поняла, что Зубров далек от ее идеала, что как человек он мало чем отличается от ее мужа. Антон Фомич труслив, лжив, своекорыстен, завистлив и честолюбив, жаден до денег и ради своего служебного и материального благополучия пойдет на все. Прежде она закрывала на это глаза: мол, он для нее старается, и если делает противозаконные дела, то только для своей любимой жены, так он ей внушал, оправдывая свои поступки. В первые годы замужества она закрывала на это глаза, потом увлеклась Зубровым. В нем она видела мужчину сильного характера, целеустремленного, напористого и находчивого, одаренного острым умом и смекалкой. Она видела то, что хотела видеть, и не замечала того, что было на самом деле. Увлечение Зубровым оказалось недолгим, отрезвление произошло как-то вдруг, внезапно. Таков был характер Натальи Максимовны: все ее действия и решения происходили «вдруг». — Сейчас, конечно, сейчас на луне вам нечего делать. Я говорю о будущем, через полсотни лет ваши внуки… — продолжал Егор. — У меня нет внуков. А через полсотни лет, уважаемый, и меня не будет, — возразил Пришелец. Но Егор продолжал горячиться: — Ну и что из того, что вас не будет?! А люди будут! — Браво, Егор Михайлович! — воскликнула Наталья Максимовна и захлопала в ладоши. Она поднялась из-за стола, подошла к Егору, обвила руками его шею и сочно поцеловала. Это был вызов и Зуброву, и Пришельцу, и самонадеянной Малярчик, затеявшей дурацкий спор о лишних деньгах. Виктория Лазаревна не понравилась ей с первой минуты, когда Малярчик осмотрела ее высокомерным и ревнивым взглядом. Наталья Максимовна считала себя неотразимой и сегодня хотела быть первой дамой бала, и имела на это все основания. И вдруг на первенство заявила свои права какая-то самозванка, неизвестно каким образом здесь оказавшаяся. Уверенная в своем превосходстве, Наталья Максимовна такого стерпеть не могла и готова была на любую выходку, призвав к себе в союзницы Любовь Викторовну. Жена Зуброва ей понравилась: она оказалась совсем не такой, какой рисовал ее муж. Она привлекала непринужденностью в общении. В ее светлой, теплой улыбке, в мягком говоре светилась веселая доброта. И то, что Зубров незаслуженно дурно отзывался о своей жене, вызывало у нее лишь чувство неприязни к бывшему любовнику. И это все она демонстрировала Зуброву. Слишком самонадеянный, занятый самим собой и совершенно не знавший другую Наточку — Наталью Максимовну — гордую и дерзкую, Михаил Михайлович не придал значения ее выходке. И в этом был его просчет. Наблюдательный Земцев лучше Зуброва понимал Наталью Максимовну. Они были знакомы более пяти лет, и хоть не часто, может, раз в год, встречались в домашней обстановке, главным образом на квартире Ященки или у общих друзей. К себе Земцев не приглашал и в гостях всегда появлялся один, без жены, каждый раз сочиняя какую-нибудь причину ее отсутствия — легкое недомогание и тому подобное. Наталья Максимовна чисто женским чутьем догадывалась, что дело тут не в недомоганиях, а в чем-то другом, а в чем именно, она не могла определенно сказать, и это разжигало ее женское любопытство». Оно обострялось еще тем, что сам Яков Николаевич со своей холодной вежливостью и сдержанной недоступностью тоже был загадкой. Наталья Максимовна не любила неразгаданных тайн и предпочитала во все вносить ясность. Она знала, что ее муж связан с Земцевым чисто деловыми отношениями, и отношения эти выходят за рамки законности. И вот однажды Ященки случайно встретили в Большом театре Якова Николаевича с женой — маленькой, высохшей старушкой — и вначале не могли определить, кем она ему доводится — женой или матерью. Наконец, в перерыве в фойе Земцевы и Ященки столкнулись лоб в лоб, и Яков Николаевич, подавляя в себе легкое смущение, познакомил их с супругой, которая была намного старше его. Таким образом одна загадка была разгадана, оставалась другая: сам Яков Николаевич. Но в это время Наталья Максимовна познакомилась с Зубровым, и Земцев, как говорится, отошел на второй план. О более чем близких отношениях Натальи Максимовны и Зуброва Земцев догадывался, однако он не знал, что эти отношения дали глубокую трещину, поэтому не совсем понял ее женский порыв в поддержку Егора. Он посчитал это вызовом Виктории Лазаревне и ее переусердствовавшему опекуну и знал, что экстравагантную Наталью Максимовну трудно будет остановить, и в этом случае не избежать скандала, в который будут втянуты все присутствующие. Перегрызутся и разделятся на два враждебных лагеря. А зачем, во имя чего, спрашивается, такое удовольствие? Нельзя этого допустить, сказал сам себе Яков Николаевич, тем более, что и он не прочь был заслужить расположение Виктории Лазаревны, а точнее ее мужа, беспрекословно исполнявшего все пожелания своей властной супруги. И Яков Николаевич решил перевести разговор в мирное русло. Он торопливо искал сюжет разговора, такой, который мог бы привлечь всеобщее внимание. Он не был мастаком на анекдоты и не держал в уме про запас, на всякий случай, пикантную быль, не коллекционировал курьезы для веселой компании, но предпочитал слушать других. И, не найдя ничего подходящего, он решил рассказать случай, который произошел вчера и глубоко его задел. Он заговорил, как бы обращаясь только к Виктории Лазаревне и Пришельцу: — Есть у меня подчиненный с неприличной фамилией: Гумно. И представьте себе, гордится своей фамилией. Афанасий Гумно. Участник войны, пенсионного возраста детина. В общем, соответствует… фамилии. Вчера я пригласил его, чтобы предложить пенсию. Не желает. Ощетинился, в бутылку полез: мол, другие вон какие посты занимают, а и после семидесяти не собираются на пенсию. А вы меня насильно в шестьдесят гоните. Я посмотрел на него и говорю: «Послушайте, Афанасий Андреевич, а почему б вам не поменять фамилию?» — «А это зачем?» — удивляется. «Неблагозвучная она», — говорю я. «Неблагозвучная, зато моя, собственная. Отец, — говорит, — с этой фамилией Перекоп вместе с Фрунзе штурмовал, а я Прагу от фашистов освобождал. Так что менять мне ее ни к чему». — «Да не совсем она приличная», — говорю. «А что в ней неприличного? Гумном, — говорит, — на Смоленщине называют помещение, где хлеб молотят. Фамилии, они со смыслом, значит, предки мои хлеборобами были». Земцев замолчал, не досказав продолжение своего разговора с подчиненным. А сказал ему Афанасий Андреевич Гумно вот что: «Ваша фамилия, Яков Николаевич, тоже со смыслом и значением». И было тогда в его взгляде столько ядовитого презрения, что Земцев внутренне вздрогнул и без колебаний решил для себя: на пенсию этого Гумно, и немедленно. — В наше время сделать новую фамилию все равно, что носовой платок купить. Даже отчество можно запросто менять, — весело заметил Зубров. — У нас сотрудник Вшивцев поменял фамилию на Айсберг, представьте себе со значением: служил на Северном флоте срочную службу, плавал в северных широтах, и однажды их подводная лодка якобы чуть не столкнулась с айсбергом. Но его слова не удостоили вниманием. И после какой-то неловкой паузы Виктория Лазаревна как бы заключила то, о чем говорил Земцев: — Не хотят уходить на заслуженный покой, не желают. Вон и шеф Петра Михайловича, уже совсем в маразме, старый гриб, ему уже за семьдесят пять перевалило, на работе спит, на совещаниях — дремлет, а на пенсию не желает. — Ну это ты напрасно, — недовольно поморщился Малярчик: жена выбалтывала служебную тайну. — На совещаниях иногда и молодые спят. — Да ведь я к тому говорю, — продолжал свою мысль Земцев, — что кивают на пожилых руководителей. Но это в корне неправильно, попросту — глупо. Умному человеку и не нужно уходить на пенсию в шестьдесят. Умный может и до ста лет работать, если, конечно, он работоспособен. А если ты, простите, гумно, то нечего тебе место занимать и бравировать своим происхождением и заслугами предков. Наталья Максимовна сразу разгадала Земцева: решил увести разговор в сторону этот «ликвидатор конфликтных ситуаций», как назвал его однажды Антон Фомич. Она посмотрела на Егора. Он не сводил глаз с Земцева. Во взгляде его Наталья Максимовна уловила что-то болезненное, точно своим рассказом об Афанасии Гумно Яков Николаевич хотел унизить и его, Зуброва Егора Михайловича. Она видела, как бросает полные презрения взгляды на Егора мадам Малярчик. И спросила себя: а кто же она такая, эта толстуха, что всегда независимый Пришелец лебезит перед ней, и даже всесильный, гордый и загадочный Земцев угодничает? И вполголоса спросила Зуброву, кивнув в сторону Малярчика: — Кто он, этот тип? Откуда? — Из прокуратуры, — кратко ответила Любовь Викторовна и прибавила шепотом: — Они с Мишей работали на Кавказе. — Он противный, — сквозь стиснутые зубы обронила Наталья Максимовна. Перед чаем все разбрелись по участку, кто с кем. Наталья Максимовна предложила хозяйке свои услуги — убрать стол, приготовить чай и кофе, которые решено было пить в саду под широкой кроной дуба-великана. Михаил Михайлович, изрядно принявший спиртного и не в меру восторженно-возбужденный, старался каждому из гостей в отдельности сказать что-то приятное. Пришельцу он сообщил о своей встрече с одним влиятельным товарищем, генералом из МВД и что тот пообещал… Все это было липой — ни с кем Зубров о Пришельце не говорил и никто ничего не обещал. Просто это был очередной трюк Михаила Михайловича, к которому он часто прибегал, чтобы показать свою силу и возможности. Сообщение Зуброва об этом разговоре Ипполит Исаевич выслушал без особого воодушевления: сейчас для него важнее было расположить к себе Малярчика, и он поспешил к Виктории Лазаревне, которая сразу же спросила, кто эта дама с густо накрашенными плотоядными губами и зазывающими глазками? «Какой точный словесный портрет», — с удивлением подумал Пришелец и ответил без излишних подробностей: — Жена Антона Фомича, известного ученого, профессора, доктора наук. — Каких наук? — Крупный спец по алмазам. — А-а-а, я так и думала. — Почему? — полюбопытствовал Пришелец. — Жена его из алмазов сделана: в ушах тысячи на три, да на пальцах тысяч на пять; дорогая жена, — с ревнивой неприязнью пробубнила Виктория Лазаревна. «А ты, пожалуй, подороже будешь», — подумал Пришелец, глядя на ее толстые пальцы, унизанные кольцами, сработанными, видимо, искусным ювелирных дел мастером. — Я, уважаемая Виктория Лазаревна, смотрю на эти вещи глазами профессионала. Может драгоценный камень быть вставлен в грубую оправу, сделанную бездарным мастером, ремесленником. Меня такая вещь не интересует. Как в предметах антиквариата, так и в ювелирных изделиях я прежде всего ищу поэзию. Ваши кольца, простите за нескромность, уникальны, ничего подобного я не встречал. Они созданы вдохновением художника, в них изящество, гармония. — Льстивые глаза Ипполита Исаевича прищурились, по пухлым губам пробежала легкая улыбка. — У вас вкус художника. Могу себе представить вашу коллекцию. — Буду рад видеть вас у себя, — пригласил Ипполит Исаевич. — Вместе с Петром Михайловичем приезжайте. Вот мой телефон. — И протянул свою визитную карточку. Виктория Лазаревна спрятала карточку в черную прямоугольную сумочку и величественно кивнула. — Благодарю, Ипполит Исаевич, мы непременно заглянем к вам, а теперь, извините, должна вас покинуть. И она важно направилась к мужу, который, стоя у клумбы, разговаривал с Земцевым. Заочно они знали друг друга, и знали довольно хорошо, потому что у них были общие друзья. Поэтому между ними сразу установились доверительные отношения. Правда, в отличие от Земцева Малярчик, давнишний поклонник бахуса, был изрядно навеселе; язык уже начал заплетаться, это несколько шокировало Земцева. Он не любил пьяного бахвальства. Увидя медленно и величаво подплывающую Викторию Лазаревну, Петр Михайлович фамильярно взял под локоть собеседника: — Это моя жена… Деятель, талант. Необыкновенного ума женщина. Ее любят и уважают самые высокие люди, Викочка, это Яков Николаевич. Помнишь, Георгий Аркадьевич нам о нем говорил. Он самый — Внешторг! Он может тебе доставить из Аргентины… — Замолчи! — грубо одернула мужа Виктория Лазаревна. И по круглому розовому лицу юриста распласталась виноватая улыбка. — Вы извините, Яков Николаевич, Петр иногда позволяет себе расслабиться в кругу своих и тогда не думает, что плетет. Георгий Аркадьевич наш друг, и от него мы много доброго слышали о вас. Тонкие губы Земцева приветливо шевельнулись, но так и не разомкнулись. Вежливый кивок головы, полузакрытые глаза. Виктория Лазаревна, перейдя на доверительный полушепот, проговорила: — Мне ничего не надо ни из Аргентины, ни из Франции… Мне бы наоборот… Она смотрела на Земцева так, словно пыталась проникнуть ему в душу, выведать его тайну и поведать свою. И взгляд ее, пронзительный и тяжелый, говорил: я все про тебя знаю, и мы нужны друг другу; хоть ты и важен и считаешь себя неуязвимым, но в жизни всякое может случиться, никто из нас не застрахован, и тебе может понадобиться моя услуга. Так услужи и ты мне, сделай одолжение: я запомню. Глядя на него, она думала: понял или нет смысл ее слова «наоборот». И решила: понял. Значит, можно быть откровенной. Она уже знала, что Земцев имеет возможность беспрепятственно провозить через пограничные кордоны то, что запрещено законом. Да, Земцев понял ее, но спросил: — Что вы имеете в виду? — Моя близкая подруга сдуру выехала на Запад. Хлебнула там лиха, одумалась, хотела вернуться. А назад дорога закрыта. Одинокая, беспомощная. Бедствует. Я хочу помочь, это мой долг. — Я вас понимаю, — мягко сказал Земцев. — Давайте вернемся к этому вопросу в другой раз, в другой обстановке. — Ну конечно же, конечно, — поспешно согласилась Виктория Лазаревна, недовольно глядя на приближающегося к ним Пришельца. — Я понимаю, дело не простое, как и вообще все у нас сложно. Сплошные сложности. Сами себе создаем и сами же маемся. Она притворно вздохнула, взяла мужа под руку и увела в дом, Пришельцу это и нужно было: он хотел поговорить с Земцевым о своих делах, разумеется, наедине. Все его надежды сводились к Земцеву. Он видел, что сегодня Яков Николаевич в хорошем расположении духа, даже слабая, скромная улыбка иногда светилась в его глазах, чего прежде Ипполит Исаевич не замечал. И он решился открыться Земцеву, пойти напрямую. Начал с краткого предисловия: — Симпатичные люди Малярчики, не правда ли? Вы ведь тоже с ними раньше не были знакомы? — Да, — лаконично ответил Земцев. — Яков Николаевич, я хочу с вами посоветоваться по жизненно важному для меня вопросу, — продолжал заискивающе Пришелец. Земцев вежливо кивнул. — С вами я хочу быть откровенным. Мой старший брат живет в Австралии. После войны он уехал из Союза в Венгрию, а затем не так давно перебрался в Южное полушарие. У меня здесь нет ни родных, ни близких родственников. Короче говоря, брат зовет меня к себе. Устроился он там недурно, имеет свое дело с приличным доходом. И я решил уехать. Хочется поменять климат. По своему характеру я человек бизнеса, и мне больше по душе общество свободных предпринимателей. — Он дружески улыбнулся и сделал паузу. Земцев непроницаемо молчал: ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице. И Пришельцу ничего не оставалось, как продолжить: — Я знаю вас как человека мудрого, с жизненным опытом, потому и позволил себе обратиться к вам. Вы слышали о моей коллекции живописи, антиквариата и так далее. Все это придется реализовать на приемлемых условиях. Хотелось бы передать эти ценности в надежные руки. Я надеюсь, что среди ваших друзей и знакомых найдутся люди, у которых есть интерес к подобным вещам. Как вы понимаете, оплата предпочтительно не рублями. Земцев отлично понимал его, уже с первых слов догадывался, к чему весь этот разговор. Понял и то, что здесь можно сорвать неплохой куш, но решил кое-что уточнить. — Ну хорошо, допустим, вы получите валюту. — Можно и желтый металл, — торопливо уточнил Пришелец. — А дальше? Вы же не сможете взять это с собой, вам никто не разрешит. — Официально, конечно. А если не официально, по другим каналам? — Они у вас есть, эти каналы? — У меня их нет. Поэтому я и дерзнул обратиться к вам за содействием, — с отчаянной откровенностью признался Пришелец, рассчитывая на податливость Земцева. В их разговоре возникла пауза. Пришелец напряженно ждал, что скажет Земцев. А тот думал о просьбах (почти одновременных и одинаковых — какое совпадение!) Виктории Лазаревны и Пришельца, сговорились они, что ли? Едва ли. И решил уклониться от прямого ответа на главный вопрос, сказал неопределенно: — У меня есть знакомый, который интересуется антиквариатом, разумеется, имеющим историческую и художественную ценность. Но он человек прижимистый, предпочитает хорошую вещь приобрести за полцены. — Тонкие губы Земцева вытянулись в линию, изобразив подобие улыбки. — Он может и валютой? — Думаю, что да. Более того, у него, возможно, я не могу сказать с уверенностью, возможно, есть то, что вы назвали «другими каналами». «Это мне и нужно», — с надеждой и радостью подумал Пришелец и попросил связать его с этим человеком. Земцев замялся, недовольная гримаса исказила его лицо. Ответил на просьбу медленно, словно с трудом выталкивая сухие слова: — Вы склонны все упрощать, а вопрос, который вас интересует, чрезвычайно сложен. Товарищ, которого я имею в виду, в силу своего общественного положения избегает непосредственных контактов с мало знакомыми людьми. Заранее я ничего не могу вам сказать, должен сперва встретиться с ним и переговорить. Но до этого, очевидно, мне надо ознакомиться с вашей коллекцией, чтобы рассказать ему. Возможно, он потом сам пожелает с вами встретиться… Хотя, я повторяю, он категорически избегает контактов… Товарищ солидный, известный. Так что давайте начнем со знакомства с вашей коллекцией. Я мог бы подъехать к вам на будущей неделе. Если я правильно понял, вам желательно не тянуть время. А у меня намечается через полмесяца продолжительная командировка за рубеж. — Я согласен, — покорно согласился Пришелец. — Буду ждать вашего звонка. Ипполит Исаевич любые слова, кто б их ни говорил, не принимал на веру, он все подвергал анализу, видя в каждой фразе скрытый смысл. Давно известно, что лживые, нечестные люди решительно всех подозревают в нечестности и обмане. Происходит у них это инстинктивно, помимо воли и желания даже там, где нет причин для недоверия и сомнения. Не поверил Пришелец и в солидного товарища, который избегает непосредственных контактов с малознакомыми людьми. Он без колебаний решил, что товарищ этот и есть сам Яков Николаевич. И не ошибался. Пока Пришелец и Виктория Лазаревна устраивали свои дела, общаясь с Земцевым, Антон Фомич расспрашивал Егора о жизни белорусской деревни, о ее проблемах и нуждах и одновременно ревниво посматривал туда, где супруги Зубровы и Наталья Максимовна готовили кофе и чай. Из своего наблюдения он сделал совершенно неожиданный для себя вывод, который его удивил и обрадовал. В то время, как Михаил Михайлович с преувеличенным вниманием увивался вокруг своей жены, изображая влюбленного нежного супруга, — а делал он это расчетливо, назло Наталье Максимовне, о чем Антон Фомич не догадывался, — в это время сама Наталья Максимовна демонстрировала полное равнодушие к Зуброву. Она подошла к мужу, когда возле него никого не было, и вполголоса спросила: — Кто он, этот Малярчик? — Гангстер, — как-то походя обронил Антон Фомич. — А это что значит? — не поняла Наталья Максимовна. — Такой же, как и Яков Николаевич, — ответил Ященко и, махнув рукой, направился к столу, не желая дальше распространяться и объяснять. Антон Фомич с ревностью и досадой следил, как Зубров, Пришелец лебезят перед Малярчиками. Это неспроста, за этим что-то кроется. Почуяли опасность, встревожены? Рассчитывают, если грянет гром, выйти сухими из воды? А ему ни слова, молчат. Его бросят как ненужный использованный хлам. Отдадут в руки правосудия. Сами могут и за рубеж бежать. А куда деватьсяАнтону Ященко? Разве что на Колыму. Впрочем, Пришелец как-то проболтался, есть люди, которые за десять тысяч могут запросто переправить через границу с гарантией. Ященко хорошо знал свою жену и был уверен, что ее равнодушие к Зуброву совсем не показное, что это не игра, рассчитанная ввести в заблуждение легковерных и наивных. Может, Зубров и притворяется, думал Антон Фомич, но Наташа — нет. Значит, увлечение прошло, кризис миновал, и слава богу. Недавняя их размолвка и объяснение дали свои добрые плоды. И аллаху — слава. Мысли эти умиротворяли и обнадеживали, что восстановится семейный лад. Впрочем, Антон Фомич малость заблуждался, надежды на покой в семье Ященко были очень зыбкими, даже иллюзорными, ибо, пренебрегая Зубровым, Наталья Максимовна и не думала отказываться от поисков настоящего мужчины. На этот раз в ее объективе оказался не разгаданный Яков Николаевич Земцев, душа которого, как и прежде, для нее была застегнута надежными застежками: он казался ей непроницаемо-загадочным. Внешностью своей такие мужчины, как Земцев, никак не могут обратить на себя внимание женщины, даже при всей элегантности их одежды, при вежливо-сдержанных манерах. Надо присмотреться, чтобы сказать себе: «А в нем что-то есть». Но что именно — остается загадкой со многими неизвестными. Зубров-младший наконец заметил ее холодность по отношению к себе. Он то притворялся опечаленным, то раздражался по самому незначительному поводу. Распрощались они тоже необычно: с Любовью Викторовной Наталья Максимовна тепло по-приятельски расцеловалась, а ее мужа удостоила лишь холодного кивка. Недовольство Зуброва-младшего Натальей Максимовной распространилось и на всех гостей, не оказавших ему достойного почтения. Особую неприязнь он питал к Малярчикам, которые высокомерным поведением демонстрировали свое превосходство над ним. Любовь Викторовна еще до отъезда гостей заметила, что муж чем-то недоволен, и попыталась отвлечь его разговором. — А эти Ященко — симпатичные люди, — заметила она, наливая горячую воду в большой таз с грязными тарелками. — Особенно Наталья Максимовна. — Зазнавшаяся кобра, сова, возомнившая себя жар-птицей, — с раздражением процедил Михаил. — Ты совсем не разбираешься в людях. — Налитые кровью осоловелые глаза его уставились на жену. Егору не понравился этот взгляд, он показался ему оскорбительным для Любови Викторовны. Он решил вмешаться, мягко заметив: — А мне они тоже показались приятными. Особенно Антон Фомич. А вот Яков Николаевич не понравился. Глаз у него дурной, на колдуна похож либо на преступника. — Антон — приятный?! — С вызовом воскликнул Михаил. — Ха! Психолог объявился, физиономист! Когда кажется, надо перекреститься. Вор твой Фомич, вор! — Мой? Почему мой? Он твой. Если мне память не изменяет, вчера ты мне сказал, что соберутся у тебя самые близкие друзья, — задетый за живое криком брата, спокойно ответил Егор и язвительно прибавил: — Скажи мне, кто твои друзья… — Ну договаривай, договаривай, чего ж остановился, — прошипел Михаил осевшим голосом. — А что договаривать, и так все ясно: если Фомич вор, то остальные и подавно — жулье и казнокрады, — принял вызов Егор. — Не надо быть психологом, чтобы раскусить твоих приятелей. — Не тебе их судить, — покраснев, угрюмо проговорил Михаил. — Кто ты по сравнению с ними? Комар перед тигром. Тебе б помалкивать надо, а ты полез в дискуссию: нетрудовые доходы, видите ли. Фи-ло-соф из бульбошиного царства. Михаил понял, что сказал глупость, понял по лицу брата, вдруг побледневшему, по ставшим вдруг колючими глазам. Попытался поспешной вымученной улыбкой исправить глупость. Но было поздно: Егор «заводился» с полуоборота. — Бульбошиное царство, говоришь? Да, Белоруссия наша богата бульбой. И еще много чем богата. Наша бульба выручала нас в годы гитлеровской, оккупации, Без бульбы мы, может, и не выжили бы. Оно правда — няма у нас черной и красной икры, не растет яна в бульбовым краю. Только насчет комара ты, братец, крепко ошибаешься. Не комары мы, хоть и умеем кусать разную погань. Ты называешь наш край бульбошиным царством. Ну, спасибо, что не забыл, вспомнил батьковщину. Хоть бульбой попрекнул — и то ладно. — Брось демогогию, Егор, — перебил Зубров и поморщился. — Я свою родину никогда не забывал. — А тебе нечего и забывать было, у тебе яе няма — батьковщины. И у нашей сямье ты чужий. Помнишь, як у детстве тебе звали? Не помнишь? Дык я напомню: выродком. Любовь Викторовна в ужасе закрыла уши руками и выбежала из кухни. Взгляд Михаила застыл, одеревенел. Он смотрел на брата немигающими глазами, приоткрыв рот, словно намереваясь что-то сказать. Но не было голоса, язык не поворачивался. И он тяжело опустился на стул. В последний миг Егор сообразил, что в ярости сказал то, чего не следовало бы говорить, но продолжал приглушенным, каким-то не своим, срывающимся голосом: — И фамилию нашу ты позоришь, тебе б не Зубровым, а Волковым называться надо, ты ж другой породы, як и яны, твае знатные приятели — тигры. — Замолчи, бешеный, — прошипел Зубров. — Ты и родную мать готов оклеветать. — Ты на маму не кивай, яна не виновата, что ты такой. Ты и яе не любил. Ты только себя любишь. Недаром народ говорыть: у сямье не без урода. И у Белоруси нашей тожа были и есть не одны партизаны и герои. Прохвосты и подлецы тожа были и есть, разной пароды выродки. Выговорившись, Егор схватил свой пиджак и зашагал к калитке. Поздно вечером на Белорусском вокзале он сел в поезд Москва — Минск. Уже в пути вспомнил, что дорожный чемоданчик его остался на квартире брата и что не сделаны в Москве покупки, о которых просили жена и дочь. Вспомнил без досады и сожаления. Он думал о младшем брате и его «самых близких друзьях» и про себя называл их сомнительными людьми. Пусто было внутри, неприятный осадок лежал на душе, и Егор пытался ни о чем не думать, уснуть, чтоб отделаться от горьких воспоминаний. И он уснул скорым и крепким сном человека, привыкшего вставать до восхода солнца. Ему снились какие-то отвратительные хари, с диким хохотом преследующие его и указывающие на него грязными пальцами. «Сомнительные люди», — сказал он во сне, разбуженный проводником. — Вставайте, на следующей вам выходить.ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Анатолий Павлов жил теперь у Норкиных. Илья Маркович достал молодоженам путевки в Дом творчества кинематографистов, и в начале августа Белла и Анатолий собирались выехать в Пицунду фирменным поездом в вагоне «СВ»: Белла плохо переносила самолет. А что может быть лучше двухместного купе для путешествующей четы? Путевки уже были на руках, а достать билеты в «СВ» для Ильи Марковича при его-то связях даже в пик курортного сезона не представляло проблемы. Сам Илья Маркович с супругой по давно заведенному обычаю отпуск свой проводил осенью, и не на морском берегу, а на минеральных водах Кавказа. Летом Норкины жили на даче, впрочем, сам Илья Маркович на даче бывал только в субботу и воскресенье, а Белла предпочитала проводить выходные дни в Москве. Такой порядок диктовался и соображениями охраны квартиры. С недавних пор Илья Маркович поставил свою московскую квартиру на милицейский пульт охраны. Прежде чем принять такое решение, он долго колебался, советовался со знатоками, консультировался, взвешивал. Его смущал порядок, согласно которому вторые ключи от квартиры должны храниться в милиции. Недоверчивый и подозрительный ко всем и каждому, он опасался, как бы кто-нибудь из сотрудников милиции не сделал дубликаты. Поэтому на время летнего сезона все ценности, в том числе и кулон, Норкины вывозили на дачу. Где хранились эти вещи, Павлов узнал от своей молодой супруги. В пятницу погожим утром Павлов с тещей на «Волге» выехали в Москву, оставив на даче Беллу. К вечеру они должны были вернуться втроем вместе с Ильей Марковичем. Теща сразу пошла по магазинам, чтобы закупить для дачи продуктов, а зять, как-никак студент, устроившись за письменным столом, продолжил работу над давно начатой курсовой. Часа через три теща пришла из магазина и застала Анатоля в расстроенных чувствах. Опечаленный и озабоченный, он держал в руках только что полученную телеграмму из Крыма, в которой сообщалось о тяжелом состоянии его матери. Павлов решил ближайшим рейсом лететь в Крым. В то же время, будучи любящим мужем, он считал своим долгом перед тем, как выехать в аэропорт, повидаться с Беллой. Теща поняла и сыновью тревогу, и желание зятя повидаться с молодой женой перед дальней дорогой, и сочла своим долгом предупредить, чтобы ехал по шоссе осторожно, не превышая установленной скорости. Спустя час Анатоль был уже в Абрамцеве, и Белла стала собирать мужа в дорогу. Вид у Анатоля был рассеянный и подавленный, он как неприкаянный слонялся по комнатам и по участку, не находя себе места. Белла понимала его состояние, сочувствовала и старалась утешить, как могла. — Не надо, милый, принимать близко к сердцу. Может, все обойдется. Ну хочешь, я с тобой поеду? — До аэропорта, — согласился Анатоль. — Нам надо поторапливаться: каждый час дорог, — и пошел к машине. Минут через пять, закрыв дачу на множество замков и спустив с цепи волкодава Чона, за калитку вышла Белла, и они с Анатолем сели в машину. Надо было ехать. Но где же ключи зажигания? Анатоль пошарил по карманам: руки его дрожали. В карманах ключей не оказалось. — Ты оставлял их в машине? — спросила Белла. — Кажется, нет, я всегда держу их при себе, — машинально произнес Анатоль. — Да! Вспомнил! Посиди, я сейчас… — Он торопливо вышел из машины и побежал во двор дачи, отгороженной от улицы тесовым, крашенным в голубой цвет забором. Вернулся буквально через три минуты, позвякивая ключами. — Где они были? — полюбопытствовала Белла. — Возле туалета. Я обронил их, — виновато улыбнулся он. Когда выехали на Ярославское шоссе, Анатоль вдруг сказал: — Ты напрасно со мной поехала. — Почему? Ты не хочешь, чтобы я тебя проводила? — Не в этом дело. Родители будут недовольны: оставили дачу без присмотра. — Ерунда. А Чон на что? За каких-нибудь четыре-пять часов ничего не случится. Папа в пятницу всегда раньше приходит. — Оно, конечно, но знаешь, старики — у них свои понятия. Анатоль оказался прав: Норкина не одобрила приезд дочери. И с немым укором посмотрела на зятя. Павлов поспешил отвести от себя вину: — Я говорил ей — останься, но она меня совсем не слушается. — Мамочка, да не волнуйся ты. Ничего не случится. Скоро приедет папа, и мы уедем. — Ты дом хорошо закрыла, электричество отключила? Газ перекрыла? Сейчас участились пожары. Горят дачи, — тревожилась Норкина. Павлов спешил в аэропорт. Заказывать такси по телефону было некогда, он поймал машину на улице и впопыхах, чмокнув холодными губами Беллу, уехал. Но путь Анатолия Павлова лежал не в аэропорт, а на улицу Бронную. Пришелец ждал Павлова с нетерпеливым волнением, которое испытывают азартные игроки, предвкушая солидный куш. Они не виделись около месяца. За это время не только в реках много воды утекло, много вещей «утекло» из квартиры Пришельца, на что Павлов сразу обратил внимание. Но на недоуменный взгляд его Ипполит Исаевич не спешил с ответом. Они стояли в столовой, где не было уже мебели из мореного дуба, а голые стены, где когда-то сверкали окладами иконы и золочеными рамами картины старых мастеров, придавали когда-то богатой комнате нежилой, заброшенный вид. И это запустение усиливала одинокая и пустая горка, за выпуклым хрустальным стеклом которой не было прежнего, привычного глазу Павлова фарфора и серебра. — Ну? — кратко спросил Пришелец. — Порядок, — ответил Павлов, небрежно, словно пуговицу или коробку спичек, вынул из кармана бриллиантовый кулон и протянул его Пришельцу. Ипполит Исаевич искоса метнул холодный взгляд на Анатоля, отошел к окну, держа на ладони сверкающий радужными гранями алмаз. Потом, положив в нагрудный карман замшевой куртки кулон, он обернулся к Павлову, ожидавшему благодарности. Но вместо этого тот услышал лишь: — Рассчитаемся в Гамбурге или Париже. Анатоль насторожился: в тоне Пришельца не было обычной для шефа холодной шутливости. — Ты удивлен пустотой квартиры? Да, случилось непредвиденное. Я должен покинуть страну в ближайшие дни. Уезжаю по доброй воле, по собственному желанию. Я давно подал эмиграционные документы, но не предполагал, что все так быстро решится. А недавно получил официальное разрешение… — Шеф умолк, склонив голову, и сделал несколько шагов по комнате. Потом, приблизившись к Павлову вплотную, резко вскинул голову. — Я позаботился и о тебе. За добро я привык платить добром, ты это знаешь. Так вот, выслушай меня внимательно. Над тобой нависла серьезная опасность, гораздо серьезней, чем ты можешь думать. Я боюсь этого слова, но хочу быть с тобой откровенным, возможно, смертельная. Я располагаю точными сведениями: на днях тебя должны арестовать. Ты на крючке. Понимаешь? Павлов подавленно молчал. И Пришелец, не давая ему опомниться, продолжал приказным тоном: — Завтра ты вылетишь с группой туристов в ФРГ. В Бонне к тебе подойдет Миша Герц, помнишь, он тут у нас в героях дня ходил? — Павлов молча кивнул: помню. — Сам не ищи его, он найдет тебя в момент, когда сам сочтет нужным. Будешь жить у него до моего приезда. А потом мы развернем такое дело, что тебе и не снилось. Ты будешь хозяином отеля, войдешь в правление фирмы. При твоей-то смекалке, при уме в три года сколотишь капиталец. К твоим услугам будут все земные блага и наслаждения. Вот так, Анатолинька. Здесь медлить и раздумывать некогда. Пан или пропал. А сейчас я тебя познакомлю с руководителем группы, с которой ты завтра полетишь в ФРГ. — Он шагнул к приоткрытой двери и позвал: — Арвид! В столовую вошел атлетического сложения блондин. Лет сорока, стройный, с энергичным круглым подбородком и решительным самоуверенным взглядом, он мог бы сойти за тренера спортклуба. — Познакомься, Арвид. Вот тот юноша, который полетит с тобой в Бонн. Он и есть Анатолий Павлов. Арвид скупо улыбнулся, обнажив гнилые зубы, и протянул Анатолю руку. Павлов, ошеломленный и подавленный, растерянно пожал ее. Арвид достал из кармана заграничный паспорт и молча протянул его Павлову. Анатоль машинально открыл документ и увидел свою фотографию, свою фамилию, имя, отчество, год рождения. Все было верно, все в точности. — Целлофан сними, — сказал Пришелец, указывая на паспорт. Павлов снял с обложки целлофан, и тотчас же целлофан этот оказался в кармане Арвида. Затем Арвид достал пачку денег, перетянутую белой бумажкой, и протянул Анатолю. — Здесь две тысячи марок, — пояснил Пришелец. — На первый случай. Потом Миша выдаст тебе еще. Бумажку сними и отдай Арвиду. «Прячет отпечатки пальцев», — догадался Павлов, он казался себе слабым и беззащитным. Он мог предположить что угодно в своей бесшабашной рискованной судьбе: суд, суровый приговор, даже высшую меру наказания, например, за соучастие в «устранении» Конькова, но только не бегство за границу. Такое и в голову ему не приходило. События обрушились на него внезапно, словно глыба снега, парализовали его волю, раздавили и опрокинули. Еще час тому назад ему казалось, что он уже вышел из-под власти своего всемогущего грозного и жестокого шефа, что он получил свободу н сам распоряжается своей судьбой. Теперь же он понимал, что жизнь и судьба его по-прежнему в руках Пришельца, который и не подумал даже спросить согласия самого Павлова, он просто решил, и решение это следовало исполнять беспрекословно и точно. Пришелец даже не дал Павлову ни минуты на размышление. С ехидным добродушием он отдавал последний приказ: — Ночевать сегодня в Москве тебе нельзя, опасно. Сейчас ты поедешь с Арвидом к нему на дачу, там переночуешь. Утром за вами придет машина и отвезет в аэропорт. А теперь поторопитесь. — И не поинтересовавшись, все ли понятно, может, есть вопросы, Пришелец широким жестом обнял Павлова, слегка коснулся его горячей щеки холодными губами и, сказав, «до встречи в Гамбурге или Париже», подтолкнул их с Арвидом к двери. На улице Арвид сказал, что дача, куда они едут, находится по дороге в Дядино, и само название этого районного центра повергло Павлова в уныние. С этим подмосковным городом были связаны неприятные воспоминания: психлечебница, квартира Бертулина, Коньков. До вокзала они доехали на такси. Всю дорогу молчали: так велел Арвид. Теперь Павловым командовал он. В поезде, как было условлено, ехали в одном вагоне, но в разных отсеках. Жуликоватые глаза Арвида наблюдали за Павловым с профессиональным недоверием. Анатоль изредка озабоченно посматривал на спутника, который не понравился ему с той самой минуты, как неожиданно по зову Пришельца появился в столовой. Прислонившись к окну, Павлов попытался собраться с мыслями, сосредоточиться и подумать над тем, что случилось. Но это ему не удавалось: страх, сомнения, отчаяние терзали его, мешали ему все взвесить холодным рассудком и проанализировать. Фраза, сказанная Пришельцем, «смертельная опасность» напомнила ему о смерти Конькова в Одессе. Это было самое тяжкое преступление, в котором Павлов принимал косвенное участие — передал налетчикам на квартиру Бертулина приказ Пришельца убрать Конькова, что они и сделали. Выходит, кто-то из убийц, а может, и оба, арестованы. Причастность Пришельца к этому «мокрому» делу не докажешь, даже если он, Павлов, на следствии стал бы «топить» своего шефа. Но он этого не сделает. Анатоль начал перебирать в памяти все факты их отношений с Пришельцем и не нашел ни одного случая, чтобы Ипполит Исаевич обманул его или не выполнил своего обещания, и это обстоятельство не давало оснований с недоверием отнестись к последней «туристической» операции, разработанной Пришельцем. Павлов фанатично верил в удачливость Ипполита Исаевича, в его точный безошибочный расчет, но свою жизнь в эмиграции он не представлял. Хозяин гостиницы! Забавно и смешно. В это он не верил. Он не был настолько наивен, понимал, что таких, как он, там тысячи. Он видел по телевидению демонстрации безработной молодежи. Почему ж они не стали хозяевами гостиниц, банков, заводов? Сделать бизнес с двумя тысячами марок в кармане, да к тому же без знания языка — нет уж, эти сказки не для него. Иное дело Ипполит Исаевич, он наверняка переправил туда солидный капиталец. Поэтому самое большое, на что Павлов мог рассчитывать, это по-прежнему быть послушным и преданным подручным у своего шефа там, за рубежом. Надо решать. Сомнения мучили его, но Павлов не принял никакого решения, не сделал выбора, хотя и не из чего было выбрать, — он плыл по течению: куда-нибудь да вынесет. И все же ему не было безразлично, куда именно вынесет. Они вышли из электрички на платформе за два перегона до Дядина. Как и условились. Арвид шел впереди, Павлов за ним на значительном удалении, чтобы создать видимость, что они не знакомы. Вечерело. После полудня небо начало хмуриться и начал накрапывать мелкий теплый дождь. У продовольственного магазина толпились собутыльники, среди которых мелькнула, как показалось Павлову, знакомая фигура. Человек быстро затерялся в толпе, как только взгляд его встретился со взглядом Павлова. Их разделяло расстояние метров в двадцать, а может, и более, и Павлов не был твердо уверен, что это один из участников засады в квартире Бертулина, один из тех, кому в Одессу Павлов отвозил приказ Пришельца о Конькове. Возможно, и не он, обознаться было проще простого, и все же неприятно кольнуло сердце. Не уготовлена ли и ему, Павлову, участь Конькова? Может быть, его заманивают в заранее приготовленную западню? Паспорт и марки — всего лишь для достоверности? Надо быть начеку. А может, сейчас же и бежать? Но куда? Впереди Арвид, сзади у магазина другой, такой же, по кличке Пират. Настоящего его имени Павлов не знал. Возможно, и гнилозубый совсем не Арвид. От них не так просто скрыться. Арвид свернул на безлюдную тропинку, ведущую к садовым участкам, на которых стояли маленькие, похожие на скворечни домики, утопающие в зелени садов и кустарников. Тропинка шла вдоль опушки леса, который высокой и плотной стеной ограждал садоводческий поселок от северных ветров. В лесу сгущались сумерки, из кустов как-то чересполосицей тянуло то теплом, то прохладой. Арвид замедлил шаг, и Павлов сделал то же самое. Тогда Арвид остановился, поджидая Анатоля. И когда их разделяло каких-нибудь пять-шесть шагов, Арвид свернул влево и подошел к ближайшему от опушки домику. Собственно, это был даже не домик, а выкрашенный в темно-зеленый цвет сарай, сколоченный из щитов какого-то контейнера. Со стороны двери, на которой висел замок с набором четырех цифр, было небольшое окно, Арвид беглым, но цепким взглядом окинул окрестные домики. То же самое сделал и Анатоль, убедившись, что поселок не безлюден: возле одного домика разговаривали мужчина и женщина, от другого доносилась музыка. Это несколько успокоило Павлова. Арвид набрал нужные цифры, снял замок и, открыв дверь, кивком велел Павлову входить первым. Анатоль осторожно вошел в густой полумрак. Сквозь маленькое окно слабый свет падал на железную койку, возле которой стоял небрежно сколоченный из щитов стол, на котором горбилась газета, прикрывавшая закуску. Бутылка коньяка и два граненых стакана выжидательно стояли на уголке стола. Когда глаза привыкли к темноте, Павлов разглядел все помещение, состоящее из одной комнаты. Арвид, словно читая его мысли, глухим, но резким голосом сказал: — Сарай-времянка. Вернусь из Германии — поставлю стандартный домишко. Уже договорился и даже деньги уплатил. Дело за фундаментом… Садись, чего стоять, — он кивнул на койку, а сам устроился на неустойчивой шаткой скамейке возле стола, смахнул газету. В глубоких суповых тарелках лежали нарезанная ломтями ветчина; сервелат, черный хлеб. Рядом — не открытая баночка красной икры, две вилки и консервный нож с деревянной рукояткой. — Соседка приготовила, — пояснил Арвид и, подмигнув, добавил: — Подруга. Я ведь холост, вернее, разведен. Давай поужинаем да спать. Машина завтра придет к девяти часам. Время есть. Павлов быстро соображал: тут может быть все отравлено — рюмка, закуска и даже коньяк. Много ли надо цианистого? — Не хочется, — изображая смертельную усталость, сказал он. — Я попозже, перед сном. — Да брось ты тянуть резину. — Арвид распечатал бутылку и, наполнив стаканы, поднял ближний к себе: — Ну давай — за благополучие! — Потом, дай немного отдышаться, — отрицательно замотал головой Анатоль. — От чего? Километр прошел — и уже одышка? — Не в том дело. Все как-то сразу — неожиданно. — Трусишь?.. Не доверяешь? Слова эти можно было истолковать двояко. Но. Павлов нашелся, спросил в свою очередь: — А разве есть стопроцентная гарантия, что завтра в аэропорту меня не разоблачат? — Двести процентов, — решительно сказал Арвид, и в глазах сверкнул злобный огонек. Наблюдательность Павлова была обострена. Арвид отпил полстакана, взял кусочек хлеба, наколол вилкой ломтик ветчины, аппетитно закусил. — Ну ладно: давай попозже. Ты меня жди. Я на часок отлучусь к своей ненаглядной, поблагодарю ее за угощение и скажу, что приду к ней ночевать. Арвид как-то настороженно осмотрелся и вышел из домика, прикрыв за собой дверь. Обостренный глаз Павлова все замечал, а напряженный слух улавливал малейший посторонний звук. Ему послышался за дверью едва уловимый лязг металла о металл. Мелькнула тревожная мысль: «кажется, запер дверь», и в тот же миг взгляд устремился на окошко: «Пожалуй, пролезу». Но он даже не пошевелился, замер. Почти не дыша просидел минут пять. За дверью не слышалось никаких движений, ни шорохов. Павлов поднялся, осторожно нажал на дверь. Она была заперта. Он подошел к окну и, увидев на раме шпингалет, обрадовался. Окно открывалось вовнутрь. Он тянул шарик шпингалета медленно, бесшумно. Открыл и, осененный неожиданной мыслью, вернулся к столу, взял свой стакан, наполненный коньяком и выплеснул в окно. Потом бросил под койку два куска хлеба, кусок сервелата и почти всю ветчину. Создал видимость, что пил и закусывал. На всякий случай. В окошко он пролез с трудом, — пришлось снять кожаную куртку и сначала выбросить ее. Оказавшись на свободе, Анатоль осмотрелся. Да, на двери висел тот же номерной замок. Павлов понимал, что медлить нельзя. Пригнувшись, он нырнул в кусты смородины и крыжовника. Пугливо оглядываясь по сторонам, как обложенный волк, подстегиваемый животным страхом, он устремился к темному омуту леса, в котором видел свое спасение. Только бы нырнуть в него, окунуться с головой и затеряться. Добежав до опушки, на какой-то миг остановился и, прежде чем пересечь тропу, по которой шел с Арвидом, осмотрелся, вслушиваясь в тишину июльского вечера. Убедившись, что опасность не грозит, перебежал тропу и начал осторожно пробираться по лесу вдоль тропинки в сторону железнодорожной платформы. Не пройдя и сотни метров, он услышал негромкие мужские голоса. Павлов укрылся за невысокой елочкой. Разговаривали двое отрывистыми короткими фразами. Слышались их торопливые шаги. «Ждет», — сказал Арвид. Павлов сразу узнал его голос. «Не догадывается?» — спросил кто-то чужой. «Возможно, это Пират», — неуверенно подумал Павлов. Арвид не ответил, а незнакомый голос добавил: «Он — хитрая…» Последнего слова Павлов не расслышал. Теперь он уже не сомневался, что ему была приготовлена здесь ловушка. Ждала судьба Конькова. Его колотил озноб. Несмотря на это, мысль работала четко, быстро, по-павловски, как поощрительно сказал однажды Пришелец. Мгновенная реакция на неожиданную смену обстоятельств — это было в его характере. Павлов представил себе, как будут действовать Арвид и его соучастник, войдя в пустой сарай. Погоня, поиск. Куда они бросятся прежде всего? Не иначе как на железнодорожную платформу. Выходит, на электричку ему путь заказан. Надо как можно быстрей выйти на шоссе, попытаться остановить любую машину, идущую в Москву. На чем угодно, хоть на бульдозере, только бы скорее. Он уже решил заявиться к Маркиной и все рассказать как на духу. Ну не совсем все, кое-что можно утаить. Валерия Иосифовна — женщина умная, опытная, поймет, посоветует, подскажет. Быстрее, быстрее. Шоссе шло параллельно железной дороге, их разделяла лесистая полоса шириной метров в триста. Шансов остановить машину было немного, и это повергло Павлова в отчаяние: тем более, что ощущение погони и страха не покидало его: из лесу на дорогу мог выйти тот же Арвид или его сообщник, поэтому Павлов решил не стоять на одном месте, он шел в сторону Москвы, то и дело оглядываясь назад, чтобы не упустить попутную машину и вовремя поднять руку. Вся надежда была на грузовик. И он не ошибся: к его радости, затормозил и потом остановился самосвал. В кабине сидел только водитель. Павлов подбежал, запыхавшийся, вскочил на подножку: — Послушай, друг, подбрось до Москвы, очень нужно. Я заплачу. — И второпях вынул из кармана пачку западногерманских марок. Смутившись, сунул ее обратно в карман, пошарив еще, вытащил двадцатипятирублевую купюру и протянул ее водителю. Тот денег не взял. Сделал вид, что и марки не заметил. Подал Павлову руку, помог влезть в кабину. — Садись. А деньги спрячь, пригодятся. — И дал газ. — За тобой гнались? — Да, еле ушел, — машинально, как-то само собой сорвалось у Павлова. Чтобы отвести подозрение, он прибавил: — Понимаешь, двое на одного. Пристали: сначала дай закурить, а я не курю. Тогда один: «Нет курева — давай деньгами…» Я рванулся, они за мной… Шофер, уже немолодой человек, угрюмо молчал, навалившись на руль, и сосредоточенно смотрел на дорогу. Не доезжая поста ГАИ, он перевел свой самосвал на левую половину полотна. Правда, встречных машин не было видно. Но все равно от будки на дорогу выскочил милиционер, и, взмахнув жезлом, приказал остановиться. Самосвал круто свернул вправо и резко затормозил. Водитель торопливо соскочил на асфальт: — Я умышленно нарушил. Проверьте моего пассажира! Инспектор ГАИ, оценив обстановку, зачем-то поправил кобуру пистолета и предложил Павлову выйти. Павлов смущенно пожал плечами, но без лишних разговоров покорно пошел в будку поста, где в это время находились капитан и сержант милиции. Приказав сержанту наблюдать за Павловым, инспектор, старший лейтенант, позвал капитана и попросил водителя самосвала объяснить суть дела. Тот, волнуясь, рассказал, что молодого человека, попросившего довести его до Москвы, кто-то преследовал, но главное, он видел у него пачку иностранных денег. Водителя попросили задержаться. Капитан и старший лейтенант вернулись в будку и попросили Павлова предъявить документы. Анатолий понял, что «влип». Он достал из кармана паспорт, не заграничный, а настоящий, подлинный. Полистав документ, капитан спросил: — У вас есть валюта? — Павлов медлил с ответом, и офицер уточнил: — Иностранные деньги… «Все равно обыщут», — обреченно подумал Павлов и негромко ответил: — Есть. Немецкие марки. — Много? — Две тысячи. — Он уже догадался, каков будет следующий вопрос, и приготовил ответ. — Откуда они у вас? — На этот вопрос я отвечу в другом месте. — Понятно, — сказал капитан и по телефону связался с дежурным Дядинского отдела внутренних дел. Через двадцать минут на пост ГАИ прибыла оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска, а спустя полчаса Анатолий Павлов сидел в кабинете подполковника Беляева. На письменном столе Станислава Петровича лежали две тысячи марок, оба паспорта Павлова, студенческий билет, сберегательная книжка на 1125 рублей — все, что было изъято при личном обыске. Книголюб и эрудит Станислав Петрович Беляев имел привычку перед сном читать. Он был в курсе всех книжных новинок, имел многотомную библиотеку, при этом никогда не ставил новую книгу на полку, предварительно не прочитав ее. В тот день, под вечер, он с упоением читал только что вышедший новый роман Ивана Акулова «Касьян остудный». Соглашаясь с женой, что название романа явно неудачное, непонятное читателю, он восторгался словесной вязью, в которой понимал толк, и объемными, зримыми характерами персонажей. В полночь ему позвонил дежуривший в отделе его зам по оперативной части. Услышав о Павлове, да еще к тому же с валютой и загранпаспортом, Беляев торопливо сказал в трубку телефона только два слова: «Высылай машину». Дело в том, что перед этим ему звонил начальник Загорского райотдела внутренних дел и рассказал несколько странный, хотя на первый взгляд и банальный случай. В поселке Абрамцево злоумышленник днем, когда хозяева были в Москве, забрался на дачу гражданина Норкина, отравил собаку, открыл окно, вошел в дом, но ничего не взял. Норкины, сам хозяин, его жена и дочь, возвратясь из Москвы на дачу, заявили об этом начальнику милиции. В Загорск на своей машине приехал сам Норкин Илья Маркович и в беседе с начальником горотдела спросил, можно ли связаться с Москвой, с подполковником Добросклонцевым и сообщить ему об этом. Естественно, загорцы поинтересовались, почему именно Добросклонцеву? И Норкин не совсем внятно и не очень охотно признался, что знаком с Добросклонцевым в связи с налетом на квартиру ювелира Бертулина. На вопрос, кого Норкин может подозревать, Илья Маркович замялся, но затем, правда неуверенно, сказал: — Есть один человек, но он сегодня должен был улететь в Крым. Мой зять — Анатолий Павлов. На вопрос: «Какие у вас есть основания для подозрений?» — Норкин ответил: — Собака. Она у нас была злая, можно сказать, агрессивная и пищи ни от кого из посторонних не брала. Значит, яд мог дать ей только Павлов. В этом могла быть своя логика, если бы не другие безответные вопросы, например: зачем Павлову надо было умерщвлять собаку, проникать в дом, где он жил, через окно, когда он мог просто совершить кражу обычным путем, то есть взять любую понравившуюся ему вещь втайне от хозяев? И почему он все же ничего не взял? На эти вопросы Норкин лишь пожимал плечами и уклончиво отвечал: — Мы еще не знаем, все ли вещи на месте, дачу только бегло, поверхностно осмотрели. А может, потом окажется что-нибудь пропавшим. Заявление Норкин писать отказался: все-таки зять, молодая семья, да, возможно, и не он. Одним словом, узнав, что Добросклонцева в Москве нет — уехал погостить к матери, — он даже пожалел, что решил заявить о случившемся. Беляев выслушал сообщение загорского коллеги с большим вниманием, поблагодарив за информацию, сказал, что, если Загорск не возражает, то он немедленно вышлет в Абрамцево своих сотрудников. Загорск не возражал. Беляева удивило хладнокровие и спокойствие Павлова. Ни дерзкой самоуверенности, ни трусливого замешательства не нашел он в облике этого внешне симпатичного юноши, ни в его открытом, пожалуй, даже добродушном взгляде, ни в мягком голосе. За непродолжительное время в пути от поста ГАИ до Дядина Павлов отработал линию своего поведения. Он предполагал, что Пришелец уже предупрежден о его бегстве от Арвида, и, хорошо зная крутой нрав своего бывшего шефа, его связи, не сомневался, что сейчас милицейский изолятор служит для него более надежным убежищем, нежели, как он планировал, квартира Маркиной. По новому сценарию, который он намеревался теперь разыгрывать, Пришелец должен оставаться в тени. Павлов был уверен, что Ипполит Исаевич — с его-то связями — непременно будет знаком с протоколами допроса своего бывшего подручного. Он считал бесполезным рассказывать следствию о преступных действиях Пришельца, потому что, кроме вреда, из этого ничего не могло получиться. Ипполит Исаевич все равно выйдет сухим из воды. Да и немного знал Павлов о преступных действиях Пришельца, а то, что и знал, например, «устранение» Конькова, на Ипполита Исаевича трудно, просто невозможно «навесить». Никаких улик. — Удивлен, Павлов, видя вас здесь: по нашим сведениям, вы сейчас должны находиться в Крыму возле умирающей матушки, — сказал Беляев, добродушно улыбаясь. — Опоздал на самолет, — смущенно ответил Анатолий. — И потому решили вместо Крыма махнуть в ФРГ? — Я ничего не решал. — Павлов сокрушенно вздохнул. — Решали другие. За меня решали. — И денег вам на дорогу выдали. Кто ж эти добрые и щедрые благодетели? Расскажите, пожалуйста, о них! Подробно, не спеша. — Беляев поудобнее устроился за столом. — На эти вопросы я буду отвечать в другом месте. — Павлов искоса глянул на Беляева и отвернулся. — Где именно, если не секрет? — В Москве, на улице Белинского, Мироновой Антонине Николаевне. И только ей. — Любопытно, — как бы про себя обронил Беляев. — Очевидно, вы хотите помочь следствию? Не так ли? — Возможно, — кивнул Павлов, и в мягком голосе его просквозила вежливая уступчивость, и Станислав Петрович не замедлил этим воспользоваться. — Как вы сообщили водителю самосвала, за вами гнались, и вы, спасаясь от своих преследователей, направлялись в Москву. Это похоже на правду. Возможно, вы спешили на улицу Белинского, чтоб сделать важное сообщение Мироновой. Но для нас, чтобы обезвредить преступника, все решает время: минуты и даже секунды. Поэтому, если вы искренне хотите нам помочь, то в ваших интересах сообщить нам некоторые обстоятельства, которые требуют от нас немедленных действий: задержать тех, кто вас преследовал. Возможно, и тех, кто, по вашим словам, решил за вас вопрос о выезде за границу. Решайте, время не терпит. Павлов медлил с ответом. Конечно, было бы неплохо задержать сейчас Арвида и его сообщника, но тогда может полететь вверх тормашками легенда, которую он уже успел сочинить для Мироновой. И Павлов сделал над собой усилие, скорбно молвил: — Я уже сказал: показания буду давать Мироновой. — Ну что ж, не смею настаивать, — пожал плечами Станислав Петрович и откинулся на спинку кресла. Павлов решил, что на этом разговор закончен. Беляев смотрел на него добрым взглядом, в котором, казалось, смешались сожаление и сочувствие. — Хорошо, — сказал он после продолжительной паузы и положил на стол свои сильные руки рабочего. — Завтра вы будете разговаривать с Антониной Николаевной, к которой питаете доверие. Она человек справедливый, внимательный и особенно чуткий к чужой беде. Наверно, вам это известно. Оставим это дело — паспорт, валюту до встречи с Мироновой. Но все же ответьте мне на простой вопрос: зачем вам понадобился спектакль с поездкой в Крым, с собакой, с растворенным окном? Какой во всем этом смысл? — А почему вы решили, что я причастен к какому-то спектаклю с Крымом, собакой и окном? — пожав недоуменно плечами, спокойно ответил Павлов, но спокойствие, как заметил Беляев, стоило ему немалых усилий. — Анатолий! — Станислав Петрович с укором развел руками. — Вы же умный парень, так не считайте и своих оппонентов несмышленышами. Фраза эта вызвала кривую усмешку на губах Анатолия. Он, как бы извиняясь, проговорил: — Разрешите мне и на этот вопрос ответить Мироновой. — И затем прибавил: — Дело в том, что с ответа на ваш последний вопрос и начнется наш разговор с Антониной Николаевной. — Ну что ж, пусть будет так, — Беляев встал. Поднялся и Павлов. — Я хочу надеяться на ваше благоразумие. Случай помог нам сегодня встретиться с вами. А не подвернись этот случай, все равно мы собирались с вами увидеться в самое ближайшее время. Так что, как видите, вы опередили события. Возможно, это к лучшему и для вас, и для нас. На этом они расстались. Павлова увели в изолятор, где никто не мешал ему собраться с мыслями, спокойно все обдумать и взвесить. Надо было серьезно подготовиться к разговору с Мироновой.ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Ипполит Исаевич называл свою жизнь полосатой, поскольку удачи чередовались с неудачами. К такой своеобразной цикличности он привык и к переменам цикла всегда был готов. При этом невезение — явление относительное, если иметь в виду, что самую пустяковую неудачу Ипполит Исаевич уже заносил в графу с минусом, в то время как плюсовал только крупные удачи. Сейчас ему везло по большому счету. Решение бежать на Запад он принял твердо. В его домашнем сейфе лежали три вызова из-за рубежа: из Австралии, Израиля и Уругвая. Их он получил по неофициальным каналам через своих знакомых, выезжающих в служебные командировки и избавленных от неприятной процедуры таможенного досмотра. Но он пока что не решался воспользоваться этими вызовами: держал их в резерве, как второй вариант на тот случай, если с первым выйдет неудача. Надежнее всего, считал он, уехать за рубеж туристом и там, в зависимости от обстоятельств, либо попросить политического убежища, объявив себя инакомыслящим, либо остаться в роли безвестного невозвращенца. Все свое имущество, все сокровища своей коллекции он распродал по цене несколько ниже комиссионной и потому убыточной, но это была вынужденная и оправданная жертва, поскольку в сложившихся обстоятельствах иного выхода не было. Самые ценные из его сокровищ приобрел Земцев. Остальные поделили между собой Малярчик и Зубров. Что же касается кооперативной квартиры, то ее Пришелец сумел оформить на имя своего приятеля адвоката, прописанного в Москве на жилплощади своей бывшей жены, с которой тот не жил, но юридически брак не расторгал. Квартиру свою Пришелец уступил также себе в убыток, более того, вместо денег наличными взял от приятеля расписку. В этом таился дальний прицел Ипполита Исаевича, о котором ловкий пройдоха-адвокат легко догадывался. Словом, Пришелец был абсолютно уверен, что еще в этом году он пересечет Государственную границу СССР и начнет новую жизнь свободного предпринимателя. Отправиться в туристическую поездку для него — при его-то связях! — не представляло никакого труда. Ну а если уж по каким-то непредвиденным обстоятельствам не удастся выехать туристом, тогда он пустит в ход второй вариант — эмиграция по вызову для соединения с единственным родственником — братом, проживающим в Австралии. На этом пути он не видел никаких препятствий, так как не был связан с предприятиями и учреждениями, чья деятельность имеет отношение к военной либо государственной тайне. Туристское турне устроил ему Малярчик. Свою судьбу, вернее судьбу своих капиталов, Пришелец доверил Земцеву. Он согласился переправить за рубеж всю валюту и ценности, что Ипполит Исаевич сумел скупить. Каким способом, Пришельца не интересовало. Услуга, конечно же, огромная, но и плата за нее тоже дай бог: бриллиантовый кулон Норкиных, который добыл Анатолий Павлов. Туристическая поездка во Францию намечалась на первую половину августа. Сегодня, сразу после получения кулона, Пришелец разговаривал с Земцевым, и они условились на завтра встретиться у Якова Николаевича, куда Ипполит Исаевич привезет все свои сокровища и, само собой разумеется, кулон. Пришелец представлял, как поведут себя Норкины, когда обнаружат исчезновение кулона: несомненно, подозрение падает на Павлова, Илья Маркович заявит в милицию, и если Павлова арестуют, то как бы он себя ни повел, — а как поведет себя Анатоль на следствии, Ипполит Исаевич с определенной уверенностью сказать не мог, — след приведет к нему, и тогда прощайте мечты и надежды «частного предпринимателя», прощайте Париж, Сидней и кенгуру. И вообще это может стать концом карьеры Пришельца навсегда, с чем не мог согласиться «великий эгоист», как называл себя Ипполит Исаевич. И он без колебаний и малейших угрызений совести решил принести в жертву своего верного слугу, преданного подручного. «Мокрое дело» поручил Арвиду, разрешив ему для полного успеха и надежности привлечь себе в помощники одного из участников нападения на квартиру Бертулина и убийства Конькова. Арвид сказал своему помощнику, что Павлов «висит на крючке» в угрозыске, что его на днях арестуют именно по делу Конькова, и что он «расколется». Время приближалось к полуночи. Пришелец с книгой в руках лежал на постели. Это был томик статей об искусстве и литературе Луи Арагона, изданный в 1957 году. Решив эмигрировать, Ипполит Исаевич начал интересоваться литературой о Франции. Арагона предложили ему в букинистическом магазине, и он, впрочем, без особой охоты, купил. Теперь, ожидая телефонного звонка Арвида, который должен был сообщить, как прошла операция с Павловым, он рассеянно перелистывал книгу, останавливаясь лишь на некоторых абзацах. С Арвидом условились так: если операция прошла благополучно, то есть если Павлов мертв, Арвид, услышав в телефонной трубке голос Пришельца, должен сказать: «Попросите, пожалуйста, Ивана Ивановича», на что, как положено, Ипполит Исаевич долженответить: «Вы ошиблись номером». Если же, не дай бог, получилась осечка, Арвид должен спросить ответившего на телефонный звонок Пришельца: «Это квартира Захаровых?» И опять же в ответ: «Вы ошиблись номером». Одновременно это означало, что сейчас заявится Арвид собственной персоной и все объяснит. Пришелец с беспокойством посмотрел на электронные часы — «00-04». «Начало первого, а от Арвида никаких вестей», — с беспокойством подумал Ипполит Исаевич и положил книгу на столик. Быстро сменялись зеленые цифры на электронных часах, и с каждой минутой нарастала тревога в душе Ипполита Исаевича. Он строил различные предположения, ища причину задержки с телефонным звонком. При этом и мысли не допускал, что может произойти что-то совсем непредвиденное, и Павлов останется жить. Живой Павлов представлял для Пришельца смертельную опасность. Когда на электронных часах появились цифры «00-43» и нервы Пришельца превратились в натянутые струны, раздался телефонный звонок. Спокойствие и выдержка изменили Ипполиту Исаевичу: он схватил трубку и взволнованно сказал: «Я слушаю». — Это квартира Захаровых? — Нет, вы ошиблись, — упавшим голосом ответил Пришелец и осторожно положил трубку. В этот миг он ощутил какой-то странный звон в ушах, похожий на далекое жужжание шмеля. Минуту он лежал в постели как одеревенелый. Нестерпимо долго тянулась эта минута умственного и телесного оцепенения. А когда она закончилась, первое, что пришло в голову, была горькая полынная мысль: вот она, полосатая цикличность удач и неудач. Но он не пал духом, не потерял надежды: сознание своей силы, вера в себя вернули ему сатанинскую энергию и готовность к борьбе. Когда через полчаса в дверь позвонили, он определенно знал, что это Арвид. Открыв дверь, жестом пригласил его в кабинет и ледяными застывшими глазами приказал садиться. Теперь он был внутренне собран, холоден, невозмутим. Арвид, волнуясь, рассказывал. Руки его дрожали, голос сипел. Но Пришелец не перебивал вопросами и уточнениями, выслушал Арвида молча и, когда тот кончил, резко поднялся. Вскочил и Арвид, вытянувшись в струнку. — Ищите, — прошипел Ипполит Исаевич. — Ищите днем и ночью, всю Москву переворошите. И чтобы живым или мертвым… Лучше мертвым… Идите. Поспешно выпроводив Арвида, Пришелец расслабился и дал выход своим эмоциям. Он метался по кабинету, скрестив на груди руки, и вслух ронял злые похабные слова по адресу и Павлова, и Арвида, и его подручного. Успокоившись, он ушел в спальню, лег в постель и стал анализировать случившееся и возможные для себя последствия. Он планировал, что нужно будет сделать завтра, какие экстренные меры предпринять. Прежде всего, как и условились, вечером побывать у Земцева и передать ему драгоценности. С утра увидеться с Зубровым и сказать, что Павлов — его шофер, кажется, попал в какую-то историю и находится в милиции. Пусть уточнит: где, в чем обвиняется, кто ведет дело. (А вдруг Павлов действительно в милиции?) И еще — встретиться с приятелем адвокатом, сказать, что, весьма вероятно, ему придется защищать Павлова, а возможно, впоследствии и его самого — Ипполита Исаевича. При этом надо тут же обещать ему вернуть расписку, где тот обязуется уплатить пять тысяч рублей — за кооперативную квартиру. Это в счет гонорара. Он достал кулон. На какую-то минуту Ипполит Исаевич отключился от тревожных дум и с хищным восторгом и упоением наблюдал за сверкающим блеском бриллианта. Этот холодный блеск на какое-то мгновение осветил взбаламученную неожиданной неудачей душу Пришельца, осветил и тут же погас. А на смену горькой радости явилась печальная мысль: «Этот камешек может накликать, если уже не накликал, беду. Может, в нем самом, как в легендарном Лунном камне, таится рок». Ему вспомнилась вся семья Норкиных, и он живо представил себе, что творится сейчас на их даче. В Абрамцеве после первого переполоха, после того, как Илья Маркович возвратился из Загорска от начальника милиции, которому сообщил об отравленной собаке и открытом окне, шла острая дискуссия по поводу странного ограбления. Забравшийся в дом вор ничего из ценных вещей не взял, кроме бриллиантового кулона. Дискуссия, впрочем, больше походила на семейную ссору. Илья Маркович утверждал с абсолютной уверенностью, что это дело рук Анатоля, жулика и проходимца, неизвестно откуда и как появившегося в их доме. От природы подозрительный и недоверчивый, он зятя невзлюбил с первого дня, как тот вошел в их дом. — Папа, ты говоришь глупость, потому что ты не любишь Анатоля! — кричала Белла. — Анатоль не мог, не мог никак, даже если бы и хотел. Мы вместе с ним выезжали с дачи. Потом он спешил в аэропорт. — А если он не поехал в аэропорт, а вернулся на дачу? — парировал Илья Маркович. — Все равно не успел бы. Мы же следом за ним выехали. Вспомни: ты пришел с работы через четверть часа после того, как Анатоль уехал, и мы сразу же выехали на дачу. Не мог он, не мог, — истерично взвизгивала Белла. — Через четверть часа, какая точность, — иронизировал Илья Маркович. — Ты даже время засекла, на всякий случай. Так? Да? — упорствовал Илья Маркович. — Ты не справедлив, Ильюша, и в самом деле, ты пришел с работы через полчаса после отъезда Анатоля, — пыталась примирить две крайности мадам Норкина — женщина спокойная, рассудительная, относящаяся к зятю более терпимо, чем ее супруг. — Ага, уже полчаса. Расхождение в два раза, — ехидничал Илья Маркович. — Больную мать придумал, сочинил. Может, у него никакой матери вообще нет, откуда мы знаем? Может, он подкидыш, детдомовец? А? Почему его мать на свадьбу не приехала? — Попытки дочери защитить мужа, доказать его невинность приводили Норкина в бешенство. — Господи, да это же кошмар какой-то! — причитала Белла. — Больная женщина, мать. Я сама читала телеграмму… — Правда, Ильюша, и я читала телеграмму. Нет, кто угодно, но только не Анатоль… Почему же он ничего другого не взял. Там и серьги и сберкнижки на предъявителя были. Все цело. Странно, очень странно. Совсем непонятно. Никакой логики. Сплошная мистика. Да, да, очень похоже. Какой-то рок. Кто-то охотился за кулоном. Я нахожу связь между засадой в Дядине и сегодняшним. Разве не так, Илья? Ты только подумай. Илья Маркович думал, по крайней мере, он соглашался с женой хотя бы в том, что в поступках вора нет логики. И это обстоятельство поколебало его, и он уже готов был признаться — пока что самому себе — в том, что, возможно, погорячился и возвел на зятя напраслину. Но не мог Чон принять пищу от чужого! А если мог? «В порядке исключения»… Павлов, конечно, мошенник, предприимчивый, изворотливый, но все же мошенник, н в этом никто не сможет разубедить Илью Марковича, который, впрочем, и себя не считал непогрешимым. Вскоре вспышка отчаяния сменилась ощущением несостоятельности своих доводов против Павлова. Связь между засадой на квартире ювелира — приятеля Пришельца — Бертулина и сегодняшним хищением кулона, после того, как о ней напомнила жена, теперь и ему, Илье Марковичу, показалась вполне возможной. Нет, в мистику он не верил, но тот факт, что кто-то охотится за кулоном, теперь для него был бесспорным. А если логически продолжать эту мысль, то получается, что «охотник» знает кулон, видел его. «Пришелец! — мелькнуло в сознании, — только он мог быть таким „охотником“. И раньше, как только обнаружили часы у Конькова, червячок подозрения на Пришельца зашевелился в голове Ильи Марковича. Он усилился после беседы с Добросклонцевым. Юрий Иванович произвел тогда на Норкина положительное впечатление. С ним можно иметь дело и быть до каких-то границ откровенным. Вот почему он, явившись в Загорский отдел милиции, спросил о Добросклонцеве. Только ему он мог признаться, что в тот раз сказал неправду, признаться и раскаяться. Кулон тогда на квартире Бертулина не был взят грабителями. До сегодняшнего дня эта семейная реликвия хранилась у своих законных хозяев. Конечно, пришлось бы выдержать унизительные минуты стыда, ссылаться на проявление слабости, что-то сочинять. Но делать нечего: Добросклонцев в отъезде, о кулоне и на этот раз он умолчал. Кулон исчез и, как считал Норкин, навсегда.2
Коньков не объявлялся, исчез бесследно. Впрочем, почему бесследно, такого в природе не бывает, это вам скажет любой юрист, следователь. Но не все можно обнаружить. Тут многое зависит от профессионального искусства, того, кто ищет след, и изворотливости того, кто этот след прячет. В народе говорят: напакостил — и концы в воду. Мол, таких концов уже и днем с огнем не отыщешь. С Коньковым его бывшие «подельники» так и поступили, опустив труп в воды Черного моря. И все же Антонина Миронова не теряла надежды. Она доверяла своей интуиции, которая подсказывала ей, что Анатолий Павлов владеет разгадкой этой тайны. В то же время она знала, что юристы отрицают само понятие «интуиция» как не вещественное, которое к делу не подошьешь. Как бы то ни было, а дело с кулоном застопорилось, и сдвинуть его с места не удавалось. Впрочем, были в нем и маленькие удачи. Такой удачей Тоня считала «выход» на банщиков Алексея Соколова и Григория Хоменко, которых она «раскопала», изучая знакомства и связи Павлова. Собственно, ничего определенного, конкретного банщики не сказали. Да, среди их многочисленных клиентов бывал солидный (определение Соколова), респектабельный (определение Хоменко) Ипполит Исаевич со своим водителем. Кто такой Ипполит Исаевич? Надо полагать, ответственный товарищ, из руководящих, персона важная. Широкая, щедрая натура. Любит сервис и понимает в нем толк. На чаевые не скупится. А как Анатолий? Да никак — обыкновенный адъютант, услужливый, разбитной парень, веселый, остроумный. Не пьет, поскольку за рулем. Часто ли посещали сие заведение? Да как сказать — по погоде: зимой чаще, летом реже. Да вот с мая не появлялись. — А их что?.. — Это сорвалось у Соколова, само собой, помимо его воли; он даже смутился, не закончил фразу. Но всем троим, в том числе и Тоне, было понятно, что он хотел сказать. Мысленно Тоня ответила: «Пока еще нет», — но смолчала, пытливо посматривая на друзей-приятелей. И оба совершенно по-разному вели себя под ее испытующим взглядом — Тоня это отметила. В глазах Соколова она прочитала смущение, тревогу и страх, лицо Хоменко выражало вопросительное удивление. Выдержав паузу, Тоня сказала: — Мне б не хотелось, чтоб о нашей с вами сегодняшней беседе стало известно Ипполиту Исаевичу и Анатолию. — Простите за нескромность, Антонина Николаевна, а что из себя представляет Ипполит Исаевич? Он очень большой начальник? — нерешительно спросил Хоменко. — Он вообще не начальник, совсем не тот, за кого вы его принимаете. — Понятно, — раздумчиво произнес Хоменко. Соколов промолчал, и молчание его Тоня сочла небезосновательным, потому и добавила на прощанье: — Если у вас появится необходимость и желание продолжить наш сегодняшний разговор об интересующих меня лицах, пожалуйста — вот вам мой телефон, звоните. Лицо Соколова потемнело. На этом они и расстались. Ох как хотелось Тоне знать, о чем говорили между собой банщики после ее ухода. Если Хоменко перед ее уходом был в возбужденном недоумении, то Соколов имел подавленный, растерянный вид. Действительно, Хоменко подозревал, что его напарник оказывал какие-то услуги Ипполиту Исаевичу, но какие именно, раньше он не знал, да и не хотел знать, Теперь же в нем зародился червь любопытства. — Видал! — воскликнул он, проводив Тоню. — Как тебе нравится такой оборот? Оказывается, наш барин совсем и не барин. А тогда кто, я вас спрашиваю? Личность, которой интересуется милиция. И не кто-нибудь, а старший следователь, хотя по внешности и не подумаешь: такая миленькая, очаровашка. Голосок, как у ласточки, щебечет, а сама глазками: зырк, зырк! В самое нутро норовит. Ты обратил внимание на ее глаза? Рентген, а не глаза. Будто и нас в чем-то подозревает, будто и мы с этим Ипполитом за одно… Ну что ты молчишь? Может, ты что-то знаешь, а от меня таишь? — Да отстань ты, — недовольно поморщившись, отмахнулся Соколов. — Да ты чего, что ты? Размахался! Дело, видно, серьезное. Могут так махнуть… Ого, сколько угодно. Может, он вор. Барин. Никакой не начальник. А деньги откуда? Я вас спрашиваю, откуда столько денег у вас, господин Ипполит Исаевич? — А нам какое дело до его денег? Мы что — нанимались следить за ним? Наше дело — веники. Остальное нас не касается. Клиент доволен, и порядок… Тоже мне — следователь, ласточка. Ей бы в ресторане щебетать, пьянь очаровывать. — Соколов попытался увести разговор в сторону, хоть как-то скрыть свое волнение. Но это у него получалось очень уж неуклюже, да и Хоменко было не просто провести. — Скажи на милость, — проговорил насмешливо. — Не понравилась следователь, в официантки разжаловал. А чем же она не понравилась? Тем, что барином интересуется? Значит, есть причины интересоваться. Может, его по всей стране уголовный розыск ищет. В последний раз когда был? Перед Днем Победы. И заметь — один, без адъютанта. Адъютанта небось раньше посадили, а теперь и до самого дошел черед. Что? Вот тебе и ласточка. Как бы эта ласточка беды не начирикала, вот что я тебе скажу. — Беду и накаркать можно, — осуждающе огрызнулся Соколов и ушел убирать парную, оставив Хоменко размышлять в одиночестве. А когда вернулся, Хоменко, возлежа на диванчике, продолжил свои размышления вслух: — Телефончик оставила. А зачем? Неспроста. Если вы, братцы-кролики, и за собой грешки какие имеете, то в ваших же интересах лучше добровольно с повинной явиться, чем ждать, когда за тобой придут. «Не за вами, а за тобой», — отметил про себя Соколов. Ему хотелось крикнуть: «Да прекрати же ты!», убежать, уединиться, все взвесить и обдумать. Он вспомнил фианиты, которые превращал в бриллианты по заказу Пришельца. Еще тогда у него были кое-какие подозрения, теперь же он был уверен, что именно эти фианиты и привели сюда старшего следователя Миронову. И, пожалуй, Хоменко прав, говоря, что лучше с повинной явиться, чем ждать. А бумажка с номером телефона следователя у Хоменко, значит, надо просить у него. И какой черт дернул его связаться с этим барином. На что польстился? На длинный рубль. На «Жигули» записался. Скоро получать: обещали в сентябре. Может случиться и так, что не видать тебе, Алексей Соколов, собственной машины: на казенной с железной решеткой увезут. А за что? Какое преступление совершил? Заставил искусственный минерал засверкать гранями, облагородил. Не воровал же эти камешки Алексей Соколов. Для него это был просто побочный заработок, как для слесаря-водопроводчика, для столяра-краснодеревщика или художника-оформителя. Так он рассуждал, когда принимал заказ от Пришельца. Ничего преступного в этом не видел. А если говорить откровенно, то не хотел видеть, закрыл глаза и шел вслепую, не задумываясь и не рассуждая, к конечной цели — к своему «Жигуленку». Шел, да не дошел, не думал не гадал, что на пути вдруг окажется ласточка-певунья из управления внутренних дел. Насчет официантки он, конечно, зря, сгоряча выпалил. Она и в самом деле симпатичная женщина, молодая, обаятельная. Можно, конечно, и встретиться с ней, рассказать о фианитах Ипполита Исаевича. Кстати, кто порекомендовал барину обратиться к Соколову? Да, вспомнил: ювелир из Дядина Арсений Львович. Не хотелось бы впутывать этого благообразного обходительного мастера. А ведь придется. Обязательно спросят, почему Ипполит обратился к тебе, Алексей Соколов? Ипполита тоже спросят. Придется отвечать, говорить правду и только правду.Она уснула, когда в открытое балконное окно неотвратимо врывался алый свет зари. Ей снились цветные сны, и было так обидно, когда приятные сновидения оборвал резкий звонок телефона. Звонил Станислав Беляев и, не поздоровавшись, заговорил стихами: «Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой». — Стас, это жестоко с твоей стороны, это нечестно, — заспанным капризным голосом недовольно отозвалась Тоня. — Претензии будешь предъявлять своему другу Анатолию Павлову, который сидит у меня в изоляторе и жаждет разговаривать только с тобой. Желательно бы тебе поспешить в Дядино, поскольку загранпаспорт оного Павлова и инвалюта лежат передо мной. — Стас, я ничего не понимаю. Ты решил меня разыграть? — Нет, Антонина, тут не до шуток. Дело, кажется, принимает серьезный оборот, настолько серьезный, что мы, пожалуй, и не подозреваем о его глубине. — Тогда я немедленно выезжаю. Приготовь черный кофе и бутерброд с сыром. — Жду.
3
В первые минуты Павлов показался Тоне спокойным, расслабленным и даже слегка беспечным. На бледном усталом лице его сверкнула смущенная улыбка, покрасневшие от бессонницы глаза виновато заморгали, губы чуть дрогнули, и он негромко, но приветливо сказал: — Очень хорошо, что вы приехали. Так говорят врачу, приехавшему к тяжелобольному. И Тоня, поддерживая предложенный Павловым тон, ответила доброжелательно: — Ну что ж, Анатолий, в таком случае я надеюсь на полное взаимопонимание. Рассказывайте. Они сидели вдвоем в тесноватом кабинете замполита. У Павлова было достаточно времени, чтобы хорошо обдумать предстоящий разговор со следователем. Версия, которую он сочинил, ему казалась убедительной и неуязвимой. По крайней мере усилием воли, своего рода самовнушением, он заставил себя поверить в это. Все строилось исходя из необходимости во что бы то ни стало выгородить Пришельца, отвести от него малейшие подозрения. Павлов боялся мести своего всемогущего повелителя. Он был абсолютно уверен, что шеф неуязвим, что даже если он, Павлов, и даст самые достоверные показания против Пришельца, все равно из этого ничего путного не получится. Ипполит Исаевич выйдет сухим из воды при его-то связях! Но тогда заранее считай себя покойником. Это во-первых. Во-вторых, Павлов все еще надеялся, что Пришелец оценит его молчание и поможет ему облегчить участь, смягчить приговор. — Итак, я слушаю? — сказала Тоня. Павлов растерянно улыбнулся, в нем говорили осторожность и нерешительность. — Никак не соображу, с чего начать. Все началось с моей женитьбы. Оттуда вся моя жизнь пошла кувырком. Женился я, можно сказать, на квартире. Беллу я не любил. Вначале думал, что все уладится, привыкну. В принципе она женщина неплохая и ко мне относилась хорошо. Пожалуй, любила. Но родители ее с первого дня на меня косо смотрели, как на чужака. Я вошел в их семью против их воли, они желали зятя своего круга. В общем, семейная жизнь не получилась. Пошли скандалы, подозрения, упреки. Было бы у меня жилье, может быть, я и не женился бы, во всяком случае, на Белле. Однажды в пивном баре на Пушкинской улице, может, знаете: есть там такой подвальчик напротив Столешникова, туда всегда очередь; так вот там за кружкой пива я познакомился с одним типом по имени Арвид. Нет, тогда он мне не показался типом: остроумный, приятный, вежливый, общительный. Умеет расположить к себе, внимательный. Я как-то проникся к нему доверием, рассказал свою судьбу. Он выслушал меня с сочувствием и как бы между прочим поинтересовался, какими ценностями располагает мой тесть: золото, платина, ювелирные изделия. Я сказал ему, что насчет металла не знаю, а камешек драгоценный есть: кулон стоимостью тысяч на пятьдесят. Это мне Белла назвала такую сумму. Поговорили и расстались. Потом дней через пять случайно встретились опять там же в баре. Он обрадовался, увидав меня. Пили пиво под рыбец и креветки. На этот раз он вдруг сказал мне: послушай, Толя, а почему бы тебе не поставить крест на теперешней жизни и не начать совсем новую где-нибудь в Париже или Гамбурге? Я удивился — что за шуточки? А он говорит: я и не шучу, на полном серьезе. Могу посодействовать, ты мне нравишься, парень, будешь моим помощником. И он сообщил мне доверительно, что едет туристом во Францию, где решил попросить убежища. Там у него уже есть дело, есть капитал, кто-то из богатых родственников умер, оставил солидное наследство. Он обещал оформить мне заграничный паспорт, включить в группу туристов, которой руководит. Но за это я должен отдать ему бриллиантовый кулон. Настроение у меня было такое, что я не стал раздумывать и согласился. Был зол на Норкина, хотелось насолить ему. Я представил, как он взбесится, когда обнаружит пропажу кулона. Из бара мы вышли вместе с Арвидом, прошлись по улице. На фоне светлого здания он сфотографировал меня для паспорта. Я оставил ему домашний телефон Норкиных, он обещал позвонить в среду. И точно в среду позвонил, днем, когда я был один в квартире. Сказал, что паспорт готов и что в субботу мы вылетаем в Париж, поэтому в пятницу я с вещами и, конечно, с кулоном должен ждать его у памятника Юрию Долгорукому. Ночуем у него на даче, а утром в аэропорт. В пятницу я взял кулон — он хранился на даче, сложил свои вещички в чемоданчик и поехал к Моссовету. Арвид меня ждал у памятника, как и договорились. Я показал ему кулон, он мне паспорт. Потом мы добрались до вокзала, сели в электричку и поехали, как сказал Арвид, на дачу его приятеля. Он объяснил мне, что так надо в целях предосторожности: Норкины обнаружат пропажу, поднимут шум, поэтому ночь перед вылетом лучше провести в безопасном месте. — И у вас не было никаких подозрений в отношении Арвида? — спросила до сих пор молчавшая Тоня. Она не хотела перебивать вопросами: пусть выскажется; хотя многое в рассказе Павлова ей казалось нелогичным и неправдоподобным. — В том-то и дело, что не было. Я был в состоянии какого-то гипноза и делал все, что предлагал Арвид. Делал не задумываясь, машинально и равнодушно. Мне было все равно — в Париж или в Калугу. — Или в Крым? — вставила Тоня, внимательно наблюдая за поведением Павлова. — Ах, да, Крым, — Павлов судорожно сжал пальцы. Сегодня он лгал больше обычного, но находчивость и сообразительность не покидали его. — Вы уже и об этом знаете. Тем лучше. — Он уставился на Тоню беспомощным, доверчивым взглядом и, чтобы не терять нити разговора, продолжал рассказывать дальше, как они с Арвидом сели в электричку, как потом от дачной платформы шли к садовым участкам на значительном удалении друг от друга. Здесь кончилась легенда и начиналась правда, Павлов рассказывал все, как было на самом деле — и как он через окно бежал из сарая, заподозрив западню, как ловил машину на шоссе. И Тоня поверила, что он говорит правду. Когда она попросила его набросать словесный портрет Арвида, он сделал это с увлечением и со всеми подробностями, вовсе не заботясь о том, что того могут задержать, и тогда вся его легенда разлетится в прах. Потом допрос продолжался в кабинете Станислава Петровича и при его участии. Вопросы задавал Беляев, а Тоня молча внимательно наблюдала за Павловым, стараясь определить степень его искренности и правдивости. — С Пришельцем вы поддерживаете сотрудничество? — спросил Станислав Петрович. — Мы с ним разошлись, — негромко ответил Павлов. — Давно? — С момента свадьбы. — Почему? — Не было нужды, у меня появилась крыша над головой. — У вас она и раньше была. — Общежитие? Это не то. А вообще я давно хотел с ним порвать из-за его хамства. Характер у него дурной. Он может ни за что оскорбить, унизить. — Пришелец знал о кулоне? — Не думаю. — Когда вы убежали от Арвида, что собирались дальше делать? — Я хотел сразу бежать на улицу Белинского и все рассказать Антонине Николаевне. — Ночью? — У меня не было другого выхода. Я боялся Арвида. Я знал, что он и его люди будут меня искать. — А кто эти люди, кого вы имеете в виду? — По-моему, Арвид главарь какой-то мафии. Если не самый главный, то один из главарей. — Почему вы так думаете? — Если у него есть возможность запросто делать заграничные паспорта и валюту… — Он не докончил фразу. — Похоже, что вы правы, Павлов, — вставила Тоня. — Но почему вы не хотите помочь нам раскрыть эту, как вы говорите, мафию? — Я хочу, только не знаю, где они, — сдержанно ответил Анатолий. — Хотите, но не договариваете, — холодно заметил Беляев. — Вы что-то скрываете, чувствую, блефуете, Павлов. — Что вы, зачем мне скрывать? Это не в моих интересах. — Именно не в ваших, — заметила Тоня. — У вас впереди вся жизнь. Только надо начать ее сначала и не в Парижах и Брюсселях, а здесь, на Родине. Запутался, попал в ловко расставленные сети, мы искренне хотим помочь вам распутаться… — Зачем вы, Павлов, устроили спектакль на даче Норкина? — спросил Беляев. Павлов ждал этого вопроса и без запинки ответил: — Чтобы отвести от себя подозрение. Алиби никому еще не мешало. — Но вы же уезжали за границу и вам было все равно. — Я не был уверен, то есть у меня были сомнения: а вдруг все сорвется, мало ли как дело повернется… — резонно пояснил Анатолий. — Телеграмму давали вы? — Да. — И собаку отравили вы? — Да. — И вам не жалко было? — спросила Тоня. — Собаку? Нисколько. Она не лучше хозяина. Меня не хотела признавать и дважды покушалась… Из-за нее я редко бывал на даче, — искренне посетовал Павлов. — Когда вы виделись в последний раз с Коньковым? — остановил его излияния Беляев. — Вы знаете — тогда, в психичке. А он где? В вопросе Павлова просквозило фальшивое недоумение: слишком нарочито прозвучало «а он где?». — Об этом я хочу вас спросить. — А что я могу, когда вы не верите, — поник головой Анатолий. — Что я должен сделать, чтоб вы доверяли. — Совсем немного — сказать, где Коньков, рассказать правду о паспорте, валюте и Арвиде. «О паспорте и Арвиде напрасно, Станислав; похоже, что он сказал правду», — подумала Тоня, мысленно возражая Беляеву. — Я сказал все, что знаю. Придумывать не могу. — Влажные глаза Павлова остановились на Тоне. Ей хотелось верить Павлову, и в то же время не оставляли сомнения. Она искренне сочувствовала Павлову, потому что твердо верила: он марионетка в чьих-то очень цепких и ловких руках. Но чьих? Станислав, конечно, прав: Павлов чего-то недоговаривает. — Да, Павлов, — вздохнула она сочувствующе. — Так дело не пойдет. У вас есть шанс облегчить свою участь, но вы не хотите им воспользоваться. И я знаю, почему: боитесь. Да, да, Анатолий, боитесь. Павлов чувствовал, что Миронова искренна с ним. И от того, что она угадала правду, ему стало не по себе. Он смотрел на них испуганными, растерянными глазами, похожий на пойманного с поличным шкодливого мальчишку. Да, он боялся. За эту бессонную ночь в изоляторе многое передумал. Он понимал, что жизнь его в опасности, знал, что если ему, Павлову, и удастся избежать приговора, люди Пришельца все равно найдут его. Тем более в местах заключения. Ему казалось, что люди Пришельца, жестокие и неумолимые, вездесущи и нет такого уголка, куда бы ни заглядывало их всевидящее око. Беляев и Миронова переглянулись: на сегодня разговор с Павловым окончен. Вошел милиционер. Павлов встал, опустив голову. Как сквозь сон услышал напутствие Беляева: — Подумайте и не упустите время. Когда за ним закрылась дверь, Станислав Петрович облегченно вздохнул. Взгляд его слегка смягчился. Он смотрел на Тоню вопросительно, ожидая от нее каких-то итоговых слов. Тоня молча стояла у окна. Вошел дежурный с готовым анализом взятой в сарае ветчины. Цианистый калий. Да, Павлов не ошибся, — его ожидала смерть. — А мне его жаль, — печально произнесла Тоня с чувством странного облегчения. — Чего жалеть, когда он сам себя не жалеет, — фыркнул Беляев. — Его можно понять: сейчас он весь во власти животного страха. Ему вынесен смертный приговор, и он это знает. — И знает, кто и за что вынес этот приговор, — резко проговорил Беляев. — Знает, а сказать не хочет. — Все естественно и логично, Станислав Петрович. Я думаю, надо сегодня же сообщить Павлову результаты анализа. Это поможет ему сделать решительный шаг. Ты не находишь? — Возможно, ты права. А теперь давай подобьем бабки. Итак, Павлов связан с какой-то преступной шайкой, о деятельности которой он много знает и потому от него решили избавиться, как от опасного свидетеля. И надо согласиться с Павловым: шайка, видно, серьезная. Из этой шайки мы знаем — условно, разумеется, — некоего Арвида. Имя, я думаю, не настоящее. Ему было поручено убрать Павлова. Значит, это действующее лицо второстепенной роли. А кто главные действующие лица? Я убежден: Павлов их знает. — Я не уверена, может и не знать, — возразила Тоня, медленно расхаживая по кабинету. — Что же касается главного действующего лица, то им я считаю бриллиантовый кулон. Все вертится вокруг него. Как бы я хотела на него посмотреть, что это за штука, ради которой люди идут на преступления, рискуют жизнью. — Да, именно вокруг кулона, — согласился Беляев. — Но ты обратила внимание на странные вещи: Норкин утверждал, что в квартире Бертулина налетчики отобрали у него кулон. Коньков отрицал: никакого кулона не было. Значит, Коньков говорил правду, а Норкин врал. Спрашивается — зачем? И продолжает врать сейчас — он сказал, что ничего на даче злоумышленники у него не взяли. А между тем Павлов похитил все тот же кулон. — Ничего удивительного — хочет казаться последовательным. — А что он скажет, ознакомившись с показаниями Павлова? Как он будет выкручиваться? — Это не так важно. Норкин в любом случае — потерпевшее лицо, — сказала Тоня. — Я вижу другое: а не принимал ли Павлов участия в деле с кулоном в тот раз, на квартире ювелира? И случайна ли его связь с Коньковым и так ли уж безобидна, как он утверждает?.. Мне искренне жаль его, но он, мне кажется, по уши завяз в трясине. Короче говоря, Стас, в понедельник я должна встретиться с Норкиным и его дочерью — женой Павлова. Они могут кое-что прояснить. — Мне остается только пожелать тебе удачи. — Нам, Стас, нам всем, — поправила Тоня и прибавила: — Жаль, что нет Юрия Ивановича.4
В то субботнее утро, когда Антонина Миронова ехала на электричке в Дядино, Ипполит Исаевич, крепко вцепившись в баранку автомашины, мчался на дачу полковника Зуброва. Перед тем, как ехать, он позвонил ему на квартиру, — телефон молчал. «Все ясно, — решил Пришелец, — кому охота по доброй воле в такой жаркий летний день сидеть в городе!» У Зуброва на даче не было телефона, и Пришелец выехал с утра пораньше, чтоб застать своего приятеля дома. Сегодня же вечером, как условились еще вчера, он должен доставить Земцеву бриллиантовый кулон и другие ценности. Стрелка спидометра иногда заходила за цифру 100, что было непривычно для Пришельца: вообще он, сидя за рулем, придерживался поговорки «тише едешь — дальше будешь». Но сегодня случай особый, каких в жизни Ипполита Исаевича было мало. Проведя почти бессонную ночь, Ипполит Исаевич чувствовал себя утомленным и в какой-то степени растерянным. В голове все смешалось — тупая боль, бешеная ненависть к Павлову и Арвиду, дурное предчувствие неотвратимой беды. Он не находил объяснения факту, который казался невероятным: как мог Павлов, приняв такую дозу цианистого калия, положенного в пищу, остаться в живых, выбраться через окно и бесследно исчезнуть? Кто он — второй Григорий Распутин? А может, яд оказался неполноценным, подпорченным? Как бы то ни было, а Павлова надо обезвредить. Пришелец не допускал мысли, что Анатолий может добровольно пойти в милицию, скорее всего, где-то прячется. Но где? Возможно, у Валерии Иосифовны? И тут Ипполита Исаевича больно уколола коварная мыслишка: а ведь эта Валерия Иосифовна Маркина — юрист, и ей, как своему старому другу, Павлов может во всем сознаться, попросить совета и помощи. Итак, после встречи с Зубровым он едет к Маркиной, затем к Земцеву. В выходные дни на даче Зубров по утрам не спешил покидать постель, пока жена не позовет к завтраку. На этот раз нежиться не пришлось: еще не сбросив остаток сна, он услышал урчание автомобильного двигателя, стихшее у самой калитки, потом брякнула дверца машины. И Зубров сообразил: «Ко мне. Но кто и зачем в такую рань?» Михаил Михайлович набросил на плечи халат, сунул босые ноги в мягкие тапочки и, протирая глаза, толкнул локтем дверь на террасу. Как вдруг сверху, с лестницы, ведущей на второй этаж, на него что-то упало. Он инстинктивно посторонился, и это «что-то» пролетело мимо в сантиметре от его головы и шмякнулось на пол. И не успел Зубров сообразить, что за предмет и откуда, как предмет этот издал душераздирающий крик, словно его пилили тупой пилой. Это был их кот, серый, пушистый, сибирской породы кот Ферапонт. который исчез из дома в прошлую субботу и не появлялся целую неделю. Его исчезновение было не случайным. В позапрошлую пятницу Михаил Михайлович у себя на работе купил полкилограмма осетрины горячего копчения и, приехав на дачу, вместо того, чтобы сразу положить в холодильник, оставил на столе. Оставил и забыл. На следующее утро на том же столе Зубров обнаружил лишь просаленную оберточную бумагу. От осетрины не осталось даже крошек. Зато Ферапонт лежал на своем коврике и, вполне довольный жизнью, облизывался. Все понял Михаил Михайлович. Он украдкой воровски взял щетку и со всей силы хрякнул ею по коту поперек хребта. Кот сбежал. И вот появился.
Зубров стоял остолбенев, растерянный, глядя на припаянного к полу дико орущего Ферапонта. Из шокового состояния Зуброва вывел поднявшийся на террасу Пришелец. — Что здесь происходит? Голос Ипполита Исаевича заставил Зуброва вздрогнуть, он недоуменно уставился на нежданного гостя, приходя в себя от страха, потом кивнул на Ферапонта. — Да вон — кот врезался сдуру в пол. — На бледном лице его проступили розовые пятна. Чтобы скрыть дрожь в пальцах, он засунул руки в карманы халата. И словно оправдываясь, прибавил: — Я вчера поздно уснул… Пойдем в сад? — Лучше бы в доме: дело у меня серьезное. — Пришелец покосился на кота. — Как это его угораздило? За мышью бросился, что ли? — Да, да, на мышь, и промахнулся. — Силища-то какая. Зверь, — заключил Пришелец и первым сделал шаг в открытую дверь. — Страшный, чудовищный зверь. А если б вот так на голову? Представляешь? Домашняя рысь. — Поддакнул Зубров и, приоткрыв дверь кухни, крикнул: — Люба, у нас гость! Ипполит Исаевич! Завтракать будем через полчаса. Прошу, — он указал жестом на кресло. Сам сел на диван. — Извини за мой туалет: только проснулся. — Я разбудил тебя, прошу прощения. Но дело серьезное и срочное. — Ипполит Исаевич скорбно потупился. — Что-нибудь стряслось, Ипполит Исаевич? — Да, неприятная история. Павлов Анатолий оказался подонком. Обворовал тестя и скрылся. Если его задержит милиция, возникнет «дело», в котором может появиться мое имя. Павлов на меня зол и покатит бочку. Фантазия у него неистощимая. — Я не вижу оснований для тревоги, дорогой Ипполит Исаевич, — самонадеянно возразил Зубров. — Фантазия — не факт, к делу не приобщишь. — Михаил Михайлович, я смотрю на вещи трезво и хочу разговаривать с тобой, как мужчина с мужчиной, тем более, что если дело коснется меня, то оно заденет и тебя и других наших знакомых и друзей. Святых людей, дистиллированных, в природе не существует. На совести каждого можно найти родимое пятнышко, которое с точки зрения ортодоксальных моралистов считается позорным и подлежит осуждению. Как сказал великий американский поэт Уолт Уитмен: «Ведь и во мне уживается добро и зло, как во всей моей нации, и я утверждаю, что зло относительно». Все зависит от того, кто судьи. Я имею в виду это слово в самом широком смысле. И ты лучше меня знаешь, что по одному и тому же делу один судья может вынести оправдательный приговор, а другой отправить в зону на длительный срок. Я прошу тебя отнестись к этому очень серьезно: дело может принять трагический оборот как для меня, так и для других. Включая и тебя. Зубров, еще не успев оправиться от потрясения, связанного с Ферапонтом, медленно погружался в трясину новых неприятностей. Он не перебивал Пришельца и не протестовал, когда тот без всяких намеков напрямую ставил и его, Зуброва, в один ряд с каким-то подонком и вором Павловым, которого он в глаза не видел. Он понимал, как тщательно подбирает выражения Пришелец, как целенаправленна и недвусмысленна его словесная вязь, какой категоричный, угрожающе-требовательный тон. До его сознания доходило, что случилась беда, в которой он, Зубров, и Пришелец повязаны одной веревочкой. Он слушал Пришельца, глядя на угол стола, и в душе его зарождалась тревога. Он резко поднял глаза на Ипполита Исаевича, негромко, деловито спросил: — Что я должен предпринять? — Тебе видней. Использовать все свои связи, знакомства. Что этот приятель — генерал МВД — не может? Или трусит? Или ждет «на лапу»? Пусть не беспокоится: ты же знаешь — за мной не пропадет. Пообещай. Зубров понимал, что дела их плохи, и нет у него приятеля, который мог бы хоть чем-то помочь, повлиять, но продолжал играть роль человека влиятельного и со связями. Сказал успокаивающе: — Товарищи действуют. Дело тонкое, тут надо делать все наверняка, с гарантией. Требуется точный расчет. У Пришельца возникли сомнения, он не очень верил Зуброву. — Может, ты познакомишь меня со своим другом из министерства? — сказал он. — Напрямую проще договориться. — Нет, нет, сейчас рано, — решительно возразил Зубров — К Петру Михайловичу, возможно, придется обращаться, если дело примет неприятное для нас направление. Опять же тебе придется с ним говорить. А еще лучше с его супругой. Там ее слово решающее. В голосе Пришельца звучал металл, не допускающий возражений. Приказной тон и властный решительный вид коробили Зуброва, в то же время они подавляли его волю, подчиняли и нагоняли страх. Зубров догадывался. что Пришелец замешан в каком-то крупном преступлении, о котором известно Павлову, и, спасая свою шкуру, он пойдет на все, что сегодняшний разговор — пока еще только шантаж, но если Пришельцу наступят на хвост, он не остановится ни перед чем, по крайней мере его-то, Зуброва, не пощадит. — Ты зря горячишься, Ипполит Исаевич. — Зубров встал с дивана и сделал несколько шагов по комнате. В нем все взбунтовалось, правая щека подергивалась. В данный момент Пришельцу было невыгодно идти на обострение и, мгновенно сменив тон, он заметил: — А не лучше ли сделать так, чтобы и вы имели гарантии? Вошла жена Зуброва и позвала к завтраку. Михаил Михайлович был доволен, что таким образом неприятный для него разговор пришлось прервать. Продолжать его после завтрака он не собирался. Да и Пришелец считал, что вопрос исчерпан, Зубров должен действовать, и он будет действовать, в этом Ипполит Исаевич не сомневался.
Яков Николаевич Земцев готовился в заграничную командировку и потому в субботу был дома, тем более, что на этот день он назначил две деловые встречи. Жена, дочь и теща жили на даче, так что встречам никто не мог помешать. Командировка предстояла в одну из западноевропейских стран продолжительностью на две недели, в эту страну Земцев ехал впервые, близких друзей из числа соотечественников, которые могли бы оказать ему радушный прием и познакомить если не со страной, то хотя бы со столицей, там не было. Впрочем, в советском торгпредстве работал сотрудником муж Ниночки Жамалдиновой (это была ее девичья фамилия), к которой в студенческие годы тогдашний доцент Земцев питал особые симпатии. Благодаря его вниманию Ниночка отлично защитила диплом, и они остались друзьями. Тогда же Яков Николаевич познакомился и с братом Нины — Асхатом Жамалдиновым — издательским редактором, эрудитом, умницей и вообще обаятельным человеком. Неделю тому назад Земцев позвонил Асхату, сообщил, что он едет в загранкомандировку и любезно осведомился, не желает ли брат передать что-либо Нине Файзурахмановне? Тронутый таким неожиданным вниманием, Асхат поблагодарил за любезность и обещал сегодня привезти икру и письмо. Он приехал после полудня. Крупноголовый, с огромнейшей темно-каштановой шевелюрой не поддающихся уходу волос, широкоплечий, кряжистый, со смуглым полным лицом, помеченным густой кистью усов, он чем-то напоминал героев латиноамериканских фильмов. Земцев принимал Асхата в гостиной — просторной, увенчанной двумя хрустальными люстрами. Поставив перед гостем на журнальный столик вазу с фруктами и графинчик с коньяком, хозяин, прежде чем наполнить рюмки, решил удивить гостя входящей в моду зарубежной новинкой — видеомагнитофоном. Он включил экран цветного телевизора, а затем положил перед Асхатом шесть кассет с кинофильмами. В каждой кассете два полуторачасовых фильма. Выбирай любой: тут и наши, отечественные, и зарубежные на любой вкус — голливудские боевики, откровенная порнография — все, что душе угодно. Но Асхат не выразил особого удивления, словно для него это была с детства знакомая игрушка. А между тем Земцеву нужно было чем-то заполнить время до прихода Ипполита Исаевича: он хотел их как бы случайно познакомить. Потом он скажет Пришельцу, что этот Асхат Файзурахманович — родной брат женщины, у которой он, Ипполит Исаевич, уже оказавшись за рубежом, может получите необходимые сведения о своих драгоценностях. Пришелец встретится с Ниной, передаст ей привет от брата, и Нина назовет ему имя человека и адрес, по которому он должен обратиться. Зачем именно, Нина знать не будет, ее роль совсем проста и невинна. В стране, куда собирался в командировку Земцев, в самой столице жил процветающий бизнесмен по фамилии Цвик, фирма которого поддерживала деловые связи с советскими внешторговскими учреждениями. С этим бизнесменом Яков Николаевич познакомился в Москве, принимал его у себя дома, и теперь предстоял ответный визит. Предки Цвика были выходцами из России, точнее из Белоруссии, и потому Цвик считал Земцева своим земляком. Гость, откровенно скучая, успел просмотреть только один весьма пикантный фильм, как появился Пришелец, и Яков Николаевич познакомил его с редактором довольно солидного издательства — Асхатом Файзурахмановичем. — Я недавно купил роскошно изданный том Уолта Уитмена, — сообщил, покосившись на экран телевизора, Ипполит Исаевич. — Это был поистине великий певец любви, знал в ней толк. «О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне отдалась наперекор всей вселенной». А? Звучит? Это он сказал: «Я воспеваю друзей и тех, кто спит друг у друга в объятьях. Я тот, кто провозглашает любовь». Он был предельно откровенен, что в наше время считается цинизмом. Он всему человечеству заявлял: «Совокупление для меня столь же священно, как смерть». Ипполит Исаевич торжествующе поднял вверх указательный палец. Он был возбужден и веселостью пытался скрыть состояние тревоги и волнения. Присутствие в доме Земцева незнакомого емучеловека настораживало и смущало: ведь он пришел сюда по делу сугубо интимному. Тем более, что человек этот показался ему подозрительным и несимпатичным. Особенно своим ехидным замечанием по поводу Уолта Уитмена: — Я думаю, что не эротика — главное в творчестве великого американца. Это замечание Асхата задело Ипполита Исаевича. — Тогда что же? — с вызовом спросил он и, опережая собеседника, заявил категорично: — Остальное — лозунги, сумбур, плоские агитки, набор громких фраз. Впрочем, извините, возможно, я не прав и рассуждаю как дилетант. Вы профессионал, и мне с вами трудно спорить. Лучше скажите, чем порадует нас ваше издательство в ближайшее время? Такой неожиданно резкий поворот вызвал на полных губах Асхата легкую улыбку, которая тут же исчезла в усах. — Готовим кое-что к шестисотлетию Куликовской битвы. — А это что, будет отмечаться как событие? — с удивлением спросил Земцев. — Конечно. По крайней мере такое настроение у общественности. — Но ведь это же восьмидесятый год — год Олимпиады. В Москву, как на праздник, приедут тысячи иностранцев, — заговорил Земцев тоном, в котором звучало сдержанное раздражение, и прибавил горестно: — Не понимаю — зачем? — Олимпиада в июле, а шестисотлетие в сентябре. Одно другому не помеха, — пояснил Асхат, искренне не понимая недовольства Земцева. — А вы считаете, что не нужно отмечать победу Дмитрия Донского над нашествием Орды? — А вы, Асхат Файзурахманович, — Земцев сделал резкое ударение на имени и отчестве гостя и пытливо уставился на Жамалдинова, — не считаете? — Но ведь это было действительно величайшее событие в истории нашей Родины. Россия показала, что она не потерпит больше чужеземного ига, что она способна изгнать интервентов со своей земли, — с горячей убежденностью ответил Асхат. — Ну, во-первых, интервентов она терпела еще сотню лет после Куликовской битвы, — небрежно бросил Земцев и зашагал по ковру. Холодное аскетическое лицо его вдруг стало злым. — Во-вторых, — он резко вскинул голову и, остановившись перед Асхатом: — С точки зрения национальной политики отмечать такое событие я считаю неразумным. — Почему же, я вас не совсем понимаю? — удивился Асхат, безмятежно глядя на Земцева. На самом деле он уже понял, куда тот клонит. — А это не задевает ваши, лично ваши — татарина — национальные чувства? — неожиданно пронзительным голосом выпалил Яков Николаевич. — Нисколько. И вот почему, — спокойно ответил Асхат. — Прежде всего вы допускаете путаницу в этом вопросе. Татары, как нация, в плане этнографическом не имели никакого отношения к тому сборищу кочевых племен, которое называли тогда татарской ордой. Это первое. А теперь позвольте мне задать вам вопрос. — Пожалуйста, — кивнул Земцев. — А как вы, Яков Николаевич, думаете насчет Девятого мая? Нужно ли нам, советским людям, отмечать День Победы над немецко-фашистскими интервентами? Не задевает ли это национальные чувства немцев? Вопрос был неожиданный, так что даже искушенный Земцев не сразу нашелся, лишь пожал плечами, и в этом движении было что-то высокомерное. После непродолжительной паузы негромко и не очень уверенно он ответил: — Может, через шестьсот лет и эта дата не будет отмечаться, если, конечно, к тому времени наша планета не сгорит в термоядерном пекле. — В душе он пожалел, что затеял разговор на скользкую тему, и, чтобы увести разговор в сторону, со вздохом прибавил: — Угроза атомной войны, дорогой Асхат, трагическая реальность, факт, не считаться с которым человечество не может. Но будем надеяться на благоразумие заокеанских властелинов и их европейских вассалов, которые в случае судного дня сгорят вместе с нами. Впрочем, для нас это утешение не ахти какое. Асхат разгадал его уловку и не стал возвращаться к вызвавшей небольшой конфликт теме. Он видел, что новый гость Земцева нервничает, что ему, очевидно, необходимо о чем-то важном и неотложном переговорить с хозяином наедине, и потому решил уйти и поспешно начал собираться. Яков Николаевич, задержав крепкую руку Асхата в своей узкой мягкой руке, с холодной любезностью спросил на прощание: — Что на словах передать Нине Файзурахмановне? — Привет, ну, и что у нас все в порядке. В сентябре ждем их в отпуск. Проводив Асхата, Земцев с не присущей ему горячностью спросил, глядя на Пришельца: — Видали, во что превратился потомок Чингисхана? Русский па-три-от… — У меня недавно произошел подобный разговор с одним интеллигентным киргизом. — Пришелец опустился в глубокое с золотистой бархатной обивкой кресло. — Участник войны, доктор каких-то наук и плюс переводчик. Перевел на киргизский какую-то русскую летопись о нашествии Мамая на Русь. Я говорю ему: «Абдулхай, зачем вам, потомкам великих завоевателей, переводить эту ветошь?» Так он вообще взбесился: представляете, обвинил меня в попытке посеять национальную вражду, подорвать дружбу народов. Хвастался своим советским патриотизмом, в чем, естественно, отказывал мне. — Пришелец зло хлопнул ладонью по подлокотнику. — Ну да ладно, оставим историю и займемся современностью, — примирительно промолвил Земцев. — Прежде всего дело. У вас все в порядке? Пришелец неправильно понял его вопрос, и это замешательство не осталось незамеченным Земцевым. Он понял, почему его гость задержался с ответом, и уточнил: — Вы все принесли? — Ах, да, это… Конечно, конечно, — с облегчением ответил Ипполит Исаевич. — Принес все, как условились. — И зачем-то неуверенно попытался объяснить свое замешательство: — Меня удивил и, знаете, возмутил этот аллигатор. — Вам придется иметь дело с его сестрой и говорить об Асхате совсем не то, что о нем сейчас думаете. Говорить приятное. — Земцев наполнил рюмки коньяком и, осанисто выпрямившись, провозгласил тост. — За наши успехи. За общее дело и доверие. Пришелец почтительно улыбнулся, выпил, вздохнул с облегчением, взял свой «кейс», положил его на край стола и озабоченно посмотрел на Земцева. Ему стало грустно от неизвестности: где гарантия, что содержимое этого «кейса», исключая кулон, он в целости получит уже за рубежом. Такой уверенности не было. Да и кулона жаль, слишком дорогая плата за услугу. Он дивился своей решимости пойти на такой риск, но, помня, что, как и Зубров, Земцев плывет с ним в одной лодке, а потому не посмеет надуть, отмел все сомнения и открыл чемоданчик. Ценности были упакованы в шелковые мешочки, поверх которых надеты целлофановые. Золото — в одном мешочке; кольца, монеты, пластины, платина — в другом, алмазы — в третьем, жемчуг — в четвертом. Валюту он оставил дома: решил переправить ее через границу другим каналом. Он поочередно развязывал мешочки, высыпал содержимое на дно «кейса», вслух считал, ставил галочку в описи, отпечатанной на машинке, и снова прятал в мешочек. Земцев стоял рядом, замкнутый и строгий, молча следил за руками доверителя. Выложив на стол все мешочки, Пришелец взял один экземпляр описи, положил его на дно опустевшего «кейса», щелкнул замочками и устало посмотрел на Якова Николаевича. Потом, не говоря ни слова, достал из кармана брюк бордовую бархатную коробочку, дрожащей рукой открыл крышку. Переливчатый игристый блеск бриллианта отразился в глазах Якова Николаевича. На лице его возникло подобие улыбки, оно сразу как-то разгладилось, оживилось и потеплело. Ипполит Исаевич торжественно протянул ему открытую коробочку. Яков Николаевич, не прикасаясь к футляру, двумя тонкими подрагивающими пальцами извлек кулон и, держа его на весу, стал внимательно рассматривать. Кулон медленно поворачивался в его руке, трепеща искрометными гранями. — Красавец. Цены ему нет, — глухо выдохнул Пришелец, облизал сухие губы и прибавил почти шепотом: — Его место в Алмазном фонде Кремля. Целое состояние. — Не преувеличивайте. Какое это состояние? — Земцев криво усмехнулся и спрятал кулон в футляр. — Вы были в Загорске в Троице-Сергиевой лавре? — Конечно. — И в Ризнице? — Разумеется. — Обратили внимание на митру Мстиславских? — Миллионы, — только и молвил Пришелец, считая, что этим словом сказано все. — Вот эту вещь можно считать состоянием. А лежит, между прочим, открыто, под прозрачным колпаком, как говорится, у всех прохожих на виду. Присаживайтесь, — Земцев снова наполнил рюмки и продолжил: — И охраняют такие сокровища сиделки-старушки, не считая постового милиционера, который, как я заметил, всегда стоит в первом зале. На Западе при такой охране. давно бы исчезли и бесценные митры, и другие вещи из жемчуга и золота. «К чему он все это говорит, — думал Пришелец, — словно подает идею? Нет уж, покорнейше благодарю, достопочтенный Яков Николаевич. С меня довольно. Вы уж сами при ваших-то масштабах и аппетитах». Но чтобы поддержать разговор, начатый хозяином, заметил: — Между прочим, в последнем зале есть еще одна митра, сплошь из жемчуга. Но обе они подключены к сигнализации. — Для опытных умельцев сигнализации не помеха. Средь бела дня на десять минут в Лавре отключается ток. Не во всем городе, а только в Лавре. И ни старушки, ни милиция даже внимания не обратят, что сигнализация не действует. Всего десять минут. Больше и не нужно. — Такое возможно в Штатах или Италии. У нас пока исключено. Нет специалистов, — будто бы даже с досадой заметил Пришелец, сделав ударение на слове «пока». — И слава богу, — мгновенно подхватил Земцев. — Наше счастье, что мы не боимся вечером выходить на улицу, гулять в парках, выезжать за город, не врезаем в двери квартир десятки хитроумных запоров, что нас не раздевают в подъездах. Вы говорите — «пока». Думаю, что вы не правы: организованный гангстеризм, мафия сюда не придет. Неожиданно Пришелец расхохотался, чем удивил Земцева. — Придет! Уверяю вас, придет, как пришли твисты и рок-н-роллы, длинные прически и короткие юбки, абстракционистская мазня и музыка, рвущая барабанные перепонки. Поверьте — в этом я ни на миллиграмм не заблуждаюсь. Мода не знает государственных границ. А мафия — тоже мода. И я не удивлюсь, если под прозрачным колпаком в Ризнице будет лежать не подлинная митра Мстиславских с ее бесценными бриллиантами, а ловко сделанный дубликат, где и жемчуг, и бриллианты, и изумруды будут фальшивыми. А подлинная спокойно пересечет государственную границу. Но меня сейчас беспокоит другое: чтобы государственную границу благополучно пересекло содержимое этих вот мешочков. Это мое скромное состояние, которое, надеюсь, даст мне возможность начать новую жизнь в новом, свободном мире. Этот монолог вызвал на лице Земцева сдержанно-язвительную улыбку. — Что касается свободного мира, то вы не очень обольщайтесь. Там идет жестокая схватка за выживание. Выживают ловкие, энергичные, умеющие с толком распоряжаться капиталом. И, конечно, многое решают везение, фортуна. Будем надеяться, что вам повезет… Ну да вернемся к делу. Яков Николаевич, как деловой человек, не любил праздных разговоров, пустой болтовни: умел ценить время и свое и чужое. Он понимал тревогу и беспокойство Ипполита Исаевича. Но надувать его и не собирался — все будет сделано как обещал. Конечно же, он не сказал, каким путем сокровища Пришельца уйдут за границу, да Ипполит Исаевич его об этом и не спрашивал, понимая, что это составляет глубокую тайну. Пришельцу важно было знать, где и когда он сможет забрать свои драгоценности, оказавшись за рубежом, и на этот вопрос он получил подробный и обстоятельный ответ. И был доволен. По крайней мере из дома Земцева он уходил если не умиротворенным, то успокоенным.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Над полем Куликовым высокое небо — синий окоем без конца и края в маревой дымке, да знойная дрема лебяжьих облаков, неподвижных в жарких лучах июльского солнца. На поле Куликовом несметное буйство красок, от которых рябит в глазах и захватывает дух. Пора безудержного цветения. Любит Юрий Добросклонцев пору, когда воздух полон аромата согретых солнцем и умытых дождями и росами трав и цветочной пыльцы, когда восторженное лето звенит птичьими голосами и пчелиным гудом, любит больше других времен года. И не где-нибудь, а именно здесь, в широком просторе Куликова поля. Да и как не любить край своего детства… Юрий Добросклонцев родился и рос здесь, вблизи знаменитого русского поля. И где бы он ни был, где бы ни протекала его служба, душа всегда тянулась в отчие края, к материнскому порогу, и раз в два-три года в отпускное время он хоть на несколько деньков наведывался в родное село навестить мать Марфу Захаровну, которая жила вместе с замужней его сестрой Полиной. И обязательно сходить на сельское кладбище, постоять у могилы отца — Ивана Георгиевича Добросклонцева — солдата Великой Отечественной. «Жигуленок», взятый напрокат у тестя, летел по шоссе. А думы его были о сыне, который уехал к бабушке месяц тому назад. Женя ехал в деревню всегда с охотой и радостью. Там у него были друзья, и самый первый — двоюродный брат Сережа, ну и, конечно же, Сережины приятели. Сыну нравилось сельское приволье, природа, которую он воспринимал еще бессознательно, стихийно, небольшая речушка, где в заводи можно было выкупаться в знойный полдень, наловить рыбы, прокатиться на лошади, посидеть с ребятами у костра, встречать возвращающихся вечером коров, срывать еще неспелые кислые яблоки и спать на сеновале. Было около четырех часов пополудни, когда Добросклонцев подкатил к воротам отчего дома. Марфа Захаровна в белом платочке и новом в белую горошину по коричневому полю ситцевом платьице сидела на лавочке под молодым, но тенистым дубом. Юрий Иванович вспомнил: дубок этот посадил отец в годы своего возвращения с войны. О дне приезда Добросклонцев сообщил заранее, и Марфа Захаровна почитай с самого утра начала волноваться, поджидая сына. Ей и в голову не пришло, что путь от Москвы до их села неблизок. — А я совсем заждалась, — сказала Марфа Захаровна, расцеловавшись с сыном. Руки ее дрожали от волнения. — Только услышу — загудит машина за околицей, я и бегу за ворота. А машин теперь развелось больше, чем собак. Вон и Матушка на той неделе купил себе «Ниву». — Голос у Марфы Захаровны мягкий, тихий, говорит не спеша, а глаза блестят счастливой слезой. — Что за Матушка? — весело полюбопытствовал Юрий Иванович, открывая багажник с городскими гостинцами. — Так у нас Колю Галкина зовут. Ты ж его знаешь, вместе в школе учились. Ай не помнишь?.. Юрий Иванович хорошо знал Николая Галкина, вспомнил, что у того была привычка в разговоре постоянно вставлять: «Матушка моя». Вспомнил и тихо улыбнулся. — А вчера Варвара схоронили, — продолжала Марфа Захаровна. Эта новость для их села была важной: старик прожил девяносто шесть лет. — Не хворал, до последнего дня на пасеке пропадал. Там и помер. А машину-то во двор загоняй, — суетилась Марфа Захаровна. — Я сейчас ворота отворю, погоди. Да и Женя куда-то подевался. Все говорил: папа раньше вечера не приедет. А вот и приехал, а его нет. — И засеменила в сторону ворот. — Погоди, мама, я сам, — сказал Добросклонцев. — А что ж Катерина не приехала? — спросила Марфа Захаровна. — Да с работы не отпустили. Ну как здесь Женя? — С утра уйдет, так до самого обеда возле лошадей и пробегает. А их-то, лошадей, всего четыре и осталось на весь колхоз. Все машины. И приусадебные огороды лошадьми пашем. А Женя — лошадник. Это у него от деда Ивана. Тот любил лошадей, ой, как любил. Я говорила ему: тебе б не учителем, а конюхом быть. А он смеется: выгонят из школы за самовольное толкование истории — пойду в конюхи. А после обеда — музыка, — продолжала Марфа Захаровна без перехода опять о внуке. — Пойдет в сад, ляжет под яблоней на раскладушку и заводит магнитофон. Да не на все село, как другие, а тихо-тихо, только для себя. И так до самого вечера может слушать один. Ребята приходят, на речку зовут — нет, не идет. Лошади и музыка — его страсть. Юрий Иванович это знал. Слушая мать, он неторопливо прошел в дом. В доме никаких особых изменений не случилось. Все было, как и два года тому назад, знакомо до последней герани на подоконнике. А вот мать заметно постарела, двигалась с усилием, медленно и тяжело. Во взгляде появились скорбь и усталость. Только глаза светились тихой осенней грустью и теплом. Да и то сказать — через год пойдет семидесятый. Хотя по-теперешнему в таком возрасте многие продолжают работать. В доме было прохладно и сухо. Пахло мятой, жасмином и чисто вымытым полом. Белые глазки жасмина, пригретые жарким солнцем, в легкой истоме прижимались к оконному стеклу, точно просились впустить их в дом. Юрий Иванович отодвинул занавеску и открыл створки. — Мухи налетят, — предупредила Марфа Захаровна. — Ничего, выгоним… — успокоил мать Юрий Иванович. — А вот и я, — запыхавшись появился в дверях Женя. — Привет, папа. А я с сенокоса. На клеверах мы были. Я видел, как ты ехал, сразу узнал. Все это он выпалил одним залпом, веселый, возбужденный, сияющий. — Ну, докладывай, бабушка, как он себя вел? — шутливо спросил Юрий Иванович. — По-разному, — ответила Марфа Захаровна и подмигнула внуку. — А ты в его возрасте всегда слушался? — Понятно. Значит, бывало, и не слушался. — Бабушка, это не педагогично: нельзя критиковать родителей в присутствии детей, — озорно ввернул Женя. — Уж ты все знаешь-то: что можно и что нельзя, — ласково сказала Марфа Захаровна и спохватилась: — Да что ж это я: с дороги, Юра, умыться надо, да покушать. Обед у меня стынет. Юрий Иванович вышел в сад. Под антоновкой, которую отец посадил той осенью, когда Юра пошел в первый класс, стояла раскладушка — убежище Жени. На антоновке многие ветви были спилены и места срезов аккуратно замазаны масляной краской. Яблок на ней было негусто. «Деревья тоже стареют», — с грустью подумал Добросклонцев. Мысли его спугнул Женя, подошедший тихо: — Папа, а на Куликово поле поедем? — Непременно. — Когда? — В голосе сына звучало нетерпение. — Да хоть завтра. — Хорошо бы. А то погода может испортиться, дожди пойдут, — вздохнул Женя. И после паузы, вспомнив, зачем пришел, добавил: — Бабушка зовет кушать. После щедрого сельского угощения Юрий Иванович вдруг почувствовал усталость: сказывалось напряжение долгого пути. И к тому же мать посоветовала: отдохнул бы с дороги под своей яблоней. Марфа Захаровна вынесла подушку и одеяло, постелила на раскладушке и приказала Жене не включать музыку, пусть, мол, отец отдохнет. Нагретый воздух, насыщенный свежестью листвы и трав, клонил к приятной дреме, и Добросклонцев, сам того не желая, медленно и благостно погрузился в глубокий сон, такой глубокий, что даже надоедливые мухи не могли его разбудить. Проснулся он от резкого оглушительного шума и треска: казалось, небо упало на землю и разверзлась земная твердь. Он открыл глаза и, поддавшись инстинкту элементарной осторожности, не вставая с раскладушки, коснулся ногами земли. Земля была невредимой, и небо над головой спокойным и невозмутимым. Просто по улице промчался мотоцикл. Запыленное усталое солнце висело над горизонтом, и казалось, тепло исходило не от него, а от нагретых им за день воздуха и земли. — Разбудили тебя тарахтельщики, — сокрушенно сказала Марфа Захаровна: она полола грядки в огороде тут же рядом с садом. — Носятся как ошалелые, покоя от них нет. Может, перекусишь? Зеленого лука нарву — и со сметаной. Ты же раньше любил. — Спасибо, мама, потом. Сейчас хочу просто пройтись, сон сбросить. Огородами Юрий Иванович вышел за околицу по знакомой исхоженной тропинке, которая вела к речке, когда-то в пору его детства не то что многоводной, но вполне оправдывающей свое название, Голубица. Вода в ней была голубая и прохладная, — должно быть, питали ее родники. Она не пересыхала даже в сухое лето. Сейчас же, к его грусти и огорчению, речка настолько обмелела, что, не намочив ног, он свободно перешел на другой берег по сухому песку. Вспомнил: речка ему часто снится и теперь, но не эта, пересохшая, а та, давнишняя, из довоенного детства, глубоководная, бурная в пору весеннего ледохода и половодья. Он шел медленно, неторопливо вдоль берега, поросшего редким чахлым кустарником. У темного омута задержался. Над омутом росли старые плакучие ивы. Их длинные зеленые пряди касались воды. Легкая томная тишина предвечерья, когда солнце в багряной вуали падает на горизонт, и все вокруг — деревья, строения, поля — все замерло, и ни один листок не шелохнется, когда дивная прелесть природы с ее неповторимыми, медленно угасающими красками, как поздняя любовь, навевает негу и грусть, высекает в памяти сердца лирически-нежные, трепетно-волнующие картины детства, задевает самые чувствительные струны души. Думы Добросклонцева оборвал характерный, хотя и давно позабытый, топот копыт за спиной, заставил его, повинуясь инстинкту, оглянуться, и в ту же минуту мимо него на полном галопе, едва не задев, проскакали четыре всадника. Один из них на гнедом с лоснящейся шерстью пышногривом коне застопорил метрах в двадцати впереди от Добросклонцева, повернул лошадь и уже шагом пошел навстречу. В лихом всаднике Юрий Иванович узнал своего сына, довольного, разгоряченного, как и конь, с широкой улыбкой на лице. Лошадь была без седла, гладкая, упитанная от безделья; длинные и тонкие ноги Жени, обутые в кеды, нескладно болтались; в правой руке он держал кожаный самодельный кнут, левая рука по-кавалерийски сжимала поводья. Женя явно хотел обратить на себя внимание отца. — Далеко, папа, собрался? — Хочу сходить на кладбище, на могилу дедушки. Думал, вместе с тобой. — А мы недавно с бабушкой ходили, — отмахнулся Женя. Видно, он не испытывал той потребности, которую испытывал отец. Дедушку Ваню он едва помнил: когда тот умер, Жене шел третий год. — Лошадей вы зачем гоняете? — спросил Добросклонцев. — Нам разрешили, — быстро ответил Женя, должно быть, предвидя такой вопрос. — Им моцион полезен, вроде физзарядки. И, стеганув коня хлыстом, помчался догонять своих приятелей. Юрий Иванович с умилением смотрел вслед ускакавшему сыну и думал о нем, о его судьбе, его будущем. Да, мама, пожалуй, права, рассуждал он. Женя похож на своего деда не только внешностью, но главным образом характером. И дело вовсе не в пристрастии к лошадям, хотя и за этим кроется одна из черт характера: лошадь — самое, пожалуй, прекрасное животное, грациозное, умное. В ней воплощение гармонии — высшего творения природы. Женя одарен чувством прекрасного, живым воображением. Были в характере сына черты, которые беспокоили Юрия Ивановича, хотя черты эти сами по себе прекрасны: он был честен и правдив, доверчив и предан в дружбе, не умел хитрить и лукавить. Беспокоила готовность Жени из ложного чувства товарищества брать на себя вину других. Ему не хватало дерзости, твердости и настойчивости. Он умел анализировать события и явления, болезненно переживал несоответствие слов и дел, лицемерие и демагогию. И в то же время оставался неискушенным, порой до наивности, перед человеческой нечистоплотностью и подлостью. Открытая и чистая душа его не хотела верить, что мир, общество состоят не из одних добрых людей, что есть и зло. Юрий Иванович надеялся на исцелительное время, жизнь, мол, научит: подставит ножку, толкнет под руку, исцарапает, преподаст урок. В то же время он понимал, что легкоранимые души слишком болезненно воспринимают подножки и царапины, которые порой на всю жизнь превращаются в незаживаемые раны. Нравственные травмы, как известно, опаснее физических, душевные раны заживают гораздо медленней, мучительней телесных. Ранить же открытую, незащищенную доверчивую душу легко и просто. Юрий Иванович это знал. Одна рана уже была у Жени — одновременно физическая и нравственная — нанесла ее учительница музыки Швед-Полтавская. И если физическая зажила — пальцы левой руки почти что сгибались, то психологическая травма осталась: Женя не притрагивался к музыкальным инструментам, а к роялю и пианино даже близко не подходил. Их звук воскрешал в его памяти ужас нестерпимой боли. Теперь он уже был убежден, что крышка пианино упала не случайно, а имя Марты Швед-Полтавской стало для мальчишки самым ненавистным. Беспокоила Юрия Ивановича и общественная пассивность сына. Ребят-активистов, организаторов и затейников он считал выскочками и карьеристами. С думами о сыне Добросклонцев дошел до сельского кладбища — большой квадрат, огороженный старыми березами и липами. Кладбищенский покой тревожил вороний грай, хотя здесь он казался естественным, неотъемлемым, необходимой частью самого погоста. На стеле из серого гранита — в бронзовом овале фотография Ивана Георгиевича. «Надо было цветов нарвать в палисаднике», — с досадой подумал Добросклонцев, глядя на куст цветущего жасмина, прильнувший к гранитной глыбе с тыльной необработанной стороны. Жасмин и сирень — любимые в семье Добросклонцевых. По другую сторону могилы — молодой ветвистый клен. Его посадил Юрий Иванович в годовщину смерти отца. За эти годы клен разросся, окреп, пышная крона его нависла зеленым зонтом, создавая прохладу. Нравилось это дерево Юрию Ивановичу больше всех других, даже русской березе предпочитал он его, особенно в пору золотой осени. Любил, может, еще и потому, что он, то багряный, то златокудрый, то изумрудный, не давал покоя горячо любимому им поэту Сергею Есенину. Почему-то возникали в памяти есенинские строки: «Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге…» — «От того, что тот старый клен на меня головой похож…» — «Где-то на поляне клен танцует пьяный…» Рядом с могилой отца в железной оградке два низких холмика, поросших травой — могилы бабушки и деда — священника местного прихода отца Георгия. Юрий Иванович хорошо помнил деда, крепкого, обстоятельного. С ним в годы комсомольской юности Юрий Добросклонцев вел горячие дискуссии. Впрочем, горячился только внук, часто не находя убедительных аргументов против хитро расставленных вопросиков деда. В таких случаях каждый оставался при своем мнении. Когда в их село вошли гитлеровские оккупанты, отец Георгий в церкви спрятал раненых красноармейцев, а в проповедях своих проклинал пришествие антихриста и призывал к борьбе прихожан. Но нашелся иуда, донес фашистам. Протоиерея Георгия Добросклонцева фашисты застрелили в алтаре. Юрий Иванович присел на деревянную скамеечку, сделанную им же еще в позапрошлый приезд. Кладбищенская грусть погружала в воспоминания. Отца призвали в армию в августе сорок первого. В июне сорок третьего Марфа Захаровна получила похоронку. Юре исполнилось тогда тринадцать лет. Хорошо помнит, как успокаивал рыдающую мать. А потом поклялся отомстить фашистам за отца и, оставив матери записку, чтоб не волновалась, убежал на фронт. Его неоднократно задерживали, он сочинил себе сиротскую биографию, якобы он из-под Минска, родители его погибли. Ему сочувствовали, его жалели, отправляли на восток, но он всякий раз убегал, пользуясь детскими хитростями и смекалкой, достойными приключенческой повести, и целеустремленно шел на запад, пока его не приютили летчики бомбардировочного полка. В начале сорок пятого он уже имел несколько боевых вылетов в качестве стрелка-радиста. День Победы встретил в Кенигсберге, а в конце мая возвратился в родное село, сверкая серебряной медалью «За боевые заслуги». В это время Марфа Захаровна получила уже несколько писем от «воскресшего» мужа. Похоронка, к счастью, оказалась ошибочной. Иван Георгиевич был тяжело ранен, по выздоровлении снова возвращался на передовую, а в июне сорок пятого вслед за сыном пришел домой и уже с первого сентября снова стал преподавать историю в старших классах. Воспоминания не плыли плавно и последовательно, а возникали отдельными эпизодами, без всякой связи и порядка. Думы об отце переплетались с думами о матери и сыне. Мать стара, тяжело ей одной. Сколько раз Юрий Иванович предлагал ей переехать к нему в Москву. Так нет же, и слушать не хочет. «А что мне там делать? Тут у меня все свое, привычное, и люди свои, знакомые, всегда пособят. И огород и сад. Ни тебе шума, ни гама городского, ни толкучки, как на праздничном базаре. Нет уж, тут я родилась, тут и помирать буду. Вот я и Марии говорила, и тебе теперь скажу: не кладите на мою могилку никакую плиту. Пусть просто земля будет. И оградку не ставьте — не надо меня в клетку запирать». Большое грязноватое солнце уже едва касалось горизонта, когда Добросклонцев покинул кладбище и медленно побрел в село уже другой дорогой, которая вела на противоположный их дому конец улицы. Хотелось пройтись по селу в этот вечерний час, когда, поднимая уличную пыль, возвращается с поля скот, пряно пахнет парным молоком и укропом, и все голоса и звуки слышатся чисто и звонко. На улице сгущались сумерки. Западный горизонт затягивала плотная туча, где-то далеко сверкала молния и слабо, словно спросонья, ворчал гром. «Если будет дождь, то завтрашнюю поездку на Куликово придется отменить», — решил Добросклонцев и торопливо зашагал по улице.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Добросклонцев возвращался в Москву, оставив сына у матери — пусть парень, выросший среди асфальта и бетона, побегает по траве, узнает, что такое русское приволье, сердцем услышит песенность родной земли. За время недолгого своего пребывания на родине Юрий Иванович успел свозить сына на Куликово поле и там, возле священных каждому русскому человеку святынь, ему, как бы «вынырнувшему» из омута суетливой городской жизни, жизни, полной грохота электронной музыки, гула улиц с их авто — и человеко-потоками, вдруг подумалось, что только в рациональной бестолковщине сгустков камня и стекла, бетона и стали еще могут существовать пришельцы, коньковы и им подобные… В чистом поле бой с ними был бы выигран. Будет ли этот бой победным там, в городе? Будет ли? Сын обращался к нему с вопросами, что-то просил пояснить, а Юрий Иванович стоял, пораженный своей мыслью, и не мог сам себе твердо ответить: да, будут, поскольку по опыту знал: пришельцы пускают глубокие корни, их мораль сильнее Мамаева оружия. Добросклонцев приехал в Москву под вечер. Кати дома не было, и по отключенному холодильнику он догадался, что жена на даче у отца и домой заглядывает редко: на полированной мебели лежал тонкий слой пыли. Юрий Иванович настежь распахнул окно, затем вошел в ванную, чтобы принять душ. Он любил воду, прохладная или горячая — смотря по погоде, — она всегда снимала усталость. А сегодня он изрядно устал — все-таки несколько часов за рулем. Выйдя из ванной, он позвонил Мироновой. …Антонина, устроившись поудобнее в кресле, читала книгу. «Русский народ не любит гоняться за внешностью: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела». Прочитала, вздохнула и подумала: постепенно утрачивает наш народ это качество под влиянием… Чего или кого, она не знала и прочла дальше: «А уж выше позора, как служить искусству для искусства, в наше время не существует». Решила: хорошо бы так и в наше время. «Сила не нуждается в ругательствах». Прочла и улыбнулась, вспомнив одного начальника отдела. Выписать бы эту фразу и на дверь его кабинета повесить. Она читала дальше: «…все неудачи русского общества, вся бесхарактерность некоторых слоев русской народности происходит именно от разлагающего, ленивого и апатичного нашего космополитизма, доведшего нашу разобщенность с почвой до равнодушия к ней…» — «Только общечеловечность может жить полной жизнью. Но общечеловечность не иначе достигается, как упором в свои национальности каждого народа». Это Достоевский. Она вздрогнула от телефонного звонка. Отложила книгу и взяла трубку. — Тоня, прости, что звоню поздно, Добросклонцев… — Ты где? — даже не поздоровавшись, спросила Миронова. — В Москве, — ответил он. — Только что приехал. — Ты очень здесь нужен. Происходит такое… Ну, словом, если можешь, то приезжай немедленно. — Угостишь большой рыбой, которая попала в твои сети? — шутливо спросил он. — А то я голоден как волк. Катерина, по всей видимости, на даче. — В наши сети. Ты даже не представляешь, какая ценная рыба. Ну так как? — Еду. Готовь чай, — после некоторой паузы ответил он и положил трубку. Звонок в двери раздался, когда Тоня заканчивала собирать на стол. Но Добросклонцев, покосившись на еду, лишь с сожалением покачал головой, налил себе стакан минеральной и отошел в угол к журнальному столику, опустился в низкое кресло. — Давай сначала о деле. Тоня села напротив и начала свой рассказ о Павлове, о похищенном им кулоне, о том, как его хотели убить, о заграничном паспорте и марках, которые, между прочим, как позже выяснилось, оказались фальшивыми, о том, что Павлов чего-то явно недоговаривает. Рассказала о добровольном признании Алексея Соколова, который гранил фианиты Пришельца, а рекомендовал Соколова Ипполиту Исаевичу Бертулин. — И что показал уважаемый Арсений Львович? — С Бертулиным, к сожалению, поговорить не удалось: на днях скоропостижно скончался на лестничной площадке возле своей квартиры. Вскрытие показало: паралич сердца. — Совпадение или?… — Совпадение подозрительное. В день смерти Бертулина возле его дома соседи видели человека, по описанию похожего на Арвида, того, что намеревался отравить Павлова. Станислав считает, что Бертулина убили. При осмотре трупа на голени обнаружено маленькое, еле заметное пятнышко, похожее на след укола. Мне кажется, главное действующее лицо в этом спектакле Пришелец. Кстати, он исчез. Делом Павлова интересуется некто Зубров Михаил Михайлович. Импозантный мужчина, из центрального аппарата МВД. Даже удостоверение предъявил, хотя я и не спрашивала. Сказал, что хорошо знает Анатолия как человека чрезвычайно одаренного, с большим будущим, но неорганизованного, увлекающегося, слишком эмоционального и доверчивого. И, мол, эта доверчивость губит парня. — И что же хочет этот Зубров? — Взывает к моей человечности, гуманности, просит пожалеть заблудшего юношу, не губить талант, которому суждено большое будущее. — Только и всего? — В голосе Добросклонцева прозвучала легкая ирония. — Считает, что судьба несмышленыша Павлова зависит исключительно от меня. — И как ты расцениваешь этот ход? — Не очень умный, с немалой дозой нахальства. Я думаю, не судьба Павлова его интересует. Скорее всего он печется о Пришельце. — Нужно установить связи Пришельца. И немедленно. Что Павлов? — спросил Добросклонцев. — Павлов уклоняется, ускользает, как угорь, стоит только произнести имя Пришельца. Из знакомых Ипполита назвал лишь адвоката Шуба и его, супругу Анастасию Ивановну, или, как ее зовут в своем кругу, Асю Полушубок. — Что ж, наступила пора подводить черту в этом деле. Завтра я выхожу на службу и встречаюсь с Павловым. Тебе же нужно будет заняться связями Пришельца и Зуброва. Но дело это деликатное, нужно все хорошо продумать и взвесить. — Должна тебе доложить: Михаил Михайлович Зубров был со мной до неприличия любезен и мил, говорил топорные комплименты и предлагал встретиться на нейтральной почве, где-нибудь в театре, на стадионе или в ресторане, по моему выбору. — Это уже интересно. И как ты? — Отклонила. — Зубров, Зубров… — попытался вспомнить, кому принадлежит эта знакомая фамилия Добросклонцев. — Любопытно. — По поводу Зуброва у меня есть идея. Но это потом, завтра. А сейчас будем ужинать.2
Зубров был в панике. Он понимал, что дело Павлова — Пришельца, если его вовремя не погасить, выльется в грандиозный скандал и многим поломает карьеру, в том числе и ему. После посещения Мироновой он связался с Пришельцем по телефону и пригласил его к себе домой на московскую квартиру. Пришелец пришел, как и условились, точно в назначенный срок — девятнадцать ноль-ноль. В синем вельветовом костюме и светло-серой рубахе при галстуке он имел осанистый вид и совсем не был похож на преступника, преследуемого законом. В спокойном твердом взгляде его чувствовалась уверенность. Сунув в прихожей Зуброву горячую потную руку, он тихо буркнул: — Один? — Люба на даче, — сообщил Зубров и провел гостя в кабинет. Взглянув мимоходом на книжные полки, сверкающие новенькими корешками непрочитанных книг, Ипполит Исаевич, не садясь в предложенное кресло, спросил буднично: — Как дела? Беспечный тон гостя покоробил Зуброва. — Хуже некуда, — ответил он также кратко, сел на стул у письменного стола и пояснил: — Рассчитывать на Миронову бессмысленно. — А если продолжить деловой контакт? — Пытался. Не получилось. — Что значит не получилось? — поморщился Пришелец. — Неподкупных людей в природе не бывает. Время бессребреников прошло. Сейчас все хотят красиво жить. Просто нужно больше предложить: в рублях, а валюте, в металле или камешках. Пообещать повышение по службе, квартиру, машину, норковое манто. Циничная прямота коробила Зуброва, хотелось указать обнаглевшему гостю на дверь, но страх за свое будущее удерживал от опрометчивого шага, и он почел за лучшее промолчать. В отличие от Пришельца Зубров прекрасно понимал: ни за какие блага Антонина Миронова не пойдет на служебное преступление и не сделает того, что нужно Ипполиту Исаевичу. Видел он и другое: растерянность Пришельца, которую тот пытался скрыть за внешней бравадой. Никаких козырей у него нет, и Зубров попробовал подсказать: — Валюта, квартира, машина — все это пустое, потому как несерьезно, нереально. Надо смотреть на вещи трезво. Помочь нам может только один человек — Малярчик. — Петр Михайлович отпадает: Малярчики неделю тому назад уехали в Карловы Вары. Не в Крым или на Кавказ, а в Чехословакию, за границу, — с ходу отмел предложение Зуброва Пришелец. Обидно: в Крым или на Кавказ можно было бы слетать, попросить. А за границу… Да, Малярчик, к сожалению, исключается, размышлял Михаил Михайлович и не очень уверенно поправился: — Тогда, может, Земцев? Ипполит Исаевич раздраженно покачал головой и поморщился. Он понимал: главная опасность для него — Арсений Львович Бертулин. В памяти возникла фигура Арвида, человека с обросшим шерстью сердцем. Арвид его должник, он не разделался с Павловым, а потому только по его вине дело с такой головокружительной быстротой начало принимать катастрофический характер. Сейчас дорога каждая минута. Выиграть время, не упустить. Он понял, что дальнейший разговор с Зубровым — бессмысленная трата драгоценного времени. На всякий случай сказал поникшим голосом: — А все же попробуй предложить Мироновой или ее начальнику солидный куш. Зубров уже не мог скрыть своего раздражения, а в душе уже давно проклинал тот день и час, когда так легкомысленно связался с Пришельцем. Расстались они холодно, но вежливо. Пришелец не стал больше делать хорошую мину при плохой игре и не скрывал своего уныния, тревоги и скорби. Он чувствовал: Зубров попытается замести следы, дрожа за свою шкуру, и не сделает рискованного поступка, который может дать лишнюю улику против него. Договорились связь поддерживать по телефону, причем звонить из автомата будет Пришелец, и не домой к Зуброву, а в министерство. На прощанье Михаил Михайлович посоветовал Ипполиту Исаевичу подыскать себе на время новую квартиру, а может, даже уехать из Москвы. Пришелец нашел совет разумным и сразу же отправился на квартиру своего адвоката Шуба. Анастасия Ивановна, она же Полушубок, знала о «неприятностях» Ипполита Исаевича, искренне сочувствовала ему и, как женщина энергичная, обладающая деятельным и бесцеремонным нравом, предложила свою помощь и содействие. — Мной ты можешь располагать, как самим собой, — клятвенно обещала Анастасия Ивановна, и Пришелец знал, что на нее можно положиться. То, что не решится сделать не очень-то щепетильный, но трусоватый Зубров, без зазрения совести сделает Полушубок,3
Мятущиеся пугливые мысли терзали Павлова. Он пытался взять себя в руки, спокойно и хладнокровно разобраться во всем, что произошло. Времени на размышления было достаточно, он многое передумал, сидя в камере, где, кроме него, находились еще шесть подследственных, догадывался, что Миронова, к которой он относился с симпатией и доверием, пытается выяснить в разговорах с ним, какова роль Пришельца во всем этом деле. Павлов понимал, что судьба Пришельца сейчас в его руках, и чувство ненависти к человеку, фактически подписавшему ему смертный приговор, звало к отмщению. Павлова вызвали к следователю, он надеялся увидеть Миронову. Но вместо нее за столом сидел подполковник милиции, крутолобый, с темными сердитыми глазами. Кивком головы он предложил Павлову сесть. — Как чувствуете себя? — спросил Добросклонцев. В ответ Павлов лишь пожал плечами и улыбнулся вымученной улыбкой. — Понимаю. Но утешьтесь хоть тем, что могло быть хуже: ваш приятель Арвид действительно имел приказ убрать вас как нежелательного, опасного свидетеля. — Этой фразой Добросклонцев намеренно дал понять Павлову, что его несостоявшийся убийца задержан и дает показания, хотя на самом деле Арвид разгуливал на свободе. — Тот, кто отдавал приказ убить вас, пока еще не арестован и предпринимает отчаянные шаги, чтобы выгородить себя, уйти от возмездия. Матерый волк, он надеется на покровительство своих влиятельных дружков и на молчание своих трусливых пешек-лакеев, которых он презирает и уничтожает, когда они становятся для него ненужными. Но скамья подсудимых ждет его, и, возможно, вам, Павлов, придется выступать в качестве свидетеля на суде над ним. Добросклонцев замолчал, давая Павлову время обдумать услышанное, достал из стола чистые бланки протоколов и взял авторучку: — Итак, кто такой Пришелец Ипполит Исаевич? Что он, по вашему мнению, из себя представляет, кто он вам — друг или враг? — Он сделал ударение на последней фразе. «Друг или враг?» — мысленно повторил Павлов. Он усиленно раздумывал над ответом, пауза затягивалась, и Анатоль понимал, что следователь заметил его смятение. — Не знаю, друг или враг мне Ипполит Исаевич, — он печально посмотрел на Добросклонцева, — сам не могу понять, что он такое. Сложный человек, темный. — Вы не искренни, Павлов, и мне за вас обидно. Кто-кто, а слуги лучше всех знают своих господ. По крайней мере, вы должны лучше знать Пришельца, чем знает его, скажем, тот же Зубров. Приманка была несколько примитивна, и Павлов не клюнул, смолчал. Но Добросклонцев решил быть настойчивым. — Они давно знакомы? — Не знаю, — вполне искренне ответил Павлов. — А вы давно знаетеЗуброва? — Я видел его один раз, — сорвалось у Анатолия, он смутился и прикусил язык. — Когда встречались и где? — С полгода тому назад. В прихожей квартиры Ипполита Исаевича. Я уходил, а он пришел. — А еще кого вы встречали у Пришельца? Павлов пожал плечами, нерешительно сказал: — Пожалуй, никого. Разве что дочь однажды. Встреча с дочерью Пришельца Алей пришла ему на ум только потому, что он встретился с ней так же, как и с Зубровым, накоротке в прихожей квартиры Пришельца. — Чья дочь? — спросил Добросклонцев. — Ипполита Исаевича. Об Але и тем более о ее матери Павлов, в сущности, ничего не знал, и Добросклонцев верил ему. Это доверие заставило Павлова сказать больше, чем ему хотелось: увлекшись описанием внешности Али и сказав, что она работает стюардессой на международной трассе, он обронил фразу, что должен был встретиться с ней по поручению Ипполита Исаевича. Добросклонцев заинтересовался этим фактом, впоследствии оказавшимся для следствия чрезвычайно существенным. Короче говоря, это была ниточка, уцепившись за которую следствие начало разматывать весь клубок. — Итак, какое поручение давал вам Пришелец, предложив встретиться со своей дочерью? — Ипполит Исаевич вручил мне сережки, колечко с изумрудом и пятьсот рублей, — пожал плечами Павлов. — Велел под любым предлогом в обмен на изумрудный комплект и деньги заполучить у нее кольцо, которое подарил ей. — И что же дальше? Обмен состоялся? — Нет. Я не смог встретиться с Алей: она дома почти не бывает. Такова жизнь стюардесс международных линий. — И вы вернули Пришельцу изумруды и деньги? — Конечно. — А как вы думаете, зачем Пришельцу понадобился такой обмен? — Ипполит Исаевич сказал, что изумрудный гарнитур больше ей к лицу и что изумруд — ее камень. Да и стоит он дороже бриллиантового кольца, потому как там алмаз ненатуральный, искусственный. — Откуда вам это известно? — Со слов Ипполита Исаевича. Он просил и Але так объяснить. — А почему же Пришелец поручил вам совершить этот обмен, почему же сам не встретился с дочерью? — Понятия не имею. В душе Добросклонцева поднималось смутное ощущение большой удачи, нечто похожее на то, которое испытывает охотник в минуту, когда зверь уже видится через прорезь прицела и остается лишь чуть-чуть подправить мушку и нажать спусковой крючок. Фианиты, граненные Алексеем Соколовым для Пришельца, кольцо, которое Пришелец хочет любой ценой вернуть от дочери. Зачем? Боится, что оно может стать вещественным доказательством? Есть зацепка, сегодня разговор с Павловым надо кончать. (Догадывается ли он, какие ценные показания против Пришельца дал походя, между прочим?) Нужно немедленно отыскать дочь Пришельца Альбину и допросить. Сегодня же. И поручить это Тоне. Когда Павлов подписал протокол допроса, Добросклонцев спрятал бумаги в кожаную папку и поднялся из-за стола. Встал и Павлов. Глядя на него, на его осунувшееся бледное лицо, тускло освещенное большими скорбно поблекшими глазами, на худые руки с мелкой дрожью пальцев, Юрий Иванович почему-то вспомнил своего сына Женю и, ощутив колкий холодок между лопаток, подумал: «А вдруг какой-нибудь Пришелец и его…» И чтоб оправиться от неприятного состояния, он, не заметив, как перешел на «ты», сказал: — Вот. что, Анатолий, мы с тобой еще встретимся. Но я прошу поверить мне: Пришелец твой враг. Он изуродовал твою юность, сделал тебя своим рабом, подлым и порочным. А ведь ты, как нам сказали в институте, умен, даже талантлив. Много у тебя отнял мерзавец, много потеряно. Но не все. Ты молод. У тебя впереди есть шанс стать человеком честным и порядочным. Подумай обо всем, взвесь и помоги суду установить истину. И суд учтет это, решая твою судьбу. Анатоль молчал. Он стоял ссутулившись, словно какой-то невидимый груз придавил его узкие плечи, и, казалось, он уже не в состоянии выдержать эту тяжесть. Добросклонцев вызвал конвоира и, когда Павлова увели, поспешил в управление. Он находился в состоянии лихорадочного возбуждения, вызванного допросом Павлова. Нужно было быстро и точно распорядиться полученными сведениями, тщательно проанализировать их и дать им верный ход. Не заходя к себе в кабинет, Юрий Иванович заглянул в комнату следователей. Мироновой не было. Генерал Константинов встретил с некоторым удивлением: — Что, кончился отпуск? Пришлось объяснить, что дела потребовали его присутствия на службе. — Правильно поступил, что вернулся, — одобрил Василий Кириллович. — Все равно пришлось бы мне тебя вызывать. — Предложив Добросклонцеву садиться, он по своему обыкновению сразу перешел к делу: — Тебе известно такое имя: Пришелец Ипполит Исаевич — искусствовед-коллекционер? — Да, Не знаю, какой он искусствовед, а вот коллекционер-ворюга дипломированный. Мы заводим на него уголовное дело. Притом дело обещает быть громким, связано с бриллиантами. — Даже с бриллиантами? — Константинов удивленно повел бровью: — Есть факты, доказательства? — Есть и еще будут. — Стран-н-оо, — раздумчиво протянул Константинов, постучав пальцами по столу. — Меня приглашали в обком. Просили обратить внимание на эту личность, к которой якобы наши сотрудники проявляют безосновательно повышенный интерес. Человека травят. — Вот даже как! — Сообщение поразило Добросклонцева. — Боюсь, нам придется объявлять всесоюзный розыск, чтобы встретиться с этим затравленным волком. Завтра мы думаем произвести обыск на его квартире. — Даже? Тогда давай выкладывай все по порядку. Дело в том, что мне звонил сейчас Сергей Иванович. Так он тоже советовал… в общем, положительно характеризовал этого человека. — Так, может, и в обком звонил Сергей Иванович? — Нет, другой человек. Константинов не стал уточнять. Секретарь МК сказал Константинову, что на приеме в посольстве к нему подошел Борис Николаевич, заговорил о том, о сем и между прочим, к слову сказал о Пришельце, просил отнестись к нему с должным пониманием и оградить от неуместных подозрений. Добросклонцев докладывал обстоятельно, неторопливо, и лишь когда назвал имя Анатолия Павлова, о деле которого генерал был информирован, Константинов перебил: — Ты считаешь, что Пришелец повязан в этом деле — с валютой и загранпаспортом, взятыми у Павлова? — Павлов — только видимая часть айсберга, главная подводная, самая опасная — Пришелец, — уверенно ответил Добросклонцев, — и иже с ним: Зубров и другие. — А какова, по-твоему, роль Зуброва? — Это нам предстоит выяснить. В общих чертах она та же, что и Сергея Ивановича: попытка оградить. Только один действует осторожно, соблюдая минимум такта, а другой идет напролом, возможно, чувствуя за своей спиной серьезную опору. И Добросклонцев изложил генералу свою версию личности Пришельца. Намеченный Добросклонцевым план мероприятий по делу Константинов одобрил, но посоветовал действовать осторожно, строго в пределах закона, зная по опыту, что малейшее нарушение буквы закона даст в руки разного рода благодетельным сергеям ивановичам неотразимый козырь, и, казалось, уже попавший в сети правосудия преступник ускользнет. Добросклонцев и сам это понимал. — Держи меня в курсе. О появлении новых материалов по этому делу докладывай, — сказал Константинов и отпустил Добросклонцева. В приемной генерала секретарша сказала Юрию Ивановичу, что заглядывала Миронова, просила передать, что она у себя. Так бывает в природе: постепенно, капля за каплей, незаметно накапливается вода у случайно образовавшейся запруды, и вдруг прорвет, и сразу в одночасье хлынет могучий поток и разметет — размоет преграду, снесет весь мусор, и снова потечет чистая и светлая вода. В практике Юрия Добросклонцева такое бывало и прежде: попадались сложные хитросплетенные дела, где опытный преступник постарался спрятать все концы, и не за что было уцепиться, чтоб размотать клубок следствия. По крупице, терпеливо работники УГРО собирали материал, иной раз приходя в отчаяние и теряя надежду на успех. Как вдруг дернули за какую-то ниточку, даже, может быть, случайно кто-то из свидетелей или преступников обронил словечко, и сразу все завертелось-закружилось, начало разматываться-раскручиваться. Так было и сейчас: хлынул поток новых материалов. Миронова была не одна в узком прямоугольном кабинете: напротив нее стоял стол капитана Николая Ушанова — улыбчивого весельчака, общительного, приветливого, этакого простачка, умеющего завоевать доверие даже искушенных жуликов. Прежде чем Тоня успела доложить Добросклонцеву о новой «сенсации», Ушанов, весело сверкая небесного цвета глазами, опередил: — Юрий Иванович, Антонина запустила руку в осиное гнездо и начала ворошить… — Если в перчатках, то это не так страшно, — в тон ему ответил Добросклонцев. — Рассказывай, Тоня. — Он присел на угол стола. — Я сделала рискованный шаг: встретилась с женой Зуброва на их квартире. Довольно милая женщина. Я сказала, что нас интересует Пришелец Ипполит Исаевич, и попросила ее сообщить все, что она о нем знает, давно ли знакомы. Люба — так зовут супругу Зуброва — как мне показалось, поначалу растерялась, но рассказывала вполне искренне. Встречалась она с Пришельцем всего два раза, и оба на даче. Первый раз в день рождения Зуброва, а второй совсем недавно. Пришелец приезжал к Михаилу Михайловичу по какому-то делу. Мне удалось узнать, кто был приглашен на день рождения. Оказывается, отмечали в узком кругу. И знаете, кто там был? Сам товарищ Малярчик с супругой. — Петр Михайлович? — оживился Добросклонцев. — Представь себе — он самый. Потом некто Земцев Яков Николаевич то ли из Внешторга, то ли из другого какого-то ведомства, связанного с заграничными командировками. По словам мадам Зубровой, этот Земцев занимает высокое положение. И еще супружеская чета Ященко. Антон Фомич — членкор и лауреат. Ну и среди них — Пришелец. — И это все? Такой узкий круг? — Был еще один гость, брат юбиляра, колхозник из Белоруссии. — Однако… — неопределенно проговорил Добросклонцев, ненадолго задумался, потом встряхнулся: — Итак, подытожим: приглашен был узкий круг самых близких друзей. Так надо понимать? Так, выходит, Пришелец лучший друг Зуброва? Наша с тобой догадка подтвердилась. Но по законам элементарной логики получается, что и остальные гости, то есть Малярчик, Земцев и Ященко, суть друзья Пришельца. Следовательно, если Малярчик, Зубров и так далее — суть порядочные люди, значит, и Пришелец безупречен. — А если Пришелец жулик и вор, — продолжала Тоня, — то Малярчик, Зубров и другие тоже… — Молодец, Тонечка! — Добросклонцев встал. — Конечно же, о твоем визите уже знает Зубров, жена непременно известила его. Сейчас он должен что-то предпринять. И сгоряча может наделать глупостей, которые обернутся против него. — Едва ли, он человек осмотрительный, — возразила Тоня. — Ну не скажи: осмотрительный не стал бы лезть напролом. А он полез. — Полез потому, что Малярчик его друг, — сказала Тоня. — Да, Малярчик может осложнить ситуацию, — согласился Добросклонцев. — Как ты, Коля, считаешь, осложнит? — Запросто. Затребует дело — и привет, — ответил Ушанов. — Вот поэтому и нужно спешить, — решил Добросклонцев. — Надо прежде всего узнать, что за люди Земцев и Ященко, что связывает их с Зубровым и какие у них отношения с Пришельцем. Это раз. Этим я сам займусь. Для тебя же, Антонина Николаевна, есть задание особой важности. Во что бы то ни стало разыскать дочь Пришельца Альбину, встретиться с ней и изъять бриллиантовое кольцо, которое ей подарил отец, то есть Ипполит Исаевич. — У Пришельца есть дочь? — удивилась Тоня. Юрий Иванович в ответ лишь кивнул. — Зайдем ко мне, ознакомишься с показаниями Павлова. Полагаю, что это кольцо с фианитом, одним из тех, что гранил Соколов. Пока она читала показания Павлова, он исподволь наблюдал за ней, двигая ящиками стола и бесцельно перебирая какие-то бумаги. Прочитав, Тоня положила протокол на стол. — Я займусь сейчас же. — Да, это очень важно. Пока не вмешался Малярчик. А если приплюсовать сюда Земцева и Ященко, то действительно мы с тобой начали ворошить осиное гнездо. — Не обижай ос. Скорее гадюшник. Ну я пошла. Постараюсь сегодня связаться с Альбиной.4
…Утром телефон Пришельца не отвечал. Как и было запланировано, в девять утра в присутствии понятых и представителя домоуправления оперативная группа вскрыла квартиру Ипполита Исаевича. Каково же было удивление: пол без ковров, голые стены, пустой сервант, за зеркальными стеклами которого некогда сверкали хрусталь и фарфор, никаких бра, даже вместо люстры с потолка печально свисала электрическая лампочка, подчеркивающая пустоту квартиры. Не было и знаменитого старинного гарнитура из мореного дуба, и стульев со спинками из икон. Вообще столовая имела нежилой вид. Печально выглядел и кабинет с пустым книжным шкафом и зловеще торчащими в стенах железными костылями, на которых раньше висели картины. Пустой холодильник был открыт и отключен от электросети. Из спальни исчезли скульптура обнаженной девушки и мраморный амур с хрустальным светильником в руке, а также гобелен с купальщицами и шкура белого медведя. Лишь в стенном шкафу висели костюмы, плащи и пальто, а широкая кровать была накрыта покрывалом. То, что Пришелец освободился от ценных вещей, наводило на многие серьезные размышления, выдвигало вопросы, на которые надо было немедля искать ответ. Из показаний соседей выяснилось, что на неделе Ипполит Исаевич вывозил на грузовой крытой машине старинную мебель, картины, скульптуры. На вопрос любопытной лифтерши сказал, что решил обновить мебель, а потому освободиться от ненужного хлама. После грузовой машины в тот же день Ипполит Исаевич дважды приезжал на «Волге»-пикап, грузил более мелкие вещи — свертки и чемоданы. — Не обратили внимания — грузовая и легковая машины были такси? — поинтересовался Ушанов, на что лифтерша ответила: — Легковая не такси, серая «Волга». Это точно. А вот насчет грузовой не могу сказать. Ни к чему мне было. Обыск квартиры, по сути дела, ничего не дал для следствия, за исключением «пустячка»: в письменном столе лежали два вызова из-за рубежа на имя Ипполита Исаевича Пришельца: из Израиля от двоюродного брата и из Уругвая — от дяди. Может быть, Ипполит Исаевич решил эмигрировать? Но почему же в таком случае он не подал заявление в ОВИР, к которому нужно приложить вызов от родственников? А может, был еще и третий вызов и выезд уже оформляют? Все это нужно выяснять, и немедленно. Словом, как считал Юрий Иванович, рабочий день начинался удачно. После обыска, не заезжая в управление, Добросклонцев направился в следственный изолятор к Павлову, а Тоня, как и условились, должна была связаться с дочерью Пришельца Альбиной. Вопреки ожиданиям Юрия Ивановича Павлов на этот раз был менее разговорчив, нежели при первой встрече. Взгляд холодный, ответы односложны, уклончивы. По поводу Пришельца ничего нового не сказал. По всему чувствовалось, что он опасается говорить лишнее. Добросклонцев снова попытался завоевать его доверие, сообщив, что час тому назад на квартире Пришельца произвели обыск и что квартира оказалась пустой: все ценные вещи Ипполит Исаевич позавчера вывез. Куда, в ближайшие день-два прояснится. Наблюдая за Павловым, он заметил, что сообщение о пустой квартире Пришельца как-то оживило Анатолия, что-то в нем встрепенулось, и решил этим воспользоваться. — Вы, конечно, догадываетесь, почему Пришелец вывез ценные вещи? — спросил доверительно. — А чего тут догадываться, когда я точно знаю, — сорвалось у Павлова. — На днях он уезжает за границу и там останется. — Анатоль, пытливо посмотрев на Добросклонцева, прибавил: — Если уже не уехал. — И в какую же страну? — поинтересовался Добросклонцев, с трудом сохранив спокойствие: не хотел показывать Павлову, что ошарашен его сообщением. — Может, в Гамбург, может, в Париж, а возможно, к брату в Австралию, — вяло ответил Павлов, пожалев о сказанном: пойдут новые вопросы, настойчивые, выматывающие душу. — И вы вместе с ним должны были уехать в Париж? Бледное лицо Павлова исказила мучительная гримаса. Мысленно он выругал себя и угрюмо ответил: — Никуда я не должен. Что там делать, в Париже? — Как что делать? В качестве слуги сопровождать своего барина. Пришельцы без слуг не могут. Павлов молчал, и Добросклонцев понял, что на этот раз он не скажет больше того, что уже сказал. А за сказанное готов был обнять Павлова. Пришелец собрался бежать за границу. «Если уже не уехал». И Добросклонцев, отправив Павлова в камеру, умчался на улицу Белинского.5
Аля ждала Миронову дома, так они договорились по телефону. Это устраивало и Миронову и свидетеля, коим теперь именовалась Альбина. Поджидая Миронову, Аля перебирала в памяти последние годы недолгой своей жизни, пытаясь найти какое-нибудь темное пятнышко, которое могло бы заинтересовать милицию. Никакой вины за собой она не чувствовала. На работе ее ценили, за короткий срок службы в Аэрофлоте она имела три благодарности. Вспомнила своих близких друзей и знакомых, у которых могли быть конфликты с законом. Нет, ничего предосудительного не находила. И все же с напряженным волнением ждала капитана милиции. Тоня была в милицейской форме, придававшей ей строго официальный вид. Они уединились в комнате отчима, которая служила ему и мастерской, и чтобы не испытывать терпение девушки, Тоня решила сразу же, без лишних вопросов, переходить к делу. — Вы часто встречаетесь со своим отцом?.. Ипполитом Исаевичем Пришельцем? Нет, не ожидала Аля такого вопроса. Вот, оказывается, кем интересуется милиция. Она нахмурилась, ответила, не глядя на Миронову: — А мы вообще не встречаемся. Мы виделись всего один раз. — Подняла глаза, полные слез, прибавила негромко и отчужденно: — И вообще он мне не отец. — Вот даже как, — с неподдельным недоумением произнесла Тоня. — Тогда расскажите о вашей единственной встрече. — Зачем это вам? — как-то сразу насторожилась Аля. Тоня почувствовала, что девушка может замкнуться. Нужно сразу же расположить ее, завоевать доверие прямым откровенным разговором. — Ипполит Исаевич подозревается в совершении тяжкого преступления… — А мне какое дело?! — перебила Аля. — Вас никто ни в чем не обвиняет. Нас интересуют лишь некоторые детали. Скажите, Альбина, Ипполит Исаевич дарил вам бриллиантовое кольцо? — — Ну, дарил. И что из этого? И бриллиант был не настоящий, искусственный — фианит. — Почему вы так думаете? Как вы узнали, что он искусственный? — Очень просто: пойдите в ювелирный магазин, посмотрите на настоящий и сравните. — Да, кольцо было с фианитом, это верно, — согласилась Тоня. Она старалась вести разговор ровно, не пережимая. — А вы можете мне его показать? — У меня нет кольца, — ответила Аля и залилась краской. — А где оно? — Я потеряла. Вернее, оставила в отеле. — В отеле? То есть в гостинице? Это где же? — В Шенноне, в Ирландии. Там у нас смена экипажа. Слова ее звучали неубедительно и потому не внушали доверия. — Потеряли или продали? — вопрос прозвучал почти утвердительно. — Да вы что? — возмутилась Аля и протестующе посмотрела на Тоню. Тоня встретила ее оскорбленный взгляд с твердым, уверенным превосходством: я же знаю, что ты говоришь неправду, я все о тебе знаю. Аля отвела глаза в сторону, уши ее огнем горели. Наконец не выдержала: — Ну, продала, ну и что — разве я не имею права? — Конечно, имеешь, — доброжелательно ответила Тоня и уточнила: — Здесь, в нашей стране, а не за границей, не в Ирландии. — Я продала в Москве своей подруге Симе, — призналась Аля. — Как-то нескладно у нас получается: в Ирландии кольцо утеряла, вернее, оставила в отеле и забыла, а потом продала его в Москве подруге по имени Сима, а фамилия ее, Серафимы? — Пышная, — смущенно ответила Аля, немного погодя добавила: — Вы извините меня: я тогда сказала неправду, насчет Шеннона. Сама не знаю зачем и почему. — Наверное, потому, что это был подарок отца, и лучше, конечно, потерять, чем продать, — в словах Тони звучала ирония. — Вам, очевидно, очень нужны были деньги. — Совсем не поэтому, — поморщилась Аля. — Я не могу вам объяснить… И я действительно поначалу хотела его выбросить. И если б я его случайно потеряла или просто забыла в отеле, я нисколечко не расстроилась бы. Оно жгло мне палец. Понимаете? Тоня не понимала: сейчас ей нужно было прежде всего и как можно быстрей заполучить это кольцо. — А вы могли бы связать меня со своей подругой? Например, пригласить ее сюда, сейчас? — Я могу, конечно, позвонить, но ее вряд ли отпустят с работы. Вам лучше встретиться с ней после семи. — Это поздно, — озадаченно сказала Тоня, и на лице ее отразилась искренняя досада. — Послушайте, Альбина, вы могли бы оказать мне большую услугу, если бы согласились вместе со мной поехать к Серафиме на работу сейчас, не откладывая до вечера? Она, кстати, где работает? — В ателье приемщицей. Здесь недалеко, всего четыре остановки на троллейбусе. А можно и на метро одну остановку проехать. Я позвоню ей, предупрежу. — Не нужно. Приемщица всегда на месте. Так будет лучше. Поедем? — Тоня встала. — А у Симы не будет никаких неприятностей? — Совершенно. Я только посмотрю кольцо. — Оно что — ворованное? — предположила Аля, и в глазах ее вспыхнул и тут же погас легкий испуг. — Почти. Сима Пышная, как и предполагала Миронова, оказалась на месте. К удивлению Тони, внешность ее соответствовала фамилии. Круглолицая полная блондинка со вздернутым носом и короткой шеей встретила Алю и Тоню широкой улыбкой, в которой отразились и радость, и удивление, и наивное любопытство. В первые же мгновения встречи Тоня обратила внимание на ее руки и, увидя на пальце впившееся в кожу кольцо с алмазом, облегченно вздохнула. Объясняться долго не пришлось. Аля дала показания о том, что это кольцо подарил ей Ипполит Исаевич Пришелец, что она потом уступила его своей подруге Серафиме Пышной, так как Але кольцо было великовато. Это же подтвердила и Сима. Тоня, выдав расписку Пышной, временно изъяла кольцо и, довольная, вернулась в управление. Добросклонцева не застала: Ушанов сказал, что Юрий Иванович поехал к Ященко. — Тебе звонила какая-то женщина, — сказал Ушанов. — Кто такая? — поинтересовалась Тоня. — Она не назвалась. Сказала, что позвонит еще. Тоня не стала думать-гадать: мало ли звонят. Но не прошло и четверти часа, как раздался телефонный звонок. Тоня взяла трубку: — Миронова слушает. — Антонина Николаевна? Здравствуйте. Я по делу Пришельца Ипполита Исаевича. Мне бы очень хотелось с вами встретиться. — Голос незнакомый, обволакивающе-мягкий. — По делу Пришельца? — намеренно равнодушно переспросила Тоня. — Я такого дела не знаю. — Ну, вернее… это связано с делом Анатолия Павлова, — в некотором замешательстве уточнила незнакомая. — А вы кто будете Павлову — жена, родственница? — Нет-нет, я человек для Павлова посторонний. Но я хочу сообщить сведения, которые должны вас заинтересовать. — Ну что ж, давайте встретимся, — сдержанно сказала Тоня. — Вы когда можете к нам зайти? — Видите ли… Мне не хотелось бы заходить в ваше учреждение. Желательно встретиться на нейтральной… Ну, например, в садике у Большого театра, у фонтана. Это рядом — удобно и вам и мне. «Странно, — подумала Тоня. — А впрочем, ничего странного: человек не хочет, чтоб о ее сведениях в милицию знали те, кому не полагается знать». — Хорошо, — согласилась она. — У фонтана, так у фонтана. В какое время для вас удобно? — Желательно сейчас. Я звоню от Малого театра. — Как я вас узнаю? — Я сама к вам подойду: я вас знаю. «Ничего себе — снова загадка. Она меня знает, а я — нет», — удивилась Тоня. Фонтан у Большого театра — одно из многолюдных мест центра Москвы, особенно в летнюю пору. Очень удобное место свиданий. Здесь можно под яблонями и сиренью посидеть на скамеечке, поджидая товарища, здесь все под рукой — магазины, рестораны, метро, гостиницы. Тоня остановилась у гранитного кольца фонтана. Струи воды распыляли приятную в такой жаркий день влагу. На скамейках не было свободных мест. Вокруг фонтана стояло человек десять, а может, и больше. Среди них было четыре женщины. Присматриваясь к ним, Тоня пыталась определить, которая из них ее незнакомца. Неожиданно сзади раздался негромкий спокойный голос: — Здравствуйте, Антонина Николаевна. — Миронова резко повернулась. — Вот и я, Рита. — Простите, а по отчеству? — Ах, зачем отчество, оно старит, а я еще невеста. Вот собралась замуж, да видите, какая история получается. Она и привела меня к вам. — Деланная кокетливая улыбка уже немолодой женщины, украшенной большой копной седых волос, сменилась такой же неестественной скорбью. Ярко накрашенные губы, искусственные черные ресницы, подведенные синькой голубые глаза, густо нарумяненные щеки придавали ей вульгарный вид. Она демонстративно осмотрела Тоню с ног до головы и вдруг предложила: — Вы не обедали? Может, зайдем в «Метрополь» или «Национала», закусим и за столом поговорим? — Благодарю, я пообедала. Итак, я вас слушаю. Женщина в нерешительности осмотрелась вокруг: место не очень подходящее для интимного разговора; Тоня поняла ее, предложила: — Может, пройдем к Большому театру, там посвободней. Они шли медленно, и женщина, назвавшаяся Ритой, начала неторопливо свой рассказ: — Видите ли, я невеста Ипполита Исаевича. Мы решили в августе оформить наш брак, как говорят, пожениться. Мы давно знаем друг друга и любим. Он очень порядочный человек, интеллигентный, воспитанный, тонкая натура, легко ранимая. Он остро на все реагирует, даже на пустяк, на мелочи. Наверно, наложил свой отпечаток печальный эпизод в его прошлом — я имею в виду судимость. Вы, конечно, знаете. Это оставило душевную рану, возможно, на всю жизнь. Такой уж он человек — беззащитный, как говорят, не от мира сего. И вот теперь нежданно-негаданно на нашу голову свалилось это неприятное дело — этот ублюдок Павлов. Говорила я Ипполиту — гони его прочь. Нет же, не послушал: жалел, пропадет, мол, а парень способный. А на что способный? На авантюры. Из-за его авантюр и на Ипполита пало подозрение. Вы представляете душевное состояние невинного человека, травмированного, которого подозревают… — Она не договорила фразу. — В чем подозревают? — впервые подала голос Топя. Похоже, что вопрос несколько смутил «невесту» Пришельца. — Я не знаю, вы должны знать. А подозрение, даже если и безосновательное, ошибочное, все равно оно оставляет на подозреваемом пятно. Самое неприятное, что накануне женитьбы. Если б не это обстоятельство, Ипполит, может, и не стал бы переживать. — Я не совсем понимаю, при чем здесь женитьба, какая связь? — Как при чем? Все осложняется. А наша семья? Как мои родные посмотрят на наш брак, на Ипполита, на зятя, который на подозрении? Мой брат занимает высокое положение, он известный человек в стране. И вдруг такой зять. Ужас. Я схожу с ума. Ипполит места себе не находит. Брат, конечно, мог бы вмешаться, его все уважают, с вашим министром они друзья, и дома у него бывает. Но я не хочу впутывать в это дело брата. Дело-то пустячное, выеденного яйца не стоит. Павлов натворил — пускай и отвечает. Я же знаю, Антонина Николаевна, вы женщина добрая, душевная, о вас все так отзываются. Помогите, все зависит от вас. Моя судьба в ваших руках. Я слезно вас умоляю. В голосе ее звучали трагические ноты. — В чем конкретно должна состоять моя помщь? Я что-то не совсем вас понимаю. — Нет, Тоня прекрасно понимала, куда клонит перезрелая «невеста». — Я сама юрист, и хочу быть с вами откровенной. Вы же можете не обращать внимания на некоторые факты, которые не имеют отношения к делу Павлова и только уводят следствие черт знает куда. Например, зачем вам показания какого-то банщика. Ну, ходил Ипполит в баню, он обожает русскую баню. Может, ненароком обидел этого банщика. Или, может, мало заплатил ему за кольцо. Кольцо-то для меня делал, какое ж тут преступление? Да и сам этот Соколов уже жалеет о своем показании и готов взять его обратно. И на суде, говорит, я откажусь. Да и алмаз-то искусственный, фианит. Будь там натуральный, а то эрзац, теперь их тоннами в лабораториях делают. А из-за этого эрзаца может человек погибнуть. И женщина, достав из сумочки платочек, промакнула глаза. Получилось это наигранно, и Тоня с иронией подумала: «Артистки из тебя не получается, однако ж осведомленность отменная. И расчет верный: самую большую угрозу для Пришельца на данном этапе представляют показания Соколова. Хотят, чтоб их не было». Тоня понимала, что Пришелец решил «смываться», и ему нужно быть «чистеньким», ох, как нужно. Ради этого он готов на все пойти. Она догадывалась, что женщина «липовая» невеста, и имя ее тоже «липовое», и никакого «государственного» брата у нее нет, Правда, она не могла знать, что настоящее имя Риты — Анастасия Ивановна, что она жена адвоката Бориса Шуба, Ася Полушубок, когда-то отчисленная со второго курса юрфака за неуспеваемость. — Умоляю вас, дорогая, не погубите, войдите в наше положение, сжальтесь. Я отблагодарю вас, ни перед чем не постою, — продолжала всхлипывать «невеста», и эта явная фальшь начала, раздражать Тоню. — Перестаньте, — резко оборвала ее Миронова. — Хватит. — И в ту же секунду решила: надо играть, надо пообещать: многое может проясниться. Продолжала уже спокойно: — Я не спрашиваю ни вашей фамилии, ни фамилии вашего брата. Для меня совершенно безразлично, кем вы доводитесь Пришельцу. Если я вас правильно поняла, то вы хотите, чтобы имя Ипполита Исаевича вообще не упоминалось в деле Павлова? — Да, да, вы совершенно правильно меня поняли. — Как юрист, вы должны знать, что это зависит не только от меня. — Ну, я думаю, что вы сможете договориться с подполковником Добросклонцевым. «Однако ж», — удивилась Тоня и спросила: — Вы знаете Юрия Ивановича? — Я всех знаю, — самоуверенно ответила «невеста» и прибавила: — Сначала вы получите небольшой аванс, десятую долю всего. А все остальное — когда дело Павлова закончится и приговор вступит в силу. Тоня делала вид, что она крайне озадачена. Молчала, решая, как поступать дальше. — Вы не сомневайтесь, не пожалеете. Отблагодарим сторицей. Тоня решила: ну что ж, надо идти до конца. — Это так все неожиданно, — произнесла, будто размышляя вслух. — Вы говорите, знаете Добросклонцева? А я думаю, что нет. Я не представляю, как с этим делом к нему подступиться. А может, лучше вам попробовать, коль вы знакомы? — Нет, я лично с ним не знакома, мне Ипполит о нем рассказывал. Очень лестно отзывался. Я бы, конечно, могла попытаться, но… думаю, что лучше вам. «Она должна поверить, — размышляла Тоня, — только бы не переиграть. Бестия наглая, бесцеремонная и самоуверенная. Сейчас она в полной безопасности. Не спугнуть бы неуместной фразой, лишним словом». Тоня вздохнула, вздох получился естественным, проговорила с чувством глубокой озадаченности: — Я не могу так сразу. Надо все взвесить, продумать. — Ну конечно, конечно, я вас понимаю, дело это щекотливое, — согласилась «невеста». — Только имейте в виду; если вы захотите использовать мою откровенность, злоупотребить моим доверием… вам это не удастся. Я — человек совершенно неуязвимый. А что касается Ипполита Исаевича, то за него есть кому заступиться. — Хорошо, — решительно сказала, точно черту подвела, Тоня. — Я подумаю. И дам вам окончательный ответ. Лично или по телефону, как вам будет удобно, позвоните мне завтра к концу дня. — Позвоню. Я очень надеюсь на вашу доброту и благоразумие. Они разошлись в разные стороны. Тоня спешила в управление. Верно заметил Добросклонцев: «День большого улова». Откровенный цинизм «невесты» поразил ее — с подобным Миронова столкнулась впервые. Предлагать роль соучастницы преступления, разумеется, за плату — вот так просто, напрямую? Какое ж должно быть представление о нравственности людей? Такая особа считает, что за деньги можно все купить — совесть, честь, долг. На что она рассчитывала? Неужто найдутся такие, кто может «клюнуть», согласиться, хотя бы один из тысячи? Тоня не могла себе такого даже представить, хотя и знала, что бывает, когда даже должностное лицо позволяет себе в корыстных целях такое падение. Поражало ее и вызывающее нахальство, самоуверенность, чувство безнаказанности этой женщины. Кто она, кем доводится Пришельцу? Невеста? Сомнительно. Сожительница? Едва ли: Пришелец предпочитает помоложе. Разве что бывшая. А может, соучастница, из одной шайки. Если так, то выходит, что главная для них опасность — кольца, бриллианты, и опасен теперь уже не только Алексей Соколов, но и Аля. Да, нужно срочно сравнить Алино кольцо с теми, что были подменены в ювелирном магазине на бриллиантовые. Тоня уже не сомневалась, что авантюра с подменой колец — дело рук Пришельца, и что «работает» он не в одиночку, действует шайка. Павлова пытались устранить, да вышла осечка. Но где гарантия, что не попытаются убрать других важных свидетелей — Соколова и Алю? Нет, Пришельца нужно немедленно арестовать. Но прежде надо его найти. Объявлять всесоюзный розыск? И еще: надо узнать, кто эта женщина. Это завтра. Но придет ли она, позвонит ли? С такими мыслями Миронова зашла в кабинет Добросклонцева. — Ну? Докладывай, — сказал Юрий Иванович, как только Тоня закрыла за собой дверь. Испытывая его терпение, Тоня не спеша взяла стул, поставила у письменного стола, чего она прежде не делала, степенно села и достала из своей сумочки колечко с фианитом. Потом начала спокойно со всеми подробностями рассказывать о встрече с Алей и ее подругой по фамилии Пышная. Добросклонцев рассматривал кольцо: — Вот и улики пошли, серьезные улики, мистер Пришелец! А когда Тоня рассказала о встрече с «невестой» Пришельца, предлагавшей крупную взятку, Юрий Иванович покачал головой: — Значит, зверь, Тонечка, очень крупный. Возможно, крупнее, чем мы думаем. Личность «невесты» необходимо установить. Непременно. А теперь, Антонина Николаевна, хочу проинформировать тебя о новых открытиях сегодняшнего дня. Денек, Тонечка, как никогда! Таких у меня за всю мою службу в органах еще не было. Поработали мы хорошо, даже сверхотлично. Весельчак Ушанов тоже. Быстренько установил, что в ОВИР Ипполит Исаевич не обращался. Но… он числится в списке группы туристов, выезжающих во Францию. Поняла?.. — Но этот, как ты говоришь, крупный зверь пока еще не пойман, а он умеет обходить капканы и не бросится очертя голову в западню. Это раз, — охладила Тоня его пыл. — А и пойманный, он найдет много лазеек, чтоб выскользнуть из рук правосудия — это два, товарищ подполковник. — И знаешь, с чьей помощью Пришелец включен в представительную группу туристов? — не обратил внимания на ее реплику Добросклонцев. — Зубров или Малярчик посодействовали? — Товарищ Земцев, Яков Николаевич изволил облагодетельствовать Ипполита Исаевича. И, между прочим, сам Земцев позавчера уехал в загранкомандировку. — Два ноль в нашу пользу, — сказала Тоня. — Это почему же? — Два друга — покровители Пришельца — Земцев и Малярчик находятся за пределами нашей страны и не смогут помешать следствию. — Нам они и так не смогли бы помешать: у нас факты, доказательства. Вот они! — Он повертел в руке колечко. Алмаз заиграл гранями.
— Давно известно, что, в принципе, все преступники — нравственные уроды, аморальные типы, — задумчиво сказала Тоня. — Ты же сам однажды говорил, что корни преступности настолько же социального происхождения, насколько и морального. Меня удивляет другое: почему нравственный прогресс так непростительно отстает от технического? — Вот-вот — дипломированный, образованный, эрудированный уродец, — живо отозвался Добросклонцев. — Образование дали, а воспитать забыли. Хотя о воспитании мы трубим на всех перекрестках. Да и в воспитателях нет недостатка: семья воспитывает, школа, комсомол тоже воспитывают. Искусство, литература, средства массовой информации! Вот сколько их воспитателей-нянек. А, как говорят, у семи нянек дитя… — Не в этом дело, — перебила Тоня. — Иногда няньки в разные стороны тянут, разнобой получается. Но вот что меня смущает: бывает, что в семье, в одной и той же семье два-три сына. Кажется, и живут и воспитываются в одинаковых условиях. Но один прекрасный парень, а другой подлец. Почему так получается? — Разные характеры, разные интересы, наклонности. В силу своего характера один попал под дурное влияние. Тот же Павлов… — Павлова мне искренне жаль. Я его понимаю. А вот психологию Пришельца понять не могу. — Да, конечно, их нельзя мерить одним аршином. Кстати, я хочу завтра снова встретиться с Павловым. И завтра же мне предстоит свидание с мадам Ященко Натальей Максимовной. А сейчас я с этим колечком еду на Петровку. Сличим. — А вдруг окажется не то? Бес, чтоб сбить твою самонадеянность, возьмет да и подставит тебе ножку. Бесы не любят самоуверенных, ты этой имей в виду, — Поимею, — улыбнулся Добросклонцев.
6
Придя домой, Тоня извлекла из почтового ящика «Вечернюю Москву» и толстый конверт, на котором крупным размашистым почерком было написано: «Мироновой А. Н.» Ни марок, ни штемпеля, ни обратного адреса. Кто-то принес и опустил в ящик, не прибегая к услугам почты. Тоня ничего ни от кого не ждала. На ощупь определила, что в конверте бумаги, и почему-то подумала, что содержимое конверта имеет отношение к делу Пришельца. И не ошиблась. Она вскрыла пакет, едва переступив порог своей квартиры. В конверте лежали деньги — ровно две тысячи. Она не очень удивилась, была почти уверена, что деньги эти принесла и опустила в ее почтовый ящик «невеста» Пришельца. За всю свою жизнь Тоне не приходилось владеть такой суммой денег, и деньги эти были предназначены ей, так сказать, небольшой подарок. А ведь это только аванс, одна десятая часть того, что ей обещано. Двадцать тысяч — с ума сойдешь — целое состояние. От кого эти деньги, кто он — анонимный благодетель? Конечно же, Пришелец — в этом Тоня не сомневалась. Какая щедрость! Похоже, что «благодетель» располагает миллионом, потому и не скупится. Тоня помнит, как в прошлом году они изъяли у группы вот таких же пришельцев семь килограммов золота и восемьсот тысяч рублей. Золото было предназначено для переправки за кордон, да вовремя успели задержать и обезвредить всю шайку. Похоже, что и здесь шайка, и возглавляет ее Ипполит. Он понимает, что «влип» по большому счету, чего-то не предусмотрел, самоуверенность подвела, возможно, слишком понадеялся на своих покровителей. А спохватившись, пошел ва-банк, на мокрое дело рискнул, хотел избавиться от Павлова. Тоня была уверена, что покушение на Павлова — дело рук Пришельца, хотя прямых улик пока нет. А будут ли потом? Ох, как они нужны. Она стояла посреди комнаты с пачкой купюр, торопливо размышляя над новым, хотя и не совсем неожиданным аспектом дела: а что если они меченые и подброшены с провокационной целью? Сейчас заявятся товарищи из прокуратуры с заявлением о взятке. Чем тогда докажешь, что ты не получила взятку у фонтана Большого театра от той женщины? И фотография будет приложена. Тревожный холодок пробежал по спине. Она брезгливо бросила деньги на стол, сказала себе мысленно: спокойно, Антонина Николаевна, не суетись. Выдержка и хладнокровие — наше главное оружие — так говаривал Добросклонцев. Она сняла трубку и набрала номер кабинета Юрия Ивановича. Телефон не отвечал. Тогда Тоня позвонила ему домой. В трубке слышались длинные, тягуче-равнодушные гудки. «Значит, он уехал на дачу, — решила Тоня и тут же вспомнила: — Нет, он сейчас на Петровке, кольцами занимается». А тревога в душе нарастала. Она взглянула на часы и набрала номер генерала Константинова. — Василий Кириллович, извините меня за беспокойство, но дело неотложное, а Юрию Ивановичу я не могу дозвониться. Это Миронова. — Голос ее дрожал. — Слушаю, Антонина Николаевна, — отозвался генерал и спросил: — Ты откуда звонишь? — Я из дома… Я пришла домой и обнаружила в своем почтовом ящике деньги. Две тысячи. Она замолчала, чтобы перевести дыхание. И Константинов, не сразу сообразив, о чем идет речь, переспросил — Деньги? Чьи деньги? — Наверно, преступника. Я думаю. Пришельца. Попытка подкупить следствие. — И так много? — Генерал повеселел, он догадался, что Тоня взволнована, и хотел успокоить ее. — Это только аванс, одна десятая того, что мне обещано. Юрий Иванович, наверное, вам докладывал. Василий Кириллович, вы разрешите мне привезти эти деньги в управление. Сейчас же. Я все объясню. — Хорошо. Говори адрес, я вышлю машину. Добросклонцев не смог доложить генералу о ходе следствия, хотел зайти к нему под вечер, перед тем как ехать на Петровку, но Константинов был в это время в обкоме, и Юрий Иванович решил доложить ему утром. Поэтому Тоне пришлось рассказать генералу все, что произошло в этот день: обыск на квартире Пришельца, встреча с Алей, о фианитовом кольце, которое Пришелец подарил дочери, а также о своей встрече с женой Зуброва, в результате которой удалось установить связи Пришельца. Константинов был немало удивлен связью Пришельца с Малярчиком, Земцевым и Зубровым. По крайней мере, считал генерал, Земцев и Малярчик случайно оказались в компании Пришельца на даче Зуброва. Он допускал, что Зубров и Пришелец в приятельских отношениях, а с другой стороны, у Зуброва могут быть дружеские отношения с Малярчиком и Земцевым. Размышляя таким образом, Василий Кириллович пришел к заключению, близкому к истине: Пришелец через Зуброва пытался втереться в доверие к Земцеву и Малярчику. Все это казалось бы логичным, если бы не одно обстоятельство: свой день рождения Зубров отмечал в узком кругу, следовательно, своих близких друзей, может, самых близких. Деликатный намек Мироновой, что это одна шайка, он решительно отметал, утверждая: простая случайность. Вместе с тем червячок сомнения поселился в нем. Его прежде всего возмущало поведение Зуброва. Что за наглость: используя свое служебное положение, вмешиваться в дела органов. Это нужно немедленно пресечь. Завтра же он потребует от Добросклонцева докладную записку о действиях Зуброва и затем даст ей официальный ход. Он поставит визвестность секретаря МК, заместителя министра внутренних дел и в частном порядке проинформирует заместителя генерального прокурора.ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Как всегда, после работы Екатерина Вячеславовна забежала по пути в продовольственный магазин. Купила четыреста граммов сливочного масла, полкилограмма сыра, два пакета сливок и заспешила на вокзал, чтоб ехать на дачу. Так они договорились с мужем: домой заезжать сегодня не будут. Вторую неделю в области стояла жара, днем столбик термометра поднимался до тридцати градусов в тени. Солнце нещадно накаляло каменные глыбы строений, плавило на улице асфальт. По ночам в городских квартирах от духоты не было никакого спасения. У выхода из метро к Екатерине Вячеславовне подошел незнакомый человек, голубоглазый, выше среднего роста, плотно сбитый: — Екатерина Вячеславовна? Извините, прошу уделить мне несколько минут. Катя с удивлением посмотрела на мужчину и, решив, что он один из сослуживцев мужа, ответила: — Пожалуйста. Я вас слушаю. — Отойдем в сторону, — предложил незнакомец н сам сделал первый шаг за угол здания метро. Катя последовала за ним. — Извините, но разговор у нас будет необычный, для вас неожиданный. Скажите, вы вчера открывали свой почтовый ящик? Дома, на улице Добролюбова. — Нет, я там не была. После работы сразу уехала на дачу, А в чем дело? — И муж не заглядывал в почтовый ящик? — Думаю, что нет: он тоже с работы уехал на дачу. А все-таки я не понимаю, о чем речь? — В вашем почтовом ящике лежат деньги — две тысячи рублей. Они ваши. Это только аванс, десятая доля того, что получит ваш муж, если не будет круглым идиотом. — Я ничего не понимаю, — недоуменно пожала плечами Катя и растерянно посмотрела по сторонам. — Может, вам нужно об этом поговорить с мужем? — Выслушайте меня внимательно и не волнуйтесь. Юрий Иванович — человек не от мира сего. Он смешной идеалист, отставший от жизни, от времени. Он борется с ветряными мельницами, современный Дон Кихот. А в наш век это бессмысленное и бесполезное занятие. Мельница, она глупа и своим безжалостным крылом может шарахнуть, и даже смертельно. Не возражайте, я знаю — он человек не из робких. Но не забывайте — у вас есть сын. Он еще беззащитен, и с ним всякое может случиться. — Что вы имеете в виду? — встревожилась Катя. — Однажды он получил травму, только травму, — с явной угрозой в голосе подчеркнул незнакомец. — В другой раз может быть трагедия… пострашней. Вы — мать, подумайте. И посоветуйте Юрию Ивановичу быть поумней, попрактичней. — Ледяные глаза его смотрели отчужденно. — Боже мой, да что ж это… Кто вы такой? Что вы хотите от меня, от моего ребенка? Я ничего не понимаю. — Только одного: благоразумия. Пусть ваш муж не очень усердствует и пощадит бедного юношу Толю Павлова. Поменьше рвения, побольше снисходительности и благоразумия. Не говоря больше ни слова, незнакомец влился в поток людей и исчез, а Катя долго еще не могла сдвинуться с места, хотя инстинкт самозащиты требовал немедленных действий. Прежде всего она решила позвонить мужу. У будки телефона-автомата простояла минут десять в очереди, и эти десять минут показались ей вечностью. Да к тому же телефон Добросклонцева не отвечал. Она знала — так условились еще вчера, — что Юрий Иванович прямо с работы поедет на дачу. Она попробовала взять себя в руки, успокоиться, размышляя над случившимся. Добросклонцев не посвящал ее в свои служебные дела. В электричке она не находила себе места: думы ее убегали к сыну, вспоминались ледяные глаза мужчины и его слова: «Он еще беззащитен»… «может быть трагедия… пострашней». Над Женей нависла опасность! Да, верно, там он беззащитен. Они могут сделать с ним что угодно. От платформы до дачи отца бежала с лихорадочной поспешностью. Бледная, с испуганным взглядом открыла калитку. Мать стояла с совком и веником у крыльца и сразу почувствовала недоброе. — Юра приехал? — с трудом сдерживая волнение, спросила Екатерина Вячеславовна. — Да нет еще, — с тревогой ответила Анастасия Степановна. Катя решила не рассказывать родителям о случившемся до приезда мужа, но скрыть своего состояния не смогла. Анастасия Степановна не решилась донимать дочь расспросами, но своими наблюдениями поделилась с отцом. — Что-нибудь на работе, — отмахнулся Вячеслав Александрович, не придав значения словам жены. Добросклонцев приехал в десятом часу в приподнятом настроении. Несмотря на «безумный» день, он не чувствовал усталости. Экспертиза подтвердила идентичность фианита из колечка дочери Пришельца с фианитами из колец, подложенных в ювелирный магазин взамен бриллиантовых. Он был уверен, что сложное уголовное дело, в котором, по его мнению, Пришелец играл первую скрипку, близится к успешному завершению. Вместе с тем он предвидел, что впереди еще будут трудности, могут неожиданно возникнуть непредвиденные обстоятельства. Если до сегодняшнего дня он видел лишь отдельные этюды и фрагменты дела, часто не связанные между собой, то сегодня ему уже предстала вся картина. Не хватало лишь отдельных штрихов. Но они будут, должны быть непременно. Большая надежда на Павлова. Он должен заговорить, не может он остановиться на полпути, сделав ключевое для следствия сообщение — кольцо дочери Пришельца. Очень важно его разговорить. Взволнованный рассказ жены о встрече с незнакомцем на вокзале насторожил Добросклонцева. Он попытался успокоить Катю: ничего особенного, обычный трюк — пугают. А случай был для самого Добросклонцева далеко не обычным, лично он с подобным никогда не сталкивался: никто не предлагал ему взятки, никто не запугивал. Жену успокоить он не сумел. Посоветовавшись в семейном кругу, решили, что завтра же с самого утра Вячеслав Александрович на машине поедет за Женей. Рассказ Кати вызвал неприятный осадок в душе Добросклонцева, и чем настойчивей он внушал себе мысль о том, что никакая опасность его сыну не угрожает, тем навязчивей становилась мысль о возможной мести со стороны преступников. Особенно застрял в памяти намек на давний случай, происшедший с сыном. Утром он уехал в Москву вместе с Ермоловым задолго до начала рабочего дня. Забежал на несколько минут к себе на квартиру. Да, действительно, в почтовом ящике лежал пакет с двумя тысячами рублей. Сторублевые купюры были еще довольно новыми и подозрительно смятыми, точно их преднамеренно хотели «состарить». «Взятка, — размышлял Добросклонцев. — За две тысячи я должен пощадить несмышленыша Павлова, бедную сиротиночку. И кто ж он такой — его щедрый опекун? Ипполит Исаевич, он, конечно. Значит, Павлов много знает о преступной деятельности мистера Пришельца. Павлов может пролить свет на все еще темные пятна в деле о бриллиантовом кулоне и помочь следствию. Может, но не хочет. Боится. Видно, хорошо знает звериные повадки своего благодетеля». Добросклонцев собирался, не заезжая к себе на улицу Белинского, встретиться с Павловым. Но обнаруженные в почтовом ящике деньги рушили его планы: надо сначала ехать в управление. Было начало восьмого. Он позвонил Мироновой домой. Тоня уже собралась на работу. — Тебя срочно хочет видеть Василий Кириллович, — поспешила она предупредить Юрия Ивановича. — Есть новые данные. — С плюсом или минусом? — Не знаю. Только хочу тебе доложить: Ипполитова «невеста» сдержала слово. Отвалила аванс в две тысячи. — В почтовый ящик? — весело спросил Добросклонцев. — А ты откуда знаешь? Ты виделся с генералом? — Нет. Я только что извлек такую же сумму из своего ящика. Щедры наши клиенты, очень щедры. — Значит, богато живут… Однако же… — Ты хотела сказать, что не веришь в их щедрость? Я — тоже. У меня есть подозрение, что тысячи эти фальшивые. Ну да ладно, разберемся. А сейчас, поскольку меня требует Константинов, тебе нужно встретиться с Павловым. Вопросы — все о Пришельце. И его связь с Коньковым, то, о чем мы с тобой толковали. Постарайся расположить его, рассеять страх перед Пришельцем. Я на сегодня пригласил мадам Ященко. — Но прежде тебе придется приготовить один документ для Константинова. — А именно? — Он тебе сам скажет. Привет. Я поехала в изолятор.2
Разговор с Добросклонцевым во время последней их встречи, несмотря на свою непродолжительность, больно задел самолюбие Анатолия Павлова, не давал покоя, Павлов ненавидел Пришельца за то, что тот так жестоко, коварно решил расправиться с ним, беззаветно преданным ему человеком. «Лакеем», — неприятно, как пощечина звучал в памяти Анатолия голос Добросклонцева, который так же, как и он, Павлов, ненавидит Пришельца. Для них обоих Ипполит — враг. В изоляторе у Павлова было много свободного времени для размышлений. Раньше он жил в каком-то чертовом колесе, где все вертелось, летело, поддаваясь какой-то невидимой силе. И он отчаянно барахтался, заботясь лишь об одном: только бы не налететь на стенку. Свою жизнь со всеми своими поступками, удачами и неудачами, радостями и огорчениями он никогда не подвергал анализу и даже не задумывался над рискованными действиями сомнительного свойства, не утруждал себя вопросом: хорошо это или плохо? Он довольствовался днем текущим, совершенно не думая о будущем. Веселый и беспечный по своей натуре, Павлов уже на третий день пребывания в изоляторе почувствовал себя всеми забытым. Настало время размышлений. И сразу обнаружилось много неожиданного и любопытного. Например, по элементарной логике получается: если Пришелец одновременно доводится врагом Павлову и Добросклонцеву, то Павлов и Добросклонцев, как минимум, недруги. Добросклонцев говорил ему обидные слова: «Лакей… Пришельцы без лакеев не могут. Их сила, их неистребимая живучесть в лакеях, которых они умеют эксплуатировать, презирая их». Самое обидное, что было в этих словах, — правда, горькая, как полынь, правда. Да, признавался самому себе Анатолий, он был у Пришельца, у своего смертельного врага, лакеем. Да, Ипполит презирал его, оскорблял, унижал. А он терпел, старался не обращать внимания и всегда спешил подавить в себе вдруг вспыхнувший протест. Ради чего? Ради жалкой подачки, или, как говорил Добросклонцев, объедков, кости с барского стола. Думать об этом было противно и гадко. В нем зашевелился запоздалый стыд. И еще вспомнилось: Добросклонцев говорил о гордости, которой он, Павлов, лишен, простой человеческой гордости; да что гордости — даже самолюбия. Так накапливалась в душе Анатолия ненависть к своему бывшему шефу, а к ней примешивалась жажда расплаты. Вывести самонадеянного, жестокого и коварного Ипполита на чистую воду, рассказать следствию правду о нем, сломать печать молчания. Впрочем, считал он, первый шаг уже сделан сообщением о том, что Пришелец собирается удрать за границу. Павлов не подозревал, что не это, а другое его сообщение — о подаренном дочери колечке и потом попытке вернуть его — было для следствия важнее всех других показаний. Об участии Пришельца в подмене бриллиантовых колец Павлов ничего не знал. Зато ему было кое-что известно об участии Ипполита в хищении жидкого золота, и он твердо решил сообщить об этом следствию. Притом бескорыстно, совсем не рассчитывая получить за это снисхождение суда. Между прочим, спокойно и хладнокровно анализируя свою судьбу, он пришел к выводу, что обвинения против него не такие уж страшные. В этом отношении мысли его совпадали с размышлениями Добросклонцева. Ему вменялось в вину хищение бриллиантового кулона. Но он надеялся на снисхождение Беллы, был уверен, что она пожалеет его и простит. Таким образом, за это преступление, вероятней всего, думал он, суровой кары не последует. Сомнительным казалось ему и второе обвинение — попытка нелегально бежать из страны. Теперь он решил изменить свои прежние показания, утверждать, что вообще не собирался нелегально покидать страну, а замышлял разоблачить преступника Арвида и сделать это перед самым отлетом, в аэропорту. Не очень убедительно, но попытается объяснить суду, почему сразу не сообщил об этом, очень просто — находился в состоянии депрессии, страха. Конечно, нужно отказаться и от других вымышленных показаний и давать совершенно новые, правдивые или хотя бы правдоподобные. Дойдя до этой мысли, он споткнулся: возникли сомнения, до каких пределов быть искренним в своих показаниях? Ведь он-то знал: за ним водятся более серьезные преступления, чем те, что известны сегодня следствию. Так или иначе, но он был косвенно причастен и к засаде на квартире ювелира, и к убийству Конькова. Делали это другие по приказу Пришельца. Но приказы свои Ипполит передавал через него, Павлова. Это он скроет от следствия и суда. О них знают только трое: Пришелец и два рецидивиста, которые вместе с Коньковым устроили засаду в квартире ювелира, а потом они же и похоронили Конькова на дне Черного моря. Пришелец будет молчать, а те двое где-то разгуливают, а и попадись они в руки милиции, не станут называть ни Пришельца, которого они в глаза не видели, ни его, Анатолия Павлова, которого знают лишь по имени Саша. Да и смысла им нет брать на себя лишнее. Размышления успокоили Павлова. Вызов к следователю его даже обрадовал. Он вошел в следственную комнату какой-то просветленный, лицо его сияло беспечной улыбкой, глаза приветливо поблескивали. Этот неожиданный резкий переход озадачил Миронову, и она не смогла скрыть своего удивления: — Вы сегодня какой-то другой, Павлов. — Хуже или лучше? Его вопрос, тон, которым он был задан, еще больше изумили Тоню. — Похоже вы мне приготовили какой-то сюрприз. — Как вы догадались? — сорвалось у него. — Жаль, что вы раньше не заметили во мне дара ясновидения. Иначе бы сразу говорили правду. Всю правду, — подчеркнула она и жестом предложила ему садиться. — Я тоже сожалею, что сказал не всю правду, — сказал Павлов, усаживаясь на табуретку. — На то была своя причина. — Какая же? — Страх. Честно вам говорю — струхнул я тогда в сарае порядком. Долго не мог в себя прийти. Мне казалось, что они до меня и тут доберутся. — Кто «они», кого вы имеете в виду? — Люди Пришельца. — Вот как? Выходит, Арвид был человеком Ипполита Исаевича? Так я вас поняла? — Из его шайки. — Ну что ж, я догадывалась. Меня очень возмущало ваше нежелание сказать правду о Пришельце. Обидно было за вас, — искренне сказала Тоня. — Чтоб выгородить матерого уголовника, вы сочинили такие нелепые, дешевые легенды, в которые даже первоклассники не поверят. — Антонина Николаевна, я исправлюсь, — поспешно, с несколько преувеличенным смущением перебил Павлов. Со стороны они напоминали не очень строгую учительницу и ученика-шалопая, не приготовившего урок. — Честное слово. — Что ж, попробую поверить. Итак, всю правду? — Да, — тихо молвил Павлов, опустив голову. Возникла пауза. Тоня смотрела на Анатолия с ожиданием, он же не спешил говорить. Румянец как-то вдруг растаял на его лице, он весь напрягся, посерьезнел. — Ну? — нарушила молчание Тоня. — Не знаю, с чего начать, — потерянно проговорил Павлов и с грустью посмотрел Мироновой в глаза. — Начните с неправды, — подсказала Тоня. — Пожалуй. Кулон Норкиных находится у Ипполита Исаевича. Он меня вынудил взять его. — То есть украсть. — Пусть будет по-вашему. — А по-вашему? Вы что, взяли его на время? Пришелец полюбоваться хотел? — Нет, конечно. — Павлов глубоко вздохнул. — Вещь эта ценная, думаю, Ипполит решил с ней за границу махнуть. — От кого Пришелец узнал о кулоне? — Не знаю. Возможно, от Норкина или от самой Беллы, до замужества она была его любовницей. Да и женил он меня на ней из-за проклятого кулона. Я где-то читал, что есть драгоценные камни, которые приносят несчастье всем, кто к ним прикоснется. Сразу же после свадьбы Ипполит потребовал от меня этот чертов алмаз. Павлов рассказывал со всеми подробностями, как по его просьбе Белла показала ему кулон, как он потом похитил его. При этом рассказывал правдиво, все, как было на самом деле. И как потом передал кулон Пришельцу, как на квартире Пришельца встретился с Арвидом. Спокойный и деловитый тон его рассказа, откровенность и доверительность тронули Тоню. В то же время профессиональный опыт заставлял ее быть настороже. Она понимала, что Павлов продумал заранее каждое слово. — А когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Коньковым? Павлов запнулся и в растерянности отвел взгляд. Уголки губ его дрогнули, но он сохранил самообладание и после некоторой заминки ответил: — Однажды Ипполит приказал мне поехать в Дядино, разыскать некоего Конькова Николая Демьяновича, передать ему двести рублей денег и приказ немедленно уехать из Москвы в неизвестном направлении. Конькова я дома не застал, соседи сказали, что он в психичке, я поехал туда, встретился с ним, передал деньги и приказ смываться. Больше я его не видел. Он повторил свою старую версию. — А такое поручение Пришельца не навело вас на мысль, что ваш шеф связан с уголовщиной? — Я как-то не задумывался. У него были такие друзья — именитые, солидные должности, лауреаты. — В его голосе Тоне послышалась неуверенность. Должно быть, обостренная восприимчивость подсказала ему, что ее не удовлетворили показания о Конькове. — Вы можете назвать друзей Пришельца? — Антон Фомич — академик. Фамилию не знаю. — И все? Или еще кто-то из именитых? — Не знаю, фамилии он мне не называл. — Кто он? — Ипполит. Встречался с человеком, потом говорил мне — это академик, это народный артист, этот замминистра. — Мог пыль в глаза пускать. Павлов почувствовал облегчение: они в разговоре ушли от скользкого вопроса о Конькове. — Ну, нет. Для него в жизни нет ничего невозможного. Он может достать любую дефицитную вещь. Денег у него… — Павлов хотел придумать сравнение, чтобы показать, сколь состоятелен шеф, но ничего не придумал, лишь сокрушенно махнул рукой. — Откуда? Он же нигде не работает. — Об источниках своих доходов он мне не докладывал. Думаю, что у него их много и разных. У Ипполита особый нюх на желтый металл и камешки. Страсть, как у фанатика. — Расскажите подробней о камешках. Вы имели в виду алмазы и другие драгоценные камни? — Да. И золото. — Кроме кулона, какие еще драгоценные камни, бриллианты, например, доставал Пришелец? С вашей помощью или без вас? — Не знаю. Я только кулон… Что касается золота, то знаю, что он участвовал в одном дельце. Там он был не один. Жидкое золото превращали в твердое, а потом монеты царские чеканили. — Расскажите подробно, — попросила Тоня, и Павлов рассказывал все, что знал об афере с жидким золотом. Тоня, слушая Павлова, вспомнила слова Добросклонцева, сказанные по поводу Павлова: «Он заговорит, как только подавит в себе страх. Надо, чтоб он перестал бояться Пришельца». Теперь и она видела, что дело о кулоне идет к завершению. Прокурор уже подписал постановление на арест достопочтенного Ипполита Исаевича, именующего себя свободным художником, специалистом по памятникам старины.3
Добросклонцев сидел в кабинете генерала Константинова. Пачка сторублевых купюр лежала на журнальном столике, приставленном к письменному столу. В отличие от Добросклонцева Константинов хмурился. — Как ты расцениваешь этот фокус с подсунутыми деньгами? Какой-то провинциальный примитив, вне всякой логики. — Почему же? Логика есть, — возразил Добросклонцев. — И не только логика, и психология, и философия. Элементарная самоуверенность зарвавшихся негодяев. В прошлый раз пойманный на спекуляции иконами, Пришелец вышел сухим из воды. Ну и зарвался, увлекся. Смотрит на мир своими глазами и не считается с реальностью. Подсунул деньги — авось клюнут. — Но это же наивно. Прежде чем предложить, очевидно, надо изучить взяточника и быть уверенным, что он возьмет. Притом не таким способом. Швырнуть четыре тысячи в почтовый ящик без уверенности… — Константинов помолчал. — Или у них был какой-то процент уверенности? — Какой-то процент был. Миронова у Большого театра не отклонила категорически предложение «невесты» Пришельца. — В таком случае ему грозит еще одна статья. — Он будет отрицать. Чем мы докажем, что эти деньги от него? Он скажет, что никакой невесты не знает, что это провокация, кто-то из его недругов хотел таким путем пришить ему уголовное дело. — Надо эту женщину разыскать, — решил Константинов. — И вот еще: о безопасности главных свидетелей — банщика и дочери Пришельца надо позаботиться. Этот гусь может пойти на все. — Все предусмотрено, товарищ генерал, позаботились. Разговор их прервал телефонный звонок. «Разыскать невесту Пришельца… — мысленно рассуждал Добросклонцев. — Допустим, Миронова ее опознает. Та будет все отрицать. Будет возмущаться, твердить: вы ошиблись, обознались, я впервые вас вижу». Константинов положил трубку и поднялся из-за стола, встал и Добросклонцев. — Я срочно в обком. — Понял, товарищ генерал. Разрешите идти? Константинов кивнул.Секретарь обкома сразу, без лишних слов, как человек, у которого рабочий день рассчитан по минутам, перешел к делу, подав Константинову листок, исписанный крупным разборчивым почерком. — Ознакомьтесь, пожалуйста, Василий Кириллович. Пока Константинов читал письмо, секретарь обкома просматривал какие-то бумаги. Письмо начиналось так: «Я работник подмосковной милиции, член КПСС, считаю своим партийным и гражданским долгом доложить вам о непартийном поведении ответственного работника ГУВД Мособлисполкома подполковника Добросклонцева Ю. И.» Далее в письме говорилось, что Добросклонцев, используя служебное положение, покрывает противозаконные действия своего тестя Ермолова В. А., который разводит пушного зверя в большом количестве, занимается спекуляцией пушнины и другими махинациями. Говорилось и о служебной недобросовестности Добросклонцева, и о необъективности следователя, и даже о том, что он был уличен во взяточничестве, злоупотребляет спиртным, на работе появляется в нетрезвом состоянии. Заканчивалось письмо тем, что обо всех этих «фактах» хорошо известно руководству Главного управления, но оно, очевидно, не желая выносить сор из избы, никаких мер против Добросклонцева не принимает. Автор письма не назвал своего имени, объяснив это боязнью мести. Как со стороны самого Добросклонцева, так и его начальников-покровителей. Словом, это была обычная анонимка, и, прочитав ее, Константинов сказал: — Не берусь судить о тесте Добросклонцева, а все остальное — грубая клевета, поклеп, попытка опорочить честного работника. — Видите ли, Василий Кириллович, я не стал бы вас приглашать по этому поводу, передал бы эту писульку в отдел. Но вспомнил наш разговор о некоем Пришельце, к которому якобы ваши товарищи проявляют излишний интерес. И если мне память не изменяет, называлась фамилия товарища Добросклонцева. Он, что ли, беспокоит известного коллекционера? — Да, он. Разрешите, Владимир Иванович, подробней доложить вам об одном деле, как мне кажется, имеющем самое непосредственное отношение к этой анонимке. И Константинов подробно рассказал о деле Пришельца, о том, что прокурор вынес постановление на его арест, что коллекционер этот подозревается в тяжких уголовных преступлениях, на что следствие располагает неопровержимыми материалами. И наконец, сообщил Константинов, в связи с делом Пришельца всплывают не с лучшей стороны имена товарищей: Земцева, Малярчика и Ященко. — А вы своему министру докладывали об этом? — Сегодня в три часа у меня будет встреча с заместителем министра, доложу. На минуту секретарь МК задумался, с легкой грустью покачивая головой, затем, словно что-то решив для себя, сказал: — Я прошу вас, Василий Кириллович, проявить в этом деле принципиальность, партийную твердость, не отступая ни на шаг от закона. Обо всех попытках оказать давление на следствие, от кого бы они ни исходили, ставить меня в известность. О тесте Добросклонцева поручи кому-нибудь проверить, есть ли там криминал. Но сделать это надо деликатно. Договорились? — Я вас понял, Владимир Иванович. — Всего хорошего. — До свидания. Из обкома Константинов вернулся к себе в хорошем настроении. Поддержка секретаря МК еще больше укрепила его позицию в деле Пришельца. В три часа пополудни он уже сидел в кабинете заместителя министра внутренних дел и так же, как несколько часов тому назад в кабинете секретаря МК, читал отпечатанное на машинке письмо на имя министра, в котором автор обвинял Добросклонцева в использовании служебного положения в корыстных целях. Под письмом стояла подпись искусствоведа-коллекционера И. И. Пришельца. «12 апреля с. г. ко мне на квартиру без предварительной договоренности неожиданно зашел подполковник милиции и представился: Добросклонцев Юрий Иванович. Он завел разговор о нападении грабителей на квартиру ювелира Бертулина А. Л. в гор. Дядино, где я, сам Бертулин и наши общие знакомые супруги Норкины оказались жертвами бандитов. Выслушав мой рассказ, как все было в тот злосчастный вечер, Добросклонцев дал ясно понять, что я подозреваюсь в соучастии с бандитами и что якобы у него есть доказательства моей вины. Я был возмущен этой явной ложью, но Добросклонцев сказал, что не надо расстраиваться, дело это можно замять, но что для этого потребуется от меня благодарность, то есть он недвусмысленно намекнул о взятке. Не чувствуя за собой никакой вины, я выставил подлого вымогателя за дверь. Первым моим желанием было написать вам или прокурору об этом возмутительном поступке подполковника милиции. Но я подумал: свидетелей не было, и Добросклонцев станет нагло все отрицать. Я решил ждать, что же будет дальше, оставит он меня в покое или будет мстить за неудавшийся шантаж. Да, Добросклонцев не оставил меня в покое и в отместку начал стряпать на меня уголовное дело, прибегнув к гнуснейшим методам подставки и поклепа…» После того как Василий Кириллович закончил чтение и положил письмо на стол, замминистра спросил: — Ты в курсе? — Да. Сегодня утром нечто подобное читал в кабинете секретаря МК. Правда, там была анонимка, написанная от руки, но стиль тот же. Разрешите доложить по существу? — Замминистра кивнул. — Дело в том, что автор этого письма — опасный преступник, не сегодня завтра он будет арестован, есть санкция прокурора. Пришелец подозревается в хищении золота, алмазов, в том числе и бриллиантовых колец в ювелирном магазине Москвы. Подмена колец с натуральными бриллиантами фианитами. — И есть улики? Доказательства? — спросил заместитель министра. — Есть. Клубок преступлений сложный, с попыткой убийства нежелательных свидетелей и прочими мерзостями. Добросклонцев — один из опытнейших руководителей следственного управления. И я не верю ни единому слову в заявлении Пришельца. И Василий Константинович более подробно изложил имеющиеся у следствия материалы о преступлениях Пришельца. От замминистра Константинов ушел успокоенным.
4
Узнав от жены, что с ней разговаривала Миронова, Зубров взбесился. — Зачем ты ее впустила в дом?! Почему не выставила за дверь?.. И какое она имела право тебя допрашивать? — орал он. Никогда за всю супружескую жизнь Любовь Викторовна не видела мужа в таком состоянии. Он был на грани безумства. — Она не делала допроса, ничего не записывала, и я никаких бумаг не подписывала, — робко оправдывалась она, пытаясь понять подлинную причину гнева. — Мы просто беседовали. Очень милая, обаятельная женщина. Сказала, что это нужно в государственных интересах и что наш долг — то есть мой — помочь следствию. — Да эта милая, обаятельная выудила у тебя самое главное, что ее интересовало: кто был у меня на дне рождения!.. Ты выдала моих друзей… Последняя фраза сорвалась необдуманно, случайно. Он это понял по озадаченному взгляду жены. Прикусил язык, но не смог скрыть замешательства. — Как это понимать — выдала? — удивленно спросила Любовь Викторовна. — Их что — милиция разыскивает? — Дура набитая, — прошипел Зубров и ушел в свой кабинет, щелкнув замком. Безудержная слепая ярость душила его. Ночь для Зуброва была тревожной, тягостной. Утром он появился на службе осунувшимся, с воспаленными глазами и сразу позвонил Ященкам. К телефону подошла Наталья Максимовна, заспанная, недовольная, что ее потревожили, сказала капризно: — Что у тебя, пожар? Попозже не мог позвонить? — Не мог. У нас действительно пожар, — сухо ответил Зубров и сразу спросил: — Где Фомич? — В командировке в Киеве. Зачем он тебе? Тушить пожар? Это занятие не по его профилю. — Пожалуй, ты сможешь его заменить. Нам нужно немедленно встретиться. Это очень важно. Понимаешь? Очень-очень… Дело чрезвычайное. Только теперь Наталья Максимовна окончательно проснулась и вспомнила, что на сегодня она приглашена на улицу Белинского к следователю. Приглашение пришло еще вчера, оно удивило и озадачило Наталью Максимовну. Она пыталась дозвониться до Зуброва, спросить у него — может, он знает, зачем она понадобилась следователю. Но Зуброва на работе не оказалось, а домой она звонить не решилась. Ранний звонок его был кстати и для Натальи Максимовны. Встреча с Зубровым была желанной, но она все же попыталась пошутить: — Зачем ворошить прошлое? — Сейчас нам не до шуток, Наташа! — озлился Зубров. — Немедленно назначай время и место свидания. — Хорошо, — согласилась Наталья Максимовна. — Приезжай ко мне ровно в двенадцать. В час у меня деловое свидание. В половине первого я должна буду уходить. Она лукавила: встреча с Добросклонцевым была назначена на четыре часа. Но Зуброва вполне устраивали и полчаса, да и пятнадцати минут ему хватит, чтобы изложить суть дела и проинструктировать ее, как вести себя в сложившейся обстановке.Уже с первой минуты по осунувшемуся лицу Зуброва она поняла, что произошло нечто чрезвычайно неприятное. Не дожидаясь ее вопросов, он, как только вошли в гостиную, тяжело опустился в кресло. Наталья Максимовна села на диван. — Я прошу тебя — выслушай меня внимательно и отнесись к нашему разговору серьезно, — начал Зубров. Глаза его рассеянно бегали по комнате, не задерживаясь на предметах, дрожащей рукой он машинально схватил лежащую на столике расческу и стал вертеть ее. — Наш общий знакомый Ипполит Исаевич погряз в каких-то уголовных авантюрах. Вообще он оказался не тем, за кого мы его принимали. Неожиданно голос его сорвался, и Зубров умолк. Возникла напряженная пауза. Наталья Максимовна никогда не видела Михаила Михайловича таким взволнованным. Бывали случаи, когда он спорил, волновался, но то волнение было обычным, привычным. Здесь же за всеми его словами был страх, паническое смятение. Он, казалось, силился продолжить внезапно оборвавшуюся речь и не мог: губы его словно судорогой свело. — Ну? Что дальше! — почти крикнула Наталья Максимовна, и этот возглас ее подстегнул Зуброва, вывел из оцепенения. — Ипполит провалился на алмазах, которые покупал у вас — у тебя и Антона. Понимаешь?! Если на следствии Ипполит назовет источник получения алмазов, вы с Антоном должны решительно все отрицать. Отрицать категорично: никаких алмазов Пришельцу вы не давали ни за деньги, ни даром. Никаких. И вообще с ним незнакомы. — Так оно и есть, — Наталья Максимовна была готова поверить в спасительную ложь. — И я у тебя никаких алмазов не покупал! — Она понимающе кивнула. — Наше знакомство шапочное. Никакого юбилея у меня на даче не было. Понимаешь? Люба дура, проболталась о юбилее, назвала, кто там был. Дура, конечно. Теперь придется переиграть, ничего не было. Никаких пришельцев и так далее я не знаю. В этом «и так далее» Наталья Максимовна уловила нечто обидное и оскорбительное: выходит, он открещивается и от нее. — А при чем тут юбилей? — спросила с недоумением. — Зачем лишняя ложь? Там же был не один Пришелец, были и прокурор, и ответственный товарищ Земцев. Они что, тоже будут отрицать твой юбилей? Я ничего не понимаю, — она встала. — Сегодня меня приглашают к следователю. Я всю ночь ломала голову — по какому делу. Теперь кое-что прояснилось. Именно кое-что. — А что тебе еще непонятно, ну что? — Зубров начинал терять терпение, видя, что Наталья Максимовна делает вид, а может, и действительно не сознает всей степени опасности, нависшей над ними. — Непонятно, кто собирался у тебя на даче — честные люди или преступники? Что ж, о них и говорить нельзя? — Ну зачем же так все переворачивать, извращать, — в болезненном исступлении выдавил из себя Зубров. — Все очень просто: юбилеи сейчас не в моде, не поощряются, тем более сорок лет вообще не считается юбилеем. И потом, этот Ипполит, проходимец, уголовник, наше с ним знакомство может быть истолковано… зачем тебе, вам или Земцеву быть в дружбе с каким-то подонком… За всеми его словами Наталья Максимовна увидела вдруг жалкого растерянного человека, потерявшего почву под ногами, и мысленно спрашивала: где твоя былая осанка, мужество и самоуверенность, куда девалась твоя непоколебимая выдержка, Зубров? — Дело очень серьезное, его можно повернуть в ту ив другую сторону. Все зависит от нашего поведения, от поведения Ипполита в первую очередь и не в последнюю от показаний Антона и… — Зубров поднял на Наталью Максимовну печальный умоляющий взгляд, — от твоей беседы с Добросклонцевым. Надеюсь на твой ум, твою смекалку, твой твердый характер. Держись одной линии. Главное поменьше слов. «Да», «нет», «не знаю». Никаких алмазов. Выдумки Пришельца, провокация, чьи-то злобные происки, и так далее. Он поднялся, бледный, осунувшийся, потерянный. — Поимей в виду на всякий случай: может быть и обыск. Особенно бриллианты и желтый металл. Ну и прочие сбережения. Сама понимаешь — ты женщина достаточно умная. — Ты мне льстишь, Зубров. Дура я, набитая наивная дура. Ах, да что теперь об этом, раньше надо было думать. Между прочим, ты не помнишь, кто меня познакомил с Пришельцем? Кто мне представил его как выдающегося, знаменитого?.. — Помню, помню. Не разглядел, виноват, каюсь, — торопливой скороговоркой пробормотал Зубров. — На ошибках учимся. Но главное — не совершить новых ошибок. Об одном прошу — будь благоразумна. Проводив Зуброва, Наталья Максимовна устало прилегла на тахту и погрузилась в тягостные думы. Больше всего ее поразил Зубров, растерянный, напуганный и жалкий, тот самый Зубров, которого она когда-то по-своему любила за твердость характера, самоуверенность и целеустремленность. Она видела в нем настоящего мужчину. И такое превращение. И сразу ей вспомнился Земцев. «Маска, тоже маска». И Пришелец — маска. И Малярчик. Сплошные маски. А где же люди? Есть же люди, настоящие, честные, порядочные, у которых возвышенные души и чистая совесть. И вдруг явился вопрос: а может, и я — маска? Сегодня пойду к следователю, надену на себя маску и буду лгать, нагло, цинично, не краснея. А зачем, во имя чего лгать? Чтоб утаить правду, неприятную, грязную. Во спасение жалкого, перепуганного, ничтожного Зуброва. А нужно ли его спасать? Но не только его, и Антона, и себя… Будет обыск. Что будут искать? Золото, бриллианты, деньги. Ну и пусть ищут, пусть забирают все, весь этот хлам… Она не заметила, как уснула: сказалась бессонная ночь. Разбудил ее телефонный звонок. Она посмотрела на часы — было без четверти три. Пора было ехать к следователю, времени осталось в обрез. Вначале не хотела подходить к телефону, но потом взяла трубку. — Алло, я слушаю… — Вы заболели? У вас такой голос. Что с вами? — с поддельным участием спросил Пришелец, забыв поздороваться. — Я спала, — недовольно ответила Наталья Максимовна и пожалела о своем признании. — Ну, слава богу. А Фомич?.. — Пришелец запнулся — Что Фомич? — переспросила Наталья Максимовна. — Его нет дома? — В командировке он, в Киеве. — Очаровательная Наталья Максимовна, — со слащавой фамильярностью заговорил Пришелец. — Прошу у вас аудиенции. Всего на полчаса. Жизненно необходимо.
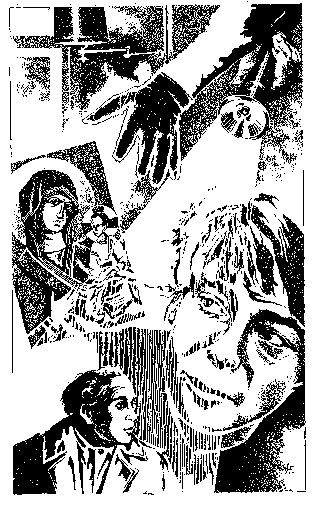
«Ага, и этот будет инструктировать, давать советы. Зашевелились, жареным запахло», — с неприязнью подумала Наталья Максимовна и сказала: — Спасибо, что разбудили, я должна срочно выехать на свидание. Могла опоздать. — Наталья Максимовна, золотце, солнышко — всего тридцать минут. — Не могу, опаздываю. В другой раз. — Нужно сегодня, только сегодня, — умоляюще настаивал Пришелец. — Тогда вечером. Не раньше семи часов. — Согласен. В девятнадцать ноль-ноль с вашего позволения я буду у вас. — Хорошо. Приезжайте к семи.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
У Добросклонцева было двойственное состояние, с одной стороны, дело о кулоне распутывалось стремительно, открывая все новые, помогающие следствию детали. Бриллиантовый кулон у Пришельца — это важный в деле факт. Но еще более существенный факт — участие Пришельца в подмене колец в ювелирном магазине. Выходит, Ипполит Исаевич большой любитель «камешков». Сейчас Добросклонцева занимал вопрос: где тот источник, из которого Пришелец черпал фианиты? Вопрос пока оставался без ответа. Многое могли прояснить те, кто был на юбилее Зуброва. Но из всей компании, присутствовавшей на дне рождения, Добросклонцев нашел возможным поговорить лишь с Ященко. Поскольку Антон Фомич оказался в командировке, решили пригласить его жену. Юрий Иванович попросил Тоню присутствовать при беседе с Ященко и при необходимости принять участие в разговоре. Наталья Максимовна явилась точно в назначенное время. Пока не пришла Миронова, Юрий Иванович предложил Наталье Максимовне сесть и обыденно спросил: — Душно на улице? К дождю парит. — Хорошо бы. Только не похоже, ни одной тучки, — вяло поддержала его Наталья Максимовна. — Наталья Максимовна, мы пригласили вас в качестве свидетельницы в связи с уголовным делом, по которому проходит один ваш знакомый, — перешел Добросклонцев на официальный тон. — Я позволю себе задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста, — вполголоса проговорила Наталья Максимовна. — Вы давно знакомы с Ипполитом Исаевичем Пришельцем? — Как вам сказать — не очень. — Каков характер ваших отношений? Деловые, служебные, дружеские? Она не успела ответить: в кабинет вошла Тоня, и Добросклонцев представил их друг другу. Женщины обменялись легкими кивками. — Какие там отношения, когда и знакомство-то наше можно назвать шапошным, — ответила Наталья Максимовна на поставленный вопрос и прикрыла подолом обнажившееся колено. — Когда и как состоялось ваше знакомство? — с ходу включилась в разговор Тоня. Ященко недовольным взглядом задела Миронову, пожала плечами и ответила, глядя на Добросклонцева: — Право, не помню. А разве это имеет значение? — Да, для следствия все имеет значение, — сказала Тоня. — Дело в том, что ваш знакомый гражданин Пришелец — уголовный преступник. Он подозревается в тягчайших преступлениях, — пояснил Добросклонцев. — Только подозревается? — Да. Но подозрения опираются на неопровержимые улики, — пояснила Миронова. — Вот не думала. — Наталья Максимовна изумленно повела бровью. — Не думали? Значит, хорошо знаете Пришельца? — спросил Добросклонцев. Этот прямой вопрос несколько смутил Ященко. — Я слишком мало знаю его, но тягчайшее преступление и человек с виду интеллигентный, образованный как-то не вяжутся… Если не секрет, какое преступление он совершил? — Не секрет, — поспешил опередить Тоню Добросклонцев. У него был свой план беседы. — За ним числится не одно, а несколько тяжких преступлений. Повторяю, тяжких. Наталья Максимовна действительно была ошеломлена. Она растерянно посмотрела на Тоню, потом перевела взгляд на Добросклонцева, спросила осевшим голосом: — Это правда? Это достоверно?.. — Да, — подтвердил Добросклонцев. — Никак не укладывается… — вполголоса обронила Ященко. — Совершенно верно, — согласился Юрий Иванович. — Однако вы не ответили на вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Пришельцем? Наталья Максимовна совсем забыла об «инструкциях» Зуброва и ответила машинально: — Кажется, в ресторане. Мы были с мужем и одним нашим приятелем. Там случайно оказался Ипполит Исаевич, и нас познакомили. — Познакомил ваш приятель? — уточнил Добросклонцев. — Кто он? Фамилия? — добавила Тоня. — Один человек, — Наталья Максимовна запнулась, вспомнив последний разговор с Зубровым. — Зубров Михаил Михайлович? — спросила Тоня. — Да, — кивнула изумленная Наталья Максимовна. — Он тоже в чем-то подозревается? — сорвалось у нее помимо воли. — В каких отношениях Пришелец с Зубровым? — уклонился от ответа Добросклонцев. — Не знаю. — А вы с Зубровым? Друзья? — Наталья Максимовна растерялась. Она решила, что с этого вопроса и начинается главный разговор, ради которого ее сюда пригласили. «Не надо быть лапшой вроде Любови Викторовны. Возьми себя в руки», — мысленно приказала она себе и произнесла с вызовом: — Это допрос? — Да, — мягко сказал Добросклонцев. — Мы вправе рассчитывать на вашу искренность и откровенность. Это прежде всего в ваших интересах. Я надеюсь, что встречаемся мы с вами не в последний раз, и было бы очень огорчительно, если бы потом, в будущем, вам пришлось менять свои показания. Лучше сразу говорить правду. Лично я не люблю притворства, а тем более не терплю лжи. Только сегодня утром в следственном изоляторе один обвиняемый, кстати, по делу Пришельца, давал Антонине Николаевне совершенно новые показания, отрекшись от прежних, лживых. Его первые показания были опровергнуты, и ему ничего не оставалось как с опозданием говорить правду. В его интересах было сразу, на первом допросе, набраться мужества и проявить откровенность. По опыту мы знаем: когда человек врет, он обязательно путается, попадает впросак, потом стыдится и начинает говорить правду. Суд все это учитывает. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но мы отвлеклись, извините. — Вы знакомы с женой Зуброва? — без паузы спросила Тоня. — Да, правда, видела ее всего один раз. Симпатичная милая женщина. — Когда, где это знакомство произошло? — На даче у Зуброва. Недавно. У Михаила Михайловича был день рождения, и мы с мужем были приглашены. — В числе немногих близких друзей? — Кто еще там был? — Внешторговыйдеятель Земцев, какой-то прокурор с женой, Ипполит Исаевич и брат Зуброва, колхозник из Белоруссии. — Имя прокурора не помните? — опять Добросклонцев. — Петр Михайлович Малярчук. — Малярчик, — поправила Тоня. — Возможно, — согласилась Наталья Максимовна. — Я видела единственный раз. — А когда в последний раз вы видели Пришельца? — Сегодня… — Наталья Максимовна осеклась. — Он звонил мне по телефону. — О чем говорил? — Просил о встрече. — Где, когда? — Сегодня, в семь вечера у меня дома. Добросклонцев и Тоня обменялись взглядами, в которых Наталья Максимовна не могла не заметить торжества. И все поняла: Пришелец будет арестован в ее квартире. И удивилась своему спокойствию, даже равнодушию. Пусть, так ему и надо. Теперь она догадывалась, что впереди ее ждут неприятности («…встречаемся мы с вами не в последний раз», — сказал Добросклонцев. «…Может быть и обыск. Особенно бриллианты и желтый металл», — предупреждал Зубров.) Источник неприятностей — Пришелец. А возможно, и Зубров: он познакомил со своим приятелем Ипполитом Исаевичем. Друзья… Скажи мне, кто твой друг… Мысли проносились вихрем. Нет, она не станет никого щадить, ни Пришельца, ни Зуброва. Она будет думать только о себе.2
Добросклонцев вместе с Мироновой приехали в следственный изолятор утром на другой день после ареста Пришельца на квартире Ященко. Перед встречей с Ипполитом Исаевичем они обсуждали тактику допроса: преступник опытный, будет всячески изворачиваться. Ипполит Исаевич вошел в комнату следователей в сопровождении конвоира и, едва переступив порог, сказал с наигранной веселостью: — Ба, знакомые все лица! — Доброе утро, Ипполит Исаевич, — улыбнулся Добросклонцев и кивком предложил садиться. — Как спалось в чужой квартире? — Благодарю за внимание, как сказал посол дружественной страны, закончив свое выступление перед телезрителями. — Пришелец нехотя опустился на табурет, привинченный к полу. — Будем считать, что и вы закончили свою деятельность, несовместимую с законом, — негромко проговорила Миронова. Ее реплика вызвала кислую гримасу на сером осунувшемся лице Ипполита Исаевича. Но он возразил с наигранной развязностью: — Я вижу, сама мадам живет не в ладу с законами, а потому и других подозревает в беззаконии… — Кто живет не в ладу с законами, это мы сейчас выясним, продолжив наш с вами разговор, начатый весной на вашей квартире, из которой вы почему-то сбежали, — перебил его Добросклонцев. — Почему именно — нас тоже интересует. Итак, в прошлый раз, если вы помните, я просил вас помочь нам найти бриллиантовый кулон, принадлежащий гражданину Норкину Илье Марковичу, а заодно и его похитителей. Вы не пожелали откликнуться на нашу просьбу и, таким образом, вынудили нас самих заняться розыском, который, как вы догадываетесь, закончился успешно. — Вот как! — в притворном изумлении воскликнул Пришелец. — Поздравляю вас, а еще больше Илью Марковича. — Норкина поздравлять рано, — заметила Тоня. — Это почему же? — насторожился Пришелец. — Наивный вопрос, Ипполит Исаевич: кулон находится у вас, — сказал Добросклонцев. — Вам передал его Анатолий Павлов, в чем признался, сидя на том же табурете, на котором сидите вы. Пришелец помрачнел, закусив губу, чтобы не выдать своего состояния: сообщение Добросклонцева для него было неожиданным. Он не думал, что Павлов «расколется», по крайней мере так быстро. — На этом табурете. Значит, Павлов арестован? Ловко, хотя и грубо. Арестованный Павлов наговорит все, что от него потребует следователь, да еще и сам прибавит. Фантазии ему не занимать. — Вы отрицаете, что Анатолий Павлов по вашей просьбе похитил у своей жены Беллы Ильиничны Норкиной бриллиантовый кулон и передал его вам? — Отрицаю решительно и протестую! Я возмущен гнусной запрограммированной ложью. Чушь какая-то. Похоже, что Ипполит Исаевич начинал терять самообладание. — Запрограммированная ложь. Это что-то новое, — вслух размышлял Добросклонцев. Он предполагал, что Пришелец будет отрицать решительно все. — Что ж, очная ставка покажет, где чушь, а где незапрограммированная правда. — Ничего не покажет и ничего вам не даст, — затряс головой Пришелец. — Ради чего я стану подтверждать дикий бред какого-то паршивого ублюдка? — Выбирайте слова, — не сдержалась Тоня. — Зачем так оскорблять человека, услугами которого вы пользовались в своей преступной деятельности?.. Нехорошо, неблагородно, Ипполит Исаевич. В глазах Пришельца появился злой блеск. — Я отказываюсь отвечать на вопросы в присутствии этой… агрессивной дамы, — отрубил он. — Почему? — спросил Добросклонцев. — Если вам угодно, можете считать меня женоненавистником. — Пришелец скривился иронически. — Давайте все-таки вернемся к бриллиантовому кулону, — продолжил допрос Добросклонцев. — При обыске на вашей квартире его не оказалось. Не могли бы вы сообщить следствию, где сейчас находится вещь, принадлежащая семье Норкиных? — Я уже сказал и могу только повторить: я отказываюсь отвечать на вопросы в присутствии этой дамы. — Вы хотите сказать, следователя Мироновой? — уточнил Добросклонцев и обменялся взглядом с Тоней. Глаза Юрия Ивановича говорили: придется уступить. Спросил: — Как, Антонина Николаевна, удовлетворим просьбу Ипполита Исаевича? — У меня тоже нет особого желания беседовать с гражданином Пришельцем, — ответила Тоня. Добросклонцев кивнул, и она вышла. — Итак, где кулон, как, впрочем, и другие вещи из вашей квартиры? — продолжил Добросклонцев довольно миролюбивым тоном. — Я уже сказал: о кулоне мне ничего неизвестно. Часть своих личных вещей, в том числе и предметы мебели, я продал, на что имею полное право. — Да, это ваше право. Но какая же нужда заставила вас распродавать вещи? — Я решил эмигрировать. Разумеется, легальным путем. Меня пригласил родной брат Михаил. Он живет в Австралии. Прислал вызов, и я направил необходимые бумаги в ОВИР. «Странно, — подумал Добросклонцев. — Несколько дней тому назад Ушанов заезжал в ОВИР, и ему сообщили, что Пришелец к ним не обращался». Уточнил: — Когда? — Недавно. — А именно? Неделю тому назад или месяц? «Справлялись», — догадался Ипполит Исаевич. — Позавчера. — А кулон решили увезти с собой в Австралию? — Юрий Иванович, мы с вами не дети, — с досадой проговорил Пришелец. — Я предпочитаю серьезный разговор. — Я тоже: серьезный, искренний, чистосердечный. Всякое запирательство, как вы понимаете, бессмысленно. Что же касается кулона, то с ним в общем все ясно. А сейчас мне бы хотелось знать, где находятся бриллиантовые кольца, подмененные вами на фианитовые в ювелирном магазине? Я понимаю: мой вопрос не из приятных, но что поделаешь — служба. Пришелец побледнел — терпение и выдержка изменили ему. — Понятно… — Ипполит Исаевич, чтобы не выдать своего волнения, уставился в пол. — Хотите навесить мне уголовщину. Что ж, прием избитый. — Что верно, то верно: прием довольно затасканный, когда уголовник напяливает на себя маску политического. Но, насколько мне известно, политика вас никогда не интересовала. Ваше амплуа — бизнес. Не так ли, Ипполит Исаевич? — Во-первых, бизнес, то есть частное предпринимательство, не есть преступление. Во-вторых, в каждом человеке живет частник, предприниматель. Только способности к предпринимательству у всех разные. Есть талантливые, есть посредственные, а есть просто бездарные. Вот они-то, последние, и прикрывают свою бездарность разной идеологической мишурой. Неудачники всегда были завистливыми. Зависть делала их злыми и жестокими. Они мстят и преследуют преуспевающих, попросту — талантливых. Они строят из себя святош-моралистов. — Ипполит Исаевич, давайте вернемся к началу, — прервал демагогические излияния Добросклонцев. — Вы сказали, что вам хотят пришить уголовщину, то есть сделать без вины виноватым. А зачем, кому это нужно? — Вам не нравится мой образ мыслей. — Не столько образ мыслей, сколько образ жизни, поступки, порожденные образом мыслей. — Юрий Иванович, вы судите о поступках со своих позиций и потому осуждаете инакомыслящих. Мы с вами инакомыслящие. Мне претит ваш образ мышления, но я же вас не осуждаю и не преследую. Фраза эта вызвала у Добросклонцева ироническую ухмылку. — О ваших поступках, Ипполит Исаевич, мы судим с позиций законов нашего общества, законов, которые обязан соблюдать каждый член общества, — сказал он. — Законы. Их создают тоже люди. И почему я должен верить, что сами законодатели непогрешимы? Недаром говорят: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Любой закон ограничивает свободу, ту самую, к которой человек стремился с того самого дня, когда осознал себя высшим существом. Человек жаждет свободы в своих мыслях и поступках. Для человека в этом мире высшая ценность он сам. Да, да, не спорьте, Юрий Иванович, вы тоже так думаете. И все так думают, все хотят жить в свое удовольствие, все хотят наслаждений и, в этом видят счастье. Только одни этого не скрывают, не, стыдятся, и за это их преследуют. Человек по своей природе эгоист. Мне нет дела до других. Пусть каждый сам думает о себе… Выпалив всю эту тираду залпом, на одном дыхании, Пришелец утомленно приумолк. Воспользовавшись паузой, Добросклонцев сказал: — Итак, если я правильно вас понял, вы считаете, что счастье в удовольствии и наслаждении, и в этом мы с вами расходимся. — Правильно, — торопливо подхватил Пришелец. — А позвольте полюбопытствовать, в чем вы видите свое счастье, в чем смысл вашей жизни? — Делать добро людям, обществу. Отечеству. Очищать жизнь от всякой нечисти, от тех, кто творит зло. — О-о, как возвышенно! — иронически воскликнул Пришелец, закатив глаза. — Посадили за решетку невинного и радуетесь, счастливы, довольны. — Доволен. Одним преступником будет меньше. — Преступление, зло. — Пришелец вздохнул и снова заговорил, глядя в пространство: — Великий сын Америки Уолт Уитмен писал: «Не вам одним известно, что значит зло, я тоже завязывал старый узел противоречий, я болтал и смущался, крал и завидовал, я был похотлив, коварен и вспыльчив, — мне стыдно сказать, какие таил я желания, я был капризен, тщеславен, жаден, я был пустозвон, лицемер, зложелатель и трус, и волк, и свинья, и змея — от них и во мне было многое, обманчивый взгляд, скабрезная речь, прелюбодейные мысли — всем этим грешил и я сам, упрямство, ненависть, лень, надменность и даже подлость — во всем этом был я повинен». Он продекламировал Уитмена с заученным вдохновением, и Добросклонцев решил, что это был его любимый монолог, которым он щеголял в дружеских компаниях. Возможно, даже на даче Зуброва в день рождения. С торжеством победителя в голосе Пришелец заключил: — Исповедь классика, откровенная, искренняя, и никто его за это не судит. Если хотите — это философия свободной личности» и я ее разделяю, для меня она — своего рода молитва, потому что, как сказал товарищ Карл Маркс, ничто человеческое мне не чуждо. — К несчастью, вам не чуждо и нечеловеческое, животные инстинкты, — сказал Добросклонцев. Он не читал Уитмена и потому не мог спорить со своим бойким на язык оппонентом и, оставляя в стороне американского классика, продолжил: — И свои преступления вы пытаетесь прикрыть произвольно выхваченными цитатами. Хочу понять вашу «философию», Ипполит Исаевич, уже не как следователь, а просто по-человечески. Фактически вы проповедуете высшим идеалом для человека жизнь брюха и совершенно отрицаете жизнь духа со всеми ее нравственными, этическими и эстетическими проявлениями. — Боюсь, что вы не поймете. Дело в том, что мы говорим с вами на разных языках. Я повторяюсь: мы — инакомыслящие. У каждого человека свое представление о счастье, и это хорошо, в этом состоит многообразие жизни. Один любит парное молоко, другой живых устриц, и обязательно с писком. Что в этом преступного? Одни мечтают о Золотых Звездах Героя и лауреатских медалях. А мне лично они даром не нужны. Я предпочитаю золото в чистом виде. — Неважно — жидкое или твердое, — заметил Добросклонцев, на что Ипполит Исаевич лишь недовольно поморщился; он оживился и теперь уже не мог остановиться: — Одни мечтают о посмертной славе, а мне она до лампочки, я не верю в загробную жизнь, и мне не нужны памятники ни из бронзы, ни даже из чистого золота. Я хочу удовольствия при жизни, теперь, сегодня. В этом мире единственная для меня ценность — это я. Эгоизм? Назовите, как хотите. И между прочим, я не исключение, так думают многие сильные мира сего, увенчанные лаврами, звездами и почестями: президенты, министры, банкиры, академики, художники. Им и мне также наплевать, что думают о них современники и что скажут потомки. Скажите, вас очень обрадует, если вдруг вам сообщат, что где-то во Вселенной на обитаемой планете воздвигнут ваш монумент из чистого золота пятиметровой высоты? — Добросклонцев ответил вялой улыбкой, и Пришелец продолжал с прежним запалом: — А мне наплевать на монументы. Мне нужен чистоган, потому что в деньгах, только в них, реальная власть, и сила, и радость, и ключ к наслаждениям. — Ну а власть вам зачем? — Это моя слабость, — развел руками Пришелец, — люблю, чтоб вокруг меня были лакеи. Приятно повелевать, чувствовать свое превосходство над этими тварями, двуногими козявками, люблю смотреть, как они пресмыкаются, унижаются, как они за четвертной продаются и покупаются… Отвратительные твари, а вот их вы почему-то не судите. — Ну что ж, поговорили… А теперь оставим теоретический диспут и вернемся к делу, к вашему делу, — остановил поток красноречия Добросклонцев. — Ведь вы поклонник не только желтого металла, но и алмазов, или «камешков», по вашей терминологии. Так вот, вернемся к «камешкам». Своей дочери Альбине вы подарили золотое колечко с фианитом. Где вы его взяли? Пришелец ответил не сразу, помрачнел. — Что касается фианитового кольца… Я действительно подарил его Але. — Где вы его взяли? — Купил по случаю. — У кого? — У одного знакомого. Он перед отъездом в эмиграцию распродавал свое имущество. — Я не спрашиваю фамилию этого мифического эмигранта, вы можете назвать мне десятки фамилий, вы однажды уже пользовались этим нехитрым приемом — я имею в виду аферу со спекуляцией иконами. Тогда именно этот прием помог вам выйти сухим из воды. Сейчас ситуация иная, вы умный человек и, надо полагать, понимаете, что на этот раз ссылка на эмигранта вам не поможет. Но меня интересует вот какой вопрос: зачем вы покупали дамское колечко, для кого? Не для Альбины, о существовании которой вы даже не подозревали и о возможной встрече с ней и думать не могли. — Извините меня, Юрий Иванович, но вопрос ваш риторичен и несколько наивен. Я уже говорил: я люблю наслаждения, люблю женщин, а женщины любят внимание, материальное, разумеется. За любовь надо платить. — Но вы же объявили себя женоненавистником. — Это было сказано по конкретному случаю и относилось персонально к конкретной особе — Мироновой, с которой у нас давние антипатии. — Логично, Ипполит Исаевич, логично. Только ведь фианитовый алмаз подаренного вами колечка гранил Алексей Соколов. Свою работу он хорошо знает. Кстати, вы давали ему для огранки не один «камешек». Где вы их брали? У Пришельца потемнело в глазах. Он ко всему себя готовил, к разным, даже самым неожиданным и каверзным вопросам, и на все у него был продуман и предусмотрен ответ. На деле же все пошло не так, как предполагалось. И ему оставалось теперь уже твердо держаться сомнительных версий, в успех которых он все меньше верил. Но выбора не было, и он через силу ответил: — Никаких алмазов никакому Соколову я не передавал. И знать не знаю никакого Соколова. — Ну как же, Ипполит Исаевич, банщик Алексей Соколов, который усердно обрабатывал ваше бренное тело березовым веником, услужливо сервировал стол в предбаннике. Вспомните кандидата технических наук. Это он научил вас превращать жидкое золото в твердое. — Я знаю банщика Алешу. Фамилия его меня не интересовала. И повторяю: никаких ни золотых, ни алмазных дел ни с ним, ни с кем-либо другим я не имел. Все, что вы пытаетесь мне приписать, сфабриковано вами, чтоб расправиться со мной потому, что решил уехать в Австралию. Сейчас я отказываюсь отвечать на ваши вопросы и предупреждаю, что подам официальный письменный протест прокурору. Я знаю свои права, гарантированные законом. Имейте в виду, Юрий Иванович, расправа надо мной получит широкую огласку и вызовет протест международной общественности. Для вас лично это может иметь далеко идущие последствия, для вашей служебной карьеры, — пригрозил Пришелец. Монолог Пришельца вызвал на лице Добросклонцева легкую улыбку. Погасив ее, Юрий Иванович сказал с прежним уравновешенным спокойствием: — О своей служебной карьере я как-то никогда не задумывался и едва ли задумаюсь после вашего напоминания. Не думаю, что у международной общественности нет других забот, как только заниматься судьбой профессиональных уголовников. Международная общественность — имеется в виду настоящая, а не клика отщепенцев из разных радиоголосов и подголосков — сейчас обеспокоена судьбой мира, предотвращением ядерной катастрофы. Впрочем, вас это не волнует. Ну а что касается законов, то на ваши права никто не покушается, тем более что вы являетесь гражданином СССР даже вопреки вашему желанию. Так что нам с вами остается лишь оформить сейчас протоколом то, о чем мы говорили, записать то, что вы признаете и что решительно отвергаете, и на этом на сегодня прервать нашу встречу. Улыбка Добросклонцева обезоруживала Пришельца. В ответ он не проронил ни слова и молча наблюдал, как следователь, склонясь над столом, пишет протокол. Наблюдал и думал, думал о своей судьбе, нанесшей ему сокрушительный удар. Его разгоряченный мозг лихорадочно отсеивал ненужное, мелочи и оставлял только главное, что составит основу обвинения и что трудно будет опровергнуть, да, пожалуй, и невозможно. Он вспоминал статьи и минимальные сроки, предусмотренные этими статьями. Все равно получалось слишком много, на грани между пятнадцатью годами строгого режима и высшей мерой. «Нет-нет, только не вышка», — мысленно повторял он, ощущая холодную дрожь во всем теле. Положение казалось безвыходным, и все же он утешал себя тем, что с помощью друзей ему удастся свести срок годам к семи, самое большее к десяти, а там он уже — опять же через друзей — добьется досрочного освобождения. А сейчас прежде всего нельзя все пускать на самотек. Он считал, был в этом убежден, что все можно уладить в процессе следствия. Так и рассчитывал, даже надеялся. Его люди пытались подобрать ключ к Добросклонцеву и Мироновой. Получилась осечка. Возможно, действовали грубо: Полушубок — баба отчаянная, наглая, но без фантазии. К таким людям, как Добросклонцев, нужен тонкий подход, если вообще он возможен. Ипполит Исаевич мерил всех людей своим аршином и считал, что неподкупных, честных и принципиальных в природе не бывает. Все дело в подходе. Тем не менее для Добросклонцева он готов был сделать исключение. Таких людей он просто остерегался, ибо не мог их понять, не укладывались они в его мерки. Внешне прост, корректен, обходителен, проницателен и умен. Уравновешен, сдержан, удивительно хладнокровен, при этом не лишен чувства юмора. Знает себе цену, твердо стоит на ногах. Такого не столкнешь. Этот орешек не по зубам не только Полушубку и Шубу, а пожалуй, и самому Ипполиту Исаевичу. А мысль торопится. Конечно, Земцев мог бы помочь, да и Малярчик тоже. Но надо же — как на беду — оба оказались в эти критические для Пришельца дни за пределами страны. Говорят же: закон подлости. Вот он — в чистом виде. Надо их дождаться, затянуть следствие под разными предлогами, выиграть время. На Зуброва мало надежд. Болтун и трус. Сказал, что Павлова нейтрализует, уверял. А Павлов раскололся, гаденыш. Собственными руками удушил бы ублюдка. Кто еще, на кого можно опереться?.. Есть знакомые деятели, но они хороши, когда ты на коне. Упавших из седла поднимать не станут, пройдут мимо, сделают вид, что не знакомы. «Пришелец? Это кто такой? Впервые слышу». Сволочи. Накануне своего ареста Пришелец встречался с бывшей любовницей Павлова — Маркиной. Сам навязался — позвонил домой по телефону, назвался покровителем Анатолия, сказал, что Толя попал в беду. Встревоженная Маркина, в сердце которой все еще теплились нежные воспоминания, пригласила Пришельца приехать к ней и рассказать, что случилось. Ипполит Исаевич наскоро придумал не очень убедительную легенду, говорил, что Павлов страдает из-за него, Пришельца, пожелавшего уехать к брату в Австралию. Павлов, мол, арестован только затем, чтобы сфабриковать материалы, компрометирующие покровителя. Он прощупывал знакомства Маркиной в городском суде и прокуратуре, рассчитывал на ее помощь. Встречался Ипполит Исаевич и с сыном Малярчика. Отпрыск заверил Ипполита Исаевича, что папа и особенно мама сделают все от них зависящее, чтоб прекратить дело и наказать тех, кто его затеял. «Для нас это не вопрос. Тут нет проблем», — прихвастнул молодой Малярчик, но Пришелец не очень доверял хвастливым заверениям самоуверенного юнца и понимал, что проблема есть, и довольно сложная. Он снова мысленно повторил навязавшуюся цифру — десять лет — и поспешно разделил ее пополам. Пять лет его тоже не совсем устраивали, но это не пятнадцать! И снова, словно росчерк молнии, пронзила мысль: а если вышка? Он чувствовал, как лютая ненависть переполняет его, подступает к горлу и давит, душит мертвой хваткой. «Посчитаемся, — думал он, глядя на склонившегося над столом Добросклонцева. — Даром тебе это не пройдет. Поплатишься. Не хотел по-хорошему… Всех не арестуешь. Есть кому получить с тебя должок. Ох и наплачешься. Тебя предупреждали. Пришелец слов на ветер не бросает. Ты не знаком с Библией, Добросклонцев, с Ветхим заветом, но ты еще узнаешь библейскую месть». Мысль о мести воодушевила Пришельца. Он уже представил себе конкретно, какая страшная кара будет ниспослана на семью Добросклонцевых и какие жуткие муки всем членам семьи придется испытать. И на душе у него полегчало. Он даже заулыбался своим сатанинским мыслям. Как вдруг голос Добросклонцева вернул его к действительности: — Пожалуйста, Ипполит Исаевич, прочтите и распишитесь.3
Выиграть время, дождаться возвращения из-за рубежа Земцева и Малярчика — эта мысль стала для Пришельца главной, определяющей все его действия и поступки. Сначала он все отрицал. И на очных ставках с наглостью закоренелого циника, выказывая искреннее возмущение, кричал в лицо Павлову и Соколову: «Врешь, не было этого, тебя подкупили. Совесть твою купили, продажная тварь!» Потом он разыграл психа, Была экспертиза, и опять очные ставки. На это ушла без малого неделя. Генерал Константинов постоянно находился в курсе следствия, просил Добросклонцева информировать его о всех нюансах дела. Он не забывал, что судьбой Пришельца еще до ареста интересовались ответственные товарищи — Борис Николаевич и Сергей Иванович. Это обстоятельство настораживало, заставляло постоянно быть начеку, требовало осмотрительности. Правда, решительная поддержка секретаря МК придавала уверенности. А все же… Миронова нервничала, возмущалась. Добросклонцев внешне казался спокойным и невозмутимым, тем не менее чувство тревоги и неуверенности одолевало и его. За эти дни удалось установить источник появления фианитов: во второй раз была допрошена Наталья Максимовна, которая не считала нужным что-либо скрывать и никого не выгораживала. Словом, дело, главным действующим лицом которого был Пришелец, находилось в завершающей стадии. На служебном совещании генерал Константинов похвалил Добросклонцева и Миронову за быстроту и оперативность, проявленные в проведении довольно сложной операции. После совещания Юрий Иванович в своем кабинете набрасывал план последних мероприятий по делу Пришельца. Телефонный звонок оторвал его от дела. Добросклонцев услыхал приподнятый голос Константинова. — Юрий Иванович, хорошо, что ты не ушел. Загляни ко мне. — Иду, Василий Кириллович… Константинов был в хорошем настроении. — Так вот, Юрий Иванович, есть довольно любопытные новости. После нашего совещания мне было несколько звонков: из Комитета государственной безопасности, из прокуратуры. Ну прежде всего в Калининграде работники КГБ арестовали приятеля Пришельца Арвида при попытке нелегально уйти за границу на торговом судне. Это раз. Земцев, находясь в загранкомандировке, объявил себя «невозвращенцем», короче говоря, сбежал. Видно, много нашкодил. Это два. Ну а три — вот телеграмма от американского сенатора. Он требует немедленного освобождения правозащитника профессора Пришельца. И еще: «Свобода» и «Голос Америки» уже передали нечто подобное. Матерый уголовник объявлен невинным страдальцем якобы за свое свободомыслие. Это для нас не ново, уже было и, надо полагать, еще будет. Как мне сообщили из министерства, вопрос о Зуброве решается в служебном и партийном порядке. Думаю, что его песенка спета. Итак, поскольку в деле Пришельца появились новые и очень существенные нюансы, делом этим теперь будет заниматься прокуратура. Вы свою задачу успешно выполнили, молодцы… Завтра сам лично отвезешь дело в прокуратуру. Добросклонцев с вниманием выслушал генерала, но когда тот закончил, особого энтузиазма не проявил, насупившись, глядел в окно. — Тебе что-нибудь не ясно? — спросил Константинов. — Ясно-то ясно, Василий Кириллович, — Добросклонцев глубоко вздохнул. — Но ведь в прокуратуре Малярчик… — Был, — поправил его Константинов. — Оформляется на пенсию. — Вот теперь все ясно. Константинов поднялся, встал и Добросклонцев.Зайдя к себе в кабинет, Добросклонцев набрал номер квартирного телефона Мироновой. Телефон молчал. Он посмотрел на часы — да, она еще не доехала до дому. И опять начал медленно перелистывать подшитые в дело документы, хорошо знакомые ему. Он тянул время, ждал, когда Тоня доберется до дома. Снова звонил. Наконец в трубке возник ее тихий усталый голос. — Тонечка, есть приятная новость: дело нами закончено, передается в прокуратуру. — Все понятно, — как-то равнодушно ответила Тоня и вздохнула: — Живем, как на войне. Настоящая битва, и не знаешь, что будет завтра. — Все будет хорошо, Антоша. В битвах бывают и неудачи и поражения. Помнишь, как говорили в прошлую войну: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Загорск — Пицунда 1979 — 1983 гг.
Иван Михайлович Шевцов Остров дьявола
Книга опубликована в авторской редакции Автор сердечно благодарит спонсора-предпринимателя Ольгу Крылову, материальная помощь которой позволила этой книге увидеть свет.Иван Шевцов

Глава первая
1
Шеф появился на острове после полудня, ближе к вечеру, на своем ярко желтом вертолете, которым он управлял сам, и сразу же пригласил к себе в кабинет Отто Дикса, Адама Куна и Дэвида Кларсфельда. Он был, как всегда, самоуверен, категоричен и нетерпелив. В то же время Дикс находил в нем сегодня что-то новое, и это новое касалось именно его, Дикса - руководителя бактериологического центра, разместившегося на безымянном крохотном островке в Карибском море. Шеф явно нервничал и недвусмысленно давал понять, что он, а вернее его хозяева в Вашингтоне, недовольны медлительностью работы бактериологического центра, зашифрованного, как "Группа-13". Шеф - он же мистер Генри Левитжер - сделал реверанс по поводу успешного испытания вируса "С-9", но реверанс этот явно относился к руководителю лаборатории Адаму Куну, которому Левитжер высказывал особое расположение и в какой-то мере к его помощнику - молодому, но уже преуспевающему научному сотруднику Дэвиду Кларсфельду. Только не к Диксу. - Доктор Дикс, ваш оптимизм граничит с пагубной беспечностью, - чеканя слова, вещал Левитжер металлическим голосом. Он был моложе Дикса на пятнадцать лет и выглядел перед ним совсем юношей. Его молодило мелкое, остроносое лицо и острый подбородок, выбритый до синевы, невысокий рост и щуплая, юркая фигура. Молодили его и черные с отливом волосы, зачесанные на глубокий пробор, и такие же черные, по лисьи беспокойные, колючие глаза. Про себя Дикс называл Левитжера черным дроздом, и в меткости этого сравнения ему нельзя было отказать. - Вы по-старинке видите русских где-то там, на востоке, - продолжил шеф, явно любуясь своей речью, которую он тщательно продумал еще в вертолете. - А они уже здесь, в двух шагах от Америк. Да, да, я имею в виду оба материка, все наше полушарие, над которым сегодня нависла реальная коммунистическая угроза. Недооценка кубинской опасности равносильна предательству интересов нации. Попытка русских разместить свои ракеты на Кубе должна нас всех насторожить, это тревожный сигнал, доктор Дикс. - А почему бы в таком случае Соединенным Штатам не бросить на Кубу полдюжины атомных бомб и одним махом отвести от полушария смертельную опасность, - как бы размышляя вслух, сказал руководитель "Группы-13", вычерчивая на листке бумаги какие-то фигурки, похожие на чертей. Это была его привычка. На шефа он так и не поднял взгляда, не удостоил. Отношения неприязни между Левитжером и Диксом возникли с тех пор, как шеф стал демонстративно подчеркивать свою симпатию Адаму Куну. - Доктор Дикс, - шеф сделал нарочитую паузу, вынудив Дикса оторвать взгляд от бумаги. - Вы забываете о радиоактивных осадках, которые в таком случае неизбежно выпадут на континенте. - Но ведь и вирус "А-777", мистер Левитжер, над которым мы работаем, может легко перемахнуть Мексиканский залив. От Кубы до Флориды рукой подать, - парировал Дикс, и легкая довольная улыбка лишь на одно мгновение осветила его суровое смуглое лицо. А большие серые глаза по-прежнему оставались холодно-непроницаемы. У Дикса глухой низкий голос, отчего слова его звучат весомо и убедительно, а его манера говорить, не глядя на собеседника, придает ему независимый вид. Реплика Дикса не понравилась Левитжеру, он сморщил лицо, хищно сощурил глаза и уклончиво заговорил, откинувшись всем корпусом на высокую спинку кресла: - Современная тотальная война будет вестись различными видами оружия, в том числе и тихим оружием, над которым работает "Группа-13". Политическая ситуация и стратегическая целесообразность будут диктовать применение того или иного оружия. А возможно одновременно "тихого" и "громкого". Применение на объекте препарата "С-9" позволит извлечь ценные уроки при работе над "А-7" и "А-777". "Какой вздор, это совершенно разные вещи, - мысленно произнес Дикс. - "С-9" поражает свиней и вообще домашний скот. Назначение вируса "А-7" и "А-777" - человек". А шеф продолжал: - Я хотел бы получить от вас четкий и ясный ответ: когда можно ожидать завершение работы над "А-7" и "А-777"? В чем задержка и медлительность, что вам мешает? Доктор Кун еще год тому назад информировал меня, что работа идет успешно и приближается к финишу. Не так ли, доктор Кун? - Я имел в виду "А-7", - с торопливой готовностью отвечал Кун. Над этим вирусом работал он. - В принципе у нас все о'кей. - Самодовольная улыбка широко расползлась по лошадиному лицу Адама Куна. - Так в чем же дело? Есть проблемы? - Острые глазки шефа теперь буравили не Дикса, а Куна. - Проблема заключается в испытании. Нужен подопытный объект, вернее - субъект, - ответил Кун. - Только и всего? - Левитжер вскинул решительный взгляд на Дикса, но тот по-прежнему продолжал рисовать забавных чертиков с рожками и хвостами. У него это неплохо получалось. Он знал, что подопытный субъект не проблема и шеф доставит на остров жертву, если не из США, то из какого-нибудь Парагвая или Гаити, где человеческая жизнь не стоит даже фальшивого доллара. "А-7" - изобретение Куна, его дьявольское научное открытие - страшный плод многолетнего труда. У Дикса нечто другое - его "А-777" ничего общего не имеет с "А-7". Разве что сходство условного шифра - первая буква алфавита да аккультовая семерка. - Да, сэр, - коротко отозвался Кун на вопрос шефа. - Тогда все в порядке, - благосклонно молвил шеф и резко завалился на стол, уставившись на руководителя центра пытливо и требовательно. - Доктор Дикс, я бы хотел услышать что-то обнадеживающее об "А-777". Дикс решительно и недовольно положил свой "паркер" на блокнот с рисунками, резанул Левитжера холодным скользящим взглядом и заговорил, опять-таки глядя в пространство: - Изобретая яд нужно одновременно позаботиться о противоядии, особенно, когда речь идет о таком сильном оружии, как "А-777". Дикс умолк, считая свой ответ исчерпывающим. Но Левитжера его ответ не удовлетворил. - Против такой истины никто но возражает, - сказал шеф. - И все же сначала должен быть, как вы изволили выразиться, яд. Он… готов? - Да, мистер Левитжер, он почти готов, - ответил Дикс, взглянув исподлобья на Куна. - В скором времени можно будет проводить испытания. - Так в чем проблема? - стремительно и нетерпеливо перебил шеф. - В подопытном субъекте? Вы это хотели сказать? - О, нет. Думаю, что в субъектах недостатка не будет. - Дикс иронически дернул губами, так что коротко постриженные седые усы его ощетинились. - Проблема в противоядии. Без надежного, с полной гарантией безопасности противоядия нельзя делать опыты… на людях. Иначе мы рискуем выпустить джина из бутылки. - Если я вас правильно понял, вся проблема сводится к вакцине, нейтрализующей действие "А-777"? - Совершенно верно, мистер Левитжер, - сказал Дикс, не глядя на шефа. - Надо поторапливаться, - произнес Левитжер дежурную фразу, которая в сущности ничего не меняла и была для Дикса пустым звуком - шеф это понимал. Но все же, щедрый на слова, счел нужным для пущей важности напомнить: - Не забывайте, что в конечном счете речь идет о свободе и демократии, красные наступают по всем континентам. Наш священный долг - остановить их и уничтожить. В ваших руках судьба грядущих поколений. Дикс опустил голову и закрыл глаза: его тошнило от высокопарного словоизлияния шефа, он не терпел фарисейства, предпочитал называть вещи своими именами, сколь бы мерзкими они ни были. Левитжер их больше не задерживал. Первым покинул кабинет шефа Дикс, за ним шел Кларсфельд - двадцатипятилетний голубоглазый блондин, стройный и гибкий в талии. На юном лице его постоянно дежурила улыбка оптимиста, довольного жизнью, а в глазах играли одержимые огоньки. Последним уходил высокий, угловато-сутулый Кун, уходил не спеша, и в каждом шаге его Левитжер видел нерешительность, какую-то внутреннюю борьбу, что-то невысказанное. И когда Кун уже был у самого порога, Левитжер окликнул его дружески: - Да, Адам, задержитесь на минутку. Присядьте. Я хотел сообщить вам строго конфиденциально, что ваш "С-9" пущен в действие. - При этих словах Левитжера блеклые глаза Куна оживились, он приоткрыл рот, точно хотел что-то сказать, да не решался, но его немой вопрос шеф без труда прочитал на его лице. - Вы хотите спросить - где? На Кубе. - Я так и думал. - В приглушенном голосе Куна слышалась радость. - А результат? Уже есть результат? - Об этом я и хотел посоветоваться с вами. Нам желательно знать эффект. Но это может определить только человек компетентный, специалист. - Колючие глазки его шустро прощупывали Куна, точно хотели проникнуть в душу изобретателю вируса "С-9". Для Левитжера душа Куна была по-братски открыта, и, понимая это, шеф продолжал: - Я думаю, не послать ли нам на Кубу своего человека, чтоб на месте лично удостовериться в эффекте? Как вы на это смотрите, Адам? Обращение по имени свидетельствовало о дружеском расположении и доверии и льстило Куну. - Каким образом? Нелегально? - Дело техники, вас это не касается. Я говорю о персоне. Что вы думаете о Кэтрин Гомес? Или может… Мануэла? Вопрос для Куна был неожиданным, он не готов был к ответу, и Левитжер, поняв это по его озадаченно-растерянному лицу, сказал: - Вы подумайте, Адам, взвесьте все "за" и "против". На острове был небольшой штат обслуживающего персонала, в том числе хозяин ресторана Хорхе Понсе и садовник Фиделио Гомес. Они поселились на острове в самом конце войны. Кэт Гомес родилась на острове. Сейчас ей шел двадцать первый год, а ее подруга Мануэла Понсе была тремя годами старше. Учились они в Мехико на биологическом факультете. Кэт из-за материальных затруднений вынуждена была оставить учебу, не получив диплома. Теперь они обе работали у Дикса: Кэт - лаборанткой, Мануэла - старшей лаборанткой. По какой-то странной ассоциации Кун вдруг вспомнил, что он хотел поговорить с шефом о Мариане Кочубинском, все искал подходящий случай, и вот кажется подвернулся удобный момент. Мариан Кочубинский выполнял на острове обязанности коменданта, то есть начальника охраны, и находился в непосредственном подчинении шефа спецслужбы, а точнее контрразведки, полковника Карла Штейнмана, который знал Кочубинского со времен войны как своего надежного сотрудника и, доверяя ему, пригласил на этот безымянный остров. В отличие от Кочубинского, Штейнману была известна до малейших подробностей сложная биография Адама Куницкого, который пересек однажды океан, решительно отрубив две трети своей настоящей фамилии. Время сделало свое дело, и Мариану Кочубинскому и в голову не пришла мысль, что доктор Кун и есть тот московский парашютист Адам Куницкий, которого летом сорок третьего его "ребята" из НСЗ сняли с дуба и с которым пан поручик тогда обошелся далеко не гостеприимно. Зато Куницкий сразу узнал Кочубинского и не мог вычеркнуть из памяти их встречу в Беловирском лесу. Больше всего на свете Адам Кун желал вытравить навсегда позорную страницу в своей биографии - предательство товарищей и собственноручный расстрел узников гестапо по приказу Карла Штейнмана, в то время капитана "Абвера". Но судьбе было угодно зло подшутить над Куном, заставив его работать бок о бок с Кочубинским и Штейнманом. Правда, он не подчинялся ни тому, ни другому, но это ничего не меняло - ему не доставляло удовольствия лицезреть едва ли не ежедневно тех, кого он ненавидел и презирал, со светской любезностью раскланиваться с ними и делать вид, что до этого острова они никогда не встречались. Кун даже подозревал, что Кочубинский узнал его или знает о нем от того же Штейнмана, перед которым бывший польский поручик раболепствует с усердием провинциального лакея. Иногда его подмывало заговорить с Кочубинским по-польски и с чувством превосходства и высокомерия выплеснуть ему в лицо свое презрение. Напомнить, с каким позором обвел его вокруг пальца Ян Русский, освобождая группу московских парашютистов-разведчиков. Но такая дерзкая мысль тотчас же подавлялась зловещей тенью Штейнмана, страх и трепет перед которым не могли выветрить из его души два десятилетия. И вот сейчас, пользуясь расположением шефа. Кун решил уязвить ненавистного ему Кочубинского, а заодно и Штейнмана. Заикаясь от волнения и краснея, он заговорил: - Мистер Левитжер, извините за нескромность. Я позволю себе спросить: вы хорошо знаете Мариана Кочубинского? На сосредоточенном лице шефа Кун прочитал некоторое удивление и поспешил пояснить: - В том смысле, что он… полного доверия?.. - Полного доверия моего здесь никто не заслуживает, - категорически отрубил Левитжер и повторил: - Никто. Разве, что вы, Адам, - прибавил смягчившись и дружески улыбнулся. - Очень тронут, - смутился Кун. - Благодарю вас. Дело в том, что Мариан Кочубинский активно сотрудничал с нацистами в годы войны. Неожиданно Левитжер расхохотался каким-то неестественным деланным смехом, озадачившим и насторожившим Куна, который еще ни разу до этого не видел, чтобы шеф так откровенно хохотал. - Поражаюсь вашей, извините, наивности, Адам, - проговорил Левитжер, погасив смех. - А кто по вашему доктор Дикс? Нацист высшего класса. Во время войны в оккупированной Гитлером Польше он в своей лаборатории занимался тем же, чем занимается сейчас здесь. С подопытным "материалом" у него не было проблем. Но русские не вовремя разбомбили его лабораторию. Там у него была другая фамилия: Хасель, Артур Хасель. А Штейнман и Веземан - кто они по-вашему? Отпетые нацисты, палачи-профессионалы. И потому что они профессионалы, с большим опытом, мы используем их. Вчера они работали на фюрера, сегодня работают на нас. Работают добросовестно, потому что мы им хорошо платим и потому что они связаны с нами идейно, понимаете, Адам, идейно. Они так же ненавидят коммунистов, как и мы с вами. Слова Левитжера пролетали мимо Куна, которого ошеломила неожиданная новость: Отто Дикс - это тот же Артур Хасель, в тайну адской лаборатории которого должен был проникнуть он, Адам, тогда еще Куницкий, с группой Алексея Гурьяна в сорок третьем году. Вот она - ирония судьбы. Нет, верно говорят: мир тесен. Кун почувствовал себя неловко, - он в самом деле выглядел наивным и смешным со своим навязчивым вопросом. И ему ничего другого не оставалось, как смущенно пробормотать: "Извините, шеф".
2
Безымянный остров в зоне Карибского бассейна был вытянут в длину на восемь километров. Самая узкая часть его в ширину не превышала и километра, а самая широкая - три километра восемьсот метров. Этот укромный уголок, изобилующий тропической растительностью, еще накануне второй мировой войны был облюбован руководителем "Абвера" адмиралом Канарисом и приобретен в собственность на подставное лицо. Сам шеф гитлеровской военной разведки называл этот остров конспиративной квартирой своей резидентуры в Латинской Америке. В первые годы войны в благоустройство этой "квартиры" был вложен солидный капитал, в результате чего не обозначенный на картах клочок земли вулканического происхождения превратился в поистине райский уголок, чему, впрочем, способствовали природные условия. Как известно, природа с давних времен носит титул гениального архитектора. Никто в мире не достигал такой гармонии, как мать природа, никто так не терпит однообразия и стандартов, как она - поборница неповторимого и оригинального, неистощимая в своей изобретательности и фантазии. Гармония и разнообразие заложены в архитектурной основе нашей планеты Земля. Человеческий разум не смог бы придумать такого многообразия буквально во всем, в большом и в малом, как это сделала природа. В самом деле: земля была бы скучна, если быклимат на ней был везде одинаков, если б все люди говорили на одном языке, если б не было такой многоликости рас и племен. А несметное богатство животного и растительного мира! И все подчинено здравому смыслу, разумно, рационально и прекрасно. Позаботилась природа и о затерянном в тропиках безымянном острове. Вся восточная сторона его на протяжении восьми километров представляла собой коралловые рифы в море и непроходимые мангровые заросли на суше. Западный же берег - восьмикилометровый плес белого кораллового песка, обрамленный стройной грядой кокосовых пальм. Пляж идеальный со всех точек зрения, даже по самым высоким райским стандартам. Море здесь прозрачно-бирюзовое: пронизанное лучами жаркого солнца, оно играет и переливается всеми цветами радуги, среди которых преобладают лазурь и золотисто-зеленый. Температура воды не опускается ниже двадцати пяти градусов по Цельсию. Северный торец острова - пятисотметровый шатер давно потухшего вулкана, покрытый девственным лесом, - представляет собой богатое охотничье угодье, где водятся редкие тропические животные, завезенные сюда с материка. Южная сторона острова - каменное плато, сокрытое мягким ковром мохообразной ползучей растительности. Здесь берег высок и скалист, а темная морская пучина изобилует морскими ежами и коралловыми ветками. О флоре острова, кроме самой природы, позаботился и человек, доставивший сюда семена и саженцы почти со всех континентов. Четырех видов пальмы, облюбовавшие себе западное побережье, были главным украшением острова, его эмблемой. Вначале на острове, на его западной стороне, на самом берегу моря была воздвигнута трехэтажная вилла из камня и дорогих пород дерева. Центральную часть дома на высоту двух этажей занимал просторный холл с выходом на берег моря и на противоположную сторону - в большой парк с каналами и лебяжьим прудом. В холле пол выложен изящной инкрустацией из полированного гранита четырех цветов - серого, красного, черного и зеленого. Стены холла - гармоническое сочетание дерева и камня. Мебель, лесенки, перила, потолок - черное и красное дерево - резьбы искусных мастеров. Из холла к морю бежит неторопливая белокаменная лесенка в двенадцать ступенек, а оканчивается полукруглой площадкой-причалом, где стоят ярко-желтая яхта и два катера, один из которых находится в ведении Мариана Кочубинского, а другой к услугам Штейнмана и Веземана. Яхтой пользуется главным образом Левитжер. Резьба по дереву, изобилующая и в комнатах, создает особый уют и теплоту, которую дополняют старинные гобелены, картины и скульптуры даровитых мастеров, когда-то украшавшие художественные сокровищницы европейских стран, побывавших под жестким сапогом гитлеровских оккупантов. Одно крыло здания - его первый этаж - занимает довольно богатая библиотека, составленная из редких изданий мировой науки, литературы, истории и философии. Первый этаж другого крыла - административный. Там кабинеты Левитжера, Штейнмана и Веземана. На втором, "докторском", этаже обиталище Дикса, Куна и Кларсфельда. Весь третий этаж - лаборатория. В подвале уютный бар, где всегда есть холодное пиво, соки, креветки, фрукты, легкая закуска. В стороне от главного здания на территории парка уже после войны построены четыре коттеджа, нестандартных, различных и по размерам и по архитектуре, и круглая башня в три этажа. Второй и третий этажи опоясывают галереи. Наружные стены башни окрашены в терракотовый цвет. Темно-зеленые перила галереи опираются на белоснежные фигурные столбики-балясины. Они четко рисуются на фоне ярких стен и делают все сооружение легким и празднично нарядным. В башне - штаб-квартира шефа. Вход в нее кому бы то ни было, кроме самого Левитжера, его прислуги мисс Марго, строго запрещен. Впрочем в зимнее время на остров наведываются миссис Левитжер с двумя близнецами - наследниками шефа. Но это бывает не часто, раз в год и того реже. Мисс Марго - маленькая, юркая девица с большой копной огненно-рыжих волос, официально числится личным секретарем шефа. Замкнутая, всегда настороженная, как мышь, она предпочитает уединение и всячески избегает общения с персоналом острова. Самый большой двухэтажный коттедж занимает комендатура. В нем же и квартира Мариана Кочубинского. Штейнман и Веземан живут в одном двухэтажном двухквартирном коттедже, в другом - квартиры Куна и Кларсфельда. Отто Дикс занимает двухэтажный коттедж с башенкой и бассейном на первом этаже. Там же с ним живет и прислуга - сорокалетняя Эльза, сухопарая, стройная, как штык, старая дева, с бледным надменно строгим остроносым лицом, от рождения не знавшим улыбки и, возможно, потому чистым и гладким, без малейшего намека на морщины, и птичьими круглыми глазами, обрамленными тоненькой едва заметной ниточкой пшеничных бровей. Короткая прическа светлых волос придает ее лицу мальчишеское выражение. Общается она лишь с женой Штейнмана Мартой - женщиной ее же возраста, пышногрудой, златокудрой дочерью австрийского банкира, нашедшего убежище в Парагвае. Супругу доктора Куна - техасску Маргарет - обе они игнорируют, называя ее между собой авантюристкой из публичного дома. Дэвид Кларсфельд, как и Макс Веземан, холост, но к нему в коттедж часто заглядывает Мануэла, что делает беседу между Эльзой и Мартой яркой, конкретной и содержательной. По наблюдению фрау Штейнман Кэтрин тайно влюблена в Веземана, а Эльза считает, что между Максом и Кэт намечается роман, который непременно закончится трагедией. За территорией парка и тоже на берегу моря расположено еще два дома, один из которых с рестораном на первом этаже занимает семья Хорхе. В другом же, соседнем, барачного типа, живет обслуживающий персонал, вроде садовника Фиделио Гомеса. И вот этот самой природой созданный рай для блаженства человека силами исчадия ада, цинично именующими себя поборниками свободы, совести и демократии, был превращен в злотворный гадюшник, где самые омерзительные двуногие твари изобретали для человечества тлетворный яд.
3
Выйдя от шефа, Дикс поднялся к себе на второй этаж в состоянии крайнего раздражения. Высокомерие и категоричность Левитжера, его манера разговаривать менторским приказным тоном давно коробила а угнетала Дикса. Ведь формально владельцам острова все еще считался он - Отто фон Дикс, хотя на самом деле и теперь, как и десять лет тому назад, он был всего лишь ширмой, прикрывающей подлинных хозяев. После гибели адмирала Канариса на Остров наложил лапу Гиммлер. Но гитлеровский оберпалач был казнен по приговору Нюрнбергского суда, и американцам не стоило большого труда прибрать к своим рукам этот клочок земли в океане вместе с его фиктивным владельцем, скрывающимся под чужим именем от справедливого возмездия. Американцев он возненавидел с того дня, когда от их бомбы погибли в Дрездене его жена и девочки-близнецы. Именно тогда он был направлен на Остров, где в уединении, надеялся, ему легче будет перенести гибель жены и дочерей. Смерть близких заставила его посмотреть на свою деятельность как бы со стороны. Он вспомнил подопытных советских военнопленных и польских партизан, которых хладнокровно, без жалости, прежде чем отправить на тот свет, подвергал мучительным страданиям. "А ведь у них тоже где-то были родные и близкие", - сказал он себе однажды мысленно, и что-то неприятное неожиданно шевельнулось в нем, и он решил, что это судьба отомстила ему. Первый свой удар судьба метила в него, обрушив на его лабораторию в замке графа Кочубинского всесокрушающий бомбовый удар советской авиации. Замок был, что называется, стерт с лица земли. Накануне бомбежки Дикс уехал в Дрезден всего на четыре дня, и это спасло его от неминуемой гибели. Тогда он не мог и предположить, что его приезд станет последней встречей с женой и дочками, точно он спешил, чтоб проститься с ними. В Берлине он узнал о гибели семьи и о разгроме его лаборатории в замке Кочубинского. В Беловир не поехал, сказав себе, что с этим покончено навсегда. По распоряжению Гиммлера он тогда же направился на Остров, решив для себя никогда больше не возвращаться к своим зловещим опытам. Но по-иному распорядились американские спецслужбы, которые еще до окончания второй мировой войны уже вынашивали имперские планы, мало чем отличавшиеся от гитлеровских замыслов мирового господства. Получив от своего европейского резидента Симонталя сведения о докторе Хаселе, скрывающемся под фамилией Дикса, и его сверхсекретной лаборатории в Польше, американские власти, отбросив всякую деликатность, поставили перед ним ультиматум: либо с их помощью он попадает в руки польского правосудия, где ему гарантирована петля, либо безоговорочно станет работать на Пентагон по своей специальности. Чтоб заставить Дикса работать не за страх, а на совесть, подключили Рейнгарда Гелена, и генерал-шпион направил своего эмиссара Штейнмана на Остров со специальной миссией. Дикс сопротивлялся лишь для вида, чтоб выторговать себе побольше куш, и в конце концов согласился. Потом он будет себя оправдывать: у меня, мол, не было выбора. Правда, нельзя сказать, чтоб он работал на совесть, то есть так, как хотелось бы его новым хозяевам. Душевная рана, связанная о гибелью семьи, кровоточила недолго; чуждый всяких сантиментов, с душой жестокой и оледенелой, он скоро забыл об ударах судьбы, а появление Эльзы и непривычная обстановка в условиях тропиков перевернула новую страницу в его жизни, прикрыв прошлое пеленой тумана. Для него мир опрокинулся вверх дном, и все в нем смешалось и перепуталось, сдвинулось и сместилось. Неприязнь к американцам прочно поселилась в нем, поскольку в новом послевоенном мире правящие крути США претендовали на то, чего не удалось Гитлеру. Это оскорбляло его "патриотизм", Дикс чувствовал себя униженным и нагло обворованным. Более того, его, закоренелого и неисправимого расиста, заставляли скакать в одной упряжке с теми, кто должен был исчезнуть с лица земли с помощью дьявольского оружия, изобретенного тем же Хаселем - Диксом. Какова ирония судьбы: юде Кун и чистокровный ариец Хасель работают рука об руку над изобретением оружия смерти для миллионов. Мог ли он подобное себе представить еще двадцать лет тому назад? Абсурд, абракадабра, но факт, реальность нового мира. Какой-то Адам Кун, который случайно избежал Освенцима, теперь явно старается потеснить его, доктора Дикса, занять его место. И в этом ему способствует Левитжер - типичный представитель нынешних хозяев США. А ведь придется уступить, рано или поздно. Да уж лучше бы рано: пора отрешиться от всяких дел и провести остаток дней в укромном уединении собственной виллы в окружении дивной природы. Оно есть у него - скромное, но уютное жилище, не здесь, конечно, а на побережье океана, в Боливии. Было, впрочем, одно неудобство: уже после того как Дикс купил себе виллу, неожиданно выяснилось, что в том же поселке проживает в собственном доме старый знакомый оберфюрер Курт Шлегель. Они встретились случайно, и Дикс, в отличие от Шлегеля, не испытывал восторга от такого соседства - Шлегеля он всегда считал грязной свиньей, насквозь пропитанной спиртным перегаром. Но оказалось, - об этом Шлегель торжественно уведомил в первую минуту их встречи, - что он бросил пить. Дикс сумел припрятать капиталец на черный день, или, как он говорил, на беззаботную старость. Правда, ни черный день, ни старость еще не наступили, но когда тебе шестьдесят, то и старость и болезнь могут постучаться неожиданно без спроса и твоего согласия. Да черт с ними, кунами и левитжерами, пропади они все пропадом. Хотя от них можно всего ожидать, любой подлости. Они люди без принципов, без идеи. Их идея - деньги, капитал. Он же, Хассель-Дикс служил идее великой Германии. Кажется, этот шустрый щенок Дэвид Кларсфельд во что-то верит - в величие США и ее миссионерское предназначение в современном мире. Наивный юнец, его идея так же фальшива, как фальшиво все в их больной от ожирения и разврата, преждевременно дряхлеющей стране - президенты, конгрессмены, демократия, средства массовой информации. Все ложь, фарисейство, цинизм. В последнее время ему чего-то не доставало. "Семьи или друзей", - думал он, все чаще испытывая чувство одиночества. Прежде он как-то не нуждался в друзьях, потому что была семья. Эльза не в счет. О чем с ней говорить? Потребность к откровенному разговору с единомышленником появилась у него года два тому назад, но он не видел рядом с собой человека, которому мог бы приоткрыть хотя бы краешек своей черной души. Он исподволь присматривался к Максу Веземану. Немец, ариец, воевал в России в войсках СД. Сдержанный, замкнутый и почему-то холостой. Странно - почему он не обзаводится семьей? Ему сорок пять, еще не поздно. Штейнману Дикс не доверял. Он хотя и немец, этот Карл Штейнман, и тоже воевал на восточном фронте, но что-то в нем есть неблагонадежное, не твердое. Нет чувства собственного достоинства, гордости, патриотизма нет, оттого и лакейство перед янки. В большом кабинете бесшумно работал кондиционер, охлажденный им воздух казался искусственным, пресным, как дистиллированная вода. Дикс открыл балконную дверь. Горячий морской воздух обдал приятным теплом. А мысль все еще вертелась вокруг короткого совещания у Левитжера. Адам Кун. Хвастанул перед шефом об окончании работы над "А-7". Доволен. Еще бы: ЦРУ за этот патент дорого заплатит, не поскупится. Для них это будет сильное оружие. Заражай неугодного тебе человека вирусом "А-7", и не позже, чем через шесть месяцев он умирает естественной смертью. "Как бы он не подсунул мне "А-7". От него все можно ожидать. Нет, надо уходить на покой". - "А как же с "А-777", который ждут американцы? - вдруг толкнула его неприятная мысль. - Они не отстанут, будут требовать. Впрочем, ничего, шантажировать уже не посмеют, побоятся огласки и разоблачения. Нет, надо уходить на покой", - твердо решил он, закурил сигару и, закрыв на ключ кабинет, спустился вниз. Рабочий день подошел к концу. Внизу он встретился с Максом Веземаном. Тот, как всегда, строгий, подтянутый, стоял на беломраморных ступеньках с озабоченным видом, словно решал про себя, куда ему дальше путь держать. Дикс обдал его ароматным дымом сигары, и ледяное лицо его скорчило некое подобие улыбки. В ответ Макс спросил: - А вы знаете, доктор, последние данные науки по поводу никотина? - И не дожидаясь ответа, сказал: - Сигара в десять раз вредней даже самых плохих сигарет. Берегите свое здоровье. - Зачем? - спросил Дикс, не вынимая изо рта сигары. - Здоровье - самый бесценный капитал, не подверженный никаким инфляциям. Между прочим, онкологи утверждают, что табачный дым вызывает рак. Вы с этим согласны? - Обратитесь к доктору Куну, он специалист по раковым болезням, он даст вам самый исчерпывающий квалифицированный ответ. В тоне Дикса Макс уловил оттенок иронии и злорадства. - А что, доктор Кун наконец открыл метод борьбы со злокачественной опухолью? - Еще чего? Такой задачи он перед собой никогда и не ставил. У него все наоборот. - Как понимать "наоборот"? - Вы домой? - вместо ответа спросил Дикс. - Да. - Тогда нам по пути. Дикс дотронулся до обнаженного локтя Макса, словно хотел, но не решился взять его под руку, и они неторопливым шагом направились по дорожке, посыпанной белым коралловым песком. По обеим сторонам прямой, как струна, дорожки тянулись две густые гряды цветущего олеандра: по одну сторону белого, по другую - алого. Густой сладковатый аромат приятно пьянил, и Дикс, сорвав нежно-белый цветок, проговорил: - Вот еще один парадокс, каприз природы: приятная для глаза, с тонким ароматом, а таит в себе смертельный яд. Где же ваша знаменитая гармония природы? - Может, в этом ядовитом растении содержится и целебный эликсир, как в змеином яде. Кто знает? Разве что Адам Кун. Кстати, господин доктор, вы не ответили на мой вопрос: что значит "наоборот"? Дикс исподлобья метнул на Макса загадочно-подозрительный взгляд и снова дотронулся до его локтя, тем самым как бы подчеркивая свое дружеское расположение. Сказал вполголоса с доверительным видом: - Кун вывел вирус, который, попадая в организм человека, заражает клетки, размножается за их счет и в конечном итоге разрушает их, а человек погибает. Дикс резким жестом отбросил в сторону цветок олеандра и, чем-то недовольный, ускорил шаг. - Кому и зачем нужен открытый Куном вирус? - сказал Макс, как бы размышляя. - Для кого он предназначен? - Наивный вопрос. Мы, не мы, разумеется, а янки, направили на Кубу вирус "С-9", который вызывает лихорадку свиней. У Кастро создается сложность с продовольствием. Туда же заброшены тлетворные грибки, поражающие табак и сахарный тростник. Надеюсь, вы не спросите меня - зачем? Куба для Америки - кость в горле. Фидель Кастро для янки - исчадие ада. Он замолчал, не желая ставить точки над "i". Наступила пауза, нарушить которую Макс счел нежелательным, - он терпеливо ждал пояснений. Но Дикс вдруг спросил с необычной для него фамильярностью: - Скажите, Макс, что из себя представляет Мариан Кочубинский? Вы можете не отвечать, если считаете мой вопрос нескромным. - Нет, почему же, я вам отвечу. Польский аристократ. Отец его, граф Кочубинский, имел имение под Беловиром, во время восточной кампании Мариан сотрудничал с нами. Макс пытался догадаться, почему Дикса вдруг заинтересовала личность коменданта. Простое любопытство или?.. - Замок графа Кочубинского под Беловиром, - словно что-то припоминая, проговорил Дикс. - Кажется, его русские разбомбили в сорок третьем. - Возможно. Замки - хорошие ориентиры с воздуха, - уклончиво ответил Макс на скрытый вопрос Дикса и без перехода спросил: - Тогда позвольте мне задать вам аналогичный вопрос: что из себя представляет Дэвид Кларсфельд? - То же, что и Кун, - не задумываясь проворчал Дикс и прибавил презрительно: - Из одной своры. Макс подумал: своим вопросом о Кочубинском Дикс хотел узнать, известно ли Веземану об экспериментах на советских военнопленных в замке Кочубинского и знает ли он, что Отто Дикс - это тот же Артур Хасель? Макс ловко вывернулся. Впереди в зелени деревьев белым пятном сверкнул первый коттедж - жилище Дикса. Неожиданно Дикс остановился и, повернувшись лицом к Веземану, спросил, перейдя на интимный тон: - Вас не тяготит чувство одиночества? Почему вы не женитесь? - У вас есть на примете невеста? - шутливая улыбка заиграла в лукавых глазах Веземана - Есть, - серьезно и весело оказал Дикс. - Моя сотрудница Кэтрин. Она славная девушка и будет отличная жена, уверяю вас. К вам она неравнодушна и, как говорит Эльза, безумно влюблена в вас. - Фрау Эльза… влюблена? - Не лукавьте. Макс. Женитесь. Не упустите время. Вы рискуете опоздать. Жениться тоже нужно вовремя. - Мое время упущено, жениться на молодой как-то боязно: а вдруг не справишься с обязанностями мужа? В глазах Макса играли озорные огоньки. Одна искорка запала в окаменелую душу Дикса, зажечь ее не смогла, но вызвала ответное озорство. Не глядя на Макса, Дикс, как бы что-то припоминая, заговорил: - Боитесь. А вот Свазиленский король Сабхузой второй не боится. У него семьдесят жен и несколько сот детей. - На то он и король. Впрочем, можно посочувствовать его женам, - сказал Макс. - И сколько же лет этому Сабхузою? - Надо полагать, немало, если принять во внимание, что правит он своим крошечным королевством на юге Африки уже полсотни лет. - Дикс резко вскинул голову и, глядя на Макса в упор, предложил: - Может, зайдете ко мне? У Эльзы найдется бутылочка виски. Приглашение было неожиданным. Макс заколебался. Он никогда не был в доме Дикса, да и не только он. И вдруг… Было любопытно, что скрывается за этим приглашением. Чувство одиночества толкает его к общению или что-то другое? - Благодарю вас, доктор Дикс, сейчас я не могу. Как-нибудь в другой раз я с радостью отведаю вашего виски. Хорошо? - Как знаете, - сухо ответил Дикс и скрылся в парадном. "Обиделся, - решил Макс. - Возможно, он хотел о чем-то поговорить, что-то рассказать. Нельзя было отказываться. Но обстоятельства вынуждали". И он быстро зашагал к своему коттеджу.
4
Двухквартирный коттедж Веземана и Штейнмана с двумя отдельными входами стоял в ста метрах от коттеджа Дикса и так же утопал в пышной тропической зелени, среди которой главенствовал и неистовый аромат магнолии, и ярко-алые сполохи дерева, которое здешние называют фрамбуяном. У самого входа в коттедж растет дерево хауэй, ствол которого состоит из десятков стволов, сросшихся воедино, в три обхвата толщиной и густо увитое вездесущими паразитами тропиков - лианами. Обе квартиры коттеджа были в двух уровнях. Первый этаж предназначался для гостиной, столовой и кухни, и комнаты прислуги. У Веземана эта комната пустовала, как, впрочем, и весь первый этаж. Он предпочитал второй этаж, где было две спальни, детская, женский будуар, смежный с одной спальней, и кабинет с просторным балконом и открытой широкой панорамой на море. Лазурно притягательное, оно плескалось в двухстах метрах, и во время штормов, которые здесь были довольно редкими, Макс слышал через распахнутую балконную дверь раскатистый шум прибоя. Иногда, угнетаемый бессоницей, он вслушивался в ночные звуки, и тогда ему казалось, что он слышит не море, а дыхание какого-то вселенского богатыря. Порой в его ровное дыхание врываются тяжкие вздохи о чем-то несбыточном, навсегда потерянном. Просыпаясь утром, постоянно в один и тот же час. Макс выходил на балкон, который снизу подпирали две пышно-ветвистые магнолии, притягивал к лицу нежно-белый сочный бутон и с наслаждением вдыхал волнующий душу смутными воспоминаниями о неизведанном аромат и уж потом обращал свой взор к манящей, призывной лазури моря, обычно спокойного, разнеженного в нежарких утренних лучах. Устоять перед его притягательной силой было немыслимым делом, и он по заведенному обычаю брал полотенце и в одних плавках шел на пляж, чтоб принять слегка бодрящую морскую ванну. Потом та же процедура повторялась после работы с той лишь разницей, что в предвечернее время он мог позволить себе побольше задержаться на берегу под трепещущей сенью невысокой кокосовой пальмы. Простившись с Диксом, он поднялся к себе наверх, разделся, принял холодный душ и вышел на балкон. Море, как всегда, звало, играя золотистой чешуей. Макс мысленно сказал ему: "Погоди немного, сегодня ведь второй четверг месяца". И взглянул на электронные часы, стоявшие на телевизоре. Еще сорок минут ожидания. Конечно, за это время можно было сходить на море, окунуться, сделать небольшой заплыв и возвратиться к условленному часу. Но лучше быть вовремя у радиоприемника. Сегодня Москва выходила с ним на связь. Радиосвязь эта была односторонняя: центр категорически запретил ему пользоваться радиопередатчиком. Возвратясь в кабинет, он включил кондиционер и прилег на диван. Подумать было над чем - краткий разговор с Диксом давал пищу для размышлений и требовал каких-то решений и действий. На Кубу отправлены и возможно уже приведены в действие вирусы, поражающие свиней, табак и сахарный тростник, выращенные здесь, на Острове, в лаборатории Дикса-Куна. "Дикса-Куна - повторил мысленно Макс, смахнув с тонких губ ироническую ухмылку. - Какое парадоксальное и в то же время глубоко символическое содружество: нацист и сионист в одной упряжке. А впрочем, все логично". О вирусах свиной лихорадки нужно информировать центр - это его долг. Но больше всего его заинтересовал другой вирус, созданный Куном. Дикс прямо дал понять, для кого предназначен и даже имя назвал - Фидель. Но это, так сказать, первоочередник. Кроме Фиделя, у ЦРУ, надо полагать, есть длинный список других неугодных янки государственных, политических и общественных деятелей, ученых, борцов национально-освободительного движения, подлежащих умерщвлению чудовищным способом. Об изобретении Куна Веземан услышал сегодня впервые. Прежде об этом не было произнесено ни единого звука. Впрочем, это понятно: о служебных делах здесь не принято разговаривать в неофициальной обстановке. Почему же Дикс был сегодня такой доверительно-разговорчивый и почему именно с ним, Максом Веземаном? Не скрывается ли за этим какая-нибудь провокация, не попал ли Веземан на подозрение? Здесь никто никому не доверяет, сердца и души закрыты наглухо. О том, что Дикс ненавидит Куна, Веземан знал давно, собственно это знали все, в том числе и сам Адам. Второй загадкой сегодняшнего разговора с Диксом был вопрос женитьбы. Одинокий Дикс выступает в роли свата, - это опять-таки что-то новое, несовместимое с образом и характером высокомерно-необщительного, замкнутого в себе аскета, каким представляется Веземану этот жестокий, бессердечный человеконенавистник. Притом предлагает в жены свою сотрудницу. Что может скрываться за этим, какие коварные замыслы и подводные рифы? Долголетняя работа в логове врагов, глубокая конспирация выработали в нем привычку подвергать слова, поступки и действия окружающих его людей тщательному анализу. Давняя привычка стала чертой его характера, сделала его осторожно-сдержанным и недоверчивым. То, что Кэтрин - Кэт - к нему неравнодушна, он и сам замечал, но не придавал этому значения: слишком велика, по его меркам, разница в возрасте - целых двадцать пять лет. Он смотрел на эту стройную смуглокожую лаборантку, как на милого, очаровательного ребенка, который с годами может превратиться в неотразимую красавицу. Мать Кэтрин наполовину аргентинская индианка, отец - мексиканец испанского происхождения. Макс любовался Кэт, когда она вместе с Мануэлой входила в море. Смуглокожее тело ее удивительных пропорций отливало свинцово-матовой бархатистой дымкой, длинные смолянисто-черные волосы шаловливыми струями падали на юные трепетные плечи. Она шагала легко, почти воздушно навстречу неторопливо ласковой изумрудной волне, метров десять плавно шла по песчаному стерильно чистому дну, пока вода не касалась ее маленьких тугих грудей, запрятанных в простенький тесный купальник, и потом сразу ныряла в хрустально-звонкую пучину, исчезая в ней, может, на целую минуту, и всплывала затем метров за двадцать в стороне, довольная и веселая. Добродушная, доверчивая улыбка, обнажающая ослепительно-яркую ниточку зубов, делает тонкий овал ее кофейного лица очаровательным. Темные вишенки-глаза с синей поволокой - воплощение невинности и целомудрия - смотрят вкрадчиво, с тревожным любопытством, а при встрече с глазами Макса смущенно убегают и прячутся под сенью густых ресниц. Макс вспомнил, как приблизительно месяц тому назад он, сам того не желая, ввел ее в смущение и растерянность. Кэт принесла ему чистое белье, которое стирала ее мать - Ана. Услыхав звонок в парадном, Макс спросил в трубку домофона: - Кто? - Это я, сеньор Веземан, Кэтрин. Я принесла белье. - Входи и поднимайся на второй этаж, - тоном приказа отозвался Везаман и нажал кнопку автоматического замка. Он сидел в кабинете и разговаривал но телефону с Марианом Кочубинским Кэт впервые тогда вошла в квартиру Макса - обычно белье приносила сама Ана. Пока он говорил по телефону, Кэт с наивным любопытством рассматривала незатейливую и довольно скромную обстановку кабинета, где на первом плане - и это сразу бросилось в глаза - была всевозможная радиотехника: проигрыватели, транзисторные приемники, магнитофоны - в том числе и видеомагнитофон - кассеты и диски звукозаписи. Закончив разговор, Макс предложил ей сесть. - Благодарю, сеньор Веземан, но меня ждет Мануэла: мы идем с ней на пляж. - А меня не возьмете? Я не помешаю? - Что вы, сеньор, мы будем рады, - и неловкий взгляд отвела в сторону радиотехники, сказала, чтобы скрыть смущение: - Как много у вас… музыки. - Ты любишь музыку? - Очень. - Она произнесла это слово с каким-то особым душевным теплом. Веземан взял старую модель портативного магнитофона, поставил кассету и нажал на клавишу. Популярная мексиканская песенка заполнила кабинет. Ее исполнял известный лирический тенор. Неподдельная радость, трогательная непосредственность восприятия отразились в блестящих умиленных глазах девушки. - Нравится? - спросил Макс. - О-о! Это так чудесно… - Тогда возьми. Я дарю тебе. - Он протянул ей магнитофон. Кэт явно растерялась. - Что вы, сеньор Веземан, это дорогая вещь. Я не смею. - Бери, бери, не стесняйся. У меня их целых три. И она взяла. Потом они вместе пошли на пляж, где их ждала Мануэла. Вспоминая об этом сейчас, Макс подумал: должно быть о его подарке стало известно Эльзе и, конечно, Диксу. Возможно, это и дало повод Диксу для разговора о женитьбе и "сватовстве". В следующий раз Ана не хотела брать от него денег за стирку, но он все же заставил ее взять. А садовник Фиделио - отец Кэтрин, человек тихий и молчаливый, встретившись с Максом у розария, сдержанно, но искренне поблагодарил его за "музыку", сказав при этом: "Нам всем очень нравится ваша штука". Макс Веземан, став профессиональным разведчиком, так и не смог создать своей семьи. Человек высокого долга, сознающий всю полноту ответственности за порученное ему дело, он считал, что семья для его профессии может стать серьезной помехой. При этом он ссылался на пример профессиональных революционеров, вынужденных работать в подполье. Ведь он тоже постоянно жил и работал нелегально, и работа его связана с большим риском для жизни. Опасность подстерегала его на каждом шагу. Малейшая оплошность с его стороны или даже со стороны его коллеги - неудачный шаг, непродуманный жест - могут окончиться трагедией. Иное дело, когда ты один попадаешь в беду. А когда та же участь настигает твою семью - жену и детей - это больше, чем трагедия. За пять минут до включения приемника Макс поставил на стереофонический проигрыватель пластинку Бетховена - Пятый концерт. Потом не спеша надел наушники для приема радиошифровки, положил перед собой блокнот для записи, настроился на нужную волну. И в этот напряженный момент раздался звонок в прихожей. "Кто бы это мог? - молнией мелькнула тревожная мысль. - Случайное совпадение или?.. Спокойно, Макс", - сказал он себе и, поймав в эфире условный сигнал, начал записывать. В дверь позвонили еще раз, потом еще. А он хладнокровно принимал зашифрованную радиограмму. Могучая музыка упругой волной заполняла кабинет, стучалась в закрытые окна и вселяла мужество, решимость и уверенность. Закончив прием, он с сосредоточенным спокойствием начал расшифровывать текст. Раздался телефонный звонок. Инстинкт и внутреннее напряжение заставили Макса потянуться к трубке, но разум, сила воли остановили движение руки, и она на какой-то миг повисла и замерла над телефонным аппаратом, который звонил настойчиво и требовательно. Не отвечая на телефонный звонок, он читал предельно краткий текст радиограммы. Центр сообщал, что в Гаване находится Иван Слугарев и просил выйти на связь. Он догадывался, что от него хотят: нужны подробности об изысканиях "Группы-13". Известно, что в пентагоновских арсеналах оружия массового уничтожения числятся не только ракеты и бомбы с ядерным зарядом, но и химическое, бактериологическое, нервно-паралитическое. Чтобы нейтрализовать чудовищные замыслы американской военщины, нужно знать секрет их оружия, изобрести способы борьбы с ним, найти надежное противоядие и тем самым спасти миллионы человеческих жизней. Макс Веземан знает, что Дикс изобретает бактериологическое оружие под кодовым названием "А-777". Но что это такое, в чем его сущность - ему неизвестно. Все попытки получить информацию от самого Дикса оказались безуспешными, а излишняя настойчивость могла лишь вызвать подозрение и настороженность. В трусости или нерешительности Макса нельзя было упрекнуть, но действовал он осмотрительно и неторопливо, и после каждого запроса Центра испытывал чувство неловкости и стыда и говорил себе: а может, действительно, нужно действовать смелее, даже пойти напролом? Центр просит выйти на связь. Это значит, что он должен совершить поездку на материк и встретиться со своим связным. Поездка на материк для него не проблема: Штейнман знает, что там у Макса есть "подружка", которую он время от времени навещает. Это естественно для холостого мужчины. Но Штейнману невдомек, что "подружка" своего рода ширма, благовидный предлог для поездки на материк. Что ж, на этот раз Веземан явится не с пустыми руками. То, что ему удалось узнать сегодня от Дикса о вирусах "С-9" и "А-7" - хотя и в общих чертах - очень важно. Особенно "А-7". А из памяти не выходил вопрос: кто звонил ему сначала в дверь, а потом проверял по телефону? Штейнман? Вопрос не мелкий, как и вообще в его работе не может быть мелочей, от ответа на этот вопрос может зависеть многое, в том числе и очередная поездка на материк. Возможно, завтра все прояснится. Здесь Макс мог опасаться только двух человек: Левитжера и Штейнмана. Макс не стал прерывать музыку - пусть доиграет до конца. Если Штейнман спросит, почему не отвечал на телефонный звонок, он уже знает, что сказать. Его огорчало, что обстоятельства не позволили воспользоваться приглашением Дикса - "пропустить" по рюмке виски. А нет ли связи между звонками и приглашением Дикса, который вдруг ни с того, ни с сего, по собственной инициативе разоткровенничался? Хотел узнать, какова будет ответная реакция? Макс не поддался соблазну. Фактически проявил безразличие. Заданный им вопрос в форме "мысли вслух" - зачем, мол, нужен вирус - был естественной реакцией и не таил в себе ничего подозрительного. Макс вышел на балкон. Предвечернее солнце, еще достаточно жаркое, стелило по морю широкую ослепительную полосу. У берега притягательно белела кружевная кромка: море соблазнительно и зазывно манило. Макс взял мохнатое полотенце, прикрыл голову белой шапочкой с большим козырьком и в одних плавках ушел на пляж. Собственно, пляж здесь был по всему побережью одинаково удобным, с мелким белым песком. Просто у каждого было свое излюбленное место на пляже. Макс облюбовал себе густую тенистую пальму по соседству с местом, где постоянно купались Кэтрин и Мануэла. Их разделяли какие-нибудь тридцать метров. Чуть подальше рядом с ними всегда располагался Дэвид. Сделав один заплыв, Кларсфельд подсаживался к девушкам и болтал с ними напропалую, выстреливая анекдот за анекдотом, которыми был напичкан по самую макушку. К удивлению Макса, сегодня на пляже он увидел только Кэтрин. Она сделала далекий заплыв и теперь возвращалась к берегу. Ее маленькая головка, обтянутая оранжевой резиновой шапочкой, подобно надувному шарику, плавно покачивалась в искристой зыби моря. Макс обрадовался, увидя ее одну, без Мануэлы - непременной ее спутницы по пляжу. С веселой иронией подумал: "Невеста" и даже улыбнулся своей мысли. Он вошел в воду и поплыл навстречу Кэтрин. Она поприветствовала его поднятой из воды рукой, и, хотя их разделяло значительное расстояние, он отчетливо видел радость на ее лице по яркому блеску ее зубов. Когда они поравнялись, она сказала, делая плавные движения руками вод водой: - Сеньор Веземан, я к вам заходила, но вы мне не открыли. Я приносила белье. У вас играла музыка. - Я спал. Я люблю засыпать под музыку. Он повернулся лицом к берегу и поплыл рядом с ней. У Макса потеплело на душе, и мучившее его напряжение ослабло, потому что в дверь звонил не Штейнман, а Кэтрин, и что это очаровательное создание, нареченное его невестой, плыло сейчас рядом с ним. Он видел ее словно в аквариуме в хрустально-прозрачной воде и любовался грацией ее юного тела, плавными, легкими и свободными движениями ее рук и ног. Вода была теплая, наверно, около тридцати градусов, при такой же температуре воздуха она почти не освежала, но доставляла несказанное удовольствие не столько плоти, сколько духу и разуму. Для Макса и Кэтрин ежедневные утренние и предвечерние морские ванны стали необходимостью, как пища. Они вместе вышли из воды и сели на деревянные скамейки-лежаки друг против друга. Долгое плавание утомило Кэтрин, она дышала напряженно и глубоко, но лицо ее сияло радостью и довольством. - Я вам завтра принесу белье, сеньор Веземан. Можно? Вы не будете спать? - Глаза ее излучали озорные огоньки. - Нет, ни в коем случае, я буду ждать тебя. А почему ты сегодня одна, где Мануэла? - Она сегодня… у нее сегодня свидание в ресторане. Ее Дэвид пригласил, - ответила она с чувством радости за свою подругу. Эта радость в перемежку со смущением звучала в ее звонком голосе, искрилась в чистых глазах, сияла на лице. - Вот как? А тебя никто не приглашал в ресторан? Вопрос, видно, смутил Кэтрин, она смешалась и замедлила с ответом. Затем, преодолевая смущение, призналась, пряча невинную улыбку: - Дэвид приглашал однажды, но я не пошла. - Отчего же? - Не знаю, - искренне ответила она. - Он тебе не нравится? - Макс разговаривал с ней, как с подростком, забывая, что в ее возрасте бывают матери двоих, а то и больше детей. Она неопределенно пожала покатыми плечиками. - Он Мануэле нравится, - ответила после некоторой паузы. - А со мной ты пошла б в ресторан? Вопрос удивил ее. Темные глаза округлились, длинная красивая шея напружинилась, темно-зеленый купальник еще четче обрисовал маленькие плотные груди. Сказала по-детски непосредственно: - Вы меня не приглашали. - Я приглашаю. - Когда? - как будто с готовностью отозвалась она. - Сегодня. Посидим. Поужинаем. - И мы встретим там Мануэлу и Дэвида? - не то спросила, не то утвердительно сказала она погасшим голосом, в котором уже не было готовности. - Вполне возможно, - ответил Макс. Она на минуту задумалась, и Макс чувствовал, как нерешительно мечется ее мысль, взвешивая все "за" и "против". Ответила категорично: - Нет, сегодня не могу. Может, когда-нибудь потом. "Любопытно, что ее смущает и сдерживает?" - подумал Макс, а вслух сказал: - Ну что ж, перенесем на потом. - И дружески подмигнул ей. Вдруг она заспешила, словно что-то вспомнив, сказала торопливо, скороговоркой, в которой слышалось взволнованное извинение: - Сеньор Веземан, я побежала домой, мне нужно маме помочь. И, схватив полотенце, скрылась в прибрежном кустарнике.
Глава вторая
1
На другой день утром, не успел Макс войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок. Макс услышал его еще за дверью. Звонил Штейнман, просил срочно зайти. Голос у Штейнмана металлический, холодный, тон официальный, категоричный. "Что-то важное. Наверно, был вчера разговор с шефом", - решил Макс и мысленно прикинул, как себя вести в случае "чрезвычайных обстоятельств", под которыми подразумевал подозрение начальника насчет его подлинной личности. В каждый свой приезд на Остров Левитжер напоминал об усилении бдительности, о коммунистической агентуре, которая попытается проникнуть на Остров, чтоб выведать секреты изысканий ученых, совершить диверсии, и даже террористические акты. И хотя здесь, на Острове, отношения между Штейнманом и Веземаном были более дружеские, чем когда-то в Пуллахе, все-таки полковник старался держать своего подчиненного на известном расстоянии и не давал повода для фамильярности и панибратства, хотя они и обращались друг к другу на "ты". Честолюбивый и завистливый Штейнман считал, что в отсутствии на Острове Левитжера не Дикс, а он был здесь старшим начальником, что весь персонал Острова должен его почитать и бояться, в том числе и Дикс. Последний же, надо полагать, в пику заносчивым притязаниям Штейнмана демонстративно проявлял к нему пренебрежение, точно дразнил его ради своего удовольствия, потому что сам Дикс считал себя выше всевозможных табелей о рангах и субординации. Штейнмана он не уважал за его холуйство перед шефом. Карл был четырьмя годами старше Макса, но выглядел он не моложе шестидесятилетнего Дикса, сохранившего спортивную форму воздержанием от разного рода излишеств и особо тщательной заботой о своей плоти. За шестнадцать лет совместной работы Веземан хорошо изучил коварный нрав своего начальника, в котором злобный хищник слился с угодливым лакеем, трусливым и подлым, готовым ради собственного спокойствия и благополучия послать на плаху самого близкого друга, впрочем, друзей у Штейнмана не было и, судя по всему, он в них не нуждался. Макс догадывался, что вчера шеф беседовал со Штейнманом, давал, как водится, руководящие указания, информировал, напоминал о бдительности и выражал свое неудовольствие. После такой беседы с шефом Штейнман обычно приглашал к себе Веземана и, уже от своего имени и ни в коем случае не ссылаясь на шефа, излагал содержание беседы. Так уже повелось. - Доброе утро, Карл, - как всегда сказал Макс, войдя в кабинет Штейнмана и по своей давней привычке садясь на мягкий темно-коричневый кожаный диван. В ответ Штейнман проворчал недовольно: - Утро не очень доброе. Макс. - Он уставился в Веземана своими невыразительными узко посаженными глазами и, как это нередко бывало, начал буравить его подозрительным холодным взглядом. Макс натренированно выдерживал его взгляд. Штейнман потрогал тонкими нервными пальцами узкий лоб с глубокими залысинами, точно хотел проверить остаток сильно поредевших рыжих волос, сказал, делая преднамеренные паузы между словами и не отрывая от Макса сверлящего взгляда: - У нас на Острове завелся коммунистический агент. - Умолк, нахмурившись. На лице Макса не дрогнул ни один мускул, лишь в невозмутимом вопросительном взгляде светилось сосредоточенное внимание. Штейнман уточнил: - Кубинский. - И отвел глаза в сторону лежащих на столе бумаг. - А известно, кто он ? - спросил Макс. - Узнать, кто он, и обезвредить - наша с тобой обязанность. Обнаружена утечка информации. - Кто ее обнаружил? - Шеф, ЦРУ, разумеется. Кубинцы знали о "С-9" и приняли меры. - Штейнман сокрушенно вздохнул и пригладил свой выпуклый череп, покрытый мелкой растительностью. - Если это не фантазия Левитжера, то дело, как я понимаю, дрянь, - проговорил Макс и, вдумчиво нахмурив лоб, прошелся по кабинету, глядя в пол. - Между прочим, я вчера тебе звонил, но ты не подходил к телефону, - сказал Штейнман и снова, как лесной клещ, впился в Веземана испытующим взглядом. - Я был на пляже, затем ужинал в ресторане. - У тебя звучала музыка. - А-а, Пятый концерт Бетховена. Под эту музыку я задремал. Наверно, в это время ты звонил. Макс не стал спрашивать, зачем вчера звонил Штейнман: и так было ясно - не терпелось сообщить об утечке информации. Но самое странное, что Веземан ничего не сообщал в центр о "С-9": не располагал точной информацией. Значит, кто-то другой предупредил кубинцев, если, конечно, Левитжер и Штейнман не дурачат его. Тогда действительно - кто? У Макса не было связи с кубинской разведкой: о нем знала только Москва. - Итак, давай подумаем, кто вероятныйисточник информации, - деловито заговорил Штейнман. - Прежде всего возникает вопрос: каким образом, по какому каналу могла уйти с Острова информация? - сказал Макс с видом глубокой озабоченности. - Радиопередатчик исключается: пеленгаторы за все время не обнаружили ни одного сигнала. А на них можно положиться. Остаются непосредственные контакты. Кто общается с материком? Начнем с Дикса и его фрау Эльзы. Что ты на это скажешь? - А, может, начнем с почты? - ответил Веземан. - Не думаю: там все проверено ЦРУ. Шеф дал полную гарантию. Так что начнем с Дикса. Макс нахмурил лоб, точно взвешивая свои мысли, но с ответом не задержал, сказал с явной категоричностью: - Доктора Дикса я исключаю: было бы абсурдом передавать свои же секреты своим врагам. Он убежденный антикоммунист. Что же касается фрау Эльзы, то она слишком глупа для такой роли. К тому же и на материке, я уже не припомню, когда она в последний раз бывала. - Резонно, - согласился Штейнман. - Следующий Кун. Что думаешь? Макс не спешил с ответом. Он догадывался, что между Штейнманом и Куном существует глубокая, скрытая неприязнь, но причины ее ему не были известны. Он не знал, что во время войны Штейнман подверг пленного Куна - тогда еще Куницкого - жестокой пытке, вынудил его под объектив фотокамеры расстреливать схваченных фашистами евреев и затем дать подписку о согласии сотрудничать с гитлеровскими спецслужбами. И вот они снова встретились через двадцать лет уже как сотрудники одного учреждения. Насмешница-судьба сделала их коллегами. Штейнман сразу узнал свою жертву и агента, но сделал вид, что они не знакомы. Его тревожил вопрос: узнал ли его Куницкий-Кун? Первое время Штейнман испытывал постоянный страх: рядом с ним был живой свидетель его преступлений, он мог в любое время потребовать суда над военным преступником, нацистом-палачом. Но Кун молчал - он лишь демонстративно высказывал Штейнману свое презрение, не здоровался, не разговаривал с ним, не отвечал на его вопросы. Штейнману стало ясно, что Кун вспомнил его и тоже побаивается. Таким образом между ними установились отношения не просто неприязни, как думая Макс, а взаимного страха и взаимного презрения, даже ненависти. - Загадочная личность этот Адам Кун. Поляк, жил в России, учился в Московском университете, - вслух рассуждал Веземан, отвечая на вопросы Штейнмана. - Как еврей, он не питает уважения, ни тем более любви к нам, то есть к тебе, ко мне, к доктору Диксу. Мы для него нацисты, враги. Я не удивлюсь, если однажды мы узнаем, что он агент КГБ, подосланный с целью стратегического характера. Словом, для меня он темная лошадь. Я ему не доверяю. - Дело не в доверии. Макс, наш долг никому не доверять. Я мог бы с тобой согласиться, если б не одно обстоятельство: Кун пользуется покровительством шефа. - Это естественно: они из одной стаи, - ответил Макс фразой, которую вчера услышал от Дикса. - К тому же он часто бывает на материке. - Что ты думаешь о Кэтрин? - неожиданно спросил Штейнман и колючим взглядом уставился на Веземана. Тот выдержал его взгляд и ответил совершенно спокойно: - Ровным счетом ничего. - И после краткой паузы спросил: - У тебя есть против нее… подозрения? - Пока нет. Но мы не должны забывать… - Он осекся и потом опять: - А что ты скажешь о связи Дэвида с Мануэлой? - Я не люблю заглядывать в замочные скважины, - с раздражением ответил Веземан. Резкий тон Веземана удивил полковника. Он повел носом, ухмыльнулся, задвигался в кресле, но сумел сдержать себя, проговорив, не глядя на Веземана: - Ничего не поделаешь, дорогой, такова наша служба. Не забывай, что часто секреты выбалтываются в постелях. Трудная задача стояла перед Штейнманом: заняться всерьез Куном, взять его под стеклянный колпак было делом рискованным: за спиной Куна стоял Левитжер, следовательно ЦРУ. Тут можно и шею сломать. Штейнман молчал долго, мучительно. Он не знал, как быть, а Веземан не спешил на выручку. Штейнман никогда не обладал богатым воображением, и потому генерал Гелен без сожаления расстался с ним, "подарив" его американцам. Наконец он сказал то, что его в последнее время сильно беспокоило: - Послушай, Макс, ты правильно сказал: Кун ненавидит тебя, меня, Дикса. А как ты считаешь, он не может нас физически… устранить? - Каким образом? - При помощи оружия, которое он изобрел. - Не понимаю, что ты имеешь в виду, какое оружие? - притворился Макс. - Вирусы рака. Представь себе - может искусственно наградить злокачественной. Штейнман доверительно смотрел на Макса, но тот угрюмо молчал, делая вид, что он ошеломлен и встревожен. - Есть над чем задуматься, черт возьми, - сказал Штейнман, стараясь попасть в тон размышлений своего собеседника. Разговор начал принимать нужное для Макса направление, и он заговорил глухо, с видом озабоченным и встревоженным: - Хорошо, что ты предупредил. Нам надо быть чрезвычайно осторожными. Но для этого надо знать, каким образом передается этот страшный вирус? Ты знаешь? - Он смотрел на своего начальника строго и требовательно. - К сожалению, нет. - Штейнман развел руками. - А знать надо. И я эту задачу поручаю тебе. Попытайся войти в доверие, если не к самому Куну, то к Дэвиду, к лаборанткам. Дело серьезное. Макс понимал, что это "серьезное дело" Штейнмана волнует больше, чем утечка информации, о которой он уже забыл, по крайней мере, больше не стал перебирать возможных "коммунистических агентов", а сразу перешел к следующему делу, из-за которого он пригласил Веземана. Речь шла о посылке на Кубу человека, который бы проследил, насколько эффективным оказался на практике "С-9" и каким способом кубинцы борются со свиной лихорадкой. - Шеф предложил направить на Кубу тебя, Макс. Это приказ. В помощь тебе предложено послать специалиста. Остановились на кандидатуре Кэтрин. - Штейнман многозначительно подмигнул и добавил: - Надеюсь, ты ничего против нее не имеешь? В ответ Макс так же многозначительно вздохнул. А Штейнман продолжал: - На днях шеф привезет на вас соответствующие документы. Решено, что ты едешь в качестве журналиста из ФРГ, а Кэтрин твоя переводчица-секретарь. Кстати, в Гаване сейчас находится известный советский разведчик генерал Иван Слугарев. Последнее сообщение и обрадовало и насторожило Веземана. Поездка в Гавану, возможность личной встречи со Слугаревым - это же везение, о котором даже мечтать нельзя было. Но случайно ли это? Слишком много подозрительных совпадений. Не кроется ли здесь хорошо продуманная, хитро сработанная ловушка? Почему его должна сопровождать Кэт? Думай, думай, Макс Веземан. О том, что Слугарев в Гаване, он уже знал из вчерашней шифровки, но что Иван Николаевич генерал, он слышит впервые. Конечно, все эти сведения Штейнман получил вчера от Левитжера. ЦРУ имеет в Гаване свою агентуру, в этом нет сомнения. - В появлении на Кубе генерала КГБ я не вижу ничего сенсационного, - спокойно и деловито заговорил Веземан. - Советская разведка сотрудничает с кубинской так же, как ЦРУ с "Моссадом" или с нами. Возвратись от Штейнмана в свой кабинет, Макс сел за письменный стол и задумался. Слишком много дел навалилось сразу, не столько дел, сколько вопросов, на которые нужно было найти единственно правильные ответы, разобраться во всем этом хаосе, проанализировать, принять решения. Если поездка на Кубу состоится, - пока что он в нее не очень верил, - нужно явиться туда с солидной информацией, по крайней мере, что касается "А-7". Следовательно эту задачу нужно считать первоочередной. Она совпадает с поручением Штейнмана - узнать, каким путем распространяется вирус. Об "А-7" Макс рассчитывал получить информацию от Дикса, Кэтрин и, возможно, Дэвида, с которым следовало поближе сойтись. Но для этого потребуется время. Узнать что-либо от самого Куна было делом безнадежным. Макс снял трубку телефона и набрал номер. - Доктор Дикс, доброе утро. Простите за беспокойство, но я хотел вас поблагодарить за совет, который вы мне дали вчера. - Что вы имеете в виду? - послышалось в ответ холодное ворчание. - Одиночество, женитьбу, невесту. - А-а, то-то же, - голос Дикса потеплел. - Пожалуйста. Макс боялся, что этим "пожалуйста" может закончиться разговор и поспешил добавить: - Именно свидание с претенденткой в невесты и помешало мне вчера отведать вашего виски. А очень хотелось бы посидеть с вами и послушать советы умудренного жизнью человека. В искренности Веземана Дикс не усомнился, тем более, что Эльза действительно видела вчера в предвечерье Макса и Кэтрин на пляже. А глаз у фрау Эльзы зорок и точен, она все замечает. Звонок Веземана даже польстил Диксу, и он сказал: - Так в чем же дело? Приходите сегодня. - Благодарю вас, доктор. Только после пляжа, если позволите: не хотелось бы нарушать режим. - Разумеется, режим - закон, а здоровье прежде всего, - снисходительно изрек Дикс. Макс не забыл, что сегодня после работы Кэтрин принесет ему белье, и он решил сообщить ей о возможной совместной поездке в одну из стран Центральной Америки. В какую конкретно, он не назовет. Вообще-то он должен был спросить Штейнмана, можно ли уже сейчас известить Кэт, но он умышленно не сделал этого, потому что определенно знал: ни в коем случае не разрешит. Он надеялся снова встретить на пляже Кэтрин, Мануэлу и Дэвида и обдумывал, как лучше завести дружеский разговор с молодым "гением", коим мнит себя Кларсфельд. Впрочем, обстоятельства подскажут. И вдруг он поймал себя на мысли, что из всех встреч и дел, намеченных на сегодня, его больше всего и главным образом волнует Кэтрин. - Кэт… - прошептал он ласково и умиленно улыбнулся своим мыслям.
2
До полудня Макс несколько раз выходил из своего кабинета, слонялся в холле, заглядывал в библиотеку в надежде случайно встретить Кэтрин. "Зачем же с таким нетерпением ищу я этой случайной встречи?" - спрашивал Макс, иронизируя над самим собой. "Чтоб напомнить, что она обещала сегодня принести белье. И только?" - подначивал с дружеской лукавинкой чей-то посторонний голос, и Макс, будто оправдываясь, отвечал ему: "Конечно же, не "только". Я должен с ней поговорить о совместной командировке и вообще…" Он понимал, хотя и не хотел признаться себе, что в этом неопределенном "вообще" заключено то, что неожиданно взбудоражило его душу и возмутило разум. С работы он ушел раньше обычного, хотя никто от него не требовал быть на службе "от" и "до", потому что, где бы он не находился - в административном здании, у себя на квартире, на пляже, в ресторане, вообще на Острове и даже на материке - все равно он был на службе. В шутку он называл себя "свободным художником". Макс считал, что сама специфика работы приучила его к одиночеству и что оно нисколько не тяготит его. Да, приходилось жертвовать многим из того, что принято называть личной жизнью, во имя долга, высокой цели, идейных убеждений. Но ведь его никто не принуждал, он сам по своей воле избрал такой путь. Он не жаловался на судьбу, но порой на него что-то "находило" и невидимой болью сжимало не сердце, а душу, тоскующую по чем-то неизведанном, но страстно желанном. Он встречался с женщинами, были мимолетные увлечения и в ФРГ и здесь, в Центральной Америке. Но не было любви. Иногда ему казалось, что вообще не существует в реальной действительности того возвышенного чувства, которым величава и горда мировая литература. Или это чувство в наш безумный век всего лишь анахронизм, скелет мамонта, выставленный в зоологическом музее? Он давно смирился с мыслью, что ему не суждено иметь жену, семью. Но мечта о той единственной избраннице, о которой слагают песни и во имя которой идут на подвиг, о возлюбленной, нет-нет, да и навещала его. Макс понял, что любовь - подлинная, а не эрзац, - как и талант, не всякому дается. "Да, любовь - это талант", - подумал Макс, совсем не догадываясь, что задолго до него эти слова уже были сказаны Львом Толстым. Он думал о Кэтрин, представлял ее ласковой, нежной, доверчивой и беззащитной, нуждающейся в покровительстве сильного человека. "Моей, что ли? - спрашивал самого себя с легким смущением и отвечал: - А почему бы и нет!" Потом легонько, осторожно пытался отодвинуть куда-то на задний план мысли о Кэт, заслонить их другими, "важными", исходящими из чувства долга, а они каким-то тайным непонятным путем возвращались обратно, и он, сам того не замечая, опять попадал в их плен. Потом спохватывался и снова гнал их от себя, но не сердито, а по-отечески снисходительно. Получалась какая-то забавная игра, когда и хочется и колется. Его смущала разница в возрасте, она казалась главным препятствием, а возбужденный разум уже с лихорадочной поспешностью искал в истории и литературе аналогичные ситуации, дабы устранить с пути эту главную преграду. Поиск увенчался успехом: Гёте, великий Гёте! В свои семьдесят четыре года он влюбился в семнадцатилетнюю Ульриху и просил ее руки. Правда, предложение не было принято. Раздосадованный поэт написал по этому поводу свое лучшее лирическое стихотворение - "Мариенбадскую элегию". Но это же Гёте, в котором жил могучий дух художника и мыслителя. Ведь гениальное творение - "Фауст" - было закончено, когда его автору шел восемьдесят второй год. Гёте был гениален не только в творчестве, но и в любви - в сложнейшей и тончайшей сфере души. "Любовь - она не имеет возраста", - вспомнил он где-то вычитанные слова. Против семьи была у Макса еще одна веская, как он считал, причина: его профессия, род деятельности. Находясь постоянно на острие бритвы, он не имел права подвергать опасности свою семью: жену и детей. Свое мнение на этот счет он как-то, будучи в Москве, высказал Ивану Слугареву. Тот решительно с ним не согласился, назвал его довод предрассудком, но тем не менее не разуверил своего коллегу Веземана. "От приглашения поужинать в ресторане отказалась", - вспоминал Макс и отнес этот отказ на счет скромности. Да, она скромна и застенчива, не то что Мануэла, которая, если не афиширует, то, по крайней мере, не скрывает своих отношений с Дэвидом Кларсфельдом. Какие они разные - Кэт и Мануэла, не похожие не только внешностью, пожалуй, полная противоположность. Толстогубая, крутобедрая, с дрожащими ягодицами, туго обтянутыми красными брюками, с вьющимися черными волосами Мануэла и рядом с ней такая миниатюрная, гармонично сложенная, где соблюдены все пропорции тела, Кэтрин - это воплощение беспечной невинности. Ему хотелось сделать для нее что-то приятное, вызвать в ее глазах такую же вспышку радости, растерянности и легкого смущения, которую он видел, когда подарил ей магнитофон. Теперь, слоняясь по своей квартире и бесцельно заглядывая из комнаты в комнату, он думал, что бы ей подарить, но такое, чтобы не обидеть ее и не поставить себя в неловкое положение. В кабинете взгляд его пробежал по радиотехнике и остановился на маленьком карманном транзисторе. "Она любит музыку - пусть слушает". Доставлять радость людям всегда приятно. Может, показать ей видеофильм "Счастливые", приобретенный им в последнюю поездку на материк. Фильм должен ей понравиться, он благопристоен и сентиментален. Нет, это займет много времени, а у него сегодня еще встреча с Диксом. "С фильмом и с рестораном надо повременить", - решил он и неожиданно поймал себя на мысли, что он волнуется. "Этого мне еще не хватало", - упрекнул себя и в тот же миг понял, что такое волнение ему приятно. Кэтрин пришла в то же время, что и вчера. Облаченная в легкое коротенькое платьице-халатик, застегнутое на все пуговицы сверху до низу и обнажавшее смуглые точеные ножки, она казалась порхающе-воздушной. Видно, от Веземана собиралась идти на пляж. Макс предложил ей сесть. Она смущенно отвела глаза и защебетала скороговоркой: - Благодарю вас, сеньор Веземан, я побегу на пляж, там меня ждет Мануэла. - Ничего с ней не случится, подождет, - ответил Макс, подвигая ей массивное, мягкое, низкое кресло на шариках-колесиках. - Садись. На пляж вместе пойдем. Она села, и коротенький халатик ее безгреховно обнажил круглое колено. Она стыдливо пыталась прикрыть его, натягивая полу, но ей это не удавалось. Чтоб не смущать ее. Макс отвел глаза в сторону радиотехники и заговорил не глядя на девушку: - Твой отец благодарил меня за магнитофон, сказал, что ему очень нравится музыка. - И мама тоже благодарит, сеньор Веземан, - поспешила вставить Кэтрин. - Выходит, у вас вся семья музыкальная. Поэтому я хочу подарить тебе вот эту штуку - будешь ловить музыку в эфире. Ты знаешь, что эфир сейчас переполнен музыкой - выбирай на любой вкус. - Он взял транзистор и протянул ей с дружеской улыбкой. Она отпрянула, прикрыла глаза ресницами и замотала головой: - Нет-нет, сеньор, я не могу принять. Папа будет недоволен. Это дорогая вещь, и у нас есть радио. - Но такого нет, а мне он без надобности, у меня их вон сколько. - Он включил приемник и начал вертеть колесико настройки, выхватывая в эфире то музыку, то голоса дикторов, то песни, пока не поймал то, что было приятно его слуху. - Моцарт. Великий немецкий композитор. Немец, как и я. - А-а, Моцарт, - закивала головой Кэтрин в знак согласия, и лицо ее приняло блаженное выражение. Макс положил транзистор ей на колени, проявляя настойчивость. Она не смело, а даже как-то осторожно взяла транзистор и, вкрадчиво взглянув на Макса, спросила, будто хотела погасить какие-то сомнения: - А вы правда немец? - Да, как и Моцарт. Она посмотрела на Макса недоверчиво, изучающе, произнесла степенно, как бы размышляя: - Вы не похожи… на немца. - А ты откуда знаешь немцев? - удивился Макс. - Знаю. В кино видела. И читала. А вы не такой. - Какой же я? - Вы добрый. - Голос ее звучал тонко и ласково. И вдруг спросила нерешительно: - У вас есть родные? - Нет. Погибли во время войны, в бомбежку. - И братья и сестры? Тоже погибли? - Есть у меня сестра. - Сколько ей лет? - Двадцать. - А как ее имя? - Кэтрин, Кэт. Глаза ее вспыхнули приятным удивлением. Спросила: - Она красивая? - Очень. Она прекрасная. - Чем она занимается? - Работает у доктора Дикса. Краска смущения залила ее лицо, она потупила взгляд и закрыла руками глаза. - Ты не хочешь быть моей сестрой? - улыбаясь, спросил Макс. Подойдя к ней, он бережно дотронулся рукой до ее черных с сизым глянцевым блеском волос, гладко зачесанных на затылок и перевязанных тонкой черной тесемкой. Она сидела, боясь шелохнуться. Ей было приятно и волнительно, и казалось, что все это похоже на сон, потому что права была фрау Эльза, сумевшая воровски проникнуть в тайны девичьего сердца: Кэтрин и в самом деле была неравнодушна к Максу - его сдержанные манеры, доброжелательная улыбка, знаки внимания зажигали в ней первые чувства нежности и доверия. - Ну хорошо, Кэт, за брата ты меня не принимаешь, а как друга? - его рука тихо скользнула по волосам и легла ей на плечо. Она осторожно, украдкой, не поворачивая головы, дотронулась до его руки, будто хотела отстранить ее, но не отстранила, а трепетно-нежно прикрыла ее своей горячей маленькой ладонью. Макс физически ощутил, как что-то волнующее, хмельное заструилось в нем, забродило пьянящим дурманом. Он безвольно наклонил голову, и губы его коснулись ее волос, совсем не жестких, как казалось на вид, а мягких, пахнущих солнцем и морем. Кэтрин не смела пошевелиться. Какая-то колдовская сила сковала ее нежным параличом, заполнила ее чем-то желанным, таинственным и неизведанным - ей было боязно и приятно. Ей казалось, что своими волосами она ощущает его жаркое лихорадочное дыхание и слышит, как гулко стучит сердце. Его или ее - она не могла определить, да это не имело значения. Так продолжалось, может, чуть дольше минуты, но Кэтрин показалось бесконечно долго. Макс быстро овладел собой, отпрянул от кресла и проговорил слегка дрогнувшим голосом: - Ты славная девочка, Кэт, и мне очень хочется сделать для тебя что-то очень хорошее. - Он стоял в полутора шагах от нее, прислонившись спиной к телевизору и смотрел на нее глазами, полными нежности и ласки. - Я хочу тебе сообщить, хотя это пока что между нами, нам с тобой предстоит командировка на материк в одну из интересных стран Центральной Америки. Ты будешь сопровождать меня в качестве… - он запнулся, хотел сказать "переводчика", но передумал, - в качестве личного секретаря. Только прошу тебя никому пока об этом ни слова. Это служебный секрет. Ты поняла меня? - Да, сеньор Веземан, - тихо отозвалась она и прибавила: - Я умею хранить тайны. - А сейчас на пляж? - Он протянул ей руку и помог подняться из кресла, к которому она, казалось, крепко привязана невидимыми ремнями. Помимо своей воли. Макс крепко сжал ее маленькую тонкую руку, растерянно трепыхающуюся в его жесткой руке, и неожиданно для себя ощутил теплую струю, от которой в груди его вспыхнуло что-то огневое, приятно волнующее и вызвало ответный огонь, который ожег, словно электрическим током, Кэтрин. Ей было боязно и сладостно-желанно. Интуитивным женским чутьем она поняла, что его огонь был ответный и вспыхнул он от ее искры, и потому почувствовала неловкость и стыд. Она подавила в себе желание продлить это благостное ощущение и, насилуя себя, высвободила свою руку, залившись розовым сиянием и на какой-то миг прикрыв от удовольствия влажно сверкающие глаза. Они молчали из опасения нарушить ненужными словами то блаженное состояние, в котором только что очутились, потому что любое слово теперь было бы неуместным, ничтожным и жалким. Молча вышли из дома, радуясь чему-то новому, давно желанному и незнакомому, той душевной легкости, когда хочется превратиться в птицу. Их пляж был пуст - ни Мануэлы, ни Дэвида. - Не дождались, - с досадой сказала Кэтрин и посмотрела на Макса преданно и покорно. Спросила, протянув вперед транзистор: - Можно включить? - Ну конечно же. В эфире трещало, свистело, завывало и, наконец, прорвалось каким-то диким истеричным визгом. Пела женщина, если это можно было назвать пением. Макс шутливо закрыл ладонями уши, сказал, морщась, как от дикого яблока: - Такой музыкой только акул отгонять. Макс быстро разделся и первым вошел в воду. На душе у него было легко и свободно, он чувствовал прилив чего-то нового, сильного и прекрасного. Он лег на спину, закрыл глаза и медленно поплыл от берега, испытывая блаженство от невесомости своего тела и молодости духа.
3
Дикс предпочитал морю свой домашний бассейн, сооруженный во дворе коттеджа, - три метра в ширину, девять в длину, выложенный голубой плиткой, отчего вода в нем зазывно ласкала глаз и манила в свои объятья. Двор был обнесен высоким тесовым забором; покрашенный зеленой масляной краской, он плотно сливался с зеленью кустарников и деревьев. С наружной стороны на расстоянии одного метра забор опоясывала металлическая сетка. С заходом солнца и до утра между этими двумя заборами - тесовым и сетчатым - хищно метался поджарый, стремительный доберман-пинчер, лоснящийся черной гладкой шерстью. Дикс считал его верным стражем, более надежным, чем "молодчики из банды Кочубинского" - так он называл охранников из комендантского отряда, этих разморенных солнцем и спиртным вконец обленившихся бездельников. Бассейн заменял Диксу систематическую получасовую физзарядку и водную процедуру - регулярно два раза в день: утром и вечером после работы. И еще Дикс любил конный спорт, которому он посвящал субботу и воскресенье. В отряде Мариана Кочубинского содержалось две лошади-тяжеловозы и восемь верховых, среди которых был и личный жеребец Дикса - серой в крупных яблоках масти, тонконогий и крутошеий, с ярыми огненными глазами. Он ходил только под седлом, и никто, кроме Дикса, не смел на него садиться. Закончив предвечернюю водную процедуру, Отто Дикс бодрым вышел из бассейна, тщательно осушил мохнатым полотенцем свое еще крепкое, без старческих признаков тело, в плавках поднялся на второй этаж и прошел через кабинет в свою спальню. С типичным педантизмом немца, привычным, заученным движением руки, - так было всегда изо дня в день, из года в год, - он выключил кондиционер, надел легкие льняные шорты, светлую хлопчатобумажную рубашку с погончиками и нагрудными карманами. Застегивать пуговицы не стал, довольно погладил волосатую грудь и живот и вернулся в соседнюю комнату-кабинет. На круглом столике стояли глиняная пол-литровая кружка и две банки пива, только что извлеченные из холодильника предусмотрительной фрау Эльзой. Откупорив банку и перелив пиво в кружку, Дикс нетерпеливо погрузил щетину усов в искристую разящую ароматным хмелем пену, сделал один глоток и с кружкой прошел на балкон, прихватив с собой вторую, еще не открытую банку. На просторном балконе стоял круглый легкий, плетеный из древесных прутьев с мраморным диском стол и два плетеных кресла-качалки. Дикс поставил на стол банку, стоя осушив одним залпом кружку пива, довольно крякнул, блаженно закрыл глаза и сел в кресло, облокотясь на мраморные перила балкона. Накаленный солнцем камень обжигал, и Дикс быстро убрал руку. Предвечерняя тишина покоилась в ленивой истоме. Размашистые веера пальм, унизанные у ствола янтарными плодами, погрузились в сладкую дрему и не отвечали на слабое, едва уловимое дуновение, исходящее со стороны моря, над которым повис медленно остывающий багряный шар. От него по разноцветью сверкающей глади моря от берега и до туманного горизонта, играя и искрясь, бежала золотисто-розовая дорожка. И этот кровянистый шар на сиреневом небосклоне, и освещенное им облако, застывшее в высоком небе и похожее на гигантское знамя, казались театральной декорацией, созданной кистью гениального художника. Дикс любил предвечерний час угасающего дня и не упускал случая полюбоваться им со своего балкона. Для него это были торжественные минуты, вроде вечерней молитвы. Он замечал, что по богатству красок и разнообразию оттенков картины заката не повторяются. Светлая узкая черта горизонта четко отделяла небо от моря. Сразу же над ней шла широкая темная полоса, зримо и резко переходящая в пурпурный окоем. В то время как небо было торжественно спокойное, уверенно хранящее какую-то неведомую людям неразгаданную тайну мироздания, море тревожно цвело, играло и переливалось радужными блестками. И чем ниже опускалось солнце, тем сильней разгорались краски на море, сменяя друг друга: палевый, сиреневый, розовый. По центру палевое, слева - свинцово-серебристое. Как-то незаметно на палевый полог легла пепельно-серая дорожка: это огромное облако-знамя бросило свою тень. Солнце тускнело медленно, устало, и дорожка на море исчезла как-то сразу, растаяла в один миг. У самого горизонта нижний край солнца начал плавиться, таять на глазах. И когда весь диск растаял, над горизонтом повисла тонкая остророгая ладья месяца, бросив на темную воду золотисто-зыбкий мерцающий свет. Закат солнца вызывал в душе Дикса странную и грустную ассоциацию неотвратимого: вот так угасает человеческая жизнь. Вечер, закат - это старость. Он думал не о себе: в свои шестьдесят лет он не считал себя стариком и даже совсем не думал о старости своей - физически он был крепок и здоров. Тем не менее закаты напоминали ему, что все главное в его жизни осталось где-то позади, впереди же были неизвестность и пустота. Пришло время подводить итог. А вот этого ему и не хотелось. Где-то в глубине души он сознавал, что жизнь его прошла вхолостую, - нечего было подводить, нечем было похвастаться даже перед самим собой, не то чтоб перед людьми. О прошлом не хотелось вспоминать, о будущем думалось с тревогой и тупой усталостью. Причиной тревоги была неизвестность, порождающая страх. То, что не сегодня, так завтра его лишат работы, он знал определенно - свое недовольство им уже не однажды высказывал Левитжер. Левитжера и его хозяев можно понять: им подавай результаты, давно обещанный "А-777". А результатов все нет как нет. Им некогда ждать, а Дикс не торопится. Во имя чего он должен спешить? Для Дикса вопрос этот отнюдь не простой, даже очень сложный. Во имя какой идеи он должен изобретать чудовищное оружие? Во имя борьбы с коммунизмом. Он не верит, что коммунизм можно уничтожить каким-то оружием, тем более тем, над которым работает возглавляемая им "Группа-13". "А-777" - оружие страшное и слепое, оно будет поражать все живое, без разбора - одинаково, как коммунистов, так и христианских и иных демократов, как русских, так и немцев на Шпрее и на Рейне, католиков и протестантов, верующих и атеистов. Дикс отдает себе отчет, что Пентагон намерен применить это оружие в Европе, оградив от него Америку барьером Атлантического океана. Во имя своих имперских амбиций и эгоистических интересов правители США готовы пожертвовать Старым светом - колыбелью мировой цивилизации и культуры, превратить Европу в безжизненную пустыню. А кто они, нынешние правители США, воротилы большого бизнеса, миллиардеры и миллионеры, подлинные хозяева Америки? Дикс знает их поименно - это все те же Левитжеры-Куны, которых нацист Дикс всегда считал, как и коммунистов, своими врагами. Он называл США рабовладельческим государством, контролируемым еврейской буржуазией. С Островом придется расстаться, и без сожаления. Подальше от вирусов. На материке у него скромная, но уютная вилла. Там он в уединении и достатке проведет остаток жизни. Только вот соседство Курта Шлегеля может создать некоторое неудобство. Что ж, в конце концов можно будет купить виллу в другом, более укромном месте, подальше не только от своих земляков-нацистов, но и от всевидящего ока ЦРУ и "Моссада". Он понимал, что во всей Латинской Америке, исключая, конечно, Кубы, не найдется такого уголка, куда бы не могли протянуться хищные ядовитые щупальцы коварных сестричек - израильского "Моссада" и ЦРУ. От них можно укрыться разве что в джунглях Амазонии. Два десятилетия Отто Дикс пытается сбросить с себя груз прошлого, вычеркнуть его из памяти, навсегда забыть, не замечая, что одновременно он берет себе на душу новый греховный груз, возложенный на него Пентагоном. Собственно, он не считал свою работу в "Группе-13" греховной. Для него не существовало понятий "морально" и "аморально". Когда-то он поклонялся Ницше и Шопенгауэру. Но прошлое, главным образом эксперименты на людях в секретной лаборатории в замке графа Кочубинского, преследовало его не то чтобы постоянно, а периодически, внезапными набегами. Тогда появилась странная привычка рисовать чертей. Делал он это машинально, произвольно, думая о чем-нибудь постороннем и совсем не замечая, что делает его рука независимо от работы мозга. В первое время такая странная привычка удивляла и даже забавляла его. Примитивные рисунки фигурок с рожками и хвостами появлялись не только на листках бумаги, на полях книг, которые он читал, но даже на служебных документах. Первой обратила на это внимание фрау Эльза и была очень встревожена, про себя решив, что у доктора с психикой не все в порядке. Потом и сотрудники обратили внимание на забавную странность своего шефа. Дошло и до Левитжера. Впрочем тот отнесся к рисункам Дикса с веселой иронией. А между тем самого "художника" его привычка со временем стала раздражать и он попытался избавиться от нее. Оказалось, что это не так просто. Дикс на был религиозным, не верил, что называется, ни в бога, ни в черта, ни в загробную жизнь. И все же какой-то мрачный червь точил его душу, смущал и томил чем-то непонятным, гнетущим, как кошмар, особенно по ночам, изводил жуткими сновидениями, похожими на фантастическую явь. Тогда он пробовал обращаться к Библии, но и там не находил утешения и душевного покоя. Первая часть Библии - "Ветхий завет" - его раздражала откровенной проповедью безнравственности и цинизма, грубой тенденциозностью и явной фальшью, сочинением высокомерных раввинов, предназначенным для доверчивых и наивных гоев. Вторая часть - "Новый завет" - поначалу казалась скучной и примитивной. Он читал ее поздним вечером, лежа в постели, перед тем, как погрузиться в тревожный сон. Затем он увлекся и в некоторых поучениях апостолов находил здравые мысли, наводящие на трезвые раздумья, которые тоже не приносили душевного покоя, а их утешения казались иллюзорными и наивными. Дикс понимал причину своего душевного состояния, внутреннего разлада: потеряна почва под ногами, утрачена вера в идеалы, в незыблемость и прочность мироздания. Все вокруг ему виделось шатким, неосновательным, фальшивым, насквозь пропитанным ложью и ненавистью. Собственно, никаких идеалов у Дикса уже не было. Он был убежден, что человечество стремительно приближается к всемирной катастрофе, и ничто не в состоянии остановить этот безумный бег и предотвратить гибель цивилизации. Ему казалось, что планета Земля охвачена предсмертной судорогой и страхом. Этим он пытался объяснить и собственный страх, преследовавший его уже долгие годы, хотя и понимал иные, более конкретные причины своего страха. Сначала он боялся разоблачения его преступной античеловеческой деятельности в годы войны. Гибель цивилизации он считал неотвратимой, даже если и не произойдет термоядерной войны. Прогресс загубит цивилизацию, безрассудное варварское насилие человека над природой. Природа жестоко отомстит всему живому на земле. Она восстанет и нанесет сокрушительный удар, один из тех, которые люди называют стихийными бедствиями. Она покажет свою свирепую силу - экологический взрыв не менее опасен взрыва термоядерного. Однажды он поделился этими мрачно-безысходными мыслями с Веземаном. - А где же, по-вашему, выход? - спросил Макс. - Остановить прогресс, заморозить? - Это практически невозможно, - сказал Дикс. - Даже при большом желании. Человеческий эгоизм, построенный на принципе "после меня хоть потоп" и умноженный на алчность хищника, не позволит. Человек по природе своей скот, варвар. Изобретя сложные машины и прочие для своего удовольствия блага, он в душе своей остался дикарем. Между прочим, самый отвратительный дикарь - кто по-твоему, Макс? - Коммунисты или негры? - решил поиграть в поддавки Веземан. - Нет, Макс, американцы. Они безнравственны, бездуховны и жестоки. Их бог - доллар, бог и дьявол одновременно. - Но ведь глумление человека-варвара над природой можно приостановить. - Каким образом? - Употребив власть. - Это возможно было бы лишь в одном единственном случае - всемирная власть при едином государстве. А такое возможно ли в обозримом будущем? Если ответить "да", то надо признать историческую необходимость единой всемирной власти, то есть мировое господство, к которому стремились мы, а сейчас стремятся другие. Со временем, поселившись на Острове, он сумел если окончательно и не побороть, то, по крайней мере, приглушить этот страх и уверовать в свою здесь полную безопасность. Но прошло немного лет, и страх снова подкрался к нему незаметно в лице Левитжера, который, по мнению Дикса, официально представлял Пентагон, а неофициально одновременно ЦРУ и "Моссад" - две спецслужбы, совершенно неразделимые, как и государства, которые они представляли. Дикс работал над сверхсекретным оружием, и ЦРУ не допустит разглашения тайны и без чуждых ему сантиментов отправит на тот свет самого изобретателя, когда в нем отпадет надобность, а его язык может угрожать утечке секретной информации. И где бы ни находился Отто Дикс, за ним постоянно будет следить неусыпное око ЦРУ. Его могут умертвить в любое время, та же Кэтрин, Мануэла или Эльза по приказу Левитжера "случайно" капнет ему на руку или на любую другую часть обнаженного тела только одну каплю жидкого нервного газа "Ви-Экс", и мгновенно прекратит работу головной мозг, смерть наступит через полминуты, не позже. У ЦРУ и "Моссада" большой выбор средств и способов, с помощью которых можно "элегантно" отправить на тот свет неугодного человека, да так, что будет полная видимость естественной смерти. Диксу были известны на этот счет конкретные примеры. Он слышал от человека, внушающего ему доверие, что и египетский президент Насер был умерщвлен агентом израильской разведки. Сообщение о неестественной смерти Насера потрясло Дикса по двум причинам. Насеру он симпатизировал потому, что тот в годы войны, будучи офицером, воевал против англичан. Этот факт из биографии для Дикса был более значительным и ценным, чем послевоенная деятельность Гамаля Насера в качестве президента Египта, которую он не разделял. Но больше всего возмутило Дикса, что Насера умертвили израильтяне, которых Дикс ненавидел зоологической ненавистью. Если израильская разведка вместе с ЦРУ так легко расправилась с президентом Египта, то им не составит никакого труда прикончить и Дикса, когда отпадет нужда в его услугах. Такие мысли в последнее время надвигались на Дикса темной тучей, обложили плотно со всех сторон и порождали страх. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным. Прежде в уединении и одиночестве он видел благо, приносящее ему душевное равновесие и покой. Он не имел друзей и избегал новых знакомств. Отчужденность, недоверие к окружающим довели его до такого состояния одиночества, что он уже начал разговаривать сам с собой, чем озадачил наблюдательную молчаливую Эльзу. Однажды она спросила: "Вы с кем это разговаривали, доктор?" - "С собой", - ответил он напрямую. Эльза сделала удивленные глаза и с недоумением пожала плечами. А он прибавил язвительно-шутливо: "С умным человеком приятно побеседовать. А какой смысл разговаривать с дураком? Только время терять". Как вдруг все переменилось: с необыкновенной остротой он ощутил свое одиночество и потребность общения с надежным человеком. Недоверчивый и подозрительный, он не видел здесь, на Острове, человека, которому можно было если не открыть, то хотя бы чуть-чуть приоткрыть душу. Дикс давно присматривался к своим землякам - Штейнману и Веземану и отдавал предпочтение Максу, которого считал человеком умным, глубоким и вообще натурой цельной и твердой. За внешней холодной сдержанностью Веземана наблюдательный Дикс сумел рассмотреть отзывчивый, чувственный и в то же время гордый характер. Именно прежде всего гордости не достает Штейнману, зато в избытке лакейства перед янки, думал Дикс, сравнивая своих земляков. Мелок, истеричен, беспринципен и труслив - это касалось Штейнмана. Перед таким не то что душу не откроешь - с таким и разговаривать неприятно и унизительно. Под напором одиночества и страха Дикс нетерпеливо, хотя и с присущей ему осмотрительностью искал сближения с Максом Веземаном. Макс это видел и пытался разгадать, что заставило Дикса проявить к его особе такой интерес. Это было важно. Дело в том, что и Макс искал сближения с Диксом, правда, по совершенно иным мотивам: этого требовали интересы дела, его служба. Получить секретную информацию из первых рук - да это же предел мечты любого разведчика. И вот вышло так, что на ловца и зверь бежит. Правда, обе стороны действовали неторопливо и осторожно. Чтоб расположить к себе Дикса, Веземан давно пытался нащупать его слабости. Он как-то обратил внимание на антисемитские высказывания Дикса, в которых явно сквозила расистская неприязнь к евреям. И Макс решил выдать себя за единомышленника, разделить позиции Дикса по "еврейскому вопросу" и таким путем расположить его к себе и, возможно, войти в доверие. В то же время Макс решил действовать с чрезвычайной осмотрительностью, поскольку для него оставалось загадкой, что побудило Дикса искать с ним сближения. А вдруг он что-то заподозрил и хочет выяснить, кто есть на самой деле этот представитель генерала Рейнгарда Гелена - Макс Веземан? Ночная темень опустилась на Остров сразу же, как только солнце утонуло в морской пучине, а Дикс все еще продолжал сидеть на балконе, с возрастающим нетерпением поджидая Веземана. С моря потянуло едва ощутимой свежестью, гранит перил постепенно начал остывать, а запах камфорного лавра стал гуще и острей. Снизу раздался бодрый голос Веземана: - Добрый вечер, доктор. Дикс облокотился на перила и посмотрел вниз. В свете фонаря у парадного стоял Макс и, улыбаясь, приветствовал поднятой рукой. - Поднимайся наверх, - дружелюбно проворчал Дикс и направился в кабинет. Макса встретил снисходительным упреком: - А я уж было решил, что не придете. - Как можно, доктор? Слово офицера. - Нынче слова ничего не стоят, Веземан. В наши дни ничто так не подвергалось инфляции, как слова. Нынче в мире царствует ложь. Ею пронизано все, все слои общества, все учреждения и предприятия, все без исключения сферы жизни человеческой. Везде обман, все фальшиво. Даже атмосфера, воздух, которым мы дышим, эфир, космос, не говоря уже о людях, особенно власть имущих. Изо всех уголков, куда ни посмотри, льются потоки лжи, циничной, беспардонной, наглой. Лгут президенты, министры, священники, клерки, генералы, журналисты, монахини, сенаторы, партийные и профсоюзные боссы. Одни с расчетом, другие без всякого умысла, просто по привычке. И самое страшное, что основная масса двуногого скота, населяющего Землю, и не имеющая за душой никаких идеалов, верит лжецам, лицемерам и циникам и слепо, как стадо баранов, идет за ними, идет на бойню, на собственную гибель, идет послушно и даже весело, с восторгом, идет за куском хлеба, за побрякушками и не удосужится подумать над своей жизнью, поразмыслить - что ты есть и зачем ты ходишь по грешной земле. - Он возбуждался, лицо его постепенно принимало пунцовые оттенки. Затем он отошел к двери, приоткрыл ее и прокричал в коридор: - Эльза, давай сюда виски. - Ложь, дорогой доктор, была в избытке во все времена, этим недугом и прежде страдали президенты и кардиналы, генералы и сенаторы, - сказал Макс, садясь в кресло подле журнального столика, на котором стояла коробка с сигаретами и массивная стеклянная пепельница. Дикс тоже сел и дотронулся рукой до коробки. - Курите, пожалуйста. - Благодарю, я забочусь о своем здоровье, - любезно отозвался Макс, и в глазах его заиграли невинно-насмешливые искорки. - А, да, я забыл. Вам, конечно, нужно здоровье. Много здоровья потребуется для молодой и прелестной жены. - Дикс посмотрел на Макса коротким скользящим взглядом, и в беспокойных глазах его Макс поймал озорную вспышку. - Нет, доктор, здоровье нужно для себя. Что же касается женитьбы, то мой поезд ушел. - Ну-ну, оставьте, ваш поезд еще только приближается к станции. Смотрите - не прозевайте: стоянка непродолжительная. А Кэт, смею вас заверить, славная девушка. Будь я на вашем месте… - Да, но она мне во внучки годится. - Будет вам. Разница в двадцать пять лет по нынешним меркам считается нормальной. На внучках женятся миллионеры, там разница в пятьдесят лет. - Они не женятся, они покупают молоденьких, как редкую антикварную вещь или картину знаменитого художника. - Сравнение не совсем удачное, - с деланным недовольством проворчал Дикс. - Картины, как правило, не падают в цене, а молодость - товарскоропортящийся. Разговор как-то неожиданно перекинулся на тему, нежелательную для Макса, считавшего кощунством вторгаться в сферу его личного, интимного, тем более склонять имя Кэт, и он попытался вернуть беседу в прежнее русло. Тем более, что такой неожиданный и настойчивый разговор о лжи насторожил Макса: он готов был принять это по своему адресу как тонкий намек - мол, я-то знаю, кто ты есть на самом деле, ты совсем не тот, за кого выдаешь себя. Поэтому он считал, что с его стороны неразумно было бы уклониться от разговора о лжи, а попытаться разгадать, скрывается ли за ним тайный смысл. И он сказал: - Вы так эмоционально говорили о лжи, доктор Дикс, и я с вами согласен. Но позволю вам напомнить, что непревзойденным мастером лжи был наш с вами соотечественник доктор Геббельс. Я считаю, что его циничная ложь на государственном уровне во многом способствовала трагедии нашего отечества. Эта ложь вводила в заблуждение фюрера; основываясь на явной лжи, он принимал неверные, опрометчивые решения. "Это ты всерьез или хочешь поиграть со мной?" - мысленно спросил Дикс, и по лицу его скользнуло безмолвное изумление. Эльза вошла с подносом, на котором стояла бутылка шотландского виски, две рюмки из зеленого стекла, бутылка "Тоника", вазочка со льдом, тарелка с бутербродами и две закусочных тарелочки. Все это она безмолвно и неторопливо выгрузила на стол и, сделав легкий кивок головой, удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. - Не оправдывайте Гитлера, сейчас это звучат банально, - холодно проговорил Дикс, разливая виски. - Это простительно Штейнману, а не вам. - Почему? - с преувеличенным удивлением спросил Макс. - Потому что вы имеете на плечах мыслящую голову, в отличие от вашего начальника. - Насильственная улыбка сверкнула и тут же погасла в его глазах с желтыми белками, он поднял свою рюмку: - Ваше здоровье, Макс, и за ваше семейное будущее. - Он залпом влил в себя виски и уставился на Макса изучающим дружеским взглядом. Проговорил с нотками доверия: - У вас много начальников, но я имел в виду Штейнмана. Впрочем, я не высокого мнения а о вашем главном начальнике генерале Гелене. Я знал его до войны и в военное время. - Генерал Гелен считается асом разведки, выше самого адмирала Канариса, - очень деликатно возразил Веземан, не желая однако спорить. - Кем считается? - быстро и решительно спросил Дикс. - Артист ваш Гелен. Сам себе создает рекламу. Тоже нашли Канариса. Да он перед адмиралом что пудель перед львом. У Канариса были действительно асы разведки, таланты. Он умел подбирать кадры прирожденных профессионалов. Разведчиком надо родиться. А ваш Гелен довольствуется профанами вроде Штейнмана. А известно ли вам, что Гелен протащил на ответственные посты в свое ведомство шестнадцать своих родственников, в том числе брата, сына, шурина и зятя? - Что вы говорите? Впервые слышу, - с изумлением воскликнул Макс, хотя на самом деле об этом факте он знал. Он внимательно наблюдал за Диксом, стараясь не упустить ни одной нотки в интонации его голоса, ни одной черточки в выражении его лица, ни одного жеста. Он хотел проникнуть в его тайные мысли, удостовериться, насколько искренен его собеседник, отделить правду от лжи и, главное, самому не попасть в западню. В самом деле, думал Макс, ругает Гитлера, Гелена и Штейнмана, искренне ли? Или хочет тем самым создать определенное мнение о себе и одновременно "прощупать" на этот счет своего собеседника. Настойчиво подставляет Кэтрин, даже слишком. Хочет иметь в постели Макса своего осведомителя? Такой вариант тоже нельзя исключать. И, наконец, этот решительный напор на слово "ложь" - спроста ли это? Или за ним тоже что-то кроется, какой-то дальний прицел, интригующий намек, чтоб потом сразу ошеломить: мол, ты. Макс, тоже ложь, я-то знаю, кто ты есть на самом деле? И начнет играть в кошки-мышки. Так кто же все-таки ты есть, Отто Дикс? Вернее, чего он хочет и зачем вдруг после стольких лет совместной работы нежданно-негаданно без убедительного повода пригласил к себе домой, чего за ним прежде не водилось? Веземан никогда не забывал об осторожности, но в данном случае решил внешне расслабить свою сдержанность, пойти навстречу Диксу, деликатно, соблюдая такт, высказать свою симпатию и продемонстрировать, опять-таки корректно, без нажима свое единомыслие по какой-то важной для Дикса проблеме. Он знал, что закоренелого нациста Дикса всегда занимал еврейский вопрос и особенно он болезненно воспринял появление в "Группе-13" сначала Левитжера и Куна, а затем Кларсфельда. И Макс решил именно на этой теме поиграть с Диксом в поддавки и вызвать его на откровенный разговор. Но прежде нужно поставить точку на теме "ложь", выяснить, что за ней скрывалось, был ли за этим словом какой-то тайный намек на личность самого Веземана. И Макс спросил: - Вы не согласны со мной, что Геббельс своей фантастической ложью влиял на фюрера, и эта ложь погубила Германию? Дикс искоса уставился на Макса, и тяжелый взгляд его выразил смесь любопытства и недоумения. - Вы это всерьез? - спросил он, и не дожидаясь ответа, продолжал: - Двадцать лет - срок вполне достаточный, чтоб объективно, беспристрастно разобраться в причинах нашей катастрофы. - И вы знаете эти причины? - дружелюбно, без вызова поинтересовался Макс, и взгляд его выражал удвоенное внимание. - Их несколько, - тихим усталым голосом ответил Дикс и прищурился беспокойными холодными глазами. Получилась некоторая пауза: Дикс словно выбирал из множества причин главную. Наконец проговорил глухо, прикрывая веками мерцающие глаза: - Гитлер по своему характеру был авантюрист, но, несомненно, талантливый авантюрист. Потому-то на него и делали ставку те, кто двинул его к рычагам власти, те самые, которых в наши дни называют обобщенно военно-промышленным комплексом. Дикс умолк, мельком искоса взглянул на Макса и сразу же отвел взгляд, в котором заметна была усталость. Губы его подергивались, он тяжело дышал. - Не означает ли это, что американский военно-промышленный комплекс выдвинет своего фюрера-авантюриста? - осторожно заметил Веземан, чтоб поддержать разговор. Дикс медлил с ответом, рассматривая свои жилистые руки, затем сказал не без усилия: - Они учитывают наши ошибки. По крайней мере, должны учитывать. Цель у них та же - мировое господство. Макс обратил внимание на странную манеру Дикса уклоняться от ответов на конкретные вопросы, как-то незаметно и даже как будто не преднамеренно уходить в сторону и затем неожиданно возвращаться, что называется, на исходную точку. Налив снова виски, Дикс продолжал: - Гитлер принес беду Германии, их же фюрер ввергнет в катастрофу все человечество. - Кого вы имеете в виду? Чей фюрер? Дикс посмотрел на Макса с некоторым недоумением, словно тот задал нелепый вопрос. Он молча отпил лишь один глоток спиртного и опять же заговорил в обход вопроса окольным путем: - Видите ли, Макс, войну проиграли мы, немцы, а выиграли ее не русские. - Он снова умолк, упрямо уставившись холодным взглядом в дальний угол комнаты. Выждав минуту, Макс спросил с некоторым изумлением: - А кто же? - Евреи. Они воспользовались победой русских, которые не смогли или не сумели удержать плоды своей победы. - Вы говорите парадокс. - Отнюдь нет. Что такое современные США? Это государство, которым правят евреи. Разве не так? Общеизвестный факт, который не принято разглашать. По численности населения евреи в США составляют ничтожный процент. Но этот ничтожный процент владеет львиной долей финансов, промышленным и экономическим потенциалом, средствами массовой информации, культуры, науки. Он, этот процент, фактически определяет внешнюю и внутреннюю политику страны, избирает и смещает конгрессменов и президентов. Между прочим, Макс, да будет тебе известно, что и вся Латинская Америка находится в хищных когтях евреев. Они идут к своей цели с гораздо большим багажом, чем шли мы в свое время. - А разве у них и у нас одни цели? - Мировое господство, - коротко ответил Дикс и резко откинулся на спинку кресла всем своим поджарым корпусом. Повторил, растягивая слова: - Мировое господство. - И вы считаете, что у них есть шансы достичь этой цели? - Пожалуй, есть, - не очень уверенно ответил Дикс. - По крайней мере, больше, чем было у нас. У них один враг - Советская Россия. Все остальные - не в счет. Россия, конечно, твердый орешек, о который многие ломали зубы. Забывать историю, а тем более игнорировать, могут только самонадеянные авантюристы. Но у янки есть небольшой шанс, и они могут рискнуть. - Как Гитлер? - стремительно спросил Веземан. - Но их стратеги, надо полагать, не станут игнорировать историю. - Я невысокого мнения об исторических познаниях американских стратегов. Но, думаю, что некоторые наши ошибки они учитывают. - Как например? - Например, мы не имели в России "пятой колонны". Не смогли создать ее к началу войны. Сталин и большевики воспитали в народе ненависть к фашизму. В деле пропаганды своей идеологии большевики не уступали нам, а, возможно, и превзошли. Мы начали создавать "пятую колонну" в России уже в ходе военных действий. А из кого? Из уголовников и прочего сброда, который не пользовался в народе никаким авторитетом. Американцы учли этот наш просчет: они давно создают в России "пятую колонну" из другой категории людей. Это разумно. Мы свою агентуру ориентировали на шпионаж и диверсии, они же добавили к этому идеологические диверсии. И, надо сказать, преуспевают. А ведь это, последнее, пожалуй, важней, чем обыкновенная диверсия. Взорвать души людей, особенно молодежи, куда важней, чем взорвать железнодорожный мост или заводской цех. Они ищут свою агентуру в среде интеллигентов, особенно ученых. Адам Кун - живой пример. Вы, конечно, знаете, что до эмиграции на Запад он уже был завербован американцами и уже поставлял им секретную научную информацию. Кстати, вы не знаете, он не родственник миллиардерского клана Кун-Лееб? Веземан давно хотел рассказать Диксу об Адаме Куне и все выжидал удобного повода. Историю Адама Куницкого-Куна Максу поведал как-то во время очередного приступа откровенности за рюмкой спиртного Штейнман, которому была известна до малейших подробностей вся крученая-перекрученая жизнь и похождения отпрыска беловирского домовладельца. И вот случай подвернулся. Прежде чем отвечать Диксу, Макс спросил, не найдется ли в этом доме пиво. Наивный вопрос: чтобы в доме чистокровного немца, уважающего себя доктора, да не было пива… Дикс легко поднялся из-за стола, приотворил дверь и прокричал Эльзе. Когда он сел на свое место, Макс сказал: - Адам Куницкий - такова настоящая фамилия вашего коллеги - никакого отношения к тем Кунам не имеет. Он родом из Польши. Вы совершенно правильно сказали, что до эмиграции на Запад Кун работал на американские спецслужбы. А известно ли вам, доктор Дикс, что еще в годы войны Адам Кун был завербован "Абвером"? Макс посмотрел на Дикса интригующе, и взгляд его выражал искреннюю доверительность. Дикс с напряженным изумлением ждал. - И завербовал его - это между нами - не кто-нибудь, а Карл Штейнман, - прибавил Макс, Дикс недоверчиво покачал головой, произнес с раздумьем, про себя: - Мало вероятно, не может быть; насколько я понимаю, Кун - еврей. - Ничего не значит. Иногда наши спецслужбы пользовалась услугами евреев и довольно успешно. Дикс нахмурился, угрюмо помолчал и вдруг спросил солидным голосом: - Вы прессу читаете? - Просматриваю. - Я хочу обратить ваше внимание на два материала: один в "Нью-Йорк таймс", другой в "Вашингтон пост". - Он, не вставая, протянул руку к дивану, где лежали заранее приготовленные газеты, передал их Веземану и сказал: - На досуге посмотрите, там есть любопытные публикации. - О чем? - Веземан с изумлением посмотрел на него. - О разном и… о том, о чем мы с вами сейчас ведем разговор. Вошла Эльза с четырьмя банками пива. Молча поставила на стол и бесшумно, как тень, удалилась. Макс проводил ее долгим выжидательным взглядом и, когда за ней закрылась дверь, сказал, подняв рюмку с виски: - Доктор Дикс, я как-то проникся к вам уважением, возможно, потому, что наши взгляды, как мне кажется, по главным вопросам совпадают. Я хочу выпить за ваше здоровье в за доверие. У нас с вами есть свои служебные тайны, которые мы не вправе разглашать. Но я считал, что мой шеф полковник Штейнман должен был вам, просто как немец немцу, рассказать о Куницком, сообщить "кто есть кто". Не знаю, почему он этого не сделал. Поэтому я позволю себе проинформировать вас о человеке, с которым вы по иронии судьбы вынуждены работать рука об руку. Ваше здоровье. Выпив до дна виски, Макс открыл банку холодного пива, с наслаждением влил в себя несколько глотков и, посмотрев на Дикса смиренно-виноватым взглядом, продолжал: - Я точно не знаю: то ли в сентябре тридцать девятого, то ли в июне сорок первого Адам Куницкий бежал из Польши в Россию. В сорок третьем советское разведывательное ведомство выбросило на парашютах в район Беловира диверсионную группу с целью проникнуть в замок графа Кочубинского - отца нашего коменданта Мариана Кочубинского. Извините, доктор, долг службы, мне известно, что в замке в то время работали вы, ваша лаборатория. Ею очень интересовалась советская разведка. В группу диверсантов, выброшенных в районе Беловира, был включен и ваш коллега Адам Куницкий, поскольку, будучи уроженцем Беловира, он хорошо ориентировался на местности. Группа была схвачена и уничтожена. В живых остались только двое - Адам Куницкий и еще одна девушка. Ее использовали, как прикрытие для Куницкого, которого тогда же и завербовал Штейнман. Так что американцы получили Куна от нас в качестве… сувенира. Макс умолк, наблюдая за Диксом. Он хотел понять, на самом ли деле Диксу не были известны эти сведения из биографии начальника лаборатории и какое впечатление произвело на Дикса его открытие. Дикс сидел, облокотясь на стол и глядя угрюмо на пепельницу, на краю которой угасал окурок сигары. Пожимая плечами, он тихо и с усилием выдавил из себя: - Невероятно. Совсем неожиданно и почти неправдоподобно. - Поднял воспаленные глаза на Веземана, спросил: - А вы уверены в достоверности того, что рассказал вам Штейнман о Куне? Вы же знаете, Карл не прочь и сфантазировать, сочинить. Попросту - соврать. - А зачем? С какой целью, какова ему выгода? - Прихвастнуть. Мол, Кун его крестник. - Хвастать-то нечем. Карл ненавидит Куна, презирает. Они даже не разговаривают друг с другом и не здороваются. - Гм… Пожалуй. Что ж, Макс, спасибо за доверие и откровенность. Ты сказал, что у нас есть что-то общее. - Я имел в виду взгляды, - быстро уточнил Веземан. - Взгляды взглядами, не в них сейчас суть. Главное же, что нас объединяет, состоит в том, что у нас нет будущего. И родины у нас нет. У тебя нет Кенигсберга, у меня нет моего Лигница. Ваш у русских, мой у поляков. - Но позвольте вам возразить: Германия есть, она существует как суверенное государство, даже два государства, суверенных и независимых. - Погодите, дорогой Макс, - Дикс поморщился, поднял руку, словно хотел остановить своего собеседника: - Я не воспринимаю ни демагогии, ни риторики, я реалист и смотрю на вещи трезво. Упаковка, оболочка меня на интересует, потому что она всегда фальшива, обманчива. Согласитесь, что ни та, ни другая Германия не могут похвастаться своей независимостью. Суверенность их формальна, фикция. Они члены двух враждебных, заметьте - враждебных лагерей. А я бы хотел видеть свою родину единой и подлинно независимой ни от Вашингтона, ни от Москвы, сильную, авторитетную на международной арене. Чтоб с ее мнением считались другие страны и правительства. Такой родины у нас с вами нет. Макса подмывало возразить, поспорить, но усилием воли он сдержал себя - он не имел права рисковать. Возразить, высказать свою точку зрения, означало бы вызвать подозрение и недоверие Дикса, раскрыться. А во имя чего, зачем? В этом не было нужды, - он слушал с молчаливым сочувствием, и его молчание вполне могло сойти за знак согласия. А Дикс тем временем продолжал мрачно и безнадежно: - А раз нет родины, нет и будущего. И вообще будущее человечества мне видится в туманной дымке, без очертаний, какой-то расплывчато-склизкой, как медуза, массой. А иногда оно представляется в виде кошмарно-зловещего ядерного гриба. И этот кошмар. Макс, представьте, делаем мы, то есть я. И ты, между прочим, поскольку ты к сему причастен. - Ну, уж нет, доктор, моя причастность весьма и весьма сомнительна. Я даже представления не имею о том чудовищном кошмаре, который вы изобретаете вместе со своим коллегой Куном, - решил бросить пробный камешек Веземан. - Послушай, Макс, я прошу не произносить моего имени рядом с именем Куна. Мы не коллеги. Мы скорее враги. - Извините, доктор. Но ведь вы вместе работаете на одного хозяина - американцев. - К сожалению - да, трагический парадокс. Мы с вами. Макс, только не с Куном, вынуждены работать на своих врагов. Американцы были нашими врагами в прошлую войну, такими они и остаются по сей день, как это ни прискорбно. Нас, немцев, они ненавидят, а терпят только потому, что в их политической и военной стратегии нам отводится не очень благовидная, пожалуй, весьма неблаговидная, грязная роль. Впрочем такую же роль американцы отводят и Германии - обеим ее частям. На восточную они нацелили ракеты НАТО, а Федеративную республику подставили под советские ракеты, чтобы отвести их удар от себя. К своей цели, к мировому господству они пойдут сначала по нашим трупам, а уж потом по русским. Дикс смотрел на Веземана мрачно и в то же время в его взгляде, в усталых глазах Макс видел тайный призыв, приглашение к диалогу. По всему чувствовалось, что его одолевают какие-то сомнения, неуверенность, душевный разлад. В искренности высказываний своего собеседника теперь Макс не сомневался и понимал, что ему нужно поддержать разговор и, может, даже заострить, попытаться поставить точку над "Ь. Он заговорил тоном сочувствия и понимания: - Беспросветную картину вы нарисовали, доктор Дикс. - А ты видишь просвет? Укажи, где он? - возбужденно отозвался Дикс. - К сожалению, вы правы. Но возникает законный вопрос: стоит ли помогать своим врагам изобретать оружие, при помощи которого они пройдут по нашим трупам? Дикс не сразу ответил. Он прищурился в пространство, синие толстые губы его дрогнули в подобии улыбки, рассеянной и усталой. Заговорил глухо, не глядя на Веземана: - И вот еще один парадокс, ирония судьбы. В минувшую войну мы заставляли русских пленных работать на наших военных предприятиях, то есть делать оружие, которым наши солдаты убивали их братьев. Теперь мы поменялись местами. - Русские работали на наших заводах под угрозой смерти, у них не было выбора, - осторожно напомнил Веземан. - Мы знаем случаи саботажа, они были не единичны. Вы же, очевидно, слышали, что на фронте не взрывались сработанные невольниками снаряды и бомбы и, напротив, взрывались отремонтированные ими же наши паровозы. Дикс поднял усталый взгляд на Макса и в упор спросил как-то мягко, пожалуй, деликатно: - Это ответ на мой вопрос? - И так как Веземан медлил, он уточнил: - Нам что, тоже становиться на тот же путь? Это уже напрямую, в лоб, и Веземан понимал, что нельзя ему промахнуться. - Если исходить из вами сказанного, доктор Дикс, что мы поменялись местами, то другого не дано. По крайней мере, совесть наша будет чиста, - ответил Макс и, щелкнув вновь открытой банкой пива, предложил: - Вам налить? - Спасибо, Макс, я виски. - Он сделал из рюмки маленький глоток и потом заговорил глухим полушепотом, как бы с самим собой: - Совесть, говоришь. Совесть. А собственно, что это такое? Какова она на вкус, какого цвета? Вот виски - я знаю, что оно такое, и какое ощущение вызывает во мне. А совесть… это что-то… - он постучал ногтями по столу, с грустью причмокнул языком, промычал задумчиво: - Мм-да. Совесть… В нашем с вами положении она бесполезна. Веземан обратил внимание, как мелкая незаметная дрожь пробежала по угрюмому лицу Дикса, словно от чего-то неприятного, чего он избегал. - Дело не в том, полезна или бесполезна она, мы говорим не о кофе и не о помидорах, - возразил Веземан. - Совесть дана человеку природой вроде оселка, по которому он сверяет свои мысли и поступки. И я не верю, что вы свой оселок выбросили, что никогда им не пользовались и не собираетесь пользоваться. Мы не можем, не имеем права забывать историю своего народа, ее лучшие страницы. Мы потомки и наследники Гёте и Вагнера, Бетховена и Шиллера, Гейне и Мендельсона… Дикс поморщился, прикрыв глаза, и приподнятой ладонью руки остановил Веземана: - Постой, не надо всех в одну кучу. Остановись на Шиллере. Последние два не были немцами и не представляли нашей культуры. Они чужие, и в их творчестве начисто отсутствовали национальные особенности немца, его дух и характер. Веземан понимал, что задел больную струну Дикса, задел преднамеренно, с целью убедить своего собеседника, что он, Макс, его единомышленник и такой же чистокровный нацист. Поэтому он не стал возражать напрямую, но вместе с тем счел уместным заметить: - Я говорю о том огромном вкладе, который внесли в мировую культуру мы, немцы, лучшие представители нашего народа. А между тем сегодня в мире о нас бытует мнение, как о варварах, душегубах, убийцах. - Мнение это создала еврейская пропаганда. Люди начитались их книг, насмотрелись фильмов и прочей телеерунды. Жестокость, которой подвергает в наши дни Израиль арабов, в десять раз бесчеловечней. Израильтяне возвели садизм и жестокость в норму своего бытия и довели его до чудовищной изощренности, до которой мальчики Гиммлера и Кальтенбруннера не могли додуматься… Но об этом человечество молчит. Почему же не возвышает свой голос протеста? Ты отлично знаешь, почему. А разве американская военщина менее жестока? Читай внимательно газеты, иногда в них, вопреки цензуре, просачиваются жуткие примеры жестокости, варварства, кошмара, который творят янки во Вьетнаме. Недавно я прочитал в венской газете выдержки из инструкции израильского командования своим солдатам на оккупированных землях. Там без всякой дипломатии генералы поучают солдата: "Если арабы вздумают защищаться, ломайте им кости: сначала отцу, потом детям. Арабы не люди, они скот, и поэтому обращаться с ними надо как с животными". Ты не согласен со мной, Макс? Дикс вопрошающе уставился на Веземана, потому что заданный им вопрос для него самого был спорным, противоречивым, одним из тех, которые в последнее время погружали его иногда в пучину сомнений. И начатый Веземаном разговор о совести еще больше взбудоражил его грешную душу и преступный сатанинский разум. Собственно, Макс и рассчитывал на это, надеясь пробудить в нем остатки совести или жалкое подобие ее. Он сидел в глубокой отрешенности, словно не расслышал или не понял вопроса, в котором уловил какой-то особый интерес Дикса. И это его задумчивое молчание Дикс расценил, как замешательство и нетвердость в отношении того, на что он довольно прозрачно намекал. Наконец, Макс, точно стряхнув с себя груз сомнений, сказал: - Я предпочитаю откровенность с близкими друзьями и уж конечно с самим собой. - Он посмотрел на Дикса долгим взглядом и продолжал, не отрывая от Дикса честных глаз: - Я, как солдат, знаю, что войны без жестокостей не бывает. Но как непосредственный участник минувшей войны, я знаю и очень сожалею, что мы, немцы, допускали ненужные, ничем не оправданные бессмысленные жестокости. Вы не согласны со мной, доктор Дикс? Сама форма вопроса, заданного последними словами Макса, содержала в себе легкую иронию и одновременно безобидную колкость. Дикс не принял вызова. Он не испытывал желания обострять беседу, которая ему пришлась по душе, и по своему обыкновению возвращаться к внезапно прерванной теме, он вдруг сказал: - Что ж, дорогой Макс, откровенность за откровенность. Мне не доставляет удовольствия работать на янки, а по сути дела на этих черных дроздов левитжеров и кунов. В моей работе можно усмотреть саботаж, настоящий, всамделишный. Но надо мной есть надсмотрщик - Адам Кун. Судя по всему, моя работа приближается к финишу. Он сделал паузу, взял из пепельницы остаток сигареты и прикурил от газовой зажигалки, не выказывая намерения продолжать свою мысль. Но Максу показалась пауза нарочитой, рассчитанной на его вопрос: "Что, мол, вы имеете в виду под финишем?" Молчание затянулось. Дикс сделал несколько глотков дыма, положил сигарету в пепельницу и молча допил виски. Веземан тоже, как бы за компанию, отпил несколько глотков пива и грустно молчал. Он думал над словом "финиш": что имел в виду Дикс - завершение работы над "А-777" или уход на отдых? Уточнять не хотел, опасаясь вызвать подозрение и так уже настороженного собеседника. Сказал с участием: - Вы устали, доктор. Дикс презрительно посмотрел в пространство, злобно усмехнулся и тотчас же опустил глаза - похоже не хотел, чтобы усмешку его Веземан принял на свой счет. Потом облокотился на стол и, приблизив лицо к Максу, сказал с суровой горечью: - Они решили от меня избавиться. Им не нравится мой саботаж. - Он с достоинством замолчал и поник головой. Похоже было, что пиво и виски разморили его. Внимательно наблюдая за Диксом, за быстрыми переменами в выражении его глаз, Веземан пришел к заключению, что его собеседник волнуется, что он находится в состоянии нервного напряжения. Нажим на слово "саботаж" настораживал, казался слишком преднамеренным: в саботаж Дикса он не верил. Вообще их беседа, сотканная из недомолвок, намеков, многозначительных пауз, производила странное впечатление. В то же время, несмотря на сдержанную настороженность и опасение сказать лишнее, в ней чувствовалось обоюдное стремление к диалогу, к доверчивости и откровенности. Такие мысли Веземана подтвердил неожиданный вопрос Дикса: - Скажите, Макс, только чистосердечно… - он вплотную приблизился к лицу Веземана и прошептал: - Нас не подслушивают? - Исключено. Ведь это, как вы понимаете, входит в мою служебную функцию. - А Штейнман? - Он мой начальник, но обязанности у нас общие. В этом отношении можете быть спокойны. Что же касается лично вас, то доктор Дикс у нас вне всяких подозрений. - Благодарю вас, - сказал Дикс и странно усмехнулся. Желая продолжать прерванную тему и ощутив в себе прилив решимости, Веземан напомнил о финише: - А может от вас хотят избавиться потому, что Отто сделал свое дело, Отто больше не нужен? Надо полагать, вы завершили свою работу над грозным и страшным смертоносным оружием? Дикс с любопытством уставился на Веземана, даже лицо его, кажется, изменилось. Грубая откровенность Макса несколько удивила его и, не вызывая подозрительности и беспокойства, он спросил: - Тебя интересует это оружие? - Ну, и меня лично, и… - Бонн? - в упор уточнил Дикс. - Пуллах, - ответил Веземан и добавил, понизив голос: - Впрочем вы невысокого мнения о генерале Гелене. Да бог с ним, с Пуллахом, он далеко, а ваша лаборатория рядом, и по принципу "своя рубашка ближе к телу" я думаю прежде всего о себе: а не опасна ли та мерзость для обитателей нашего Острова, которую вы изобрели? Мы как-то с Карлом говорили на эту тему и, признаюсь, с беспокойством. Дикс, уткнувшись взглядом в стол, мрачно задумался. Веземан спокойно ждал. Молчание длилось долго. Веземан обратил внимание, как злобная усмешка скользнула по его синим толстым губам и тут же погасла. Молчание длилось слишком долго. Наконец, резко подняв голову, Дикс сказал: - Ты мне нравишься. Макс. Я давно присматривался к тебе и буду откровенен, разумеется, в известных пределах. Пока что нам ничто не угрожает, я имею в виду то, что ты деликатно назвал моей мерзостью. Подробней на эту тему мы потолкуем как-нибудь в другой раз, на трезвую голову. Я сегодня захмелел. А пьяный - что глупый. Ты, наверно, слышал, что ум, или интеллект алкоголика нижа обезьяньего. Это доказано экспериментом. Однажды ввели обезьяну в комнату, в которой высоко под потолком была привязана гроздь бананов. Обезьяна сразу заметила лакомство и начала подпрыгивать, стараясь достать бананы. Но потолок был слишком высок. Тогда экспериментатор начал внушать обезьяне: "Думай, думай…" Обезьяна быстро сообразила, взяла табуретку, забралась на нее и снова начала подпрыгивать. Но… увы - никак не доставала. А экспериментатор опять: "Думай, думай, думай". Обезьяна осмотрела комнату, увидела в углу палку, схватила ее, забралась на табуретку и достала бананы. Затем в ту же комнату ввели алкоголика. Теперь к потолку была подвешена бутылка виски. Увидя ее, алкоголик запрыгал как обезьяна, но достать, разумеется не мог - высоко. Экспериментатор и ему посоветовал: "Думай, думай". Но тот продолжал прыгать. Ему опять: "Думай, думай". Возбужденный алкоголик с раздражением ответил: "Зачем думать - прыгать надо!" Дикс насмешливо прищурился и, стукнув кулаками по столу, сурово и убежденно сказал: - Знай, Макс, что этой самой мерзости янки не получат у меня. Не дождутся. - Они получат от Куна и Кларсфедьда, отстранив вас от работы, - настойчиво и прямо возразил Веземан и добавил убежденно: - Кун продолжит ваши работы и закончит. Разве такой вариант исключен? Дикс пожал плечами и грустно молчал. По его виду Веземан чувствовал, что доктор находится в возбужденном состоянии, граничащим с раздражением. Наконец он сказал, горестно вздохнув: - Конечно, и такой вариант нельзя исключать. - И перейдя на шепот: - Но нам с тобой удача не светит ни в каком случае, при любом варианте мы остаемся в проигрыше. Проиграют янки - выиграют русские. - Почему только русские? Прежде всего выиграет Европа, в том числе и немцы. - Ты умница, Макс, - улыбнулся Дикс и прикрыл глаза набухшими веками. - Устал я. Но с тобой мне было приятно. Еще поговорим. А сейчас - извини меня, хочу отдохнуть. Как у тебя со сном? Все в порядке? А меня мучает бессонница. Я засыпаю всего на полчаса, а потом просыпаюсь в разбитом состоянии и не нахожу себе места. Меня преследует какая-то жуткая тоска. И уже засыпаю только под утро. Ты не представляешь, как это мучительно. Дикс смотрел куда-то мимо Веземана, в пространство, загадочно и неподвижно, и в его глазах Веземан уловил странное выражение досады, скорби, раскаяния и малодушия. Было ясно, что в нем происходит отчаянная борьба с самим собой, и противоборствующие силы равны, так что исход этой борьбы еще не предрешен. - И давно это у вас? - Такое состояние? Почти с полгода, - на двигаясь, ответил Дикс. - Вы устали, доктор, вам нужно отдохнуть. Уехать с Острова в путешествие месяца на два, отрешиться от всяких дел. - Не поможет. - Дикс едва заметно покачал головой и устало прикрыл глаза ладонью. Веземану показалось, что за время их беседы он как-то осунулся и даже похудел. Веземан поднялся, и как бы в ответ на это Дикс поднял на него все еще озабоченный взгляд. Глаза их встретились, и в глазах Дикса Веземан прочитал немой вопрос, на который тут же ответил: - Отдыхайте, доктор, мы приятно провели вечер, и я рад вашему расположению ко мне. Я всегда к вашим услугам. - Он дружески улыбнулся, и в его глазах Дикс нашел искреннее участие. Придя домой, Веземан сразу же сел в мягкое кресло, стоящее около овального журнального столика, включил торшер с зеленым абажуром и развернул увесистый номер "Нью-Йорк таймс". Вообще-то он получал много газет из разных стран и, свободно владея тремя языками и отчасти четвертым, французским, следил за прессой, хотя читал лишь заголовки и материалы, интересующие его. Теперь, подстегиваемый любопытством, он пытался найти тот материал в двух ведущих американских газетах, на которые обратил внимание Дикс. Вот он - заголовок обведен жирным красным фломастером. В корреспонденции сообщалось, что ЦРУ завербовало медиков во многих госпиталях и эти "исцелители недугов" по заданию секретных служб проводят преступные опыты на людях. В частности, испытывают новый зловещий препарат, действующий на мозг и психику человека с целью подлого подчинения его воли. Это называется "промыванием мозгов". Нью-йоркский педиатр Гарольд Абрамсон по заданию ЦРУ в госпитале "Маунт Синой" "лечил" армейского доктора-биохимика Френка Олсона, который в результате такого "лечения" покончил жизнь самоубийством. Из статьи не трудно было понять, что биохимик располагал секретной информацией, которую мог разгласить, и потому ЦРУ поторопилось закрыть ему рот навсегда. Что ж, Диксу было над чем задуматься, и Веземан понимал его состояние. И те кошмары, которые преследовали Дикса и о которых он решился поведать Веземану, исходили не из чувства осознания своей вины за совершенные злодеяния в прошлом и совершаемые в настоящем, а из чувства страха. И хотя Дикс хотел предстать перед своим собеседником раскаявшимся грешником и делал это осторожно, намеками, Веземан не верил в его раскаяние. Макс полистал все полосы "Нью-Йорк таймс" и, не найдя больше отмеченных материалов, отложил газету в сторону и взял "Вашингтон пост". В ней тем же красным фломастером был обведен заголовок большой статьи Стивена Айзекса "Всемогущие три процента". Макс углубился в чтение: "Еврейское лобби, действующее сейчас в Капитолии, возможно, наиболее действенное этническое лобби из всех, когда-либо существовавших в Вашингтоне… Председатель комитета начальников штабов генерал Джорж Браун дал понять, что оно даже чересчур влиятельно, когда в своей недавней речи, за которую ему пришлось извиняться, заявил: "Это лобби настолько сильное, что этому с трудом веришь"… Именно это лобби имел в виду генерал Браун, когда заявил, что в случае нового эмбарго на экспорт нефти американцы, возможно, будут настроены достаточно решительно и подавят влияние евреев и их лобби в своей стране.. Оно невероятно сильное, - сказал Браун. - К нам приезжают израильтяне с просьбой дать им военную технику. Мы отвечаем, что вряд ли мы можем убедить Конгресс санкционировать такую программу. Они отвечают нам: "Насчет Конгресса не беспокойтесь, мы берем это на себя". Хотя они из другой страны, тем не менее они в состоянии это сделать…" Макс оторвал взгляд от газеты и мысленно произнес: "Что ж, генерал Браун, ты сделал смелое, но опрометчивое заявление. Считай, что твоя песенка спета: лобби тебе не простит". Затем он решил дочитать статью до конца и к своему удивлению и даже восторгу прочитал следующие строки: "Представитель Белого дома заявил, что президент считает высказывание Брауна "плохо обдуманными и неуместными" и что они никоим образом не отражают мнения президента и других высокопоставленных лиц в правительстве". Ничего нового или необычного Макс Веземан не нашел для себя в статье Стивена Айзекса. Все это ему было хорошо известно. На прошлой неделе он прочитал в лондонской "Таймс" статью Дэвида Неса, озаглавленную "Весьма особые отношения США с Израилем", в (которой, в частности, говорилось: "…отношения между США и Израилем носят характер "ассоциации". Это ассоциация в вопросах военных и экономических связей, обмена разведданными, взаимная экономическая поддержка гораздо теснее, чем когда-либо была.. Госдепартамент регулярно снабжает израильское посольство в Вашингтоне копиями донесений своих посольств на Ближнем Востоке… Назначение и продвижение персонала в госдепартаменте вплоть до высоких постов, имеющих отношение к политике на Ближнем Востоке, по традиции предварительно рассматриваются и одобряются руководством американских сионистов. В частности смещение представителя США в ООН Чарльза Йоста было совершено по требованию произраильских кругов". "Все это давно известно тем, кто имеет голову на плечах", - вслух произнес Веземан, и грустная тень пробежала по его смуглому лицу, а возбужденные умные глаза выражали глубокую скорбь. А мысли снова возвращались к недавней беседе с Диксом, и перед ним вставал самый главный вопрос, заслоняя собой множество других, тоже важных, но этот был главным из главных: насколько искренним сегодня был с ним Дикс? И не была ли его искренность напускной? От ответа на этот вопрос зависело многое. Что ж, время покажет. Возможно, следующая встреча внесет что-то определенное, и в сознании Дикса произойдет какой-то перелом. Макс отложил газеты, принял холодный душ и лег в постель. Телевизор сегодня решил не включать: с него достаточно беседы с Диксом. Нужно было спокойно все взвесить, проанализировать, разобраться в путанице мыслей своего собеседника. Макс уже не сомневался, что Дикса преследует страх, и его источник - ЦРУ и сионисты. Коварство, мстительность и силу сионистов Макс знал. Но его удивлял тот необъяснимый факт, что с каждым годом сионисты наглеют. Это сказывалось не только в действиях Израиля, но и во всем мире, особенно здесь, в Западном полушарии. Впрочем и в Старом свете, Европе, которую сионисты издавна считали своей вотчиной, положение было такое же. Вспоминалась Веземану "Черная книга", которую в прошлом году во время одной из поездок на континент ему довелось наскоро прочитать. В книге было семьсот страниц, а времени на ее прочтение у Макса всего одна ночь. На книге отсутствовали год и место издания, имя издателя. Указано было только имя автора - Эдмон Дюкан. Даже краткое предисловие было анонимным: видно тот, кто писал его, боялся разделить судьбу автора "Черной книги". А судьба его была изложена на двух страничках предисловия. В ней говорилось, что автор книги - сын известного французского антифашиста Франсуа Дюкана, погибшего в Испании во время гражданской войны, воевал с гитлеровцами в польских отрядах сопротивления, что после второй мировой войны, идя по стопам своего отца, Эдмон Дюкан работал па поприще журналистики. Будучи убежденным противником войны, он побывал в качестве журналиста во многих "горячих" точках - в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, опубликовал гневные антивоенные репортажи. Его очерки о зверствах и бесчинствах израильской военщины на земле Палестины вызвали бешеную злобу сионистов, по приказу которых Эдмон Дюкан был изгнан из большой прессы и подвергнут организованной травле. Испытывая нужду и гонение, Дюкан тем не менее не пал духом, не сложил оружия. В течение нескольких лет он собирал материалы о преступлениях международного сионизма во всех уголках земного шара. На основании богатого материала им была написана "Черная книга", разоблачающая звериный оскал сионистов, прокладывающих себе путь к мировому господству. Однако все попытки Эдмона Дюкана издать свою книгу в Америке, Европе и в Австралии окончились неудачей. Везде автор наталкивался на непреодолимый сионистский заслон. И только с помощью палестинских друзей ему удалось издать "Черную книгу" на арабском. Настоящее издание и является переводом с арабского. Уже само предисловие всколыхнуло душу Макса Веземана, подняло из ее глубин яркие картины его молодости, когда он еще был Вальтером Дельманом. Он вспомнил, как в партизанском отряде Яна Русского они вместе с молоденьким французом Эдмоном Дюканом сражались с фашистами, теряли в жарках смертельных схватках боевых товарищей. Память живо воскресила ему образ Дюкана - бесстрашного ординарца командира отряда Яна Русского, ныне уже генерала Ивана Николаевича Слугарева, которого Эдмон любовно называл "мой капитан", бесстрашного юношу, беззаветного в дружбе и верности, бойца с пламенным сердцем и взрывчатым характером, любимца партизан. Эдмон Дюкан! Все эти долгие годы после встречи Веземана с Иваном Слугаревым в Зальцбурге он ничего не слышал о Дюкане. И вот "Черная книга" - обвинительный приговор преемникам фашизма - сионистам. Эдмон…. Он остался таким же бесстрашным и самоотверженным, как и четверть века тому назад… Веземан читал его книгу всю ночь на одном дыхании, потому что утром он должен был возвратить ее человеку, улетавшему в Канаду. Позже он пытался достать эту книгу, чтоб прочитать ее спокойно и внимательно, без спешки, изучить, запомнить. Но тщетно. Книголюбы-библиофилы, услышав название "Черная книга", пожимали плечами, мол, понятия не имеем, впервые слышим. И лишь один седой щупленький старикашка таинственным шепотом сказал: "Не ищите, только понапрасну время потратите. На испанском она издана ничтожным тиражом, да и те несколько сот экземпляров скуплены и сожжены". Наивно было задавать вопрос: кем сожжены? Макс вспомнил "Польский дневник" Эдмона Дюкана. Там была целая глава, посвященная ему - тогда еще Вальтеру Дельману. Как давно все это было. Кажется, целое столетие отделяет сегодняшний день от того времени. Какой он сейчас - Эдмон, когда-то беспокойный, подвижный, юркий? И где он сейчас, жив ли? Макс хорошо знает мстительность сионистов. А "Черная книга" представляет собой меткий выстрел в спрутообразное чудовище - сионизм. Такого не прощают. Встреча с Диксом привела Веземана в нервное возбуждение, наэлектризовала, напрочь прогнала сон. "Думай, думай, соображай. Макс, - сказал он самому себе. - Твой отчет, информацию от тебя ждет Иван Слугарев. Удастся ли свидеться с ним лично. Сколько лет минуло от их последней встречи в Зальцбурге?" Информацию он должен передать человеку Слугарева в Мексике и получить от него дальнейшие указания. Но Слугарев же еще не знает, что у Веземана появилась нежданно счастливая возможность побывать на Кубе. Хорошо бы застать его там.
Глава третья
1
Генерал Слугарев Иван Николаевич прилетел в Гавану 9 марта глубокой ночью. В аэропорту его встретил сотрудник кубинских органов безопасности Энрико Фоэйтос, с которым Слугарев был хорошо знаком. Энрико два года тому назад окончил обучение в Москве, а теперь работал в Гаване в центральном аппарате. Из аэропорта Шереметьево Слугарев вылетел вечером. В низком сером небе с севера на юг стремительно неслись рваные облака, на бегу рассеивая по Подмосковью остатки снега. Чувствовался небольшой морозец, и комитетский шофер, доставивший Слугарева в аэропорт, заметил: - Напрасно, Иван Николаевич, плащ не взяли. В одном костюмчике как бы не было пронзительно. Слугарев улыбнулся неуместно ввернутому "пронзительно", подумал: а может, он и прав, но промолчал. В самолете и в самом деле было "пронзительно". Но когда в Гаване он вышел на летное поде и в лицо его ударила приятная волна ласкающе-теплого озонированного воздуха - за час до посадки самолета в Гаване прошел дождь - Слугарев понял, что опасения шофера были напрасны: плащ здесь не потребуется, да и пиджак… Последнее подумалось, когда ой увидел Энрико в светлой рубахе без галстука и с короткими рукавами, обнажающими кофейного цвета руки. Щупленький, остролицый с колючими карими глазами и мягким голосом Энрико выглядел совсем юным, ну просто студентом первокурсником.Он попытался взять чемодан Слугарева, но Иван Николаевич не позволил, обронив немного смущенно: - Нет-нет, Энрико, благодарю. Он поставил чемодан на заднее сидение "Волги", сам сед рядом с Фоэнтосом, который уже успел осведомиться и какая в Москве погода, и как прошел полет, и сообщить, что недавно прошел дождь и поэтому холодно. - Холодно? - изумленно посмотрел на него Слугарев, так что густые брови его выгнулись в дуги и взметнулись вверх. Он вспомнил: бортпроводница перед посадкой объявила, что в Гаване плюс 24 градуса. - Это вы считаете холодно? А мне показалось, что я прилетел в Сочи в июльскую ночь. Энрико весело улыбнулся и, навалившись на баранку, спросил: - Поехали? - Когда машина тронулась, он сказал: - Мы для вас приготовили место в гостинице "Националь". Вы ведь впервые на Кубе? - Да, Энрико, впервые, - тихим голосом ответил Слугарев. Мысли его были заняты другим: ехал он сюда не праздным туристом. Это был деловой рабочий визит к своим кубинским коллегам. И он спросил: - Как эпидемия свиней? - В основном локализовали. Осталось несколько очагов. - Что-нибудь известно об источнике? - Определенно американского происхождения. Предполагаем, что лаборатория Дикса. Машина плавно мчалась по влажному шоссе, в салон врывались освежающие струи воздуха. Дышалось легко и приятно. Слугарев пытался разглядеть окрестный пейзаж, но мешала ночь. "Предполагаете или располагаете достоверной информацией?" - мысленно спросил Слугарев, но смолчал. Он еще не освободился от того специфического состояния, которое испытывает воздушный пассажир дальнего следования, - свинцовая тяжесть в голове, давящий монотонный шум в ушах, ватная расслабленность тела. В то же время он ощущал прилив нового, еще неведомого, тот восторг ожидания, когда попадаешь в совершенно новый мир, в данном случае - в западное полушарие. - У нас на Кубе гостит прогрессивный ближневосточный журналист. Ой прибыл с женой, тоже журналисткой. Она колумбийка, он по происхождению француз. Так вот он интересуется Диксом, - продолжал Энрико. - Вот как? - вдруг оживился Слугарев. - Зачем же ему понадобился Отто Дикс? - Видите ли, этот журналист написал несколько антивоенных репортажей и книг. Он побывал во многих горячих точках: в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке. А во время войны в Европе был партизаном то ли в Польше, то ли в России. Он говорит, что знает Дикса и хочет пробраться к нему на Остров. Но не знает, где расположен этот Остров. - Странно: "знает", "не знает". Все это очень загадочно и любопытно, - раздумчиво произнес Слугарев. - Зачем ему Дикс? - Он хочет разоблачить в прессе прошлое этого фашиста и его настоящее, работу на Пентагон. - И что ж, вы сообщили ему место расположения Острова? В тоне Слугарева звучали нотки недоверия к журналисту. - В общих чертах. - Мм-да, все это очень интересно, - после долгой паузы, произнес Слугарев. - Говорите, партизанил в Польше? А как фамилия журналиста? - Дюпон, - не очень уверенно ответил Энрико. - Однофамилец американского миллиардера? - Похоже. Почти. - Что похоже? - Фамилия. Вроде Дюпон. У нас на курорте Варадера есть бывшая вилла американского Дюпона. Потому я и запомнил, по аналогии. Но это не точно. - Постой, постой, - быстро проговорил Слугарев, что-то соображая. - А может Дюкан? Эдмон Дюкан?.. - Точно! - воскликнул Энрико. - Эдмон Дюкан. Слугарев от неожиданности всем корпусом откинулся на спинку сидения, запрокинул голову, закрыл глаза. - Эдмон, - произнес вполголоса с душевным волнением и теплотой. - Значит, жив. Милый, неугомонный Эдмон. Все-таки набрел на след Хасселя-Дикса. Удивленный таким неожиданным поведением Слугарева, Энрико сбавил скорость: - Вы его знаете? Не меняя позы и не открывая глаз, Слугарев кивнул. Затем минуту погодя спросил: - Он где остановился? - В "Абана Либре". Эта наша центральная гостиница, самое высокое здание в Гаване. Но сейчас его нет в столице: вместе с сеньорой он улетел на остров Хувентуд на два дня. Завтра должен вернуться. Помолчали. Впереди заискрились огни Гаваны. Энрико искоса посматривал на Слугарева. Тактичность не позволяла ему быть навязчивым, и он деликатно сдерживал свое любопытство и не задавал вопросов, касающихся Эдмона Дюкана. Слугарев разгадал его мысли и спросил: - Сеньора Элеонора с ним? Так имя мадам Дюкан? - Сеньора Алисия, - поправил Энрико и для пущей убедительности добавил: - Его супругу зовут Алисией, я это хорошо помню, так по документам. Она колумбийка. Есть сомнения? - стремительно спросил Энрико, не поворачивая головы. - Есть, Энрико, - Слугарев вздохнул. - Супругу Эдмона звали Элеонорой. - Вы ее знаете? - По рассказам Эдмона. С ней я не встречался. А с Эдмоном… - Слугарев снова вздохнул. - С Эдмоном Дюканом мы прошли сквозь огонь партизанской войны с фашистами. Это было в Польше, Энрико, в годы гитлеровского нашествия. Элеонора была американкой, а не колумбийкой. Когда подъезжали к гостинице, Энрико спросил: - Вы с ним будете встречаться? С Дюканом? - Непременно, - твердо, как уже решенное, ответил Слугарев. Только имейте в виду и товарищей предупредите: я для Дюкана представитель торговой фирмы. Десятиэтажное здание гостиницы "Националь", увенчанное двумя башнями-колокольнями, стоит на высоком берегу Мексиканского залива. Внизу между гостиницей и скалистым берегом стремительно пролегла многокилометровым асфальтовым полотном Малеком - так называют здесь набережную. В просторном полуосвещенном вестибюле с висящей под высоким потолком люстрой стояла прохладная тишина. Энрико быстро произвел с портье необходимые формальности, взял ключ от комнаты, и приветливо-улыбчивый мулат-лифтер доставил их на шестой этаж. В просторном одинарном номере с ванной и туалетом стояли широкая кровать, застланная легким фиолетовым покрывалом, письменный и журнальный столы, тумбочка с телефоном и ночным светильником. Словом, это был скромный гостиничный номер без излишнего комфорта. Энрико оставил номер своего телефона, а также телефона своего начальника, с которым Слугарев также встречался в Москве, пожелал доброй ночи и ушел. Проводив Энрико, Иван Николаевич запер дверь на ключ, разделся, принял душ и лег в постель. Но сон, который нестерпимо одолевал его в последние часы полета, неожиданно исчез, улетучился. Теперь мысли Слугарева занимал Эдмон Дюкан. В памяти живо всплыли картины далеких партизанских лет. О них хорошо написал Эдмон в "Польском дневнике". Эту книгу с автографами некоторых польских друзей-партизан Иван Николаевич хранит как дорогую реликвию. Ее вручил ему Игнаций Табарович в Варшаве осенью 1950 года в дни Всемирного конгресса в защиту мира. С тех пор минуло пятнадцать лет. Самым странным и, пожалуй, загадочным было то, что и Дюкана интересует один и тот же человек - Отто Дикс. Эдмон собирается пробраться на Остров. Этого нельзя допустить: ведь там Макс Веземан, Эдмон может узнать - и определенно узнает - в нем своего партизанского друга Вальтера Дельмана. Неважно, что Макс и Эдмон расстались еще в сорок четвертом, он его непременно узнает, и тогда может случиться непоправимое. По приказу Центра Макс должен выехать в Мексику и через связного передать информацию об "А-777". От Веземана давно нет никаких вестей, и Слугарев намерен через кубинских коллег прояснить общую обстановку на Острове: он знал, что кубинская разведка имеет там своего человека. В комнате было душно. Слугарев встал с постели и открыл окно. Вместе с упругой струей свежего воздуха в лицо ударил гулкий шум прибоя. Его раскаты раздавались где-то совсем рядом в ночной мгле. Под окнами, зажатые с трех сторон каменными стенами гостиницы, освещенные тусклым светом фонарей, в тревоге метались жесткие космы пальм. Слугарев оделся и спустился вниз. В вестибюле было два противоположных выхода: один в город, другой к заливу. Слугарев пошел к заливу. В полусотне метров от гостиницы, над обрывом - две старых артиллерийских флеши, и в каждой по крепостной чугунной мортире. Когда-то лет сто тому назад это было грозное оружие против вражеских кораблей. Слугарев остановился над обрывом, наслаждаясь терпким ароматом цветов и моря. Упругий ветер освежающе бил ему в лицо, волны, дробясь о прибрежные скалы, перемахивали бетонный парапет и расстилались кружевной кисеей по асфальту набережной, освещенной пунктиром уличных фонарей и пустынной в этот поздний час. Море и небо над ним сжились в единую темную массу, смыв линию горизонта, но звезды в этой аспидной черноте сверкали встревоженно и ярко. Слугарев убеждал себя в том, что такие звезды он видит первый раз и что грохот прибоя тут тоже особый, не такой, как, скажем, в нашем Североморске иди Новороссийске. И аромат трав и цветов неповторим и ни на что известное ему не похож. "Западное полушарие, - подумал он и взглянул на часы. Стрелки показывали половину третьего. - А в Москве на заводах и учреждениях давно кипит работа". Постояв с четверть часа, он вернулся к себе в номер, перевел стрелки часов на местное время и не без усилия уснул. Весь день Слугарев провел у своих кубинских коллег. В бешеной антикубинской деятельности ЦРУ принадлежала главенствующая роль. Среди множества разнообразных диверсий не последнее место отводилось экономической. Вызвать в стране нехватку продовольствия, подорвать основу кубинского экспорта - сахарную промышленность - такую задачу ставили главари американских спецслужб перед своей многочисленной агентурой. Путем занесения злокачественного вируса янки надеялись вызвать на Кубе поголовный падеж скота, а тлетворный грибок должен был поразить плантации сахарного тростинка. В особом отделе ЦРУ разрабатывались различные варианты физического устранения руководителей Кубы и прежде всего Фиделя Кастро. Нетрудно себе представить масштабы работы и глубину ответственности перед страной и народом кубинских органов государственной безопасности, у которых еще не было солидного опыта работы, да и традиции только закладывались. А перед ними стоял могучий и грозный враг, коварный и наглый, самоуверенный, вооруженный новейшим арсеналом современного шпионажа и диверсий. Естественно, кубинские спецслужбы нуждались в консультативной помощи своих советских друзей. К концу дня Слугарева сморил сон: сказывалась разница во времени - в Москве в этот час была глубокая ночь. К тому же донимала непривычная для него в эту пору жара: в тени термометр показывал двадцать семь градусов. "Сейчас бы искупаться", - вслух подумал Слугарев, вытирая уже мокрым платком вспотевшее лицо. Днем море было тихое, ласковое, и его прозрачно бирюзовая гладь призывно манила в свои объятия, но, как заметил Слугарев, на всем протяжении Малекома у берега выступали острые со скользкой прозеленью скалы, среди которых, по словам Энрико, во множестве водились морские ежи. Может поэтому, решил Слугарев, он не видел ни одного купающегося. - Хотите искупаться? - с готовностью спросил Энрико, весело сверкая необыкновенно острыми карими глазами. - А далеко до пляжа? - Не очень. На машине совсем близко, - весело заулыбалось худенькое остроносое лицо Энрико. Он был рад встрече с советским коллегой и испытывал истинное удовольствие оказать ему услугу. Светло-серая "Волга" стремительно мчалась вдоль залива, то уклоняясь от него в сторону, в зеленые заросли, среди которых важно маячили королевские пальмы, то приближаясь к спокойной лазури моря, изнеженно играющей в еще жарких лучах предвечернего солнца. На безлистых деревьях фламбуаян, похожих на яблони с пышными кронами, по-весеннему ослепительно ярко полыхали розовые цветы. Они высекали в восторженной душе Слугарева светлые чувства праздника, пробуждения и весны, прогоняли сонливую усталость, разжигали воображение. Лицо его излучало тихую радость и счастье, которые отражались в проницательных глазах Энрико, хорошо понимающего состояние своего спутника. И казалось, не только Энрико разделяет восторг Слугарева, но и струящийся в жарких лучах воздух, и застывшие в истоме горделивые пальмы, и высокое, звонкое голубое небо. Горячий воздух играл и струился прозрачными нитями. Все это переполняло Слугарева чем-то новым, неожиданным, чистым и ярким, - Санта Мария - торжественно объявил Энрико и, съехал с шоссе влево на песчаную площадку, прикрытую от солнца густыми ветвями молодых длинноигольчатых сосен. Здесь был отличный пляж. Слугарев разделся в машине и, оставшись в одних плавках, с удивлением посмотрел на своего коллегу, который и не думал раздеваться. Спросил: - А вы что же? Энрико смущенно подернул худенькими плечами и, как бы конфузясь, виновато заулыбался, обронив: - Холодно. - Холодно? - недоверчиво и с изумлением переспросил Слугарев. - Двадцать семь градусов это по-вашему холодно?! - У нас как-то не принято в это время купаться - пояснил Энрико и добавил с озорной улыбкой не то в шутку, не то всерьез: - Мы купаемся в месяцы, в названии которых нет буквы "р" - май, июнь, июль, август. Правда, молодежь, особенно детвора, не придерживаются этого обычая. Пляж не был пуст, и барахтались в спокойной бирюзово-прозрачной воде не только дети, но и пожилые люди обоих полов в разноцветных купальниках и плавках. - Туристы, - пояснил Энрико, словно угадывая вопрос Слугарева. По горячему песку Слугарев дошел до воды. Она была прозрачная, как родник с бирюзово-золотистым переливом. Но в отличие от родниковой - ласкающе-теплая, мягкая. Глубина начиналась не сразу, и Слугарев медленно шел по прозрачно-песчаному дну, постепенно погружаясь в воду, ворошил ногами песок и удивлялся его чистоте: вода оставалась прозрачной. Войдя по грудь, он сделал резкий рывок, нырнул в глубину и под водой с открытыми глазами проплыл метров пять, испытывая несказанное удовольствие. Слугареву доводилось бывать на пляжах Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Средиземного морей. Но такое блаженство он испытывал впервые. Усталость, сонливость, вялость как рукой сняло. В гостиницу возвратился бодрым, поужинал в ресторане в зале "шведского стола", насладившись большим выбором соков, и решил пройтись по улицам Гаваны, надеясь на вечернюю прохладу. Но надежды не оправдались: раскаленный за день камень зданий исторгал тепло, воздух был густой и душный, и Слугарев возвратился на Малеком и медленно пошел вдоль берега в сторону порта. Ветра не было, но все же ощущалась близость моря, и его тихое сонное дыхание доносило ласкающую свежесть. Ни о чем не хотелось думать, но помимо его воли и желания, наплывали думы о том, ради чего он прибыл на Кубу, и как-то само собой он мысленно подводил итоги первого дня. Речь шла о диверсиях ЦРУ против Кубы. С достоверностью было установлено, что американская агентура занесла на остров вирус свиной чумы, от которой погибло 500 тысяч голов свиней. Полмиллиона для такой маленькой страны - это огромный продовольственный урон. Разносчики вируса - москиты и мухи. На сахарном тростнике появилась злотворная ржавчина, от которой тростник сохнет и гибнет. Листья табака поразила голубая плесень. Да, янки наносили удар в самые чувствительные места кубинской экономики: сахар и табак - главные статьи экспорта, валютные статьи. А свиноводство - основной продовольственный продукт внутреннего рынка. В Лэнгли все взвесили и рассчитали на новейших компьютерах опытные специалисты по подрывным операциям. Одного не учли - революционного духа народа, его неистребимой веры в свою правоту и непреклонной силы воли. В этом убедился Слугарев из беседы с кубинскими коллегами из органов госбезопасности. Кубинские товарищи располагают сведениями, что ЦРУ готовится использовать бактериологическое оружие против людей, в частности геморрогической лихорадки денге, поражающей главным образом детей. Слугарев высказал сомнение: вряд ли решатся они применить это на Кубе, где есть американская военная база Гуантанамо с многотысячным контингентом солдат. Если вспыхнет эпидемия лихорадки денге, она неизбежно захватит и Гуантанамо. Впрочем янки могут предварительно сделать своему персоналу прививки антилихорадочной вакцины. Кубинские товарищи полагают, что биологическое и бактериологическое оружие американцы производят на острове доктора Дикса. Отто Дикс и его "Группа-13" давно привлекают внимание и советской разведки. Было известно, что там готовится оружие массового истребления людей - "тихая смерть". Против него нужно иметь надежное противоядие. Отто Дикс совсем недавно попал в поле зрения кубинской разведки, возможно поэтому и сведения, полученные кубинцами от своего агента, проживающего на Острове, пока что были весьма скромными. Ничего удивительного в этом Слугарев не находил, принимая во внимание работу Макса Веземана, который находится на Острове уже много лет, а информации от него поступило тоже не густо. А Макс - опытный разведчик. Значит обстоятельства не позволяют. Слугарев ждет информации от Веземана. Макс должен передать ее через связного на континенте, затем этот связной должен прибыть в Гавану и встретиться со Слугаревым. Центр требует полной и обстоятельной информации о работе группы Дикса. Поэтому Веземану приказано постараться встретиться со связным, изложить ему во всех подробностях положение на Острове, чтобы тот в свою очередь мог лично изложить Слугареву все, что скажет Веземан. Встреча со связным от Веземана и была одной из главных причин прибытия Слугарева на Кубу. Иван Николаевич не знал, да и не мог предполагать, что неожиданные, случайные обстоятельства позволят ему встретиться здесь, в Гаване, не со связным, а с самим Максом Веземаном, с которым он не виделся с той давней встрече в Зальцбурге. Но пока что он ждал связного и с волнующим интересом ожидал встречи с Эдмоном Дюканом.
2
На другой день кубинские товарищи сообщили Слугареву, что Эдмон Дюкан и его супруга Алисия возвратились с Хувентуда в Гавану и, если Иван Николаевич не возражает, встречу их можно было бы организовать сегодня, поскольку есть удобный повод, чтоб встреча эта произошла "случайно". Дело в том, что именно сегодня во второй половине дня Дюкан собирался побывать в Музее революции. Повод действительно удачный, и Слугарева больше всего волновал вопрос: как, на каком языке они будут разговаривать. Когда-то они общались на польском, но это было так давно, а язык без систематической практики, как известно, быстро забывается. Уж на что Слугарев - польским владел в совершенстве, а недавно довелось встречаться с польскими товарищами, он попытался говорить на их родном языке и начал спотыкаться, с трудом вспоминая некоторые стершиеся в памяти слова. Дюкан же и прежде в партизанском отряде по-польски говорил с горем пополам, машинально вставляя французские слова, а сейчас, по прошествии стольких лет, наверно, вообще все позабыл. На этот случай предусмотрели подключить Энрико, который уже знаком с Дюканом и "не знаком" с Иваном Николаевичем. Да, да, не знаком, их, то есть Слугарева и Энрико, и познакомит Дюкан. Музей революции размещается в бывшем президентском дворце. Белокаменное здание элегантной архитектуры своим фасадом смотрит на Малеком, где у самого гранитного парапета возвышается внушительный монумент одному из руководителей народного восстания против испанских колонизаторов в 1895 году генералу Максимо Гомесу. Слугарев остановился у памятника, который как-то сразу покорил его спокойным величием. Несмотря на сложность трехярусной композиции с множеством фигур, барельефных и объемных, с бронзовыми конями и беломраморными фигурами восставших людей, с богиней Победы и бронзовым генералом на вздыбленном коне, монумент отличается цельностью образа революционного народа и впечатляет. Перед тем как прийти к Музей революции, Слугарев часа два бродил по центру Гаваны, побывал у Капитолия, где сейчас размещалась Академия наук, у Музея изобразительных искусств, и везде его поражало обилие памятников выдающимся сынам кубинского народа, борцам за свободу, деятелям науки и культуры. Только возле Капитолия Слугарев насчитал свыше десяти памятников. Это радовало: народ, который умеет ценить своих именитых соотечественников, чтит память о них, такой народ обладает чувством национальной гордости, свободолюбия и патриотизма, имеет глубокие жизненные корни. Полуденная жара улиц загнала Слугарева в прохладу залов Музея революции задолго до того, как там должен был появиться Эдмон Дюкан. Среди посетителей музея были кубинские школьники, веселой стайкой окружившие экскурсовода, и группы иностранных туристов. Экскурсоводы объясняли на немецком и английском языках. И вдруг - русский. Это была группа туристов из Ленинграда. Иван Николаевич приятно обрадовался и примкнул к ним. Экскурсовод - молодая девушка-кубинка бойко рассказывала об основании в 1925 году бесстрашными революционерами Хулио Антонио Мельей и Карлосом Балиньо Коммунистической партии Кубы, о том, как в 1933 году под напором революционных масс пал кровавый режим диктатора Мачадо. Слугарев внимательно всматривался в фотографию руководителя революционно-демократической организации "Молодая Куба" Антонио Гитераса. Фотографии, скромные экспонаты - оружие повстанцев. 1953 год, 26 июля. Попытка молодых революционеров, возглавляемых Фиделем Кастро, штурмом захватить военные казармы в городе Монкадо. Операция не удалась, многие восставшие погибли в неравном бою. Фидель был осужден на пятнадцать лет тюремного заключения. Потом амнистия, уход Кастро и его товарищей в эмиграцию в Мексику, подготовка вооруженного восстания. Наконец 2 декабря 1956 года в провинции Орьенто с яхты "Гранма" на родную землю высадился революционный отряд, возглавляемый Фиделем Кастро. Их было в отряде всего восемьдесят два бойца. Но под их знамена становились сотни и тысячи солдат революции, и первого января 1959 года диктаторский режим американского лакея Батисты пал. Скромные фотографии Кастро и Че Гевары тех времен, сделанные фотографом-любителем. Слугарев оборачивается и взгляд его ловит в другом конце зала щупленькую фигуру Энрико, а рядом с ним - плотный, среднего роста человек в серых брюках и терракотовой рубахе с обнаженными по локоть бронзовыми от загара руками. И в очках. "Неужто это Эдмон?" - с волнением подумалось Ивану Николаевичу, и он отстал от группы советских туристов, внимательно рассматривая стенд с фотографией, на которой Че Гевара изображен у радиостанции с микрофоном в руках. А они все ближе, ближе подходят к Слугареву и о чем-то глухо говорят по-испански. Впрочем говорит больше Эдмон, энергично жестикулируя руками. Слугарев делает вид, что не замечает их, все внимание его приковано к стенду с фотографией Че Гевары. Вот и Дюкан с Энрико остановились у этого же стенда. Энрико не обращает внимания на Слугарева, он что-то объясняет Дюкану и тот понимающе кивает очкастой головой и с величайшим почтением говорит: "О-о! Че Гевара!" Круглое лицо его сияет, умные глаза широко раскрыты. "Пора", - решает Слугарев и отрывает взгляд от стенда. Он смотрит на Дюкана, Дюкан - на него. Взгляды пристальные, напряженные, в них острое удивление и немой вопрос, который вот-вот превратится в слова. Ну, кто первый? - Прошу прощения, если я не ошибаюсь, пан будет… Эдмон Дюкан? - по-польски заговорил Слугарев. Серые большие глаза Дюкана ярко вспыхнули и осветили круглое, иссеченное мелкими морщинками лицо, и от этой внезапной вспышки морщинки распрямились. Потом всего на какой-то миг лицо нахмурилось, точно напрягая память и вновь засияло счастливой догадкой. - Пан… Янек?! - Да, Эдмон, тот самый Янек Русский, - Слугарев широким жестом раскинул руки, и Дюкан бросился в его объятия. - Мой капитан, как я рад, я бесконечно счастлив. Я часто вспоминал тебя, - взволнованно говорил Эдмон, и голос его переходил на шепот, словно ему не хватало воздуха, а глаза блестели благородной влагой. - Вспоминал, когда мне было трудно. А ты поверь, мне часто было нелегко, даже очень трудно. - И вдруг, спохватившись: - Познакомьтесь, пожалуйста, это кубинский товарищ из бюро путешествий сеньор Энрико - прекрасный юноша. Кстати, он учился в России и говорит по-русски. Отойдемте в сторонку, не будем мешать. Прекрасный музей, чудесная страна. А народ, какой народ… Куба превзошла все мои ожидания. - Восторгу Эдмона не было конца, он никому не давал вставить слова. Это было вообще в его характере - восторг и многословие. - На сегодня музей - антракт. В другой раз посмотрим, что не посмотрели. А сегодня, Энрико, у меня праздник: я встретил своего старого друга, однополчанина, боевого товарища. Ты знаешь, Энрико, что за человек перед тобой? Это легенда, историческая драма! - Да что легенды, - с легким смущением перебил Слугарев: он терпеть не мог комплиментов или похвал, они его, как говорится, "вгоняли в краску". - Перейдем к были. Лучше расскажи, какая судьба тебя забросила на Остров Свободы? - О, это целая история. Мне крайне, чертовски необходимо попасть на Остров дьявола, и чтоб попасть туда, я прибыл на Остров Свободы. Но об этом после, со всеми подробностями. Ты не представляешь, как я рад нашей встрече! Кстати, мой капитан, как прикажешь тебя теперь называть? - Как прежде. Да ты уже назвал. - Мой капитан! Прекрасно! Наша юность, неповторимая и позабываемая. Как будет рада Алисия, я ей о тебе много рассказывал. Я познакомлю вас - это моя жена. Вторая жена. С Элеонорой мы разошлись. Но об этом потом. Нам о многом нужно поговорить. Сто лет пролетело, да каких лет! Казалось, его восторгам не будет конца. А поговорить и в самом деле было о чем. Но музей - не лучшее место для дружеской беседы, и они вышли на улицу. Слугарев с живым интересам рассматривал Дюкана и находил, что тот мало изменился. Нет, внешне он, конечно, очень изменился: исчезнувшая шевелюра обнажила крепкий череп, покрытый густым загаром, теперь Дюкан казался ниже ростом и шире в плечах. На подвижном лице отпечаталась густая сеть мелких морщин. Прежней оставалась торопливая походка, порывистые жесты, резкие движения, восторженный открытый взгляд, доверчивые глаза и неумение говорить спокойно. Вообще он принадлежал к категории людей, которые любят много говорить и не любят слушать. Это последнее совсем не задевало Слугарева, поскольку сам он умел слушать и был скуп на слова. Оказалось, что польский язык Дюкан не забыл, во всяком случае, говорил на нем сносно, и Слугарев с удовлетворением подумал, что услуги Энрико, как переводчика, им не понадобятся. Из музея они направились к набережной, и Дюкан продолжал говорить с прежним восторгом: - Как справедливо поступило подлинно народное правительство Кубы: Фидель не засел в президентском дворце, он отдал его под Музей революции. Это символично! А в Капитолии - Академия наук. Пресса много писала о культе личности Кастро. Я прибыл на Кубу и убедился, что это ложь. Никакого культа я не нашел. Фидель - настоящий вождь, народный трибун. Народ верит ему, искренне уважает и любит его. Именно таким, как Фидель, я представляю себе революционера - вождя, который получив всю полноту власти, сумел подняться над личным во имя общенародного, во имя идеи. Зачем ему дворцы, бриллиантовые перстни и прочая мишура побрякушек? На нем скромный мундир солдата-воина. Скромность - это великое достоинство, к сожалению, редкое даже среди незаурядных людей. - Радость, душевный подъем, даже сладкий восторг, звучавшие в каждом его слове, передавались и Слугареву, и он с упоением слушал своего друга военной поры, и радость Эдмона отражалась и на лице Ивана Николаевича. У каменного парапета Малекома они остановились. Энрико, сославшись на какие-то дела, оставил их на набережной и как-то незаметно удалился в сторону порта и, словно тень, растаял в людском потоке. А они с минуту постояли на набережной и затем пошли вдоль залива в противоположную сторону. Дюкан ходил быстро, мелкой торопливой походкой, - он всегда куда-то торопился и часто поводил плечами, словно одежда стесняла его, оттого движения его казались неловкими, угловатыми и резкими. Слугарев не прочь был познакомиться с женой Дюкана, но ему хотелось, чтоб их главная беседа проходила с глазу на глаз, без посторонних, он считал, что Алисия будет его стеснять, и поэтому на приглашение Дюкана немедленно, сейчас же пойти к нему в гостиницу "Абана Либре" он ответил молчанием, которое вполне сходило за знак согласия. Но когда они поравнялись с гостиницей "Националь", Слугарев сказал: - Здесь я живу. Давай сначала заглянем ко мне, не проходить же мимо. - Он тепло заулыбался, и какая обезоруживающая изящная простота была в его дружеском взгляде и позе. - А потом, я очень хочу пить. Мы сейчас с тобой закажем прекрасного кубинского пива "Белый медведь". - О, да, кубинцы делают отменное пиво, но мы будем пить его у меня, вместе с Алисией. - Нет, Эдмон, - с наигранной усталостью, голосом человека, изнывающего от жары и жажды, возразил Слугарев. - Я не в состоянии сейчас дойти до "Абаны Либре". Передохнем в "Национале". У меня номер прохладный, окно выходит на залив. И тишина. - Слугарев говорил мягко, медленно, голос его звучал устало и умоляюще, и лицо казалось утомленным, измученным. И Эдмон поверил, согласился, однако при условии, что после "Националя" они сразу же пойдут в "Абану Либре". - Я понимаю тебя: как всякий европеец, ты тяжело переносишь тропическую духоту, - сочувственно решил Дюкан. - Добавь к этому - русский европеец, континентальный. В тихом номере гостиницы они сидели в мягких низких креслах у круглого столика, на котором возвышалось металлическое ведерко, заполненное бутылками с пивом и льдом и вели теперь уже неторопливую беседу. Впрочем говорил в основном Дюкан. Не очень последовательно, часто забегая вперед и возвращаясь к внезапно оборванной мысли, он рассказывал нелегкую, полную драматизма жизнь журналиста-международника, убежденного поборника правды и справедливости в пронизанном ложью и цинизмом, преступном разбойничьем мире. Свой рассказ он в сущности начал с конца, с того, что привело его на Кубу. Мотаясь по странам Латинской Америки в поисках издателей, согласившихся бы издать его "Черную книгу", Эдмон Дюкан в Сан-Сальвадоре в одном из пивных баров случайно встретил Курта Шлегеля - того самого оберфюрера, с которым партизаны отряда Яна Русского сражались на польской земле и которого затем уже после войны Эдмон Дюкан встретил в Мюнхене. - Представь себе, Янек, мы с Алисией зашли в пивной бар, сели за столик и вдруг Алисия говорит мне: "Обрати внимание на пожилого тучного сеньора, что сидит за столиком у окна: он внимательно наблюдает за нами". Это было за моей спиной. Я повернулся в сторону, указанную Алисией и увидел человека, который с откровенным вниманием смотрел на нас. Взгляды наши скрестились. Что-то очень знакомое бросилось мне в глаза. Уже с первой секунды я понял, что где-то встречал этого человека и возможно даже знаком с ним. Я отвернулся и поспешно напряг память. Толстяк продолжал смотреть в нашу сторону. Его бесцеремонная навязчивость становилась неприличной. "Кто это? Ты его знаешь?" - спросила Алисия с любопытством. "Не могу вспомнить… Но что-то чертовски знакомое", - ответил я, не поворачиваясь больше в сторону, где сидел этот странный сеньор. "Он идет сюда, - с нескрываемым беспокойством сказала Алисия. Надо заметить, что все эти годы мы жили в атмосфере постоянной тревоги и не то чтобы страха, а какого-то нервного напряжения. На это были и есть свои причины. О них я тебе расскажу. Так вот, толстяк подошел к нашему столику, поздоровался с деланной улыбкой и, обращаясь ко мне, сказал по-немецки: "Вы не узнаете меня, господин журналист? А я вас сразу узнал. Помните пятидесятый год, Мюнхен? После нашей встречи в Мюнхене вы репортаж напечатали. Меня там назвали. Впрочем, я не читал, хотя мне ваше писание доставило некоторые неприятности. Зол я был на вас, очень даже. Из-за вашей писанины мне пришлось покинуть Германию. Сначала жил в Парагвае, а потом обосновался здесь. И не жалею, все что ни делается, все к лучшему. Здесь меня никто не беспокоит". Он подсел к нашем столику запросто, без приглашения, словно мы с ним были старыми друзьями. Это был оберфюрер Шлегель, да, Янек, тот самый Курт Шлегель. Мне было интересно. Как раз перед этим мы с Алисией были в Парагвае, где есть целая община бежавших от возмездия нацистов. Там они живут преспокойно под крылышком своего земляка, президента-диктатора Стресснера. Было любопытно, почему же Шлегель уехал из Парагвая, где нацисты чувствуют себя в полной безопасности? На мой прямой вопрос он ответил взглядом, полным подозрения и недоверия и уклонился от ответа. Но, между прочим, сказал, что в Сальвадоре живет его старый приятель доктор Хассель. При этом слово "приятель" было произнесено так, что понимать его можно было наоборот, в лучшем случае "бывший приятель". Я так и подумал: между этими двумя убийцами пробежала черная кошка, чего-то не поделили. Шлегель преднамеренно сообщил мне новое имя Хасселя - Отто Дикс. При этом прибавил, что Хассель, то есть Дикс, сейчас служит у американцев по своей прежней специальности. Я попросил его уточнить профессию. На это он заговорщически сощурил глаза и скорчил многозначительную загадочную ухмылку, смысл которой не оставлял сомнений. Оберфюрер явно старался насолить своему бывшему приятелю, сказав между прочим, что нынешняя работа Отто Дикса представляет большой интерес для прессы. От него я узнал, что Отто Дикс проводит свои эксперименты на одном из безымянных островов в Карибском бассейне, что остров этот якобы является его частной собственностью. Каких-нибудь подробностей об этом острове - где конкретно он находится и как туда добраться, он не сказал: видимо, сам не знал. Дюкан умолк, взял бокал с пивом, но пить не стал, лишь коснулся влажными губами ароматной пены и поставил бокал на место. Он волновался. Слишком много столпилось мыслей, которые он хотел высказать своему другу, слова не успевали за ними. Не глядя на Слугарева, он заговорил приглушенным голосом: - Если Шлегель прав, то ты понимаешь, Янек, что все это значит? Нацистский изувер через двадцать лет после краха нацизма как ни в чем не бывало продолжает черное дело. Только уже с новыми хозяевами. - Тебя это удивляет? Ты разве не знал, что американская военщина использовала гитлеровских ученых-палачей для разработки нового оружия? Ты не слышал об охоте янки за яйцеголовыми? Дюкан не ответил, он будто не слышал Слугарева - печальная тоска наполняла его глаза, отчего взгляд казался отсутствующим, ушедшим внутрь. Слугарев обратил внимание на болезненное выражение его лица, говорившее, что на душе у него что-то мучительно и неладно. "Да, время понаставило автографов на рыхловатом, с болезненной желтизной лице Дюкана, - думал Слугарев сокрушенно, - расписало разными почерками-морщинами. Как он изменился, по крайней мере, внешне. Ни за что бы не узнал своего бывшего адъютанта, встреть его случайно на улице". И словно почувствовав пытливый взгляд Слугарева, Дюкан вздрогнул, встрепенулся, в один миг сбросил с себя груз тяжелых дум, тонкий луч смущения сверкнул в его глазах, и он произнес негромко, с непреклонной решимостью: - Мне надо повстречаться с Хасселем-Диксом. Я должен, понимаешь, Янек, обязан. Мы с Алисией решили сделать фильм о врагах человечества, о вампирах двадцатого века, о тех, кто готовят всемирную катастрофу. Этому трудному, но благородному делу я посвятил всю свою жизнь. Оно стало моей судьбой, моей Голгофой. Я написал книгу, назвав ее "Черной книгой". Десять лет на это ушло. Ты что-нибудь слышал о ней? - Нет. Я лишь читал твой "Польский дневник". Расскажи о "Черной книге", - мягко и дружески попросил Слугарев. - Нет, мой капитан, рассказать невозможно. Все равно, что заново пережить. А пережить заново - сил у меня не хватит. Значит, единственное - прочесть. А как прочесть? Ни на русском, ни на польском не издавалась. Впрочем, как и на немецком, английском и моем родном французском. Зато охотно переводятся на разные языки такие бездарности, как Джером Сэлинджер, Сол Белоу, Джон Андейк, или как ярые сионисты Норман Мейлер, Бернард Меломуд. - На русский, кажется, что-то переводилось этих авторов, - не очень уверенно заметил Слугарев. - А почему бы и нет, - стремительно подхватил Дюкан. - Кто издатели, кто переводчики - вот вопрос. И одновременно ответ. - И вдруг без всякого перехода: - Судьба помотала меня по белу свету, со многими довелось встречаться, разговаривать. Насмотрелся, наслушался. В Тель-Авиве я брал интервью у Голды Меир в бытность ее министром иностранных дел. Тогда я еще только собирал материал для "Черной книги". Это было на приеме во французском посольстве. Голда о чем-то раздраженно разговаривала с коренастым, длиннобородым священником, похожим на евангельского апостола. Как потом я узнал, это был ваш соотечественник архимандрит Августин. Ты, наверно, слышал: в Иерусалиме есть православный храм - собственность вашей страны. При нем миссия советских граждан. Возглавлял ее в то время архимандрит Августин, с которым я потом познакомился. Симпатичный человек с глазами, источающими доброту. Мирское имя его Константин Судоплатов. О нем я упоминаю в своей книге, как и о беседе с Голдой Меир. Так вот, Голда предлагала архимандриту Августину со всей его миссией отказаться от советского гражданства и за такое предательство обещала ему златые горы, архиерейский сан и божью благодать. Тихий блаженный старик отвечал ей мягко, ласково, но непреклонно: "На все воля Божья. Однако ж Господь осуждает тех, кто польстится на тридцать сребренников". Слова его ввергли властную даму во гнев, и она бросила в лицо архимандриту злые слова: "Оставьте, ваше преподобие, не стройте из себя святошу, капитан Судоплатов. Я же знаю - во время войны вы были начальником штаба полка". - "Я сын Отечества и выполнял свой долг. И вам, конечно, тоже известно, что до войны я был школьным учителем". Предательство не состоялось, и это удручило тельавивского министра иностранных дел. Как раз в это время один мой парижский приятель представил меня мадам Меир. Она поинтересовалась, не родственник ли я Франсуа Дюкану, погибшему от рук нацистов. Я сказал, что я его сын. "О, ваш отец был блестящий публицист, - с похвалой отозвалась Голда, - я помню его огненные памфлеты, изобличающие нацизм. Надеюсь, вы достойный продолжатель своего отца?" - "Эдмон занимается тем же", - сказал мой приятель. А я сказал, что меня беспокоит тот факт, что многие нацистские преступники избежали наказания и теперь преспокойно проживают в США и Латинской Америке. "Немцы в неоплатном долгу перед нашим народом", - сказала Голда Меир. "Вы имеете в виду нацистов?" - уточнил я. "Нет, всех немцев, без исключения", - ответила она. "Не означает ли это, что все евреи должны отвечать за преступления сионистов?" - сказал я. Ох, ты бы посмотрел, как вспыхнула мадам Меир. Она охватила меня испепеляющим взглядом, готовая распять меня, раздавить. Процедила сквозь дрожащие губы: "Сионисты никогда не совершали никаких преступлений, никогда. Их преступления создает больное воображение психически неполноценных антисемитов". Она резко повернулась и удалилась от нас. Эдмон умолк, а лицо его вдруг озарила какая-то странная улыбка, словно лучик выхватил из подвалов памяти нечто неожиданное, важное, нужное как раз кстати. И он сказал, вопросительно устремив взгляд на Слугарева: - Я не помню: кажется, я писал тебе об институте невест под Тель-Авивом. Я показал этот институт в своей "Черной книге", и это очень пришлось не по душе многим власть имущим, и не только в Израиле, потому что за этим учебным центром стоит другой институт, не учебное заведение, а как стратегия пути к мировому господству - институт жен. Это древняя стратегия - система, испытанная и проверенная опытом, мощное оружие в руках сионистов, оружие, которое они стараются держать в секрете. А я его обнародовал в той же "Черной книге". - Вот почему у твоей книги так много врагов, - задумчиво промолвил Слугарев. Груз, который внезапно обрушил на него Дюкан, был столь весом и сложен, что требовал немалого времени, чтобы разобраться в нем, проанализировать и понять. - Враг один, но в сегодняшнем мире он самый главный и самый страшный враг человечества - сионизм, с его триллионами долларов, тоннами золота, платины, алмазов, с дьявольской машиной оболванивания и растления, с изощренными средствами массового уничтожения людей. Это звероподобное чудовище страшнее нацизма, потому что во сто крат старше его, - по страницам историй за ним тянется омерзительная цепь преступлений, и след от нее - это сгусток крови, слез и страданий людских. Это чудовище, объявив себя божеством, сегодня идет напролом к своей цели мирового господства, все сметает на своем пути, втаптывает в грязь общепринятые в цивилизованном обществе моральные, юридические и прочие нормы и законы. Это чудовище ввело в практику государственных институтов цинизм, жестокость, лицемерие и готово пойти на риск термоядерной войны. Я видел его работу не только в Палестине, видел в Америке, видел у себя на родине. Да-да, не удивляйся, Янек, видел во Франции. Как они делают гениев из своих бездарных ничтожеств, отвратительных жаб, каракатиц, физических и нравственных уродов, и как душат, травят, уничтожают подлинные национальные таланты - носителей всего здорового, светлого, народного. Он с каждой фразой все больше возбуждался, взгляд становился беспокойным, в глазах засверкали тревожные огоньки. Он не говорил, а словно выстреливал напряженные, искрящиеся огнем гневные слова. Слугарев обратил внимание на его голос - необыкновенно молодой, юношеский, со звоном. Лицо его как-то сразу преображалось, распрямлялось, стирая сеть морщинок, становилось гордым и симпатичным. - Это было в Париже. В опере дебютировала молодая необыкновенно талантливая балерина - француженка. В почетной ложе сидела ее соперница - старая, похожая на бабу-ягу представительница богом избранного народа, вокруг которой в течение многих лет сионистская реклама создавала ореол славы и совершенства. Создавать рекламу они мастера. Подберут в публичном доме смазливую девчонку, наглую, развязную истеричку с испитым голосом, отмоют, причешут, пригладят, размалюют, сунут в руки микрофон, выпустят на самую фешенебельную арену, объявят звездой века, и доверчивая, неискушенная, наделенная стадным инстинктом публика будет беситься от восторга, вздыхать, ахать и охать. И для нее эта девка, лишенная даже намека на талант, с ее пошлыми куплетами, такими же пошлыми, как и ее манеры, станет эталоном вокала. Вспомни перуанскую певицу - авантюристку Иму Сумак. Сколько лет эта женщина-птица, как называла ее сионистская реклама, дурачила доверчивых простаков, зарабатывая на ихневежестве миллионы. А ведь она, говорили, чуть ли не ваша соотечественница, родители ее выходцы из Одессы. - Руки его метались в беспокойном порыве и дрожали. Он вдруг сообразил, что в спешке, под напором скопившихся мыслей и чувств, ушел в сторону, но сделал виноватую паузу и продолжал: - Да, о балерине. Треть зала - клакеры, профессиональные, надрессированные. У них задание - унизить, оплевать и растоптать молодую талантливую балерину, восходящую звезду национального балета, и одновременно воздать хвалу старой вульгарной танцовщице, некоронованной королеве балета, богине Сиона. И вот представь себе, Янек, чарующую музыку и юную фею - Джульетту, чистую, непорочную, с душой возвышенной, с ясным мечтательным взором. И в самые трогательные минуты в притихшем зале раздается глупое дурацкое хихиканье, преднамеренный кашель, хулиганский смех, пьяный говор. Это клакеры принялись за работу. Публика, конечно, возмущена, нескольких наемников удаляют из зала. Но каково ей, молодой балерине. И вот финал, зал стоя рукоплещет, очарованный и потрясенный великолепием таланта. Раздаются восторженные возгласы: "Браво!" Молодая балерина выходит на авансцену, по проходам к сцене бегут зрители с букетами цветов и, добежав до сцены, во все глотки орут не имя дебютантки, а имя старой танцовщицы и бросают ей в ложу цветы. Представляешь: не дебютантке, а ее сопернице. Так работает клака. - Прием не новый, Эдмон, - скорбно отозвался Слугарев, откупоривая бутылку пива. - Такое бывало не только в Париже. Явление это повсеместное. - Он вспомнил статью, опубликованную в газете "Советская Россия". Статья так и называлась: "Клака". Речь шла о "профессиональной" клаке в Большом театре, и не когда-то в дореволюционное время, а в наши дни. - Да, согласен, - стремительно произнес Дюкан. - Потому что и сионизм - явление тоже повсеместное. Я знал, как травили в Америке очень талантливого драматурга, травили только за то, что он в своей пьесе вывел не очень симпатичного еврея. С большим трудом писателю удалось найти театр и режиссера, согласившегося поставить пьесу. Но еще до премьеры был пущен слух, что пьеса никуда не годная, антисемитская, что автор бездарен и к тому же расист. Это они умеют. Перед началом спектакля над кассой висел аншлаг - все билеты проданы. А премьеру начали… при пустом зале. Все было просто: билеты скупила сионистская мафия. Что им стоит выбросить несколько тысяч долларов, когда они располагают триллионами. А потом, на другой день, их же пресса - а вся пресса США контролируется сионистами - злорадно писала, что пьеса, как и следовало ожидать, провалилась, что спектакль шел при пустом зале… А публика… Это же стадо безмозглых баранов. Она верит продажной прессе, телевидению, рекламе. Она оболванена, ей привит извращенный дурной вкус, она воспитана на ширпотребе, так называемой массовой культуре. Примитив, пошлость приводят ее в восторг… впрочем, все это, так сказать, мелочи на фоне других странных, я бы сказал чудовищных, преступлений, которые творит сионизм на всех континентах. На Ближнем Востоке я видел ад, созданный израильтянами для палестинцев. Они зверски пытали и убивали ни в чем неповинных людей, мальчикам-младенцам ломали пальчики ручек, делали их калеками, чтоб они никогда не смогли взять в руки оружие. Младенцев, повинных лишь в том, что родились они арабами на земле Палестины, земле, которая приглянулась сионистам. Я видел, как под ножом бульдозера рушились дома палестинских бедняков, целые деревни сметались с лица земли, а гонимые жители их уходили в соседние страны. Нет, Янек, ты только на миг представь себе леденящий душу крик младенца, которому ироды двадцатого века ломают пальчики. Он зовет на помощь маму, а ее в это время истязают людоеды, именующие себя божьими избранниками. Как известно из Библии, царь иудейский Ирод истреблял младенцев. Современные потомки Ирода делают то же самое. А мир, так называемая мировая общественность, молчит. Потому что все средства массовой информации контролируются сионистами. И стоит только в какой-нибудь стране упрятать за решетку ординарного уголовника-еврея, как заговорит эфир, зашумят газеты о нарушении прав человека, об антисемитизме. Осужденного пройдоху объявят крупным ученым или писателем, страдальцем за идейные убеждения, жертвой антисемитизма. Сотни всевозможных организаций, контролируемых, естественно, сионистами, будут требовать его освобождения. Только в Соединенных Штатах десятки официальных сионистских организаций, таких, как "Американский раввинский совет", "Объединенный комитет помощи американских евреев", сокращенно "Джоинт", "Всемирная сионистская организация", "Лига защиты евреев" и тому подобные. Есть и мыслительный бункер "РЭНД" так называемого исследования и развития, мозговой штаб с двадцатью миллионами долларов годового оборота. В нем работают исключительно евреи. Их называют "военной интеллигенцией. Между прочим, там же подвизался один из современных Иродов - Герман Кан - автор нашумевшей книги "О термоядерной войне", циник и человеконенавистник. Я знаком с одним из этих "военных интеллигентов" - Ароном Кацем. Внешне щупленкий, но в мозговом штабе он специалист по борьбе с партизанами. Я представляю его в роли современного оберфюрера Курта Шлегеля. О, нет, Шлегелю до Каца далеко. Шлегель - грубый палач, садист, двуногий зверь. Он примитивен. Кац же ученый, утонченный интеллектуал, вооруженный всемирным опытом людоедства, у него стройная теория, которую он экспериментирует на практике на гоях. Сломать младенцам пальчики - для него не просто причинить боль и страдание. У него идея: мальчик этот, став взрослым, не будет представлять опасности для великого Израиля, он не сможет взять в руки оружие мести. Ну, а о том, что он не сможет взять в руки орудия труда и созидания, Кацу и Кану нет дела: рабов для себя они найдут в других землях, послушных, безропотных гоев. Он вдруг умолк, поджав губы, тяжелая голова поникла, на побледневшее измученное лицо легла печать усталости и печали, утомленные глаза померкли - в них лишь слабо светились горечь и тихое страдание. Слугарев ждал. Пауза затягивалась, но Дюкан не проявлял намерения продолжать. Тогда Слюгарев сказал со вздохом участия: - И тебя, конечно, объявили антисемитом. - Ну нет, не просто антисемитом. Это было бы слишком, как тебе сказать, мягко, деликатно, безобидно. Во Франции антисемитом назовут любого, кто может о себе сказать с гордостью: "Я истинный француз". Во время своего визита в Францию израильский лидер Абба Эбан заявил, что антисионистски настроенный еврей это все равно, что антифранцузски настроенные французы. А вообще во Франции официально нет евреев, у нас все французы. Из Иерусалима израильтяне изгнали арабов, и мир молчит. Молчат Вашингтон и Рим, Лондон и Париж. А представь себе, что из Парижа или Праги были бы изгнаны евреи! Мир бы содрогнулся от неистового вопля возмущения, раскаленный добела эфир клокотал бы от вселенского гнева радиоголосов. Тебе, как марксисту, я могу напомнить, что говорил по этому поводу Фридрих Энгельс. Вот, дословно: "Я начинаю понимать французский антисемитизм, когда вижу, как эти евреи польского происхождения с немецкими фамилиями пробираются повсюду, присваивают общественное мнение города-светоча…" Имеется в виду, конечно, Париж. С работой Карла Маркса "К еврейскому вопросу" ты, надо полагать, знаком? - Когда-то читал. И считаю ее самым сильным разоблачением сионизма, - ответил Слугарев. - Я так не думаю, - поморщился Дюкан. - Сильнее и убедительнее всех догола раздел сионизм Генри Форд - автомобильный король. Между прочим, в книге Форда есть такие слова: "Каждый, кто в Соединенных Штатах, либо в другой стране попробует заняться еврейским вопросом, должен быть готов выслушать упрек в антисемитизме или получить презрительную кличку погромщика". Этот ярлык погромщика навешен на меня после выхода в свет "Черной книги". В своей работе я цитирую и Генри Форда и других более ранних авторов, разоблачающих сионизм. Жаль, что ты не знаешь арабского и испанского, а то я тебе прислал бы экземпляр из моего неприкосновенного запаса. По его лицу разлилась какая-то невинная благостная улыбка, а глаза смягчились и потеплели. - Теперь я представляю, что есть такое твоя "Черная книга", Эдмон, - сказал Слугарев. - Нет-нет, мой капитан, представить невозможно, это надо читать. В ней факты, цифры, имена. Она строго документальна. В Европе для нее не нашлось издателя, потому что духовная и политическая жизнь Европы контролируется сионистами. Во время последней встречи в Варшаве ты спросил меня, состою ли я в партии. Я ответил тебе тогда кратким "нет". Ты не спросил, почему, я не стал объяснять. А теперь скажу: я проанализировал деятельность политических партий Европы и состав их руководящего ядра и убедился, что все они, за небольшим исключением, контролируются сионистами. Посмотри, кто возглавляет так называемые соцпартии, объединенные в Социнтерн. Голда Меир, Пьетро Ненни, Франсуа Меттеран и им подобные. Сионистская агентура проникла в рабочее движение, в прогрессивные общественные организации, чтобы взорвать их изнутри, провокационными экстремистскими действиями скомпрометировать их. Я не открою тебе секрета, если скажу, что так называемый еврокоммунизм - изобретение чисто сионистское, и авторы его - матерые сионисты и провокаторы. И опять наступила пауза. Слугарев воспользовался ею, спросил об Элеоноре. Дюкан ответил не сразу. Видно было, что вопрос этот для него не то, чтоб неприятный, но и не из легких. Он наполнил свой бокал из темно-зеленого стекла. Пиво пенилось и искрилось, источая горьковатый аромат ячменя, выпил одним залпом до дна, похвалил: - Отменное пиво делают кубинцы. - Поставил пустой бокал на стол и, посмотрев на Слугарева печально и виновато, заговорил неторопливо приглушенным голосом: - Разлад с Элеонорой у нас назревал постепенно. Ей не очень нравился мой образ жизни журналиста-международника. Вернее, совсем не нравился. Не каждая жена может терпеть постоянные разлуки, поездки по белу свету, не всегда безопасные… Но, пожалуй, не это главное. Меня уволили из газеты, как только я коснулся вопроса сионизма, этой запретной темы. Особых сбережений у меня не было, и проблема - на какие средства жить - наступала на пятки. А тут пошли анонимные письма, телефонные звонки с угрозами. Угрожали не только мне и Элеоноре, но и ее отцу, который знал власть и могущество Сиона и понимал, что им ничего не стоит сделать его банкротом. И тесть, и Элеонора уже не просто советовали, а требовали от меня "благоразумия", оставить Сион в покое, ультимативно требовали. А я не мог изменить самому себе, не мог отречься от самого себя, как это сделал в свое время Генри Форд, написавший убийственно разоблачительную книгу о сионистах. Его заставили отречься. Я решил идти до конца, даже если за принцип придется поплатиться жизнью. Конечно, я не имел права распоряжаться жизнью Элеоноры и благополучием ее отца. Я вылетел в Штаты, и между мной, Элеонорой и тестем произошел откровенный разговор. Тяжелый это был разговор. Мы решили расстаться. Как раз в это время арабы издали мою "Черную книгу". Преследование и травля меня усилились. Многие друзья и знакомые стали меня чураться. Я скоро почувствовал вокруг себя пустоту, вакуум. Я имею в виду своих европейских и американских знакомых. Ближневосточные друзья не отшатнулись, напротив: после выхода книги они назвали меня своим, братом, палестинцем. Там я встретился с колумбийской журналисткой, кинооператором, документалистом Алисией Васко. Сначала она познакомилась с моей книгой. Книга произвела на нее сильное впечатление, она открыла ей глаза, подтвердила то, о чем она смутно подозревала, инстинктивно догадывалась. Ведь на ее родине - в Латинской Америке сионизм занимает господствующие ключевые позиции во всей общественной жизни: в финансово-экономической, производстве и торговле, в идеологии и культуре. Мы как-то сразу, с первой встречи, обнаружили общность интересов, более того - родство душ. О, Алисия - прекрасная женщина, человек большой силы воли и твердых убеждений. Она солдат великой битвы, которая сейчас происходит на планете, храбрый, мужественный солдат. Она из тех, кто может поднять залегшую под огнем врага цепь солдат… Да, Янек, ты извини, я увлекся, мне так хочется излить душу именно тебе. Скажи, пожалуйста, как Ядзя, наша партизанская красавица, в которую мы все были тайно влюблены? Все тайно, кроме тебя. Он уставился на Слугарева мягким теплый взглядом, в котором отражалось что-то далекое, трогательное, всплывшее вдруг из заветных глубин памяти сердца. - Я тебе говорил при нашей последней встрече в Варшаве: она моя жена, доктор биологии, профессор. Сын наш Мечислав уже лейтенант. - Биолог - это хорошо. А моя Алисия - кинооператор, - напомнил Дюкан. - Мы с ней делаем документальный фильм о преступлениях сионистов перед человечеством. Мы, то есть Алисия, отсняли многие тысячи метров пленки. Мы снимали на Ближнем Востоке и в Южной Африке, в Европе и в Штатах, в Канаде, в Центральной и Южной Америке - везде, где сионизм набросил петлю на национальную экономику и культуру. Дикторский текст мой. Впрочем и диктор я сам. В основу текста положена "Черная книга". Между прочим, в нашем фильме будет и оберпалач Шлегель. Мы проведем параллель между нацизмом и сионизмом, как двумя сторонами одной медали. Притом сионизм - лицевая сторона. Представь себе, Янек, Шлегель охотно позировал перед кинокамерой. Он хочет войти в историю нераскаявшимся грешником. Теперь мне нужен Хассель-Дикс. Обязательно. Представляешь, как это будет звучать?! Он снова оживился, делая порывистые жесты, глаза заискрились гневными высверками, лицо приняло злое, мстительное выражение, и он опять был полон огня и жизни. "Сколько же в нем еще энергии, неистребимой, вулканической, - думал Слугарев, глядя на Дюкана с любовью и восхищением. - Да, для него война не закончилась в сорок пятом. Похоже, что все послевоенные годы он провел на полях битв в самых горячих точках". Сказал вслух, дружески улыбаясь в лицо Дюкану: - Я не был на Ближнем Востоке, хотя по сообщениям печати представляю, что там происходит. Глядя на тебя, я сейчас подумал, что передо мной сидит настоящий палестинец. - Спасибо за комплимент, Янек, для меня это высокая честь. И я вправе называть себя палестинцем. Как и палестинцы, я изгнан со своей родины, как и они, я подвергаюсь жестоким гонениям, как и они, я веду смертельную битву со злейшим врагом человечества - сионизмом, хотя само человечество еще не поняло, не осознало, сколь страшен, жесток и опасен враг. Может, когда-нибудь, поняв, что такое сионизм, общественность земли создаст всемирный антисионистский конгресс, который объединит всех патриотов и возглавит борьбу с этой злокачественной опухолью. Во имя этой беспощадной, бескомпромиссной борьбы можно и нужно отдать всю энергию, силы, талант, всю жизнь. Но, мой капитан, помни, что сионизм опутал своими щупальцами спрута весь мир. Чтоб победить его, нужны не тысячи, а миллионы самоотверженных бойцов, пожертвовавших личным благополучием, идейных борцов, готовых к Голгофе и распятию. Впрочем, что я говорю: обо всем этом я писал тебе из Нью-Йорка. Ты получил мое письмо? - Да, Эдмон, получил. Но мне помнится, ты писал, что твой тесть, отец Элеоноры, честный бизнесмен, твой единомышленник и обещал тебе всяческую поддержку в твоей нелегкой борьбе. - Да, вначале так и было. Но потом пошли угрозы, анонимные письма, звонки. В его конторе взорвалась бомба. Спустя месяц после этого его автомашина, которую он на несколько минут оставил у подъезда своего дома, взлетела на воздух. Очевидно, была подложена пластиковая бомба на магнитной присоске, возможно, с дистанционным управлением. И он не выдержал. Его можно понять. Ты, Янек, не представляешь, что такое Америка. Это страна гангстеров, государство, где запросто убивают президентов, неугодных сенаторов и общественных деятелей, не говоря уже о рядовых гражданах. Одержимость Дюкана восхищала Слугарева, вместе с тем его намерение во что бы то ни стало попасть на остров Дикса озадачивало, порождало проблему, которая могла вылиться в серьезные последствия. Ведь там, на Острове, Макс Веземан, встреча их неминуема, доведись Дюкану попасть на Остров, и, конечно же, нежелательна, более того - опасна для Веземана, которого Дюкан несомненно узнает и, сам того не желая, выдаст. Поэтому Слугарев осторожно попытался отговорить Дюкана от встречи с Диксом: мол, Шлегель мог и наврать, возможно, в самом деле нет ни острова, ни Хасселя. Но такую мысль Дюкан решительно отметал. Тогда Слугарев выдвигал другой аргумент против поездки: если в действительности существует такой Остров-лаборатория, то он, естественно, сильно охраняется ЦРУ, и попытка проникнуть туда нелегальным путем связана с большим риском, так как в подобных случаях ЦРУ не церемонится и старается не оставлять в живых свидетелей. Дюкан соглашался с доводами Слугарева и тем не менее оставался непреклонным в своем решении. Дело осложнялось. Тем более, что кубинцы уже сообщили Дюкану, где находится интересующий его остров, хотя и неточно, приблизительно. Нужно было что-то предпринять, чтоб не допустить встречи Дюкана с Максом Веземаном, которого Эдмон знает по партизанскому отряду как Вальтера Дельмана. Прежде всего нужно предупредить Макса о возможности появления на Острове Эдмона Дюкана, чтоб он заранее предпринял какие-то меры для своей безопасности. И еще Слугарев надеялся уговорить Алисию повлиять на мужа, заставить его отказаться от попытки проникнуть на Остров, поскольку это грозит им смертельной опасностью. Поэтому он согласился сейчас же пойти в "Абану Либре".
3
Алисию они встретили в холле гостиницы: она собиралась идти в город. Это была высокая, тощая, прямая, как жердь, брюнетка с острыми ключицами, с лицом некрасивым, но симпатичным. Некрасивой была ее улыбка, обнажавшая не только крепкие, крупные, как бобы, зубы, но и мясистые десны. Но этот недостаток с лихвой искупали ее большие темные глаза, излучавшие тихий восторг и радостный порыв. Глаза эти смотрели открыто и прямо, когда Эдмон весело и возбужденно представлял Алисии своего бывшего партизанского командира, при котором он служил адъютантом; они с искренним любопытством щурились, а вытянутое овалом лицо с острым подбородком хранило гордый, самоуверенный вид. Глубокий разрез светло-кремовой блузки обнажал тонкую кофейно-смуглую шею, украшенную крупным гранатовый кулоном на тяжелой золотой цепи. Такие же гранатовые сережки впивались в мочки ушей, искусно запрятанных в дремучие дебри густых пышных волос. Алисия предложила вместе пообедать, и они втроем зашли в ресторан. В полупустом зале мощно работали кондиционеры, и после уличного зноя Слугарев приятно ощутил прохладу, которая вскоре показалась чрезмерной, так что Алисии пришлось подняться к себе в номер за свитером для Эдмона и за шалью для себя. Слугареву предложили пиджак Эдмона, но он отказался, сославшись на привычку к холодам. Прохлада ресторана напомнила Слугареву Ново-Афонскую пещеру, в которой он побывал в прошлом году. "Пожалуй, здесь попрохладней, чем в пещере", - подумал Иван Николаевич и пожалел, что отказался от пиджака. Как бы не простыть и не слечь в постель. Пока Алисия ходила в номер, Эдмон заказал на закуску зеленый салат с острым ароматным соусом и лангусты, на первое овощной суп, на второе жареную свинину. И, конечно, манговый и ананасовый соки. Алисия спросила Слугарева, нравится ли ему кубинская кухня. Иван Николаевич искренне ответил что очень нравится, особенно блюда из лангустов, салаты и, разумеется, соки. - И пиво, - добавил Эдмон и продолжал: - На Хувентуде мы жили в гостинице "Колони". И однажды в ресторане гостиницы стали свидетелями инцидента. Канадским туристам под видом лангустов подали крабов. Они возмутились, подняли шум, вызвали директора. Шум, гам. Международный скандал из-за пустяка. Конечно, это не совсем пустяк: лангуст похож на краба, как арбуз на тыкву. - И повторил Алисии на испанском то, что сказал сейчас на польском. Алисия милостиво улыбнулась и вздохнула неопределенно, томно. Эдмон добросовестно и прилежно выполнял обязанности переводчика, но разговор как-то не получился: языковый барьер казался непреодолимым, и Слугарев вполголоса заметил, что разноязычие рода человеческого, пожалуй, является самой большой ошибкой природы творца. - Именно так, именно так, - быстро подхватил Эдмон. - Это ошибка, а возможно, и преднамеренная подлость природы. Создала на земле вавилонское столпотворение. Не будь разноязычия, не было бы ни разрушительных войн, ни распрей и междоусобиц. - И снова повторил по-испански для Алисии. - Творец увлекся многообразием и допустил ошибку, только не подлость, - сказала Алисия бесстрастно и холодно. Ни голос, ни лицо ей ничего не выражали. - Творец и подлость несовместимы, - добавила она после паузы солидно, с гордой самоуверенностью. На лице Эдмона распласталась виноватая улыбка, он торопливо перевел Слугареву слова Алисии и тут же рассыпался в любезностях и комплиментах по адресу своей жены: - Я ж говорил тебе, Янек, Алисия умница, мой добрый гений. Ей я обязан жизнью своей. Даже больше, чем жизнью. История знала немало случаев, когда сестра милосердия выхаживала тяжело раненого, вылечивала его от физических ран, и возвращенный к жизни, исцеленный оставался по гроб благодарен своей исцелительнице. Но Алисия совершила больше - она исцелила меня духовно. А это гораздо трудней и возвышенней. Она пришла ко мне в минуту, когда я под жесточайшим огнем травли израсходовал остаток сил и был готов поднять белый флаг и в отчаянии на последнем выдохе бросить в лицо моих друзей и недругов: "Все кончено… с меня хватит… Я больше не могу…" Она вдохнула в меня новые силы, огонь жизни, жажду борьбы и неодолимую веру в правоту моего дела. Я ожил, я снова почувствовал себя бойцом, а врагов своих увидел ничтожными и омерзительными. Теперь мои силы удвоились, потому что рядом со мной стала моя Алисия, мой ангел любви, жизни и борьбы. От частого повтора ее имени Алисия догадывалась, о чем и о ком говорит Эдмон своему другу. Да это легко было понять по голосу и выражению лица Эдмона. Он смотрел на жену влюбленно, взглядом юношеского обожания. Глядя на него, Слугарев вспомнил слова своего начальника Дмитрия Ивановича Бончейкова, который утверждал, что лучший эликсир молодости - чистая и пламенная любовь. Она просветляет разум, одухотворяет и обновляет плоть. Вместе с тем Иван Николаевич не забывал о том, главном, ради чего он согласился встретиться с женой Эдмона. Улучив удобную паузу, он заговорил о Хасселе-Диксе с видом задумчивым и озабоченным, обращая свой взгляд на Алисию, которая попросила мужа перевести слова Слугарева. Она слушала Эдмона, а глядела на Слугарева прямым строгим взглядом, недоуменно тараща глаза. Видно, слова не сразу проникали в глубину ее сознания. Для большей убедительности и, желая вызвать в ней чувство тревоги и страха, Иван Николаевич повторил, что цель визита к Диксу не оправдывается степенью опасности, слишком велик процент риска. И опять напомнил о ЦРУ и израильской "Моссад", пощады или снисхождения от которых нельзя ожидать. Но предостережения Слугарева но вызвали ожидаемого действия: Алисия выслушала их с холодным равнодушием, лишь нервно подергивая острыми плечами, обронила, как показалось Слугареву, небрежно-бесстрастным тоном: - Мокрому дождь не страшен. И в этих словах и в выражении лица чувствовались досада и раздражение. Очевидно, предостережение Слугарева возмущали ее гордость и самонадеянность. По всему было видно, что супруги не отступятся от своего решения встретиться с Хасселем-Диксом. И все же, расставаясь с ними, Слугарев с озабоченным видом, хотя и вполголоса, но с убежденной настойчивостью посоветовал Эдмону прислушаться к его предостережению. В ответ на это Эдмон неопределенно повел круглыми плечами, украдкой покосился на жену, ничего не сказал, только морщинистое рыхлое лицо его приняло, как показалось Слугареву, жалкое виноватое выражение, похожее на вымученную улыбку, а в глазах, вдруг потускневших и печальных, засветились скорбное удивление и тревога. Все последующие дни Иван Николаевич находился под впечатлением встречи с Дюканом. Неистовая целеустремленность и сатанинская сила воли Дюкана покоряли Слугарева. Неумолимые годы и жестокая борьба, требующая мужества, душевного напряжения, нравственных и физических сил не только не сломили его, но даже не согнули. Он добровольно, во имя идеи избрал себе тернистый путь и уж, как убедился Слугарев, ничто, никакие силы не смогут остановить его. Разве что смерть. Насильственная. Дюкан во всеуслышанье сказал то, о чем Слугарев знал или догадывался, но вслух об этом как-то непринято говорить, а если и говорят, то чаще всего шепотом, тайком, словно заговорщики, опасаясь кого-то обидеть, рассердить и накликать на себя беду. А собственно почему тайком, почему шепотом, почему об этом не сказать во весь голос? - спросил самого себя Слугарев. Ответа не было. Впрочем сказали и вслух, он вспомнил. Впервые сказал публицист-международник Юрий Иванов в своей тоненькой по объему, но увесистой по содержанию книжке "Осторожно: сионизм!" Появление ее па прилавках книжных магазинов прозвучало как разорвавшаяся бомба. Книга появилась и сразу же исчезла. У нее, как и ее автора, было много недругов. Они-то и скупали ее целыми пачками, а затем в дачной Малаховке сжигали на костре - новоявленные инквизиторы. У них были и более поздние предшественники, разжигающие костры из книг на площадях немецких городов во времена разгула гитлеризма. О кострах в Малаховке Слугареву рассказывал сам Юрий Сергеевич, который в то время работал в международном отделе ЦК партии. Высокий, атлетического телосложения, точно отлитый в бронзе, решительный и смелый, всесторонне эрудированный, он в совершенстве владел английским языком, увлекался боксом и музыкой. Отец его - советский разведчик - трагически погиб при исполнении служебного долга. Он нравился Слугареву независимостью суждений и непоколебимой убежденностью в своих взглядах. Именно эти черты характера и сблизили его с Эдмоном Дюканом, хотя внешне между ними не было ни малейшего сходства. Вспоминалась Слугареву и еще одна книга о сионизме - "Ползучая контрреволюция". С автором ее, белорусским журналистом Владимиром Бегуном, Иван Николаевич тоже был знаком. Этот был помоложе Иванова, но внешностью своей и темпераментом напоминал Слугареву молодого Дюкана. Владимир Бегун в тринадцатилетнем возрасте был партизанским связным в Белоруссии. Фашисты казнили его мать и двух сестер. Человек, имеющий за плечами такую биографию, как Юрий Иванов и Владимир Бегун, не может быть иным в мире, где идет ожесточенная борьба добра со злом. Его место на переднем крае идеологического фронта. На пятый день своего пребывания в Гаване Слугарев получил долгожданные вести от Макса Веземана. Макс сообщал, что намечалась его командировка на Кубу, но в последний момент поездку эту отменили: на Острове готовятся какие-то события, и ввиду болезни Штейнмана вся служба безопасности возложена теперь на него. Далее Макс сообщал, что ему удалось наладить отношения с Диксом и получить от него более или менее обстоятельную информацию о работе "Группы-13". По крайней мере, в общих чертах говорилось, что из себя представляет "А-777", принцип его действия, способы распространения, и что отсутствие противоядия не позволяет американцам запустить этот смертельный препарат в производство: боятся выпустить джина из бутылки. В сообщении указывалось, что Дикс, вероятно, в скором времени уйдет в отставку и что Кларсфельд начал разработку какого-то нового нервно-паралитического препарата. Это было именно то, что ожидал Слугарев: значит в Москву он возвратится не с пустыми руками. В конце обычно сдержанный, немногословный и не расположенный к сантиментам Веземан поздравил Слугарева с генералом и заметил, что он очень огорчен несостоявшейся встречей в Гаване. В тот же день Слугарев послал в эфир радиошифровку для Веземана, в которой подтверждал получение его информации и предупреждал о возможности появления на Острове Эдмона Дюкана. А еще через два дня генерал Слугарев возвратился в Москву.
Глава четвертая
1
В приемную Дмитрия Ивановича Бойченкова заглядывали сотрудники, молча кивали на дверь генеральского кабинета, глядя на помощника вопросительно и, получив в ответ отрицательное покачивание головой, сокрушенно вздыхали и уходили. Иные вполголоса спрашивали: - Кто у Дмитрия Ивановича? - Слугарев, - так же вполголоса отвечал помощник. - Все еще не выходил? Ничего себе. - Так ведь и путь на Кубу не близок. Есть о чем поговорить. - Да уж есть о чем… Беседа продолжалась уже без малого два часа. Слугарев подробно доложил о сведениях, полученных от Макса Веземана, о своих встречах и беседах с кубинскими коллегами и, наконец, об Эдмоне Дюкане и был несколько удивлен, когда Бойченков сказал, что ему известно имя французского журналиста, как автора "Черной книги", которую неплохо бы издать на русском. - О сионизме мы почему-то говорим шепотом, в лучшем случае - вполголоса, словно о предмете государственной тайны или какой-то заморской диковинке, не имеющей к нам прямого отношения. Делаем вид, что в нашей стране никогда не было, а тем более в настоящее время, нет сионистов, - оказал Бойченков в унисон мыслям Слугарева. Произнеся эту фразу, Дмитрий Иванович поднялся, вышел из-за стола и, заложив руки за спину, остановился у окна, выходящего на площадь. Он смотрел на бронзового Дзержинского каким-то сложным, углубленным, обращенным внутрь взглядом, так что Слугареву вдруг почудилось, что на круглые плечи его начальника, облаченные, как всегда, в элегантный пиджак, давит какой-то мучительно неприятный груз. В ноябре Бойченкову исполнится пятьдесят, он был старше Слугарева тремя годами. Всегда подтянутый, чисто выбритый, с аккуратно причесанными, отливающими сизым блеском волосами, с открытым приветливым взглядом, он выглядел намного моложе своих лет. Однако сегодня Слугареву показалось, что за время его командировки на Кубу Дмитрий Иванович зримо постарел. На тонком бледнокожем лице появились мелкие морщины, светлые глаза потемнели, в них застыла непреодолимая озабоченность. Не поворачиваясь от окна, Бойченков продолжал самим же прерванную мысль: - А среди тысяч эмигрировавших в Израиль сотни и многие сотни убежденных, ярых сионистов, ненавидящих нашу страну, наш советский общественный строй, да и народ, на который они всегда смотрели с презрительным высокомерием, как патриции на плебеев. Многие из них осели в странах НАТО и США, свили свои осиные гнезда в разных антисоветских изданиях, грязных волнах радиоголосов. - Он резко повернулся в сторону Слугарева и словно выстрелил сухие жесткие слова: - Позавчера к нам прибыл из Австрии твой старый знакомый Милош Савич. - Мариан Савинский? - Слугарев поднялся. Он уставился на Бойченкова изумленно-вопросительно. - Но ведь это персона нон грата, известный шпион? - По крайней мере, известный лучше неизвестного. - Бойченков возвратился к длинному полированному столу, за которым он проводил совещания сотрудников, сел в кресло и продолжал: - Савич прибыл по приглашению, в порядке культурного обмена, мы не стали возражать, чтоб лишний раз не раздражать товарища Серого. И без того Мирон Андреевич считает, что мы своей излишней подозрительностью мешаем научным и культурным контактам с интеллигенцией Запада. Что ж, понаблюдаем за контактами Милоша Савича. - В последней фразе Бойченкова прозвучала едкая ирония. Слугарев понимал, какие контакты Савича имел в виду Дмитрий Иванович. Бойченков кивком головы предложил Ивану Николаевичу садиться и продолжал своим ровным, спокойным голосом, лишенным резких интонаций и эмоциональных оттенков: - Савич успел побывать в домах кинематографистов, ученых и литераторов. В Доме ученых он долго беседовал с профессором Пуховым Юлием Григорьевичем. Кстати, переводчицей у Савича Мария Валярчук - дочь известного нам профессора-химика, бывшего начальника Адама Куницкого. - Вот как? - Слугарев удивленно вскинул брови, - Машенька Валярчук, племянница Юлия Григорьевича. Недавно окончила иняз. Любопытно… Весьма и весьма… - Похоже, что именно этот ученый интересует Савича. Ты ведь с Пуховым, кажется, знаком? - Слугарев кивнул. Он знал Юлия Григорьевича как человека и как ученого. - Итак, кто такой Пухов? Бойченков выпрямился в кресле и приготовился слушать. Слугарев не спешил отвечать. По опыту он знал, что Дмитрий Иванович в отношении характеристики людей не терпел предвзятости и субъективизма. Сам он умел рисовать словесный портрет двумя-тремя фразами, точными, емкими, без пространных и несущественных деталей. Этого же требовал и от подчиненных. Слугарев заговорил не глядя на Бойченкова, медленно, как будто взвешивая каждую фразу: - Настоящая фамилия Юлия Григорьевича - Гапон. Но так как фамилию эту скомпрометировал в девятьсот пятом году небезызвестный петербургский поп, то отец Юлия - в свое время репрессированный троцкист Григорий Сергеевич - сменил ее на русскую. Энергичный, деятельный, излишне активный, часто выступает в печати по самым различным вопросам, даже таким, которые далеки от его компетенции. Например, о повороте северных рек на юг, об охране исторических памятников и о демографическом взрыве, участвует в дискуссиях, кого-то хвалит в печати, кого-то ругает. Слывет ортодоксом и даже пытается выдать себя за антисиониста, хотя его антисионизм никто всерьез не принимает. Даже сионисты. Старается быть всегда на виду, появляться в президиумах различных собраний, совещаний, заседаний. Иногда идет без всякого приглашения, бесцеремонно, я бы сказал, нагловато. Располагает большими связями в кругах интеллигенции, также и за рубежом. Часто бывает в заграничных командировках, в туристических круизах. Недавно выступал с докладом на международном симпозиуме ученых в Вене. Поругивает империалистов. Принимает у себя на квартире иностранных коллег. В частности, он встречался с коммерсантом Купером. - Это с тем, который посещал научно-исследовательские учреждения Москвы и Ленинграда и в беседе с научными сотрудниками интересовался нашими новинками? - уточнил Бойченков. - Да, с тем самым. - А что он представляет из себя как ученый? - спросил Бойченков сумрачно. - По специальности - математик. Называет себя учеником академика Виноградова Ивана Матвеевича. По отзывам ученых, специалистов, в профессиональном плане мелковат, поверхностен. Тем не менее апломб, организаторская жилка и обширные связи помогли ему пробиться в членкоры. Возможно, не обошлось и без протекции. Его сестра Муза Григорьевна Мелкова дружна с супругой Мирона Андреевича. Слугарев замолчал и выжидательно посмотрел на Бойченкова. Он понимал, что последняя фраза его будет неприятна Дмитрию Ивановичу, но он обязан был сообщить ему на первый взгляд эту мелкую, незначительную деталь, потому что знал предвзятое отношение товарища Серого к генералу Бойченкову. - Все? - сухо спросил Бойченков, решивший на этом закончить разговор. Он положил руки на подлокотники кресла, готовый встать, но Слугарев после короткой паузы продолжал: - Есть еще одна деталь, Дмитрий Иванович. Тебе известно имя молодого ученого Дениса Морозова. - Ну как же: восходящая звезда прикладной математики. Кстати, он еще не академик? - живо отозвался Бойченков. - Для академика слишком молод. Ему двадцать семь. Между прочим, в членкоры академии он был избран в один день с Пуховым, и Юлий Григорьевич считает Морозова своим учеником и не преминет случая, чтоб об этом публично заявить. - Что ж, заурядному учителю лестно козырять гениальным учеником: авось лучик чужой славы на какое-то мгновение свергнет и на его лик. - Важно не это. К научному открытию Дениса Морозова проявляют активный интерес натовские спецслужбы, - напомнил Слугарев. - Думаю, что не случайно Денис дважды получал приглашения из-за океана принять участие в научных симпозиумах. - Это я знаю, - кивнул Бойченков и прикрыл глаза ладонью. - И не только натовские. Одну попытку со стороны "Моссада", как ты помнишь, мы пресекли. Наивно было бы думать, что на этом они остановятся. Оно и понятно: по словам военных специалистов, работа Морозова оказалась бесценной в арсенале оборонной техники. Поэтому ты считаешь, что этот Гапон?.. - Бойченков не докончил фразу, смысл которой и без того был ясен. - Береженого Бог бережет, как сказала монахиня, - ответил Слугарев и тихо улыбнулся. - Повышенный, я бы сказал, до неприличия интерес Пухова к Денису настораживает. Он самозванно и против воли Морозова взял на себя роль опекуна и бескорыстного благодетеля. В бескорыстие его трудно поверить. Насколько я знаю Пухова, у него каждый шаг, каждый жест преследует заранее определенную цель. - А как сам Морозов относится к ухаживанию Пухова?.. Его ведь предупреждали о бдительности, осторожности, о новых знакомствах. Он сам понимает, к чему может привести доверчивость и беспечность? - Думаю, что понимает. Дениса я знаю еще со школьных лет. Тебе известно, что мы с его отцом партизанили в Польше в годы войны. Наши сыновья - мой Мечислав и его Денис - тоже нашли общий язык, иногда встречаются, чаще общаются по телефону. - Они друзья? Я так понимаю? - Не совсем так. И не потому, что Денис старше Мечислава на пять лет - разница небольшая. Все дело в характере Дениса. Воспитывался он без матери, то есть с детства он был лишен материнской ласки. Отец, как только мог, старался восполнить материнскую любовь своей нежностью, вниманием и душевным теплом. Все свободное время он посвящал сыну. С тех пор как по рекомендации Ивана Матвеевича Виноградова Денис был принят в спецшколу с математическим уклоном, Тихон Морозов жил только заботами о сыне. И не женился: боялся, что мальчик не примет мачеху. Денис отвечал отцу трогательной сыновьей привязанностью и любовью. Он сохранил ее и до сего дня. И сейчас отец для него остается непререкаемым авторитетом. Трудно сказать, что повлияло на воспитание характера, но как говорит Тихон Морозов, Денис уже в школьные годы был необщительным, замкнутым, тихоней. Возможно, сказалась и его врожденная близорукость. Уже с первого класса он начал носить очки. Стеснительный и робкий, он очень страдал, когда ребята в начальных классах навесили на него в общем-то безобидную кличку Очкарик. По словам того же Тихона Морозова, у Дениса ни в школе, ни в университете не было близких друзей. Были приятели, к которым он особой привязанности не питал. Но с Мечиславом они как-то сошлись, нашли что-то общее, что сблизило их. Настойчивые попытки Пухова приблизить к себе Дениса, ввести его в свой круг интересных людей успеха пока не имели. Возможно, в этом смысле возымело влияние Тихона, который очень ревниво относится к знакомству сына с малоизвестными ему людьми, всячески оберегает его. Пухов даже пытался женить Дениса. То была целая драма, достойная театра на Таганке. - Ну хорошо, - нетерпеливо перебил Бойченков. - Драматургией пусть занимаются театры, а тебе нужно заняться своим бывшим подчиненным Милошем Савичем или как он в то время назывался? - Мариан Савинский. - Марианом Савинским и Гапоном. Позаботься также о безопасности Дениса Морозова. Не исключено, что приезд Савича связан с Морозовым и Пуховым. Ты не считаешь? - Это было бы слишком примитивно, до наглости. - А разве появление Савича - не вызывающая наглость? Он же отлично понимает, что нам известно его подлинное лицо. Понимает, что мы не выпустим его из поля зрения ни на полминуты. И все же рискнул, приехал. Зачем? На этот вопрос ты должен дать ответ. Сегодня же свяжись с Тепляковым и действуйте. Держи меня в курсе.
2
Появление в Москве Милоша Савича Слугарев не склонен был связывать с охотой западных спецслужб за Денисом Морозовым, а точнее - за его научными открытиями, имеющими огромное значение для обороны страны. Поступок Савича казался лишенным элементарной логики - его можно было принять лишь как дерзкую браваду. Мол, меня пригласила ваша творческая организация официально, в порядке культурного и научного обмена, и вот я приехал, будьте добры оказывайте мне ваше хваленое русское гостеприимство, нравится вам это или нет. Гость, конечно, не желательный, но… не он первый, не он последний. Слугарев вспомнил имена зарубежных писателей, которых в нашей стране принимали с широким радушием, как желанных гостей, печатали их серенькие опусы, а потом, возвратясь к себе домой, эти самозванные "друзья", позабыв свои льстивые застольные речи и пренебрегая элементарным приличием, выплескивали в эфир и на страницы реакционных газетенок ушаты грязных помоев махровой антисоветчины. Едва ли Савич будет в этот свой приезд в Москву заниматься своей профессиональной деятельностью: это грозило бы ему не только немедленным выдворением из страны, но и судом, - размышлял Иван Николаевич, выйдя от Бойченкова. Савичем занимается Вадим Тепляков - работник опытный, серьезный. Дмитрий Иванович знал, кому поручить Савича. Слугарева больше всего беспокоил Пухов. Ведь он буквально преследует Дениса своим навязчивым до неприличия вниманием. В первое время чрезмерная любезность и доброта Юлия Григорьевича, его готовность оказать услугу смущали молодого ученого, он конфузился и не знал как вести себя. Пухов предлагал Денису добротные импортные вещи и всегда по сходной цене, доставал билеты в театры, приглашал на юбилеи столичных знаменитостей, пытаясь ввести его в круг "высшего общества". И к досаде Юлия Григорьевича, попытки эти были тщетными: Денис упрямо избегал "большого света", ссылаясь то на занятость по работе, то на плохое самочувствие. Впрочем, он действительно много работал, а отдых находил в скульптуре. Это было его увлечение - лепить в пластилине фигурки людей и животных, часто забавные, смешные. Лепил он и дружеские шаржи на свои знакомых. Страсть к пластическому искусству у него появилась внезапно, вдруг, когда он учился в университете. Однажды он как бы с сожалением признался отцу, что математика убила в нем скульптора, возможно весьма незаурядного. Пухов приглашал Дениса к себе домой, обильно угощал анекдотами и последними новостями, которые не попадали на страницы печати. Он был с избытком напичкан как международной, так и внутренней информацией, которой доверительно делился с Денисом. Однажды он под большие секретом сообщил Морозову, что ему удалосьзаполучить от своего заморского коллеги очень ценную научную информацию, поэтому мол, он пользуется особым доверием высоких инстанций. Ему доступно и позволительно то, что не позволительно другим ученым с мировыми именами. И Денис верил всему, что говорил Пухов. У него не возникало ни малейших сомнений в достоверности или хотя бы точности россказней своего бывшего университетского профессора-эрудита. Однажды Юлий Григорьевич пожелал познакомиться с отцом Дениса. Нельзя сказать, чтоб желание это обрадовало молодого ученого, только что защитившего докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Но окрыленный таким успехом - шутка ли: доктор в двадцать четыре года - Денис пригласил Пухова к себе домой. Морозовы занимали теперь двухкомнатную отдельную квартиру в новом двенадцатиэтажном доме. Пухов с начальнической важностью осмотрел обе комнаты, обставленные более чем скромно, и сказал с напускной важностью: - Мм-да… Скромность не всегда украшает человека. Морозовы не поняли, что хотел сказать ученый муж, молча переглянулись, и Пухов пояснил, обращаясь к Тихону: - Положение и талант Дениса дают ему право на лучшие условия. - Он стоял посреди комнаты Дениса, плечистый, с откормленным животом, и на пухлом лице его играла самодовольная улыбка. Юлий Григорьевич знал о большой привязанности сына к отцу и поэтому задался целью покорить сердце "простого работяги", завоевать его доверие. Он покровительственно похлопывал Тихона Кирилловича по плечу, предлагая свои услуги и, скромно хвастаясь своими связями и влиянием, прозрачно намекал, что для него нет ничего невозможного, что он может все. Разыгрывая роль доброго дядюшки-благодетеля, Пухов не мог до конца перевоплотиться, и повидавший в своей жизни всякого Тихон Морозов за словесной мишурой и милыми улыбками навязчивого благодетеля сумел разглядеть фальшь и корысть. Пухов бесцеремонно, как хозяин или близкий друг семьи расхаживал по квартире Морозовых, трогал разные безделушки-сувениры, как будто оценивал их, все щупал и взвешивал. Нагловатая бесцеремонность и развязность были в крови Юлия Григорьевича, стали чертой его характера, сам он, возможно, и понимал, что это не лучшая черта, но избавиться от нее не мог и не очень старался. "Что за дурацкая манера все лапать?" - подумал Тихон, когда Пухов взял со стола красочную первомайскую поздравительную открытку и прочитал ее текст. Особенно покоробило Тихона преднамеренное выпячивание Пуховым своей главной роли в судьбе Дениса. Это звучало очень назойливо: не окажись рядом с Денисом профессора Пухова и не быть бы Денису тем, кем он есть сейчас. Тихон Кириллович знал другое - участие в судьбе Дениса академика Виноградова, и он как бы между прочим спросил Пухова, знаком ли тот с Иваном Матвеевичем. - Ну как же, я ведь в каком-то отношении его ученик, - отвечал Пухов, и холодный сухой тон не соответствовал его словам: - Большой ученый, уважаемый. Но, как человек, очень сложный, противоречивый, с комплексом нетерпимости. "Комплекс нетерпимости. Что сие значит?" - мысленно спросил Тихон и решил, что это что-то нехорошее. Тихон Морозов испытывал к Виноградову не просто чувство признательности и глубокого уважения. Он боготворил его как человека и как ученого. Со слов Дениса он знал, что академик Виноградов - глава русской математической школы, что он решал задачи, которые в течение столетий математики мира не могли решить, что в тридцать восемь лет он стал академиком, что за заслуги перед наукой он награжден двумя золотыми звездами Героя Социалистического Труда и пятью орденами Ленина, что он избран членом двадцати иностранных академий и научных обществ. И вдруг какой-то "комплекс нетерпимости", да еще из уст человека, который объявляет себя учеником Ивана Матвеевича. Нет, не понравился Тихону Пухов, не приняло сердце, оттолкнуло. Да и сам Юлий Григорьевич почувствовал отчужденность и даже неприязнь Морозова-старшего. Когда он ушел, Тихон сказал сыну с отцовской прямотой: - Не нравится мне твой профессор. Чужой он и не настоящий. И тебе он не друг. Корысть у него. Хитрая лиса и, думаю, коварная. - Что значит "не настоящий"? - с добродушной улыбкой спросил Денис. - А то значит, что фальшивый. Все в нем поддельное - и улыбочка, и доброта. Цель у него есть, выгоду какую-то преследует. А ты не замечаешь, потому что доверчив и наивен, как ребенок. - Да что вы, папа, какая ему от меня выгода, - как всегда мягко, с тихой улыбкой возражал Денис, поправляя очки. - Все люди разные, одинаковых характеров в природе не бывает. Мы с тобой тоже разные. Людей надо принимать такими, какие они есть. - Правильно - такими, какие есть. Честный человек - одно дело, а жулик - совсем другое. Их не надо в одну кучу валить. - В голосе Тихона слышалась досада и даже легкое раздражение. - Ты слыхал, что он об Иване Матвеевиче сказал: "комплекс нетерпимости". Как это понимать? Что это за комплекс? - Иван Матвеевич недолюбливает Юлия Григорьевича. Понимаешь - разные они, - поморщился Денис, ища оправдания Пухову: - У Пухова есть свои слабости и недостатки. Другой их терпит, не замечает, прощает, что ли. А Иван Матвеевич не терпит и в глаза говорит то, что думает о человеке. И Пухову говорил. Тому, конечно, неприятно. Вот он и придумал "Комплекс нетерпимости". - Вот именно - придумал. Потому что Иван Матвеевич разбирается в людях, насквозь видит и знает, кому какая цена. А ты, сынок, не знаешь. Ты видишь в людях только хорошее, дурного никак не желаешь замечать. А зло - оно коварно, льстиво и ядовито. Ничего больше не сказал Тихон Кириллович, лишь вздохнул сокрушенно, но что-то застряло в памяти Дениса, заставило насторожиться, подумать и проанализировать смысл, который вкладывал Пухов в слова "комплекс нетерпимости". Вообще в последнее время с прирожденным высокомерием и самомнением, желая унизить и оскорбить своих недругов, навешивали на них какой-нибудь "комплекс". Комплекс неполноценности, комплекс подозрительности и тому подобное. "И Юлий Григорьевич тоже", - с сожалением подумал Денис о Пухове. Потом произошла та "драма", о которой Слугарев лишь упомянул Бойченкову, но она-то и совершила, если не переворот, то уж поворот в отношениях между Денисом Морозовым и Пуховым. А произошло вот что. Однажды Пухов позвонил Денису и пригласил его в Дом кино на просмотр, как он выразился, "сногсшибательного" заокеанского боевика. Мол, не пожалеешь, получишь удовольствие и наслаждение. Единственный шанс, потому как на наши экраны фильм не выйдет. Денис после некоторого колебания уступил настойчивости Пухова и согласился, договорились встретиться у входа в Дом кино за полчаса до начала сеанса. Между прочим, Денис спросил Юлия Григорьевича, нельзя ли получить два билета: он хотел пригласить свою подругу, с которой познакомился еще будучи студентом. Лида была старше Дениса на один год, трудилась в одном из многочисленных учреждений, которыми так богата Москва. Родители ее работали на заводе. Лида была младшей в семье. Старший ее брат имел свою семью и жил отдельно, средний - холостой парень, старшина милиции, жил вместе с родителями. Внешностью Лида не выделялась: круглолицая блондинка невысокого роста, склонная к полноте, с большими серыми глазами, всегда серьезными, цепкими и честными. Прямота и честность, открытая душа Лиды и были той изюминкой, которая привлекала к себе Дениса, волновала его сердце и тревожила воображение. Он представлял ее своей женой и находил, что с ней ему будет хорошо и спокойно. Он знал, что нравится Лиде, хотя встречались они редко только потому, что у Дениса не было свободного времени. Как было бы здорово сегодня пойти вместе с ней в Дом кино. - Два билета?! - Крутые тонкие брови Пухова взметнулись от удивления, точно у него попросили лунного грунта. - Ни за какие блага: министрам отказывают. Ажиотаж. Если Пухов и преувеличивал ажиотаж, то не на много. Уже за час до начала сеанса у Дома кино толкались главным образом молодые люди в надежде раздобыть "лишний билетик". Несмотря на предвечернее время, раскаленное за день солнце висело еще высоко над зданием Белорусского вокзала, и нагретый воздух, густо перемешанный с выхлопными газами автомашин, казался липким и раздражающим. Огнистое небо дышало жарко и сухо. Когда Денис подъехал на такси в условленное время, толпа была так густа, что он не сразу увидел Пухова. Юлий Григорьевич был не один: рядом с ним стояла удивительно стройная смуглолицая девушка очень броской внешности. Густой южный загар покрывал тонкий овал ее лица, обнаженные до плеч руки, длинную шею и изящные точеные ноги. Похоже было, что она только что приехала с юга. Мальчишеская короткая прическа не закрывала маленькие изящные уши, украшенные двумя мелкими булавочными бриллиантами. На ней была темная из тонкой лоснящейся материи блузка и короткая белая юбка, подчеркивающая загар точеных ног. Пухов представил ее Денису: - Рената Бутузова - аспирантка и уже почти кандидат изящных искусств. Девушка сделала легкий кивок головой, мило, но сдержанно улыбнулась и подала узкую, окольцованную бриллиантом руку. Денис неловко, преодолевая смущение, ответил ей легким робким пожатием. А Пухов между тем продолжал: - Неожиданная ситуация, дорогой Денис Тихонович: твой покорный слуга и учитель приглашен в шведское посольство на ужин. Не пойти нельзя - могут неправильно истолковать. А чтоб тебе не было скучно в доме кинематографистов, свой билет я презентовал прекрасной Ренате. Ренаточка - дочь моего друга, друг нашей семьи. Она с лихвой заменит меня. - И лукавая широкая улыбка расползлась по жирному лицу Юлия Григорьевича. - Я уже опаздываю, доверяю тебе, Денис, сокровище, которому нет цены, факт общепризнанный. И Пухов мгновенно растаял в толпе. "Сокровище" улыбчиво и неторопливо осмотрело Дениса с ног до головы взглядом дружеским и печальным и сказало нежным задушевным голосом: - Что ж, пойдемте. Пусть Юлию Григорьевичу будет хуже. По крайней мере - мне повезло. "Мне тоже", - чуть было не сорвалось с языка Дениса. Из-за робости слова эти застряли. Доверчивый и бесхитростный он нисколько не сомневался в том, что Пухов приглашен на прием в шведское посольство и что "сокровище" по имени Рената дочь друга Юлия Григорьевича. На самом деле, все это, деликатно выражаясь, не соответствовало действительности. Все было заранее продумано, отрепетировано, как в профессиональном спектакле, ловким и опытным режиссером Пуховым. Распределены и роли, главные из которых отводились приятелям Юлия Григорьевича Ренате и Никите. Не было случайностью и то, что в зрительном зале оказалась Лида с молодым человеком - элегантным, стройным, выше среднего роста, одетым в сиреневую рубаху с нагрудными карманами и погончиками, в бежевые брюки и остроносые бежевые полуботинки, обнажавшие колечки оранжевых носков. Густые темные волосы могучей гривой ложились на крепкий затылок. Это и был Никита. По служебным делам он два раза появлялся в учреждении, где работала Лида, и с первой встречи оказал внимание скромной, стеснительной девушке, сделав ей в общем-то банальный комплимент, но вполне искренне и деликатно. Он говорил, что в Лиде во всей полноте воплощен облик истинно русской девушки с ее внешне не броской, но подлинной, застенчивой красотой, спрятанной внутрь. Он говорил о ее глазах, в которых отражен богатый внутренний мир, душевная щедрость и доброта, но что большинство людей видят только то, что лежит на поверхности, цепляются за внешность и не замечают настоящей скрытой красоты. Во второе свое появление в Лидином учреждении Никита пригласил смущенную девушку на просмотр фильма, на который попасть простому смертному практически невозможно и тут же вручил ей пригласительный билет. Ну как было не пойти, там более что с Денисом Лида не виделась около месяца: он ссылался на свою занятость, подолгу отсутствовал в Москве, а она считала это отговоркой, нежеланием встречаться. Не очень верила она и комплиментам Никиты: считала, что столичный сердцеед избрал ее очередной своей жертвой. Но ее не проведешь, где сядешь, там и слезешь. Было любопытно, как дальше поведет себя Никита. Зрительный зал Дома кино огромный, Денис при своей близорукости не заметил Лиду. Зато Лида видела его, оживленно разговаривавшего с очаровательной спутницей. "Вот оно что… Теперь понятно, все прояснилось", - вспыхнула Лида, и мысль эта, как огнем обожгла сердце. Она впервые в жизни ощутила бешеный прилив ревности. Ей хотелось немедленно уйти. Она не понимала, что говорил ей Никита, не вникала в смысл его слов. Они сидели в середине ряда - в зале ни одного свободного места, чтобы выйти, надо побеспокоить добрую дюжину людей. А тут погас свет, и на экране появились какие-то девицы в купальниках и молодые атлетического телосложения парни. Уходить было неудобно: пришлось сидеть до конца сеанса. Когда они вышли на улицу и Никита спросил ее мнение о фильме, она ответила неопределенным пожатием плеч: в памяти ее сохранились лишь отдельные разрозненные кадры. Никита предложил ей свою машину, но она решительно отказалась: она живет рядом с метро, а это самый удобный для нее и предпочтительный вид городского транспорта. Обида и ревность захлестнули девушку мутной волной. На память ей пришло жестокое слово "вероломство", и она мысленно повторяла его всю дорогу до самого дома. "Пренебрег, увлекся девицей своего круга. И черт с тобой. Только зачем было обманывать, ссылаться на занятость, лгать?.. Подло, вероломно…" Гордость не позволяла ей встретиться с Денисом и объясниться. Она сказала себе, как отрезала: все, точка, никаких объяснений. С глаз долой и из сердца вон. А ведь стоило им встретиться, выяснить вместе как они оказались в Доме кино, когда и как познакомились со своими спутниками, рассказать друг другу искренне, что из себя представляют Рената и Никита, и все стало бы на свое место, довольно примитивный спектакль "Женитьба", поставленный по сценарию Пухова, а именно он был автором этого "сценария", лопнул бы, как мыльный пузырь. А между тем желтый "Жигуленок" Ренаты - она сама сидела за баранкой - из Дома кино увез Дениса домой, только не на квартиру Морозовых, а в дом, где жила Рената со своими родителями. Правда, родители ее в это время отдыхали где-то на кавказских водах. Когда Рената открыла дверь машины и пригласила Дениса садиться рядом с ней, он решил, что она предлагает свою услугу доставить его домой. Но в пути Рената игривым тоном, исключающим возражение, сказала, что сначала они заедут к ней на чашку кофе, она покажет ему свою коллекцию восточных скульптур-статуэток и собрание книг о скульптуре, а потом в целости и сохранности доставит его домой. Она была игрива и весела, но без назойливости. Во всех ее жестах и действиях сквозила естественная непринужденная учтивость, которая дается воспитанием и со временем становится нормой поведения, своего рода чертой характера. Рената как бы между прочим предупредила Дениса, что живет она с родителями, которые в настоящее время где-то наслаждаются кавказскими минеральными водами, что отец ее ответственный работник Государственного комитета по экономическим связям, что сама она трудится на ниве искусства, - где именно, не уточнила, а переспрашивать Денис не стал. Да его это и не интересовало. Квартира у Бутузовых просторная, из четырех комнат, обставлена со вкусом. Рената проводила Дениса в гостиную, усадила в кресло у низкого журнального столика, положила перед ним несколько монографий о художниках, в том числе и о Родене, чтоб он не скучал, пока она будет готовить кофе, и удалилась. Денис увлекся Роденом, которого знал лишь по немногим и далеко не лучшим репродукциям - подлинников великого французского ваятеля ему не доводилось видеть. Он с большим интересом рассматривал изданную за рубежом монографию, в которой были опубликованы фотографии основных работ скульптора, главным образом эротических. Удивительная пластичность фигур, отличное знание человеческого тела, целомудрие плоти, изящность и гармония вызывали чувство прекрасного и одухотворенно-светлого, чистого и возвышенного. В то же время скульптуры эти возбуждали кровь, волновали воображение, когда сладко и тревожно замирает сердце и томится в смутном ожидании. Он успел только полистать книгу о Родене, как появилась Рената в неброском, но изящном домашнем платье с глубоким вырезом, обнажавшим бронзовую грудь, на которой покоился маленький золотой медальон, и мило улыбаясь, сказала мягким приглушенным голосом: - Кофе нас ждет. Идемте в мою обитель. В ее комнате, очень уютной и ухоженной, тихо струилась музыка, именно струилась, мелодично и тонко, как хрустальный ручеек, очевидно, это была не современная музыка. У широкой тахты, покрытой ворсистым покрывалом, стоял круглый столик с двумя чашками, кофейником, двумя серебряными рюмками и хрустальным графинчиком с коньяком. Она усадила его рядом с собой на тахту, наполнила рюмки и сказала, глядя на него тихим задумчивым взглядом: - Отметим нашу встречу и знакомство. Пусть она будет не последней. Глубокие глаза ее с темным неподвижным блеском смотрели на него нежно и преданно. Для Дениса было все ново, неожиданно и уж очень стремительно. К такому он не привык и поэтому чувствовал себя неловко и скованно. Он нерешительно взял свою рюмку и смущаясь пробормотал: - Да я насчет… этого дела, ну, спиртного, не охотник. - И по вдруг побагровевшему лицу его расползлась виноватая улыбка. Однако мягкие манеры Ренаты, ее тонкий чистый голосок и доверчивая, обезоруживающая улыбка делали его податливым. - Разве что одну, так и быть, - сказал Денис. И, осушив рюмку одним глотком, как-то уж очень непосредственно, по-детски поморщился, и это вызвало на лице Ренаты насмешливую улыбку, которую она сразу погасила, и чтоб замять ее, поинтересовалась, что из монографий о художниках ему понравилось. - Да я только Родена успел полистать. Конечно, это великий мастер. - Юлий Григорьевич говорил мне, что вы увлекаетесь скульптурой и сами лепите, - сорвалось у нее не предусмотренное "сценарием", о чем она тут же пожалела. - Хотите, я подарю вам Родена? - Да что вы, спасибо, тронут вашим вниманием, но я не могу принять такого подарка. Это равносильно грабежу. - Не стоит благодарности, это все мелочи, - сказала она, вставая, и удалилась в гостиную за книгой. Движения ее была тихие, мягкие, походка грациозная. Денис провожал ее пытливым взглядом, и вдруг этот взгляд зацепился за телефонный аппарат, и в нем что-то пробудилось тревожное и требовательное. Он взглянул на часы и нервно подергался: отец, наверно, беспокоится, надо позвонить. - Можно воспользоваться вашим телефоном? Я хочу домой позвонить, - сказал он, когда Рената появилась с монографией в руках. Уходя в кино, он предупредил отца, что идет в Дом кинематографистов. - Ну вот, наконец-то, - со скрытым укором сказал в телефон Тихон Кириллович. - Тебе Слава несколько раз звонил. Просил позвонить ему домой как объявишься. Что-то важное. - У Мечика все важное, - так Денис называл Мечислава Слугарева. - Хорошо, спасибо, папа. Я скоро буду. - Так ты позвони ему сейчас, - настойчиво напомнил Морозов-отец. - Хорошо, хорошо, не беспокойся. - Что-нибудь случалось? - с ласковым участием спросила Рената, когда Денис положил трубку. - Ничего особенного. С вашего позволения я должен выдать еще один звонок. Она благосклонно, с пониманием и тихой задумчивостью кивнула. Денис набрал телефон Слугаревых. Трубку взял Мечислав и сразу предостерегающим тоном обрушил каскад вопросов, на которые Денис отвечал невразумительно и односложно: - Потом… при встрече… Я в гостях… Потом… Скоро… И ты тоже… - Ох, уж эта жизнь делового человека, - с преднамеренным сочувствием сказала Рената, когда Денис положил трубку. И разлила по чашечкам ароматный кофе. Чувственные влажные губы ее сладко и порывисто трепетали, а в глазах ее Денис прочитал радостное и торопливое беспокойство, и был немного удивлен тем, что она не спрашивала его, кто он и что, а в то же время считает его "деловым человеком". Очевидно, Пухов наболтал ей обо мне, коль ей известно о моем баловстве с пластилином, - решил Денис и, вспомнив телефонный разговор с Мечиславом, спросил самого себя: - А действительно, где я нахожусь, кто она, эта очаровательная брюнетка, с лицом изменчивым и печальным, и теплым загадочным взглядом больших серых глаз? И зачем я здесь?" Будучи по своему характеру человеком хотя и необщительным, но доверчивым и добрым, он не допускал и мысли о том, что сегодняшняя встреча его не случайная. И в поведении Ренаты он не находил ничего преднамеренного или даже неестественного. И тем не менее беспокойство Мечислава настораживало его, и он решил не задерживаться здесь. Он торопливо, не ощущая вкуса, выпил свой кофе и решительно отказался от второй чашки. Рената не настаивала, лишь спросила: - Вы чем-то расстроены? В голосе и во взгляде ее Денис нашел досаду и огорчение и ответил с искренним сожалением: - Да нет, просто меня ждут. Товарищ ждет. - И зачем-то солгал: - Я обещал сразу после кино зайти к нему и представьте - позабыл. - Вы сейчас к нему? Так я отвезу вас, - с готовностью предложила Рената, но он так же решительно не принял ее любезности и несколько суетливо, смущенно и виновато стал прощаться. - Я обещала показать вам мою коллекцию фарфоровых и терракотовых статуэток. Скульптура малых форм. Для вас это должно быть интересно. Статуэтки эти стояли тремя шеренгами за изогнутым зеркальным стеклом небольшого серванта в гостиной - Денис обратил на них внимание, еще когда листал монографию. Но сейчас с виноватой и какой-то блаженной улыбкой извиняюще проговорил: - Лучше в другой раз, без спешки. Хорошо? А сейчас меня ждут. - Но Родена вы возьмете? - настаивала Рената. - Потом, уж заодно, - ответил Денис, решив про себя, что этого потом не будет. Тем не менее он уважил ее просьбу обменяться телефонами и обещал звонить. Его поспешный уход застал ее врасплох, произошло непредусмотренное отступление от "сценария", и это очень огорчило Ренату. Размышляя над поспешным уходом Дениса, она пришла к заключению, что он испугался ее чар и трусливо бежал, в то же время она не теряла надежды: у нее был его телефон, а она обладала завидным терпением и умела проявлять настойчивость. Это ее успокаивало и смешило. Но, увы, она заблуждалась: их первая встреча оказалась и последней, - Денис ей не позвонил и на ее звонки отвечал сухо, не проявляя ни малейшего желания встретиться. Не встретился он и с Лидой: гордая самолюбивая девушка не стала с ним объясняться по телефону, сказала, что не желает его видеть. Поведение Лиды показалось ему странным. Он написал ей письмо, в котором просил о встрече, и перед тем, как послать его, еще раз позвонил Лиде. На этот раз она ответила так же резко и уже определенно: - Я выхожу замуж, и прошу оставить меня в покое. За этими словами в телефонией трубке печально прозвучали прощальные короткие гудки, вызывая в сердце Дениса мучительную ноющую боль, и он тут же изорвал в клочки свое, как он считал, запоздалое письмо. Неожиданный разрыв с Лидой очень огорчил Дениса. Первую неделю он чувствовал себя потерянным, как пассажир, отставший от поезда ночью на пустынном полустанке. На него нахлынула тоскливая волна и угнетала душу. Именно в это трудное для него время раздавались призывные звонки Ренаты, которые, как это ни странно, раздражали его. Он решил никогда не обзаводиться семьей, ссылаясь на пример своего учителя Ивана Матвеевича Виноградова. О своей встрече с Ренатой он рассказал Мечиславу. Тот выслушал его с веселой озорной улыбкой юного мудреца, для которого все в этом мире ясно и понятно и заключил: - Ничего оригинального и загадочного - обыкновенная заурядная рыбачка. Расставила сети в расчете на глупого сома, да просчиталась: сом оказался совсем не глупым и ускользнул. Но ты учти - она не успокоится. Она, видно, не из тех, кто после первой неудачи сматывает удочки. Она будет терпеливо ждать, насаживая на крючок разные приманки: авось клюнет. Рассуждения мудрого юноши смешили Дениса, тем не менее он находил в них большую долю здравого смысла. Потому он и не откликнулся на призывные звонки Ренаты.
2
Провал спектакля "Женитьба" Юлия Пухова ничуть не огорчил. Напротив, он был даже доволен, что все так получилось. Женитьба Дениса Морозова на Ренате Бутузовой не входила в планы Пухова. Главная цель поставленного им "спектакля" состояла в тем, чтобы помешать женитьбе Морозова на Лиде, и она была достигнута. Не Ренату прочил в жены Денису Юлий Григорьевич, а свою племянницу Машу Валярчук, о чем давно просила его сестра Муза Григорьевна. Правда, тут предвиделись некоторые сложности, связанные с давнишней неприязнью между сватами будущих жениха и невесты, точнее отцами Дениса и Маши. Но самоуверенный Пухов надеялся все уладить. Но неожиданная встреча и беседа с Милошем Савичем в Доме ученых перевернула эти планы вверх дном. После отъезда Савича из СССР Юлий Григорьевич пригласил к себе домой Машу для очень серьезного разговора, притом назначил ей такое время встречи, когда в доме не было ни его престарелой матери, ни молодой прислуги. Предупрежденная Савичем, Маша ждала этого разговора и потому примчалась на Суворовский бульвар, где жил Пухов, по первому звонку горячо любимого дядюшки. Маша была единственным ребенком в семье Валярчуков, при этом и внешностью и характером представляла точную копию Музы Григорьевны, к которой ее родной братец с некоторых пор питал чувство сострадания из-за ее, по оценке Пухова, никчемного мужа, с которым он порвал всякие отношения. Случилось это много лет тому назад, когда Машенька была еще маленькой девчушкой-дошкольницей и когда ее папу очень сильно подвел его подчиненный и мамин друг "дядя Саша", а по-настоящему Адам Куницкий. Решив, что карьера профессора Валярчука в связи с делом Куницкого закатилась, Юлий Григорьевич, чтоб отвести от себя возможные подозрения, публично выступил с резкими выпадами против своего зятя, осудил его политическую слепоту и идейную беспринципность, граничащую, как он изволил выразиться, с преступной халатностью. Карьера Валярчука действительно померкла, но совсем не настолько, насколько мог предположить Юлий Григорьевич. Валярчук получил по партийной линии "строгача с занесением" и лишился должности директора института. Но должность профессора он получил в другом институте и там же через пять лет избавился от "строгача". Пухов пошел было на примирение, но натолкнулся на непреклонное презрение зятя. Между ними произошел краткий, но ожесточенный обмен эпитетами из серии "подлец", "негодяй", "мерзавец", "карьерист" и тому подобное, и миротворческое посредничество Музы Григорьевны успеха не имело. Муза Григорьевна осудила мужа за непримиримость и заняла сторону брата, а Машенька всегда была солидарна с мамой и высоко ставила авторитет дяди. Вообще в судьбе Маши участие дяди считалось главным и первостепенным. После окончания средней школы отец хотел, чтобы дочь шла по его стопам: химии, мол, принадлежит будущее. Но дядя сказал, что Валярчук - с некоторых пор он называл своего зятя только по фамилии - мелет вздор и дальше своего носа не видит, что химия - не женское дело и посоветовал, да и помог, поступить в иняз. А после окончания института он же и устроил ее на хорошую работу по профессии. На его авторитет, ум, опыт, организаторский талант и обширные связи мать и дочь полагались без размышлений. И жениха для Маши дядя обещал подобрать что надо, и непременно из среды ученых, поскольку люди эти надежные, основательные, не подверженные инфляции и прочим конъюнктурам. Да не какого-нибудь научного сотрудника, двухсотрублевого кандидата-доцента, а доктора с твердым фундаментом и перспективой. Денис Морозов попал в поле зрения сначала Музы Григорьевны, будучи еще школьником, как необыкновенно одаренный математик, и она уже тогда заимела на него виды, как на будущего зятя, но Валярчук, обуреваемый страхом перед случайно опознавшим его в такси Тихоном Морозовым, грубым окриком осадил жену - мол, забудь это имя и выбрось из своей головы подобное сватовство. Потом он, поостыв и успокоившись, объяснил ей, почему они не должны не только породниться с Морозовыми, но и вообще избегать с ними даже случайной встречи. Ведь для Тихона Морозова он не профессор Валярчук, а солдат Мелков, изменник, который под Тулой осенью сорок первого бросил винтовку и побежал в сторону немцев спасать свою шкуру. Это тогда Тихон Морозов послал ему вдогонку пулю, которая сделала Мелкова-Валярчука хромоногим. Мелков-Валярчук был вторым мужем Музы Григорьевны. С первым своим мужем - Антоном Валярчуком - Муза Пухова прожила без любви меньше года и разошлась без сожаления по совету и настоянию старшего брата своего Юлия, потому как на горизонте ее жизненного пути замелькала фигура перспективного Мелкова, который с радостью предложил ей руку и сердце и даже взял себе фамилию ее прежнего мужа - Валярчука. Муза Григорьевна послушалась тогда мужа и выбросила из головы имя Дениса Морозова. Но судьба в лице все того же доброго дядюшки Юлия Григорьевича воскресила его вновь, когда Маша окончила институт. О нем он рассказал сестре, а Муза Григорьевна - дочери. Та проявила живой интерес и нетерпение и однажды тоном капризного ребенка обратилась к дяде: - Ну когда же вы познакомите с вашим гением? Ужасно хочется посмотреть на сверхчеловека. - Скоро, скоро. Не все просто, как ты думаешь. Гении на дороге не валяются. К ним требуется особый подход, потому как характер у них и повадки не такие, как у нормальных людей. И когда Юлий Григорьевич позвонил Маше и сказал, что хочет ее видеть, девичье сердце затрепетало в радостном ожидании, и взволнованная и окрыленная, уже через полчаса она расцеловала в прихожей дядиной квартиры своего благодетеля и покровителя. Юрий Григорьевич встретил ее в светлом, изрядно выгоревшем плаще и шляпе с короткими полями, потому Маша спросила: - Ты только что пришел? - и переводя дыхание начала было снимать свое кожаное легкое пальто. - Нет-нет, - остановил ее торопливым жестом дядя, - не раздевайся: мы с тобой пройдемся по бульвару и поговорим. В такую погоду грешно сидеть в квартире. Погода действительно стояла отменная, в Москве и Подмосковье золотисто-багряно струилось бабье лето. Но не погода звала Пухова на бульвар, а соображения конспирации. Если прежде Юлий Григорьевич, будучи дальним родственником жены товарища Серого, считал себя неуязвимым, то после встречи и беседы с Савичем в нем поселилась тревога, и он начал проявлять утроенную осторожность и предусмотрительность. А разговор с Машей предстоял очень серьезный. Когда они вышли на бульвар, Пухов с подозрительностью заговорщика осмотрелся и, взяв племянницу под руку, направил стопы в сторону Никитских ворот. Поведение Пухова каким-то образом передалось Маше, и та невольно насторожилась: ей сразу же вспомнился вчерашний разговор с Савичем в день его отъезда из СССР в Александровском саду, когда она сопровождала его к могиле Неизвестного солдата. Савич спросил ее, помнит ли она Адама Куницкого? Вопрос этот застал Машу врасплох, она смутилась, но ответила довольно твердо: - Да, конечно, хотя я была в то время совсем ребенком. - Это хорошо, похвально, - одобрил Савич. - Друзей нельзя забывать. Доктор Куницкий был вашим верным и преданным другом, таким он остался и по сей день. Сейчас это большой человек, ученый с мировым именем. Он богат, знаменит. И он до сих пор с благодарностью помнит вашу семью. Вы оставили в душе этого нежного, доброго, отзывчивого человека неизгладимый след. Когда он говорит о вас, о вашей маме, на глазах его навертываются слезы. Савич внезапно умолк, ожидая, очевидно, каких-то слов от Маши. Но она как-то вся насторожилась, напряглась и одеревенела. А он ждал. Наконец после долгой паузы Маша спросила деревянным, не своим голосом: - А вы виделись с Адамом Иосифовичем? - И совсем недавно, перед отъездом в Россию, - солгал Савич. Он просил меня передать вам, лично вам, Маша, что он питает к вам отцовские чувства… И еще просил сообщить вам, что на ваше имя в швейцарском банке он открыл счет, так что вы сейчас располагаете солидной суммой долларов. Все подробности известны вашему дядюшке Юлию, которому вы должны полностью довериться и положиться на его мудрость и авторитет. Без его совета и согласия вам не следует предпринимать никаких шагов в отношении того, о чем я вам сейчас сообщил… И еще хочу вас предупредить, - прибавил он после паузы, - никому, кроме, конечно доктора Пухова, даже своим родителям и самым близким вам друзьям, не рассказывать о том, о чем я вам сейчас сообщил. Это в ваших интересах. Знайте, что на Западе у вас есть влиятельный покровитель - доктор Адам Куницкий и он всегда рад будет вас видеть. Все, что говорил ей Савич, в действительности было его чистейшим вымыслом, но вымыслом с дальним прицелом. ЦРУ нужен был Денис Морозов, живой или мертвый. Предпочтительно живой. Западные спецслужбы никак не могли заполучить сведения об открытии молодого советского ученого. Для них это оставалось тайной за семью замками. Сложность для ЦРУ заключалась еще и в том, что Денис Морозов не выезжал за пределы СССР, исключая двух или трех поездок в социалистические страны. О самом Денисе в ЦРУ было собрано солидное досье - о его характере, о друзьях и тому подобное. В этом досье сотрудники ЦРУ искали ниточку, за которую можно было бы уцепиться, и этой ниточкой оказался Юлий Пухов - учитель Морозова, ему-то и отводилась главная роль в операции, задуманной ЦРУ против Морозова. Разговор с Пуховым и резидентом ЦРУ произошел полтора года тому назад в Стокгольме, где Юлий Григорьевич находился в командировке. Пухов тогда дал принципиальное согласие. У Пухова давно зрел план эмигрировать на Запад, лавры Куницкого не давали ему покоя. Честолюбивый и самонадеянный, он мечтал о звании академика, но, будучи человеком практичным и трезвым, понимал, как ученый, он не может рассчитывать па Западе на райскую жизнь, которую рисовали его честолюбивые грезы. Пример Куницкого для него не подходил, потому что у Куницкого в США были состоятельные родственники. У Пухова их не было. При том Куницкий явился на Запад не с пустыми руками. Вот ежели он заявится туда вместе с Денисом Морозовым… Но каким образом? Если б удалось заманить Дениса в какую-нибудь натовскую страну на какой-нибудь специально подстроенный симпозиум и там опутать разного рода провокационными сетями, предложить златые горы, вынудить стать "невозвращенцем". Увы! - пока что все застопорилось на "если". И тогда к делу подключилась "Моссад" через своего резидента Савича, который был одновременно и агентом ЦРУ. Там знали, что поездка Дениса в соцстраны возможна. Было решено организовать международную встречу ученых в Гаване и пригласить на нее Морозова. На Пухова возлагалась ответственная и сложная задача: организовать участие в этой встрече Дениса и похитить его на одном из промежуточных пунктов, где авиалайнер Москва-Гавана совершает посадку для смены экипажа: либо в Рабате, либо в ирландском Шенноне. С деталями этой операции и познакомил Пухова Савич. Откровение Савича ошеломили Машу, повергли в смятение. Она смотрела на Савича с удивлением и страхом. Все это походило на какой-то нелепый сон, фантастику, где все казалось сомнительным, невероятньм и в то же время волнующим, возбуждающим таинственные грезы. Навязчивые тревожные мысли терзали ее, не давали покоя. И вот теперь, идя по Суворовскому бульвару под руку с дядей, Маша приготовилась услышать не о женихе, ей обещанном, а о Савиче, Куницком и швейцарском банке. Но дядя заговорил о другом. - Ты замуж не собираешься? У тебя есть молодой человек? - Пухов ступал неторопливо, важно, тяжело. Движения степенные, строгие. Плотный и сытый, он всегда держался солидно. - Вы обещали познакомить меня с гением, - отозвалась Маша довольно сухо. - Да, познакомлю. В ближайшие дни. У академика Виноградова четырнадцатого день рождения. Мы пойдем с тобой, и там будет твой Денис, познакомишься. Ты должна ему понравиться и проявить настойчивость. Он человек в каком-то смысле не от мира сего. Инициатива должна исходить от тебя. Понимаешь? Таких надо брать за горло, мертвой хваткой. Чтоб не успел опомниться. Понимаешь? Нет, она не совсем понимала, потому что думала совсем о другом, о Савиче и Куницком, и с напряженным волнением и тревогой ждала от дяди разъяснений. Ей стоило большого усилия и выдержки, чтоб не поделиться с Музой Григорьевной о том ошеломляюще неожиданном, что сказал ей Савич. Ночью она долго не могла уснуть. Растрепанные мысли ее метались в тревоге, сомнениях и тайной надежде. Они заслоняли, отодвигали на задний план думы о молодом гении, как вдруг о нем заговорил Юлий Григорьевич в своей грубоватой, обнаженной до цинизма манере. Не дождавшись ответа Маши, Пухов продолжал, заговорщицки оглядываясь: - У тебя, детка, может сложиться отличная судьба. Тебе Савич говорил о Куницком? Она молча кивнула: наконец-то. - И о деньгах в швейцарском банке говорил? - Да, - тихо молвила Маша слабым голосом. - Ты никому об этом?.. - Нет. - И маме? - он покосился по сторонам предостерегающе. - Савич меня предупредил. - Молодчина, - одобрил Пухов. - Для всего свое время. Сейчас для нас с тобой главное - Денис. Ты должна сделать все возможное и сверх того, чтоб понравиться ему. Понимаешь? - Я не знаю как, - несколько растерянно и смущенно ответила Маша. - Мама тебе подскажет. Я поговорю с ней. О Савиче и Куницком ни слова. Поняла? Она покорно кивнула. "Мама подскажет". О, Юлий Григорьевич вполне полагался на опыт сестрички в амурных делах. Он-то знал о чародейственном таланте Музы Григорьевны, непревзойденной искусницы обольщать. Ну, а Машенька - она копия своей мамы.
Глава пятая
1
Сплетни об интимных связях сотрудников на Острове не поощрялись, даже осуждались: мол, кому какое дело, кто с кем встречается по личным или служебным надобностям, - здесь особая специфика работы и жизни, и для нее обычные общепринятые нормы не подходят. Даже родители Мануэлы, хорошо зная о более чем близких отношениях своей дочери с Давидом Кларсфельдом, спокойно и невозмутимо закрывали на это глаза. Лишь однажды, когда Мануэла похвасталась изящными сережками и колечком с розовыми жемчужинами, острый на язык неунывающий Хорхе Понсе заметил: - Смотри, дочка, чтоб он тебе в следующей раз дитя не подарил. У меня нет желания иметь титул дедушки. Для такого высокого звания я еще не созрел. Мануэла не скрывала своего отношения с Кларсфельдом, в которого она была до безумства влюблена, и готова была ревновать его ко всем женщинам на свете. Впрочем, здесь, на Острове, единственной достойной ее соперницей могла быть только Кэтрин, за которой в первое время и пытался приволокнуться ученый Дон Жуан, но, встретив жесткую оборону и поняв, что шансов у него немного, решил понапрасну не терять времени и сходу ринулся в атаку на Мануэлу, а та будто того и ждала и без сопротивления выбросила белый флаг. Дэвид был старше своей избранницы на три года, но на вид этот голубоглазый блондин, стройный и гибкий, рядом с тугобедрой грудастой Мануэлой казался юным гимназистом. Мануэла носила шорты, и всегда ярких цветов, они туго обтягивали ее крупные шары-ягодицы, которыми она призывно играла, прогуливаясь вразвалку по тенистым аллеям парка. На улыбчивом лице Дэвида постоянно светился здоровый оптимизм, а глаза излучали одержимую самоуверенность, порой нагловатую. Он знал, что нравится женщинам и не питал ни к кому особой привязанности, на Мануэлу смотрел как на рака на безрыбье, как на нечто временное. Но ему с ней было хорошо. Ее пылкая страстная натура, нежные слова ласки и любви нисколько не раздражали Дэвида, напротив - льстили его самолюбию. Себя он обожал. И даже Кэтрин находила что-то привлекательное в его порывистом взгляде и гордой самодовольной улыбке, о чем однажды имела неосторожность сказать своей подруге. Надо было видеть, как всполошилась Мануэла. Лицо ее приняло скорбный испуганный вид, а глаза ощетинились холодным блеском и готовностью к смертельной схватке, как с самым ненавистным врагом. - Смотри, Кэт, не играй с огнем. Предательства я не потерплю, - на полном серьезе предупредила Мануэла. Что-то мнительное и жестокое заговорило в ней и Кэт поспешила ее успокоить: - Что ты, дурочка, да разве я могу стать между вами. Да он мне совсем не нравится. Ты же знаешь как я его отбрила, когда он попробовал за мной ухаживать. Происходило это на пляже на исходе душного дня когда красноватые лучи солнца пробивались сквозь сиреневую хмарь и уже не обжигали иссиня-кофейное тело, а только плавились на морской глади золотым ручьем. Кэт ласково обняла подругу и поцеловала. Полное лицо Мануэлы расплылось в благодарной улыбке, а мясистые пухлые губы прошептали: - Я его так обожаю, что нет моих никаких слов. - И вдруг без всякого перехода: - Скажи Кэт, ты спишь с Максом? Ну, хоть раз с ним спала? Лобовой вопрос грубо толкнул Кэтрин. Собственно, она не сразу поняла, о чем ее спрашивают, с удивлением и растерянностью уставилась на подругу своими шустрыми глазами, а потом закатилась звонким продолжительным раскатистым хохотом. - Да ты что, что я такое сказала? - словно оправдываясь, произнесла Мануэла скороговоркой. - Дэвид говорит, что ты любовница сеньора Веземана. И другие так думают. Последние слова Мануэлы погасили смех Кэтрин. Лицо ее сразу сделалось грустным, что-то затаенное заговорило в ней, какая-то стыдливая истома появилась в ее прекрасных глазах. - Пусть думают, - тихо молвила она. - Только ничего подобного между нами не было. - И он не пытался? - В ответ Кэтрин отрицательно покачала головой. - И даже не целовались? - с недоверчивым удивлением допытывалась Мануэла. - Никогда, - с тоской прошептала Кэтрин и вздохнула. - Ведь он старше меня, на два года старше моего отца. - Да не может того быть. Он так молодо выглядит. А что старше - так и должно, мужчина всегда старше. - Не настолько же… - Мужчине столько, насколько он выглядит и чувствует, - с апломбом человека, умудренного опытом, изрекла Мануэла и прибавила: - Главное, чтоб любовь была. А он влюблен в тебя, уж я-то вижу, меня не проведешь. - Влюблен? В меня? - А то ты не видишь?.. Не разыгрывай невинность. - Ничего я не разыгрываю, - очень искренне сказала Катрин. Она была готова принять этот откровенный доверительный разговор, который случается между близкими друзьями.Сердце ее защемило желанным и радостным. - Он смотрит на меня, как на ребенка. Мне даже обидно. - Признайся, ты его любишь? Ну, тебе хочется поцеловать его? - Не знаю, не думала. Он добрый, ласковый, внимательный. Он относится ко мне, как к сестре. - Кэт вспомнила те волнующие минуты, когда она сидела в мягком глубоком кресле, а Макс коснулся губами ее волос, и в ней опять заиграли-забродили восторженные чувства свежести и новизны, а в глазах вспыхнул радостный блеск. От этого воспоминания сердце млело и замирало. Сладкий порывистый трепет охватил ее. - Значит, любишь, по глазам твоим вижу, глаза не лгут. Может, он потому и стесняется первым признаться, что старше тебя. Ждет, когда ты сама… - Я не смогу. Нет-нет, я не сумею, мне стыдно, и он осудит меня или засмеет. - А вот и не осудит. Ты ему нравишься. Я видела, как он смотрит на тебя, и голос его так и тает, когда он называет твое имя. - Ты уверена? - Что-то разлилось в душе Кэтрин пьянящей влагой и затуманилось. Ей хотелось, чтоб Мануэла больше говорила о Максе, потому что слова подруги мягко и тепло ложились на сердце, звучали как любимая музыка, трогательно и упоительно. - Еще бы… - подтвердила подруга. - И Дэвид считает, что между вами любовь. - Макс добрый, - повторила Кэтрин свои же слова. - Он славный, умный и, знаешь, необыкновенный, не такой, как другие, даже не такой, как твой Дэвид. Это уже слишком, такого выпада Мануэла не могла допустить даже в минуты дружеской откровенности. - О Дэвиде не говори, ты его не знаешь. Может, сеньор Веземан и вправду хороший, только Дэвиду он неровня. Дэвид совсем другое - красавец, прелесть, - и Мануэла сладострастно поцеловала свои толстые пальцы. Когда Дикс прочил Веземану в невесты Кэтрин, у Макса не было и мысли всерьез отнестись к советам старого вдовца. На Кэтрин он и в самом деле смотрел, как на младшую сестру, нуждающуюся в покровительстве и заботе. Ему доставляло удовольствие делать приятное юному созданию, которым он вначале любовался, как любуются гениальным произведением искусства. В глубинных хранилищах его тонкой, возвышенной души лежал нетронутым огромный запас горючего материала, из которого в свое время при определенных обстоятельствах вспыхивает ярким пламенем неугасимый огонь любви, нежности и ласки. По своей психологии люди делятся на две категории: одни испытывают внутреннюю потребность делиться с ближними своими сокровищами. Обладая огромными богатствами души, они безмерно щедры, внимательны и добры. Другие - полная им противоположность. Они алчны, завистливы и жестоки. Их внутренняя сущность - эгоизм. Они любят только брать у ближнего, ничего не давая взамен. Собственно, им нечего давать, их души пусты и убоги. Они ненасытные прожорливые паразиты-грабители. Количество тех и других среди рода человеческого, их соотношение в разные эпохи и времена бывали разные. Существовали и существуют классы паразитов, шайки, кланы, племена. Есть "неорганизованные", одиночки-паразиты, уроды даже в одной семье. Веками человечество стремилось избавиться от них, но они, подобно крысам, обладали - и обладают! - огромной живучестью. Коварные лицемеры, циники и демагоги, они умеют рядиться в одежды добродетели и пробираться на вершины власти. И там, прикрываясь фальшивыми лозунгами неустанной заботы о благе своих сограждан, думают только о своем благе и благе своего клана. Макс Веземан принадлежал к первой категории людей. Особый характер его деятельности заставлял делать насилие над собой, подавлять в себе благие порывы души, но природа, она не терпит насилия и всегда оставляет за собой последнее слово. Волей судьбы оказался Макс в условиях, где преобладали двуногие существа, относящиеся к категории хищников. В такой атмосфере трудно дышалось ему. Это только в пословице легко говорится: с волками жить - по-волчьи выть. Ох, как трудно выть по-волчьи Человеку с большой буквы длительное время. Душа не выдерживает, она требует отдушины, она ищет себе подобное, чтобы вдохнуть в себя чистого воздуха, просит общения с прекрасным и светлым. Она боится зачерстветь, грубеть и запачкаться среди стаи негодяев и подлецов. Как рыба в грязном, отравленном нечистотами водоеме, душа ищет чистую свежую струю. Такой струей Максу показалась Кэтрин. Он ничего от нее не хотел, никаких планов и расчетов не строил. Он искал просто человеческого общения. Он любовался ею и был рад и доволен. Делать ей приятное, видеть в ее глазах вспышку радости и трогательного смущения стало для него внутренней потребностью. Он считал, что в Кэтрин, в ее внешнем облике, в грации, в обаятельной женственности воплотились лучшие черты разных племен и народностей - испанцев, индейцев, германцев и славян. Сплавленный в удивительную гармонию, этот монолит обладал неотразимой притягательной силой, и не внешней, потому что красоту ее нельзя было назвать броской, ослепительной. Нет, красота ее скрывалась под оболочкой холодной, капризной беспечности, под этим простеньким покровом клокотал неистовый огонь души, который однажды должен был вырваться наружу с испепеляющей силой. А природа была начеку. Нечаянно брошенные семена симпатии попали на благодатную почву и стали давать сильные молодые всходы. Они росли бурно и стремительно. Настало время, когда Макс не мог не думать о Кэтрин. Мысли о ней наседали на него неотступно, и он не в состоянии был с ними справиться. И когда он сдался, покорился под напором неожиданной стихии и уже с удовольствием предавался думам о Кэтрин, к нему подкралась еще одна страсть - желание видеть ее, слышать ее голос. И он, часто помимо своей воли и желания, искал повод, чтобы случайно встретиться с ней, обмолвиться хотя бы одной фразой, произнести ее имя. Из его уст оно звучало по-особому, и в этом отношении наблюдательная Мануэла была права: он произносил ее имя не голосом, а сердцем. Впрочем, это замечала не только Мануэла. Однажды Штейнман спросил его в своей грубой манере: - Какие у тебя отношения с Кэтрин Гомес? В ответ Макс недоумевающе повел плечами и ответил, поправляя темные очки: - Извини, Карл, но я не понимаю, что ты имеешь в виду? - Ты к ней неравнодушен? - Он нервно погладил свой узкий лоб, и тонкие губы его скорчили сатанинскую ухмылку, невыразительные глаза-щелочки оставались холодными и колючими. - Я понимаю, ты человек холостой, твое право, Я просто интересуюсь из любопытства, как старший товарищ, ну, и если хочешь, как начальник. - Да, хочу, именно хочу ответить тебе, как начальнику, - холодно сказал Макс, и в напряженном голосе его послышались раздражительные нотки: - Помнится, у тебя были подозрения насчет благонадежности Кэтрин Гомес. Ты в чем-то ее подозревал. - Да, да, были и есть, - с торопливой нервозностью перебил Штейнман. - Ее увлечения фотографией. Она слишком много фотографирует. Не расстается с фотоаппаратом. Местность, сотрудников. К чему бы это? А представь себе, что сейчас, вот в данную минуту наши с тобой портреты работы Кэтрин Гомес лежат в Москве в КГБ. - Не думаю, чтоб мы с тобой представляли интерес для КГБ, - вяло поморщился Макс и продолжал ровным, без интонации, голосом: - Но тем не менее я решил поинтересоваться личностью сеньорины Гомес и ее родителей. Не сразу, постепенно мне удалось получить ее расположение и впоследствии - доверие. - Макс преднамеренно сделал долгую паузу в расчете на нетерпеливость шефа, и расчет этот оправдался. - Ну-ну, - заерзал в кресле Штейнман и хищно насторожился, - что ты узнал? - Пока ничего подозрительного. В нашей монастырской обстановке, в изоляции от внешнего мира люди ищут отдушины. Это естественная потребность отвлечься от повседневной будничной работы… - Ты хочешь сказать, что фотография - это ее хобби? - снова с чувством превосходства перебил Штейнман, и тонкие пальцы его беспокойно отбили дробь по полированному столу, а узкое вытянутое лицо излучало самодовольство. Он был мнителен и не умел этого скрывать. Его мнительность, предубеждение и глупое самодовольство раздражали Макса, вызывали отвращение. Штейнман был ему противен, особенно тем, что он сует свой нос в сугубо личное, сокровенное, в тайники души, куда посторонним вход категорически запрещен. - Именно это я хотел сказать, - твердым решительным голосом ответил Макс и, заметив на надменном лице шефа, на его тонких губах раздражительную насмешливость, прибавил: - По крайней мере - пока. А дальше будем смотреть. - А ее брат? Ты выяснил, где ее брат? - В Мексике. - Так она говорит. Чем он там занимается, мы не знаем и она не знает. А вдруг знает? А?.. - Он смотрел на Макса испытующе, настороженно, словно и его в чем-то подозревал. - А вдруг он и не в Мексике, а на Кубе? Ты можешь дать гарантию, что он не на Кубе? - Гомесы не имеют связи со своим сыном. Он им не пишет, и они не знают его адреса. - Это они так говорят? А на самом деле? - Мы контролируем переписку, и до сего времени нам не удалось установить их почтовую связь. Посмотрим, что будут дальше. - Ну-ну, смотри дальше и глубже. И главное, с холодным беспристрастием, - манерно хитрил и лукавил Штейнман и был доволен собой.
2
Две недели Генри Левитжер отсутствовал на Острове. Перед его отъездом на материк в одну из клиник ЦРУ с Острова был отправлен гаитянин по имени Хусто - первый подопытный Куна, которому в пищу была подложена совсем крохотная толика серой массы, той самой, над изобретением которой так долго и самозабвенно колдовал Адам Куницкий. По расчетам изобретателя, созданный им яд замедленного действия должен поражать кровь. Через неделю после "опыта" у Хусто появились первые симптомы: сонливость, общее недомогание, потеря аппетита. Как было заранее запрограммировано, в таком состоянии больной направлялся в клинику, где опытные врачи должны были принять все меры для спасения Хусто, а изобретатель получить свидетельство о надежности его изобретения. Яхта Левитжера пришвартовалась у пирса в полдень. У причала его встречали Штейнман и Мариан Кочубинский. Левитжер легко и прытко соскочил на берег, холодно, кивком головы, как бы мимоходом, поздоровался с встречавшими и, ни к кому персонально не обращаясь, спросил: - Где Кун? Штейнман и Кочубинский в некотором смущении переглянулись. Начальник охраны торопливо взглянул на часы и с привычным подобострастием, не подобающим бывшему графу, ответил: - Должно быть, обедает, мистер Левитжер. - Разыщите и пригласите ко мне. - Слушаюсь, мистер Левитжер, - тем же раболепным тоном отозвался Кочубинский и быстро побежал выполнять приказание. Штейнман стоял "навытяжку", как ефрейтор перед генералом, впиваясь преданным взглядом в этого шустрого и деятельного хозяина Острова - фактического хозяина, заносчивого и властолюбивого. Левитжер смотрел мимо Штейнмана, как в пустоту, демонстративно не замечая его, и тот испытывал обиду и унижение и мучительно соображал, чем недоволен его босс. Наконец Левитжер резко повернулся в сторону главы контрразведки и с насмешливой ядовитостью в голосе выдавил: - У вас, Штейнман, я полагаю, никаких новостей, кроме утечки информации, нет… - В его словах не было вопроса, он говорил утвердительно, как о бесспорном факте. Штейнман, зная характер босса, смолчал. Уже на ходу Левитжер небрежно обронил: - В конце дня зайдите ко мне со своим заместителем. Впрочем, лучше без Веземана. Штейнман сделал лакейский кивок. Не заходя к себе в башню, Левитжер быстро и широко зашагал в сторону административного корпуса. В приемной своего офиса он застал Марго - свою преданную секретаршу и по совместительству исполняющую обязанность супруги во время отсутствия на Острове миссис Левитжер. Дверь в кабинет была приоткрыта. - Что ты здесь делаешь, детка? - Левитжер чмокнул ее в нос. - Надеюсь, у нас все в порядке? - Звонил мистер Кун, он сейчас будет. - Прекрасно, малышка. Ты иди домой, сейчас Став принесет мой багаж. Я кое-что привез и для тебя. Приготовь обед, мы через час придем с мистером Куном. Левитжер был в хорошем расположении духа. Собственно это расположение нашло на него сразу, как только он переступил порог своего офиса. Куницкий, которому начальник охраны сказал, что его срочно хочет видеть мистер Левитжер, прибавив при этом, что босс чем-то недоволен, примчался в служебный корпус в некотором волнении. Он даже не допил только что открытую банку пива: так спешил. Несмотря на свои добрые, почти дружеские отношения с боссом, он все же побаивался его. Над ним все еще постоянно висел дамоклов меч его преступления в годы войны, о котором знал лишь Штейнман и мог узнать Левитжер. Пока жив Штейнман, Кун не мог считать себя неуязвимым. Левитжер, широко улыбаясь, встал из-за стола, вышел навстречу Куну с распростертыми объятиями и торжественно провозгласил: - Поздравляю великого ученого с великой удачей. Хусто отошел к праотцам. Медицина оказалась бессильной против твоего "А-7". - Нашего, мистер Левитжер, - скромно поправил Кун и лошадиное лицо его оскалилось глупой улыбкой. Он ликовал: столько лет труда, волнений, сомнений и надежд и вот - победа. Но Левитжер перебивает его торжествующие чувства, широким жестом предлагает сесть и садится сам. Он возбужден - там, в США, шеф ЦРУ лично поздравил его, Генри Левитжера, с успехом и обещал ему и автору дьявольского изобретения солидное вознаграждение. Очень солидное. - Твой успех, - начал Левитжер и, поймав на лице Куна гримасу скромного возражения, поправился: - Ну, если хочешь, наш успех, мы должны сегодня отметить. Марго приготовит нам праздничный стол. На этот случай я кое-что захватил с собой, черт возьми. Должен сообщить тебе, что в Лэнгли нами довольны. Ну, еще бы: представляешь, какое оружие мы им дали - изящное, тихое, совершенно бесшумное, которое не оставляет никаких следов. Не нужно никаких колец с сильнодействующим ядом, как в случае с генералом де Голлем. - Он преднамеренно резко оборвал свою речь, словно осекся, сказав лишнее. Нет, он играл и упивался игрой. Вызвав таким образом в глазах Куна немой вопрос, он с наслаждением отвечал на него: - Самодовольный французишка, возомнивший себя Наполеоном, был приговорен… Ну да, нашими из Лэнгли… Способ придумали одновременно и примитивный и сложный - кольцо с сильным ядом. Представь себе кольцо у тебя на пальце правой руки. Во время официального приема ты крепко пожимаешь руку де Голлю, так, чтобы нанести ему легкую царапину, в которую попадает яд замедленного действия. - Он умолк и растопыренными глазами уставился на Куна. - Но ведь яд мог попасть и на… исполнителя… - Вот именно. Примитивно и потому не безопасно для самого… будем прямо называть - убийцы. Пришлось отказаться. А будь тогда твой "А-7"? Просто, чисто, интеллигентно! Впрочем, и здесь есть "но", о котором мне поручено тебе сообщить. Масса должна быть бесцветной, совершенно бесцветной. - Я думал об этом… - с преувеличенной серьезностью сказал Кун. - Это возможно?.. - быстро спросил Левитжер. - В принципе - да. Хотя есть определенные сложности. Помимо технологии, это потребует дополнительного времени. - И много? - Я затрудняюсь сейчас сказать. - Дело в том, дорогой Адам, что тобой, твоим "эликсиром", - тонкие губы Левитжера вытянулись в ироническую ухмылку, - заинтересовались очень влиятельные господа из дружественных нам стран. Я пригласил их посетить наш Остров, где они смогут лично познакомиться с тобой и с нашим предприятием. Если б к тому времени ты смог обесцветить свой "эликсир", мы имели бы сильный козырь перед сильными мира сего. - Будем работать, - обнадеживающе пообещал Кун с напускной важностью человека, знающего себе цену. - Ты понимаешь, что это значит? Представляешь ли цену своему "эликсиру"? С его помощью вслед за Хусто можно отправить и де Голля, и Фиделя Кастро, и всех других нежелательных нам красных, черных, зеленых и тому подобных. Просто, изящно, интеллигентно. Между прочим, Вашингтон обеспокоен медлительностью с "А-777". В чем дело? Преднамеренно тянет или старик исчерпал себя? Как ты думаешь? Может, ему дать отставку? Вы с Кларсфельдом сможете завершить работу с "А-777"? - Нет. Он скрывает от нас технологию. - А если я прикажу ознакомить вас, ввести в курс дела? - Это только обозлит его, и он поступит наоборот. Нацист упрям и самолюбив. - Наплевать мне на его самолюбие. После того как он закончит работу, его можно тоже… вслед за Хусто. - Не только можно, нужно, обязательно. - Да, но об этом после. А сейчас иди за Маргарет, через полтора часа я вас жду в башне. Впервые Левитжер приглашал Куна к себе домой, в башню, в его святая святых, где никто из обитателей Острова, кроме рыжей Марго и матери Кэтрин, - не бывал. Ана Гомес выполняла обязанности приходящей прислуги, она появлялась в башне в случае необходимости по вызову Марго. В ее обязанности главным образом входила уборка огромного помещения в три этажа. Первый этаж занимал бассейн, выложенный голубой плиткой, биллиард, в который никто не играл, бар из красного дерева, которым редко пользовались, и небольшая кухня с электрической плитой. На втором этаже было три апартамента, двери которых выходили в круглый холл. Двухкомнатные апартаменты эти предназначались для гостей. В одном из них постоянно жила Марго. Весь третий этаж, где так же, как и на втором, было три апартамента с туалетными и ванными комнатами, занимал сам Левитжер. Впрочем, там он жил постоянно лишь тогда, когда на Остров приезжала его жена с детьми. В их отсутствие его вполне устраивал и второй этаж, где обитала мисс Марго. Кун ликовал: о чем мечтал - успех, слава, деньги, независимость - шло к нему сразу. Все в нем пело, торжествовало, клокотало в душе, порождая чувство злорадства над теми, кто не верил в его гений, кто смотрел на него, как на завистливого неудачника. О, были и есть такие, он их помнит поименно, он ничего не забыл. Пусть теперь они трепещут перед ним - громовержцем, который может любого из них или всех подряд послать вслед за Хусто. А Левитжер, надменный Генри Левитжер, куда девалось его высокомерие? Лезет в друзья и соавторы, не прочь быть компаньоном. Нет, Кун ни с кем не станет делить ни славу, ни деньги. Она знает подлинную цену своему, как выражается Левитжер, "эликсиру". Теперь можно будет устранять всех неугодных президентов, премьеров, министров, маршалов, партийных лидеров, журналистов, писателей - всех, кто стоит на пути к мировому господству великого. Богом избранного народа. Не кто-нибудь, а он - Адам Кун, приблизил приход того судного дня, когда исчезнут с лица земли все эти коммунисты, социалисты, демократы, патриоты, и владыкой мира станет капитал, владельцы шести триллионов долларов. Именем его назовут города, площади, на которых воздвигнут его бронзовые и гранитные изваяния. Польский город Беловир, где он родился, будет переименован в город Кун. А мысли все напирали одна ярче и упоительней другой, и он уже не в силах был остановить их бурлящий поток. И уже Левитжер казался ему ничтожеством, примитивом, который не понял глубины и величия произошедшего. Со смертью какого-то гоя Хусто родился сверхчеловек Кун. У Левитжера не хватило фантазии выше той, как только отправить Дикса вслед за Хусто. Нет, Генри, не спеши, Дикс поживет еще, он еще нам пригодится. Первым пойдет к праотцам Штейнман - эта грязная скотина. И немедленно, безотлагательно. Штейнман висел над Куном, как дамоклов меч, готовый в любую секунду опуститься на голову и поломать его такую перспективную карьеру. Мысли о его прежних военной поры отношениях с эсесовцем Штейнманом, вынужденном с ним сотрудничестве навещали Куна как ночной кошмар, и душили его с садистской жестокостью и упоением. Теперь пришел этому конец. Оставалось лишь подложить в пищу Штейнману крупицу серой массы, над изготовлением которой он колдовал много лет. Для него Кун удвоит дозу, чтоб уже полная гарантия. Дело оставалось за небольшим, совсем за малым: подложить "эликсир" в пищу Штейнману. Но как, каким образом? Штейнман мнителен и осторожен, он питается, как правило, дома. Правда, изредка, притом без всякой системы, то есть может и в праздники и в будни, он посещает ресторан сеньора Понсе. Кажется, и продукты ему поставляет Хорхе Понсе - отец Мануэлы. Так размышлял Кун, неторопливо идя к себе домой. Маргарет он предупредил по телефону о том, что они приглашены сегодня на обед к Левитжеру. Нет, не так просто, как думалось Куну вначале, угостить Штейнмана "эликсиром" - без помощников, а точнее соучастников, то есть непосредственных исполнителей коварного замысла, ему не обойтись. А где его взять, фактически наемного убийцу? Тут должен быть абсолютно надежный, свой человек. У Куна таких людей не было. Единственным, с кем он дружил, был Дэвид Кларсфельд. С ним он был в известных пределах откровенен. Дэвид знал, что со Штейнманом они заклятые враги, но Кун не объяснял ему причину их вражды, не посвящал его в свою кошмарную и позорную тайну, не поведал, как в годы войны, оказавшись в руках у гестапо, он, Адам Куницкий, по приказу Штейнмана и под объективом фотокамеры расстреливал евреев, а затем подписал обязательство о сотрудничестве с гитлеровскими спецслужбами. Кун был уверен, что и тот чудовищный фотокадр и его подписка хранятся у Штейнмана. Дэвид был более откровенен и своих отношений с Мануэлой не скрывал от Куна, а напротив, мальчишески хвастливо афишировал, смаковал интимные подробности. Размышления Куна бежали стремительно, напряженно и торопливо и таким образом натолкнулись на Мануэлу, как на возможного исполнителя зловещего замысла. Можно ли ей доверить такое сверхделикатное дело, как устранение из жизни Штейнмана? (Кун даже в мыслях старался избегать грубого и жестокого слова "убийство"). Да и согласится ли она? Конечно же, не сам Кун будет с ней обговаривать это "дело", он вообще останется в стороне. Все должен взять на себя Дэвид, в которого Мануэла, по словам самого Кларсфельда, безумно влюблена. А безумно влюбленные, как известно, решительны в своем безумстве и ради любимого и во имя любви идут на все, по крайней мере, способны на все. А как отнесется к такому деликатному предложению Дэвид, тоже вопрос не из легких. О том, что Кларсфельд, возможно, из чувства солидарности не питал к Штейнману, мягко говоря, симпатии, Кун знал. Но антипатия - одно дело, террористический же акт - совсем другое. Мануэла может в порыве преданности и страсти согласиться сделать то, о чем попросит ее любимый, обещая сохранить это в тайне. Но как бы эта тайна вскоре не получила широкую огласку. Впрочем, Кун привык рисковать, рискнет и Кларсфельд, если его хорошо попросить, убедить в жизненной необходимости этой акции. Обнадеживало его и то, что теперь, когда он становится знаменит и богат, Дэвид, в надежде на покровительство своего будущего учителя и компаньона, окажет ему услугу, рискнет. В служебном кабинете Левитжера Веземан установил "клопа", поэтому все, что говорилось в кабинете фактического хозяина Острова, Максу было известно, в том числе и последний разговор Левитжера с Куном о смерти Хусто и о намерении Левитжера отправить вслед за Хусто и самого Дикса. Это, последнее, давало в руки Макса большие козыри в его дальнейших отношениях с Диксом. Но главное, на что должен был обратить внимание Макс, это предстоящий визит на Остров высоких гостей. Судя по тому, с какой нервозностью и усердием готовился к их приезду Левитжер, это были действительно важные тузы, надо полагать заинтересованные в Деятельности группы Дикса. Вполне логично и естественно, что визит на Остров гостей такого ранга не мог не интересовать Макса Веземана. К их приезду готовился и он. Его интересовало, что за люди приедут на Остров и о чем они будут говорить. Хорошо бы их беседы записать на магнитную ленту. Как уже говорилось, один "клоп" еще год тому назад Максу удалось установить в служебном кабинете Левитжера. Достаточно ли этого? - спрашивал самого себя Веземан и отвечал: нет. Едва ли интимные разговоры будут вестись в кабинете Левитжера. Вероятней всего совещания будут происходить в башне, на первом или втором этаже. Именно там надо установить аппараты подслушивания. Задача не простая, и Макс это хорошо понимал. Конечно, несколько проще было проникнуть в башню двумя неделями раньше, когда Левитжер находился в Штатах, но Макс упустил такую возможность, о чем теперь сожалел. Нужно было изыскать какой-то повод, но так или иначе, все сводилось к необходимости установить еще два "клопа" в башне - на первом и втором этажах, где вероятней всего и должны происходить доверительные беседы важных гостей. Вообще-то мысль о "клопах" на квартирах Левитжера и Марго появлялась у Макса и прежде, но сдерживало его то обстоятельство, что острой необходимости в этом не было, поскольку Левитжер никого у себя на квартире не принимал, в то же время был известный риск: если в силу какой-то случайности эти "клопы" будут обнаружены, то подозрение падет на Марго, Ану Гомес и ее дочь. А этого Макс и не хотел - он не мог подставлять под удар Кэтрин и ее родителей, потому что Кэтрин слишком глубоко вошла в его сердце, стала единственным на Острове родным и близким ему человеком. Потому и встревожил его последний разговор со Штейнманом, взявшим Кэтрин на подозрение. Мнительность Штейнмана, его недоверчивый характер всегда раздражали Веземана. Теперь же это касалось человека, который был не просто симпатичен Максу, но и дорог. Пуще всего возмущали мерзкие намеки на личные отношения Макса и Кэтрин, его язвительный глуповатый смешок. Эта свинья смотрит на взаимоотношения людей со своей грязной скотской колокольни, ему никогда не понять благородных порывов человеческой души. Он весь род людской малюет только двумя красками - черной и белой. Кэтрин, это юное безгреховное создание Кэт, за благонадежность которой Макс готов поручиться, для Штейнмана всего лишь потенциальный шпион, - размышлял Веземан, сидя в своем кабинете в служебном корпусе. Неожиданно плавно текущие мысли его застопорились, остановились, как останавливается киноаппарат, и тогда на экране замирает какой-то один кадр. Для Макса этим кадром было слово "шпион". В его сознании оно как-то не совмещалось логически с другими словами: "готов поручиться". И он сразу спросил самого себя: трезво, или как советовал Штейнман, "с холодным беспристрастием", - сможет ли он поручиться? И прежде, чем ответить на этот вопрос, он попробовал разобраться в обоснованности подозрений Штейнмана. Кэтрин никогда не скрывала, что у нее есть старший брат. Педро работал в Мексике портовым грузчиком. Последнее письмо от него было получено три года тому назад, в котором он сообщал, что уволился и нанялся матросом на торговое судно, название которого позабыл или не хотел сообщить. С тех пор от него не было никаких вестей. Что ж, все логично, естественно, во всяком случае нет оснований подозревать, что Педро находится на красной Кубе. В увлечении Кэтрин фотографией Макс также не находил ничего предосудительного: снимки она делала вполне профессионально, как пейзажи, так и портреты. Портреты друзей и знакомых она щедро и безвозмездно раздаривала. Три ее фотографии - два пейзажа и портрет - есть и у Макса. "Шпионка. Странно… Чья, на кого работает? - спросил Макс самого себя и улыбнулся вдруг зародившейся мысли: - Вот было бы забавно, если б Кэтрин оказалась моим коллегой". Вчера вечером Веземану удалось поймать в эфире концерт из произведений Баха в исполнении органа. Он записал весь концерт на магнитофонную ленту. Сегодня он собирался пригласить ее к себе послушать Баха и затем подарить ей кассету с записью концерта. Ему было приятно делать ей скромные подарки. Собственно, Бах был предлогом: ему хотелось видеть ее, говорить с ней наедине, слушать ее плавную речь, незатейливые, но всегда такие непосредственные, искренние рассказы, прерываемые отрывистым, то печальным, то веселым смехом; любоваться кофейно-матовым загаром ее лица и рук и предаваться тому сладкому состоянию, когда ощущаешь, как в тоскующей душе закипают возвышенные и прекрасные порывы. В последнее время их встречи становились все чаще - либо на пляже, либо в роще кокосовых пальм, вытянувшейся вдоль берега неширокой, всего на полсотни метров, полосой. Реже они встречались у него на квартире, находя для таких встреч благовидный повод. Предлоги находил или придумывал Макс, иногда они были слишком нарочиты, - Кэтрин это видела и озорной улыбкой давала понять Максу, что она разгадала его хитрость, но от приглашения не отказывалась: видно, и ей было приятно встречаться у него дома в интимной обстановке. Макс держался с ней в рамках приличия, ничего предосудительного ни в словах ни в действиях себе не позволял, что после откровенного разговора с Мануэлой даже обижало Кэтрин: он, де, смотрит на нее, как на ребенка. А между тем в податливой и впечатлительной душе ее разгорался первый огонек еще неизведанного, таинственного, трепетно-желанного чувства, о котором Мануэла говорила ей, как о безумстве. Огонек этот вспыхнул однажды украдкой, исподтишка, помимо воли и желания самой Кэтрин. Он пугал ее и в то же время забавлял. Ей казалось, что она надежно управляет им и не позволяет ему выйти из-под контроля, что он послушен ее разуму, который в свой черед сеял сомнения и колючие вопросы. Кэтрин знала, в каком страшном учреждении она работает, отдавала себе отчет и в том, что окружающие ее начальники, все эти сеньоры доктора - куны, диксы, левитжеры, кларсфельды - преступники, как и те, кто призван их охранять и оберегать их тайну, - штейнманы, веземаны, кочубинские… Но почему-то сеньора Веземана она исключала из шайки врагов человечества. "Он не такой, как другие", сказала она Мануэле, и это был голос не разума, а сердца.. Разум не мог объяснить, почему Веземан не такой, как Штейнман, с которым они работают в одной упряжке, - разум доверялся сердцу, потому что горячее девичье сердце мудрее и тоньше холодного рассудочного разума. Макс уже настроил себя на встречу с Кэтрин у него дома, где их ждал Бах, хотя Кэтрин об этом еще ничего не знала. Он скажет ей в полдень, когда она будет идти на обед. Он увидит в окно из своего кабинета и окликнет ее: мол, подожди, дело есть. Странно: человек большой внутренней выдержки и хладнокровия, он перед каждой встречей с Кэтрин испытывал мальчишеское волнение, похожее на чувство стыда, и тогда в душе с вымученной насмешливостью он называл себя кающимся грешником. За полчаса до начала обеденного перерыва Макс погрузился в странное внутреннее напряжение, которое бывает накануне каких-то чрезвычайных событий, и был несколько смущен своим состоянием. Он то вставал из-за письменного стола и принимался ходить по кабинету, не спуская, однако, пристального взгляда с открытого окна. Первым покинул здание Дикс. Он ступал тяжело, с видом человека утомленного и погруженного в мрачные думы. Потом вышли Кун и Кларсфельд, веселые, довольные, с важностью преуспевающих бизнесменов. Потом торопливой походкой, озираясь по сторонам, промелькнул Штейнман. "Сейчас появится она вместе с Мануэлой", - подумал Макс, подойдя вплотную к окну и приготовив фразу: "Кэт, тебя можно на минутку?.." Показалась Мануэла, одна, улыбчивая, сияющая, обменялась какой-то репликой с вахтенным - здоровенным негром из отряда Кочубинского. Макс напрягся в ожидании. Кэтрин не появлялась. Прошла минута, другая, третья - тягучие, бесконечные. Макс взглянул на часы: пять минут, как начался обеденный перерыв. Он закрыл окно и поднялся на третий этаж в лабораторию. Комнаты, где работала Кэтрин, были заперты. "Странно… Может, она заболела и вообще не вышла сегодня на работу?" - подумал он с досадой и озабоченностью, чутко вслушиваясь в тишину опустевшего здания. Вдруг на втором этаже ему почудилось какое-то едва уловимое движение за дверью кабинета Дикса. Дверь была заперта. Вечером, уходя домой, Дикс обычно ставил пломбу на дверь своего кабинета. Иногда он это делал и днем во время обеденного перерыва. Но не всегда. На этот раз пломбы не было. Макс стоял озадаченный и, затаив дыхание, слушал. Он не мог определенно сказать, что слышал какие-то движения за дверью кабинета Дикса, да, пожалуй, слух его ничего и не улавливал, но какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что в кабинете кто-то есть. Постояв в раздумье, может, чуть больше минуты, он твердым шагом отошел от кабинета и, остановившись у лестницы, выжидательно и настороженно замер. Прошла еще минута. Он уже решил уходить, как вдруг осторожно щелкнул замок в кабинете Дикса, тихо открылась дверь, и из нее вышла Кэтрин. Увидя Макса, она не смогла скрыть своей растерянности: она явно не ожидала кого-либо встретить сейчас. На лоснящемся лице ее вспыхнул всполох невинного смущения, а в глазах засверкали огоньки испуга и решительности. Как прекрасны были в этот миг ее глаза, первое, что отметил про себя Веземан, - неповторимые. В руках у Кэтрин была маленькая дамская сумочка, в которой обычно содержатся предметы косметики. И потому, как держала Кэтрин эту сумочку, как бережно и решительно прижимала ее к своей груди, Макс догадался, что сейчас сама судьба девушки хранится в этой сумочке. Испуг и растерянность Кэтрин смутили Макса, он даже почувствовал себя виноватым, словно нечаянно подсмотрел нечто сугубо интимное, запретное для постороннего. И чтобы успокоить Кэтрин, он сказал, как обычно, с приветливой радостью: - О, Кэт, как хорошо, что я тебя встретил. Здравствуй, прекрасная. Я уже решил, что ты заболела и начал волноваться. - Он смотрел на нее с дружеской улыбкой, и лицо его сияло неподдельной радостью. Она стояла перед ним безмолвная, все еще растерянная, и в глазах ее светился огонек надежды, мольбы и недоверия. - Ты домой сейчас? Пойдем вместе, я тебя немного провожу. - Когда они миновали вахтенного, Макс продолжал все тем же дружеским тоном, но вполголоса: - Ты прекрасна, Кэт. Ты не можешь себе представить до чего ты прекрасна. Я прошу тебя - не волнуйся. Я ничего не видел, ты ничего не делала и я ни о чем тебя не спрашиваю. Хорошо? - Она молча кивнула, потому что слова ее застряли где-то внутри. А он продолжал отеческим тоном: - Об одном прошу тебя, милая девочка, впредь будь осторожна и осмотрительна. Я верю тебе, верю в твою честность и высокую порядочность. Я хотел тебя сегодня видеть. Вчера я случайно поймал в эфире великолепный концерт Баха в органном исполнении. Я записал его и хочу подарить тебе кассету. Ты любишь Баха? - Не знаю, - рассеянно прорвалось ее первое слово после оцепенения. Но по выражению ее лица Макс понял, что шок миновал и она овладела собой, поверив ему. Он продолжал: - Может, вечером после работы зайдешь ко мне? Послушаем вместе Баха. И честно говоря, соскучился я по тебе. Ну как, обещаешь? - Обещаю, - выдохнула она так, будто сбросила с себя несильную ношу и весело рассмеялась. - Обязательно зайду. - И отойдя от него шагов на пять, обернулась и почему-то сказала: - Приготовьте пива. Все, что угодно, но этого Макс не ожидал: Кэтрин преподнесла ему сюрприз и, в общем-то приятный. Неприятным в нем было то, что Штейнман оказался прав в своих подозрениях в отношении Кэтрин. Неожиданное открытие ошеломило его. Не оставалось ни малейших сомнений в отношении содержимого сумочки Кэтрин. Уже когда они миновали вахтенного, у Веземана возникло желание сказать ей очень дружеским наигранным тоном праздного любопытства: "Какая очаровательная сумочка. Можно посмотреть?" Но он тут же подавил в себе это желание, поняв, что если в сумочке окажется фотоаппарат, - а он в этом был уверен, - то нервы Кэтрин могут не выдержать, произойдет драматическая сцена, нежелательная для посторонних свидетелей. Уже дома, лежа на диване и анализируя встречу с Кэтрин, он одобрил свои действия. Он, конечно, был возбужден и находился в таком приподнятом настроении, словно только что одержал победу. Совсем неважно, над чем или над кем. Кэтрин оказалась не так проста, и это открытие его радовало. Естественно, возникал вопрос: на кого она работает? От ответа зависело многое. На кого угодно, исключая ЦРУ и "Моссад". На какую-нибудь латино-американскую страну, правительство которой не доверяет США и знает коварство спецслужб своего сильного северного соседа. И вдруг к нему подкралась коварная мысль: а что если она действует по заданию Штейнмана или Левитжера, решивших путем такой провокации проверить его "благонадежность"? Подобное казалось маловероятным, но исключать его не следовало, во всяком случае мысль эта призывала к осторожности и осмотрительности. Кэтрин зашла к нему домой сразу же после работы. На ней была белоснежная блузка с глубокими вырезами, обнажавшими иссиня-кофейную спину, длинную шею и уголки маленьких тугих грудей. Небесно-голубые шорты, в которых она появилась впервые, подчеркивали ее осиную талию и все, что ниже талии. Для нее это был довольно смелый, если не сказать рискованный наряд, тем более, что и всем своим видом - сияющим лицом, лихорадочным блеском обворожительных глаз - она утверждала нарочитую решимость и независимость. Такая кокетливая бравада забавляла Макса и вместе с тем сладко волновала воображение. Заказанное ею пиво в банках стояло на журнальном столике рядом с поджаренными орешками арахиса и креветками. Усадив Кэтрин в мягкое кресло, Макс включил концерт Баха. Слушали молча, как слушают меломаны серьезную и прекрасную музыку. Они сидели друг против друга, и их сосредоточенные глаза на короткий миг скрещивались и тут же расходились в стороны. Постепенно Макс чаще и продолжительней стал останавливать свой взгляд на Кэтрин, словно пытался получше рассмотреть черты ее лица, которое вообще-то нельзя было назвать красивым в классическом понимании. Маленькая детская головка с большими глубокими мечтательными глазами-озерами и застенчивая таинственная улыбка делали ее очаровательно-неотразимой. Любуясь ею, Макс почему-то вспомнил женщин, которые в разное время - в Москве, в Мюнхене, в Мехико - встречались на его пути. Одна его безумно любила, готова была пойти за ним в огонь и воду. Изощренная в любви и страсти, она отдавала ему душу и тело. Но не было между ними духовной связи. Она об этом догадывалась и, стараясь показать себя образованной, говорила, не закрывая рта и употребляя не к месту и невпопад слова, смысла которых не понимала. Он слушал ее машинально, как раздражающий грохот поездов, и думал: "Помолчала б ты хоть минуту". Другая была полная противоположность той: молчаливая, застенчивая и стыдливая, как монахиня. Она предпочитала слушать и на его вопросы отвечала односложным: "да", "нет". Кратковременная связь с третьей отбила в нем всякое желание вообще встречаться с женщинами. Даже воспоминания о ней были неприятны, противны, они вызывали в нем чувство стыда и раскаяния, и он готов был дать обет никогда не иметь физической близости с женщинами, и тем более жениться. Как вдруг появляется Кэтрин и перечеркивает все его, казалось, прочно установившиеся взгляды на женщин. Ее плавный мелодичный голос, мягкие, грациозные жесты, задумчиво-веселый взгляд вишневых с синей поволокой глаз придавали ей редкую ласкающую нежную женственность. Она слушала, потягивала холодное ароматное пиво короткими глотками и не спеша посылала в рот орешки. "На кого же все-таки ты работаешь, прекрасная Кэт?" - мысленно спрашивал Веземан, жуя креветки. К этому вопросу нужно будет подойти осторожно, деликатно, но непременно. А вот как, каким образом, с чего начать, он еще не решил, надеясь, что повод подвернется сам, стихийно. Так оно и вышло. Когда закончилась музыка, Макс выключил магнитофон и вместо того, чтоб поинтересоваться, понравился ли ей Бах, спросил, глядя на нее с дружеским участием: - Ты чем-то озабочена, Кэт? Расскажи, поделись, может, я смогу помочь. Ты не стесняйся, ведь мы друзья, Кэт? Не так ли? - Я даже не знаю, имею ли я право выдавать чужие тайны… - проговорила Кэтрин взволнованно и нерешительно. - Но мне кажется, вы, сеньор Веземан, должны об этом знать… потому что это касается и вас… - Она умолкла и посмотрела на него долгим вопрошающим взглядом. - Ну, тем более. Я слушаю, Кэт, - попросил он. Кэтрин медлила, все еще проявляя нерешительность. Макс видел, что в ней происходит внутренняя борьба. Наконец, глядя в пол, она спросила глухим отчужденным голосом. - А скажите, сеньор Штейнман - хороший человек? - И чуть приподняв голову, сосредоточилась в ожидании ответа. - Видишь ли, понятия "хорошо" и "плохо" относительны. Что хорошо для одного, то бывает плохо для другого. Разве не так? Она ответила согласным кивком, а он продолжал: - Например, для тебя Штейнман - плохо. Он тебе не друг и даже больше, чем не друг. Я, как видишь, тоже выдаю тебе маленький секрет. Она обратилась к нему быстрым решительным взглядом и сказала: - Для сеньора Кларсфельда он непримиримый враг, И также для Мануэлы. Он хочет помешать их любви. И вообще он собирается выселить с Острова всю семью Понсе… и нашу семью тоже. - Откуда такие сведения? - искренне удивился Макс. - Мне сказала Мануэла, а ей сказал Дэвид. Они - Мануэла с Дэвидом - решили сделать со Штейнманом то, что сделали с бедным Хусто. - А что сделали с Хусто? Я не в курсе. Она недоверчиво посмотрела на Макса, и взгляд ее говорил: не надо лукавить, ты отлично все знаешь. Он разгадал эти ее мысли и быстро прибавил: - Я знаю, что он заболел и его отвезли в клинику. - Хусто умер. Его заразили вирусом неизвестной болезни… Макс не отозвался. Он считал неуместным притворяться и лукавить. Однако сообщение о том, что Штейнмана ждет судьба Хусто, его всерьез встревожило: он понимал, догадывался, что со Штейнманом расправится Кун. Неважно, чьими руками это будет сделано: Кларсфельда или Мануэлы. То есть, нетрудно было догадаться, что непосредственной исполнительницей воли Куна, попросту говоря, убийцей, будет Мануэла. Тревожило другое: а что если Штейнман - только начало? За ним последуют и другие: Дикс, Веземан и прочие неугодные кунам-левитжерам люди. Своим сообщением Кэтрин предостерегала его, Макса Веземана. Теперь было совершенно очевидно, что со стороны Кэтрин нет никакой провокации. Конечно ж, версию о том, что Штейнман намерен выдворить с Острова Понсе и Гомес сочинил Кун и Кларсфельд, чтоб придать решимости Мануэле. Серьезное, задумчиво-сосредоточенное молчание Макса нарушила Кэтрин: - Вы меня не продадите, сеньор Веземан?.. Я вам рассказала потому, что я… что вы… вы добры ко мне и вообще вы для меня… - она осеклась и смущенно опустила глаза. - Не надо, девочка. - Макс поднялся и, приблизившись к Кэтрин, положил ей руку на плечо. От его прикосновения она сжалась, напружинилась, и эту дрожь, пронизавшую ее, Макс физически ощутил. Он сказал с неподдельной лаской и теплотой: - Не бойся. Ты поступила правильно. Все, что ты сейчас сказала, останется между нами. Навсегда. Я хочу повторить: мы с тобой - верныедрузья. Давай условимся - доверять друг другу и оберегать друг друга. Хорошо, согласна? - Да, - тихим мягким голосом выдохнула она. - Милая Кэт, - продолжал он, не отнимая руки с ее плеча. - Ты здесь единственный человек, кому я верю, как самому себе, близкий, более того - родной мне человек. Макс наклонился к ней и опять, как тогда, поцеловал ее волосы, пахнущие духами, которые он недавно подарил ей. Она прислонилась к нему и коснулась плечами его груди, потом резко запрокинула голову, и алые свежие губы ее, полуоткрыв рот, призывно затрепетали и слились с его губами в страстном нервном поцелуе. Потом он целовал ее влажные глаза, шею, руки, а она бессвязно говорила: - И вы для меня… Я места себе не нахожу, когда не вижу вас, сеньор Веземан… - Называй меня Максом, - перебил он задыхаясь. - О, благодарю, я с радостью. У меня много раз появлялось искушение назвать вас сеньором Максом. - Просто, Максом, без сеньора, - сказал он. - Да, Макс, Макс. Красивое имя. Оно очень идет вам - Макс… А сегодня я там, в офисе, когда увидела вас, я испугалась… - Я это понял. У тебя были на это основания. Ты же не знала моего к тебе отношения. Верно? - Нет, я догадывалась. Только отношение - одно, а ваша служба - совсем другое. - У тебя тоже служба. Каждому свое. Но мы должны помогать друг другу. Сегодня я тебе, завтра ты мне. А мне очень нужна твоя помощь. - Моя помощь… Да я для вас… я жизни не пожалею. - И она прижалась к нему так, точно хотела отдать ему себя всю без остатка. - Спасибо, родная. А мне в самом деле нужна твоя помощь. Скажи, твоя мама часто бывает в башне? А ты могла бы туда пройти под каким-нибудь предлогом? Допустим, тебе понадобилось что-то срочное сказать маме? - Ну, конечно же. Завтра там будет генеральная уборка. Марго пригласила в помощь маме меня и Мануэлу. - Прекрасно! - воскликнул Макс и проникновенно посмотрел на Кэтрин. - То, о чем я тебя попрошу, совершенно секретно. Никто не должен знать, кроме нас с тобой. Ведь ты не такая, как Мануэла? Она беспечная и болтливая. Она выболтала тебе страшную тайну, ты это понимаешь, конечно? - Да, понимаю. Но она мне верит. Я же никому, я только вам доверила, потому что вы… вы - Макс. --Она смотрела на него преданно, доверчиво искрящимися влюбленными глазами. Он тихо поцеловал ее в лоб и сказал: - Я понимаю и ценю. Спасибо тебе, дорогая. Но ты Мануэлу, и не только ее - вообще никого, даже самых родных и близких не посвящай в наши с тобой отношения и наши дела. Наши, понимаешь? - подчеркнул он это слово. - Понимаю. У меня только один родной и близкий… это Макс, - сказала она тающим голосом и, обхватив его шею руками, крепко впилась в его губы. …Потом, лежа с ней в постели, когда свершилось то, что и должно было свершиться, поскольку оба в тайне этого желали и даже мечтали об этом, Макс, одолеваемый вопросом, на кого же все-таки она работает, спросил: - Скажи, Кэт, где твой брат Педро? Вопрос прозвучал для нее неожиданно, она внутренне вздрогнула, насторожилась и ответила уверенно: - Не знаю. - Кэт, родная, мы же договорились быть искренними. Я понимаю, тебе трудно отвечать на этот вопрос, и я не задал бы его и не стал бы настаивать на ответе. Но поверь мне, я спрашиваю потому, что это в твоих интересах. Не кому-нибудь другому, а мне и ради тебя нужно знать, где сейчас Педро. Наступила продолжительная пауза. Макс видел, какая мучительная борьба происходит в ней, и сказал: - Если для тебя трудно сказать правду, то не говори, не надо, я не буду настаивать. - Он на Кубе, - тихо и печально произнесла она. - Ты с ним имеешь связь? Извини за прямой вопрос, но ни тебе, ни Педро он ничем не грозит. Ты в полной безопасности. - Да, имею. - Ответ ее прозвучал твердо и решительно. - Мануэла знает об этом? - Никто. Даже мама и папа не знают. Только вы да я. Я, наверно, глупая и болтливая, как Мануэла: я открыла вам еще один секрет. В ответ он молча поцеловал ее: теперь он определенно знал на кого работает Кэтрин, его милая, очаровательная Кэт. Потом заговорил приглушенно и серьезно: - Я дам сегодня тебе две маленьких штучки, которых называют еще "клопами". Ты, наверно, слышала? - Читала. Подслушивать разговоры. - Совершенно верно. Ты установишь их в башне в холле второго этажа и на первом этаже между биллиардным столом и бассейном. Впрочем, можно под биллиардным столом. Сама определишь, где лучше, но так, чтоб невозможно было их найти. Согласна? - Я все сделаю, как надо, как прикажет мой Макс. - Не прикажет, а просит. - Просит мой Макс, - повторила она, с особой теплотой произнося его имя. Она верила ему и уже ни капли не сомневалась, что он ее друг. Она ласкала его и сама удивлялась своей смелости и умению расточать женские нежности, словно за плечами ее в этом смысле был большой опыт. На самом же деле Макс был первым мужчиной, кого она вдруг так страстно или, как она подумала, вспоминая разговор с Мануэлой, безумно полюбила. "Да, да, это безумство, - шептала она, - и так Должно быть, только так". Макс смотрел на нее и мысленно говорил: "Это единственная женщина в мире, которую я смогу любить и боготворить. Но смогу ли я сделать ее счастливой"? Вопрос оставался без ответа. А он так хотел сделать ее счастливой, тогда и он мог твердо сказать себе: да, я счастлив, потому что счастлива она, маленькая Кэт. Уходя в тот вечер от него с кассетой Баха и двумя "клопами", прощаясь, Кэтрин спросила с веселой довольной улыбкой: - А кто же вы, сеньор Макс? Он хорошо понял смысл ее вопроса и ответил, тоже дружески улыбаясь: - А ведь я тебе подобного вопроса не задавал. - Потому, что вы знаете ответ. - И ты в свое время узнаешь. Ответ придет сам собой. Всему свое время.
Глава шестая
1
Штейнман отправился на материк на яхте в сопровождении Мариана Кочубинского в знойный полдень. Неделю тому назад он почувствовал недомогание, начались тошнота и головокружения, пропал аппетит. Сам он интуитивно почувствовал беду, изрядно струхнул, но еще не терял надежды: авось пронесет. Но Левитжер, Дикс, Кун и Кларфельд определенно знали, что не пронесет: симптомы заболевания были те же, что и у подопытного Хусто. Кун отомстил ему, нанеся смертельный удар. Впоследствии Веземан, перефразируя Достоевского, скажет по этому поводу: гад гада съел. Покидая Остров, Штейнман отдал Максу ряд указаний по службе, из которых следовало, что уезжает он ненадолго, во всяком случае, надеялся еще вернуться сюда, чтобы исполнять обязанности дела службы безопасности. Но как только яхта скрылась за горизонтом, Левитжер пригласил к себе Веземана и в присутствии Дикса приказным тоном заявил, что Штейнман больше не вернется на Остров, и начальником службы безопасности назначается он, Макс Веземан. Одновременно он поставил в известность Дикса и Веземана о предстоящем прибытии на Остров высокого начальства и в связи с этим распорядился принять особые меры безопасности и усилить бдительность. Это касалось Макса. Дикса же просил быть готовым к обстоятельному докладу о "научно-исследовательской" работе его группы, язвительно заметив при этом, что начальство недовольно медлительностью, оно ждет результатов сейчас, немедленно. Что ж, Отто Дикс понимал, что им недоволен прежде всего сам Левитжер и, конечно, его любимчик Адам Кун, мечтающий занять место руководителя группы. Отношения между Куном и Диксом, начавшиеся с взаимного недоверия и подозрительности, переросли во взаимное презрение. Для Дикса не было тайной, что вопрос о его отставке предрешен, и как только он проведет испытание своего страшного оружия на людях, с ним расстанутся без сожаления и даже без лицемерных благодарственных речей, в которых он, впрочем, не нуждался, выслушивать дифирамбы от какого-то Левитжера он считал для себя оскорбительным. Когда они вышли от шефа, Макс проговорил, как мысль, вслух: - Странно. Карл надеялся вернуться на Остров. И вдруг ему полный расчет. Неужели шеф не предупредил его? И если так, то почему? - С Карлом мы простились навсегда, он уехал умирать, - мрачно сказал Дикс, подтвердив тем самым догадку Макса. Вдруг он вскинул на Веземана какой-то встревоженно-заговорщический взгляд, синие губы его дрогнули, нетвердая рука коснулась локтя Макса, и тихий голос волнующе выдавил: - Теперь пора подумать, кто следующий за Карлом, ты, я?.. Макс хладнокровно воспринял эти слова, лишь обронил с присущей ему выдержкой и спокойствием: - Может, после работы заглянете ко мне? Надо поговорить. Дикс молча кивнул и, тяжело ступая, поднялся на свой этаж. Заниматься делом не было желания: убийство Штейнмана, - а Дикс иначе и не расценивал его болезнь и поспешный отъезд с Острова, - повергли в Уныние и хандру. В лаборатории ему встретился возбужденно-веселый, с довольной улыбкой во все лицо Кларсфельд. - Что случилось, Дэвид? У вас такой вид, словно вы получили миллион в наследство, - угрюмо проворчал Дикс. - Вы угадали, док, - несколько фамильярно ответил Кларсфельд. Его фамильярность, появившаяся совсем недавно, задевала и настораживала Дикса, привыкшего держать дистанцию с подчиненными. Выходит, с ним уже не считается даже этот самоуверенный молокосос. Но значит ли это, что и его участь предрешена? Но Кларсфельд продолжал: - Хочу сообщить вам, что мы сможем порадовать наших высоких гостей. Эксперимент прошел успешно. Я сейчас разговаривал с Бобом. Он пришел в свое обычное состояние, чувствует себя так, будто ничего и не было. - Сколько времени он находился в том состоянии? - Ну вот считайте - прошло двенадцать дней. Боб говорит, что уже три дня, как он пришел в норму. Выходит - девять дней. Неделя с гарантией. - А запах? - Я думаю, что будет все в порядке. Я уверен, что это не станет проблемой. Это уже детали. Сделано главное. - Вы информировали шефа? - в вопросе Дикса прозвучали язвительные нотки. - Да, мистер Левитжер в курсе, - без тени смущения ответил Кларсфельд: он не должен был действовать через голову своего непосредственного начальника. Гримаса недовольства скривила аскетическое лицо Дикса. Он хотел что-то сказать, но смолчал и, круто повернувшись, удалился в свой кабинет. У большого письменного стола, приставленного вплотную к подоконнику, он сел в кресло и уставился в окно. Туманный взгляд его скользил по вершинам деревьев; рассеянные разрозненные мысли плыли хаотично, без видимой логики. Сообщение Кларсфельда его нисколько не радовало. "Выскочка. Для него запах - деталь, - недовольно размышлял Дикс. - А на такой детали можно споткнуться на многие годы. Что стоит твой нервнопаралитический газ с запахом? Ровным счетом ничего". Действие газа предназначалось на узкий круг людей, находящихся в закрытом помещении: в здании министерства обороны, генерального штаба, резиденции президента и премьера, в крупных воинских штабах. Этот газ лишает человека нормальной деятельности, парализует волю, притупляет разум, вызывает сонливость, апатию, безразличие. Рассчитан он на роковой час "X". Работать над ним Кларсфельд начал еще до своего появления на Острове, в серьезную эффективность его, как оружия, Дикс не очень верил и потому не придавал ему особого значения. На этот раз подопытным кроликом был охранник Боб из команды Мариана Кочубинского. За две тысячи долларов он добровольно согласился принять "снотворное", действие которого, как убеждал его Кларсфельд, совершенно безопасно для жизни и безвредно. Дикс невидяще смотрел в окно, а в мыслях перед ним всплывала торжествующая самодовольная улыбка Кларсфельда и надменное, высокомерное лицо Левитжера. Вчера у Дикса произошел острый разговор с шефом, разговор, который оставил на душе Дикса неприятный осадок. Речь шла об Америке и России, и Диксу вдруг изменили его выдержка и хладнокровие и он выплеснул на Левитжера добрую лохань давно накипевших в нем обиды, горечи и злости. Левитжер хвастливо разглагольствовал о могуществе США, о непобедимости американского солдата, который сделает с коммунистами то, что не сумели сделать немцы, доверившись нацизму своего фюрера. "Дойти до самых ворот Москвы, видеть в бинокль кремлевские звезды и потом позорно бежать…" - заносчиво язвил Левитжер, желая унизить старого нациста. Задетый за живое, Дикс отвечал сначала со сдержанным спокойствием, но с каждой фразой спокойствие ему изменяло, и в словах его под конец уже сочилась ядовитая желчь: "Вы не знаете русских, мистер Левитжер. Вы судите о них по карикатурам ваших пропагандистов. А я бы очень желал, чтоб вы познакомились с ними па поле брани. Они бы выбили из вас ковбойскую спесь. По-настоящему вас еще никто не бил, судьба вас миловала. Вы высадились в Европе, когда Германия была обескровлена, когда цвет ее армии переживал агонию поражения на Восточном фронте, и это спасло вас от разгрома на берегах Ла-Манша. А что же касается непобедимости американского солдата, то она была во всем блеске проявлена во Вьетнаме, где маленькая полудикая нация, к тому же плохо вооруженная, наголову разгромила вас. Вы бежали из Вьетнама с большим позором, чем мы от Москвы". Так они обменялись комплиментами. Дикс уже давно почувствовал, как уходит почва из-под ног, он даже однажды с горькой иронией над самим собой проворчал: "Живу, как на корабле во время шторма". Он не догадывался, что это еще не шторм, а только его начало, что буря где-то за горизонтом, но она приближается неотвратимо. Он был похож на крысу, выползшую из трюма на палубу в предчувствии беды. Все, что он делал и должен делать, его "работа", щедро оплачиваемая американцами, теперь для него теряла всякий интерес и смысл, ее заслонял трагический лик двух людей - никому неизвестного Хусто и полковника Штейнмана, повязанных общей судьбой. При мысли о них вставал, как неотвратимый рок, жестокий вопрос, который он только что задал Веземану: "Кто следующий?" В ответ на этот вопрос Макс пригласил встретиться, и Дикс охотно согласился. Сейчас, как никогда, он нуждался в общении с человеком, которому можно было бы излить если не всю душу, то хотя бы частицу ее. Здесь, на Острове, таким человеком для него оставался загадочный соотечественник Макс Веземан. Не дождавшись конца рабочего дня, Дикс ушел домой. В густой шапке секвой пронзительно насвистывал черный дрозд. Резкий с надрывом голос птицы звучал тревожно и призывно, словно кого-то предупреждал о грозящей опасности. Дикс вскинул вверх голову, тщетно пытаясь увидеть певца в мохнатых дебрях дерева-великана, единственный экземпляр которого каким-то чудом сохранился на Острове. "Вымирающий вид хвойных, вроде мамонта, - подумал Дикс о реликтовом дереве, подобрав с земли опавшую ветку секвойи. Он растер пальцами длинные, сантиметров в двадцать иголки, понюхал. Они пахли обыкновенной сосной, может, несколько резче и гуще, и напомнили ему далекие годы юности, янтарный берег Восточной Пруссии с ее курортами, где в прибрежных соснах тоже водились черные дрозды, хотя свист их был не такой пронзительный. Почему-то подумал: "Секвойя - мамонт, сосна - слон". Неожиданная аналогия понравилась. С грустью решил, что и слоны, и сосны могут однажды навсегда исчезнуть с лица земли, и виной тому будет не ледниковый период, а безумство человека. "Человек - безумец. Это Левитжер и Кун, и Кларсфельд, и ты, доктор Дикс, да, да, ты вместе с ними", - назидательно шептал ему внутренний голос. Наблюдательная, хорошо изучившая своего хозяина Эльза нисколько не удивилась появлению Дикса дома до конца рабочего дня - такое случалось часто, ее поразил внешний вид хозяина, не столько озабоченный, сколько растерянный и подавленный. На ее вопрос, не заболел ли он, Дикс раздраженно приказал разыскать конюха и велел оседлать Юпитера. Из всех видов спорта он предпочитал конный - верховая езда, прогулка на лошади с маузером на ремне через плечо была его давнишней страстью. В последнее время она приобретала для него новый смысл. Не имея возможности властвовать над людьми, проявляя при этом своенравие и жестокость, он обратил эту черту своего характера на лошадь. Не успела Эльза передать распоряжение конюху, как Дикс дал отбой, сказав, что прогулка сегодня отменяется: в окно он увидел Веземана, идущего к себе домой. Встреча с Максом теперь была для него важней всяких прогулок. Отмена прогулки еще больше удивила Эльзу и укрепила ее подозрение насчет психики хозяина. Спустя полчаса Дикс сидел в гостиной Веземана, которому, как показалось Диксу, изменила его выдержка и хладнокровие: Макс был предельно напряжен и взволнован, должно быть в нем происходила какая-то внутренняя борьба перед принятием какого-то очень ответственного решения. Так думалось Диксу. Веземан задумал как можно естественней драматизировать их встречу и беседу, которую он начал такими словами: - Дорогой доктор, вы знаете мое расположение к вам, поэтому я позволю себе, может, вопреки служебному долгу, быть с вами откровенным. Для вас не составляет секрета пренебрежение и высокомерие по отношению к вам, да и ко мне, Левитжера и компании. Вы это знаете. Вас терпят лишь только потому, что янки нужен ваш ум. Но их терпению наступает предел. Дело идет к развязке, трагической развязке. Я считаю своим долгом, долгом немца-земляка предупредить вас о смертельной опасности, грозящей вам. Он сделал паузу и отвел трагический скорбный взгляд в сторону. А Диксу казалось, что взволнованно-напряженный голос Макса все еще звучит туго натянутой струной. Он сосредоточенно и нетерпеливо ждал продолжения, интуитивно чувствовал, что сейчас последует что-то главное, основное, ради чего он пришел сюда. Макс молча нажал клавишу стоящего перед ним на столике магнитофона, и в тишине гостиной раздался голос Левитжера: "Между прочим, Вашингтон обеспокоен медлительностью с "А-777". В чем дело? Преднамеренно тянет или старик исчерпал себя? Как ты думаешь? Может дать ему отставку? Вы с Кларсфельдом сможете завершить работу с "А-777"? - "Нет, он скрывает от нас технологию", - ответил голос Куна. "А если я прикажу ознакомить вас, ввести в курс дела?" - "Это только обозлит его, и он поступит наоборот. Нацист упрям и самолюбив". - "Наплевать мне на его самолюбие. После того, как он закончит работу, его можно тоже… вслед за Хусто". - "Не только можно, нужно, обязательно", - сказал Кун. Макс нажал на клавишу, и в гостиной воцарилась зловещая тишина. На лице Дикса застыли растерянность и испуг, что совсем не привычным было для его самонадеянного нрава. Он сидел окаменело, как статуя, уставившись невидящим взглядом в дальний угол, и ни один мускул не дрогнул на его аскетическом лице. Макс выжидательно молчал. Он догадывался, что в душе Дикса и в мыслях происходит своего рода катаклизм, и не хотел мешать. Наконец Дикс, точно скинув с себя какой-то ненужный груз, встрепенулся и резко посмотрел на Веземана решительным взглядом, в котором отсутствовали сомнения и колебания. - Спасибо, Макс. Я тронут твоим доверием, - глухо, с трудом выталкивая из пересохших уст слова, заговорил Дикс. - Вообще-то я все это предвидел, по крайней мере, должен был предвидеть. Вероломные свиньи, мерзавцы, банда гангстеров, убийцы-мафиози. Впрочем… все логично и естественно: удар судьбы, заслуженный удар. Я заслужил, видно, лучшей участи я не достоин. - Это вы напрасно: судьба здесь не при чем, - возразил Веземан. Но Дикс перебил его предупредительным жестом руки. - Не надо, Макс. Я хочу быть с тобой откровенным. Пусть это будет ответом на твое доверие ко мне. Выслушай меня и не перебивай, наберись терпения. Все, что я тебе скажу, можешь считать исповедью преступника, которому нет прощения, но который сам осудил себя. Я страшный человек, подлый. На моей совести чудовищные преступления, за которые мне полагалась горькая чаша Нюрнберга. Но я, как и многие мои коллеги-соотечественники, не испил ее, ушел от возмездия. Не подумай, что раскаялся. О раскаянии у меня и мысли не было. Я оставался таким же порочным, каким был во время войны, потому что то, что я делал, я не считал пороком и преступлением. Я, как солдат, как и ты, исполнял свой долг. Я изобретал оружие смерти. Разве можно назвать преступником изобретателя артиллерийского снаряда, мины, бомбы? Они не убийцы. Как не убийцы и те, кто выстреливает снаряды и мины, сбрасывает бомбы. Они просто исполняют свой долг, только и всего. Война есть война… Убийцы же те, кто начинает войны. Но в последнее время ко мне все чаще подступали сомнения, и я в эти минуты смотрел на самого себя как бы со стороны, посторонним глазом. Вот умер Хусто. Умерщвлен, преднамеренно убит. Человек ничтожный, скот. Но он не был ни в чем виновен. Его жизнь понадобилась для эксперимента. Я лишил его жизни, не спрося его согласия. А ведь он тоже был человек, христианин… Поехал умирать Карл Штейнман. Я обрек его на смерть. То есть, мы: я, Кун, Кларсфельд, Левитжер. Мы - убийцы, сообщники. И вот я задаю себе вопрос: зачем мы их убили, во имя чего? Чтобы потом нашим оружием были убиты миллионы невинных. Зачем? Прежде, во время войны, когда я работал в лаборатории в Польше, передо мной не возникал этот вопрос: зачем? Я знал, зачем, знал, что я изобретаю оружие для своей армии, для моего отечества. Теперь же у меня нет отечества. Так зачем же это оружие, зачем невинные жертвы, во имя чего?.. На моих глазах, при моем содействии мой враг Кун убивает моего соотечественника, полковника. Где логика, смысл? Нет, это нелепость, бессмыслица, с которой я не могу мириться. И не потому, что завтра тем же оружием Кун убьет меня. И это будет справедливое возмездие, по крайней мере, логичное: убийство убийцы. Я наказан. Наказан самим собой. Но я не допущу, чтобы они привели в исполнение мой смертный приговор. Я сам вынес себе приговор и сам его приведу в исполнение. Быть может я искуплю хоть маленькую частицу своей большой вины. Надеюсь, ты не станешь мне мешать и не будешь задавать мне лишних вопросов. Ты должен верить мне, как я верю тебе. Я не знаю, кто ты есть на самом деле и кому ты служишь. Но сегодня, вот сию минуту, у нас о тобой общий враг. Ты их ненавидишь так же, как и я, всех этих кунов и левитжеров. У тебя, должно быть, о ними свои счеты, у меня - свои. Мы не станем друг другу мешать, не так ли? Он смотрел на Макса доверительно, и теплый взгляд его выражал мольбу. Макс понимающе и сочувственно кивнул. Дикс продолжал: - С точки зрения христианской морали в действиях нацизма были элементы преступности. Да, да, были действия, которые можно считать преступлениями. А действия наших преемников и продолжателей? Разве они не преступны? Во Вьетнаме, на Ближнем востоке, здесь, в Латинской Америке. - Да, конечно, - поддержал Макс. - Их преступления чудовищней. Ведь они замышляют уничтожить все - цивилизацию, культуру. Они бездушны, жестоки, алчны - эти торгаши. Их идеал, их бог - деньги. Они зажгут всемирный пожар и сами в нем сгорят. - Они надеются выжить, уцелеть, победить. Самообман, иллюзии, самообольщение. Нам это знакомо. Мы тоже в свое время питали подобные иллюзии и дорого заплатили. В сорок первом мы были самоуверенны, как и они сегодня. Он замолчал, сцепил пальцы рук, задумался. Затем горькая ухмылка скользнула по его серому лицу и исчезла в уголках губ. Он легко поднялся, посмотрел на Макса в упор и сказал бодрым голосом человека, принявшего твердое решение: - Еще раз спасибо, дорогой Макс. Я хочу еще до темна размяться на лошади. А то мой Юпитер разучится ходить. - Доктор Дикс, у меня к вам есть небольшая просьба. Мы с Кэтрин решили соединить наши судьбы. С вашей легкой руки. Я говорю вам об этом первому и хотел бы пока что сохранить наше решение в тайне. В связи с этим Кэтрин нужно будет съездить на материк. Вы не будете возражать о ее поездке? - Нет проблем, в любое время и на любой срок. Пожалуйста. Можете передать фрейлин Кэтрин мое согласие.
2
День прибытия на Остров высоких гостей Левитжер объявил нерабочим. Белоснежная яхта "Ноев ковчег" была еще в трех милях от берега, когда на пирс вышли встречающие во главе с Левитжером, который вел себя слишком возбужденно. Странная его нервозность передавалась Куну и Кларсфельду, к которым он поминутно обращался без всякой надобности, просто так, чтоб молчанием не выдавать своего волнения. Наблюдая за ним, Веземан недоумевал: в чем дело, куда подевалась самоуверенность единовластного хозяина Острова, почему такая парадность? Да и Левитжер ли хозяин? Может, настоящие хозяева и пожалуют сейчас в свои владения с инспекционной целью. Настроение натянутой торжественности передавалось и женщинам - Марго, Кэтрин и Мануэле, стоящим с букетами цветов позади мужчин. Одеты они были по-праздничному. Угрюмый Дикс держался особняком, молча похаживал по пирсу с видом мрачным и недовольным и дымил сигарой. Он не скрывал, а пожалуй даже афишировал свое раздражение по поводу торжественной встречи гостей. Кэтрин и Мануэла о чем-то весело шептались между собой, прикрывали улыбки букетами цветов, отчего Марго бросала на них осуждающие взгляды, но от словесных замечаний воздерживалась. Торжественность встречи озадачивала Веземана, тем более, что он не знал, что за гости пожаловали, как не знал и цели их визита. Не знал и Дикс. На его вопрос Левитжер ответил кратко и уклончиво: "Мои друзья и ваши начальники". Что-то иронически-язвительное уловил Дикс в ответе Левитжера. Сейчас, глядя на приближающуюся яхту, Дикс почему-то подумал, что на ней, на этом "Ноевом ковчеге", он навсегда покинет Остров по приказу "его начальников", как язвительно выразился Левитжер. Но его это ничуть не беспокоило: он принял решение, и теперь вся мысль его была о том, как бы какое-нибудь непредвиденное обстоятельство не помешало ему исполнить, как он считал, свой последний долг. Помешать мог только Штейнман, но, к счастью, его нет. На Веземана он надеялся, ему он верил, тот не станет поперек дороги. Яхта плавно прильнула к причалу лебяжьим бортом, на котором сверкали массивные золотые буквы "Ноев ковчег", вместо полосато-звездного флага США на корме развевался флаг Латинии - крупного государства Южной Америки. "Почему Латинии?" - с недоумением подумали одновременно Дикс и Веземан. Дело в том, что в Латинии на только что состоявшихся парламентских выборах победил блок левых партий. Президентом был избран известный публицист прогрессивных взглядов Хуан Гонсалес, не принадлежащий ни к какой партии, так называемый независимый. В правительство вошли, кроме коммунистов, социалисты, представители крестьянской партии и народно-демократического альянса. Поэтому появление яхты под флагом Латинии вызывало недоумение не только Дикса и Веземана, по и Куна с Кларсфельдом, которых Левитжер так же не счел нужным заранее проинформировать о составе высокой делегации. Первым на берег сошел хозяин яхты восьмидесятилетний миллиардер Хаиме Аухер - костлявый, как мумия, с восковым окаменелым лицом и большими, навыкат, немигающими глазами. Одетый в терракотовый костюм и светлую широкополую шляпу ковбоя, с тростью в левой руке, он торжественно, как бы демонстрируя, нес свое высохшее тело, поддерживаемый молоденькой пышногрудой блондинкой, на смуглом лице которой играла хорошо отрепетированная бессмысленная улыбка, обнажавшая жемчуг зубов. За ними шествовал его зять Сол Шварцбергер - сенатор США, тучный крутолобый мужчина, подталкиваемый под локоть говорливым мохнатым апостолом, голова которого утопала в густой черной растительности, из-за которой воровато выглядывали такие же острые, как и у его старшего брата Хаиме, навыкат, глаза. Звали его Моше Аарон, - среди политических и религиозных кругов Тель-Авива он слыл влиятельным деятелем, хотя и не афишировал себя, предпочитая оставаться в тени. За ними шел с сияющим лицом молодой журналист из Франции Пьер Дуну - внук Моше Аарона. Всем своим видом он олицетворял торжество жизни, здоровый оптимизм, процветание и непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. Последними ступили на берег родственники Генри Левитжера: его брат Стив Левитжер - натовский генерал, бритоголовый, круглолицый, полный, даже рыхловатый, и его племянник, известный в Латинской Америке писатель Пабло Мануэль, седовласый мужчина средних лет с лицом задумчивым и усталым. Женщины вручили гостям цветы. Генри Левитжер представил троих своих сотрудников - Дикса, Куна и Кларсфельда. Веземан обратил внимание, что Аухер, Аарон и генерал выразили особое почтение именно Куну, из чего он сделал вывод, что им известен препарат "А-7". Вся процессия от пирса двинулась в сторону "башни", где для гостей были приготовлены комнаты. И только бойкий и находчивый журналист, заприметив среди встречавших очаровательную девушку, откололся от своей компании и теперь шел рядом с Кэтрин, которую вслух определил на роль своего персонального гида. Баловень фортуны по части амурных дел, он распустил павлиний хвост и с вдохновением упражнялся в красноречии, щедро осыпая девушку комплиментами и охотно удовлетворяя ее скромное любопытство: именно он добродушно ироническими красками нарисовал групповой портрет прибывших гостей, как бы отвечая на незаданный Кэтрин вопрос "кто есть кто". В его иронии была преднамеренность: вызвать расположение и доверительность "прелестного создания", поразившего его воображение какой-то необычной непосредственностью и очарованием. Расточая по адресу Кэтрин комплименты, он назвал ее "принцессой рая, затерянного в океане", "жемчужиной необитаемого острова" и тому подобными банальностями, на что девушка отвечала невинно-игривой, слегка кокетливой улыбкой. Но "кто есть кто" она запомнила: это была ее работа. Слушая болтовню журналиста, Кэтрин с удовлетворением думала о том, как расскажет она Максу "кто есть кто" и как порадуется он ее сообщению. Из пылкой болтовни журналиста Кэтрин узнала, что самый главный среди прибывших гостей Хаиме Аухер, которого Пьер Дуну назвал библейским Моисеем, и что пышногрудая девчонка совсем не внучка, а Моисеева жена. О том, что Аухер банкир-миллиардер, журналист упомянул лишь вскользь. - Деньги, золото, алмазы - это еще не богатство, то есть не это главное богатство дедушки Хаиме, - откровенничал представитель большой прессы. - Сенатор тоже имеет миллион, и братец вашего шэфа Стив Левитжер тоже богат. Но и сенатор и генерал - оба нищие. Вот эти сейфы, - Дуну указательным пальцем постучал себе по голове, - у них пусты, или, в лучшем случае, там хранится ливерный фарш. А братья Хаиме и Аарон - это современные Моисей и Соломон, мозговой трест планеты. Так за разговором, - впрочем разговаривал больше журналист, - они повернули не к "башне", а в сторону лебяжьего пруда. Но дойти до пруда не успели: их нагнал Веземан и с официальной учтивостью обратился к журналисту: - Мистер Дуну, ваши коллеги послали меня за вами. Они ждут вас в резиденции мистера Левитжера, в так называемой "башне". - Ничего, подождут, - недовольно отмахнулся журналист. - Я не состою у них на службе, мне интересней в компании мисс Кэтрин. Она очаровательная собеседница и прекрасный гид. - Я с вами совершенно согласен, мистер Дуну, но мне приказано без вас не возвращаться. Мой долг - моя служба… - с подчеркнутой любезностью, но непреклонно ответил Веземан, и Кэтрин быстро пришла ему на помощь: - В самом деле, Пьер, не упрямьтесь, пойдите. Мы с вами еще встретимся. - И обещающая озорная улыбка засияла на ее лице, а в словах было столько нежности и ласки, что Дуну не смог не покориться, он лишь пожелал уточнить: - Когда и как я тебя найду? - В этом вам поможет мистер Веземан, - все тем же игривым тоном ответила Кэтрин. Макс вплотную приблизился к девушке и вполголоса обронил ей в лицо: - Подожди меня у пруда, я быстро. Проводив Пьера Дуну в башню, Макс возвратился к пруду, где его поджидала Кэтрин. Кокетливо-ласковый тон, каким разговаривала девушка с журналистом, несколько удивил и озадачил Макса и возбудил в нем какие-то до сего незнакомые ему и неизведанные чувства, которые он сразу не мог определить. Во всяком случае ему было неприятно, что Кэтрин, его Кэт так искренне любезничала с незнакомым человеком. - Мне стоило немалого труда оторвать от тебя твоего нового… поклонника, - проговорил он тоном, в котором вместе с иронией слышались укоризненные нотки. Кэтрин отвечала ему добродушно-доверчивой улыбкой, и он продолжал: - Я вижу, он с первой минуты покорил ваше юное сердце, прекрасная Кэт. Я не ошибаюсь? - Ошибаетесь, дорогой Макс. Сердце мое принадлежат одному, единственному. И если в нем вспыхнул огонек ревности, то я очень рада. - Чему рада? - Огоньку. Тихая ласковая улыбка на какой-то миг вспыхнула в глазах Веземан и тут же погасла, лицо его приняло выражение озабоченности и строгости, приглушенный голос спросил: - И что из себя представляет этот Пьер? - Самонадеян и болтлив. И Кэтрин рассказала Максу о прибывших на Остров именитых визитерах. Таким образом у Веземана сложилось некоторое представление о том, "кто есть кто". Не ясна была цель их визита. Эту мысль он выразил вслух, и Кэтрин правильно поняла его намек, сказала, что попытается узнать у Пьера. - Только поделикатней, не в лоб, - посоветовал Веземан и прибавил: - Не забывай об огоньке. В ответ Кэтрин блаженно зажмурила глаза и покачала головой. На этом они и расстались.
3
На другой день Макс Веземан проснулся рано. Нужно было до выхода на службу "прокрутить" магнитофонную ленту на которой с помощью "клопа" был записан разговор в "башне". Речь шла о Латинии, где на недавних выборах победил блок левых. Сенатор возмущался тем, что Латиния разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против поставки израильского орудия диктаторским режимам Латинской Америки. Его поддерживал Моше Аарон - представитель политических и религиозных кругов Тель-Авива. По его мнению разрыв дипломатических отношений осложнит деятельность сионистов в Латинии. Им безапеляционно возражал Хаиме Аухер. - Наши люди есть в левых партиях и, как мне известно, они вошли в правительство, - говорил он медленно, усталым голосом. - Надо, чтобы они действовали активно. И чтоб масоны взяли на себя на первых порах основную роль. Идите в науку, и вы возьмете правительство под свой контроль. Создавайте лицеи для одаренных. - Они у нас есть, там учатся в основном наши дети, - робко вставил Пабло Мануэль - племянник генерала, писатель из Латинии. - Надо не в основном, а полностью, на все сто процентов, - подал голос его дядя - натовский генерал Стив Левитжер. - Сто процентов - не совсем корректно, - отозвался Пабло Мануэль. - Тогда шумите, что вас не принимают в лицеи, дискриминация, мол, расизм, - сказал сенатор. - А кто поверит в эту заведомую ложь? - бойко заговорил Пьер Дуну. - А по-вашему, правда, что Марк Шагал - великий художник? Но ведь верят, - сказал Моше Аарон. - Вот вы журналист. Поезжайте в Латинию, напишите книгу о народной власти, станете известным писателем. Прославляйте их революцию и ругайте капиталистов. Не стесняйтесь, легонько пожурите ястребов. Возглавьте движение за мир. Можете съездить в Москву. Получите статус прогрессивного писателя Латинской Америки. Дадим вам Нобелевскую или какую-нибудь другую премию, создадим рекламу. Вы станете придворным писателем, другом президента, его главным советником по вопросам культуры. Приберите к рукам средства оболванивания - прессу, телевидение, радио, кино. Это же могучая сила - средства рекламы и оболванивания. Из подонков-аборигенов вы наделаете гениев от литературы и искусства, и они будут служить вам верой и правдой. Я говорю это прежде всего вам, Пабло. У вас уже есть имя, литературное имя в Латинской Америке. Сделаем его всемирным. Съездите на Кубу. Там в их Академии у меня есть хороший приятель, я дам вам рекомендательное письмо, он поможет вам встретиться с Фиделем. Напишите о Кубе хороший репортаж, похвалите Фиделя и поругайте янки. Вас назовут красным. И хорошо, не пугайтесь этого ярлыка. Зато вы будете влиять на духовную жизнь народа, целой нации. Влиять так, как это нужно нам. Вы будете определять идеологию страны, государства. Станете во главе печатных органов. Поругивая империализм, хвалите нужных нам людей, создавайте им рекламу. - Ваша задача, - сказал сенатор, - распространять идеологические вирусы. Например, вирус недоверия, подозрительности, ненависти и агрессивности. - Ненависть и агрессивность - палка о двух концах, - усомнился генерал и предложил: - Были бы предпочтительней вирусы безволия, покорности, послушания. - Нужны и те и другие, - сказал Моше Аарон. - Первые нужны Латинии сейчас, когда к власти пришли марксисты. Вторые нужны будут потом, когда у власти будут наши люди. Никогда не надо забывать о нашем божественном предначертании. Мы - поплавок, вечно прыгающий на поверхности взбаламученных вод, где исчезло столько кораблей, где на глубине лежат занесенные илом цивилизации. - Особое внимание музыке, - вмешался Хаиме Аухер. - Музыка, песня - это невидимая, но чрезвычайно могучая сила. Разрушительная. Она вроде яда замедленного действия. Она вползает в души, в сознания незаметно, вытесняет оттуда все нежелательное для нас и сама поселяется там, наша музыка, сочиненная вами для аборигенов. Народ должен выбросить из сознания свои песни, как ненужный хлам, забыть их навсегда. Их должны заменить новые песни, придуманные вами, Пабло, вами Пьер. Народ должен плясать под нашу музыку. И чтоб в песнях, в танцах на первом месте был секс. Откровенный, животный секс. Вообще секс должно возвести в культ, литература, театр, кино - все должно быть пропитано сексом. Секс разрушает не только нравственность, мораль, он подтачивает идеологию, главное оружие марксистов. Секс порождает цинизм во всем: в идеологии, в политике, в быту. Помните слова Евы Аулин: "На востоке надо воздействовать сексом". Девочке было тогда восемнадцать лет, но она хорошо понимала силу и власть секса. Надо активизировать деятельность института жен, расширить его сферу. Смотрите вперед, в завтрашний день. Нынешнее поколение не принимайте в расчет, ориентируйтесь на молодежь. Сделайте ее бесхребетной, послушной, как стадо баранов. А строптивых, несговорчивых, патриотов - дискредитируйте, травите, устраняйте физически. Но делайте это без шума, элегантно. Благо, у нас есть такое оружие. Ваше оружие, Кун, ваш "эликсир". - Можно и другое, - сказал генерал, воспользовавшись долгой паузой. - Пистолет с микроскопическими отравленными стрелами. Стреляет бесшумно. - Вы имеете в виду тот пистолет, что демонстрировал сенатор Черч? - уточнил сенатор Сол Шварцбергер. - Но шеф ЦРУ утверждал, что пистолет этот еще не был в деле. - Не годится, - решительно отклонил Аарон и пояснил: - Стрела, хотя и микроскопическая, свидетельствует о насильственной смерти, акте террора. В этом отношении предпочтительней гамма-лучевое оружие "Рейдж", которое изобрел израильский инженер Итан Гарлеем. - Террор малоэффективен, - робко отозвался писатель Пабло Мануэль. - На смену одним придут другие. - Не придут, - категорично проскрипел Хаиме Аухер. - Об этом вы должны позаботиться, воспитайте общество пассивных, равнодушных к политике, бездуховных циников-вещистов. Создавайте кумиров и гениев из местных ресурсов. Берите дремучую посредственность и венчайте ее лаврами гениев, подкупайте, кормите с руки, не жалейте денег и лавровых венков. Запутайте в грязных делах и шантажируйте. Приписывайте им научные открытия, к которым они не имеют никакого отношения. И это будет наш актив, наша опора. Их руками душите неугодных нам. И, повторяю, используйте везде секс. При помощи секса легче дискредитировать идеи коммунизма. Надо, чтоб само слово "коммунист" воспринималось как ругательство. Надо, чтоб на руководящих постах сидели посредственности и масоны. Посредственность способна довести любую идею до абсурда и опошлить ее. Власть имущая посредственность со временем глупеет, теряет чувство реального, становится голым королем и посмешищем. - Особенно облаченная властью посредственность, увенчанная лаврами гения, - вставил Моше Аарон и поспешно прибавил: - Прошу прощения. Последние слова Аарона говорили о том, что старший брат был недоволен вставкой младшего брата. Хаиме Аухер не терпел ничьих реплик и требовал от слушателей полнейшего внимания. Говорил он медленно, лаконично, словами приказа, и никто не смел ему возразить или даже усомниться в его правоте. Наступила глухая пауза. Наконец Хаиме Аухер спросил: - О чем я говорил? - и тут же сам себе ответил: - О детях. О молодежи. Все внимание им. Музыке и детям. Воспитать поколение в нужном нам духе. Секс, да - секс. Детская литература, музыка должны быть в наших руках. Я думаю, из Пьера мог быть отличный детский писатель. Я прав, Пьер? После долгой паузы послышался ответ Пьера: - Мне нравится моя профессия журналиста. Мы создаем общественное мнение, а это не менее важно… - Я вижу, вы недооцениваете детскую литературу, - сказал Аухер. - Жаль. Она формирует характер человека, закладывает фундамент. Речь идет о будущем. Дети должны думать вашими мыслями, разделять ваши вкусы, говорить вашими словами. Семена, запавшие в душу с детства, дают хорошие всходы. - Детскому писателю нужен особый талант, - сказал Пьер. - Талант? Вы его имеете от рождения, от Бога, - ответил Аухер. - Вы прирожденный писатель, журналист, литератор. А в детской литературе очень просто стать классиком. Там всякий полубред, полулепет, всякий примитив можно выдать за классику. И героев своих книг называйте не существующими в жизни именами. Например, Тук, Рек, Бин, Зон, Куч. - Я не считаю, что Латиния станет второй Кубой, - раздался глухой бас генерала. - Президент Джонсон пообещал любой ценой не допустить марксистского режима в нашем полушарии. Вспомните его слова: "Американские страны не могут допустить, не должны допустить и не допустят в Западном полушарии еще одного коммунистического правительства". Это было сказано второго мая тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Хуан Гонсалес должен быть устранен в ближайшие три-четыре месяца, не позже. Об этом, надо полагать, позаботится ЦРУ. И чем быстрей, тем лучше. И тогда всех словно прорвало: заговорили все сразу, перебивая друг друга: - Надо действовать решительно, время пришло. - Пример - Меир Кахане. Он заставил уважать нас и бояться. Люди Кахане должны действовать повсюду. Пусть взрываются в воздухе лайнеры, пусть горят автобусы и летят под откос поезда. Не мы, а гои должны постоянно испытывать страх. - Но в самолетах могут быть наши братья… - Жертвы неизбежны, но они оправданы высокой целью и конечным результатом. Идет борьба, "цель оправдывает средства", это сказано не мной, но я согласен. - А я не согласен, - решительно сказал сенатор. - Кахане дискредитирует идею. Мы против открытого террора. Что жекасается Латинии, то генерал прав - коммунизм надо душить в зародыше, пока он не стал прочно на ноги. - Зачем допустили победу левых на выборах? Нельзя было допускать Хуана к власти. Любой ценой. Не допустили ж вы Кеннеди - второго, - это сказал Моше Аарон. - Почему же об этом не позаботилась ваша "Моссад", - язвительно поддел сенатор. - Нельзя всю грязную работу взваливать на ЦРУ и тем самым вызывать в мире неприязнь к Америке. - У нас по горло дел в Африке и на Ближнем Востоке, - отвечал Аарон. - Во всех государствах Черного континента мы хотим иметь своих людей и уже имеем. Но это стоит немалых денег. - Не жадничайте. Тем более, что деньги платим мы, - сказал сенатор и продолжал: - Молодые лидеры Африки - это еще дикари, падкие на удовольствия, а следовательно, на деньги. У них нет никаких идей, кроме амбиций. Разжигайте их самолюбие и властолюбие. Растлевайте, вползайте в постели к коронованным особам. Для этого у вас есть институт невест. И ссорьте, разжигайте национальную и племенную вражду. Африка должна быть наша. Проникновению русских надо положить конец. - Нам мешают арабы, - вставил Аарон. - Не преувеличивайте, - возразил сенатор. - Арабы - идиоты. Они из-за пустяка готовы друг другу горло перегрызть. Дайте им только повод: столкните лбами и отойдите в сторону, наслаждайтесь их потасовкой. Это же кретины и фанатики, которых Магомед лишил разума. Кончится нефть, и они - нищие - разбредутся по белу свету с протянутой рукой - милостыни будут просить. - Не надо упрощать, Сол, - отозвался Хаиме Аухер. - Не все кретины и идиоты. Насер был умным. Таких как Насер, надо тихо, бесшумно убирать, а на их место заранее готовить Садатов. Потому мы решили заглянуть к тебе, Генри, поторопить тебя с твоими "эликсирами". Это сильное и надежное оружие. Наши люди есть везде, во всех уголках планеты. И за "железным занавесом", который существует лишь в воображении журналистов, как пугало. Надо убирать с дороги всех, кто мешает нам. По списку. Я вот хочу спросить вас, Кун. Вы жили в России и знаете ее не по писанине журналистов и отчетам дипломатов, которым я не верю. Возможно ли мирным путем изменить государственный строй, политическую систему Советов? Лично я против военного конфликта - в нем высокий процент риска и ничтожно малый шанс на успех. А как мирным путем достичь той же цели? Какое оружие в борьбе с Советами вы считаете главным, кроме вашего "эликсира" и того еще неизвестного, которое обещает нам этот нацист Дикс? Ваш "эликсир" эффективен, но он, как подспорье к главному. - Я совершенно согласен с вами, мистер Аухер, - сильно заикаясь, начал Кун. - Военный конфликт с СССР имеет большой риск. Я думаю, что идеологическая интервенция - это и есть главное оружие против коммунизма, если им умело пользоваться. Для нас этот путь совершенно безопасен, тут нет никакого риска. Я только хотел высказать одну мысль на этот счет, если мне будет позволено. И прошу заранее извинить меня, если я заблуждаюсь… - в голосе Куна звучала рабская дрожь. - Пожалуйста, говорите, - величественно разрешил Аухер. - Я имею в виду так называемую новую эмиграцию инакомыслящих из Советского Союза. Мне кажется, ее надо предельно ограничить. Здесь от них польза не велика. Они нужны там, в России, как наш идеологический актив. Пусть там, внутри страны, требуют свободы. инакомыслия - во всем: в искусстве, литературе, науке, морали. А то что получается: едет сюда, мягко говоря, явная посредственность, а мы должны выдавать их за авторитеты. Он внезапно умолк, и пауза получилась долгой. Нарушил ее не Аухер, а его младший брат. - Эмиграцию ограничить нельзя. Нам нужны эмигранты. Много нужно. Голда Меир мечтала о миллионе эмигрантов из России. - Глупая мечта глупой бабы, - проворчал Аухер. - Кун прав: незачем тащить на Запад всякую шваль: писатели, киношники, артисты, музыканты. Какой от них прок? Грызутся между собой, требуют к себе внимания, пишут всякий вздор. Пусть этим делом занимаются там, у себя дома. Нас сейчас интересует главная основная работа вашей лаборатории - "А-777". Скажите, Кун, я спрашиваю вас, как специалиста: когда мы получим от вас эти загадочные три семерки? - Дело в том, что ими, "семерками", занимается лично доктор Дикс, - ответил Кун. - Он держит свои исследования в строжайшем секрете даже от своих ближайших сотрудников, я имею в виду доктора Кларсфельда и себя. - Это ненормально, Генри, - сказал генерал, явно обращаясь к своему брату Левитжеру. - Ты информировал нас, что у Дикса все о'кей, но на самом деле… - Боюсь, что нацист морочит вам голову, - перебил генерала Аухер, - а вы, Генри, дезинформируете нас. История эта смахивает на обыкновенный саботаж. - Мистер Аухер, позвольте объяснить. По докладу самого доктора Дикса работы над "А-три семерки" завершены, и он сейчас занимается изысканием вакцины, нейтрализующей действия этого чрезвычайно грозного оружия, то есть над противоядием, без которого он не решается приступить к опытам, то есть к испытанию самого оружия, опасаясь катастрофических последствий… - Вы в этом уверены? Вы доверяете Диксу? - властно спросил Аухер. Вопрос относился к Генри Левитжеру. - Я не могу поручиться, - робко пролепетал Левитжер. - У меня на этот счет появились сомнения и даже подозрения, и я решил предпринять меры… - Что конкретно вы решили? - Тон Аухера суров. - Предложить доктору Диксу ввести в курс своих исследований Куна и Кларсфельда. - Не предложить, а приказать, заставить. А затем отстранить самого Дикса. Послать на покой, - твердо распорядился Аухер. И опять долгая пауза. Затем кто-то заговорил вполголоса, между собой. Аухер спросил: - Что? О чем вы? - О "Черной книге", - негромко ответил чей-то голос. - Этого француза? Что с ним? Он еще жив? - спросил Аухер. - Сейчас он на Кубе, - ответил генерал. - А что же ваши из "Моссада"? - опять Аухер с упреком. - Должно быть, очередь не дошла, - ответил Аарон. На этих словах запись прекратилась. Макс нажал на клавишу "Стоп". Он долго сидел в раздумье. Собственно, ничего нового, все, что он услышал сейчас, было ему известно, он об этом догадывался. Поражали, пожалуй, откровенность и цинизм собеседников, их полное единомыслие в главном: ненависть к СССР, чванливость и высокомерие. И все же пленку эту нужно переслать в "Центр", для информации. Диксу он скажет, что вопрос о его судьбе решен на совещании высоких гостей. Пусть это сообщение придаст большую решимость в исполнении задуманного, о чем Макс безошибочно догадывался: Дикс решил добровольно уйти из жизни и унести с собой на тот свет тайну своего чудовищного изобретения. Если же он по каким-то причинам не совершит этого, то это сделает он - Макс Веземан. Осиное гнездо должно быть начисто уничтожено - такое решение в нем созрело твердо и окончательно. Притом он не намерен медлить: обстоятельства пока что складываются в его пользу в связи с отъездом Штейнмана. Было бы непростительно с его стороны упустить такую возможность. Поэтому он не счел нужным информировать "Центр" о принятом им решении: это потребовало бы немало времени. Конечно, по его заданию сначала на материк, а потом на Кубу направится Кэтрин. С ней он пошлет подробное донесение, в том числе и запись беседы в "башне". Гости покидают Остров сегодня, и Веземан поспешил в свой кабинет. По пути он пробовал мысленно наметить план задуманной им операции на тот случай, если у Дикса получится осечка. Ведь замысел Дикса был неведом ему, были только одни предположения его, Макса Веземана, в которые он почему-то поверил. Спросить Дикса напрямую не решался. Возможно, при случае он намекнет, сообщая ему о разговоре в "башне". Но вдруг совершенно неожиданно к нему пришла тревожная мысль: не слишком ли он доверился Диксу, прокрутив ему запись разговора Левитжера с Куном? А что если Дикс, вопреки всякой логике, пойдет к высоким гостям и пожалуется им на несправедливое к себе отношение Левитжера и таким образом выдаст Веземана? Не перешагнул ли он допустимый предел доверия к Диксу? Вспомнилась фраза, оброненная Диксом во время их последнего откровенного разговора: "Я не знаю, кто ты есть на самом деле и кому ты служишь". Тогда он не придал этим словам особого значения. Теперь же задумался: что мог иметь в виду старый нацист? Дикс знал, что до своего прибытия на Остров Веземан служил в ведомстве генерала Гелена, - возможно намек его относился к западно-германской разведке. Нет, конечно же, он не скажет Диксу о разговоре в "башне": достаточно и того, что он "прокрутил" ему запись беседы Левитжера с Куном. У главного корпуса Веземан встретил Мариана Кочубинского. Бывший граф, до синевы выбритый, надушенный и подтянутый, доложил, что ночь прошла спокойно, что братья Аухер и Аарон, ночующие на яхте, еще на берег не сходили, как не выходили и те, кто оставался ночевать в "башне", кроме молодого человека по имени Пьер. Вечером он спрашивал сеньорину Кэтрин, но ее не могли найти, и ему пришлось довольствоваться компанией сеньорины Мануэлы. А утром Пьер вышел из "башни" и заглянул на яхту, откуда вместе с молодой леди вышли на прогулку к лебяжьему озеру. Соответствующие меры по их безопасности он, Кочубинский, принял. Вид у бывшего графа строго официальный, с оттенком подобострастия и преданности. С отбытием на материк Штейнмана в облике Мариана Кочубинского появилось что-то новое, произошло какое-то потепление в глазах, мягче стал голос, поубавилась холодная отчужденность, которая наблюдалась прежде между шефом службы безопасности и начальником охраны. Штейнман, будучи человеком вообще подозрительным, не очень доверял поляку и, несмотря на их давнее знакомство и сотрудничество, был с ним сух, строг и требователен до мелочной придирчивости. Веземан же, напротив, держался с Кочубинским корректно, хотя и не шел на короткое сближение, не желая тем самым досадить Штейнману. Обдумывая план операции. Макс учитывал и Кочубинского, который в равной мере мог быть как его союзником, так и противником. Правда, надежда на союзника была невелика, и Веземан мог довольствоваться "нейтралитетом" бывшего графа, под началом которого находилась реальная сила - два десятка вооруженных людей. Настораживали Веземана полудружеские отношения Кочубинского с Куном, в котором Мариан видел своего земляка и бывшего соседа. Ведь родовое имение Кочубинских было в Беловирском воеводстве, а в самом Беловире, недалеко от улицы Куницкой стоял старинный особняк, принадлежавший дяде Мариана. Но в силу разных причин и обстоятельств за время совместной службы на Острове они так и ни разу не поговорили о далекой Польше и Беловире - похоже, оба опасались, что подобные воспоминания могут случайно задеть нежелательные струны их прошлого. Вообще "островитяне" избегали говорить о своем прошлом, предав его забвению. Выслушав доклад Кочубинского, Макс зашел к себе в кабинет и растворил настежь окно, впустив свежую струю утреннего, еще ненакаленного зноем воздуха, настоенного на ночном аромате. До начала рабочего дня оставалось минут сорок, когда Макс увидел идущую по аллее к главному корпусу Кэтрин. Подождав, когда она подойдет к парадному, он дружески помахал ей рукой в знак приветствия и кивком головы попросил зайти к нему. - Что так рано? - спросил, когда Кэтрин вошла в кабинет. - Я ночь плохо спала, волновалась. - Из-за чего? - Ну, из-за этих… "насекомых". Я боялась: вдруг обнаружат, или… не сработают. - Глаза ее расширились в немом вопросе. Макс ответил: - Все в порядке, спасибо тебе. - Он подошел к радиоприемнику и включил музыку. Затем кивком головы подозвал к приемнику Кэтрин и спросил: - Нравится такая музыка? Вопрос показался Кэтрин странным, каким-то неуместным в данный момент. Она неопределенно пожала плечами. А он, приблизившись к ней вплотную, глухо заговорил ей в лицо: - У меня к тебе есть просьба, очень серьезная просьба: тебе нужно отправиться на материк. С Диксом я договорился. Ты едешь по своим личным делам, свадебные покупки и прочее. Диксу я сказал, что мы с тобой решили пожениться… Не пугайся, это всего лишь предлог для твоей поездки. Я хочу, чтоб ты навестила Педро. - Но ведь он… - Знаю. С материка тебе помогут добраться до Гаваны. Там ты встретишься с ним и задержишься на неопределенное время. Возвращаться на Остров тебе не придется. О твоих родителях я позабочусь. У меня ты оставишь для них письмо, в котором убедительно попросишь их довериться мне и выполнять все мои советы. Письмо это заготовишь сегодня дома и вечером передашь его мне. О времени твоего отъезда и обо всем остальном мы поговорим сегодня вечером. Но ты будь готова. И предупреди родителей о возможной твоей командировке на материк. Командировке, - подчеркнул Макс и прибавил: - Больше сейчас никаких мне вопросов.
Глава седьмая
1
В Подмосковье яркими красками полыхало бабье лето. Дни стояли тихие, солнечные, с легкой вуалью по утрам и вечерам, с печально хлопотными сборами перелетных птиц. В садах сочно нежились краснобокие штрейфлинги и увесистые ядреные антоновки да тучно набрасывались на черноплодную рябину шумные стаи дроздов. Ярко-алую придорожную рябину они пока что не трогали, оставляя ее про запас, поближе к первым заморозкам. Золотисто-багряно цвели перелески и рощи. Изрядно обмелевшая за лето всегда холодная речка Воря по-змеиному тихо скользила меж поредевших зарослей ольхи, ивы и черемухи. У поселка Абрамцево, славу которому создали писатели и художники прошлого и нынешнего веков, она набегала на невысокую плотину, недовольно ворчала и, образовав неширокий поросший травой пруд, скрывалась в прибрежных кустах. Перед самой плотиной Мечислав Слугарев сбавил скорость и спросил сидящего рядом с ним Дениса Морозова. - А мы не рано едем? Я как-то неловко себя чувствую - неудобно появляться в гостях первыми, тем более, не будучи знакомыми с хозяином. - Не волнуйся: мы не будем первыми. Раньше всех придет Пухов, - ответил Денис и добавил: - Я о тебе говорил Ивану Матвеевичу. Он давно хочет с тобой познакомиться. - Почему думаешь, что Пухов придет раньше всех? - Во-первых, потому что его дача там же, в академическом городке, недалеко от дачи Ивана Матвеевича. Можно сказать, сосед. А во-вторых, Пухов везде хочет быть первым. - Но ты ж говорил, что Виноградов терпеть не может Пухова. Мечислав дал газ, и "москвич", миновав плотину, с напряжением пополз в гору. - Ничего не значит. Юлию Григорьевичу известно отношение к нему Ивана Матвеевича. И тем не менее, он придет, заявится без приглашения. На день рождения, говорят, вообще не принято приглашать, кто помнит, уважает, тот придет, поздравит. А Пухов с его характером… Денис не договорил. Впрочем, в этом не было нужды: Мечиславу была известна пуховская бесцеремонность, граничащая с наглостью. На тихой улочке возле ворот дачи академика Виноградова стояли уже две машины: "волга" и "москвич". - А ты боялся, что мы будем первыми, - успокоил Денис Мечислава. Они прошли мимо клумбы с цветами к одноэтажному приземистому домику, очень скромному на вид, расположенному в глубине участка. Возле груды только что наколотых дров стояли несколько человек, и среди них Мечислав узнал - разумеется, по портрету - самого хозяина - бритоголового, скрюченного ревматизмом и потому на вид щупленького низкорослого старика с моложавым безбровым лицом и острыми сверлящими глазами. Денис вручил имениннику деревянного медведя с биноклем, сработанного богородскими умельцами, и представил своего друга Мечислава Слугарева. - Ага, очень хорошо: Денис мне много о вас говорил, - сказал Иван Матвеевич своим мягким и каким-то уж очень простым голосом. И весь он был какой-то земной в своей темно-коричневой рубахе из плотного материала, с расстегнутым воротом, без галстука и без пиджака. Глядя на Виноградова, Мечислав вспомнил рассказ Дениса о том, какой огромной физической силой когда-то обладал Иван Матвеевич, как он однажды, находясь в Лондоне, перед изумленной публикой поднял рояль, - вспомнил и не поверил. Ведь он представлял знаменитого математика этаким богатырем типа Ивана Поддубного. Среди окружавших Ивана Матвеевича гостей было трое знакомых Денису ученых из института имени Стеклова, который возглавлял Виноградов, и столичный поэт, с которым Денис уже однажды встречался здесь, в Абрамцеве, на даче академика. А Пухова не было, и это удивило Дениса. Еще вчера вечером Юлий Григорьевич звонил Денису, напомнил о дне рождения Виноградова и сообщил, что он непременно будет. Свое удивление Денис высказал вслух. - Не придет, прохвост, - сказал Иван Матвеевич с обыкновенной своей прямотой. - На днях мы встретились с ним и повздорили. Он начал хвастаться своими заслугами, мол, и городок этот для академиков он построил и всеми иными благами нас одарил. А дело было так: в конце войны кооператив наш дачный образовался, меня председателем этой артели избрали, его, Пухова, мне в помощники назначили - малый ловкий, вездесущий пройдоха. Он тогда молодой был, нахрапистый деятель, пену взбивать он может, материалы какие нужные из-под земли достанет. У него везде свои дружки-приятели сидят, ты мне - я тебе, этот принцип у них классически отработан. А строили эти дома пленные немцы. Иван Матвеевич кивком голой головы указал на свою дачу и, словно потерял нить разговора, пригласил всех в дом. В большой квадратной комнате с выходом на террасу был накрыт стол человек на десять, когда все расселись, поэт напомнил о немцах, строивших дачу, и Иван Матвеевич, оживившись, продолжал: - Однажды обратились ко мне военнопленные немцы с жалобой на гера Пухова; мол оскорбляет он их. Я говорю: хорошо, разберусь. Встречаю Пухова, говорю, жалуются на вас, Юлий Григорьевич, рабочие, оскорбляете их человеческое достоинство. Так нельзя. И тут мой помощник по кооперативу взвился, как ужаленный. "Их достоинство! У фашистов достоинство! Дайте мне автомат - и я покажу их достоинство!" Я говорю: "Успокойся, любезный, поздно, опоздал ты свой героизм проявлять. Раньше надо было брать в руки автомат, на фронте. А ты, как помнится мне, в Казани всю войну просидел". А он еще пуще нахохлился, как индюк хвост распустил: "У меня, говорит, бронь была", и пошел пену пускать. В это время открылась стеклянная дверь, и в комнату вошла энергично подталкиваемая Пуховым его племянница Маша Валярчук с букетом алых гвоздик и направилась к Ивану Матвеевичу. На пунцовом лице ее играла какая-то неестественная, точно нарисованная улыбка легкого смущения. И тут случилось так, что не без старания Юлия Григорьевича его племянница оказалась между Денисом и Мечиславом, хотя все как будто произошло случайно, само собой, по крайней мере, Денис не нашел в этом ничего преднамеренного. Зато настороженный Мечислав воспринял появление Маши в доме Виноградова и то, что она села между ним и Денисом, поступком заранее продуманным и целенаправленным. Пухова Мечислав видел впервые и обратил внимание на то, как зорко и даже встревоженно, изучающе наблюдает за ним Юлий Григорьевич. Его беспокойный взгляд как бы спрашивает: "А это кто такой, откуда и зачем он рядом с Машей?" Сам Пухов сел по правую руку от Ивана Матвеевича и по обыкновению своему попытался задавать тон, напрашиваясь на роль тамады. Но именинник предложил эту почетную обязанность своему молодому другу, представляющему здесь изящную словесность. Иван Матвеевич любил поэта за остроумие и высоко ценил его поэтический дар. В плане идеологическом они были единомышленниками. Однако Юлий Григорьевич не унимался и сразу же после первого тоста тамады попросил слова. Говорил он весомо и важно, с видом глубокомыслия процитировал не совсем к месту слова Льва Толстого: "Не смотри на ученость, как на корону, чтоб ей любоваться, и как на корову, чтоб ей кормиться. Наука только тогда важное дело, когда она служит истинному благу людей". Сказав о скромности уважаемого именинника, он тут же процитировал Вольтера, заметившего однажды, что постоянная важность всегда считалась маской посредственности. Затем, опять же невпопад, упомянул о репутации и чести ученого, которую, мол, легко запачкать, как хороший костюм, но очистить уже невозможно ни в какой химчистке. Он явно претендовал на остроумие и, замечая ухмылки на лицах присутствующих, решил, что ему это удалось. Но он заблуждался: ухмылялись над ним, а сам Виноградов, как только Пухов закончил свою речь, бросил как бы мимоходом реплику: - Скромность - это парадный мундир лицемерия. - Но ведь бывает ложь во спасение, - нарочито не заметив реплики Виноградова, говорил Пухов своему соседу, известному математику и членкору академии наук. Тот слушал его о добродушной улыбкой и отвечал, поводя широкими плечами: - А чем она отличается от обыкновенной лжи эта ваша ложь во спасение? Услыхав эти слова, Иван Матвеевич упредил ответ Пухова и сказал: - А тем, чем отличается обыкновенный дурак от дипломированного. Все засмеялись, а Пухов, словно возражая Виноградову, сказал: - Так говорится в народе - ложь во спасение. Из песни слов не выкинешь. - Выкидывают, да еще как. Выкидывают и заменяют словами удобными в данный момент, - сказал Иван Матвеевич и попросил поэта прочитать на этот счет стихи. Поэт не дал себя упрашивать и прочитал:
2
Иван Николаевич Слугарев еще раз прочитал запись разговора в "башне", присланную вместе с другими материалами Максом Веземаном. Вчера он докладывал Дмитрию Ивановичу Бойченкову, тот, внимательно ознакомившись с донесением Веземана, попросил сделать еще один экземпляр беседы в "башне" специально для товарища Серого, который всегда с раздражением воспринимал любое сообщение или даже случайное упоминание о деятельности международного сионизма. Может, этот документ откроет глаза Мирону Андреевичу и хоть немного смягчит его неприязнь и недружелюбие к Бойченкову, которого Серый упрекал во вмешательстве в дела, не входящие, по его выражению, "в сферу деятельности органов госбезопасности". "Суете нос не в свое дело", - сказал он однажды Бойченкову с присущей ему желчью и грубостью. Слугарев знал, что под фразой "не свое дело" подразумевалась идеологическая борьба, которая не только никогда не прекращалась, но с каждым годом обострялась. Западные спецслужбы не переставали совершать идеологические диверсии против нашей страны, нацеливаясь главным образом на молодежь, пользуясь ее недостаточной политической зрелостью. Многочисленные примеры и факты, хорошо известные Слугареву, говорили о том, как купленные за доллары так называемые "инакомыслящие" одновременно занимались идеологическими подрывными акциями и обыкновенным шпионажем. Было горько сознавать, что этого не понимает или "из принципа" не желает понимать товарищ Серый, и на этой почве между Мироном Андреевичем и Дмитрием Ивановичем происходят, мягко говоря, недоразумения. Слугарев искренне сочувствовал Бойченкову, взгляды которого он полностью разделял, и, зная самолюбивый, властный до жестокости характер Серого, опасался за служебную карьеру своего начальника. С Бойченковым Слугарева роднила не только общность взглядов, симпатий и антипатии. Они были близки характерами. Как и Дмитрий Иванович, Слугарев обладал неутомимым, страстным темпераментом и неугомонным трудолюбием. Оптимист и жизнелюб, он был тверд в своих убеждениях, не терпел колебаний и компромиссов, никогда не шел на сделку с совестью. Единственное, что отличало его от Бойченкова, так это умение тонко разбираться в людях. Дмитрий Иванович был слишком доверчив и открыт, его увлекающаяся восторженная натура часто не позволяла ему видеть под красивой благопристойной оболочкой подлую душонку. Партизанская жизнь в тылу врага развила у Слугарева проницательность, аналитический рассудок, который позволяет проникать во внутренний мир человека, видеть существо, а не личину. Иван Николаевич особенно чуток был к фальши и демагогии, скрывающей цинизм и лицемерие. В этом отношении его трудно было провести. Тут он проявлял особую нетерпимость. Он считал, что улучшение благосостояния людей, рост материального благополучия отрицательно отразились на психике отдельных лиц, и особенно молодых, кому не довелось испытать на себе тягот военного времени и трудностей первых послевоенных лет. Ему казалось, что нравственные критерии довоенной и первых лет послевоенной поры обесцениваются, что образовался разрыв между словами и поступками должностных лиц, что откровенная демагогия получила что-то вроде гражданства. Начали плодиться карьеристы, приспособленцы, шкурники. Больше всего его беспокоила молодежь, ищущая легкой жизни, пренебрегающая традициями отцов. Он приходил в сильное негодование, сталкиваясь с нигилизмом желторотых юнцов, их черствостью, доходящей до равнодушия и жестокости, бездуховности и идеологической всеядности, чему способствовала практика наведения "идеологических мостов", через которые из-за океана хлынул мутный поток духовного ширпотреба. Заполнявшая эфир и просто атмосферу городов и поселков музыкальная истерия заморского происхождения заглушала все чистое, светлое, народное, и не было уже места для песен отцов и дедов. По этому поводу у Ивана Николаевича возникали споры и с Бойченковым и с Мечиславом, которые не разделяли его точки зрения. Дмитрий Иванович соглашался, что идеологическая ржавчина поразила какую-то часть молодежи, но очень незначительную, и потому обобщения, которые делал Слугарев-старший, ошибочны и необъективны. "Да, сам видел, как в кафе и барах лохматые юнцы посасывают спиртные коктейли, швыряя бармену даром доставшиеся им десятки и четвертные, - говорил Дмитрий Иванович, - видел рядом с ними разнаряженных вульгарных девиц о сигаретой во рту и с осоловелыми бессмысленными глазами. Но это же накипь, отбросы общества. И едва ли они могут оказать какое-то серьезное влияние на трудовую и учащуюся молодежь". Дмитрию Ивановичу вторил и Мечислав. Он соглашался (сам видел и возмущался!), что в некоторых городах так называемые дискотеки превращены в притоны духовного растления, что под видом пропаганды музыки там ведется разнузданная пропаганда антикультуры, вседозволенности и нравственной распущенности. Но ведь не везде же такое. Да и эти дискотеки посещают одни подонки. Рабочая молодежь обходит их стороной. Аргументы Бойченкова и Мечислава не убеждали Ивана Николаевича, и он, оставаясь при своем мнении, искал причину зла. Однажды он прочитал стихотворение Геннадия Серебрякова о современных мальчишках и их сверстниках военной поры. Запомнились последние строфы:
3
Чем ближе подходил день отлета в Гавану, тем сильней волновался Пухов. Тревога, предчувствие недоброго обложили его со всех сторон плотным кольцом, которое сжималось постепенно, и не было силы, чтоб разорвать это роковое кольцо. По ночам оно казалось кошмарным, неотвратимый, как удавка, наброшенная на шею. К своему удивлению, самоуверенный, решительный и смелый, он вдруг превратился в пугливого, суеверного пессимиста. В квартире начала скрипеть дверь, и он с тревогой и досадой подумал: плохая примета. Проходя по улице Горького мимо театра имени Ермоловой, он инстинктивно с потерянной надеждой бросал унылый взгляд на вывеску "Инюрколлегия", чувствуя себя потерянным и обманутым. В Соединенных Штатах проживала богатая и одинокая тетка Юлия Григорьевича. Лет десять тому назад эта родственница, которую Пухов никогда не видел в глаза, отошла в мир иной, и все эти десять лет Пухов ожидал извещения из "Инюрколлегии" по поводу наследства. Навязчивая мысль о солидном наследстве порождала в нем сладкие мечты, рисовала идиллические картины беспечной жизни за океаном, не связанной ежедневной службой ради сытого желудка. Наука ради науки Пухова не интересовала, и занимался он ею лишь постольку, поскольку она давала ему материальные блага. Затеянная авантюра с Денисом, сценарий которой был составлен за океаном, мало того, что была крайне рискованной, но и сомнительной в смысле дальнейшей судьбы. Пухов понимал, что как ученый-специалист он не представляет особой ценности на Западе. Обещаниям Савича, нарисовавшего ему идиллическую картину его будущей жизни, он не очень верил. Атакованный со всех сторон сомнениями, он испытывал чувства неуверенности и страха. В таком душевном состоянии он выходил из дома вместе с Машей и сестрой, чтобы ехать в аэропорт. Дорогу им перешел мужчина с мусорным ведром, и охваченного суеверием и недобрыми предчувствиями Пухова бросило в неприятных холодок. Всю дорогу в машине он угрюмо молчал, на вопросы Маши и Музы Григорьевны, провожавшей их до Шереметьева, отвечал рассеянно и неохотно. Маша летела в роли переводчицы. Она неплохо владела испанским и английским. С Денисом они условились встретиться в аэропорту. Каково же было более чем недоумение Пухова, когда он увидел рядом с Денисом Мечислава. Сначала попытался успокоить себя: мол, Мечислав провожает приятеля. Оказалось, нет, летит вместе с ними в Гавану. Более того, этим же рейсом летит знакомый Мечислава, щупленький юркий кубинец Энрико - так его представил Мечислав, - хорошо говорящий по-русски. Он учился в университете имени Лумумбы, - по словам самого Энрико - и теперь работает по торговой части. Был в командировке в Москве, случайно встретился со своим знакомым Мечиславом. В самолете Пухов, Маша и Денис сидели в одном ряду, Мечислав и Энрико в разных салонах, Юлий Григорьевич не мог скрыть своего волнения: Денис это видел. - А этот юноша, Мечислав, зачем летит? Что ему нужно на Кубе? - влобовую спрашивал Пухов. Лицо и голос его выражали тревогу и раздражение. - У него свои дела, - неопределенно отвечал Денис, пожимая плечами. Но Пухов был настойчив: - Он что, приставлен к нам? Опекать нас или следить? - Не знаю. Меня это мало волнует. - Мало? А все же волнует? - придирчиво приставал Пухов. - Совсем не волнует, - добродушно улыбался Денис. - У нас с вами свои заботы, у него свои. - Какие у него заботы? Он что - из органов? - Спросите его, - все так же уклончиво отвечал Денис. - Ну как же - он ваш приятель. Вы-то знаете. Должны знать. - Я не любопытный, - теперь уже холодно ответил Денис. Допрос Пухова его раздражал. Прибавил: - Да и какая разница? Я знаю, что Мечислав очень честный и порядочный человек. На него можно положиться. Пухов догадывался о роли Мечислава, появление которого осложняло задуманную операцию, - риск был настолько велик, что Юлий Григорьевич начал сомневаться в успехе. Но отступать было поздно: в ирландском аэропорту Шеннон их ждали парни из ЦРУ. Надо было перестраиваться на ходу. Еще в Шереметьево он успел шепнуть Маше, что Мечислава берет на себя, а ей приказал действовать решительно и твердо, без колебаний. Он понимал, что многое будет зависеть от Маши, от того, как сумеет она справиться с возложенными на нее обязанностями. Видел, что она волнуется. - Кубинец хорошо говорит по-русски. Где изучил? - спрашивала Маша Дениса. - Очевидно, у нас учился. - Откуда он знаком с Мечиславом? - это Пухов. В голосе подозрительность и недоверие. - Возможно, вместе учились, - вяло отвечал Денис. - А те двое? Кто они? - Пухов взглядом указал на двух молодых парней, очевидно, кубинских студентов. Денис молча пожал плечами. Через минуту опять вопрос: - Как вы думаете, наш самолет могут угнать? Есть тут охрана? - Возможно. А кто может угнать, куда и зачем? - Преступники. Угоняют же. - Едва ли такое возможно. - Почему? Разве мало случаев? - Самолет международной линии. Тут все пассажиры проверены. Кажется, ответ Дениса успокоил Пухова: он умолк. Как только самолет набрал высоту и пассажиры отстегнули ремни. Маша взяла в плен разговорами Дениса, она щебетала без умолку, обрушивая на него поток заранее приготовленных светских сплетен и международной информации, почерпнутой из зарубежных радиоголосов. Пухов им не мешал: откинувшись на спинку кресла и прикрыв веками глаза, он делал вид, что дремлет. И действительно, к нему подкрадывался тревожный сон. Сказывалась бессонница предыдущей ночи. Мысленно он еще раз продумал весь план намеченной операции, которая должна произойти в аэропорту Шеннон. Международный аэропорт в Ирландии он помнил хорошо, хотя был в нем лишь однажды во время полета в Мексику. Там сменяется экипаж, и пассажиры на целый час оставляют самолет и уходят в зал аэропорта. В зале магазин сувениров и спиртных напитков, бар-кафе и кресла для отдыха. Коротая время, пассажиры толпятся у витрин магазина, присматриваются к ценам, но покупают редко, да и то какие-нибудь дешевенькие безделушки. Иные за стойками бара лениво посасывают сок, другие, усевшись в удобные кресла, смотрят телевизор. Поскольку наш самолет прибывает в Шеннон в полночный час, в это время в зале аэропорта царит вялая полусонная атмосфера. По сценарию операции в зале аэропорта Маша должна постоянно находиться при Денисе, рассматривать сувениры, затем обойти стойки с выставленными винами, коньяками, ликерами и прочими напитками, украшенными броскими этикетками, пройти мимо телевизора к бару - сразу за баром выход на площадь, где их будут ждать две машины. Дениса возьмут силой вместе с Машей дюжие молодчики. Он не успеет опомниться, как окажется в машине, которая увезет его в "неизвестном направлении". Пухов же в это время должен отвлечь Мечислава от Дениса, хотя бы на несколько решающих минут, а затем броситься якобы на помощь Денису, выскочить на площадь, где его будет ожидать вторая машина, и умчаться вслед за первой. Без Мечислава, конечно. В полдень, а то и раньше, они уже будут в Ольстере, где обратятся к английским властям и объявят себя "невозвращенцами". А пока будут идти дипломатические выяснения, для большей надежности они перемахнут через океан. Все очень просто и, как убеждал Пухова Савич, с полной гарантией. Никакой погони от аэропорта за ними не будет, а когда ирландские власти предпримут розыск, они уже пересекут границу Ольстера и окажутся во владениях британской короны. И только один вопрос не был до конца ясен: как поведет себя Денис, насильно оказавшись в руках западной разведки? На этот счет Пухов не дал Савичу никаких гарантий, на что Савич с самоуверенностью циника сказал тогда Пухову: "Заставим. У него не будет выбора". И вот теперь, преодолевая дрему, Юлий Григорьевич пытался себе представить, как "рыцари плаща и шпаги" будут "заставлять" Дениса Морозова совершить предательство. Сперва ему, конечно, пообещают златые горы и все земные блага, которыми располагает страна "свободы и демократии". Когда он отвергнет пряник, ему покажут кнут в виде шантажа и угроз. А если и кнут не поможет, что тогда? Тогда он исчезнет бесследно, его просто убьют, боясь разоблачения. И вот тут-то Пухова атаковала неожиданная мысль в форме страшного вопроса: а что станет с ним и с Машей? Не ждет ли и их трагический конец Дениса? Чем-то леденящим, жутким отозвалась эта мысль в душе Юлия Григорьевича. Хозяева Савича определенно не станут рисковать и постараются избавиться от лишних свидетелей. И никто никогда не разгадает загадку таинственного исчезновения трех граждан СССР. Если до сих пор не найдены подлинные убийцы братьев Кеннеди, то кто станет всерьез заниматься розыском троих пассажиров, бесследно исчезнувших в аэропорту Шеннон? Правительство Ирландии принесет извинения и начнет поиски, следствия. Но все окажется безрезультатным. Самое большее, что можно будет ожидать от следствия, так это то, что в печати промелькнет догадка: следы идут к ЦРУ или "Моссаду". На этом все и кончится. Сонливость, как ветром сдуло. Маша и Денис все еще тихо разговаривали. Пухов напряг слух - было любопытно, о чем они говорят. Понял, что разговор идет о современных танцах, к которым Денис относился резко отрицательно, пожалуй, враждебно. Он не просто не принимал все эти твисты, сопровождая их добродушной иронией, как это делали иные, он буквально негодовал, считал их позорным явлением, одним из признаков морального падения. - В них есть что-то от первобытного человека, необузданное, животное, даже звериное. Когда я смотрю на них, то мне видятся обезьяньи хвосты этих танцоров, - глухо и раздраженно говорил Денис. - Я не могу поверить, чтоб психически нормальный, благородный человек выдрючивался при всем народе по-обезьяньи. - Но танцуют: ученые, инженеры и даже министры, - улыбаясь, говорила Маша. - У них тоже, по-вашему, хвосты? - Поддаются стадному инстинкту, боятся прослыть "несовременными". Вам приходилось видеть в кинохронике танец журавлей? Сколько в нем пластики, грации, изящества. Сама природа заложила в танец красоту, целомудрие, благородство, возвышенное. А что в современных твистах? Массовое, публичное совокупление, извините за прямоту. - Но ведь все зависит от музыки, - сказала Маша. - Ритмическая современная музыка соответствует и таким же движениям в танце. - Вот именно: соответствует. Я не принимаю, не могу принять терминов "современная музыка", "современная живопись". Есть хорошая и плохая музыка, как и живопись. Хорошая она всегда современна. Бетховен современнее Таривердиева. То, что вы называете современной музыкой, лишено главного элемента музыки: мелодичности, лада и строя. Красоты лишено и смысла. Это истерия звуков, которую воспринимают только психически ненормальные, духовно нищие, люди примитивного интеллекта. И вы верно заметили: танцы соответствуют этой, с позволения сказать, музыке. - Но так танцуют сейчас все, - не возразила, а просто напомнила Маша. И то, что она не возражала решительно, то, что она не спорила, удивило Пухова. Но больше всего его поразила агрессивная нетерпимость Дениса. Таким он его не знал. Это было неожиданно для Юлия Григорьевича. Денис Морозов, этот тихоня, которого, казалось, мало интересует все, что выходит за пределы его науки, вдруг выпустил не коготки, а тигриные когти, взорвался. И Пухов решил вклиниться в разговор, просто в силу своего характера, в силу привычки встревать в конфликтные ситуации или, как он выражался, дискуссии. - Вы говорите, танцуют все, - повторил Денис. - Вам так кажется. Далеко не все. Я повторяю: нормальный, уважающий себя и других человек постыдится выйти на арену и изображать из себя похотливую обезьяну. - Это модно, - опять обронила Маша. - Моду эту нам навязали, преднамеренно, запрограммированно. Внедрили в сознание, в душу. Через телевидение, кино, - продолжал Денис по-прежнему раздраженно. - Вы обратили внимание: во всех фильмах, созданных в последние лет пятнадцать, обязательно есть кадр с танцами, именно с этими, что вы называете современными. - Кино воссоздает картины жизни, - заметил Пухов. - В этом суть реализма, самая достоверная правда жизни. - Извините, Юлий Григорьевич, но показывая в каждом фильме обезьяньи танцы, киношники занимаются навязчивой рекламой, пропагандой так называемых современных танцев. Вы обратите внимание - даются в фильмах кадры танцев без всякой сюжетной надобности, их дают именно как рекламу. - Надо смотреть шире, считаться с запросами и вкусами других, - сказал Пухов. - Вам нравится вальс или кадриль, ну и танцуйте себе на здоровье. - Но ведь в тех же ресторанах, клубах, дискотеках ни вальсов, ни кадрилей не исполняют. Как не исполняют и песен - народных, лирических и, если хотите, патриотических, - возразил Денис запальчиво. - Исполнители идут навстречу пожеланиям публики, - сказал Пухов. - По-вашему, кто-то, ну допустим буржуазный Запад, навязывает нам свое искусство - музыку, танцы, живопись, хотя я так не думаю. Но почему же мы должны навязывать той же публике ваш вкус, то, что нравится вам, дорогой Денис Тихонович? Это случайно сорвалось у Пухова, и он пожалел о последних словах: нельзя сейчас противопоставлять себя Денису, раздражать его своим несогласием и вообще возражать. Маша молодец, она правильно, умно ведет себя, старается показать Денису свое единомыслие. И Пухов сказал примирительно и поспешно: - Впрочем, я с вами во многом согласен, вкус надо воспитывать. Вы правы. Денис не ответил. В это время пассажиров попросили пристегнуть ремни. Самолет шел на посадку. Маша достала из сумочки три круглых значка с изображением алой гвоздики на белом фоне и, кокетливо улыбаясь, приколола к левому лацкану пиджака Дениса и Пухова, третий значок приколола себе. Это был условный знак для тех, кто поджидал их в аэропорту Шеннон. Денис же не придал значкам никакого значения: мысли его были заняты предстоящим выступлением на симпозиуме. Замкнутый по натуре, он чурался всяких публичных выступлений, сама аудитория слушателей с десятками устремленных на него, ожидательных взглядов повергала в уныние и растерянность. Тем более что перед иностранцами ему предстояло выступать впервые. Как только вошли в зал аэропорта, Маша подхватила Дениса под руку, как старого приятеля и близкого ей человека, и повела к стендам сувениров. В зале в этот полуночный час, кроме пассажиров с самолета Аэрофлота, было еще около сотни человек, ожидавших своего рейса, - одни из них дремали в креслах, другие просто слонялись между стендами сувениров и спиртных напитков. Маша без умолку щебетала, восторгаясь изящными безделушками, сравнивала цены вин с советскими и вообще во всем ее поведении сквозила повышенная возбужденность. Она сильно сжимала руку Дениса, прислонялась к нему так, что волосы ее касались его лица, и в то же время она успевала посматривать за Пуховым, который оживленно разговаривал с Мечиславом и Энрико. Пока что все шло по плану. Конечно же, Мечислав Слугарев не знал о том, что должно произойти в аэропорту Шеннон, но о возможности подобного он думал, исходя из своего служебного долга. Он имел приказ охранять Дениса Морозова, к которому проявляли особый интерес западные спецслужбы. Еще в Москве, вместе со своим отцом Иваном Николаевичем, они "проработали" различные варианты возможных акций против Дениса со стороны ЦРУ или "Моссада", не исключая попыток его похищения и даже смерти. Иван Николаевич особо обратил внимание сына на Шеннон и даже высказал мнение, что соучастниками вражеских агентов могут быть Пухов и его племянница. То, что этим же рейсом возвращался в Гавану из служебной командировки Энрико, Мечислава радовало. Он посвятил Энрико в свои обязанности, рассчитывая, в случае необходимости, на его содействие, и еще в Шереметьево до прибытия туда Пухова и Маши познакомил его с Денисом. Поэтому в аэропорту Шеннон и Энрико был начеку. Он держался в стороне на каком-то расстоянии от Мечислава, к которому пиявкой присосался Пухов, стараясь отвлечь его от Дениса и Маши, которые, осмотрев выставленные товары, подошли ближе к выходу и остановились у телевизора. Диктор что-то говорил, видно, смешное или забавное, судя по выражению его лица, однако Маша, владеющая, кроме испанского, также и английским, в ответ на вопрос Дениса, что говорит весельчак, имея в виду диктора, небрежно отмахнулась: - Ничего интересного. Пройдемте посмотрим, чем торгуют в кафе. Женское любопытство. - И кокетливо обдала Дениса веселой улыбкой. Денис не испытывал особого желания подходить к стойке кафе, но повисшая на его руке Маша настойчиво потащила его за собой. Двое молодых людей и женщина с распущенными по плечам длинными светлыми волосами лениво пили кофе. Маша и Денис лишь на секунды задержались возле них. - А что там? - спросила Маша, глядя в сторону выхода на площадь и, увлекая Дениса, сделала несколько шагов в сторону выхода, предложив: - Посмотрим. Я любопытная, ты же знаешь. Она впервые назвала его на "ты", и именно это как-то вдруг удивило и насторожило Дениса. В это время в зал аэропорта вошли трое молодых мужчин, направились прямо навстречу Денису и Маше и остановились возле них полукольцом. Один из них, состроив на лице любезную улыбку, сказал на чистом русском языке: - Доктор Денис Морозов, здравствуйте. Добро пожаловать. Рады вас видеть. Я - доктор Лео Дженкинс, а это мои коллеги. Тоже направляемся в Гавану. - И сразу, без всякой паузы, не дав опомниться несколько смущенному Денису, предложил: - У нас еще есть время до отлета. Пройдемте, тут есть уютная комната, поговорим. - Да, пойдемте, еще целых сорок минут до посадки в самолет, - быстро подхватила Маша. Вид всех троих внезапно появившихся "коллег", сама любезность их обезоруживали, но в то же время где-то подспудно в сознании Дениса шевельнулся червячок подозрительности. Настораживало поведение Маши, которая с необъяснимой, непонятной поспешностью и упорством буквально силой вела его сюда и теперь торопливо советовала принять приглашение незнакомых людей. Сложное чувство испытывал в эту минуту Денис: решительно отказаться сразу от приглашения означало бы проявить неучтивость и даже отчужденность. Но с другой стороны, зачем и куда он должен идти? Он вспомнил сразу Пухова. - Да я здесь не один, со мной доктор Пухов. - А-а, доктор Юлий Пухов, - быстро воскликнул обрадованный Дженкинс, устремив в зал острый взгляд. - Где он? Приглашайте и его. В этот самый момент возле них как из-под земли вынырнули Мечислав и Энрико. - Извините, господа, - с преувеличенной поспешностью проговорил Мечислав и, обращаясь к Денису: - Доктора Морозова срочно просит к себе командир авиалайнера. - Подождет командир, - вдруг жестко процедил Дженкинс, и в глазах его сверкнули злобные огоньки. - Доктор Морозов в мире науки звезда первой величины, и никакой командир не смеет ему приказывать. Пойдемте, Денис Тихонович. А вот и доктор Пухов. - Да, конечно, пойдемте, Денис, - сказала Маша и крепко взяла Морозова под руку. - Я повторяю: Денис Тихонович, вас срочно приглашают на борт самолета, - властным голосом сказал Мечислав и ловким движением отстранил от Дениса Машу. - Энрико проводи доктора в самолет. - Что здесь происходит, что случилось? - растерянно пролепетал подошедший Пухов и взял Дениса за руку выше локтя. Одновременно человек, назвавшийся Дженкинсом, крепко сжал другую руку Дениса и сильным толчком попытался оттеснить его к выходу. Денис сразу понял все, что происходит. Он понял это уже тогда, когда Мечислав приказал ему идти в самолет. Теперь, собрав все силы, он рванулся в сторону и освободил руку, которую держал Пухов. Но тут же на него набросились двое других из компании Дженкинса. Мечислав и Энрико поспешили на помощь, применив прием каратэ. Получилась свалка, из которой Денису удалось высвободиться и удалиться в противоположную сторону зала к выходу на самолет. Следом за ним быстро направился Энрико. Дженкинс и его приятели мгновенно исчезли, точно испарились. Вся эта катавасия заняла не более пяти минут. Пухов стоял в растерянности, беспомощно глядя на выход, где скрылись его соучастники. Первое, что дошло до его сознания, было то, что хорошо продуманная акция провалилась, надо было немедленно позаботиться о своей и Машиной судьбе. "Бежать. Не теряя ни секунды, ни полсекунды, бежать", - молнией пронзило мозг. Он кивнул рядом стоящей Маше следовать за ним и бросился к выходу, грубо оттолкнув Мечислава. Но Мечислав быстро преградил путь Маше и приказал: - Идите к нашим пассажирам! На самолет идите! Маша, ошалело глядя по сторонам, побрела в ту часть зала, где толпились пассажиры из советского авиалайнера. Пока Мечислав занимался Машей, Пухов успел выбежать на привокзальную площадь в надежде встретить там тех троих. Площадь была пустынна. На мокром асфальте темнел след автомашины, и Пухов уловил свежий запах выхлопных газов. "Умчались, - сокрушенно подумал Юлий Григорьевич. - Скрылись с поспешностью мафиози. Могли подождать хотя бы минуту. А кого ждать, меня? Я им не нужен. Тем более с ней. Лишняя обуза. Не вышло. Осечка получилась", - рассуждал он, стоя у главного входа в аэропорт. А может это к лучшему. Кто знает о наших намерениях? Ни я, ни Маша ничего такого противозаконного не совершили. Где улики? И он быстро вошел в зал аэропорта. Еще издали увидел Мечислава, одиноко стоявшего у выхода на самолет, и запыхавшись подошел к нему, заговорил, преодолевая волнение: - Вот негодяи, удрали, смылись гангстеры. Сорвалось. - Что сорвалось? - в упор спросил Мечислав. - Как что? - растерянно переспросил Пухов, смущенный неожиданным вопросом Мечислава. Понял, что допустил оплошность. - А из-за чего вся заварушка произошла? - Из-за чего? - все тем же строгим тоном повторил Мечислав, насквозь пронизывая Пухова сверлящим взглядом. - Я не знаю, я подошел, когда все началось. Я ничего не понял: вы, Маша, Денис Тихонович и еще какие-то незнакомые люди. - Так уж незнакомые, - со злой иронией выдавил из себя Мечислав. - Вас-то они сразу признали. - И тут же вопрос: - Вы куда сейчас уходили? Где вы сейчас были? - Я выходил, чтоб позвать полицию. - Зачем? Взгляды их столкнулись: настойчиво жестокий взгляд Мечислава и растерянно смущенный Пухова. Так продолжалось, может, полминуты. Наконец Юлий Григорьевич попытался взять себя в руки, ответил с раздраженным возмущением: - Я не желаю с вами разговаривать. Я вас не знаю и знать не хочу. Кто вы такой, чтоб допрашивать меня?.. Вы ответите за инцидент, который спровоцировали. Да, да, вы спровоцировали, и это вам так не пройдет. Контратака Пухова заставила Мечислава улыбнуться. Он подумал: "Ну и ну: экая самоуверенная наглость. Впрочем, знакомый прием". - Идите в самолет. Вас там ждут, - в суровом голосе Мечислава звучал металл. Пухов с презрением посмотрел на Мечислава: лицо его было пунцовым, как перезревший помидор, большие глаза блестели злобой и отчаянием. Мысль лихорадочно работала над поисками верного безошибочного решения. Он спрашивал самого себя: "А не напрасно ли я вернулся в зал аэропорта? А Маша, что будет с ней? Надо немедленно с ней условиться, какие давать показания на следствии". Слово "следствие" вызвало в нем неприятный холодок. Он демонстративно тряхнул своей крупной головой и, приняв гордый победоносный вид, пошел в самолет.
Глава восьмая
1
Рыбацкая шхуна, как только Эдмон Дюкан ступил на берег Острова, в ту же минуту отчалила и исчезла в ночной мгле. Сделав десяток шагов от воды, Эдмон очутился в густых цветущих зарослях кустарника, закрывавшего листвой звездное небо. Согретая дневным зноем земля дышала благодатным теплом, и ее дыхание успокаивало Эдмона, немного продрогшего на палубе шхуны то ли от свежего морского ветра, то ли от нервного напряжения. Дюкан все еще не смог смириться с тем, что там, на материке, осталась его жена: владелец шхуны категорически отказался взять на свою посудину Алисию под тем предлогом, что присутствие женщины на корабле непременно накличет беду. В своих условиях он был непреклонен, не оставляя выбора, и Эдмон уступил. Твердой уверенности, что это тот самый остров, на котором обосновался разыскиваемый им Хассель-Дикс у него не было, но, одержимый идеей Эдмон не перед чем не останавливался. Он помнил предостережение Ивана Слугарева об опасности, с которой связано его решение проникнуть в лабораторию ученого гитлеровца, но отказаться от своего замысла он не мог, хотя и отдавал себе отчет о возможной цене риска: Пентагон и ЦРУ шутить не любят. В уме он заготовил несколько вариантов легенды. В то же время при нем был французский паспорт, который сам Эдмон считал палкой о двух концах: в сложившихся обстоятельствах он в равной степени мог стать и палочкой-выручалочкой и дамокловым мечом. Когда они подплывали к берегу, вдалеке на Острове летучими светлячками играли электрические огни, но хозяин шхуны, не желая рисковать, предпочел уклониться от них, и высадил Эдмона у противоположного берега. Над краем, где сверкали электрические огоньки, застенчиво серебрился тонкий серп месяца, только что проклюнувшего аспидную, усеянную звездами скорлупу. Эдмон взял его за ориентир. Но густая листва непроницаемым пологом скрывала и молодой месяц и по-южному яркие звезды. Расточаемые кустами тепло и душистый аромат цветов, трескотня цикад и сверкание светлячков создавали атмосферу пустынного уединения и какой-то странной напряженности. С превеликим трудом, заслоняя руками лицо от ветра, Эдмон пробрался сквозь заросли каких-нибудь полусотни метров и понял, что дальше идти ему сейчас невозможно - пока не наступит рассвет. По его расчетам до восхода солнца оставалось час-полтора. Он остановился у крупного дерева и прислонился к его теплому гладкому стволу. Без труда определил, что это магнолия. Легкая усталость и притягательная сила теплой и мягкой почвы под ногами заставили его опуститься на землю. Он сел, прислоняясь к стволу дерева и, под монотонный убаюкивающий треск цикад, неожиданно для себя самого по-детски, безмятежно задремал. Разбудил его резкий нахальный пересвист черных дроздов. Он встрепенулся, изумленно открыл глаза и с досадой осмотрелся, еще не совсем понимая, что с ним и где он находится. Вокруг него в горделивом молчании дышал утренний лес; над головой в широкой и густой кроне магнолии переливчато играли золотисто-розовые утренние лучи. Стряхнув с себя сладкуюнепродолжительную дрему, Эдмон продолжал пробираться вглубь острова и вскоре вышел на едва заметную тропу. Кустарник становился все реже, сменяемый крупно-ствольными великанами камфарного лавра, магнолии, средь которых, как бессменные часовые, маячили королевские пальмы. Молчали цикады, но вместо них в воздухе струилось суетливое струнное звучание насекомых, и со всех сторон, точно настраиваемый оркестр. Неумолчно, на разные лады раздавались задорные восторженные голоса неведомых ему и невидимых птиц. И в этом многоголосии слышалось что-то торжественное, праздничное. Вспомнилось Эдмону, что сегодня воскресенье - конец недели, день отдыха. Мысль эта навевала безмятежное благостное расположение духа, и совсем не хотелось думать о том, ради чего он оказался в этом поистине райском уголке, охваченном безумством, бурлящем в тревожном напряжении земного шара. Лес постепенно редел, расступался, обнажая изумрудные ковры солнечных полян. Но по-прежнему воздух был полон пьянящими ароматами. Идти было легко и приятно, пока не разыгрался знойный день. Доверяя своей интуиции, Эдмон шел в направлении поселка по малохоженной тропе, по которой, как он решил, не часто ступала нога человека. Вдруг сзади него раздался властный оклик по-английски: - Эй, парень, остановись! Из-за куста белого олеандра вышел вразвалку мужчина лет тридцати, одетый в выгоревшие светлые шорты и такого же цвета рубаху с расстегнутым воротом, обнажавшим шею и грудь. Большую круглую голову - футбольный мяч - прикрывала нахлобученная, изрядно помятая панама из легкой ткани. У бедра болтался в полураскрытой кобуре пистолет, а на открытой седовласой груди лежал маленький радиопередатчик, пристегнутый за шею черным ремешком. "Ну вот тебе и воскресенье - день отдыха", - с волнением подумал Эдмон и остановился, с любопытством и дружелюбием поджидая идущего к нему человека. Полуоткрытый улыбающийся рот и веселые, по-детски доверчивые глаза Эдмона выражали не очень естественную, беспричинную радость. Подошедший был широк в кости, с большим мясистым носом и суровым непреклонным выражением грубого бронзового лица. Он окинул Эдмона медленным ленивым взглядом с головы до ног и в ответ на приветствие и дружески протянутую руку Эдмона опять спросил с фамильярным высокомерием: - Кто такой? Как сюда попал? Рука Эдмона безответно повисла в воздухе. - Я - ученый из института этнографии. Зовут меня Эдмон Дюкан. А вы? С кем имею честь? - с неоспоримой учтивостью, мягко, но веско ответил Эдмон и увидел, как из-за того же куста олеандра вышел другой человек в точно такой же одежде и тоже вооруженный пистолетом, но без радиоприемника и, сверкая иссиня-кофейными икрами, энергично приближался к ним. Этот мулат фигурой был мельче своего коллеги, с добродушной располагающей физиономией, на которой ярко сверкали большие глаза с ослепительной синевой белков. Он не проронил ни слова. Очевидно, старшим был первый, который держался довольно воинственно. - Сэр, вы самовольно проникли в частное владение. Здесь запретная зона, и мы должны вас задержать и обыскать, - проговорил мордастый, и толстые губы его чуть тронуло подобие улыбки. - Оружие есть? - и не дожидаясь ответа, ловкими профессиональными движениями рук ощупал Эдмона с ног до головы. Затем, не обращая ни малейшего внимания на протесты Эдмона, он отнял у него фотоаппарат, паспорт и две книги на испанском языке; "Флора и фауна Центральной Америки" и "Племена индейцев Южного полушария". Потом они втроем не спеша побрели по узкой тропе в сторону ранчо, как официально называлась база Левитжера-Дикса. Все попытки Эдмона вступить в разговор со своими конвоирами натыкались на каменную глухоту. И только однажды на вопрос Эдмона: "Куда мы идем?" старший снизошел до краткого ответа: - К хозяину ранчо. Там разберутся. Напрасно Эдмон спрашивал, кто хозяин, как его звать-величать, кто обитатели острова и чем они занимаются, - в ответ было железобетонное равнодушное молчание. Очевидно, парни эти строго придерживались инструкции. Тропа извивалась меж деревьев и кустов пестрым серпантином, и сквозь неумолчный пронзительный гомон и щебет птиц впереди послышался гулкий стук копыт, а через минуту из-за поворота навстречу им мчался на бешеном галопе всадник. По команде старшего они посторонились, но всадник не проскочил мимо, он резко осадил возле них разгоряченную, брызгающую пеной, сверкающую в неистовой ярости горящими глазами лошадь. - Доброе утро, доктор Дикс, - почтительно поприветствовал всадника старший и, как эхо, повторил его коллега: - Доброе утро, доктор. В ответ Дикс еле заметно кивнул головой и устремил вопросительный жесткий взгляд в Эдмона. "Дикс-Хассель, собственной персоной, - сверкнула в сознании Эдмона радостная мысль. - На ловца и зверь бежит". Лицо его счастливо просияло, словно он встретил давнишнего друга. Он даже подался вперед, не сумев совладать с собой, пораженный столь неожиданной встречей. Но лицо Дикса было безучастным, а в его холодном взгляде, в сети морщинок у глаз Эдмон прочитал страшную тоску и обреченность. - Этот человек тайно проник на Остров нынешней ночью, - учтиво доложил мордастый. - Говорит, француз, вот его паспорт и книги. Дикс не проявил интереса ни к паспорту, ни к книгам, - он продолжал сверлить холодными глазами незваного пришельца с материка, пока тот не заговорил сам: - Прошу прощения, доктор, я не знал, что этот остров - частное владение. - Что вам здесь нужно? - резко оборвал его Дикс и скользнул по Эдмону мрачным взглядом. - Видите ли, я этнограф. Меня интересует индейское племя маско-пирус. Наш институт этнографии занимается доколумбовым населением Южной и Центральной Америки. - Кто вас послал? - Собственно, я сам. Я побывал на многих островах Карибского бассейна. Меня интересуют племена индейцев… - Здесь нет индейцев и вам здесь нечего делать. Советую вам убираться отсюда ко всем чертям немедленно. Вы меня поняли? - Голос Дикса звучал пронзительно и бескомпромиссно, но взгляд по-прежнему оставался отчужденно-равнодушным. - Благодарю вас, доктор. Но позвольте мне обратиться к вам, как ученый к ученому? Я прошу вашего содействия в отношении транспорта. - Какого еще транспорта? - недовольно проворчал Дикс. - Чтоб убраться отсюда на материк. - Голос Эдмона робкий, учтивый, хотя и с ироническим оттенком; взгляд доброжелательный, выражающий чувство глубокой тоски и сожаления. - Убирайтесь на том же транспорте, на каком прибыли сюда. Или вы станете уверять, что свалились сюда с неба? - Дикс иронически приподнял бровь и посмотрел на охранников, которые ответили ему одобрительными улыбками. - Я прибыл сюда на рыбацкой шхуне. Но она ушла обратно, - с добродушием наивного простачка ответил Эдмон. Подобный оборот он не предусмотрел и потому испытывал досаду и некоторую растерянность. Лошадь нетерпеливо била копытом сухую землю и мотала головой, словно поторапливала хозяина прекращать разговор, который становился банальным. Лоснящаяся шерсть ее играла переливами. Дикс натянул повод, надменно задрал подбородок и, не взглянув на Эдмона небрежно процедил в сторону конвоиров: - Проводите до мистерии Веземана. Он дал шенкеля, и лошадь с места взяла галоп, как бегун на старте.
2
В это воскресное утро Макс только что возвратился с пляжа, позавтракал и теперь, сидя в мягком глубоком кресле, просматривал вчерашние газеты. В одной из американских газет внимание его привлек заголовок, набранный крупным шрифтом: "УЧЕНЫЕ ПРОТЕСТУЮТ: СВОБОДУ УЗНИКУ СОВЕСТИ ДОКТОРУ ЮЛИЮ ПУХОВУ". Под заголовком помещены фотографии полнолицего самодовольного мужчины и смазливенькой девушки. Текст гласил: "По сообщению из Москвы там арестован правозащитник, всемирно известный ученый Юлий Пухов и его племянница, дочь известного на западе биолога доктора Валярчука, работавшая секретарем-переводчиком у доктора Пухова. Оба они были арестованы агентами КГБ в международном аэропорту Шеннон, когда направлялись на симпозиум в Гавану. Им предъявлено наспех сфабрикованное обвинение в попытке эмигрировать на Запад. Мировая общественность возмущена еще одним фактом грубого нарушения советскими властями прав человека. С требованием немедленного освобождения доктора Пухова и его секретаря-переводчика Марии Валярчук выступили ученые США, в том числе два лауреата Нобелевской премии, а так же Всемирный Еврейский Конгресс и ряд других еврейских организаций". Прием был старый, затасканный, набивший оскомину. Макс знал, что западной пропаганде ничего не стоит любого уголовника или просто подонка окрестить известным ученым, писателем, выдать за "правозащитника" и засорять его именем все терпящий, беззащитный эфир. Мысли его опять обращались к Кэтрин, покинувшей по его совету Остров месяц тому назад. Этот месяц показался Максу бесконечно долгим, каждый день был равен месяцу, ибо каждый день он думал о Кэтрин с никогда прежде не испытываемой нежностью. Особенно были мучительны первые двадцать дней, пока он не получил сообщение о ее благополучном прибытии к месту. Мысль о том, что Кэтрин сейчас в безопасности, успокаивала, и в то же время думы о ней досаждали, размагничивали волю и отвлекали от того главного, чем он сейчас жил, во имя чего находился здесь, на Острове, постоянно, ежеминутно балансируя на острие бритвы. Ведь он отлично понимал, что судьба разведчика зависит не только от него самого, но во многом от связанных с ним по службе коллег, за действия которых он не может поручиться. Ошибка, промах, а то и преднамеренное предательство одного из них может стоить жизни десятку другим, опытным, осмотрительным сотрудникам органов безопасности. Особенно опасны были изменники-перебежчики. В это время по телефону позвонил Мариан Кочубинский. В голосе его слышалась взволнованность, твердая воля и сознание должностного долга. Извинившись за беспокойство в нерабочее время, он доложил, чеканя слова: - Моими людьми задержан нелегально проникший на Остров французский гражданин, некто Эдмон Дюкан. Он выдает себя за ученого из какого-то института. Доктор Дикс, который будучи на конной прогулке, повстречал незваного господина, когда его задержали мои люди, просил передать его вам. Сообщение это Макс воспринял, как удар грома среди ясного неба. А ведь он предполагал возможность появления Эдмона на Острове. Предполагал, ожидал, и тем не менее был крайне поражен. "Безумец, как это не кстати", - мысленно произнес он, а вслух, после некоторой паузы, сказал спокойным ровным голосом: - Хорошо. Проводите его ко мне. Да, да, на квартиру, лично вы. Встретиться на квартире было естественно: в выходные и праздничные дни вход в служебный корпус опечатывали и заходить туда без чрезвычайной нужды не разрешалось. Макс встал и сделал несколько шагов по кабинету, стараясь оправиться от неожиданно упавшего на его плечи нелегкого груза, - нужно было собраться с мыслями. Конечно же Эдмон узнает его, поэтому лучше самому сразу открыться. Он знал прежнего Эдмона Дюкана - пламенного, взрывчатого и бесшабашного, как стихия. Каков он сейчас, как поведет себя, хватит ли у него мудрости и выдержки? Ведь он может, сам того не желая, выдать его. Макса, и провалить тем самым так хорошо годами отработанное дело, сорвать серьезный замысел, подготовленный с такой тщательностью и неимоверными усилиями ума, воли, профессионального опыта. Он попробовал стать на место Эдмона, спрашивая самого себя: "Что подумает Эдмон обо мне в первые минуты встречи? Подумает, что я - перебежчик, что я за одно с Диксом, что я его подручный. Надо как-то сразу дать ему понять, что это не так, что я ему друг, что я не с Диксом и не с янки. Напрямую открыться нельзя, надо намеком, но убедительным, чтоб он мог поверить". А медлить нельзя: с минуты на минуту должен появиться Кочубинский со своим пленником. Макс надел темные очки. Он испытывал все нарастающее чувство волнения и не оттого, что Эдмон может нечаянно рассекретить его с неминуемо трагическими последствиями. Нет, эта мысль вдруг отошла на задний план, уступив место другому чувству, которое возникало из давних лет, из туманных глубин прошедшего, трогательного, как сны детства, и с ней ярким и чудным видением являлся образ красивого юноши с бульваров оккупированного фашистами Парижа - беззаветного в своем мятежном бесстрашии, поэта и воина, овеянного пороховым дымом романтики Эдмона Дюкана - товарища, друга, брата. Как было бы прекрасно встретиться с ним после долгой разлуки на свободной польской земле, где пролито столько крови в битве со злом. Но судьбе было угодно свести их здесь, на кухне дьявола в самое неподходящее время. И вот он - легкий стук в дверь, и напряженный, неестественно голос Макса в ответ: - Да-да, войдите! Первым переступил порог невысокий кругленький человек, одетый в серый потертый костюм и кирпичного цвета берет, с огненным, до боли знакомым взглядом по-детски доверчивых глаз. От этого взгляда Максу сделалось не по себе, что-то вздрогнуло в нем, оборвалось, и он уставился темными очками поверх кирпичного берета на Кочубинского, который с преувеличенным выражением достоинства и долга доложил: - Как было приказано… задержанный Эдмон Дюкан… Вот его документы, книги, фотоаппарат. При нем есть доллары. Оружия ни огнестрельного ни холодного, окромя вот этого перочинного ножика не оказалось. Куда прикажите? - Отнеси в кабинет, - негромко и мрачновато ответил Макс и легким дружеским жестом руки предложил Эдмону следовать за Кочубинским, который неуклюже, двумя руками держал у себя на груди перечисленные им вещи задержанного. Положив все это на журнальный столик, заваленный свежими газетами, только что просмотренными Максом, Кочубинский выпрямился перед своим начальником с преувеличенной собачьей преданностью, ожидая дальнейших указаний. - Вы свободны, Мариан. Будьте у себя, я позову, - сказал Макс и проводил Кочубинского до входной двери. С трудом сдерживая волнение, он возвратился в свой кабинет. Эдмон стоял на прежнем месте в нетерпеливо выжидательной позе. Макс снял очки, положил их на столик рядом с вещами Дюкана и, круто повернувшись к нему, протянул обе руки со словами: - А теперь, когда мы остались одни, здравствуй, Эдмон, здравствуй дорогой мой друг юности. Он обхватил Эдмона двумя руками и прижал к груди, не отпуская и вполголоса говоря: - Безумец, непослушный мальчишка, что ты наделал. Бесшабашная твоя голова. - Говорил и чувствовал, что Эдмон не узнает его, что он растерян и опрокинут. Почти насильно Макс усадил в кресло все еще пребывающего в смятении друга партизанской юности и сел напротив него. С минуту Эдмон молча и с лихорадочным нетерпением всматривался в Макса, напрягая память. Наконец лицо его озарила вспышка удивления и радости, он приоткрыл рот, и, казалось, сейчас из уст его вырвется вулкан восторга, но он лишь полушепотом, все еще сдерживаемый сомнением, выдавил: - Вальтер? - Цысс, - Веземан приложил пальцы к губам и заговорщицки осмотрелся. - Вальтер был там. Здесь Макс Веземан. Прежде всего запомни: мы незнакомы, мы никогда не встречались. Понял? Будь осторожен и выдержан. И помни - я твой друг. - Эдмон точно на иголках заерзал в кресле, сделал попытку встать, хотел что-то сказать, но Макс властным жестом осадил его, продолжая: - У нас мало времени. Слушай меня внимательно и не задавай вопросов. Я знал о твоем намерении попасть сюда, в это змеиное логово, знаю, что тебя здесь интересует. Все это ты получишь в свое время. Но не здесь. Я сам отыщу тебя, сам, понимаешь? Ты поступил очень опрометчиво. - Но ведь доктор Дикс, которого я встретил сегодня, это же Хассель! - сумел-таки вклиниться Эдмон, - тот самый, что в замке графа, под Беловиром… - Да, да, тот самый, - быстро подтвердил Макс, - в замке графа Кочубинского. А человек, который тебя сейчас проводил ко мне - сын графа Мариан Кочубинский. Ты разговаривал с Диксом? - Да, накоротке. Я представился ему ученым, этнографом, интересующимся племенем индейцев маско-пирус. Он не проявил ко мне никакого интереса и посоветовал немедленно убираться отсюда. - На чем? Как ты сюда прибыл? Эдмон не успел ответить: помешал телефонный звонок. Макс взял трубку. Звонил Левитжер. - Мистер Веземан, почему я случайно узнаю о появлении на Острове лазутчика с французским паспортом? Почему не докладываете? - Тон Левитжера недовольный, с нотками раздражения. - Я сейчас выясняю личность задержанного. - Нечего выяснять. Личность известная. - Вы его знаете? - Заочно. Эдмон Дюкан - так мне назвал его Мариан. Я не ошибаюсь? Эдмон Дюкан - журналист. - Он ученый, этнограф, - Макс бросил на Эдмона беспокойный взгляд. - Он такой же этнограф, как я - папа римский. - Левитжер довольно хихикнул собственной плоской остроте, и это еще больше насторожило и озадачило Макса. - Давай его сюда, ко мне в башню, разберемся, - приказным тоном распорядился Левитжер. - Хорошо, - ответил Макс и, положив трубку, с досадой уставился на Эдмона. - Дело принимает скверный оборот. - Это кто? Что он сказал? - лицо Эдмона засветилось любопытством, однако в словах его уже звучали встревоженные нотки. Макс коротко сообщил, "кто есть кто" - о Левитжере, Диксе, Куницком. - Оказывается, босс тебя знает заочно, как журналиста. - Возможно, он читал мои репортажи из Кореи и Вьетнама, - предположил Эдмон. - И уверен, что они не вызвали в нем восторга, - озадаченно проговорил Макс. - Ясно одно - тебе нужно немедленно убираться отсюда. И не вступать с Левитжером ни в какие дискуссии. Извинись, мол забрел сюда случайно, не знал, что частное владение и в том же духе. Помни - Левитжер опасный, коварный враг. А сейчас пойдем, он ждет нас. Левитжер ждал с нетерпением охотника, узнавшего, что нежданный, но очень желанный трофей попал в капкан. Ждал не один, разделить радость удачи он пригласил Куна. Ждали они в обиталище Левитжера в так называемой башне в бильярдной. Так задумал сам босс, уже заранее считавший Эдмона своей жертвой, обреченной самой судьбой. Унижать и оскорблять собеседника, если он по своему положению стоит ступенькой ниже, было одной из черт характера Левитжера. Циник и садист, считающий себя высшим существом, созданным повелевать и властвовать, он исповедовал принцип вседозволенности, на который лишь избранные, ему подобные, имели право претендовать. Он зримо вспомнил визит на Остров яхты "Ноев ковчег" и встречу с высокопоставленными гостями здесь же, в этой башне, вспомнил, с какой злобой говорил старый Аухер об авторе "Черной книги". ("Он еще жив?… А что же ваши, из "Моссада"?") Теперь он уж не упустит возможности порадовать братьев Аухера и Аарона. Еще до встречи с Эдмоном, он уже вынес ему смертный приговор, и теперь торопился обсудить со своим соучастником Куном, какую из смертей избрать для своей жертвы. Кун предложил ту же, что и для Хусто и Штейнмана. Левитжер усомнился. - Вы считаете, что это слишком гуманно в отношении такой мрази, как Дюкан? - спросил Кун в ответ на колебания Левитжера. - Дело не только в этом. Дело в главном: Дюкан не должен возвратиться на материк. Он подохнет здесь. - Хищное лицо Левитжера восторженно пылало, охваченное огнем торжествующего нетерпения. - Он захлебнется в волнах и будет съеден акулами. Когда Макс с Эдмоном зашли в бильярдную, Левитжер, положив левую руку на борт зеленого стола, целился в шар, который он рассчитывал загнать в среднюю лузу, но бить не стал. Он мельком, с деланным равнодушием взглянул на вошедших и молча обошел вокруг стола, примеряя другие шары. Снова склонился над столом, прицеливаясь в угол и, не отрывая глаз от шаров, как бы между прочим, походя, сказал: - Эдмон Дюкан - автор "Черной книги", не так ли? - И ударил по шару. Шары с треском стукнулись и разбежались по зеленому полю. Эдмон молчал. Он все понял - и демонстративно пренебрежительную выходку Левитжера и причину такого отношения: дело было в "Черной книге". Пока Кун выбирал шар для удара, Левитжер, стоя у стола с кием, как часовой на посту с винтовкой, язвительно посмотрел на Эдмона и спросил с вызовом: - Вы не хотите отвечать? А зря. Отвечать приходится - рано или поздно за все содеянное, в том числе и за лживые, оскорбительные книги, оскверняющие прах. Разве Гитлер и его клика думали, что им придется отвечать за шесть миллионов, сожженных в газовых камерах? История ничего не прощает. После удара Куна, Левитжер опять склонился над столом. Молчание Эдмона приводило его в бешенство, руки его дрожали. Удар не получился: пущенный им шар прошел по полю, не задев ни одного шара, но зато гулко ударив по самолюбию игрока. Он теперь понял, что не репортажи Эдмона из Кореи и Вьетнама, а именно "Черная книга" так ненавистна Левитжеру. Он, внимательно наблюдавший за всем этим специально поставленным спектаклем, за тем, как Левитжер исполнял свою заранее отрепетированную роль, ждал от него взрыва бешенства и опасался за Эдмона, зная его искрометный характер, кабы он не "наломал дров" и не навредил делу. Он посмотрел на Эдмона, желая хотя бы взглядом напомнить ему о сдержанности и благоразумии, но лицо Эдмона было спокойным, лишь глаза выдавали глубокую печаль души. Неожиданно он заговорил, не громко, без напряжения, уставившись открытым незащищенным взглядом в Левитжера: - Я с вами согласен, сэр, история не прощает преступлений против человечества, и Гитлер со своей кликой получили то, что заслужили. Приходится лишь сожалеть, что многим преступникам рейха удалось избежать возмездия. Более того, они не раскаялись и до сих пор продолжают свою преступную деятельность, только уже у новых хозяев, которым история так же ничего не простит. Его не перебивали. Когда он умолк, Левитжер положил свой кий на бильярдный стол, дав тем самым понять, что партия прекращена незаконченной, и начинается, а вернее продолжается, иная "игра". Напряженная пауза затянулась. Она не была предусмотренной сценарием и потому неожиданной для Левитжера. Но ею решил воспользоваться Кун, что бы дать своему шефу время на размышление. Он сказал, криво ухмыляясь: - "Черную книгу" мог написать только безнадежный антисемит. - Вы хотели сказать - антисионист, - быстро парировал Эдмон. - Я хотел сказать то, что сказал. Вы матерый расист. - О, нет, вы заблуждаетесь, сэр, - опять ответил Эдмон дружелюбным тоном. - Расисты находятся здесь. Одного я случайно встретил сегодня и хотел бы обратить на него ваше внимание. Макс в порядке предостережения Эдмону издал преднамеренно нетерпеливый вздох, рассчитанный также и на Левитжера, который поспешил удостоить его иронической ухмылкой: он догадался, что француз метит в нацистов Дикса и Веземана (для него Макс был таким же нацистом, как и Дикс). Поинтересовался с наигранным любопытством: - Кого вы имеете в виду? - Так называемого доктора Дикса, настоящее имя которого Хассель. - Вот как? - Левитжер азартно сверкнул хищными глазками. - Вы с ним знакомы, возможно приятели… Я хотел сказать - бывшие. - Мы враги, и бывшие и настоящие, - ответил Эдмон и добавил: - Непримиримые враги. - В словах его звучала глубокая искренность! - Так вы прибыли сюда для свидания с доктором Диксом? - продолжал Левитжер ироническим тоном. - Хотите взять у него интервью? Эдмон ожидал, что его оппоненты хотя бы для приличия поинтересуются прошлым Дикса-Хасселя, но его сообщение не было для них сенсацией, они просто пропустили его мимо ушей. Он вспомнил свою встречу в Гаване с Иваном Слугаревым и его настоятельный совет отказаться от посещения "Острова Дикса", вспомнил просьбу Макса об осторожности и сдержанности, беспокойство которого он правильно понял и, решив внять советам друзей, отвечал Левитжеру вполне миролюбиво, корректно, без вызова: - Прибыл я сюда случайно, вовсе не подозревал, что здесь частное владение Дикса. Да и самого хозяина владения я не ожидал встретить. Все дело случая. Дикса-Хасселя я видел сегодня в первый раз, но о преступлениях его во время войны на территории Польши наслышан. Я ведь сам участвовал в отрядах польского сопротивления. Наш партизанский отряд действовал в той же местности, где размещалась адская лаборатория Хасселя. Там ваш хозяин проводил свои опыты на людях. - Кто командовал вашим отрядом? - стремительно спросил Кун, чтобы увести разговор от Дикса. - Ян Русский. - Так что же вы хотите от нас? - Это Левитжер. - Я был бы вам очень признателен, если б вы помогли мне перебраться на материк. - Как вы думаете, Адам, мы сможем помочь автору "Черной книги"? - с наигранным великодушием и явным подтекстом спросил Левитжер Куна. Тот не совсем понял своего шефа, ответил резко и грубо, с нескрываемой насмешкой: - А разве мы приглашали автора "Черной книги"? Мне кажется, он появился здесь незваным гостем. А как поступают с незваными гостями, знает каждый порядочный человек. - Ну зачем же так? Надо проявить милосердие. - Саркастически улыбнулся Левитжер. Голос у него елейный, слащавый, а в глазах бешеные огоньки ликования. - Перед нами не какой-то смертный, а сам Эдмон Дюкан - автор "Черной книги". Мы доставим вас на материк с комфортом. Я сам, лично, буду вас сопровождать, если не возражаете? Тихая безмятежная грусть запечатлелась на лице Эдмона; он не верил Левитжеру, считал, что он паясничает. Его несколько удивляло каменное молчание Макса, словно все, что здесь происходит, его совершенно не касается. - Возражений не последовало, - продолжил Левитжер после небольшой паузы. - Что ж, значит завтра утром мы отправимся на материк. - Он вскинул резко взгляд на Макса и распорядился: - Приготовьте вертолет. Вылет в десять утра. Со мной полетят знакомые мистера Дюкана Джек и Боб, те самые парни, которые первыми встретили вас, - взгляд на Эдмона, - на Острове. Интервью с доктором Диксом вам придется отложить до лучших времен. Очень сожалею, но доктор Дикс не сможет вас принять. Советую вам встретиться с ним на материке. И опять иронический тон и насмешливые искорки в глазах, за которыми просматривался яд бешеной ненависти. Веземан хорошо знал цинизм, лицемерие и жестокость своего шефа, и то что тот так легко согласился взять с собой на материк Эдмона, настораживало, вызывало тревогу и подозрение. Эдмон хотел сказать, что Дикс его вовсе не интересует, и брать интервью у него он не собирался, но решил благоразумно промолчать. А Левитжер тем временем давал уже последнее распоряжение Максу: - Организуйте нашему гостю ночлег и все прочее в смысле питания. Я думаю, у Мариана найдется для Эдмона Дюкана удобная комната. Впрочем, я с ним об этом переговорил. - И снова пауза и улыбочки иезуита. - Итак, до завтра, мосье Дюкан. Чувство беспомощного гнева клокотало внутри Эдмона, на лице выступили розоватые пятна, он посмотрел в глаза Макса и, прочитав в них призыв к сдержанности, почувствовал явное облегчение. "Переговорил с Марианом, сам, лично. А не значит ли это, что Левитжер не доверяет мне? - размышлял Макс, передавая Эдмона под опеку, а вернее, под стражу Кочубинского. - Свободная комната в доме охранников, конечно, найдется, найдется и пища. Но что из себя представляет "Черная книга"?" Макс надеялся спросить об этом Эдмона в пути от башни до охранников, но когда они вышли от Левитжера, у крыльца башни их уже ждал Кочубинский и тотчас же доложил, кивнув на Эдмона: - У меня для них все готово. - Хорошо. Позаботьтесь, чтоб все было о'кей. Верните мистеру все его вещи. - Он говорил сухим бесстрастным тоном, и эта искусственная холодная отчужденность стоила Максу большого нравственного усилия, внутренней борьбы и нервной напряженности. Он даже не считал себя вправе сказать своему другу "до встречи", или хотя бы одарить дружеской улыбкой, как-то обнадежить, поддержать. Он не хотел рисковать, понимая всю сложность и остроту обстоятельств. После ухода Макса и Эдмона, Левитжер заметался по бильярдной, потирая руки, как игрок, которому вдруг привалил миллион. Всем своим видом он исторгал торжество победителя и яростный восторг. Кун смотрел на него с вопросительным недоумением: ему не совсем понятно было поведение шефа, вдруг круто изменившего тон разговора с Дюканом, смущала не лицемерная слащавость его речи - она была слишком искусственна, чтоб не понять ее подлинного смысла; смущало решение переправить француза на материк, чего, по словам самого же Левитжера, сказанным перед самой встречей с Дюканом, допустить нельзя было ни в коем случае. - Я не очень понимаю вас, шеф, - заговорил Кун, заикаясь. - Вы приняли новое решение и повезете его на материк? - Да будет тебе известно, дорогой Кун, что я побывал во Вьетнаме в группе спецназначения. Допрашивал пленных, разумеется, с пристрастием. Вырвать у вьетконга информацию было необыкновенно трудно. Они принимали неимоверные муки, умирали, но молчали. Но мне иногда удавалось вырвать у них из глотки хоть полдюжины нужных для нас слов. И знаешь, каким способом? Мы поднимали их на вертолетах, привязывали за ноги веревками, спускали вниз головой и спрашивали: "Будешь говорить?" Если он упорствовал, мы отрубали веревку и превращали упрямца в парашютиста без парашюта. - - Левитжер сделал паузу, улыбнулся нахлынувшим на него воспоминаниям, облизал кончиком языка свои тонкие губы и продолжил: - Я сделаю Дюкана парашютистом без парашюта над волнами, доставлю маленькую радость акулам. Понял? Он смотрел на Куна глазами, в которых плясали хищные огоньки нетерпения и восторга. Кун одобрительно сказал: - Гениальный замысел. Потому вы берете Джека и Боба. А они потом не развяжут языки? - Плевать. Я вдолблю в их безмозглые головы, что это был коммунист, русский шпион, тайно пробравшийся на остров с целью диверсии. Кун лишь с льстивым умилением покачал своей лошадиной головой.
3
Возвратясь с прогулки, Дикс прошел к себе в кабинет. Конная прогулка не вывела его из состояния подавленности и отрешенности, в котором он прибывал последние дни. Он слонялся по дому без всякой цели, равнодушный ко всему окружающему, слоняясь лишь потому, что не мог сидеть без дела, а от дел он сам себя отстранил, потеряв к ним интерес с того часа, как он твердо и окончательно решил свести счеты с жизнью И чем ближе подступал тот роковой день и час, который он сам себе назначил, тем острее он ощущал в себе душевный разлад и безысходное, какое-то слякотное, как осенняя изморось, одиночество. Теперь он физически ощущал, как это одиночество, похожее на пиявку, сосет его душу медленно и ненасытно, и понимал, что отбросить эту пиявку он уже не в состоянии. Окружающих, всех этих левитжеров, кунов, кочубинских он не замечал, - в его сознании они были трупами несуществующими и никогда не существовавшими. Он не вступал с ними в разговор, если же они обращались к нему, он отвечал кратко, ледяным тоном, притом с таким мрачным видом, что отбивало всякое желание обращаться к нему. Единственно, для кого в его душе еще оставалось местечко, был Макс Веземан - неразгаданная загадка, разгадывать которую уже не было охоты и смысла. Но в нем теплилось желание встретиться с Максом и говорить, ни о чем, просто болтать на родном языке и слушать родную речь. Эльза была не в счет, ее слова он пропускал мимо ушей, не удосуживаясь вникнуть в их смысл, потому что заранее внушил себе, что слова ее пустые, как шелест пальм. Побродив по дому, он вошел в парк в надежде встретить Макса, для которого у него припасена очень важная просьба. Но он скажет ее не сегодня, а завтра, перед тем как расстанется с ним навсегда. Пусть эта просьба заменит ему прощание. Но это завтра… Макс возвращался из башни в состоянии тревоги за судьбу Эдмона. Он был уверен, что Левитжер затевает какую-то жуткую подлость. В этом не было сомнения, и Макс с лихорадочным напряжением бился над вопросом, как ему помешать. Левитжер опирался на отряд Кочубинского, - графский отпрыск, хотя и держался со своим непосредственным начальником внешне корректно, даже с некоторым подобострастием, которое, впрочем, Макс не принимал всерьез, на самом деле он был предан душой и телом Левитжеру, в руках которого видел реальную силу и власть. Особенно он это почувствовал после отбытия Штейнмана. Чутьем прожженного авантюриста он безошибочно догадывался, что с бывшим его шефом расправился Левитжер, жестоко и бесцеремонно. Так разве можно исключить такую же участь в отношении Веземана, этого интеллигентна, который явно стыдился своего прошлого и старался скрыть его внешними светскими манерами. Особую неприязнь Кочубинского к Веземану вызвал эпизод, когда Макс со всей решительностью защитил одного из охранников - Нормана, к которому Мариан безо всякой причины питал антипатию и неприязнь, придирался по мелочам и открыто травил. Выведенный из себя Норман пожаловался на своего командира Веземану. Тот выслушал его с чувством досады, которое после разговора с Кочубинским, перешло в ярость. Макс резко отчитал начальника охраны и пригрозил принять в отношении Кочубинского самые крайние меры, если случай неприязни к Норману повторится. Кочубинский затаил обиду, но оставил охранника в покое, решив, что Норман служит "осведомителем" у Веземана, что было истинной правдой. Зато Норман после этого случая проникся душевной симпатией к Веземану, который мог теперь на него положиться. Итак, кроме Нормана, да еще моториста шхуны Фернандо, у Макса не было более или менее надежных людей, не считая, конечно, Кэтрин и ее родителей. Макс шел к себе домой в глубокой задумчивости, когда его уже у самого дома окликнул Дикс. Макс остановился. Дикс шел к нему неторопливой усталой походкой сутулого человека, которого давит тяжесть прожитых лет. Макс заметил эту сутулость впервые, - заметил или обратил внимание? - спросил он самого себя и ответил: - именно заметил, прежде Дикс всегда держался прямо и в этом отношении следил за собой. - От фрейлин Кэтрин никаких вестей? - Дикс задал свой ставший уже традиционным вопрос. Макс знал, что спрашивает он для приличия, по привычке, что на самом деле затянувшаяся поездка Кэт его не интересует. - К сожалению, ничего решительно. Я уже волнуюсь: не случилось ли чего-нибудь. - Сегодня солдаты задержали пришельца из Франции, разыскивающего на нашем острове какое-то племя индейцев. Назвался этнографом. - Да, я знаю, - быстро отозвался Макс. - Он попал к нам по ошибке и завтра Левитжер отвезет его на материк. - Лично сам? - По лицу Дикса скользнула тень оживления и любопытства. - Да, лично сам. Приказал подготовить вертолет к десяти утра. Дикс уставился на Макса одеревенелым взглядом. Сухие губы его плотно сжались. Казалось, в мозгу его застрял какой-то загадочный вопрос, на который он не в силах найти ответ. - И что же, лично сам полетит? - удостоверился Дикс. - Почему такая честь? Он что, знакомый его или друг? - Напротив, по-моему недруг. Он автор какой-то "Черной книги", которая, как я понял, Левитжером и компанией предана анафеме вместе с ее автором. - Гым, - промычал Дикс и, дотронувшись до локтя Макса, предложил пройтись. - Что за книга, о чем она? Об индейцах? - Не знаю. - Что ж не поинтересовался у автора? - Не было подходящего момента, - уклончиво ответил Макс. Дикс промолчал. По лицу его было видно, что он уже потерял интерес к задержанному французу и его книге. Мысль его вернулась к тому главному и единственному, что заполняло все его существо, что должно произойти завтра. - Послушайте, Макс, а вы бы не могли завтра полететь вместо Левитжера. Уговорите его под каким-нибудь внушительным предлогом. - Совершенно исключено, меня он не послушается, скорее поступит наоборот. А вот если вы бы… Высказанная мысль вдохновила Макса, в ней он увидел светлый лучик в судьбе Эдмона. В то же время в душу его вкрадывалось сомнение; не поддастся Левитжер на просьбу Дикса. Он вспомнил, с какой хищной яростью и торжеством объявил Левитжер о своем решении лично сопроводить Дюкана на материк. За всем этим несомненно кроется какой-то дьявольский замысел, и Левитжер ни за что не откажется от него. Но почему Дикс не хочет, чтоб завтра улетал Левитжер? - подумал Макс и спросил напрямую: - А почему вы не хотите, чтоб француза сопровождал Левитжер? Дикс заговорил не сразу. Погруженный в свои думы, он будто не расслышал или не понял вопроса. Печальная улыбка запряталась в уголках его пересохших губ, и Макс решил, что Дикс не хочет отвечать на его вопрос. - Дело в том, что… да… - Дикс круто оборвал себя на полуслове и лицо его приняло сумрачное выражение. В нем чувствовалась какая-то неопределенная напряженность. - У меня к вам будет просьба. - Пожалуйста, доктор, я слушаю, ~ в голосе Макса звучало неподдельное дружелюбие. - Я сказал: "будет". Завтра, - с некоторым раздражением ответил Дикс, и отрешенный взгляд его уходил в пустоту, в пространство. - Завтра поговорим. До свидания. - Внезапно оборвав разговор, Дикс круто повернулся и все так же необычно для себя самого, сутулясь, направился к своему дому, оставив Макса в недоумении. Выдержки и хладнокровия Максу Веземану не занимать, каждый свой шаг он тщательно обдумывал и взвешивал обладая мгновенной реакцией на всевозможные перемены в обстановке. Не так просто было застать его врасплох, и все же то, что произошло в этот воскресный день, вызвало в нем некоторое замешательство. Как-то уж очень неожиданно и, главное, сразу обрушился на него каскад сплошных, совсем не схожих задач, требующих безотлагательного решения. Среди этих задач на первом месте стояла судьба Эдмона Дюкана. В том, что против него Левитжер затевает нечто трагическое, у Макса не оставалось сомнений, - но отсюда возникал вопрос: как помешать Левитжеру совершить задуманное? Высказанная Диксом мысль о том, чтоб вместо Левитжера сопровождал Эдмона на материк Веземан была неожиданной, идеальной, но совершенно не реальной, нечто из области счастливых надежд. Он знал осторожный, мнительный и крайне противоречивый характер Левитжера, прошедшего школу ЦРУ, и потому не питал особых иллюзий на тот счет, если Дикс попытается под каким-нибудь, пусть даже веским предлогом помешать Левитжеру лично проводить француза на материк. И тут же возникал второй не менее значительный вопрос: почему Дикс хочет, чтоб вместо Левитжера сопровождал Эдмона лично Макс, а не кто-нибудь другой пониже рангом? И нужно ли вообще это "сопровождение"? Что за этим кроется? Нет ли здесь связи с просьбой Дикса, которую он обещал изложить только завтра? Какая разница, сегодня или завтра? Но Дикс видит разницу, и она, должно быть, существенна. Макс убедился, - теперь у него уже не было ни малейших сомнений, - что Дикс что-то затевает. Но что именно? Так в сознании Макса громоздились друг на друга вопросы, на которые необходимо найти точные ответы, и чем скорей, тем лучше. Однако мысли его снова возвращались к главному, к задаче номер один: как и чем помочь Дюкану? Прежде всего надо с ним встретиться с глазу на глаз, напомнить о "Черной книге", ибо, как полагал Макс, она стала для Левитжера и Куна камнем преткновения. Он попытался выдвинуть несколько гипотез о том, что может сделать Левитжер с Эдмоном, и в каждой из этих гипотез на карту ставилась жизнь Дюкана - передадут ли его в руки ЦРУ или расправятся с ним сами: не зря же он берет с собой Джека и Боба, зачем-то они ему нужны? А что если вместо Джека послать Нормана с определенной целью - помешать расправе над Эдмоном? Левитжер назвал конкретные имена: Джек и Боб, и на замену, под каким бы благовидным предлогом она ни была, он ни за что не согласится. Это лишь вызовет его подозрение. Итак, Эдмон остается беззащитным. Щемящее чувство сострадания и жалости всколыхнуло душу, подступило к горлу, и какой-то внутренний голос настойчиво и торопливо требовал: " Ищи выход, друг беззащитен и безоружен". - Безоружен, - мысленно, как эхо, повторил Макс, и в тот же миг его осенило: оружие! Дюкан должен иметь оружие. Хотя бы пистолет. Из коллекции оружия, которой располагает Макс, ему вспомнился маленький пистолет двадцать второго калибра. Очень удобный в схватке на близком расстоянии. И к нему же патроны с отравленными пулями. Смерть неминуема, стоит только попасть в цель. Да, только так, пистолет, - это самое реальное, что в данных условиях может он сделать для Эдмона. Он быстро зашагал домой, подгоняемый внезапно возникшей идеей. Пистолеты самых различных систем и образцов хранились у него в отдельном ящике письменного стола. Тот, который он решил передать Эдмону, серебристый, портативный, имел те преимущества, что его можно было незаметно упрятать в любом кармане. Макс надел резиновые перчатки, достал пистолет и тщательно стер с его поверхности отпечатки своих пальцев. Затем зарядил обойму патронами с отравленными пулями, завернул пистолет в носовой платок и положил себе в карман брюк. Что-то подталкивало его пойти сейчас к Дюкану, не дожидаясь вечера, как он решил перед этим. В то же время другой внутренний голос удерживал его, советовал не спешить, подумать. "Допустим я передам сейчас Эдмону пистолет, - размышлял он. - Зачем он ему именно сейчас? Сегодня Эдмону, кажется, ничто не грозит. Однако, имея оружие, эмоциональный, вспыльчивый Дюкан в состоянии экспрессии может им воспользоваться совершенно без надобности и тем самым непоправимо повредит себе и выдаст меня. Ведь ясно же, что начнут выяснять, как у задержанного оказался пистолет. Подозрение естественно падет на меня, поскольку я навещал его последним". Итак, благоразумие взяло верх, и он решил встретиться с Эдмоном только завтра утром и тогда же передать ему пистолет. Эдмон ждал встречи с Максом именно в этот день. Его поместили в так называемой комнате отдыха, где в свободное от службы время люди Мариана Кочубинского проводили свой досуг, главным образом играли в карты, рассказывали старые полузабытые анекдоты, были и небылицы, изнывали от жары, безделья и тоски. Случай с Дюканом был единственным за последние годы, когда, проявив бдительность, охранники пресекли проникновение на Остров постороннего человека. Поскольку Кочубинский не присутствовал в башне при разговоре Левитжера с Дюканом, он не мог знать настоящего отношения к незваному пришельцу со стороны хозяев Острова и потому держался с французом корректно, даже с подчеркнутым гостеприимством, поскольку узнал от самого Дюкана, что завтра его будет сопровождать на материк сам шеф. Дюкан сделал попытку разговориться с Кочубинским и узнать от него кое-что, но тот предпочитал слушать магнолии и решительно уклонялся от диалогов. У Эдмона было достаточно времени - почти целые сутки - чтоб проанализировать сложившуюся обстановку и поразмыслить над фактами, с которыми он столкнулся в первые часы своего появления наОстрове. Его в какой-то мере даже радовало, что он попал именно туда, куда стремился, что встретил здесь человека, которого искал - Дикса-Хасселя. Подлинную радость он испытывал от неожиданной встречи с Максом-Вальтером, о судьбе которого он ничего не знал со времени окончания их партизанской Одиссеи, и сейчас его больше всего занимали мысли о своем партизанском друге, - даже Дикс отступал на второй план. Встреча с Диксом, а затем с Максом-Вальтером, в первое время вызвала в нем чувство подъема и возбуждения. Теперь же на смену ему пришло уныние и разочарование. День угасал, а Макс не появлялся. Чем объяснить? И вообще, как и почему здесь оказался Макс, какова его роль? Назвался другом, предупредил об опасности, обещал помочь, более того - знал заранее о возможном моем появлении на Острове. Каким образом? Вопросы плыли друг за другом, вперемешку с сомнениями, их очертания были расплывчатыми, туманными. Не верить Максу, не доверять, у него не было оснований: он знал его по партизанскому отряду, как ярого антифашиста, человека железного мужества и храбрости. А сомнение подползает исподтишка: а если переметнулся, изменил? Разве не случалось такого в послевоенные годы? Сколько угодно. Эдмон решительно отталкивает от себя такие мысли: Макс не способен на предательство. Тогда почему же такой холод и безучастие видел он на лице Макса в бильярдной? Возможно, конспирация. Ведь он обещал дать Эдмону полную информацию об Острове Дикса, сказал, что сам разыщет его. Конечно, Макс располагает полными сведениями. Но почему такая ненависть - под личиной слишком нарочитой любезности - к автору "Черной книги"? Впрочем, ясно: оба игрока в бильярд - сионисты. Макс предупреждал - они враги опасные и коварные. Надо Максу оставить адрес Алисии. Где она сейчас? Волнуется. Не предприняла бы попытки пробраться сюда, в "змеиное логово", как назвал Макс этот остров. Она-то уж не станет играть роль невинного этнографа, забредшего на остров случайно. Да из его игры ничего не вышло: "Черная книга" и ее автор давно были известны хозяевам Острова, которые, надо полагать, догадываются о действительной цели Эдмона. Время тянулось долго, монотонно, Макс не появлялся, а вопросы все плыли бесконечной чередой, как разорванные облака в ненастье. Он думал: правильно ли вел себя в бильярдной, не уронил ли свое достоинство в разговоре с надменными и самоуверенными господами, не отвечая на их оскорбительные выпады? Но ведь так ему советовал Макс, просил, и Эдмон на этот раз внял совету, а советами Слугарева пренебрег. Образ Ивана Слугарева теперь все отчетливей возникал перед ним. Вспомнились слова Макса в его квартире: "безумец, непослушный мальчишка", и еще: "Я знал о твоем намерении попасть сюда… знаю, что тебя интересует… Ты поступил опрометчиво". Тогда он как-то не придал значения этим словам, их заслонило и вытеснило другое, более важное и конкретное. Теперь же он находил в них что-то значительное, тайное, наполненное большим содержанием. В них крылись ответы на многие наседавшие на него вопросы. О его намерении попасть на Остров Дикса знали кубинские друзья и Слугарев. Именно Иван Слугарев не советовал ему пробираться на Остров Дикса, предостерегал от ЦРУ. "Кто же, в таком случае, предупреждал Макса о возможном появлении меня на Острове - кубинцы или Слугарев? Но это уже не имело значения - важно, что предупреждали друзья. Значит, Макс мне друг, и не может быть на этот счет никаких сомнений. На него можно и нужно положиться". От такой мысли он почувствовал явное облегчение.
4
В последнее время Дикс страдал изнуряющей бессонницей. Снотворные уже не помогали: обычно на другой день его одолевали головные боли и сонливость. Он продолжал ходить на службу по инерции, но практически уже многие месяцы ничего не делал - просто присутствовал. Он понимал, что так долго продолжаться не может: однажды Левитжер объявит ему отставку, и тогда он лишится возможности совершить задуманное, то, что сейчас для него составляло цель жизни. Теперь, когда все было готово, откладывать час икс не было смысла, да и не хотелось рисковать: по поведению Левитжера, а особенно Куна, он догадывался, что судьба его решена, и они уже смотрят на него, как на покойника. Значит завтра, в понедельник, и ни днем позже. Чувство досады и глубокого огорчения породило в нем известие о том, что Левитжер завтра утром неожиданно отбывает на материк. Он всегда уезжал неожиданно, не считая нужным заранее извещать об этом Дикса, но прежде его совсем не интересовало, когда, куда и зачем Левитжер уезжает. Разумеется, Дикс предпочел бы, чтоб шеф, покинув однажды Остров, совсем не возвращался. Но, увы! - одного желания было недостаточно. Однако отсутствие Левитжера в понедельник не заставило Дикса переносить задуманное на другой день или вносить какие-то поправки в план его замысла. А может и лучше, что не будет шефа, в отсутствие которого хозяином Острова оставался Дикс. Мысль эта показалась ему даже утешительной. Для Дикса, впрочем, как и для Дюкана, этот воскресный день тянулся бесконечно долго. Послеполуденный сон на этот раз был непродолжительным и не принес ему облегчения. По-прежнему одолевали головные боли и навязчивые беспокойные мысли о том, все ли он предусмотрел на завтра и не помешает ли ему какая-нибудь неожиданность, которую невозможно заранее предусмотреть. Вот ведь не думал он о внезапном отъезде Левитжера. Он попросил Эльзу принести ему пива. Эльза вошла осторожно с подносом в руках, на котором стояли две банки и хрустальная вазочка с солеными орехами арахиса. Все это она бессловесно поставила на журнальный столик, за которым в глубоком кресле понуро сидел Дикс, уставившись в одну точку отсутствующим неподвижным взглядом. В последние дни они не разговаривали; Дикс недовольным ворчанием пресекал все ее благие попытки заглянуть к нему в душу, и она внешне смирилась, хотя тревога за физическое, духовное, да и психическое состояние своего хозяина ее не оставляла. И вот теперь, поставив поднос на столик, Эльза повернулась к двери чтобы выйти, как раздался какой-то натянутый, непривычный для слуха голос Дикса: - Эльза… Она даже вздрогнула от неожиданности и робко обернулась. На удивленном лице ее застыл немой вопрос. Дикс смотрел ей прямо в глаза, и во взгляде его она прочла снисходительное добродушие. - Я хотел тебе сказать, Эльза, - начал он медленно и негромко, как бы взвешивая каждое слово, - я хотел поблагодарить тебя за все хорошее, что ты сделала для меня. - Он помолчал, и она увидела, как дрожат его усохшие, подернутые рыжими пятнами руки. - Скажи, Эльза, у тебя никогда не было желания вернуться в Германию? В конце жизненного пути человека тянет на родину. Слова благодарности, которые она услышала от него впервые, а так же неожиданный вопрос о родине, привели ее в некоторое замешательство. С недоумением она смотрела на него, не находя в ответ нужных слов, а он, будто и не нуждался в ее словах, продолжал свою, как показалось Эльзе, странную речь: - Остров, на котором мы обитаем, создан не для жизни. Это остров смерти. А умирать лучше на родине. Мой совет тебе - уезжай отсюда, поезжай на родину, к могилам предков. Доверь себя Максу, у него светлая голова. Последние слова его озадачили Эльзу, сбили с толку, и она подумала определенно: свихнулся, не иначе как лишился рассудка. И она, чтобы только не раздражать его, не привести в состояние гнева, что не редко случалось в последние дни, заговорила, с легким укором, покачивая головой: - Пока жив, надо о жизни думать. А пошлет смерть Господь, тогда уже не думать надо, а помирать. Всему свое время - и жизни и смерти. Все в свой час, как Богу угодно, Бог дал, Бог и взял. - Нет, Эльза, меня Бог не возьмет, не примет, - с внешним безразличием отозвался он. - А ты покайся, попроси прощения, Господь милостив. Но он уже не слушал ее, она об этом поняла по его отсутствующему взгляду; его лицо ей показалось зловещим, сухие губы слегка шевелились, словно он мысленно разговаривал сам с собой и затем помимо своего желания, он произнес вслух: - Жизнь прожита одиноко и бессмысленно. И точно испугавшись нечаянно выраженной вслух тайной мысли, которую он никому не мог доверить, он посмотрел на Эльзу свирепым взглядом и жестом руки велел ей удалиться. Когда она бесшумно закрыла за собой дверь, он, опять же вслух, но уже твердо, повторил: - Одиноко и бессмысленно. - И прислушался к своему голосу, будто хотел убедиться в его реальности. Вечером, по своему обыкновению, он сидел на балконе и, жуя погасшую сигару, наблюдал закат солнца. Ему всегда нравилось в эти короткие минуты смотреть на красоту мироздания, - но на этот раз, или только ему казалось, закат предстал перед ним в еще небывалом величии и невиданной красоте. Угрюмая темно-синяя глыба тучи, невесть откуда появившаяся, наползла на солнце и придавила его своей тяжестью. Предвечернее, утомленное за день светило напоминало золотую рыбку, попавшую в сеть; собрав последние силы, оно пыталось разорвать сети, вонзая свои раскаленные мечи в вязкую утробу тучи. Мечи эти протыкали ее насквозь и исчезали в морской пучине. А на туче то там, то сям, появлялись кровоточащие рваные раны, но ненадолго: какая-то невидимая рука быстро накладывала на раны пластыри из дымчатых облаков, и от этой величественной нерукотворной картины что-то заныло острой, тоскливой болью в душе Дикса, охваченной ощущением чего-то гнетущего и навсегда уходящего. Он погрузился в грустные и тягостные размышления: "Это мой последний закат. Нет, конечно, закаты будут и будет море, и магнолии с пальмами, и олеандры будут цвести, только не для меня… Закаты будут и восходы, а вот магнолий и олеандров может не быть, если земля превратится в пустыню. Тогда и закатов не будет, потому что некому будет ими любоваться. Красота без человека ничего не стоит. Без человека нет красоты, ибо я ее создаю в своем воображении. Нет меня - и ничего нет. И, возможно, не было, возможно старина Гегель был прав". Мысли его путались и притупились. Он смотрел на море в некотором оцепенении; чувство своей ничтожности и беспомощности перед величием и тайнами природы порождало в нем жалость к самому себе. Он прошел в кабинет, и взгляд его остановился на пузатом коричневом портфеле, громоздившемся на диване. Там был собран весь его личный архив - фотографии жены и детей, письма и прочие реликвии памяти сердца, как самое трогательное и дорогое, что связывает с прошлым. "Не забыть бы завтра", - напомнил он самому себе; склероз все чаще давал о себе знать. Перед сном он принял снотворное, без которого уже не обходился и, погрузившись в состояние блаженства и покоя, как человек, ушедший от забот и мирской суеты, уснул. Но сон продолжался недолго. В полночь он проснулся от своего же голоса, в холодном поту, - ему снились кошмары, преследовавшие его и, беспомощно отбиваясь от них, он закричал. Еще не освободившись от сна, окутанный пеленой туманной полудремы, босиком, шаткой походкой, он прошелся по мягкому ковру и, как лунатик, слоняясь по комнатам, наконец опустился в кресло. Он не находил себе места и физически чувствовал себя потерянным, никому не нужным и чужим среди людей, которых он презирал. Тогда, вспомнив недавний совет Эльзы, он в мыслях обратился к Богу. Полусонно и безголосо он шептал слова кающегося грешника: "Господи, услышь меня, заблудшего раба твоего. К тебе обращен мой голос, всевидящий и всесущный владыка. Не о прощении молю тебя, ибо знаю, что нет мне прощения за грехи мои тяжкие перед тобой и перед людьми. Молю тебя о спасении рода людского от исчадия адова, явившегося на землю во плоти Левитжера. Потомки хулителей и палачей твоих, замыслившие превратить половину человечества в рабов, а другую половину непокорных предать смерти мучительной, ныне подошли к порогу торжества своего дьявольского замысла. Всемогущий владыка! Я, великий грешник, припадаю к стопам твоим и слезно прошу: останови занесенный над чадами твоими адский топор вселенских преступников, спаси и помилуй род людской и покарай праведной карой человекоподобных двуногих зверей, воровски присвоивших себе титул твоих избранников…" Пока он шептал свою молитву, сон совершенно улетучился, мысли обрели реальность, и он понял всю нелепость, фарисейство и лицемерие подобной исповеди, в которой он, как закоренелый ханжа, ни единым словом не был искренен даже перед Богом, в которого не верил, но к которому, преследуемый непонятным страхом, инстинктивно обратил свой взор перед тем, как сделать последний шаг в небытие. Сознание своего ханжества вызвало в нем не стыд, не угрызения совести, с которой он никогда не жил в ладах, а чувство раздражения и досады.
5
Для Макса эта ночь была тоже тревожной. Понедельник обещал быть не просто тяжелым, а зловещим, со многими таинственными загадками, и среди них на первом месте маячила судьба Эдмона, которому, по убеждению Макса, грозила серьезная опасность. Из всех вариантов, которые перебрал в уме Макс, наиболее реальным и обнадеживающим оставался прежний - вручить Эдмону пистолет. Проснулся Макс раньше обычного с ощущением какой-то давящей на все тело и мозг тяжести, словно он только что совершил многокилометровый переход по трудно проходимой местности. Проделав, как всегда, несколько упражнений утренней физзарядки, он схватил полотенце и трусцой побежал на пляж, надеясь сбросить в море неприятную тяжесть. Море дремало в глубоком штиле. Казалось, оно затянуто огромным многокрасочным покрывалом из шелка и атласа, под которым сладко нежилось в утренней истоме под еще не жаркими лучами молодого солнца. Макс с разбега сильным броском прорвал этот дивный покров, сразу же ощутив всем телом бодрящую свежесть. Сделав всего лишь один, да и то недалекий заплыв, он поспешил к дому, чтоб сразу же пойти на встречу к Эдмону. Было всего только восемь часов, но недалеко от своего дома он встретил, непривычно для такого раннего часа, Дикса, который, как догадался Макс, намеренно поджидал его. Во всем его облике чувствовалось какое-то напряжение. Покрасневшие от бессонницы глаза, осунувшееся лицо, нетвердая походка - все это бросалось в глаза, и Макс приготовился к серьезному разговору и просьбе, о которой Дикс случайно намекнул вчера. - Что-то вы рано, доктор, сегодня, - поздоровавшись, сказал Макс. - Да ведь и вы - тоже, - парировал Дикс и, взяв Макса под руку, предложил ему маленькую прогулку. Макс приготовился слушать и молчал. Дикс медлил, как бы затрудняясь, с чего начать. Макс терпеливо ждал. Наконец Дикс заговорил глуховатым, каким-то не своим, изменившимся голосом: - Если я не ошибаюсь, у нас с вами сложились добрые отношения, или, говоря языком дипломатов, взаимопонимания и доверия. Не так ли? Он остановился, отпустил локоть Макса и посмотрел ему в глаза испытующе, как смотрят, когда хотят по глазам собеседника отличить правду от фальши. - Совершенно верно, доктор, вашим доверием я очень дорожу и стараюсь оправдать его. - И я ценю вашу искренность и симпатию к моей особе, - глухой скороговоркой промычал Дикс и медленно зашагал дальше, глядя под ноги и увлекая за собой Макса. - Так вот о просьбе… Видите ли, Макс, какое дело. Сегодня я буду проводить эксперимент… Чрезвычайно сложный и опасный. Есть риск, серьезный риск… В связи с этим я прошу вас оказать мне маленькую услугу, совершенно пустячную для вас и важную для меня. - Говорил он с большими паузами, чтобы придать своим словам весомость и значимость, и, наконец, перед тем как высказать конкретно свою просьбу он опять остановился и на минуту умолк. Макс настороженно молчал. - Я прошу вас, после отбытия с Острова Левитжера не заходить в административный корпус в течение ну, скажем, двух часов. - Он помолчал и затем, мельком взглянув на Макса, прибавил: - В целях вашей безопасности. - А стоит ли вам рисковать? - Пожалуйста, Макс, не надо вопросов. Сделайте, как я прошу. - Голос его звучал пронзительно. Он остановился. Лицо его выражало страдание и печаль, а глаза сделались темными и холодными. Макса осенила мысль: нельзя ли под предлогом эксперимента задержать Левитжера на Острове, а Эдмона отправить с кем-нибудь другим, с тем же Кочубинским, что ли? Очень мягко он спросил: - Извините, доктор, если я правильно вас понял, эксперимент будет проведен в отсутствии Левитжера? - Да, - тихо обронил Дикс. - Об этом знаете только вы и больше никто. Прошу это иметь в виду. Никто кроме нас двоих. - Хорошо, я вас понял и обещаю исполнить вашу просьбу. - Вот и отлично. Вы настоящий немец, из тех, на которых можно положиться. Макс взглянул на часы: нужно было поторопиться на встречу с Эдмоном. Дикс понял, что он спешит, сказал: - Пожалуйста, Макс, извините, что задержал. - И оба разошлись по своим делам. Макс забежал домой, чтоб только переодеться и наскоро выпить чашку кофе. Завтракать не хотелось, да и не было времени. Он думал о просьбе Дикса. При всей своей естественной простоте, она показалось ему странной и загадочной, окутанной какой-то тайной, о которой не должны знать его же сотрудники. Так что же получается - они, то есть Кун и Кларсфельд не будут участвовать в эксперименте и даже не будут знать о нем? А как же с их безопасностью? Сегодня рабочий день, и они будут находиться в своих лабораториях. Выходит, он рискует и своей жизнью, и их, и еще Мануэлы, не только без их согласия, но даже не предупредив их об этом. Положим, на Куна и Кларсфельда Диксу наплевать, он их презирает, и за их жизни не даст и ломаного гроша, но Мануэла, во имя чего она должна рисковать? И снова вопросы, вопросы, и нет на них твердых ответов, чтобы можно было принимать необходимые, единственно правильные, решения и действовать твердо и уверенно. К Эдмону он зашел один, без Кочубинского, которому приказал проверить готовность вертолета к вылету. Дружеская теплая улыбка Макса вызвала ответную вспышку радости на несколько осунувшемся лице Эдмона. Они опять обнялись лишь на какие-то секунды и сели на жесткие стулья друг против друга. - Как чувствуешь, как провел день и ночь? - были первые слова Макса, но ответа он не стал ждать и торопливо вполголоса заговорил, то и дело посматривая на входную дверь: - Положение серьезное. Скажи мне коротко, когда "Черную книгу" ты написал? О чем она? - Если коротко - о всемирном заговоре сионистов против человечества. Понимаешь, Вальтер… извини, Макс… их точит зуд мирового господства. И поверь мне, они уже многого добились. Я сорвал с них маски, раскрыл методы, подлые, коварные, смесь лицемерия, цинизма и жестокости… Он не закончил мысль, Макс прервал ее нетерпеливым жестом: - Понятно, мне все ясно. Так вот, дорогой, сегодня тебе придется иметь дело с одним из них - по фамилии Левитжер. Тип отвратительный, коварный и опасный. Он что-то замышляет против тебя. Он пойдет на все и я, к сожалению, не в силах помешать ему. Единственно чем я могу помочь тебе, так это вот… возьми, может пригодится. Спрячь. - он передал ему пистолет и продолжал: - В обойме семь патронов, пули ядовиты. Это на крайний случай, сам решишь. Но я тебе не давал. В случае чего, придумай версию, плохо, мол, обыскали. Никто не должен заподозрить меня. Что же касается Дикса, я тебе пообещал. - Да, да, вот я тут написал тебе свой адрес, адрес моей жены Алисии. - Дрожащей, торопливой рукой Эдмон достал клочок бумаги и передал Максу. Тот, не глядя, спрятал в карман, а Эдмон продолжал: - Вчера я успел тебе рассказать о моей встрече в Гаване с Яном Русским, с Иваном Слугаревым, нашим командиром. Он хорошо выглядит и все такой же добрый, очаровательный… Но Макс опять остановил его предупредительным жестом и заговорил приглушенным голосом: - Хорошо, Эдмон, у нас мало времени, сюда могут войти, - он имел в виду Кочубинского. - Мне очень жаль, что все сложилось не в нашу пользу. Будем надеяться на лучшее. Я знаю - смелости и решительности тебе не занимать. Мне остается пожелать тебе находчивости, выдержки. - Он подумал: "Понимает ли Эдмон мое положение?" и добавил: - И благоразумия. Будь проницателен. - Он взглянул на часы, потом поднял на Эдмона глаза, полные дружеского участия и глубокой тоски, и, подавив в себе желание обнять друга военной юности, промолвил: - Удачи тебе. - И быстро ушел, столкнувшись во дворе с Кочубинским. - Вертолет к вылету готов, - доложил Мариан. Макс кивнул и решительно направился в сторону административного корпуса. У самого подъезда он увидел сутулую спину Дикса, правое плечо его перекосилось от тяжести пузатого портфеля. По всему чувствовалось, что ноша была нелегкой и непривычной для Дикса. Но Дикса, с его пухлым портфелем, оттесняли нелегкие тревожные думы о Дюкане. "Что он думает обо мне, понимает ли мое положение? Должен понимать. Он аналитик и боец, бесстрашный воин, коль рискнул бросить раскаленное ядро в сионистский гадюшник". У входа в административный корпус дежурил Норман. Рослый, светловолосый, он встретил Макса дружеской улыбкой и поздоровался. Макс ответил благосклонным кивком головы и спросил: - Мистер Левитжер не приходил? - При мне - нет. Но я недавно заступил на пост. Может до меня. А доктор Дикс только что пришел. - Я видел, - буркнул Макс и направился к себе. Войдя в кабинет, он сел за письменный стол в надежде расслабиться, снять нарастающее напряжение и отвлечься от тягостных дум. Ему казалось, что он чего-то не доделал, не предусмотрел или сделал не так как надо, и эта мысль назойливым комаром терзала его душу. А что именно, он не мог понять - оно было каким-то неуловимым и неосязаемым, как призрак. "Эдмон?!.. - спросил его какой-то посторонний голос и тут же последовал утвердительный ответ: - Да, Эдмон Дюкан". И уже в который раз один и тот же вопрос, в котором даже как-будто уже просматривался и ответ," потому что сам вопрос содержал в себе сомнение: "Понимает ли Эдмон мое положение?" Это был голос совести, смешанный с голосом долга. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Левитжер приглашал его зайти. Часы показывали двадцать минут десятого. Шеф сидел за письменным столом, настороженный, как хорек, и кивком головы предложил Максу садиться, не сводя с него подозрительного сверлящего взгляда. Хищное лицо его сияло, словно он наслаждался предвкушением какой-то победы, а в глазах сверкали искорки ехидства и наглости. - Вы знаете, Веземан, что за птица залетела в наш райский уголок? Макс догадывался о ком идет речь, но выжидательно молчал. - Этот Эдмон Дюкан - коммунист, международный террорист. Агент палестинцев. Вы знаете, с какой целью он появился у нас? - А вы его версию отвергаете? - вопросом на вопрос ответил Макс. - А разве вы всерьез ее приняли? Вы поверили его сказкам? Удивляюсь вам, Веземан, - слова его звучали язвительно, презрительным взглядом он скользнул по Максу и откинулся на спину. - Вы поражены синдромом беспечности. - Но ведь его задержали в то же утро. - Случайно задержали, - с раздражением и гневом сказал Левитжер. - Появление красного агента на Острове говорит о том, что КГБ что-то пронюхало и подослало своего шпиона разведать. Его знакомство с доктором Диксом говорит о многом. Неужели вы этого не поняли? Не нужно обладать особой фантазией, чтоб представить себе такую картину: после того, как этот Дюкан доставит своему начальству информацию, в одну из ночей на Острове высаживается десант террористов - кубинцы, палестинцы и прочие. Воспользовавшись нашей, а точнее - вашей, беспечностью, они превратят здесь все в руины, перережут нас всех, как цыплят, и спокойно уйдут в открытое море. Теперь вам понятно, зачем пожаловал сюда Эдмон Дюкан, которого я сегодня же передам в компетентные руки? Там разберутся. А для нас и, прежде всего для вас, Веземан, случай этот должен послужить суровым уроком. Надеюсь, вы незамедлительно примите все необходимые меры. А сейчас я прошу вас доставить Дюкана на вертолет. - Хорошо, я отдам распоряжение Кочубинскому, а сам займусь реализацией ваших указаний. Прозвучало это несколько нарочито, с угодливой исполнительностью, позабавившей властолюбие Левитжера, - на самом же деле Макс и не собирался реализовывать указания шефа, просто ему тяжело было бы, да и рискованно, еще раз прощаться с Эдмоном уже при посторонних. Когда вертолет поднялся в воздух, Макс, следуя данному Диксу обещанию, с гнетущим, разъедающим душу чувством направился к себе домой. На олеандровой аллее встретил Мануэлу. Она шла в направлении своего дома, любезно поздоровалась и спросила, скоро ли вернется Кэтрин. Макс неопределенно пожал плечами. Вспомнил: позавчера мать Кэтрин Ана принесла ему выстиранное белье и спросила о дочери, от которой вот уже месяц нет весточки, словно в воду канула. Он попытался ее успокоить, сославшись на расстояние и плохую работу почты. И тогда Ана, поборов в себе робость и нерешительность, сказала, что в день своего отъезда Кэтрин наказывала ей и отцу в случае крайней нужды обратиться за советом к сеньору Веземану. - Да, сеньора Ана, я обещал Кэтрин оказывать вам свое покровительство и помощь. И вы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми просьбами. Я сделаю для вас все, что в моих возможностях. - Мы вам очень благодарны, сеньор Веземан. Нам ничего от вас не нужно. Вот только б узнать про Кэтрин. - Поверьте мне - у Кэт все о'кей. С ней ничего плохого не случится, потому что она мне дорога так же, как и вам. Вспоминая об этом сейчас, он упрекнул себя за последние слова, сорвавшиеся у него в пылу откровенности. Спросил в свою очередь Мануэлу: - А ты что ж не на работе? - Доктор Дикс отпустил. - По какому случаю? - нарочито вяло, как бы между прочим спросил Макс. - Не знаю. У него какое-то совещание. "Ясно: Дикс все же не стал подвергать опасности не просто лаборантку, а подругу Кэтрин, к которой он питал расположение". Ему очень хотелось знать, что сейчас происходит в лаборатории, что за эксперимент, какова его цель? Неужто связано с "А-777"? В поведении Дикса было много странного и необъяснимого. На пути к дому ему повстречался Фиделио Гомес, отец Кэтрин. Он так же, как перед этим жена его, заговорил о Кэтрин, но был более настойчив и решителен. - Сеньор Веземан, вы сказали Ане, что с нашей дочкой все в порядке. Так вот мы и думаем с женой - откуда вам известно, что с Кэтрин все в порядке? Выходит, что она вам прислала письмо или телеграмму, а нас известить не пожелала. Хотел бы я знать, где она и что ей там надо, и почему она не вспомнила про своих родителей? Не знаю, кто ее туда послал, сеньор доктор или вы, сеньор Веземан? Сеньора доктора я еще спрошу, а теперь спрашиваю вас, сеньор? - Доктора Дикса не нужно беспокоить: он человек, занятый своей наукой и ничего вам не скажет, он отошлет вас ко мне. - Значит вы ее куда-то послали. Мы с Аной так и думали. - Худое, просмоленное солнцем и морем лицо Фиделио выражало неприязнь и раздражение. - Да, сеньор Фиделио, - как можно мягче и дружелюбней ответил Макс. - Но я все объяснил вашей жене. Мне казалось, что она меня поняла. - Что вы объяснили? Вам казалось… А мне не казалось, потому как она ничего не поняла. Вы обещали помощь. Мы, конечно, благодарны за внимание, только нам от вас, сеньор Веземан, никакой помощи не нужно; мы об одном просим - верните нам нашу дочь. Дело принимало острый оборот, последствия которого трудно предугадать. Ведь он и в самом деле может пойти к Диксу, а еще хуже к Левитжеру, и заварить кашу, расхлебывать которую придется Максу. Могут возникнуть неприятности, если принять во внимание подозрительность и неуравновешенный характер Левитжера. Да и Дикс неизвестно как себя поведет. Макс понимал, что нельзя допустить конфликта, нужно любым способом уладить дело сейчас, немедленно, в самом его зародыше. - Хорошо, сеньор Фиделио, я прошу вас зайти ко мне и постараюсь убедить вас и успокоить. Я покажу вам письмо Кэтрин. - Письмо Кэтрин! - Лицо Гомеса смягчилось вспышкой радости. - Тогда другой разговор. Я так и знал, сеньор Веземан, что письмо должно быть. Не могла наша дочь не написать. Вы должны были сразу… - говорил Гомес, торопливо семеня рядом с Максом. Они прошли в гостиную, Макс предложил Фиделио сесть и подождать, а сам удалился в кабинет. Гомес не сел в предложенное ему кресло. Он стоял посреди гостиной и с детским интересом рассматривал довольно скромную, но со вкусом обставленную комнату, в которой он был впервые. Ему рассказывала жена, с некоторой завистью и восторгом, какая уютная и "богатая" квартира у сеньора Веземана. Он знал, что здесь бывала Кэтрин, и мысль эта неприятно задела в душе какие-то тонкие интимные струны. И в то же самое время скользящий взгляд его остановился на цветной фотографии, вставленной в изящную рамочку из красного дерева. Это был портрет Кэтрин. Счастливая улыбка радости и восторга озаряла ее тонкое смуглокожее лицо, так резко, контрастно, почти объемно выступающее на фоне бирюзово-синего моря. Червячок болезненной ревности зашевелился в душе Гомеса, а внутренний голос его грозно и строго спрашивал: "Почему она здесь? То ей здесь надо?" Из кабинета появился Макс с краткой запиской Кэтрин, обращенной к родителям, которую она написала по просьбе Макса накануне своего отъезда, и молча передал ее Гомесу. Тот, подойдя к окну и не садясь, начал читать медленно, неторопливо: "Дорогие мои, очень прошу вас не волноваться за меня, если поездка моя окажется длительной и мне придется задержаться дольше, чем предполагала. Так надо для меня и для вас. Если у вас появятся какие-нибудь трудности, обращайтесь к сеньору Веземану, не стесняйтесь - он поможет. И вообще прошу вас - доверьтесь ему, он наш друг и очень добрый человек. Положитесь на него и слушайтесь его советов. Он плохого вам не посоветует. Ваша Кэт". Под запиской не было даты, так Кэтрин посоветовал Макс, на всякий случай, и теперь он подумал, что такая предусмотрительность не была лишней и оказалась весьма кстати. Тем не менее Макс колебался, он еще не решил как поступить - сказать, что письмо это получено только вчера и что он не успел его передать в тот же день, или сказать правду? Как вдруг где-то совсем недалеко громыхнул мощный взрыв, так что в доме зазвенели стекла. Макс, а следом за ним и Гомес вышли на балкон. Из-за деревьев и кустарников со стороны административного корпуса в жаркое безветренное небо тянулся столб желтоватого дыма. С каждой секундой он ширился, набухал, и уже начал выбрасывать фонтан искр. "Эксперимент Дикса," - с волнением и тревогой решил Макс и вместе с Гомесом бегом помчался к месту пожара. Да, горело здание главного корпуса. Из окон с завывающим гулом и треском вырывались мощные языки пламени вместе с клубами рыжего и черного дыма и, крутясь жаркими вихрями, устремлялись в знойное небо. Огнем было охвачено все помещение сверху донизу. Пламя прогрызло кровлю и теперь, как извержение вулкана, с ревом и стоном вырывалось из кратера, бешено металось в безумном вихре и устремлялось в знойное небо. В утробе пылающего здания что-то лопалось со звоном и треском и, казалось, в любой миг произойдет чудовищный взрыв, и люди, прибежавшие на пожар, опасливо держались на почтительном расстоянии, потому что каждый из присутствующих догадывался, что внутри здания хранилось нечто зловещее, опасное для жизни. Никто, в том числе и Кочубинский со своими охранниками, не пытался тушить пожар, никому не хотелось проявлять опасную и явно бессмысленную инициативу; охранники с трусливым смущением украдкой посматривали на своего начальника, боясь, как бы он не отдал приказ, но Кочубинский находился в состоянии растерянности и шока. Норман, на глазах которого возник пожар, что-то взволнованно объяснял Кочубинскому; тот слушал его рассеянно, зыркая по сторонам. Увидев приближающегося Веземана, он поспешил ему навстречу и на ходу начал сумбурно докладывать: - Норман говорит, что сначала были выстрелы, перед тем как загореться. И взрыв. Нет, взрыв после выстрелов. Норман! - крикнул Кочубинский вахтенного. - Доложи мистеру Веземану подробности. Вид у Нормана был перепуганный и потерянный. Он боялся, что на него могут возложить вину, хотя он не был ни в чем виноват. Руки его дрожали, а голос звучал одеревенело, точно слова застревали в горле. - Когда я услыхал выстрелы в помещении, то сразу бросился к двери, чтоб выяснить. Но дверь оказалась изнутри запертой. Я знал, что в помещении находятся мистеры Дикс, Кун и Кларсфельд. А потом вскорости произошел сильный взрыв и начался пожар, сначала на последнем этаже, а после повалил дым с огнем из окон. Я попытался вышибить дверь и не смог. А тем временем огонь набирал силу, рухнула кровля, с треском крошилось оконное стекло, жара подступала с нарастающей силой и становилась угрожающе невыносимой, и Макс приказал всем отойти подальше. Он понял все, что произошло, и в душе ликовал. Он уже ни капли не сомневался, что этот жуткий костер устроил Дикс, и что это никакой не эксперимент, а сознательная, хорошо продуманная акция. Уходя из жизни, он увел с собой своих ненавистных ему коллег Куна и Кларсфельда со всеми их дьявольскими смертоносными изобретениями. Своей задачей Макс считал сейчас не допустить тушения пожара, пусть все сгорит дотла. Только тогда он может облегченно вздохнуть и сказать себе: мне здесь больше делать нечего. Произошло то, к чему стремился многие годы, и хотя произошло это без его непосредственного участия, он испытывал огромную радость. По дыму и запаху он догадался, что горит напалм, и обращаясь к Кочубинскому, вслух сказал: - Горит напалм. Тушить бесполезно и опасно. Очень опасно. Вы знаете, Мариан, какая черная смерть хранилась там? - Мариан согласно закивал головой, а Макс продолжал: - Нет, вы не знаете, вы даже представить себе не можете. Боюсь, что этот джин вырвался из бутылки, и теперь жизни всех нас под угрозой. Эти слова были восприняты всеми со вздохом облегчения, потому что не надо было тушить пожар, рискуя жизнью, и в то же время они вселяли в сознание людей ужас и панический страх. А в голове Макса зрело дерзкое решение: немедленно покинуть Остров на яхте, но без Кочубинского и подчиненных ему охранников, захватив с собой Гомесов и Нормана, поэтому он преднамеренно нагонял на Кочубинского страх. А люди все подходили: прибежал капитан яхты с мотористом и механиком, Ана с Мануэлой, секретарша Левитжера рыжая Марго, пришла и Эльза. Макс чувствовал себя здесь полновластным хозяином и твердым голосом строгого начальника отдавал распоряжения. Прежде всего Кочубинскому: - Соберите всех своих людей, всех, кроме Нормана, который нужен мне, как свидетель, и с личными вещами выводите их в синюю бухту и ждите транспорта. Поторопитесь. Капитану приказал готовить яхту к выходу в море, а экипажу также забрать свои вещи. Потом отвел в сторонку Гомесов и предложил им место на яхте, напомнив о письме Кэтрин, с которой обещал им скорую встречу. На сборы давал полчаса. Он спешил воспользоваться паническим настроением людей и беспрепятственно выйти в море. Ему также нужно было собрать свои вещи, самое ценное и необходимое, но прежде чем идти за ними домой, он приказал Норману встать у причала, до его прихода никого на яхту не пускать, в том числе капитана, механика и моториста. Он спешил. Но тут дорогу ему преградила Эльза, она спрашивала, правда ли, что доктор Дикс сгорел вместе с Куном и Кларсфельдом. Он подтвердил, и она как-то просто, без сожаления сказала: - Я знала, что так оно будет. Сегодня он ушел из дома со всеми своими бумагами. Они сгорели вместе с ним. Что же мне теперь делать, Макс? Доктор Дикс советовал мне ехать умирать на родину. Помогите мне исполнить его последнее пожелание. Во взгляде и в голосе этой старой, похожей на мощи женщины было столько мольбы и отчаяния, что сердце Макса дрогнуло, и он сказал: - Быстро заберите, фрау Эльза, самые ценные свои вещи и бегите на яхту. Постарайтесь успеть: через полчаса яхта отойдет. Как ни старался Макс взять с собой только самое необходимое, все же вещей набралось два чемодана. Всю технику, т. е. проигрыватели, магнитофоны, кассеты к ним и диски пришлось оставить. Он быстро составил донесение в "Центр", зашифровал его и в первый и в последний раз без всякого опасения и риска вышел в эфир. Потом прошелся по комнатам, еще раз проверил, не оставил ли чего нужного, и в последний раз вышел на балкон. По олеандровой аллее в сторону Синей бухты с чемоданами и рюкзаками уходил отряд Кочубинского. В жарком воздухе пахло гарью. Подумалось: "Здорово струхнул Мариан: даже не поинтересовался, когда именно и что за транспорт придет за ними в Синюю бухту. Долго вам придется ждать, господа, - до возвращения Левитжера". Он представил себе состояние шефа, когда тот на вертолете возвратится на Остров, и в ту же минуту с тревогой подумал об Эдмоне; что с ним и где он сейчас? От этих вопросов он испытывал душевную боль. Подходя к причалу, Макс увидел мирно разговаривающих Нормана Роджерса и моториста Фернандо Санчеса. Макс знал, что оба они из Флориды, завербовались к Левитжеру в одно и тоже время и что между ними с давних пор установились если и не дружеские, то добрые приятельские отношения. Высокий, плотно сбитый, но не склонный к полноте, а напротив, атлетически сложенный Фернандо Санчес имел спокойный уравновешенный характер, а карие глаза его постоянно излучали сквозь тонкие стекла очков добродушную улыбку. Родители его жили в Мексике, но он их не видел уже много лет, с тех пор, как перебрался в США в поисках хотя бы сносного места в стране "неограниченных возможностей". Место это ему и предложил Левитжер. Норман Роджерс - длинный, круглолицый блондин - сын фермера из Флориды, ушел из отчего дома, вдрызг рассорившись с отцом, и дал себе слово никогда больше не возвращаться в родные пенаты. Он был вспыльчив, задирист, не терпел несправедливости, мысли свои высказывал вслух, нисколько не заботясь о последствиях. Очевидно это и послужило причиной его неурядиц с Кочубинским. Капитана и механика еще не было. Поставив свои чемоданы рядом с чемоданами Фернандо, Макс сказал Норману: - Бегом за своими вещами. И не задерживайся. Норман медлил. Смущаясь, он нерешительно помялся и наконец выдавил из себя: - Прошу прощения, сэр, меня будут допрашивать? Я ни в чем не виноват, дверь была заперта изнутри. - Послушай, Норман, - Макс дружески положил ему руку на плечо, - пока ты со мной, тебе нечего опасаться. Разве я не доказал своей симпатии к тебе? - О, да, я вам так обязан. - Будь моим телохранителем. Слушай только меня и никого больше. А сейчас быстрей за вещами. Через несколько минут по асфальтированной дорожке, идущей от городка к причалу, спешили Гомесы, толкая впереди себя доверху нагруженную тележку. За ними шустро семенила Эльза. "Быстро, однако, управились", - с удовлетворением подумал Макс и прислушался к далекому гулу в небе. - У тебя есть оружие? - спросил он Фернандо. - Нет, - коротко ответил тот, с доверчивым удивлением. - На, возьми. - Он подал Фернандо пистолет. - Пользоваться умеешь? - Вполне, - с детским добродушием на лице моторист взял пистолет, вынул обойму, чтобы убедиться, что она заполнена патронами, и опять вставил ее на место. - Спрячь в карман, и запомни, Фернандо - здесь я главный начальник и твой друг. Я на тебя рассчитываю. "Понимает ли он, о чем я говорю, что имею в виду?" - Благодарю, сэр, за доверие. Можете на меня положиться. Я всегда к вашим услугам. "Хотел бы я верить. Что ж, будем надеяться на тебя да еще на Нормана". Спросил: - У капитана есть оружие? - Есть. - А у механика? - Не знаю, не видел. Гул в небе нарастал, и одновременно Макс и Фернандо увидели приближающийся к Острову вертолет. - Смотрите, сэр, не наши ли возвращаются? Мистер Левитжер? - Эти слова Фернандо, будто скрежет железа, резанули слух Веземана и привели в замешательство, потому что то же самое с тревогой подумал и он. - Черт возьми, этого нам только не хватало, - сказал он вслух специально для Фернандо, пусть, мол, имеет в виду мою неприязнь к Левитжеру. Подумал: очевидно заметили пожар, и решили вернуться. - Кажется идут капитан и механик. Снесите мои чемоданы на яхту и укажите место Гомесам и Эльзе. - Слушаюсь, сэр. Появление вертолета было для Макса громом среди ясного неба. Вот уж действительно судьба не любит преждевременного ликования и всегда норовит подставить ножку. Казалось, все складывается как нельзя лучше: пожар и гибель Дикса, Куна и Кларсфельда в отсутствии Левитжера. Еще бы каких-нибудь тридцать-сорок минут, и яхта навсегда покинула бы Остров дьявола. И надо же! Подобного поворота дела он никак не ожидал и не мог предусмотреть. Обстановка складывалась непредсказуемая. А тут еще Норман задерживается. Капитан с механиком несли тяжелые чемоданы. Рядом с ними трусцой бежала Марго. "Придется и ее брать", - машинально подумал Макс, и тут же мысль его споткнулась о трескотню вертолета, сделавшего круг над поселком. Его площадка находилась невдалеке от главного корпуса, но сейчас там садиться было рискованно и, очевидно, решили совершить посадку здесь, у причала. Макс ощутил небывалое напряжение каждого мускула, каждой клетки. Сердце колотилось, казалось, он слышит его ритм. Спокойно, Макс, возьми себя в руки, настал решающий момент, может самый трудный за всю твою жизнь. Думай, соображай и не медли: у тебя нет времени на размышление, решай и действуй, как только вертолет коснется земли. У тебя последний шанс, а потому иди на крайность без колебаний. На вертолете четверо вооруженных, считая и вертолетчика. Четверо против тебя. Чью сторону займут капитан яхты и механик - неизвестно. Бери худшее - сторону Левитжера. С тобой Фернандо и Норман, хотя и нет в них полной уверенности. Итак, трое против шестерых. Да, он совсем забыл Эдмона. Как же так - Эдмон Дюкан, у него тоже есть пистолет. Эдмон не подведет. Выходит, шесть и четыре, это уже что-то! Макс представил себе бешеную ярость Левитжера, когда тот узнает о случившемся. Всю свою злость он сорвет на нем и прикажет арестовать. Вот этого-то и нельзя допустить, надо упредить, нанести удар первым. За спиной Левитжера цепными псами будут стоять Джек и Боб. А Нормана все нет, только Санчес. Где же он? - Фернандо! - Я здесь, сэр. - Идите сюда. Вертолет коснулся земли, вздрогнул и замер. Макс и Фернандо осмотрительно и не спеша подошли к трапу. Дверь отворилась, и первым в ее проеме показался Боб. Вид у него был скорбный, растрепанный. Он пугливо оглянулся по сторонам, спрыгнул на землю и остановился у трапа, по которому вслед за ним сошел вертолетчик Фолуэлл. Это был разбитной парень, любитель веселых удовольствий, беспечный бездельник, никогда не унывающий и ни во что не верящий. Он подошел к Максу вразвалку, с независимым видом, и мрачно доложил: - У нас беда, мистер Веземан. Макс, весь напряженный,посматривал то на дверь вертолета, то на Боба. Но охранник не проявлял никакой враждебности. Лицо его по-прежнему выражало растерянность и смущение, а в дверях вертолета никто не появлялся. А Фолуэлл, не услышав ожидаемого вопроса, продолжал, кивнув в сторону пожара: - Я вижу, здесь тоже не все в порядке. - Где мистер Левитжер? - строго и холодно спросил Макс. - Они убиты. И Джек тоже, - спокойно и беспечно, словно его это не касалось, ответил Фолуэлл. - Нужно помочь Бобу вынести их тела. Веземан не верил, вернее не сразу сообразил, о чем говорит вертолетчик. "Может это сон? Или подвох, провокация?" - острой стрелой пронзила мысль. "Этот Фолуэлл что-то сказал… Тела, тела убитых? Да, да нужно вынести, чтоб убедиться. Ну и пусть выносят". - А вы что, не в состоянии вынести вдвоем с Бобом? - сказал он сердито и раздраженно и уставился на вертолетчика суровым требовательным взглядом, потом перевел взгляд на Боба. Тот не выдержал его взгляда, переступил с ноги на ногу и покорно сказал, обращаясь к Фолуэллу: - Давай, Айк, в самом деле. - И полез в вертолет. Фолуэлл повел плечами, но послушался. Лицо его было безучастным, хотя и серьезным, и в то же время в его манерах Макс заметил что-то вызывающее. Фолуэлл остановился у трапа, устремив озабоченный взгляд в открытую дверь вертолета. Напряжение Макса достигло предела, он все еще ждал от Левитжера какого-то подвоха и не верил в "тела убитых". С момента появления в небе вертолета в сознание его накрепко врезалась мысль, высказанная Фернандо: Левитжер возвращается. За этой мыслью с лихорадочной быстротой последовали вопросы; зачем, в чем причина его возвращения? Обнаружил у Эдмона пистолет и догадался, кто вручил ему? При виде пожара окончательно убедился в своей догадке и рассчитывает схватить меня без выстрела путем изощренной хитрости, которая сползла с языка Фолуэлла "телами убитых"? Он следил за каждым движением Боба и вертолетчика, готовый ответить на любую внезапность, потому и не позволил Фернандо отлучиться от себя, чтобы помочь Бобу вынести тела убитых. Он все еще не верил. Появился запыхавшийся Норман с вещами, и Макс приказал ему: - Поставь чемодан и останься здесь. Сошли на берег капитан и механик и тоже выжидательно, с нескрываемым нетерпением уставились на дверь вертолета. Все чего-то ждали - одни с любопытством, другие с тревогой и волнением. И вот в проеме двери не вверху, а внизу у порога, показалась голова Левитжера, с окровавленным лицом, она безжизненно повисла, подхваченная Фолуэллом, и только теперь Макс удостоверился, что подвоха нет и вертолетчик доложил правду. Он почувствовал облегчение, состояние неуверенности и напряжения спало, негромко, вполголоса сказал стоящему рядом Фернандо: - Помоги им. Тела Левитжера и Джека положили под зеленым шатром финиковой пальмы. Кивком головы он позвал к себе Фолуэлла и Боба и попросил доложить подробно. Вертолетчик и охранник вопросительно переглянулись. В мыслях Макса тревожно трепетал вопрос: "Что с Дюканом, где он?" Он ждал нетерпеливо доклада, медлительность Боба и Фолуэлла начала его возмущать, и он с раздражением потребовал: - Продолжайте, Фолуэлл, раз уж вы начали. - Да я, собственно, не знаю, с чего началось. Мистер Левитжер донимал того… ну шпиона, красного. Так что ли. Боб? - Разумеется, мистер Левитжер выдавал ему на всю катушку и пригрозил сбросить его в море, - охотно продолжил Боб. - Он не шутил, он всерьез решил с ним покончить. Он нам говорил, что это коммунист и что он пробрался на Остров, чтоб шпионить и убить доктора Дикса. - Он умолк и размазал по лицу своему пот. Воспользовавшись паузой, Фолуэлл продолжал: - Я слышал, как тот красный стал всячески наговаривать на доктора Дикса, что он нацист, что во время войны он проводил эксперименты над людьми, что теперь он продолжает то же самое. - Да, да, сэр, он так говорил, - вмешался Боб, - а мистер Левитжер очень обозлился и крикнул не него: "Заткнись, ублюдок!" и выругался. Потом приказал Джеку и мне: выбросьте, говорит, эту падаль в море. Мы вначале подумали, что он только пугает, а он как закричит на нас: "Какого же черта стоите истуканами!" Тогда Джек стал приближаться к шпиону и хотел его схватить, но тот ловко вывернулся, выхватил пистолет и сначала дважды выстрелил в Джека, прямо в лицо ему, а потом один раз в мистера Левитжера. Он мог выстрелить и в меня, но я опередил, я всадил ему три пули, и он замертво рухнул. А мистер Левитжер был только ранен. - Рана была смертельной, - подсказал Фолуэлл. - Да, смертельная. Но он еще какое-то время был в сознании, он еще спросил меня: "Ты убил его, Боб? Так выбрось его за борт". То были последние слова мистера Левитжера. Я исполнил его приказ. Макс выслушал, понуро глядя в землю и не перебивая. Затем поднял тяжелый скорбный взгляд на убийцу Дюкана, долгий, изучающий, физически ощущая, как на него наплывает угнетенное состояние. Боб выдержал его взгляд. Макс поймал себя на мысли, что он не питает ни злобы, ни ненависти к Бобу, который казался ему не живым реальным человеком, а просто роботом, автоматом, из которого в Эдмона стрелял Левитжер - настоящий, подлинный убийца. И все же и Боб и Фолуэлл, который так бесстрастно, с холодным равнодушием рассказывал о трагедии, произошедшей в вертолете, вызывали в нем чувство неприязни и отвращения. Его подмывало крикнуть им: "Скройтесь с моих глаз!" Но он, подавляя в себе вспышку эмоций, сказал с глухим отчуждением: - Идите к себе. Они вопросительно, с легким недоумением переглянулись, не совсем поняв его слова. Он пояснил все также недружелюбно, с язвительными нотками: - Проверьте ваши вещи. Люди Кочубинского ушли в Синюю бухту. Могли по ошибке прихватить и ваши. Преднамеренное напоминание о вещах дало эффект, на который рассчитывал Макс: не произнося больше ни слова, точно лошади, на которых замахнулись хлыстом, они торопливо и резво удалились. Макс обратился к капитану, который стоял тут же, ожидая дальнейших указаний: - Через пять минут будем отходить. Каждая минута задержки связана с риском для жизни. - Больше никого не будем ждать? - Никого. Капитан, механик и моторист ушли на яхту, а Макс с Норманом задержались. Сомнение, тревога и напряжение, которые испытал Веземан в минуты появления вертолета, постепенно улеглись, на смену им пришли уверенность, твердость и решительность в действиях и ясность в мыслях. В голове его созрел четкий план, в который он решил никого, даже Нормана и Фернандо, не посвящать. Он здесь единовластный начальник и все его приказы должны выполняться безоговорочно. Он посмотрел в глаза Норману строгим и вместе с тем доброжелательным взглядом и спросил вполголоса: - Ты сможешь поджечь вертолет? - Вертолет? Этот? - переспросил Норман с некоторым замешательством. Макс не сводил с него требовательного взгляда. - Попробую. - Если не получится, можешь прострелить бензобак и поджечь. - Слушаюсь, сэр. - Я жду тебя на яхте.
Глава девятая
1
Когда они отошли от берега примерно на милю, вертолет еще догорал. Пламени уже не было, но в знойное безветренное небо тянулась ровная голубая струя дыма. Яхта держала курс на Мексиканский залив. Так распорядился Макс. Пассажиры стояли у борта и молча смотрели на удаляющийся берег, на котором, как внушил им Веземан, витала черная смерть. В это верили все, начиная от капитана и кончая супругами Гомес, и лишь у Ганса не было твердой уверенности, что Остров заражен смертельными ядами, над изобретением которых работали Дикс, Кун и Кларсфельд. О двух последних Макс не думал. Он сидел в удобном плетеном кресле, погрузившись в хаос сложных и противоречивых дум. Недалеко от него, опершись на перила, стоял Норман Роджерс - его телохранитель и адъютант. Лицо его было непроницаемым. Максу хотелось знать, о чем думает сейчас Норман, впрочем, как и все остальные на яхте, включая и капитана? Догадаться было нетрудно - каждый задает себе вопрос: а что же дальше? Позади Остров дьявола и черная смерть, а впереди? Где он, тот берег спасения, и каков он, к которому причалит их необычный корабль? Пока что они задают этот вопрос себе мысленно. Но скоро они заговорят об этом вслух и потребуют ответа от него, Макса Веземана. Все они здесь, на палубе, еще не пришедшие в себя от шока, не совсем вникнувшие в то, что заставило их в пожарной спешке покинуть насиженные гнезда, бросить часть имущества и перебраться на борт яхты, которая направляется в туманную даль неизвестности, понурые, растерянные, углубившиеся в себя. Пока что они робко роняют отдельные слова, фразы, в которых звучит если не прямой, то скрытый вопрос. Он прислушивается к их голосам, не отрываясь, однако, от своих дум. Поступок Дикса нисколько не удивил его. Макс знал, что конец будет именно таким, потому что он планомерно, расчетливо направлял Дикса на этот путь, подчинил себе его волю. - Доктор был болен, я давно замечала, что у него с психикой не в порядке, - монотонно говорит Эльза, обращаясь к испуганной и растерянной Марго. Секретарша Левитжера сквозь слезы роняет отрывочные слова: - Я не могу поверить… он мертв, а глаза открыты. Почему его оставили там? Почему не взяли на яхту? Какой ужас… Он обещал в среду возвратиться. "Он получил то, что заслужил", - мысленно отвечает ей Макс. Он думает о Дюкане, и что-то болезненное подступает к горлу и готово вот-вот вырваться наружу скорбным стоном. - А где Мануэла? Она же шла, я сама видела, что шла, - словно спохватившись, говорит Ана Гомес. - Она вернулась, - отвечает ей Норман и добавляет: - Она попалась мне навстречу. К Максу подходит капитан, говорит совсем не то, что его на самом деле волнует: - А этот лазутчик, видно, опытный шпион, что сумел уложить двоих. Макс понимает, что капитан таким образом пытается скрыть свое волнение перед тем, как заговорить о главном, что тревожит его. - На его месте так поступил бы каждый. Ему грозила неминуемая смерть. Левитжер попытался сбросить его в море, на что не имел никакого права, ни морального, ни юридического. Он вершил самосуд, за что и поплатился, - говорит Макс, и в тоне его звучит явная неприязнь к Левитжеру. - Но пистолет, откуда взялся у него пистолет? - удивляется капитан. - Плохо обыскали. Джек обыскивал, и он поплатился за свою халатность. Кстати, у вас тоже есть незаконный пистолет. Я не выдавал вам на него разрешения. - Мне разрешил мистер Штейнман, - поспешно, с преувеличенной уверенностью солгал капитан и сам же понял, что Макс не верит ему. - Не надо, - лицо Макса исказила гримаса досады. - Штейнман и не подозревал о вашем пистолете. Знал только я и, как видите, молчал. - Макс смотрел прямо в глаза капитану взглядом доброжелательным, и по губам его скользнула легкая ироническая улыбка, на которую капитан ответил улыбкой веселого смущения, как бы подтверждающей правоту Веземана. Но неожиданно для капитана Макс заговорил уже строгим тоном приказа. - Я прошу вас сдать свой пистолет до окончания рейса. Как только причалим к берегу, я верну вам ваше оружие. - Макс взглядом подозвал к себе Нормана и приказал: - Роджерс, примите у капитана оружие. - Но почему, на каком основании? - растерянно и смущенно проговорил капитан, нервически моргая жестокими глазами. - Капитан, я не советую вам обострять отношения. Здесь я командую и полностью отвечаю за свои действия. Извольте подчиниться. В спокойном, но властном голосе Макса звучал металл, и капитан с наигранной небрежностью отдал пистолет Норману Роджерсу. Он смущен и с трудом одерживает нарастающее в нем чувство ярости. Он говорит дрожащим голосом: - Сэр, я должен понимать ваш более чем странный поступок, как недоверие мне? - Никак нет, капитан. Я это сделал в интересах нашей общей безопасности. И повторяю: пистолет вы получите, как только яхта пришвартуется к берегу. - Тогда позвольте полюбопытствовать - где будет тот берег и причал? - Тон независимый, с нотками обиды и раздражения. Макс ожидал этого вопроса и приготовил уклончивый ответ: - Он будет там, где нам окажут гостеприимство. Недовольная злая ухмылка затрепетала в глазах капитана, и после короткой паузы он спросил: - А нельзя ли конкретней, сэр? - Вас интересует берег? Хорошо: берег Мексиканского залива. - Довольно конкретно, хотя и не совсем ясно - северный, южный или западный? - В голосе напитана звучала ирония. Они шли в Мексиканский залив с восточной стороны. По правому борту на северной стороне лежала Флорида, по левому, на юге - Куба, впереди на западе была Мексика. - Это мы уточним несколько позднее, - Макс со значением дотронулся рукой до портативного радиопередатчика, висевшего у него через плечо, словно этим жестом хотел сказать, что он с кем-то держит связь по рации и получает указания "вышестоящих". В голосе его звучало прежнее дружелюбие и призыв к пониманию и доверию. Внешне у капитана спокойный и независимый вид, он пытается соблюсти чувство достоинства, выдержки и под этой личиной скрыть свое волнение. Макс понимает его подлинное состояние и догадывается, какие вопросы и сомнения точат душу капитана яхты. Сожжение вертолета, поспешное бегство с Острова, не преданные земле тела Левитжера и Джека, оставление на Острове Кочубинского с его отрядом - все это не может не вызвать подозрений и вопросов, на которые нет ясного ответа. Макс вместе с капитаном поднялись в капитанскую рубку, где в то время находились моторист и механик. Поднялся и Норман. С появлением капитана механик сошел на палубу. Знойное солнце уже давно перевалило зенит и неторопливо клонилось к горизонту. На море по-прежнему штиль, и морская гладь казалась покрытой серебристой пленкой. Справа и слева на горизонте проплывали корабли различных классов и назначений. Перед тем как подняться вслед за капитаном в рубку, Макс на какую-то минуту подошел к Фиделио Гомесу, положил ему руку на плечо и вполголоса сказал тепло и ласково: - Не волнуйся. Все будет хорошо, скоро вас встретит Кэтрин и Педро. - Педро?! - На просмоленном солнцем и морем лице Фиделио вспыхнула тревожная радость. - Не шуми, - еще тише сказал Макс. - Ваш Педро - хороший парень. - После этих слов он поспешил в рубку, оставив Гомеса в приятной растерянности. Состояние нервного возбуждения, захлестнувшее Макса с той минуты, как яхта отчалила от берега, не проходило, но к сдержанной радости, которую испытывал он, примешивалась тревога, и трезвый рассудок охлаждал и подавлял восторг и ликование, считал эти чувства преждевременными: на пути к конечной цели могло возникнуть много разных непредвиденных и даже непреодолимых преград, опасных для жизни. Впрочем опасность для жизни подстерегала его все последние годы, начиная со времени службы в Пуллахе под Мюнхеном: она ходила за ним тенью, ибо в любой момент на него могли надеть наручники, сказав: "Хватит валять дурака, Вальтер Дельмам. Кончай играть роль Макса Веземана, занавес опущен". Самое обидное, что провал не всегда мог зависеть от него самого: в себе, в своей осторожности и осмотрительности он был уверен. Он мог стать жертвой ошибки или провала кого-нибудь из своих коллег, либо преднамеренного предательства. И тогда с ним могли поступить так же, как и с Эдмоном Дюканом. К этому он был готов, с этой мыслью он свыкся и уже не ощущал ее тревожной остроты. И сейчас, когда главная задача, ради которой он находился на Острове, была с неожиданным оборотом выполнена, казалось бы спокойствие должно поселиться в нем, исключая всякое опасение за свою жизнь - ведь главное дело сделано. И тем не менее он с неожиданной остротой ощутил жажду жизни и стыдливую боязнь смерти. И стимулом жизни была Кэтрин. Ради нее и во имя нее он должен жить. Он ждал, как самого светлого праздника встречу с ней в Гаване, тревожное нетерпеливое сердце его отсчитывало уже не дня, а часы и минуты. Кэт… С тех пор, как она покинула Остров и перебралась на Кубу, он думал о ней с возрастающей остротой, обожанием и нежностью, и теперь частицу своих чувств он старался передать ее родителям. Стоя в рубке рядом с угрюмым молчаливым капитаном, он с приподнятым напряжением всматривался вперед, словно боялся вовремя обнаружить опасность, внезапно возникшую на их пути.
2
Опасность появилась с противоположной стороны, за кормой, и заметил ее опытный глаз капитана, моряка-профессионала. Как бы между прочим, с деланным равнодушием он обронил вялые слова: - За нами идет сторожевой корабль военно-морских сил США. - Капитан опустил бинокль и, как ни в чем не бывало, снова устремил взгляд вперед в сторону слепящего солнца. Макс попросил у него бинокль и посмотрел за корму. Да, действительно, примерно на расстояний двух миль за ними шел небольшой военный корабль. За бесстрастностью тона, которым говорил капитан, чувствовались напряженность и беспокойство. - Вы думаете, к нам это имеет какое-то отношение? Капитан помедлил с ответом. Затем сказал уклончиво: - Скоро узнаем: расстояние между нами заметно сокращается. - А вы не можете прибавить ходу? Именно этого вопроса и ожидал капитан. Макс хочет уклониться от встречи с американским военным кораблем, значит такая встреча для него нежелательна. Почему? Ответил: - Идем полным ходом. - Возьмите левей. - Слушаюсь, сэр. - Что-то наигранное, неискреннее прозвучало в последних словах капитана, но приказ он исполнил: яхта повернула на несколько градусов влево. Откуда ни возьмись, со стороны солнца появились два американских истребителя и с оглушительным ревом на небольшой высоте пронеслись над яхтой, едва не задев ее мачты. В их появлении было что-то зловещее, как рок, как знамение предстоящей беды. Корабль за кормой и эти самолеты в мыслях Макса соединились в нечто единое, что нельзя было назвать случайностью, и поэтому сам собой напрашивался вывод: о происшествии на Острове каким-то образом стало известно хозяевам Левитжера. Но каким? - вот вопрос, который сейчас лихорадочно звучал в разгоряченном мозгу Веземана. - Кто мог сообщить - и конечно же, по рации - о произошедшем? Кочубинский или капитан яхты? Скорее всего капитан, - решает Макс и говорит: - Возьмите еще левей. - Но там территориальные воды Кубы. Фидель не любит, когда вторгаются в пределы его владений. - Ничего, за это я отвечаю. Капитан недовольно, даже с демонстративным вызовом поводит плечами, но выполняет распоряжение, проворчав с язвительным намеком: - Надо полагать, у вас приятельские отношения с Фиделем? - А вы как думали? - Макс взял шутливый тон. - По выходным дням мы с ним в шахматы играем. - С Фиделем? - С Фиделио Гомесом. Капитан оценил шутку и умолк, улыбаясь сам себе. Через минуту уже серьезно спросил: - А почему мы оставили на Острове тело мистера Левитжера? Вдова покойного может пожаловаться президенту. - Я не хотел доставлять вам лишние хлопоты и неудобства, поскольку ваша яхта не приспособлена для перевозки покойников. Но не это главное. Мистер Левитжер так много сделал для благоустройства Острова и так любил свой райский уголок, что однажды еще при жизни выразил пожелание, чтоб после смерти останки его захоронили в милой его сердцу "башне". Собственно она и строилась, как мавзолей, как личная усыпальница. И хотя Макс старался говорить серьезным тоном, капитан не поверил ему. Как и в первый раз, так и сейчас со стороны солнца внезапно появился теперь уже один истребитель на бреющем полете, и очередь крупнокалиберных пуль в каких-нибудь полсотне метров от кормы яхты прошила водную гладь. Капитан вздрогнул и побледнел. Повернувшись к Максу встревоженным лицом, сказал голосом, в котором явно звучали испуг и смятение: - Он что, псих? Не видит нашего флага и стреляет по своим? Макс не ответил. У него уже не было сомнений, что их преследуют. Встревожились и пассажиры. - Возьмите еще левей, - приказал Макс. Голос его звучал спокойно и уверенно. - На юг, сэр? - Капитан уставился на Макса с некоторым недоумением. - Да, - негромко, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, обронил Макс, с некоторым напряжением всматриваясь в белесую дымку южного горизонта, где, словно мираж, вырисовывались далекие, в неясных очертаниях корпуса вытянутых вверх строений. - Бинокль, - попросил Макс у капитана. Бинокль приблизил горизонт, и Макс опознал знакомый силуэт высоких зданий. Спросил, не отрывая глаз от окуляров: - Это Гавана? - Да, сэр, гостиницы "Капри" и "Абана Либре". - Курс на гостиницы, - негромко приказал Макс, и капитан ответил осторожным кивком головы. Яхта шла к кубинскому берегу. В воздухе послышался характерный стрекочущий рокот, и вскоре по правому борту в предвечернем небе показался вертолет, шедший в направлении яхты. Его появление ничего хорошего не предвещало. Вторжение в воздушное пространство и территориальные воды Кубы военными самолетами и кораблями США было обычным явлением. Янки с присущим им цинизмом и наглостью демонстрировали свои мускулы перед всеми, кто был слабее их, не считаясь о суверенитетом и нормами международного права. Макс без труда догадывался, с какой целью приближается к яхте вертолет, и готовился к жестокой схватке безоружной посудины с вооруженным воздушным пиратом. Он понимал, что наступают самые критические минуты в его жизни. Янки не остановятся ни перед чем, и без зазрения совести они потопят яхту, даже в территориальных водах суверенного государства, тем более, что яхта шла под флагом США. Едва ли ЦРУ и Пентагону известны подробности происшедшего на Острове. Для них важно, чтоб ни один свидетель, а тем более посвященный в тайны Острова, не остался в живых. Они еще не располагали точными и достоверными сведениями, кто уцелел и кто погиб в адском огне, и что за люди (Дикс, Кун, Веземан, Кочубинский?) спешат пристать к кубинскому берегу и с какими материалами и документами. Да уж, конечно, не с пустым чемоданом. Одновременно с появлением вертолета впереди навстречу яхте со стороны Гаваны мчался сторожевой катер кубинских пограничников. Его заметили одновременно капитан и Макс. - Кажется, нас одни провожают, а другие встречают, - проговорил капитан и озабоченно посмотрел сначала на вертолет, затем вперед, в сторону Гаваны. Вид у капитана был растерянный. Весь этот путь от Острова он бился над загадкой - кто же есть на самом деле этот немец, нацистский полковник Макс Веземан? Теперь, кажется, ответ проясняется, судя по тому, как спешит к кубинскому берегу, а американцы пытаются помешать ему. Не он ли приложил руку к зловещему пожару на Острове? А вертолет уже над яхтой, и раздается требовательный голос в мегафон: - Вы сбились с курса. Возьмите вправо и немедленно уходите в нейтральные воды. Это приказ. - Что отвечать? - Вид у капитана подавленный. - Ничего. Соблюдайте спокойствие и не меняйте курса. - Голос Макса ровный, уверенный. Он с напряженным нетерпением смотрит вперед на спешащий навстречу кубинский катер. И вдруг от вертолета отрывается бомба и падает перед самым носом яхты, в каких-нибудь сорока метрах, вздымая огромный фонтан воды. Капитан резко останавливает машину. Лицо его бледное, в глазах растерянность. Он поворачивается к Максу и сухим дрожащим голосом говорит с явным озлоблением: - Вы не имеете права рисковать нашей жизнью! А с вертолета опять тот же голос в мегафон: - Ваше сопротивление бессмысленно! Или вы хотите пойти ко дну?! - И вертолет нагло и самоуверенно опускается на палубу яхты, и в ту же минуту из его утробы выскакивают шесть вооруженных автоматами морских пехотинцев. Двое - солдат и сержант - врываются в рубку, где находится Макс и капитан, и сразу вопрос: - Почему держите курс на Кубу? - Я выполняю приказ, - дрогнувшим голосом ответил капитан. - Чей? - Вид у сержанта свирепый, тон грубый. Капитан кивком головы указал на Макса. - Вы кто такой? - Сержант с высокомерной наглостью уставился на Макса. - Я не обязан отчитываться перед пиратами, попирающими элементарное международное право, - спокойно, соблюдая достоинство, ответил Макс. Он видел, как на палубе другие солдаты опрашивают механика и пассажиров, и хотел предугадать дальнейшие действия янки, - что они предпримут? Они явно спешат, помня о приближающемся катере кубинских пограничников. Важно было затянуть время. Но и сержант понимает это и уже обращается к капитану, указывая на Макса: - Кто он? - Мистер Веземан, начальник спецслужбы. - Понятно. - Сержант торопливо достает из кармана бумажку и вслух читает: - Дикс, Кун, Кларсфельд, Веземан, - быстрый взгляд в сторону Макса, - Кочубинский… они здесь, на яхте? - Он обращается только к капитану. - Все остались на Острове, кроме Веземана, - с послушной готовностью говорит капитан, избегая смотреть на Макса. - Это точно? Вы отвечаете за это головой? Я прикажу обыскать яхту и если найду хотя бы одного вот из этих, - сержант потряс перед носом капитана бумажкой, - я лично расстреляю вас. - Из названных вами, сержант, только мистер Веземан находится на яхте, - покорно ответил капитан. Макс не сводит взволнованного взгляда с приближающегося катера. "Скорей, скорей…" - выстукивает сердце, а мысль с лихорадочной быстротой выискивает лучик надежды: обыск яхты даст выигрыш хотя бы несколько так необходимых, желанных минут. Но это понимает и сержант, с тревогой посматривая на приближающийся кубинский катер. И он решает не тратить драгоценное время на осмотр яхты, он приказывает Максу следовать за ним, на палубу, где стоит вертолет. Макс делает преднамеренную заминку, он пытается протестовать и таким образом выгадать минуты, но верзила морской пехотинец, сопровождающий сержанта, грубо ткнул ему в бок дуло автомата и процедил сквозь жвачку, которую он не прекращал жевать: - Ну, быстро… На палубе возле вертолета стояла группа пассажиров, окруженная морскими пехотинцами. Сержант снова дрожащей рукой достал бумажку и, уставившись в нее рассеянным взглядом, сказал: - Слушайте меня внимательно: есть на яхте Дикс, Кун, Кларсфельд, Веземан и Кочубинский? - Он поднял глаза на перепуганную, не смеющую открыть рта, толпу. - Ну? Я тебя спрашиваю, рыжая красавица? - уколол прищуренным глазом Марго. - Нет, никого нет, только мистер Веземан, - заикаясь пролепетала секретарша Левитжера, глядя на сержанта с доверчивостью и подобострастием. - Все ясно, - сказал сержант и, положив руку на плечо Макса, приказал солдатам: - Этого в вертолет, живо! Четверо морских пехотинцев схватили Макса, заломили за спину руки и, приподняв, грубо, как бревно, втолкнули в дверь вертолета. Затем и сами поднялись вслед за ним. И через минуту вертолет оторвался от палубы яхты и на виду у кубинских пограничников, сделав разворот, ушел на север.
3
Рейсовый самолет из Вены прибыл в аэропорт Шереметьево точно по расписанию - минута в минуту, хотя погода в Подмосковье стояла слякотная: то дождь со снегом, то снег с дождем, как это нередко бывает в ноябре. Иван Слугарев в последний раз виделся с Максом Веземаном много лет тому назад в Зальцбурге и теперь, ожидая прибытия венского самолета, испытывал легкое волнение: узнает ли его? Время неотвратимо делает свое дело, не щадит никого, тем более, думал Слугарев, последний год для Веземана был полон тяжелых драматических испытаний, и это, конечно же, не могло не отразиться как на физическом, так и на духовном состоянии Макса. Мысль, что он не сразу узнает его, была неприятной и досадной. Однако тревога оказалась напрасной: они сразу узнали друг друга, словно расстались только вчера, - ту же сдержанность и ненавязчивое обаяние подметил Слугарев в своем друге. В машине они сидели вдвоем, без шофера, - Слугарев за баранкой, Веземан - рядом с ним. Густой пушистый снег влажными хлопьями слепил ветровое стекло, и щетки с трудом справлялись со своими обязанностями, мокрое скользкое шоссе сдерживало скорость, да они и не спешили. Разговаривали спокойно, неторопливо, сдерживая эмоции, которые распирали обоих. - На другой день после того, как тебя усадили на вертолет, мы уже знали в подробностях, что и как произошло, и довольно переволновались за твою безопасность, - сказал Слугарев, бросая на Макса короткие взгляды через зеркало. - Понимаешь, Иван, дело тут не в моей безопасности, за себя я был спокоен, хотя б уже потому, что яхта оказалась в руках кубинцев, и ЦРУ не удалось бы избежать гласности, если б они попытались расправиться со мной втихую. Получилось все как-то уж очень нелепо. Одна не предусмотренная деталь, как ты знаешь, может погубить все дело. Я имею в виду флаг. Если бы мы, войдя в Мексиканский залив, поменяли американский флаг на какой-нибудь другой, мы бы спутали их карты и кто знает, может все обошлось бы благополучно. И потом: я никак не мог предположить, что они пойдут на такую авантюру в территориальных водах Кубы. - Нас беспокоило другое: не пришлось бы тебя обменять на какого-нибудь Гапона-Пухова. - Пухов? Это кто такой? - Посадили мы тут одного ихнего… Да не в нем дело, я вообще. - Я понимаю, о чем ты. Нет, я не "засветился". Они могли лишь подозревать, но фактов у них не было. Никаких улик и доказательств. К пожару я действительно не имел прямого отношения - тут у меня твердое алиби. Все остальные мои распоряжения и действия, порой лишенные логики и здравого смысла, я объяснял состоянием шока. Мол, пожар и гибель моего друга Дикса повергли меня в глубокую депрессию, и я не отдавал отчета своим поступкам. Мои объяснения с юридической точки зрения не вызывали сомнений. Причина взрыва и пожара - несчастный случай во время эксперимента, проводимого учеными. Об эксперименте меня предупредил накануне Дикс. Он и Мануэлу в этот день выпроводил домой, что она и показала на следствии. - А на самом деле ты считаешь - это была преднамеренная акция? - Несомненно. Дикс готовил ее заранее. Ему удалось незамеченным перенести к себе в служебный кабинет напалм. И надо думать, в немалом количестве. - А почему Кун и Кларсфельд не оказали ему сопротивления? - Я думаю, перед тем, как произвести взрыв, он их просто застрелил. У него было два пистолета. Один он постоянно имел при себе, другой хранился в его служебном кабинете. Часовой показал, что перед взрывом в здании он слышал выстрелы и попытался войти, но дверь оказалась запертой изнутри. И я не сомневаюсь, что запер ее Дикс с определенной целью. На вопрос, почему не пытались тушить пожар, я отвечал: боялись, знали, что в лаборатории хранились опаснейшие для жизни яды. Всех, мол, охватил панический страх, даже ужас. Именно этим я объяснял свой поспешный уход с Острова на яхте. Ужас на какое-то время лишил меня рассудка, и я принимал нелепые действия: например, отправил отряд Кочубинского в дальнюю бухту, сжег вертолет. Кстати, уничтожение вертолета вызвало наибольшее подозрение у членов следственной комиссии. Я объяснял это так: поручив вертолетчику и одному из охранников захоронить тела погибших - Левитжера и Джека, я опасался, что они, как только яхта отчалит, не станут выполнять мой приказ и умчатся с Острова на вертолете. - И тебе поверили? - Но я же не отдавал отчета своим поступкам и делал глупости. Впрочем за уничтоженный вертолет мне пришлось уплатить. В ЦРУ, я думаю, не верили мне, но у них не было улик. Трудней всего было оправдать наш поход на Кубу. Мои объяснения звучали неубедительно даже для беспристрастных юристов. Я утверждал, что Кэтрин Гомес - моя невеста, что она Левитжером и Диксом была зачем-то командирована на материк и что за наделю до взрыва я получил от нее записку, в которой она сообщала, что находится в Гаване и не собирается возвращаться на Остров, о чем просила сообщить ее родителям. А поскольку супруги Гомес оказались на яхте, то я решил доставить их к дочери да и сам горел нетерпением встретиться с невестой и официально оформить наш брак. - Да, прямо скажем: сказка для школьников, - улыбаясь произнес Слугарев, а Макс продолжал: - Я требовал от американцев отправить меня на родину, то есть в ФРГ, где я готов держать ответ перед своим начальством. И в этом отношении мне, помимо воли своей, помогла старая подруга Дикса фрау Эльза. Кубинцы переправили ее, по ее же просьбе, в Федеративную республику, где она дала сотрудникам из Пуллаха подробные показания о своей жизни на Острове и обо всем, что произошло потом, естественно, и обо мне, к которому она питала симпатию, как к соотечественнику. Из Пуллаха последовал запрос к американцам, и те вынуждены были передать меня на Рейн. Как потом я выяснил, в Пуллахе интересовались загадочной смертью полковника Штейнмана, а я был именно тот человек, который мог им кое-что прояснить. И я действительно рассказал все о смерти Штейнмана и Дикса. Последний их больше всего интересовал, особенно неофашистов, для которых он был чуть ли не национальным героем. Со слов Эльзы они знали, что на Острове я был единственным другом Дикса, и, может, поэтому и на меня попал отраженный лучик его славы. Словом, в ФРГ ко мне отнеслись с пониманием и сочувствием. Но я знал, что это ненадолго, что на смену им уже зреют недоверие и подозрительность. Тогда я решил перебраться в Австрию. - Мы об этом тоже знали и потому отозвали тебя. Ты хорошо поработал. Дмитрий Иванович называл тебя современным Зорге. - Дмитрий Иванович - большой шутник и мастер гипербол. Как он поживает? Слугарев ответил не сразу. По лицу его скользнула скорбная тень. Макс заметил ее и, насторожившись, ждал. - Дмитрий Иванович на пенсии, - глухо проговорил Слугарев, не отрывая сосредоточенного взгляда от мокрого шоссе. - Что-нибудь случилось? - после некоторой паузы осторожно спросил Макс. Бойченкова он глубоко уважал и ценил за ясный ум, принципиальность и прямоту. - Решительно ничего. Просто не понравился одному товарищу, - уклончиво ответил Слугарев. "Кому?" - мысленно спросил Макс, но вслух счел неуместным задавать этот вопрос, только библейски подумал: пути Господни неисповедимы. Наступила продолжительная, какая-то печальная пауза. И вдруг Макс взволнованно заговорил: - Да, ведь я встречался с Эдмоном Дюканом. - Где? - встрепенулся Слугарев. - Когда? - Какое-то зловещее, тревожное предчувствие охватило его. - На Острове. Накануне и в день пожара. Он погиб. Его убили. С ним расправились за его "Черную книгу". Ты что-нибудь слышал о ней? Вместо ответа Слугарев сокрушенно произнес: - Все-таки не послушался совета и поплатился. Этого следовало ожидать. Расскажи, - попросил он печально. И Макс подробно рассказал о появлении Дюкана на Острове, о встрече с ним и о его гибели. …Потом долго молчали. Казалось, каждый погружен в какие-то свои, личные воспоминания, и грешно было потревожить их даже полусловом. Лишь когда миновали Белорусский вокзал и влились в нескончаемый автомобильный поток улицы Горького, Макс спросил: - Мы куда сейчас? - В гостиницу "Космос". Это новая, ты ее еще не видел. - В Москве много нового, чего я еще не видел, - произнес Макс с душевным волнением. - "Космос". Это где такая? - У ВДНХ. Строили французы. Одна из фешенебельных. Тебе понравится. - Да, я люблю этот район - северную окраину столицы. - Была окраина когда-то. А сейчас это почти центр. На метро от ВДНХ до Дзержинской минут пятнадцать и того меньше. Стеклобетонная "подкова" гостиницы "Космос" своей внутренней стороной повернута на запад, на главный вход в ВДНХ. Окна трехкомнатного апартамента, забронированного для Макса, с высоты двадцатого этажа смотрели на сказочный городок павильонов, за которыми простирался зеленовато-рыжий массив Главного Ботанического сада и Останкинского парка. Макс, бесшумно ступая по мягкому ковру гостиной, заглянул в кабинет, затем в спальню, в ванную комнату, подошел к окну и, глядя на золоченый шпиль главного павильона, глубоко и сладко вдохнул всей грудью. Обернулся к Слугареву, блаженно зажмурился и выдавил из себя тепло и нежно: - Москва… Даже не верится. Слугарев смотрел на него с дружеской улыбкой, разделяя его состояние, и сказал с тайным намеком: - Тебя ждут приятные сюрпризы. Не буду мешать. Вот мои телефоны - служебные и домашний. Сегодня я тебя не побеспокою. - Он положил на стол маленький клочок бумажки с номерами телефонов и протянул руку: - До завтра. Отдыхай. - Он задержался у порога и, взглянув на Макса лукаво прищуренными глазами, прибавил с нажимом па первое слово: - Приятного отдыха. Проводив Слугарева, Макс снял пальто, пиджак и начал развязывать галстук, как в дверь постучали. Стоя посреди гостиной с галстуком в руке, он прокричал: - Да-да, входите. Дверь тихо, как-то нерешительно отворилась, и так же бесшумно закрылась. Кто-то несмело вошел в прихожую и не подавал голоса. Бросив на диван галстук, Макс с напряженным любопытством шагнул к прихожей и замер в немом оцепенении. Перед ним стояла Кэтрин, тот самый сюрприз, о котором намекал генерал Слугарев. Большие темные с синей поволокой глаза ее озаряли невинной, робкой и в то же время бесконечно счастливой улыбкой очарованное и слегка смущенное лицо, такое юное и нежное. И вся фигура ее, плотно обтянутая платьем из легкого материала, трепетная и непорочная, излучала ослепительную юность, так что Макс одновременно с радостным восторгом почувствовал совестливую неловкость и грусть. Преодолев первые мгновения замешательства, он шагнул к ней навстречу, неловко обнял ее, и она доверчиво, как ребенок, прижалась лицом к его груди. Он целовал ее волосы, такие до боли знакомые, и ему казалось, что как и прежде, они пахнут морем и магнолией. Потом они сидели в мягких громоздких креслах, восторженно рассматривая друг друга, и Максу казалось, что они не виделись целую вечность, хотя минуло с их последней встречи на Острове чуть больше года. Они не находили слов, да и какие слова могли выразить то, что говорили их сердца. Наконец он, преодолев какой-то барьер волнения, спросил: - Как ты, какими судьбами?.. - Я приехала учиться. Москва была моей мечтой. - А как твои - мама, Фиделио, Педро? - О, мы все переживали за вас, - она осеклась, заулыбалась и смущенно поправилась: - за тебя. Я даже плакала, я думала, что не переживу, весь свет померк для меня. Я ни с кем не хотела разговаривать, никого видеть не хотела. Я боялась, что янки не выпустят тебя живым. Педро и его друзья успокаивали. О твоем похищении писали газеты. Потом, когда я узнала, что ты в Германии, у меня отлегло от сердца, появилась надежда. В ответ ему хотелось сказать ей много нежных, ласковых слов, сказать о том, что образ ее он бережно хранил в своем сердце, что в мыслях он ни на час не расставался с ней, сказать, как горяча его любовь, поздняя - первая и последняя. Но что-то стесняло его и сдерживало, какой-то нравственный тормоз не давал воли чувству и словам, и он лишь стеснительно сказал: - А я тебя несколько раз во сне видел. И всякий раз ты была какая-то не такая. - Какая же? - Восторженная счастливая улыбка не сходила с ее пылающего лица, а голос, мягкий и чистый, звучал, как серебряный колокольчик. - Трудно передать. Но не похожая на себя. - Значит, это была не я, - тоном шаловливого ребенка оказала Кэт. Он смотрел на нее с блаженным умиротворением, изучающе и проникновенно, словно хотел вспомнит ту, что снилась, и сравнить. Тающий взгляд его мягко и неторопливо скользил по ее темным до блеска волосам, по взволнованно-цветущему лицу, осененному искрами ослепительных глаз, по маленькой юной груди, по тонким смуглым рукам, совершенно спокойным, тихим, будто взволнованность не коснулась их совершенно. Перед ним была все та же прежняя Кэт, и в то же время он ловил себя на мысли, что она за это не так уж и продолжительное время заметно изменилась. Что-то новое, незнакомое, неуловимое, неопределенное находил в ее чертах. Сквозь пылкий восторг, целомудрие и непосредственность просматривался установившийся, дельный, глубокий характер не девчонки, а женщины. "Сюрприз, приятный сюрприз", - мысленно произнес он, вспомнив Ивана Слугарева, и вдруг спросил: - Как ты оказалась здесь, в гостинице? Ты где разделась? - У себя в номере. На этом этаже. Мы с тобой соседи, нас разделяет коридор, и окно моей комнаты выходит не на запад, как твои окна, а на восток. Это твой друг Иван снял мне комнату на два дня. А вообще-то я живу в общежитии. - Сюрприз, - вслух повторил он и протянул ей свою руку. И в тот же миг в ответ она сделала встречный жест, и горячая узкая рука покорно и уютно улеглась в его ладони и ударила приятным током, разрушив какую-то невидимую нравственную преграду. Его охватило нечто похожее на озноб и придало решимости. Он лихорадочно наклонился над разделявшим их журнальным столиком и стал с упоением целовать ее пальцы Горячая блаженная волна охватила ее, и Кэт прильнула губами к его склоненной голове.
Последняя глава
1
Генерал Бойченков Дмитрий Иванович сидел на своей подмосковной даче в Старой Рузе и читал "Черную книгу" Эдмона Дюкана. Это был перевод с испанского, сделанный по спецзаказу и изданный в полсотне экземпляров с грифом "секретно". Из рассказа Макса Веземана Бойченков знал, при каких обстоятельствах погиб Эдмон Дюкан, и что причиной жестокой расправы с ним была вот эта самая "Черная книга". В ней речь шла о мировом сионизме, стремительно идущим к своей стратегической цели, точнее - к заветной мечте - мировому господству, которое должно наступить в 2000 году. Книга была насыщена обилием фактического материала, убедительным авторским анализом, изложенным четким слогом опытного публициста-профессионала. Ее автор как журналист много путешествовал, можно сказать, объездил весь мир, встречался и беседовал с разными людьми, среди которых были политические и государственные деятели, представители науки и культуры. В их числе были воинствующие сионисты и просто евреи, если и не осуждающие национальный экстремизм, то и не разделяющие эгоизм и высокомерие своих соплеменников. Случались и доверительные беседы, в которых в пылу откровенности либо самоуверенной спеси говорилось то, что не предназначалось для слуха непосвященных гоев, то есть неевреев, которых "божьи избранники" считают людьми низшего сорта и даже вообще не считают за людей. "Двуногий скот", - именно так назвал человечество один лауреат Нобелевской премии, с которым Дюкан беседовал на палубе океанского лайнера у берегов Новой Зеландии. Эдмон Дюкан утверждал, что евреи - это не нация, а всемирная организация, управляемая из единого центра, штаб-квартира которого находится вовсе не в Израиле, а с некоторых пор даже не в Европе, а в Соединенных Штатах Америки, стране, представляющей финансово-экономический, политический и военныйбастион сионизма. И этот спрут, располагающий не одним триллионом долларов, правит миром через своих хорошо оплачиваемых ставленников, продажных партийных боссов, из которых делают президентов, премьеров, министров и их многочисленную челядь. Крупнейшие капиталистические государства мира, прежде всего Европы, обе Америки, включая Канаду, а также Австралия, и даже Индия, Турция и Греция - это вотчины сионистов. Там не только экономика и финансы, но и культура, идеология, духовная жизнь общества находится под неустанным контролем сионистов. Владея всеми средствами массовой информации, монополизировав кино, телевидение, издательства, они навязывают общественности свою стряпню, оболванивают народ, растлевают души людей, прежде всего молодежи, превращают человека в бездуховное существо с примитивными полуживотными интересами. Когда ты владеешь газетой или телекамерой, совсем нетрудно черное выдать за белое и наоборот. И выдают без зазрения совести уродство за прекрасное, бездарного шарлатана за гения. "Шедевры" такого "гения" щедро оплачиваются, в деньгах у них нет недостатка - так создается мировая известность и слава. Дюкан вспомнил своих соотечественников Сезана и Сислея и позднейших Сальвадора Дали и Марка Шагала, чья бездарность возмущала разум и раздражала своей бесстыжей наготой и пошлостью. Подобных Шагалу "гениев" сионисты расплодили по всему миру, чтобы подменить ими подлинную красоту, убить и унизить настоящее национальное искусство. А тех наивных и отчаянных патриотов, которые посмели воскликнуть: "А король то голый!", подвергали жестокой травле, издевательской насмешке и обрекали на забвение. Вершить такое не составляло особого труда, имея в руках ядовитую, лживую прессу и иные средства оболванивания и растления. Дружно, по единой команде, своих они венчали лаврами, чужих казнили, предавали анафеме, пропечатав на них страшное, веками испытанное клеймо - "антисемит". Дюкан анализировал руководство коммунистических, социалистических и прочих "левых" "демократических" партий и приходил к заключению, что большинство из них состоит из явных или тайных сионистов - евреев, либо женатых на еврейках. "Институту жен" в книге Дюкана была посвящена отдельная глава. На нее Дмитрий Иванович Бойченков обратил особое внимание. Особенно много примеров сионизации общественной жизни и культуры Дюкан брал из французской действительности. Он рассказывал, как дико и цинично травила сионистская пресса национального героя Франции генерала де Голля. Он приводил иногда без всяких комментариев общеизвестные факты - например, что сенат США почти полностью состоит из евреев, что свыше восьмидесяти процентов американской и "западной" прессы контролируется сионистами. Дойдя до того места, где Дюкан утверждал, что из великих держав лишь СССР, Китай и Япония не подвержены тлетворному воздействию сионистов, генерал Бойченков положил книгу на круглый столик и задумался. Что касается Китая и Японии, - размышлял про себя Дмитрий Иванович, то, вероятно, Дюкан прав: у народов этих стран глубоко развито чувство национальной гордости, бережное, ревностное отношение к традициям, то есть все то, что принято называть патриотизмом. В отношении же нашей страны французский публицист определенно заблуждается. Так называемый еврейский вопрос, а следовательно и непременно сионизм, с давних пор удушающим смрадом висел над Россией. Еще в 1909 г. А. И. Куприн писал Батюшкову: "Все мы, лучшие люди России (себя к ним причисляю в самом хвосте), давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, еврейской многовековой спайки, которая делает этот "избранный" народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь. Ужасно то, что все мы сознаем это, но в сто раз ужаснее то, что мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно, иносказательно обругать царя и даже Бога, но попробуй-ка еврея - ого-го! Какой вопль и визг поднимется среди этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей, ибо, как сказал один очень недурной беллетрист - Куприн, каждый еврей родится на свет божий с предначерченной миссией быть русским писателем". Еще десятью годами раньше философ и публицист В. В. Розанов в статье "Европа и евреи" писал: "Секрет еврейства состоит в том, что они по связности подобны конденсатору, заряженному электричеством. Троньте тонкою иглою его - и вся сила, и все количество электричества, собранное в хранителе-конденсаторе, разряжается под точкою булавочного укола. В Париже три миллиона французов, но ведь евреев там столько, сколько на земном шаре - семь миллионов; в Вильне русских около сорока тысяч человек, а евреев в Вильне те же семь миллионов. И конечно, евреи побеждают в Париже столь же легко, как и в Вильне". Позже, в 1914 году в голосе В. В. Розанова прозвучали оптимистические нотки, к сожалению, не оправдавшиеся: "Россия теперь "сама" - писал он, - и эта "сама Россия" справится с евреем и еврейством, которые слишком торопливо решили, что если они накинули петлю на шею ее газет и журналов, то задушили и всячески голос России, страданья России, боль России, унижение России… Но русский народ имеет ум помимо газет и журналов. Он сумеет осмотреться в окружающей его действительности без печатной указки. Сумеет оценить "печатную демократию", распластанно лежащую перед "гонимыми банкирами", "утесненными держателями ссудных лавок", "обездоленных" скупщиков русского добра и заправил русского труда". Не сбылись надежды русского философа - патриота, не сумел народ русский "осмотреться в окружающей его действительности", не сумел сбросить накинутую на его шею петлю еврейских газет и журналов ни до октября 1917 года ни после. И особую трагическую остроту еврейский вопрос приобрел после свержения самодержавия в феврале семнадцатого года. Начало положил первый "демократический" премьер России полуеврей Керенский. Но поскольку он был "полу", то это не устраивало претендентов на российский престол - политиканствующих вождей всевозможных политических партий, рядящихся в кожаные мундиры революционеров. Особенно много их вертелось вокруг энергичного, деятельного, целеустремленного, одаренного проницательным умом и бесспорным талантом политика Владимира Ульянова, которому отводили роль трамплина для последующего прыжка Лейбы Бронштейна-Троцкого или кого-нибудь ему подобного на царский трон. Они делали революцию руками русского и других народов, но не для народа, а для себя. Народ они презирали, для них он всегда был быдлом, рабочим скотом, слепым орудием, при помощи которого они устраивали свое благополучие "божьих избранников". Цепляясь друг за друга, как обезьяны, они расселись на вершине власти: Троцкий (Бронштейн), Свердлов, Каменев (Розенфельд), Зиновьев (Радомысльский), Мануильский, Урицкий, Володарский (Гольдштейн), Склянский, Волин (Фродкин), Гусев (Драбкин), Сольц, Яковлев (Эпштейн), Ярославский (Губельман), Литвинов (Баллах), Радек (Собельсон), Розенгольц, Пятницкий (Таршис), Сокольников-Бриллиант, Лозовский (Дридзо) и тысячи рангом пониже в губерниях, уездах, вплоть до волости - в Советах, парткомах, карательных органах, в культуре. Они "воспитывали", "учили", непокорных казнили без суда и следствия, покорных миловали, услужливым бросали кость и подбирали жен из своего племени. Женатыми на еврейках из высшего эшелона власти были Бухарин, Рыков, Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Киров, Андреев и дальше по нисходящей лесенке - министры, военачальники. Каганович не в счет. Искренний и честный в своих делах и помыслах, Ленин мешал циникам и фарисеям, и тогда Фани Каплан хладнокровно разрядила в него пистолет с отравленными пулями, освобождая трон для будущего комимператора Троцкого. Но произошла осечка, неожиданная для Троцкого и его команды: Ленин, вопреки уверенности убийц, оказался жив, он чудом уцелел, могучий организм не позволил испустить последний вздох и на время, хотя и не долгое, сохранил жизнь вождя. Троцкий растерялся. Коварный замысел рушился. Зато не растерялся Сталин, его острый аналитический ум разгадал и правильно оценил стратегический замысел выстрела Фани Каплан. Он понял, что кроется за подлым выстрелом. И начал действовать. Он поклялся перед самим собой: сорвать амбициозный замысел Троцкого и его камарильи. Хитрит прозорливый грузин, несравненный стратег политических интриг, он поставил перед собой чрезвычайно трудную задачу - обезвредить зарвавшегося "престолонаследника" Троцкого и его ближайших сподвижников - Бухарина, Зиновьева, Каменева. Осторожный, коварный игрок, он вступил в рискованный поединок с матерыми хищниками, самоуверенными в своей неуязвимости. Он ловко, элегантно сталкивал их лбами, ссорил и мирил, натравливал их друг на друга и в конце концов из сложнейшей борьбы вышел победителем. Он понимал, что победа над верхушкой не дает основания для благодушия. В стране на руководящих постах как в центре, так и на местах оставались многие тысячи соплеменников Троцкого. Карательный аппарат держали в своих руках евреи - Ягода, Фриновский, женатый на еврейке Ежов, начальники лагерей, руководители главков. Тревогу вызывало и положение в руководстве армии. Не внушали доверия Тухачевский, Гамарник, Якир, Фельдман. Это были люди, близкие к Троцкому. Особую опасность представлял молодой выскочка Тухачевский, с темной биографией, выкормыш Лейбы Бронштейна, жестокий и кровожадный, как и его шеф. Сталин помнил, как Тухачевский утопил в крови матросов, их жен и детей (сам Сталин был против кровавого побоища в Кронштадте). Помнил, сколько невинной крестьянской крови пролил Тухачевский на Тамбовщине. Начались чистки, репрессии, "разоблачения врагов народа". Но "чистильщиками" опять же были, как правило, все те же, ставленники Ягоды и Фриновского, родственники Троцкого и Свердлова. Они-то свирепо усердствовали, нагоняя процент "разоблаченных врагов". С особым пристрастием они следили за выполнением закона о борьбе с антисемитизмом, изданного по инициативе Бухарина и его тестя Ларина (Лурье) летом 1918 года. За одно слово "жид" угоняли на каторгу, не считаясь с тем, что до семнадцатого года это слово на Украине и Белоруссии не считалось оскорбительным, было обычным, определяющим национальность. Таким оно и по сей день "официальным" сохранилось в Польше. И не легко было украинскому или белорусскому крестьянину привыкнуть к новому для него слову "еврей". Даже Уинстон Черчилль, выступая в палате представителей 5 ноября 1939 года, констатировал: "В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная часть в проведении системы террора, учрежденного чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками". Позже, через год, Черчилль снова возвращается к еврейскому вопросу. В 1920 году он писал: " …Начиная от Спартака, Вейсхаупта до Карла Маркса, вплоть до Троцкого в России, Бела Куна в Венгрии, Розы Люксембург в Германии, Эммы Гольдман в Соединенных Штатах, это всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти… Он был гласной пружиной всех подрывных движений 19 столетия; и наконец эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы и держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика". Бойченков нисколько не сомневался в правоте Черчилля: это действительно был и есть, добавил от себя Дмитрий Иванович, всемирный заговор международного сионизма, зловещего спрута, запустившего свои щупальцы во все уголки планеты для господства над миром, порабощения человечества. И было чему возмущаться и удивляться не только Черчиллю. Доверчивые, добродушные славяне, обманутые лживыми лозунгами, не смогли разглядеть за эффектными псевдонимами - Урицкий, Володарский, Свердлов, Склянский и тому подобными - обыкновенных иуд. Впрочем, многое понимали, видели, но были бессильны перед немыслимой звериной жестокостью всевозможных ягод и берманов. Даже номинальный глава Советского государства Калинин вслед за Черчиллем вынужден был признать трагический факт. В одной из своих речей в 1926 году он говорил: "… Почему сейчас русская интеллигенция, пожалуй, более антисемитична, чем была при царизме? Это вполне естественно. В первые дни революции и в канун революции бросилась интеллигентская и полуинтеллигентская еврейская масса… Для еврейского народа, как для нации, это явление, то есть участие евреев в революционных органах, имеет огромное значение. И я должен сказать, значение отрицательное. Когда на одном из заводов меня спросили, почему в Москве так много евреев, я им ответил: если бы я был старый раввин, болеющий душой за еврейскую нацию, я бы предал проклятию всех евреев, едущих в Москву на советские должности, ибо они потеряны для своей нации". Вспоминая эти слова "всесоюзного старосты", генерал Бойченков мысленно говорил: "Очень жаль, что Калинин не был старым раввином. Да и едва ли послушались бы евреи, мутным потоком хлынувшие в обе столицы советской России. Они не считали себя потерянными для своей нации, и были в этом правы". Работая в Комитете Государственной безопасности, по долгу службы Дмитрий Иванович интересовался деятельностью сионистов в нашей стране и потому был знаком со многими материалами, касающимися еврейского вопроса. Об участии евреев в Февральской и Октябрьской революциях в 1917 году материалов было предостаточно. Правда, сами евреи предпочитали их не афишировать. Хотя находились среди них и "хвастливые головы", которые не прочь были и пооткровенничать. Один из таких, некий Коган, в 1919 году в газете "Коммунист" писал: "Можно сказать без преувеличения, что великий русский социальный переворот в действительности является делом рук евреев. Разве темные, угнетенные массы русских рабочих и крестьян были бы в состоянии собственными силами сбросить иго буржуазии? Безусловно нет; евреи были теми, кто дал русскому пролетариату зарю Интернационала, и не только дали, но и теперь ведут дело Советов, крепко находящееся в их руках. Мы можем быть спокойны, пока верховное командование Красной Армии находится в руках товарища Троцкого. Хотя среди рядовых Красной Армии евреев нет, но, находясь в комитетах, в советских организациях и в командном составе, евреи ведут храбрые массы русского пролетариата к победе…" Сталин, конечно же, понимал, что дело Советов крепко находится в руках евреев, и это его беспокоило. Он считал ненормальным и недопустимым, просто абсурдным, что все командные посты в партийном, государственном и хозяйственном аппаратах занимают евреи. Коренному населению была уготовлена участь рабов. Однажды в конце 1935 года в Москве, в ЦК ВКП(б) проходило совещание по вопросам строительства. На нем присутствовали члены Политбюро во главе со Сталиным. Открыл совещание Молотов, жену которого, еврейку Полину Жемчужину, Сталин откровенно презирал. Было два докладчика: председатель Госплана Межлаук и начальник главного управления строительной промышленности Наркомтяжпрома Гинзбург. После докладов начались выступления. Один за другим поднимались на трибуну лица одной и той же национальности: начальник строительства "Большая электросталь" Кац, начальник Челябинского станкостроя Каттель, начальник Южжилстроя Суховальский, начальник управления Лентрестом стройматериалов Перельман, директор кирпичного завода Лейбович, начальник строительства Азовсталь Гугель, начальник Дзержинстроя Познанский, начальник строительства канала Москва - Волга Коган, заместитель начальника Главугля по строительству еще один Коган, главный инженер Главстроя Штаерман, начальник строительно-квартирного управления армии Левензон, начальник Золотоустроя Валериус, начальник строительства Архангельского целлюлозного завода Маршак, начальник Криворожстроя Весник. Начальники, начальники и только начальники, ставшие таковыми не в силу своей профессиональной компетентности, а по национальному происхождению. Сталин считал такое положение совершенно не нормальным и в конце тридцатых годов им была сделана попытка заменить этих "прирожденных начальников" компетентными национальными кадрами. На места, занимавшие "детьми Арбата", назначались дети рабочих и крестьян с вузовскими дипломами. Начавшаяся война приостановила этот процесс. Но не успели отгреметь победные салюты весной сорок пятого, как "божьи избранники" шумною толпою снова хлынули в начальники, прежде всего в сферу культуры. Еще в годы войны Илья Эренбург горделиво объявил своих соплеменников "донорами духа", из чего следовало, что именно им принадлежит пальма первенства в разгроме гитлеровской Германии. Такой "пассаж" возмутил Сталина и его ближайших помощников Жданова, Маленкова, Щербакова. И как ответная реакция, началась борьба с "безродными космополитами". Чтобы впоследствии, спустя четверть века не говорили о ней "дети Арбата", но факт остается фактом: борьба с космополитами нашла горячую поддержку в народе. Она вызвала всплеск патриотизма, который "божьи избранники" сразу же после окончания войны начали издевательски, цинично унижать и оплевывать, запустив в обиход оскорбительное словцо "квасной". И уже восторженная гордость фронтовиков своими ратными подвигами получала клеймо "квасного патриотизма". Совершенно естественно, что борьба с космополитизмом не понравилась Молотову, Ворошилову, Андрееву и другим деятелям высших эшелонов власти, связанных родственными узами с "божьими избранниками". Что же касается "божьих избранников" в мировом масштабе, то вся их сионизированная пресса, а вместе с ней парламентарии дюжины больших и малых государств, главным образом Европы и обеих Америк, денно и нощно, не щадя глоток своих, клеймили позором "разгул антисемитизма" в Советском Союзе. Титула главного антисемита был удостоин сам Иосиф Виссарионович, а его правой рукой - Андрей Александрович Жданов. В год смерти Сталина Бойченков находился за рубежом - он был резидентом в одной из европейских стран. Помнит большую статью в буржуазной просионистской газете, в которой излагалась версия о насильственной смерти диктатора. Мол, Сталин решил раз и навсегда покончить с "еврейским вопросом" в своей стране - переселить евреев в Биробиджан. И таким образом лишить их кастовой привилегии. Тогда сионистский центр приказал своему агенту Лаврентию Берия умертвить Сталина. Берия не мог ослушаться, иначе ему грозило разоблачение и неминуемая смерть, и он выполнил приказ. "Не случайно, - подумал Дмитрий Иванович, - сразу же после смерти Сталина Берия лично освободил из-под стражи супругу Молотова и сразу же вокруг нее, как осы вокруг сладостей, закружился рой "божьих избранников". Подобные рои кружились и вокруг Екатерины Давидовны Ворошиловой". Вспомнил Дмитрий Иванович, как и его в сорок шестом, молодого и перспективного, пытались женить на очаровательной и тоже перспективной Анджеле Зицер - студентке Института театральных искусств. Отец будущего режиссера и худрука работал в президиуме Верховного Совета, имел персональную машину, кремлевский паек и четырехкомнатную квартиру, в которой возможного зятя Диму Бойченкова в голодном послевоенном году щедро угощали черной икрой и прочей деликатесной снедью, о существовании которой он и не подозревал. После ужина захмелевшему - не столько от невестиных чар, сколько от марочного коньяка - хозяева любезно предложили остаться заночевать - стоит ли в столь поздний час да еще в состоянии опьянения появляться на улице, где, случается, и хулиганят? Сначала доводы показались Диме убедительными и он, хотя и не без колебаний, согласился и уже начал было в отведенной ему комнате готовиться ко сну. "Твоя комната", - многозначительно улыбнулась Анджела и ушла в свою спальню, а спустя минуту предстала перед ним терпко надушенная, в ярком шелковом халате, призывно обнажавшим соблазнительно белую грудь. Вот в этот самый миг как протест, как видение, Бойченкову явилась его знакомая озорно-улыбчивая Катя, тоже студентка, только не ГИТИСа, а мединститута, живущая с матерью вдовой и младшей сестренкой (отец не вернулся с войны) в одной комнатушке многонаселенной коммуналки. Явилась в своем неизменном и, возможно, единственном платьице из желтого ситца, усеянного голубенькими незабудками. И сразу же протрезвевший Дима Бойченков, притворно вдруг что-то вспомнив и сославшись на это "что-то", проворно ускользнул из четырехкомнатной квартиры, не простившись с несостоявшимися тестем и тещей по той причине, что они уже спали. На пустынных просторных улицах Москвы дышалось вольготно и умиротворенно и не было никаких хулиганов, даже в мыслях. А уже потом, - плыли в памяти Дмитрия Ивановича воспоминания, - много лет спустя, когда Катя стала его женой и у них появились дети, к их сыну-студенту повадилась прекрасная Зорина Фильшина. Ее атака была так стремительна и до смешного откровенна, что вызвала вполне обоснованные опасения отца: устоит ли? И он решил вмешаться, как бы между прочим, но не без умысла заметив в присутствии жены и сына: "Ну и хватки у этой Зорины: сразу виден… характер. Этакая амбициозная самоуверенность". Сын понял намек и попытался рассеять подозрения. "Ты ошибаешься, папа, она не то, что ты думаешь. Она - узбечка". Дмитрий Иванович иронически улыбнулся и ответил: "Она такая же узбечка, как ты эфиоп. Я знаю ее отца". И после паузы сказал: "Впрочем, меня это не касается". И атака, говоря военным языком, захлебнулась. И была отражена. Институт жен… В стратегических планах сионистов ему отведена одна из первейших ролей. Бойченков знал, что главный экономический штаб страны всегда возглавляли, начиная с Куйбышева, товарищи, женатые на еврейках, он помнит, как в Москве среди государственных служащих ходили разговоры, что кадры сотрудников формирует жена Председателя Госплана Первухина из племени "божьих избранников", а затем жена его преемника Байбакова, и это естественно: экономику страны Советов международный сионизм решил держать под своим контролем любой ценой. Стремительный экономический подъем Советского Союза в первые послевоенные годы буквально потряс западных советологов. Им и во сне не снилось, что страна, до основания разрушенная войной, могла за такой короткий срок залечить немыслимо тяжелые раны и снова возвышалась могучей и гордой державой, на которую с горячей надеждой смотрел мир униженных и оскорбленных. С приходом к власти Хрущева "божьи избранники" облегченно вздохнули: Никита, как и они, считал Сталина своим непримиримым личным врагом. В одном из заграничных турне журналисты спросили, как он относится к евреям. И Хрущев с игривой определенностью ответил: "Как дедушка к внукам". И тем не менее "внуки" не были довольны дедушкой: он раздражал их своими непредсказуемыми действиями и часто нарушал хорошо спланированную программу, рассчитанную до рокового 2000 года. Он был неуправляем и поддавался порой диаметрально противоположным влияниям: с одной стороны зятя, представляющего интересы "внуков", с другой - патриотически настроенных партийных кадров, верных идеям социализма. А в стратегическом плане "внуков" - к 2000 году на развалинах когда-то могучего государства СССР должно возникнуть несколько мелких и хилых государственных образований с допотопным капиталистическим укладом и пещерными повадками двуногих хищников. Для этого требовалось прежде всего разрушить до основания экономику страны, приостановить технический и научный прогресс, развалить сельское хозяйство, растранжирить природные богатства - газ, нефть, лес, пушнину, одновременно воспитывая поколение иждивенцев, бездуховных, способных за жвачку и джинсы продать самому дьяволу все нажитое предками многих поколений, в том числе дедов и отцов. А это мог сделать человек "свой в доску", лидер, готовый послушно выполнять тщательно разработанную в Колумбийском или другом каком-нибудь университете США программу бескровного, "мирного" покорения СССР. Так появился на троне все еще великого государства Леонид Ильич Брежнев - серенький, впрочем импозантного вида, не блестящий умом-разумом человечек. Для роли, предназначенной "божьими избранниками", он подходил по всем статьям. Покладистый, снисходительный до сентиментальности, простой в обращении и в то же время тщеславный, без твердых принципов и убеждений, пылкий женолюб и выпивоха. Но главное - женатый на Виктории Гольберг - дочери состоятельного ювелира, имеющей природное пристрастие к драгоценным камешкам. И сама Виктория и камешки впоследствии сыграли злую шутку в жизненной судьбе и карьере генерала Бойченкова. Но об этом чуть позже. Бойченков вспомнил, как однажды его пригласил председатель КГБ и подал ему пространное на двадцати печатных страницах, письмо группы ученых-экономистов, адресованное в КГБ. "Ознакомься и скажи свое мнение", - попросил председатель. Это было в его характере выслушивать мнение подчиненных по любому, иногда даже бесспорному вопросу. Авторы письма не носили высоких титулов "академик", "лауреат", "заслуженный". Это были глубоко мыслящие компетентные в вопросах экономики ученые-патриоты, искренне болеющие за судьбу Отечества. С цифрами и фактами они убедительно доказывали, что страна неотвратимо катится к экономическому краху, чего правительство либо не видит и не понимает, либо не желает понять. Бойченков - аграрий по образованию, разделял тревогу авторов письма, о чем откровенно доложил председателю. В ответ тот лишь спросил: "Ты считаешь, что это не провокация?" - "Это серьезно и честно. Я с ними согласен", - искренне ответил Бойченков. Колючие жесткие глаза председателя, прикрытые пенсне, скользяще резанули по Дмитрию Ивановичу и затем с усталой задумчивостью уставились в лежащий на столе тревожный документ. Пауза была долгой, напряженной, и Бойченков не решился ее нарушить. Наконец председатель, не поднимая глаз, тихо выдавил: "Хорошо" и слабым жестом руки дал понять Дмитрию Ивановичу, что тот свободен. По-прежнему для Бойченкова председатель оставался загадочной личностью, одетой в непроницаемую кольчугу. "Институт жен", созданный еще на заре Советской власти, не очень пострадал в годы сталинских чисток. По крайней мере, во времена Брежнева он так же процветал, как и во времена Троцкого и Сталина. Бойченков знал, что из секретарей ЦК семь, включая и самого Брежнева, были женаты на еврейках, впрочем, как и многие зампредсовмина, министры, их замы, начальники главков. Не составляли исключения наука и культура, пресса. Старшим помощником у Брежнева работал Эммануил Цуканов, человек влиятельный, пользующийся доверием своего хозяина больше, чем иные члены Политбюро. Жены власть имущих! Любопытная общественность не обделяет их своим вниманием, особенно, если они сами, своим поведением и действием дают повод для пересудов. Иные из них имеют большую власть, чем их всесильные мужья. Конечно же бывают исключения, встречаются среди них и скромные и даже умные, которые считают неэтичным вмешиваться в государственные и служебные дела. Но эти скромницы и тихони иногда позволяют себе обращаться к мужьям по мелочам. Скажем, у ее подруги или знакомой проворовался муж, сын или зять. Случайно, по оплошности, как говорится, бес попутал. А следователь уже и дело завел, а там глядишь - и суд и приговор. Жалко человека, ведь он не хотел. Ну просто так получилось, само собой. "Пожалуйста, позвони кому следует. Да может он и не воровал, злые люди напраслину навели". Или еще мягче, деликатнее: "А нельзя ли что-то сделать, как-то помочь? Ну, чтоб не было суда?" Есть и такие - сами звонят "кому следует", без ведома мужа. В этом смысле не составляла исключения Виктория Брежнева. За одних просила Леню - помочь, посодействовать, за других - сама звонила "кому следует". Но чем выше должность, тем серьезней и просьбы об услугах. Просила и за соотечественников и за приезжих к нам иностранцев, которые своей "деятельностью" привлекали внимание органов государственной безопасности. Генерал Бойченков и сейчас еще не был уверен, что супруга Брежнева понимала подлинный смысл услуг, которые она оказывала ходатаям, едва ли осознавала она, что выполняя их просьбы, наносит урон государственным интересам страны, ее безопасности. Понятно, что такая деятельность Брежневой" не могла пройти мимо сотрудников КГБ, служебный долг которых обязывал решительно вмешаться. Вооружившись бесспорными, неопровержимыми фактами, материалами и документами генерал Бойченков явился на доклад к председателю. Дмитрий Иванович отдавал себе отчет в том, что дело это весьма щепетильное, что своим докладом он ставит председателя в сложное положение. Он даже пытался предположить, как будет действовать, какие меры или решения примет председатель, скорее всего доложит своему шефу-куратору Мирону Андреевичу Серому, который по непонятным причинам питал к Бойченкову откровенную неприязнь. Зато с председателем у Бойченкова были если и не дружеские, то ровные, доброжелательные отношения. Председатель ценил Дмитрия Ивановича как работника, которому доверял без сомнений и колебаний. Всегда сдержанный, корректный и осмотрительный, он и на этот раз встретил Бойченкова холодным проницательным взглядом, в котором невозможно было что-нибудь прочитать, выслушал его краткий доклад спокойно, не проронив при этом ни звука, затем молча внимательно прочитал положенные ему на стол материалы с конкретными фактами и именами. С напряжением наблюдал Дмитрий Иванович за председателем, когда тот читал, пытаясь проникнуть в его душевное состояние, хотя бы приблизиться к его мыслям. Но тщетно: ни один мускул не дрогнул на каменном лице председателя, и глаза, прикрытые пенсне, оставались холодными и недоступными. Закончив чтение, он прикрыл документ широкой крепкой ладонью и, уставившись на Бойченкова все тем же, без эмоций, взглядом, негромко и как будто даже доброжелательно спросил: "Кто еще об этом знает?" - кивок на докладную. "Я никому не докладывал" - так же тихо ответил Бойченков. "Хорошо, - выдохнул председатель. - Я посоветуюсь с Мироном Андреевичем". Последняя фраза, как показалось Дмитрию Ивановичу, сорвалась у председателя невольно: он был явно огорчен и расстроен, хотя и старался скрыть свое состояние. Какие дальнейшие шаги предпримет председатель? - спрашивал себя Дмитрий Иванович. Доложит Серому - это понятно. А как поведет себя Мирон Андреевич - человек вспыльчивый, нервный, самоуверенный и жестокий. Именно Серому обязан председатель своей карьерой - выдвижением на пост шефа КГБ. Председатель - человек принципиальный, но и осторожный и, пожалуй, в сложной обстановке может поступиться принципами. Слывет интеллектуалом, любит поэзию и, говорят, сам сочиняет. Но как считает Бойченков, интеллект его внешний, без прочного фундамента и глубоких корней. Кто его родители - неизвестно. Говорят, детдомовец. Как разведчик, скорее любитель, чем профессионал. Любитель, но не дилетант. Отличается широтой взглядов, убежденный ленинец, в то же время не чернит Сталина, не отрицает его заслуг перед страной, особенно в войне с фашизмом. Таким виделся Дмитрию Ивановичу председатель КГБ. Приблизительно через неделю председатель пригласил к себе Бойченкова. На этот раз ему не удалось скрыть своего волнения. Он был подчеркнуто любезен и предупредителен, но какое-то смятение, чувство неловкости, беспомощности и стыда уловил Дмитрий Иванович в его смущенном взгляде. Он встретил Бойченкова стоя у окна и затем предложил сесть не у стола, а в стороне, на диване, и сам сел рядом, давая понять, что разговор будет носить полуинтимный, доверительный характер. "Я пригласил тебя, Дмитрий Иванович, в связи с делом Виктории, - начал председатель и запнулся, состроив гримасу на своем лице, отливающем нездоровой желтизной. Поправился: - Собственно, никакого "дела" нет. Вчера у меня состоялся, откровенно скажу тебе, очень серьезный и неприятный разговор с Мироном Андреевичем. Он был взбешен. Он говорил буквально следующее: "кто нам, то есть Комитету, дал право собирать компромат на первое лицо партии и государства?! Кто позволил? Ну и так далее… И, как итог - решение: всех, кто причастен к этому делу, уволить. В том числе и тебя". Громом среди ясного неба прозвучали для Бойченкова последние слова председателя. И дело вовсе не в увольнении его из органов: он не забыл, как во время разговора о масонах раздраженный Серый уже предлагал Дмитрию Ивановичу добровольно уйти из КГБ в сельское хозяйство. Знал он и о вседозволенности и беззаконии, царящих в брежневском клане, о криминальных похождениях дочери Брежнева и ее мужа. Но здесь же особый случай. Не какие там бриллианты-сапфиры, а безопасность государства. "Что же - жена Цезаря вне подозрений", - с горькой иронией произнес Бойченков, на что Председатель, чтобы упредить вспышку эмоций Бойченкова сказал: - Я прошу тебя не горячиться. Я тебя понимаю, но и ты должен меня понять. Есть вещи, которые выше наших возможностей. Короче, я уговорил Мирона Андреевича оставить тебя в Комитете. Только не в центральном аппарате. Временно. - Я не о себе, - ответил Бойченков, с большим усилием сдерживая себя. - Я о товарищах. За что такая кара? В чем их вина? Что честно выполняли свой долг? - Я постараюсь позаботиться о них, - проникновенно ответил председатель. - В таком случае я хочу помочь вам. Искренне прошу уволить меня. Всю вину беру на себя. Думаю, что это вполне удовлетворит товарища Серого, и он не станет требовать других жертв. Да, я лично, по своей инициативе собирал этот "компромат", за что и несу персональную ответственность. Так генерал Бойченков оказался отставным. Дремавший было ветер внезапно и резко встрепенулся, сорвал с клена золотистый лист и бросил на ступеньку крыльца. Потянуло осенней прохладой, и сдуло нить воспоминаний. Его внимание привлек этот одинокий, упавший на крыльцо кленовый лист с бирюзовыми капельками, вкрапленными в звонкое золото. В нем было что-то таинственное, загадочное - не предвестник осени с ее слякотью и холодами, а напротив, какой-то благовест, неожиданный и приятный, который мы всегда ждем даже в самое безысходное время, как последнюю надежду. Лично для себя генерал Бойченков уже ничего не ждал. Ровесник Октября - он родился 7 ноября 1917 года и гордился, что свой день рождения отмечает "вместе со всей страной" - физически он чувствовал себя вполне трудоспособным, и у себя на даче, хотя и без особого влечения, занимался садом-огородом, чтобы только отвлечься от тягостных дум. И думы эти - не о себе, а о стране, о судьбе великой державы - одолевали его неотступно, постоянно преследовали и не давали покоя. Он видел, понимал, наконец, доподлинно знал, что страна уже не сползает, а неотвратимо катится к экономическому краху, что относительная стабильность и благополучие достигаются за счет благополучия потомков, их нефти, леса и пушнины, что нынешнее поколение живет по страшному принципу: "После нас хоть потоп". Он располагал достоверной объективной информацией о деятельности, а вернее бездеятельности наших научно-исследовательских и технических учреждений, всевозможных НИИ, которые работают вхолостую, в том числе и Академия наук, возглавляемая престарелым Александровым. Добрую половину этих "двигателей прогресса" составляют бездарные начетчики в степени кандидатов и докторов, сидящие на чемоданах в ожидании виз, и столь же бездарные академики, получившие из рук Брежнева золотые звезды героя труда за никому не нужные "открытия" и "изобретения". Бойченков считал, что полученные этими учеными почести имеют политический характер. Самым ярким, показательным в этом смысле был академик Аркадий Григорьевич Гарбатов, доверенное лицо и ближайший советник Брежнева в делах международных и доверенное лицо Виктории Брежневой, можно сказать, друг семьи. В домашней обстановке Брежнев называл Гарбатова по имени, но почему-то не Аркаша, а Абраша. И хотя научный багаж Гарбатова не поднимался выше уровня провинциального журналиста, он занимал высокую должность руководителя научного центра, был депутатом Верховного Совета, носил золотую звезду Героя труда и был членом различных коллегий, редколлегий, советов и комитетов. А сколько было подобных Гарбатову академиков экономистов, преднамеренно разрушающих своими рекомендациями экономику, академиков-историков и социологов с примитивным мышлением! Бойченков жил один на даче. Жена часто недомогала и в конце лета перебралась на московскую квартиру до новой весны. Дмитрий Иванович предпочитал уединение здесь среди природы, особенно в первые сентябрьские дни, когда уезжают дачники и устанавливаются какая-то особая умиротворенная тишина и безлюдие. Молчал и дачный телефон, который казался теперь совсем не нужным. Первое время после его отставки друзья звонили, предлагали "повидаться", обсудить новости, которые его не интересовали, но всякий раз Дмитрий Иванович под явно надуманными предлогами уклонялся от встреч, и его оставили в покое. Одиночество его не тяготило; пожалуй напротив - давало покой и отдых душе. Общение с друзьями и знакомыми ему заменяли книги. На них он набросился с жадностью проголодавшегося, словно старался наверстать упущенное. Открытая веранда, на которой сидел Дмитрий Иванович, выходила не на улицу, а во двор, где на старых яблонях дозревали штрифлинги и коричное. Он не слышал, как к его калитке подкатила "Волга", и только мягкий хлопок закрытой двери заставил его настороженно напрячь слух. Он никого не ждал, но сразу понял, что приехали к нему. Не тревога, а обыкновенное любопытство заставило его подняться из старого удобного кресла, вывезенного из московской квартиры, и выйти навстречу бывшему своему подчиненному, а ныне занявшему его должность генералу Слугареву. Бронзовое от загара лицо Ивана Николаевича светилось тихой, доброй улыбкой, а в глазах играли искорки радости и необъяснимого смущения. И этот свежий загар лица, и синие доверчивые глаза, и даже светло-голубой с серебристым переливом костюм излучали радость и дружелюбие. - Не ждал, Дмитрий Иванович? Ты уж извини, что я без предупреждения. Домой позвонил: Галина Даниловна сказала, что ты на даче. А сюда я решил без звонка. - Правильно решил, - дружески улыбнулся Бойченков, обнимая Слугарева. - Рад тебя видеть, Иван. Сегодня я дочитал "Черную книгу", подумал о тебе. - Биотоки: за ней я и приехал. - И только всего? - Ну, не только. В общем, все связано с этим вопросом. С главным вопросом, - многозначительно повторил Слугарев, и Дмитрий Иванович догадался, что он имеет в виду под "главным вопросом", - конечно же "еврейский вопрос". - Тогда садись, рассказывай, кому и зачем понадобилась "Черная книга"? Слугарев не спешил садиться. Он снял серебристо-голубой свой пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, сказал: - Я там тебе пильзенского пива прихватил. Не возражаешь? - Какой русский человек откажется от пива, да еще чешского, как сказал товарищ Гоголь Николай Васильевич. - Товарищ Гоголь, насколько мне помнится, говорил о быстрой езде. - К черту детали, давай пиво. Слугарев вышел в сад и прокричал шоферу: - Толя! Тащи коробку. Оба они были поклонниками пенистого напитка. Дмитрий Иванович пил покрякивая, демонстрируя подлинное наслаждение, и приговаривал: - Ну, удружил… А то, может, чего по существенней? У меня есть бутылочка молдавского, берегу на всякий случай "Белый аист", марочный. - Береги. Кто-нибудь нечаянно заглянет, вот и выстрелишь в него "Белым аистом". - И одарив Бойченкова теплым взглядом спросил: - Не скучаешь? - И не дождавшись ответа, вымолвил: - Хорошо у тебя, тишина и покой. Идеальная творческая обстановка - хоть пиши книгу. А что? Тебе есть что сказать людям. - "Белую" едва ли станут читать. А "черную" никто не издаст. А потом - видишь, какая судьба ждет автора. - И минуту помолчав, спросил о Максе Веземане: - Как там Вальтер? - Работает. Все еще переживает за Дюкана. Казнит себя. - Ну, это он напрасно. Спасти Эдмона он не мог - это факт. Бойченков открыл еще бутылку, налил Слугареву, потом себе, поднял пенистый бокал, но пить не стал, словно передумав, поставил на стол. Уставив на Слугарева пытливый взгляд, предложил: - Ну так что там, давай, выкладывай. Слугарев дотронулся до "Черной книги", лежащей здесь же на столе, приподнял ее и снова положил на место, заговорил негромко, медленно: - Вчера председатель вызвал меня и завел разговор о сионистах и масонах. Спросил: "Как по-твоему, есть у нас сионисты и масоны?" Вопрос, конечно, праздный, хотя и неожиданный. - И что ты ответил? - Я говорю, что касается сионистов, то ответ однозначный: коль есть евреи, то есть и сионисты. Он перебил меня: "А ты что - в каждом еврее видишь сиониста?" Я говорю: "Зачем в каждом? Я так не думаю. Иное дело, что каждый сионист - еврей". Он и тут возразил: "Совсем не обязательно. Среди русских, женатых на еврейках попадаются матерые сионисты". Так и сказал - "матерые". И потом снова вопрос: "А что думаешь о масонах?" Я не успел ответить, как он уточнил: "Об их связях с сионистами?" Своим уточнением он облегчил мой ответ. Я сказал: "Думаю, что сионисты контролируют масонские ложи". Он не возразил. Одним словом, председатель поручил мне дать ему концентрированный материал о сионистах в виде справки с экскурсом в историю. Затем, как бы между прочим, заметил, что этим вопросом в свое время интересовался товарищ Бойченков, так что твои советы могли бы быть мне полезны. И еще он спросил, читал ли я "Протоколы сионских мудрецов"? И советовал ознакомиться с этим, как он выразился, "основополагающим документом". Признаюсь, я был несколько удивлен: "основополагающим". - Напрасно, - отозвался Дмитрий Иванович и прибавил: - Удивляться тут нечему: лично я не сомневаюсь в подлинности этого страшного документа. Вся последующая деятельность мирового сионизма подтверждает и подлинность и незыблемость этой зловещей программы мирового господства. Об этом, между прочим, без всяких колебаний говорят честные американцы, на собственной шкуре испытавшие всю омерзительную сущность сионизма. Я имею в виду Генри Форда и Дугласа Рида. Сейчас я тебе покажу…. - Дмитрий Иванович поднялся из-за стола и ушел в дом. Вернулся через минуту с толстой тетрадью в руках и, не садясьсказал: - Вот послушай, что писал автомобильный король Генри Форд по поводу "Протоколов сионских мудрецов": "Эти "Протоколы" полностью совпадают с тем, что происходило в мире до настоящего времени; они совпадают с тем, что происходит сейчас". Или вот свидетельство Дугласа Рида - блестящего публициста, писателя, глубоко изучившего "еврейский вопрос", о "Протоколах": "Книга точно описывает, что произошло в течение полувека после ее публикации и все, что произойдет в последующие 50 лет, если только заговор не вызовет соответствующего его силе противодействия. В книге содержится богатейшее знание (в особенности слабости человеческой природы), источником которого может быть только опыт и изучение, накопленное в продолжение столетий и даже целых эпох". Закончив чтение, он положил тетрадь на стол и не садясь продолжал: - Точно, метко, убедительно. Лучше не скажешь! А противодействия не будет. Некому. Сталин попытался - они его умертвили. - Ты в этом уверен? - Совершенно. Это сделал Берия. - И ты не видишь силы, которая могла бы предотвратить этот заговор? - Нет. По крайней мере, у нас, в СССР, нет. Брежнев, ставленник Сиона. И все его окружение - это лакеи сионизма. - Тогда скажи - зачем председателю потребовался такой материал? Бойченков медлил с ответом. Сосредоточенное лицо его хмурилось. Он напряженно искал ответ, и не найдя, выдохнул: - Не знаю. - И уже садясь за стол, спросил: - В чем должна выражаться моя помощь тебе? Я бы посоветовал ознакомиться с высказываниями по этому вопросу с известными как русскими, так и иностранцами. В частности, из русских посмотри, что говорили Достоевский, Куприн, Розанов Василий Васильевич, Дикий Андрей Иванович, Чехов, Гоголь. Из иностранцев начни с Маркса и Энгельса. Потом Эразм Ротердамский, Мартин Лютер, Наполеон, Монтере, Вольтер, Франц Лист, Вагнер, Бенджамин Франклин, Генри Форд, Дуглас Рид, Уинстон Черчиль. Могу предложить тебе эту тетрадь. С возвратом, конечно, и ненадолго. Что же касается Форда, Рида и Дикого, а также "Протоколов", то это надо внимательно, с карандашом, проштудировать. Слугарев встал из-за стола, прошелся к окну, посмотрел в сад. Но взгляд его не замечал ни яркого багрянца черноплодной рябины, ни могучей еще зеленой кроны матерого дуба, освещенного неярким солнцем. Взгляд его был обращен в себя, в свои мысли, - это чувствовал искоса наблюдавший за ним Бойченков и догадывался, в какие думы погружен его друг: оба они сейчас думали об одном и том же. - И все-таки любопытно, зачем председателю понадобилась такая справка? - как бы размышляя вслух, молвил Дмитрий Иванович. - Я думаю, это связано с активизацией сионистов в нашей стране, - не поворачиваясь от окна, произнес Иван Николаевич. Бойченков выжидательно молчал. Тогда Слугарев подошел к столу, достал из кармана изящную, в серебристом переплете записную книжку, полистал ее и, не садясь, сказал: - Вот послушай любопытное признание изральского профессора Герлана Броновера: "Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов вошли в историю Израиля. Может быть, кто-нибудь из моих братьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно старались уничтожать наших наибольших врагов - православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили вечную славу!" Он умолк и замер на месте в крайнем напряжении, устремив на Бойченкова жестокий пронизывающий насквозь взгляд. Пауза была звонкая, напряженная, как струна. Никто не спешил нарушить ее: слишком весомо и неожиданно прозвучали зачитанные Слугаревым слова, слишком много глубинных мыслей вздымали они из душевных недр. - Вот так-то, - прокомментировал Бойченков, и слово это содержало в себе сотню резких, острых и гневных слов. - А православные гои понаставили на своей земле своим палачам памятники, прославили их имена названием городов, заводов, колхозов, - стремительно выплеснул Слугарев и резко опустился на стол. - Город Свердловск - столица Урала и бронзовый монумент в центре Москвы, площадь Свердлова, станция метро Свердлова, фабрика имени Розы Люксембург, дворец имени Володарского…. - Площадь Урицкого, город Сергиев, основанный великим патриотом России преподобным Сергием Радонежским, заменили именем пришельца Загорского-Лубоцкого и так далее и тому подобное, - в тон Слугареву добавил Бойченков. - Ты говоришь, активизировались сионисты, - продолжал Дмитрий Иванович после недолгой паузы. - Это видно и невооруженным глазом. Недавно я разговаривал с товарищем из Прибалтики. Там сионисты, особенно из среды творческой интеллигенции, где евреи составляют большинство…. - Как, впрочем, в Москве и Ленинграде, - вставил Слугарев. - Да: Шапирасы, Фельдманисы, Гольдбергсы. Они активно разжигают и провоцируют русофобию. И я уверен - запрограммированно, целенаправленно. - То же и в Молдавии, в Грузии, - добавил Слугарев и, полистав свою записную книжку, продолжал: - Есть документ ЦРУ об израильской разведке. В нем американцы раскрывают методы деятельности своих израильских коллег, буквально: "плотное наблюдение за антисионистской деятельностью во всем мире и нейтрализация этой деятельности", "вербовка лиц, занимающих в бюрократии Советского Союза и стран Восточной Европы стратегически важные посты, которые из идейных или корыстных соображений согласны помогать сионистам этих стран". Думаю, что окружение Брежнева состоит в основном из таких элементов, работающих на Сион. Брежнев уже не правит страной, он - живой труп, за спиной которого и бесчинствует сионистская мафия. Вся их деятельность направлена на развал СССР, ликвидацию компартии. - Именно направлена, - согласился Бойченков, - при этом умелой опытной рукой. Ты помнишь, как на одном из совещаний в Комитете председатель говорил, что в США принят закон о необходимости развала СССР путем отделения от него союзных республик? Задача эта возлагалась на Сион. Возможно, председатель готовит серьезный материал для Политбюро о подрывной деятельности в СССР международного сионизма. Естественно, по своей инициативе. - Если даже ты прав, и такой материал получат члены руководства страны, председатель не найдет поддержки в Политбюро. - Почему? - Потому что те, кто понимает проблему Сиона, уже изгнаны из Политбюро: Мазуров, Шелепин, Полянский, Воронов, Шелест. Сион не терпит своих противников на вершине власти. - Но там еще есть Кириленко, Романов. Насколько я знаю, эти товарищи отрицательно смотрят на деятельность сионистов. - Именно, смотрят, притом очень осторожно, -стремительно ответил Слугарев и положил в карман свою записную книжку. Он был крайне возбужден, глаза исторгали гневный блеск. - Первый безнадежно стар, а второй недостаточно решителен, чтоб отстаивать свое мнение, ибо знает на примере тех же Шелепина - Полянского, чем это кончается. Нет, дорогой Дмитрий Иванович, уже со времени Хрущева сионисты крепко держат в своих руках бразды правления. Ты думаешь случай вынес Брежнева на вершину власти? Как бы не так! Все было заранее тщательно взвешено, продумано, рассчитано. Ты же читал письмо группы честных ученых-экономистов. Не академиков, не заславских-шаталиных, а русских патриотов, с болью видящих в какую пропасть катится страна. А разве мы с тобой не видим, не понимаем, какая идет идеологическая диверсия, духовное растление общества, главным образом молодежи. Это старая тактика Лейбы Троцкого-Бронштейна завоевать молодежь, оболванить, растлить сексом, пробудить в ней звериные, животные инстинкты, воспитать жестокость, цинизм, страсть к удовольствию. Затем направить это дикое стадо на кого угодно: на отцов, на коммунистов, на ветеранов. И они пойдут громить "и крушить все подряд. Разум будет отключен, его заменит инстинкт разрушения. Ты думаешь, случайно по телевидению денно и нощно рекламируют всяких оголтелых подонков, эту оглушительную музыку, рвущую барабанные перепонки, какофонию взбесившихся дикарей, песни, состоящие из трех слов: "я тебя хочу". Через десять лет эти дискотечные юнцы станут взрослыми гражданами, будут работать на предприятиях, в учреждениях. Представляешь их нравственный облик, их духовную основу, жизненный фундамент, их гражданскую совесть?! Вот с каким обществом нам предстоит столкнуться. И когда новоявленный Лейба Бронштейн бросит клич "Долой!..", они пойдут за ним и будут делать все, что он им велит. Рушить до основания и жечь дотла. Ты видел бесчинства фанатов у стадионов? Так это цветочки. А ягодки будут очень ядовиты. - Грустную картину ты нарисовал, гнетущую, - сказал Бойченков. - Я-то думал, что ты меня порадуешь. Конечно, главные гнезда сионистов Москва, Ленинград, Свердловск, Новосибирск, столицы союзных республик, где сосредоточена интеллигенция. - Но ее влияние, тлетворное, - подчеркнул Слугарев, - распространяется на всю страну через телевидение, кино, радио, прессу. Отсюда идут эти вирусы. И носители их не только сионизированная, творческая интеллигенция. К этим вирусам предрасположен столичный люмпен-интеллигент, который живет на зарплату в две сотни рэ, считает себя обиженным властью и мечтает о западном рае, о котором имеет превратное представление. По рассказам туристов да по кинофильмам. - Люмпен-интеллигент, говоришь? Какая уж там интеллигентность. Просто дипломированный мещанин с философией неудачника-циника. За душой у него ничего святого нет. Он ведь никаких ценностей - ни материальных, ни духовных не создает. На это он не способен, нет у него амуниции. Зато амбиций!.. Основа общества - трудящиеся, те кто у станка и плуга, в том числе деятели науки и техники, творцы прогресса. - Не заблуждайся в отношении творцов: их тоже поразил вирус бездуховности. Во-первых, они в юности прошли тлетворные школы дискотек, навязанных нам идеологическими диверсантами. Во-вторых, эту духовную пищу, этот яд они ежедневно вынуждены употреблять через то же телевидение, газеты и журналы. Выбора у них нет. - Так что же? Выходит - никакого просвета, никаких надежд? - спросил Дмитрий Иванович, подняв опечаленный взгляд на Слугарева. Иван Николаевич не спешил с ответом. Он встал из-за стола, снял со спинки стула свой пиджак, набросил его на плечи и задумчиво посмотрел в открытое окно. Бойченков ждал. Образовалась долгая настороженная пауза. Наконец Слугарев заговорил как-то издалека, словно рассуждая с самим собой: - Человечество нравственно больно. Оно лишено иммунитета против страшной болезни - сионизма. Вирусы этой болезни поразили прежде всего мозг человечества - интеллигенцию и власть имущих, руководителей государства и государственных структур, лидеров политических партий. В былые времена роль имумунитета выполняла религия. Католицизм, православие, ислам, буддизм ревностно оберегали свои паствы от проникновения в них тлетворных сионистских вирусов, суть которых - разрушение: нравственное, духовное. - Кстати, у Дюкана ты найдешь по этому поводу слова из Корана, - вставил Дмитрий Иванович и полистал "Черную Книгу". - Вот что говорит Коран о евреях: "… их целью будет сеять на земле разлад… Когда они будут разжигать факел войны, Бог будет тушить его. Их цель - вызвать раздоры на земле, но Бог не любит сеятелей раздора". Да, вот еще откровение современного еврейского поэта Мориса Самуеля. Вот что он писал: "Мы, евреи, разрушители… Что бы не делали другие народы для нашего блага, мы никогда не будем довольны". - Захлопнув книгу, Бойченков подал ее Слугареву: - Возьми. А эта страшная книга стоит жизни даже такого храброго антифашиста, как Эдмон Дюкан. Извини, я тебя перебил. - И потому не случайно, - продолжал Слугарев прерванный монолог, которым он отвечал на вопрос Бойченкова ("Никакого просвета, никаких надежд?") - банда Троцкого свой приход к власти в России ознаменовала жесточайшим разгромом русской православной церкви, физическим истреблением духовенства, запретом веры как таковой. Отлучением всех граждан от религии, которая объявлялась опиумом народа… Да, религия была иммунитетом против духовного разложения. Сионисты создали себе тоже иммунитет: антисемитизм. Это сильнейший, безотказно действующий механизм самозащиты. Он лишил народы возможности бороться со злом, прикрываясь, как пугалом, словом "антисемитизм". Люди боятся не только бороться с этим злом, защищать себя от его яда, но и произносить вслух это слово. Иначе на тебя немедленно будет поставлено зловещее клеймо "антисемит", "черносотенец", "фашист". Даже слово "еврей" мы произносит шепотом. Человечество не знает всей правды о сионизме, потому что ему не позволяют ее узнать. Вообще в мире господствует ложь, дурман, который исторгают на общество сионистские средства массовой информации. Печать, кино, телевидение, радио во всем мире контролирует Сион. Он манипулирует общественным мнением в своих интересах. Ты уповаешь на трудящихся, на тех, кто создают материальные и духовные ценности. Тщетно! Они такие же гои, как и люмпен-интеллигенты, которых ты называешь дипломированными мещанами. Они не понимают проблемы сионизма, потому что им не позволено ее понимать. А те, кто понимает, те безмолвствуют, потому что им строго-настрого запрещено о ней говорить. Запрещено сионистами и их верными лакеями - предателями интересов народа. Слугарев внутренне воспламенился, лицо его полыхало багрянцем, взгляд ожесточился. Он сбросил с плеч пиджак и небрежно швырнул его на стул. Прижимая двумя руками к груди книгу Дюкана, он заговорил негромко, дрогнувшим голосом: - Иногда хочется подняться над землей и закричать на всю планету: "Люди! Человеки! Мои беспечные братья! Очнитесь от сионистского гипноза! Стряхните с себя мерзкое отвратительное тряпье лжи, духовного и телесного разврата, который вселил в ваши доверчивые души Сион! Возьмитесь за руки и станьте грозной неприступной скалой в преддверье пропасти двухтысячного года и не дайте столкнуть себя в бездну сионистского ада! Вы не гои, не двуногий скот, как вас презрительно называют те, кто нарек себя "божьими избранниками". Вы люди, человеки, созидатели, творцы, гении. Вас миллиарды. Их, разрушителей, ничтожные миллионы. Наберитесь мужества и гордости, набросьте на их хищные, ядовитые пасти узду, вырвите у них смертоносное жало, лишите их воровски присвоенных себе привилегий и благ, заставьте их жить, как все, на равных со всеми, лишите их награбленного золота и тех кровавых триллионов, с помощью которых они диктуют свои условия и правила жизни народам и государствам, покупают президентов, премьеров и министров, генералов и дипломатов, художников и журналистов". Он вдруг умолк и устало подсел к столу. Не говоря больше ни слова, открыл бутылку, налил себе пива и залпом осушил бокал. Облегченно вздохнул, словно сбросил с себя тяжелый груз. Бойченков смотрел на него долгим печальным взглядом. Произнес без упрека и сожаления, просто заключил: - Ты так и не ответил на мой вопрос. То, что ты сейчас сказал, для меня не новость. Думаю, что и для председателя. Но свой пылкий монолог ты включи в справку - пусть почитает. Эмоции в данном случае полезны, конечно в сочетании с фактами. - Будут и факты, не сомневайся. А мне пора, надо ехать, - сказал Слугарев и поднялся. Бойченков проводил его до машины. Задержав руку Слугарева в своей руке, подбодрил: - Насчет нужности задания председателя не сомневайся: он что-то серьезное задумал. - В серьезность его я не верю. Но документ будет откровенный и весомый. Бойченков поощрительно закивал головой, и тихая дружеская улыбка осветила его грустное лицо.
2
В тот же день, а точнее - вечер, придя с работы, Слугарев начал читать записки Дмитрия Ивановича, то есть его тетрадь, в которой без всяких комментариев были выписаны цитаты из разных авторов по одному и тому же вопросу. Как и советовал Бойченков, Иван Николаевич начал читать с Карла Маркса: именно его статья "К еврейскому вопросу" и открывала тетрадь. Слугарев был знаком с этой статьей, но сейчас он читал ее с особым интересом, поскольку именно словами Маркса он решил начать поручение председателя - справку о сионизме и "еврейском вопросе". Сам еврей по отцу, Маркс, может, как никто другой знал и понимал характер и психологию еврея, знал, так сказать, "изнутри", и было бы глупо обвинять его в антисемитизме, как это делают сионисты в отношении любого, кто посмеет критически отзываться об их деятельности. Маркс писал: "Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Какой мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги…. То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде - презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку, как самоцели - это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимоотношения мужчины и женщины и т.д. становятся предметом торговли! … Еврейство не могло создать никакого нового мира". Слугарева поразила фраза о презрении к искусству, к истории, к человеку, притом презрении сознательном (Маркс подчеркнул это слово). Сразу мелькнуло сомнение: прав ли Маркс. Не опровергается ли это опытом? Уж где-где, а в искусстве евреи шумною толпой хозяйничают. Да и в исторической науке их полным полно. "Хозяйничают-таки - да, а что выдающегося создали?" - мысленно спросил себя Иван Николаевич. И ничего достойного в искусстве так и не вспомнил. Зато имя академика Минца всплыло мгновенно, как только он подумал об историках. Уж этот "ученый", как никто другой, "наследил-накопытил" в исторической науке, так что будущим поколениям придется переучиваться. Тут Маркс на все сто процентов прав - презрением к русской истории отдает от исторических трудов этого академика. После Маркса Иван Николаевич обратил внимание на краткое, всего в несколько строк, замечание Энгельса: "Я начинаю понимать французский антисемитизм, когда вижу, как эти евреи польского происхождения с немецкими фамилиями пробираются повсюду, присваивают себе все, повсюду вылезают вперед, вплоть до того, что создают общественное мнение города-светоча…" Имелся в виду Париж. "А разве только во Франции "присваивают себе все, повсюду вылезают вперед"? - подумал Слугарев. - Такое происходило и происходит и в нашей стране. Происходит и сегодня, как и сто лет назад. Ничего не меняется. Но попробуй об этом вслух сказать, как тотчас же на тебя навесят ярлык "антисемита", "фашиста". Листая страницу за страницей, Иван Николаевич читал нелестные отзывы о евреях разных людей, живших в разное время и в разных странах, и поражался, что в сущности все они говорят одно и то же. Вот римский философ Сенека: "Этот народ - чума, сумел приобрести такое влияние, что нам, победителям, диктует свои законы". Вот Цицерон: "Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе - кто знает, как многочисленна эта клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять, благодаря своей спаянности". А вот слова короля франков Гунтрама, жившего в VI веке: "Да будет проклят этот дьявольский народ, который живет только обманом". Вот Джордано Бруно: "Евреи являются зачумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслуживает искоренения со дня ее зарождения". Французский писатель (XVII век) Жан Воевтер говорил: "Евреи являются ни чем иным, как презираемым и варварским народом, который на протяжении длительного времени сочетал отвратительное корыстолюбие с ужасным предрассудком и неугасимой ненавистью к народам, которые их терпят и на которых они обогащаются". А вот голос из-за океана американского ученого и государственного деятеля Беджамина Франклина, жившего в XVIII веке: "Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи - независимо от их количества, они понижают ее мораль, коммерческую честность… строят государство в государстве и в случае оппозиции к ним стремятся смертельно задушить страну в финансовом отношений. Если мы путем конституции не исключим их из Соединенных Штатов, то менее, чем через двести лет они ринутся в большем количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего правления… Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах". И еще один государственный деятель - австрийская императрица Мария-Тереза с той же категоричностью, как и Франклин, заявляла: "Впредь ни один еврей, независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри страны, как эта раса, которая разоряет народ хитростью, ростовщичеством, одолжением денег и занимается делами, отталкивающими честных людей". Ее современник, другой монарх - Петр Первый - говорил то же самое: "Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками. Они не получат разрешения поселиться и устраивать свои дела". Позже ему вторил другой монарх - Наполеон Бонапарт: "Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного индивидуального еврея, но является сущностью всего этого народа. Они, как гусеницы или саранчи, которые поедают Францию… Я не хочу их иметь больше, чем их есть в моем государстве. Я делаю все, чтобы доказать мое презрение к этой подлейшей нации мира". А еще позже президент Трансвааля Крюгер: "Если б можно было сбросить с шеи нации еврейских монополистов, не вызвавши войну с Великобританией, проблема мира в Южный Африке была бы решена". "Неужто все эти монархи находились в плену предрассудков и заблуждались в отношении евреев?" - спрашивал себя самого генерал Слугарев. Вспомнил, как он, прочитав "Черную книгу" Эдмона Дюкана, задал этот вопрос Бойченкову, и Дмитрий Иванович ответил ему кратко: "Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что овцу съел". Ну хорошо, - рассуждал Иван Николаевич, - предвзятость монархов можно чем-то объяснить (чем именно, он не знал), ну а как же быть с историками, писателями, с их извечным стремлением к правде, к объективному отражению действительности? Ведь они олицетворяют собой совесть народа, уж их-то обвинить в предвзятости было бы, по меньшей мере, несправедливо, к их голосу надо бы прислушаться повнимательней, все сказанное ими взвесить, обдумать, оценить. И Слугарев, листая дальше тетрадь Бойченкова, услышал честные голоса, выражаясь по-нынешнему, интеллектуалов. Говорит композитор Ференц Лист: "Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть ли их дальше или депортировать? И этот вопрос по своему значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение". А вот голос с другого конца планеты, из Страны восходящего солнца - голос японского ученого Мабучума Окума: "Евреи во всем мире разрушают патриотизм и здоровые основы государства". То же самое говорит и Америка устами мэра Нью-Йорка Джона Хайлана: "Настоящая угроза нашему государству в невидимом правительстве, которое, подобно гигантскому спруту, простирает свои щупальцы над нашим городом, штатом и нацией. Во главе этого спрута стоит маленькая группа банкирских домов, которая обычно называется как "интернациональные банкиры". Эта небольшая артерия банкиров на самом деле управляет нашим правительством в своих эгоистических целях". И еще один честный американец, писатель-публицист Дуглас Рид с душевной болью восклицал: "Как мы дошли до жизни такой? Какими средствами довели Америку (и весь Запад) до такого состояния, когда ни один политик не займет важного места и ни один издатель не будет чувствовать себя спокойным за своим столом, пока не постелят коврики и распростаются на полу, выразив покорность Сиону?" Из Америки опять в Европу. Французский историк Эрнст Ренан писал: "В восточной Европе еврей, подобно раку, медленно въедающемуся в тело другой нации. Эксплуатация других людей - это его цель". Многие классики мировой литературы в своих произведениях обращались к "еврейскому вопросу" - Эмиль Золя, Болеслав Прус, Мопассан, А. Куприн, А. Чехов, Ф. Достоевский. Мопассан "видел в евреях властителей, которые повелевают королями-повелителями народов, поддерживают или низвергают троны, могут разорить или довести до банкротства целую нацию, точно какого-нибудь виноторговца, гордо посматривают на приниженных государей и швыряют свое нечистое золото в приоткрытые шкатулки самых правоверных католических монархов, а те вознаграждают их грамотами на дворянство, титулами и железнодорожными концессиями". Один из персонажей романа "Кукла" Б. Пруса говорит: "Но это великая раса! Они завоюют весь мир, и даже не с помощью своего ума, а наглостью и обманом". В романе "Деньги" Э. Золя есть такие слова: "И он в бешенстве предсказывал конечную победу евреев над всеми народами, когда они захватят все богатства земного шара; ждать этого недолго, раз им позволено с каждым днем расширять свое царство и раз какой-то Гудерман уже пользуется в Париже большим почетом, чем сам император". "Таков весь еврейский народ, этот упорный и холодный завоеватель, который находится на пути к неограниченному господству над всем миром, покупая, один за другим, все народы всемогущей силой золота". Иван Николаевич захлопнул тетрадь Бойченкова и поднялся из-за стола, как ужаленный. Его охватило чувство смятения, тревоги и еще чего-то странного, смесь гнева и собственной беспомощности. Подобное он испытал раньше, когда читал книгу Дюкана. Сейчас она лежала на письменном столе рядом с тетрадью Бойченкова в мягкой черной обложке, на которой резко выделялись кроваво-красные слова: "Эдмон Дюкан. Черная книга". Слугарев нервно зашагал по кабинету, ощущая непривычный озноб и растерянность. В горле пересохло. Он вышел в кухню и открыл холодильник, извлек бутылку минеральной и залпом выпил стакан холодной воды. Движения его были резкими, угловатыми. Постояв с минуту у окна, уставившись в немом оцепенении на вершины деревьев, тронутых первым багрянцем, он вернулся в кабинет, и взгляд его, как магнит, устремился на "Черную книгу". Он подошел к письменному столу и, не садясь на стул, раскрыл наугад где-то в середине, и прочитал: "В 1547 году Толедский архиепископ обнаружил письмо константинопольских евреев испанским евреям, в котором говорилось: "Дорогие братья в моисеевом законе. Мы получили ваше письмо, в котором вы извещаете нас о муках и горе, которые вы переносите и заставляете нас так же страдать. Мнение великих сатрапов и раввинов таково: относительно того, что вы говорите, что короли Испании заставляют вас сделаться христианами, сделайтесь такими, ибо вы не можете иначе поступить. Относительно того, что вы говорите, что вас заставляют покинуть ваше имущество, сделайте ваших сыновей купцами, для того, чтобы у них (испанцев) мало-помалу отнять их имущество. Относительно того, что вы говорите, что у вас отнимают вашу жизнь, сделайте ваших сыновей врачами и аптекарями, и вы отнимите у них их жизнь. Относительно того, что вы говорите, что они разрушают синагоги, сделайте ваших детей священниками и теологами, и вы разрушите их храмы. Относительно того, что вы говорите, что они причиняют вам и другие мучения, сделайте, что бы ваши сыновья были адвокатами, прокурорами, нотариусами и советниками и чтоб они постоянно занимались государственными делами для того, чтобы унижая их, вы захватили эту страну и вы сумеете им отомстить за себя. И не нарушайте совета, который мы вам даем, чтобы вы путем опыта увидели, как вы из презираемых станете такими, с которыми считаются. Иосиф - глава евреев Константинополя". "Этот совет-инструкция, - комментировал Дюкан, - вот уже на протяжении свыше четырехсот лет неукоснительно претворяется в жизнь во всех странах мира. Собственно, она явилась основой, фундаментом "Протоколов сионских мудрецов", которые появились тремя столетиями позже. Совпадения настолько очевидны, что только матерый сионист или бесчестный лакей может отрицать подлинность "Протоколов". Давайте обратимся хотя бы к нескольким строкам "Протоколов". "Администраторы, которых мы выбираем в строгом соответствии с их способностью к раболепному подчинению, вовсе не будут лицами, обученными искусству управления, и легко превратятся, поэтому, в пешки в нашей игре, в руках знающих и способных мужей, которые будут их советниками, являясь специалистами, воспитанными и тренированными с раннего детства для управления делами всего мира". Прокомментировав эти строки с позиций их сегодняшнего воплощения в жизнь в разных странах мира, автор "Черной книги" рассказал, как скрупулезно воплощаются в современной действительности рекомендации "сионских мудрецов" в смысле оболванивания народа, а вернее, превращение целого народа в безмозглую, лишенную собственного мышления толпу. И он процитировал следующие параграфы из "Протоколов", "Ни одно сообщение не достигнет читающей публики без нашего контроля. Уже сейчас мы достигаем этого тем, что все новости получаются немногими агентствами, в которых они собираются со всех концов света". И еще: "Чтобы забрать в руки общественное мнение, мы должны привести его в состояние полного разброса, дав возможность высказывать со всех сторон столько самых противоречивых мнений в течение столь долгого времени, чтоб народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего вообще не иметь никакого мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто им управляет… и мы вычеркнем из памяти людей все нежелательные нам факты прежней истории, оставив лишь те, которые будут расписывать лишь ошибки прежних правителей". Эти последние строки вызвали на лице Слугарева горькую ухмылку: он вспомнил, как после расписываются подлинные и мнимые ошибки Сталина. Иван Николаевич был совершенно солидарен со своими партизанским другом Эдмоном Деканом в отношении бесспорной подлинности "Протоколов сионских мудрецов", как не сомневались в этом и два выдающихся патриота Америки - автомобильный король Генри Форд и писатель-публицист Дуглас Рид. Их высказывания Слугарев услышал из уст генерала Бойченкова, до того читал в книге Дюкана, которая лежала сейчас перед ним, раскрытая на страницах, где были воспроизведены эти вещие слова. Форд, на своей шкуре испытавший деятельность международного сионизма, утверждал: "Эти "протоколы" полностью совпадают с тем, что происходило в мире до настоящего времени, они совпадают и с тем, что происходит сейчас". Ему вторил Рид: "Книга (протоколы) точно описывает, что произошло в течение полувека после ее публикации и все, что произойдет в следующие 50 лет, если только заговор не вызовет соответствующего его силе противодействия. В книге содержится богатейшее знание (в особенности слабости человеческой природы), источником которого может быть только опыт и изучение, накопленные в продолжение столетий и даже целых эпох". Дуглас Рид, как и Генри Форд, ссылался на свой личный, при том очень горький опыт: "Закабаление печати произошло точно так, как оно предсказано в "Протоколах", и автор сам мог убедиться в этом, благодаря принадлежности к своему поколению и своей профессии". На открытии первого сионистского конгресса 29 августа 1897 года профессор Киевского университета Мандельштам сказал: "Евреи используют все свое влияние и власть, чтобы воспрепятствовать подъему и процветанию других наций, и полны решимости оставаться верными своей исторической надежде - завоеванию мирового господства". Иван Николаевич перевел дыхание, отодвинул от себя книгу Дюкана и откинулся на спинку кресла. Волнение, которое нарастало в нем и ширилось с каждой прочитанной строкой, как лавина катящего с горы снега, кажется достигло предела. Нужно было остановиться, разобраться с мыслями, обрушившимися на него таким неожиданным мощным шквалом, успокоить разбушевавшийся в душе шторм неожиданных и жутких открытий, жутких и страшных. "И все, что произойдет в последующие пятьдесят лет, если только заговор не вызовет соответствующего его силе противодействия", - вслух повторил Слугарев слова Дугласа Рида. Пятьдесят лет, о которых пророчески говорил американский публицист, прошло, не вызвав со стороны мировой общественности никакого противодействия сионистскому заговору. В последнее полстолетие сионисты действовали, как и прежде, и продолжают действовать в соответствии со своей исторической программой, т. е. "протоколами", которые по-прежнему тщательно прячут от народа, по крайней мере, в нашей стране. Еще совсем недавно по приказу Троцкого и Бухарина только за чтение их человека лишали жизни. Лейба Троцкий. У России не было более жестокого разрушительного врага, чем этот масоно-сионист, с помощью международного кагала и заправил империалистических государств прорвавшийся к власти в семнадцатом году. Демагог-палач, безжалостный и беспощадный, он цинично издевался над поверженной в хаос страной, заливая ее необозримые просторы народной кровью, и прежде всего - кровью цвета нации - интеллигенции. Слугареву запомнились, врезались в память сердца высказывание о Троцком его соплеменника Арона Симановича - личного секретаря Григория Распутина. В своих "Воспоминаниях" Лейба Давидович Троцкий, который стремился к развалу величайшей в мире державы - России по этому поводу говорил: "Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до идиотизма, до животного состояния… А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, - о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, инженеров, священников, генералов, агрономов, учителей, писателей!" Это была чудовищная программа, и Троцкий со скрупулезной точностью проводил ее на практике с помощью своих соплеменников - "юношей в кожаных куртках". Слугарев знал, что в наши дни, сыновья и внуки тех "юношей", так же, как их деды и отцы "умеют ненавидеть все русское" и готовят окончательный развал Советской России, полное крушение которой запланировано на конец нашего века. Знает Иван Николаевич какой дружной, оголтелой травле в нашей стране подвергаются патриоты, дерзнувшие неодобрительно отозваться о сионистском Израиле или о каком-нибудь деятеле еврейской национальности. Знакомый писатель рассказывал ему, что автор, изобразивший в своем произведении отрицательным персонажем еврея, обрекает себя на пожизненные невзгоды. Прежде всего его книга может не увидеть свет или не дойти до читателя. А если по недосмотру издателей и появится на полках книжного магазина, то сионистская критика не откажет себе в удовольствии учинить испепеляющий разгром этого произведения, будь оно трижды талантливо. Автора объявят графоманом, бездарным проходимцем, злопыхателем, черносотенцем, фашистом. Подлецами можешь изображать русских, украинцев, татар, якутов, кого угодно, - только не еврея, которому в литературе самой судьбой предназначена роль героя, положительного персонажа. И тогда автор может рассчитывать на благосклонность критики. Невольно вспомнились ему слова Антона Чехова, записавшего в своем дневнике: "Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящего в русском человеке ни больше, ни меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смешит ее". Тот же знакомый писатель рассказал Слугареву, как довольно посредственный роман Александра Фадеева "Разгром" просионистской критикой был поднят на Олимп, как наивысшее художественное достижение советской литературы. Главный положительный герой "Разгрома" первоначально носил русскую фамилию. Но "интимный друг" молодого писателя Раиса Самойловна Землячка посоветовала автору заменить русскую фамилию на еврейскую, и обязательно из племени Левитов: Левин, Левитан, Левитин и тому подобное. Фадеев не мог отказать обожавшей его женщине, стоящей в то время на вершине власти. Так в романе "Разгром" появился Левинсон. Рассказывал Ивану Николаевичу его знакомый писатель, как из дремучей посредственности - будь то поэт, артист, художник, музыкант - критики, о которых говорил Чехов, делают классиков, гениев. Талантлив он или бездарен, не имеет значения, - важно, чтоб он был женат на еврейке ("Институт жен" - мрачно подумал Слугарев). Тогда появятся всевозможные почести, лауреатские медали и золотые звезды Героя труда и всемирная известность: для международного сионизма не существует государственных границ, а информация и связь там отработана безукоризненно. Примеров на этот счет - пруд пруди. Писатель называл имена Алексея Суркова, Степана Щипачева и многих иных, ныне позабытых, а когда-то при жизни обремененных всевозможными почестями и административной властью над своими куда более талантливыми коллегами, но униженными и оскорбленными, не связавшими свою судьбу с "институтом жен". Слугарев вспомнил свою последнюю поездку на дачу к Бойченкову, разговор с Дмитрием Ивановичем на больную кровоточащую тему, подумал: "А ведь я так и не ответил на его вопрос: есть ли просвет и где же выход? Не ответил, потому что сам не вижу и не знаю. В одном убежден: сионисты уготовили человечеству рабство. Они хотят превратить весь мир в поверженную, опозоренную Палестину и уже многого добились на пути к мировому господству. Самое трагическое, что беспечные доверчивые гои не видят этого и не понимают. Они, как стадо баранов, послушно бредут в преисподнюю дьявола. Или в диком экстазе, сытые и голодные, белые, черные, цветные, одурманенные наркотиками и сексуальным развратом, возбужденные вирусом жестокости и насилия, в предсмертной агонии пляшут чужой, навязанный им сатаной тлетворный танец, не ведая, что они уже не люди, не человеки, а двуногие животные, пребывающие в глубоком гипнозе. И некому их разбудить. Те, кто хотел бы открыть им глаза на смертельную опасность, схвачены за горло ядовитыми щупальцами сионистского спрута, скованы по рукам и ногам. Их трагический голос отчаяния и боли заглушается всеподавляющим бесовским гулом радиотелевизионной лжи и разврата. Стремительно приближается двухтысячный год, когда Сион намерен оповестить мир о своем триумфе, о победе зла над добром. Не уж-то такому суждено случиться?!" Не хотелось верить. Нет-нет: человечество должно пробудиться. Правда должна победить. Надежда… Чего стоит она без действий? Пустые иллюзии. Надежда утешает присужденного на казнь даже тогда, когда он идет на эшафот: авось в последние секунды поступит приказ о помиловании. Человечество не может надеяться на авось, жить в атмосфере иллюзий, апатии и беспечности. Нужна борьба, организованная, решительная и беспощадная. Сионисты создали свои организации во всемирном масштабе - официальные, полуофициальные и тайные. Для своего спасения человечество, весь род людской, должны созвать Всемирный антисионистский конгресс с широкой сетью низовых организаций, которые будут предавать гласности подрывные действия сионистов во всех сферах жизни и во всех странах мира. Мысленно Слугареву уже слышался ехидный вопросик какого-нибудь профессора из московского института кинематографии: "А что вы подразумеваете под "подрывными действиями"? "А то, профессор, что вы принимаете в свой институт студентов исключительно еврейской национальности. И то, что в России нет русского кино. В Грузии есть грузинское, на Украине - украинское, в Латвии - латышское, а в России - еврейское. Вы возмущены, господин профессор от кинематографа? Не спешите с феерверком изношенных от частого вами употребления слов: "антисемит", "черносотенец", "фашист"! Научитесь смотреть правде в глаза и считаться с фактами. А их - тьма тьмущая и на каждом шагу. Вы же знаете, как телезрители называют голубой экран - тельавидение. Почему? Вы тоже знаете: там ни Русью, ни русским духом не пахнет. А театры? Там тоже правят товстоноговы, да марки захаровы, шатровы, да гельманы. Коль есть всемирный сионистский конгресс, то вправе быть и всемирному антисионистскому конгрессу. Для равновесия добра со злом. Для справедливости". Слугарева давно возмущала несправедливость: объявив себя "божьими избранниками", евреи фактически превратились в привилигированную нацию, притом привилегии эти получают за счет народов других национальностей и в ущерб им. По численности, евреи в СССР составляют менее одного процента от всего населения страны. Вместе с тем в науке и культуре их численность превышает двадцать процентов. По официальным, как правило заниженным, данным от общего числа писателей евреев 44 процента, врачей тоже 44 процента, музыкантов 23 процента. В кинематографе число их достигает 90 процентов. Чуть меньше в средствах массовой информации. Особенно разительное соотношение в сфере образования и науки. На тысячу человек русских приходится всего тридцать человек с высшим образованием, - евреев же четыреста человек, то есть почти каждый второй имеет высшее образование. Подобная картина в академии наук: из 250 академиков - 170 евреев. Не в этом ли причина отставания нашей науки и техники? - спрашивал себя Иван Николаевич и отвечал: "Липовые академики вроде Аркадия Гарбатова и Бориса Пономарева, липовые доктора-профессоры, липовые гении-писатели вроде Иосифа Бродского". И удивился: почему никто не протестует против такой несправедливости, почему молчит общественность? Впрочем, он знал ответ. Потому что страной правят представители "божьих избранников" и их верные лакеи из "института жен", вроде Мирона Андреевича Серого да и самого Леонида Ильича. И вспомнилось ему стихотворение большого русского поэта Василия Федорова "Рабская кровь". Да, не подавили русские люди в себе раба, лакея. В этом трагедия народа. Когда справка для председателя была готова, Слугарев узнал, что председатель уже не председатель, что он занялпост умершего члена Политбюро и секретаря ЦК М. А. Суслова, которому непосредственно подчинялся председатель.
3
В одной из стран Западного полушария в роскошном апартаменте гостиницы "Северное сияние" всего лишь на одни сутки остановились два почтенных американца: сенатор Сол Шварцбергер и представитель Всемирного сионистского конгресса Милош Савич - он же Мариан Савинский. Да, тот самый Савич, который прошел "школу" Симонталя, израильского "Моссада" и американского ЦРУ, да плюс еще западно-германского ведомства генерала-разведчика Гелена. Здесь предстояла их встреча с советским послом в этой стране и срочно прилетевшим из Москвы придворным депутатом Верховного совета, Героем соцтруда академиком Аркадием Гарбатовым, ведущим американистом, советником, и вообще доверенным лицом самого Брежнева и его супруги Виктории Гольдберг. Встреча носила чрезвычайный характер, как явление всемирного масштаба, поскольку речь шла больше, чем о судьбе великой державы - СССР, ибо с ее судьбой были связаны судьбы многих стран и народов. Извещенные по телефону послом о прибытии с секретной миссией Гарбатова, Сол Шварцбергер и Милош Савич догадывались, о чем пойдет речь между ними и высокопоставленными советскими представителями: по своим каналам американцы уже получили сообщение из Москвы о клинической смерти Леонида Брежнева, хотя для широких кругов советской общественности это была государственная тайна, которую строго хранил узкий круг медперсонала Кремля и приближенные к главе партии и государства бонзы. Шварцбергер и Савич сидели в просторном холле апартамента за круглым столом, сервированном легкими сандвичами, соками, бутылками вина, коньяка и виски, и, поджидая академика и посла, вели неторопливый разговор. С академиком Гарбатовым оба американца (впрочем, у Савича, кроме американского паспорта, были паспорта Израиля и ЮАР) были знакомы, неоднократно встречались в США, куда именитый академик частенько наведывался. Для него перемахнуть океан не составляло никакой проблемы, - ему было проще слетать в Нью-Йорк, чем неименитому советскому ученому в Киев или Минск. Осведомленный читатель может бросить мне реплику: "Так то ж ученому". Совершенно верно. Но Гарбатов не был ученым в полном смысле этого слова, поскольку у него не было никаких подлинно научных трудов. Его научный интеллект не выходил за рамки провинциального журналиста или рядового сотрудника какого-нибудь гуманитарного НИИ. Но ведь в нашей стране, чтобы быть академиком, совсем не обязательно быть ученым. Так что Аркадий Гарбатов не составлял какого-то исключения. Таких как он было немало в советском храме науки: В. Тихонов, П. Поспелов, Б. Пономарев, Т. Заславская, С. Шаталин, всех не перечесть. Это был своего рода особый отряд "деятелей", которых высшая власть за какие-то тайные, неизвестные широкой общественности заслуги награждало пожизненной рентой, которая давала возможность безбедно жить, ничего не делая. Потому-то многие ученые недоучки и даже неучи мечтали об академической манной и завидовали тем, кто ее имел. Мечтал и посол, которого мчал голубой "мерседес" в гостиницу "Северное сияние", мечтал и завидовал сидящему рядом с ним Гарбатову. Александр Яковлевич - так звали посла - считал себя более достойным для академического звания, чем этот выскочка и придворный лизоблюд Гарбатов. Ведь как-никак Александр Яковлевич имел ученую степень доктора исторических наук, и лет десять тому назад стремительно приближался к академическому святилищу, и уже было совсем приблизился к порогу, и уже было занес ногу, чтоб переступить этот порог, как вдруг судьба-злодейка подставила ему ножку, и он, кувыркаясь по жестким ступенькам карьеры, не скатился вниз, а, сумев сделать неожиданное сальто, оказался по другую сторону Атлантики в должности советского посла, можно сказать, что ему повезло, хотя сам он так не думал и нещадно корил судьбу. Александр Яковлевич принадлежал к той категории советских дипломатов, которая, в сущности, прямого отношения к дипломатии, в профессиональном смысле, не имела, но была широко распространена в хрущевско-брежневские времена. Это был довольно многочисленный отряд чрезвычайных и полномочных послов из числа проштрафившихся партаппаратчиков, для которых назначение на дипломатическую работу скорее означало почетную ссылку. Для большинства из них это была последняя ступенька служебной карьеры. Но случались, хотя и редко, исключения. Александр Яковлевич до своего назначения послом работал в центральном партаппарате, занимался вопросами истории и теории КПСС, наследуя традиции не безызвестного Емельяна Ярославского (Губельмана), разоблачал "реакционную сущность" православной церкви, довольно часто выступал на страницах газет и журналов. Впоследствии его публицистические упражнения, собранные воедино, легли в основу докторской диссертации, которую он с помощью друзей из Академии общественных наук и Высшей партийной школы защитил без особых хлопот и усилий. Судьба ему улыбнулась, - за его спиной маячила властная, зловещая фигура товарища Серого, покровительство которого вселяло беспроигрышную уверенность в победном финише. Но случилось неожиданное, что часто случается с азартными игроками. Увлекшись борьбой с патриотически настроенными "слоями" интеллигенции, со всяческими "почвенниками", "неорусофилами", поклонниками национальных традиций духовных корней, Александр Яковлевич не учел, что среди его оппонентов есть и весьма крупные деятели культуры и науки, такие как Михаил Александрович Шолохов, академик Иван Матвеевич Виноградов, всемирно известные художники, музыканты, артисты. Да и на Старой площади многие партаппаратчики не разделяли космополитской прыти Александра Яковлевича. Особое возмущение общественности вызвала статья в центральной газете, в которой доктор исторических наук гневно клеймил писателей и публицистов, призывающих к патриотическому осмыслению своей истории, ее духовных и нравственных корней. Высокие партийные и правительственные инстанции захлестнул поток писем читателей, возмущенных статьей Александра Яковлевича. Идейный раскол, накопившийся в среде интеллигенции, да и в обществе, угрожал выплеснуться наружу и нанести глубокие трещины в монолит "единомыслия" народа. А этого-то и опасался Брежнев, привыкший к блаженной тишине и покою. Тем более, что "позицию" Александра Яковлевича не только не поддержали, но и осудили некоторые члены Политбюро. Последнее обстоятельство не на шутку встревожило автора скандальной статьи: угроза для карьеры приобретала реальные очертания. Об этом он откровенно рассказал Елизавете Ильиничне - супруге товарища Серого. Елизавета Ильинична нашла опасность преувеличенной, попыталась успокоить встревоженного историка и обещала поговорить с супругом. "Мирон Андреевич все уладит: у него с Леонидом Ильичом полное согласие". Но, увы - Брежневу были дороже общественный покой и согласие с членами Политбюро, недовольными статьей. Доводы Серого, что молодой историк, мол, высказал свое личное мнение ученого, Брежнев парировал: "Он - лицо официальное, должностное, и его позиция воспринята, как позиция ЦК". И посоветовал на какое-то время "передвинуть" возмутителя спокойствия. "Послом?" - спросил Серый, и в его вопросе звучали предложение и даже просьба. "Куда-нибудь подальше", - согласился Брежнев. Так Александр Яковлевич оказался в далекой северной стране. Напутствуя его, Мирон Андреевич покровительственно пообещал: "Это ненадолго. Время успокоит страсти". В машине молчали, недоверчиво поглядывая на водителя, который тоже был нем, как рыба. - Что ж, Александр Яковлевич, пробил твой час, - наконец нарушил молчание Гарбатов. Сутулый, тучный, он ронял спокойные слова своим гнусоватым, с пренебрежительными оттенками голосом. Во всем его небрежно-хмуром облике сквозила гипертрофированная вселенская важность и значимость, которую он придавал своей персоне. - Что ты имеешь в виду? - негромко и мрачно, преднамеренно приглушенным голосом отозвался посол. Он вообще имел мрачный характер, и эту мрачность усиливал его внешний вид: тучная, угловатая большеголовая фигура, лицо бульдога с грубыми чертами, словно вырублена топором запойного лесоруба - мясистый утиный нос над толстыми плотоядными губами, упрямый бычий лоб, нависающий над глубоко посаженными холодными глазами. - Пора возвращаться тебе в Москву, - прогнусавил академик, в полусонном вальяжном голосе его звучали покровительственные нотки. Этот самоуверенный тон Гарбатова всегда раздражал Александра Яковлевича, в нем ему слышались нескрываемое высокомерие и даже пренебрежение. Посол промолчал, и после паузы Гарбатов снова заговорил: - С Соломоном вы, кажется, знакомы. - В его словах не было вопроса, но посол ответил: - С Солом Швацбергером мы учились в Колумбийском университете. Это было давно. Тогда он был холост. Сделал карьеру, женившись на дочери мексиканского миллионера Хаиме Аухера. Их было два брата - Хаиме и Аарон. И оба уже в могиле. Умерли в один год в: преклонном возрасте. - Хаиме был великий человек с умом пророка, - почтительно отозвался академик. - О нем мне рассказывали Илья Эренбург и Константин Симонов. Они с ним встречались на каком-то конгрессе. О своей учебе в Колумбийском университете США Александр Яковлевич предпочитал не распространяться. В то время там готовили советологов различного профиля с откровенно антикоммунистическим направлением. И опять долгая пустая пауза. Каждый думал о предстоящей встрече, которая должна решить не только личные судьбы посла и академика, но главное - судьбы мира, по крайней мере, Советского Союза. - Что из себя представляет Савич? - наконец нарушил молчание посол. - С Милошем я познакомился лет двадцать, а может и больше тому назад. Мне его отрекомендовали просто: Моше. У него несколько имен и фамилий. Тогда он был шустрым журналистом-международником. Но думаю, это не основная его профессия. Он уже и тогда похоже не просто был связан с некоторыми спецслужбами, а имел там влияние и вес. Родился в Польше. Дом его - вся планета. Владеет многими языками, в том числе и русским. Бывал в Москве. Сейчас важная фигура в сионистском движении. Острый ум, богатая эрудиция, необыкновенная осведомленность, своего рода банк информации - как всегда тягуче и важно, словно делал одолжение, прогнусавил академик. - Исчерпывающе, - резюмировал посол и прибавил: - Вот мы и приехали. Встретились, как давние знакомые, более того, как друзья. После обмена обычными в таких случаях светскими любезностями, и приняв серьезные выражения лиц, перешли к делу. Поскольку инициатором встречи был посол, ему и принадлежало первое слово. Александр Яковлевич расчетливо был предельно краток: пальму первенства он предоставил московскому гонцу, прибывшему для кого с доброй, для кого с недоброй, но, несомненно, чрезвычайной вестью. Сообщение из Москвы слушали стоя. - У Брежнева клиническая смерть, - торжественно, с напускной скорбью сообщил академик, и оба американца сделали вид, что слышат об этом впервые, и приняли соответствующие такому случаю выражения лица. - Соболезнуем, - печально произнес сенатор низким, грудным, но приятным голосом. Высокий, широкоплечий, он выглядел ухоженным и моложавым, умеющим следить за собой. Во всем его импозантном облике, в мягких жестах чувствовались тщеславно выработанные манеры. - Пора. Всем свое время, - как-то уж слишком обыденно, попросту обронил Савич и первым сел за стол, бесцеремонно разглядывая бутылки. В недалеком прошлом лихой выпивоха, он сохранил в себе и в преклонном возрасте почтение к Бахусу и иногда позволял себе, конечно в разумных пределах, приложиться к рюмке коньяку. Другие напитки с некоторых пор он высокомерно игнорировал, как недостойные его персоны. Сели к столу и другие, проигнорировав неуместную реплику Савича. Самонадеянный циник, хитрый и наблюдательный, Милош Савич не очень считался с нормами приличия и нередко позволял себе непростительные вольности: должно быть его журналистское прошлое отложило свой не лучший отпечаток на характер. Гарбатова покоробила неуместная бестактная, по меньшей мере, реплика Савича по адресу Брежнева. Изобразив на своем вытянутом, усталом лице с набрякшими веками значительную мину и устремив на Савича пустые и страшные глаза, Гарбатов угрюмо произнес: - Я думаю, Милош, вы не станете отрицать заслуги Леонида Брежнева в нашем общем деле. Он сделал все, что от него зависело. - За свои заслуги он сполна вознагражден, - порывисто сказал Савич, наливая себе коньяку и, не глядя на Гарбатова, язвительно прибавил: - Он весь в наградах - с головы до ног, спереди и сзади. На сером квадратном лице его пробежала всегда дежурившая там презрительная ухмылка, которую погасил сдержанный негромкий голос сенатора: - Мавр сделал доброе дело и может с достоинством покинуть этот мир. Нас интересует будущее: кто придет на смену? - он пытливо уставился на Гарбатова. - Неожиданностей пока не предвидится, никаких отклонений от расчета, - ответил академик, быстро, мимоходом стрельнув пустыми глазами в посла, ожидая от него поддержки. - Будет Андропов. На сегодня ему нет альтернативы, - ответил посол, положив на стол широкие пухлые руки. Неподвижные холодные глаза его глядели тупо и холодно. Мясистое, широкое лицо ничего не выражало. - Андропов… - Савич презрительно поморщился. - Шеф КГБ - личность для меня загадочная и непредсказуемая. Он убежденный сталинист. - Это временная фигура, - успокоил Гарбатов. - Он не жилец: безнадежно болен. - А кто сменит его? - прицеливающий взгляд Савича направлен на посла. - Могут быть варианты. - Посол облизал толстые потрескавшиеся губы и принял важный вид. - Черненко, Романов, Гришин, Щербицкий, Горбачев, Громыко. - Только не Романов и не Щербицкий! - порывисто воскликнул Савич и наклонился всем корпусом. - Их приход к власти разрушит все достигнутое при Брежневе. Этого допустить нельзя. Невозможно. - Почему? - не повышая голоса поинтересовался молчавший все время сенатор. - Это истовые славяне-патриоты. Они не любят евреев и поощряют антисемитов, - возбужденно ответил Савич. - Из названных Александром Яковлевичем кандидатов, - тягуче начал Гарбатов, - надо сразу исключить Громыко и Гришина. Первый безнадежно стар и, как умный политикан, он не примет на свои дряхлые плечи пост первого лица, то есть Генерального секретаря. Его вполне устроит ритуальная должность главы государства, о чем он, как мне известно, давно мечтает. Гришин безнадежно глуп, и об этом знает все Политбюро. - Глуп, груб, невоспитан, - поддержал Гарбатова Александр Яковлевич. - У него нет авторитета ни в партии, ни в народе. - Он еврей? - спросил Савич. Гарбатов кивнул. А посол счел уместным добавить: - Фамилию поменял недавно и упорно скрывает свою национальность, а при случае не прочь продемонстрировать антисемитские штучки. - Официально пишется русским? - спросил Савич. - Половина евреев в Союзе пишутся русскими, белорусами, украинцами, грузинами, - ответил Гарбатов, и мимолетная вежливая улыбка заиграла на его губах. - Как и ваш покорный слуга. Что же касается Романова и Щербицкого - мы приняли меры по их дискредитации. - А что из себя представляет Черненко? - полюбопытствовал сенатор. - То, что и Брежнев. Предельно ограничен, - сдержанно ответил Александр Яковлевич. - Жена? - Это Савич. - Тут все в порядке, - загадочно улыбнулись толстые губы посла. - Но он, как и Андропов, неизлечимо болен, - добавил Гарбатов. - Это будет халиф на час. - А дальше? - в голосе Савича нетерпеливая настойчивость. - Дальше выход, как говорят, спортсмены, на прямую финишную, - ответил посол. - Я думаю, Щербицкий отпадает: он в преклонном возрасте, да и здоровьем не блещет. Останутся двое. - Этот ваш интелектуал -демократ и Романов? - уточнил Савич и спросил: - Романов серьезный конкурент? - Против Романова мы приняли максимум мер: подключили прессу и "беспроволочный телеграф" - так у нас называют слухи, - сказал Гарбатов. - Романов, Романов, - пробормотал Савич. - Кажется такой была фамилия русских царей? Он не потомок? - Однофамилец. Распространенная в России фамилия, - ответил Гарбатов. - Скажите, Александр, ваша кандидатура, как назвал его Милош, интеллектуал-демократ достаточно надежная? - вдруг обратился к послу сенатор. - Может, есть смысл иметь, как альтернативу, еще несколько кандидатур. Что б на всякий случай был выбор. - И резерв, - вклинился Савич. - Да, и резерв, - повторил сенатор. Александр Яковлевич был польщен приятельски-фамильярным обращением к нему сенатора и решил ответить тем же: - Сол, - сказал он, дружески глядя на Шварцбергера. - Я понимаю вашу обеспокоенность, но тот, кого господин Савич назвал демократом-интеллектуалом, и в самом деле демократ по убеждению и человек незаурядного интеллекта. Он был здесь моим гостем, и я убедился, что это так. Он наш человек, наш душой и телом Гибкий политик, в меру беспринципный, обаятельный находчивый, без убеждений, на все готовый в экстремальных условиях… Хорошая биография - трудовой стаж, диплом МГУ… - Я вас понял, Александр, - вежливо перебил сенатор и добавил: - Но алтернативный резерв не повредит. - Господа, - вмешался Гарбатов, - резерв конечно же нужен, но это вопрос отдаленного будущего. Он появится в свое время в конкретных условиях. Не надо спешить: Брежнев еще жив, живы и его потенциальные преемники, а мы уже делим наследство. - Веселая улыбка осветила серое мрачное лицо академика. - По нашим данным все может решиться в течение двух-трех ближайших лет, - авторитетно заявил Савич. - Так что о резерве думайте. - Думаем. Есть еще три кандидатуры. Присматриваемся, изучаем, проверяем. Все трое крупные партаппаратчики. Один - обкомовский секретарь. Импозантен, с популистскими замашками. Грубоват, самонадеян, непредсказуем. Не хватает интеллекта, но зато избыток ненависти к коммунистам. - Посол умолк, и в комнате повисла выжидательная пауза. - Второй - князь республиканского масштаба. Прославился в борьбе с преступностью, у себя в республике сажал виноватых и невиновных. На этом сделал себе популярность. - У этой кандидатуры есть существенное "но", которое не пускает его на первые роли, - заговорил Горбатов, продолжая Александра Яковлевича. - Во-первых, сомнительное, по крайней мере, жиденькое образование. Во-вторых, что в нынешних условиях существенно, он грузин, и тень Сталина будет его преследовать, если он займет пост номер один. - Третий? - стремительно спросил Савич. - Партаппаратчик из центра. Молодой, толковый, - продолжал Гарбатов. - Пока что неизвестен широкому кругу общественности. Детдомовец. Это плюс. По отцу - Иванович, что тоже имеет вес. Славяне любят: Иванович, значит свой, не пришелец. Правда, внешность у него ярко выраженная не славянская. - Интернациональная, прозападная, - весело заулыбался посол, вызывая улыбки своих коллег. Внешне сдержанный, тщательно натренированный Соломон Швацбергер - воспитанник Колумбийского университета, умеющий хорошо владеть собой, не терпел пустых и праздных разговоров. Он высоко ценил время собеседников, но особенно свое. Он считал, что любая мысль должна выражаться точными лаконичными словами и фразами. И сейчас он опасался, что главная суть встречи может потонуть в словесной шелухе. А ведь речь шла о судьбе Советского Союза - великой державы, которая была единственным препятствием для сионистской Америки на пути к ее мировому господству, которое по программе еврейских оракулов должно наступить в самом конце нынешнего тысячелетия. Советский Союз на протяжении всех семидесяти лет был бельмом в глазу не только США, но всего капиталистического мира, надеждой и покровителем развивающихся стран, получивших политическую независимость, по-прежнему остающихся на положении полуколоний, в смысле экономическом. О реставрации капитализма в России, о превращении ее в сырьевой придаток империалистического Запада никогда не переставали не только мечтать, но и предпринимать практические действия через секретные спецслужбы как в Вашингтоне, так и в Лонданах-Парижах. Их агентура действовала и внутри страны, главным образом из числа сионистов, занимающих видные посты в культуре, партийном и государственном аппарате. И если Сталин не просто сдерживал, а решительно пресекал их деятельность, то Хрущев практически закрывал на них глаза под влиянием своего зятя. Но больше всех для развала СССР сделал Брежнев. Он преднамеренно, с помощью своих советников привел страну к экономическому краху, который по планам ЦРУ должен доказать несостоятельность социалистической системы как в политике, так и в экономике, ошибочность революции семнадцатого года и необходимость возврата к капитализму. Но как за океаном, так и внутри страны отдавали себе отчет в том, что сразу объявить об этом народу нельзя, что это будет воспринято, как контрреволюция, что переводить политическую стрелку на сто восемьдесят градусов нужно постепенно, поэтапно. Для этого нужен ловкий политикан на капитанском мостике и еще более ловкий штурман-авантюрист, называемый "серым кардиналом". На эту должность претендовал и Аркадий Григорьевич и Александр Яковлевич. Гарбатов, между прочим, не подозревал в Александре Яковлевиче конкурента. А между тем американцы предпочитали на роль "серого кардинала" не липового академика, способности которого не высоко ценили, хотя и сполна пользовались его услугами, а посла, их больше устраивал иезуитский ум Александра Николаевича, его цинизм и отъявленное вероломство. И еще не менее важное, а может, даже главное обстоятельство делало выбор в пользу Александр Яковлевича: он был масон. А это означало, что в будущем и новый правитель страны, кто бы им ни был, не минует масонской ложи: уж "серый кардинал" постарается. Соломон Швацбергер и Милош Савич знали, что в СССР за последние пятнадцать лет создана мощная "пятая колонна", ядро которой составляют сионисты и лица не еврейской национальности, связанные родственными узами с "институтом жен". Среди "пятой колонны" нет рабочих и крестьян, и это закономерно: не часто вы встретите еврея за плугом или у заводского конвеера. А если и встретите в селе и на городском предприятии, то это непременно будет не рядовой работяга, а штатный "специалист" - агроном, экономист, ветврач, инженер, начальник цеха. Отсутствие в "пятой колонне" представителей трудящихся беспокоило не только деятелей вроде Александра Яковлевича, но и таких, как Шварцбергер и Савич. С этой целью еще в первые годы брежневского правления на подобной встрече - а она происходила в Лондоне - была принята программа воспитания нового поколения трудящихся в духе нового мышления. Дух этот заключался в бездуховности, вещизме, цинизме, стяжательстве, эгоизме, жестокости, нравственном скотстве, вседозволенности и прочих "прелестей", ведущих к моральной деградации личности. Воспитание, а точнее оболванивание будущих "хозяев страны", то есть молодежи, начинали исподволь - с музыки, лишенной национальных корней, возбуждающей животные инстинкты, покрыв страну густой сетью дискотек - своеобразных притонов, где под оглушительный гром какофонии и истеричные вопли рок-звезд процветали секс и наркотики. Параллельно в том же духе и столь же целенаправленно действовали кино, эстрада, театры, где полными хозяевами были лица еврейской национальности. Шварцбергер считал, и с ним соглашался Савич, что их московские друзья несколько упрощенно смотрят на осуществление стратегической цели - развала СССР и изменения государственного строя. Не упустили бы мелочей, на которых можно. споткнуться и провалить так тщательно спланированную акцию. Вот и теперь, погасив на своем холеном лице вежливую улыбку и приняв официальный вид, заговорил: - Господа. - Он произнес это слово элегантно, но с едва уловимым оттенком торжественности, и сделал небольшую паузу, требующую особого внимания. - Когда мы говорим или думаем о грядущих коренных переменах в судьбе России, меня всегда преследует вопрос: а позволит ли советский народ. Я имею в виду не интеллигенцию, а простой народ - заводской, сельский - произвести эти перемены? Готов ли он к ним психологически, и учитываете ли вы именно психологический аспект? - Он устремил вопросительный взгляд на академика и продолжил: - Советский Союз - это мощная держава с твердой идеологией широких слоев населения. Она сокрушила Гитлера. Не только танками и "катюшами" - идеями, верой в социализм. Насколько вам удалось скомпрометировать эту идеологию, довести до абсурда? Мы знаем, кое-что сделал Хрущев, больше сделал Брежнев. Есть многомиллионная партия коммунистов. Это сила, с которой нельзя не считаться. - Мы это учитываем, - самоуверенно своим вальяжным голосом ответил Гарбатов. - Прежде всего запланированные революционные перемены будут происходить при совершенно новом рабочем классе, с новой психологией, новым мышлением, которым мы внушали и продолжаем внушать новые ценности, принятые во всем демократическом мире. Сейчас экономика доведена до крайней черты. Через средства массовой информации мы обвиним в этом партию коммунистов. Коммунисты довели страну до ручки. - И саму систему, - вставил Александр Яковлевич. - Социализм себя не оправдал на практике. Значит ложны оказались марксистско-ленинские теории. Страна живет в долг, хотя народ об этом не знает. - Народ не знает - это возможно, - вклинился Савич. - Но мне непонятно: что, в Кремле среди руководителей нет умных людей, которые не видят или не понимают настоящего состояния экономики страны? Что там - все эти члены Политбюро - идиоты? - Тех, кто понимал, Брежнев убрал, по одному. Заменил некомпетентными, или как вы выразились, идиотами, - пояснил Гарбатов. Сенатор сделал жест рукой, призывая к порядку: - Господа, не будем отвлекаться на частности. Поговорим о главном, о тех действиях, которые нужно предпринять во время икс, то есть, когда у руля государства станет ваш демократ-интеллектуал. - Во главе с "серым кардиналом", - добавил Савич и решительно плеснул коньяку в свой фужер. Он немножко захмелел. Сенатор бросил на него неодобрительный взгляд и, двусмысленно улыбнувшись, сказал: - Я попросил бы Милоша вкратце изложить нашу точку зрения на перспективу. Савич, который хотел было выпить свой коньяк, с деланным недоумением посмотрел на сенатора и поставил фужер. - То, что я скажу, - начал он неторопливо, глядя в стол, - наши московские друзья знают. Нам хотелось лишь уточнить некоторые детали. - Он вдруг резко вскинул голову и посмотрел в угол потолка. - Чтоб разрушить любое здание, достаточно разрушить фундамент. Что из себя представляет фундамент Советской империи? Первое - это партия коммунистов с ее идеологией. Второе - союз национальных республик. Третье - армия, КГБ, ну и министерство внутренних дел. Дальше - где силы, способные разрушить этот фундамент? Во-первых, средства массовой информации и прежде всего - я повторяю - прежде всего - телевидение. Во-вторых, наши люди в партийном и государственном аппарате, в науке, в культуре. И в-третьих - молодежь. Молодежь - это мощная слепая разрушительная сила. В ней живет фанатичный инстинкт экстремизма, бездумный, животный. Этот инстинкт надо организовать и направить, указать цель, и молодежь, как стадо взбесившихся слонов, пойдет крушить все на своем пути. Для нее нет ничего святого - ни родителей, ни нравственного долга. - Извините, Милош, - вежливо вступил в разговор сенатор, что касается животного инстинкта, то он присущ не только молодежи. Это разрушительный инстинкт толпы, жажда громить, крушить, ниспровергать, ее стремление к вседозволенности под лозунгом свободы. На пути вседозволенности стоит закон, который исполняют власти. И разъяренная толпа бросается на представителей власти. Так было во все революции, потому что вожди хорошо понимали психологию толпы и умело ею манипулировали. - Он замолчал и, вопросительно посмотрев на Гарбатова, спросил: - Господин академик не согласен? - Нет, почему же, все правильно, - ответил Гарбатов. - Как мы знаем из истории большевистской революции, Лев Троцкий отлично использовал молодежь. Кстати, это понимал и Мао в "культурной революции". Мы уже начали работу с комсомолом. Мы создали по всей стране - через комсомол - сеть видеосалонов и дискотек, используем комсомольскую прессу. Во главе многих газет и журналов стоят люди Александра Яковлевича и ждут своего часа. Я хотел бы коснуться вопросов, о которых говорил Савич, о фундаменте. Прежде всего партия. Как в центральном комитете, так и в республиках, в обкомах есть наши люди, даже первые секретари крупных областей, члены ЦК. Дискредитацию партии мы начнем со сталинских репрессий. - И Ленина, - резко вставил Савич. - Ленин фанатик, жестокий экстремист, террорист. - С Лениным будет сложней, - сказал посол. - Его сделали иконой. - Я не думаю, что будут какие-то сложности, - возразил Гарбатов. - В двадцатых годах свергались и более древние иконы, рушились храмы, и даже самого Христа Спасителя. Все это делалось руками умело организованной и направленной молодежи, буйство которой не могли остановить даже родители. Дети шли против отцов, и мы это учитываем. - Все гениальное - просто и простое - гениально, - вслух пробурчал Савич не поднимая взгляда, и пояснил: - Довести народ до голода, а потом твердить ему денно и нощно, что это сделали коммунисты, что социализм оказался утопией, и тогда народ возненавидит и коммунистов и социализм. - Это будет революция сверху. Возглавят ее прогрессивные силы - антикоммунисты, - сказал посол. - Прежде всего евреи, как наиболее радикальная и организованная часть общества, - уточнил Савич. - Как и все предыдущие революции. И я думаю, сионистам в России пора выходить из подполья и действовать открыто. - Он поднял вялый взгляд на Гарбатова, спрашивая его мнения. - По-моему, преждевременно. Это может вызвать волну антисемитизма. Сначала надо отменить решение ООН, объявившее сионизм формой расизма и расовой дискриминации. - Ничего не преждевременно. Еврейский вопрос надо увязать с вопросом прав национальных меньшинств. Надо всячески поощрять национализм в республиках, стремление к суверенитету, - возразил Савич. - Национальные вожди не желают зависимости от центра, от Москвы. Таких надо иметь в каждой республике, особенно среди интеллигенции. Если хотите - и платных. Да, да, надо платить, если вы хотите сокрушить империю изнутри. В материальных и иных средствах, надеюсь, у вас нет проблем. - Извините, господин академик, - с любезной улыбкой обратился сенатор к Гарбатову - как вы думаете привлечь на свою сторону крестьян? Они - организованная сила в этих… как их? - кооперативах? - Колхозах и совхозах, - подсказал Александр Яковлевич. - Через средства массовой информации мы внушим крестьянам, что насильственная сталинская коллективизация была ошибкой. Проведем идею фермерства, раздадим землю всем желающим, - сказал Гарбатов. - В каждом крестьянине живет собственник. - В том-то и беда, Аркадий Григорьевич, - вклинился посол, - что тех крестьян-собственников уже нет. Это я говорю вам, как крестьянин, выросший в деревне. - Александр Яковлевич любил подчеркивать свое мужицкое происхождение. Он делал это с таким усердием, к месту и не к месту, что само это подчеркивание вызывало сомнение в его крестьянском происхождении. И не из гордости он рекламировал свое мужицкое происхождение, а как опровержение тех, кто ошибочно считал его евреем. - Для начала, со ссылкой на Ленина, мы выдвинем программу кооперации, - продолжил Александр Яковлевич. - Начнем повсеместно создавать кооперативы, представим кооперативам неограниченные кредиты. Государственный банк начнет испаряться, пойдет интенсивная штамповка новых банкнот. Подскочит инфляция. Из кооперативов появится новый класс зажиточных людей, будущих хозяев страны. Пока власти спохватятся с налогами, произойдет солидное обогащение деловых людей. Это будет новый класс, наша опора. - Не будем повторяться, - предупредил сенатор, - мы определили главные направления: партия, идеология, патриотизм, молодежь, армия, КГБ, средства массовой информации. За каждое направление должен нести ответственность один из руководителей акции, которую мы считаем исторической. Я имею в виду господ академика и посла. Между вами распределены ведущие сферы деятельности? - Да, - Гарбатов сделал резкий кивок головой. - За мной - армия, военно-промышленный комплекс, КГБ, ученые. У Александра Яковлевича средства массовой информации, молодежь, партия, идеология. - А национальные движения? - быстро спросил Савич. Посол и академик переглянулись. - У нас есть ответственный за это направление. - сказал Гарбатов. Разговор подходил к концу. Первым поднялся из-за стола сенатор: у него были вопросы личного характера к своему коллеге по Колумбийскому университету, которого он подчеркнуто называл "господин посол", придавая такому обращению приятельски-веселый оттенок, Шварцбергер взял Александра Яковлевича под руку и отвел в сторону. Оба были рады встрече, - как старые знакомые, почти друзья, они понимали друг друга с полуслова. - Я думаю, Савич преждевременно форсирует еврейский вопрос, - сказал посол. - Излишняя активность, легализация в данное время может вызвать нежелательную ответную реакцию. Русский обыватель от рождения поражен вирусом антисемитизма. - Не обращайте внимания: за Савичем водится такой грех - поторапливать события, - снисходительно улыбнулся сенатор. А Савич тем временем с преувеличенной озабоченностью донимал Гарбатова: - Скажите, профессор, какой процент гарантий, что этот ваш Горбунов именно тот будущий лидер, который сможет повернуть вспять судьбу России? По некоторым сведениям он слишком… как это говорят русские?… есть такое слово - плутоват? Что вы думаете? - Стопроцентные гарантии редки, как сиамские близнецы. Но у него неплохой гарант, - прогнусавил Гарбатов. - А именно? - Михаил Суслов. Имя это вызвало на лице Савича пренебрежительную гримасу: - Масонам из гоев, даже высокого градуса, я не очень доверяю. Они имеют неприятную черту на крутых поворотах вылетать в кювет. - В таком случае вам бы надо поговорить об этом человеке с Александром Яковлевичем. Он его лучше знает. Они встречались здесь. Он был гостем посла. Лично я более приемлемой кандидатуры на пост нового лидера не вижу. А что плутоват… так это не всегда минус. Чаще даже плюс. В конце концов всякая политика держится на плутовстве. Так закончилась эта встреча в гостинице "Северное сияние". Впереди в зыбкой дымке то ли стылого тумана, то ли ядовитого смога неясными, ублюдочно-уродливыми очертаниями зловеще мерцало нечто омерзительно-неестественное, как исчадие преисподней, как безумный рок, ниспосланный антихристом, что через несколько лет было названо перестройкой.
1978-84 г.г.
Николай Сизов КОД «ШЕВРО» Повести и рассказы
От автора
В основу «Невыдуманных историй» легли действительные события и факты. Это рассказы о случаях исключительных, редких, но все же порой имеющих место в нашей жизни. У нас нет гангстерских корпораций, которые держат в страхе целые города в некоторых капиталистических странах, нет широких организованных банд, которые грабят целые поезда и колонны машин, перевозящие государственные ценности. Нет и не может быть прежде всего потому, что сам народ стоит на страже порядка в своем доме и не допустит этого. Буржуазные ученые-криминологи все чаще говорят о преступности как явлении, якобы фатально неизбежном для любого человеческого общества, вытекающем из несовершенства природы человека. Этой насквозь реакционной «теории» социалистический мир противопоставляет основанное на научном марксистско-ленинском анализе утверждение, что в условиях коммунистического общества будет покончено не только с преступностью, но и со всеми причинами, ее порождающими. Но цепко, удивительно цепко, держатся некоторые негативные явления, чуждые нашему строю. Липнут к людям, передаются привычки, взгляды и нормы морали, несвойственные социалистическому обществу. Немалую долю в оживлении этой ядовитой поросли вкладывают и те, кто хотел бы самых обильных урожаев этой дряни, — защитники и проповедники капиталистического «рая». Сейчас наша партия при поддержке всего народа повела решительное наступление против любых нарушений нравственных норм нашей жизни; поставлена задача вести целенаправленную работу по формированию гармонично развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и высокую моральную чистоту. Борьба за трезвый образ жизни, против тунеядства, стяжательства, накопительства, за сознательное, добросовестное отношение каждого человека к труду, борьба против любых нарушений норм социалистического общежития — дело многотрудное, оно потребует активных усилий каждого советского человека, всего нашего общества. Истории, рассказанные в книге, говорят о неотвратимости возмездия тем, кто попирает социалистический правопорядок, напоминают еще раз о том, насколько важна бдительность общественной среды, насколько опасны всякие поблажки и смягчения, когда речь идет о склонности отдельного члена общества к легкой жизни, о нравственной деградации, пренебрежении нормами нашей, социалистической морали. Некоторые же истории свидетельствуют о необходимости более внимательного, чуткого отношения каждого коллектива к людям, всех нас друг к другу, с тем чтобы каждый советский человек в случае каких-то неблагоприятных жизненных обстоятельств чувствовал плечо и поддержку окружающих его людей. Автор не ставил перед собой задачу исчерпывающе анализировать истоки и психологические мотивы тех преступных проявлений, о которых рассказывается в книге. Носители зла получили заслуженное наказание. Но чтобы найти их, изобличить, неопровержимо доказать виновность, понадобилась длительная и кропотливая работа, упорство и высокое профессиональное мастерство тех, кто призван охранять покой советских людей, бороться с носителями чуждых нам нравов и норм жизни. В 8 представленных в сборнике повестях и рассказах при всей подлинности материалов по вполне понятным причинам заменены имена и фамилии некоторых участников описываемых событий. В разное время эти повести и рассказы были опубликованы в различных литературных журналах, некоторые из них выходили в сборниках моих произведений. Интерес читателей к ним, что явствует из многочисленных писем, побудил меня предложить «Невыдуманные истории» молодому читателю.
Код «Шевро»
Тихий, вымощенный булыжником переулок, сплошь застроенный сараями, складами, упирался в хозяйственный двор фабрики имени 1 Мая. Жилья здесь уже не осталось, невдалеке высились новые высокие дома, и обитатели переулка перебрались в них. Только в двух или трех неказистых, приземистых домишках жило несколько семей. В таком же домишке жила и Васена Бугрова с двадцатилетней дочерью Настей. Обе работали на фабрике: мать — кладовщицей в закройном цехе, а дочь — оператором в модельном. Им не раз предлагали переехать, но не хотелось Васене Павловне покидать угол, где прошла вся ее жизнь, и она упросила дочь не трогаться пока с насиженного места. Привыкла очень, да и до работы было рукой подать. Так и жили Бугровы в этом тупичке — людном и шумном днем, когда на фабрику и обратно снуют машины, слышны людские голоса, и тихом, полутемном вечером и ночью, когда даже прохожий здесь редкий гость. В тот вечер Настя задержалась в вечерней школе и домой пришла около одиннадцати вечера. Мать уже беспокоилась и встретила ее на крыльце. — Что так поздно? Девушка ничего не ответила, молча закрыла на щеколду и крючок дверь и заторопила мать: — Пошли, пошли в дом. Васена Павловна уловила тревогу в голосе дочери и обеспокоенно спросила: — Что случилось-то? — В переулке какие-то подозрительные люди. — Какие-нибудь собутыльники. Ты хорошо заперла дверь? Задерни поплотнее шторы да садись ужинать. — Я в школе, в буфете перекусила. — Ну тогда раздевайся да и в кровать, время позднее. Минут через сорок или через час Васена Павловна сквозь пелену подходившего сна услышала звук автомобиля. Машина шла по направлению к воротам фабрики. «Кто это полуночничает? — подумала она. — Неужто наши?» Когда вновь послышался шум мотора, женщина встала, приоткрыла штору и вгляделась в темноту улицы. Разбуженная ее шагами, проснулась дочь и, поднявшись, тоже прильнула к окну. Машина шла от фабрики. Показался тусклый желтоватый свет фары, и грузовик тихо, будто с опаской, прополз по улице. Затем вновь все стихло. Настя проговорила, укладываясь опять в постель: — Странно как-то. Ночью… Фабрика же не работает. — Наверно, строители. Фундаменты под станки делают в механическом. Утром Бугровы отправились на фабрику. Шли молча. О ночных событиях не вспоминали. Каждая думала о своих делах: Васена Павловна о том, что сегодня, видимо, придет новая партия кож и день будет трудный; Настя прикидывала, удастся ли выбраться с девчатами на новый фильм. Как бы не назначили цеховое комсомольское бюро… В середине дня к Насте в цех прибежала мать. Была она до крайности взволнована, губы дрожали. — Настенька, беда! Беда-то какая! Обокрали нас, обокрали! — Когда? Где? Ты что, дома была? — недоумевала дочь. — Да нет. Склад обворовали. В дирекцию вот бегала, сообщала. Наказав дочери, чтобы она после работы зашла за ней, Васена Павловна торопливо побежала обратно. …Утром Васена Павловна, как это делала всегда, зашла в диспетчерскую справиться, будет ли поступление ожидаемой партии сырья. Около склада ее уже поджидали двое рабочих из заготовительного цеха с тележкой — пришли за кожами. Бугрова тщательно осмотрела пломбу на двери склада, висевшую между ручкой и замком, привычно, механически вставила в скважину ключ. Зашелестела вложенная туда белая ленточка бумаги. Ее личный «секрет» был не тронут. Значит, как всегда, все в порядке. Наряды у рабочих оказались на пяток кож. Последующие выдачи тоже были мелкими. Для таких нужд у Бугровой лежало несколько десятков кож здесь же, под рукой, в ее рабочей комнате. К основным же стеллажам, что располагались за тесовой перегородкой, не понадобилось идти часов доодиннадцати или двенадцати, пока не зашел начальник цеха вместе со старшим мастером закройки. Они мудрили над какой-то новой моделью, и им понадобились две самые мягкие и тонкие кожи. То, что предложила им Бугрова, инженеров не устроило. Кожи оказались грубоваты. — Тогда пойдемте выберем из нового поступления. И она прошла в основное помещение склада. Начальник цеха и мастер вошли вслед и увидели, что Бугрова стоит между стеллажами растерянная. — Что случилось, Васена Павловна? — обеспокоенно спросил начальник цеха. — Да, вот… своим глазам не верю. Ведь все стеллажи-то были битком. А тут смотрите… Совсем недавно фабрика получила большой экспортный заказ, под него прибыло шевро высшего качества. Кожи еле уместились тогда на стеллажах. Теперь же стеллажи были полупустые. — Воры побывали, Не иначе, — в голосе Бугровой послышались слезы. — Что же теперь делать? Она торопливо считала и пересчитывала пачки. Несколько раз сбивалась, принималась считать вновь. — Сто сорок осталось. — А было сколько? Сколько пачек-то приняла? — Двести пятьдесят. — Точно помнишь? Не запамятовала? — Да нет, помню хорошо. Все же она, выйдя в свою комнатку, открыла толстую книгу учета, посмотрела в нее. — Да, двести пятьдесят. — А выдача? Выдача-то была? — Нет, в эти дни большой выдачи не было, вы же знаете. Да, начальник цеха знал это, но он, как и Бугрова, не хотел верить в случившееся. — Павел Павлыч, что же делать-то? А? — женщина разрыдалась. — Подождите плакать раньше времени. Надо немедленно сообщить дирекции. Разберутся.Сотрудники УВД Москвы майор Дедковский и лейтенант Стежков выехали на фабрику тут же после звонка заместителя директора фабрики Кружака. Еще когда мчались по улицам города, Дедковский с досадой показал на густой снегопад: — Только этого нам не хватало. Приехав на фабрику, майор еще больше расстроился. Все кругом было бело от легкого снежного покрова. Зато территория вокруг склада темнела, вся истоптанная. Весть о краже со склада уже облетела цехи, и десятки людей, улучив минуту-другую, забегали сюда поглядеть… — Да, не очень-то найдешь тут следы преступников, — угадав мысли майора, покачал головой Стежков, вылезая из машины. Майор вздохнул. — Знаешь, за двадцать лет работы в МУРе не помню ни одного случая, чтобы место происшествия осталось нетронутым. Действительно, след, хоть и не очень явственный, еле проступавший под тонким слоем истоптанного снега, был. Он принадлежал автомашине-полуторке. Было обнаружено, что машина через дощатый пастил на рельсах заводской железнодорожной ветки, проходящей под окнами склада, подавалась задним ходом. Левым колесом был поврежден штакетник узкого, чахлого газончика, тянувшегося между рельсами и стеной склада. При дальнейшем осмотре было обнаружено и еще кое-что: окно в прихожей комнате склада кем-то открывалось. Оно было заперто на один шпингалет. На подоконнике — ни пылинки. На соседнем же — тонкий слой лежал нетронутым. Бугрова утверждала, что вытирала окна одновременно неделю назад. Стало более или менее ясно, как все произошло. Кто-то, въехав на территорию фабрики, открыл склад, погрузил кожи через окно в машину и, вновь заперев замки, уехал… Допрос Бугровой, работников охраны, беседа с руководителями цеха, фабрики заняли у сотрудников опергруппы весь вечер. Заместитель директора фабрики Кружак, крепкий, моложавый мужчина, то и дело старательно закрывающий большую залысину рыжевато-седой прядью волос с затылка, представился Дедковскому как уполномоченный руководства фабрики по всем могущим возникнуть вопросам. — Какая-то очень опытная группа действует, — заявил он. — Это уже второй случай. В прошлом году была аналогичная ситуация. Ваши коллеги оказались не на высоте, и пятьсот пар нашей первосортной обуви вместо Баку и Еревана — пунктов назначения — отбыли неизвестно куда. Да, действуют, видимо, умелые руки. Дедковский согласно кивнул: — И кто-то им помогает. Как думаете, Федор Исаич, кто это может делать на фабрике? Кружак поднял глаза к потолку. — Кто? В самом деле, кто? Ключи кладовщики уносят с собой. Они лица материально ответственные. Стежков прервал его: — Говорят, что сегодня ночью на фабрику приходила какая-то машина. — Да? Не слышал об этом. — Не знает об этом и охрана. Как вы это объясните? Кружак пожал плечами: — Ну, если бы я знал все это, то зачем, собственно, уголовный розыск?
Предварительная беседа с Бугровой и у Дедковского и у Стежкова оставила тягостное чувство. Женщина была подавлена всем случившимся. Ее била нервная дрожь, спазмы схватывали горло, заплаканные, покрасневшие от слез глаза глядели удивленно, испуганно, с непроходящим отчаянием. Она поминутно повторяла одно и то же: — Как же теперь? Засудят ведь, засудят. Ведь я своими руками все закрыла, запломбировала… Ее отпустили домой, предупредив, чтобы никуда не выезжала из Москвы. — Куда же мне отлучаться-то? Дочка у меня, Настенька. Дедковскому позвонил Кружак: — Вы даете возможность Бугровой замести следы. — А вы что, Федор Исаич, имеете доказательства ее вины? — По-моему, это ясно как дважды два. — Вам ясно, а нам нет. — Дело ваше. Только боюсь, как бы не получилось так же, как и в прошлом году… Сторож проходной № 2 и хозяйственного въезда фабрики, тучный, но подвижный, краснолицый старик Шамшин, тоже был предельно удручен. — Удивительная история. Просто даже, я бы сказал, таинственная. Через мой пост даже муха не пролетела. За это я отвечаю. И потом собаки же у нас. Если я, допустим, обмишурился, они-то оповестили бы о гостях. Очень даже история удивительная, просто фантастическая. На старика так подействовало происшествие, что он говорил с трудом, лицо горело. Дедковский спросил: — Вы что, плохо себя чувствуете? Может, вызвать врача? — Да нет, ничего. Обойдется. Дедковский все же позвонил в заводскую поликлинику. Пришедшая вскоре врач осмотрела Шамшина, сделала укол и посоветовала: — Лечь ему надо. И немедленно. В это время Стежков положил перед Дедковским записку: у Бугровых в сарае обнаружена пачка коричневых кож. Десять штук. Прочтя записку, майор с досадой упрекнул себя: «Тоже мне криминалист. Кружак-то был прав, предупреждая». И уже с большей настороженностью посмотрел на Шамшина. — Ладно, сейчас поедем к вам. Будем делать обыск, А потом дадим вам отдохнуть. — Пожалуйста, пожалуйста. Посмотрите, все посмотрите. Я понимаю… Но, видит бог, нет у меня на душе греха. Однако под разным хламом в узком проеме между гаражом, где стояла машина сына, и забором, отделяющим гараж от полосы отчуждения железной дороги, был обнаружен сверток кож. Когда их положили перед сторожем, тот попятился, как от наваждения, замахал руками. — Нет, нет, не может этого быть… Старику сделалось плохо, и его под руки ввели в дом, положили на диван. Невестка дала какие-то капли. Как только ему стало чуть легче, Шамшин попросил позвать майора. — Товарищ следователь, клянусь вам, не брал я кож. Не знаю, как они к нам попали. Вскоре старику опять стало хуже. Дедковский и Стежков не решились в таком состоянии везти его на Петровку и оставили на попечении родственников и врача. А к утру Шамшин скончался буквально на руках у медиков. Заместитель начальника управления полковник Каныгин разговаривал с Дедковским и Стежковым сурово: — Я удивляюсь, майор, почему вы допускаете такие промахи? Ведь ясно же, что тут был сговор. Пока вы вели с ними душеспасительные беседы, сподручные расхитителей наверняка сплавляли похищенное шевро по надежным адресам. Дедковский поднялся: — Разрешите идти? — Обиды свои оставьте, майор. Если есть разумные соображения — докладывайте. — У меня сложилось мнение, что ни Шамшин, ни Бугрова к этому преступлению не причастны. — А основания? Какие есть основания для таких выводов? — Фактов нет. Интуиция. — Интуиция? Вашу интуицию я вместо пойманных виновников в прокуратуру не представлю. Отставить интуицию и мобилизовать оперативную амуницию, — нехотя пошутил он и уже серьезно приказал: — Бугрову немедленно доставить сюда. Завтра в это же время жду вас с докладом о ходе, а лучше о результатах розыска и следствия. — Обратившись к Стежкову, добавил: — А вы тоже, лейтенант, ворочайте мозгами. Это дело для вас серьезнейший экзамен. — Я тоже думаю, товарищ полковник, что воры были другие. Полковник пристально посмотрел на Стежкова, перевел взгляд на Дедковского: — Эти или другие — мне все едино. Но преступники и кожи должны быть найдены. Придя к себе в комнату, Дедковский с мрачной усмешкой спросил Стежкова: — Ну как, лейтенант, вдохновляющая беседа? — Что ж, беседа как беседа. — Да, пожалуй. А потому займемся делом. Итак, предполагаемые виновники Шамшин и Бугрова? Что здесь «за» и что «против»? Прежде всего, что это за люди? Стежков открыл папку. — Старик Шамшин на фабрике работал десять лет. До этого — на Казанской железной дороге. Почти всю жизнь. На пенсию провожали всем депо. Работать пошел со скуки. Сын работает в министерстве, невестка тоже там. Семья вполне обеспеченная. Теперь Бугрова. Эта девчонкой на фабрику пришла. В трудовой книжке одни благодарности. И о ней и о дочери самые хорошие отзывы. Дедковский внимательно выслушал Стежкова. — Все правильно, лейтенант. Но есть еще несколько вопросов. Оказывается, к строителям никакая машина не приходила. Значит, на фабрике была другая машина и с другой целью. Как она могла пройти на территорию без помощи сторожа? Ведь ворота-то на запоре. Плюс собаки. Далее. Склад не взломан, а открыт ключами. У кого были ключи? У Бугровой… Стежков задумчиво добавил: — А если учесть обнаруженные у Бугровых и Шамшиных кожи… — То выходит, полковник Каныгин прав, назвав нас шляпами. — Ну так он, кажется, нас не называл. — Не называл, так назовет. И еще добавит. Хотя именно обнаруженные у кладовщицы и сторожа пачки меня и вводят в сомнение. Зачем Бугровой и Шамшину надо было оставлять их у себя? Ведь известно, что после обнаружения кражи неизбежно будет обыск. — Ну, может, просто не успели спрятать или куда-нибудь отправить. — Основной-то куш успели… — Дедковский показал на стопку бумаг на столе. — Сообщения из отделений милиции. Нигде — ни в магазинах, ни в скупочных пунктах Москвы, ни на рынках области — ничего похожего на наши кожи не обнаружено. — Осторожничают, выжидают. — Да, выжидают. А как с розыском машины? — Обшарили все гаражи в этом районе. Протекторы у всех под одну гребенку. Наши эксперты в тупике. Хоть бы, говорят, какая-нибудь зазубринка или изъян какой на резине был. Обычный, чуть сношенный рисунок. Таких машин в Москве тысячи. — Надо об этом еще раз поговорить с Бугровой. Может, она вспомнит какие-либо характерные особенности машины? — Младшая сегодня звонила, просила ее выслушать. После работы зайдет. — Вот и хорошо. У нее следует выяснить связи матери. Бугрова очень любит дочь и вряд ли имеет от нее какие-либо секреты. Беседа с Настей Бугровой не внесла нового в имеющуюся по делу информацию, но сомнения Дедковского и Стежкова в правильности направления поисков усилились. Девушка тоже была обескуражена свалившимся на нее несчастьем, но держалась спокойно. Карие глаза смотрели напряженно, но открыто и твердо. Четко отвечала на вопросы, не теряла уверенности, что вся эта история обязательно выяснится. — Да, когда шла домой, трое каких-то мужчин гуртовались на противоположной стороне. О чем они говорили, я не слышала. Перепугалась немного, время было позднее. — Машину? Да, видела, когда она обратно, от фабрики шла. У нее тускло светилась одна фара. Именно одна — это я точно помню. — С кем мама знакома? Когда отец был жив, знакомых было много. Потом стало меньше. Я — на работе да в школе, а у мамы хлопот по хозяйству по горло. Да еще живем мы на отшибе, к нам не так-то легко добраться. По воскресеньям приезжает мамина сестра, она живет в Краскове. Летом иногда мы выбираемся к ней на денек. Если же вы моими знакомыми интересуетесь, то, пожалуйста, вся моя бригада и почти вся наша группа в школе… Как объясню, что у нас нашли сверток кож? Этого я объяснить не могу. Во всяком случае, ни я, ни мать кожи на фабрике не брали… Да, я понимаю, что говорю без доказательств, но я знаю, что это правда. И уверена, что тот, кому положено, обязательно разберется во всем этом. Когда девушка вышла, Дедковский спросил: — Ну, так как, коллега, что скажешь? — Девушка, безусловно, интересная. — Еще что заметил? — Глаза у нее видели? Агаты, а не глаза. Это еще в горе, а если засмеется? Дедковский ухмыльнулся: — Да, лейтенант Стежков, очень существенные детали вы установили. Так мы и до морковкиного заговенья грабителей не найдем. — А что вы можете возразить против моих слов? — Ничего. Ровным счетом, ничего. Но ведь во дворе у этой красавицы с агатовыми глазами обнаружены похищенные с фабрики кожи, ключи от склада были только у ее мамаши. Ну, и так далее. Это-то ты берешь в расчет? — Беру, беру, — горячо проговорил Стежков, — и все же думаю, что настоящие воры гуляют себе на свободе и посмеиваются над нами. — Может быть и такое. В этот момент позвонил Кружак. Он сообщил, что собрал широкое совещание и хочет на попа поставить вопрос о порядках с охраной социалистической собственности на фабрике. «Было бы хорошо, чтобы товарищи с Петровки приняли участие…» — Но ведь у вас только вчера было такое совещание? — удивился Дедковский. — Быть-то было, а результат — кража со склада. А потом вчера мы его довольно быстро свернули и условились, что продолжим сегодня. Нет, я их буду молотить, пока не добьюсь настоящего порядка.
Совещание собралось действительно довольно широкое. Здесь были начальники цехов, почти все руководящие работники отделов сбыта и снабжения, заведующие складами, все основные работники охраны. Кружак распекал всех на чем свет стоит: за беспечность, халатность, бесхозяйственность. Говорил остро, гневно, и чувствовалось, что дело он знает. Буквально каждому из присутствующих он предъявлял какие-нибудь претензии, и, судя по тому, что люди молча опускали глаза и ежились, претензии эти были вполне обоснованными. — Вот вы, Филипп Петрович, — обращался он к начальнику отдела снабжения Кострову, — сколько раз я говорил вам: нельзя реализацию всех фондов стягивать к концу месяца. Забиваем склады, много материалов остается на улице. Прекрасные условия для хищений! А вам, товарищ Хлыстиков, как начальнику пошивцеха, разве не давалось указание, чтобы вы не оставляли в цеху неиспользованные отбракованные, непарные заготовки? А я шел сегодня через цех — штабеля целые лежат! Бери — не хочу! Опять к вам вернусь, товарищ Гришаков. Вы, как начальник охраны, у нас именинник. И не первый раз. Вся фабрика только и говорит о вас. Людей вы распустили, за их службой не следите, активности проявляете мало. Сколько раз собирались заменить сторожевых собак? Это же типичные тунеядцы. Им брехать и то лень! Тявкнут раз-другой, и все. Дескать, хватит, чего мы будем глотку драть… Участники совещания вносили много дельных предложений, спрашивали совета, сообщали о разных неполадках. Кружак одобрительно качал головой, записывал что-то в своем толстенном блокноте. После совещания Кружак попросил Дедковского и Стежкова задержаться. — Ну, как там, ничего нового? — спросил он, когда все вышли. — Нет, пока ничего, — ответил Дедковский. И попросил: — Не откладывайте, пожалуйста, со снятием остатков по центральному и цеховым складам. — Да, да. По закройному цеху уже начали. А как Бугрова, все молчит? — И, не получив ответа, продолжал: — С кем-то связаны были старички. Факт. Только с кем? Теперь ищи ветра в поле. Так что я понимаю ваши трудности. Трудности, вставшие перед оперативной группой, и в самом деле были немалые. Машину, что была в этот вечер на территории фабрики, найти не удалось. Старик Шамшин если и знал это, унес тайну с собой. Кладовщица Бугрова больше однажды рассказанного ничего добавить не могла или не хотела. Следы автомобиля, стертая пыль с подоконника склада лишь подтверждали предположения, как была совершена кража, но не давали реального пути для поисков преступников. — Чертовщина какая-то, — досадовал Стежков. — Будто нечистая сила действовала. Ведь отпирал же кто-то двери, окно, ворота хозяйственного въезда, потом опять закрывал — и никаких следов. — Бывает всякое, лейтенант, — отвечал Дедковский. — Хотя мы и считаем, что следы обязательно остаются, однако нет правил без исключения. Несколько лет назад расследовал я дело о краже вещей в одной квартире в Филях. Поверишь ли, три дня и три ночи искали мы эти самые хотя бы незначительные улики. И не нашли. Вошли воры в квартиру, подобрав ключи; так как хозяева были в отъезде, действовали они спокойно, не торопясь, и не оставили даже малейшего следа. — А как же вы нашли их? — По почерку. Судя по тому, с какой аккуратностью и тщательностью была выпотрошена квартира, можно было предположить, что это дело рук Кимзы. Был у нас такой опытнейший домушник. Но он уже несколько лет как завязал, мирно и тихо жил в Измайлове. Наведался я к нему. Сидит с супругой, чаек попивает. Меня тоже пригласил: «Садитесь, кум-майор, побалуйтесь чайком. И скажите, зачем пожаловали?» Сел я за стол. Хозяйка в кухню пошла, чтобы чай налить. Приносит. Сердце у меня так и екнуло: не прочно, думаю, ты завязал, Кимза. Со стола она брала стаканы в золоченых подстаканниках, а принесла без них. Что бы это значило? Выпили мы с Кимзой по стакану, я спрашиваю: «Зачем в Филях шухер наделал? Вся Москва говорит. Ведь обещал-то мертвым узлом завязать?» «Кум-майор, вы ошибаетесь. Не имею я к этому делу никакого касательства». «Эх, ты! А мы тебе верили. Вещички из Филей у тебя. И мы их сейчас найдем». А Кимза свое: «Нет у меня ничего. Зря обижаете, гражданин начальник. Я сейчас тише воды, ниже травы…» Позвал я ребят, что со мной приехали, посмотрели мы все закоулки — ничего нет. Только заметил кто-то, что паркет в комнате очень свеж. Комната-то вроде не ремонтирована, а паркет новый. Спрашиваю: «Почему такое?» Кимза поперхнулся и говорит: «Отциклевали недавно». Ну, стали мы плинтуса поднимать, кто-то из ребят не очень аккуратно дернул одну паркетину, она вдоль треснула. Кимза поморщился, очень он хозяйственный мужик был, и говорит: — Пол ломать, между прочим, не надо, ни к чему. Люк под шкафом. Вещи там… Стежков вздохнул: — У вас биография — хоть роман пиши. А на несчастных кожах даже вы споткнулись. Неужели мы не разгадаем этот ребус? — Эти несчастные кожи, дорогой мой, стоят не один десяток тысяч. Ценность огромная. И не думаю, что за таким кушем ринулся какой-то неопытный да зеленый. Это действовали люди, видавшие виды. И продумали они все до деталей. Потому-то мы с тобой и бьемся как муха об стекло. Не знаем, где начать и где кончить. Нет, лейтенант, это будет операция не из легких.
Недели через две полковник Каныгин вновь позвал к себе Дедковского и Стежкова. Доклад майора он слушал не перебивая. Но по тому, как хмуро поглядывал на обоих, как нервно барабанил костяшками пальцев по настольному стеклу, было видно, что недоволен, и недоволен крепко. Так оно и оказалось. — Значит, так… Будете разрабатывать версии номер один, два, три. Продумывать легенды такие-то. Брать под наблюдение то, потом это. А когда же будет результат? Да еще Бугрову хотите освободить. Чепуха какая-то! Дедковский, однако, стоически выдержал упрек и спокойно ответил: — Мы делаем все возможное. Бугрову же освободить следует. Никуда она не денется. Связей у нее в интересующем нас плане пет. А если и есть, то мы их не упустим. — Ну, вот что, — непримиримо проговорил Каныгин, — согласия на освобождение Бугровой не даю. Состав преступления в ее действиях налицо. Преступная халатность — раз, хищение — два. Так что если вы застрянете с розыском соучастников, будем судить ее одну. Это дело вот где у меня сидит, — показав на шею, закончил полковник. Проверка версий, о которых Дедковский и Стежков докладывали Каныгину, не привела к положительным результатам. Подозрительных связей Бугровой установлено не было, машина как в воду провалилась. Поиски шевро ни на рынках, ни в магазинах, ни в малых, ни в больших мастерских ни к чему не привели. Дедковский обратился с рапортом по начальству о продлении срока для расследования. Разрешение было получено, однако дальнейшее руководство следственной группой поручили не Дедковскому, а другому работнику. Уголовное дело по обвинению Бугровой в халатности вскоре было окончено и направлено в народный суд. Дедковский и Стежков присутствовали на всех судебных заседаниях. Ничего нового, дополняющего имеющиеся у них сведения они, однако, не услышали. Свидетели, представители фабрики, Бугрова повторяли то, что было уже известно. Судьи, как до них Дедковский со Стежковым, а потом следователь Сахнин бились над одним и тем же: кто соучастник Бугровой? Куда девались кожи? Ответ Бугровой был один: «Не знаю, ничего не знаю…» Она похудела, осунулась, как-то очерствела вся, смотрела на окружающее отсутствующим, ничего не выражающим взглядом. Ни гнева, ни возмущения, ни слез. Односложные, бесстрастные ответы. Она, в сущности, даже не защищала себя, с удивительным равнодушием слушала речи и обвинения и защиты. Только когда увидела дочь, разрыдалась. — Позор-то какой, Настенька, позор-то какой. Только знай, невиноватая я. Стежков донимал Дедковского вопросами: — Что с Бугровой? — Психологически это вполне объяснимо. Она не может доказать свою невиновность и понимает, что будет осуждена. Отсюда — безразличие ко всему. Мысль, что выхода нет, парализовала ее волю, все ее жизненные проявления. — Понимаете, в моем сознании не укладывается, что эта пожилая, всю жизнь проработавшая на фабрике женщина и ее дочь-комсомолка роют во дворе тайник и прячут туда ворованное добро. Чушь какая-то! — Да, представить это действительно трудно. Но суд да и мы тоже обязаны руководствоваться не эмоциями, а фактами.
Бугрову осудили. Было вынесено также частное определение о необходимости дальнейших мер по розыску похищенного и установлению возможных соучастников кражи. Дедковский, выслушав определение, сказал: — Видишь, лейтенант. Дело это не закончено. И мы должны довести его до конца. Понимаешь? Должны. Полковник Каныгин, однако, мыслил по-другому. — Если возникнут какие-либо новые обстоятельства, поручим заняться кому-нибудь. А у вас и других дел по горло, — заявил он Дедковскому. Майор настаивал: — Я не согласен с вами, товарищ полковник. По делу надо активно работать и дальше. Прошу разрешения обратиться к комиссару. — Обращайтесь, но ответ, я уверен, будет тот же. Но полковник Каныгин ошибся. Комиссар милиции Пахомов поддержал предложение Дедковского и приказал продолжать активный розыск преступников, взяв дело под личный контроль. И вот все материалы дела о хищении шевровых кож с фабрики имени 1 Мая вновь внимательно изучаются, тщательно анализируются в опергруппе, в состав которой включены майор Дедковский и лейтенант Стежков. Розыскные материалы растут, ширятся. Любые сообщения, сведения, данные, имеющие значение для розыска преступников и похищенного ими, тщательно проверялись, анализировались, уточнялись. Оперативно-розыскная группа была уверена, что рано или поздно она нащупает нужный след. — Кожи — не золото, годы лежать они не могут, — высказал майор свои соображения. — Люди, которые похитили их с фабрики, выжидали. Прекращение активной работы по делу, суд над Бугровой убедили их, что гроза миновала. Уверен, скоро начнется реализация похищенного, и нам надо смотреть в оба. В ближайшее время мы с вами наведаемся на фабрику. Все-таки это мой родной район. Однако выехать в родной район Дедковскому пришлось гораздо раньше, чем он предполагал. На следующий день после этого разговора в кабинете заместителя директора фабрики имени 1 Мая Кружака раздался звонок с пошивочной фабрики, расположенной по соседству. — Федор Исаич? Здорово, — послышался в трубке голос заместителя директора Еремина. — Несчастье у нас: воры сегодня побывали. — Да что ты? — удивленно и даже как будто испуганно переспросил Кружак. — И что, серьезно пощипали? — Два контейнера чернобурок уплыли. — Куш немалый. В МУР-то сообщили? Хотя, судя по тому, как они наше шевро ищут, особых надежд не питайте. Положив трубку, Кружак прошелся по кабинету, усмехнулся и позвонил директору. — Павел Иванович, хочу сообщить новость. Соседей-пошивочников тоже обворовали. Да нет, что вы, не радуюсь, но, как это говорится, на миру и смерть красна. От сыщиков-то? Нет, ничего пока не слышно, плакали наши первоклассные кожи.
Кража на пошивочной фабрике была совершена так же мастерски, как и на обувной. — Опять нечистая сила действует, — мрачно пошутил Стежков после осмотра места происшествия. — Да, умело работают, — согласился Дедковский. Они стояли на широком выступе цокольного этажа склада, поднятом над землей метра на полтора — до уровня пола товарных вагонов. Дедковский был задумчив, мрачен и все смотрел и смотрел молча на рельсы. Они пролегали параллельно складу и уходили за забор, ограждающий территорию, а за ним вплетались в сеть находящейся недалеко отсюда Товарной-второй. Наконец Дедковский поднял на Стежкова глаза: — Кажется, мы у конца ниточки, лейтенант. Лисьи шкурки увезены в вагонах, вот по этим самым путям. Скажу тебе больше: шевро от соседа, — он показал на фабрику имени 1 Мая, — тоже могло уйти по ним же. Ветка-то одна. Стежков внимательно посмотрел на Дедковского. — Мысль новая и оригинальная, товарищ майор. Но… Вагоны по выходе с территории проверяются охраной фабрики. Затем контроль на станции… — Это уже вопрос организации дела. А поставлено оно у жулья, как мы убедились, довольно тонко. Утром Стежков был уже на станции Товарная-вторая. Ознакомился с графиком поступления грузов на пошивочную, порядком возврата порожняка, системой контроля. В ту ночь, когда были похищены чернобурки, фабричная ветка приняла двадцать два вагона. Двенадцать — с углем и лесом, они были разгружены ночью же и порожняк возвращен, а десять вагонов дожидались утра, так как там были ткани, ватин, меха — они принимались центральным складом. К десяти утра и эти вагоны ушли с территории. На сортировочном пункте пояснили, что часть вагонов, разгруженных ночью, пошла на Узловую, часть — в Архангельск на формирование вертушек. Догнать, найти ушедшие вагоны было и невозможно и бессмысленно. Чернобурок в них уже нет. Зато Стежков убедился, что выход порожняка с предприятия почти не контролируется. Что проверять в пустых вагонах? Да, предположение Дедковского, что краденое с пошивочной, а возможно, и с обувной фабрики было отправлено по железнодорожным путям, не лишено оснований. Когда Стежков, докладывая майору итоги дня, высказал эту мысль, Дедковский невесело улыбнулся: — Нам осталось немного — установить, кто это сделал. — Ничего себе — немного! Самое главное. — Да, именно — самое главное, — согласился майор и сообщил: — Недавно слушатель нашей школы, проходя по Сретенке, заметил, что какой-то молодой человек около магазина «Обувь» предлагал женщинам заготовки туфель черного и коричневого цветов. Слушатель пригласил его в ближайшее отделение милиции на Садовой. Только беда в том, что работники отделения отпустили задержанного, не разобравшись, кто он. Записали лишь фамилию да адресок, что явное нарушение. А когда хватились и проверили, то оказалось, что ни гражданина Проскурина, ни адреса, который он дал, в Москве не существует. Значит, молодой человек, сбывавший туфли, орудует с липовым паспортом. Вот этим так называемым Проскуриным надо заняться вплотную. Весь остаток дня ушел у Стежкова на составление словесного портрета неизвестного, благо слушатель школы, который задерживал молодого человека на Сретенке, да и работники отделения запомнили его хорошо. Ночью эти материалы уже были в отделениях. Утром Стежков вновь отправился на Товарную-вторую. Ему надо было выяснить, постоянный ли состав поездных бригад обслуживает соседние предприятия. Какова система оповещения о прибывших вагонах и готовом к отправке с предприятий порожняке? Да и еще многое надо было узнать. Он сидел у начальника станции и беседовал с ним, когда в кабинет вошла пожилая, но энергичная женщина. Прислушавшись к их разговору, она как-то естественно и просто включилась в него: — Порядка пока нету, чего тут говорить. При таких-то послаблениях может быть всякое. Был же у нас случай, когда вагон с посудой вместо базы Главторга на мебельную фабрику загнали? А три вагона электроарматуры из Ленинграда? Мотались по веткам, поди, месяц. За пересменкой глядим плохо. Вот, намедни, Бычков и Терехин что удумали? Вышли не в свое дежурство. Весь график нам поломали. А почему? Все из-за своих дружков да подружек на фабриках. Оно конечно, парни у нас справные и фабричные девушки всегда рады с ними побалагурить. Только у нас из-за этого порой целая карусель получается. Стежков установил, что это «намедни», когда Бычков и Терехин явились на работу вне графика, было одиннадцатое число, то есть именно тот день, когда была совершена кража на пошивочной. Было над чем задуматься… Утром он подробно рассказывал Дедковскому о разговоре с нарядчицей Товарной-второй. Стали прикидывать, как подробнее узнать, что это за люди — Бычков и Терехин. Затрещал телефон. Звонил начальник отделения милиции с Юго-Запада. Патрульным нарядом задержаны двое подозрительных граждан — молодой человек и женщина. «Парень, кажется, тот, кого вы ищете. Женщина тоже довольно странная и с оригинальной поклажей. Пусть Дедковский подъедет…»
А дело было так. По Университетскому проспекту шла женщина, катя впереди себя детскую коляску. Обычная картина для московской улицы, и вряд ли кто обратил бы на этот факт особое внимание. Но женщина дефилировала по проспекту уже несколько раз. Прошла от дома № 17 до дома № 31, завернула во двор и обратно к дому № 17. Затем опять тот же маршрут. И еще. И еще. Старший патрульного отряда сержант Кравцов, когда женщина в третий раз поравнялась с ним, приветливо улыбнувшись, откозырял: — Добрый день. Долгонько гуляете-то. — Да, приходится, маленькому воздух нужен, — торопливо ответила женщина и заспешила по тротуару. Может быть, на этом бы все и кончилось, но перед выходом из-под арки двора в очередной рейс женщина сторожко огляделась кругом. Сержант, стоя в это время в телефонной будке и говоря с отделением, заметил эти меры предосторожности обладательницы детской коляски. Это удивило и насторожило его. Выйдя из будки, он пошел женщине навстречу. — Может, вы детей у нас на Университетском похищаете? — шутливо поинтересовался он и заглянул в коляску. Ребенка не было видно, пышное голубое одеяло покрывало его с головой. — Можно посмотреть вашего питомца? — спросил лейтенант. Женщина торопливо и испуганно ответила: — Нет, нет. Что вы? Спит малый. В это время из-под арки двора вышел парень и подошел к лейтенанту и женщине. — Что, разве гражданка нарушает порядок? Оставьте ее в покое, сержант. Кравцов удивился: — А при чем здесь вы? Проходите, не вмешивайтесь. Женщина, видя, что внимание лейтенанта переключилось на парня, попыталась уйти, но Кравцов быстро встал у нее на пути. Глядел он, однако, по-прежнему на парня, лицо которого показалось ему знакомым. «Кто же это? — думал сержант. — Удивительно знакомая физиономия». А вокруг них собралось уже несколько любопытных. Парень возмущался: — Ну, чего пристал к гражданке? Что она сделала? Это же произвол, сержант. Женщина тоже говорила что-то насчет беззакония. Их поддержал кое-кто из толпы. Кравцов между тем, наклонившись над коляской, поднял верхнюю кромку одеяла, потом открыл его еще больше. Под одеялом лежал… серый мягкий мешок, связанный крест-накрест, белым шпагатом. Из горловины мешка выпирал пушистый черно-серебристый мех. — Лисьи шкурки. А где же дитя? Женщина в смятении начала причитать: — Товарищ сержант! Это не моя коляска. Какая-то женщина попросила побыть минуточку возле ее ребенка. Купить молока, говорит, надо. Пошла в магазин и пропала. Вот битый час жду ее, по тротуару хожу, чтобы встретить. Я думала, действительно дитя, а тут шкурки какие-то. — Женщина нервно озиралась по сторонам, плакала. — Я пойду, товарищ начальник. Вы с ней разбирайтесь. Кравцов остановил ее: — Нет, нет. Подождем вместе. Парень, заступавшийся за женщину, стал протискиваться из круга. Кравцов заметил это. — Вы, гражданин, тоже не уходите. — Это почему? У меня нет времени. Но кольцо людей стояло плотно. А с противоположной стороны улицы к толпе спешили два милиционера. Кравцов сказал женщине: — Ждать, я думаю, бесполезно. Коляска эта — ваша. — Откуда это вы взяли? Говорю же вам, гражданка какая-то… — Ну, хорошо. Разберемся в отделении. Прохожие, сначала выражавшие сочувствие обладательнице коляски, сейчас возмущались: — Сколько еще разного жулья! — Да, есть еще такие вот прохиндейки. — Спекулянтка, наверное. — А может, и того хуже, какой-нибудь магазин или склад обворовала. Дедковский и Стежков, приехав в отделение, захотели увидеть прежде всего молодого человека. В комнату вошел рослый, хорошо сложенный парень лет двадцати пяти. Уверенная, чуть вразвалку походка, брюки в обтяжку, полузастегнутая рубашка из красно-синей буклированной ткани. — Чем могу служить, граждане начальники? — Фамилия, имя, отчество? — Черненко Борис Игнатьевич. — А точнее? — Перед вами, как я вижу, мой паспорт. — Да, паспорт передо мной. Но две недели назад, когда вас задержали на Сретенке, вы предъявляли другой. На имя Проскурина. Как это понимать? — Никто меня пока не задерживал. Все это из области фантазии, товарищ майор. — Значит, ошибка? Ну, что же, возможно и такое. Отложим нашу беседу до приезда товарищей, которые сталкивались с неким Проскуриным. Может, вы просто похожи. Подождите в соседней комнате. Парень стал упрашивать: — Товарищ майор, очень прошу, отпустите. По дурости влез я в эту историю. Думал, зря, мол, лейтенант женщину обижает. А оказалось… Откуда я мог знать? У меня, понимаете, братишка из школы вот-вот придет, а ключи от квартиры — вот они. Замерзнет парень на улице. Живем-то мы с ним вдвоем. — Вдвоем, говорите? А родители? — Нету таковых. — Значит, Борис Игнатьевич Черненко? — Да, именно так. — Точно? — Абсолютно. — Где работаете? — Строитель. Шестнадцатое стройуправление. Дороги, мосты и прочее. — Значит, на Сретенке не задерживались? — Нет, не задерживался. — Вы это точно помните? — Абсолютно. Если бы такое было, сказал бы. Я ведь знаю, с вами надо в открытую. — Да, в открытую лучше, — согласился Дедковский. — Ну что ж, ладно. Подождите немного. Отправим вас домой. Но не исключено, что пригласим. — Пожалуйста, в любое время. Но, откровенно говоря, причин не вижу, ибо никаких грехов за мной нет. — И парень вышел из комнаты. — Зачем вы его отпустили? Почему? Ведь похож же, ну очень похож, — недоумевали Стежков и начальник отделения. — Вполне возможно, — согласился Дедковский. — Но ведь братишка замерзнет. — А вы в это поверили? Ну, знаете… — Стежков даже поперхнулся от удивления. Майор улыбнулся: — Подожди горячиться, лейтенант. От того, что Проскурин-Черненко сейчас окажется в камере, проку будет мало. Что мы ему предъявим? Похож на Проскурина? Но он будет настаивать, что сходство случайное. Что продавал две пары заготовок на Сретенке? Заявит, что не продавал и знать ничего не знает. Заступался за обладательницу коляски? Но что же тут такого? Он же объяснил: «Заступался, пока не знал, кто она…» Начальник отделения заметил: — Не знаю, знакомы ли они, но, как мне доложил Кравцов, разговор между ними был какой-то чудной. Что-то такое о папаше, о шашлыке по-карски… И шипела на него дамочка, что не помог. — Папаша? Шашлык по-карски? — Дедковский насторожился. — Вот эго уже интересно. Ну-ка, расскажите подробнее. — И, выслушав начальника отделения, попросил: — Пусть кто-то из ваших ребят отвезет Черненко домой. А перед этим зайдет ко мне. Потом мы займемся дамой… Женщина вошла в комнату не так уверенно и смело, как Черненко. Она была явно растерянна, нервно перебирала в руках цветной шарф. Представилась с натянутой улыбкой: — Клавдия Антоновна Муравицкая. — Садитесь, Клавдия Антоновна. Расскажите, что это за история с вами случилась? Почему в коляске вместо мальчика или девочки вдруг оказался тюк с лисьими шкурками? — Да не знаю я ничего, гражданин начальник. Иду по улице, какая-то женщина остановила меня и просит: «Постой минуточку у коляски, в магазин за молоком забегу». Ну, как тут не помочь? Остановилась, качаю помаленьку коляску-то. А женщины все нет и нет. Десять минут нет, двадцать нет. Полчаса прошло. Я и давай ходить по тротуару, может, думаю, встречу, может, в другой магазин она подалась. А тут товарищ лейтенант… Вот и все. — Вот что, Клавдия Антоновна. Все это неубедительно. Мы задерживаем вас. Подумайте. Вы должны рассказать все. Имейте в виду, что ложь никого в таких делах не спасала. — Но я же вам все-все рассказала. Все, как есть. — Скажите, пожалуйста, в каком ресторане сегодня встреча? — Какая встреча? О чем вы, товарищ майор? Я ничего, ничегошеньки не знаю. И не понимаю даже, о чем вы спрашиваете. — Не хотите говорить, ну что ж… Установим без вас. Вскоре после того, как увели Муравицкую, вернулся Кравцов, отвозивший Черненко. Он доложил, что, как и говорил Черненко, пацан лет десяти ждал его на улице. Они зашли в магазин, купили хлеб, колбасу, кефир и отправились домой. Только… — Что только? — В квартире, куда они вошли, никакого Черненко, как и Проскурина, не числится. Там живут граждане Донские и Тепляковы. — Спасибо, сержант. Факт важный. А адресок-то точный? — Точный, товарищ майор. — Что ж, наметим ближайшие меры. Вам, Стежков, вместе с группой товарищей из МУРа, разгадать загадку с «шашлыком по-карски». Думаю, что это один из московских ресторанов. Есть такая повадка среди некоторых наших подопечных именовать рестораны и кафе по названиям их фирменных блюд. «Бастурма», например, это на их языке ресторан «Арагви», «На ребрышке» — это «Баку», «Трепанги» — ресторан «Пекин». Ну и так далее. А вот какое заведение специализируется на шашлыках по-карски — убей, не знаю. А узнать надо. Думаю, что Черненко обязательно подастся туда. Ему есть о чем рассказать приятелям, и ваша задача, Стежков, не упустить их из виду. — А может, Муравицкая имела в виду что-то другое? — усомнился начальник отделения. — Может быть, я и ошибся. Но все же, думаю, разговор следует понимать так: «Сегодня наши гуртуются в таком-то ресторане. Дай знать, что завалились… Пусть предупредят «папашу». И они, конечно, постараются это сделать, и немедленно. Потом кое-кто, возможно, будет пытаться сменить свои адреса. Это тоже надо иметь в виду. Одним словом, лейтенант Стежков, перед вами несколько уравнений, и все со многими неизвестными. Действуйте. Поезжайте на Петровку и предпринимайте все, что нужно. — Товарищ майор, а если Черненко сейчас забьет тревогу? Предупредит, чтобы в ресторан не являлись? — Не думаю. Он ведь уверен, что его мы ни в чем не заподозрили. А кроме того, его связи отныне мы будем знать.
Клавдия Муравицкая жила в небольшой комнате нового многоэтажного дома. Соседи но квартире рассказывали, что переехала она сюда недавно. Женщина смирная. Правда, бывают у нее иногда гости, поздненько засиживаются, но приходится мириться, дело ведь молодое. В детских яслях, где работала Муравицкая, отзывы о ней дали тоже вполне положительные: — Муравицкая? Завхоз-то наш? Недавно она у нас, но работает старательно. Когда же в кладовой обнаружили шесть туго связанных тюков с лисьими шкурками, заведующая удивилась до крайности: — Какие-то лисы? Почему здесь, у нас? — Действительно, странно, — в тон ей ответил Дедковский. Предстояло узнать, куда возила Муравицкая меха, так оригинально используя «детский пассажирский транспорт». Сама она вела себя как оскорбленная добродетель, отвечать на вопросы отказывалась, повторяла свою старую версию о случайно встреченной женщине. Из бесед с соседями по квартире и с работниками яслей было установлено, что есть у Муравицкой подруга по но имени Аня. Работает где? В каком-то из здешних магазинов. Через два дня приятельница Муравицкой была установлена. Это была Анна Прядова из комиссионного магазина № 26, находящегося на соседней улице. — Где прячу лисы? Какие такие лисы? Ничего я не знаю. — Нам известно, что гражданка Муравицкая перевезла к вам несколько тюков с лисьими шкурками. — Нет, нет, не путайте меня в какие-то темные дела. — Боюсь, что вы уже влезли в них. Придется делать у вас обыск. И если найдем эти самые лисьи шкурки… не обессудьте. Будете отвечать в одной компании со своей подругой. — А почему это я должна отвечать? Попросила она меня подержать у себя кое-что из ее вещей, я и согласилась. Живу-то я в собственном домишке, места у меня много. Три или четыре свертка привезла вчера, а потом куда-то запропастилась, ни слуху ни духу. Теперь-то я понимаю, где она. Но я тут ни при чем. В сарае за развалом березовых дров лежали тюки со шкурками. Прядова, провожая оперативных сотрудников, сыпала проклятиями в адрес разных жуликов и проходимцев, которых давно пора, как мусор, вымести из нашей жизни. Явившись в ресторан, лейтенант Стежков решил еще раз проверить, по адресу ли прибыл. Он подошел к метрдотелю и вежливо осведомился: — Будьте добры сказать, шашлычок по-карски у вас бывает? Метрдотель, важный, упитанный мужчина с плавными, медлительными движениями, оглядев посетителя с ног до головы, снисходительно ответил: — Если вы хотите скушать настоящий шашлык по-карски, а не дребедень какую-нибудь,то только здесь. В Москве лишь один человек может готовить их на недосягаемом уровне — это Карл Феоктистович Калюто. А он работает у нас. Остальные ресторации лишь пыжатся, но… не могут. Нет, не могут. — Значит, настоящие любители могут получить это чудесное кушанье только здесь? — Я вам, кажется, объяснил довольно всеобъемлюще, — ответствовал метрдотель и величественно поплыл по залу. Стежков устроился за столом в углу. Весь зал был перед ним. Ждать пришлось недолго. Два парня чуть ленивой, вальяжной походкой прошли по залу и сели напротив стола Стежкова. Лейтенант незаметно рассматривал их. Парни как парни. Одеты обычно и выглядят обычно. На первый взгляд — не отличишь от остальных посетителей. Но что-то в них было бросавшееся в глаза. Что же? Стежков задумался. Да, пожалуй, вот эта подчеркнутая независимость, снисходительный взгляд по сторонам, этакая барственно-вольная посадка в кресле. Люди, часто и много бывающие в ресторанах, держатся иначе, проще, незаметнее. Для них это дело обычное. А тут этакое самоутверждение в новой и пока еще необычной среде. Дескать, и мы можем… Захотели и пришли и еще придем. Можем!.. Парень с гладко причесанными и блестящими вороненым отливом волосами щелкнул пальцами и небрежно позвал официанта. Тот укоризненно поглядел на него, но молча выслушал заказ. Вернулся с двумя полстакана-ми желтоватого напитка и тарелкой льда. Чернявый стал колдовать над стаканами, а его напарник в куртке под какой-то черно-серый мех, водя пальцем по меню, заказывал ужин. Стежкову даже не надо было вытаскивать фотографии из кармана. Это были Бычков и Терехин с Товарной-второй. Их он уже знал хорошо, хотя и не беседовал лично. Дедковский не советовал спешить. — Понимаешь, лейтенант, пока нет в руках веских доказательств, говорить с подозреваемым в большинстве случаев бесполезно. Рассчитывать на признание жуликов — дело пустое. Такое желание у людей этой категории появляется, как правило, лишь под воздействием неопровержимых улик. — Это, товарищ майор, верно лишь в отношении закоренелых преступников. А эти — начинающие. — Хороши начинающие, если подозреваются в таких хищениях. Нет, это ребята из молодых, да ранние. Голыми руками их не возьмешь. Вот почему со своими «знакомыми» лейтенант Стежков пока не поговорил, хотя знал их уже неплохо. А вот если сегодня придет к ним некто Черненко, то будет совсем все ясно. А прийти должен. Предупредить-то их он обязан. Тот, кого ждали парни, да и Стежков тоже, пришел, но не захотел появляться в зале. Прислал величественного метрдотеля. Парни, однако, уже подвыпили, на столе у них стояла закуска, источающая дразнящий запах, и выходить они не захотели. Тогда Черненко торопливо подошел к столу. Сел. Оглядевшись по сторонам, сказал что-то. Парни отрицательно закачали головами, налили ему полфужера коньяку, заставили выпить. Он выпил, стал торопливо есть и все говорил, говорил возбужденно, нервно, напористо. Трудно сказать, сумел ли бы он убедить упрямых приятелей, если бы в зале не появился плотный лысоватый человек. Он вышел из-за штор одного из кабинетов, оглядел зал и, как будто не спеша, направился к столу, за которым сидела троица. Черненко вскочил, что-то начал торопливо объяснять, но лысоватый задерживаться не стал, бросил ему в ответ несколько слов и той же размеренной походкой направился к выходу. Парни поспешили за ним. Стежков не видел этого человека в лицо и лихорадочно думал: «Кто же это?» В походке, в посадке головы, в крутой покатости плеч этого человека было что-то знакомое. И только когда тот повернулся от двери, чтобы убедиться, идут ли за ним парни, Стежков узнал его: это был Кружак. Стежков вышел в вестибюль вслед за ними. Сквозь стеклянные лопасти крутящейся двери он увидел, что Кружак стоит в стороне от входа в ресторан и что-то энергично говорит окружавшим его парням. Совещание шло недолго. Через минуту от ресторана уходили два таксомотора.
Две серые «Волги» стремительно неслись по Минскому шоссе. Вот Кунцево, Переделкино, еще два или три пригородных поселка. Наконец они повернули направо и через полчаса остановились около глухого высокого забора. За ним темнела приземистая дача. Приезжим долго никто не открывал, давился в неистовой злобе сторожевой пес. Наконец в доме замельтешил свет и скоро прогромыхали запоры. Приехавшие передали Отару Давыдовичу Сумадзе приказ «папаши» — к утру все перевезти в другое место. Сумадзе не соглашался. — Зачем? Почему спешка? У меня все предусмотрено. День-два, и товар отправим. — Арестована Муравицкая. Может быть всякое… — Что она знает, Муравицкая? Да ничего. Не надо суматохи. Только усложним дело. В спешке-то не все предусмотришь. Его убеждали вновь и вновь, но старик стоял на своем. Когда раздалась трель электрического звонка от калитки, все удивились: что, уже вернулись машины? Велено ведь позже! К калитке подошел Черненко. — Вы, ребята? — спросил он. — Ждите, скоро выйдем. — Да нет, это не те ребята. Открывайте, уголовный розыск. Черненко кинулся обратно на дачу. С побелевшим лицом, задыхаясь от испуга, он сообщил: — Там, там… МУР. Разом все повскакали со своих мест. — Вы привели их, сопляки! — набросился Сумадзе на парней. Выяснять отношения, однако, было поздно, у калитки стояла оперативная группа и трое понятых. Сумадзе торопливо прошипел: — Вы — мои гости. Зашли к дочери. Не знали, что она в отъезде. Поняли? И молчать. Всем молчать. Ничего не знаем. А найти они у меня ничего не найдут.
Слова его действительно как будто сбывались. Обыск шел уже часа два, но ничего пока не дал. Все комнаты, чердак, кладовки дачи были осмотрены, подполье обследовано дважды, но ничего, что интересовало муровцев, не было. Ни одного лоскутка кожи, ни одного сомнительного куска меха. Котиковая шуба? Жены. Соболья накидка? Тоже ее. Еще каракулевая шуба? Дочкина же это, дочкина. …Майор в задумчивости стоял около летней веранды и жадно курил сигарету. Подошел Стежков. — В чем же дело, товарищ майор? Может, их хаза в другом месте? — Вероятнее всего — здесь. Искать надо, искать. Стежков отошел от майора и, круто поворачивая на тропинку, ведущую к огороду, задел ногой железную бочку. Таких бочек на территории дачи стояло пять штук. Лейтенант прошел уже дальше, чертыхаясь на хозяев-куркулей, которые так лелеют свое огородно-садовое хозяйство. Прошел и остановился. Вновь вернулся к бочке, легонько носком ботинка пнул ее. Раздался негулкий, но чуть звенящий звук… Почему такое? Она ведь с водой? Стукнул ладонью по боку верхнего звена. Вот здесь понятно, звук короткий, быстро глохнущий. Стежков позвал Дедковского. — Подозрительны мне эти бочки. Разрешите, опрокину одну? — А в чем дело? — Слушайте, — и Стежков повторил свой опыт. — Действительно, что-то не так. А ну-ка, перевернем. От крыльца к ним спешил хозяин, истошно крича о том, что нельзя этого делать. «Воду для полива нам приходится носить из соседнего водоема, а это нелегко, надо уважать людской труд». Дедковский и Стежков, не обращая на него внимания, тщательно осматривали бочку. Стежков разыскал какую-то деревянную планку и резко опустил ее в воду. Планка стукнулась о металл где-то в середине бочки. — Двойное дно. Факт, — он опрокинул бочку. Посудина была сделана мастерски. Дно, которым она ставилась на землю, прикрывалось точно подогнанным металлическим кругом, покрытым черной, смолистой мастикой. Под мастикой обнаружилось кольцо. Стежков дернул его, и металлический круг вышел из пазов. Там была вторая крышка, плотно прижатая к стенкам тонкими распорными пружинами. Сняли и эту крышку. Всю емкость нижнего звена бочки занимали… аккуратно свернутые хромовые кожи. Дедковский велел позвать понятых. Началось вскрытие остальных четырех, бочек. Еще в двух из них были опять-таки кожи, а в остальных двух — тюки с лисьими шкурками… — Отар Давыдович, мой вам совет, расскажите сами, где и что лежит. Иначе и нам работу затрудняете, и своему ранчо вред наносите. Будем вынуждены разобрать и перекопать все… — Можете делать что угодно, но больше ничего нет. А по кожам и шкуркам я дам исчерпывающее объяснение. — Насколько оно будет исчерпывающим — посмотрим. Обыск начинаем вновь… Время близилось уже к полудню, а обследование все еще продолжалось. Дедковский прошел в самый конец сада, где двое сотрудников уголовного розыска вынимали землю между внешним забором и сараем. — Как доберетесь до заднего угла сарая, так идите вглубь, может, придется копать метра на два, на три, — сказал им Дедковский. — В том-то и дело, товарищ майор, что до этого самого угла еще далековато. И надо же такой сараище отгрохать. Роту солдат поселить можно. Дедковский посмотрел на молоденького, веснушчатого милиционера, на сарай, о котором шла речь, и торопливо пошел к его дверям. Догадка подтвердилась довольно быстро. Обстроенный со стороны территории дачи какими-то кладовками, душем, санузлом, а с двух внешних сторон закрытый забором и заросший малинником, крапивой и еще какими-то дикими кустами, сарай не просматривался на всю глубину. Сейчас же, когда Дедковский после разговора с милиционером вошел внутрь, ему стало все ясно. Он прошел к задней стене и стал искать в ней дверь. Она оказалась не в задней, а в левой боковой стенке, была имитирована под старые доски, будто наложенные стопкой у стены. Дедковский попробовал открыть. Не удалась. Видимо, здесь был какой-то секрет. Он велел позвать Сумадзе. — Сведите нас, пожалуйста, в эту обитель. Интересно знать, что там? — Ну и нюх же у вас, майор, — прошипел Сумадзе. Делать, однако, ему ничего не оставалось, и он открыл дверь. Привычно нащупал в темноте выключатель… Они оказались в просторном помещении без окон. Здесь стоял столярный верстак, висели две станковые пилы, лежал еще кое-какой инструмент. Около внутренней стены стояло нисколько высоких плоских ящиков, по форме напоминающих пианино. Дедковский подошел к ним. «Верх», «Низ», «Не кантовать», — прочел он нанесенные черными печатными буквами надписи. — Так вы что же, и музыкальными инструментами промышляете? — Нет, — глухо ответил Сумадзе. — Музыка здесь ни при чем. Это просто упаковка. Когда ящики вскрыли, в трех из них оказались кожи, а в одном все те же лисьи шкурки. — Зачем же такая своеобразная тара? — с недоумением спросил старший опергруппы. — Наивный вопрос, — удивился Сумадзе. — Везут аккуратно, не кидают и не бросают. Сохранность гарантируется. А вы спрашиваете — зачем? — Ну, может, на сегодня хватит? — устало садясь на огромный чурбан около сарая, проговорил Стежков. — У меня голова кружится от всех этих тайн и сюрпризов. — Многовато их, это верно, — согласился майор. — Расскажи — не поверят! Но тайны кое-какие здесь еще остались, я уверен в этом. И все же на сегодня надо кончать, иначе нас самих товарищи с Петровки разыскивать начнут… Дедковский доложил полковнику Каныгину о событиях, происшедших за последние несколько дней. — Неотложным считаю задержание Кружака, заместителя директора фабрики имени 1 Мая, — заключил он свой доклад. — Он организатор всей этой кампании. Затем необходимо срочное этапирование в Москву из колонии Бугровой. Каныгин в раздумье ответил: — Возможно, вы и правы. Возможно… И все-таки… Какие есть доказательства вины Кружака? То, что он якшался с этими парнями в ресторане? Скажет, что случайно встретил. И все. — Я вам добуду не одно, а несколько доказательств, но мне надо говорить с ним. Прямо и без обиняков. — А зачем так спешить с Бугровой? Я не исключаю того, что она участница этой группы. А если это и не так, то халатность-то с ее стороны все равно была. — Нет, не было. — Ну, батенька, вы объективность теряете. Суд же был, это помнить надо. — Бугрова не виновата. Но сейчас не о том речь. Она нужна нам для следствия. — Вот что, майор, пока не будет явных доказательств, задержание Кружака и этапирование Бугровой в Москву считаю преждевременным. Дедковский понял, что его строптивость не забыта. Был один путь быстрого развертывания дела: признание Сумадзе и его подручных и, как следствие, разоблачение Кружака. Однако и Сумадзе, и парни, и Муравицкая пока плетут ерунду. Они пока на что-то надеются. Видимо, на Кружака. Конечно, зря надеются, но утопающий, как известно, хватается и за соломинку. Дедковский вновь вызывает на допрос Сумадзе. — Отар Давыдович, поговорим серьезно? — Поговорим, гражданин майор. — Надеюсь, вы понимаете, что мы не столь наивны, чтобы верить вашим версиям? — Дело ваше, гражданин майор, но я рассказал все. Как на духу. — Ну, что вы валяете дурака? Ездили по магазинам… Я понимаю, в магазинах можно купить пять, ну десять штук. Но полтысячи?.. — Чернобурка вышла из моды. Ее везде сколько угодно. — Тогда какой же был смысл покупать? — Мода — не молния. Ослепляет не всех сразу. Кое-где лисичек еще жалуют. — Значит, пользуетесь нерасторопностью наших торговых работников? — Это у них таки есть. — Ну, что ж, Отар Давыдович, констатируем как факт вашу неискренность и нежелание чистосердечно рассказать следствию о своих преступных деяниях. А вам, как человеку опытному, должно быть известно, что это не шутка. — Я это понимаю. И заявляю вам со всей искренностью. Лисьи шкурки купил в московских магазинах. Шевро — у Шамшина и Бугровой. Дедковский откинулся на стуле. — Отар Давыдович, креста на вас нет. Шамшин на том свете, Бугрова — в тюрьме. А вы их еще и черните? — И, однако, это так, гражданин майор. — Ну, что ж, тогда рассказывайте все подробно. — Когда я работал в ателье на Семеновской, пришла женщина и спросила, не куплю ли я кожи. Сначала я не соглашался, но она очень просила. Купил пять штук. В следующий раз женщина пришла с полным высоким стариком. Тот тоже принес шевро. А месяца через два они предложили большую партию. Сначала это меня насторожило, но посетители шли на уступки, дело оказалось выгодным. Женщина и старик тоже не оказались внакладе, получили по десять тысяч. Вот и все. — Ну что ж, Сумадзе, все, что вы рассказали, записано. Прочтите и распишитесь. Но должен вам заметить, что к своим преступлениям вы прибавляете еще одно: клевету. Сумадзе отодвинул от себя листы допроса: — Я еще подумаю. — Подумайте. Это иногда полезно даже таким, как вы. — А оскорблять меня, между прочим, вы не имеете права. — А разве я вас оскорбил? — Безусловно. — Вот вы оскорбили двух, как я уверен, честных людей. И ничего. У вас даже ни один нерв не дрогнул. Да что там оскорбили? Вы один из тех, кто виновен в том, что эти люди оказались там, где находятся. — Дедковский с трудом поборол приступ гнева и неприязни к Сумадзе и продолжал допрос: — Есть у меня к вам один, если можно так выразиться, частный вопрос. Среди ваших бумаг была обнаружена копия чека на пять тысяч рублей за сапфировые серьги и брошь… — Была такая покупка. — Дорогой подарок, не правда ли? Сумадзе вздохнул, опустив глаза: — Дело это сугубо личное, интимное, и я очень просил бы… — На этот вопрос, однако, ответьте: серьги и брошь покупали вы? — Да, я. И вручил… кому считал нужным. Как и у каждого человека, у меня тоже есть слабости. — Но актриса Вольская — обладательница этих драгоценностей — утверждает, что получила этот подарок… от гражданина Кружака. Вас же она… вообще не знает. Как вы все это объясните? Сумадзе поднял голову, долго молча смотрел на Дедковского и наконец хрипло проговорил: — Я устал. Прошу сделать перерыв в допросе… — Сначала ответьте: вы знакомы с гражданином Кружаком? Сумадзе нехотя выдавил: — Да, знаком. — Ну вот, теперь сделаем перерыв.
Уже несколько дней никого не вызывали на допросы. Дедковский, Стежков и другие работники опергруппы усиленно проверяли, уточняли все, что стало известно по делу, но требовало деталей, фактов, обоснований. Экспертиза подтвердила, что шевро, обнаруженное у Сумадзе, именно из той партии, что поступила на фабрику 1 Мая. Лисьи шкурки не из магазинов, а со складов пошивочной фабрики. Изучались и действующие лица этой истории. Поэтому, когда Дедковский распорядился привести наконец Отара Давыдовича, тот начал с претензий: — Почему так долго меня не вызывали? Несмотря на мои настойчивые требования… — Понимаете, Отар Давыдович, честно говорить вы не хотите, приходится все проверять да уточнять. Вот и не получается со временем. Вы что-то хотели сообщить? — Я хочу дать чистосердечные показания. — Пожалуйста. И начинайте вот с чего: кто стоит во главе вашей группы? То, что вы звено важное, — это нам ясно, но кто «папаша»? — Я собираюсь рассказать о своей жизни, своих ошибках и заблуждениях. — Очень хорошо. Но имейте в виду, что морочить голову нам не надо. Мы вас уже знаем. Приговоры Тбилисского суда за махинации с валютой; народного суда города Нахичевани — но тем же статьям; третий приговор из Ростова за спекуляцию и, наконец, решение высшей судебной инстанции о вашем помиловании, учитывая чистосердечное раскаяние и желание искупить вину честным трудом, у нас имеются. Так что советую при жизнеописании меньше фантазировать, больше придерживаться фактов. — После вашего вступления я должен подумать еще.
Долго оперативные работники ломали голову над загадками Бориса Черненко-Проскурина. И оказалось, что он не Проскурин и не Черненко, а Нахапетов, и не Борис, а Яков. В московские края приехал по отбытии пятилетнего срока за воровство и грабежи. Сначала работал в мостоотряде под Москвой, потом оказался в стройуправлении № 16. До поры до времени вел себя аккуратно. Но когда управлению были поручены некоторые строительные работы на фабрике имени 1 Мая, старые наклонности проявились вновь. Паспортов у Нахапетова оказалось несколько, на имя Проскурина и Черненко в том числе. На квартире у его приятеля Теплякова, жившего с младшим братишкой, которого Нахапетов частенько выдавал за своего брата, были обнаружены искусно сделанные три сотни самых разнообразных ключей. Среди них, отдельно связанные, — от склада закройного цеха. На них имелись четкие и ясные отпечатки пальцев владельца. … — Итак, гражданин Нахапетов. — Черненко я. — Нет, не Черненко и не Проскурин, а Нахапетов. Имеем к вам несколько вопросов. Биографию не надо, знаем. Разные версии тоже не требуются — слышали. Будем говорить по существу. Ясно? Кому принадлежит мысль о хищении кож — вам или Кружаку? Нахапетов криво усмехнулся: — На бога взять хотите? Никакого Кружака не знаю. — Ну-ну, Нахапетов. Я ведь вас предупреждал, что вести себя надо серьезно. Вы забываете, что у нас здесь Сумадзе, Бычков, Терехин, Муравицкая. Забываете и то, что вас взяли на даче у Сумадзе… — И все-таки я здесь ни при чем. Дедковский выложил на стол связки ключей, изъятые в квартире Теплякова: — Узнаете? — А чего тут узнавать? Ключи и ключи. — Не просто ключи, а выточенные вами. А вот этими вы отпирали склад закройного цеха. Об этом, между прочим, свидетельствует и экспертиза. Вот заключение. — Ловко, ничего не скажешь! — почти восхищенно проговорил Нахапетов. — А вы, оказывается, того, не лыком шиты. — Спасибо за комплимент. Но вернемся к нашему вопросу: кто инициатор операции? Кто руководитель? — Так вы, как мне кажется, все знаете. Зачем же воду в ступе толочь? — Отвечайте на вопросы. Иначе разговор отложим. Дел у нас и без этого много. — Но я не понимаю, какая разница, кто предложил, кто инициатор? Допустим, я. — Хорошо, допустим. Откуда вы узнали, что кожи прибыли? И именно на этот склад? — Ну, слышал. — От кого? Где? Когда? — Не помню. — В ночь кражи состав из десяти порожних вагонов был задержан отправкой на станцию. Это было сделано для того, чтобы использовать задний вагон для погрузки кож. Как вам удалось задержать вагоны? Ведь диспетчерская вам вроде не подчинена? Нахапетов молчал. — Вот видите. У лжи всегда короткие ноги. Не надо брать на себя лишнего. У вас и своих грехов достаточно. А теперь рассказывайте.
— Вы, может, забыли про меня? — налетела Муравицкая на лейтенанта Стежкова. — Нет, как видите, не забыли. Вопросы у нас те же, что и на первом допросе. Какие обязанности выполняли в преступной группе? Кто возглавлял ее? Муравицкая замахала руками: — Подождите, подождите. Я ведь не профессор какой-нибудь, чтобы так вот сразу все уразуметь… Ни в какой такой шайке я не состою. Я сама по себе. — Откуда же меха? Может, это вы ограбили фабрику? — Ну, что вы говорите такое? Черненко предложил мне реализовать их, эти шкуры. Мой дивиденд — десять рублей со штуки, на полу они не валяются. Я человек небогатый. Вот и все. — Не все и не так, Муравицкая. Привез-то их вам Черненко, но не от себя, а от гражданина Кружака. И не по десять рублей за штуку ваш дивиденд, а сколько сумеете взять… Теперь расскажите о продаже туфель. — Ну, это когда было? Весной. Он же — Черненко — принес. Пять пар. — Один раз приносил? — Один. — Нет, не один. — Ах да, еще было. Тоже, кажется, пять пар. — А откуда вы знаете Черненко-Проскурина-Нахапетова? — Этих я не знаю. Только Черненко… — Это одно и то же лицо. Откуда же его знаете? — Ну, знаю, и все. — Вы продолжаете упорствовать, Муравицкая. А ведь хотели говорить правду. — А я правду и говорю. — Так откуда вы знаете Черненко? — Один человек как-то прислал его. Вот и познакомились. — А кто этот человек? — Это мое личное дело. Прошу его не касаться. — Можем, конечно, и не касаться ваших сугубо личных дел. Но прислал вам его Федор Исаич Кружак. Так ведь? Муравицкая опустила голову.
Дедковский позвонил Стежкову и попросил зайти. Когда тот появился, он несколько торжественно произнес: — Ну что ж, лейтенант Стежков, пойдемте к «папаше» — Федору Исаичу Кружаку. Вы готовы? — Если можно, через час-два, мои железнодорожники разговорились. — Что-нибудь новое? — Да нет, детали уточняем. — Уточняйте, но в девятнадцать ноль-ноль двинемся. Когда Дедковский и Стежков вошли к Кружаку, он побледнел, сердце у него екнуло, опустилось куда-то вниз, и он вдруг почувствовал, как по всему телу отдались его глухие, лихорадочно-торопливые удары. Весь этот месяц, с тех пор как арестовали Сумадзе, Муравицкую, Черненко-Нахапетова и парней с Товарной-второй, Кружак не находил себе места. Он понимал, что развязка неизбежно приближается, и каждый день, и на работе и дома, ждал то ли звонка, то ли вызова, то ли просто визита людей из МУРа. Он не мог работать; ел, не видя, что ест; засыпал только после принятия удвоенных, а то и утроенных доз снотворного. Бывало, что он тешил себя: «В сущности, что они мне могут предъявить? До этих самых кож и лисьих шкурок я даже не дотрагивался… Разговор с Черненко? Но я откажусь, и все. Мало ли что может придумать какой-то там прощелыга. Деньги, что брал у Сумадзе? Но расписок-то моих у него нет». Однако мысли эти перестали успокаивать после того, как он встретился с Еленой Вольской. Всегда нежно и ласково встречавшая своего «толстячка», на этот раз она была обеспокоена и насторожена. А то, что сказала, будто острым ножом прошло по сердцу Кружака, наполнило гнетущей и уже не уходящей тревогой и страхом. — Федюнчик, меня приглашали на Петровку. Спрашивали про серьги и брошь, что ты мне подарил. И про какого-то Сумадзе допытывались. Я сказала, что никакого Сумадзе не знаю. Что подарок этот твой… Теперь Кружак окончательно понял, что встречи с муровцами ему не миновать и надо приводить в исполнение давно задуманное. Документы на такой случай у него были уже заготовлены. Адрес у Сумадзе он взял тоже загодя. В Алазанской долине, на отрогах гор есть небольшое селеньице… Федор Исаич застегивал туго набитый портфель, когда в комнату вошла жена. — Ну, уложила чемодан? — не поднимая головы, спросил он. — Федор, ты что-то скрываешь от меня. В командировки так не собираются. — Жена заплакала. — Не канючь. Там кто-то звонит. Иди посмотри. Через полминуты жена заглянул в полуоткрытую дверь: — Там к тебе какие-то незнакомые мужчины. В комнату входили Дедковский и Стежков. — А, наши пинкертоны пожаловали, — деланно улыбаясь, проговорил Кружак. — Чем могу служить? Как дела на фронте борьбы с преступностью? Федор Исаич бодрился, а у самого лихорадочно билась мысль: «Опоздал, опоздал…» — Федор Исаич, — деловито и буднично обратился к нему Дедковский. — Нам надо поговорить. И обстоятельно. — Пожалуйста, с удовольствием. — Удовольствия не обещаю. Разговор будет идти о преступной группе, которую вы возглавляете… Мы надеемся на ваш здравый смысл и реальное понимание вещей. Для скорейшего и наиболее точного расследования дела было бы очень желательно ваше искреннее признание и подробный рассказ о всех деталях и перипетиях этой затянувшейся истории. Кружак огляделся но сторонам, будто хотел удостовериться, не слушает ли этот разговор еще кто-то, и глухо, хрипло отвечал: — Но, позвольте, вы мне предъявляете тяжкое обвинение. Его надо доказать. Нельзя, знаете, так вот… Дедковский укоризненно посмотрел на Кружака: — Неужели вы думаете, что мы говорим это без доказательств? — Тогда предъявите. — Предъявим, обязательно предъявим. Но хочу еще раз посоветовать: вертеться, как вьюн на сковородке, это, так сказать, удел рядовых мошенников. Надо не усугублять дело, а стараться помочь следствию. Это единственный разумный для вас путь. — Хотите воздействовать на мою психику? На сознательность бьете? Не выйдет, майор. Каждый должен драться за себя, и я не такой дурак, чтобы добровольно лезть в силки, которые вы мне расставляете. Вы хотите навязать мне руководство какой-то группой? Не знаю я никакой группы. Не имею никакого отношения к такого рода делам. Если у вас есть какие-то доказательства моих так называемых преступлений, предъявляйте мне их официально, в точном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Дедковский встал с кресла, с сожалением посмотрел на Кружака: — Я думал, вы умеете мыслить здраво. — И сухим, официальным голосом объявил: — Гражданин Кружак. Вот постановление на обыск в вашей квартире. Постановление на ваш арест также имеется. Вы поедете с нами. Будьте любезны, ознакомьтесь с обоими документами… Кружак сразу весь сник, обмяк. Наигранная бодрость оставила его. Он запричитал: — Но я хотел только сказать, заявить, что невиновен. Объяснить хотел… Вы должны выслушать. — Обязательно выслушаем. Самым внимательным образом. Сейчас же займемся другим. Лейтенант Стежков, позовите понятых и приступайте к обыску. Странно жили люди в этой квартире. И Стежков, производя обыск, не переставал удивляться этому. Тесно, почти вплотную друг к другу стояла мебель: огромный платяной зеркальный шкаф сросся с модерновой полкой, а та, в свою очередь, впритык соприкасалась с вычурной пузатой горкой, битком набитой фужерами, бокалами, рюмками, замысловатыми вазами из хрусталя разных цветов и оттенков. На нижних полках белел фарфор сервизов. Большой, красного дерева стол, массивные стулья вокруг него, еще какие-то два столика поменьше так близко подступали друг к другу, что пройти между ними можно было с большим трудом, осторожно протискиваясь боком. Здесь же у стен стояли диван и широкая тахта, покрытая со стены до пола турецким ковром. Другой громадный ковер с причудливыми едкими цветами висел на противоположной стене. И еще какие-то коврики, дорожки, портьеры, шторы, сюзане почти сплошь завешивали стены, драпировали двери, окна, устилали пол. Лишь потолок в комнате выделялся светлым и более или менее свободным пятном. Такое же нагромождение случайных, ненужных, но дорогих вещей было и в битком набитых шкафах, гардеробах, кладовых. Шубы, платья, костюмы, сшитые впрок, почти ненадеванные, старились здесь, на вешалках, быстрее, чем изнашивались. Казалось, в квартире нечем было дышать, домашняя утварь сжирала воздух. Федор Кружак давно привык жить на широкую ногу. Даже в трудные военные и послевоенные годы он, тогда еще молодой снабженец, не отказывал себе ни в чем. А чтобы соседи ничего не заподозрили, супруга разбирала, сушила его и свое барахло по ночам. По ночам же варила куриные бульоны мужу, чтобы люди не узнали, что Кружаки живут не по средствам. Тогда ведь курица была роскошью даже для академика. Когда же Кружаку дали отдельную квартиру, пузатые шкафы, кладовки, горки принимали в свои чрева все новое и новое барахло. А потом у Федора Кружака появились и другие потребности… Седина в голову, бес в ребро… Денег стало требоваться еще больше. Давно уже набивший руку на темных делах, он теперь не гнушался ничем. Брал где и как мог, пускался во все тяжкие. Наконец дошел до операций с шевро и лисьими шкурками… Разговор с Кружаком состоялся на следующий день. — Нам нужно уточнить период деятельности вашей группы. Когда она возникла? Видимо, при подготовке кражи обуви? Какое вы имели отношение к этой «операции»? — К самой краже — никакого, скорей к ее итогам. Как-то ночью, идя по территории, я случайно заметил, как Черненко и еще двое парией прицепляли к составу порожняка вагон с контейнером. Я мог разоблачить их. Они это поняли и утром принесли мне… три тысячи… Так началось наше знакомство. — Теперь о второй краже. Мысль о ней принадлежала вам? — Не совсем. — Но как же? Ведь о том, что на склад пришло первосортное шевро, на фабрике знали очень немногие. И уж, во всяком случае, этого не мог знать Черненко-Нахапетов. — Да, пожалуй, что так. — Как же все было? — Я пригласил к себе Черненко или как его еще там зовут и сообщил ему о предстоящем поступлении кож. Он обещал все обмозговать со своими друзьями. Назавтра пришел опять и изложил план действий. Я его одобрил. — Кто связывался с Сумадзе? Вы лично или помощники? — Я сам. Познакомился-то с ним я через Черненко после той первой кражи. Но потом мы имели дело напрямую. — Итак, вы одобрили план. И что же дальше? — Черненко и его… приятели осуществили его. В детали я не вникал. Да и забылось уже многое. — Ну что ж, напомним вам эти детали, — включился в разговор Дедковский. — Если что не так, вы уточните. Ночью, шестнадцатого ноября, Нахапетов и Терехин подъехали к проходной, объяснив Шамшину, что завернули на огонек. Попросили у него кружку, чтобы выпить. Старика угостили тоже. Через некоторое время Терехин вышел из проходной будто бы взглянуть на машину. Он бросил за забор круг колбасы, напичканной барбамилом, как, впрочем, и водка, которой перед этим угостили старика. Через пятнадцать минут все стражи фабрики спали мертвым сном. Нахапетов и Терехин открыли ворота, подъехали к складу. В это время Бычков подогнал дрезиной вагон. Черненко открыл склад и вместе с Терехиным через окно начал грузить кожи. Бычков ходил около и наблюдал. Погрузив сто десять пачек, насторожились: тявкнула собака, значит, сторожа начали просыпаться. Дальнейшую погрузку прекратили, аккуратно закрыли окно, потом так же аккуратно, с соблюдением всех «секретов» заперли двери. Вагон отогнали к центральному складу. В машину же положили две пачки. Днем, когда Бугровы были на работе, а старик Шамшин мирно спал после ночного дежурства, пачки эти спрятали около их жилья. Закопали, завалили разным хламом. Все было продумано. Улики неоспоримые. Именно для этой цели, а также для того, чтобы сбить со следа розыск, вам и понадобилась машина. Ее мы искали по московским гаражам, а она оказалась из области — Сумадзе прислал. Утром вагон с кожами, вслед за девятью другими, благополучно вытолкнули за пределы фабрики. В Лихоборах кожи перекочевали в грузовик Сумадзе, а затем на его дачу. Кружак, воспользовавшись небольшой паузой, заметил: — Тщательно, однако, мы все исследовали. — Пока не все. Например, не ясно, кому принадлежит мысль подбросить кожи Шамшину и Бугровой? Вам? — Ну, я не помню. — Ваше, ваше предложение, Кружак. Припомните, Нахапетов даже в гении вас произвел за эту мысль. — Ах! Да, да. Был такой разговор. У него с дочерью Бугровой что-то там произошло. — Знаем. За хамство и приставание он публично получил от девушки пощечину и презрительную оценку своей персоны: «Подонок». Так что ваше предложение пришлось ему по душе. В общем, было продумано все… Кружак махнул рукой: — Где там все, раз здесь перед вами нахожусь. — Будем объективны, Кружак. Вы должны были здесь оказаться значительно раньше. Если бы не ушел из жизни Шамшин — умер-то он из-за того, что не смог пережить своей вины за случившееся, — мы бы давно напали на ваш след. И тогда не было бы кражи у соседей. — Ну, к этой краже я отношения не имею, — торопливо пояснил Кружак. — Однако вам Сумадзе вручил пять тысяч. — Неправда. — Нет, правда, Кружак. — Следователь открыл папку с материалами уголовного розыска. — Вот запись в гроссбухе Сумадзе: «5 тысяч Кружаку по «л. ш.». А «л. ш.» — это лисьи шкурки. Хотите взглянуть? — Нет, не хочу. Я это отрицаю. — Ну что ж, дело ваше. Уточним на очной ставке с Сумадзе. Но отрицаете вы этот эпизод зря. Ведь именно вы подсказали, как и когда осуществить операцию на пошивочной. И некоего Теплякова туда внедрили вы лично. — Не знаю такого. — Знаете, Кружак, знаете. Вы не только инициатор этой кражи, но даже распределение добычи из своих рук не упустили. Ведь Муравицкой-то по прямой вашей команде полсотни шкурок Черненко отвез. Кружак вздохнул: — И это знаете! Не зря хлеб едите, не зря. — Помолчав, выдохнул: — Обязан я ей, очень обязан. — Видимо, действительно обязаны, раз такие «королевские подарки» посылали. Но, впрочем, даровую-то добычу не жаль. Что легко дается, легко и тратится. — Скажите, гражданин майор… — Кружак немного замялся. — У меня было ощущение, что с самого первого дня, как ваша группа приехала на фабрику, вы… подозревали меня. Ошибся я или интуиция мне правильно подсказала? Дедковский усмехнулся: — Нет, не ошиблись, и интуиция вас не подвела. Но ведь она питалась довольно точной информацией. Вы-то знали, кто украл на фабрике партию обуви, шевро, кто обокрал соседа. Да, подозрения в отношении вас у меня родились давно. И не по какому-то наитию и сверхчутью. Всеми силами вы оттягивали снятие остатков по складам. Это настораживало. Затем ваше знаменитое длительное совещание всех работников снабжения, складского хозяйства и охраны утром в день кражи. Серьезное совещание, говорят, было. В ходе его вы выходили по телефонному вызову, объяснив, что звонит жена. А жена ваша в эти дни была в Серпухове, у сестры. И совещание вы затеяли вовсе не для того, чтобы заострить вопрос. Вам надо было исключить какую-либо случайность, на постах-то почти никого не осталось, на складах тоже. И выходили вы не к жене, а на складскую площадку, чтобы поторопить своих помощников с выталкиванием вагона с кожами. — И как это вы все установили? — Установили это мы, к сожалению, позже, чем надо бы… Ваше повторное совещание, между прочим, укрепило нас в подозрениях еще больше. Расчет-то был понятен — убедить нас, что Кружак так ратует за порядок на фабрике, что даже заподозрен быть не может в чем-либо предосудительном. Но полной уверенности, что вы жулик, у нас все же не было. Окончательно в этом мы убедились, когда Стежков увидел вас в ресторане. Стало ясно, что вы и есть тот «папаша», которого так настойчиво хотела предупредить Муравицкая через Черненко-Нахапетова, когда они оба попали в отделение милиции. — Да, выходит, круг замкнулся, — пробормотал Кружак. — Замкнулся, — подтвердил Сахнин, — безусловно, замкнулся. Но неясно одно, Кружак, как вы дошли до жизни такой? Как и у Сумадзе — мания наживы? На днях у него на даче при новом обыске обнаружили пять консервных банок с золотыми монетами, целую пачку валюты и даже на сорок тысяч старых денег. Не обменял в свое время, а выбросить жалко. Это кубышник. У вас что, тоже эта страсть? Кружак долго сидел, закрыв глаза. Потом с легким раздражением признался: — Нажил-то я не так уж много. — И не так уж мало, — не выдержал Стежков. — Вон опись-то имущества какая! На тридцати страницах. В квартире повернуться негде от барахла. Как в комиссионке. Кошмар какой-то! И как земля носит таких?.. Ни совести, ни чести, ни стыда. — Вот видите, молодым всегда все ясно, — мрачно усмехнулся Кружак и, как бы ища сочувствия, взглянул на следователя и Дедковского. Но майор задумчиво, не глядя на Кружака, вымолвил: — А что? Лейтенант сказал верно. Кружак вдруг заговорил вновь. Заговорил нервно, торопясь, словно боялся, что его прервут: — Все дело в семье. Сначала им все нес. Ненасытная она у меня, жена, склочная, вздорная скопидомка. Детей четверо. Все требуют. А ведь я тоже человек. Радости же никакой. Притулился к Клавдии Муравицкой. Очень душевная женщина. Потом закружилась голова от Елены. Ну, так закружилась, что себя не помню. А ведь я далеко не красавец. И немолод. Широкой душой привлек ее. Тут уж все вдвойне потребовалось. Одним словом… — Одним словом, я и говорю, что ни стыда, ни совести, — брезгливо повторил Стежков. — Зато я жил, молодой человек. Жил. Помните у Омара Хайяма:
Как-то Дедковский, закончив вечером работу, шел к центру, к станции метро. Стоял тихий морозный вечер. Сухой снег скрипел под ногами прохожих, шуршал под шинами пробегавших по мостовой машин. Около Большого театра майора окликнул девичий голос: — Товарищ майор, а товарищ майор. Можно вас на минутку? Дедковский остановился. К нему подошла несколько смущенная девушка. — Вы меня не узнаете? Я Настя Бугрова. — Нет, почему же. Я помню вас. — Вы знаете, маму-то ведь освободили. Она совершенно не виновата. А тех… ну, жуликов, проходимцев, всех на чистую воду вывели, осудили. — Очень хорошо. Я рад и за маму вашу, и за вас. Отвечать должен тот, кто виноват.
Откуда было знать Насте Бугровой, кто довел до конца дело под кодовым названием «Шевро»!

«Антиквары»
В тот день старший смотритель Исторического музея пришел на работу почти за час до открытия. Повесил в гардеробе пальто и шляпу и, не заходя в дирекцию, направился прямо в залы. Сквозь решетчатые фигурные окна с трудом пробивался свет тусклого октябрьского утра. Смотритель шел не спеша, привычным маршрутом обходил залы — первый, второй, третий, четвертый… На втором этаже в одном из залов он вдруг остановился. Стенд со старинным оружием, стоявший в центре зала, был вскрыт. Верхнее стекло вынуто из металлических пазов, и на бархатной обивке виднелись лишь следы экспонатов — чуть примятые темные контуры пистолетов. Взломана и витрина с посудой XIX века. От золотой и серебряной утвари остались только этикетки. Смотритель побежал в соседний зал, где находились особенно ценные экспонаты — исторические реликвии Отечественной войны 1812 года. Опасения, которые мелькнули в голове и которые он старался отогнать, оправдались. У одного из центральных стендов была оторвана металлическая пайка бокового стекла, и личные вещи М. И. Кутузова украдены. Та же участь постигла и вещи генерала Платова. Происшедшее глубоко взволновало работников музея. Такого у них никогда не бывало. Правда, недавно произошел один странный случай. Почему-то оказалась снятой со стены старинная икона. Но она была обнаружена здесь же, в музее. Видимо, во время уборки с иконы стирали пыль и не повесили на место. И хоть случай этот был необычным, значения ему не придали. Икона ведь нашлась. А тут… Несколько часов подряд научные сотрудники по учетным книгам фондов устанавливали перечень похищенного. Список оказался длинным: старинные пистолеты с литыми восьмигранными стволами, с тончайшей гравировкой и инкрустацией, эфес шпаги Кутузова тульской работы 70—80-х годов XVIII века, миниатюрные портреты М. И. Кутузова и его жены Е. И. Кутузовой на слоновой кости, ковши, кубки, подстаканники, бокалы, табакерки, столовые приборы — золотые, серебряные, позолоченной бронзы. — Что все-таки самое ценное из украденного? — спросил капитан милиции Иванцов, закончив читать длинный перечень. Директор музея поднял на него удивленный взгляд: — Не понимаю вас. Здесь все, буквально все имеет исключительную ценность. Возьмите ту же шпагу. Редчайшая художественная работа. Весь эфес осыпан стальными гранеными фасками «Диамант». Каждая бисеринка отшлифована на 12 граней. На эфесе — темляк в виде кистей того же стального бисера. Или портретная миниатюра Михаила Илларионовича. Она выполнена по слоновой кости гуашью. Овал под стеклом, в золотом ободке. Да любая из вещей ценна, какую ни возьми. Но дело не в материальной, денежной стоимости, а в исторической и художественной ценности вещей. Все они принадлежали нашим прославленным соотечественникам. Например, столовый прибор. Золоченая бронза, отделка рельефным орнаментом в стиле рококо. Но бог с ним, с рококо. Главное, что эти нож, ложка, вилка, солонка служили долгие годы Михаилу Илларионовичу Кутузову в его походах. В Алуште и Измаиле, Яссах и Бородине были с Кутузовым эти вещи. И такую же или почти такую историю имеет чуть ли не каждая из похищенных реликвий. Украдено народное достояние, цены которому нет. Вот так, товарищ Иванцов. Вы должны, обязаны найти этих вандалов, найти во что бы то ни стало. — То, что мы должны их найти, бесспорно. — Что касается нас — готовы помогать чем можем. Располагайте и мной, и всем нашим коллективом. Вечером того же дня капитан Иванцов докладывал майору Дедковскому подробности происшествия, план действия по розыску преступников и похищенных ценностей. — Уверен, что похититель не один. Действовала группа. Одномучеловеку такое количество вещей не унести. И группа эта состоит из людей, знающих цену историческим предметам. Экспонаты выбраны не подряд, не случайно. Дальше. Надо было знать, как войти в музей и как выйти из него, знать, что сигнализация накануне вышла из строя. — Не могли ли позариться на ценности люди, занятые ремонтом музея? — высказал предположение Дедковский. — Да, могли. Я и это имею в виду. Но опять-таки вкупе с теми, кто понимает в этом толк. — Рассуждения не лишены логики, капитан. Но слишком общо, абстрактно. — Директор музея, секретарь партийной организации заявили прямо, что в их коллективе таких извергов быть не может. Начальник стройучастка был менее категоричен, но тоже сомневался, что среди его рабочих есть подобные типы. — Слабенькое сообщение вы нам сделали, капитан, слабенькое. Обнадеживающих предположений мы не услышали. — Так ведь и времени прошло всего ничего. Что можно сделать за один день? — Многое. Много можно сделать. Пока мы с вами здесь гадаем, реликвии музея могут быть так запрятаны, что долго искать придется. А еще того хуже, вообще исчезнут. При современных средствах связи и транспорта это не так трудно. — Основные скупочные пункты, комиссионные магазины, рынки нами предупреждены. Таможенные органы тоже. — Но конкретного разработанного плана действия у вас пока нет. Иванцов удивленно посмотрел на Дедковского. У майора не было привычки заставлять работника излагать несозревшие мысли, высказывать непродуманные версии. Но Иванцов не знал, какой отзвук получило случившееся в Историческом музее у москвичей, особенно в кругах художников, писателей, ученых, в среде музейных работников. Все возмущались этим фактом. На Петровке то и дело раздавались звонки: нашли ли злоумышленников? Приняты ли все меры к тому, чтобы похищенные ценности были возвращены? Случаи, подобные этому, в Москве да и в других городах страны были редки, и неудивительно, что общественность так взволновалась. Капитан Иванцов уходил от Дедковского озабоченный и мрачный. Утешало лишь то, что теперь, после разноса в МУРе, все смежные службы отодвинут на какое-то время менее срочные дела и станут работать на него, Иванцова, и его группу. Но все-таки было досадно, что не смог он предложить реальных, убедительных версий. «Времени, конечно, прошло очень мало, — думал Иванцов, — тем не менее надо было нам действовать энергичнее». Иванцов и лейтенант Рябиков начали с изучения документов работников музея и ремонтно-строительной конторы. Увидев гору личных дел, Рябиков ахнул: — Ничего себе, штаты у вас солидные! Ученый секретарь музея обиделся: — Без знания дела судите, молодой человек. Крупнейший музей страны. Сорок семь залов в основном здании, филиалы, сотни тысяч экспонатов и документов. Более полутора миллионов посетителей в год. И это объяснимо. Как же не интересоваться историей своего Отечества? Рябиков смутился: — Сдаюсь! Положили на обе лопатки. Но работенки нам предстоит… — Вы напрасно собираетесь делать эту работу. Среди наших людей — директор уже говорил об этом капитану Иванцову — причастных к этому возмутительному делу не найдете. — Тогда, может, вы скажете, где нам их искать? — Где угодно, только не у нас. И все-таки Иванцов и Рябиков тщательно знакомились с личными делами работников музея. Научные сотрудники, консультанты, смотрители залов, реставраторы, столяры, уборщицы. И все работают в музее по пять, десять, а большинство по пятнадцать-двадцать лет. Многие из них коммунисты, комсомольцы, общественники. Да, пожалуй, прав директор, утверждая, что в их коллективе вряд ли найдется человек, который мог бы варварски взломать витрины и стенды, посягнуть на вещи, дорогие тысячам людей. Почти так же обстояло и со строителями. Вне подозрений люди. В Москве работают, правда, не очень давно — по три-пять лет, но работают добросовестно, освоили ведущие специальности: кто штукатур, кто маляр, кто монтажник. Ремонтно-строительный участок, осуществлявший работы в музее, считался одним из лучших. — Товарищи из музея говорят, что некоторые ваши люди проявляли интерес к музейной экспозиции? — спросил Иванцов начальника участка. Тот пожал плечами: — А что тут удивительного? Люди у нас любознательные, все учатся. Факт этот, по-моему, закономерный. — Допускаю, — согласился Иванцов. — Но как же все-таки получилось с проводами сигнализации? — Тут наша вина. Задели провод при передвижке лесов. Бригадира я уже наказал. Директор музея тоже укорял себя за это: — Мы виноваты, не углядели. Сработай сигнализация, воры не ушли бы. Плотники чувствовали себя очень смущенно, винились и перед своим начальником, и перед дирекцией музея… — Не заметили этот провод. Извините уж… Специалисты, вызванные Иванцовым, подтвердили: обрыв провода произошел из-за толчка, из-за удара, нанесенного по нему углом металлического пояса передвижных строительных лесов. — Все так, — согласился Иванцов. — Но почему преступники проникли в музей именно в тот день, когда вышла из строя сигнализация? Совпадение? А может быть, нет? Может, кто-то постарался именно в эту ночь вывести сигнализацию из строя? Утром следующего дня Иванцов опять разговаривал с начальником стройучастка. — Что вы скажете о Бобринце? — Бобринец? Маляр из бригады Смурова? — Начальник участка задумался. — Парень чудаковатый, это верно. Но… А впрочем, здесь я бы, пожалуй, подумал, прежде чем дать гарантию. — Я бы тоже подумал, — согласился Иванцов. — Он давно у вас работает? — Недавно. Примерно полгода. — И как работает? — Знаете, мастер первого класса. Это даже не маляр, а скорее художник. И неплохой, по-моему. Девчат из бригады нарисовал так, что хоть в картинную галерею. — А что же это он маляром-то работает? — Я его спрашивал об этом. Он ответил в том смысле, что все великие мастера с малярной кистью дружили. — Ну что ж, разберемся. Имейте в виду, между прочим, что на работу он сегодня не вышел по нашей вине. Лейтенант Рябиков с ним занимается. Левой Бобринцом Иванцов и Рябиков заинтересовались не случайно. Оперативной группе стало известно, что какой-то парень в кафе «Арфа», что в Столешниковом переулке, усиленно сбывал небольшую, овальной формы миниатюру Кутузова. Сообщение поступило к вечеру. Всю ночь потратили оперативные работники на то, чтобы узнать, кто этот владелец миниатюры. Разыскали официантку, которая работала в дневную смену, но она была новенькой и посетителей пока не знала. Посоветовала найти кассиршу Валентину Чугаеву — та работает в кафе давно, всех знает. Когда оперативные работники обрисовали Валентине наружность интересующего их посетителя, та, всплеснув руками, воскликнула: — Так это же Бобринец! Лева Бобринец. Живет где? Не знаю точно, кажется, где-то на Пироговской. А впрочем, погодите, моя знакомая бывала у него. Сейчас позвоню. «Ну, кажется, повезло», — подумал Иванцов, когда Чугаева, не отрываясь от трубки, стала диктовать ему адрес Бобринца. Лева Бобринец жил в большом сером доме, в просторной квартире, занимал в ней крайнюю комнату, рядом со входом. Когда к нему вошли Иванцов и Рябиков, он лежал на черном дерматиновом диване. Лева не встал, даже не повернул головы, только чуть повел вопросительным взглядом в сторону вошедших и спросил: — Чем могу быть полезен в такую рань? — Вы Лев Бобринец? Мы к вам по поводу миниатюры Кутузова. Бобринец, сделав ногами замысловатый пируэт в воздухе, медленно сел на диване, предложил: — Садитесь. Вы, — мотнул он головой в сторону Иванцова, — вот сюда, на диван, а вы — вон на то сооружение, — он указал Рябикову на решетчатый ящик из-под консервов, стоявший у окна. Тут же лежал вещевой мешок и самодельный мольберт. Больше в комнате ничего не было, если не считать такого же решетчатого ящика чуть меньше размером, служившего… люстрой. Измызганный плащ с какой-то бурой меховой подкладкой лежал на диване вместо подушки. — Так вас, говорите, интересует моя миниатюра? — Миниатюра Михаила Илларионовича Кутузова. — Да, да, я именно это и имел в виду. Хотя придет время, и профиль Льва Бобринца украсит не только жалкие миниатюры, а и гигантские полотна. Но об этом не будем. Ближе к делу. — Бобринец порылся в меховой подкладке плаща и достал миниатюру. Не отдавая ее в руки, объявил: — Тысяча. — Давайте-ка посмотрим, — протянул руку Иванцов. — Может, она и не стоит этой цены. — Стоит или не стоит, но меньше не возьму. Больше тоже. — Почему так? — Мне нужна тысяча. И я ее получу. Иванцов с волнением взял миниатюру в руки. Пожелтевшая от времени слоновая кость. Золотой обвод вокруг овала. Несомненно, Кутузов. Его полный профиль, мудрый, задумчивый взгляд. Тщательно вырезанные морщинки лица. — Как попала к вам эта вещь? — А какое это имеет значение? — Бобринец уже снова возлежал на своем диване и глядел в потолок. — Могу успокоить — не ворованная. — Допускаю. И тем не менее цену вы назвали немалую, потому хотелось бы знать. — Расскажу, если купите. А так — ни к чему. — Ну что ж, тогда внесем ясность. Мы из уголовного розыска. Вот документ. — Иванцов предъявил удостоверение. Но Бобринец не стал смотреть документы, а сделал опять сложное па в воздухе и сел. — Эта штука принадлежала моему тестю. Где он ее взял — не знаю. Им лично подарена мне на память. За день до того, как он оставил земную юдоль. — Значит, вы здесь живете с семьей? — Никакой семьи у меня нет. Все это в прошлом. Я сам по себе — они сами по себе. — Вам придется поехать с нами. — Это необходимо? — Да. — Ну что ж. Власть есть власть, — зевнул Бобринец и с ходу нырнул ногами в стоптанные кеды. — Но мне, между прочим, к восьми надо быть на работе. — Удостоверим, что опоздали вы по уважительной причине. К вечеру Рябиков с недоумением рассказывал Иванцову: — Удивительный тип этот Бобринец. Разузнал я о нем вое что можно. Ленинградец. Женился на москвичке. Работал в Художественном фонде, в разных кустарных артелях. Поработает три-четыре месяца и пропадает. Приезжает в Москву обросший, грязный, как снежный человек, если такой, конечно, существует. Жена с ним жить не захотела. По-моему, он с серьезными отклонениями от нормы. По поводу миниатюры твердит то же, что и вчера. Подарок тестя. Намерен получить за нее не менее тысячи. Объяснил почему. Ему, видите ли, нужна именно эта сумма. Часть денег он заработал в бригаде и в эту получку их будет иметь. После чего отбывает куда-то на натуру, как он выразился. Соскучился, видите ли, по лесным запахам, порывам ветра, шуршанию травы… Конечно, все это, видимо, просто фанаберия, туман. Мы ведь знаем, как некоторые узоры плетут. Видя, что Иванцов слушает его рассеянно, Рябиков обеспокоенно спросил: — А у тебя как? Санкцию на задержание этого любителя природы дали? Иванцов молча пододвинул ему лист бумаги с мелко напечатанным на нем текстом. Это было заключение экспертов. Да — слоновая кость, да — профиль Михаила Илларионовича. И мастер, что делал, видимо, не из рядовых. Но миниатюра Кутузова, изъятая у Бобринца, музею не принадлежит. — Не может быть! — пораженный, Рябиков присел на стул. — А мы-то думали… — Думали мы с тобой плоховато. Ведь в описи точно указаны все мельчайшие особенности пропавших вещей. Ну, хотя бы эта. На похищенной миниатюре между золотым ободком и портретом нанесены слова: «Тот жив, бессмертен тот, Отечество кто спас». На этой же никакой надписи нет. А мы с тобой не потрудились посмотреть как следует. Можно было и не беспокоить человека. — Ну, скажешь тоже. Похожи ведь вещицы-то как две капли воды. И потом, где там, в его конуре, да и в такую рань заметить, есть надпись на миниатюре или нет. Ее и днем-то в лупу смотреть надо. — Все это так, но факт остается фактом — миниатюра не та, и объект нашего внимания, следовательно, тоже не тот. — Что же теперь? — Как что? Пожелай ему успехов в его путешествии и давай думать, с чем сегодня вечером пойдем к Дедковскому. — Может, нам дело с «Соборниками» поворошить более обстоятельно? — Да, я тоже думал об этом. Пожалуй, мы рано охладели к нему. Давай-ка посмотрим все материалы.Дело «Соборников» было весьма значительным. Несколько дельцов организовались в крепко сколоченную группу. Здесь были работники реставрационно-художественных мастерских, одного рекламно-издательского предприятия, двух типографий, крупного комиссионного магазина. Свой «хлеб насущный» они зарабатывали похищением икон из церквей и соборов и сбытом их любителям русской старины. Из церкви в Брюсовском переулке ими были похищены «Спаситель», «Иоанн Креститель», «Рождество богородицы» и «Тайная вечеря». В Покровском соборе украден «Георгий Победоносец». Несколько ценных икон были изъяты в старообрядческом храме Рогожского поселка, в церкви на Преображенском валу, в историко-краеведческом музее в Городце, Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде и в некоторых других соборах и церквах. Участники, проходившие по этому делу, были изобличены и осуждены. Казалось, зачем к нему возвращаться? Но возвращаться следовало. Стало известно, что по разным причинам далеко не все «любители церковных реликвий» были разоблачены и оставшиеся на свободе пытались продолжать свою деятельность. Электромонтер Исторического музея Кирилл Буняков во время тех событий работал в старообрядческом храме в Рогожском поселке, где было похищено несколько икон. Но причастность его к делу не установили, и он выступал на суде лишь в качестве свидетеля. В Историческом музее Буняков слыл аккуратным, добросовестным работником. За три года не имел каких-либо замечаний. Правда, ходили по музею разговоры, что очень уж обеспеченно живет электромонтер. Приболел он как-то, и ездил к нему представитель месткома. Хорошо обставленная квартира, много дорогих икон с лампадами. Набожным человеком оказался Кирилл Буняков. Но, в конце концов, это было его личное дело. Достаток в семье вроде бы тоже объяснялся просто: подвизался Буняков в выборной десятке одной из известных московских церквей. Общественным служителям всевышнего тоже, видимо, перепадало от мирских подаяний. Несколько вечеров и ночей подряд Иванцов и Рябиков изучали дело «Соборников» и все-таки ничего, что бы наводило на участие в нем Бунякова, не находили. К хищению реликвий из музея, судя по всему, отношения тоже не имел. В день кражи ушел с дежурства по болезни. Бюллетень представил. Вел он себя спокойно, на вопросы Иванцова и Рябикова отвечал обстоятельно, объяснял все, что требовали объяснить. И все-таки оперативным работникам не верилось, что совсем чист электромонтер Буняков. Особенно в связи с одной мелкой, незначительной деталью. После одной из бесед с капитаном Иванцовым Буняков, выходя из комнаты, осенил себя крестным знамением. Рябиков, шедший в это время по коридору, пошутил: — За что бога благодарите? Буняков явно растерялся, но быстро взял себя в руки и спокойно ответил: — За то, что жив, по земле хожу. — Ну, давай, давай, общайся с всевышним. Когда Рябиков рассказал об этом Иванцову, тот в сердцах бросил карандаш на стол: — Чувствую, что рыльце у него в пушку, а зацепок никаких. — И я это тоже чувствую, только что проку от наших ощущений. Шубы из них не сошьешь. — Ничего, терпение, лейтенант Рябиков, терпение. Все тайное когда-нибудь становится явным. Разгадку личности электромонтера Бунякова нашли. Но нашли не скоро.
В один из осенних дней по старому Арбату не спеша шел пожилой, седой человек — Илья Александрович Пучков. Недалеко от комиссионного магазина он повстречался со старым приятелем — Петром Сергеевичем Лапоногом. Оба они были известными в Москве знатоками и любителями старины, непременными участниками всяких общественных начинаний по этой части. Все свои скромные сбережения и даже часть пенсии они тратили на коллекционирование редких и диковинных вещей. Но строгими людьми слыли старики. Не возьмут вещь ни за деньги, ни задаром, если почувствуют, что идет к ним не из чистых рук. Лапоног, как только остановились и поздоровались, предложил: — Илья, есть чудесная вещица. Кубок XVI века. — А что же сам? — Недавно две картины купил. Поиздержался. А потом утварь-то ведь больше по твоей части. — Ну а владельцы? Надежные? — Да вроде бы. Мне их Кирилл Фомич прислал. — Буняков? — Да, он. — Странно. Он же сам никогда такое не упустит. — Редкие иконы ждет. Не хочет тратиться. Пучков не мог остаться равнодушным к столь заманчивой вещице, как кубок XVI века, и пожелал встретиться с его обладателем. Он явился в тот же вечер. Илья Александрович не зря всю жизнь провел в музеях, на выставках, заседал в закупочных и других комиссиях по оценке художественных предметов. Он бережно взял в руки голубоватый, с золотистыми разводами кубок, любовно осмотрел каждую деталь тончайшей художественной росписи, сдул пылинки. И тихо, аккуратно поставил на стол. Потом взял лупу и медленно осмотрел вещь еще более внимательным и цепким взглядом. Обеспокоила старого знатока крышка. Сам кубок был XVI века, а крышка… Крышка, судя по орнаменту, по замысловатому рисунку, явно принадлежала к XVIII веку. В прошлом году Илья Александрович, работая над книгой по старинной русской керамике, целый месяц провел в Эрмитаже и слышал, как сокрушались работники одного из отделов по поводу того, что какой-то прощелыга «увел» две уникальные вазы, имеющие историческую ценность, и старинный кубок. Илья Александрович точно помнил, что речь тогда шла о кубке XVIII века. Кубок, что стоял на столе, был не тот, это ясно. Но, вот крышка… Пучков решил отказаться от покупки: — Дороговато, молодой человек, не по карману. Извините. — Неужели это дорого?.. Пятьсот рублей? — Да, для меня дорого. — Но, понимаете, мне очень нужны деньги, очень. — Понимаю, вполне понимаю. Но не могу. Укладывая кубок в саквояж, парень все-таки предложил: — Вы подумайте. А утром мы с приятелем к вам заглянем. Кое-что еще покажем. Посетитель ушел. А Илья Александрович, встревоженный, позвонил в Ленинград своему приятелю, работнику Эрмитажа, и рассказал о визите. — У нас действительно пропало несколько вещей с немецкой выставки утвари XVI века. В том числе, кажется, и кубок. Но точно не помню, надо проверить. — У вас ведь и раньше, как мне помнится, что-то из утвари пропадало? — Да, да. — Так вот, думаю, что посетитель, который у меня был, — один из ваших клиентов. Принимайте меры. — Это интересно! Похититель у вас в городе, а мы — принимайте меры? Вы должны задержать этого гастролера. — И как же я, по-вашему, должен поступить? — Ну, я не знаю как. Сообщите куда и кому следует. — Нет уж, увольте. Я совершенно не знаю, как это делается. — Ну что ж, пусть уплывают музейные вещи в грязные руки спекулянтов и перекупщиков. Нам, знаете ли, тогда и говорить не о чем. Сотрудник Эрмитажа оказался, видимо, решительным человеком. Он поднял в Ленинграде всех, кого надо, и утром Московский уголовный розыск получил сообщение: в Москве продается экспонат из Эрмитажа, следует немедленно связаться с гражданином Пучковым, живет там-то. В это же утро к Пучкову вновь явился вчерашний парень. Его сопровождал такой же рослый молодой человек в широкой кожаной куртке. Им, видимо, действительно очень нужны были деньги. Поставив кубок на стол, его обладатель сообщил: «Четыреста». Но у Ильи Александровича желание приобрести эту редкостную вещь уже окончательно пропало. — Знаете, ребята, кубок я покупать не буду. Если он действительно ваш, снесите в комиссионный магазин, это в пяти минутах ходьбы отсюда. Если… чужой, то мой совет: верните туда, где взяли. Так будет лучше. — Вы что же, пугаете, нас, подозреваете в чем-то? — поднял черные лохматые брови обладатель кубка. — Да нет, что вы? Просто советую. — Ну а по другим вещицам разговор будет такой же? — настороженно спросил второй парень. — А о чем, собственно, речь? Парень вытащил из внутренних карманов куртки завернутые в серые тряпицы три небольшие фарфоровые статуэтки. Илья Александрович, далеко отставив от глаз, долго и внимательно смотрел на них. — Вещи чудесные. Старинные изделия русских мастеров. Больших денег стоят. — Во сколько их оцените? — спросили оба посетителя почти разом. — Это дорогие вещи, ребята. — Уступим, берите. — Нет, нет, это не для меня. Советую обратиться туда же. Посетители переглянулись: — Вы что это, серьезно? И окончательно? — Да, вы уж извините. — Бывай здоров, старик. Нам рекомендовали тебя как знатока и коллекционера, а ты, оказывается, просто старый дрожащий заяц. — Парень в кожаной куртке ухмыльнулся было своему удачному, как ему показалось, каламбуру, но его спутник мрачно упрекнул: — Пошли быстрей. Чего ухмыляешься? Они вышли не оглядываясь. А через полчаса к Илье Александровичу явился лейтенант Рябиков. — Чем могу служить? — удивленно спросил Пучков. — Извините, Илья Александрович. Нам сообщили из Ленинграда, что вчера вам предлагали кое-какие музейные вещицы. В частности, пропавшие в Эрмитаже. — Точно я этого сказать не могу, но сомнение у меня возникло, и я сообщил об этом ленинградским коллегам. — Расскажите подробнее, что за люди были? Что у них за вещи? Понимаете, Илья Александрович, это очень важно. — Что за люди? С одним я виделся дважды, вчера и сегодня, со вторым только сегодня и то накоротке, подробной характеристики дать не могу. — Что, они и сегодня были здесь? — Недавно ушли. — Эх, какая досада! Так кто же это? Жулье? — Да нет, на жуликов не похожи. Предлагали довольно редкий кубок тончайшей работы. Говорят, что из семейных реликвий. Я, конечно, не утверждаю наверное, но думаю, что вещица не из фамильного наследия. Еще предлагали три фарфоровые статуэтки. Тоже прекрасные изделия. И думаю, тоже не их родовые. — Когда они обещали опять прийти? — У меня они больше не будут. Я отказался купить эти вещи. — Жаль, очень жаль. Ну что же, спасибо, Илья Александрович. Будем искать. Войдя в кабинет Дедковского, Рябиков еле сдерживал волнение. — Товарищ майор, объявились какие-то любители реликвий. Может, это именно те, кого мы ищем? — Да? И где же они? — оторвавшись от бумаг, поднял голову Дедковский. Рябиков торопливо рассказал о посещении Пучкова. Дедковский присвистнул: — Если бы вы их с собой привезли, я бы понял ваш восторг. Но вы же их проморгали. — Я был у Пучкова через час после сообщения из Ленинграда. За полчаса до меня они ушли. Жаль, конечно, что так получилось, но мы найдем их, найдем. Далеко уйти они не могли. А обрисовать их я уже смогу. Так что прошу вас дать указания всем службам о розыске. …Их задержали, когда такси подкатило к Курскому вокзалу. И вот обладатели немецкого уникального кубка и фарфоровых статуэток в МУРе. Перед Иванцовым и Рябиковым сидели разбитные молодые люди. Одеты небогато, но вычурно. Оба в пресловутых джинсах в обтяжку, в здоровенных ботинках и диковинных куртках. Держатся внешне спокойно, на вопросы отвечают не спеша, подумав. — Как оказались в Москве? — Сели в поезд и приехали. — Зачем? — Как это зачем? На град-столицу посмотреть. — И это все? — Все. А разве этого мало? Разве Москва не стоит таких поездок? — Ну, как же. Тут спора быть не может. — Именно. А вот что у вас в МУРе окажемся, не ожидали. Это в наши планы не входило. — В наши планы тоже не входит мешать людям любоваться столицей. Но, как известно, нет правил без исключения. — Тогда, может, объясните, чем мы обязаны этому исключению? — Ясность в этот вопрос надо внести общими силами. И потому приступим к делу. Откуда у вас антикварный кубок немецкой работы и фарфоровые статуэтки? — Какой кубок? О чем вы? Это какое-то недоразумение. Приехали посмотреть Москву. Побывали на Ленинских горах, на ВДНХ, в Третьяковке… — Очень хороню. Но все-таки, как насчет кубка и статуэток? — Да не знаем мы никакого кубка, никаких статуэток. Не иначе здесь какое-то недоразумение. — Ну что ж. Придется вас убеждать иначе. Когда парни увидели входившего в комнату Пучкова, они переглянулись, побледнели, но продолжали свое: — Знать ничего не знаем, видим этого гражданина в первый раз. Илья Александрович возмутился: — Вы что же, молодые люди, хотите сказать, что я говорю неправду? — Вы просто путаете нас с кем-то. — Ничего я не путаю и вам этого не советую. Я вам что говорил? Или идите в комиссионный, или сюда, если вещи приобретены нечестным путем. Я вам сочувствую, но помочь ничем не могу. — Повернувшись к Иванцову и Рябикову, Пучков торжественно произнес: — Товарищи следователи, заявляю официально и ответственно: именно эти молодые люди были у меня и предлагали антикварный кубок и три фарфоровые статуэтки. Что это за юноши, я не знаю, может, они и вполне приличные молодые люди, я же свидетельствую лишь то, что было. — Что вы теперь скажете, молодые люди? — То же, что и говорили. — Значит, не хотите говорить чистосердечно? — А мы и так говорим чистосердечно. Что есть, то и говорим. Заявляем еще раз категорически: гражданин нас с кем-то перепутал. Пучков, обескураженный и пораженный этой бессовестной ложью, молчал. Потом воскликнул: — Позвольте, позвольте! Есть же еще один человек, который подтвердит, что это именно те молодые люди. — Кто же это? — спросил Иванцов. — Лапоног Петр Сергеевич. Ведь именно он мне порекомендовал встретиться с ними. — Что же, пригласим гражданина Лапонога. Будьте любезны сказать адрес. Пучков, подслеповато щурясь, стал листать записную книжку. Но тут заговорил один из парней: — Ладно, не будем осложнять дело. А то действительно создается впечатление, что к вам попали какие-то матерые грабители. Гражданин говорит правильно, мы действительно были у него и действительно хотели продать кое-какие безделушки. Поиздержались малость в столице. — Что именно вы хотели продать? — Ну, вы знаете. Кубок и три статуэтки. — Откуда у вас эти вещи? — Домашняя утварь. Валялась довольно долго без всякого употребления. Потому и решили к делу пристроить. Ценность не так уж велика, но, когда в кармане пусто, и рубль сумма. Иванцов возразил: — Ну, зря вы так. Кубок, например, из коллекции Российского императорского дома. Изделие старых немецких мастеров. А статуэтки — работа семнадцатого века. Ценности отнюдь не пустяковые. И это вы прекрасно знаете. Но главное — они не из ваших домов, а из музеев. — Что? Из музеев? Из каких музеев? Нет, вы явно решили приписать нам какое-то чужое дело. — Не будем спешить. Давайте разберемся подробно. С кубком более или менее ясно. Теперь о статуэтках. Что это за вещи? Откуда они? — Говорим же вам, собственные, домашние вещи. — Это придется проверить. Вызовем специалистов, подвергнем вещи экспертизе. Если они принадлежат вам, а не кому-то другому, тогда что же… Где сейчас находятся кубок и статуэтки? — Они… Мы… Ну, продали их. — Продали? — Да, продали. А чего ж тут такого? Ведь именно за этим мы и приходили к гражданину Пучкову. — Где продали? Кому? — Сегодня на Люсиновской улице. — Сдали в магазин? — Нет, в магазине не приняли. Пришлось продать какому-то любителю. — Все это основательно осложняет дело. И осложняете его вы сами. Что ж, лейтенант, — обратился Иванцов к Рябикову. — Сделаем так. Вы подробно запишите с их слов портрет этого любителя и принимайте нужные меры. Надо найти его, обязательно найти. А мы тем временем свяжемся с гражданином Лапоногом. Вечером, когда Рябиков пришел к Иванцову, тот озабоченно спросил: — Ну как у тебя? Покупатель не обнаружился? — Нет. — Я так и думал. Между прочим, Лапоног этих ребят, в сущности, не знает, виделся с ними накоротке. Их ему рекомендовал… Кто бы ты думал? Буняков. — Буняков? Интересно! Может, они того… вместе работают? И может, это кончик ниточки из клубочка? — Вполне возможно. — Повисло у нас это дело. Над нами уже подшучивать начинают. — Неудивительно. Полгода прошло, а мы ни с места. Ну да ничего, любое дело концом хорошо. Я тоже почему-то думаю, что на сей раз мы не зря невод закидываем. Авось этот хитроумный и набожный карась Буняков не нырнет от нас в глубину. Буняков, когда его пригласили на Петровку, поздоровался с Иванцовым и Рябиковым, как со старыми знакомыми. — Опять, товарищи начальники, меня беспокоите? Ведь все, что мог, я рассказал. — Кажется, не все. — У меня есть хорошее правило: когда мне что-либо кажется, я крещусь. — И помогает? — Очень. — В том, что у вас это правило соблюдается, мы убедились. — Вот-вот. И вам его рекомендую. — Спасибо. Но скажите-ка нам, Кирилл Фомич, вам известны Валерий Ломачев и Борис Куницын? — Что-то незнакомые имена. — А вы подумайте получше. — Можно, конечно, и подумать, но вряд ли это поможет. …Очная ставка с ленинградскими «любителями старины» ничего не дала. Буняков категорически утверждал, что видит этих людей впервые. Ломачев и Куницын твердили то же самое: не знаем, совсем не знаем этого гражданина. — А вот Петр Сергеевич Лапоног утверждает, что именно вы рекомендовали ему встретиться с ними. — Это неправда. На эту тему у нас разговора не было. — Но вы встречались? — Виделись на днях. Здравствуй да прощай, вот и вся встреча. Попросили войти Петра Сергеевича Лапонога. — Гражданин Буняков рекомендовал вам этих молодых людей? — Да. Он посоветовал мне встретиться с ними. У ребят, говорит, интересные вещицы. Вещи оказались действительно стоящими, но в тот день я уезжал в Грузию. И потом, керамика и фарфор не по моей части. Поэтому дал адрес Ильи Александровича. — Гражданин Буняков, вы слышали? — Не было у нас такого разговора. Видеться — виделись. А вот о каких-то там владельцах ценностей речи не было. Что-то путает Петр Сергеевич. — Многовато путаницы. Не находите, Кирилл Фомич? — Нахожу. И думаю, что виноваты в этом вы. Очень уж неразборчивы в подборе свидетелей. Очень вам, видно, хочется зацепить на чем-то Бунякова. Вы же меня замотали вызовами. В который раз беседуем. — А вам не кажется, Буняков, что говорить на черное — белое не лучший способ защиты? — А мне защищаться не надо. Я никого не убил и ничего не украл. Иванцов обратился к Лапоногу: — Так как же, Петр Сергеевич? Кто из вас говорит неправду? — Вы знаете, я что-то ничего не понимаю. У нас, коллекционеров, так принято, это обычное дело — рекомендовать друг другу то, что его интересует. Один собирает живопись, другой — керамику, третий — чеканку. И ничего предосудительного в том, что Кирилл Фомич познакомил меня с ленинградскими приезжими, я не вижу. Почему он отрицает это — ума не приложу. — Я отрицаю потому, что этого не было. — Но как же не было? Вы даже сказали, что вещи у них ценные, но ребята спешат на юг и продадут по дешевке. А я еще вас спросил: почему, мол, сами не хотите прибрести? Вы мне ответили: бережете деньги, так как на днях будет оказия с иконами. Так ведь? — Ни о чем таком разговора не было. Мы и виделись-то две-три минуты. — Ну как же две-три? Кофе же пили на Пушкинской. — Знаете, у вас с головой что-то не в порядке’. — И, повернувшись к Иванцову, Буняков заявил: — Я категорически отвергаю утверждение гражданина Лапонога, он или путает, или действует по чьей-то подсказке. Отвергаю. И настоятельно прошу занести сие в протокол. Из кабинета Иванцова Лапоног уходил донельзя удивленный. Поднялся и Буняков, уверенный, независимый. Но ему сказали, что придется немного задержаться. — Что ж, пожалуйста, — заявил он в ответ. — Но все это будет известно прокурору. Предупреждаю. Когда Иванцов и Рябиков остались одни, Рябиков вскочил с кресла и нервно забегал по комнате. — Ты что-нибудь понимаешь? Я лично — ни черта! Какой-то заколдованный круг. — Подожди кипятиться. Давай рассуждать спокойно. Я думаю, гражданин Буняков прекрасно чувствует, что какие-то концы мы с тобой зацепили. Это факт. Конечно, он молодчиков знает и Лапоногу их рекомендовал. Ну. с какой стати почтенному, убеленному сединой старику возводить на Бунякова напраслину? Зачем? Ты не обратил внимание, как Буняков его сверлил взглядом? Уверен, что он хотел предупредить: молчи, мол, и точка. — А почему бы Бунякову не купить эти вещи? — У самого себя? — Ты что же думаешь, что он и эти ребята… — Это предположение, насколько я помню, первым высказал лейтенант Рябиков. — У меня уже голова кругом идет от всей этой истории. Может, нам прямо поставить эти вопросы всей их компании? Чего ходить вокруг да около? — Рано. Скажут: нет, ничего не знаем. И все. Чем мы уличим? — Да, ты прав. Если бы хоть этот кубок и статуэтки не уплыли. Где теперь их искать? — Надо иметь в виду, что денег-то ведь у ленинградцев не оказалось. Только билеты и кое-какая мелочь. Так что, может, они и не успели найти подходящего покупателя? — Тогда где же эти вещи? — А ты подумай. Рябиков неуверенно предположил: — Буняков? Иванцов усмехнулся: — Вполне возможно. — Тогда не миновать говорить с ним. Ведь держать-то его не можем? — Сначала посмотрим, что он будет предпринимать. Подписывая пропуск Бунякову, Иванцов миролюбиво предложил: — А все-таки, Кирилл Фомич, лучше бы начистоту. Рассказали бы все чистосердечно. — Ничего нового сказать не могу, все, что знал, сказал. …Рано утром следующего дня на Киевском вокзале задержали племянницу Бунякова Полину Малыгину. В объемистой хозяйственной сумке под разной снедью у нее были обнаружены и злополучный кубок, и фарфоровые статуэтки. Направлялась она на дачу в Апрелевку. Вызвали экспертов из Министерства культуры. Их заключение было быстрым и определенным. Кубок из Эрмитажа, фарфоровые статуэтки из Останкинского музея творчества крепостных. — Извините, Кирилл Фомич. Вновь пришлось вас побеспокоить. Надеемся, вы не в претензии? — не скрывая усмешки, спросил Бунякова Иванцов, когда тот к концу дня вновь сидел перед ним в МУРе. Буняков вздохнул, простецки развел руками: — Ругаю себя нещадно. За дурацкое упрямство ругаю. И чего уперся? Работу только вам лишнюю дал. Действительно, ребята предложили мне эти вещицы. Но народ незнакомый. Побоялся я. Потому и отправил их к Лапоногу. Тот их — к Пучкову. Ну а потом, когда и у того сделка не состоялась, они опять ко мне заявились. Пожалел ребят. Куда им деваться? Денег нет, а ехать им, говорят, надо. Ну и взял вещицы-то. — А как же тогда понимать ваши прежние объяснения? — Решил в сторонку отойти. Дело малоприятное с МУРом крутить амуры. Он шутил, а глаза смотрели напряженно, цепко, хотел понять, как глубоко завяз, знают ли эти дотошные оперативники то, что скрывает он, Буняков. Было установлено, что Ломачев и Куницын — работники одного из рекламно-оформительских предприятий Ленинграда — давно «увлекаются» антиквариатом. Посещают музеи, выставки и прибирают к рукам то, что плохо лежит. Потом сбывают «приобретенное» то ли в комиссионные магазины, то ли торящимся около них перекупщикам. На этой почве они познакомились и с Кириллом Буняковым. Продали ему кое-какие мелочи. Через некоторое время привезли церковную утварь, которую удалось похитить в Пскове. После «операции» в Эрмитаже появились в Москве вновь. Но Буняков к кубку особого интереса не проявил, сказал, что одна ласточка весны не делает. Ну, на что ему этот самый кубок? И тут же подбросил мысль об Останкине. Перед этим с одним знакомым он полдня ходил по залам музея. Знакомый все восторгался некоторыми фарфоровыми вещицами и как бы между прочим сообщил, что туристы из одной страны предлагают за такие «безделушки» баснословные деньги. Ломачев и Куницын совет Бунякова поняли быстро и назавтра уже были в Останкине. Отстав от группы, спрятались в комнатах первого этажа, переждали, когда музей закрыли, и вернулись в залы. Вынули из витрины несколько фарфоровых статуэток, спустились в сад и возвратились в город. Но Кирилл Фомич изменил свои планы. Его насторожила слишком уж стремительная удача ленинградцев, и он решил поостеречься. А тут еще знакомый, который говорил о туристах, сам укатил в какую-то поездку, и Буняков решил, что, пожалуй, не стоит связываться с вещами из Эрмитажа и Останкина. Пусть оси попадут к Лапоногу, а там будет видно — с ним он в случае чего сторгуется. Но Лапоног переадресовал обладателей кубка и статуэток к Пучкову. Потерпев и тут неудачу, потолкавшись по комиссионным магазинам, Ломачев и Куницын вновь появились у Бунякова. Оставаться в Москве им не хотелось. Москва была выбрана только как промежуточный пункт. У них давно уже созрел план посетить Феодосию («посмотреть» собрание картин Айвазовского). Кирилл Фомич не очень-то обрадовался, когда увидел помощников у своего дома. Но деваться было некуда. Он взял вещи за бесценок, дав парням ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до Крыма. Дело получилось выгодное, вместо выплаченных грошей он рано или поздно получит солидный куш. Важно, чтобы все обошлось. Когда пригласили в МУР, он решил отрицать все. С ленинградцами было условлено заранее: в случае чего, они его не видели и знать не знают. Те так и держались. Но этот Лапоног! Буняков понимал, что муровцы верят этому старику, а не ему, Бунякову. Однако отказываться от своей версии он не хотел. Что они, собственно, могут ему предъявить? Мало ли чего может наговорить выживший из ума старик? Важно, чтобы ребята не сдрейфили, а те, кажется, ничего, крепкие. И Буняков упорствовал, уверив себя, что, пока муровцы не добыли доказательства, опасаться ему нечего. Когда его отпустили, первое, что он решил сделать, — спрятать злополучные вещи. Сам поехал на дачу без поклажи, с одним журналом в руке. Место в поселке нашел подходящее, в гараже у приятеля, далеко от своей дачи. Были у него и еще более укромные места, но их касаться не хотел. Рано утром племянница привезет вещицы, он укроет их понадежнее, и все. Пройдет время, все уляжется, тогда можно будет и в дело пустить. Когда же его посыльную задержали, Буняков понял: МУР обложил его крепко и играть незнайку уже бесполезно. Надо выпутываться из положения иначе… Придется признать, что да, купил, хотел помочь ребятам. А что вещи краденые — не знал. Откуда он мог это знать? Но теперь его совершенно неожиданно подвели ленинградцы. Данные дактилоскопической экспертизы показали, что витрину с утварью в Эрмитаже открывал Борис Куницын, стекло из шкафа с фарфором в Останкине вынимал Валерий Ломачев. Когда эти доказательства были предъявлены, Ломачев и Куницын перестали отпираться. Может быть, они и продолжали бы упорствовать, но их серьезно озадачили вопросы, касающиеся Исторического музея. Они еще в Ленинграде слышали об этой крупной краже. Свои грехи — что делать, от них не уйдешь. Но отвечать за чужие? Нет, избавьте. Сначала Куницын, а потом Ломачев рассказали все, как было. Об Эрмитаже, о Пскове, об Останкине. Загадка с иконой, что была снята со стены в Историческом музее, раскрылась тоже. Это сделал Куницын. В конце сентября он приезжал в Москву, зашел к Бунякову. Вместе они ходили по залам музея, разговаривали о своих делах. В левой анфиладе шла уборка, протирка витрин. Двое маляров аккуратно подкрашивали опорную колонну. На ней висела небольшая старая икона. Куницын проговорил, взглядом показав на икону: — Снять бы ее надо, маляры попортят. — Правильно, — согласился Буняков. Через несколько минут Куницын, обрядившись в синий халат, вновь появился в зале и, обращаясь к малярам, распорядился: — Снимите, ребята, икону, а то не ровен час, замажете. Те сняли икону и передали ее Куницыну, приняв его за работника музея. Сразу, однако, он ее выносить не стал — было опасно, а поставил в зале, в углу. Теперь надо было улучить момент, чтобы незаметно ее унести. Сделать это решил к вечеру, когда народу особенно много. Куницын поехал на Кузнецкий мост, раздобыл большую папку-планшет, с которыми художники ходят на этюды. Икона свободно могла войти туда. Однако, когда он вернулся в зал, на страже около иконы стояли две молодые смотрительницы. Они возбужденно обсуждали, кто мог дать указание снять икону, и ждали директора музея. Куницын поспешил незаметно ускользнуть. Была установлена и причастность Бунякова к делу «Соборников». Он выполнял довольно важную роль «разведчика», определял, что в какой церкви наиболее ценно, как обстоит дело с охраной. Принадлежность к «активу верующих» облегчала ему эту задачу. Но дактилоскопическая экспертиза установила, что оттиски пальцев, оставленные на витринах Исторического музея при краже вещей Кутузова и Платова, принадлежат кому угодно, только не Бунякову. Не нашлось там и следов Куницына и Ломачева. Значит, кражу реликвий из музея совершил кто-то другой. — Выходит, что гражданин Буняков и КO будут обвиняться лишь по второстепенным эпизодам? Жаль, очень жаль, — в который уже раз сокрушался Рябиков. — Мне тоже жаль, — согласился Иванцов. — Но трудились мы все-таки с тобой не зря: кражи из Эрмитажа, из Останкина, из псковских соборов — не такие уж второстепенные эпизоды. И то, что выявлены новые, дополнительные данные по делу «Соборников», тоже существенно. На следующий день Дедковский сообщил своим помощникам: — Одна западная газета пишет, что недавно на аукционе в Амстердаме продавались какие-то реликвии, принадлежавшие Кутузову. — Не может быть! — недоверчиво произнес Рябиков. — Все может быть, лейтенант, если мы так плохо будем работать. Итак, дело нужно приостановить, завтра пойду к следователю, пусть поможет. Капитан Иванцов и лейтенант Рябиков молчали. Молчал несколько минут и майор Дедковский, затем решил все же успокоить огорченных неудачей оперативников: — Вешать головы, однако, не следует. Не только вы потерпели фиаско с розыском пропавших сокровищ. Недавно в одном журнале я прочел вполне резонные вопросы: кто скажет, где сейчас творение Джорджио Моранди, похищенное из Флорентийского дворца Питти? Что стало с золотым скипетром юного фараона Тутанхамона, пропавшим в 1959 году из Каирского музея? Конечно, обидно и непростительно, что мы упустили воров. Но реальных направленийрозыска на сегодня я не вижу. А попусту тратить время мы не можем: есть и другие заботы. Однако капитан Иванцов и лейтенант Рябиков должны помнить: дело приостанавливаем, но не прекращаем. Кража в Историческом музее должна быть раскрыта и виновники разысканы. Этот долг я оставляю за вами… Неудача есть неудача, и никакие утешительные слова изменить этого не могут. Хмурые, удрученные, уходили Иванцов и Рябиков из МУРа. Не глядя друг на друга, попрощались и пошли каждый в свою сторону.
Прошло полгода. Иванцов и Рябиков расследовали другие дела, но когда бы они ни встречались с Дедковским, тот неизменно спрашивал: — Ну а как Исторический? Ничего нового? — Пока ничего, товарищ майор. Они и сами помнили об этом своем долге постоянно. Были в их практике дела и более сложные, опасные и запутанные. Однако отыскивались нити, факты, улики, которые позволяли вытаскивать на свет божий искуснейшим образом замаскировавшихся преступников. А тут все на мертвой точке. Столько отработано версий, столько проверено людей, изучено документов — все впустую. И, сидя над какой-нибудь запутанной историей, они порой говорили: — Задача не менее сложная, чем по Историческому. Они перечитали массу литературы, знали все случаи крупных краж из музеев мира. Историю нападения на Вандомский музей в Эксе, похищение Моны Лизы Леонардо да Винчи или «Равнодушного» Ватто из Лувра, «Герцога Веллингтонского» Гойи из Токийского музея, да и многие другие случаи знали, что называется, назубок во всех мельчайших деталях и подробностях. Превратились в заядлых знатоков и любителей антиквариата, перезнакомились со всеми более или менее знающими коллекционерами и работниками художественных салонов, комиссионных магазинов. Нередко можно было слышать их споры то о мастерстве великоустюжских ювелиров, то о балхарской керамике или богородской резьбе. Как только выдавался свободный час, Иванцов и Рябиков обходили магазины, скупочные пункты, толкучки возле них. Вступали в разговор с продавцами, оценщиками, завсегдатаями этих торговых точек. Им сообщали: — Ваш заказик помним. Но столовых предметов из золоченой бронзы пока не было. — Миниатюры из слоновой кости не появлялись. Помня поручение Иванцова и Рябикова, наведывались в магазины участковые уполномоченные, постовые милиционеры, дружинники из городского комсомольского отряда. И вот как-то у комиссионного магазина на Верхней Масловке к Иванцову подошли двое знакомых ребят из народной дружины и сообщили, что уже несколько дней замечают одного и того же подозрительного посетителя. — Чем же он вас заинтересовал? — Понимаете, ходит сюда уже давно, но ничего не покупает и не продает. Мельтешит то тут то там, кого-то, наверное, высматривает. Сегодня к магазину подошли два иностранца. Он к ним. Разговора, правда, не получилось. Он по-английски балакает, а они не понимают. Посмеялись, развели беспомощно руками и отошли. Он же остался. Ждет кого-то еще. Вот он, смотрите. Недалеко от входа в магазин стоял парень лет двадцати пяти в зеленом плаще «болонья». Парень пристальным взглядом встречал всех подходящих к магазину. Вот увидел плотного, в короткой нейлоновой куртке мужчину, шедшего по тротуару, и быстро направился к нему. Когда Иванцов поравнялся с ними, он услышал, как мужчина с усмешкой проговорил: — Не понимаю вас, молодой человек. Говорите по-русски. Парень, ни слова не говоря, отошел от мужчины и снова влился в толпу. Иванцов раздумывал: стоит ли заинтересоваться этим молодым человеком? Было ясно, что он ловит иностранцев. Но ведь известно, что есть у нас любители разных заморских диковин, которые за галстук или носки умопомрачительной пестроты готовы отдать все, что имеют. Может, это один из таких? Но может быть и другое. За последние дни в МУР поступило несколько сообщений, что какие-то молодые люди выясняют в комиссионных магазинах возможность сбыта некоторых вещей, давно интересующих оперативников. Один спросил, покупает ли магазин старинное оружие. Другой справлялся о ценах на старое столовое серебро. Спрашивали осторожно, с оглядкой. Вот почему Иванцов решил, что непременно следует узнать, что это за парень. Задержать бы его надо. Но какие причины и мотивы? А если тот ни сном ни духом ничего не знает, не имеет никакого отношения к истории, что так занимает его, Иванцова? Тогда что? Как ему объяснить? Но и отмахнуться от этого случая тоже нельзя. В последующие дни молодой человек появлялся также в магазинах на улице Горького, Сиреневом бульваре, на Пятницкой, несколько раз был замечен в вестибюле гостиницы «Москва». Удалось установить, что именно он справлялся о ценах на столовое серебро. Иванцов и Рябиков теперь уже не спешили с опрометчивыми выводами, не поддавались первым впечатлениям. Наоборот, заранее настраивали себя на возможную неудачу. Да, было ясно, что молодой человек ищет встречи с зарубежными гостями. И видимо, хочет что-то им сбыть. Но следовало прежде всего узнать, что именно. Между тем настойчивые усилия молодого человека, кажется, увенчались успехом. Около киоска сувениров в вестибюле гостиницы «Москва» он разговорился с двумя шумливыми, разбитными гостями. Те настойчиво выспрашивали молоденькую продавщицу, что есть у нее интересного. Девушка выкладывала на крышку стеклянной витрины золотые перстни, серьги, массивные портсигары, ажурные солонки. Но гости качали головами и все повторяли: — Самсинг мор интэрестинг. Что-нибудь поинтереснее. Здесь-то и зацепил их парень. Стоя сзади иностранцев, он проговорил на ломаном английском языке: — Зэриз эн интэрестинг синг. Есть, говорю, интересные вещицы. — Иес? О’кэй. Переговорив между собой, гости вместе с парнем отошли в глубину вестибюля и долго приглушенно разговаривали. Объяснение, видимо, шло туго. Они сели в кресло около круглого стола, и парень, оглянувшись по сторонам, стал что-то чертить на листке из блокнота. Иванцов несколько раз прошел мимо них, но слишком заметно интересоваться беседой не счел возможным. Гости и их новый знакомый вели себя настороженно, прекращали разговор, как только кто-нибудь подходил близко. Было ясно, что сделка здесь состояться не может. Речь, видимо, шла о месте и времени встречи. Изобретательными на этот счет ни гости, ни «продавец» не оказались. В тот же вечер они сидели в ресторане «Нарва». Вместе с парнем, который вел предварительные переговоры в гостинице, сидел второй, того же примерно возраста, но не по годам полный, с глубокими залысинами. Он легче управлялся с английским языком, и беседа шла более оживленно. Рябиков, сидевший с женой и ее подругой за соседним столиком, улавливал лишь некоторые фразы. — Как вам тут у нас? — О’кэй. Дворец съездов, метро, Люжники — о’кэй! Грандиозно! — А как русская кухня? — Кухня? Водка? О’кэй! На большой! И в таком роде беседа продолжалась довольно долго. Рябиков подумал, что, пожалуй, зря капитан Иванцов засадил его сюда на целый вечер. Обычные восторженные туристы и обычные ребята. Может, просто желание прихвастнуть перед приятелями: вчера, мол, целый вечер болтали с двумя интуристами в «Нарве» — и привело их сюда? Но почему же так настойчиво искали они этой встречи? Нет, Рябиков, торопишься, явно торопишься с выводами. Сдержи себя, лейтенант. И как бы в подтверждение этой мысли в руках у толстоватого парня появилась какая-то вещица. Маленькая продолговатая коробочка, похожая на небольшую пачку сигарет. Вещицей заинтересовались все, кто сидел за столом. И когда один из гостей открыл крышку, внутренность коробки сверкнула янтарно-золотым блеском. Разговор за столом стал совсем тихим, его уже нельзя было разобрать. Вскоре соседи ушли. Покинул ресторан и Рябиков. Когда он докладывал Иванцову итоги вечера, тот больше всего интересовался вещицей, которую разглядывали гости. — Что за вещь? Портсигар, пудреница или еще что-нибудь? — Небольшая коробочка. На старинную табакерку, во всяком случае, похожа. И внутри позолоченная, это точно. — Ну а купля-продажа состоялась? — Нет. Видимо, был просто показ. И договоренность о новой встрече. Но, товарищ капитан, не очень верится, что тут есть что-то криминальное. Правда, наши ребята особого доверия не внушают. Это верно. С другой стороны, если они хотят сбыть что-то подозрительное, то зачем показывать вещь в ресторане? — А что им делать? В магазине или около него — еще опаснее. Тянуть покупателей куда-то в укромное место? Не каждый согласится на это. Тем более, что молодые люди, как ты отметил, имеют не очень-то презентабельный вид. Думаю, что именно эта проблема — где, когда, как произвести операцию — и обсуждалась в «Нарве». — Может, и так. — Что это за парни? — Некие Матюшин и Горбанюк. Живут на 3-й Парковой. В квартире Белоусовой. — Москвичи? Приезжие? Чем занимаются? — Ну, на эти вопросы я ответить пока не могу. — Займись ими завтра же. С утра Рябиков был в Измайлове, в паспортном столе отделения милиции. Инспектор проверил прописные книги и объявил: — Граждане Матюшин и Горбанюк на нашей территории не проживают. — Как это не проживают? У гражданки Белоусовой, 3-я Парковая, дом 7. — Проверим еще раз. — И инструктор снова листает и листает книги. И уверенно подтверждает: — Нет, не проживают. Вызвали Белоусову. — У вас живут Матюшин и Горбанюк? — Живут, а как же? Студенты. Инспектор паспортного стола так и привскочил на стуле: — Как живут? Без прописки? — Почему без прописки? Прописаны, все честь по чести, как полагается. Посмотрите хорошенько. Но и третья проверка книг ничего не дала. Среди прописанных жильцы Белоусовой не числились. Женщина настаивала: — Я же и заявление подавала, и форму подписывала. Они сами ходили к вам сюда и паспорта мне потом показывали. Рябиков спросил Белоусову: — Где сейчас ваши постояльцы? — Дома. В поход какой-то собираются. — Вот что, Прасковья Петровна, сходите-ка домой и принесите нам паспорта этих молодых людей. Скажите, домоуправление требует. И объясните, что сегодня же они их. получат обратно. Белоусова ушла, но скоро вернулась ни с чем. — Сказали, что паспорта в институте. Завтра принесут. Инспектор-паспортист нервно встал: — Я сейчас к ним сам наведаюсь! — Не надо, — остановил его Рябиков и прошел в кабинет начальника отделения. Связался по прямому телефону с Иванцовым. — Товарищ капитан, собираются. Прошу доложить майору. Считаю, что надо немедленно ввести в действие наш план. — Да, пожалуй. Жди у телефона. Выслушав Иванцова, Дедковский предупредил: — Смотрите: если ребята не те, за кого вы их принимаете, взыщу очень строго. И то же самое — если упустите, не выяснив, что они затевают. — Положив трубку, Иванцов вздохнул. Рябиков, услышав этот вздох, осведомился: — Как напутствие-то? Не из приятных? — В общем, так. Или благодарность с тобой заработаем, или служебное несоответствие. — Лучше бы первое, — невесело пошутил Рябиков. Оба понимали, что Дедковский не пойдет на такое. Не такие уж они безнадежные люди. Ведь служебное несоответствие — это предупреждение об увольнении за неспособность к службе или грубые ошибки. Нет, не пойдет на это майор. Но и спуска не даст, если Иванцов и Рябиков что-то не предусмотрели или ошиблись. Долго раздумывать, однако, времени не было. Матюшин и Горбанюк в это время уже вышли из дому и садились в такси. Через полчаса они подъехали к Савеловскому вокзалу. Минут пять или семь стояли на тротуаре, пока не подошел белый «мерседес». Из него никто не вышел, только открылась правая задняя дверь. Матюшин и Горбанюк торопливо влезли в машину, и она, лавируя между таксомоторами и автобусами, выбралась на Бутырскую улицу и помчалась по Дмитровскому шоссе. Километрах в двадцати от города «мерседес» снизил скорость, остановился на обочине около молодого березняка. Через четверть часа развернулся и пошел обратно к Москве. Его обогнала синяя «Волга» и, заняв полосу движения, стала снижать скорость. Слева оказалась вторая машина и, прижимаясь к борту белой машины, заставила ее сойти на обочину, а затем и остановиться. Из обеих машин вышли люди. Иванцов подошел к «мерседесу». Сидевший за рулем высокий рыжеватый человек, плохо выговаривая русские слова, удивленно спросил: — В чем дело, товарищ? Мы — иностранец. — Извините, пожалуйста. Необходимо проверить документы ваших пассажиров. Матюшин и Горбанюк возмутились: — В чем дело? Мы всего-навсего попросили подвезти нас. — Куда и откуда? — А, собственно, почему вы спрашиваете об этом? Это дело наше. Владельцы белого «мерседеса» молчали, обеспокоенно переглядываясь между собой. Сидевший за рулем старался ногой незаметно задвинуть какой-то небольшой сверток под сиденье. Иванцов нахмурился: — Все поняли мою просьбу? Предъявите ваши документы. Достав паспорта, парии нерешительно протянули их Иванцову. — Ну вот, это другое дело. И паспорта, оказывается, не в институте, а при вас. Теперь покажите вещи. — Это уже полное безобразие. По какому праву? Обычные вещи, мы в поход… — Не будем терять времени. Вещи, лежавшие в рюкзаках, были действительно походные. Кеды, тренировочные костюмы, консервы и даже портативная газовая плитка. Но небольшой продолговатый сверток Матюшин явно не хотел вытаскивать из своего рюкзака. Иванцов заметил это. — А это что? — Да так. Ерунда. Рыболовные принадлежности. — Разверните. — Но я же объяснил. Рябиков взял сверток и развязал. — Товарищ капитан, посмотрите. В руках Рябикова был эфес шпаги. — Граненые фаски «Диамант». Темляк того же стального бисера… — Он уже наизусть помнил отличительные особенности разыскиваемых реликвий. — Такие ценности и так небрежно храните. Нехорошо, — упрекнул Иванцов «студентов». — Да какие это ценности? Мишура! — осклабился Горбанюк. — Ценности, и притом очень редкие. С большим интересом послушаем, как вы ухитрились стянуть их из витрин Исторического музея. — Мы? Из музея? Да вы что? Мы нашли эти побрякушки. — Нашли? Тогда вам крупно повезло. Но об этом поговорим в Москве. При осмотре машины из ее закоулков были извлечены табакерки, столовый прибор, бокалы, ложки, чашки и две миниатюры из слоновой кости… Владельцы белого «мерседеса» по приезде в Москву потребовали немедленно дать им возможность связаться с посольством. Рябиков вопросительно посмотрел на Иванцова. — Это их право. Да и нам не повредит. Пусть посольство узнает, чем занимаются некоторые их соотечественники, пользуясь нашим гостеприимством. Утром Иванцову позвонил инспектор паспортного отделения и радостно сообщил: — Вы знаете, товарищ капитан, Матюшин и Горбанюк действительно у нас не прописаны. И штамп, и моя подпись — все фальшивое! — Так чему же вы радуетесь? — А как же? Я же прав оказался. Не прописывались они у нас. — Ну а то, что по поддельной прописке живут, это вас устраивает? — Да, тут мы проморгали. — Вот именно. И я бы на вашем месте не слишком радовался. …На допросе Матюшин и Горбанюк ничего не хотели признавать. Вещи они нашли. Да, нашли. Случайно. В каких-либо сомнительных делах никогда замешаны не были. Они — бывшие студенты. С учебой, правда, не вышло, но они готовятся к тому, чтобы вернуться в институт. Вот и все. Так держались они и на втором и на третьем допросах. На чистосердечное признание преступников рассчитывать не приходилось. Иванцов и Рябиков настаивать не стали и оставили «студентов» в покое. Раз они так повели себя, значит, люди опытные, заранее продумали все пути маскировки. Следовательно, надо основательно подготовиться к последующим разговорам с ними, документально, вещественно доказать несостоятельность их доводов, бессмысленность упорства. Беседы с Белоусовой, соседями и знакомыми Матюшина и Горбанюка, материалы из Гудермеса и Нальчика, где подследственные родились и жили до приезда в Москву, прояснили многое. Немало дал обыск в их комнате. Были обнаружены чужие паспорта, военные билеты, несколько бланков разных московских учреждений. Встреча с руководителями института, куда три года назад были зачислены парни, дополнила картину. Да, многое о Матюшине и Горбанюке стало известно. Многое, но не все. Выходило так, что работали они вдвоем. Это, конечно, возможно, но маловероятно. Их «операция» в музее вряд ли могла быть проведена без чьей-либо помощи. Но кто этот помощник? Все связи Матюшина и Горбанюка, тщательно проверенные, ответа на этот вопрос не дали. Вновь и вновь Иванцов и Рябиков ломали головы над этой загадкой — изучали вещи задержанных, проверяли их знакомых. На последней странице записной книжки, изъятой у Матюшина, крупным, небрежным почерком было написано: «К. Ф. четв. 10–18, пон. 18–20». Может, эта запись и не заинтересовала бы оперативных работников, если бы Матюшин сам не навел их на это. Он явно не захотел откровенно объяснить, что она обозначала. Сказал, что это просто Катя Филиппова, его знакомая. Адреса не знает. Где работает? Тоже не знает. Не интересовался. Кажется, в каком-то ателье. Пришлось оперативной группе установить всех Екатерин Филипповых. В Москве их оказалось 57, но ни одна не знала Василия Матюшина. Может, эта Катя из Подмосковья? Однако никто из живущих под Москвой Екатерин Филипповых тоже не знал молодого человека с фамилией Матюшин. Тогда что же означала непонятная строчка? — Видимо, здесь какое-то имя и неизвестный еще нам эпизод, — рассуждал Рябиков. — Константин Филиппович… Константин Федорович. Кирилл Федорович… Кирилл Федотович… Кирилл Фомич… — Это имя толчком отозвалось в мозгу. Рябиков встал, еще не веря в реальность своей догадки и боясь спугнуть внезапно пришедшую мысль. Опять сел за стол. Сидел долго. Затем вызвал машину и поехал в музей. Помнилось ему, что в комендатуре музея висело расписание дежурств обслуживающего персонала. Но, конечно, там был уже новый график. Разыскал коменданта, потребовал книгу записей дежурств за прошлый год. Когда книга была принесена, он, едва смахнув с нее пыль, стал торопливо перелистывать страницы. И наконец, откинувшись на спинку стула, радостно воскликнул: — Вот теперь все ясно. — Что же вам ясно, товарищ лейтенант? — удивленно спросил комендант. — Все встает на свои места. Спасибо вам за книгу, я заберу ее. Верну, верну в целости. В кабинет Иванцова он вошел не спеша, хотя ему стоило больших трудов себя сдерживать. — Товарищ капитан, эврика! — Что случилось, Сережа? Рябиков молча положил перед Иванцовым книгу дежурств по музею, раскрыл ее и ткнул пальцем в третью строчку: — Видишь? «Буняков Кирилл Фомич. Дни дежурства: понедельник, четверг». Понимаешь? Вот что значит «К. Ф. пон. и четв.» в книжке Матюшина. Нет, ты должен, капитан, должен признать, что помощник у тебя талантлив до чертиков! Иванцов долго перелистывал регистрационную книгу, вчитывался в каждую ее строку. Внимательно рассматривал каракули на последней странице записной книжки Матюшина. — Не знаю, как насчет таланта и прочего, но то, что ты молодец, Серега, это факт. Значит, они все-таки были связаны. Как, в какой степени? Какова роль Бунякова в этой истории? Как мы все это узнаем? — Кирилла Фомича придется привозить в столицу. — Безусловно. Но начнем со «студентов». И не откладывая. Матюшин вошел в комнату бодрой, уверенной походкой. Небрежно бросил: — Мое вам. Давненько не виделись. — Здравствуйте, Матюшин. Поговорим? — Поговорим. — Так вы утверждаете, что шпагу фельдмаршала, миниатюры, и столовые приборы, и все вещи, что обнаружены при вашем задержании, вы нашли? — Да, нашли. Я уже рассказывал, при каких обстоятельствах. Ходили в небольшой поход. В районе Горенок и недалеко от края дороги увидели ящик. Открыли. Глядим, какая-то утварь. Не знали мы, что это государственные ценности. Думали, чье-нибудь личное барахлишко. — Иванцов спокойно слушал объяснение, но ничего не записывал. Матюшин обеспокоенно напомнил: — Я прошу все это занести в протокол. — Л все это уже записано при первых допросах, ничего нового вы не сообщили. — Рассказываю то, что было. Правду рассказываю. — Ваш рассказ от правды так же далек, как Венера от Земли. И пора вам, Матюшин, кончать сказки. В них ведь никто не верит. — Дело ваше, не верьте. Но и доказать обратное никто не может. — Наивно все это, неужели не понимаете? — Не понимаю, объясните. — Что же, объясню. Работали в музее вы, конечно, аккуратно, в перчатках. Но оплошности допускают «мастера» и покрупнее вас. Когда вы перелезали через макет крестьянской избы в зале № 28, вы не могли преодолеть гипсовый бордюр внешней стороны макета, не опершись на него. Не знаю уж почему, но в этот момент на правой руке перчатки не оказалось. И след, ваш след, там остался. — Не может этого быть! — Матюшин даже встал со стула. — Почему же? Пожалуйста, читайте заключение экспертизы. Теперь еще одно. Вы утверждаете, что пистолетов не видели и не имеете о них никакого представления. Так? — Да, именно так. — Опять наивно получается. Пистолет, который взяли вы, обнаружен в Гудермесе у вас в сарае. А Горбанюк свой пистолет спрятал тоже дома — в Нальчике, на полке за книгами. Оба эти экспоната уже у нас. — Иванцов открыл сейф и показал пистолеты. — Можете удостовериться… О причинах ухода из института вы тоже сказали неправду. Не за опоздание к началу занятий вас исключили, а за пьянство, систематическое и злостное нарушение дисциплины, неуспеваемость и прочее. Выходит, опять ложь. Лживы и ваши объяснения, касающиеся прописки в Москве: «Отдали паспорта хозяйке, и она принесла их уже прописанными». Не она вам их принесла прописанными, а вы ей. Штамп прописки сделали сами, И предлагали кое-кому из института свои услуги го этой части. Но все это, Матюшин, не главное. Хотя достаточно, чтобы вас судить. Нас прежде всего интересует кража из музея. Вот о ней и давайте говорить в первую очередь; говорить, как было, без легенд. Я думаю, вы уже убедились, что вам на них — на легенды-то — явно не везет. Врете вы с легкостью необыкновенной, но врете неубедительно. Примеры я уже привел. Могу их продолжить. Вот хотя бы с записью в вашей книжке. Ну, что вы нам плели о какой-то там Кате Филипповой? Товарищ Рябиков расшифровал и этот ваш секрет. «К. Ф.». Это Кирилл Фомич Буняков — крупный спекулянт антикварными ценностями, участник уголовного дела «Соборников». Вот что значит мудреный шифр «К. Ф.». Может, скажете, не так? — А если скажу именно это? — Ну что ж. Бунякова через несколько дней привезут в Москву, по совокупности он должен ответить и за кражу в музее. Дадим вам очную ставку. Ваша связь с ним для нас очевидна, и мы докажем ее. Так что мой совет: кончайте разыгрывать из себя простачка и давайте говорить серьезно. Вы ведь, судя по всему, старшой, заводила в этой вашей компании? Ну, так вот с вас и начинаем. Признаете ли себя виновным, что в сговоре с гражданином Буняковым и Горбанюком произвели кражу реликвий из Исторического музея и пытались сбыть их иностранцам? — У меня к вам вопрос, — поднял голову Матюшин. — Вы сформулировали так, что я вроде старший, ну, вроде глава всего этого дела? — Да, впечатление такое. И «заслуги» ваши судом будут соответственно учитываться. — Вот это я и хотел уточнить. И заявляю официально: инициатива принадлежит не мне, организовывал операцию не я. — А кто же? — Вот тот самый «К. Ф.» — известный вам Кирилл Фомич Буняков. — Что ж, допустим. Но, разумеется, все это мы проверим. Однако вы не ответили на вопрос: признаете ли себя виновным в похищении ценностей из Исторического музея и в попытке продажи их иностранцам? — Придется, видимо, признаться. — Отвечайте яснее. — Признаю. — Теперь подробно рассказывайте все обстоятельства дела. Затем вы также расскажете о подделке паспортов, о краже вещей из нескольких квартир москвичей, о краже в общежитиях Московского педагогического и Ленинградского технологического институтов, об ограблении гражданина Гулачо… Матюшин удивленно посмотрел на Иванцова: — Когда же вы успели так подробно изучить мой послужной список? — Гражданин Матюшин, отвечайте по существу.
Началось, собственно, с поступления в институт. Матюшин и Горбанюк держали вступительные экзамены в Московский университет. Не прошли по конкурсу. Подались в государственный педагогический. Результат был тот же. — Раз так, пусть стараются предки, — небрежно бросил Горбанюк, выходя из здания телеграфа, где он только что отстукал телеграмму домой. Через день из Нальчика в столицу прилетел его отец — директор института. Он куда-то ходил, кому-то звонил, с кем-то встречался. И по прошествии двух дней объявил сыну и его приятелю: — Вот адрес. Поедете завтра. Обещали устроить. Матюшин и Горбанюк были приняты в один из институтов, связанных с подготовкой преподавателей-историков, хотя они не могли не заметить снисходительно-презрительных взглядов некоторых членов приемной комиссии. Учеба у друзей шла туго. Тем более, что даже основ знаний у них из-за «льготного» пребывания в школе не было. Добывать же эти знания, наверстывать упущенное ни тот ни другой не хотели. «Хвосты» — штука коварная, они росли от зачета к зачету. Матюшин и Горбанюк держали по ним постоянное первенство. Их стыдили, увещевали, объявляли предупреждения и выговоры. Но как можно было ликвидировать эти самые «хвосты», когда и дни и вечера заполнялись до предела? Приятелей завелось много, приятельниц тоже. С одними надо поехать на дачу (родители в отъезде, и можно прекрасно провести время), с другими — прогуляться на катере по Большой Волге. Одним словом, дыхнуть некогда. Круг знакомств ширился. Потребности росли. Вкус к праздной, веселой жизни превращался в привычку, в норму поведения. Наконец, за пьяный дебош на Химкинском речном вокзале приятели попали под суд и отработали две недели на какой-то овощной базе. За сим последовало исключение из института. — Ну, куда направим свои стопы? — спросил Матюшина Горбанюк, когда они вышли из здания института на улицу. — Зайдем к Фомичу. Он давно гнездуется в этом древнем городе, что-нибудь посоветует. …Их знакомство с Кириллом Фомичом Буняковым состоялось год или полтора назад. Приятели зашли в комиссионный магазин на старом Арбате. Какой-то гражданин принес несколько небольших по размеру пейзажей старого, забытого мастера. Он разложил их на прилавке и все убеждал заведующего секцией, что это не просто картины, а шедевры. Но работник магазина был иного мнения: — Нет, нет, папаша. Ничего оригинального. Обычные средние вещицы. Такие идут слабо. Люди хотят покупать действительно ценное. Во время их спора Матюшин, стоявший около старика, взял один из пейзажей, проворно и незаметно положил в пачку газет и журналов, которую держал в руке, и кивнул Горбанюку: — Пошли. Пройдя два или три квартала, мельком показал приятелю картину. Горбанюк удивился: — Откуда это? Из магазина? Ну ты и мастак! Я и не заметил. — Но кое-кто узрел… — голос раздался рядом. Приятели вздрогнули. Около них стоял невысокий, плотно сложенный человек в дубленке и белесой шляпе пирожком. Увидя испуг на лицах парней, он проговорил тихо: — Пойдемте-ка вот в это кафе, потолкуем. А что такое? Кто вы?.. Почему мы должны идти с вами? — запротестовал Матюшин. — Пошли, пошли. Не бойтесь, — мужчина по-свойски легонько подтолкнул приятелей и первый направился через улицу. Буняков угостил новых знакомых коньяком, кофе и, вытащив из кармана несколько десятирублевых бумажек, положил их на стол. Пейзаж вместе с газетами придвинул к себе. Матюшин молча взял деньги и деловито осведомился: — А где вас найти в случае чего? — В случае какого случая? — с ухмылкой спросил Буняков. — Да вы не бойтесь. Мы надежные. — А я и не боюсь. Чего мне бояться? Вот выпили, закусили — и до свиданья. Буняков сразу понял, что за типы перед ним. Начинающие шаромыжники, это ясно. Никуда они не пойдут и ничего не скажут. А вот если у них будет что-нибудь подходящее — можно попользоваться. И Кирилл Фомич объяснил: — Если что будет, меня найдете в Историческом музее. По понедельникам — днем, по четвергам — вечером. Так состоялось эго знакомство и появилась запись в книжке Матюшина. Матюшин и Горбанюк обирали пьяных, работая «под иностранцев», знакомились с падкими на приключения девицами и обкрадывали их, не брезговали даже воровством у своих знакомых студентов в общежитиях. Раза два или три с разной мелочишкой появлялись у Бунякова. Тот, посмотрев принесенное, брезгливо отодвигал от себя: — Ерунда, барахло. Меня такое не интересует. Вот если бы ценная икона, картина или что-то в этом роде… Когда удалось стащить в одной церквушке два серебряных подсвечника, Буняков взял их с удовольствием. — Это дело стоящее. Такое приносите. Знакомство продолжалось, и приятели не без основания рассчитывали, что в случае какого-то затруднения Буняков им поможет. Действительно, когда им понадобилась комната, Буняков дал адрес Белоусовой — своей давней знакомой. Оставалось уладить с пропиской… Здесь «мудрым» советом помог приятель, с которым как-то вместе ужинали. И хотя дружок этот очень скоро после разговора отбыл на очередную отсидку, опытом его решили воспользоваться. Горбанюк имел некоторые навыки в художественном ремесле, пытался когда-то рисовать и вырезать по дереву. Он решил, что штамп прописки изготовит сам. Возился долго, но получилось неплохо. Прописка, таким образом, была оформлена. Теперь началась совсем привольная жизнь. Промысел, рестораны, веселье и опять промысел. Как-то сидели они в кафе «Националы». Молодой долгогривый парень угощал здесь свою компанию. Рефреном его пьяной, безудержной болтовни была одна мысль: «Надо уметь жить, брать ее — жизнь-то — за горло, такую-сякую. И картина-то вот с эту картонку, — показал он на ресторанное меню, — за пазухой убралась, а гулять будем долго. Вот так-то…» Из кафе Матюшин и Горбанюк вышли поздно. Горбанюк проговорил: — Везет же некоторым. — При чем тут везенье? — зло ответил Матюшин. — Просто соображать надо. Фомич нам об этом говорил не раз. Разные там реликвии — самое верное дело. После этого вечера «прогулки» Матюшина и Горбанюка по Москве стали более целеустремленными — музеи, выставочные залы, соборы… Но все тщательно охранялось, везде их встречали и провожали пристальные взгляды смотрителей, экскурсоводов, сторожей. При очередной встрече приятели посетовали Бунякову на свои неудачи, на что тот сообщил: — Есть у меня одна мысль. Не знаю только, осилите ли. Слабаки вы. Возмутились оба сразу: — Ну, это вы зря. — Ладно, ладно. Я подумаю. Наведайтесь через пару дней. И когда состоялась следующая их встреча, разговор имел уже более конкретный, практический характер. — Вы в нашем музее бывали? — Да нет. Вот только у тебя. В залах-то не приходилось. — Оно и видно. Тоже мне интеллигенция. А вещи там есть ценнейшие. И ремонт сейчас… — Выходит, дело реальное? — Вполне. И реальное и стоящее. — Когда же осуществим? — Не спешите. Есть одна закавыка. Сигнализация. Надо этот узелок развязать. Вот только как? Придется мне это взять на себя. А вы пока осваивайтесь, походите по залам, особое внимание обратите на двадцать седьмой и двадцать восьмой. Там вещи не громоздкие, а цены баснословной. Прикиньте, сориентируйтесь. Как и обещал, «узелок с сигнализацией» Буняков развязал сам. Строительные леса из металлических труб с прочными деревянными настилами стояли между двумя колоннами, верхним крепежным поясом почти касаясь одной из них. По кромке карниза аккуратной синеватой линией пролегал провод охранной сигнализации. Пол имел небольшой уклон, и под чугунные колеса лесов были подложены деревянные клинья. «Лучше и не придумаешь, — обрадовался Буняков, когда после ухода плотников осматривал оставленное ими хозяйство. — Клинышки выбьем, и все будет в норме. Верхний пояс прилег вплотную к проводу и должен, обязательно должен задеть его». Часов около шести вечера, вновь поднявшись в зал, Буняков ударом ноги выбил из-под колес деревянные клинья. Леса качнулись, с силой ударили металлическим поясом по грани колонны, проползли с полметра параллельно плоскости стены и остановились. Синий провод, рассеченный надвое, повис вдоль колонны. — О’кэй! — пробормотал довольный Буняков. Спустившись вниз, он пошел к коменданту. — Голова болит нестерпимо, разрешите уйти домой. Комендант возражать не стал. Может же заболеть человек! А Буняков, выйдя из музея, направился к Центральному телеграфу. Здесь у входа его ждали Матюшин и Горбанюк. Он не остановился, а, пройдя мимо, обронил лишь одну фразу: — Все в норме, действуйте. Поздно вечером Матюшин и Горбанюк зашли за ограждающий здание музея временный забор и по строительным лесам поднялись на второй этаж. Выдавив окно, проникли в залы. Подсвечивая карманным фонарем, используя перчатки и полотно, которым были накрыты витрины, они взламывали латунные полусферы рамок и вскрывали витрины и шкафы. Серебряную и золотую утварь — кружки, ковши, бокалы, табакерки — рассовали по карманам, за пазухи. Широкое демисезонное пальто Горбанюка оказалось особенно вместительным. В соседнем зале тем же способом взяли столовый прибор, миниатюры М. И. Кутузова и Е. И. Кутузовой, два кремневых пистолета, эфес шпаги. Через час тем же путем вышли на строительные леса и скрылись. Как было условлено ранее, утром они были на Киевском вокзале. Здесь их ждал Буняков. Спиннинги, рюкзаки за плечами — у кого могло возникнуть какое-либо подозрение? Трое любителей-рыбаков отправляются за город. В Апрелевке, в сарае на садовом участке сестры Бунякова, все похищенное было спрятано, завалено досками. Матюшин и Горбанюк взяли только по кремневому пистолету. Буняков отговаривал их, но те настояли на своем. — Ну, ладно, леший с вами, только не попадайтесь с ними. Год выдержки. Через год будут у нас деньги. И немалые. — Год? Долгонько ждать. — Нельзя иначе. Знаете, какая кутерьма поднимется? Ни в один магазин, ни в одну гостиницу не сунешься. А чтобы вы спокойно могли ждать, вот вам аванс. — И Буняков вручил Матюшину и Горбанюку по пятьсот рублей. Денег этих приятелям, однако, хватило ненадолго, и они уже подумывали о том, чтобы пойти к Бунякову и потребовать или нового аванса, или реализации спрятанных вещей. Но случай изменил их намерения. В «Иртыше» на Зацепском валу подсел к их столу один гражданин. Приятели поняли сразу, что это не москвич, и проявили максимум радушия. Когда знакомство было скреплено изрядной выпивкой, приезжий, уверовав, что ребята попались ему свойские и даже в некотором роде земляки, обратился к ним за помощью: — Позарез надо купить кое-что ценное. Шубу жене, пару мебельных гарнитуров… Была обещана и шуба и гарнитуры. А утром искатель дорогих вещей, некто гражданин Гулачо, был уже на Петровке и, ревя в три ручья, несвязно рассказывал о том, что вчера зело переложил, а проснувшись у себя в номере, не обнаружил ни документов, ни денег. А там было три тысячи. — Что делать? Что делать? Ни имен, ни фамилий, ни сколько-нибудь характерных примет своих «друзей» он назвать не мог. «В памяти провал. Понимаете? Очень уж опьянел». У Матюшина и Горбанюка оказался, таким образом, немалый куш. С реализацией ценностей из музея можно было не спешить. И они, пробыв еще несколько дней в Москве, уехали к своим родным, в Гудермес и Нальчик. Домашних они обрадовали рассказами об успешной учебе, обещали скоро привезти дипломы об окончании института. Весело погуляв в родных местах недели две и пополнив бумажники за счет родительских щедрот, приятели подались в Крым, потом перебрались в Тбилиси, оттуда в Ереван. Гуляли, пока не иссякли деньги. Вновь пополнили их испытанным уже способом. Но заметили как-то, что уж очень пристально приглядываются к ним двое молодых людей в штатском. «От греха подальше», — решили приятели и быстренько подались в Москву. Сразу же по приезде наведались в Исторический музей. Надо же увидеть старого приятеля. Шли туда не без дрожи, но никто на них не обратил внимания. Удар обрушился чуть позже, когда они спросили, почему нет сегодня на дежурстве Кирилла Фомича. Дежурный по музею присвистнул: — Бунякова? Он давно у нас не дежурит. Несет вахту в других местах. Пять лет получил. — За что же это его? — удивленно спросил Горбанюк. — Какие-то старые дела вскрылись, — ответил дежурный и, в свою очередь, спросил: — А вы кто ему будете? — Да так, знакомые, — быстро нашелся Матюшин, и оба поспешили к выходу. Прямо из музея друзья отправились на вокзал и первым же поездом — в Апрелевку. На участке никого не было. Они открыли сарай, торопливо вскрыли тайник. Все вещи лежали на месте. Ночью они перевезли все ценности к себе в комнату. Теперь надо было реализовать украденное. Толкнулись в магазины. В один, другой, третий… Но там смотрели на них настороженно, недоверчиво: откуда ценности? Какая есть документация? Очень скоро им стало ясно, что кража в музее не забыта. Находились и коллекционеры. Но как только знакомились с одной-двумя вещами, отказывались от сделки наотрез. Для профессионального взгляда было ясно, что вещи эти «студентам» не принадлежат. А раз так, то дело, следовательно, ненадежное, опасное. — Самое лучшее — это найти бы какого-нибудь толстосума-иностранца и сбыть ему сразу все, — твердил Горбанюк. Матюшин не возражал: — Согласен. Только как это сделать? Наконец после долгих поисков такой покупатель нашелся. Договорились и о сумме. Но что-то, видимо, заподозрил иностранец, потому что в назначенное время к месту встречи не пришел. На следующий день Матюшин разыскал его в гостинице, но тот не пустил его даже в номер, повторяя только одно: — Найн, найн. И все же решено было твердо: найти покупателя из приезжих гостей. Легкость, с какой тот иностранец согласился уплатить солидную сумму за показанные вещи, не давала покоя, питала надеждой на успех дела. И вот приятелям удалось-таки зацепить двух заморских любителей русской старины. В «Нарве» договорились о встрече у Савеловского вокзала. По дороге, во время поездки, показали реликвии и сторговались. Не сумели договориться только о шпаге. Матюшин и Горбанюк хотели за нее отдельную и немалую цену, а покупатели на это не шли. Но и та и другая договаривающиеся стороны чувствовали, что, пока доедут до Москвы, сторгуются. Однако операция эта проводилась, когда оба «владельца» музейных экспонатов были уже в поле зрения Иванцова и Рябикова. И белый «мерседес» в тот день возвратился с Дмитровского шоссе в сопровождении двух оперативных машин уголовного розыска. Через месяц в МУР позвонили из музея. — Приезжайте на открытие экспозиции. Реставраторам пришлось потрудиться, но все сделано, кажется, хорошо. Дедковский вызвал Иванцова и Рябикова: — Съездите. Раз приглашают, неудобно отказываться. Иванцов и Рябиков, в свою очередь, атаковали Дедковского. — Поедемте, товарищ майор, вместе. Займет это полчаса-час, а взглянуть интересно. Дедковский махнул рукой: — Ладно. Поедем. Директор музея сам вызвался проводить гостей по залам. Он подробно, с нежной влюбленностью показывал каждый экспонат, каждую витрину. — Вот это берестяные древнерусские грамоты XII–XV веков, обнаруженные при раскопках в Новгороде. Это свинцовая печать Александра Невского; это первая печатная русская книга «Апостол», вышедшая в типографии Ивана Федорова, а это глобус, по которому получал первые уроки географии Петр I. Дедковский, улыбнувшись, заметил: — Да вы не беспокойтесь, ребята теперь ваш музей знают прекрасно, я тоже бывал здесь… Покажите-ка лучше, как выглядит восстановленная экспозиция. — Да, да. Обязательно. Вот эти залы. В стеклянных витринах мерцали бриллиантовые грани шпаги фельдмаршала, выстроились предметы столового набора — свидетели былых походов великого полководца; мирно покоились в своих мягких гнездах пистолеты генерала Платова… В зал вошла большая группа экскурсантов. Молодая девушка-экскурсовод начала рассказ: — Мы находимся в зале героев Отечественной войны 1812 года. Перед нами вещи, принадлежавшие Михаилу Илларионовичу Кутузову и генералу Платову. Замечу, что экспозиция этих залов открывается только сегодня после восстановления и реставрации. Все эти вещи были похищены из музея и лишь недавно вернулись к нам благодаря самоотверженной работе товарищей, которые занимались их розыском… Иванцов тронул Дедковского за рукав: — Пошли, товарищ майор, дальше. Дедковский посмотрел на смущенные и взволнованные лица Иванцова и Рябикова, обнял обоих за плечи: — Ну что ж, ребята, взыскания вам не будет, а благодарность, как видите, уже объявлена. Так что поздравляю! Однако в машине, когда подъезжали к Петровке, Дедковский несколько омрачил общее радостное настроение. — Дело «антикваров» вы закончили, преступников нашли. И благодарность, конечно, заслуженная. Но несколько ошибок по делу вы, вернее мы с вами, допустили. И серьезных ошибок… — Какие же это ошибки, товарищ майор? — запальчиво спросил Рябиков. Дедковский улыбнулся: — Спорить ведь будете? Верно? Верно, — ответил он сам себе. — А спорить сейчас некогда. Вот соберемся в конце месяца на оперативно-методическое совещание, тогда и поспорим. А за это время подумайте. Очень советую. Были ошибки, были. Победителей, как известно, не судят, но от критики и они не застрахованы. — И, посмотрев на часы, приказал: — Капитан Иванцов и лейтенант Рябиков, вам предстоит командировка в Алма-Ату. Есть данные, что туда отбыл один интересующий нас объект. Через час, в четырнадцать ноль-ноль, прошу быть у меня. И подготовьтесь к отлету — самолет в шестнадцать часов.

Конец «Золотой фирмы»
В ресторане «Арагви» был в тот день выходной. Но администрация не могла отказать своим постоянным посетителям и гостеприимно открыла двери. Свадьба была организована с купеческим размахом, устроители ее явно не поскупились на затраты. Столы ломились от дорогих вин исамых изысканных яств, целый взвод официантов шустро бегал из кухни в зал и обратно. Но самым впечатляющим был состав гостей. Всего несколько человек более или менее молодых, включая жениха и невесту, остальные — пожилые и совсем почтенного возраста. Почти все во фраках, в сверкающих белизной манишках, которые подчеркивали то худобу, то рыхлую полноту лиц, их пергаментный или лилово-склеротический цвет. Дамы были под стать супругам как по возрасту, так и по комплекции. Но туалеты на них были озорновато-смелые, соответствующие последнему крику моды: короткие юбочки, широкие декольте, голые руки, броские украшения. Однако всех перещеголяла невеста. Несмотря на теплую июльскую погоду, она была одета в парчовое платье, норковая накидка накинута на плечи. На шее несколько ниток крупного жемчуга, в ушах серьги с крупными сапфирами, все пальцы в кольцах и перстнях с бриллиантами. Застолье было шумным. Один за другим следовали тосты, витиеватые, многозначительные пожелания и молодым и гостям. В середине торжества из-за центрального стола встал среднего роста моложавый мужчина в сером, переливающемся какими-то серебристо-фиолетовыми тонами костюме, в шелковой с кружевами рубашке, с бабочкой. Участники трапезы притихли. Лишь один кто-то из несведущих спросил соседа: — Кто это? Тот зашипел: — Вы что? Не знаете? Это же Ян. Ян Косой. Обладатель серого с переливами костюма обвел всех прищуренным взглядом, ухмыльнулся скупо, одними уголками губ, и проговорил: — За молодых, их счастье мы уже пили и еще выпьем. Но я хочу предложить тост за дальнейший расцвет нашей чудесной фирмы, чтобы все было и дальше о’кэй. За предстоящие наши дела… Не очень-то понятная мысль для постороннего слуха. Но присутствующими эти слова были встречены с шумным ликованием. Ведь за ними, этими словами, крылось значительно больше, чем мог услышать любой непосвященный. Дежурные по городскому штабу народных дружин, проходившие мимо ресторана, осведомились у администратора: — Что так шумно сегодня? — Свадьба. Вышедшие в это время из зала в вестибюль двое мужчин включились в разговор. Один из них — чернявый, веселый, улыбчивый — проговорил с южным акцентом: — Гуляем, молодые люди, гуляем. Ольга Жебалаева и Давуд Казбеков сочетаются законным браком. Вы поняли? Законным браком. А впрочем, значение этого события не всем дано знать. Не всем! Да, факт этот ничего пока не говорил активистам городского штаба народных дружин. Откуда можно было знать, что шумное общество, собравшееся здесь, в «Арагви», — эти безобидные старички в белых манишках и декольтированные, не первой молодости дамы доставят немало хлопот и им, народным дружинникам, и оперативным работникам с Петровки, 38, и следственной группе подполковника Петренко. Дела, за дальнейший расцвет которых поднимал бокал некто Ян Косой, начались за несколько лет до этой помпезной свадьбы. …Москва всегда гостеприимна. Тысячи гостей — различные делегации, представители торговых фирм, многочисленные группы туристов, как обычно, заполняют центральные улицы столицы, повсюду слышен их многоязычный говор. Москвичи отвечают на вопросы гостей, объясняют, как добраться до Третьяковки, Государственного цирка на Вернадском проспекте, до Сокольников или до стадиона в Лужниках. И было странно видеть, как какие-то юнцы с длинными патлами, лишь входившими тогда в моду, воровато оглядываясь, суетились около иностранных гостей, таинственно шептали им что-то, жестикулируя, отзывали в сторонку, в укромные уголки гостиничных холлов, в подъезды домов. Это были так называемые фарцовщики — мелкие спекулянты, делавшие свой бизнес на купле-продаже заморских побрякушек и тряпья. Их было немного — два-три десятка, но они портили настроение москвичам, унижали достоинство наших юношей и девушек, и потому комсомольцы столицы решили пресечь эту торгашескую суету. Пригласили наиболее назойливых, потребовали прекратить виражи вокруг гостей. Но при этом выяснилось, что некоторые пронырливые юнцы, кроме галстуков, носков и чулок, скупали у иностранцев и валюту. Это насторожило дружинников. — Зачем она вам? Одни пускались в длинные рассуждения о многогранности интересов, об увлечении нумизматикой например, другие вообще ничего не могли придумать в объяснение. Но, как оказалось, дело было не в нумизматике. Валюту-то они не только скупали, но и продавали. Некто Владик платил им за доллары и фунты советским рублем, и платил довольно щедро. Работники с Петровки, внимательно выслушав комсомольцев, подтвердили: — О Владике мы тоже слышали. Еще есть Косой и Сильва. Только кто они? Где обитают? Давайте общими силами решать эту загадку. …Шофер такси Степан Шорников только что высадил пассажира у ВДНХ. И тут же в машину торопливо сел молодой иностранец. С трудом выговаривая русские слова, попросил отвезти его к Покровским воротам. Когда приехали на место, у пассажира оказался всего один рубль. Шорников требовал, что полагалось по счетчику: шесть рублей семьдесят копеек. — Платить надо, понимаешь? Платить. Нехорошо получается. У вас же бесплатно на такси тоже не возят. Пассажир полез куда-то во внутренний карман пиджака, долго рылся там и бросил на переднее сиденье… золотую монету. На Шорникова это, однако, не произвело никакого впечатления. — Вы мне уплатите нормальными советскими деньгами. Машина стояла уже довольно долго, и проходивший мимо участковый уполномоченный Пашкин обратил на это внимание. — В чем дело, граждане? — Да вот, понимаете, ездить ездил, а платить не хочет. Какой-то не нашей монетой рассчитывается. А зачем она мне? Мне же надо выручку сдавать. Пашкин тоже стал убеждать иностранного гостя, что платить за проезд надо как полагается. Пассажир, однако, посмотрев на часы, вдруг бросился бежать. Его, естественно, задержали. В отделении милиции подданный одной из соседних стран гражданин Хаким Ашоглу заявил, что задержали его незаконно, со всей восточной эмоциональностью требовал, чтобы его немедленно отпустили, иначе у него сорвется важная встреча. — У меня дело. А Владик человек занятой, ждать не будет. — Задерживать вас не собираемся, но все же расскажите, что за встреча? Кто такой Владик? Ашоглу рассказал о предстоящем свидании. Как оказалось, он должен продать Владику десять золотых английских фунтов стерлингов. Работники отделения вместе с Ашоглу поехали на место назначенной встречи. Но Владик, по-видимому, действительно был человеком занятым, гостя не дождался. Ашоглу мало что мог рассказать о нем. Возраст? Лет двадцать семь или поменьше. Рост? Средний. Шатен. Одевается? Ярко, модно. Но деловой человек, очень деловой. Хакима Ашоглу отпустили и доставили в гостиницу «Колос». Но строго предупредили, что куплей-продажей золотых монет в нашей стране заниматься не положено. А через день в холле гостиницы «Москва» дружинники задержали двух студентов из Казани. Они предлагали пожилому командированному из Винницы шведские кроны. — Та на кой бис мне нужны эти чужие монеты? — удивился тот. Студенты, как оказалось, ждали опять-таки Владика, это по его поручению они добыли кроны. Но на встречу он почему-то не явился. Незадачливым же коммерсантам позарез нужно было продать эти самые кроны, ибо не на что было добираться до Казани. Потому-то они и атаковали добродушного представителя из Винницы. В последующие дни еще трое фарцовщиков искали встречи с Владиком. У Центрального телеграфа комсомольцы задержали развязного молодого парня. Был он во хмелю и упорно не желал идти в штаб дружины. Мотивировал свое сопротивление одним и тем же: — Вот дождусь Владика, надаю ему по морде, тогда пожалуйста… — Да что тебе дался этот Владик? Пойдем, добром тебя просим. Не маячь ты здесь, не позорь город. — Как это «что дался»? Он у меня купил десять «лошадок» всего за полторы тысячи. А стоят они вдвое, понимаете, вдвое дороже. — А что это за «лошадки»? Но парень вдруг замолчал. Смиренно пошел в штаб и к разговору о «лошадках» никак не хотел больше возвращаться. Предупреждение, сделанное в штабе дружины, как оказалось, образумило далеко не всех «бизнесменов». В гостиницах и на улицах продолжали шнырять длинноволосые юнцы, предлагавшие свои «деловые» услуги гостям. Становилось ясно, что действует какая-то группа опытных, искусно замаскировавшихся спекулянтов-валютчиков, использующая этих «бегунков», рыскающих за иностранцами на улицах, как своих поставщиков.Как-то августовским днем в сквере на площади Пушкина сидело несколько молодых людей. Кто с книжкой, кто с газетой. Около семи часов вечера здесь появился парень в модном нейлоновом костюме, в кепке-пуговке, со свернутым в трубку журналом в руке. Он прошел мимо восседавших на скамейке юнцов. Кивнул одному из них. Они прошли мимо кинотеатра «Россия», пошли дальше по бульвару. На ходу состоялся короткий разговор. Разошлись. Затем обладатель кепки-пуговки вернулся на Пушкинскую площадь, прошелся по скверу, кивнул другому сидевшему на скамейке парню, и они повторили тот же маршрут. Так же было с третьим, с четвертым…. Все они были задержаны. — Итак, Горбышенко Владислав Петрович? — Да. Горбышенко. — Чем занимаетесь? Где работаете, живете? — В данное время готовлюсь в институт. — О чем вели беседы с молодыми людьми? — Разве это кого-нибудь касается? — Да. Касается. — Консультировался. Сказал же, что готовлюсь к экзаменам. — А почему с каждым поодиночке консультировались? — Так ведь предметы-то разные. — Допустим. Но молодой человек, который последним был с вами на прогулке, даже не окончил среднюю школу. Чем же он мог быть вам полезен? Кстати, как его фамилия? — Фамилия? Рычагов, кажется. Серега Рычагов. Собаку съел на истории. — Что ж, возможно, но фамилия его, между прочим, Старцев. Ну а если начистоту, Горбышенко? О чем речь-то шла? — Я и говорю начистоту, то, что есть. — Нет, далеко не то. — Я еще раз объясняю: консультировался по программе приемных экзаменов. И прошу побыстрее заканчивать разговор. Я спешу. — К сожалению, Владислав Петрович, придется вам некоторое время побыть у нас. — Это почему же? На каком основании? Выходит, даже с приятелем пройтись нельзя? Это же возмутительно! Я готов прийти по первому вызову. Но сейчас, сегодня остаться никак не могу. У меня неотложные дела. Да и дома будет паника, если не вернусь. Старший лейтенант милиции, беседовавший с ним, терпеливо объяснял: — Да вы не волнуйтесь. Выясним некоторые обстоятельства, и пойдете домой. — А что, собственно, выяснять? Я что, преступник? — Да нет, мы этого не утверждаем. Вскоре Горбышенко вызвали к начальнику отдела майору Шокину. Взглянув на него, майор воскликнул: — Э-э! Да мы уже встречались! Горбышенко поднял насупленный взгляд: — Что-то не помню. — Забыли, значит. Бывает. Беседовали с вами, Владислав Петрович, годика три назад, когда передавали на вас дело в суд по поводу спекуляции, припоминаете. — Да, да. Что-то такое мельтешит в памяти. Душеспасительная беседа была. — Душеспасительная, верно. А не помогла. — Почему же? Все в порядке. Срок отбыл аккуратно, тружусь честно. Почему меня держите здесь, не понимаю. Беззакония все же, как оказывается, имеют место. Шокин нахмурился: — Подождите, Горбышенко. Зачем бросаться такими словами? Лучше поговорим по существу. Понимаете, как установлено, ваши вчерашние встречи с молодыми людьми не случайны. И вовсе не о консультациях по разным наукам шла речь. Вы ведь рассчитываете на молчание своих клиентов, а они пока вашу школу не прошли. Полностью испортиться не успели. И вот что показывает, например, Старцев: «Мы условились с Владиком о повторной встрече на Самотечной площади у Доски почета. Он согласился купить имеющиеся у меня тридцать долларов». — Ерунда это, выдумка. — А вот что говорит Валерий Ничепорук: «Я приехал на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться с Владиком. Цель встречи — продажа имевшихся у меня сорока пяти долларов». Тоже не убеждает? — Нет. — Такая же тема бесед была у вас и с другими «консультантами». — Я это категорически отрицаю. — Ну что ж, будем разбираться. Поедемте сейчас к вам на квартиру, будем производить обыск. Горбышенко впал в истерику, заявил, что это убьет его родителей, опозорит перед соседями. Затем стал угрожать работникам милиции всеми карами за нарушение законности. — Вы успокойтесь, Горбышенко, — уговаривал его Шокин. — Если вы ни в чем не виноваты, то чего же вам бояться обыска? Оказалось, что от родителей Горбышенко вообще жил отдельно, снимал комнату на Большой Сухаревской. И обыск его пугал совсем по другим причинам. Когда из гардероба в его комнате вытащили сдвоенную деревянную полку, в ней оказались американские доллары, английские фунты, французские, швейцарские и бельгийские франки, шведские кроны. Здесь же был целлофановый пакет, в котором аккуратно завернутые лежали пятьдесят золотых английских фунтов. На пакете стояли две буквы «Я. Р.», небрежно написанные химическим карандашом. — Что же вы, Горбышенко, возмущались? Оказывается… — А что «оказывается»? Я к этим вещам никакого отношения не имею. Шкаф-то не мой, хозяйкин. Даже не предполагал, что такие ценности там спрятаны. — Ну, ну, Владислав Петрович, всякому вранью должна быть мера. Защищайтесь, но не так наивно… Долгие годы после нэпа преступления, связанные с нарушением валютных операций, спекуляцией валютными ценностями, были у нас редкостью. Однако расширение всевозможных контактов и международных связей вновь вызвало к жизни и этот вид преступлений. И, как показывали факты, объем и размах деятельности «валютных дельцов», особенно накануне денежной реформы 1961 года, становились все значительнее. Причем за валютными делами нередко крылись другие, еще более существенные преступления. Поэтому было вполне закономерно, что наиболее крупными из валютных дел стали интересоваться органы государственной безопасности. Заинтересовались, в частности, и делом Владика — Косого — Сильвы.
…Старший следователь следственного отдела Комитета государственной безопасности подполковник Александр Митрофанович Петренко читал допросы Горбышенко, пересланные с Петровки, в третий или четвертый раз перечитывал материалы, имевшиеся у него раньше, и неотступно думал о том, есть ли какая-либо взаимосвязь между Горбышенко, Косым и Сильвой. Пока эту связь можно лишь предполагать. Горбышенко отрицает, что обнаруженные при обыске валюта и золото принадлежат ему. Эта уловка, конечно, долго не продержится. Валютой он торгует, это ясно. Но кому, куда он ее сбывает? Откуда берет средства на закупку? Вероятно, есть у него и источники для этих расходов, и крупные потребители. Как нащупать сообщников? Кто они? …Закончив предварительный опрос, Петренко объявил: — Гражданин Горбышенко, вы обвиняетесь в нарушениях правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, то есть в преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 25 закона о государственных преступлениях. Суть обвинения понятна? Признаете себя виновным? — Суть обвинения понятна, но виновным себя не признаю. Никакой спекуляцией я не занимался. — А как вы объясняете наличие валюты и золота у вас в квартире? — На этот вопрос я уже тоже отвечал в милиции. Спросите об этом у хозяйки квартиры, а не у меня. — Но ведь когда вы въезжали в комнату, шкаф был совершенно пустой? И комнату вы всегда запирали. Так? — Так. — И замок для двери вы и покупали и ставили сами? — Ну и что? Подобрать ключи к замку дело нехитрое. — Значит, вы утверждаете, что валюта принадлежит хозяйке? — Вероятно. Категорически я это утверждать не могу. Знаю только, что лично я никакого отношения к этому не имею. — Имеете, Горбышенко, имеете. Дело в том, что на конвертах с валютой есть отпечатки пальцев, и, как установила дактилоскопическая экспертиза, часть из них — ваши. Сообщение следователя подействовало на Горбышенко удручающе. Он попросил перерыва в допросе. Наутро сказался больным, потребовал врача. Болезни, однако, никакой не обнаружилось. Под разными предлогами несколько дней уклонялся от решительного разговора. Противопоставить фактам ему было нечего. Это понимали Петренко и его сотрудник Фомин, понимал и сам Горбышенко. Наконец он признался, что, да, покупал валюту, но… для себя. Только для себя. — Валюту у Казаченко, Гершевича и Ямщика покупали? — Покупал. — Казаченко и Ямщик показали, что они продали вам турецкие лиры. В общей сложности сто пятьдесят штук. При обыске они не обнаружены. Где эти лиры? — Ну, я не знаю. Наверное, там же, где была и остальная валюта. — Но вы присутствовали при обыске. И знаете, что турецких лир в шкафу не было. Где они? — А разве не мог я поделиться своим добром с приятелем? — Могли. Скажите, с кем поделились, мы проверим, кого вы так щедро облагодетельствовали? — Я не помню. — Несерьезно это, Горбышенко. Скажите, что обозначают буквы «Я. Р.» на целлофановом пакете с золотыми монетами, изъятом при обыске. Инициалы? Кому принадлежат? — Не знаю. Пакет этот остался у меня после какой-то покупки.
В камеру хранения Ленинградского вокзала вошли два гражданина. Один из них — моложавый, в ворсистом, цвета маренго пальто и тирольской шляпе — предъявил в окно выдачи квитанцию и, нетерпеливо поглядывая на часы, ждал, пока кладовщик среди сотен узлов, чемоданов, баулов, рюкзаков найдет его кладь. Его спутник — полный, пожилой — стоял поодаль и оглядывал сидевших на скамейках, входящих и выходящих из комнаты посетителей. Наконец стоявший у окна получил два чемодана. Большой, коричневый, с «молнией», подхватил сам, другой, поменьше и попроще, передал спутнику. Тот вполголоса предложил: — Проверить бы надо. — Не здесь же. В машине посмотрим. Перебросившись еще двумя-тремя фразами, мужчины вышли из здания вокзала и направились к стоянке такси. Дружинники Савченко и Матвиенко обходили в это время привокзальную площадь. Савченко, окинув взглядом человека в ворсистом пальто, придержал шаг, остановил за руку товарища: — Слушай, вот тот, с коричневым чемоданом… Лицо знакомое вроде. Напоминает кого-то… Может, остановим? — А основания? Что мы скажем? Но Савченко уже направлялся к такси. Матвиенко последовал за ним. Савченко, подойдя, еще внимательнее посмотрел на мужчин. Теперь он почти не сомневался, что моложавый именно тот гражданин, словесный портрет которого объясняли недавно на оперативном совещании командиров дружин. Тонкий нос, рыжие густые брови, узкое сухощавое лицо, голубовато-белесые глаза. «Он, честное слово, он», — еще раз уверил себя Савченко. — Извините, пожалуйста, просим предъявить документы. Мужчины тем временем уже садились в машину. — Позвольте, на каком основании? Кто вы такие? А пожилой бросил шоферу: — Трогай, трогай, браток, — и попытался закрыть дверь. Но Савченко не дал этого сделать. — Мы — дружинники. Просим вас пройти в отделение милиции. Это здесь рядом, в здании вокзала. Мужчины переглянулись. Входить в конфликт с дружинниками, видимо, не входило в их расчеты. Идти в отделение — тем более. Тот, что помоложе, вдруг воркующе заговорил: — Ребята, мы очень спешим. Если нарушили правила — извините. Оштрафуйте пас, и дело с концом. — И он полез в карман за бумажником. — Штрафовать вас не собираемся. А в отделение просим пройти. Вещички тоже прихватите. Начальник отделения милиции капитан Ибрагимов был человек пунктуальный. Он позвал всю вошедшую компанию в свой кабинет, предложил сесть. Потом не спеша достал бумагу, ручку, аккуратно устроил все это на столе и тогда только спросил: — Итак, кто мы, откуда и куда держим путь? Моложавый отвечал, едва сдерживая раздражение: — А собственно, кому какое до этого дело? Почему мы должны вам что-то объяснять? Взяли свои вещи из камеры хранения и едем домой. А вот вы нам объясните, почему эти молодые люди творят безобразия? Задерживать людей без всяких на то оснований… Это знаете как называется? Капитан Ибрагимов согласно кивнул головой: — Без оснований, конечно, задерживать никого нельзя. Такого права никому не дано. Что же касается этих товарищей, они — дружинники. По поручению народа помогают нам порядок охранять. И помогают очень неплохо. Вот не далее, как вчера, одного молодца задержали. Тоже два чемодана получил. Оказалось — чужие. Квитанции выкрал. Нет, нет! Про вас я ничего подобного даже в мыслях не держу. Вот выясним кое-что, и уедете. Значит, Роготов Ян Тимофеевич? — Да. Роготов. — А вас как звать-величать? — Благун Густин Яковлевич. — Так и запишем. Значит, взяли свои вещи, находившиеся в камере хранения? Так? — Да. — Но почему вам, москвичам, вдруг понадобилось хранить их у нас на вокзале? И Роготов и Благун опять начали выходить из себя: — Да какое это имеет значение? Всякие причины могут быть. — Это, конечно, так. Но все-таки странно, необычно как-то. В это время в комнату вошли еще двое людей. Они поздоровались с Ибрагимовым и с дружинниками, пристально посмотрели на Роготова и Благуна и сразу включились в беседу. Роготов еще более взвинтился: — Позвольте, вы-то, граждане, почему вмешиваетесь? — Спокойно, гражданин Роготов, — остановил его начальник отделения. — Эти товарищи из Комитета государственной безопасности. Роготов побледнел, мгновенным тревожным взглядом обменялся с Благуном и, вдруг широко улыбнувшись, проговорил: — Товарищи, может, кто-нибудь объяснит, в чем все-таки дело? — Я же сказал вам: разберемся, — все так же невозмутимо продолжал Ибрагимов. — Так, значит, чемоданчики ваши? — Наши. Точнее — мои. А товарища Благуна я попросил помочь. — И что же в них, в этих чемоданах? — Ну, обычное: предметы туалета. И кое-какие подарки знакомым. Неделю назад я в Ленинград должен был ехать. А когда уже был на вокзале, начальство выезд отсрочило, ну и, чтобы не тащить вещи обратно домой, оставил их в камере хранения. Сегодня, однако, решил забрать по той простой причине, что командировка откладывается надолго. — Что ж, открывайте ваши чемоданы, посмотрим. — Но, позвольте, почему? С какой стати? — гневно, перебивая друг друга, закричали Роготов и Благун. Ибрагимов встал из-за стола. — Тихо, тихо, граждане. Мы должны, обязаны это сделать. Убедимся, что вещи ваши, и все будет в порядке. Роготов выбросил на стол ключи и нервно закурил. В чемодане, что был попроще, действительно, оказались сплошь предметы туалета. Правда, многовато их было, этих предметов: нейлоновые рубашки, свитеры, дамские джерсовые костюмы, кофточки, обувь. — Здесь то же самое, — приложив руки к груди и показывая на второй чемодан, уверял Роготов. Сверху в нем действительно были уложены мужские и женские вещи, но под ними лежало нечто иное. В ничем не примечательной картонной коробке, в плотной вощеной бумаге оказались золотые монеты царской чеканки, золотые турецкие лиры, золотые фунты стерлингов. На самом дне коробки вроссыпь лежало несколько десятков кусков золотого лома. В другой коробке лежали аккуратно уложенные американские доллары. Затем из чемодана извлекли два небольших узла. В них опять были золото, турецкие лиры, английские фунты стерлингов, десятки царской чеканки… Наутро Роготов был на первом допросе у Петренко и Фомина. — Что вы можете сказать по поводу валюты и ценностей, обнаруженных среди ваших вещей? — К валюте и ценностям, обнаруженным в моем чемодане, отношения не имею. Как они туда попали — не имею понятия. Считаю, что это недоразумение или провокация. Прошу органы государственной безопасности разобраться в этой истории и защитить мое имя — имя честного советского человека. — Да, конечно, разобраться придется. Но чудес, как известно, не бывает, Роготов, и по мановению волшебной палочки такие ценности в ваш чемодан перекочевать не могли. Не так ли? И потом, прием этот — я не я и лошадь не моя — известен давно. А вы, как человек грамотный, должны знать — простое отрицание вины ничего не доказывает и никого ни в чем не убеждает. — Я настаиваю на своем заявлении. Прошу в точности занести его в протокол. — Вы будете подписывать его и убедитесь, что это будет сделано. Когда за Роготовым закрылась дверь кабинета, майор Фомин спросил удивленно: — Что это, неужели и правда не его ценности? Что-то уж очень легко он от них открещивается. — Видите ли, майор, он, конечно, поди, зубами скрежещет, что пришлось заявить такое. Но свобода-то дороже! И готов на все, лишь бы концы в воду. Как волк. Тот ведь тоже добычу бросает, если охотник на след вышел. Нам с вами предстоит доказать, что гражданин Роготов, попросту говоря, врет. И доказать будет непросто, деляга он, по-моему, масштабный. «Допрос Благуна тоже ничего существенного не дал: «С Роготовым знакомы давно. Вчера он попросил съездить с ним на вокзал, чтобы взять вещи. Вот и все. Я, конечно, не имел представления, что там в чемоданах. Мог ли Роготов обладать этими ценностями? Не думаю. Это какая-то случайность». Обыск в квартире Роготова был долгим и тщательным, но почти безрезультатным. — Невероятно, но факт, никаких следов, — подвел итог Фомин. — Предвидел возможность ареста, вот и постарался. Значит, где-то есть у него другая «берлога», есть… Среди различных мелочей в письменном столе Роготова была обнаружена толстая, в кожаном переплете записная книжка. Почти на каждой странице были какие-то непонятные пометки. На букве «В», например, «В. Н. 50 л.», строчкой ниже: «В. М. 100 и. л.». Когда Роготова спросили, что обозначают эти записи, он смутился и после паузы объяснил: — Извините, объяснения по этому поводу дать не могу. Это интимное. К теме наших бесед пометки отношения не имеют. — И все же объяснить придется. Расшифруйте вот хотя бы эту запись: «Д. М. 20 л.+З0 р.». Это что? — «Д. М.» Минуточку. Ах, это… вспомнил. Одна знакомая. Буквы означают имя и фамилию. Далее возраст — 20 лет. Ну, а остальное, думаю, ясно. Вот и весь, так сказать, секрет. — Грязноватый секрет-то. Если, конечно, в том его суть, — неприязненно произнес Фомин. — В чем виноват, в том виноват. Женская половина рода человеческого — моя слабость. На следующем допросе опять вернулись к записям Роготова: — В вашей книжице на странице на букву «В» есть запись: «В. (Г) 50 л. — 500». Объясните ее. — Ну что же, — несколько замявшись, отвечал Роготов. — То же самое. Есть у меня одна знакомая… — И ей пятьдесят? — А что? Бывает. Бальзаковский возраст, знаете. — А цифра пятьсот что означает? Роготов опустил глаза: — Я думаю, можно догадаться… — А мы, кажется, и догадались. Шифрованная запись. И обозначает она ваши взаиморасчеты с Горбышенко. — Никакого Горбышенко я не знаю. Повторяю еще раз: записи эти всего лишь перечень моих приятельниц. — Но как же тогда понимать вот это? «Ш. 125 л.+ + 1500». Старовата приятельница-то? Не находите? Роготов долго рассматривал страницу и со вздохом проговорил: — Ну, здесь — просто ошибка. Речь идет опять-таки об одной знакомой. HI — это Шура. Двадцать пять — возраст. Единица — просто моя ошибка. — А тысяча пятьсот — оплата услуг? — Да, именно. — Все продолжаете изворачиваться, Роготов, ведете себя будто мелкий жулик. А ведь мы вас знаем или почти знаем. — Что вы имеете в виду? — Да хотя бы эти объяснения записей. Глупо же. А версия, что вы выдвинули по поводу золота и валюты в чемодане? Вы рассчитываете на простачков, Ян Роготов. Неужели вы не понимаете, что все это шито белыми нитками? — Это какое-то совпадение трагических случайностей. Я честный советский человек, скромный служащий… — Эта сторона вопроса, тоже известна. Документ о вашей работе юрисконсультом поддельный. Не работаете вы, Роготов. А ценностей в ваших чемоданах между тем обнаружено более чем на два миллиона. Откуда они?
Участковый уполномоченный лейтенант милиции Пашкин утром докладывал по начальству итоги суток. Серьезных происшествий не было, и лейтенанту разрешили уйти. Однако он не спешил и, когда оперативное совещание закончилось, вновь зашел к начальнику отделения. — Вы что, Пашкин? — Понимаете, товарищ начальник, повадились в один дом на улице Чернышевского разные иностранцы. Так-то вроде бы и ничего особенного. В Москве много разного народа обитает. Но, понимаете, ходят все молодые люди, то в одиночку, то по двое-трое. И все ближе к ночи, когда безлюдно. Заходят всегда в один и тот же подъезд. Долго, между прочим, не задерживаются. Полчаса пробудут и обратно. Один из этих гостей как будто знаком мне, хотя твердой уверенности нет. И, однако, беспокоит меня все это. — Может, женщины замешаны? — высказал предположение начальник отделения. — Была у меня такая мысль. Проверил. Не получается. То пары супружеские проживают, то в возрасте дамочки. Нет подходящего контингента. — Что предлагаешь? — Проверить: кто, к кому и зачем ходит. — Что ж, поинтересуйся, но аккуратно. Гостей обижать негоже. — Все будет аккуратно, товарищ начальник. …Бориса Яковлевича Шницерова на улицу Чернышевского в этот день привели случайно сложившиеся обстоятельства. Вот уже целый месяц к нему не наведывался Ян Косой. А он был нужен ему, очень нужен. Клиентура Бориса Яковлевича — солидная и серьезная — ждала обещанных золотых монет. Косой, всегда аккуратно доставлявший их к нему в Люберцы, запропастился куда-то. Может, Борис Яковлевич и не стал бы очень волноваться по этому поводу, но два покупателя из Ташкента предложили такую выгодную цену, что Шницеров решил к завтрашнему дню во что бы то ни стало достать им «лошадок». Кряхтя и стеная, он влез в такси и поехал на улицу Чернышевского. Там жила дочь его старого друга, уже ушедшего в мир иной, Софья Михайловна Цеп-лис. Может, она знает, где разыскать Яна? Или сама выполнит его заказ. Женщина она с головой и таких дел не чурается. Дверь ему открыл незнакомый человек. Борис Яковлевич, извинившись, подался было обратно, но перед ним извинились тоже и пригласили зайти. Борис Яковлевич был в известной мере романтик и поэт, с возвышенными чувствами в душе. Делами он ворочал крупными, несмотря на свои семьдесят лет. Было немало накоплено у Бориса Яковлевича, мог он безбедно просуществовать до конца дней своих, тем более что шла немаленькая пенсия. Но старые привычки и привязанности, азарт купли-продажи держали его в плену. Он ругал себя за это не раз, нарочно в самых мрачных красках рисовал будущее, но отказаться от давнего занятия не мог. О сути событий, которые происходили в квартире Цеплис, Шницеров догадался сразу. Потому-то и хотел ретироваться. За обеденным столом находился лейтенант Пашкин, рядом двое понятых. Напротив них сидел иностранец, что-то быстро говоривший на гортанно-дробном языке. Чуть поодаль от него стояла хозяйка дома. С прищуром глядя на лейтенанта и часто и глубоко затягиваясь сигаретой, она говорила: — Поймите, лейтенант, это чистое недоразумение. Зашел человек, о чем-то спрашивает. Языка нашего не знает. Мы его тоже. Пытаемся хоть как-то объясниться. И в этот момент появились вы. Не знаю я этого гражданина, как и вы, вижу его впервые. — Вы-то, может, и впервые, хотя сомневаюсь в этом, а я его знаю. Встречались. Спекулянт он и жулик. По нему давно тюрьма плачет. Иностранец так и взвился за столом: — Зачем, начальник, говоришь такое? Зачем так называешь? Не имеешь права. Я в посольство пойду. Протест будет. Пашкин усмехнулся: — Видите, хозяйка? А вы говорите — нашего языка не знает. Вполне нормально изъясняется. — Что сегодня творится в этом доме? Ты можешь мне объяснить, что у нас происходит? — Софья Цеплис обращалась к своему мужу, который сидел на кушетке и смотрел на все затравленным, лихорадочным взором. Его руки, лежащие на коленях, била неуемная дрожь. — Полный дом незнакомых людей, представители власти, какой-то таинственный иностранец, не знающий языка и вдруг заговоривший по-русски… — Хакима Ашоглу мы знаем, — продолжал Пашкин. — Он сколько раз обещал: «Уезжаю, уезжаю…». А вместо этого все продолжает спекулировать. Мы к нему по-людски, а он по-свински. — Опять оскорбляешь, начальник. Жаловаться буду. Я адрес искал. — Чей адрес? Какой? — Девушки одной. Очень хорошей русской девушки. Недавно познакомились. — Нет, Хаким, не верю я тебе. Два года ты сюда шатаешься, нашел бы адрес за это время. Поедешь со мной. И все вы граждане тоже. Пусть теперь начальство разбирается. …У Хакима Ашоглу ничего предосудительного поначалу не обнаружили. Только вот ремень, широкий, ковбойский ремень показался тяжеловатым. В нем было зашито сорок пять золотых турецких лир. Бывший студент соседнего государства Хаким Ашоглу приехал заканчивать образование в одном из московских вузов. И хотя стипендия была повышенная, ее не хватало. Полюбились московские рестораны, кафе, да еще московские бега… Возвращаясь после каникул, привез он в Москву десяток золотых монет. Удачно сбыл их. Потом не столько учился, сколько ездил то на родину, то обратно. Причины выдумывались самые разнообразные: то мать больна, то брат женится, то сам решил жениться. Превратился Хаким Ашоглу в заправского коммивояжера и спекулянта. Хаким Ашоглу понимал, что шутить теперь с ним не будут. Он ведь прекрасно знал: в деле, что лежало перед подполковником, три его личные подписки о прекращении спекулятивной деятельности и выезде из страны. Да, Ашоглу понимал, что уговоры кончились и ему придется отвечать. Знал и то, сколько за эту деятельность полагается. Хорошо, если будет судить советский суд. Он, наверно, учтет, что Хаким — бывший бездомник, бедняк. А вот если на родине судить будут, то несдобровать Ашоглу, надолго засядет за решетку. Все прикинув, Хаким Ашоглу решил рассказать все как было и как есть. Участковый уполномоченный Пашкин не ошибся в своих наблюдениях. Как оказалось, граждане, вызывавшие у него подозрение, посещали именно квартиру Софьи Цеплис. Это были студенты некоторых стран, обучающиеся в Москве, приезжие граждане из Прибалтики, Грузии, Азербайджана. На следующий день после ареста Цеплис к ней на квартиру заявилась средних лет полная женщина с туго набитой авоськой в руках. — Где Соня? — обратилась она к матери Цеплис. — Мне она быстренько и позарез нужна. Покупатель сегодня улетает… — И только тут женщина увидела, что в соседней комнате посторонние. В квартире шел обыск. — Так что вас интересует? — спросил ее вышедший к ней навстречу майор Фомин. — Я просто так, по-соседски, зашла. В магазин ходила, вот и заглянула. — А о каком покупателе вели речь? — Ничего такого я не говорила. Я по нашим соседским делам хотела повидаться с Софьей Михайловной. В авоське посетительницы, Марины Призвановой оказалось… пятьдесят тысяч рублей. — Так зачем же вы сюда шли? Что хотели купить? — Да не мои это деньги. В телефонной будке только что нашла. Зашла позвонить, а сумка-то там и лежит. Фомин усмехнулся: — Поедете с нами, Призванова. И уж если собираетесь рассказывать сказки, то придумайте поинтереснее. …Борис Яковлевич Шницеров вежливо поинтересовался, сколько его думают держать на казенных харчах. Нет, претензий он не имеет, уверен, что разберутся и убедятся, что Борис Шницеров чист как хрусталь. Но в Люберцах, на даче, у него коза Машка, пес Арно и кот Моисей. Может, по мнению товарищей подполковника и майора, это и мелочь, но все-таки живые твари, и им нужно есть. Если они не выдержат, кто возьмет грех на душу? Подполковник Петренко, однако, не расположен был к шуткам и, веером разложив перед Шницеровым несколько фотографий, спросил: — Кто эти люди? Шницеров поджал губу, всплеснул руками: — Что я должен обрисовать? Их социальное происхождение? Моральный облик? Умственные способности? Что же хочет следствие от старого рядового труженика Бориса Яковлевича Шницерова? — Прежде всего правдивых показаний. — Боже мой! А кто захочет говорить неправду здесь, в этих стенах? Это было бы в высшей степени неосмотрительно. — Так кто же эти люди? — Из этих личностей я знаю двоих: вот этот — Ян Тимофеевич Роготов, а второй — Горбышенко Владик. Не знаю, как к ним относитесь вы, граждане следователи, а я лично с уважением. С большим уважением. Умные, ловкие, оборотистые люди! Я даже завидовал им. Были ли у меня дела с ними? Не очень крупные, но были. Что правда, то правда. — Говорите точнее: вы совершали с Роготовым и Горбышенко сделки по купле-продаже валюты? — Ну, я бы не формулировал именно так наши отношения. Были взаимные деловые услуги — не более того. — Какова была цель вашей встречи с Софьей Цеплис? — А что, разве уже Шницеров не может зайти к знакомой женщине? — Значит, просто личная встреча? — Да, именно так. — Допустим, допустим, Борис Яковлевич. А теперь посмотрите еще вот эти снимки, — Петренко положил перед ним несколько новых фотографий. Шницеров бегло взглянул на них, хотел уже отодвинуть, но раздумал. Два снимка заинтересовали его. Фото мужчины с черными густыми усами и цепким взглядом черных навыкате глаз Борис Яковлевич рассматривал особенно долго. Наконец глухо проговорил: — Мохамед Собхи. Этот зарубежный проходимец мне дорого, очень дорого обошелся. — Вы имеете в виду продажу вам свинцовых болванок вместо золота? — Да. Но, позвольте, разве вам это известно? — Как видите, известно. Вы повнимательнее вглядитесь в фото Мохамеда Собхи. — Не хочу и смотреть на него. Аллах ему еще вспомнит, как он обобрал бедного старика. — И все-таки пусть «бедный старик» посмотрит на Собхи с усами и на него же — без усов. Шницеров, взяв фотографии, отошел к окну, долго стоял там. Затем вернулся, тяжело опустился в кресло. — Вы, может, шутите надо мной, гражданин следователь? — Не имею ни времени, ни желания. — Но ведь Мохамед Собхи… и Сергей Дьячков одно и то же лицо… Это невероятно! Просто невероятно! Шницеров сидел молча, обильная испарина покрыла его коричневатый морщинистый лоб. В глазах была целая гамма чувств — злость, обида, растерянность. Петренко убрал фотографии. — В данный момент вся эта история для нас особого значения не имеет, мы к ней вернемся позже. Сейчас я прошу вас ответить на ранее поставленные вопросы — о ваших валютных операциях с Роготовым, Цеплис, Горбышенко. — Дело это, гражданин подполковник, как я начинаю понимать, непростое. Хотелось бы подумать, поразмыслить, взвесить… — Выходит, не созрели еще для откровенного разговора со следствием? — Пожалуй, что не созрел. — Ну что ж, дозревайте. Надумаете говорить чистосердечно, позвоните. — В своей камере я что-то не заметил телефона. — Мы вас отпускаем. Надо же кому-то присматривать за вашим зверинцем. Но из Люберец не выезжать. И еще. Имейте в виду: этой вашей «Золотой фирме» очень, очень скоро придет конец. Все узлы развяжем. Ни заправилам, ни клиентуре по темным углам спрятаться не дадим. Так что упорствовать бессмысленно. Лучше идти вчистую. Бывайте здоровы, Борис Яковлевич. …Полный недоумений, сомнений, самых смутных противоречивых мыслей, ехал Шницеров домой. Вся четвероногая братия благодаря заботе соседей была жива, но все равно она тявкала, блеяла, мяукала и встретила хозяина гневным хором. Кое-как угомонив ее, Борис Яковлевич поставил на стол бутылку с остатками какого-то красноватого напитка, граненую рюмку и так просидел до утра, даже не дотронувшись до бутылки. В тяжелых раздумьях провел Борис Яковлевич не один день. А потом поехал в Москву. Он позвонил Петренко: — У вас не отпала еще необходимость в разговоре с Борисом Яковлевичем Шницеровым? — Ну что вы, Борис Яковлевич, как можно! — Тогда советую не откладывать, пока душа Шницерова жаждет очищения правдой… Несколько дней подряд Петренко корпел над толстыми, аккуратно подшитыми папками, делал выписки. Пришли дополнительные материалы, запрошенные им из ОБХСС Москвы, Тбилиси, Вильнюса, и он углубился в их изучение. Однако дежурный вновь напомнил ему, что Роготов настаивает на встрече. — А что так спешно? Почему не может подождать? — Говорит, что хочет сделать какие-то важные заявления. — Ну что же, послушаем, что он нам скажет. Роготов вошел в кабинет хмурый, сосредоточенный, даже несколько торжественный. Едва закрылась дверь за дежурным, заявил: — Я хочу помочь следствию и рассказать все как было. — Что ж, это похвально, Роготов. Слушаю вас. — Пишите. Ценности, обнаруженные в чемодане, действительно принадлежат мне. Конечно, это понимать надо условно. Все это мною найдено совершенно случайно во время командировки в Прибалтику. — Да? Интересно. Рассказывайте, как это было. — Три месяца назад я ездил в Вильнюс. В выходной день вильнюсские друзья повезли меня осматривать один старый замок. Я, знаете ли, поклонник готики. И вот в одном из закоулков, под щебнем и мусором, я увидел сверток из коричневого дерматина. Какое-то внутреннее чутье подсказало мне, что сверток этот необычный. Вечером, когда мы вернулись в Вильнюс и друзья разъехались по домам, я взял такси и вернулся к развалинам замка. Сверток был там же. А в нем оказались пачки денег, золото, драгоценности. Я долго мучился: как быть? Понимал, что такая находка должна быть сдана государству. Но искушение взяло верх, мужества и решительности, чтобы пойти и заявить, не хватило. А потом уже и боялся, понимал, что меня могут обвинить в сокрытии ценностей, мне не принадлежащих. Вот их-то я и держал в камере хранения на вокзале. Я понимаю, что поступил нечестно, не по-советски, готов нести за это должную ответственность. Но уверяю вас, что никакой я не спекулянт, к разным там валютным махинациям отношения не имею. Петренко, выслушав это, улыбнулся: — Версия, Роготов, не из очень мудреных. Если это экспромт — то ничего, более или менее остроумно. А если она, как и предыдущие, плод длительного раздумья, то комплимента вы не заслужили. Роготов посмотрел на потолок комнаты, долго и пристально рассматривал свои ногти и потом с притворным вздохом спросил: — А зачем мне придумывать версии? Я рассказал все, откровенно рассказал. — Если бы так, Роготов. Если бы так… — Вы мнене верите? Но, позвольте, почему? — Да потому, что это ложь. Могу сообщить вам кое-что, чтобы размышления ваши были более плодотворными. Гражданка Цеплис и ее муж Дьячков — по соседству с вами. И один из ваших иностранных клиентов — некий Хаким Ашоглу — тоже. Могу сообщить также, мы очень подробно беседовали с Борисом Яковлевичем Шницеровым. — За информацию спасибо. Но имена эти мне неизвестны. — Известны, Роготов, очень хорошо известны. — Что же они утверждают? — Что вы вместе занимались валютными операциями. Роготову стоило немалого труда сдержать себя, когда он услышал все это. В Цеплис он был уверен. А вот Дьячков… И Хаким… Да еще Шницеров… Он всегда недолюбливал этого болтливого, азартного старика. Да, было над чем поразмыслить. — Сколько раз вы были осуждены, Роготов? — Один раз. — Неправда. Дважды. Один раз — на три года, второй — на восемь. — И оба неправильно. — Но вас не реабилитировали? — Нет. Что я тоже считаю ошибкой. — Совершали ли вы спекулятивные операции совместно с Благуном? — Нет. — А вот что говорит сам Благун: «Организацией сделок по скупке иностранной валюты, золота и предметов иностранного производства я занимаюсь после выхода из колонии. В основном мои операции проходили по поручениям Яна Роготова». Что вы скажете? — Как-то мы встретились с ним в Москве. Разговорились. Он, поняв, что я располагаю средствами, попросил у меня денег на автомашину. Я помог ему. За это он мне оказывал кое-какие услуги. В частности, хранил мои вещи. Никаких валютных, спекулятивных операций с ним я не производил, как не занимался ими вообще. — Значит, Благун говорит неправду? — Неправду. — Но то же показывают Дьячков и Шницеров. — Наговорить на человека можно что угодно. А вот доказать? — Да, да, конечно. Но шифрованная запись ряда операций в известном вам блокноте идентична с их показаниями. И по датам, и по суммам операций, и по видам валюты и ценностей. А ряд наиболее крупных операций отражен одинаково и у вас, и в шифрованных записях Цеплис. Я жду объяснений. — Я должен обдумать все это. Прошу отложить наш разговор. — Все над ходами размышляете, Роготов? Все думаете, как уйти от ответа? А ход у вас, между прочим, один — рассказать правду. Пробудите и мобилизуйте свою совесть, если она еще осталась. Другого выхода нет.
…Софья Цеплис в кабинет Петренко вошла с поднятой головой, твердой, уверенной походкой. Приподнятые плечи, короткая шея, густые темные волосы, голубые глаза с цепким, холодноватым взглядом, маленький упрямый рот — все говорило о твердом, упрямом характере. Она отрицала все — и совершенно очевидные истины, и любые, самые логические предположения и доводы: ничего и никого не знает, ни в чем не виновата и ни в каких темных делах не замешана. «Знакома ли с иностранными гражданами Штефаном Рахмутом и Ионом Хамзой?» — «Нет, даже никогда не слышала этих имен». — «А с Хакимом Ашоглу?» — «Тоже незнакома. В квартиру он зашел случайно. Совершенно случайно. Разыскивал какой-то адрес, зашел и постучал к нам. Почему называл меня Соней? Ну а как он еще мог меня называть? Установилась непринужденная обстановка, вот и все». — «За пятнадцать минут?» — «Да, именно». — «Хаким известный спекулянт валютой?» — «Не знаю. Понятия не имею о таких вещах. Мне он показался скромным молодым человеком». Петренко невозмутимо и терпеливо слушал ее и наконец сообщил: — Вот что показал Хаким Ашоглу: «Сорок пять золотых турецких лир, обнаруженных у меня при обыске, я нес, чтобы продать Сильве, то есть Софье Цеплис. Сделка не состоялась, потому что пришел лейтенант милиции с какими-то людьми. Я еле успел надеть пояс с монетами на себя». — Чепуха все это. Нет, гражданин подполковник, этот закордонный авантюрист в моих знакомых не состоит, никаких дел я с ним не имела. И вообще не понимаю, почему нахожусь здесь. Я уже обжаловала ваши действия генеральному прокурору. Кроме того, сделаю специальное заявление по поводу своего задержания в прессе. Этот вопиющий факт будет предан широкой гласности. И не только в нашей стране… Петренко спокойно ответил: — Ваше письмо генеральному прокурору переслано. Думаю, что встреча с работниками прокуратуры состоится у вас в ближайшие дни. Что касается вашего заявления о могущих возникнуть из-за вашего ареста международных осложнениях, то думаю, что вы тут ошибаетесь. Уголовные деяния в нашей стране неотвратимо наказуемы. — А вот именно за то, что меня в какие-то спекулянты, уголовники произвели, ответить кое-кому придется. Петренко вздохнул: — Гражданка Цеплис, не будь достаточных оснований, мы бы вас не задержали. — И тем не менее это сделано. — Сделано потому, что факты, как известно, вещь упрямая. На следующий день на имя начальника следственного отдела поступило заявление Цеплис о том, что к ней издевательски относятся врачи. Еще через день — жалоба на местные органы власти, которые якобы хотят уплотнить жилую площадь ее матери. Затем новый опус на имя генерального прокурора с гневным требованием о расследовании причин ее задержания и наказания людей, попирающих советские законы. Петренко и Фомин решили пока не беспокоить Цеплис вызовами и вели расследование многочисленных операций Роготова, Горбышенко и их клиентуры. Они были уверены, что уточнение этих эпизодов еще рельефнее прояснит и роль Цеплис. Горбышенко и Роготов, однако, все так же упорно держались выдвинутых ими версий, хотя хорошо понимали, что следователи не верят ни одному их слову. «Ничего, пусть не верят, но время надо выиграть». Обычная уловка и обычный прием людей, преступивших закон и понимающих, что ответственность за это неизбежна: оттянуть время, затруднить разматывание клубка, увести следствие куда-то в сторону. А там, глядишь, удастся выпутаться, выкрутиться, уйти от неизбежного. Конечно, куда легче вести следствие, если подследственный ведет себя честно, решился на то, чтобы снять с себя давящий груз содеянного. Но работники следственного отдела знали, что полагаться лишь на признание подследственных нельзя. Если даже они откровенны, доказательством совершенного преступления служить не могут. Вот почему следствие уделяло пристальное внимание выявлению соучастников, вольных или невольных свидетелей, сбору и исследованию документов, улик, прямых или косвенных следов преступления. Куда же шли золотые монеты царской чеканки, турецкие золотые лиры и английские фунты, которые скупались у фарцовщиков, которые приносили Ашоглу, Штефан Рахмут, Ион Хамза и другие на улицу Чернышевского? Шницеров, например, покупал золотую валюту в довольно больших количествах. Но все же значительно меньше того, что продал Софье Цеплис один лишь Ашоглу. Значит, у Цеплис, Роготова и их компании есть и другая клиентура для сбыта золота и валюты. Кто она? В каких темных углах прячется? Под какими крышами живет и здравствует? …В один из дней в следственный отдел были приглашены наиболее известные, ранее проходившие по крупным делам валютчики. Их решили предупредить о невыезде из Москвы. Когда в коридоре появился Роготов, то даже присутствие идущих рядом конвоиров не удержало многих от того, чтобы не приподняться, не осклабиться в почтительной улыбке. Роготов, идя сквозь строй знакомых лиц, подумал: «Действительно, не дремлют следователи. Основные киты почти все здесь…». Он помахал рукой и даже изволил пошутить: «Король умер. Да здравствует король!». Иначе реагировали на встречу с этими людьми Цеплис и Горбышенко. Прошли мимо, не поднимая головы, не взглянув ни на кого, словно это были пустые стулья. Но все — и подследственные, и их бывшие клиенты — прекрасно поняла: конец нитки ухвачен прочно, и клубок будет разматываться неумолимо. Петренко, Фомин и другие работники следственного отдела целыми днями выслушивают, протоколируют показания свидетелей. Медленно, нехотя, со скрипом признаются эти люди. Признаются лишь тогда, когда некуда деться, когда улики неопровержимы, факты неоспоримы… …Роготов снова потребовал, чтобы его вызвал следователь. — Теперь я расскажу все, — заявил он. — Это вы мне обещаете уже в четвертый или пятый раз, — напомнил Петренко. — На этот раз — без марафета. — Ну что же, ответьте сначала на прежние вопросы: кто ваши основные партнеры? Кто в наиболее крупных размерах поставлял валюту? Куда, кому сбывали ее? — Один из основных партнеров — Горбышенко. — Где вы познакомились с ним? На какой основе? — Здесь, в Москве, на совместных операциях. Он был основным связным с мелкими поставщиками валюты, золотишка и прочего. Скупал, затем привозил ко мне. Но крупных сделок у меня ни с ним, ни с кем-либо еще не было вообще. — В числе операций, осуществлявшихся Горбышенко по вашему поручению, одна была по приобретению трехсот, другая — пятисот, третья — восьмисот долларов. И таких операций были десятки. Это что, по вашим масштабам, мелочи? — Нет, не мелочи. Но таких операций я не помню. — Вы ведь хотели говорить откровенно. — Гражданин подполковник, должен заявить, что я понимал и понимаю границу допустимого. Я стремился не выходить за эти границы, чтобы не нанести ущерба государству. — Все это пустые слова, Роготов, вы все темните. А какой, собственно, смысл? Кончать надо с этим, Ян Тимофеевич. Расскажите о своих сделках с Хакимом Ашоглу. — Я не знаю никакого Ашоглу. — А вот что говорит он: «Основными потребителями моего товара — валюты и золотых монет — были Софья Михайловна и Ян Косой. Последнему я привозил монеты семнадцать или восемнадцать раз. Обычно это были партии по пятьдесят, семьдесят, сто штук. Я знал, что он делец крупный, мелочами не занимается». — У Хакима Ашоглу, как вы его называете, видимо, со счетом неважно. У некоторых людей все, что больше сотни, уже миллион. — Вы зря так говорите. Ашоглу достаточно грамотен, деловит и предприимчив. И вы прекрасно знаете его. Но раз вас не устраивает этот клиент, обратимся к другим. Ярыгина Дмитрия Дмитриевича вы знаете, конечно? Ну, так вот вы с ним совершили около двадцати сделок на покупку валюты общей суммой более чем в пятьсот тысяч; с Грайвороненко Христофором Кузьмичом — около двадцати пяти сделок, каждая от десяти до пятидесяти тысяч. Может, еще кое-что напомнить? — Да нет, пожалуй, хватит. Данные интересные, но мне надо сверить их с собственной памятью. — Сверяйте. Но учтите, что это только малая часть ваших операций и притом касающаяся лишь валюты. А нас интересуют все ваши операции, и в том числе с золотом… — Оно не было главным предметом в моей деятельности. — Так ли? — Заявляю еще раз: я старался избегать сделок, которые могли нанести ущерб… — И тем не менее… В сентябре прошлого года вы отправляете в Тбилиси двести пятьдесят золотых монет, в октябре — триста десятирублевок царской чеканки, в ноябре — триста пятьдесят золотых турецких лир… — Такие факты требуют доказательств. — Правильно. И они у нас есть. В том числе и по поводу лично вашей поездки в Тбилиси, когда вы продали семьсот двадцать золотых монет известным спекулянтам Малисмедовым. Сумма одной этой сделки превышала пятьсот тысяч рублей. Роготов удивляется, возмущается, гневается, уходит то от одного, то от другого факта. Опровергает одну сделку, уточняет другую, подвергает сомнению третью. — Не надо делать из меня Ротшильда. — Однако, когда клиентура вас стала величать миллионером Корейко, вы не возражали? А сейчас хотите прикинуться мелкой рыбешкой и путаетесь в собственной лжи. — Я говорю всю правду, гражданин подполковник. — Вы не говорите даже четверти правды. …Горбышенко было трудно отрицать очевидное. Патлатые фарцовщики, у которых он скупал валюту, и не думали выгораживать его. С какой стати? Одни были злы, что он мало платил, другие завидовали его удачливости в делах, третьи вообще не считали нужным скрывать то, что было. Они вполне резонно рассуждали, что за пятнадцать-двадцать долларов судить их не будут. Ну а тот, кто строил на их мелком бизнесе крупный, пусть отвечает. И все-таки он тоже всеми силами старался теперь подчеркнуть свою незначительность. — Вы не думайте, что я какой-то там воротила. В сущности, был мальчиком на побегушках. Целыми днями носился по Москве как угорелый, искал людей, у кого можно было бы купить десять, пятнадцать, двадцать долларов. Ну, найдешь, купишь — продашь. Обязательство перед человеком выполнишь, заработаешь что-то. Вот и все. Понимаю, что все это не очень-то красиво, но и преступление невелико. — Жизнь у вас была действительно хлопотная. Но старались вы не без выгоды. При обыске изъято ценностей почти на миллион! Такой куш мог быть собран лишь при солидных масштабах сделок. Скажите, вы всю валюту сбывали только Роготову? — Да, только ему. — Тогда где же валюта и золото, которые вы покупали у Богданова, Большакова, Фридмана, Юшкевича, Прокофьева, Гудкова, Павлова? Кроме золота, валюты, тряпья, вы промышляли еще и иконами. Они тоже не обнаружены. Значит, у вас есть дополнительная клиентура по сбыту? Или все это где-то лежит, спрятанное вами? — Вы настойчиво хотите приписать мне чьи-то чужие грехи. — Да нет, с вас и ваших достаточно. Давайте, в частности, проясним с вами и такой эпизод. Полгода назад в подъезде одного из домов Подколокольного переулка уборщица ЖЭКа Ульяна Никитична Брывко нашла под лестничной клеткой газетный сверток. В нем было на сорок тысяч различной иностранной валюты. Она сдала находку в Государственный банк. А через день к Ульяне Никитичне явились двое молодых людей. Отрекомендовавшись представителями Института востоковедения, они очень хотели получить сверток. Были там и обещания десяти тысяч за возврат, и угрозы. Когда Ульяне Никитичне показали ваше фото, она абсолютно уверенно заявила, что вы были одним из тех, кто приходил к ней за, свертком. — Ни сном ни духом не знаю я никакой Брывко. В Институте востоковедения толю никогда не работал. — То, что в институте не работали, это точно. А вот комнату на Кривоколенном, оказывается, снимали. Горбышенко весь как-то обмяк, посерел, испарина покрыла лоб. Глаза вспыхнули злым испугом, затем погасли, словно спичка на ветру. — Снимал, — поперхнувшись, проговорил Горбышенко. — Что тут такого? — Да ничего особенного, если не считать того, что в тайнике на чердаке этого дома обнаружено восемьсот американских долларов, сто тридцать тысяч французских франков, триста девяносто золотых английских фунтов, восемь тысяч четыреста бельгийских франков, три тысячи семьсот шведских крон… — Но позвольте, а я-то тут при чем? — Дело в том, что в тайнике вместе с валютой был диплом об окончании одного из московских учебных заведений на ваше имя. Странно, правда? Вы ведь, кажется, института-то не кончали? Но, с другой стороны, диплом — фамилия, имя и отчество — ваши. Совпадение? — Не знаю. Сказать по этому поводу ничего не могу. — Я тоже думаю, что не можете, — согласился майор Фомин, ведший допрос. — Для этого надо набраться мужества и сказать правду. А у вас пороха не хватает. Надеетесь на чудеса господни? А их не будет.
— Что ж, Софья Михайловна, мы давно не беспокоили вас, дали возможность собраться с мыслями. Надеюсь, разговор у нас будет более деловой и серьезный, чем раньше. Итак, признаете ли себя виновной в том, что занимались скупкой и перепродажей валюты, золота и других ценностей? — Нет, не признаю. Никакими валютными делами, ни скупкой, ни продажей ценностей не занималась. — Вы настаиваете на ранее данных показаниях в отношении посещения вашей квартиры иностранным подданным Ашоглу? — Да, настаиваю. Повторяю, что заходил он лишь затем, чтобы узнать чей-то адрес. — Гражданин Ашоглу утверждает следующее: «Золотые английские фунты, турецкие лиры и золотые десятки царской чеканки я сбывал Цеплис — Сильве неоднократно. В общей сложности у нас состоялось четырнадцать или пятнадцать сделок». — Ложь или бред ненормального человека. — Вы знаете Яна Тимофеевича Роготова? — Немного знаю. Наш общий с мужем знакомый. — В каких отношениях вы были с ним? — Что вы имеете в виду? — гневно подняла брови Цеплис. — Ваши деловые отношения. — Не было у нас никаких деловых отношений. Знакомые, и только. — А вот ваш муж, гражданин Дьячков, утверждает, что Ян Тимофеевич был близким человеком в вашей семье и имел с вами много общих дел. — Это неправда. — И, однако, Роготов имел ключи от вашей квартиры, мог заходить даже без вас, назначать встречи, хранил в вашем серванте значительные суммы денег. — Это чья-то фантазия. — Вы знаете Ярыгина Дмитрия Дмитриевича? — Не знаю. — А почему у него в записной книжке ваш телефон? — Это надо спросить у него. — Гражданин Ярыгин показал, что именно у него вы покупали золотые десятки царской чеканки, английские золотые фунты. И вы же давали ему поручения доставать золотые турецкие лиры, так как они пользовались большим спросом у спекулянтов из Закавказья. — Но это же чушь! — Почему чушь? Опровергайте, если это неправда. Знаете ли вы Марину Призванову? — Знаю. Соседка, живет двумя этажами выше нас. — Какие операции совершали с ней? — Никаких. Она малограмотная женщина, работает дворником. Еле концы с концами сводит. — И тем не менее покупала у вас золото. Была задержана у вас на квартире с деньгами в сумме пятьдесят тысяч рублей. Намеревалась купить у вас английские фунты. — Не может этого быть. Все это чьи-то фантазии. — Вы знаете Давуда Казбекова и Ольгу Жебалаеву? — Нет. Даже не слышала таких фамилий. — Но при обыске у вас обнаружено письмо Давуда Казбекова к Жебалаевой и записка вам с просьбой передать это письмо по адресу. Как это объяснить? — Не знаю я ни Жебалаеву, ни Казбекова. — Но вы же были на их свадьбе в ресторане «Арагви». — Мало ли на чьих свадьбах я была. — Но незнакомые люди на свадьбу все-таки не приглашаются. Верно ведь? Теперь скажите, в какие города вы выезжали в последние два года? — Почти никуда не выезжала. Только в село Дранды в Абхазию. — А в Пензу? — Да, в Пензу тоже ездила. К своим родственникам. — А в Тбилиси, Вильнюс, Баку? — Не выезжала. — Надо иметь в виду, гражданка Цеплис, что эти вещи легко проверяются. Ездили вы в эти города. И ездили не на экскурсию. Расскажите о поездке в Пензу. — А что тут рассказывать? Повидалась с родственниками, и все. Вечером уехала. — Роготов тоже с вами ездил? — Да, кажется, ездил. У него там какие-то служебные дела были. — Значит, состоялась лишь встреча с родственниками, и все? — Именно. — Послушайте теперь, что показывает ваш муж: «Мы втроем: я, Софья и Ян, ездили в Пензу, чтобы осуществить сделку с иностранным гражданином Б. Мы уплатили ему триста шестьдесят тысяч рублей и, получив золотые фунты стерлингов, вернулись в Москву. Вечером распределили золото между собой». — Это ложь! Дьячков не мог это показать. — Гражданин Б. тоже подтвердил это. — Не верю. — Вы можете удостовериться. Вот протоколы, ими подписанные. Гражданин Дьячков показал далее, что неоднократно по вашему поручению возил в Тбилиси золотую валюту. В марте — на двести пятьдесят тысяч, в октябре — на двести семьдесят тысяч, в декабре — на триста двадцать тысяч. — Мой муж совершенно лишен практической сноровки. Так что посылать его с такими заданиями было бы просто бессмысленно. — И, однако, посылали. — Нет, не посылала. — А вместе ездили? — Нет. — Ездили, Софья Михайловна. В феврале месяце. И проживали в гостинице «Сакартовелло». — Ах, да. Мы решили посетить родителей мужа. — К родителям вы не заезжали. Продав триста золотых монет и пять тысяч долларов, вы вернулись в Москву. — Если вы все это основываете на показаниях мужа, то я их опровергаю. Он, видимо, болен. Я требую свидания с ним. — При очной ставке вы сможете его увидеть. Но имейте в виду, что не только он дает эти показания. Эти факты подтверждаются показаниями Роготова и тех, кто покупал у вас золото и валюту, — Якова и Ильи Малисмедовых. Ваши трехкратные операции в Вильнюсе также подтверждены вашими партнерами… То же самое я могу вам сказать и об операциях, которые вами осуществлялись в Москве. Их много. И вам их тоже придется подробно объяснить. …Ее еще несколько раз приглашали на допросы, она отказывалась отвечать. На очных ставках с Роготовым, Дьячковым, Шницеровым, Малисмедовыми держалась так же, презрительно обзывала их «ложкомойниками», обвиняла во всех смертных грехах. Но поняла наконец, что отрицание вины вопреки фактам — нелепо. Рассказ Цеплис о ее коммерческих делах занял несколько дней. Под конец Петренко спросил: — Объясните значение вот этой вашей записной книжки, расскажите содержание записей, сделанных в ней. Мы предъявили такой же примерно «Дневник» гражданину Роготову. Он заявил, что все записи там относятся лишь к его знакомым женщинам. Пришлось посидеть над его шифрами нашим специалистам. Оказалось, что это регистрация выручки от спекулятивных операций, запись сделок в кредит. И женщины оказались ни при чем. Я рассказываю это вам для того, чтобы вы не шли по его стопам. — Нет, я этого не сделаю. Я, как вы знаете, молчала долго, а сейчас, когда все установлено и раскрыто… — Сколько вам надо времени, чтобы расшифровать все записи в этой книжке и подвести итог? — Ну, думаю, день-два. — Тогда займитесь этим. К вечеру следующего дня Цеплис сообщила: — Тщательно проанализировав сделанные мною записи, могу твердо заявить, что только с февраля по май было продано 10 193 американских доллара, 3228 золотых фунтов, 1130 турецких лир. С покупателей было получено 3 814 560 рублей. Подполковник сравнил данные, сообщенные Цеплис, со своими записями и, довольный, усмехнулся: — Все правильно. — Выходит, вы и без меня все расшифровали? — Ну, если не все, то основное. А главное, убедились, что вы действительно стали говорить правду… В следственном процессе рано или поздно наступает такой момент, когда все доказательства и улики собраны, все экспертизы и исследования проведены, отметено все лишнее, кажущееся, бездоказательное, сопоставлены все факты, события, показания подследственных и свидетелей… Итог всего этого — обвинительное заключение. Показания десятков людей, непосредственно имевших сделки с Роготовым, Горбышенко, Цеплис, свидетельские показания многих участников этих событий, изъятые у обвиняемых ценности, неопровержимые документы, вещественные доказательства открыли перед следствием немалое количество незаконных дел, творимых компанией Роготова — «Золотой фирмой», как они гордо называли свою «артель». Это была крепко сколоченная, прекрасно замаскированная группа, в широких масштабах развернувшая куплю-продажу валюты, золота и драгоценностей. Дело велось на широкой, почти научной основе. Роготов внимательно следит за международной обстановкой, курсом акций на биржах, изменяет тактику, методы, географию работы своей клиентуры. Кто же продавал золото и валюту и кто покупал? В пашу страну едут сотни и тысячи иностранных граждан. Едут студенты, ученые, деловые люди, туристы. Едут, чтобы ознакомиться с жизнью страны, строящей коммунизм, с нашей культурой, памятниками и реликвиями нашей истории. Но не все едут за этим. Попадаются и люди с моралью торгашей, смысл жизни которых — поклонение золотому тельцу и его апостолам: барышу и стяжательству. Злоупотребляя советским гостеприимством, они приезжают со своим уставом, нарушая таможенные правила, ввозят контрабандой валюту, золото и различную дешевку с западных толкучек. Они-то, эти поклонники формулы «деньги не пахнут», и явились основным источником, питавшим «Золотую фирму» звонкой монетой и нейлоновым барахлом. Ну а потребители товара были те, кто путем жульничества, спекулятивных махинаций, обворовывания государства скопил значительные денежные запасы. Яков, Илья и Шалва Малисмедовы, нажившие огромные средства на спекуляции вином и фруктами, наиболее яркие, но отнюдь не единственные представители этого отребья. Хапуги и проходимцы типа Малисмедовых, будучи не уверены в прочности своего нетрудового богатства, лихорадочно стараются обратить денежные знаки во что-то нетленное. Во что же? В недвижимость? Очень заметно. А вот обменять на золото, драгоценности — это давно испытано. Таких уникумов, конечно, у нас немного, но они есть, и пока еще довольно живучи. Своим спросом на золото и валюту они обеспечили расцвет роготовской корпорации. За рубежами нашей страны, в некоторых соседних странах есть немало охотников до нашей советской валюты. И Роготов, Цеплис, Горбышенко в обмен на золото, инвалюту удовлетворяют и этот спрос. Сложилась «Золотая фирма» не случайно. Совпадение целей, жизненных принципов, морально-нравственных устоев быстро сблизило их, сделало неразлучными партнерами по жульничеству, спекуляции, авантюрам. «Как-то мне позвонил, — рассказывает Роготов, — Борис Яковлевич Шницеров, которому я неоднократно продавал золото. Он сказал, что нужны «лошадки» — золотые фунты стерлингов. Я захватил пятьдесят штук и поехал к нему. Шницеров повел меня к своим знакомым. «На твой товар есть хороший купец», — заявил он. Привели меня к Цеплис Софье Михайловне. Мы познакомились. У Цеплис в это время находились два гражданина с юга. Как оказалось, «лошадки» были нужны им. Они купили у меня их за сорок тысяч рублей. По две с половиной тысячи с меня взяли Шницеров и Цеплис за содействие и посредничество. С Цеплис быстро нашли общий язык, стали вместе разрабатывать планы наиболее выгодных операций. У нее были широкие и очень ценные связи в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и других городах. Все это были люди, располагающие деньгами, не скупившиеся на затраты. Именно эти клиенты и стимулировали бурный расцвет нашей деятельности». Была придумана целая система связи, маскировки, версий и легенд для надежной защиты в случае провала. «Мы не исключали того, — объясняет Роготов, — что рано или поздно можем попасть в поле зрения органов власти. И договорились заранее: «Ничего не знаем. Друг с другом незнакомы». А уж если не будет выхода, сделки признавать самые минимальные». Святая святых для этих дельцов была выгода. А для достижения этой цели все средства, любые пути и тропы хороши. Роготов показал: «Как-то зашел я к Илье Любирштейну и предложил ему купить золотые фунты. Тот сказал, что сам не скупает, но посредником выступить готов. Повез меня в одну святую обитель. Там шепнул Люцернову, с каким товаром мы приехали. Тот бросил молиться и к нам. Денег у него с собой не оказалось. Договорились встретиться завтра. Мы с Любирштейном ушли. Но я, распрощавшись с ним, вернулся, нашел Люцернова, и мы обо всем договорились уже без посредника. Вечером я ему отвез пятьдесят золотых фунтов и получил сорок пять тысяч рублей». Как-то Цеплис узнала, что Илья Малисмедов без ее содействия и участия условился о встрече с Роготовым. Гневу се не было предела: как это — ее хотят отстранить от посредничества, хотят лишить заработка? Она заперла Малисмедова у себя в квартире, вызвала Роготова, и сделка по продаже Малисмедову золотых турецких лир состоялась лишь в ее присутствии. За «комиссию» она получила три тысячи. И это в то время, когда у нее в серванте лежало не менее миллиона. Но наиболее ярко гангстерские нормы морали «Золотой фирмы» характеризуют операции «динамо» — как они их называли между собой, то есть обжуливание, обман своих же компаньонов. В июле 1960 года в Москву из Вильнюса приехал некий Лабазников — один из клиентов Роготова и Цеплис, не раз покупавший у них валюту и ценности. Приехав, заявился к Цеплис. — Нужны «лошадки». — Очень хорошо. Сейчас приедет Ян. «Лошадок» найдем. Скоро появился Роготов. Краткая беседа. Он забирает сумку Лабазникова с девяноста тысячами и уходит. Когда вышел на улицу, к нему подошли двое в штатском, отобрали сумку, взяли его под руки, посадили в машину и увезли. Лабазников все это видел из окна. Видела и Цеплис. Она стала куда-то звонить, лихорадочно собирать вещи, кричала, что, видимо, вот-вот нагрянет милиция. Лабазников не стал ждать дальнейшего развития событий и спешно удрал от греха подальше. А вечером Цеплис с Роготовым разделили добычу и весело отметили это «небольшое происшествие». Свадьба в ресторане «Арагви», с которой мы начали рассказ, тоже была одной из такого рода «операций». Правда, подготовлена она была не основными заправилами «фирмы», а «периферийной клиентурой». Даже среди людей Роготова и Цеплис Ольга Жебалаева вызывала чувство зависти. Все знали, что она имеет много денег, торгует бриллиантами, золотом, кокаином. Несколько лет назад муж Жебалаевой по поручению своих бакинских компаньонов повез в Москву два чемодана скупленных по дешевке облигаций. Реализовал их, выручив немалую сумму. Но компаньонам сообщил, что его обокрали, оставил их, что называется, при пиковом интересе. Компаньоны как будто простили ему этот фокус и даже пригласили на отдых на Черноморское побережье. Но через несколько дней Жебалаев, будучи неплохим пловцом, утонул в море при невыясненных обстоятельствах. Это была лишь первая стадия мести. Дельцы решили вытрясти из супруги Жебалаева «весь бутер», то есть изъять у нее накопленные богатства. Подставили к вдове «жениха» — Давуда Казбекова, смазливого, пронырливого пройдоху. Жебалаева — мать пятерых детей — влюбилась в него с первого взгляда, и скоро была отпразднована та пышная свадьба. Через несколько дней молодой муж уезжал в Баку. Жебалаева-Казбекова посылала с ним для хранения в. новом гнездышке два чемодана вещей и ценностей и триста золотых монет для продажи. Предложила это же сделать Цеплис и Роготову, тем более что Давуд обещал баснословные барыши. Роготов и Цеплис согласились. И поклажа Казбекова увеличилась еще на пятьсот звонких денежных знаков. А через день из Баку была получена телеграмма: «Брат серьезно заболел». Это означало, что Казбекова постигли неприятности — его забрали. В Баку срочно выехали Цеплис с мужем и Жебалаева-Казбекова. Но попытки обнаружить следы Давуда Казбекова не увенчались успехом. Ни, в милиции, ни в других административных органах ничего не знали об этом случае. Заправилам «корпорации» стало ясно, что их и «молодую» просто-напросто обманули. Цеплис, Дьячков и Жебалаева-Казбекова хотели поднять шум, собрались идти в прокуратуру, но родственники и друзья Казбекова предостерегли: «Неизвестно, чем это кончится…» А Казбековой пообещали: «Ты не очень расстраивайся, он еще объявится». И ведь действительно объявился. Прислал Цеплис письмо для жены. Просил прислать вспомоществование. Но «динамо», устроенное Давудом Казбековым, задело интересы заправил «фирмы», и смириться с такой потерей они не хотели. Собрались как-то у Цеплис и стали доискиваться, кто ввел в их круг этого Давуда Казбекова. Припомнили, что впервые пришел он к ним со Шницеровым. — Вот ему и устроим «динамо». Операцию было поручено разработать Роготову. Борис Яковлевич Шницеров был уже стар, плохо видел, порой не различал даже своих знакомых. И в то же время был горяч и азартен. На этом и был построен план. Сергей Дьячков заказал где-то болванки из свинца, и по форме и по весу соответствующие золотым английским фунтам. Сообщил Шницерову, что один иностранец, некто Мохамед Собхи, хочет продать четыреста золотых монет, и продать дешево, так как уезжает из страны. Шницеров тут же изъявил желание купить золото. Дьячков загримировался под «иностранца», наклеил усы, надел темные очки. Вечером поехал к Шницерову, и они условились о встрече ночью. Боясь, чтобы его не обманули, Шницеров позвонил Роготову и пригласил того присутствовать при сделке. Роготов, разумеется, согласился и в назначенное время был в условленном месте. Перед этим они вместе с Цеплис и Дьячковым осмотрели все подготовленное: болванки, упакованные в полотно и заклеенные в картонные тюбики из-под фотопроявителя, маскировочный наряд Дьячкова. Шницеров и Роготов с нетерпением ждали клиента. Шницеров признался, что денег у него не хватило, часть он взял у приятелей: Браиловича и Богданова, которые стоят вон в том подъезде. Вскоре появился «иностранец». На ломаном русском языке он сообщил, что спешит и просит совершить сделку скорее. Браилович, заподозрив что-то, вышел из своего укрытия и предложил зайти к кому-нибудь в дом и проверить, что покупают. Роготов объяснил «иностранцу», чего хочет покупатель. Тот разразился гневом и заявил, что если ему не верят, то он отказывается от сделки и сейчас же уезжает. Тогда Шницеров, войдя в азарт и боясь потерять редкого клиента, схватил Браиловича за грудки, обвинил его в трусости, кричал, что уже знает этого «почтенного гражданина», имел с ним дело. Роготов подлил масла в огонь: — Давайте покупать или отказываться, иначе мы все попадем в милицию. На нас уже обращают внимание. Шницеров чуть не насильно вырвал у Браиловича деньги и подошел к машине, где восседал «иностранец». Браилович вдогонку крикнул Шницерову, чтобы тот хотя бы взял несколько штук монет для осмотра. Роготов передал «иностранцу» его слова. Тот дал Шницерову несколько действительно золотых монет. Шницеров побежал к Браиловичу и Богданову, показал их. Все успокоились. Получив двести пятьдесят тысяч рублей и вручив Шницерову восемь плотно упакованных тюбиков, «иностранец» немедленно уехал. Покупатели тут же, на улице, разделили покупку и разошлись по домам. А утром чуть свет к Роготову прибежали Шницеров, Браилович и Богданов. Были они предельно возбуждены и обескуражены. — В чем дело? — сквозь зевоту спросил Роготов. В ответ ему показали свинцовые болванки. Роготов стал возмущаться, обещал из-под земли достать этого Мохамеда Собхи. Все поехали к Цеплис. Стали обсуждать план действий. Состоялось нечто вроде третейского суда. Председательствовал… Роготов. Он держал речь в том смысле, что в издержках должны участвовать все, а Шницеров, как инициатор, взять на себя две трети убытков. Роготов и Дьячков, как «не имеющие отношения к сделке», от этого «оброка» были освобождены. …Когда следствие уже подходило к концу, Шницеров напомнил Петренко, что тот намеревался вернуться к истории, касающейся «экспроприации» его капитала. — Что ж, раз обещано — должно быть сделано, — согласился Петренко и попросил Фомина: — Владимир Федорович, ознакомьте Бориса Яковлевича с показаниями Дьячкова. — Ах, какие проходимцы, как лихо все обставили, — без особого осуждения проговорил Шницеров, когда закончил читать эти показания. — А вы сомневались, говорить или не говорить правду… Терзались насчет морального долга перед своими компаньонами. Убедились теперь, что эти понятия им просто-напросто чужды? Шницеров развел руками: — Се ля ви, как говорят французы. Борис Яковлевич умел-таки философски смотреть на превратности жизни. Понимая, сколь велики их преступления, Роготов, Горбышенко и Цеплис да и другие пытались теперь привлечь внимание следствия к своей жизни, биографиям, обстоятельствам, толкнувшим их на преступный путь. А объективных обстоятельств для этого, в сущности, не было. Вот Ян Роготов. Отец — заместитель директора одного из ленинградских заводов. Но «нелады с обществом» начались рано. Еще в школе он начинает жизнь стяжателя. Его исключают из комсомола… Образумиться бы, учесть ошибки молодости, так нет, попал в заключение. Но не помогло. Попал вновь. Вернувшись, стал подторговывать книгами и заграничными безделушками. Как-то у гостиницы «Золотой колос» купил два костюма. Перепродал их. Понравилось. Проделал такую же операцию с часами. Тоже не остался внакладе. Какой-то турист предложил доллары. Купил, перепродал. Убедился, что так можно делать деньги, и решил их делать. Покупал все, что продавалось, продавал все, что покупалось. Через полгода имел уже немалый оборот. Так он начинал. А сейчас говорил об операциях в сотни тысяч, и говорил спокойно, словно речь шла о вещах обычных, малозначащих. У Горбышенко начало было похожим. Роготов, раз столкнувшись с ним, быстро вывел его на спекулятивную стезю. Предупреждений тоже было немало. В штабе дружин, в милиции. Но ни они, ни два года заключения не пошли впрок. Вернувшись, занялся тем же, чем и раньше. Ходил по улицам, подторговывал по мелочам. Роготов предложил достать доллары. Достал. Потом достал еще. И за несколько дней заработал десять тысяч. Когда Роготов рассчитывался с ним у себя дома, Горбышенко увидел у того целый чемодан денег. От Роготова не ускользнул завистливый взгляд подручного. — Ты тоже можешь иметь их. Только живи с умом. И Горбышенко начал «жить с умом». Дома отчитываться было не перед кем — родители жили в разводе, И у отца и у матери свои заботы. Он снимает комнату, Затем еще одну — для «деловых встреч». И все шире развивает спекулятивную деятельность… Софья Цеплис кончила театральное училище. Работала в разных организациях, руководила самодеятельностью. Но везде манкировала обязанностями, дисциплиной, не уживалась с сотрудниками. Отличалась лишь одним качеством — умела достать что угодно, хоть птичье молоко. В спекуляцию втянулась через приятелей отца — бывшего нэпмана. По старой привычке они приходили в квартиру Цеплис, чтобы обсудить свои дела, заключить подвернувшуюся сделку. В их разговорах фигурировали не какие-то там рубли да десятки, а тысячи. Софья Цеплис вошла в круг этих людей как «своя» и скоро стала не просто партнером, а партнером-асом. Самые крупные сделки совершались здесь, самые крупные клиенты приходили сюда, самые денежные тузы без опаски доверяли ей… Супруг попался под стать. Сергей Дьячков начал было подвизаться в искусстве, но служение музам сменил на надежное покровительство предприимчивой жены и баснословные доходы от совместных спекулятивных дел. Столь же извилистым путем шел по жизни Благун. Работал в научном институте строительных конструкций, даже что-то и где-то консультировал. Но труд, работа претили ему. Спекуляции валютой и золотом оказались куда выгодней и заманчивей. Отсидел за это несколько лет и вновь пустился во все тяжкие. Всех их роднило и объединяло одно: дух стяжательства, наживы, неуемное стремление разбогатеть, разбогатеть во что бы то ни стало. Роготов оформил себе четырехкомнатную квартиру в Москве, подыскивал каменную дачу в Подмосковье и дачу в Крыму… Его интересы сводились к самым элементарным обывательским потребностям: рестораны, женщины, барахло, деньги… Малисмедовы построили за четыреста пятьдесят тысяч каменный особняк. Потом стали скупать золото, драгоценности. Дача под Сухуми, антикварная мебель, ковры, хрусталь, самые последние модели туалетов и деньги, деньги — цель и вожделение Цеплис и Дьячкова. Но у некоторых мыслишки шли дальше. Роготов не раз сокрушался, что в условиях нашей страны «деловому» человеку трудно развернуться. «Вот на Западе я бы показал себя!» Горбышенко не отставал в мечтаниях от своего шефа. Он тоже хотел оказаться «там». На первое время соглашался быть у Роготова… управляющим его магазином. Этот молодой авантюрист пал особенно низко. Даже компаньоны сторонились его, их пугал его цинизм, пакостничество, физиологическая ненависть ко всем и всему. Как-то он выгодно сбыл одному из иностранцев две старинные иконы. Когда вышли из кафе на ночные улицы Москвы, им навстречу шла группа веселой, смеющейся молодежи. Иностранец (он был корреспондентом одной из газет), показав на молодежь, сказал: — Ваши сограждане веселее тебя, Горбышенко. У них все о’кэй! — Комсомольцы, — процедил Горбышенко. — А ты не комсомолец? И не дружинник? — Да вы что? Я этим комсомольцам да дружинникам… с удовольствием ребра бы переломал. Сказано это было с такой злобой, что его спутник даже удивился. Горбышенко рассказывал об этом случае Роготову с усмешкой, а глаза источали злобу, тоску, звериную ненависть. Атмосфера паразитической жизни отравила их сознание, умерщвила все человеческое. Во мгле их жизни горел лишь один факел — нажива, стяжательство, корысть, алчность. Золото с беспощадностью ржавчины изгрызло души этих людей, превратив их в механических роботов, извратило все понятия: чести, порядочности, человеческого достоинства. Подполковник Петренко подводит итоги деятельности «Золотой фирмы»: — Систематически скупая у иностранцев и советских граждан бумажную валюту и золотые монеты, а затем в целях наживы перепродавая их по спекулятивным ценам, вы нанесли серьезный ущерб советской денежной системе. Ваша преступная деятельность явилась источником нетрудового до, хода большого круга лиц, способствовала нелегальному вывозу советских денег и иностранной валюты за границу, развитию контрабандной деятельности и спекуляции товарами. Приобретая нетрудовым путем крупные суммы денег, попирая законы Советского государства и руководствуясь спекулятивной мелкособственнической буржуазной моралью, вы разложились сами и оказывали вредное воздействие на других лиц, толкнули многих на путь преступления. В общей сложности, но далеко не полным подсчетам, вы, Роготов, совершили валютных сделок на десять миллионов рублей. Правильна ли эта цифра? — У меня нет оснований оспаривать ее. Думаю, что действительно общий объем моих операций не был меньшим… — По данным, собранным следствием, вы, гражданка Цеплис, совершили лично или приняли участие в сорока пяти крупных сделках, во время которых было скуплено и реализовано валютных ценностей на семь миллионов рублей. Подтверждаете ли вы эти данные? — Подтверждаю. — Вы, гражданин Горбышенко, только лично, без участия третьих лиц, совершили сделок по купле-продаже золота, валюты, икон на общую сумму примерно в три миллиона рублей. Оспариваете ли эти данные? — Нет, не оспариваю. Подтверждают свои спекулятивные сделки на сотни тысяч все другие обвиняемые, подтверждают многочисленные свидетели.
Петренко и Фомина вызвал начальник следственного отдела Комитета государственной безопасности. Тепло взглянув на подчиненных, он несколько торжественно объявил: — Ну что ж, товарищи, поздравляю. Обвинительное заключение по «Золотой фирме» одобрено иутверждено. Через несколько дней в центральных газетах было опубликовано сообщение, что Комитетом государственной безопасности при Совете Министров СССР арестована и привлечена к уголовной ответственности группа преступников за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах. При обыске у них изъято большое количество золотых монет иностранной валюты, советских денег и других ценностей. Как установлено следствием, эти преступники скупили и перепродали иностранной валюты и золотых монет на несколько миллионов рублей. Подполковник Петренко, прочтя сообщение, подумал с удовлетворением, что не зря потрачены многие месяцы кропотливого труда, не зря прошли бессонные ночи ученых, криминологов, экспертов, консультантов. Это их объединенными усилиями собраны в единую логическую цепь тысячи эпизодов и фактов из преступной деятельности «Золотой фирмы», доказана их неоспоримая достоверность. Петренко открыл последнюю страницу обвинительного заключения, задержал взгляд на абзаце, резко подчеркнутом ярким синим карандашом. «Обвиняемые оказывали вредное воздействие на других лиц, толкнули на путь преступления». Эти строчки были подчеркнуты рукой генерального прокурора страны. Подполковник закрыл папку. Он прекрасно понял суть этой пометки. Дело Роготова, Горбышенко, Цеплис и их основных подручных закончено. Но предстояло выяснить степень вины тех, кто входил в широкий круг клиентуры этой группы, кто фигурирует в деле пока в качестве свидетелей. Их немало. И генеральный прокурор предупреждал о необходимости предельной осторожности с тем, чтобы суметь отличить невиновных от виноватых, сознательно вставших на путь преступления от тех, кого запутала в свои сети «Золотая фирма».
Мы сидим в небольшом строгом кабинете полковника Петренко. Он возглавляет уже другой, не менее сложный участок и, кроме того, ведет преподавательскую работу среди молодых чекистов. Александр Митрофанович: все так же собран, подтянут, глаза по-прежнему сверкают молодым задором. Только обильное серебро в волосах говорит о прошедших годах и нелегких делах, в расследовании которых ему пришлось принимать участие. — Встречались ли с кем из участников дела Роготова, Горбышенко, Цеплис? — спрашиваю я полковника. — Ведь они уже, видимо, на свободе? — Да, кое-кого видел. Благодарят за то, что вовремя прикрыли их «Золотую фирму», не дали докатиться до роковой черты, как это случилось с Роготовым и Горбышенко. Обещают жить честно. Надеемся, что так оно и будет.

Коралловая брошь
В кабинет к следователю прокуратуры советнику юстиции Кудимову вошел дежурный. — Вам пакет из Сосновки. Из дачной конторы. В пакете было письмо и небольшая, покрытая бархатом коробка. Советник отложил коробку в сторону и развернул послание начальника дачной конторы. Тот писал, что бригада, ведущая ремонт на даче № 40, за наличником окна спальни нашла прилагаемый сувенир. Рабочие просили отправить его в прокуратуру: может, он имеет какое-то отношение к истории, случившейся на даче? Еще начальник конторы просил решить вопрос с сараем. Основной владелец дачи, гражданка Фомина, хочет сараем пользоваться, а он, как известно, заперт, опечатан сургучной печатью, и без указания следственных властей контора открыть его не может. Кудимов отложил письмо и взял коробку. Там лежала коралловая брошь. Вещица была отличная. Руки человека превратили прекрасный дар моря, ветку коралла, в подлинно художественное произведение. Искусно выточенные из целого куска светло-розового камня лепестки развернулись, как роскошный цветок, который казался трепетным, живым. Тонкий золотой стебель, к которому крепилась роза, и нежные листья из зеленого нефрита усиливали впечатление от этого яркого и оригинального украшения. «С большим вкусом был мастер», — подумал Кудимов, убирая брошь в футляр. Когда он пристраивал ее в упругую скобку-держатель, картонка, покрывающая дно футляра, приподнялась, и под ней забелел небольшой, аккуратно вырезанный квадратик твердой, лощеной бумаги. Кудимов вытащил его. На бумажном прямо-угольнике каллиграфическим почерком было написано: «Милому Галчонку на память о чудесных встречах. М. Б.». Кудимов водворил картонку на место, медленно закрыл футляр, еще раз перечитал письмо начальника дачной конторы и задумался. Что это за брошь? Почему была так тщательно спрятана? Кому принадлежит? Может ли она иметь какое-либо отношение к трагедии с инженером Нечаевым? Кто это Галчонок и кто М. Б.? Кудимов снял трубку и позвонил капитану Снежкову, с которым они вели дело, связанное с гибелью инженера Нечаева. — Капитан? Жив-здоров? Все в норме? Очень хорошо. Ты смог бы заехать ко мне? Дело есть, хочу тебе один сувенир показать. Снежков приехал вскоре. Повертев в руках брошку, прочтя записку, проговорил: — Изящная вещица. Видимо, больших денег стоит. — Наверное. И обнаружена она в спальне Нечаевых. Вот так. — Чей-нибудь подарок. — Согласен. Но не мужа. Его-то, как известно, звали Владимиром. А тут М. Б. — Да, пожалуй. — Именно поэтому брошь оказалась тщательно спрятанной. Ее нашли рабочие за внутренним наличником окна. — Помолчав, Кудимов добавил: — Не нравится мне все это. Уж не поспешили ли мы с окончанием следствия? — Подожди, подожди, советник. Очень уж ты спешишь. Ну брошь, ну записка. А может, все это к случаю с Нечаевым не имеет никакого отношения? — Допустим. Но Галчонок — это ведь уменьшительно-ласкательное от Галины? Так? — Похоже. — Я тоже так думаю. И брошка, по всей видимости, принадлежит Галине Нечаевой. — Если учесть, что до Нечаевых Фомина дачу никому не сдавала, то, пожалуй… — Вот именно. И знаешь, что-то неспокойно у меня на душе. Докопались ли мы до истины? — Да что ты, Павел Степанович! Ни у кого даже тени сомнения не возникло. И заключения экспертов, и показания свидетелей, наконец, обстоятельства, факты — все сводится к одному: несчастный случай. А вы все еще сомневаетесь. Да и кого тут заподозрить можно? Врагов у Нечаева не было, Фоминой это ни к чему. Ну а жене тем более. Показания, как вы сами отмечали, четкие, ясные, уверенные. — Показания действительно четкие, это верно. Только все ли так было, как гражданка Нечаева поведала? И как свидетели подтвердили? Вот это-то меня и мучает. — А какой резон им говорить неправду? Просто нелогично. — Бывают, капитан, такие ситуации, в которых человек действует не только не в ладу с логикой, а вопреки ей. А кроме того, у каждого бывает своя логика. Теперь вот вполне можно предположить, что Нечаева преподнесла нам свою собственную версию событий. А мы приняли ее за истину. Могло так быть? — Ну, не знаю. Не уверен в этом. По-моему, дело это вполне ясное. — Я тоже хочу так думать. И фактов, чтобы не согласиться с тобой, у меня пока нет. Вот только разве эта коралловая брошь? — Так что же, будем все ворошить вновь? — спросил Снежков. — Я запрошу дело, почитаю. Потом позвоню. Но не исключено, что ворошить придется. …Показания жены погибшего — Галины Нечаевой, ее ответы на вопросы следователя Кудимов читал особенно тщательно. И вновь отметил их лаконизм, четкость и деловитость. Но это же и настораживало. То, что Нечаева скупо говорила о своих отношениях с мужем, о различных деталях их семейной жизни, было объяснимо. Но поражало какое-то холодное, равнодушное отношение к свершившейся трагедии. «— Когда погас свет, — читал Кудимов, — я крикнула ему, чтобы занялся пробками, иначе всю ночь в темноте сидеть будем. Он пошел проверять, но пробки оказались в порядке. Тогда полез на силовой столб осматривать провода. И тут вдруг вспышка, его крик. Я выбежала — он уже на земле лежит. Мы с соседкой стали звонить в «Скорую»… Вот, собственно, и все. — Судя по материалам, вы жили с мужем не очень-то дружно? — Не очень, согласна. Но к делу это, как я полагаю, не относится? — И все же. В этот вечер размолвка тоже была? — Сказала я ему пару теплых слов, когда он возился с пробками. За то, что поздно пришел. На работе так долго не задерживаются. — У вас были основания для каких-то подозрений? — Конечно, были. На вашего брата мужчин полагаться нельзя. Не успеешь оглянуться — уже роман. А около него девчонок было полно. И в цеху, и в их самодеятельном театре. — И как он реагировал на эти несколько «теплых слов»? — Да никак. Из равновесия больше выходила я. Он же непробиваемый был. А если выпьет, так и вовсе. Только улыбается, как блаженный. — Выпивал он часто? — Последнее время часто. И в этот вечер навеселе приехал. — А экспертиза этого, однако, не установила. — Не знаю уж, как там ваша экспертиза, а я запах спиртного за версту чую…» Кудимов закрыл папку, со вздохом отодвинул ее от себя. Ничего нового из показаний Нечаевой он не почерпнул, ясности не прибавилось. Не сняли они и той смутной, беспокойной тревоги, что закралась в его сознание. Походив в задумчивости по кабинету, Кудимов вновь раскрыл папку и стал читать показания Фоминой — хозяйки дачи. Фомина на все вопросы следователя отвечала охотно, не скупилась на детали, и даже при учете большой звукопроводимости дачных стен нельзя было не удивляться ее осведомленности. «Жили Нечаевы сначала честь по чести. Хорошо и ладно жили. А потом как пошло, как пошло. Скандал за скандалом, скандал за скандалом. Придет он вечером, выпивши, конечно. То ему не так, это не эдак. А она молчит, молчит, да потом тоже в голос на него. Ну, тут уж шум, крик, ругань. А то и драка. Я все крещусь, бывало, чтобы до смертоубийства не дошло. А как одиннадцатого-то августа все было, я подробно обсказать затрудняюсь. Уж очень нервная стала. В те дни у меня племянник мой, Мишель, гостил. Он инженер, за границей работает, ну и приехал навестить тетку. Зашел он к Нечаевым-то на их половину, а потом возвернулся и говорит мне: «Ну, будет сейчас дело. Только ты, тетя Паша, не вмешивайся, поостерегись». Хорошо, что упредил он меня. Вскорости у них и началось. Ссорились они, ссорились, шумели, шумели, а потом бац — свет погас. Слышу, вышел Нечаев на улицу и что-то прокричал ей насчет ключей. А потом удар какой-то послышался, треск и вспышка огненная. Перекрестилась я, решила выйти посмотреть, а тут Галина появилась. Мужа, говорит, током ударило. Позвонили мы в «Скорую», да где там…» Изложение событий того вечера в трактовке Фоминой полностью совпадало с показаниями Нечаевой. Свидетельства племянника Фоминой, Михаила Яковлевича Бородулина, тоже подтверждали эту версию. Кудимов показания Бородулина перелистал торопливо, долго вглядывался в его подпись под протоколом, затем достал записку, что лежала с брошью в бархатной коробке. Почерк, кажется, один и тот же. Кудимов вновь внимательно перечитал записку. Если графологическая экспертиза подтвердит, что записка его, значит, брошь была подарена Бородулиным. Правда, в факте подарка нет ничего сверхъестественного. Соседи вое же. Но почему Галина спрятала коробку? И еще: «На память о чудесных встречах». Что это были за встречи? Припомнилась Кудимову и еще одна деталь, оставшаяся непроясненной. О каких ключах кричал Нечаев жене? Что за ключи? «Что-то многовато невыясненных деталей получается, — подумал Кудимов. — Но тогда надо быть логичным до конца, признать, что дело недоследовано и его надо начинать вновь…» Он понимал, что многие отнесутся к этим его соображениям с недоумением. Какой смысл? Дело закопчено? Закончено. Новых весомых обстоятельств нет? Нет. Коралловая брошь? Какую же надо иметь силу воображения, чтобы связать эту безделушку с совершенно ясным несчастным случаем? Как Кудимов и предполагал, начальник следственного отдела Коваленко — его непосредственный начальник — удивился: — Новое расследование, конечно, можно провести. Но чего мы добьемся? Какой будет итог? Более полно будут представлены обстоятельства? Пусть так. Но сути-то они не изменят. Преступления-то здесь нет. — Так категорически я бы не утверждал. — Что, убийство? Чепуха. Кто его там, на столбе, мог убить? Не фантазируйте. Просто типичный случай безрассудства. Правда, супруга у Нечаева была такова, что от нее не только на столб — к черту в преисподнюю полезешь. Но это уже другая сторона медали. — Ну а если все-таки… убийство? — Кто? Зачем? По каким мотивам? — Ну а если бы я знал это… Можно только предположить… — Предположить можно, а вот доказать… — Вот я и хочу попытаться это сделать. — Ну что ж, ни пуха вам ни пера. С чего начать, возможно, бесперспективное занятие, Кудимов и Снежков обсуждали долго, спорили до хрипоты. Работы предстояло много. Надо было вновь и более подробно передопросить всех свидетелей этой драмы, назначить повторные экспертизы, отыскать немало новых лиц, которые общались с Нечаевыми, но не были в то время допрошены. Как знать, может быть, кто-то из них и приблизит следствие к истине? — Итак, завтра едем в Сосновку? — еще раз переспросил Кудимова Снежков. — Да, да, едем. Кстати, надо, видимо, снять этот запрет с сарая. Фомина уже жаловаться начала. Он что, для нас чем-то важен? — Да ничего особенного. Опечатал я его на всякий случай, энергощиток там старый. Теперь новый установлен, в самой даче. Сарай можно и открыть. Не пойму только, зачем этой старой сквалыге он так экстренно понадобился? — Не знаю. Телеграмму сегодня прислала. — Откроем, раз так. Специалисты все энергохозяйство обследовали. Так что пусть пользуется своим сараем… — Сказав это, Снежков замолчал. Молчал долго. Потом расстегнул и застегнул верхнюю пуговицу кителя, что всегда являлось у него признаком большого волнения. Кудимов спросил удивленно: — Ты что примолк? — Павел Степанович, боюсь, что меня осенила потрясающая мысль. — Да? И можно ее узнать? — Помните: Фомина показывала, что Нечаев крикнул жене что-то о ключах, вроде того, посмотри, мол, ключи… — Да, она утверждает, что слышала что-то подобное. — А может, он крикнул не. «ключи», а «включи» или «выключи»?! Кудимов долго смотрел на Снежкова, затем встал из-за стола, закурил сигарету: — Ты говоришь, сарай опечатан? И никто ничего в нем не трогал? — Ну, может, кто самовольничал. Только не думаю. — В Сосновку нам надо, Алеша, ехать не завтра, а сегодня, сейчас. Ты как? — Что как? Раз надо, значит, надо. Дачный сарай Фоминой был по-прежнему заперт, и сургучная печать, наложенная Снежковым на дверные створки, была на месте. Как только они вошли туда, Кудимов сразу направился к силовому щитку. — Алексей, осмотри внимательно, ничего не тронуто? — Вроде все как было. — И рубильник остался в том же положении? — Да, в том же. — Очень хорошо. Завтра же вези сюда экспертов, пусть вновь обследуют каждый миллиметр щитка. И особенно рубильник. — Так проще снять весь щиток и отвезти в лабораторию. — Ни в коем случае. Пусть приедут. — Вы думаете… — Ничего нового, Алеша, я не придумал. Просто взял на вооружение твою же мысль. А она… может, и не столь уж потрясающая, но что-то такое в себе содержит. Только давай не будем спешить.Галина Нечаева после похорон мужа заболела и находилась на излечении в городской неврологической клинике. Врачи больную беспокоить не разрешили, и Кудимову со Снежковым ничего не оставалось, как ждать ее выздоровления. За это время они узнали кое-что из ее биографии. Родилась в одной из кубанских станиц, три года назад приехала в Приозерск. Работала в проектном институте чертежницей. С Нечаевым познакомилась здесь же, он приезжал в институт от своего завода согласовывать проект нового механического цеха. Прасковья Фомина рассказала, что бывала иногда у Галины какая-то молодая девица с места ее работы. За неделю до случая с Нечаевым тоже заскочила. Побыла несколько часов и уехала. — Так, вертихвостка какая-то. Все глазки строила нашему Мишелю. Пощебетала, пощебетала она с Галиной, да и была такова. Обещала наведываться, но, видно, закрутилась, не появлялась больше. Подружка Нечаевой Людмила Самохина была ультрасовременной девицей, в донельзя короткой юбчонке, со всклокоченным шатром на голове, тяжелыми от обильного слоя краски ресницами. — О трагедии в Сосновке? Да. Знаю. Я была уверена, что этот альянс добром не кончится. — Что вы имеете в виду? — Ну, их семейную жизнь. — А почему вы так думали? — Мужлан он был, ужасно некоммуникабельный. Ну совсем, совсем не подходящий для Галки. И как это она за него выскочила, до сих пор не пойму. — А какая была цель вашей поездки к Нечаевым в Сосновку? — Мы с Галкой собирались на курсы иностранных языков поступать, потому я и поехала к ней. Только все это кувырком полетело. — А почему она ушла из вашего проектного института? — Ее благоверный настоял, чтобы лучше подготовилась к вступительным экзаменам. — Выходит, заботливый был муж? — Не знаю, может, и заботливый. Только очень уж старомодный. Ну прямо-таки доисторическая личность. Как-то мы стали танцевать с Галкой что-то невинное, но современное. Так, представляете, ушел. Смотреть, говорит, тошно. Нет, ошиблась в нем Галка, явно ошиблась. Она и сама это, по-моему, поняла и исправила бы, наверное, свою оплошность, не произойди этот дикий случай. Да что тут говорить, если бы не Мишель, она бы с ума сошла в этой Сосновке. — Мишель? Кого вы имеете в виду? — Ну сосед их, Мишель Бородулин. — Они что, были… дружны? — Кто? — Нечаева и Бородулин. — А что, в этом есть что-то предосудительное? — Нет, конечно. Но вы имеете в виду дружбу семьи Нечаевых или… Галины? Самохину этот вопрос не удивил и не озадачил. — Насчет Нечаева сказать не могу. А взаимный интерес Мишеля и Галины был очевиден. Большего я, конечно, не знаю. Галка была не простушка. С чего бы она мне выложила свои интимные дела? — Ну, мало ли как бывает. Может, совет ваш был нужен, помощь какая. — У нее и без меня была советчица. — Кто же это? — Полина — старшая сестра. Галина уважала ее. Она на родине Галки живет, в Краснодаре. Это было новое обстоятельство. Старшей сестре могли быть известны факты, способные пролить дополнительный свет на всю эту историю. Капитану Снежкову приходилось бывать в самых разнообразных командировках, выпадали нередко и малоприятные поручения, и встречи с людьми. Но никогда еще он не собирался в поездку с таким тяжелым, неприятным чувством. — Почти уверен, что этот мой вояж закончится полным провалом, — со вздохом признался он Кудимову. — Загад не бывает богат, капитан. А может, все случится наоборот. Люди ведь все разные. Ближе к истине в данном случае оказался Кудимов. Преподаватель истории Полина Григорьевна Лагутенко встретила капитана сдержанно, но спокойно. Она отложила в сторону стопку ученических тетрадей, которые только что проверяла, и, сняв очки с утомленных глаз, проговорила: — Вы, видимо, по делу Нечаева? — Да, именно по этому делу. Извините, Полипа Григорьевна, но, знаете, служба, вынужден. И сразу хочу оговориться: вы вправе не отвечать на вопросы, отказать в моих просьбах. Но, понимаете, ряд обстоятельств требует уточнения. Потому-то мы и решили отправиться сюда, побеспокоить вас. — Что же теперь толку в этих уточнениях? Владимира не вернешь, Галина тоже травмирована на всю жизнь. Но если могу быть полезной, то пожалуйста. Однако прежде хочу попросить вас, и попросить категорически. Не встречаться с мамой, не тревожить ее. Она и так крайне плоха. — Хорошо, Полина Григорьевна. Ограничимся беседой с вами. — Так что же вас интересует? — Нам стало известно, что Галина Григорьевна доверительно относилась к вам, советовалась с вами. Может, вам известно что-либо существенное из их жизни? — Мало я знаю, очень мало. И в какой-то мере считаю себя виноватой перед Галей. Не надо было ее так рано отпускать из дому, не настояла я на этом в свое время, а теперь вот раскаиваюсь. Галя всегда была очень экзальтированной, своенравной натурой, с повышенной чувствительностью. Мы всегда боялись за нее. И как видите, не без оснований. Уехала она в Приозерск. В институт не попала ни в первый, ни во второй раз. Это ее оскорбило, обидело, ущемило самолюбие. Звали мы ее домой, но опять-таки не настояли. Она осталась в городе, устроилась на работу. Была я у нее дважды — вроде все было хорошо. И работа неплохая. Успокоились мы, тем более что и мысль об учебе она не бросала. Потом получаем письмо: вышла замуж. Для нас это было как гром среди ясного неба. Ну а что сделаешь? Молодые нынче сами все решают. Потом она приехала к нам с мужем. Скажу вам прямо: Владимир мне и маме понравился. Серьезный, немногословный, удивительно обстоятельный какой-то. Рады мы были за Галю. А этим летом, видимо, что-то произошло между ними. Писала Галина об этом глухо, немногословно. Но чувствовалось, мечется она, попала в трудный жизненный переплет. Не успела я ответить на ее предыдущее письмо, как получила новое. Оно меня буквально ошеломило. Галина писала ужасные вещи. Что муж ее распутник, пьяница, никчемный неудачник, что она не может с ним жить, вынуждена искать выход из заколдованного круга. Что за выход? Какой? Отругала я ее на чем свет стоит, умоляла не принимать никаких решений до нашей встречи. Рассчитывала вскоре выехать к ним. А потом получаем страшную весть о несчастье с Владимиром. Помчалась я в ваш город. Ну, сами понимаете, в каком состоянии была сестра. Успокоила, как могла, в больницу определила. Что вас еще интересует? Снежков задумался. Просьба, с которой ему предстояло обратиться к Полине Григорьевне после ее такого откровенного и искреннего разговора, казалось ему по меньшей мере бестактной. Но обстоятельства требовали этого. — Полина Григорьевна, если можно, разрешите посмотреть последнее письмо Галины. — А это очень важно? Мне бы не хотелось… — Вынужден настоятельно просить об этом. — Ну, что же делать… Прочтя письмо, Снежков проговорил в задумчивости: — Да, видимо, действительно через пень колоду все пошло у них, раз столько гнева накопилось. Смотрите, какие слова: «Цепи на руках, вериги, стена, застилающая мне свет…» — Да, конечно. Но кто мог предположить, что Нечаев окажется… таким? Галина при последней встрече рассказала ужасные вещи… Только, извините, передавать их я не буду. Мертвых обычно не судят. — Согласен с вами. Но мой долг установить истину, какой бы она ни была горькой. Что-то в интонации Снежкова насторожило Полину Григорьевну. Она побледнела. — Я хочу, чтобы вы убедились в одном — Галина тонкая и искренняя натура. И если у них с Нечаевым жизнь не удалась, то вина лежит не на ней. Возможно, со временем у них и уладилось бы все, если бы не этот нелепый случай. Что мог ответить ей Снежков? У него уже сложилось довольно определенное направление мыслей по этому делу. И оно было прямо противоположным тому, что пыталась доказать Полина Григорьевна. Но травмировать раньше времени эту женщину Снежкову не хотелось. — Полина Григорьевна, верьте: мы сделаем все, чтобы истина была установлена. Это все, что я могу вам сказать.
— Так что пора, товарищ советник, приглашать мадам Нечаеву и ее донжуана, — подытожил Снежков свой доклад о результатах поездки в Краснодар. Снежков говорил несколько приподнято, он все еще находился под впечатлением от своей поездки. Кудимов согласился: — Да, пожалуй, можно и вызывать. Здесь мы тоже навели кое-какие справки. И о Бородулине в том числе. — Вероятно, любопытный малый? Не зря же Нечаева влюбилась в него до безумия. — Влюбилась? Ты убежден в этом? — Полностью. — Даже так? Ну что же, бывает. Посылай ему телеграмму. Только с его начальством предварительно согласуй. И вот Михаил Бородулин перед Кудимовым и Снежковым. Модно и даже броско одетый, длинные, по плечи, волосы, ухоженные баки. — Мы вас вызвали по поводу несчастного случая с инженером Нечаевым. — Я это понял и, не скрою, удивился. Все, что мне известно, я сообщил при первой же нашей встрече. Нового сказать ничего не могу, ибо ничего больше не знаю. Какая надобность была в том, чтобы отрывать меня от дела, немаловажного, между прочим, тащить сюда за тысячу километров, чтобы услышать то, что уже записано в ваших протоколах? — Понимаете, Михаил Яковлевич, вскрылись некоторые новые обстоятельства. — Что, может, меня подозреваете в убийстве? — с сарказмом спросил Бородулин и попросил разрешения закурить. — Курите, пожалуйста. — Я йогу лишь повторить, что говорил ранее. И какие бы новые обстоятельства вы по этому делу ни обнаружили, я к ним отношения не имею. Да и какие еще могут возникнуть обстоятельства? Полез человек на столб, обмишурился по собственной глупости, забыв, видимо, элементарные законы физики. Что тут может возникнуть нового? — Возможно, и так, Михаил Яковлевич. Но не объясните ли нам некоторые обстоятельства, связанные с этой вещицей? — Кудимов поставил перед Бородулиным коробку с коралловой брошью. — Что я должен объяснить? — Эту брошь Нечаевой подарили вы? Бородулин не спеша раскрыл крышку, пристально осмотрел брошь и аккуратно отодвинул сувенир от себя. — Отличная вещица, — промолвил он. Кудимов нахмурился: — Отвечайте на вопрос. Вы подарили? — Да, я. Но что из этого следует? — И записка ваша? — Какая записка? — Посмотрите, она под брошкой. Бородулин плохо слушающимися пальцами достал записку, прочел. — Ваша записка? — Моя. Но… — Как все это можно объяснить? — Слушайте, товарищи следователи, вы не забыли, что вам далеко не все позволено? Вы, кажется, и впрямь хотите прилепить мое доброе имя к этому делу? Осторожнее, знаете ли. — Вы ответьте на вопрос. — Ну а что тут можно ответить? Да, я подарил эту безделушку Нечаевой, черкнул несколько ничего не значащих слов. Что из этого следует? Из мухи слона делаете. — А как вы оцениваете вот это свидетельство? Соответствует ли оно действительности? — Кудимов положил перед Бородулиным показания Самохиной. Бородулин надел очки, потом снял их, протер, надел вновь. Долго, шевеля губами, читал листки, положенные перед ним. Затем хрипловато проговорил: — Невероятно. Гражданка Самохина явно превратно поняла наши отношения. — Но вы ведь оценивали их точно так же и даже гораздо определеннее. Припомните ваши разговоры с Игорем Синягиным, Василием Кучеренко и Николаем Смирновым. Вот читайте их показания. Снежков еще до приезда Бородулина прочитал эти протоколы и вновь сейчас подумал: Кудимов не сидел тут сложа руки, пока он ездил на Кубань. Показания приятелей Бородулина были очень существенны для дела, и Кудимов со Снежковым с интересом ждали реакции Бородулина на эти документы. Бородулин медленно читал одно, другое, третье показание и наконец со вздохом отодвинул папку с протоколами. — И вы всерьез поверили в эти сказки? Не ожидал, знаете ли. Надо же отличать мужскую болтовню от серьезного разговора. Кто из нас не прихвастнет после рюмки-другой о своих успехах у женщин? — И все-таки вам придется все это объяснить. Бородулин лихорадочно стал обтирать вспотевший лоб, нервно загасил сигарету. — Скажите, а на моей службе об этом… Если я расскажу… Ну, обо всей этой истории будут знать? — Смотря что будет установлено. — К смерти Нечаева я отношения не имею. Я тут совершенно чист. Но понимаете, я на ответственной работе… И естественно… Кудимов его сухо прервал: — Я прошу вас говорить по существу. И уясните себе, пожалуйста, если вы так озабочены своей репутацией, что ложь и увертки вам не помогут, а скорее повредят. Очень советую помнить это. Бородулин вскинул голову: — Я отвечу на ваши вопросы. Но прошу перенести разговор на завтра. — Почему же? — Хочу все еще раз обдумать. Кудимов и Снежков переглянулись. Значит, товарищ Бородулин не так-то уж чист в этой истории? — Ну что же, завтра так завтра, — согласился Кудимов. Когда утром следующего дня Снежков вошел в комнату Кудимова, тот стоял у окна, нервно курил сигарету и читал какую-то бумагу. — Давай, давай, заходи. Очень интересная новость, — торопливо пригласил он. — Какая же? — Вот читаю заключение экспертизы. Слушай выводы: «Отпечатки пальцев на рукоятке рубильника силового щитка в сарае принадлежат гражданке Нечаевой». Как тебе это нравится? — Что же выходит? Она выключила… Затем… — Затем включила. И все. Потребовались лишь секунды. Так что твоя догадка, что Нечаев не о каких-то там ключах кричал жене, а просил выключить рубильник, оказалась верной. Поздравляю тебя. — Вот видишь, а ты меня не ценишь. — Всему свое время, капитан. А теперь садись за стол. Будем беседовать с гражданкой Нечаевой. Посмотрим, что она будет говорить. — Не думаю, что легко признается даже при наличии таких улик. Будет выкручиваться, и основания для этого кое-какие есть. — Например? — Например, почему отпечатки пальцев на рубильнике обязательно надо связывать с одиннадцатым августа? Она могла их оставить раньше. Нечаева заявила дважды и категорически, что в сарай она не ходила вообще. Это зафиксировано в протоколах допроса. — Интересно, как она теперь все будет объяснять. — Это мы сейчас увидим и услышим. Нечаева вошла в кабинет Кудимова спокойная, собранная. Почти двухмесячное пребывание в больнице явно пошло ей на пользу. Она посвежела, темные, набухшие полукружья под глазами расправились. В меру были подведены брови и ресницы, аккуратно подстриженные ногти поблескивали розовым перламутром. — Я вас слушаю, товарищи. Видимо, опять по делу Володи? — Да, все по тому же делу. — Но я уже все рассказывала. Самым подробным образом. — Да, да, мы знаем. Но дела такого рода быстро не заканчиваются. Вот и у нас возникли некоторые дополнительные вопросы. — Пожалуйста, если смогу, с готовностью отвечу на них. — Первый вопрос по поводу вот этой брошки. — Кудимов выставил на стол футляр, открыл его. — Это ваша брошь? — Да, моя. Только пропала она куда-то. Искала я ее, искала, да так и не нашла. — Ее нашли за наличником окна в спальне. — Да? Как же она попала туда? — Это мы у вас хотим спросить. Припомните, пожалуйста. Нечаева долго морщила лоб. — Кажется, действительно я ее туда положила. Что-то такое было. — А что же именно? Нечаева игриво улыбнулась: — Ну, не все должен видеть муж, что покупает жена. — Да, вероятно, бывает и так. Но брошь-то не купленная, с ней вместе находилась и эта вот небольшая записка. Взгляните. Прочтя записку, Нечаева проговорила: — Да, все верно. Это подарок одного знакомого. — Михаила Бородулина? Так? — Вам и это известно? Быстро, однако. Буду теперь знать, что с нашими криминалистами держи ухо востро, — скривив в усмешке губы, проговорила Нечаева и вся напряглась, ожидая следующего вопроса. — Были и другие подарки? — Ну а что тут особенного? — Замшевое пальто, синий брючный костюм — это тоже подарки Бородулина? — Да, его. Мы ведь друзья. — Друзья? И только? Нечаева возмущенно повела плечами: — На этот вопрос я отвечать не буду. — Пожалуйста. Это ваше право. Но из материалов дела явствует, что вы очень сильно докучали мужу своей ревностью. Поводы же для этого скорее были у него, а не у вас. — А вам не кажется, товарищи следователи, что все это сугубо личное, интимное? И к делу отношения не имеет. — Имеет, и довольно существенное. Ваше поведение по отношению к Нечаеву было провокационным. Якобы на почве ревности вы терзали его скандалами, хотели допечь, доконать, добиться, чтобы ушел. Нечаев мучился, начал попивать, сам стал огрызаться… но не уходил. Да и не собирался. И тогда… — Что же тогда? — хрипло спросила Галина. — Тогда наступило одиннадцатое августа. Случаи с оборванными проводами. Все вы сделали удивительно тонко, в уме вам отказать нельзя. Нечаева, поперхнувшись, выдавила из себя: — За комплимент спасибо. Но что я сделала? Послала его исправить пробки? Кто мог предположить, что все так кончится? — Не спешите, Галина Григорьевна. Давайте разберемся вместе. Расскажите еще раз подробнее, как погиб муж… — Но я уже все, и не раз, рассказала. Произошло это буквально в какие-то доли минуты. Он вышел на улицу. Потом я слышу, зовет меня. И только я вышла, на столбе, куда он забрался, появилась зеленая вспышка, и Владимир, вскрикнув, упал вниз. Вот и все. — Что он кричал вам, когда вы вышли из дачи? — Ну, я не помню. Просто звал меня. — Фомина показала, что он кричал что-то вроде «ключи», «ключи»… — Не помню, не знаю. При чем тут ключи? Какие ключи? Я не слышала этого. — Зачем же он звал вас? — Видимо, чтобы я помогла в чем-то. А сказать не успел. — А зачем вы забегали в сарай, когда вышли после его зова? — В сарай? В сарай я не заходила. — А раньше? — Раньше бывала. На даче мы прожили не один день. Мало ли хозяйственных надобностей бывает. — Но на прежних допросах вы утверждали, что не ходили туда, так как сарай вам не принадлежал. — Правильно, он принадлежал только хозяйке, но ходить в него я могла. — Так ходили или не ходили? Припомните точно. — Говорю же вам: бывала. Из-за того же света. Он пропадал и раньше. Помню, ходила туда, чтобы узнать, в чем дело. — Вы говорите неправду, Нечаева. Свет на даче выключался дважды. Первый раз в июне, во время грозы, и притом во всем поселке. Подстанция включила его вновь через пятнадцать минут. Второй раз неполадки со светом были второго августа. Отошли контакты пробки. Бородулин, как вы помните, справился с «аварией» за пять минут. Так что и в этом случае выяснить, в чем дело, не требовалось. — Возможно, я запамятовала что-то. Допускаю. Но почему вас не устраивает… — Нас может устроить только истина, гражданка Нечаева. Только она. И поэтому ответьте нам четко и ясно: зачем вы заходили в сарай одиннадцатого августа, когда Владимир вас вызвал из дачи? — В тот вечер я не была там, утверждаю это категорически. — Но и Фомина и Бородулин утверждают, что видели в окно, как вы, выйдя из дачи, побежали к сараю. И только потом была вспышка. — Вы знаете, в такие трагические моменты трудно запомнить течение событий в деталях. Но в сарай не заходила. Да и что мне там делать? — Вам было что там делать, Нечаева. На рубильнике силового щитка обнаружены отпечатки ваших пальцев. Вот послушайте заключение дактилоскопической экспертизы… Нечаева слушала заключение экспертов хмурясь. — Это еще ни о чем не говорит. Я буду опротестовывать это заключение. — Опротестовывать заключение можно, но бесполезно. Вы лучше думайте, как оправдать наличие следов пальцев вашей руки на рубильнике, — сухо заметил Кудимов. А Снежков добавил: — И еще вам следует подумать, как объяснить ваши слова Бородулину в прихожей, тут же после звонка в «Скорую»: «Вот я и свободна…» — А кто мог слышать такое? — вскинулась Нечаева. — Это подтверждается показаниями Бородулина. — Мишель не мог этого сказать, не мог. Не верю. — Вы можете ознакомиться с его показаниями. Кроме того, вам предстоит встреча на очной ставке. …На очной ставке с Бородулиным Нечаева вела себя нервно, возбужденно, лихорадочный румянец покрыл ее щеки, она то и дело заискивающе улыбалась Бородулину. Но ее попытки найти контакт с ним ни к чему не привели. Бородулин был во власти животного страха и думал только о том, как выпутаться из всей этой опасной истории, не очутиться рядом с Нечаевой. Она, улучив момент, взяла его руки в свои, хотела сказать что-то, но вдруг отбросила их, словно наткнувшись на что-то раскаленное, обжигающее. Не составляло особого труда распознать душонку этого хлыща, догадаться о его мыслях. И Нечаева «прозрела». Глаза ее налились ненавистью: — Так-то сдержал свое слово! Трех месяцев не прошло… Подлец… Какой же ты подлец! Бородулин сидел, втянув голову в плечи, и все прятал, закрывая другой рукой, обручальное кольцо, которое сверкало у него на пальце и которое так опрометчиво он не сиял, идя сюда. Нечаева вытащила белый кружевной платок, тщательно вытерла руки, словно стараясь не оставить и следа от недавнего прикосновения, и, обращаясь к Кудимову, твердо, с нотками нервного вызова проговорила: — Теперь мне терять нечего. Я расскажу все. Но пусть и этот ублюдок получит свою долю. Длинный, занявший целых три дня разговор с Нечаевой, почти столь же продолжительный допрос Бородулина, несколько встреч с Фоминой, с Самохиной, скрупулезное изучение прежних материалов позволили Кудимову и Снежкову предельно точно восстановить события, происшедшие одиннадцатого августа. Владимир Сергеевич Нечаев, инженер-технолог стекло-комбината, приехал в Приозерск десять лет назад после окончания института. Слыл он в некоторой мере оригиналом в силу того, что все еще ходил в холостяках. Малоразговорчивый, застенчивый и медлительный, он увлекался немногим, вечно что-то изобретал у себя в цехе и постоянно пропадал в самодеятельной студии драматического искусства при заводском Доме культуры. Здесь-то он два года назад и встретил свою Психею — Галину Лагутенко. Увидел и онемел. Сам-то Нечаев, может, и год, и два, и больше ходил бы вокруг да около, но Галина в ответ на его воздыхания проговорила довольно деловито: — Вы что же, предложение мне делаете? — Можно и так считать. — Ну что же, чему быть, того не миновать. Как более энергичная и решительная натура, Галина быстро взяла в свои руки руль семейного корабля. Гибкая, поджарая, с длинными, крепкими ногами, она стремительно носилась по квартире, наводя здесь свой порядок и свой стиль. — Нечаев, прими-ка эту тяжеленную статую. Ну и что, что это твоя премия? Пусть в кладовке лежит. Поставим сюда вот эту штуку. С трудом ее вырвала в художественном салоне. — А что это такое? — рассматривая замысловатую путаницу рук и ног, с недоумением спросил Нечаев. — А ты что, не петришь в абстрактном искусстве? Мне тебя жаль, Нечаев. Сама она тоже в этом искусстве понимала мало, наверное, даже меньше Нечаева, но верхушек нахваталась предостаточно и старалась, чтобы в квартире все было «в духе времени». Нечаев относился к хозяйственному рвению Галины снисходительно и даже с одобрением. В конце концов, раз ей нравится, значит, это хорошо. Он относился к жене с каким-то робко-трепетным обожанием, боготворил ее, считал, что ему удивительно повезло в жизни. Как-то Нечаев, после того как пропадал куда-то несколько воскресений подряд, пригласил жену поехать в Сосновку. — Зачем? — Я там дачку приглядел. Вернее, полдачи. Две комнаты, веранда, отдельный вход и участок есть. Небольшой, правда, но уютный, солнечный такой. — Дачку? И мне ничего не сказал. Ну ты хитер! — Лишь бы тебе понравилась. Дача Галине понравилась. А когда Нечаев принес документы, из которых явствовало, что покупка оформлена на ее имя, Нечаева горячо расцеловала супруга. Скоро, хотя шел только апрель, Нечаевы перебрались на лоно природы. Так как Галина все еще не бросала мысль поступать на курсы иностранных языков («Только туда, и никуда больше. Хочу мир увидеть»), муж предложил ей уйти с работы. Тем более что и хлопот по даче оказалось немало. Галина изо всех сил старалась придать ей модерновый стиль. Учебники пока лежали в шкафу нетронутыми. Вскоре Фомина пригласила Нечаевых на скромное пиршество по поводу приезда родственника. Племянник Фоминой — Михаил Бородулин, тридцатилетний рослый, атлетически сложенный парень, с черной, отливающей синью гривой волос, много рассказывал интересного и беседу и все веселье за столом полностью взял в свои руки. А в конце и свою тетю, и даже Нечаева заставил станцевать что-то дико африканское. А с Галиной он чего только не откаблучивал под бесконечные катушки какого-то заграничного магнитофона! Ночью, когда ушли от Фоминых, Галина поделилась с мужем: — Какой удивительно современный этот Мишель! — Да, оригинальный малый. На Бородулина Галина тоже произвела некоторое впечатление, и он сразу же стал оказывать ей подчеркнутое внимание. Времени у обоих было более чем достаточно. Совместные прогулки на реку, купание, томительное безделье за чашкой кофе с коньяком («За рубежом делают только так») сблизили их настолько, что для перехода последней грани оставалось совсем немного. Бородулин неукоснительно и настойчиво пел Галине дифирамбы: и какая она особенная, и какая чудесная, и какой у нее изысканный, утонченный вкус. Высказался как-то о том, что неудачного она подобрала себе супруга… Галина легонько погрозила ухажеру пальцем. Однако не возмутилась, не пресекла его злой насмешки. Оказалось, что, по правде, она думает так же. Сговор, хоть и негласный, таким образом, состоялся. И в этот же вечер была перейдена последняя грань, к чему стремились, в сущности, оба. Нечаева понимала, что Владимир может догадаться, узнать о ее связи с Бородулиным, и, чтобы предупредить это, сама стала обвинять мужа во. всех смертных грехах. Нечаев, как и раньше, приезжал домой лишь вечером, но теперь его встречали не просто шумными упреками, а обвинениями в пьянках, в подозрительных отлучках. Будь Нечаев человеком похитрее, житейски поопытнее, он, конечно, раскусил бы эти ухищрения. Но куда там! Он утешал себя мыслью: «Значит, очень любит, раз ревновать начала». В самодеятельной драматической студии Дома культуры немало было хорошеньких заводских девчат. Нечаев репетировал с ними целыми месяцами, готовя какой-нибудь драматический опус. Со всеми он был запросто. Ниночка, Верочка, Машенька… Это была обычная его форма обращения со студийками. Зайдя как-то на репетицию в Дом культуры и увидев мужа в окружении этих молодых девчат, Нечаева подумала со злостью: «Ну, милый, ты тут тоже, поди, не без греха…» Вечером она ему устроила «концерт». — Гарем целый завел, стыд, срам! Нечаев, обескураженный донельзя, оправдывался, в ужасе махал руками и с превеликим трудом утихомирил супругу. Но ссоры и скандалы после этого стали еще агрессивнее, повторялись все чаще. Нечаев решил выяснить, в чем все-таки дело. Но нарвался лишь на крик, истерику, ругань. Постепенно это вошло в норму их жизни. Он уже не стремился скорее приехать в Сосновку. Чтобы как-то провести время, заглушить остроту боли, выпивал впривокзальном ресторане рюмку-другую, запивал пивом и, уравновесив таким образом свое состояние, взбодрив дух и обретя некоторую толику смелости, отправлялся домой. Но теперь ему уже приписывались и кутежи, и пьянки, и вакханалии в объятиях поклонниц. Причина столь нервного, взвинченного состояния Галины, однако, была в другом. Приближалось время отъезда Бородулина. Он опять отбывал куда-то. В начале их близости он убеждал Нечаеву, что она создана не для такого пентюха, как Нечаев, что ей надо быть с ним — с Бородулиным. Теперь разговоров на эту тему он старался не заводить. Галина же все настойчивее спрашивала: как дальше? Ты уедешь, а как же я? Бородулин старательно внушал ей сдержанность: — Галя, пойми, у тебя есть муж. Не могу же я повезти с собой за рубеж чужую жену. Если бы даже захотел — никто мне этого не разрешит. — Но надо искать выход. Я не люблю его больше, не могу жить с ним. Неужели тебе это не ясно? Я люблю тебя, и только тебя. — Все это, Галчонок, хорошо, но давай трезво смотреть на вещи. Вместе мы пока быть не можем. — Я разведусь с ним. — Почему? Какие причины ты выдвинешь в суде? — Не хочу, вот и все. Полюбила другого — тебя. У нас же не итальянские законы, разведут. — Это, конечно, верно. Но взвесить все последствия такого шага все-таки нужно. Развод, суд — все это быстро не бывает. А мне уже через две недели в путь. И главное, все надо сделать тихо и мирно. Чтобы не выглядело аморально. Нет, Галчонок, я бы не спешил. Освободиться тебе от семейных уз нужно. Но умно, не спеша. — Ты не шути, Михаил. Я ведь такая. Все сделаю… — Ну и я все сделаю, о чем речь? — Бородулин, чтобы придать значение своим словам, наигранно-взволнованно проговорил: — Как станешь свободным Галчонком, дай мне знать. И мы будем вместе. Выйдя от Галины, Бородулин с облегчением подумал о том, что осталось совсем немного времени до отъезда и вся эта затянувшаяся и изрядно наскучившая ему дачная история наконец закончится. А Нечаева после его ухода долго сидела задумавшись. Тяжелые складки бороздили ее лоб. Конечно, он прав, как он может сейчас взять ее с собой? Чужая жена. Но и отказаться от Бородулина она не могла, даже мысли такой не допускала. По законам чисто женской логики в этой безвыходности из тупика она обвинила мужа и всю силу ненависти обратила на него. Какая же я дура, думалось ей, что выскочила за этого Нечаева! Ах, если бы я была одна, если бы не было этих вериг на ногах… Вечером одиннадцатого августа они с Мишелем, попивая коньяк, сидели на диване. И именно в это время скрипнула калитка. Как же это было некстати, как опускало Галину на землю с голубых высот! Галина смотрела, как муж идет по тропе, и слепая ненависть и злоба душили ее, застилали глаза. Встретила она его целым залпом бранных слов: — У какой-то очередной шлюхи валандался? А мне будешь плести, что застрял на собрании или заседании? И когда это кончится? Когда? — Галина громко, пронзительно запричитала. То и дело слышались ее стонущие, истошные выкрики: — Ты испортил мне жизнь, не могу выносить эту грязь, не могу! Все мерзко, все гадко! Не хочу так жить, не хочу!.. Нечаев, уже привыкший к подобным истерическим вспышкам, постарался урезонить супругу: — Галка, да что с тобой? Откуда ты берешь свои фантазии? Действительно, мы застряли в завкоме сегодня. Получается у нас одна стоящая задумка, ну так вот, мараковали, как и что. — И долго ты меня дурачить будешь, голову мне морочить? Неужто я поверю в твои бредни? Нет, Нечаев, хватит, я не могу больше, не могу! — Галина в голос, навзрыд заплакала. Плечи ее тряслись, она уткнулась в подушки дивана и продолжала плакать все так же громко, все так же неистово. Это вывело Нечаева из себя, и он нервно, еле сдерживаясь, с дрожью в голосе спросил: — Ты кончишь наконец свой спектакль? — Так как плач не унимался, Нечаев, уже не скрывая своей злости, крикнул: — Возьми себя в руки, иначе скоро угодишь в сумасшедший дом! Галина, услышав это, смолкла, приподнялась с дивана. Она не плакала. Глаза ее горели, лицо было бледно, руки дрожали. — Так вот ты как? Меня в психиатричку, а сам свободная птица? Ну так вот, подлая душа, не будет этого, никогда не будет. Не на ту напал. Я сумею за себя постоять, сумею. — Да успокойся. Что с тобой? Совсем ошалела. Тебя действительно лечить надо. — Проговорив это, Нечаев подошел к выключателю, повернул его. Света не было. — Давно нет электричества? — спросил он. — Не знаю. У такого хозяина, как ты, разве может быть дом в порядке? — Опять, видимо, пробки. Пойду посмотрю. Минут через пять послышался его голос из сеней: — Нет, пробки в порядке. Значит, провода. Видимо, ветер порвал. Через несколько минут раздался его голос со столба: — Галина, выйди на минутку. — Когда та показалась на крыльце, попросил ее: — Зайди в сарай, посмотри, выключен ли рубильник. — Так что, его включить или выключить? — Если хочешь меня сжечь, то включи, а если хочешь, чтоб жив остался, выключи. Галина вошла в сарай. Рубильник был включен. Посмотрела сквозь открытую дверь на мужа. Тот ожидал ее сигнала. Галина выключила рубильник, мгновение помедлив, включила его вновь и махнула мужу. Лестница была коротковата. Нечаев торопливо сращивал концы оборвавшегося верхнего провода. Потеряв равновесие, он ухватился за нижний изолятор, и рука соскользнула на провод. Галина видела, как сноп зеленоватых искр вспыхнул над столбом, слышала, как глухо вскрикнул Нечаев, как он рухнул на землю. Выйдя из сарая, она воровато оглянулась и бросилась на половину Фоминых. Позвонив в «Скорую» и направляясь к себе, Нечаева в сенцах взяла Михаила за руку. — Вот я и одна, не забудь обещание-то. — Неужели… ты… Как же… — Несчастный случай. Бывает. — Ужас какой, — пролепетал Бородулин и шарахнулся от Галины. Их судили, Галина Нечаева была приговорена к лишению свободы, а в отношении Бородулина суд ограничился частным определением. Его соучастие в убийстве инженера Нечаева доказано не было, за подлость же и пакостничество у нас не судят. А жаль.

Старые счеты
Сотрудники треста Сельстрой только что собрались к началу работы, когда истошный крик технического секретаря Нины Скворцовой взбудоражил всех, собрал в тесноватую приемную около кабинета управляющего. Девушку била истерика, душили слезы, и она прерывающимся голосом повторяла одно и то же: — Я вошла, а он уже убитый, убитый уже. У меня прямо ноги подкосились. Работники Горчанской прокуратуры и уголовного розыска, советник юстиции Пчелин и капитан Короленко прибыли в трест сразу после случившегося. Со всех сторон слышались возбужденные голоса: — Видимо, какой-нибудь грабитель забрался. — Не иначе. Кто же еще мог учинить такое? — А может, месть? — Кто это Сипягину мог мстить? За что? — Скоро узнаем, в чем дело. Вот приехали товарищи, разберутся, найдут злоумышленника. — Так он их и дожидается. Поди, уже за тридевять земель отсюда. Управляющий трестом Сипягин мешковато сидел в кресле за своим столом с испуганным, удивленным выражением лица, приложив обе руки к левой стороне груди. Алые струйки крови сочились меж пальцев. В кабинете не было каких-либо следов борьбы. Мирно тикали старинные часы в углу, чинно стояли стулья вокруг небольшого стола заседаний. Один из них был приставлен к письменному столу Сипягина. На столе управляющего лежала раскрытая папка с бумагами, стоял недопитый стакан чаю с тонкой долькой лимона. После осмотра места происшествия Короленко вместе с представителями общественности треста открыл сейф покойного, сделал опись всего содержимого. Эксперт продолжал тщательно обследовать каждый сантиметр письменного стола, а Пчелин стал беседовать с сотрудниками треста. Трест начинал работу, как и все городские организации, в девять часов утра. Сипягин, если не было каких-либо совещаний в городских организациях и если он не заезжал на строительные площадки, появлялся на работе, как правило, в половине девятого. Уборщица Дарья Проценко, или тетя Даша, как все ее звали, по давно заведенному порядку до прихода управляющего заканчивала уборку помещений, разогревала чайник и уходила. Так было и сегодня. Нина Скворцова пришла на работу без пяти девять и по переключенным из приемной телефонам и закрытой двери кабинета поняла, что управляющий уже на месте. В девять часов она пошла доложить, что находится на работе, и нашла Сипягина убитым. Значит, трагедия произошла в течение двадцати — двадцати пяти минут, в промежутке между уходом уборщицы и приходом Скворцовой. Видимо, человек, совершивший преступление, пришел именно в этот промежуток времени, сделал свое страшное дело и, никем не замеченный, убрался восвояси. Немного успокоившись, Скворцова припомнила, что, подходя к тресту, она заметила, как от здания уходил какой-то человек в сером дождевике. — И мне кажется, — заявила она, — что это тот человек, который был у нас в тресте вчера или позавчера. Он пытался попасть к Кириллу Тихоновичу, но у него шло одно совещание за другим. — А вы уверены, что это был именно тот человек? — Уверенно утверждать не могу, но похож, очень похож. Широкоплечий такой, черноволосый и загорелый. Это была ниточка, хотя и не очень существенная. Подробно записав те немногие приметы одежды и словесный портрет, что сообщила Скворцова, сотрудники опергруппы подготовили информацию о происшедшем событии, приметах подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления и передали милицейским подразделениям соседних городов и районов. Силами сотрудников милиции и дружинников тщательно проверили всех проживавших и проживающих в эти дни в Доме колхозника, городской гостинице, в общежитии техникума, где тоже нередко приезжие находили себе приют. Проверка эта, однако, ничего не дала. Этими скудными итогами и закончился первый день работы по раскрытию преступления. — Немногое удалось, очень немногое, — сокрушенно заметил Короленко. Пчелин вынужден был согласиться: — Да, багаж невелик. …Происшествие в строительном тресте взбудоражило весь Горчанск, породило немало разноречивых слухов, предположений и домыслов. На улицах, в магазинах, в учреждениях только и разговоров было об этом случае. Одни говорили, что злоумышленников было трое, что они спрятались в конторе треста на ночь и утром совершили свое подлое дело. Другие толковали о том, что управляющего лишил жизни умалишенный, сбежавший из пригородной психиатрической больницы. В кабинете Пчелина и Короленко то и дело раздавались телефонные звонки. Передавались и известные уже оперативникам слухи, сообщались и новые. Один из ретивых энтузиастов советовал тщательно разобраться с личностью Скворцовой, технического секретаря треста, другой рекомендовал немедленно заняться бывшим бухгалтером треста Кузиком: они с управляющим были «на ножах». Конечно, установление личности гражданина в дождевике было в центре плана намеченных мероприятий оперативной группы, но это не исключало необходимости проверки и других версий. Вот хотя бы звонок о техническом секретаре треста Скворцовой. Короленко даже усмехнулся, когда зашла об этом речь: — Чепуха это, товарищ Пчелин. — Согласен, вероятнее всего, чепуха, но… В тресте никого не было, лишь она и Сипягин. И если у Скворцовой были причины для расчета со своим начальником, то почему бы ей и не воспользоваться столь удобным моментом? А потом поднять крик, что Сипягин убит. Изучение поведения и образа жизни Нины Скворцовой не заняло много времени. В тресте она работала два года, пришла после окончания десятилетки. Комсомолка, спортсменка. Правда, слыла излишне самоуверенной и гордой девчонкой, любила наряжаться, немало подружек завидовали ее ярким, но удивительно аккуратным нарядам. Но зачем ей нужна была смерть Сипягина? Роман? Что-то не похоже. Отношения с Сипягиным были обычные, деловые. Правда, порой он называл ее очень уж нежно — Ниночкой. Но если учесть их возрастную разницу и привычку Сипягина к несколько фамильярному обращению с подчиненными, эта деталь не обретала сколько-нибудь серьезной весомости. Из заключения судебно-медицинской экспертизы явствовало, что Сипягин был убит путем нанесения двух ножевых ранений в сердце. Для этого нужна была сила, опыт ы закоренелая, звериная натура преступника. Нет, Скворцова явно не обладала этими качествами. Ставить ей прямые вопросы не было оснований, но и осторожный разговор возмутил девушку до глубины души. Она была так ошарашена, что стоило большого труда успокоить ее. С глазами, полными слез, девушка через каждые две-три фразы то и дело восклицала: — Да неужели обо мне можно подумать такое? Да как вы могли? — На Скворцову мы зря тратим время. Собственно, какие у пас основания для этого? Лишь время совершения преступления. Тогда можно заподозрить и уборщицу Проценко. — Пчелин говорил удрученно, с легким раздражением. — А я, между прочим, говорил с ней, — сказал Короленко. — Вот как? Ну и что же? — Да то же, что и Скворцова. В плач ударилась, бога в свидетели позвала, креста, говорит, на вас нет, если могли подумать на старуху такое. Не много для следствия дал и разговор с бухгалтером Кузиком. С Сипягиным у него действительно были серьезные столкновения. Не могли найти общего языка, ссорились нещадно. Кончилось тем, что Сипягин предложил ему подать заявление. Однако Кузик и заявление подавать отказался. — Увольняйте, если сможете. И Сипягин смог. Один выговор, потом второй. А потом согласно КЗоТу уволил. — Выговоры и увольнение были необоснованными? Кузик долго молчал, затем, постукивая пальцами по столу, проговорил: — Как вам сказать. Все зависит от точки зрения. Первый выговор юридически был обоснован: я задержал баланс. Второй мог быть, мог не быть: я отказался оплатить одно трудовое соглашение. Не оплатил, несмотря на повторную резолюцию Сипягина. — А почему? Документ был незаконным? — Не то чтобы незаконным, но этой оплаты можно было избежать при лучшей организации дела. Но он сослался на срочность задания бригаде. Кузик рассказывал все перипетии борьбы с Сипягиным спокойно, без тени какого-либо смятения или опаски, даже с некоторой долей иронии. На вопрос, как же он оценивает происшедшее в тресте, Кузик ответил: — Я не считал Сипягина сколько-нибудь выдающимся руководителем. Так себе работник, среднего масштаба. Стройучасток — вот его потолок. А тут трест — не по Сеньке шапка. — Мы не о том, Петр Савельич. Что вы думаете об убийстве Сипягина? Кузик пожал плечами, развел в недоумении руками: — А что тут можно сказать? Какая-то дикая, невероятная история. Может, действительно какой сумасшедший забрел в контору? — А почему, Петр Савельич, вы в это утро оказались в тресте? — То есть как это почему? Пришел по своим делам. — По каким? Нельзя ли конкретнее? — Ну мало ли какие дела могут быть у человека. — Прошло около года, как вы ушли из треста. Что же за дела у вас появились? А кроме того, вы приходили сюда и накануне этого трагического утра. Так ведь? — Да, был и в этот день, и накануне. Но из этого вовсе ничего не следует. — Возможно. И все-таки какие у вас были причины для этих визитов? Кузик откинулся в кресле, внимательно посмотрел на своих собеседников и… рассмеялся. — О целях своих визитов могу вам сообщить, секрета тут особого нет. Приходил к сослуживцам — долги возвращал. Перехватывал кое у кого, когда покойный Сипягин меня без места оставил. Но к нему-то не заходил и не собирался. Если бы даже позвал, и то не пошел бы. Он отрицательные эмоции у меня вызывал. Но так как, судя по вопросам, у вас возникла мысль, а не Кузик ли лишил жизни гражданина Сипягина, заявляю официально — нет, нет и нет. Вообще такое предположение считаю диким и оскорбительным. Какие же вы детективы, коль всерьез полагаете подобное? Сами посудите, если трудовые конфликты будут разрешаться таким способом, то не напасешься управляющих или там директоров. Да, примитивно дело ведете, товарищи, примитивно. Обидные слова говорил Кузик, но ни Пчелин, ни Короленко не обращали на них внимание. Их интересовало другое: в какой отрезок времени был Кузик в тресте, с кем общался и возвращал ли кому деньги? Но рассказы Кузика подтвердились показаниями его бывших сослуживцев, и оперативным сотрудникам волей-неволей пришлось признать, что в своих выводах об их подходе к этому делу бухгалтер Кузик был недалек от истины. Ни Пчелин, ни Короленко с самого начала не очень-то верили в эти версии, хотя и не оставили их без внимания. Убедившись же в полной несостоятельности этих предположений, они без сожаления отказались от них, хотя других, более весомых вариантов в их руках пока не было. — Ну а что в бумагах Сипягина, ничего существенного не просматривается? — спросил Пчелин у Короленко. — Бумаги обычные. Кое-что из служебных архивных документов, разные личные мелочи — квитанции на пошив одежды, рецепты врачей, почтовые переводы. В общем, малосущественные бумаги. Удивляюсь даже, зачем нужно было хранить все это? — Квитанции, рецепты… Да, мало что они нам скажут. Ты прав, капитан. Но на безрыбье, как известно, и рак рыба. Дай-ка я посмотрю эти архивы. Бумаги Сипягина на первый взгляд, и верно, ничем не дополняли дело. Вот только почтовые переводы… Их было три. В Сочи — некоему Васадзе, в Армавир — Белову и в Краснодар — Прилейко. Суммы крупные, и все до востребования. Что это за переводы? Что за люди? Почему до востребования? Может, это представители треста? Но почему документы на перевод денег хранятся у управляющего, а не в бухгалтерии? Выяснилось, что в тресте никто ничего не знал об этих переводах, никаких представителей трест в Сочи, Армавир и Краснодар не посылал. Значит, это личные переводы? Может, получатели — родственники или близкие знакомые семьи? Все эти вопросы могла помочь выяснить супруга Сипягина. Разговор с Любовью Яковлевной вообще мог и должен был прояснить многое, но все это время она была в таком состоянии, что врачи категорически настояли на отсрочке разговора, боясь за ее рассудок. Наконец Любовь Яковлевна пришла в себя, и Пчелин с Короленко, обрадованные этим, поехали на встречу с ней. В квартире Сипягина они побывали в первый же день после трагедии, но так как хозяйка была очень плоха, то ограничились лишь беглым осмотром бумаг покойного. Сейчас оба внимательно осматривали жилище бывшего управляющего. Ничего особо примечательного здесь не было. Чувствовалось, что семья жила небедно, но без излишеств. Новая современная мебель, телевизор, обычные предметы быта. Квартира — каких тысячи. Любовь Яковлевна была еще плоха. Опухшее от слез лицо, с трудом приведенная в порядок прическа. Ей было нелегко вести этот тягостный разговор, но она крепилась и вдумчиво, серьезно отвечала на вопросы. Как себя чувствовал Кирилл Тихонович в последнее время? Нервничал очень, с планом, кажется, что-то не ладилось у них. Есть ли у него враги? Недруги? Да откуда? Всю жизнь на стройках, до управляющего вот дошел. Не знаю никого, кто бы мог мстить ему. Да и за что? Он с людьми всегда в ладу жил. Общался с кем? Есть знакомые. В гости порой хаживали, у себя принимали. Но люди все хорошие, его сослуживцы. Кто приходил в те дни? Вроде никто. Хотя подождите… Вечером накануне того злополучного дня звонил ему кто-то, напрашивался прийти, а Кирилл Тихонович отказал, встретимся, мол, в тресте. Пчелин и Короленко насторожились. — Любовь Яковлевна, — попросил Пчелин, — это очень важно, вспомните поподробнее: когда был этот звонок, как протекал разговор, как реагировал на него Кирилл Тихонович? — Да я ведь не очень вслушивалась. Часов в восемь вечера это было. Позвонили. Кирилл подошел к телефону, долго молча слушал, потом говорит: «Домой не надо, ни к чему это. В контору треста приходи». И время назвал, не упомню только — в четверть девятого, то ли без четверти девять. Вернулся от телефона мрачный, насупленный. Я спросила, кто это напрашивался к нам, он махнул рукой и сухо ответил: «Один сослуживец. Ты его не знаешь». — Не назвал ни имени, ни фамилии? — Нет. Да и не спрашивала, раз незнакомый. — Вы говорите, Кирилл Тихонович вернулся от телефона хмурый и расстроенный… — Да, да. Так и было. Весь вечер был такой и ночь спал беспокойно, ворочался, бормотал что-то. Утром наскоро перекусил и уехал. — Любовь Яковлевна, еще вопрос. У вас есть родственники? — Нет. Ни у Кирилла, ни у меня. Родители паши уже умерли, а братьев и сестер не было. — В делах Кирилла Тихоновича обнаружены денежные переводы в Сочи, Армавир и Краснодар. Неким Белову, Прилейко и Васадзе. Вы не знаете, что это за люди? — Не имею понятия. — И о переводах, что делал Кирилл Тихонович, тоже не знали? — Нет, не знала, ничего не знала. Десять лет мы прожили, думала, нет у него от меня секретов, и вот поди ж ты. — Вы пока не расстраивайтесь, Любовь Яковлевна. Видимо, это служебные дела. Разберемся и все вам объясним. Озадаченные уходили Пчелин и Короленко из дома Сипягина. У обоих мысли вертелись вокруг вечернего звонка управляющему накануне убийства. Кто звонил? Может, именно тот человек в плаще, которого заметила Скворцова? В городском управлении Пчелина и Короленко ждали итоги дактилоскопических исследований. На письменном столе Синягина, кроме отпечатков его собственных рук, запечатлелись следы кого-то другого. На основании данных экспертизы, Проценко и Скворцова из списка подозреваемых исключались окончательно. И вновь неизбежно возникала мысль: убийство в тресте скорее всего дело рук субъекта в дождевике. Но кто он? Откуда появился в городе? И где его теперь искать? — Да, уравнение всего с одним неизвестным. Только оно из самых трудных, — ворчливо проговорил Короленко. — Что верно, то верно. Думать, думать надо. Достань папку, где лежат эти почтовые переводы. Странно, что о них ничего не знала жена. Значит, были у Сипягина какие-то дела, о которых он не говорил ни в семье, ни в тресте. Пчелин долго разглядывал переводные квитанции, вертел их и так и этак. Потом в раздумье проговорил: — Кто же этот Васадзе? Кто Белов и Прилейко? — Если бы знать, — в тон ему ответил Короленко. — Да, если бы знать… Если бы знать… Но думаю, капитан, что это одно и то же лицо. — Одно и то же лицо с разными фамилиями и в разных городах? Как это может быть? — Может быть всякое, капитан. Я не исключаю, конечно, и другие ситуации, но, думаю, это наиболее вероятный вариант. Но вот что это за личность и почему такие куши отваливал ему Сипягин? Были, видимо, для этого какие-то серьезные причины. Надо искать, нам этого или этих Васадзе, Белова и Прилейко. Собирайся-ка в командировку. На следующий день Короленко уже был в Сочи. Работники городского почтамта сочувствовали: — Документы на выплату переводов, конечно, хранятся, но сколько же вам надо перерыть их в архиве? — Ничего не попишешь. Придется поглотать архивную пыль. Розыск сипягинского перевода в архивах Сочинского управления связи занял четыре дня. Но вот наконец и он — желтоватая четвертушка бумаги. Деньги были выплачены по паспорту, предъявленному Цодиком Георгиевичем Васадзе. Паспорт выдан Васютинским райотделением милиции. Забрав под официальную расписку первичный бланк перевода с распиской Васадзе, Короленко подался в Васютинск. Еще день работы в архивах района. Паспорт Васадзе здесь не выдавался, прописанным в городе таковой не числился. «Значит, гражданина Васадзе, как такового, не существует и паспорт, предъявленный связистам, липа? И если окажется, что гражданин Прилейко из Краснодара и Белов из Армавира такие же эфемерные личности, как и Васадзе, тогда майор прав в своих предположениях. Недельные поиски в архивах Армавира и Краснодара полностью подтвердили эту догадку. Ни Белова, ни Прилейко там просто не существовало. Деньги же по переводам были аккуратно получены по предъявлении паспортов. Сомнений эти документы у работников связи не вызвали. Значит, тоже были искусно сделанными фальшивками. Судя же по идентичности подписей на переводах, получателем денег было одно и то же лицо. Конечно, рано или поздно, если он — этот получатель — появится в этих городах вновь, ему несдобровать. Органы милиции теперь были достаточно информированы. Но когда это будет? И будет ли вообще? Докладывая по приезде Пчелину о результатах своей командировки, Короленко подытожил: — В общем, вояж мой вроде бы и не пустой. Но с другой стороны… Уже месяц прошел, а результат у нас все тот же. Кто убил? Зачем? И где этот изверг? Пчелин, не спеша прохаживаясь по небольшому кабинету, ответил: — Что правда, то правда, результаты пока у нас не ахти. Но не падай духом. Тут без тебя я занялся биографией убитого. Съездил в министерство, в некоторые строительные организации — прежние места его службы, со многими людьми, которые знали Сипягина, переговорил. Особенного ничего не обнаружилось. Но вот один период из жизни управляющего, по-моему, представляет интерес. Работал он начальником участка на строительстве Верхнегорского льнокомбината. Там в свое время возникло довольно крупное дело, связанное с хищением государственных средств. И по частному определению народного суда Сипягину за попустительство расхитителям был объявлен выговор. Конечно, и выговоры и награды у строителей ходят рядом, но все же поинтересоваться всей историей нелишне. Так что готовься к вояжу в Верхнегорск. А вдруг там выяснятся какие-то важные для нас детали? Через несколько дней Пчелин получил от Короленко лаконичную телеграмму: «Детали весомые. Возвращаюсь». «Детали» оказались действительно интересными. Два года подряд на стройучастке, возглавляемом Сипягиным, оформлялись нереальные процентовки с завышенными объемами. Комбинат строился в пойме двух рек, грунтовые воды и плывуны мучили строителей. А при устранении плывуна нагнетание бетона идет в спешке, тут не до скрупулезного учета каждого кубометра. Это-то и было использовано группой предприимчивых людей. В общей сложности путем завышения объемов выполненных работ у государства были похищены крупные суммы денег. Всю группу, которую возглавлял прораб Кряжич, осудили на разные сроки заключения. Активно фигурировал в деле и Сипягин. Однако его корыстная заинтересованность доказана не была. «Он виноват лишь в том, что передоверял прорабам. Да и не мог уследить за каждым нарядом, за каждой процентовкой» — таково было мнение многих специалистов, вызванных по делу. На этом тезисе строила свои доводы и защита. Суд учел и все эти обстоятельства, и молодость Сипягина (он с полгода как заступил на эту должность). Было вынесено частное определение о дисциплинарной ответственности начальника участка. — Так-так. Все это очень интересно. Но… — Пчелин хотел что-то сказать, Короленко, однако, торопливо перебил его: — Извините, товарищ советник, я не кончил и подхожу к главному. А оно в том, что Кряжич и Сипягин, если очень вдумчиво подойти к делу, были каким-то образом связаны между собой. И Кряжич этот… не кто иной, как таинственный адресат в Сочи, Армавире и Краснодаре. — Даже так? Ну на такую удачу я и не рассчитывал, — обрадовался Пчелин. — А какие основания для таких выводов? — Идентичность подписей Кряжича и таинственного получателя сипягинских переводов. Вот посмотрите сами. Десять лет — срок, конечно, немалый, почерк у получателя переводов стал решительнее, небрежнее, тем более что он старался менять, но основные, характерные его черты остались прежними. В этом не сомневался и Пчелин. Итак, выходит, кто Кряжич — он же Васадзе, Белов и Прилейко? По всей вероятности, вернувшись из заключения, наведался к своему бывшему сослуживцу. Значит, остались какие-нибудь незаконченные дела? — Дело в том, что Кряжич из заключения сбежал, уже продолжительное время находится в розыске. — Так-так. И до сих пор не попался? — Птица стреляная. Сколько у него разных личин — никто не знает. — А дактилоскопическая карта на этого самого Кряжича есть? — Есть. Привез. — Отлично. Срочно передавай нашим экспертам, и если отпечатки, что остались на столе Сипягина, сойдутся, то станет ясно, кто есть кто. — Думаю, что так оно и будет. …На меховом комбинате города Лисянска в эти дни обнаружилась пропажа выделанных, подготовленных к отправке на базу мехов. Система хранения и отпуска материальных ценностей была отработана здесь довольно тщательно, и тем не менее крупная партия ценных шкурок была вывезена по подложным документам. Сотрудники ОБХСС, участвующие в расследовании этого дела, не без оснований заподозрили участие в этой операции людей из охраны комбината. Ведь при желании не составляло большого труда обнаружить несовершенство выездных документов. Стали спешно разбираться: что же за работники осуществляют охрану предприятия? Но, как и следовало ожидать, люди в охране оказались в большинстве своем достойные — бывшие фронтовики, офицеры в отставке или работники этого же комбината, вышедшие на пенсию и не захотевшие порывать связи со своим производством. Несколько человек, однако, решили вызвать, чтобы уточнить кое-какие данные. Пригласили и некоего Захара Малягина. Работал на комбинате он с полгода, известен был мало. В день, когда были вывезены меха, на дежурстве не был — находился на бюллетене, претензий к нему ни у кого не было, и вызвали его по другому поводу. Паспорт, что он накануне по запросу принес в отдел кадров, оказался не совсем в порядке — фотография отклеилась. На вызов в отдел кадров Малягии не пришел. Начальник охраны объяснил, что Малягин уехал в город — видимо, к врачам. Работник Лисянского городского отделения ОБХСС капитан Логачев, находившийся в это время в отделе кадров, услышав разговор, попросил показать ему паспорт Малягина. Смотрел его долго и пристально, затем объявил, что пока оставит у себя. Приехав в Лисянск, он зашел к своему коллеге — начальнику отделения уголовного розыска майору Вороненко. — Есть у тебя несколько минут? Давай-ка поколдуем над одним ребусом. Вот посмотри этот паспорт. Просмотрев документ, Вороненко задумчиво проговорил: — Паспорт как паспорт. Но первая фотография была отклеена, а на ее место наклеивалась другая. Однако и этой, как видишь, нет. — Вот она. — И Логачев положил перед Вороненко отклеившуюся фотографию. — Кого-то она мне напоминает. Посмотри-ка повнимательнее. Вороненко цепко, с прищуром, всмотрелся, в фотографию. Потом торопливо подошел к сейфу, пробежал взглядом какую-то бумагу и, вернувшись к столу, протянул ее Логачеву: — А теперь ты почитай, и тоже повнимательнее. Прочитав ориентировку, Логачев озабоченно заметил: — Неужели эта птица к нам залетела? — Пожалуй. Только где она летает сейчас? Гражданин Малягин, видимо, почувствовал что-то и, наверное, уже исчез. Во всяком случае, на комбинате его не оказалось, говорят, подался сюда, в город. — Как бы он не успел улететь слишком далеко. — Давай-ка еще раз все посмотрим, чтобы зря в колокола не бить. Фотография Малягина во многом совпадала с данными ориентировки, и Логачев с Вороненко пришли к выводу, что Малягин и разыскиваемый субъект, некто Кряжич, одно и то же лицо. Через четверть часа основной состав сотрудников Лисянского отдела внутренних дел был собран на экстренное оперативное совещание. Суть дела Вороненко изложил за минуту или две. Торопливо начали обсуждать, какой путь изберет Малягин для побега. Самолетом? Мест на очередной рейс уже нет, а ждать следующего ему нет резона. Не исключено, но вряд ли. И потом, билет без паспорта он мог, конечно, достать, но все же это хлопотно, а обращать на себя внимание опять-таки не было расчета. Один из сотрудников связался с аэропортом и скоро сообщил, что ни на утренний, ни на дневной рейсы билеты сегодня не продавались. На завтра самолеты тоже заполнены. — Он мог сесть в автобус, — предположил кто-то. Предположение, однако, быстро отвергли: медленно и менее надежно. В каждом населенном пункте остановки, неожиданные встречи. Кроме того, это ведь местные линии и, чтобы улетучиться из этих краев, все равно надо пересаживаться на поезд или самолет… Все склонялись к тому, что Малягин скорей всего воспользуется скорым поездом, который пойдет через Лисянск ночью. Если, конечно, не ринется в лес, чтобы отсидеться там. Однако погода малоблагоприятная, морозы-то вон до минус двадцати пяти доходят. И все-таки надо было учесть любой из этих вариантов. Уже через два часа все наружные милицейские посты, все оперативные работники, все регулировщики были снабжены фотографией Малягина, получили нужную информацию сотрудники транспортной милиции, уведомлена лесная охрана. На улицы вышли народные дружинники. Сделано было, кажется, все, что можно было сделать в течение двух или трех часов. В городском отделе внутренних дел то и дело раздавались звонки — инспектора, дружинники, постовые службы докладывали обстановку. Но Малягина пока не было ни на аэродроме, ни на автобусной станции, ни на железнодорожном вокзале. — Видимо, в Лисянске его нет, — предположил Вороненко. И он оказался прав. Ночью в кассовый зал станции Бляхово, что в тридцати километрах от Лисянска, вошел гражданин с небольшим саквояжем в руке. Настороженно оглядываясь, он подошел к кассе и потребовал билет на первый же скорый поезд. — Только, пожалуйста, побыстрее. — Но до поезда еще целых два часа. — Ничего, с билетом-то спокойнее. — Он поставил саквояж на пол и, достав бумажник, стал рассчитываться с кассиром. В это время лейтенант милиции Кочетков и сержант Алешин подошли к кассе. Переглянулись и, без слов поняв друг друга, встали по бокам гражданина. Кочетков глуховато и негромко объявил: — Кряжич, не вздумайте сопротивляться. Дело бесполезное. Кряжич замер на секунду, не двигаясь и мучительно соображая, как уйти. «Руки, руки заняты, вот в чем беда», — пронеслось у него в голове. Кряжич понял, что на этот раз не уйти. Допрашивали Кряжича уже не первый раз, но дело с места не двигалось. С тупым упорством он отрицал все, даже самое очевидное. Сегодня предстоял очередной допрос. К столу Пчелина шел широкоплечий, плотно сбитый человек с черными, но уже изрядно поседевшими волосами. Серые, с прищуром, холодные глаза, тонкие бледные губы, резко очерченный волевой подбородок. Посмотрев на вошедшего, Пчелин подумал: «Да, встреча с таким типом один на один, как это было у Сипягина, не могла кончиться иначе». — Итак, гражданин Кряжич, все ваши деяния вплоть до вашей последней встречи с Сипягиным следствием установлены. Сегодня всех эпизодов касаться мы не будем. Разберемся с вами в истории, происшедшей семнадцатого апреля тысяча девятьсот семидесятого года в конторе Горчанского строительного треста. Давно ли вы, гражданин Кряжич, знакомы с гражданином Сипягиным? Кряжич с ухмылкой и прищуром глянул на Пчелина: — Прежде всего никакой я не Кряжич. И об этом толкую уже второй месяц. Ваши коллеги в Лисянске спутали меня с кем-то, и эту путаницу теперь продолжаете вы. Пишите в своем протоколе: не Кряжич я, а Захар Ефимович Малягин. Никакого Сипягина я не знал, в вашем Горчанске до сих пор ни разу не был. — А на строительстве Верхнегорского льнокомбината работали? — Нет, даже не слышал о таком гиганте. — Значит, Захар Ефимович Малягин? — Да, Малягин Захар Ефимович. — Родились в тысяча девятьсот двадцатом году в поселке Отрадное? — В паспорте все записано, чего же спрашивать? — Но Захар Ефимович Малягин и по сей день проживает там. И в данный момент находится дома. Вот сообщение поселкового Совета и его телеграмма. Неувязка получается. Не находите? — Не знаю, что там еще за Малягин. Я есть я, а кто еще мою фамилию носит, меня не интересует. — Зато нас интересует. В сентябре прошлого года у того Захара Ефимовича Малягина во время поездки в Москву был выкраден паспорт. И именно этот паспорт предъявлен вами при поступлении на Лисянский меховой комбинат. Как вы объясните это обстоятельство? — Мало ли какие бывают совпадения. Паспорт я предъявлял свой, а если есть еще какой-то Малягин, то меня это, повторяю, не касается. — Наивно это, Кряжич, но тем не менее пойдемте дальше. Вы отрицаете, что работали на льнокомбинате. Но показания Соколова Алексея и Коноховой Александры подтвердили это. Вот что заявил Соколов: «Подтверждаю, что гражданин, представленный мне в числе двух других на опознание, является Эдуардом Юрьевичем Кряжичем, ранее работавшим производителем работ на головном участке строительства льнокомбината». Показания Коноховой: «Я утверждаю, что в числе двух представленных для опознания граждан находится гражданин Кряжич, который работал у пас на строительстве Верхнегорского льнокомбината прорабом». Это не убеждает вас, Кряжич? — Нет, не убеждает. Таких свидетелей вы можете найти сколько угодно. Людей похожих много. — Но есть же судебное дело, ваши фотографии, собственноручно вами написанные показания, есть, наконец, дактилоскопические карты. Отпечатки пальцев на столе убитого Сипягина и на картах в деле по льнокомбинату совпадают и принадлежат одному и тому же лицу — Кряжичу. То ость вам. Это официальное заключение экспертизы. Даже любой неискушенный человек знает, что это доказательство бесспорное. — Еще раз заявляю: никакой я не Кряжич. И к делам, что вы шьете мне, отношения не имею. Кряжич прекрасно понимал, что ему не верят, не верят ни одному его слову, однако с невероятным упорством плел и плел свои лживые путаные кружева. Под следствием давно надо было подводить черту. Доказательств вины преступника было достаточно. Однако Пчелин знал, какую скрупулезную требовательность проявляет суд, когда речь идет об обвинении человека в таком тяжком преступлении. И все время тревожился, что в деле все же не хватает (в полном объеме) решающего доказательства вины Кряжича. Случайной ли была встреча Кряжича и Сипягина? Что за деньги посылались Сипягиным? Каковы были мотивы расправы с ним? Конечно, Кряжич мог прояснить все это. Но он пока не собирался облегчить задачу следователей. He хватало в деле какого-то одного звена, одного факта, но факта коренного, неоспоримого, чтобы заставить его изменить свое поведение. Пчелин понимал это и ломал голову над тем, что может убедить Кряжича в бесполезности его позиции. — Я вот о чем думаю, — заговорил он с Короленко по окончании последнего допроса. — Когда Кряжича задержали в Лисянске, при нем, в сущности, не было никаких вещей. Маленький саквояж со случайно захваченными мелочами — и все. Так ведь? — Так. Только какие могут быть вещи у такой перелетной птицы? — И все-таки какие-то вещи были. Он же на комбинате проработал почти полгода. Что, он все это время довольствовался лишь бритвой, свитером да полотенцем? Нет, это мы обмишурились. Какое-то барахлишко у него, конечно, есть, только где оно? Вдруг там обнаружится и что-нибудь такое, могущее убедить Кряжича в бессмысленности его запирательства? Давай-ка попросим лисянцев еще пошукать на меховом комбинате, да потщательнее. Сотрудники Лисянского угрозыска обследовали все, что только было можно, опросили всех работавших с Малягиным — Кряжичем, вновь осмотрели общежитие вплоть до чердака и подвала, но тщетно. Ничего из вещей Малягина обнаружено не было. Пчелин настаивал. Тогда поиски были начаты вновь. И наконец в одном из темных закоулков хозсклада комбината, где Малягин периодически нес сторожевую службу, был обнаружен чемодан. Осмотр его содержимого сомнений не вызывал. Чемодан принадлежал Малягину. Прочитав телеграмму из Лисянска, Пчелин даже вскочил от волнения: — Если говорить на языке наших «подопечных», пофартило нам, Алеша, явно пофартило. Почитай-ка, что было в том чемодане. Какие все же молодцы, эти лисянцы. Если бы не они… — Да, если бы не они, гулял бы Малягин — Кряжич из города в город, — согласился Короленко. Вот наконец получен и чемодан с вещами. Отложив все в сторону, Пчелин взял нож. Это был кустарный, но искусно сделанный нож с наборной разноцветной ручкой, острый как бритва. — Ну что ж… Думаю, мои глаза пока не устарели, именно этим ножом и могли быть, сведены счеты с Сипягиным. Посмотрим, что скажет экспертиза. Среди немногих личных документов в бумажнике Малягина, что тоже находился в чемодане, обнаружилась квитанция почтового перевода на три тысячи рублей в Лисянск до востребования Малягину. Отправитель — Сипягин. — Ну, с такими доказательствами мы прижмем преступника к стене! — удовлетворенно проговорил Короленко. — Нож внесет также определенную ясность, а с квитанцией и того яснее. — Да, улики прямо-таки замечательные. Только помогут ли они? Кряжич ведь понимает, что ему терять нечего. — Вы знаете, товарищ советник, я совершенно не понимаю его поведения. Ведь все же ясно как божий день, а он плетет свое. Неужели и сейчас будет упорствовать? — Не исключено. — Ну и как же тогда? Так и будем тянуть резину? Он же издевается над нами, паразит. На черное говорит белое и наоборот. Судить его надо скорее, и все. — Все так, Алексей, все так, ты прав. Но будем доводить дело до конца, так, чтобы совесть наша была спокойна. А нож срочно отправляй на экспертизу, не может быть, чтобы на нем не осталось следов Кряжича. Одежда убитого и рана были обследованы экспертами тщательнейшим образом. Пусть специалисты делают свои выводы. Я уверен, что именно этот нож явился орудием убийства. …Корешок квитанции почтового перевода лежал на столе перед Пчелиным и магически притягивал взгляд Кряжича. Разговор перевода пока не касался, но, заметив этот взгляд, Пчелин подчеркнуто спокойно проговорил: — Этот квиток тоже имеет отношение к делу. Перевод Сипягина Малягину обнаружен в вашем бумажнике. Выходит, вы таки знали гражданина Сипягина? Иначе как объяснить этот перевод? А о том, что деньги получили вы, свидетельствует запись, сделанная на квитанции-переводе, и роспись, сделанная вами. Так же, как, впрочем, и подпись Васадзе в Сочи, Прилейко в Краснодаре, Белова в Армавире. — Вы дурака из меня не делайте. Со мной это не выйдет. — Не делаю и не собираюсь. Но уясните себе наконец, что все ваши увертки, ложь, путаница только во вред вам. Имейте это в виду и думайте, думайте, Кряжич. А чтобы ваши размышления не отвлекались напосторонние темы, посмотрите еще на одну вещь. — И Пчелин вынул из ящика и положил перед Кряжичем его нож с нарядной наборной ручкой. Кряжич побледнел, отодвинул нож подальше от себя. — Хорошо сделана вещица. Никогда не имел такой. — Да? А ведь она — эта вещица — тоже обнаружена в ваших вещах. — У вас неистощимая фантазия, гражданин следователь. Пчелин, не обратив внимания на эти слова, продолжал: — И вот к какому выводу пришла криминалистическая экспертиза: повреждения на ткани одежды и на теле гражданина Сипягина по своему строению, характерным формам, размерам и конфигурации входного отверстия могли быть нанесены финским ножом, предъявленным экспертизе следствием. Отпечатки пальцев на рукоятке ножа идентичны отпечаткам подследственного Кряжича — Малягина. Напоминаю также, что графологическая экспертиза установила идентичность почерка получателя переводов от Сипягина и осужденного по делу льнокомбината Кряжича. Кряжич долго сидел молча, ссутулясь и сжав коленями свои вздрагивающие руки. — Но и это не все. Кряжич. В щелях наборной ручки, куда убирается лезвие ножа, обнаружена кровь. Экспертиза установила, что кровь эта… — Не надо. — Кряжич поднял тяжелый взгляд на Пчелина. — Я дам показания. Я скажу… Но не сейчас, позднее… — На один вопрос вы ответите сейчас. Признаете себя виновным в убийстве Сипягина? Кряжич глухо ответил: — Признаю.Словно наверстывая упущенное, охваченный лихорадочным стремлением освободиться от пут и липкой паутины собственной лжи и, видимо, действительно поняв бесплодность нелепого упорства, Кряжич говорил теперь много, длинно, с многочисленными отступлениями, деталями и даже с попытками анализировать факты и случаи. Когда Пчелин и Короленко просили его держаться ближе к сути, он злился и раздраженно выкрикивал: — Вы все время хотели услышать мои показания, теперь слушайте. И не сбивайте меня, иначе я потеряю нить мыслей. В его многословной исповеди невольно бросалась в глаза какая-то неукротимая физиологическая злоба к людям, презрение ко всему, что дорого любому нормальному человеческому существу. — Вот вы шьете мне преступление против личности. А разберитесь-ка поподробнее, может, личность — я, а не этот слизняк Сипягин? По радио и в газетах твердят: один за всех, все за одного. А где это в жизни? Скорее уж все на одного. — Не надо было попирать законы общества. — А почему я их должен соблюдать? — Тогда вам надо жить в джунглях, со зверями. Но и там есть свои нормы поведения каждой особи. Кряжич отмахнулся от этих слов: — То и дело приходится слышать: наш коллектив, наш завод, наш цех… Я не раз и не два за эти годы поступал в разные организации и что-то не заметил никаких коллективов, как ни разу в жизни не заметил, что человек человеку брат. Брат-то, может, и брат, только такой, который смотрит, как бы тебя на кривой объехать… Слушать его было тяжко. Мерзким цинизмом веяло от каждого слова этого мещанина, перечеркивающего в людях все человеческое. И при этом он еще утверждал, что так думает не только он, а многие. А с кем он, Кряжич, встречался за эти годы? После осуждения и побега людей он видел из подворотни, из-под товарного вагона или в привокзальной сутолоке, и притом поминутно озираясь и оглядываясь — не подошел бы кто, не узнал бы. Вся эта животная философия была придумана им, чтобы оправдать всю низость своего падения в собственных же глазах. Кряжич уверил себя, что не один он такой. И мол, скрываться, подличать он вынужден из-за черствости людской, из-за их корыстолюбия и эгоизма. Это была удобная ширма, за которую пряталась совесть. Думая так, можно было не терзаться раскаянием. Судьбы Сипягина и Кряжича сошлись случайно. Прораб первого участка Эдуард Кряжич с самого прихода на стройку Верхнегорского льнокомбината выделялся из всех своим шумным, напористым характером. В бригадах его ценили. И материал какой надо достанет, и с начальством сцепится, так что только пыль столбом. А если в какой-то бригаде какая-то неувязка с нарядом и с заработком, спорить не будет — подбросит. — Ладно, ладно, исправим. Государство-то у пас рабочее… — И глядишь, выводятся в ведомостях на зарплату вполне устраивающие суммы. Приехал он на комбинат с Северстроя, дело строительное знал. Сам когда-то вкалывал и бетонщиком, и плотником, и монтажником, не раз шумел, споря с руководством, доказывая что-либо. В поселке строителей тоже был хорошо известен. Уж если скандал какой-нибудь или драка, то тут и сомневаться нечего — заводила он же, Кряжич. Не любил Кряжич степенных деревенских ребят, приезжавших на стройку. Их расчетливость, экономность в расходах бесили его, и он частенько, зло ухмыляясь, песочил какого-нибудь работягу, считающего мелочь, чтобы подешевле пообедать: — Чего жмешься? Поди, в деревню все отсылаешь. — В деревню, а как же. Старики там. — Вот-вот, я так и думал. А сам смотри как отощал, мослы одни. У, скопидомы несчастные! У Кряжича не было родителей и вообще никого не было близких. — Я подзаборник, сам родился, сам и вырос, — с вызовом объяснял он при случае. Было это и так и не совсем так. Он хорошо помнил и отца и мать. Ему было десять лет, когда бесконечные скандалы между родителями кончились развалом семьи. Отец не захотел брать сына к себе, так как не признавал его своим сыном, а мать не могла взять потому, что противился тот, второй муж, из-за которого все и началось. Пристроили Эдуарда к тетке, что жила в соседнем городке. Родственница оказалась сварливой злыдней, превратила парнишку в рабочую лошадь в своем хозяйстве. Работы хватало от темна и до темна. Через год он сбежал от тетки, года три болтался по южным городам, пока не попал в детскую колонию. Появился там обозленный, замкнутый, вспыльчивый, как порох. С грехом пополам окончил ремесленное и при распределении согласился поехать на Север. Сменил там не одну строительную площадку. Сноровка, однако, у него была, что было замечено. Послали его на курсы мастеров, а потом, когда большая группа строителей переводилась на стройку льнокомбината, Кряжич оказался в Верхнегорске. У каждого человека какие-то периоды в его жизни оставляют самое яркое впечатление. У Эдуарда Кряжича такими яркими страницами были три года его скитаний по югу. Там прижился он у одного старого лодочника, который работал в каком-то прибрежном санатории. Жил этот лодочник, что называется, припеваючи. Забот не особенно много, а пьян и сыт каждый день по горло. Не только от сердобольных отдыхающих перепадало тому лодочнику. Было у него кое-что припрятано от прежней, более удачливой жизни на черный день, и он спокойненько тянул свои дни на Черноморском побережье. Он-то и внушил рано повзрослевшему Кряжичу мысль: раздобудь деньгу, и ты тогда кум королю. Убогая и пустяковая цель, но именно она стала жизненной программой Кряжича. Через месяц или два после приезда в Верхнегорск, когда началось сооружение фундаментов главного корпуса комбината, к нему пришел бригадир бетонщиков Гаркуша, тоже приехавший вместе с ним с Севера. — Разговор есть, Эдуард Юрьевич. — Какой такой разговор? Слушаю тебя. — За такие монеты вкалывать тут мы не будем. Вода, сырость, все дни в грязи, а оплата грошовая. — А что я могу сделать? Расценки не я устанавливал. — Пораскинь мозгами. А пока оформи вот эти дополнительные наряды. Невелик приварок на всю-то бригаду, а ребята оценят. Наряды Кряжич оформил, а вечером Гаркуша принес ему пятьсот рублей. Он взял молча, и молча они расстались. Но эта ночь у Кряжича прошла без сна. «Операция» с бригадой Гаркуши натолкнула его на мысль, которая обрадовала и зарядила лихорадочным нетерпением. К утру был обдуман тщательный и подробный план. Было в нем только одно существенное препятствие — старший прораб Сипягин. Но, уверенный, что все люди в основном такие же, как и он, Кряжич решил идти напрямик. Подходил конец месяца, Кряжич вызвал Гаркушу и бригадира второй бригады Анучина, тоже работавшего на фундаментах. Объяснил им суть дела. Гаркуша все схватил на лету, а Анучин сначала упирался. Однако позднее тоже сообщил о своем согласии. Наряды по обеим бригадам были оформлены с двойным превышением. Кряжич пошел с ними к Сипягину. Тот мельком посмотрел документы и подписал их все до одного. А через три дня Кряжич зашел к нему в контору и, дождавшись, когда ушли посетители, положил на стол небольшой сверток. — Что это? — удивился Сипягин. — Так, мелочишка. Благодарность от бригад. — Ничего не понимаю. Какая благодарность? — Сипягин развернул сверток, там радугой сверкнули новенькие десятки. — Тут три косых, можешь не считать. — Но позвольте… Да вы с ума сошли! — А ты не спеши, не суетись. Давай потолкуем. По-мужски. «Мужской разговор» сначала шел в конторе участка, затем продолжался на ночных улицах поселка. Закончился он в комнате Сипягина и был скреплен бутылкой сорокаградусной под колбасу и бычки в томате. Сипягин принадлежал к той категории людей, которые как бы не имеют своего стержня. Рос в большой, довольно благополучной семье. С трудом окончил школу, с грехом пополам — строительный техникум. Нигде — ни в школе, ни в техникуме, ни на работе — не отличался чем-то особенным, ни в плохую, ни в хорошую сторону. Сказано сделать так, сделает так, сказано по-другому, и сделает по-другому. Инертный и равнодушный ко всему, Сипягин показался кому-то спокойным и рассудительным. Его рыхлость, согласие с любой точкой зрения сочли за дисциплинированность. А панибратские взаимоотношения с бригадами — за умение ладить с людьми. И начал понемногу расти Сипягин: прораб, старший прораб, начальник участка, а затем и управляющий трестом. — Деньги он любил, очень любил, — свидетельствовал на следствии Кряжич. — Когда увидел пакет с тремя тысячами, руки у него задрожали, пот прошиб. Я тогда сразу понял — наш человек Сипягин, будет компаньоном, будет. И не ошибся. Старший прораб потом уже без раздумий и возражений утверждал своей подписью многие десятки нарядов с завышенными объемами. На душе у него подчас бывало сумрачно и тревожно. А если все вскроется? Если дознается кто? Но пачки ассигнаций в сейфе все росли и росли. И это глушило тревогу. Кряжич тоже старательно успокаивал его: «В случае чего всю вину возьму на себя». И он выполнил это обещание. — Мне не было никакого резона, чтобы Сипягин оказался за решеткой. Долго задерживаться в местах отдаленных я не собирался. И Сипягин мне был нужен не в тюрьме, а на свободе. Как свой человек, как зацепка на будущее… И было еще одно обстоятельство: близких-то у меня нет, а деньжонки, что добыты, надо было у кого-то сохранить. Дружки-то, конечно, у меня были, но довериться им я не мог, оглоеды такие, что не приведи бог. Оберут. Когда дело с дутыми процентовками вскрылось, мы Сипягииа выгородили. Это было непросто, но получилось все, как было задумано, отделался он легким испугом. Л я получил положенный срок. Но меня это не очень-то удручало. Обыск у меня был, и не один, ничего, конечно, не нашли. Репутация моя — гуляка, забулдыга и прочее — сослужила мне добрую службу, уверовали, что все пущено на ветер. А некий куш, однако, был на сохранении у Сипягина. Из заключения я сбежал через семь месяцев, заявился в Верхнегорск. Звоню ему. Встретились в одном безлюдном месте. Он мне дает пять тысяч и говорит, что больше не может, где-то очень надежно припрятал. Долго же находиться в городе без жилья и без паспорта я не мог. Условились, что дам ему знать, где буду. Мотался туда и сюда, скитался по разным местам и ждал его переводов. А он в это время обретал и обретал вес, забирался все выше по строительной стремянке. Мне же еще раз крупно не повезло, попался я на одном деле… — Вы имеете в виду ограбление сберегательной кассы в Витебске? — Да, именно этот прискорбный случай я и имею в виду. Ну сплюсовали мне и прошлое и настоящее — и вышла десятка. Писал я Сипягину и оттуда, чтобы не думал, что совсем сгинул Кряжич. Он же, паразит, даже ответом не удостоил. Через три года я опять выбрался, притопал в этот ваш задрипанный Горчанск. Зашел к Сипягину — заседание. Еще раз зашел — то же самое. Звоню домой — отвечает супруга. Смотри ты, думаю, даже кралей обзавелся, а я все тот же бездомник, все болтаюсь, как шевяк на дороге. Ну да черт с тобой. Предполагал так: посидим, потолкуем, мои жизненные планы обсудим. Так нет же, этот слюнтяй даже обогреться в свою хазу не пригласил. В тресте, видите ли, назначил встречу. В тресте так в тресте. Ладно, думаю, пусть пока будет по-твоему. Только зря ты, Сипягин, от меня, как страус, голову в песок прячешь. Достану я тебя откуда угодно. Утром пришел я в трест, захожу в кабинет. Сидит, чаек попивает. «Здорово, — говорю, — Кирилл, давненько не виделись. Как дела-делишки?» Смотрит, знаете, на меня, как новорожденный телок, и наивно так спрашивает: «Зачем пожаловал?» «Как зачем? Баланс надо подвести». «Какой такой баланс? У нас с вами все в ажуре, гражданин Кряжич. Все вам выслано. В Сочи, Краснодар и Армавир. А остаток после получения последней вашей депеши — в Лисянск. Вот вам последняя переводная квитанция. В расчете мы с вами, Кряжич». Но у меня не только денежные дела были к Сипягину. Труднее и труднее становилось прятаться да скрываться! Мои надежды на южные города с их многолюдьем не оправдались. Везде одно и то же — документы, где работал, почему уволился. И надумал я устроиться под его крылом. Строек у него, думаю, много, все в глубинках. Пусть определит меня куда-нибудь, где потише. Поживу годик спокойно, отойду душой, документы оборудую, а там видно будет. Излагаю ему этот свой план. Он даже поперхнулся от удивления. «Ты, — говорит, — и не думай об этом. Ну как я тебя устрою, когда знаю, кто ты и что ты. И сам загремишь, и меня за собой потянешь». Спокойно так рассуждает, будто по писаному. «И все-таки ты это сделаешь, Сипягин, — говорю ему. — Сделаешь, потому как деваться мне некуда». Помолчал он и говорит: «Знаешь, Кряжич, все эти годы я не жил, а мучился. Десятки раз собирался пойти в милицию или еще куда и рассказать все, как было. Устал я, знаешь, до такой степени устал, что глаза на свет божий не смотрят. Или ты сгинь отсюда, или иди и повинись. А коль и меня зацепишь — ну что ж, лучше так, чем постоянно под страхом жить, не могу так больше». Обозлил он меня донельзя. «Брось, — говорю, — скоморошничать и говори толком, куда меня устроишь?» «И не могу, — говорит, — и не хочу». «И все-таки это тебе придется сделать, Сипягин. Иначе… Ты меня знаешь…» Говоря так, я вовсе не имел намерения мстить ему. Но мысль устроиться на одной из его строек мне казалась единственным выходом из положения, и я решил во что бы то ни стало добиться этого от Сипягина. А он пристально так посмотрел на меня и вдруг заявляет: «Значит, ты пугаешь меня, Кряжич? Шантажируешь? Так? Ну так вот, имей в виду: стоит мне сейчас поднять трубку, набрать некий номер, и ты опять загремишь туда, откуда появился, и даже дальше». И тянется, знаете, к трубке. Я не то что испугался звонка Сипягина, знал я его, не мог он этого сделать, не мог. Уж раз все эти годы молчал, то сейчас-то, конечно, не вякнет. Нет, не это меня взбесило. Взбесил его спокойно-нагловатый отказ в моей просьбе. Ведь мы же одного поля ягода. Только он глупее и трусливее меня. Я прошел все — и огни, и медные трубы, ни дня, ни часа спокойного не имел, а он, этот тюфяк соломенный, наслаждается жизнью. Помочь же корешу не хочет. Да еще и грозит. Какая-то нечеловеческая сила подбросила меня со стула. Я подскочил к Сипягин у и ударил его дважды ножом в грудь. Он этак удивленно посмотрел на меня и пробормотал: «Зря это ты, Кряжич, зря». И, захрипев, повалился на стол. Не знаю, может, и зря я так круто с ним, но в тот момент я люто, до предела озлобился, такая муть поднялась в душе… Закончив рассказ, Кряжич долго сидел молча. Потом бесцветным голосом обратился к Пчелину: — Касаемо Сипягина я сказал все. О других страницах моей биографии расскажу в другой раз. — Хорошо. Но вот один эпизод давайте уточним сегодня. Кража мехов с Лисянского комбината ваших рук дело? Кряжич поморщился: — Не имею к этому делу никакого касательства. Там, по моим наблюдениям, была какая-то шарага. А я сам по себе. Повествование Кряжича продолжалось еще несколько дней. Поздно ночью, когда за ним и конвоиром закрылась дверь, Короленко, потягиваясь от усталости (неделю слушать, протоколировать и тщательно проверять такие показания — дело нелегкое), спросил Пчелина: — Чем все-таки объяснить, товарищ советник?.. То он молчал как истукан, врал без всякого стыда и совести, а то разговорился так, что не остановишь. После некоторого раздумья Пчелин ответил: — Причина простая. Од прекрасно понимает, каков может быть финал. Но ведь не зря говорится, что повинную голову и меч не сечет. Вот он и рассчитывает на гуманность нашего суда. Хочет иметь хоть один шанс, хотя бы один, чтобы сохранить жизнь. — Ну а этот Сипягин? Он-то что же? Почему не предпринял ничего, чтобы выбраться из этой паутины? Ведь мог же он это сделать? — Конечно, мог. Но коготок увяз — вся птичка в силках. Не хватило характера, решительности, честности не хватило. Это действительно был человек без стержня, серединка на половинку, как говорится. Сначала не устоял перед соблазном, потом не нашел в себе силы выбраться из трясины, хотя должен был знать, что темные дела рано или поздно всегда выходят наружу и конец их неизбежен.

У последней черты
Пользуясь теплой погодой и выходным днем, москвичи устремились в парки, на пляжи, за город, а кто постарше — в зеленые уголки дворов, на бульвары и в скверы. Золотые солнечные блики на песчаных дорожках, зеленые шатры лип и акаций, детский смех, поминутно вспыхивающий то тут, то там, создавали здесь какую-то уютную, почти домашнюю атмосферу. И даже доносившиеся из-за кустов гулкие удары костяшек домино о фанерные столы не раздражали людей, не портили настроения. У майора Дедковского тоже был выходной день, и он твердо решил не ходить сегодня на службу, а погулять, вот так, бесцельно, по солнечной летней Москве, потом пойти в кино, посмотреть новый фильм. По Тверскому бульвару не спеша шли мужчина и женщина. Пожилой подтянутый человек в светло-сером костюме и его спутница с легким воздушным шарфом на пепельных волосах показались Дедковскому знакомыми. Шли они под руку, изредка обменивались двумя-тремя негромкими фразами. Лица их были спокойны, но видно было, что сосредоточены они на чем-то для них очень важном, на одной всепоглощающей мысли. И какая-то затаенная боль, глубокая печаль были во взгляде обоих. Только тяжкая, непоправимая беда оставляет на лицах такой след. Дедковский никак не мог вспомнить, где он видел этих людей. — Извините, пожалуйста, не напомните ли мне, где мы с вами встречались? — обратился он к мужчине. Супруги переглянулись, как бы советуясь, вступать ли в разговор с незнакомым человеком. Мужчина, вежливо улыбнувшись, проговорил; — Кажется, действительно… Встречались, но где, тоже не помню. Чернецовы. Леонид Александрович. Валентина Сергеевна. Может быть, это вам о чем-то говорит? Да, конечно, фамилия Чернецовых майору была знакома. Припомнилось вдруг все, что было связано с этими людьми. И уже не надо было доискиваться причины, почему тоска, душевная боль видны были на их лицах… Случилось это несколько лет назад. В один из апрельских дней в большом жилом доме в конце Ключевого переулка начался пожар. Через четверть часа к дежурному по городу поступило дополнительное сообщение: квартира Чернецовых, откуда пошел огонь, ограблена, на диване обнаружен труп мальчика. Работники оперативной группы Московского уголовного розыска, прибывшие к месту происшествия, были озадачены: руководитель группы майор Дедковский, его помощник старший лейтенант Агапов и все остальные осмотрели каждый уголок квартиры, каждую вещь и установили, что огонь, дым, вода уничтожили все следы преступления. Поздним вечером в кабинете начальника МУРа полковника Волкова собрался весь состав опергруппы и несколько наиболее опытных работников из отделов. Версий было выдвинуто несколько. Все они всесторонне и тщательно обсуждались, взвешивались. Временно отставлены были в сторону наименее весомые. Первоочередных оставалось две. Версия «Ренита» стояла в оперативном плане под номером один. Около года назад из квартиры Чернецовых выехала их бывшая соседка Ренита Токарева. Трудное это было соседство. Безудержное веселье, песни и танцы чуть ли не до утра не очень устраивали тихую семью Чернецовых. И знакомые Токаревой тоже были не из тех, кто мог вызвать симпатию. Развязные, самоуверенные, шумные, всегда навеселе, молодые и не очень молодые люди доставляли Чернецовым немало беспокойства. Когда в жилотделе Токаревой предложили комнату в другом районе, чтобы улучшить условия и ей и Чернецовым, она долго кричала о «темных махинациях» соседей, писала какие-то заявления в район и выше, но в конце концов согласилась на переезд. Приятели, помогавшие Рените перевозить вещи, многозначительно пообещали Чернецовым, что они еще обязательно встретятся. Казалось естественным допустить возможную причастность Токаревой и ее окружения к трагедии в Ключевом. Найти адрес Токаревой труда не составляло. Но дома ее не оказалось. Как сообщили соседи, она уехала, кажется, под Ярославль, к родственникам. Точно они, однако, сказать не могли. В ателье меховых изделий, где работала Ренита, подтвердили: действительно, Токарева получила пятидневный отпуск за переработку. Место ее рождения? Пожалуйста. Но туда ли она уехала, никто не знал. События в Ключевом переулке произошли второго апреля. Токарева ушла в свой короткий отпуск с первого. Случайное совпадение? Могло быть так, но могло быть и иначе. На следующий день лейтенант Агапов приехал в Софрино, что в ста километрах за Ярославлем. Токарева настолько удивилась приезду сотрудника уголовного розыска, что долго не могла прийти в себя. Агапов, видя ее смятение, задавал вопросы один за другим. Почему ушли в отпуск? Когда уехали из Москвы? Что делали и где находились второго апреля? Почему оказались здесь? «Нет, нет, расскажите подробнее». — Где была да что делала? А вам-то, собственно, какое дело? Я человек свободный, куда хочу, туда и еду. — И все-таки объясните, когда уехали из Москвы? Видя, что лейтенант не реагирует на ее негодование, Ренита стала говорить спокойнее: — Сюда я уехала первого. Давно собиралась родственников навестить. — Она стала лихорадочно рыться в сумочке. — Вот доказательство!.. — И бросила на стол железнодорожный билет. — Билету не верите, у людей спросите. Агапов тщательно осмотрел билет. Да, Токарева выехала из Москвы первого апреля вечером. Но ведь она могла со следующим поездом вернуться в Москву? Проверка, однако, показала, что из Софрина Ренита в эти дни не отлучалась. Но версия «Ренита» не исключала того, что события в Ключевом совсем не обязательно должны быть делом рук самой Токаревой. Скорее всего это осуществлено ее приятелями. И то, что она заблаговременно уехала из Москвы, ничуть не опровергало это предположение, а скорее подтверждало его. Агапов задумался. Уловив на его лице тень сомнения, Токарева перешла в наступление. — Вы объясните наконец, в чем дело? Имейте в виду, я завтра же поеду в Москву и буду жаловаться. Я честная советская гражданка. Вам это даром не пройдет. Лейтенант Агапов долго и терпеливо слушал ее выкрики, а потом, не повышая голоса, проговорил: — Не надо так шуметь. Мы выясняем обстоятельства убийства Виктора Чернецова. Если вы не причастны к этому, будем рады. Но криком тут делу не поможешь. — Витю Чернецова? Убили? Да что вы?! Бедненький! — Токарева, несмотря на страшную весть, облегченно вздохнула. И уже спокойнее продолжала: — С родителями его мы не ладили, это верно, но он-то парнишка был хороший. Когда, бывало, заболею, всегда в магазин или в аптеку сбегает. Очень спокойный и хороший был паренек. Кто же это его? И за что такого мальца? — За что — понятно. Чтобы концы в воду. А вот кто? Это пока неизвестно. — Во всяком случае, не Ренита Токарева. Это ясно как дважды два, товарищ лейтенант. Да и как на меня могли подумать такое? — В глазах и голосе Токаревой опять появились возмущение и гнев. Агапов, нахмурясь, продолжал задавать вопросы: — Расскажите о своих приятелях. Кто они, где живут, что делают? — Они не пойдут на такое. — Возможно. И тем не менее расскажите. И, пожалуйста, детальнее. Токарева рассказала о своих друзьях обстоятельно, с удивительным знанием всех мелочей. Знала, где кто работает, живет, сколько получает, есть ли семья, кто в долгах, кто нет, кто что купил за последнее время из вещей. Сообщила, кто где находился все эти дни и где находится в данный момент. …Мрачный, насупленный явился Агапов в кабинет Дедковского и доложил безрезультатные итоги своей поездки. Дедковский посоветовал заняться тщательнейшей проверкой всего, что касается приятелей Рениты. Но проверка не обогатила версию номер один какими-либо новыми фактами. Все рассказанное Токаревой подтвердилось. Один из ее знакомых весь день второго апреля находился в цехе у себя на заводе, другой вообще лежал в больнице на улице Радио, третий отрабатывал две недели за какой-то дебош в Сокольниках, да и остальные в тот роковой день тоже никак не могли быть в Ключевом. Пришлось на версии номер один поставить крест. Параллельно с первой версией шла отработка второй. Здесь обнадеживающих факторов вырисовывалось как будто больше. Родители мальчика при первой же встрече в МУРе сообщили, что у них ночевала приехавшая из Орла племянница Людмила. Переночевала, оставила свой чемодан и затем несколько дней не появлялась. Конечно, они о ней плохо не думают, нет. Но приезжала-то она с молодым человеком. Парень вроде ничего, но, находясь в квартире, вел себя странно, все внимательно просматривал. Когда после пожара осматривали квартиру, был обнаружен чемодан Людмилы. Но не тот, который она оставляла, а меньший, спортивный. Хозяева точно помнили, что именно этот маленький, а не большой чемодан она брала с собой. Значит, Людмила снова была в квартире? Когда? Где Людмила сейчас? Чернецовы не знали точно, где учится Людмила: то ли в текстильном, то ли в торговом институте. Работники опергруппы выяснили, что в торгово-финансовом. Установили и другое: да, Людмила Горячева была в институте, «подтягивала хвосты», но уже несколько дней, как ее не видно. Вероятно, уехала. Куда? Этого в институте не знали. В Орел, как было установлено, она пока не возвращалась. И все-таки еле заметная ниточка, ведущая по следу племянницы, обнаружилась. Одна из жительниц дома в Ключевом сидела в тот день в сквере против подъезда и видела Людмилу с молодым человеком. Они очень поспешно выбежали из подъезда и ловили такси. Девушка заметно нервничала, поглядывала на часы, а юноша успокаивал: — Ну, велика важность, опоздаем на самолет — уедем «стрелой». Значит, молодые люди направлялись в Ленинград? Или, во всяком случае, через Ленинград в какие-то другие края? Выехали туда и Дедковский с Агаповым. В Ленинграде найти человека, тем более приезжего, дело трудное. Московские и ленинградские оперативные работники рассудили так: если Людмила и ее приятель приезжали сюда для того, чтобы посмотреть город, то искать их надо на ленинградских площадях, около дворцов, в музеях, на выставках, в театрах. Если же они приехали по причинам, имеющим отношение к трагедии в Ключевом, то их пребывание более вероятно в местах иного порядка — комиссионных магазинах, скупочных пунктах, на рынках. …Людмила задумчиво стояла у одной из известных могил на литераторских мостках Волкова кладбища, когда почувствовала, что кто-то положил ей руку на плечо. Думая, что это ее спутник, она тихо произнесла: — Сейчас пойдем. — Да, пожалуйста. Услышав чужой голос, она резко обернулась. Рядом стояли два незнакомых человека. Людмила удивленно спросила: — В чем дело? И, не дожидаясь ответа, оглянулась по сторонам, позвала: — Валерий, где ты? Увидев около Людмилы незнакомых мужчин, парень торопливо подошел и настороженно спросил: — Что такое? Что вам нужно? Дедковский и Агапов не спешили с ответом. Они наблюдали за обоими молодыми людьми. Наблюдали зорко, внимательно. Ведь это очень важно, как поведет себя человек в первое мгновение, если его настигает то, отчего он старательно скрывается. Испуг, страх, минутная растерянность во взгляде неизбежны. Потом, когда это пройдет и человек соберется, пусть внешне, но успокоится, мозг его начнет лихорадочно работать, выискивать или вспоминать придуманные заранее объяснения, версии, удивительно правдоподобные истории, призванные убедить, доказать, что павшее на него подозрение — это ошибка, недоразумение и не больше. Но если человеку нечего бояться, совесть его чиста и руку на его плечо положили по ошибке, случайно, то его реакция совсем иная. Вместо испуга — удивление, вместо многословия с излишними деталями историй — спокойные, пусть не всегда с охотой даваемые, но уверенные ответы на вопросы. Дедковский и Агапов знали это хорошо и потому так внимательно следили за лицами Валерия и Людмилы. Валерий явно начинал раздражаться и, взяв девушку за руку, твердо сказал: — Пойдем, Люда. — Мы пойдем вместе, — сказал Дедковский. — Почему? Кто вы такие? — резко спросил Валерий, и чувствовалось, что этот парень не побоится постоять и за себя, и за свою подругу. Дедковский показал ему свое удостоверение. — МУР? Но при чем тут, собственно, мы? А впрочем, если у вас есть к нам вопросы, пожалуйста. Только скажите прямо, в чем дело? — И, обращаясь к спутнице, усмехнулся: — Людка, мы влипли в какую-то историю. Они из МУРа. Поедем с ними. Вот нам и попутная оказия. А мы с тобой голову ломали, как будем добираться до центра. В машине начала возмущаться Людмила: — Вы все-таки объясните, что это значит? — Обязательно объясним, немного терпения. — Но это же черт знает что!.. Валерий легонько пожал ее руку: — Спокойно, Люда, спокойно. С МУРом шутить не рекомендуется. Разберутся. Во всяком случае, должны. В помещении Ленинградского уголовного розыска обстановка строгая, деловая. Людмила и ее спутник присмирели. — Были ли вы на квартире Чернецовых? — Да, были. — Витю видели? — А как же? Даже кофе он нас угощал. — Зачем заезжали туда? — Ну как зачем? Вещи мои там были, чемодан. — Сколько времени пробыли в квартире? — Около часу. Потом уехали. Улетели, вернее. Самолетом. — Постарайтесь вспомнить, когда вошли в квартиру, в какое время вышли? Людмила посмотрела на Валерия, на свои часы. — Приехали туда около трех, уехали в четыре. — В семнадцать часов мы уже поднялись в воздух, — добавил Валерий. — Именно в это время Витя был убит, вещи похищены, квартира подожжена. Слова эти Дедковский произнес спокойно, но прозвучали они, как выстрел. Людмила и Валерий одновременно вскочили со стульев… — Как?! Витю?! Не может быть! Он же нас провожал… И все просил купить духовой пистолет. И мы купили… Людмила говорила все это торопливо, нервно, руки ее дрожали. Валерий укоризненно посмотрел на нее и подчеркнуто спокойно проговорил: — Люда, ну что ты? Товарищи и впрямь могут подумать, что к этому кошмарному делу мы имеем какое-то отношение. — А вы знаете, это недалеко от истины, — подтвердил Агапов. — Да вы с ума сошли! — с расширившимися от ужаса глазами вскрикнула Людмила. Валерий в ответ на слова Агапова, стараясь подавить свою взволнованность, заметил: — С таким же основанием вы можете считать нас участниками ограбления почтового вагона с золотом, что произошло в Англии. — Даже шутите? — констатировал Агапов. — Это хорошо. Самообладание завидное. Но вам придется кое-что пояснить. — Что, например? — Ну, хотя бы происхождение вот этого пятна на обшлаге вашей рубашки, которое вы так старательно прячете. Валерий автоматически, сам того не заметив, повернул руку, прижав злополучное пятно к столу. — Видите? Вот то-то. Но Валерий не сдавался: — Происхождение этого пятна самое банальное. Открывал банку с консервами и порезал руку. Вот посмотрите, — он положил левую руку на стол. Между большим и указательным пальцами действительно красным рубцом выступал порез. — Что ж, возможен и такой случай, — согласился Дедковский. — Необходимо только все тщательно проверить, все исследовать. Вам придется подождать в соседней комнате. — Подождать — подождем. Но если мы не уедем сегодня, повезете нас в Москву на казенный счет. На билеты мы потратили все, что у нас было. Это сказала Людмила. И сказала спокойно. Пример Валерия, который держался так уверенно, подействовал и на нее. Агапов, читавший какие-то бумаги, поднял голову. — А я все меньше сомневаюсь в возможности вашей поездки на казенный счет. Когда Людмила и Валерий вышли, Дедковский сказал Агапову: — Знаешь… мне кажется, что это не те, кого мы ищем. Если даже группа крови совпадет… Все равно не те. — На чем же основывается эта ваша убежденность? — удивился Агапов. — Видели мы с тобой убийц, и не раз. Эти не похожи. — А вы не исключаете, что все это тщательно продумано и прорепетировано? Бывали ведь и такие случаи, верно? Не забывайте обстоятельства ограбления. Похищены деньги, золотые вещи, несколько платьев, отрезов, шуба. Деньги и ценности хранились в ящике серванта, который запирался на ключ. Шуба, отрезы, платья — во встроенном шкафу в передней, который тоже всегда был заперт. А ключи и от того, и от другого лежали в среднем ящике письменного стола, под бумагами. Об этом было известно лишь членам семьи. И возможно, кому-то из близких людей. Кто же эти близкие? Других, кроме Людмилы, нет. — Ну, она тоже не настолько уж близкая, чтобы знать подобные детали. Приезжала к Чернецовым довольно редко. Нет, кажется, мы с тобой не на той дорожке. Но проверить мы должны все, все до последней мелочи. И поэтому сделаем так: исследование пятна на рубашке — по моей части. А ты… Ты вместе с молодыми людьми поезжай в общежитие Технологического института, где они остановились. Тщательнейшим образом осмотри их вещи. G прокурором обговорено. — Уверен, кое-что мы там найдем, — живо откликнулся Агапов. В вещах студентов ничего из чернецовских вещей обнаружить не удалось. Группа крови на рубашке Валерия, однако, была такой же, как и убитого. Едва Дедковский и Агапов успели обменяться этими сведениями, как раздался телефонный звонок. Полковник приказывал им завтра утром прибыть в Москву. Выехали в ту же ночь. Чтобы скоротать время в дороге, Дедковский расспрашивал Валерия и Людмилу о том, что удалось посмотреть в Ленинграде, в каких театрах побывать, что особенно понравилось. Потом опять вернулся к трагедии в Ключевом. — Расскажите-ка все еще раз, только подробнее. — А что рассказывать? — ответил Валерий. — Ведь вы обо всем уже выспросили. Были мы в квартире недолго, сварили сардельки. Витя их в холодильнике разыскал. Съели, выпили по чашке кофе и поехали. Людмила добавила: — Витя провожал нас. Все про пистолет напоминал. Даже когда прощались на лестничной площадке. Паренек, что к нему пришел, в квартиру его тянет: пора, дескать, уроки делать, а Витя все твердит: «Тетя Люда, не забудьте, о чем я просил». Агапов в разговоре не участвовал. Перед отъездом в Москву он настаивал, чтобы Дедковский получил у полковника разрешение оставить его, Агапова, в Ленинграде для розыска вещей. Однако было приказано выехать немедленно всем вместе. …Начальник МУРа терпеливо выслушал вначале Дедковского, затем Агапова и, обращаясь к обоим сразу, сказал: — Значит, в выводах категорически разошлись? — Как видите, — пожал плечами Агапов. — Товарищ Дедковский очень уж полагается на свою интуицию. Она у него, конечно, проверенная, не спорю, но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Группа крови, как известно, доказательство не последнее. Дедковский устало посмотрел на своего беспокойного помощника: — Что верно, то верно. Но, насколько я помню, у тебя тоже третья группа. — Третья, — неуверенно подтвердил Агапов. — Вот с таким же основанием и тебя можно заподозрить. — При условии, если я был вхож в их квартиру, если был в ней в промежуток времени, в который произошло убийство… — А где ваши подопечные? — прервал их спор полковник. — У меня в кабинете. Завтракают, — ответил Дедковский. Агапов так и взвился: — Вы слышите, товарищ полковник? Они завтракают! В его кабинете. И даже без конвоя! — И, зная, что он уже не в первый раз за эти дни перешагивает за рамки служебной субординации, со вздохом добавил: — Извините, но иначе не могу. Как вспомню Витю, лежащего на диване, так все закипает во мне! Очень уж мы миндальничаем да осторожничаем. Действуем по принципу: как бы чего не вышло. А преступник должен сразу понять, где он находится. Дедковский вскинул на него седоватые брови, сузил глаза: — Так то преступник. А в отношении этих ребят пока ничего не доказано. Ничего. Потому извольте к ним относиться соответственно. Может, вы уголовно-процессуальный кодекс забыли? Полковник наклонился к селектору, нажал кнопку: — Лаборатория? Обработка бутылки и стакана, доставленных из Ключевого, закончена? Нет еще? Поторопитесь. — Какой бутылки, какого стекла? — встрепенулись Дедковский и Агапов. — Сегодня в квартиру Чернецовых пришли строители, ремонт производить. Стали выносить вещи, а ненужные мелочи выбрасывать в мусоропровод. Он оказался засоренным. Когда очистили, нашли кое-что из квартиры Чернецовых. Бутылку из-под водки, стакан. Ребята из бригады оказались разумные. Дескать, раз в квартире произошло такое, то все, любой пустяк может иметь значение. Аккуратненько завернули бутылку и стакан в газету — и к нам. Бутылка, как и все бутылки, а стакан с каемкой, хозяин его признал. — И такие предметы не были обнаружены при осмотре квартиры? Какое безобразие! Какая халатность! — обескураженный Дедковский нервно мял папиросу. — Ну, вы напрасно так ругаете себя. Кому могла прийти в голову мысль, что в мусоропроводе, находящемся на лестничной площадке, есть бутылка и стакан, имеющие отношение к убийству? Надо быть провидцем или комиссаром Мегрэ, чтобы предположить это. Такое бывает только в детективных романах. — Вы зря меня успокаиваете, товарищ полковник. Этот факт возмутительный. И к нему мы при разборе дела еще вернемся. А скажите, что еще известно об этой бутылке со стаканом? — Хозяин помнит твердо, что бутылка в холодильнике была с остатками водки. Значит, ею воспользовался кто-то из посетивших квартиру. На бутылке и стакане есть следы. Может быть, они принадлежат тому, кого мы ищем. — Это была бы слишком большая удача, — пробормотал Дедковский. Исследование бутылки и стакана было закончено поздно вечером. На бутылке следов обнаружить не удалось. На стакане же их было несколько. Экспертиза установила: ни рука Валерия, ни рука Людмилы к стакану не прикасались. Не принадлежали отпечатки и Чернецову. Теперь уже и Агапов не решался так уверенно утверждать, что Валерий и Людмила причастны к убийству. Конечно, можно было продолжать выяснение разных деталей, только во имя чего? Доказывать недоказуемое? Но и отказаться от версии, которая казалась столь реальной, тоже было нелегко. Мучительно тяжело на душе у оперативного работника, когда заподозрен невинный человек. И не менее тяжело, когда упущен преступник. Дедковский, прощаясь с Валерием и Людмилой, был доволен. Агапов чуть-чуть смущен. Но терзаться и переживать было некогда, да и не любил этого старший лейтенант Агапов. Разведя руками, он с обезоруживающей улыбкой проговорил: — В любом деле ошибки бывают. Так что вы, ребята, не обижайтесь на нас. Валерий начал было говорить что-то насчет некоторых не в меру самоуверенных детективов, но Людмила остановила его: — Не надо, Валерий. Пусть лучше товарищи муровцы скажут, как дальше-то будет? Кто же убийца и где он? Агапов вздохнул: — Если бы знать!.. Валерий и Людмила поднялись. Дедковский остановил их: — Прошу немного задержаться. В поезде вы рассказывали мне, что, когда уходили из квартиры Чернецовых перед отъездом в Ленинград, к Вите пришел какой-то его приятель. Так? — Да, именно так, — подтвердили Валерий и Людмила. — Что это был за парень? Расскажите. …Когда Валерий и Людмила ушли, Дедковский, подняв на лоб очки, долго сидел задумавшись, барабаня по столу пальцами. Затем проговорил: — Итак, старший лейтенант, на версии номер два тоже ставим крест. Давайте думать еще. Думать и думать. К завтрашнему утру на столе у полковника должен лежать новый оперативно-розыскной план. Версия «Приятель» тоже должна быть в этом плане. — Сколько же еще будет этих планов и версий, товарищ майор? — Бывает всякое. Может, пять, может, и десять. А то и больше. В данном случае версия «Приятель» может быть последняя. Думаю, что последняя. — Опять интуиция? — Не только. Хотя и она тоже. А что, у тебя есть к моей интуиции какие-нибудь претензии? По-моему, она нас не подвела? — Нет, не подвела. Но я предпочел бы знать более подробно ход ваших рассуждений, чтобы не блуждать вслепую. — Что ж, требование законное. Слушай. С чем не согласишься, делай себе заметку. Обсудим потом. Говорил майор долго. Делал паузы, задумывался, курил. Опять продолжал. Наконец подытожил: — Преступление совершено между пятнадцатью и семнадцатью часами. Кто был в этот период в квартире? Валерий и Людмила? Но они уехали в шестнадцать. Значит, отрезок времени для преступления сузился до одного часа. Кто был в квартире в этот промежуток? Какой-то мальчик. Вот в нем и отгадка тайны. — А если он пришел и тут же ушел? — Могло быть и так. Но шел-то он заниматься, делать уроки. Верно? Почему же он вдруг должен уйти? Нет, он не ушел, и именно он, этот малец, должен помочь нам распутать клубок. — А что, пожалуй, вы правы, — согласился Агапов. — Давайте прикинем. Допустим, что расстроилось у них дело с занятиями. На это потребовалось какое-то время. Пусть пятнадцать, пустьдвадцать минут. А это уже около половины пятого. В семнадцать же часов, как известно, поступил сигнал о пожаре. Грабители должны были узнать, когда Витя остался один в квартире, должны были войти в квартиру, расправиться с ним, найти ключи, обшарить шкафы, отобрать наиболее ценные вещи, уложить их, вынести из дома, поджечь квартиру. Маловато времени оставалось для всех этих операций. Да еще кто-то и водку пил. Нет, это были убийцы-грабители с предварительной разведкой. И возможно, вполне возможно, что мальчик этот пришел не случайно. Вы абсолютно правы, товарищ майор. — Значит, действуем? — Действуем. И вот работники оперативной группы опять к Ключевом переулке. Участковый уполномоченный, обслуживающий этот микрорайон, председатель домового комитета, классный руководитель школы, где учился Витя Чернецов, рассказывают о его сверстниках. Ребята хорошие, хоть и озорные немного. С кем дружил Витя? Со многими. С Ивановым Толей, Смирновым Юрой, Арутюновым Ашотом, Надей Беляевой. Вообще Витю любили и, пожалуй, все или почти все у него были в приятелях. К вечеру Агапов вместе с участковым собрал всех ребят, которые были названы как друзья Виктора. — Расскажите, ребята, кто из в!с бывал у Вити Чернецова? — А зачем нам у него бывать? — Ну как это зачем? Помогать делать уроки, например. — Он сам мог кому хочешь помочь. — Допустим, но ведь бывали же вы у него? Оказалось, почти все бывали, только раньше. — А почему только раньше? Почему? Молчат ребята, глаза опустили. — Ну, так как же? То все ходили, а потом вдруг никто. Щуплый, вихрастый паренек стал неохотно объяснять: — Так ведь Серега к нему стал ходить. Чеглаков. Он тоже у нас в школе учился. А с нынешнего года в другую школу ходит. В другой район переехали они. А кто же пойдет, раз Сережка там? Он же обязательно тумаками угостит. Узнали адрес Чеглаковых. Новый дом, небольшая, но хорошо обставленная квартира. Сергея Чеглакова дома не было. — Уехал к родне в Коломну, — сообщила мать. И настороженно спросила: — А зачем он нужен-то? Может, натворил чего? — Да нет. Хотели поговорить с ним. — Если что такое, так вы мне скажите. Без отца растут-то у меня. Отчаянные. В это время в комнату вошел старший Чеглаков — Федор. Увидев Агапова и участкового, он нахмурился: — В чем дело, товарищи? — Да вот Сережа им понадобился, — объяснила мать. — Это зачем же? — Да так. Дело есть, — ответил Агапов. — Но мы-то должны знать, что это за дело? — Хотели кое-что уточнить. — Приедет в понедельник, тогда и уточните. — Спасибо. Скажите ему, чтобы он пришел в детскую комнату отделения. — Придет, придет, отчего же не прийти, раз надо, — вздохнув, проговорила мать, провожая гостей к двери. И вот перед Дедковским и. Агаповым сидит подросток. Рослый, с хмурым, насупленным взглядом. Держится настороженно, всеми силами старается показать, что никого он не боится и ничто ему не страшно. И вообще, почему его вызвали? Хулиганил он? Нет. Дрался? Нет. Ну и все. Чего, собственно, надо? — Расскажи-ка, Сергей, о втором апреля. Подробно расскажи. Постарайся вспомнить весь день. Где был, когда, что делал? — Ну, где был? В школе. — А потом? — Потом дома. — И долго? — До вечера. — А вечером? — Играли во дворе. Потом пошли с ребятами в «Зарю». Фильм там мировой шел. Только билетов не достали и ушли домой. — Ничего не забыл? — Вроде ничего. Почему я должен забыть? — Ну, знаешь, бывает. Подумай еще. — Еще за молоком ходил в магазин. Мать посылала. Это уж совсем вечером. — Хорошо, Может, еще что припомнишь? — Нет, больше никуда не ходил. — Ну, ладно, Сергей. Посиди пока в другой комнате. Позовем тебя. — А мне домой пора. Мать и брательник задерживаться не велели. — Скоро пойдешь, долго не задержим. Минут через пять после ухода Сергея в комнату вошла Людмила. Она была взволнована. — Этот, именно этот парень шел тогда к Вите. — Да? А вот он говорит, что был дома после школы и никуда днем не выходил. — Товарищи, честное слово, он! Я, конечно, не знаю, может, мальчик этот и не имеет никакого отношения к тому страшному преступлению, но что он встретился нам на лестнице — это точно, голову даю на отсечение. В следующий раз Сергей пришел в отделение в сопровождении брата. Федор требовательно заявил: — Вы должны объяснить, почему таскаете братишку. Позавчера вызывали, сегодня… Он не хулиган, не какой-то там трудновоспитуемый. — Хорошо, хорошо. Но, между прочим, к нам не следует ходить вот так… под хмельком. — А почему я не могу выпить? На свои пью. — И добавил: — С Сергеем будете говорить при мне. — Нет, говорить будем без вас, — твердо возразил Дедковский. — Так что придется подождать в соседней комнате. Сергей, зная, что брат находится рядом, держался еще уверенней, чем в первый раз, моментами даже вызывающе. — Сергей! Ты вот говорил, что, кроме магазина, никуда после школы не ходил. Так? — Так. — А выходит, не совсем так. У Виктора Чернецова ты, оказывается, был. — Это когда же? В тот день не был. — Нет, был. — Нет, не был. — Понимаешь, тебя видели родственница Чернецовых и ее знакомый. Они выходили из квартиры, а ты пришел. На лестничной площадке вы встретились. Да и дворник видел, что ты днем, около четырех часов, забегал в подъезд. — Так я же на одну минуту. Взял у него учебник по географии и ушел. — Географию, говоришь, взял? — Да. И сразу ушел. Дедковский, раскрыв папку с документами, стал про себя читать опись вещей Вити Чернецова, которые были в день убийства в его комнате. В описи значились и учебники. Среди них — география. Может быть, ошибка? — Ты посиди, Сергей, минутку, вот потолкуйте с товарищем Агаповым, а я сейчас приду. Дедковский прошел в комнату начальника отделения, позвонил в МУР и попросил проверить, есть ли среди вещей Вити Чернецова, изъятых для следствия, учебник географии. — Да, есть, — подтвердили оттуда. — Вот он перед нами. География частей света. Учебник для VI–VII классов. Издательство «Просвещение», 1963 год. На обложке надпись: «В. Чернецов. 7-й «Б». Когда Дедковский, возвращаясь к себе, проходил через приемную, Федор Чеглаков нетерпеливо спросил: — Скоро освободите мальца? Ему заниматься надо. — Да, да. Еще несколько минут, — ответил майор. Вернувшись, Дедковский на всякий случай ещё раз спросил Сергея об учебнике, тот снова подтвердил то же самое: — Брал географию. Она и сейчас у меня дома. Могу принести. — Хорошо. В следующий раз, когда мы тебя позовем, захвати книгу с собой. Сергей, по-взрослому сутулясь, не попрощавшись, вышел из комнаты. Вечером на совещании в МУРе Дедковский докладывал итоги этих дней. В конце совещания заявил: — В том, что Сергей Чеглаков был там и что он в какой-то мере участник преступления, у меня сомнения нет. Но лицо он, конечно, второстепенное. А кто главный — неясно. Окружение Сергея по школе исключается. Ребята все мальцы; Считаю, что в убийстве может быть замешан его брат Федор. Он дважды судился, поведение не из похвальных. Правда, доказательств его участия в деле на Ключевом пока нет. Надо проверить дактилоскопические отпечатки. — А если они не сойдутся? Опять извиняться? — По тону начальника МУРа Дедковский понял, что разрешение на задержание Чеглакова ему пока не дадут. — Вы нам соберите доказательства, тогда и решим, как быть с Федором Чеглаковым. Но смотрите, чтобы не скрылся. А то ищи ветра в поле, — сухо проговорил полковник. — Скрыться не дадим и доказательства соберем. Прошу еще несколько дней, — твердо пообещал Дедковский. На следующий день в трест Облпромстрой, где работал Федор Чеглаков, приехал работник бухгалтерии главка, долго рылся в ведомостях по заработной плате, потребовал учетный журнал выхода на работу сотрудников. Придирчивый оказался представитель, дотошный. Два дня сидел, ковырялся в бумагах, все выспрашивал, что да почему. Затем объявил, что некоторые документы, например ведомости на зарплату, заберет на несколько дней с собой. Управляющий было воспротивился, позвонил начальнику главка. Тот коротко ответил: — Хочет забрать — значит, надо. Не пропадут ваши ведомости, вернет. Через два дня Агапов, взволнованный, нетерпеливый, явился к Дедковскому: — Все в порядке. — И положил перед Дедковским дактилоскопические карты, заключение экспертов. Майор долго, тщательно изучал принесенные документы. Потом коротко бросил: — Пошли к полковнику. Войдя в кабинет, майор официально произнес: — Товарищ полковник, надо немедленно задержать Федора Чеглакова. — Есть доказательства? — Отпечатки пальцев в ведомостях на зарплату и на стакане идентичны. Второго апреля Федор со своим приятелем Семеном Потаниным на работе не были. Отпрашивались. Кроме того, сегодня в скупочный магазин в Медведкове сданы золотой браслет и брошь, взятые у Чернецовых. — Самими преступниками? — Ну, нет, не так уж они глупы. Через одну старушенцию. — И ее не задержали? — Хотим посмотреть, по каким еще адресам она свои стопы направит. — Ну что ж, поздравляю вас. — И полковник стал набирать номер телефона городской прокуратуры. …Взяли их на шумной, веселой вечеринке в Кожухове, у Нинели Белявской, полупьяных, возбужденных вином и происшедшей незадолго до этого стычкой в соседнем ресторане. Вид у приятелей сначала был оскорбленный и подчеркнуто недоумевающий. — За что взяли? Ну, пошумели малость, что из этого? Однако за возмущенными выкриками крылась тревога. Неужели на Петровке что-то знают? Тревога эта сменилась у Чеглакова леденящим душу страхом, когда Дедковский, отправив с дежурным Потанина, спокойно и деловито, как-то даже буднично, проговорил: — Ну, хватит, Чеглаков. Вы ведь хорошо понимаете, что на Петровку вас привезли не зря. За бедлам в ресторане вам хватило бы и отделения. Рассказывайте об обстоятельствах убийства Вити Чернецова… Огромным усилием воли Чеглаков заставил себя успокоиться и даже усмехнуться: — Не понимаю, о чем говорите. Что-то не то шьете, начальник. Держался он вызывающе, задиристо. Упирался отчаянно и долго, требовал объективного расследования фактов, доказательств. — Прямо не верится, что это убийца. Уж очень уверенно себя держит, — недоумевал Агапов после первого допроса Чеглакова. Дедковский махнул рукой: — Инстинкт самосохранения. Рассчитывает сбить нас с толку. Знает, что держать без доказательств мы не можем. Только не знает того, что доказательства-то у нас есть, и притом неопровержимые. На втором допросе Агапов повторил свой вопрос: — Так как же, Чеглаков, будете признаваться? — В чем? — В убийстве Виктора Чернецова. — Нет. — Тогда как объяснить, что гражданка Устименко Пелагея Дмитриевна, задержанная при продаже некоторых ценных вещей, принадлежащих Чернецовым, показала, что эти вещи ей дали вы? — Какая Устименко, какие вещи? Ничего не знаю! — Допустим. Но вот этот портсигар и часы, принадлежащие Чернецовым, изъяты у вас в комнате. Как они попали в ваш чемодан? — Впервые вижу эти жестянки. — Несерьезно это, Чеглаков. Вещи изъяты в присутствии понятых и вашей собственной матери. Чеглаков не отвечал. — Тогда еще вопрос. Почему собирались уехать из Москвы? — Никуда я не собирался. — Неправда. Собирались. Вот билет на самолет во Фрунзе. Тоже изъят у вас. Наконец, ему предъявили заключение дактилоскопической экспертизы, из которой явствовало, что отпечатки на стакане из квартиры Чернецовых и отпечатки его пальцев идентичны. Чеглаков долго молчал, потом исподлобья осмотрелся по сторонам и глухо, не глядя на Дедковского, произнес: — Да… Частично виноват. Но не в убийстве, нет. В том, что участвовал в ограблении квартиры, и в том, что… не удержал Потанина от убийства.Семен Потанин был менее опытен, и страх совершенно парализовал его. Однако своего оправдательного алиби держался упорно. Подробно, в деталях объяснил, что делал второго апреля. Почему именно второго брал отгул? Да очень просто. Надо было костюм купить. В выходные дни народу в магазинах, как известно, всегда полно. Вот и решил использовать заработанный день. И купил в Измайлове. Очень хороший, между прочим, магазин. Магазин готовой одежды в Измайлове действительно есть. И второго апреля Потанин костюм там купил, но только в первой половине дня. Данная партия товара прошла до двенадцати часов, об этом свидетельствовала контрольная кассовая лента. Семен же настойчиво утверждал, что покупал в конце дня, около пяти часов. И хотя ему было убедительно доказано несоответствие его объяснений фактической стороне дела, он стоял на своем. «Нигде больше не был, ни с кем не встречался, никаких Чернецовых не знаю». — А вот Федор Чеглаков показал, что Витю Чернецова убили вы спортивными гантелями. — Что, что? Это он показал? Он? — Семен впился глазами в протокол допроса. Убедившись, что его не обманывают, беспомощно опустился на стул. Однако опять взял себя в руки: — Это не доказательство. А может, это и подпись-то не его. Ему дали прослушать магнитофонную ленту с записью показаний Федора. Но и после этого он продолжал стоять на своем. — Видите ли, Потанин, голое отрицание фактов не лучший способ защиты, — терпеливо выслушав его, сказал Дедковский. — Но допустим, что этих фактов вам кажется мало. Тогда как вы объясните еще одно обстоятельство? Орудие убийства — гантели — вы выбросили около Мало-Устьинского моста, завернув в сорванную занавеску. На гантелях кровь жертвы и следы ваших рук. Немаловажное обстоятельство, как вы думаете? Семену Потанину тоже ничего не оставалось, как признаться в преступлении. И вот остались позади бессонные ночи оперативной группы, следователя прокуратуры, экспертов, многих других работников, напряженные совещания, где возникали, обсуждались, отвергались или принимались версии, гипотезы, предположения. Кто совершил преступление? Как найти преступников? Как уличить их? Доказать их вину? Это все уже позади. Преступники установлены. Скрупулезно, до мельчайших деталей собраны все улики и доказательства их дикого преступления. Скоро суд. Он подведет черту. У майора Дедковского появились уже другие заботы. Но забыть трагедию в Ключевом, вычеркнуть из своей памяти людей, чьи судьбы переплелись в ней, он не может. Ведь для настоящего криминалиста мало установить преступника, доказать его вину. Он должен выяснить, понять, проанализировать те силы, те обстоятельства, которые завязали этот страшный узел. Что касается Чеглакова, все было ясно. Наказания, которым он подвергался, впрок не пошли. Сроки изоляции были невелики, но и их Чеглаков не отбывал полностью, оба раза его освобождали досрочно. Надеялись на то, что образумился парень и будет вести себя по-людски. Но парень уразумел только одно: не так уж это страшно — суд и тюрьма. Можно, оказывается, выбраться и оттуда и опять приняться за свои дела. Примитивный, но изворотливый ум вел его только в одном направлении: жить сытно и весело. И все пути для этого годились, все средства были хороши. Младший брат вырастал точной копией старшего. В его представлении Федор был герой, смелый до отчаянности. Он зачитывался его письмами, а по возвращении брата домой жадно слушал его рассказы о похождениях. И усвоил твердо: жить надо не разиней, а с умом, вот так, как Федор, иначе какая же это жизнь? Дайте только вырасти! Но чтобы не очень допекала мать, школу придется кончить. Вот работает же брат в тресте. Это тоже чтобы не было постоянных слез и скандалов в доме, чтобы в тунеядцы не попасть. Смену себе старший Чеглаков готовил достойную. Да, с Чеглаковым было ясно. А Семен Потанин? Как он оказался на стежке Чеглаковых? Что это, случай, стечение обстоятельств или логическое следствие каких-то причин, цепь оплошностей, ошибок, поступков, которые неизбежно должны были привести к роковому концу? В ходе следствия Потанин отвечал на подобные вопросы неохотно, скупо, он явно тяготился ими, страх расплаты за преступление, казалось, парализовал способность думать, анализировать явления и факты. Он мог и говорить и думать только об одном. Десятки раз задавал все тот же вопрос: «Что мне будет? Что?» Жила в Москве семья Потаниных, обычная семья, каких много. Отец работал в крупном строительном тресте, мать — плановиком-экономистом на одном из заводов. Был у них сын Семен. Жил вольготно. И сыт, и одет, и всем обеспечен. Уже в седьмом или восьмом классе не шел в школу, если не выглажена форма, если помят воротничок. А к приятелям, в кино или на школьный вечер — только в костюме, и обязательно модном. Дома ему все в первую очередь и самое лучшее, что бы ни пожелал. Когда чихал или кашлял — это считалось происшествием. Домашние поднимали на ноги всех врачей. Годам к пятнадцати хилого подростка уже нельзя было удивить ни Южным берегом Крыма, ни Рижским взморьем. А учеба шла с трудом. Среднюю школу едва осилил. В институт не попал. Да и не очень рвался. Пришлось отцу устраивать его на курсы нормировщиков. Здесь дело как будто пошло. Фамилия отца в этой системе была известной, и сыну помогали как могли. Но вот на безоблачном небе разразился гром. В семью Потаниных пришла беда, беспощадно разрушив их спокойный, устроенный быт и благополучие: ушел из семьи отец. Казалось, все полетит кувырком. Но мать взяла себя в руки и стала у руля их маленького семейного корабля. Сын стал теперь для нее единственным светом в окне. Она дала себе слово, что Семен не почувствует отсутствия отца, будет иметь все, что имел раньше. Это стало ее первейшей заботой, главной целью и смыслом жизни. Была в этом и ее месть мужу: вот, дескать, живем и без тебя. Тянулась изо всех сил, чтобы сын не ощущал ни в чем недостатка. Это было нелегко. Стала понемногу брать из тех сбережений, которые скопила за многие годы. Их хватило ненадолго. Продала все отцовское. Затем кое-что свое. Но становилось все труднее. Как-то Семен, придя с работы, объявил: — Нужна тридцатка. Сабантуй с ребятами устраиваем. Мать возразила: — Нет у меня таких денег, Сема. Вот десятка — и все. Сын удивленно глянул на мать: — Это как же нет? Я обещал. Ты понимаешь, обещал! — в его голосе слышалось раздражение. Мать засуетилась, побежала по соседкам. Расстаралась-таки, достала нужную сумму, и Семен, небрежно поблагодарив, ушел к ожидавшим его приятелям. В строительном тресте, где после окончания курсов работал Семен, зарплата была не очень-то высока. А потребности его все возрастали. Не мог же он, в самом деле, обойтись без джинсов, мокасин, цветастых и ярких импортных рубашек. А костюмы, а плащ? Но не только этим жив человек. Как, например, существовать без «грюндига» и без записей Джонни Холлидея? Хоть все это и влетало в копеечку, но необходимые приобретения были сделаны. Да, многое было нужно теперь Семену. Мать тревожилась все больше, ожидая очередного требования. Уже ушли в комиссионный заветные кольца и брошки, ложки, подстаканники — последнее из более или менее ценных вещей. Наконец она сказала, что больше ничего нет. Сын не поверил. «Решила припугнуть», — подумал он. Что-то похожее уже бывало. И он одолжил деньжат у приятелей в расчете на доброе, отходчивое сердце матери. А ему предстояли еще большие расходы. В один из вечеров в «Колосе», где они коротали вечер с друзьями, появилась Нинель Белявская: каштановая копна волос, большие синие глаза, длинные, тяжелые ресницы, стройная фигурка — все это как громом поразило Потанина. Он стал деланно весел, громче всех хохотал. Настоял, чтобы ужин закончился шампанским. Потом шумной компанией фланировали по улице Горького, приставали к прохожим, горланили песни. С трудом отговорившись от дружинников, поехали к Нинели. Остаток ночи прошел так же бурно и весело. Наконец приятели разъехались, а Семен остался. Нинель Белявская оказалась особой с изысканным вкусом. Ей нравились и французские духи, и итальянские джерсовые костюмы, и японские плащи, и австрийские туфли. Все это она без труда доставала через каких-то своих знакомых и подруг. Но чтобы рассчитаться за элегантные подарки, Семен занимал деньги у друзей и приятелей, сослуживцев в тресте, забрал все крохи, что оставались у матери. Наконец эти малые и шаткие источники иссякли. Надо было что-то делать! Но что? Начальник отдела предложил сверхурочную работу. Это было как нельзя кстати, верный и немалый заработок. Потанин согласился. Позвонил Нинели, объяснил ситуацию. Она одобрила намерения своего приятеля и заверила его, что будет все это время сидеть дома. Но когда на второй день поздно вечером Семен заехал к ней, то нашел короткую записку: «Мальчики увезли меня в «Янтарь». Если соскучишься — приезжай». В «Янтаре» Потанина встретили хмельным веселым гулом и довольно недвусмысленными шутками: — Выдохся, старик, на мель сел. И тут же снисходительно предложили: — Садись, садись. Чавкай. Разживешься косыми — отпотчуешь. Потанин сидел хмурый, неразговорчивый и все смотрел, смотрел на Нинель. А она откровенно флиртовала с длинным чернявым парнем, работником какого-то телевизионного ателье. Парень хвастался, что деньги для него — сущая ерунда. Они приготовлены почти в каждой квартире. Ибо нет ничего вечного под луной, а тем более вечных телевизоров. Потанин смотрел на Нинель, на чернявого парня, на всю компанию своих друзей, и сердце переполнялось мучительной ревностью, завистью, жалостью к себе и злостью на безденежье. «Взять бы сейчас, — думал он, — да заказать всем по полному набору. От зернистой икры и маслин до шашлыка или цыплят табака, от коньяка и столичной до «Цинандали» и шампанского. Вот было бы кутерьмы, суматохи, криков и восторгов! Как бы Нелька удивилась! И как бы вытянулась рожа у этого верзилы — у этой телевизионной антенны!» Но нет, не может этого сделать Потанин, не может!.. Он шел к себе домой мрачный, злой, с опущенными плечами. Его мутило и от выпитого в «Янтаре», и от вероломства Нинели, и от острого недовольства жизнью. — Тоже мне жизнь, — бормотал он вполголоса. — Не можешь позволить себе самых простых удовольствий. Потанин думал, что идет один, а сзади, оказывается, вышагивал Федор Чеглаков, его друг-приятель и сослуживец. Услышав сокрушенное бормотание Семена, Чеглаков с готовностью разделил его сетования. — Да, ты прав, старик, на сто процентов прав. Чертовщина получается! — Он помолчал немного и как бы между прочим сообщил: — Сережка, брательник, рассказывал — бывает он у своего приятеля пацана. Вот живут люди! Барахла, разных там драгоценностей полна квартира. Ничего больше не сказал в тот вечер Чеглаков. И ничего не спросил Потанин. Но назавтра, когда встретились в столовой, Чеглаков поинтересовался: — Что сегодня делаем? — Не знаю пока. — Заходи, потолкуем. — Хорошо, зайду. …Предложение Чеглакова так испугало Потанина, что он чуть не сбежал из комнаты приятеля. Но тот, толкнув его в плечо, усадил опять на диван и стал весело, с шуточками убеждать: — Чего ты психуешь! Неужели ты такой жидкий? Вот не знал. Дело и верное и тихое, гарантию даю. Конечно, если с умом его провернуть. А за это я ручаюсь. Дрожать и потеть причин нет. Помнишь дело в Черкизове? Ну а это будет еще тише. Да, Потанин хорошо помнил происшествие в Черкизове. Как-то на их компанию случайно набрел подвыпивший толстяк. Было это в сквере недалеко от Преображенской площади. Не прошло и пяти минут, как незадачливый прохожий лежал избитым в кустах. Карманы его были очищены в мгновение ока. Документы и какие-то ведомости и накладные Чеглаков бросил в почтовый ящик, а солидный денежный куш доставил немало удовольствия их компании. Правда, месяц или два Потанин не мог ходить по улицам, не оглядываясь по сторонам. Тревожно спал ночью, при любом стуке в дверь дрожал как осиновый лист. Но то ли толстяк промолчал, то ли милиции не удалось напасть на след «смельчаков», дело заглохло. И друзья потом вспоминали эту историю с удовольствием и дерзко посматривали при этом на милиционера, если он по случаю находился поблизости. Напоминание о черкизовском происшествии развеселило и успокоило Потанина, он плотнее уселся на диване и стал внимательно слушать приятеля. Затем спросил: — Ну а если завалимся? Федор посмотрел на выжидающее лицо Семена и, снисходительно усмехнувшись, небрежно процедил: — Допустим. Хотя это и исключено. Но допустим. Что будет? А вот что: дадут тебе пятишник, а через два-три года домой притопаешь. — Это как же? — Да очень просто. Предварительное заключение — день за два. Это раз. За примерное поведение — скидка. Это два. Скидка же за ударный труд во имя перевыполнения плана по производству какой-нибудь там тары или, допустим, хомутов. Это три. А в сумме условно-досрочное освобождение. Так что даже и при твоем дурацком «а вдруг» ничего такого страшного не предвидится. Мне, правда, посложнее: в случае чего, все припомнят… Но я в те палаты опять попадать не собираюсь. А ты думай, решай. Конечно, я обойдусь и без тебя, только смотри… Федор замолчал, и Семен не настаивал, чтобы ой продолжал. Он хорошо его понял. Понял в том смысле, что, если не пойдешь, мол, пеняй на себя, потеряешь редкую удачу. А сболтнешь — опять плохо: можешь потерять еще больше. Причастность к тайне, как известно, обязывает. Прежде чем идти «на дело», преступник часто задумывается о последствиях. В нем идет борьба за и против. Начинающий сомневается: надо ли это делать, стоит ли рисковать? У того же, кто идет на преступление не впервой, борьба за и против идет лишь временная, тактическая. Дело в принципе решенное, вопрос лишь в том, когда его осуществить, сейчас или при другой, более удобной ситуации. Но в любом случае человек идет на этот шаг, уверив себя, что все сойдет гладко, следов и улик не будет. Ведь не зря же он все продумал и все предусмотрел. Эта уверенность преступника — его стимул, его опора и надежда, она питает его энергию. План был разработан в тот же вечер. Во всех деталях. И как ни подвергал его Семен сомнениям, как ни искал щелей и просчетов, должен был признать, что план действительно приемлем во всех отношениях. — Только ты достань эфир, — напомнил на прощанье Чеглаков. План казался приятелям предельно простым и в то же время хитроумным. Сергей Чеглаков должен прийти после школы к Вите Чернецову и незаметно усыпить его эфиром. Парнишку в эти дни мучил насморк, и он все время нюхал ватку, смоченную в какой-то жидкости. Пузырек с лекарством стоял на кухне, в холодильнике, и он часто посылал приятеля смачивать ватку. На этом и решили все построить. Ну, в самом деле, чего проще смочить ватку в эфире? А потом, когда парень уснет, — придут они — старший Чеглаков и Потанин. Вот и все. Мало ли людей выходит из пяти подъездов огромного десятиэтажного дома? …Уже два раза Сергей Чеглаков бегал на кухню и приносил Вите смоченный в эфире ватный тампон. Но парень не засыпал. Это было и странно и страшно — вот-вот придут брат с товарищем. Сергей побежал в третий раз и опять принес ватку. Витя запротестовал: — Не надо так часто. Но Сергей прикрикнул: — Нюхай, нюхай, чего там!.. Витя удивленно посмотрел на него и, взяв ватку, стал нюхать. В это время раздался звонок в передней. Сергей встрепенулся, вскочил. Витя спокойно сказал: — Это, наверное, мама. — Но, посмотрев на часы, усомнился. — Нет. Рано еще. Она придет попозже, к шести. Иди узнай, пожалуйста, может, кто из соседей. Сергей пошел в коридор, а Витя откинулся на подушку. Что-то дурманило голову, клонило ко сну. Ну, уловив какой-то шепот, приглушенный разговор в коридоре, он привстал на диване, прислушался. Слышался плаксивый, испуганный шепот Сережки: — Три раза давал, не засыпает, — и басовитый сиплый шепот в ответ: — Щенок, не сумел… Затем протопали тяжелые шаги по направлению к комнате. Витя еще не понял, что произошло, но почувствовал, что к нему идет беда. Он поспешно поднялся с дивана, встал во весь рост и прижался к стене, к ковру, как бы пытаясь вдавиться в стенку, пройти через нее, уйти от этой неотвратимой страшной опасности. Первым в комнату вошел Федор Чеглаков. Увидев его суженные, выражающие холодную решимость глаза, Витя, смертельно испуганный, закричал: — Кто вы? Зачем? Не трогайте меня… Я… Но рука в засаленной перчатке зажала ему рот, опрокинула на диван. Втискивая слабенькое дрожащее тело паренька в мякоть подушек, Федор приглушенно, сипло и зло крикнул Потанину: — Бей, бей чем-нибудь!.. Семен суетливо заметался по комнате. Взгляд его упал в угол около балконной двери. Там, на коврике, рядом с креслом лежали гантели. Он быстро, лихорадочно поднял одну из них и показал Федору. Тот, злобно выругавшись, прошипел: — Бей, идиот… Чего же ты… Потанин подбежал к дивану, где в цепких руках Федора извивался Витя, и с размаху ударил прямо во всклоченный хохолок светлых волос, который метался на подушках. Ударил и отпрянул, брызги крови будто отшвырнули его от дивана… Он замычал что-то нечленораздельное и, утирая лицо и руки белой занавеской, которую ветер услужливо подал ему с балконной двери, судорожно запричитал: — Что мы наделали, что натворили!.. Федор посмотрел на скорченное, затихающее тело мальчика, подошел к Потанину, взял его за ворот ковбойки и резко, рывком встряхнул: — Теперь поздно канючить. Поздно. Дело сделано. Приди в себя. Выпить бы тебе надо. — У них есть, на кухне… — подсказал младший Чеглаков. Он, зорко следивший за всем, что делалось на лестничной клетке, только сейчас вошел в комнату и стоял теперь, словно пригвожденный к одному месту, с недоумением смотря на труп приятеля. — Ну, что ты стоишь? — прорычал на него Федор. — Чего губы развесил? Неси скорее водку. Нюни вы оба, тряпки! Сергей принес бутылку, накрытую стаканом, отдал брату и едва слышно спросил: — Ключи-то нашли? — Нашли, нашли. Ступай к двери. Если что, сразу давай знать. Он сам налил Потанину водки, следя, чтобы не перелить лишнего. «Еще опьянеет, возись тогда с ним», — зло подумал он. Себе тоже налил полстакана и одним глотком опрокинул в рот. И только тогда спохватился, что орудует бутылкой и стаканом без перчаток. Размахнулся, чтобы выбросить бутылку в окно, но вовремя опустил руку. Позвал брата и приказал: — В мусоропровод! Тот осторожно вышел на площадку. Никого не было. Торопливо открыл крышку люка, бросил посуду. Ему и в голову не пришло прислушаться, спустилась ли бутылка по каналу мусоропровода. Через полчаса из дома 6 в Ключевом переулке вышел молодой человек с большим аккуратным свертком и чемоданом и спокойно направился к станции метро. Минут через пять из того же подъезда вышел еще один человек с двумя чемоданами. Этот направился на стоянку такси и, сев в машину, сразу же уехал. Оба остались незамеченными. А еще через несколько минут после их ухода в доме начался пожар. В поднявшейся суматохе никто не обратил внимания на юркнувшего в толпу Сережку Чеглакова. Так совершилось это преступление.
Вот наконец позади и суд. На столе комиссара милиции лежит большой белый пакет из Президиума Верховного Совета республики. Просьба Федора Чеглакова и Семена Потанина о помиловании отклонена. Приговор суда с короткими суровыми словами — к высшей мере — будет приведен в исполнение. Майор Дедковский прочитал документ, осторожно положил на место. — Что ж, я так и думал. Иначе быть не могло. Потом вдруг попросил: — Товарищ комиссар, разрешите вызвать Потанина? — Зачем? — Хочу побеседовать. Для этого разговора не было никакой служебной необходимости. Фабула дела, как выражаются криминалисты, была предельно ясна, мотивы преступления установлены и проанализированы. Все связанное с этим делом было досконально известно Дедковскому. Раньше, чем кому бы то ни было. И все же он хотел встретиться с Потаниным. Именно с Потаниным, а не с Чеглаковым, пришедшим к концу пути, который он избрал сам. А Потанин? Может быть, есть у него что-нибудь невысказанное, оставленное в глубине души? Может быть, он сможет сказать что-нибудь такое, что еще полнее объяснит происшедшую трагедию?
И вот Семен Потанин в кабинете Дедковского. Со времени первой встречи, когда их привезли с вечеринки, запомнились длинные, черные, «языком» подстриженные волосы, возбужденно блестевшие, тревожно бегающие, но полные жизни глаза, аккуратные, с ухоженным ногтями руки. Сейчас перед майором сидел совсем другой человек. Перемена произошла не только во внешности. Да, конечно, и голова у него была острижена наголо, и выбрит хуже, чем тогда, и лицо похудело и побледнело. Все это было естественно. Поражало другое: его глаза, его речь. Это были глаза не молодого человека, а старика — тусклые, безжизненные. Он с трудом переводил взгляд с одного предмета на другой. Речь стала вялой, медлительной, отрывистой. Фразы не вязались одна с другой, рассыпались. Набор слов поражал однообразием. Говорил он, почти не разжимая губ, тихо, и приходилось напрягать слух, чтобы уловить смысл, понять значение слов, их связь между собой. Он автоматически, видимо, без вкуса выпил чашку кофе, вяло, скованными движениями закурил сигарету. Казалось, затея говорить с ним бесполезна. Вряд ли можно его расшевелить, заставить выйти хоть на время из тупого оцепенения. Хоть бы разозлился, озлобился, дал волю своим чувствам. Так бывает у иных преступников: то упадет в обморок, то начнет симулировать потерю речи или памяти, то вдруг начнет разыгрывать из себя сумасшедшего. Потанин больше молчал и безучастно, бездумно смотрел в одну точку. Вошедший в кабинет дежурный положил на стол майора отпечатанную на машинке бумажку: «Осужденному разрешено свидание с матерью. Может, сообщить ему?» Дедковский согласно кивнул. — Осужденный Потанин, вам разрешено свидание с матерью. Потанин недоуменно взглянул на майора. Эти слова дошли наконец до его сознания. Бледные, впалые щеки покрылись румянцем. — Не надо, не надо! Ни в коем случае! Я не пойду на свидание! — истерично прокричал он и опять вдруг сник, опустил плечи и добавил, как бы объясняя: — Так и мне и ей будет легче… От свидания с матерью он отказался наотрез. Но возбуждение, вызванное напоминанием о ней, как бы оживило его, он стал более разговорчив, хотя речь его оставалась по-прежнему отрывистой и сбивчивой. Говорил с паузами, две-три фразы — молчание. Иногда молчал долго, уткнув руки в колени и мерно, автоматически качаясь взад и вперед. Потом выдавливал из себя словно обрывок фразы, междометие, и, чтобы понять его, приходилось напряженно собирать, связывать сказанное; будто склеивать куски разбитого стекла. — Мать… любила меня… очень. В тресте тоже… хорошо было… Иван Терентьевич — начальник отдела — поругивал за поведение, а за работу хвалил. Быстро, говорит, подсчеты делаешь, прямо вроде счетной машины… Сказав это, Потанин поднял свои желтовато-серые руки к глазам, долго разглядывал их и потом безвольно, со вздохом опустил на колени. В какой-то момент на лице Потанина промелькнуло подобие мимолетной улыбки. Из коротких фраз стала понятной причина. Оказывается, Потанину вдруг вспомнилась Катя Баталова, оператор из бухгалтерии. Она, пожалуй, больше всех беспокоилась за него. Все уговаривала, увещевала. Многие в тресте, видя помятую физиономию Потанина, понимающе и с иронией улыбались, она же напускалась на него: — Опять с Бахусом знался! И что ты, Потанин, за человек? Ну, просто удивительно! Честное слово, за тебя всерьез надо браться! Потанин отмахивался от нее, как от осенней мухи. Но как-то раз, когда она опять отпустила в его адрес шпильку, осклабился кривой ухмылкой, дохнул водочным перегаром и предложил: — Что, очень хочется поруководить мной? Приходи вечером к нам в отдел, никого не будет. Там все и обсудим… Потанин и сейчас поежился, вспомнив, как гневно вспыхнули глаза Кати и как она сквозь слезы воскликнула: — Какая же ты, Потанин, оказывается, скотина!.. И все-таки Потанин вспоминал сейчас Катю Баталову как далекий-далекий сон, вспоминал со щемящим чувством утраты. Она явственно, рельефно вставала перед ним — тоненькая, в подпоясанном халатике, со светлыми волосами, перевязанными синей ленточкой… За окнами сверкала вечерними огнями Москва. Сквозь ажурную листву бульваров проглядывала шумная улица. По комнате метались зеленые, оранжевые, розовые блики. Потанин подошел к окну и долго, жадно всматривался в посеребренные прожекторами дома, в сверкающий поток машин, в неоновые буквы вывесок и реклам магазинов, вздрагивая, следил за толпами людей на тротуарах. И вдруг, облокотившись на подоконник, истерично, с какими-то надрывами, стонущими всхлипываниями заплакал. Дежурный отвел его от окна, усадил в кресло, подал стакан: — Выпейте воды. Потанин не успокаивался. Положив голову на руки, он плакал навзрыд. Сквозь эти рыдания неожиданно выдавил из себя: — Мы называли улицу Горького — Эрзац-Бродвей… И опять обрывки слов. Им не нравилось все. И наш город, и его улицы. И костюмы без иностранных этикеток. Не нравились и наши машины. Не нравилось то, что надо ходить на работу. Не нравились рестораны, потому что рано закрывались. И вот теперь, когда все, что окружало Потанина, уходило от него, уходило навсегда, он понял, что оно было близким и дорогим. И дом, в котором жил, совсем не халупа, а нормальный современный дом, и соседи по дому, и сотрудники, с которыми раньше он даже забывал здороваться, — хорошие, приветливые люди. Все вдруг осветилось как бы другим светом, предстало в каком-то другом измерении. Он с мучительной, режущей сердце ясностью понял, что все это было настоящей жизнью, прекрасной и светлой, что он мог, мог жить, как все, как эти люди, что ходят сейчас по улицам, по бульварам и скверам города. Мог утром пойти на работу, вечером сходить в кино, или на стадион, или в эти сияющие приветливыми огнями рестораны и кафе. Мог, мог, мог… А теперь уже не сможет. Будут ходить другие, но не он. Для него все это уже не существует. Точнее, он уже не существует ни для кого и ни для чего. Он уже вне жизни. Потанин поднял глаза — серые, будто посыпанные пеплом от смертельного, животного страха — и глухо, с едва теплившейся надеждой, ожидая ответа и боясь его, спросил: — Скажите, неужели… вышка… ну, высшая мера… у нас есть?.. — И пояснил: — Чеглаков всегда говорил, да и другие тоже, что это так, чтобы боялись… Дедковский вздохнул: — К сожалению, пока есть. Раз есть такие, как вы, Потанин, и как Чеглаков, должна быть и высшая мера… Потанин не удивился даже, он уже понял, что искру надежды в душе своей поддерживал напрасно. После долгого молчания глубоко вздохнул и, не поднимая глаз, тихо, но твердо, с какой-то отчаянной и суровой серьезностью произнес: — Если бы позволили жить, согласен хоть тридцать, хоть пятьдесят лет… на хлебе и воде сидеть, камни ворочать, на голых нарах спать. Только бы жить… Уходил он медленно, тяжелой, шаркающей походкой. Еще долго после его ухода в комнате стояла тягостная, гнетущая тишина. Только что здесь сидел человек, который скоро умрет. Что-то вроде жалости шевельнулось в душе Дедковского. Но сразу же вспомнилось другое: маленький человечек на диване с застывшим от удивления и ужаса лицом — Витя Чернецов, его родители, обезумевшие от страшного горя. Те, кто знал этих совсем не старых еще людей до трагедии, говорили, что они были жизнерадостны, много и любовно трудились, заботливо и нежно растили своего единственного сына. Смерть Вити изменила их неузнаваемо и навсегда. На суде это были уже согбенные горем, безмерно несчастные старики. Только горячее участие близких людей, товарищей и сослуживцев и надежда, что убийцы их сына будут наказаны, поддерживали их жизнь. И жалость к Потанину, на какую-то секунду вдруг закравшаяся в душу майора, исчезла, чтобы больше не появляться. Дежурный, словно поняв эту мысль, брезгливо, двумя пальцами взял пачку сигарет, положенную перед только что сидевшим здесь Потаниным, и выбросил ее в мусорную корзину. Да, Потанину уже ничем нельзя было помочь, да и не надо было этого делать. И он и Чеглаков сами лишили себя нрава жить.
Долго майор Дедковский и супруги Чернецовы сидели на скамейке Тверского бульвара. Говорили о многом и разном: о московском капризном в этом году лете, о том, что всё-таки нет, пожалуй, лучше памятника Пушкину, чем вот этот, опекушинский. Вспомнили и о событиях в Ключевом переулке. Сначала Дедковский опасался затрагивать эту тему, чтобы не растравить старую рану. Но Чернецовы сами не ушли от разговора. Сердца их были переполнены горем до краев, помнили они о нем постоянно, всегда, и ни ослабить, ни усилить его было уже нельзя. Именно это обстоятельство и вооружило майора некоторой смелостью. Он мягко, осторожно стал говорить о том, что нельзя без конца терзать себя переживаниями, что зло наказано, что им надо беречь себя. Он понимал, что поступает самонадеянно, беря на себя роль советчика этим сдержанным, прожившим немалую жизнь людям, но их убитый, отрешенный вид побуждал его к этому. Они слушали молча, не прерывая. Потом Леонид Александрович мягко ответил: — Спасибо за совет, за участие. Спасибо. Но должен сказать вам, что живем мы не только своим горем. Мы… работаем. Я консультант… — Он назвал одну из внешнеторговых организаций. — Валя по-прежнему в библиотеке. Мы пока еще в пенсионеры не вышли, — он попытался улыбнуться, но тут же сошло с лица это подобие улыбки: — Зло наказано, это верно. Но надо, чтобы такого… у нас не было… совсем не было. Это можно сделать, если всегда помнить, что все начинается с малого… И такие ужасные преступления — тоже. Простившись с Дедковским, они пошли по бульвару, медленно, не спеша, перебрасываясь редкими фразами. Два человека, пережившие одно из самых тяжелых несчастий, которые могут выпасть в жизни. Велико горе людей, потерявших своих близких на полях сражений за родную землю, в схватке с разбушевавшейся стихией или от болезни, еще не побежденной наукой. Но во сто крат горше, когда такая беда приходит к людям от злого умысла выродков, потерявших человеческий облик. Какой мерой измерить горе Чернецовых? Какими средствами облегчить неизбывную, безмерную скорбь? Она останется с ними навсегда, до конца дней. «Да. Такого у нас не должно быть!» — повторил про себя майор Дедковский словаЧернецова. Он долго сидел задумавшись. Потом встал, посмотрел на часы и торопливо зашагал вверх по бульвару, к Петровке.

Рассказы
Эспандер с инициалами
Имя профессора К. было широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Коронованные особы и министры, крупнейшие ученые и писатели, миллионеры, как и жители городских предместий, — все с одинаковым восторгом слушали его концерты, когда он приезжал на гастроли в ту или иную страну. В один из осенних дней московские газеты сообщили, что К. выехал в длительную поездку по странам Европы. А через неделю у дежурного по городу раздался звонок из домоуправления: «Немедленно приезжайте при обходе подъездов обнаружилось, что двери квартиры профессора К. открыты. Профессор в отъезде. Видимо, квартира обворована». Через полчаса сотрудники уголовного розыска были уже на Бульварной улице, в доме, где проживал профессор. Дубовые двери квартиры запирались на три внутренних замка замысловатой конструкции, явно привезенных из-за рубежа, и еще на четвертый накладной замок московского завода металлоизделий. Все «заморские» стражи были аккуратненько открыты ключами, накладной же, врезанный на внутренней двери — сломан. Руководитель оперативной группы полковник Гордеев заметил: — Вот вам и хваленая зарубежная техника. Не устояла. Смотрите, как ловко визитеры разобрались в ней. А на нашем замке споткнулись, не смогли подобрать ключа, ломать пришлось. Без хозяев квартиры установить, что было украдено, оказалось невозможным. Но что воры здесь поживились основательно, было ясно с первого взгляда. Все гардеробы были открыты, в них осиротело белели пустые вешалки. Письменный стол, книжные шкафы в кабинете профессора, трельяж в комнате хозяйки — все было опустошено. Закончив описание общей картины, которую они застали в квартире, сделав несколько десятков фотоснимков, оперативная группа уехала. Квартиру опечатали, поставили наружный пост. Профессор, уведомленный о происшедшем, спешно вернулся в Москву. Через день оперативно-розыскная группа получила список похищенного. Он занял не одну страницу убористого машинописного текста. Бриллиантовое колье, броши, серьги, кольца, золотые мужские и женские часы, портсигар, несколько дорогих транзисторных магнитофонов, радиоприемник, целая коллекция новейших фото- и киноаппаратов. Но и не только это. Пропало норковое манто, крупная сумма советских денег и иностранной валюты, которую профессор после очередной поездки за рубеж не успел сдать в государственный банк. Капитан Дьяченко, оформлявший опись пропавшего имущества, с недоумением сказал полковнику Гордееву: — Знаете, товарищ полковник, я даже не предполагал, что у одного человека могут быть такие ценности и столько. — А ничего удивительного, капитан. Каждый получает у нас в соответствии с его способностями. А кроме того, у профессора ценности особого рода. Золотой портсигар, например, сувенир от президента Индии; золотые запонки — от бельгийской королевы, дорогие транзисторы и кинофототехника — подарки японских друзей. И так далее. Это, дорогой мой, не просто ценности, а знаки уважения к его огромному таланту. Величина-то ведь мировая. Так что тут все правильно. Главная наша с вами забота — найти воров. И найти как можно скорее. В свой первый приезд оперативные сотрудники провели лишь предварительное обследование квартиры. Теперь они уже в присутствии хозяев тщательнейшим образом повторно осматривали все: двери, окна, мебель, вещи, все, к чему могли прикасаться руки преступников, где они могли оставить хоть какие-нибудь, пусть самые незначительные следы. Действовали здесь, однако, очень опытные руки. Даже на взломанном грабителями накладном замке не было никаких следов. Однако на сиденье одного из глубоких кресел, среди в беспорядке набросанных книг и альбомов, лежала золоченая грампластинка. Когда профессор увидел ее, то несказанно обрадовался, протянул руку, чтобы скорее взять ее. Гордеев остановил его: — Одну минуточку, профессор. Припомните, пожалуйста, где она у вас лежала? — Боже мой! Ну, конечно, не тут. Она хранилась вон в том шкафу. Это же мои самые любимые произведения. Записаны друзьями в Италии к дню рождения. — В шкафу, говорите, хранилась? Очень хорошо. Значит, она побывала в руках у ваших «гостей». Может, они хоть тут сплоховали? Проверим, потом вернем вам пластинку. Не беспокойтесь. — Ну, беспокоиться о пластинке, когда пропало столько, было бы, конечно, странно, — буркнул профессор. — Ничего, и вещи разыщем, и преступников найдем, — ответил Гордеев. — Где же теперь их найдете? — Где, пока не знаю. Но найдем. Потом Гордеев и Дьяченко долго сидели в кабинете профессора и вели беседу с ним и его супругой. Речь шла о их знакомых, родственниках, о людях, с которыми они общались. — Родственников в Москве почти нет, только двоюродная сестра жены. Знакомые? Знакомых и друзей много. Профессор стал называть фамилии людей, с которыми поддерживал дружеские отношения. Это были известные всей стране артисты, художники, поэты, ученые… — Контингент не наш, — подвел предварительный итог Гордеев. Профессор улыбнулся: — Да, конечно. …Две молодые девушки, приглашенные хозяйкой, наводили порядок в гостиной: протирали и водворяли на место сдвинутую мебель, пылесосили ковры. Тяжелая софа никак не вставала на свое место. Дьяченко взялся им помочь. Но и его усилия не привели к успеху. — Там что-то мешает. Капитан, отодвинув софу дальше от стены, заглянул в образовавшийся проем. Перегнувшись через подушки, стал шарить рукой за спинкой. — Вот тут в чем дело! — Дьяченко положил на стол малогабаритный силовой эспандер. — Вы упражняетесь? — спросил профессора Гордеев. Профессор подошел ближе к столу. — Нет, эта штуковина не моя. Я предпочитаю гантели. Гордеев переспросил: — Вы уверены, что снаряд не ваш? — Абсолютно. — А может, он принадлежит хозяйке? — Не думаю. Супруга профессора брезгливо поморщилась: — Нет, нет. Это кто-то оставил. — Может, кто-нибудь из ваших знакомых, друзей? Хозяева отвергли эту мысль. Положив эспандер на лист белой бумаги, Гордеев долго его рассматривал и так и этак. — Даже именной, — сообщил он. — Видите, на внутренней стороне инициалы: В. К. Интересно, что это за В. К. оставил свою визитную карточку? — Ищите да обрящете, так, кажется, говорится в священном писании, — улыбнулся профессор. Затем со вздохом проговорил: — Обследования, исследования, улики — все это хорошо. Но прошла-то уже целая неделя, а воз и ныне там. Поймите, товарищи, украдены не просто ценности, хотя и немалые. Украдены вещи, которые мне бесконечно дороги как память о друзьях из разных стран мира. Будет очень жаль, если все это сгинет. Надо принимать экстренные, чрезвычайные меры. — Все возможное будет сделано, профессор, — заверил его Гордеев. …Кратчайшее расстояние до цели — прямая. Иными словами, по законам здравого смысла, человек, берясь за что-либо, будет делать прежде всего то, что может привести к результатам быстрее, с меньшими потерями сил, времени, средств. Было вполне логичным, что оперативная группа, начиная розыск преступников, ограбивших квартиру профессора К., начала с выяснения связей, окружения профессора, людей, близко знающих его образ жизни, интересы. Люди его круга были сразу же исключены из плана оперативных мероприятий. Но даже такие выдающиеся люди, как профессор К., не могут общаться только с себе подобными. Жизнь неизбежно сталкивает их и с другими людьми. В квартиру профессора был вхож студент одного из музыкальных училищ столицы Геннадий М. Вскоре после событий на Бульварной будущий музыкант вдруг взял годовой академический отпуск, буквально за один-два дня рассчитался со всеми друзьями, кому был должен. На дружеской вечеринке в одном из ресторанов он сообщил приятелям, что уезжает к себе на родину — в Кишинев и там завершит «одну вещицу», которая позволит ему (он уверен в этом) без особых трудов попасть на композиторское отделение консерватории. Геннадий был не из серьезных парней, учился неважно, любил прихвастнуть. Потому приятели не придали особого значения его очередному пируэту. — Задурил Генка. Поболтается с месяц-другой дома и опять вернется. Будет приставать ко всем, чтобы помогли догнать курс. Интерес оперативной группы к Геннадию М., таким образом, был вполне закономерен. Но он был недолговременным. Оказалось, что парень связался с двумя дельцами, помогает им сбывать шелковые женские платки. По заданию своих «шефов» он и отправился к себе на родину. В поле зрения угрозыска Геннадий попал очень своевременно, иначе эта связь закончилась бы для него плачевно. Однако к краже на Бульварной он отношения не имел. В дни, когда она произошла, подвизался в Харькове. Геннадий М., когда ему сообщили, что он свободен, восторженно попрощался с сотрудниками уголовного розыска и бросился, как и предсказывали приятели, наверстывать упущенное в учебе, благо в училище отнеслись к нему как к блудному сыну, вернувшемуся в родное гнездо. Дом на Бульварной улице, где жил профессор, уже около года был обнесен строительными лесами. Шли ремонтные работы. Управляющий домами, сухощавый, желчный мужчина, был очень недоволен бригадой отделочников, производившей окраску фасада. Мысль, что кражу могли совершить эти «калымщики», пришла в голову именно ему. — Почему вы так думаете? — спросил его Дьяченко. — Ну, почему, почему. Думаю, и все. А ваша обязанность проверить. — Проверить-то мы, конечно, проверим. Но согласитесь, что для подозрений нужны какие-то основания. — Основания есть. Они уже несколько месяцев возятся с малярными работами, а с секцией, где квартира профессора, валандались дольше всего. — А еще что? — Достаточно, думаю, и этого. Дьяченко был, однако, другого мнения. Доложив Гордееву о разговоре с управдомом, он заявил: — Я думаю, нам не надо тратить время на эту версию. Владельца эспандера в бригаде нет. — Почему вы так уверены? Я не хочу сказать что-то плохое об этих ребятах, но, знаете, бывает всякое — в семье, как известно, не без урода, — возразил Гордеев. — Но ребята там довольно серьезные. Я немного интересовался ими. — А теперь займитесь этим как следует. И не откладывая. — Есть, товарищ полковник. Да, ребята из бригады Малинина были действительно люди серьезные. Трое учились в вечернем институте, четверо — в техникуме, столько же ходили на курсы мастеров, несколько друзей все свободное время пропадали на стадионе своего общества, они увлекались самбо и готовились к каким-то соревнованиям. И только трое из бригады торопились после работы домой — у этих были семьи, и они «погрязли в быту», как съязвил бригадир. Но приказ есть приказ, и капитан Дьяченко стал интересоваться ребятами пристальнее. Особенно теми, кто увлекается самбо. Ведь эспандер-то мог таскать с собой человек, имеющий какое-то отношение к спорту. Тем более что среди самбистов были Виктор Кругликов и Вячеслав Кочетков — инициалы обоих совпадали с инициалами на эспандере. Через неделю Дьяченко довольно подробно знал, что представляют собой спортсмены бригады, да и другие ребята. Было установлено, что в те дни, когда могла произойти кража, весь состав бригады находился по обычным своим адресам — кто на стадионе, кто на учебе. Ночью кража не могла состояться, так как подъезд на ночь запирался. Предположение о сговоре с дворником отпало. Обязанности дворника в доме выполняла пожилая женщина, лишь недавно приехавшая в Москву. У нее вышли нелады с невесткой, и она очень дорожила полученной возможностью жить в небольшой служебной комнате домоуправления. Даже придирчивый управляющий домом не смог упрекнуть ее в чем-либо. Конечно, бригада, работая на ремонте дома, имела возможности проникнуть в квартиру. Но вряд ли у кого-нибудь из них возникло желание эти возможности использовать. Пока подтверждалось только одно: никто из бригады ни в чем предосудительном не был замешан ни раньше, ни теперь. Но малининцы поняли, что Дьяченко вертится около них неспроста. После одной из бесед с капитаном Сергей Малинин, степенный, малоразговорчивый парень, твердо посмотрел ему в глаза и произнес: — Нам это не нравится. Вчера мы советовались. Приходите завтра в бригаду. С утра пораньше. — А что такое? Что вам не нравится. И почему я должен явиться к вам на ваше совещание? Малинин пожал плечами: — Зря вы так, капитан. — Ну, хорошо. Приду. Только давайте условимся: разговор начистоту и без обид. Идет? — Какие же тут могут быть обиды? Дело нешуточное. Нас, видимо, тоже касается. Вечером Дьяченко советовался с Гордеевым: как быть? Тот недовольно заметил: — Значит, обидели вы ребят. Идите, обязательно идите. И обязательно доложите мне, что будет за разговор. В семь часов утра Дьяченко был уже на Бульварной. Бригада собралась в небольшой комнатушке, приспособленной под раздевалку. — Ну, так с чего же начнем? — входя, спросил капитан. Ребята молчали. Малинин подошел к Дьяченко и передал ему какую-то папку. — Тут отпечатки пальцев всей бригады. Думаю, что воры какие-то следы в квартире профессора оставили и вы их, конечно, имеете. Ну так вот, сравните, и все станет ясно. Оттиски сделаны в лучшем виде, я ведь в юридическом учусь. Красочка, правда, не та, ну да это несущественно. Дьяченко ошалело смотрел на Малинина, на ребят: — Вы что, с ума сошли? Кто вас просил? Зачем? Да, мы проверяем кое-какие предположения. Убедимся, что все в порядке, и точка. А эта глупость ваша ни к чему. Видишь, что надумали? Да вы знаете, что мне за это будет? С меня погоны снимут, выгонят к чертовой матери… Малинин посмотрел на ребят. Они на него. — Да. Этого мы, пожалуй, не учли. Нарушение социалистической законности вам как пить дать предъявят. — Вы же юрист, должны понимать… — Но оградить бригаду от подозрении я тоже обязан. Ладно, давайте обратно папку. Я знаю, как поступить. И вернемся к баранам. Никто из наших ребят на такое дело не способен. Запомните это. Не те люди. И если вы не кончите свои виражи вокруг нас, пойду к вашему комиссару, а то и к министру. А теперь еще одно — главное. Ищите двух хлюстов. Один щуплый такой, рыжий, небольшого роста. Другой чуть выше, остроносый. С белым металлическим зубом во рту. Чернявый. Задержался я как-то в домоуправлении — наряды закрывал — и видел, как они фланировали по тротуару. На следующий день вечером их же видели мы вон с Николаем, — он показал на одного из членов бригады, — опять они околачивались недалеко от подъезда. Думаю, что именно те, кого вы ищете. — Спасибо. А что же раньше-то молчали? — А вы почему не спросили? Очень долго вокруг да около ходите. — Не так уж долго. Вы вон больше года дом-то мусолите, — обозлился Дьяченко. И тут загалдела сразу вся бригада: — Кто это вам сказал? Поди, домоуправ натрепался. А сам, жердь чертова, руки нам связывает. То того нет, то другого. Нам самим тут осточертело до тошноты. Разве это работа?…Дьяченко ехал на Петровку в полном смятении. И даст же ему жару полковник. Но, против ожидания, Гордеев отнесся к сообщению спокойно. — Интересные ребята. Надо будет встретиться с ними. Когда же Дьяченко рассказал о наблюдениях ребят, о словесном портрете двух возможных воров, Гордеев совсем подобрел. — Молодцы, просто молодцы! Это вам наука. Давно надо было с ними поговорить. Словесные портреты возможных преступников срочно сообщите в отделения. И надо изготовить фотороботы. Обязательно. На следующий день Сергей Малинин сам заявился к полковнику и положил на стол папку, которую давал Дьяченко. Полковник открыл ее. На первом месте значилось: Малинин Сергей Тимофеевич. И отпечатки всех пальцев левой руки, рядом — правой, внизу: оттиск обеих ладоней, Так же аккуратно были оформлены еще четырнадцать листков — на всех членов бригады. — Неплохо получилось? А? — Полковник хмуро смотрел на Малинина. — Старались. — А мастика? — Сами составляли. У нас в бригаде и химик есть. В Менделеевском учится. — Химики, юристы, маляры, спортсмены — все у вас есть, а вот разумных не вижу. — И полковник надвое, потом еще надвое порвал стопку листков, положил их обратно в папку и вернул Малинину. И уже мягче объяснил: — Понадобится, будут основания — сами сделаем. А сейчас прошу пройти к товарищу Дьяченко. Здесь же, на третьем этаже. Они там с нашими спецами над фотороботом тех хлюстов, которых вы заметили, маракуют. Помогите им. Оперативно-розыскные мероприятия по такому преступлению сродни большой разведывательной операции. Продумываются различные версии, определяются тактические приемы их проверки, очередность и последовательность осуществления тех или иных оперативных мер. Тщательно распределяются силы и средства, намечается, в какой момент должны быть включены в работу службы, смежные и взаимодействующие с уголовным розыском. Параллельно с отработкой версий о причастности к совершенному преступлению студента Геннадия М., бригады Сергея Малинина, бывшей домашней работницы профессора, шофера, недавно перешедшего в таксомоторный парк, группы подростков, проживавших в том же доме на Бульварной, и еще некоторых других, велась кропотливая работа по установлению хозяина эспандера. Задача эта оказалась очень трудоемкой и сложной. В самом деле, эспандер не какой-то громоздкий и тяжелый снаряд, а вещь индивидуального пользования. Он имеется почти у каждого человека, занимающегося спортом. Выпускаются такие снаряды сотнями тысяч. Как установить, кому принадлежит эспандер, оказавшийся в квартире профессора К.? После соответствующей обработки эспандера и золоченой пластинки дактилоскопическая лаборатория представила оперативной группе снимки. Лица, оставившие следы на пластинке и эспандере, в учетах не числились. Может, кражу совершили приехавшие из других городов? Или молодые люди, только вступившие на это поприще? Однако метод, почерк кражи говорили о том, что действовали не новички. И хотя оставленный эспандер и следы на пластинке — это, конечно, оплошность, но оплошности, как известно, бывают у всех, в том числе и у самых опытных. А за то, что это были спецы высокой квалификации, говорила хотя бы ювелирная работа с замками. Открыть три запирающих устройства индивидуальных конструкций — дело далеко не простое. В уголовном розыске знали не одного такого «специалиста» и держали их в поле своего зрения. Вот Виктор Каляда. Давнишний знакомый муровцев. Его привезли на Петровку с большим чемоданом ключей. Застали, когда он тщательно осматривал свою коллекцию. Имелись, правда, данные, что последние годы Каляда ведет себя довольно смирно, занимается огородом в Подлипках. Но проверить все же следовало. Где-то пропадал он целую педелю, именно тогда, когда была совершена кража. Чувствовал себя Каляда, однако, довольно уверенно. — Э, нет, товарищи начальники, — заявил он. — Мы свои спектакли сыграли. Живем честным трудом, как и полагается всем членам нашего советского общества. До самых глубин сознания дошло, что экспроприация чужой собственности — деяние уголовно наказуемое. — Все это хорошо, Каляда, но вот куда вы подевались в первой половине сентября? Очень вы нам были нужны. — Да? Хотели посоветоваться о некоторых вопросах нового законодательства? Или по каким-либо другим государственным проблемам? Зря хитрите, начальники. Каляда еще кое-что соображает, свой интеллект не растерял. Скажите прямо, что-то такое стряслось у вас в это время? Так? Конечно, так, — ответил он сам себе и продолжал: — Нет, Каляда стал на якорь сознательно и потому твердо. Что же касается его отсутствия в указанный вами период, то да, такое было. Но по сугубо личным, так сказать, причинам. В град — великий Новгород съездил. Соборами там, стариной поинтересовался и… если совсем откровенно… одну старую знакомую посетил. Но это только между нами, ибо, как вам, видимо, известно, моя дражайшая половина ужасно экспансивная особа. Она все время напоминает мне, что несет полную ответственность перед властями и обществом за мое поведение. И только моя тщательнейше продуманная легенда, что, мол, еду повидаться с братом, дала мне возможность совершить сей вояж. Несмотря на свою обширную коллекцию, подобрать ключи к показанным ему замкам из двери профессорской квартиры Каляда не мог, чем был весьма обескуражен. — Что ж, растут люди. Видимо, объект, что вас интересует, идет в ногу с временем. Ювелир! Художник высшего класса! Проверка подтвердила, что Каляда действительно был в Новгороде, вел себя тихо, не предпринимал ничего такого, что вызвало бы подозрение уголовного розыска. Было решено наведаться и к Владимиру Клюеву, Это был очень опытный квартирный вор. За ним числилось более двадцати дерзких, крупных краж с подбором ключей. Но он всегда уходил от суда благодаря своему дару симуляции. Так искусно имитировал он свою психическую неполноценность, так неистово бился в припадках, что медики, хотя и спорили между собой до хрипоты, неизменно признавали его невменяемым. Когда приехали к Клюеву на квартиру, отец его, хмурый, неразговорчивый старик, нехотя объяснил: — В отсидке Владимир, в отсидке. Оказалось, что харьковские медики долго любовались гримасами Клюева, высоко оценили дар перевоплощения, но единодушно решили: симулянт. Возвратиться Клюев должен был лишь через год. Может, сбежал? Проверили. Нет, отрабатывает свой срок. Через две недели после кражи Гордееву докладывал ст итоги работы по розыску владельца эспандера, по проверке «ключников». Полковник сидел хмурый, недовольный. — Итоги, как видите, неутешительные. И все-таки домушников из поля зрения не упускать. И обратить внимание на их друзей-приятелей. Необязательно такие дела делать своими руками. Кое-кто мог смену подготовить, помощников обучить. И расширить надо круг поисков, энергичнее их вести, энергичнее. Дьяченко и его группа с помощью работников паспортных отделений выбирают из прописных книг тысячи имен и фамилий, фамилий и имен, соответствующих инициалам «В. К.». Идет тщательнейшая проверка. Итог этой работы был более чем скромным. Лишь несколько человек было вызвано на ознакомительные беседы. Но оказалось, что и они к расследуемому делу совершенно непричастны. Такие же результаты дала аналогичная работа в Одессе, Баку, Ярославле, Иванове и многих других городах. Выслушав очередной доклад Дьяченко, Гордеев спросил: — Что вообще мы знаем об этом самом эспандере? — Кое-что знаем, — ответил Дьяченко. — Эспандер изготовлен на московском заводе «Спорт». По маркировке установлено, что это выпуск четвертого квартала прошлого года. Можно считать удачей то обстоятельство, что данная партия не отправлялась на периферийные базы, а была вся оставлена в Москве — в Физкультснабе и Москультторге. Первый снабжает инвентарем спортивные общества в оптовом порядке, партиями, второй — торгует в розницу. Что касается спортивных обществ, то мы уже установили, какие из них приобретали эспандеры именно из поступивших в конце года и январе. «Буревестник», «Труд», «Строитель» и «Динамо». Никакие другие организации — медицинские, учебные и другие — эспандеры в это время не брали. В розницу было продано около десяти тысяч штук. Это, конечно, здорово осложняет дело. Нам надо установить: то ли эспандер с инициалами был взят в спортобществе, то ли куплен в магазине. — Это все равно, что искать иголку в стоге сена, — высказался кто-то. — Специалисты утверждают, — дополнил сообщение помощника Гордеев, — что эспандер, обнаруженный в квартире К., основательно изношен. Следовательно, он был в употреблении или в каком-то коллективе, секции, или у человека, постоянно занимающегося физкультурой. Первое соображение вряд ли верно. Раз человек взял эспандер с собой на свой промысел, значит, он всегда у него под рукой — в личном пользовании. И парень этот, видимо, молодой, пожилые-то ведь силовыми видами спорта увлекаются редко. А раз молодой, должен общаться с себе подобными, кому-то ведь надо демонстрировать свою силу? — Наши дальнейшие планы по этой части, товарищ полковник, таковы… — Дьяченко подробно изложил план дальнейших розыскных мер, попросил в помощь еще двух оперативных работников из смежного отдела. Гордеев согласился: — По-моему, все верно. Действуйте. Помощь будет. …Спортобщество «Динамо» отпало сразу же. Эспандеры, полученные им в четвертом квартале через Физкультснаб, лежали нераспакованные на складах. Хозяйственники здесь оказались прижимистые — обеспечили запас лет на пять, а то и больше. В «Строителе» группе тоже не повезло. Там во всех низовых коллективах, на стадионах и спортивных базах только что прошла инвентаризация имущества. Главный бухгалтер, вытащив из шкафа толстенный реестр, быстро перелистал его и с гордостью сообщил: — Да, эспандеры получали. Вот пожалуйста, пятьсот штук, семнадцатого декабря. Было же у нас таковых триста тридцать. Итого восемьсот тридцать. Так? Так. А имеем? Смотрим итоговую ведомость инвентаризации. Эспандеры: восемьсот тридцать. Как видите, все в ажуре. Оставались «Буревестник» и «Труд». Общество «Буревестник» объединяло более ста коллективов, «Труд» почти столько же. Хоть и с трудом, но удалось установить, какие из их коллективов получали эспандеры. Оперативные работники пошли туда. Беседовали с руководителями, тренерами, спортсменами. Сотням людей показывали злополучный эспандер. Но никто не мог сказать ничего определенного. Дьяченко, однако, это не обескураживало. Другого выхода у него нет. И он вместе со своими помощниками обходит спортивные коллективы, стадионы, залы… В клубе завода «Радуга» в этот вечер проходило собрание физкультурного актива. В перерыв молодежь обступила представителей уголовного розыска, с интересом разглядывала эспандер. Подшучивали: — Это что, ключ к какому-нибудь кошмарному делу? Да? — Ну не то чтобы к кошмарному, но владельца этой штуки нам очень хотелось бы найти. Высокий мрачноватый парень долго вертел эспандер в руках. — Кажется, видел я этот эспандер. Очень похож. Да, видел, — он еще раз посмотрел снаряд, прочел буквы на внутренней стороне. — Точно, он. — Где же вы его видели? Когда? — На свадьбе у приятеля. Парень там был. Фамилия? Нет, не запомнил. До этого дня знакомы не были. Со стороны невесты он был приглашен. Звать — Виталий, а фамилию не помню. За столом мы сидели рядом, и он все хвастался выжимом. Установить, что за гость был на свадьбе приятеля, больших трудностей не составляло. Через день Дьяченко уже знал, что это был Виталий Клюев — расточник одного из московских заводов, брат Владимира Клюева, отбывающего срок заключения. Прошел еще один день. Дьяченко докладывал Гордееву итоги поисков. — Я уверен, что мы наконец на верной дороге. Виталий Клюев, безусловно, один из участников группы, обворовавшей квартиру профессора. И дело не только в эспандере. Мы установили, что Виталий ведет себя несколько странно. Прогулы, опоздания. Заработок за этот месяц у него всего сорок рублей. А обычно сто восемьдесят — двести. И в то же время шикует. В ресторанах почти каждый вечер. На днях со своим приятелем, неким Лисицыным, наняли такси и, посадив знакомых девчонок, дважды махнули по Московской кольцевой бетонке. Совсем недавно двум своим приятельницам по мохеровому шарфику подарил. Явно из «Березки». На заводе удивляются, откуда у парня такие возможности. Считаю, что Клюева надо задержать. И немедленно. …Виталий Клюев пытался держаться спокойно, но было видно, что он растерян и испуган. Он избегал прямого взгляда Дьяченко, на вопросы отвечал нервозно, хотя были они пока просты и безобидны. — Почему стали хуже работать, Клюев? Пьянствуете, прогуливаете? В чем дело? Парень попытался усмехнуться: — А что это МУР стал беспокоиться обо мне? Это мое личное дело. — Подождите спешить. Личное, верно. Но не только. Ведь вот заработали вы в сентябре всего сорок рублей, а в рестораны ходите каждый день. На какие гроши? — На свои гуляю, не беспокойтесь. — Возможно, и на свои, а возможно, и на чужие. Грабеж, кража, например… Клюев вскинулся: — Вы, знаете, аккуратнее выражайтесь. Надо основания иметь. — Хорошо, хорошо, не надо нервничать, Клюев. А скажите, Лисицын — он что, ваш друг? — Ну, друг. А что такое? Это тоже криминал? — Нет, почему же? Значит, близкий друг, кореш, так? — Ну, не знаю, как это называется у вас, а мы действительно дружим. Учились, работаем вместе. — В квартире профессора К. тоже были вместе? Клюев вспыхнул, потом побледнел, весь сжался, будто пружина, и… сделал удивленное лицо: — Не понимаю, о чем говорите. Дьяченко подумал: «Смотри ты. С самообладанием. Далеко может пойти». Вынув из ящика письменного стола злополучный эспандер, положил его перед Клюевым: — Ваш? Клюев, увидев эспандер, попытался даже отодвинуться от стола, вжаться в кресло. Потом торопливо выговорил: — Нет, нет, что вы! — Ваш, ваш эспандер, Клюев. Видите инициалы «В. К.»? — Мало ли таких инициалов. — Много. Но этот эспандер ваш. — А как докажете? — Докажем. Сейчас важнее другое: как он оказался в квартире профессора К.? И, строго взглянув на Клюева, Дьяченко спросил: — Вы должны ответить, Клюев, кто инициатор кражи, кто участники, где вещи? Вопросы ясны? — Но… Я… я не понимаю… Это кошмар какой-то, фантастика. — Вы прекрасно все понимаете, Клюев. — Н-нет. Не понимаю. — Ну что ж. Тогда идите и подумайте. Дьяченко встал и, подойдя к двери, вызвал дежурного. Не глядя на Клюева, произнес: — В камеру. Клюев вскочил со стула, в глазах застыл неприкрытый панический страх. — П-позвольте, за что же? Вы не имеете права, не имеете… — Идите, идите, Клюев. Вам надо обдумать все. Собраться с мыслями. Мой вам совет — не крутить, не врать. Бесполезно. Только себе напортите. Клюев, опустив плечи, пошел впереди дежурного. В тот же вечер был задержан Лисицын. На ознакомительном допросе он вел себя так же, как и Клюев, все отрицал, удивлялся каждому вопросу, заявляя, что милиция поступает с ним незаконно. Обыск в квартирах задержанных полностью подтвердил участие Клюева и Лисицына в краже на Бульварной улице. Были изъяты два транзисторных портативных приемника, двое часов, фотоаппарат и японская киносъемочная камера. У Клюева, кроме того, обнаружили спрятанные в складках надувной лодки, что хранилась в сарае, триста американских долларов и крупную сумму советских денег. Однако других вещей и ценностей найти не удалось. На совещании у Гордеева подробно обсуждался план дальнейшего розыска. — Итак, — говорил полковник, — то, что кража у профессора К. дело рук этих парней, ясно. Но где ценности? Или они очень основательно запрятаны и мы их плохо искали, или… Или Клюев и Лисицын — мелкие сошки, которым перепало лишь кое-что. Тогда кто закоперщики и где они? Конечно, Клюев и Лисицын знают это. Но говорить они не хотят. Видимо, боятся своего «шефа» или «шефов», а возможно, тянут время, чтобы кто-то смог скрыться. Рано или поздно, конечно, мы узнаем все это. Но время, время… Если их вожак ускользнет от нас, то поминай как звали и вещи профессора. Нашли-то мы пока сущую ерунду. Давайте думать, как быть. Что эти гуляки — все упорствуют? — обратился он к Дьяченко. — Когда обнаружили у них вещи и деньги, предъявили дактоотпечатки с эспандера и пластинки — отпираться стало бессмысленно. Признали, что обокрали квартиру. Но не вскрывали ее, она была уже отперта. Искали, видите ли, какого-то приятеля, увидели полуоткрытую дверь, зашли. Поживились кое-чем и обратно. Эспандер выронил Клюев. Вот коротко их показания. — Наивно до крайности, — проворчал полковник. — Конечно, наивно. Но оба держат одну линию. Видимо, договорились раньше и проинструктированы кем-то более опытным. — А не старший ли Клюев тут действовал? — высказал предположение полковник. — Он в колонии, — напомнил Дьяченко. — Да, знаю. И, однако… Надо срочно переворошить его старые связи, кто освободился в это время из его дружков. Я, конечно, не исключаю и другого «наставника» у этих сосунков. Но этот вариант тоже возможен. Сейчас же подготовьте запрос начальнику областного управления. Я подпишу. Запрос был послан через час, а к вечеру следующего дня Дьяченко срочно вызвал полковник. Не говоря ни слова, он протянул ему поступивший ответ. Там сообщалось: «Интересующий вас объект досрочно освобожден двадцать пятого августа зпт выбыл Воронеж тчк Ранее сообщенное нами ошибочно…» — Ну, что скажете, капитан? Дьяченко пожал плечами: — Вы оказались правы. Где его теперь искать? — Пока его брат и Лисицын у нас, он в Бабушкине не показывался? — Нет. Во всяком случае, замечен не был. — Появится. Обязательно появится. Следите в оба. И группу в Воронеж. Сегодня же.
…Владимира Клюева задержали через две недели в Домодедове. Он стоял в очереди для оформления багажа на очередной ташкентский рейс. Дьяченко подошел к нему: — Можно вас на минуточку? — В чем дело? — Пошли, Клюев, пошли. Без лишних вопросов. Рядом с Дьяченко стояло еще трое оперативных сотрудников, и Клюев понял, что уйти от них он не сможет. Осклабившись в улыбке, пробормотал: — Пошли так пошли. Но ненадолго. Самолет через сорок минут. — А вам в Ташкенте, Клюев, делать нечего. В Москве дела есть, — ответил Гордеев.
— …Ну что ж, Клюев, будем подводить итоги, — раскрыв пухлое дело, проговорил Гордеев. — Думаю, пора. — Не знаю, о каких таких итогах вы ведете речь, полковник. — Держитесь вы упорно, но нелогично. — Возможно. Но… — Что — но? Хотите, я вам расскажу, как проходила вся эта организованная вами операция? — Интересно послушать. — Раз интересно — слушайте. План «визита» в квартиру профессора К. у вас вынашивался давно. Из газет вы узнали о предстоящих гастролях профессора и стали свой план форсировать. Когда в мае Виталий приезжал к вам в колонию на свидание, план был разработан в деталях. Брату вы поручили тщательно обследовать замки и выяснить, живет ли кто в квартире профессора, кроме него и жены. В сентябре К. выехал в Париж. Вам повезло. Именно в это время подоспело ваше освобождение. В Воронеж вы вернулись десятого сентября, в Москву заявились пятнадцатого. Сразу начали подготовку «операции». Проверили все данные, добытые братом. Убедились, что в квартире действительно никто не живет и никто туда не приходит. Примерили ключи (делали их в сарае; мастер вы по этой части известный). Восемнадцатого, около восьми часов вечера, поднялись в лифте на седьмой этаж. Ключи сработали отлично. Но один замок на внутренней двери оказался орешком потверже. Прикрыв наружную дверь, вы его выбили. Шторы на окнах квартиры были опущены, и вы орудовали в комнатах беспрепятственно. Что вы взяли — перечислять не будем, это известно и вам и нам. Вышли с бумажным рулоном, он был полон драгоценностей. Это было хитро. На вас никто не обратил внимания. Ободренные успехом, на следующий вечер вы повторили визит. И тоже все сошло, хотя выходили вы с двумя чемоданами. Верно рассказываю, Клюев? — Продолжайте, полковник. Складно у вас получается. — У вас тоже получилось складно. Больше вы туда не пошли. Зачем? Хапнули столько, что хватило бы надолго. Но встал вопрос: как рассчитаться с братом и его приятелем? Отдавать что-либо ценное — жалко. И вы, выдав им по пятьсот рублей и кое-что из вещей, посоветовали: «Сходите в квартиру профессора сами, там еще всего достаточно». А сами отбыли в Воронеж. Аккуратно отбыли, захватив лишь вещи негромоздкие. Чемоданы вам привезли потом. Ваши помощники ходили в квартиру тоже дважды. И тоже поживились основательно. Но… сделали две оплошности. Лисицын нашел золоченую пластинку. Думал — чистое золото, но, обнаружив, что это не так, бросил ее в кресло. Следы рук, однако, на ней остались. А ваш братец никак не мог открыть шифоньер. Сделал это с помощью эспандера, что лежал у него в кармане. Но потом, уходя, обронил его. На второй день пришли опять: и пропавший эспандер беспокоил, и хотелось еще подразжиться. Эспандер не нашли, но зато прихватили кое-что, благо выбор был все еще большой. Так закончилась тщательно организованная вами, Клюев, операция по краже ценностей из квартиры профессора К. Затем было продолжение операции. Но уже не по вашему, а по нашему плану. По эспандеру мы добрались до вашего брата и его друга. Добрались бы, конечно, и без этой вещественной улики. Вели они себя как купчишки, несмотря на то, что вы специально приезжали из Воронежа, чтобы сделать им нахлобучку. Но при этом была у вас и другая цель приезда в Москву: проверить — не напали ли мы на какой-нибудь след? Но это было за четыре дня до ареста ваших помощников, и вы уехали успокоенным. Готовились к свадьбе. Когда же братец и его приятель оказались у нас, вы не приехали даже, а прилетели. В Бабушкине появились со всеми предосторожностями, предварительно петляли по всей Москве. Конечно, мы могли задержать вас тогда. Но решили подождать. — Ну, как же. Надо же было вынюхать, где профессорское барахло, — ухмыльнувшись, обронил Клюев. — Да, нам нужны были и вы, и то, что вы украли. И, когда мы обнаружили тайник в стене дома, где вы жили в Воронеже, мы решили, что пора… Полет в Ташкент — это было бы уже лишнее для вас. Как, все правильно? Клюев молчал. Левая щека его дергалась в нервном тике, глаза метались по кабинету. Однако отвечал он нарочито спокойно: — Не знаю, полковник. Может, так, а может, и нет. Я-то ведь к этим делам отношения не имею. Моих следов в квартире нет? Нет. Вещи? Так вы нашли их не у меня. У брата, тети, отца, какой-то моей знакомой. Вот с них и спрашивайте ответ. — Эх, Клюев, Клюев! Я знаю, что слова «честь» и «совесть» для таких, как вы, — пустой звук. Но ведь это все-таки ваш брат, отец, невеста… Что же вы… Это хуже, чем у зверья. Хотите, чтобы ваши близкие расхлебывали кашу, что сами заварили? — Они сами по себе, а я сам по себе. Сказано это было с таким безразличием, с таким циничным спокойствием, что даже у полковника, на редкость добродушно настроенного сегодня, удивленно поднялись брови.. — Ну ладно, Клюев. Это дело ваше. Но скажу вам заранее: никакие увертки вас не спасут. И не вздумайте вновь притворяться сумасшедшим, биться в припадках, разыгрывать комедии с невменяемостью — не поможет.
Профессор, когда ему позвонили и пригласили приехать на Петровку, был недоволен. — А что еще требуется от меня? Я ведь все уже рассказывал, и неоднократно. — Да вы приезжайте. Совсем ненадолго. Когда он, войдя с женой в кабинет полковника, увидел свои вещи, сложенные на длинном столе, стульях и в креслах, то не поверил своим глазам. — Нашли. Удивительно! Знаете, товарищи, каюсь — не верил. Не верил! Вот уж действительно — моя милиция меня бережет. Спасибо вам, огромное спасибо! Гордеев просто ответил: — Не за что, профессор. — Ну как — не за что? Это было очень трудное дело, я уверен в этом. — Да как вам сказать? Нелегкое, конечно. Позвав дежурного, полковник приказал: — Помогите профессору отвезти вещи домой и проводите его до самой квартиры.
Запутанный след
Сводка происшествий за сутки была относительно спокойной. Прочитав ее, майор Корнеев встал и направился к сейфу: надо было внимательно изучить дело, которое вчера поступило в МУР. Но его остановил зуммер селектора. Полковник Волков, начальник уголовного розыска, спрашивал, знает ли майор о случае на Азовской. — Нет, пока не знаю. — В доме номер четыре убит мальчик. Видимо, грабеж. Свяжитесь с дежурным по городу и немедленно выезжайте на место. — Есть, — ответил Корнеев и нажал кнопку прямой связи с дежурной частью. — Что на Азовской? Дежурный повторил уже слышанное Корнеевым и закончил: — Мы выезжаем. Вы с нами? — Не задерживайтесь, приеду вслед. Через двадцать пять минут майор Корнеев и капитан Агапов были уже на Азовской. При всей своей тяжести этот случай не вызвал особого удивления у оперативных работников Петровки. Хоть и редко, но в огромном городе бывают и такие преступления. Пройдет несколько дней, и убийца будет обнаружен, изолирован и предстанет перед судом. Никто не мог тогда предположить, что случай этот — первый в серии тяжких преступлений, которые будут совершены одно за другим… На ковровой дорожке в прихожей лежал мальчик лет двенадцати-тринадцати. Убийство было совершено острым, рубящим предметом. Квартира ограблена. Но преступник, по-видимому, спешил: вещей взял немного. Корнеев и Агапов, тщательно осмотрев квартиру, с трудом установили, что пропало. Ни мать, ни отец убитого ничего и слышать не хотели о каких-то вещах, непрестанно повторяли одно и то же: — Кто, кто мог это сделать? Кто? За что они нашего мальчика? Соседи по подъезду, люди, которые в течение дня бывали во дворе, не заметили никого, кто бы вызвал их подозрение. Семья Соловьевых была обычной московской семьей. Родители работали, сын учился. Широкого круга знакомых у них не было. Придет иногда сосед с женой, родственники заедут в праздники. Толя был мальчик спокойный, не по годам вдумчивый, серьезный. Приятели — под стать ему, от ребят озорных, драчливых старались держаться подальше. Эти сведения были очень важны прежде всего потому, что дверь в квартиру не была взломана, замок не тронут. Значит, убийца в квартиру был впущен самим мальчиком. А раз он был осторожным и осмотрительным, то выходит, что знал человека, которому открывал дверь. — Ко его могли обмануть, взять хитростью? Так ведь? — ответил на эти доводы Корнеев. — Да, конечно. Но каким образом? Что могло ввести мальчика в заблуждение? — Какая-нибудь уловка, не вызывающая сомнения выдумка. Например, голос, похожий на голос отца… — Это сомнительно. Хозяин дома был в отъезде, и его ожидали лишь на следующий день. Да и вообще… Голос отца… Его-то уж сын узнал бы. Нет, тут мальчик наверняка почуял бы неладное. — Тогда, может, представительиз школы? — Предположение было высказано не очень уверенно, но Корнеев от него не отмахнулся. — А что ж, надо проверить и это. Преподаватели и общественники школы нередко посещали квартиры учеников во внеучебное время. Правда, маловероятно, чтобы кто-то навестил Толю, когда он сам вот-вот должен был прийти на занятия. Выяснилось, что действительно никто из школы в этот день к Соловьевым не приходил. — Может, преступник проник в квартиру под видом работника домоуправления? Несколькими днями раньше в семье Соловьевых был разговор о том, что надо позвать мастера починить краны в ванной и на кухне. Но в домоуправлении ответили, что в квартиру Соловьевых никого не посылали. Опрос жильцов дома показал, что по квартирам в этот день ходил… представитель Мосгаза. Зашел в одну квартиру, в другую, третью. Жильцы встречали его радушно. Кто угощал кофе, кто предлагал присесть, позавтракать. Но мастер, проверив горелки газовых плит, беглым взглядом окинув квартиру, выяснив, нет ли запаха газа, быстро уходил. Люди не обижались. Торопится человек. Квартир-то вон сколько, и в каждой надо повозиться… Обход квартир работником газового хозяйства — дело обычное. Но почему об этом не знало домоуправление? Агапов поехал в контору Мосгаза, обслуживающую этот микрорайон. Корнеев с нетерпением ждал его звонка. Через час Агапов сообщил, что никто из работников конторы на Азовской не работал. Но ведь в системе жилищного хозяйства не только топливно-энергетическое управление, не только межрайонные конторы Мосгаза, много других, самых разнообразных служб. Может, это был представитель газовой инспекции? А может — работник стройуправления? Дом сдан в эксплуатацию недавно, и строители могли поинтересоваться, как работает разнообразное хозяйство нового дома, в том числе и газовая сеть. Вот почему после звонка Агапова все работники оперативной группы разъехались по организациям, которые могли иметь отношение к обслуживанию дома. Они опросили десятки людей, проверили сотни путевок, выездных листов, нарядов, которые выдаются ремонтным группам, слесарям-обходчикам тепловых, водопроводных сетей и т. п. К утру следующего дня стало совершенно ясно, что представителей коммунальных служб на Азовской улице не было. Следовательно, человек, ходивший по квартирам под видом работника Мосгаза, и есть возможный преступник. Жильцы сообщили запомнившиеся приметы: одет в длинное коричневое пальто, шапку-ушанку. Волосы, кажется, рыжеватые, нос с горбинкой. Эти штрихи помогли художнику сделать примерный портрет предполагаемого преступника. По этим же приметам был создан и фотопортрет. Уже к вечеру рисунок и фоторобот были разосланы работникам всех городских отделений милиции, постовым милиционерам, участковым инспекторам. Перед оперативной группой, занимавшейся розыском преступника, встало немало вопросов. Почему преступник назвался представителем Мосгаза, а не строительного треста, Мосводопровода или радиосети, например? Какие причины были для этого? Видимо, он хорошо знает, что представитель этой городской службы беспрепятственно входит в московские квартиры. В системе топливно-энергетического хозяйства города, в том числе и в Мосгазе, работали тысячи людей. Строители газовых магистралей — люди, недавно приехавшие из близлежащих сел, деревень и городов, перешедшие с различных московских предприятий. Работники эксплуатационных служб — слесари, электрики, контролеры-обходчики — в большинстве своем потомственные коммунальщики столицы или работавшие в прошлом на московских заводах и фабриках. Но среди работников газового хозяйства есть и такие, кто отбывал в разные годы наказания — за хищения, за хулиганство… Их, правда, было немного. Этот контингент оперативные работники проверяли особенно тщательно. Слесарь одной из контор аварийной службы Мосгаза Павел Б. в прошлом имел судимость за грабеж и воровство. В день убийства дважды был на Азовской… по собственной инициативе. Поручений бригадира не имел, посещение этого района графиком не предусматривалось. И внешне был как будто схож с разыскиваемым лицом. Но подозрения в его адрес вскоре отпали. Да, он действительно два раза приходил на Азовскую. Но по делу сугубо личному. Попал в поле зрения и плановый работник геотреста Борис К. Именно в этот день почти до вечера он тоже находился на Азовской. К. вначале отрицал свое пребывание в этом микрорайоне, но, когда несколько граждан подтвердили, что видели его, и отпираться стало бесполезно, К. сказал: — Да, был на этой улице. Накануне вечером сидел у приятеля в гостях. И понимаете, оставил у него папку с планом одного геоучастка. А план, как назло, начальству понадобился. — Чего же вы целый день там околачивались? Взяли бы папку да на работу. К. потупился: — Понимаете, забыл адрес. Домов-то вон сколько настроили. И все как близнецы. Квартиру запомнил — семнадцатая, а дом то ли пять, то ли семь, то ли девять. Вот и ходил. Беседа с приятелем, наличие папки с геопланом подтвердили алиби гражданина К. Тем временем наружная служба милиции проверяла весь жилой массив, близлежащие к Азовской улице рынки, магазины, гостиницы. Во всех приемных пунктах химчистки города исследовалась поступавшая туда одежда. Но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Не спал начальник МУРа Волков, не спали Корнеев и Агапов, как и вся их оперативная группа, работники смежных с МУРом служб, отделений милиции, участковые. Казалось, сделано все, чтобы преступник был задержан сразу, как только появится на московских улицах. Но прошло уже три дня, а человек, совершивший преступление в квартире Соловьевых, был на свободе. Корнеев докладывал начальнику МУРа Волкову: — Судя по тому, что в квартире все перерыто, разбросано, преступник искал деньги или ценности. И мальчик скорее всего погиб как возможный свидетель. Известно, что ни больших денег, ни ценностей грабитель не нашел. А раз он пошел на убийство, то, видимо, деньги ему нужны были позарез. И не исключено, что он попытается достать их в другом месте и любым путем. Надо усилить наблюдение за новыми микрорайонами. Если преступник проявит себя, то именно там: народ только съезжается, друг друга еще не знают. Напрашивается и еще соображение: преступник не москвич… Почему я так думаю? Перед тем как совершить преступление, он показался нескольким лицам. Значит, не боялся, что его потом опознают, следовательно, долго оставаться в столице не намерен. И еще деталь: подчеркнутый южный акцент. Конечно, в Москве немало приезжих. Но если человек живет здесь, акцент постепенно смягчается, делается не столь заметным. Волков недовольно заметил: — Соображения интересные и убедительные. Однако где же он, преступник? Мы ввели в группу самых опытных людей, а результатов нет. — Наверное, отсиживается где-то или подался в другой город. Ищем, товарищ полковник. Но охрану новых микрорайонов я считал бы необходимым усилить. С вечера на улицах города и в подмосковных городах появились дополнительные милицейские патрули, наряды дружинников. Прошло еще два дня. — Ну, что скажете, криминалисты? Куда мог деться убийца? — обратился Волков на очередном совещании к работникам оперативных служб, проводившим поиск. — Если преступник в Москве, он никуда не уйдет, — уверенно проговорил один из оперативных работников. — А я боюсь, уже ушел. Пять дней — срок немалый. Совещание еще не закончилось, когда раздался телефонный звонок. Волков снял трубку. — Слушаю, товарищ комиссар… Полковник внезапно побледнел, и все поняли, что сообщение комиссара чрезвычайно серьезно. Закончив разговор с комиссаром, Волков сообщил присутствующим: — Сегодня в Иванове между десятью и двенадцатью часами совершено несколько убийств. Неизвестный выдавал себя за работника горгаза. В квартирах похищены облигации госзайма, различные вещи, а также паспорт матери одной из пострадавших. А вы уверяете: не уйдет. Как видите, ушел. И успел натворить столько дел! — раздраженно воскликнул начальник МУРа. В Москву ежедневно автомобилями, поездами, самолетами прибывают сотни тысяч людей. Примерно столько же и выбывавает из столицы в разные концы страны. Каждого пассажира не проверишь. И все же недовольство полковника можно было понять. Характерные детали, «почерк» преступления на Азовской, в точности повторившиеся в Иванове, давали основания предположить, что действует все тот же преступник. В Иваново немедленно вылетела группа работников МУРа. Здесь уже были приняты оперативные меры. На железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропорту проверялись все подозрительные лица, велось наблюдение за всеми путями въезда в областной центр и выезда из него. Подробные беседы с жильцами домов, где были совершены преступления, убедили всех окончательно, что в Иванове орудовал тот же человек. Тот же прием, чтобы проникнуть в квартиру, те же цели: поиски ценностей и денег. Чтобы обезопасить себя, не оставить следов, преступник применял всевозможные уловки. Не снимал перчаток, когда «проверял» горелки газовых плит и писал что-то в тетради. Был немногословен, говорить старался тихо: боялся, что запомнят голос. Не снимал шапку: волосы — очень характерная примета. В квартире Петровских был найден листок, вырванный из общей тетради в клетку, с фамилиями граждан, квартиры которых обходил «представитель горгаза». Преступник оставил сразу две улики: почерк и неясные отпечатки пальцев. Для поиска это имело немаловажное значение. Но ни у одного из многих сотен работников московского и ивановского газовых хозяйств, десятков домоуправлений, служб водопровода, телефонной и радиосвязи, почтовых отделений почерка, идентичного запечатленному на листке, не было обнаружено. Огромный труд работников милиции пока не дал результатов… Тщательнейшая проверка учетных карточек уголовного розыска Москвы, Московской области, Иванова тоже ничем не обогатила: человек, оставивший отпечатки пальцев на этом листке, на учете не значился. Среди многочисленных версий, вошедших в план оперативно-розыскных мероприятий, было предположение, что действует психически неполноценный человек. В Москве, Иванове, Ярославле и некоторых других городах проверялись все психические больные — как находящиеся на стационарном лечении, так и состоящие на учете в медицинских учреждениях. Именно в это время из одной подмосковной лечебницы для душевнобольных и из больницы в Ярославле убежали три пациента. Они доставили много хлопот оперативным работникам… След преступника не обнаруживался. Ни он сам, ни вещи, взятые в квартирах, в поле зрения оперативных работников не попадали. В комиссионных магазинах, в скупочных пунктах, на рынках Москвы, Иванова и соседних городов ничего похожего не появлялось. Правда, в квартире Петровских преступник взял достаточно большую сумму денег и облигаций. Но что он сделал с вещами? Возит с собой? Это и рискованно и обременительно. Значит, где-то есть у него надежное логово, где он укрывается и хранит добычу. Когда и где преступник появится вновь? Что замышляет? Работники уголовного розыска понимали, что необходимы срочные, максимально действенные меры к его розыску и изоляции. На оперативном совещании в МУРе настойчиво выдвигались предложения показать условный портрет бандита по телевидению, опубликовать в газетах, обратиться к населению, чтобы преступника искал каждый москвич, каждый ивановец… Многим это казалось единственно правильным. Но звучали и другие, более сдержанные голоса. Зачем будоражить людей? Зачем увеличивать тревогу? В тот период в систему охраны общественного порядка пришло много молодых работников, органы перестраивали свою деятельность применительно к новым требованиям. Помощь широкой общественности выдвигалась как одно из решающих условий усиления борьбы с преступностью. И это было, конечно, правильно, но в разумных пределах, при условии соблюдения чувства меры. Некоторые же увлекающиеся руководители милицейских служб пытались переложить на плечи общественности чуть ли не всю свою работу, заявляя, что, мол, административные органы свою службу скоро отслужат и народные дружины вот-вот заменят их на всех участках охраны порядка. Вот почему это совещание в МУРе было необычайно взволнованным и бурным. Один из руководящих работников управления безапелляционно говорил: — Считаю ошибкой, что население до сих пор не привлечено к розыску убийцы. Бояться нам таких мер нечего. Так делается в Америке, Франции, Италии и других странах. Если бы руководители розыска это сделали, отбросили бы излишние опасения и сомнения, «как бы чего не вышло», преступник давно бы сидел в камере. Ведь он заходил во многие квартиры. Знай жители, что именно этого «представителя» ищет милиция, они, несомненно, сами задержали бы преступника. Начальник МУРа Анатолий Иванович Волков слушал эти споры внимательно и спокойно. Ему, человеку, ответственному за розыск убийцы, предстояло решать: идти на эту меру или нет? — В нашем деле, как нигде, вредны крайности. Вот вы говорите — Америка. Да, там такие формы розыска применяются широко. Но ведь за океаном такие преступления в порядке вещей. Разве американца удивишь портретом какого-то там гангстера, убийцы, грабителя? У нас — совсем другое. Показать портрет убийцы на телеэкранах можно, и это, может быть, облегчит нашу задачу. Но не забывайте, что широкая гласность для преступника — предупреждение. Он будет сориентирован, примет другое обличье и постарается ускользнуть. А главное — мы неизбежно взбудоражим москвичей. И не только их. Московские телепередачи смотрит вся страна. Московские газеты тоже читают везде. Мы серьезно можем осложнить работу важнейших городских служб. На каждого монтера, слесаря, маляра будут смотреть: а не убийца ли это? Нет, на такую крайнюю меру мы пойдем, когда используем все свои возможности. — Осторожничаем, а преступник тем временем безнаказанно гуляет и, очень возможно, выбирает очередную жертву. Начальник МУРа посмотрел на спорившего с ним полковника и подтвердил: — Да, пока гуляет. И на новое преступление может пойти. Это нас тревожит так же, как и вас. Но поднять на ноги весь многомиллионный город — это еще не значит предотвратить беду. — И, помолчав, добавил: — Однако ряд предложений, внесенных сегодня, надо принять. В новых микрорайонах население сориентируем. Вооружим фотороботом народные дружины, оперативные комсомольские отряды, дворников, дежурных по подъездам. Дополнительные меры по линии наших служб примем следующие… Прошу записать и немедленно приступить к исполнению. — Он кратко и четко стал излагать, почти диктовать пункт за пунктом. Поисковые группы теперь работали в семи новых микрорайонах Москвы, во всех подмосковных городах, в Иванове, Шуе, Ярославле, Владимире. Изучались люди, в прошлом судимые и снова проживающие в Москве: их поведение на производстве, в быту, их связи. Вновь и вновь возвращались к некоторым работникам Мосгаза, Мосэнерго, Московского телефонного узла, почтовых линий — к тем, кто вызывал хоть какие-либо сомнения. Обследовались все места возможного укрытия уголовно-преступного элемента: отстойные железнодорожные парки, подвалы, чердаки, новостройки, дома, подготовленные к сносу. Под еще более усиленное наблюдение были взяты все пункты химчистки, комиссионные и скупочные магазины, рынки, рестораны, входы, выходы и переходы станций метрополитена, остановки городского транспорта. Столица жила, трудилась. Ее улицы были заполнены народом. Слышался радостный смех ребят на школьных дворах, звенел лед на дорожках парков и стадионов, лыжники до отказа набивались в подмосковные поезда, тысячи москвичей и гостей заполняли театры и кинозалы. А на Петровке, 38 — напряженная, тревожная атмосфера, озабоченные, усталые лица, торопливые короткие совещания, непрерывные телефонные звонки. Правда, здесь вообще не часто выдается спокойный и тихий день. Но эти три недели были особенно трудными. Кажется, сделано все, абсолютно все, чтобы он был обнаружен и задержан. Но, к удивлению даже самых бывалых и опытных мастеров розыска, бандит проходил как плотва через крупную сеть. В чем дело? Может быть, преступник действует не один? Может, это хорошо сколоченная групп я рецидивистов, до совершенства владеющая искусством маскировки? Может быть, в Москве и Иванове «работали» разные лица, а приметы и приемы — простое совпадение? На подобные вопросы, возникавшие у оперативных работников, ответов пока не было. Предполагалось, что убийца ринулся в какой-то другой, далекий город, чтобы замести следы. Но ведь там тоже оперативные работники настороже. Нет, скорее всего он скрывается в Москве. Здесь куда проще затеряться среди миллионов людей. И вот в столице совершается новое преступление… На дверях всех подъездов только что заселенного дома № 71 на Останкинской улице висело объявление: «Домоуправление просит жильцов сообщить о своих претензиях к строителям, возводившим этот дом…» И ни у кого не вызывал подозрения «прораб», что ходит по квартирам с тетрадкой и карандашом в руке, спрашивает и записывает, какие недоделки остались после сдачи дома в эксплуатацию. Не заподозрила неладного и работница одного из московских заводов Гаврилова. Пожилая женщина осталась одна: муж и два сына только что ушли на работу… Когда в квартиру прибыла милиция, на столе был обнаружен лист бумаги, где Гаврилова неровным почерком перечисляла недоделки в квартире: поправить паркет в коридоре, подстрогать дверь в столовую — плохо закрывается… В квартире все было перевернуто вверх дном: раскрыты шкафы, ящики, разворошены постели, разбросаны книги. Преступник искал деньги и ценности. Но не погнушался и вещами. Захватил наручные часы и телевизор «Старт-3». Несколько человек видели в то утро мужчину с каким-то громоздким ящиком под мышкой. Значения этому никто не придал — дом только заселялся, приезжали и отъезжали грузовики, пикапы, легковушки, люди прибывали с вещами, разгружались и опять уезжали. Человек, который вышел из подъезда дома с ящиком под мышкой, остановил на шоссе самосвал, сел к водителю в кабину и уехал. Участковый уполномоченный отделения милиции Е. И. Малышев обходил в это время свой участок. Он проводил взглядом машину, заметил цифры на заднем борту: 96. Через час, обойдя участок, доложил о виденном начальнику отделения. — Может, это и мелочь, но все-таки, — добавил он, как бы оправдываясь. Когда же в конце дня преступление было обнаружено, этот факт приобрел особое значение. К примерному фотопортрету, словесным характеристикам примет прибавились вещественные улики — телевизор «Старт-3» с девятизначным номером и часы «Мир». В Москве десятки тысяч бортовых грузовых машин и самосвалов. Следовало установить, кому, какой организации принадлежит самосвал с цифрой 96. Где базируется? Сотрудники ОРУД — ГАИ с помощью общественных инспекторов, коммунистов и комсомольцев автохозяйств остаток вечера и всю ночь проверяли машины, в номерах которых была цифра 96. Установили те, которые производили в этот день перевозки в северо-западном районе столицы. Разыскали всех шоферов, работавших на этих машинах. Выяснялся один вопрос: не перевозил ли кто мужчину с телевизором? Ответы были отрицательные. Один подбросил даже несколько человек с разными вещами, но с телевизором не было. Другой подвез двух женщин, одна, верно, с телевизором. Но не с Останкинской, а, наоборот, на Останкинскую. Третий подвез целую семью, и телевизор тоже был. Но они сидели в кузове и ехали тоже на Останкинскую, в новую квартиру. Многие водители обижались: «Мы налево не работаем, так что вопросы эти, дорогие товарищи, мягко говоря, излишни…» Остались непроверенными несколько машин, в том числе один самосвал. Работал на нем в тот день шофер 36-й базы Мосавтотранса Борисов. Понятно нетерпение, с каким ехали к нему работники МУРа. И каково же было их разочарование, когда шофера не оказалось дома. Жена объяснила, что он уехал в Ногинск к какому-то приятелю. На охоту они собираются. Адреса она не знала. Когда вернется? Думает, завтра ночью… Ждать до завтра! Тут дорог каждый час. В Ногинск помчалась оперативная машина МУРа. С помощью местных работников уже глубокой ночью нашли наконец Борисова. Он рассказал: — Когда я проезжал по Останкинской, какой-то человек с телевизором под мышкой, стоявший на обочине, поднял руку. Я остановился, посадил его в кабину. Как выглядел? Лицо худощавое, остроносое, говорит с акцентом… Вот, кажется, и все. Да, вот еще что. Шапку по-чудному носит, уши назад завязаны. Не по-нашему, не по-московски… Вел себя как? Обычно. Рассказал, что купил телевизор у родственницы. Переехала она на новую квартиру и кое-что из вещей решила заменить. Потом пассажир вылез, уплатил за услугу и ушел. — Много уплатил? — Где там. Восемь гривен. — Что так? — Уж не знаю. Рылся, рылся в каком-то, извините, бабьем бисерном кошельке, да так больше ничего и не нашел. Оперативные работники переглянулись. Среди похищенных на Азовской вещей числился и бисерный кошелек.Мужчина, по словам Борисова, сошел в районе Мещанских улиц. Значит, логово его где-то там или в пригороде. Рядом — Рижский вокзал. Опрошенные работники вокзала и поездных бригад сказали, что за эти сутки никто с телевизором как будто не уезжал. Тогда было принято решение, не снимая наблюдения с вокзала и станций Рижского направления, сконцентрировать оперативно-розыскные мероприятия в районе Мещанских улиц.
Микрорайон Москвы. Это сотни домов, десятки тысяч населения. В зоне Мещанских и Трифоновской улиц было еще немало старых, дореволюционных домов и домишек, глухих и проходных дворов, темных закоулков, сараев, гаражей, голубятен. Это серьезно осложняло дело. Поэтому в проверку были включены наиболее опытные работники милиции. Среди тех, кто участвовал в этой операции, был заместитель начальника 87-го отделения милиции Н. И. Билюченко. Он работал здесь давно, хорошо знал эти улицы и переулки, знал и их обитателей. Методично, сектор за сектором, дом за домом обходил капитан территорию. Зорко наблюдал за всем, что могло вызвать подозрение. За машинами, сновавшими поминутно с улицы на улицу, за неторопливыми троллейбусами, за игрой мальчишек в снежки, за толкотней в магазинах и у палаток. Во время третьего или четвертого обхода встретил знакомую преподавательницу вечерней школы. Разговорились, поделились новостями. Билюченко хотел было уже распрощаться, предстояло еще не раз обойти отведенный участок, но передумал и задержался: — Нюра, вопрос есть. Сугубо конфиденциальный. — Какой же это? — Мужчину тут с телевизором случайно не приметила? Прощелыгу одного, понимаешь, разыскиваем. Девушка насторожилась, пристально посмотрела на Билюченко. — Слушай, а ведь ты в точку попал. Вот уж действительно на ловца и зверь бежит. Мне сегодня как раз предлагали телевизор купить. И знаешь, чуть не купила, немного в цене не сошлись. Сосед его купил, к брату за деньгами поехал. — Расскажи, расскажи-ка подробнее. — Да что рассказывать-то? У Коренковой, что надо мной живет, гостит племянница с мужем. Тетя им подарила телевизор, а он им ни к чему — едут куда-то. Вот и продают. — Как выглядит муж племянницы? — Что это ты мужем интересуешься? Может, о племяннице рассказать? Но Билюченко было не до шуток. — Я серьезно, Нюра. Понимаешь, это очень важно! — Видела-то я его всего один раз, да и то две или три минуты. Выглядит обычно. Высокий, рыжеватый, кажется, нерусский. — Рыжеватый, нерусский, так, так… Какой номер квартиры у Коренковой? — Двадцать шестой. Билюченко задумался на какую-то долю минуты, а потом торопливо попрощался: — Спасибо тебе, Нюра, спасибо. И пожалуйста, о нашем разговоре никому. Ладно? Собеседница удивленно посмотрела на Билюченко и проговорила: — Хорошо. Сам же сказал: конфиденциально. — Вот именно, я потом все объясню, — уже на ходу бросил Билюченко и торопливо направился к отделению милиции. Сообщение Билюченко моментально было доложено руководителям МУРа, и буквально через несколько минут к 1-й Мещанской улице подъезжали две оперативные машины. Евдокия Васильевна Коренкова — полная женщина лет пятидесяти пяти, с маленькими бегающими глазками на пухлом лице — встретила оперативных работников с недоумением и обидой: — Что я такого сделала, чтобы ко мне милиция? У меня муж на фронте погиб, государство пенсию мне платит, а тут на-ка. За какие такие грехи? Корнеев шагнул к двери комнаты, у которой стояла хозяйка. …Телевизор покоился на стуле около кровати, накрытый куском ткани. — Говорят, вы телевизор продаете? Коренкова опять пустилась в разговоры: — А он уже продан. Скоро за ним хозяин придет. — Уже продали? Быстро. Корнеев повернул телевизор тыльной стороной, взял со стола настольную лампу и разыскал на фибролитовой стенке номер. — Все правильно. Теперь, Агапов, — обыск. И тщательнейший! Мы же побеседуем с хозяйкой. Евдокия Васильевна, расскажите-ка, что у вас за жиличка и что за жилец? Их фамилии? Откуда приехали? Когда? Кем вам приходятся? — Племянница это моя, Алевтина. Намедни приехала. С женихом. Ну, с мужем, значит. Свадьба только еще не сыграна. Она придет скоро, ее и спросите. Каждую вещь, которую осматривали оперативные работники, Коренкова брала в руки, сдувала или смахивала с нее пыль, складывала, расправляла. — Вещи-то, они денег стоят, нельзя с ними так. Конечно, чужое добро не жалко. Под кроватью лежали два объемистых чемодана. Агапов спросил Корнеева: — Вскрывать? — Конечно. Через минуту Агапов стремительно поднялся, держа в руках часы и электробритву «Харьков». — Товарищ майор, это его логово. Бритва-то из Иванова. — Логово его, но где зверь? — Неужели не появится? — Думаю, что нет. — И повернулся к Коренковой: — Так куда же ушли ваши гости? — Не знаю. Собрались и ушли. Обещали быть вечером. Часов в девять вечера позвонили в дверь. Агапов открыл. Перед ним стояла девица лет двадцати, в черном пальто с меховым воротником и сером пуховом платке. Белесая, замысловато выложенная челка закрывала лоб. — Входите, входите. Ждем вас. — А в чем дело? Тетя Дуся, что у вас происходит? Хозяйка поджала губы: — Чего-то ищут. Может, тебе объяснят? — Где ваш муж? — спросил Корнеев. — Не знаю. — Как это не знаете? — Так, не знаю. — Когда придет? — Обещал скоро. — Один ваш чемодан мы осмотрели. Второй откройте сами. — А зачем? Что я такого сделала? Корнеев нетерпеливо прервал ее: — Открывайте. На дне чемодана лежала большая фотография, наклеенная на толстый картон. Агапов подал ее Корнееву. Продолговатое, сухощавое лицо, колючий, исподлобья взгляд, нос с горбинкой. — А что, Агапыч, наш портрет недалек от оригинала. — Копия, товарищ майор. Как веревочка ни вейся… Теперь-то он никуда не денется. На обороте фотографии скачущим почерком была начертана дарственная надпись: «Алевушке — от вечно преданного и вечно любящего В. Ионесяна…» Даже беглый взгляд убедил Корнеева, что строчки на листке, оброненном в квартире Петровских, и эта надпись сделаны одной и той же рукой. Из документов, обнаруженных в том же чемодане, явствовало, что Ионесян Владимир Михайлович является артистом Оренбургского театра музыкальной комедии. В вещах Ионесяна нашли карту железных дорог, а на обороте ее — перечень городов: Казань, Куйбышев, Рязань, Ярославль, Шуя, Кострома, Горький, Ереван, Коломна, Калинин. Куда же теперь направился опасный преступник? — Так где же Ионесян? — в который раз уже спрашивали Алевтину Дмитриеву. — Не знаю. Сказал, что, если не придет через час, значит, уехал. — Куда? — Кажется… в Шую или Ярославль. Коренкова тоже ничего «и слыхом не слыхала». Было ясно, что они намеренно тянут время. Корнеев позвонил в МУР, сообщил список городов, куда, возможно, подался преступник. Во всех этих городах были подняты на ноги оперативные службы милиции, народные дружины. Но ни в Шуе и Иванове, ни в Ярославле и Ереване, ни в Куйбышеве и Горьком Ионесян не появлялся. — А может, он все еще в Москве? И такой вариант не исключался. В изворотливости преступнику отказать было нельзя. Оперативные службы с Петровки опять тщательнейшим образом проверяли все вокзалы, аэропорты, рынки, магазины, все места массового скопления людей. Были перекрыты выездные магистрали города, без проверки не выпускалась ни одна легковая или грузовая машина. В Москве оказалось пятьдесят два Ионесяна и почти столько же в Подмосковье. Изрядное количество однофамильцев нашлось и в других городах. С ними следовало познакомиться, но так, чтобы не обидеть, не навлечь необоснованных подозрений. А сколько сил и времени отняла работа с людьми, внешне похожими на разыскиваемого! Ионесян-преступник между тем как в воду канул. Среди пунктов, которые он собирался посетить, была Казань — родина Дмитриевой. Этот город стоял первым в его списке, В Казани они собирались отпраздновать свадьбу. Дмитриеву еще раз вызвали на допрос. — Когда вы собирались отпраздновать свое бракосочетание? — Когда Владимир вернется из своей поездки. — Из поездки куда? В Шую, Иваново, Казань? — Я уже объяснила, что не знаю. Только не в Казань. Туда мы должны были поехать вместе. Она то говорила, что не имеет к Ионесяну никакого отношения, то называла себя его женой, правда, в будущем, а сейчас пока так… Уверяла, что ни он, ни она не были в Иванове. Припертая к стенке уликами, сказала, наконец, что он ездил туда, но один, она же оставалась в Москве. Затем призналась, что ездила с ним. И Коренкова тоже упорно твердила несуразное: что Ионесян поехал в Оренбург или, возможно, в Ереван. Собирался именно туда. Про Казань и слышать не хотела: — Нет, нет. В Казань они должны были ехать вместе с Алевтиной. Это настойчивое стремление убедить, что Ионесян поехал куда угодно, но только не в Казань, подсказывало работникам МУРа, что Ионесян отправился именно на родину своей сожительницы. Это предположение оперативных работников подтвердил «случайный» телефонный звонок. В квартиру Коренковой позвонили из бюро обслуживания Казанского вокзала. Спрашивали: почему гражданка Новикова не берет билет, заказанный до Казани? Спросили Коренкову: — Что за Новикова? Какая Новикова? — Никакой Новиковой я не знаю. В кассах вокзала сообщили, что билет был заказан три дня назад. Гражданин, заказавший билет, дал номер телефона Евдокии Васильевны и просил сообщить ей о билете для Новиковой. …В тот же день вечером в Казань выехала оперативная группа. В одном из вагонов поезда ехала молодая женщина. По росту, внешнему облику, одежде она была очень похожа на Дмитриеву. На остановках женщина неотступно стояла у окна вагона. Если Ионесян и Дмитриева наметили свою встречу где-нибудь на промежуточной станции, он сразу заметит ее… Встреча произошла в самой Казани, на перроне вокзала. За несколько минут до прихода московского поезда в толпе встречающих появился среднего роста человек в коричневом пальто, в кожаной меховой шапке, глубоко надвинутой на лоб. Нос с горбинкой, рыжие брови, маленькие настороженные глаза. Он увидел стоящую у окна вагона Дмитриеву и торопливо пошел к вагону. Со ступенек сошли двое людей и шагнули навстречу. Сзади на его плечо легла тяжелая рука комиссара милиции Сапеева. Мужчина было рванулся, пытаясь расстегнуть пальто, но прямо на него глядел глаз пистолета. — Бесполезно, Ионесян. Поняв что предпринимать что-либо действительно бесполезно, Ионесян опустил руки… Ионесян уже давно почувствовал, что круг замыкается. На улицах Москвы и других городов, где рыскал он в эти дни, он видел группы оперативников, усиленные наряды народных дружин, замечал, как тщательно проверяются поезда, автобусы, автомобили. И потому до мельчайших подробностей продумал свое бегство. Трижды переодевался, гримировался. Петлял, заметал следы. Уезжая из Москвы, он сел в такси, добрался до станции Голутвин, пересел в электропоезд, идущий до Рязани, оттуда в пригородном поезде приехал на станцию Рузаевка. И только там сел в поезд Харьков — Казань. Рассчитал время так, чтобы в конечный пункт своего маршрута — Казань прибыть за полчаса до прихода московского поезда. С этим поездом должна была приехать Дмитриева… И вот Ионесян на первом допросе. Он приготовился к борьбе. Насторожен, весь ощетинился, приготовился лгать, выкручиваться, хотя биться против фактов и неопровержимых улик бессмысленно и нелепо. — Вы Владимир Михайлович Ионесян? — Да, я Ионесян. — Работали в Оренбургском музыкальном театре? — Артист музыкальной комедии. — Вы признаете себя виновным в убийствах в Москве и Иванове? — Какие убийства? Никого я не убивал. Это недоразумение. Я требую встречи с прокурором. — Представитель прокуратуры республики перед вами. Можете заявить свои претензии. — Вот я и заявляю. Хочу, чтобы мне объяснили, за что я арестован. — Что ж, давайте установим. Итак, повторяем вопрос. Признаете ли вы себя виновным в убийствах, совершенных в Москве и Иванове в период с 12 декабря по 8 января? — Повторяю, это недоразумение. — Хорошо, тогда давайте по порядку. При обыске после вашего задержания у вас изъят вот этот кошелек. — Не знаю, не помню. — Это было вчера. Вот ваша подпись на списке изъятых у вас вещей. Так? Это ваша подпись? — Да, моя. — Значит, кошелек этот был при вас? — Видимо, был. — 12 декабря он пропал из квартиры Соловьевых, когда там был убит Толя Соловьев. Вы можете объяснить, как к вам попал этот кошелек? Молчите? Тогда вопрос следующий. Это ваша фотография? — Моя. — Дарственная надпись Алевтине Дмитриевой сделана вами? — Да, мной. Я подарил ее Алевтине в день нашего отъезда из Оренбурга. — Значит, это писали вы лично. — Да, лично. — В квартире Петровских в Иванове был обнаружен список нескольких жильцов этого дома, вот этот список. Судебно-почерковедческая экспертиза установила, что данный список и дарственная надпись на фотографии сделаны одной и той же рукой. Что скажете по этому поводу? Следующий вопрос. Экспертизой установлено, что все убийства, о которых мы ведем речь, совершены туристским топором, точно такой же топор изъят у вас при задержании. Как вы все это объясните? — Н-не знаю. Может, совпадение. Эксперты тоже ошибаются. — Допустим, что ошибаются, хотя и редко. Но здесь специфические зазубрины на лезвии топора в точности совпадают со следами на жертвах. Опять молчите? Тогда объясните следующее: при обыске у вас был изъят паспорт гражданки Петровской, матери смертельно раненой школьницы. Как у вас оказался этот паспорт? Далее, в квартире Снегиревых после убийства Лени Снегирева была похищена бритва «Харьков». Она обнаружена среди ваших вещей. В квартире Гавриловых исчез телевизор «Старт-3» № 309355234 и часы «Мир» № 17172. И телевизор и часы обнаружены в квартире Коренковой, где вы проживали. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что же вы молчите, Ионесян?.. Наконец, еще вопрос. Вы человек грамотный, должны понимать, что такое дактилоскопия. На вас, судимого в свое время за невыполнение воинской обязанности и за хищение государственной собственности, в Министерстве внутренних дел Армении заведена дактилоскопическая карта. Вот она. Отпечаток указательного пальца, обнаруженный на списке жильцов в Иванове, идентичен с отпечатком пальца на вашей дактокарте. Это подтверждено экспертизой. Что придумаете теперь? — Я должен собраться с мыслями… Следователь спокойно и неумолимо продолжал допрос: — С мыслями вы соберетесь, время у вас будет. Но сейчас ответьте: признаете ли вы себя виновным? Ионесян долго молчал и наконец с трудом выдавил: — Признаю. — Признаете себя виновным в убийствах и ограблении квартир? — Признаю. Наступила пауза. И вдруг Ионесян стал бормотать что-то о Раскольникове, о неподвластных сознанию импульсах его души. Из последующих его ответов выяснилось, что о Раскольникове Ионесян знал лишь понаслышке… Голос следователя звучал неприязненно и холодно: — Оставим Достоевского в покое. Отвечайте: с какой целью совершали убийства? Ионесян как будто удивился вопросу. — Нужны были вещи, деньги… Без свидетелей. — Теперь рассказывайте все подробно. Упершись взглядом в пол, Ионесян начал рассказывать. Говорил цинично, спокойно, словно о чем-то обычном, а не о чудовищных преступлениях. Материалы, собранные работниками уголовного розыска в Москве, Иванове, Ереване, Оренбурге, протоколы допросов Дмитриевой воссоздали ясную картину событий, предшествующих преступлениям Ионесяна. Собственный его рассказ явился только дополнением и уточнением… В школе учился плохо. Но уже тогда хотел от жизни большего, на что мог рассчитывать. Едва закончив школу, решил жить «самостоятельно». Часто менял место работы — ни одна его не устраивала: везде надо было трудиться, стараться, прилагать усилия. А к этому он не привык. Его призывают на службу в армию. От воинской службы он уклоняется. Переезжает с места на место. Кончились его комбинации приговором суда. Правда, приговор был мягким… Вскоре Ионесян попадается на воровстве. И опять суд. Поверив в клятвенные обещания Ионесяна «начать новую жизнь», его осудили условно. Этот урок тоже не пошел впрок. Ионесян тянется к жизни «веселой», с попойками, гульбой, тунеядством. Кто-то надоумил его: — Актером бы тебе стать. Очень уж ты мастак спеть, сплясать. У Ионесяна действительно были некоторые голосовые данные. Но чтобы развить их, нужны были опять же труд, старание. Нет, это не для него. Он брал другим: самоуверенностью и наглостью. Непомерный апломб, неуживчивость и вздорность характера делали его нетерпимым в любом коллективе. Он считал, что все вокруг — бездарность и серость, а его, способного, зажимают, не дают хода. На собраниях труппы театра, в который он все-таки попал, Ионесян кричал о том, что надо ценить и лелеять таланты, сыпал мудреными словами, специальными терминами, разглагольствовал о законах вокала, пластики. Не составило большого труда увидеть, что Ионесян просто лентяй и нахал. А вот Алевтине Дмитриевой казалось, что Ионесян во всем прав. Их роднило многое. И неудачи на сцене, и зависть ко всем и ко всему, и необоснованные претензии на особое положение… Встретились они два года назад. Оренбуржцы были на гастролях в Казани. На вечере-встрече труда и искусства выступал любительский хореографический ансамбль одной из городских школ. Дмитриева — прима-балерина этого ансамбля — имела успех. Оренбуржцы девушку похвалили, кое-кто даже напророчил ей блестящее будущее. Гости отбыли в Оренбург, забыв об этой встрече. Но не забыла о ней Дмитриева и объявилась в Оренбурге. Думали-рядили, что с ней делать. Решили взять в кордебалет. Пусть учится. Может, получится толк. Но вскоре с огорчением убедились, что это была ошибка: хорошая фигура и стройные ноги — это еще не балет. Ионесян же усмотрел в общем мнении иное: «игнорирование таланта», «зажим молодых». Склока, которую он давно затеял в театре, разгорелась с новой силой. Он писал кляузы в разные инстанции, выступал на собрания, грозил руководителям театра «вывести на чистую воду». Дмитриева сделалась для него как бы щитом, прикрываясь которым он выпячивал и защищал себя. Конфликт разбирали пять или шесть комиссий — районных, областных, республиканских. Вывод, однако, был один: Дмитриева не обладает не только дарованием, но даже минимумом профессиональной подготовки. И второе: Ионесян в театре — явление вредное. Он и творческий театральный коллектив несовместимы. Незадачливого «борца за справедливость» уволили. Тогда он разыграл пошлую комедию: навзрыд плакал перед коллективом, просил восстановить, признавал, что ошибался, обещал быть другим… Ионесян разжалобил — в который раз! — своих коллег. А когда добился своего, все началось сначала. Скоро весь театр по-настоящему взбунтовался. Ионесян решил уехать из Оренбурга. Кроме событий в театре, были к тому и личные причины. Жена давно требовала покончить с кляузами, жить по-людски: «Стыдно в театр показаться из-за твоих дрязг». Не знала она, что Ионесян давно уже решил найти себе спутницу, более для него подходящую. Он убедил Дмитриеву, что зря они губят свои таланты. — Кругом одни бездари. Мы тут ничего не добьемся. Надо выходить на другую, широкую дорогу. У меня в Иванове худрук музыкального театра — приятель. Давно зовет. Поедем, Алевтина. Честное слово, стоит. Там и Москва поближе, — уговаривал он. — Но как же? У меня и денег на дорогу нет. — Не беспокойся. Все беру на себя. До Москвы хватит, — Ионесян похлопал себя по карману, — а кроме того, вклад есть в сберкассе. И немалый. Двадцать тысяч с лишним. Да в столице две тетки родные живут. — А как же Дея, твоя жена? — спросила Дмитриева. — С ней у нас черепки врозь. Ионесян развернул перед Дмитриевой заманчивую картину их будущих совместных блистательных успехов, ссылался на огромные связи не только в Иванове, но и в Ленинграде, в Киеве и даже в Москве. Совсем по секрету сообщил ей, что он почти закончил музыкальную комедию. И музыка и либретто уже одобрены руководством Союза композиторов. В общем, впереди открывались такие перспективы, что у Дмитриевой захватило дух. Ночью они были на вокзале. Спешили так, что Ионесян забыл свой паспорт. В поезде он, однако, помрачнел. Обдумать предстояло многое. Приятель в Иванове был не особенно близким. В Москве таковых вообще не было — один-два шапочных знакомых. Теток в Москве тоже не существовало, как не значилось и денежного вклада в сберегательной кассе. А выдумке о музыкальной комедии он сам теперь удивлялся. — Ты что, Володя, задумался? — спросила Дмитриева. — Да вот прикидываю, у какой из тетушек остановиться? Ни ту, ни другую обижать не хочется. — Тогда, может, поедем к моей родственнице? Она рада будет. Только ей какой-нибудь подарок придется сделать. — Ну, за этим дело не станет. Ионесян обрадовался. Он сходил в вагон-ресторан, принес бутылку вина. Ужинполучился интимно-торжественный. А Ионесян думал, прикидывал, рассчитывал… Именно ночью в стремительно мчащемся поезде, в купе, где безмятежно спала Алевтина Дмитриева, созрел у Ионесяна сатанинский план — как доставать деньги в Москве.
Евдокия Коренкова жадно оглядела объемистые чемоданы приезжих и приняла племянницу и ее жениха радушно, отвела им свою комнату, а сама перебралась в соседнюю, проходную. Вечером в узком домашнем кругу состоялся торжественный пир. Ионесян красноречиво рисовал планы: первым делом надо навестить тетушек, они ждут не дождутся, когда племянник почтит их своим визитом и освободит от бремени многих вещей, которые у них хранятся. Дмитриева и Коренкова слушали Ионесяна затаив дыхание. Хозяйка ставила на стол все новые угощения: и заливное, и грибы, и жареную курицу. Она из кожи вон лезла, чтобы угодить гостям, ведь и ей как пить дать перепадет что-нибудь из богатства, которым они скоро будут обладать. Утром Ионесян ушел рано. Он долго колесил по городу, пока из окна троллейбуса не увидел новые дома. Район был еще не обжитый, а народу сновало много. «Это удобно, не так заметен чужой человек», — подумал Ионесян и сошел с троллейбуса. Пройдя две остановки, завернул в спортивный магазин. Купил туристский топорик и пошел в глубь Азовской улицы. В первую квартиру шел с отчаянным страхом. Спазмы перехватывали горло, дрожали руки, когда нажимал кнопку звонка. Но приветливость людей успокоила его… В квартиру Коренковой он вернулся неестественно оживленный. По дороге прихватил две бутылки вина, закусок. Опять долго сидели втроем, угощались. Ионесян рассказывал о «тетушке», у которой был, многозначительно подмигивал женщинам: — Ничего, крепкая старушенция. Кое-что она нам приготовит. Вот съездим в Иваново, и навещу ее опять. — В Иваново? Мы уже должны уезжать? — удивилась Дмитриева. — Да, Алевтиночка, съездим на день-два и вернемся. Друг-то мой ждет. Ионесян, конечно, не сказал, что совсем другие причины вызвали это внезапное решение. Когда он шел из магазина, подростки, толпившиеся во дворе, подозрительно посмотрели на него и стали о чем-то шептаться. Этого было достаточно, чтобы от страха защемило сердце, и он тут же подумал, что надо на несколько дней уехать… Ни на московских улицах, ни на вокзале, ни в поезде эта пара — прилично одетый мужчина с небольшим чемоданом и его молодая спутница в скромном пальто с меховым воротником — не вызывала никаких подозрений. В вагоне они разговорились с соседкой по купе — пожилой добродушной женщиной Федотовой. Принесли ей чай, угостили московскими конфетами. Рассказали, что они артисты, будут, вероятно, работать в одном из ивановских театров. Попутчице было лестно такое знакомство. Узнав, что супругам на первое время негде остановиться, она радушно пригласила к себе: «Поживите несколько дней у нас, мы с мужем вдвоем, а квартира большая». Утром Ионесян и Дмитриева направились в театр музыкальной комедии. Знакомый Ионесяна удивился этой встрече, но посмотреть артистическую пару, хоть и не слишком охотно, согласился. Они вместе и порознь пели какие-то куплеты, пританцовывали. Дмитриева попыталась даже продемонстрировать кабриоль, только тут же споткнулась. Отведя худрука в сторону, Ионесян спросил: — Ну как? Тот, опустив глаза, проговорил: — Сейчас тороплюсь на репетицию. Заходи завтра, потолкуем… Но Ионесян уже догадался об ответе. Он проводил Дмитриеву на квартиру и пошел побродить по городу, «встретиться кое с кем из знакомых». Бродил он не бесцельно, выискивал — куда направиться, где найти во что бы то ни стало найти деньги. Домой вернулся к концу дня. Вернулся, совершив тяжкие злодеяния. В квартире Федотовой он весело балагурил. Накинул на плечи Дмитриевой пуховый платок. Пытался подарить хозяйке какой-то шарф. — Шел мимо базара, купил по дешевке, берите. Та благоразумно отказалась: — Спасибо, у меня есть все, что нужно. Ионесян настаивать не стал и бросил шарф в чемодан. С аппетитом обедал, пил водку. Только часто прикрывал рукой глаза, боясь, чтобы хозяйка или сожительница не заметили его состояния. После обеда, отозвав Дмитриеву в прихожую, объяснил ей, что надо немедленно ехать в Москву: — Вызывают по срочному делу. Сюда вернемся. В театре мы, кажется, понравились. До ближайшей пригородной станции они шли пешком. В кассу за билетами Ионесян послал Дмитриеву. Сели в разные вагоны. Все это удивляло Дмитриеву, но Ионесян многозначительно объяснил ей: — Так лучше. У меня, оказывается, есть враги. Этого «объяснения» было достаточно, чтобы Дмитриева успокоилась. И вот Ионесян и Дмитриева снова в Москве. Они редко покидали свое пристанище, на улицу почти не выходили, не пользовались метро, автобусами, троллейбусами. Но когда с московских улиц спадал людской поток, рабочие вставали к станкам, ученые склонялись над приборами, студенты занимали аудитории, Ионесян, глубоко нахлобучив на лоб шапку, обходил один за другим дома, подъезды, прицеливался к одной, другой, третьей квартире. В один из вечеров он с таинственным видом объяснил Дмитриевой, что ему пришлось прибегнуть к «вынужденной мере» — разделаться с одним из тех, кто его — Ионесяна — неотступно преследовал. Его подруга деловито выстирала в ванне окровавленные перчатки Ионесяна, обмыла туристский топор. Она не могла не догадаться, что Ионесян совершил этим топором убийство, что он не зря прячется от людей. Дмитриева слышала, знала, что в Москве ищут бандита… Знала это и Коренкова. Увидев выстиранные перчатки, она было подумала, что не все ладно с ее жильцами. Но взяла верх та, прежняя мысль: как бы не прогадать, не просчитаться и побольше выморочить у своих постояльцев барахлишка. Вот хотя бы эта кофта, что на Дмитриевой. Надо, пожалуй, выпросить. И шарф хорош. А скоро Ионесян обещал принести поклажу и поценнее. Сегодня вон принес почти новенький телевизор, значит, будет и ей чем поживиться. Обед был праздничным. Сосед принес аванс в счет уплаты за телевизор, и Коренкова уже два раза ходила в ближайший гастроном то за спиртным, то за закуской. Она умилялась, как любит Алевтину Володя, как балует ее, на руках носит по комнате. Вечером они провожали Ионесяна. Он уезжал из Москвы на несколько дней. Сначала заедет в какой-то город, кажется, в Шую, что ли, чтобы получить с приятеля долг, а оттуда — в Казань. Там и встретит Алевтину. План был выработан сообща и продуман в деталях, со всеми предосторожностями. Прощаясь, Ионесян наставлял женщин: — Вы только не проговоритесь кому-нибудь, где я. Иначе мне это повредит. А в Казани я тебя, Алевтина, встречу. Алевтина Дмитриева все уяснила. Что до лжи, то она оказалась еще способнее Ионесяна. Вы знали, чем занимается Ионесян? — Как чем? В Москве он ездил к тетушкам, а в Иванове мы устраивались на работу в театр. — Почему же вы из Иванова уезжали украдкой, садились на поезд с пригородной станции? — Володя сказал, что его кто-то преследует. — Кто мог его преследовать? — Какие-то враги. — А что вы думали о вещах, которые он приносил? — Но я же говорю вам, что он приносил их от тетушек. — Это в Москве. А пуховый платок, шарф в Иванове? — Он их купил по пути домой. — Но ведь вы знали, что у него почти нет денег? — У Володи везде друзья. Он мне говорил, чтобы о деньгах я не думала. Я и не думала. Конечно же, она понимала, каким промыслом занимается сожитель. Если не сразу, не в первые дни пребывания в Москве, то уж в Иванове ей это стало совершенно ясно. Однако Дмитриева спокойно прятала в чемоданы принесенные вещи, и они вместе деловито прикидывали, сколько можно за них выручить. Она считала, что с Ионесяном она может жить весело и беззаботно. Не содрогалась, сидя за столом рядом с убийцей, к ней прикасались его руки, едва отмытые от человеческой крови. Омерзительное чувство вызывала эта женщина.
Приговор о смертной казни Ионесяну, длительном тюремном заключении Дмитриевой и высылке из Москвы Коренковой был встречен общим одобрением. Но взволнованные звонки в судебные инстанции прекратились только тогда, когда газеты опубликовали сообщение, что приговор Ионесяну об исключительной мере наказания — расстреле приведен в исполнение.
Яшка Маркиз из Чикаго
Чикаго в программу нашей поездки по США не входил, в нем предполагалось лишь сделать короткую остановку. Поэтому в посольстве в Вашингтоне решено было не обременять хлопотами чикагскую мэрию, тем более что прилетим мы в город в воскресенье. Мои спутники — журналист Виталий Прохоренко и инженер-строитель Андрей Ратников — в Америке находились не впервые, и каких-либо трудностей пребывания в незнакомом городе мы не предвидели. — Посмотрим город, переночуем — и на аэродром. Вот и вся программа. Мы расположились в одном из многочисленных залов аэропорта в широких ярко-оранжевых креслах и обсуждали, куда и как поехать, что в первую очередь посмотреть. Хоть и небольшой была группа, а интересы оказались разные. Один обязательно хотел увидеть знаменитые чикагские бойни, другой — аквариум Шеда, третий предлагал пешком пройти всю чикагскую набережную, тянувшуюся по берегу Мичигана, а потом, если хватит сил и времени, осмотреть другие достопримечательности города. За оживленным разговором мы не сразу заметили, что около нас кружит пожилой толстый человек. Виталий Прохоренко первым обратил на него внимание и в раздумье сказал: — Удивительно знакомая физиономия. Где-то я ее видел, но где — вспомнить не могу. — Может, случайное сходство, — предположил Ратников. — Не думаю. Но если сходство, то поразительное. А неизвестный все кружил, вился возле наших кресел. Прохоренко наконец не выдержал и громко сказал: — Вы не находите, что место для моциона выбрано вами не очень подходящее? Человек, видимо, только и ждал, чтобы к нему обратились. Он торопливо направился к нам. На вид ему было лет шестьдесят. Держался он нервозно, как-то суетливо, белесо-голубоватые глаза глядели напряженно. Торопливо поздоровавшись, он объяснил: — Услышал родной говор, и вот… Извините, пожалуйста, Яков Черновец. Тоже… из России… — И давно? — с интересом вглядываясь в лицо Черновца, спросил Прохоренко. — Давно, очень давно. Мальцом еще, с родителями, — скороговоркой ответил Черновец и стал угощать всех сигаретами. Прохоренко предложил ему «Беломор», и Черновец, прикурив папиросу от своей сигареты, с удовольствием затянулся. Потом спросил, обращаясь сразу ко всем: — Ну, как там у вас? Прохоренко усмехнулся и иронически ответил: — У нас все в порядке. А как у вас? — Тоже все о’кэй, все отлично. — Ну вот и прекрасно. Обмен исчерпывающей информацией состоялся. Что дальше? Как видно, вы хотите задать нам кучу вопросов, но, извините, мы намерены посмотреть город… — Очень хорошо. Я покажу вам все в самом лучшем виде. И в отличный ресторан отвезу, и в отель… Автосервис обеспечиваю. Мы переглянулись. Суетливость старика, какой-то помятый, неопрятный вид не располагали к общению. Но обидеть его тоже не хотелось. Мы смотрели на Прохоренко. Ему, как самому бывалому, предстояло решить за всех, как быть. Виталий пожал плечами, как бы говоря: а что мы, собственно, теряем? И решительно встал с кресла. Черновец шел впереди. Его широкие, изрядно потрепанные брюки мелькали то среди модных женских «платформ», то среди здоровенных мужских кед и затасканных джинсов. С трудом перейдя широкую магистраль, по которой бесконечным стадом неслись автомобили, мы добрались наконец до стоянки, где такое же стадо машин отдыхало. Черновец остановил нас на краю площадки, а сам ринулся в глубь автомобильных джунглей. Вернулся только минут через сорок. Мы уже стали подумывать, что он сгинул совсем, когда хрипловатый автомобильный сигнал совсем рядом заставил нас вздрогнуть. Черновец улыбался своим частоколом белых искусственных зубов и призывно махал нам рукой. Лимузином его колымагу можно было назвать с большой натяжкой. Двадцатилетней давности «форд», старомодный и обшарпанный донельзя, даже по гладкой, отполированной магистрали гремел так, будто за ним тащился десяток прицепленных консервных банок. — Ну и «антилопа» у вас, — скептически заметил Прохоренко. — Даже у Остапа Бендера и то было что-то более современное. — Сообща содержим. Ну, а общее есть общее, не свое. — Сообща? С кем же? — С напарником, — неопределенно пояснил Черновец и нажал на акселератор. Нам показалось, что консервных банок на привязи прибавилось по меньшей мере вдвое. Прохоренко, сидевший рядом с Черновцом, оглянулся на нас, как бы спрашивая санкции на решительный разговор, а затем обратился к старику: — Вы все-таки скажите: кто вы и что вы? Надо познакомиться. Иначе нам как-то не с руки пользоваться вашей любезностью. Черновец молчал. Затем вздохнул и тихо проговорил: — Все о’кэй, товарищи. Я есть тот, кем и представился. Яков Семенович Черновец. Работаю здесь, в Чикаго, в муниципалитете. — Мэром или одним из его советников? Черновец покосился на Прохоренко и со вздохом ответил: — Любят же в России пошутить. Ох, любят. Гарбичмен я. Гарбичмен. — Гарбичмен? Это что за профессия? — Ратников спрашивал Прохоренко. Тот после секундной паузы ответил: — Мусорщик. Так ведь, господин Черновец? — Ну и что? Каждый труд почетен. Ведь у вас так считается? — Так-то оно так. Только не очень-то вы преуспели за океаном, не очень, — беспощадно заметил Прохоренко. — Ну, а родители? Они как? — Не знаю, поди, и в живых-то уже нет. Мы переглянулись, удивленные, а Черновец, чтобы уйти от разговора, начал подчеркнуто оживленно рассказывать о городе: — Обратите внимание, господа-товарищи, мы уже на подступах к центральным районам Чикаго. Вот проскочим эту авеню и будем на проспекте, который тянется по берегу Мичигана. Это уже центральный квартал города. Прохоренко спросил: — А здание страховой компании цело? — Не знаю, право. А что, оно чем-то знаменито? — спросил Черновец. — Ну как же, один из первых небоскребов в Америке. — Да? А я и не знал. Настроение у нас между тем было сумрачным. Кто он, этот Черновец? Что за человек? И зачем мы связались с ним? Чикаго все-таки есть Чикаго. Здесь немало темных мест, закоулков, где случаются любые происшествия. А Черновец все возил нас с одной улицы на другую, автомобиль ловко нырял в тоннели, выруливал на обзорные площадки набережной, пробирался то к одному, то к другому небоскребу. Остановившись около массивного серого здания, Черновец проговорил: — Один из известнейших музеев. Говорят, интересно. Походите пока там, а я колымагу заправлю. Не возражаете? Мы не возражали, и Черновец отправился на заправку. Чикагский естественно-исторический музей. Законная гордость не только города, но и страны. Здесь собраны уникальнейшие коллекции фауны и флоры, редчайшие исторические реликвии. С увлечением переходя из зала в зал, мы совершенно забыли о своем гиде. А когда вышли и увидели его, снова возник вопрос: «Что же все-таки это за тип?» Прохоренко, отвечая на наш немой взгляд, проговорил: — А черт его знает! Поглядим — увидим. Ничего дурного, я думаю, он не замышляет. Да и не дадимся мы в случае чего. — А по-моему, просто ностальгия у него. Услышал родной язык, вот и прилепился, — предположил Ратников. — Может, и так. Может, — согласился Прохоренко. — Но кого-то мне он, этот Черновец, напоминает. А вот кого — понять не могу. — Программа остается без изменения? — уточнил Черновец. — Чикагские бойни? Мы подтвердили свою заявку, и лимузин, громыхая своими расхлябанными частями, ринулся на юго-западную окраину города. Громадные скотопригонные дворы чикагских боен, куда ежедневно десятки специальных железнодорожных составов подвозили гурты скота из Техаса, Миссури и других штатов, оказались зрелищем впечатляющим. Уставшие, ошалевшие от мычания, рева, блеяния животных, от грохота и шума разнообразных машин и агрегатов, мы с облегчением вышли под чикагское небо. Оставался последний пункт дневной программы — посещение аквариума Шеда. Там, наглядевшись на акул, скатов, осьминогов и других обитателей океана (их в аквариуме собрано что-то около десяти тысяч экземпляров), мы поехали на Мичиган-авеню и скоро уже сидели в небольшом ресторане. Черновец старательно выбирал нам американские блюда. — Стейк, и только стейк, — заявил он. — Хороший, полновесный стейк, что может быть лучше? Возражающих не было, и здоровенные, хорошо поджаренные куски мяса подтвердили восторженные рекомендации нашего гида. Потом разговор завертелся вокруг впечатлений дня — дорог, автомобилей, архитектуры чикагских небоскребов, помещения боен, аквариума… — Вот жаль, что по Мичигану не покатались. Там ходят отличные прогулочные катера. А какой вид на город открывается! — сокрушался Черновец. — Ничего, наверстаем в другой раз. Вы бы, Яков Семенович, все-таки рассказали о себе. Вот приедем в Москву, будем делиться впечатлениями. А о человеке, который возится с нами целый день, ничего не знаем. — А может, сначала расскажете вы? — Черновец поднял голову. — Что ж, постановка вопроса законная. — И Прохоренко быстро обрисовал каждого из нашей немногочисленной делегации. Потом проговорил: — Очередь ваша, Яков Семенович. Черновец невесело усмехнулся: — Вот русская натура. И своя душа нараспашку, и чтобы чужая тоже. Да? Скажете, не так? — Потом добавил: — Здесь все иначе. Все по-другому. Да. Вот именно. По-другому. Может быть, ужин так и закончился бы этим неспешным, малозначительным разговором, если бы не бутылка «Столичной», которую Прохоренко вытащил из своего объемистого портфеля, присоединив к ней еще и баклажку рижского бальзама. — Неприкосновенный запас, берег для встречи с друзьями в Нью-Йорке. Ну да уж ладно, «раздавим» в честь встречи с соотечественником, — проговорил он, ставя бутылку на стол. Черновец оживился, взял бутылку в руки, осторожно разглядывал ее, будто какую-то ценность. — Что, давно не пробовал? — спросил Ратников. — Давненько. — Не по средствам? — Нет, почему же? Просто предпочитал другие напитки. — «Белую лошадь», «Джонни Уокер» или еще что-либо? — Когда что придется. После двух рюмок Черновец вдруг стал ершистым, задиристым, неумно разговорчивым, его потянуло на спор. И к месту и не к месту он повторял, как заклинание, одну и ту же фразу: — Надо видеть главное. А главное, что я свободен, понимаете, свободен. Мы поняли, что эта мысль для него почему-то очень важна, и Прохоренко подхватил: — Вы свободны? В чем же? Объясните. — И сам все пристальнее и пристальнее приглядывался к собеседнику, а вопросы ставил все прямее, категоричнее. — Как в чем? Да во всем. Могу делать что хочу, ехать куда хочу, заниматься чем мне нравится. Любое дело, любое занятие — пожалуйста. Вот захочу и куплю этот отель, этот ресторан, и никто мне этого не запретит. — А вот тот небоскреб вы бы не могли купить? — Прохоренко показал на сияющую огнями сорокаэтажную махину. — А что, могу и небоскреб. Свобода предпринимательства — это, знаете ли, вещь… — А почему же до сих пор не купили? Может, не нравится? — Так как Черновец молчал, Прохоренко напористо продолжал: — Кто же вы, Яков Черновец? Может, замаскированный миллионер? Владелец фирмы «Свифт энд КO» или одного из металлургических заводов в Гэри? Черновец тяжело вздохнул и через силу проговорил: — Мог бы делами ворочать, мог бы. Только вот не повезло. А мог бы, мог… — И столько было сожаления, отчаяния в этих словах, что мы переглянулись. А Прохоренко саркастически усмехнулся: — Ничего, старина, не грустите. Вы еще свое возьмете. При такой свободе предпринимательства можете не только этот небоскреб, а весь Мичиган в карман положить при случае. — Вы все шутите, а я всерьез говорю: эта сторона американской жизни — великое дело. И что ни говорите, а отсутствие свободного бизнеса — слабое место Советов. Да, да. Это я утверждаю категорически. Коммерческому таланту дороги у вас нет. — Ну почему же нет? Сфера приложения любого таланта, в том числе и коммерческого, у нас неограниченна. Дерзай. Если, конечно, не только для собственного кармана, а и для всех. Для общего блага. — Вот видите! Для всех. А какое мне дело до всех? Пусть каждый печет свой пирог, как умеет. Лозунг-то бросили: каждому — по способностям, а на деле так не получается. Прохоренко пожал плечами: — Ну, вам надо элементарную политграмоту читать. Как-нибудь в другой раз я это сделаю. — Нет-нет. Тут вы меня не разубедите. Потому как знаю я эту проблему досконально. Вот было у вас дело Крюкова. Здешние газеты очень много писали о нем. Зачем таких людей под корень? Ведь способные, талантливые бизнесмены. Очень это огорчительно. Прохоренко уточнил: — Не всех. Только основных заправил, заядлых уголовников Крюкова и Серого. Остальных не тронули. — Ну что вы говорите такое? Я же читал. — Не знаю, что вы читали, я же говорю вам истинные факты. Все участники крюковской «фирмы» живы и здоровы. Жив и здравствует, как мы видим, и гражданин Клячковский, или Яшка Маркиз, как вас называла вся крюковская шарага. А теперь вы, значит, Черновец? Интересная метаморфоза. Не находите, дорогой Маркиз? Слова Прохоренко не только для Черновца, но и для нас прозвучали как выстрел. Черновец же сидел, онемевший, растерянный, словно рыба, вытащенная на берег, ловил ртом воздух. А Прохоренко, с прищуром наблюдая за ним, продолжал: — Вот вы, оказывается, где окопались, Яков Семенович. Очень, очень интересно. Как же вы здесь оказались? Может, расскажете? Будет очень интересно послушать. — И, обращаясь к нам, Прохоренко пояснил: — Из всей многочисленной «артели» Крюкова, о которой печется и которую хорошо знает наш знакомый, следственные органы не смогли обнаружить двух или трех человек, в том числе Якова Семеновича Клячковского, или Яшку Маркиза, как звали его компаньоны. Искали по всем городам и весям, но тщетно, как в воду канул. — И что, этот Клячковский, или, как ты его называешь, Маркиз, был крупной рыбой в том омуте? — спросили мы почти одновременно у Прохоренко. — Один из основных кредиторов фирмы. Ссужал ее дензнаками, скупал камушки и дорогие металлы. Очень нужен был Яков Семенович, очень, но, как видите, оказался в краях очень отдаленных, за океаном. Кто бы мог подумать! Черновец наконец обрел дар речи и глухо, с трудом сдерживая голос, заговорил: — Да вы что? С ума сошли? Я Черновец Яков Семенович. И никакой не Клячковский. Понятно вам? Проживаю в Соединенных Штатах. Вы, знаете ли, того, говорите, да не заговаривайтесь. А то я быстро сообщу куда следует. Мы люди здесь, знаете ли, свободные. Это вам не Москва. Надо же, что придумали! Прохоренко с усмешкой посмотрел на Черновца и подозвал официанта. За столом воцарилось тягостное молчание. Молчал Черновец, молчали и мы, не зная, о чем говорить. Потом Ратников, положив руку на колено Прохоренко, проговорил: — Ты, Витя, извинись перед господином. Ошибки во всяком деле могут быть. А тут дело такое… — И, обращаясь к Черновцу, сказал: — А вы не обращайте внимания. Выпили мы, ну и сказал товарищ лишнее. Мы ничего плохого против вас не имеем. В общем… Прохоренко не дал ему договорить: — Ошибки здесь никакой нет. А вы, Клячковский, и упорствуете зря, и испугались напрасно. Думаю, что вам неизвестно особое частное определение суда по вашему делу. — Особое? Частное? О чем же? — Черновец весь подался вперед. — Оно звучит примерно так: в случае явки граждан таких-то и таких-то (ваша персона в том списке) и сдачи ими государству ценностей, полученных в результате незаконных операций, суд учтет это при разбирательстве. Так что вам, Маркиз, большой угрозы нет, а потому есть над чем подумать. Черновец, однако, вернулся к прежней игре: — Ну, это меня не интересует. Вы скажите это тому, кого это касается. — Да бросьте вы городить чепуху. — А какие все-таки у вас основания именовать меня, как именуете, и причислить к крюковскому делу? Какой я дал повод для таких подозрений? — Могу объяснить, Яков Семенович. Все очень просто. Еще на аэродроме, как только мы увиделись, я все время ломал голову: где я вас встречал? Однако припомнить не мог. Когда же вы заговорили о деле Крюкова, в памяти всплыл ваш фотопортрет из того объемистого дела. — Никакого отношения я к этому объемистому делу не имею. Но о людях тех скорблю. Невинно пострадали. Такие дела по нашим американским законам неподсудны. — Подсудны, Яков Семенович, подсудны. И по американским законам тоже. Незаконные валютные операции. Контрабандная скупка золота, бриллиантов… Скорбеть не надо. Я ведь вам уже объяснил. — Свежо предание, а верится с трудом. Так ведь сказал какой-то писатель, — прошептал Черновец. — Даже русских классиков забыли. Быстро же вы стряхнули пыль отечества. Черновец побледнел, хрустнул неопрятными, огрубевшими пальцами. — Вы… не говорите так. Я, может, и беглый и отщепенец, по вашим понятиям, но землю-то свою помню. — Что-то незаметно, — непримиримо проронил Прохоренко и, обращаясь к нам, предложил: — Пойдемте спать. Надо встать пораньше и вовремя добраться в аэропорт. — А мои услуги уж не нужны?! — не поднимая головы от скатерти, хрипловато спросил Черновец. — Обойдемся без помощи «маркизов» и разных там свободных предпринимателей. Сенькью, господин Черновец. Прохоренко встал из-за стола. Мы встали тоже и, наскоро попрощавшись со своим незадачливым гидом, ушли в номер. Там у нас развернулись бурные прения. Мы дружно обвиняли Прохоренко в горячности, необдуманности и даже грубости. Так оскорбить человека, заподозрить черт знает в чем! Пусть он перебежчик, когда-то оставил родину, но, чтобы приписать ему такое, надо все же иметь основания. Прохоренко, однако, был непреклонен: — Прежде всего он не кто иной, как Клячковский, я убежден в этом так же, как в том, что вижу вас. Помню, отлично помню фото с его физиономией. Да нет, я абсолютно уверен, что это Маркиз. Вот только не пойму, как он здесь оказался? — Пригревают его, по-моему, не очень-то тепло, — заметил Ратников. — Вот именно. И это тоже загадка. Сюда он подался наверняка не с пустым карманом. Почему же такой пассаж? Далеко не последний воротила в фирме Крюкова, ссужавший средствами ее в тысячных исчислениях, скупщик-перекупщик, и вдруг… уборщик чикагских улиц? Загадок, в самом деле, было много, и, может быть, они так и остались бы загадками, если бы Черновец не появился вновь. Мы уже укладывались, когда он постучал в номер: — Прошу извинить. Я не очень надоел? Хочется все-таки закончить наш разговор. Не возражаете? Мы не возражали, но и не жаждали продолжать это знакомство, хотя истину все-таки хотелось узнать. Войдя в номер, Черновец молча расставил на столе банки с кока-колой и проговорил: — Прошу угощаться. Холодная. Молча мы открыли по банке, молча пососали сладковатую жидкость. Прохоренко спросил: — Что-нибудь новое сообщить хотите? Черновец помедлил, отпил два глотка из банки и ответил вопросом на вопрос: — А можно у вас узнать, откуда вам так хорошо известна крюковская история? — Могу удовлетворить ваше любопытство. Я писал отчеты о процессе. И естественно, досконально знаю все перипетии дела. Знаете, профессиональная память журналиста. — Ясно, спасибо. А я думал, может, вы… — С Петровки? Нет-нет. Успокойтесь. И потом, я же объяснил, что вам, в сущности, бояться уже нечего. — Если бы так, если бы так! Прохоренко встал с кресла, подошел к Черновцу: — Я не следователь и не прокурор, к этим делам имею отношение лишь по роду своей журналистской профессии. Но разбираюсь в них неплохо. Вы приняли за чистую монету то, что сообщала о процессе Крюкова иностранная пресса. Но факт остается фактом: все ваши сподвижники, кроме Крюкова и Серого, уже на свободе. Это так же точно, как то, что мы сидим с вами в отеле на Мичиган-авеню. Так что бежали вы, Яков Семенович, в сущности, зря… — Что, и Лысюк тоже на свободе? И Абрамович, Дьяконов? Но ведь они были фигурами… — Мозговой центр фирмы. Это известно. Но справедливости ради скажем так: Маркиз тоже не из рядовых. Наступила пауза. Затем Ратников еще раз констатировал уже очевидное: — Выходит, Яков Семенович, что Маркиз — это все-таки вы? Черновец вздохнул: — Выходит, что так. Раз попал впросак, крутить ни к чему. Говорил себе не раз: не лезь, дурак, на аэродром да на вокзал. Нет, не удержался. И вот результат. — Нас вам нечего опасаться. В СССР мы вас не возьмем, если бы вы даже того и захотели. Как мы ни были утомлены перелетом, впечатлениями дня, всей этой кутерьмой, рассказ Маркиза о его «жизненном вираже», как он сам выразился, мы слушали с интересом. — Когда я узнал, что арестован Серый, а потом и сам Крюков, я решил: Яков Семенович, баста, хватит, пора убирать ноги. Не одного года жизни мне все это стоило. Как вспомню — и сейчас оторопь берет. Знай бы я раньше, никогда бы не решился на этот шаг. Через месяц с чем-то после многих и многих мытарств, как самый последний беспризорник, высадился я на берег Соединенных Штатов. Ну, думаю, все, Яков Семенович, кончились твои муки, начинай теперь новую жизнь. Хотя почти без языка ты, в лохмотьях и вид у тебя — хуже любого люмпена, но есть среди твоей хламиды кое-что стоящее. Как удалось сохранить эти ценности, говорить не буду: совестно. Но сохранил. Ни таможенная служба, ни портовая полиция, ни всякие иные полицейские чины не смогли вскрыть моих ухищрений. Уж какой там народ дошлый да опытный, а не смогли. И вот наконец у меня хотя и временный, но вид на жительство. И работешку кое-какую отыскал: ведь когда-то я техником-строителем был. Взяли меня в одну фирму, что строила пакгаузы. Сторожем при складах устроился. Все ладно, но в мыслях я постоянно у главной своей цели был: надо камешки, что припрятаны, в дело пускать. Привез-то я их всего три штуки, но они доброго десятка стоили. Уж я-то в них толк знаю. Исподволь, осторожно стал нащупывать пути-дорожки, как их в реальные денежные знаки превратить. Дело, сами понимаете, непростое, не пойдешь в любой магазин и не скажешь: купите у меня бриллианты. А мои камешки были еще почище иных бриллиантов — два сапфира да изумруд. Да какие! Редчайшие камни. Купил я их когда-то у одного богатого туриста с Востока за баснословные деньги. И каким бы специалистам и в Москве и в Одессе ни показывал — слышал и видел лишь восторг и удивление. Постепенно нащупались эти самые пути, чтобы, значит, камешки сбыть. Познакомился я с диспетчером площадки, где работал, неким Джоном. Рыжий, разбитной такой верзила, моряк в прошлом, в Мурманск в войну ходил. Даже несколько слов помнил по-нашему: «рус», «вотка», «корош». Долго приглядывался я к нему. Наконец решился. Объяснил, в чем моя нужда. Обещал он мне все устроить. И действительно, вскоре повез меня на одну из центральных улиц Чикаго в фирменный ювелирный магазин. Зашли мы, осмотрелись. Магазин вполне достойный, шикарный даже. Хозяин и помощник в белых халатах с нарукавниками. В витринах драгоценности мерцают. Познакомились, условились о новой встрече. Она состоялась через день. Показал я камешки. Хозяин головой качает: редкий, мол, товар, деньги большие стоит. Цену назвал настолько подходящую, что я и спорить не стал. Безбедно, думаю, проживу до конца дней своих. Потом он говорит извинительно: «Надо вызвать экспертов из фирмы и из банка, таков у нас порядок. Формальность, в сущности, но ничего не сделаешь, правила есть правила. А пока вот виски, вот содовая». Посидели мы так с полчаса. Приехали на огромном «бьюике» два солидных господина. Начали в лупы рассматривать камни. Долго вертели их так и этак. А потом один говорит: «Подделка, отличная, совершенная, но подделка». Второй ему поддакивает: «Безусловно, подделка. Голландская работа». Вы понимаете мое состояние? Будто обухом по голове ударили. Вскочил я, говорю им: «Вы что, господа, белены объелись? Лучшие московские ювелиры проверяли эти камни. С Востока они, с Востока. Я вам гарантии даю, что они подлинно драгоценные. Какая тут подделка? Чепуху вы, извините, городите». Эксперты, однако, ни в какую. Подделка — и все. Шуметь начинаю, доказывать. Не помогает. Суют мне в руки мои камешки и настойчиво подталкивают к двери. Джон сначала тоже на меня набросился, материть стал, дескать, зачем его впутал во всю эту историю. Потом пообещал: завтра, мол, в другую фирму подадимся, их в Чикаго много. Пришел я в закуток в портовой общаге сам не свой. Сижу, не знаю, что и подумать. Не спал всю ночь. А утром при дневном свете стал рассматривать свое богатство. И тут уж, знаете, совсем мои ноги подкосились. И как я это раньше не заметил. Камни-то не мои. Свои-то я знал досконально. И изумруд, и сапфиры сочности цвета и чистоты необыкновенной, будто в морские глубины или в небеса смотришь. А эти яркие, чистые, как вода, чистые, да не живые, сделаны искусно, но с настоящими изумрудами или сапфирами и рядом не лежали. Ринулся я к Джону — по соседству жили — отсутствует. Помчался на эту самую Третью авеню — никакого ювелирного магазина там и в помине нет. Дом-то нашел, в точности он, но бакалейная лавка там всего-навсего, и хозяин-другой. Опять к Джону мчусь. Нету. В офис пакгаузов подался. И что же оказывается? Уволился Джон! Да! Вы понимаете? Сегодня уволился. Ну, думаю, хана тебе, Черновец, влип ты, как муха в кисель. Понял окончательно, что провели меня, что называется, по всем правилам шулерского искусства. Бросился в полицию. А там только того и ждали. Вопрос за вопросом. Кто ты, Черновец? Откуда камни? Где взял? Показал я им то, что мне жулики всучили. Вопросов еще больше. Искали они в это время какую-то шайку, торговавшую фальшивыми драгоценностями, и подумали, что зацепили одного из ее участников. Поехали на Третью авеню. «Вы говорите, что здесь заходили в ювелирный магазин? Но такого здесь никогда не было. Ты, парень, того, ври да не завирайся, а то тебя мы от этого недуга живо вылечим». Задержали меня, два месяца все пытались выяснить, кто мои соучастники и где они. Наконец выпустили. Вышел из тюряги без денег и без камешков. Даже фальшивые, что мне жулики всучили, и те отобрали. Работу потерял, жилье тоже. Что делать? Стал мотаться по Америке. С запада на восток. С востока на запад. Все хотел встретить своего бывшего сослуживца Джона. Все познал — и голод, и холод, и каталажки. И это в мои-то годы. Одним словом, не приведи господи. Ну, а потом опять сюда вернулся, в Чикаго. Кое-как устроился компаньоном к одному старику. Он всю жизнь в этом квартале… Ночью улицы убираю, а днем на аэродром или вокзал езжу… Издали на вас, соотечественников, посмотрю да говор родной послушаю, и как-то легче становится. Тусклое чикагское солнце пробилось наконец сквозь свинец неба и робко заглянуло к нам в номер. Пора было ехать в аэропорт. Не сговариваясь, все поднялись, наскоро собрали нехитрые пожитки и молча вышли на улицу. В машине тоже молчали. Наконец Ратников произнес: — Черт его знает, как порой невероятно складываются судьбы людские… Прохоренко, однако, возразил: — Вы что-то не то говорите, коллега. Судьба, по-твоему, это что ж, от бога, от всевышнего? Чепуха это. Судьбу свою делает сам человек. — Все это, конечно, верно. Только бывают и исключения. Что, например, можно посоветовать Якову Семеновичу в его ситуации? Я лично такой совет дать не берусь. Прохоренко пристально, в упор посмотрел на Черновца и не спеша ответил: — А я берусь и убежден, что прав. Надо гражданину Черновцу — Клячковскому пойти в советское консульство, обрисовать все, как оно было, и слезно попроситься домой. Повинную голову меч, как известно, не сечет. Ведь государство наше гуманное, оно простит, если с ним по-честному… Маркиз покосился на Прохоренко, хотел сказать что-то, но промолчал.После знакомства с Маркизом в Чикаго прошло несколько лет. Уже стали тускнеть впечатления, все реже при встречах мы восклицали: а помнишь, а помнишь… Но вот совсем недавно позвонил Прохоренко и буквально потребовал, чтобы вечером непременно были у него. — А почему, собственно? Что случилось? — Вспомним поездку в США. — Ну, когда это было. — Ничего, приезжайте, освежим кое-что в памяти. Встретил нас сам хозяин — в белом фартуке, перепачканный мукой, пахнущий луком и какими-то специями. — Проходите… располагайтесь как дома. А я еще минут десять провожусь с пельменями, потом присоединюсь. Все было отлично — и закуски, и пельмени, и все прочее. Но хозяин что-то темнил, то и дело поглядывая на дверь. И когда в передней раздался звонок, он опрометью бросился туда. Вошел он через минуту или две сияющий, довольный, ведя за руку… Черновца. — Вот представляю вам нашего чикагского гида. Когда-то Яшка Маркиз, один из кредиторов фирмы Крюкова и К0, затем жертва чикагских мазуриков, а отныне вновь полноправный гражданин нашей страны Яков Семенович Клячковский. Якова Семеновича было трудно узнать. Опрятно одетый, чисто выбритый… Только впалые щеки, почти совсем выцветшие глаза и совсем уже редкий венчик волос напоминали того, чикагского Черновца. Мы, конечно, набросились на него и на Прохоренко с расспросами. Прохоренко поднял руку. В обычной своей немногословной, сдержанной манере проговорил: — Излагаю тезисно. Яков Семенович внял нашим советам, раскаялся, попросился домой. Незадачливому гастролеру пошли навстречу. Ну, мы тоже помогли чем могли. Предваряя вопросы, сообщаю, что камешки, спрятанные в тайнике, сданы государству, о чем я и уведомляю официально. Когда уже съели и выпили все, что было на столе, Клячковский задал вопрос, который мучил не его одного: — Все мне ясно, ну буквально все. Но как вы, товарищ Прохоренко, догадались, что есть у меня эти самые камешки в тайнике? Ведь знал-то о них только я сам и ни одна душа больше! — Интуиция, Яков Семенович, интуиция. Знаю я вашего брата. Без запасных норок на черный день вы но можете. Нет, не можете. Такая уж психология разных там дельцов, валютчиков и прочей нечисти. Черновец даже поперхнулся от таких нелестных слов. А Прохоренко рассмеялся: — Вы-то мои слова на свой счет не принимайте. Вы же к этой категории принадлежали в прошлом. — Да, да, конечно, — торопливо согласился Маркиз. — А тебе, Виталий, не приходила в голову мысль переменить профессию? — спросил Ратников. Прохоренко усмехнулся: — Нет, не приходила. Мне своя нравится. Сколько дорог, сколько встреч. Самых разных. А порой и вмешательство в судьбы людские. Ну сами посудите: вернуть вот такого прощелыгу на стезю добродетели — разве это не стоящее дело? — А надолго ли вернули-то вы его? — скептически спросил Ратников. Прохоренко с усмешкой посмотрел на Клячковского: — В случае чего, поступлю, как Тарас Бульба с Андрием. Клячковский встал из-за стола, одернул пиджак и с нотками сдерживаемой торжественности произнес: — Яшка Маркиз, то есть, я хотел сказать, Яков Семенович Клячковский, никогда не бросал слов на ветер. Это его всегда отличало от ему подобных. Вы, товарищ Прохоренко, можете быть уверены: ни в помыслах, ни в делах я не отвечу злом на добро. Маркиза больше нет. И не будет. Баста. — И уже тише, без патетики, просто и взволнованно закончил: — Хочется остаток дней прожить по-человечески, ходить по улицам, не втягивая голову в плечи, не озираясь по сторонам, не вздрагивать от каждого звонка в дверь и не отводить глаза от людских взглядов.
Сычиха
Женщина кричала громко, пронзительно, и ее истошный голос заглушал все остальные звуки большого московского, засаженного молодыми липами двора. Люди с тревогой вглядывались в окна, пытаясь определить, на каком этаже, в какой квартире несчастье. — Помогите, убивают… Трое мужчин, отдыхавших на скамейках около волейбольной площадки, бросились в угловой подъезд дома. Крики неслись оттуда, кажется, с четвертого этажа. Когда они поднялись, то увидели, что двери квартиры № 47 открыты, полураздетая женщина стоит на пороге и громко взывает о помощи. Полный мужчина лет сорока с короткой, боксерской стрижкой, в белой нейлоновой сорочке и узких нарядных подтяжках монотонно уговаривал женщину: — Прасковья Сергеевна, ну успокойтесь же, успокойтесь. Он не тронет вас, этот изверг, мы не дадим свершиться злодеянию. Подоспевший участковый инспектор милиции Чугунов, взяв двух свидетелей, вошел в квартиру. — Так в чем тут дело, граждане? Что произошло? Женщина пинком распахнула двустворчатую дверь в крайнюю комнату и голосом, полным ненависти, проговорила: — Вот он, убийца. Смотрите на него, каков! В комнате за столом, обхватив руками голову, сидел мужчина. Всклокоченные волосы, дрожащие руки, съехавший куда-то в сторону измятый галстук. Мужчина плакал, и его торопливые попытки скрыть это ни к чему не приводили. Наскоро разобравшись в событиях, Чугунов суховато проговорил: — Жена ваша, гражданка Сычихина, заявляет, что вы угрожали ей убийством. Так ли это? — Не просто угрожал, а пытался ударить вот этим предметом с целью лишения жизни. Я невольный свидетель этого факта, — вступил в разговор мужчина в подтяжках. Он положил на стол портативный алюминиевый штатив от фотоаппарата. — Да, да, так оно и было. Арминак Васильевич говорит истинную правду. Если бы не он, лежала бы я тут бездыханная… — Подождите, гражданка, давайте спокойно разберемся. — Чугунов раскрыл планшет, достал общую тетрадь, шариковую ручку. — Вот теперь начнем по порядку, Сначала установим главную суть. Вы, гражданин Свирин, не отрицаете, что ударили жену свою, гражданку Сычихину? Признаете это обстоятельство? — Признаю. И что хотел еще раз ударить — тоже признаю. — Значит, не отрицаете, что пытались гражданку Сычихину лишить жизни? — Этого не замышлял. — Хотел, хотел лишить жизни! Это истинная правда! Он давно грозился. Все соседи подтвердят. Две женщины — соседки по лестничной площадке — действительно подтвердили, что в семье Свириных давно идут нелады. Прасковья Сычихина несколько раз жаловалась на угрозы мужа «изничтожить» ее. Два или три раза и собственными ушамислышали крики гражданина Свирина: «Убью, такая-то…» Сосед по квартире Арминак Васильевич Груша подтвердил эти свидетельства в деталях, с указанием, когда, в какие часы было. А чтобы быть абсолютно точным, он сходил к себе в комнату и все проверил по своему дневнику. Чугунов спросил: — Ну, что вы скажете теперь, гражданин Свирин? Свирин устало посмотрел на инспектора: — Все правильно. Кроме умысла к убийству. Этого не было. — Грозить — грозили, ударять — ударяли. А говорите, умысла не было. Не вяжется, гражданин Свирин. — Может, и не вяжется, но в мыслях я этой цели не держал. Отвечать же за свои действия готов. — Свирин повернулся к жене: — Ну, Сычиха, прощай. Желаю здравствовать. Прасковья Сычихина, судорожно прикладывая к плечу намоченную белую тряпицу, причитала: — Пьянчуга, бандит, ирод проклятый, всю мою жизнь загубил. Теперь-то тебя научат уму-разуму…Три года вполне достаточный срок, чтобы подробно вспомнить все, что было, и подвести итог прожитому. Длинными зимними вечерами, после рабочего дня, когда соседи по парам затихали в глубоком сне, Свирин вспоминал свою жизнь, искал ответа на постоянно живущий в нем вопрос: почему все это случилось? С Прасковьей Сычихиной он познакомился, когда учился в институте и жил под Москвой в Перове, снимая вместе с двумя однокурсниками комнату на Кузьминковской улице. Как-то к хозяйке, у которой они квартировали, зашла соседка. Красота этой молодой женщины так поразила Свирина, что он долго не мог опомниться от этой встречи. Пристал к хозяйке с расспросами. — Что, приглянулась Пашка-то? Смотри, бедовая она. Одного такого уже выставила. Вся в мать. Та тоже отчаянная была. Сычихой весь город звал. И дочь вся в нее. И тоже Сычихой кличут. Прасковья Сычихина прочно вошла в сердце выпускника инженерно-строительного института Свирина. Через год после той встречи они уже были вместе. Трудно сказать, что привлекло Сычихину в этом худом, нескладном и застенчивом человеке. Его способность дни и ночи сидеть за какими-то проектами и чертежами? Всеобщее мнение, что этот «очкарик» далеко и высоко пойдет? А может, его восторженное отношение к ней? Ведь он буквально светился весь, когда видел ее. Свирин ворочался на нарах, тяжело вздыхал. В своих воспоминаниях он подошел к тому времени, когда радужный горизонт их жизни начал затягиваться первыми мутными тучами. С чего это началось? Вроде бы с мелочей. Как-то, придя с работы, Свирин сообщил жене, что их тресту отвели массив земли в районе Рузы для коллективного садоводства. Если есть желание возиться с землей, можно тоже подать заявление… Когда появится пацан или пацаны, будет неплохо иметь небольшую халупу за городом… Прасковья думала недолго и объявила мужу: — Насчет пацанов — дело отдаленного будущего. Но заявление на участок подай. Обязательно. Так у Свириных появился садовый участок и домик на нем: маленький, аккуратный, об одну комнату. Но потом кто-то из соседей нарастил такой же домик мансардой, а сбоку пристроил утепленную веранду. Получилась неплохая дача. Прасковья насела на мужа: — А ты что, не можешь? Ты что, хуже других? — Не могу, — убеждал ее. Алексей. — Нельзя. — И слушать не хочу. Давай мне этот «скворечник» обстраивай! Свирин хотя и перестал спорить, но с достройкой «скворечника» не спешил. Это был один из тех камней преткновения, о который не раз спотыкались супруги. А жизнь подбрасывала под ноги и другие, не менее увесистые камешки. Алексея все больше начинало беспокоить то, что Прасковья часто переходит с одной работы на другую. Окончив техникум связи, она совсем немного поработала по специальности и перешла в соседний трест на плановую работу. Потом в профтехучилище воспитателем. Оттуда подалась в один из институтов. Но и здесь задерживаться, кажется, не собиралась. Как-то, приехав домой, Свирин нашел жену взъерошенной, колючей. — Что с тобой? Плохо себя чувствуешь? — Да, плохо. Эти кретины мне все настроение испортили. Квартальный план, видишь ли, подтягивают, на сверхурочные нас, рабов божьих, оставляют. Нужны они мне со своим планом! Ну, начальство вызвало. Внушали. Воспитывали. А я им говорю: законы о труде надо знать… — Так и не осталась? — Конечно, нет. — И совесть не мучает? — Нисколько. — Да, уникальная ты у нас личность. — Ну, не знаю уж, уникальная ли, но в обиду себя не дам. Свирин старался убедить жену в том, что она не права, но в ответ услышал издевательское: — Скажи, какой сознательный! Только вот что, дорогой, я из пеленок давно выросла… Алексей чувствовал, что трещина, возникшая между ним и женой, становится все шире. Поняв это, но все еще любя жену, стал обращаться с ней подчеркнуто мягко, сглаживая острые углы, старался быть как можно ласковее. Прасковья же по-своему поняла все это. Ей вдруг понадобилось позарез справить себе нейлоновую шубку. Поднатужился Алексей, сверхурочных работ набрал на целых полгода, но осилил эти затраты. Еще долги в кассу взаимопомощи не все были уплачены, когда Прасковье подвернулись по случаю какие-то серьги с бирюзой, потом еще что-то… Брать деньги было уже негде, и Алексей решил серьезно объясниться в женой. Домой в тот день он отправился вместе со старшим прорабом Логуновым — кряжистым, широкоплечим дядькой, которого все на стройке любили за добродушие, невозмутимость и редкое прилежание к работе и… рыбалке. О ней, рыбалке, он мог говорить без конца, историй знал множество и рассказывать их умел. Всю дорогу от стройки он пичкал Свирина байками о повадках карасей, щук, линей и прочей речной живности. Алексей, занятый своими мыслями, невпопад ахал, охал, рассеянно переспрашивал. — Ты представить себе не можешь, какой бывает на Щучьих озерах сумасшедший клев… Вот даже вчера… Да что говорить, зайдем к нам, убедишься воочию. Жена Логунова, такая же дородная, как и муж, улыбчивая женщина, сразу стала хлопотать об угощении. Рыбка, правда, оказалась мелкой, но довольно вкусной. Хозяйка искусно умела жарить ее с мелко нарезанной картошкой. На фоне мелких картофельных долек даже эти рыбки размером с кильку казались вполне солидными. Выпили Свирин и Логунов немного, по две или три небольшие рюмки, но в голове у Алексея шумело, а мир казался шире и проще. Когда Свирин явился домой, то увидел Прасковью сидящей на диване рядом с каким-то незнакомцем. У Алексея вдруг бешено заколотилось сердце. Незнакомец сразу же прошмыгнул в переднюю и стал суетливо одеваться. Руки его не попадали в рукава пальто. Свирин с усмешкой посмотрел на него и брезгливо сказал: — Не бойтесь, бить не буду. — А что такое? Почему бить? — вдруг визгливо заговорил мужчина, на всякий случай держась за ручку двери. — У нас был сугубо деловой разговор. Я меняюсь комнатами с вашей соседкой. Вот мы и обсуждали. — Обсудили? Очень хорошо. А теперь проваливай. — И Свирин, открыв дверь, сделал гостю широкий приглашающий жест на лестничную площадку. Прасковья стояла в коридоре и в оцепенении ждала, что же будет. Она знала, что, выпив, муж становится на редкость придирчивым и не владеет собой. А у Свирина перед глазами стояли Логунов и его добродушная жена, он вспоминал непринужденную, приветливую атмосферу их дома, мысленно сравнивал это с тем, как живут они с Прасковьей, в душе его поднялась обида на жену. Да еще этот тип… И, отвечая своим взвинченным мыслям, Свирин глухо прокричал: — Убью, проклятая!.. Но он не дотронулся до жены. Направляясь в комнату, повторил уже тише: — Убью в случае чего, так и знай… Арминак Васильевич Груша не бросал слов на ветер. Вскоре он действительно переехал в квартиру Свириных. Правда, старался не встречаться с Алексеем. Свирин не на шутку загрустил. Управляющий трестом не раз отмечал серьезные недостатки на участке инженера Свирина: — Людей в руках не держите, за работами следите плохо. Вообще вас не узнать. Стали каким-то инертным, вялым. Даже свои интересные задумки по армированному бетону забросили. Одним словом, если так пойдет и дальше, придется переводить вас на рядовую работу. Свирин пообещал «встряхнуться». Однажды сослуживец, видя его угнетенное состояние, пригласил к себе. Выпили они в тот вечер изрядно. Но хмель что-то не брал Свирина, нервное напряжение не проходило. Идя домой, он все твердил одно и то же: «Надо что-то делать. А что? Да очень просто. Надо кончать нам с Сычихой «холодную войну» и жить по-человечески… Конечно, она баба вздорная, злая, но черт возьми, все равно дорога она мне. Ведь дорога. Себе-то я врать не стану». С этими мыслями Свирин и пришел домой. Когда открывал дверь, ему показалось, что сосед метнулся в свою комнату из комнаты жены. Свирин упрекнул себя: «Переложил ты, Свирин, сегодня, явно переложил». Прасковья встретила мужа словами, полными злобы и ненависти: — Куда прешься, пьяная рожа? Ты не нужен здесь, не нужен! Свирин стоял в дверях, ошалевший от этого стремительного наскока, и только повторял одно: — Подожди, Сычиха, давай разберемся. — Нечего мне с тобой разбираться и не о чем говорить. Пошел отсюда, бродяга! Вот эта последняя фраза и решила все. Она подняла в душе Свирина такую злость, так всколыхнула в его душе самое горькое, что он, не помня себя, схватил первое, что попало под руку, и ударил ее. Кричал он одно и то же: «Убью, убью!..» Он ударил бы Прасковью снова, но Груша как раз оказался рядом. Рука Свирина была остановлена на взмахе… Увидев людей, Свирин ушел в комнату и сидел там за столом, понимая, что теперь-то все у него пошло прахом. Слезы, помимо его воли, текли из глаз. Потом были следствие и суд. Свирин нехотя, односложно отвечал на вопросы. Он признавал себя виновным в избиении жены, в угрозах по ее адресу, но упорно отрицал намерение к убийству. Объяснить причину семейных неурядиц отказался.
Размышляя обо всем происшедшем, Свирин пришел к выводу, что виноват сам, и решил, что главное для него сейчас — скорее отбыть срок и вернуться домой. «А там все наладим», — думал он. Но Прасковья внесла поправки в его планы. Через три месяца Свирин получил от жены письмо. Она писала, что разводится с ним. Это первое. Так как право на площадь в связи с заключением он теряет, то квартиру она перевела на себя. Это второе. Личные вещи с попутной оказией отправлены к матери в деревню. Это третье. «Всеми делами распорядилась. Вот как! И даже здоровья не пожелала. Действительно — Сычиха…» — проговорил про себя Свирин. Это был беспощадный удар. Свирин жил теперь механически, без мыслей, не замечая ни времени, ничего из того, что окружало его. Так продолжалось долго — с год или более. Потом боль в душе стала утихать, постепенно приходила какая-то спокойная ясность. Планы и мысли его оказались односторонними, были лишь его, Свирина, планами. Прасковья же, оказывается, думала обо всем по-иному. Значит, ничего у нее не было к нему в сердце. Значит, это была ошибка. Как-то Свирин попросился на прием к начальнику. Вопросу, с которым он пришел, начальник удивился и обрадовался. Заключенный просил выписать ему несколько технических книг по строительному делу, заявил о желании перейти на бетонно-растворную площадку и просил разрешения оставаться на работе после смены для того, чтобы иметь возможность «проверить некоторые свои прежние разработки». Такое разрешение было дано, и теперь Свирин день работал в бригаде, а потом дотемна возился с какими-то ящиками, кубиками, растворами. Через полгода его перевели на свободный режим, и тогда уж он совсем день и ночь стал пропадать на бетонно-растворном узле. Однажды его вызвали в комендатуру и сообщили, что получено решение о его досрочном освобождении. Можно собирать вещи. — Спасибо. Но мне надо еще полгода, ну, может, месяца три, — растерянно проговорил Свирин. — И я закончу свою работу. По-моему, у меня кое-что получается. — Нет, товарищ Свирин, на это я не имею права. Вы теперь свободный гражданин. Когда Свирин приехал в Москву, в тресте были озадачены. Люди на площадках были очень нужны. Но как быть с ним? Жить негде, прописки нет, судимость не снята. Однако управляющий, который когда-то беспощадно распекал Свирина, поехал в райисполком, в райком партии, ездил куда-то еще и наконец сообщил Свирину: — Приступайте к работе. Но смотрите — коллектив отвечает за вас. Свирина послали мастером растворного узла, дали маленькую комнату в общежитии треста. О большем он и не мечтал. На следующий же день рано утром был уже на работе. …Каждую ночь до рассвета светился огонек в угловой комнате трестовского общежития. Свирин закончил опыты по армированию бетона и теперь «добивал» диссертацию. О своей бывшей супруге не вспоминал.
Однако она о нем вспомнила. Когда после защиты диссертации в окружении работников кафедры, оппонентов, сослуживцев Свирин выходил из зала, Прасковья подошла к нему и, ослепительно улыбаясь, проговорила: — Поздравляю тебя, Алексей. Я очень-очень рада. Она говорила еще что-то, держала его за руку, а Свирин, с трудом освободившись, постарался поскорее включиться в разговор мужчин, чтобы заглушить, избавиться от досадного, раздражающего чувства, которое оставила в нем эта встреча. …На заседание кафедры инженерно-строительного института Прасковью Сычихину привела жизненная дорожка со всеми ее петлями и заворотами. Мысль о том, что Алексей Свирин, пожалуй, неподходящая ей партия, возникла у Прасковьи довольно давно, еще задолго до тех событий, которые привели Алексея на скамью подсудимых. Да, она явно разочаровалась в нем. Был он робок, осторожен, без какой-либо житейской хватки. Его товарищи по институту явно ошиблись, предсказывая, что Свирин пойдет в гору. Он все прозябал и прозябал в своем маленьком строймонтажном управлении, которое строило какие-то там магазины или химчистки. Может быть, эти мысли долго еще оставались бы лишь смутными, не оформившимися в конкретные действия и поступки, если бы не встреча с Арминаком Васильевичем Грушей. Познакомила их ее подруга Клавдия Гладикова, представив как мага и чародея по части импортного ширпотреба. Прасковью покорили изысканные манеры Груши, огромные, с сияющими камнями запонки в белых обшлагах нейлоновой в полоску сорочки. Арминак Васильевич оказался удивительно приятным собеседником, а его вьющаяся седоватая шевелюра привлекала внимание многих особ женского пола, что дефилировали по узкому проходу между столиками в кафе, где сидели новые знакомые. Все, что требовалось Сычихиной, было обещано. Клавдия Гладикова проворковала: — Раз Арминак обещает, считай, что через несколько дней ты будешь как куколка. — Ой, так скоро не надо. Надо же деньги собрать. — Пустяки, — успокоил ее Груша. — Такие вещи долго не лежат, а деньги дело наживное. — А что это Арминак Васильевич такой грустный? — заинтересованно спросила Сычихина подругу, когда они, расставшись с ним, шли к метро. — Потерял супругу. Потому и переехал из Кишинева в Москву, обменявшись с кем-то комнатами. У него мать здесь еще живет. Но жена есть жена. — Да, не повезло бедняге. Но ничего, я думаю, он у нас в столице быстро утешится. У Сычихиной вскоре появились и модные французские костюмы, и итальянское замшевое пальто, и еще одна нейлоновая шубка. То одна, то другая поездка за покупками по загородным адресам, немногословные переговоры о цене, размерах, фасонах выявили общность интересов, сделали Прасковью и Грушу своими людьми. Арминак Васильевич, ко всему прочему, не скупился на подарки. Через два или три месяца состоялось переселение Арминака Васильевича на Самокатную. Соседка Свириных, молчаливая, хворая старушка, заупрямилась было, но Груша сумел ее быстренько убедить. Теперь Арминак Васильевич и Сычихина жили рядом. Но рядом был и Алексей. Положение было явно двусмысленное. Не раз в разговоре с Арминаком Прасковья высказывала мысль о разводе с Алексеем. Груша, однако, думал иначе: — Не надо спешить. Все решится само собой. — Это как же? — Судя по тому, что я однажды слышал во время вашей баталии, убить он тебя, конечно, не убьет, но в края не столь отдаленные угодит. Предсказание это оказалось пророческим. Меньше чем через год все случилось именно так, как Груша и предсказывал. Теперь жизнь шла так, как того и хотелось Сычихиной. Ей не надо было считать каждый рубль. Арминак был натурой широкой. Модные вещи у нее появлялись теперь не тогда, когда они уже были на каждой третьей москвичке. В гости с Арминаком они ходили, как правило, к известным, а порой даже знаменитым людям. На выходные дни выезжали в Клязьминский пансионат. Где-то на горизонте маячила обещанная поездка по морям и океанам… Вообще Арминак Груша, как в этом убедилась Сычихина, был не чета ее бывшему супругу. На садовом участке сверкали свежими красками и стеклом мансарда и веранда. На Самокатной, во дворе их дома, прямо против окон, вырос гараж из серого силикатного кирпича на десять машин. Организовал этот небольшой «кооперативный альянсик» опять-таки Груша, учитывая, что у него открылась довольно ясная перспектива на «Волгу». Но Арминак Груша явно не спешил с оформлением их отношений: — Успеется. Я обдумаю эту ситуацию. И это серьезно беспокоило Сычихину. Мать Груши, когда приезжала к сыну, смотрела на Прасковью как на какую-нибудь приживалку и хозяйничала в квартире так, будто сама тут обитала всю жизнь. В ответ на жалобы Сычихиной Груша снисходительно пожимал плечами и усмехался: — Не обращай внимания. Отжившее поколение. Всерьез я ее не принимаю. Посмотри-ка лучше, как у нас получается этот угол с камином. Невесть откуда привезенный Грушей камин действительно был необычным сооружением и довольно удачно вписывался в угол передней. Она выглядела теперь уютно и домовито. А бар? Современный, модерновый бар в комнате Арминака был предметом зависти всех гостей. Властная Сычиха незаметно для себя потеряла при Груше главенство в доме и слепо делала то, что тихо, не повышая голоса, велел ее кумир. Вот и эта ее поездка на Рижское взморье была предрешена им заранее. И Прасковье осталось только благодарить своего чуткого и внимательного друга и покровителя. Она безмятежно наслаждалась отдыхом и ждала приезда Груши, когда пришло письмо от Клавдии Гладиковой. Клавдия писала о каких-то подозрительных в ее понимании явлениях, которые творятся в квартире на Самокатной. Она видела, как две женщины разгружали какие-то вещи, вокруг бегал Арминак и два замурзанных пацана. Подруга уже знала, конечно, в чем дело, она просто готовила Сычихину к грядущим событиям. Но та и без подробного описания поняла все и, подхватив свои курортные пожитки, ринулась в Москву. На пороге квартиры ее встретила высокая, полногрудая женщина в широком цветастом халате, с чалмой из полотенца на голове: — А, соседка, здравствуйте, здравствуйте. Из комнаты Арминака выскочили двое мальчишек, вопрошающе смотрели на гостью. Вышел и сам Груша, дожевывая что-то. Сычиху приветствовал, словно изредка встречавшуюся соседку с лестничной площадки: — Прасковья Сергеевна? Вернулись? Так быстро? Ай-ай. Зачем же пренебрегать милостями природы? Улучив удобный момент, когда она застала на кухне Арминака одного, голосом, прерывающимся от злобы и негодования, Прасковья потребовала объяснений. — А чего я, собственно, должен объяснять? Разве что-то неясно? — Значит, значит, эта хивря — твоя жена? И ты скрывал, что женатый? — А ты меня об этом и не спрашивала. И потом, мы в одинаковом положении: ты — замужняя, я — женатый. — Но ведь ты говорил, что… похоронил ее. — Да-да. В мыслях. В мыслях похоронил. В связи с житейскими конфликтами, но, как видите, все возродилось… — Ты жулик, проходимец… А я-то, дура, поверила… — Зря поверила. На мужчин полагаться нельзя, — раздался мощный басовитый голос супруги Груши. Она стояла в дверях кухни, мощная, непреодолимая. — Шума поднимать не советуем. Потому как и мы сами, — она прочистила горло и буквально рявкнула, — и сами шуметь умеем. И за себя постоим. Я полностью в курсе дела. Чужого нам не надо, но и своего не упустим… Сычихина поспешно ретировалась в свою комнату. А наутро бросилась в домоуправление, к юристу, в милицию, к прокурору. Вечером Груша ей внушал: — Ну что ты по инстанциям бегаешь? У меня же и площадь, и прописка по обменному ордеру. Из Москвы четверо уехали, четверо и приехали. Так что все вполне законно. А вот ты? Это еще вопрос. Комната у тебя двадцать метров! А полагается? Вот муж вернется и в суд подаст. Делить придется комнату-то. — Но ты же сам говорил, что он право на нее потерял. — Потерял, это верно. А если, допустим, амнистию ему дадут? Или общественность просить будет? Могут пойти навстречу. Не, тебе единственно верный путь переехать в комнату моей мамаши. Скоро Сычиха убедилась, что жить ей здесь все равно нельзя. Дети оказались на редкость шумными и необузданными. От их игр и драк в квартире стояла столбом пыль, от визга и крика звенели барабанные перепонки. А из комнаты супругов неслось то сахарное воркование, то рев двух зверей, оказавшихся в одной берлоге. Через месяц в квартиру Свириных уже въезжала мамаша Груши. Вслед за ней сюда перекочевали десятки ящиков, чемоданов, какие-то пузатые шкафчики, этажерки и прочие атрибуты быта. Поглядев на все это, Сычиха злорадно усмехнулась: — Удивительно тонко все это будет сочетаться с модерновым баром и камином. — Это ее немного утешило. И тут она подвела итог: свою чудесную комнату потеряла, садовый участок, пожалуй, тоже, хотя юрист и советует попытаться его отсудить. И как она тогда согласилась переоформить его на имя Груши? Но если даже участок отсудят ей, то стоимость мансарды и веранды надо будет компенсировать. А из каких источников? Денег осталось всего ничего… Надо было опять идти работать. Куда? Мысли у Сычихи были одна мрачней другой, И видимо, именно под их тяжестью она заболела и слегла в постель. Соседи вызвали врачей. Те долго осматривали больную, о чем-то советовались вполголоса между собой, затем один из них сказал: — Страшного ничего нет. Нужен покой, щадящий режим. У вас коронарная недостаточность, аритмия. Пройдет, если побережете себя и поможете организму. Сычиха стала хлопотать о пенсии. В районе, просмотрев ее бумаги, сказали: непрерывный трудовой стаж очень мал, на инвалидность переводить пока причины нет. «Работайте, там видно будет…» Как-то, рассеянно просматривая «Вечернюю Москву», Сычихина вдруг вскочила со стула. Ей на глаза попалось объявление о защите диссертации инженером Свириным А. М. Где находился ее супруг и что с ним стало за эти годы, она не знала, но почему-то была уверена, что это он. Она позвонила в институт. Да, подтвердили там, диссертацию будет защищать Алексей Михайлович Свирин. «Смотрите-ка, — думала она, — выплыл. И даже кандидатом будет. А ведь он любил меня, очень любил. Нет, надо обязательно с ним увидеться…» Накануне заседания ученого совета Сычихина сходила в парикмахерскую, завилась и подкрасилась, надела самый нарядный костюм, белые, на широком каблуке туфли. Придирчиво оглядела себя и нашла, что выглядит элегантно. Но все это оказалось лишним. Свирин даже внимания не обратил на ее вид и явно тяготился ее присутствием, когда она поймала его по выходе из зала. Ее красоту и обаяние унесло время, а душу Сычихиной Свирин знал очень хорошо. Его холодность, однако, не обескуражила Сычихину. На второй или третий день она появилась у Свирина на работе. Увидев ее сквозь окно своей конторы, Алексей удивился, и какая-то неосознанная тревога, предчувствие неприятностей сжали сердце. Он вполне обоснованно предположил, что эти встречи и посещения, конечно, не случайны. Надо было, не откладывая, выяснить, чего же Сычиха домогается. И когда она показалась в дверях конторы, Алексей пригласил ее в комнату и, указав на табурет около стола, спросил: — Ты чего ходишь за мной, Прасковья? Есть какие-нибудь вопросы? Сычихина распахнула в удивлении черные ресницы своих все еще сине-бездонных глаз и, кокетливо улыбаясь, ответила вопросом на вопрос: — А ты не рад этой встрече? — Я хочу знать, чего ты хочешь. — Фу, какой официальный тон! Алексей, неужели ты не можешь иначе? Ведь мы все-таки не чужие. — Чужие, совершенно чужие, — поспешил уточнить Свирин и добавил: — Если есть что сказать — говори. Если нет — до свидания. И кончим на этом. — Ну, Алексей, не надо так со мной. Неужели у тебя ничто не шевельнулось в душе, когда ты меня увидел? А я вот ужасно терзаюсь, нещадно кляну себя за все, что произошло. Ну, виновата, виновата. Ошиблась. Так ведь, наверное, и ты не святой. Забудем все и простим. Ведь мы любили друг друга. Переезжай ко мне. А потом и квартиру выбьем. Перед взором Свирина, как на стремительно прокрученной ленте, пронеслись картины из той, прежней их жизни. Скандалы, суд, ее письмо… И ему захотелось, чтобы она сейчас же, немедленно исчезла и не попадалась ему на глаза никогда! С трудом сдерживая гнев, Алексей выдавил из себя: — Очень прошу вас: уходите. Нам не о чем разговаривать. Не о чем. Поймите это. Сычихина встала. В злом прищуре глаз мелькнули зеленые огоньки, и уже от порога она бросила: — А все-таки подумай, Алексей. Как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры. Что она хотела этим сказать, выяснилось на следующий же день. Придя с работы, Свирин увидел на тумбочке письмо. Сычихина без обиняков излагала свою программу: он должен вернуться к ней. Они теперь с учетом опыта и ошибок заживут по-настоящему. Если же Свирин отвергнет этот ее крик души и сердца, то пусть пеняет на себя… Свирин долго вертел в руках серый, исписанный небрежным почерком листок и брезгливо бросил его на тумбочку. Ночь прошла без сна. Утром, не заходя на стройплощадку, он поехал к управляющему трестом, показал ему цидульку Сычихиной. Тот признался, что в таких делах он не силен, и повел его к секретарю партийной организации. Тот прочел письмо, потом попросил Свирина рассказать «самую суть» и резюмировал так: про заключение — знаем. За что — тоже знаем. Диссертация? Ну, тут уж дело совсем ясное. Мнение ученого совета единое: разработки Свирина — ценные. Да это и на практике видно… Так что угроз Сычихиной опасаться нечего.
Сычихина больше к Свирину не приходила. Однако прокуратура города получила пространное заявление «от группы жильцов» дома, где когда-то проживал Свирин. «Жильцы» писали о его незаконной прописке после отбытия наказания за тяжкое преступление. Началась проверка. И не успело закончиться это дело, Свирина вызвали в Министерство высшего образования. Оказалось, что там тоже «сигнал». Только что вернувшийся из заключения, незаконно прописанный в Москве некто Свирин защитил диссертацию. Куда смотрят руководящие организации? Принимавший его работник аттестационной комиссии беседовал недоверчиво и холодно: — Как же это, батенька? Нехорошо. Это «нехорошо» так и повисло над Свириным. Диссертация перекочевала в шкаф «неутвержденных». Но и на этом, однако, Сычихина успокаиваться явно не собиралась. Свирину принесли… повестку в суд «по поводу иска бывшей супруги на ее содержание в связи с ее неспособностью к труду». И суд неожиданно решил: высчитать энную сумму из заработной платы гражданина Свирина в пользу его бывшей супруги Сычихиной. Как Алексей ни доказывал, что это нелогично и незаконно, — не помогло. У судьи была своя логика. — Вы были в супружестве? — Были. Но ведь она сама расторгла брак. — Но тем не менее вы можете и обязаны помочь ей. Все-таки бывшая жена. Потом, надо иметь и сознательность, гражданин Свирин. Свирин подает кассацию. Городской суд отменяет приговор народного суда и передает дело на новое рассмотрение. Суд собирается в новом составе и оставляет просьбу Сычихиной без удовлетворения. Тогда подает кассацию она. Дело супругов Свириных разбирается уже в суде соседнего района, чтобы исключить какую-либо необъективность. И этот суд не находит оснований к удовлетворению сыхичинского иска. Она, разумеется, недовольна этим и вновь идет в городской суд. Дело рассматривается, и принимается единственно разумное решение: в иске гражданке Сычихиной отказать… Но Сычиха не сдается. Ее заявления идут во всевозможные адреса. Дело рассматривает высшая судебная инстанция. Сычихина понимала, что это решение будет окончательным. Вот почему она волновалась, ожидая выхода судей. Ведь под угрозой был тщательно продуманный ею план возвращения Свирина. Если он не осуществится, что же ей делать? Тянуть эти хлопотные обязанности диспетчера в ЖЭКе? А жить еще хочется легко, бездумно. «Ну нет, не может быть, чтобы наши советские законы так отнеслись к беззащитной женщине!» — в озлоблении думает Сычихина. Она увидела, как в зал вошел Свирин и сел на свое место. Он уже привык и к судебным заседаниям, и к перерывам между ними, привык терпеливо ожидать приговора. Выводила его из себя только Сычиха. При виде ее у него вдруг появлялась какая-то дурнота, она подступала к горлу, в нервном тике начинала дергаться то левая, то правая бровь. Вот и сейчас, как только Свирин увидел Сычихину, его забила мелкая дрожь. Он, однако, взял себя в руки и спросил: — Кончится когда-нибудь это или нет? — Давай решим миром, тогда все кончится. Высшая судебная инстанция подтвердила ранее вынесенные решения и признала «иск гражданки Сычихиной к гражданину Свирину необоснованным и удовлетворению не подлежащим». После оглашения приговора председательствующий обратился к Сычихиной с небольшой речью: — Поймите наконец, гражданка Сычихина, что вы требуете невозможного, незаконного. Ваши претензии к гражданину Свирину ничем не обоснованы. — Но позвольте, товарищ председатель, — вскинулась Сычихина, — а как же я? Как мне жить? — Своим трудом. Только своим. — И вы думаете, я соглашусь с вашим решением? Да ни в жизнь. Я дальше пойду. В правительство. В Верховный Совет… Все, кто был в суде, возмущенно, с осуждением смотрели на эту женщину, которая то плакала, то злобно грозила всем, а после своих выкриков кончиками платка вытирала глаза, боясь смазать обильную краску с ресниц. Все понимали, что да, такая действительно не остановится, будет писать дальше и дальше, будет вновь трепать нервы Алексею Свирину, имевшему когда-то несчастье полюбить ее. Но все знали и другое — результат ее домогательств будет тот же. Ибо наши законы одинаково оберегают права любого из граждан. Ошибка может быть прощена и забыта, но подлость и низость не забываются и не прощаются ни обществом, ни людьми, пусть когда-то и близкими.
Быль
Внезапный уход из жизни инженера Василия Орехова был столь невероятен, что известие о его самоубийстве вызвало полное недоумение у сослуживцев, повергло в смятение друзей, неизбывным горем, словно каменной плитой, придавило отца и мать. Записка, оставленная Ореховым, была предельно лаконична: «Не могу больше… Сердце рвется на части. Простите меня, мама, отец и ты, Лена…» И постскриптум: «В смерти моей прошу никого не винить…» Смерть любого человека, как бы она ни произошла — событие в нашей стране чрезвычайное, и советские законы требуют тщательнейшей проверки обстоятельств и причин, приведших к такому исходу. Следователь городской прокуратуры советник юстиции Сергей Решетников уже несколько дней занимался трагедией, случившейся в семье Ореховых, но ясности все не было, причины, толкнувшие Василия на самоубийство, пока были неизвестны. В конструкторском бюро, где работал Орехов, его характеризовали как человека спокойного, уравновешенного. Дело свое знал и любил, был хорошим специалистом. О его личной жизни сослуживцам мало что было известно. Вспоминали лишь, как он удивил их своей женитьбой. Все ходил в холостяках, терпеливо, с виноватой улыбкой сносил шутки по этому поводу, а тут поехал на курорт и привез жену. Пошутили по этому поводу, упрекая Орехова за то, что лишил сослуживцев возможности погулять на его свадьбе, но… кончался квартал, дел было много, и скоро его промашку забыли. Через некоторое время сотрудники, работавшие с Ореховым в секторе автоматики и общавшиеся с ним поближе, стали замечать, какую-то его удрученность, подавленное настроение, но причин не знали. Сам он ничего не рассказывал, а расспрашивать… Мало ли бывает поводов для подавленного настроения, И неизвестно, станет ли человеку легче, если посторонние будут докучать ему своими расспросами. Решетников понимал, что беседовать с близкими погибшего, когда так нестерпимо остра боль понесенной утраты, — значит еще раз разбередить свежую рану. И все же он был вынужден идти на эти встречи, ибо вопросы, поставленные Василием Ореховым своим уходом из жизни, требовали ответа. Отец, Михаил Сергеевич Орехов — массивный, неторопливый человек с ежиком седых, коротко подстриженных волос и хмурым взглядом — ответил после недлительного раздумья: — Как жили? Да как многие живут. У старых и молодых все по-разному. Но скандалов не затевали. Его словам вторила и вдова Василия — Елена Орехова: — Особой теплоты не было, но и не враждовали. Ведь жили-то мы отдельно от родителей, так что поводов для конфликтов не было. И старшие Ореховы и Елена на контакты со следователем шли неохотно, говорили скупо. Просили об одном — оставить их в покое. «Васю нам вы все равно не вернете, а эти допросы и расспросы только ворошат наше горе». Объяснить причины смерти сына и мужа не могли. Решетникову было известно, что трагедия произошла вскоре после традиционного семейного торжества Ореховых — дня рождения главы семьи Михаила Сергеевича. В ответ на вопросы, как прошло это событие, Михаил Сергеевич ответил все так же скупо и сумрачно: — Ну как? Скромно, по-домашнему. Пирогов жена напекла, друзья давние пришли. Когда человеку шестьдесят пять — не до балов, знаете ли… — А как Василий? Как вел себя, как держался? Ничего странного вы в нем тогда не заметили? — Нет, ничего. Елена на этот вопрос ответила еще более скупо, неохотно: — Сами знаете, как проходят такие торжества в семейном кругу. Решетников был, в сущности, в тупике, что нередко бывает в следственной практике. Он чувствовал, что причина трагедии Орехова кроется где-то в его личных, семейных делах. Но это была лишь интуиция, фактов же, сколько-нибудь конкретных доказательств этих предположений не было ни одного. Решетников стал расширять круг поисков, устанавливать друзей, более или менее близких знакомых Орехова. По институту, по дому, где жил до женитьбы, по его увлечениям. В Союзе охотников дали справку: да, Орехов член союза, недавно брал путевку в Клинцы на Московское море. На двоих — фамилия напарника Касьянов, работник седьмого автокомбината. Владимир Касьянов, энергичный, патлатый парень, с ходу, лишь переступив порог кабинета Решетникова, зачастил: — Я, видимо, вызван в связи с делом Орехова? Правильно я понимаю? — Правильно, правильно. — А что случилось? Почему он учудил эту глупость? — Вот это я и стараюсь выяснить. Потому и вас пригласил. — Ну, я-то мало чем помогу. — Вы с Ореховым хорошо были знакомы? — Да как вам сказать. Охотники. Встречаемся редко — в августе на уточек да зимой на кабанчика сходишь. И все. Но люди подбираются обычно стоящие. Ведь понимаете, охота — это дело тонкое… Касьянов, видимо, любил охоту и подготовился всласть поговорить на эту тему, но Решетников остановил его: — Вы расскажите о вашей последней охоте с Ореховым. Касьянов задумался и, посерьезнев, заговорил: — А ведь, пожалуй, действительно есть что рассказать. И возможно даже, это вам будет небезынтересно. Был он какой-то странный. Знаете, когда мужчины полгода не видятся, у всех радость от встречи. Новостями делятся, угощают друг друга кто чем может, охотничьими покупками хвастаются. А Василий сидел молча, ни с кем ни слова. Мы не очень докучали ему, может, думаем, забота какая гложет. А когда выехали на охоту, он меня совсем удивил. Шалаши нам достались по соседству. И представьте, утка на него так и прет, ну прямо-таки чуть на голову не садится, а он молчок, ни одного выстрела. Я думаю: уснул, может? Крикнул ему. Нет, не спит. Пострелял потом малость, но так, видно, без азарта. На обратном пути спрашиваю его: что, мол, с тобой, будто сам не свой. Болен, что ли? Утки-то прямо же на тебя пикировали. Вздохнул он и отвечает: «Дома у меня, Касьяныч, плохо. Так плохо, что хоть в петлю лезь». Пока мы до базы-то плыли, порассказал он мне свою эпопею. Подробно рассказал. Посочувствовал я ему, но и отматюгал основательно за то, что такой рохля, что себя в половую тряпку превратил. На базе отошел он немного, малость повеселел. Вторую зорьку ничего, стрелял справно. По пути в Москву опять у нас тот разговор затеялся. Опять поругал я его. Советовал вскрылиться, не давать себе на ноги-то наступать. Когда прощались у метро, я спросил: — Ну, когда в следующий раз соберемся? Он ответил как-то вяло, неопределенно. Его мысли, видимо, опять были поглощены домашними делами. И когда я узнал о случившемся, сразу подумал: укатали сивку крутые горки. — Один только вопрос к вам, Касьянов. Вы точно запомнили рассказ Орехова? Он говорил, что на дне рождения Михаила Сергеевича не было Елены? — Говорил и не раз. Это его почему-то особенно удручало. Решетников не задавал больше вопросов Касьянову. Его рассказ и так был достаточно подробен и очень многое прояснил. То, что Елена не была на торжестве у стариков Ореховых, было совершенно новое обстоятельство. Не столь уж оно важное, казалось бы, но почему-то именно его так тщательно обходили и старшие Ореховы, и их невестка. Решетников нещадно ругал себя за то, что не обратил внимания на эту деталь раньше, не разобрался, что за ней кроется. Если невестка не была в доме родителей мужа даже по такому случаю, то как это вяжется с утверждением, что родственные взаимоотношения были обычными, нормальными, как у всех? Елена Орехова стояла на своем, хотя Решетников видел, что говорит она неправду. Стариков он решил по этому поводу не трогать, чтобы не ставить в неловкое положение. Свет на эту загадку пролила Ирина Щагина — подруга Елены Ореховой, что жила неподалеку. Ирина оказалась довольно бойкой, словоохотливой девицей, имела склонность к решительным, безапелляционным суждениям, знала все новости не только своего микрорайона, но и близлежащих к нему. На случай у Ореховых имела свой и тоже довольно уверенный взгляд. — Комплексы, неврастения, эмоциональные перегрузки. Издержки века, знаете ли. Решетников спорить не стал, но попросил вспомнить в деталях день и вечер десятого августа. — Десятого? Это что же у нас было? Суббота? Да, суббота. Ну, днем я работала. Выходные у нас скользящие. А вечером? Вечером в эстрадном театре, на концерте. Музыка — моя страсть. — Вы знаете, нас интересует истина. А вы… вы фантазируете. — Я говорю правду. — Нет, правду вы не говорите. Вы ездили с Еленой Ореховой в Люберцы? — Значит, вы об этом уже знаете? Тогда, конечно, темнить глупо. Извините, ложь вынужденная. Я дала слово. Ездили мы в Люберцы, ездили. Портниха у нас там, некая Валька, отличная мастерица, но страшная обманщица. Всю душу вымотает, пока что-нибудь сошьет. Но шьет отлично. Так вот, съездили мы к ней, я на примерку, а Ленка за готовым костюмом. Вечером вернулись. Я удивилась тогда, что Елена не пошла к старикам. Журила ее. Такие обостренные отношения не по мне. Я вот тоже живу отдельно от предков. Но мы общаемся. Не часто, чтобы не надоедать друг другу, но общаемся. У них же — у Ореховых — все наоборот. Я говорила ей: заскочи на полчаса, чего тебе стоит? Она и слышать не хотела. Ничего, говорит, перебьются. А потом и совсем меня оглушила. Знаешь, говорит, я вообще ухожу от Василия. Сначала я не поверила, за шутку приняла. Однако вижу, она всерьез. В Сочи, говорит, улетаю. Вижу, с ума сходит моя Ленка. Взялась я за нее по-серьезному, но все без толку. На своем стоит. Она такая, решит что — не переломишь. Я, говорит, его проучу, пусть поймет, он ведь знал мои условия… — Может, у нее был кто-то другой? Согласитесь, такое поведение для замужней женщины по меньшей мере странно. — Мужиков-то увивалось около Ленки немало. Женщина она заметная. Но чтобы кто-то еще у нее был — не думаю. Не знаю этого. Капризная она, своевольная. Любит, чтобы всегда и все под ее дудку плясали. А насчет мужчин — нет, без разбору не бросится. Да и любила она Василия-то. И мучила, и любила. Такие случаи не редки. Людская душа — потемки. По уходе Щагиной Решетников долго сидел задумавшись. Действительно, чужая душа — потемки, а женская — ночь непроглядная. Что было нужно Елене Ореховой? Чего она, добивалась? И в какой связи находятся эти ее экстравагантные поступки с роковым решением мужа? И какова роль родителей Орехова в этой трагической истории? Понадобилась не одна встреча и с Ореховыми, и со многими другими людьми, прежде чем картина жизни и гибели Василия Орехова стала предельно ясной и легла в скупые строчки официального следственного заключения по делу.Василий Орехов рос единственным сыном в семье, родители до безумия были рады позднему ребенку и от самого рождения до последних его дней дрожали над ним, в нем и только в нем видели смысл своей жизни, оберегали от всего, ублажали всем. И только благодаря тому, что в школе, где учился Василий, оказались хорошие учителя и сверстники, он не вырос пустым баловнем — учился сносно, школу и затем технический вуз закончил. Правда, оранжерейная жизнь под неослабным оком родителей сказалась на характере парня. Вырос он в сущности «мимозой», без личных практических навыков, совершенно неподготовленным даже к малым житейским бурям. Пуще всего родители оберегали его от соблазнов любви. Они тщательно сортировали школьных и институтских приятельниц Василия, исподволь, но настойчиво, изо дня в день подмечали те или иные их недостатки и внушали, внушали сыну одну мысль: не женись рано, все это пока не то, совсем не то. Ты еще встретишь на своем пути куда более интересных, умных, красивых девушек. Все придет в свое время. В сущности Ореховы ничего не имели против этих девушек, что забегали накоротке к Василию, с которыми он ходил в кино или на лыжныепрогулки. Просто в их представлении он все еще был мальчиком, и одна мысль, что он будет привязан к кому-нибудь другому, а то, не дай бог, вообще уйдет из дома, бросала их и в жар, и в холод, приводила в отчаяние. Василия пока эти страхи лишь забавляли. До сих пор ему нетрудно было выбирать между легкой юношеской увлеченностью и упреждающими родительскими советами. Но вот и школа и институт уже позади. И трудовая деятельность началась, и возраст уже перевалил за четверть века, а у родителей Вася все ходит еще в юношах, они все еще берегут его от соблазнов жизни. И знай бы Михаил Сергеевич, предугадай он события заранее, не доставал бы сыну путевку в санаторий на Кавказское побережье Черного моря. …Василий увидел ее в кабинете врача на ознакомительном приеме. Карие озорные глаза, смуглое, загорелое лицо, накрахмаленный халатик, игриво повязанная косынка на каштановом тюрбане волос. Она вышла вслед за ним в коридор и простецки спросила: — Ты чего на меня так зыркал глазами? — А что? Нельзя? — Можно. Но не советую. — Почему? — Я трудная. — Да? Это очень хорошо. Мне давно недоставало трудностей. Так они познакомились. Василий теперь неотлучно дежурил где-нибудь поблизости от врачебных кабинетов, когда Лена была на дежурстве, кружился вокруг ее дома, когда она была свободной от смены: неотлучно сопровождал ее и к морю, и на танцы, и на любую прогулку. Час, проведенный без Лены, казался Василию вечностью, а мир выглядел в самых серых и невыносимо скучных тонах. Ему нравилось в ней все — лицо, глаза, фигура, громкий заливистый смех, каждое слово казалось верхом мудрости, каждая шутка или шалость были полны какого-то особого смысла. Жизнь Лены Зажигиной сложилась далеко не так, как у Василия. Она выросла и все свои двадцать пять лет прожила на юге, около санатория, где работала врачом ее мать. У матери не сложилась семейная жизнь, муж ушел через год их совместной жизни. Вторая и третья попытки создать семью кончились тем же, и Зажигина-старшая подалась с юга куда-то в другие места искать свое счастье, оставив дочь на попечение своей старухи матери. Лену, однако, вырастила не столько бабушка, сколько сердобольные подруги матери — сотрудницы санатория. Ей не пришлось расти впроголодь, вое ей старались помочь, чем могли, но сознание того, что ее бросили, что она как бы обсевок в ноле, осталось в сердце постоянной саднящей болью. Замкнутость характера, диковатая резкость во взаимоотношениях с людьми, повышенная склонность к самозащите, обереганию своего собственного внутреннего мирка стали свойствами ее натуры. А взгляды на жизнь, на жизненные стежки-дорожки в немалой степени формировались той атмосферой праздничности, что неизбежно сопутствует любому месту, куда приезжают люди на отдых. Встреть Лена не только любовь Василия, а и глубокую родительскую теплоту его отца и матери, возможно, оттаяло, смягчилось бы ее сердце и нашли бы Ореховы не только сноху, а еще одно любящее их существо. Однако сложилось все иначе. Через две недели после отъезда сына в санаторий Ореховы получили от него пространное, восторженное письмо. Оно было о ней и только о ней. Задыхаясь от обуревавших его чувств, Василий рисовал образ любимой — как она ходит, как говорит, смеется, одевается. В конце письма он сообщил, что вернется в Москву вместе с ней, Леной. Из пяти страниц убористого текста Ореховы поняли только эти строчки. Их сын безрассудно, опрометчиво, по-мальчишески увлекся какой-то там никому не известной особой. Ответное письмо родителей было сухим и гневным. Они писали, что потрясены легкомыслием сына, его несерьезностью и безответственностью. Да разве хоть один нормальный человек принимает всерьез санаторные увлечения? Настойчиво требовали, чтобы Василий выбросил из головы свои глупые, нелепые мысли и не строил каких-то там серьезных планов со своей санаторной Джульеттой. Требовали, чтобы все с ней было прекращено и притом незамедлительно. В конце письма родители недвусмысленно предупреждали, что если он ослушается, то пусть не рассчитывает на их снисходительность. В дом эту санаторную потаскушку они не пустят. Василий знал, что испуг, удивление родителей неизбежны. Но что он получит такую отповедь — не ожидал. Он читал и перечитывал письмо несколько раз в надежде найти хоть какую-то обнадеживающую мысль, какое-то понимание его сердечного и такого искреннего порыва. Нет, ничего этого не было. Прочтя письмо, он опустился на кровать и долго сидел опустошенный и обескураженный. «Что это с ними? — думал он. — Отчего столько гнева, ругани? И даже угроз. Не мальчик же я в конце концов, не дитя малое». Ему пришла в голову мысль, что не поняли его старики, не разобрались, как это серьезно у него. «Я же не могу, не могу без Лены». Василий ринулся в центральный вестибюль санатория к телефону. Через несколько минут после его ухода в комнату зашла Лена. Они собирались в городской парк, и, как было условлено, она зашла за ним. Письмо лежало открытым на столе, и Лена ревниво подумала: наверное, от какой-нибудь москвички. Пробежала первые строчки: «Дорогой сынок…» Поняла, что это именно то письмо от родителей, которого с нетерпением ждал Василий. Она поразмыслила немного, но, не предвидя тех страшных мыслей, что были заложены в крупных размашистых строчках Орехова-старшего, начала читать. И прочла до последнего слова, не отрываясь. Скоро вернулся Василий. По ее суженным глазам, по бледному лицу он понял, что письмо прочитано. — В крепкой узде тебя держат предки. Лихие старики. Скорые. Вот и меня уже в потаскухи произвели. Спасибо. Василий не отошел еще от нервного, напряженного разговора с отцом, и потому до него не сразу дошел смысл сказанного Леной. — Не обращай внимания, — махнул он рукой. — Старики есть старики. — Ну нет, я смотрю на это иначе. Я эти их слова запомню. На всю жизнь запомню. — Ну зачем же возводить все в степень. Чепуха все это. — Если такое… ты считаешь чепухой, то мы очень, очень разные люди. — И Лена, не говоря больше ни слова, стремительно встала и, резко хлопнув дверью, вышла из комнаты. Василий всерьез, в полную силу неистраченного чувства увлекся Леной, и поэтому все, что было, кроме этого чувства, в том числе и явная ссора с родителями, казалось чем-то мало существенным, второстепенным. Он бросился вслед за Леной. Нашел ее в сквере. Лена сидела на скамейке колючая, непримиримая. Василий сел рядом, взял было девушку за руку. Она отчужденно отодвинулась. — Ну что ты, Ленок, так на все реагируешь? В конце концов при чем тут старики? Важно, что я тебя люблю и ты меня любишь. Остальное неважно. — Он говорил это, искренне убежденный, что все так и будет. Это был важный, решающий разговор, закончился он объятиями, поцелуями, клятвами быть всегда вместе. Сознание того, что Лена любит его, окрашивало мир Василия в радужные тона, глушило тревогу, помогало не так остро и болезненно ощущать ссору с домашними. И даже условие, что поставила Лена в итоге этого разговора на скамейке, — никогда и ни при каких условиях она не будет общаться с его стариками, — не вызвало у него сколько-нибудь осознанного протеста. Он попросту не придал этим словам серьезного значения. Правда, — его несколько удивила злая непримиримость Лены, ее расчетливая деловитость при обсуждении того, как они будут жить дальше, но он постарался не задумываться и над этим. Мысль спасительная, успокаивающая, что все так или иначе наладится и утрясется, бодрила его, не давала впасть в уныние, глушила тревогу и беспокойство, что жили в глубине души. По своей житейской неопытности Василий не смог хорошо распознать Лену. Плохо знал и своих чадолюбивых родителей. Его спасительное убеждение, что «все наладится и утрясется», как оказалось, было построено лишь на его горячем желании такого исхода, но отнюдь не на реальной оценке того, что произошло. Отсутствие собственного жизненного опыта, жизнь по готовым рецептам, на шелковом поводке у кого бы ни было, всегда мстит за себя. …Всю дорогу до Москвы Василий убеждал Лену, что они должны непременно поехать прямо к нему домой. «Ну пошуршат малость старики, этим все и кончится». Лена, однако, ничего не хотела слышать. В Москве у нее жила подруга, и она настояла, чтобы Василий отвез ее к ней. — С твоими предками встречаться не буду. Не знаю их и знать не хочу. Я ведь предупреждала. Василию ничего не оставалось, как отвезти Лену к подруге. Разговор с родителями был не менее тяжелым и удручающим. Начался он сразу же, как только Василий появился в доме. — Мы тебя не встречали, как ты сам пожелал этого. Но ведь поезд пришел уже четыре часа назад. Что так долго добирался? — Пока довез Лену до подруги, пока устроил ее. — Значит, ты все-таки привез ее? — Мы решили пожениться. Отец отложил газету, позвал из кухни хлопотавшую над обедом мать. — Послушай, что говорит твой недоносок. Свою потаскуху он, оказывается, в Москву привез. И даже жениться надумал. Василий в умоляющем жесте поднял руки, хотел остановить эти тяжелые, унизительные слова, но не успел. Мать, как стояла у косяка двери, так тут же и опустилась на пол. Сын бросился к ней, усадил на диван. И начались истерические слезы матери, гневные, оскорбительные выкрики отца. Длилось все это до самого вечера. Василий пытался успокоить разошедшихся родителей, умолял выслушать его. Но гнев обоих был столь велик, что слова пропадали впустую. Наконец мать, устав от слез и криков, проговорила: — Ты хоть показал бы ее, эту свою… Отец, однако, тут же отверг эту мысль безапелляционно и категорически: — Еще чего… Додумалась. Тоже мне, ума палата. Ни видеть, ни слышать ее не хочу. Василий нервно, в тон ответил ему: — Не беспокойтесь, отец. Она здесь не появится. Она тоже не хочет вас видеть. — Даже так? Это почему же? — Прочла ваше письмо. Ну а в выражениях там вы не стеснялись. — Ну вот, Ольга Васильевна. Слушай своего сыночка. Хорошую жар-птицу подыскал он. Спасибо, сын. Обрадовал на старости лет. Спасибо. Ну так вот мой окончательный сказ: ноги ее тут не будет. А коль она тебе дороже нас, то можешь отправляться к ней хоть сейчас же. Но дорогу сюда забудь. Василий огромным усилием воли сдерживал себя, вновь и вновь старался как-то урезонить разбушевавшихся стариков. Говорил о том, что Лена отличная, порядочная девушка, что он любит ее, безмерно любит, что их решение о женитьбе твердое, что в конце концов ему ведь жить с Леной, а не им. Но ни один его довод, ни одна мысль, ни одно слово не доходили до сознания взвинченных, ослепленных своей обидой людей. В полном отчаянии Василий, собрав кое-какие свои вещи, ушел в тот вечер из дома. Лена по его виду поняла, что у него произошло дома, и с усмешкой проговорила: — Не терзайся и не мучайся. Все это к лучшему. А если ты совсем без них, без своих поводырей, не можешь, то я тебя не задерживаю. И претензий не имею. Василий с болью посмотрел на Лену: — Что вы кидаетесь мной, как футбольным мячом? Ну зачем и ты так, Лена? — Я хочу, чтобы все у нас было ясно с самого начала. …У родителей Василий появился только через два месяца. Мать сразу засуетилась на кухне, чтобы угостить сына, отец же, не ответив на его приветствие, продолжал сидеть у телевизора. Потом, пересилив себя, спросил: — Ну как жизнь молодая? — Ничего, живем. — Видимо, хорошо живется, коль за два месяца не умудрился родителей навестить. Василий молчал. Да и что он мог сказать? Если бы знали они, как жил он эти два месяца, каких мук они ему стоили. Он был искренне и глубоко привязан к ним — к своим старикам, любил их. Любил этот дом, эту свою комнату, где вырос, где все еще на своих местах лежали свидетели и спутники его детства, его юности и эти вот игрушки — целый набор автомобилей, этот фотоуголок, железная пружинная кровать, где он столько ночей провел за любимыми книжками. Не знали старики, как мучился он все это время, как с раскрытыми глазами лежал он целые ночи напролет, как ходил длинными вечерами вокруг этого дома, не решаясь войти, желая этого и боясь криков, шума, ругани. Как выспрашивал знакомую соседку о их житье-бытье. Как ежедневно терпеливо и настойчиво убеждал Елену пойти вместе к старикам и все уладить. Он был убежден, что приди Лена в дом — мать наверняка бы поняла сына. Да и отец постепенно оттаял бы, сменил гнев на милость. Но Лена была непреклонна. — Встречаться с ними я не буду. Давно ведь у нас это обговорено. А ты навести. Надо с квартирой решать. Пусть выделяют нам две комнаты для обмена. Сами могут и в одной остаться. Не так уж много им скрипеть осталось. Василий поморщился, просительно проговорил: — Не надо так. Очень прошу. — А что я сказала такого? Все нормально. Квартира нам нужна? Нужна. Хозяйка скоро возвращаемся, не забывай этого. — Давай переедем к моим. Говорю же тебе — гроза миновала. Убежден, что в конце концов ты им даже понравишься. — А я не нуждаюсь в этом. Мне они до лампочки. Жить в одной квартире с этими динозаврами? Да ни за какие коврижки. Горшки за ними выносить — нет уж, избавьте. — Ну пока до этого дойдет, они нам нужнее будут, чем мы им. Вот дети пойдут… — А кто тебе сказал, что они пойдут? Пока я этим золотом обзаводиться не собираюсь. — Ну а как же? — А вот так, дорогой муженек. Рано нам об этом думать. Надо для себя пока пожить. С квартирой же решай. И Василий вновь появился у родителей. На этот раз встреча прошла спокойнее. Даже Михаил Сергеевич задал какие-то два-три вопроса, поинтересовался новостями в КБ, где работал сын, посетовал, что стали беспокоить ранения — часто болит голова, поясница. И самое главное — разговор о квартире, которого Василий опасался более всего, получился неожиданно спокойным, деловым. Мать, правда, всплеснув руками, запричитала: — Да зачем делить-то, зачем? Так вы с отцом устроили все, так все оборудовали. Терем, а не квартира. Переезжайте сюда, чего уж там. И ты, отец, не возражай и не гневайся. Что же теперь делать? Может, это и есть счастье Васино. Михаил Сергеевич остановил ее: — Подожди, мать, не мельтеши. Супруга его, как я понял, по-прежнему не хочет этого. Так ведь, Василий? Или что-нибудь изменилось? — Да нет, отец. Ты прав. Потому я и прошу… насчет размена. Михаил Сергеевич, помолчав, тяжело подытожил: — Ну что ж, чему быть, того не миновать. Как на крыльях летел Василий к Лене. Торопливо рассказал о встрече. Лена только скупо усмехнулась в ответ. Через некоторое время квартирные дела Ореховых были решены. В районе из уважения к заслугам Михаила Сергеевича пошли на прибавку жилой площади, и старые и молодые получили по небольшой двухкомнатной квартире. Жизнь Ореховых окончательно пошла врозь, двумя семьями. Лена в этом не видела чего-либо особенного. Она убедилась, что Василий целиком подчинился ее воле, о его же тоске по родителям, о его саднящей боли из-за разрыва с ними она не хотела и думать. Пока решался вопрос о квартире, пока Василий вместе с отцом оборудовали и обставляли их гнездо, Лена на эти встречи смотрела более или менее спокойно. Но когда все было отлажено и налажено, когда оставались последние штрихи, она довольно ясно дала понять, что остальное доделает сама. Что понимали они в том, где должен быть торшер, а где развесить африканские маски, нужен или не нужен модерн-бар и камин? Материальные дела тоже были решены. Не зря ведь она настояла, чтобы то, что было стариками скоплено для сына, он взял не откладывая под предлогом квартирных затрат. И когда Василий принес сберкнижку с переведенным на его имя не таким уж большим, но все-таки довольно существенным вкладом, Лена сочла, что старики свою задачу выполнили, большего с них не возьмешь и потому надо, чтобы они не мельтешили перед глазами, чтоб не мешали жить, как она хочет. Правда, нужды в этих ее крутых мерах, в сущности, не было. Старики не докучали им, особенно ей. Даже когда оборудовали квартиру, то всегда управлялись с делами до прихода снохи и торопливо уходили восвояси, чтобы не натолкнуться на ее холодный, враждебный взгляд. Теперь визиты родителей прекратились вовсе. Василий нет-нет да и захаживал к ним. Правда, задерживался недолго, полчаса, не более, и спешил к себе. Но и этого было достаточно для колких, едких замечаний супруги. — Опять там был? Опять мои косточки перемывали? — Да что ты, Лена. На полчасика заскочил. О тебе и речи не было. — Ну ясно. Где уж нам сподобиться до такой чести. — Ну за что ты их так невзлюбила? Старики как старики. — Какие они старики, ты мне не рассказывай. Знаю. Очень хорошо знаю. — Долго же ты помнишь свою обиду. Ну ошиблись тогда, не знали ведь тебя. Как-то Василий задержался дольше обычного, и Лена встретила его еще более шумно. Причина же задержки совсем вывела ее из равновесия, о ней по простоте душевной рассказал сам Василий. Дело в том, что к Ореховым из Ленинграда приехала дочь их старых друзей Перцовых — Вера, преподаватель Ленинградской консерватории. Когда Перцовы жили в Москве, Вера и Василий учились в одной школе, ездили в один лагерь, дружили и, встретившись, заговорились о разных разностях из той их, юношеской, жизни. — Подумаешь, старые знакомые, велика важность. А ты и развесил уши, разнюнился, готов был просидеть хоть до ночи. Нет, тут, видимо, кроется другое. Да, да. Я убеждена в этом. Это твои предки что-то удумали, не иначе. Точно. Так оно и есть. Это они тебе новую жену подбирают. Василий ошалело посмотрел на нее. — Да ты с ума сошла. Как он ни убеждал Лену в нелепости ее предположений, это, однако, ничуть не утихомирило ее. Она, конечно, вовсе не была убеждена, что Ореховы действительно что-то задумали, но вероятность этого ею не исключалась. Утром она вновь вернулась к вечерней истории, и Василий был ошеломлен чудовищностью ее слов и требований, был буквально сбит с толку категоричностью и безапелляционностью этого разговора. — К старикам больше ни ногой. Никаких отношений с ними, никакого общения. Если это тебя не устраивает — давай разводиться. — Да в чем дело? Что произошло? Какая муха тебя укусила? И как ты можешь предъявлять такие требования? Ведь они мои родители, ничего плохого мне, да и тебе тоже не сделали. Почему же я должен поступить как последний подлец? Этого никогда не будет. Запомни. — Ах, не будет? Хорошо. — Лена стремительно встала со стула и, с прищуром глядя на мужа пронизывающе-испепеляющим взглядом, сухо изрекла: — Я сказала все. Подходят мои условия — принимай. Не подходят — расстанемся. Капитуляция Василия была принята снисходительно, требования и условия были повторены с той же непоколебимостью. Лену Василий вернул, но вернуть жизнь в старое, пусть не такое уж ровное русло не удалось. Лену он теперь любил и ненавидел, себя презирал — за безволие, слабость характера, неумение настоять на своем. Он не появлялся у отца и матери долго, но не выдержал и стал забегать к ним днем, отпрашиваясь на час-полтора с работы. Эти встречи были тягостны и для них и для него. Старики прекрасно понимали, что происходит, видели, как изменился Василий, как потух его взгляд и весь он превратился в комок оголенных, незащищенных нервов. Как-то после такой встречи Михаил Сергеевич по уходе сына долго и безмолвно сидел у стола, и когда жена кончила возню на кухне, позвал ее. — Вот что, мать, надо что-то делать. Изведется Василий, погибнет. Надо мириться со снохой, ничего не поделаешь! — Я давно тебе толкую об этом. Только как это сделать? К ней ведь ни на какой козе не подъедешь. — Знаю. Но делать что-то надо. Готовься к августу. Лучшей причины не придумать. Уж если она на мой день рождения не придет, то не знаю… Тогда она истинная Горгона. И Михаил Сергеевич и его супруга, верные своим представлениям о жизни и людях, думали довольно просто: на такую-то дату как можно не прийти? Ну а здесь, за скромным праздничным столом, в кругу семьи и друзей, глядишь, и оттает жестокое сердце женщины, что так полонила их сына, поймет, что нет у них против нее больше никаких плохих мыслей. В конце концов важно, чтоб сын был счастлив. А в знак искреннего, идущего от всей души прощения было решено подарить Елене свои обручальные кольца и самую ценную вещь, что была у них, — брошь с бриллиантами, которую когда-то Михаил Сергеевич купил супруге, года два откладывая для этого свои премиальные за изобретательство. Василий пообещал, что придет с Леной. Он знал, что будет очень нелегко уговорить Лену на этот шаг, но все же надеялся, что сделает это. Мысль, что она откажется, гнал от себя, не мог смириться с ней, это было бы слишком жестоко. Он понимал желание стариков, сам мечтал именно об этом. Как бы ему хотелось, чтобы кончилась наконец их отчуждение, эта ненависть! Какую невыносимую тяжесть сняло бы их примирение с его плеч, насколько легче стало бы ему жить. Василий чувствовал, что он смертельно устал от этой нелепой вражды, что ему становится невыносимо врать, притворяться и изворачиваться. Дома он терзался от тоски по старикам, волновался, как они там (старые ведь стали). Придя к ним, терзался из-за того, что засиживается лишние полчаса и не дай бог о визите узнает Лена. Опять будет скандал, крики, истерика. Как утопающий за соломинку схватился Василий за предстоящее торжество и, вернувшись домой, сразу же стал убеждать Лену пойти в субботу к родителям. Уговорить жену, однако, не удалось. Она даже заявила, что и ему, Василию, идти не позволит. — Не верю я им. Обязательно какую-нибудь подлость учинят. Может, опять встречу тебе с этой Верой из Ленинграда устраивают. — Ну что ты городишь! Нас с тобой они ждут. — Нечего мне там делать, и ты меня не уговаривай. Сказала ведь давно, что не хочу с ними иметь ничего общего. Они для меня не существуют. — Но для меня существуют. Они мои родители, вырастили, воспитали в конце концов. И я, конечно, пойду к ним. — Можешь идти. Но помни — мое слово твердое. Торжество было подготовлено стариками любовно. И домашние пироги с капустой, и жареная индейка, и вишневая наливка — все, что было любимого в семье, было на столе. Трое давних друзей Михаила Сергеевича, таких же пожилых, седоволосых, с такими же дородными супругами, чинно сидели за столом и пропускали «по махонькой», ожидая младших Ореховых. Приход Василия встретили обрадованно, шумно. Все ждали, когда появится Лена, но она не пришла. Василий понял молчаливый вопрос и виновато объяснил: — Прихворнула моя половина, не смогла. Ольга Васильевна с трудом скрыла полоснувшую ее сердце обиду и горечь. И только присутствие старых подружек удержало ее от того, чтобы не разрыдаться. Михаил Сергеевич понимал смятенное состояние сына, видел, как убита жена, и старался как мог развеселить, занять гостей. Подруги Ольги Васильевны, улучив момент, все же не преминули допросить ее: — Неужто уж так занемогла сноха-то? Ведь рядом живет-то. — Ох, и не говорите лучше, и не спрашивайте, дорогие. У нас с ней не приведи бог как плохо. Совсем знать нас не хочет и сына отлучает. — Да что случилось-то? — Ни разу не была у нас. И нас не зовет, и видеться не хочет. Знать, говорит, не знаю и знать не хочу. Оно, конечно, поначалу-то и мы сплоховали, отговаривали Васю, не одобряли его выбор. Ну а потом смирились, думаем: ему жить-то, пусть как хочет. А она в прынцип. И ни в какую. Кремень-женщина. Васеньку очень уж жалко. Он ведь — воск, мягкий да сердобольный, мучается, терзается. Каково ему меж двух огней… с его-то характером. Василий со смешанным чувством участвовал в праздничной трапезе, усилием воли заставлял себя принимать, участие в беседе словоохотливых стариков, вяло отбивался от их добродушных шуток. Сознание постоянно сверлила одна и та же мысль: как там дома? Как его встретят? Что Елена придумает, чтобы отомстить за то, что ослушался? Но как он мог поступить иначе? Как мог не пойти? И когда кончится эта глупая, бессмысленная вражда? Провожая его, Ольга Васильевна все хлопотала, чтобы Василий взял какой-то узелок с вкусностями для Лены, а отец смотрел скорбно, с тоской и нескрываемой жалостью. — Заходи, Васенька, почаще заходи, — причитала мать. — Смотри, мы ведь совсем старенькими становимся. Не оставь в случае чего. — Что ты, мать. До тебя ли ему. Теперь он только на похороны придет, да и то если она позволит. Сказано это было тихо и глухо, но в словах было столько боли, сожаления и отцовской тоски, что у Василия сжалось сердце. Но в этих же словах он уловил и нотки мужского презрения. Ему и без того было плохо, а стало еще горше, еще хуже и безысходней. Дома его ждало то, чего он боялся больше всего. Свету в окнах не было. Может, спит, подумалось ему, но тоскливое предчувствие тут же приглушило эту мысль. Лены не было дома, не было и ее вещей — это было видно по раскрытым шкафам, по опустевшей вешалке. Василий долго сидел в состоянии, близком к сумасшествию, опустошенный, убитый свершившимся. Самое страшное, чего он боялся, — потерять Лену — произошло. Большей беды и горя он представить себе не мог, и жизнь теперь потеряла всякий смысл. Он не сомкнул глаз, с трудом дождался утра и ринулся разыскивать Елену. У подруг ее не оказалось. Догадался позвонить в мастерскую, где работала жена, там сообщили, что она вчера оформила десятидневный отпуск. Куда она уехала? На работе этого не знали, не знали и подруги. Сбившись с ног от поисков, полный отчаяния, он позвонил отцу, рассказал о случившемся. Михаил Сергеевич мстительно проговорил: — Таких дураков только так и учат. Что же ты хочешь от меня? Чтобы я вместе с тобой бегал по городу и искал эту твою стерву? Нет уж, избавь от такой чести. Василий то успокаивал себя, то травил самыми мрачными мыслями, от надежды переходил к безысходному унынию. Тоска по Елене рвала на части его сердце. Чтобы хоть как-то отвлечься от своих мыслей, согласился на уговоры приятелей съездить на открытие охоты. Облегчения это, однако, не принесло. Обескураженный, не зная, что предпринять, Василий решил поехать в Сочи. Купил билет на ранний субботний рейс, рассчитывая обернуться за два выходных дня. Однако лететь в Сочи не пришлось. В пятницу вечером позвонила Елена. Василий задохнулся от радости и волнения, зачастил в трубку: — Лена, Леночка, где ты? Куда запропастилась? Дурная ты. Я же с ума схожу. Елена, однако, быстро охладила его пыл: — Слушай, Орехов, меня внимательно. Ничего у нас с тобой не выйдет. Я ушла от тебя всерьез и не вернусь. Формальностями — разводом, разменом квартиры — займусь я сама, как возвращусь в Москву. Это все. Меня не ищи — это бесполезно. До свидания. Василий попытался задержать ее у телефона, но в трубке уже монотонно и равнодушно звучал отбой. Тогда Василий написал ту, свою последнюю записку, снял со стены не убранную еще после охоты тулку. Она и на этот раз сработала безотказно…
Следствию уже подробно, в деталях было известно все, что произошло в семье Ореховых. Были ясны причины, толкнувшие Василия на роковой шаг. Была ясна и степень вины за это каждого из его близких. Разные это были люди — с различными свойствам а, привычками, характерами, с различными взглядами на жизнь. Но все эти дни их объединяла мрачная солидарность, попытки обелить, приукрасить свои взаимоотношения, не вынести сор из избы. В этом сказалось обоюдное стремление уйти от людского осуждения за то, что произошло. Когда Елена, вызванная с юга, прилетела в Москву, она после первой же встречи со следователем поехала к старикам Ореховым. Она понимала, что к уголовной ответственности ее не привлекут, однако виноватой считать будут многие, особенно если не пресечь разговоры, которые могут повести родители Василия. Поэтому она и поспешила к ним. Ольга Васильевна, открыв на звонок дверь и увидев сноху, буквально обмерла. Елена явилась еще одним напоминанием о сыне, заставила с еще большей остротой почувствовать невозвратимость потери. Ольга Васильевна не смогла сдержать себя и заплакала горько, навзрыд, сухими, воспаленными глазами. — Михаил Сергеевич дома? — спросила Елена. — Дома, дома. Сейчас я его покличу. Орехов с трудом встал с дивана. Видеться с этой женщиной ему не хотелось, одна мысль об этом сразу повергала его в ярость. Но все же он понял: видимо, что-то серьезное, связанное с происшествием, привело ее к ним. — Зачем пожаловали? — не здороваясь, спросил он, выходя в комнату. — Довели мужа да могилы, а теперь каяться, крокодиловы слезы лить пришли? Так я не поп, поэтому не по адресу явились. Вы, только вы причина его смерти, так и знайте. Елена вздохнула и ровным, размеренным голосом ответила: — Зря вы так, Михаил Сергеевич, не за этим, не каяться я пришла. Да и не в чем мне каяться. Уж кто виноват во всем — так это вы. Но я не счеты сводить собиралась. Я понимаю ваши чувства. Поймите и вы меня. Мне ведь тоже нелегко. Но теперь нам надо думать не о том, кто виноват больше, а о том, как уберечь добрую память о Василии, как фамилию Ореховых от осуждения уберечь, не дать очернить ее. Идет следствие, ищут причины случившегося. Их, эти причины, будут искать в семейных делах. Так вот я думаю, что наши дела должны остаться только нашими. Василию помочь уже нельзя, а ходить по следователям да по судам ни вам, ни мне расчета нет. Старики Ореховы, убитые, сломанные горем, не нашли в себе ни сил, ни желания возразить настойчивым советам невестки. Так был заключен этот негласный союз недругов, который, с одной стороны, осложнял ход следствия, с другой — внес дополнительные штрихи, характеризующие участников всей истории. Но затемнить, а тем более скрыть истину этот союз, разумеется, не смог. Следователь Решетников для итоговой беседы пригласил всех Ореховых сразу. Елена была как всегда спокойна, подчеркнуто невозмутима. Тщательно уложенные волосы, аккуратный, плотно облегающий фигуру костюм. Белым, вышитым шелковым платочком она изредка и осторожно дотрагивалась до подведенных глаз. Старики выглядели иначе. Их было не узнать. Пропала степенность, важность Михаила Сергеевича, оживленная хлопотливость его супруги. Перед Решетниковым сидели два сгорбленных, седых человека, без единой кровинки в лицах, с потухшими, ничего не выражающими взглядами. — Я позвал вас, чтобы ознакомить с заключением по известному вам делу. Следствие закончено. Факт самоубийства Василия Орехова доказан. Виновных в его смерти с точки зрения Уголовного кодекса нет. Но если рассматривать дело с точки зрения человеческой, с точки зрения людских отношений — в его смерти виноваты вы… Решетников хотел развить эту мысль, еще утром обдумывал, что и как сказать Ореховым… Скажет о их безрассудном эгоизме, черствости, удивительном и пагубном равнодушии к чувствам, душевному миру близкого человека… Но, посмотрев сейчас на сидящих перед ним людей, он отказался от этого намерения. Для Елены Ореховой его слова были бы бесполезны, они не дошли бы до ее холодного, расчетливого ума, а для стариков Ореховых были бы излишними. Свершившееся и так раздавило их, превратило в муку оставшиеся годы жизни. На улице Ореховы разошлись не прощаясь. Елена, поправив черный шелковый шарф, свернула в одну сторону, старики — понурые и согбенные — в другую.
Кто виноват?
В морозном лесу выстрел прозвучал гулко, раскатисто. Эхо его долго гуляло по глухим урочищам и перевалам. Вслед за выстрелом послышался хриплый звериный рев, треск кустов, сучьев, и все стихло. Охотники, стоявшие на линии по узкой просеке, нетерпеливо смотрели в сторону лесной опушки, где стоял Василий Мишутин — крайний номер — и откуда раздался выстрел. Все ждали условленного сигнала «готов», но его все не было, а вскоре на просеке появился егерь. Он торопливо прошел, снимая номера и приглашая охотников за собой. На окраине леса Мишутина не оказалось. Недалеко от места, где он должен был стоять, виднелись глубокие двупалые следы кабана, снег около них алел кровью. Рядом с кабаньими следами — широкие провалы наста от мишутинских валенок. Он ушел по следам зверя. Егерь Никифоров обеспокоенно посмотрел на охотников и приказал: — Глядеть в оба. Быть в зоне видимости друг у друга. Раненый секач — не шутка! Охотники нешироким веером разошлись в стороны от кабаньего следа и направились в лес, вслед за Никифоровым. Но не прошли они трехсот или четырехсот метров, как вдруг услышали отдаленный душераздирающий крик человека. — Скорее, скорее! — крикнул Никифоров, и его поношенный шубник еще быстрее замелькал среди заснеженных елей и берез. Охотники побежали тоже, с трудом поспевая за стариком. Каждый понимал, что случилось что-то неладное, и каждый думал об одном: лишь бы не самое худшее. Но произошло именно то, чего опасались все. На небольшой прогалине, у корней старой, вывороченной бурей сосны лежал окровавленный Мишутин. А недалеко от него, в широкой борозде, пропоротой в снегу, — огромный кабан-секач. Охотники, зарядив ружья, бросились к зверю. Но это оказалось лишним. Зверь был мертв. Никифоров и двое охотников были уже возле Мишутина. Его толстый меховой полушубок от левой полы до правого плеча был вспорот клыками секача, словно гигантскими ножницами. Никифоров расстегнул на Мишутине окровавленный ворот, отбросил полу полушубка, приложил ухо к его груди и поднялся, бессильно опустив руки: — Все, ребята. Нет больше Мишутина. — Как же это он? — спросил один из охотников. — Оплошал, видно. Беда-то, ребята, какая, — потерянно проговорил Никифоров и опустился на корневище дерева. Работая под общим руководством прокурора, старший следователь следственного управления Михаил Новиченко после двухнедельного расследования пришел к выводу, что дело довольно ясное. Нарушение элементарных правил зверовой охоты, халатность егеря и начальника команды привели к гибели Мишутина. Виноваты они, и только они. Это он и объявил Никифорову и Чапыгину — капитану команды: — Придется вам отвечать, граждане. Халатное отношение к своим обязанностям с отягчающими обстоятельствами. Факт, как говорится, бесспорный. — Да, да, конечно. Случай страшный, ужасный. Но я сделал все, как положено. И оружие и боеприпасы проверил, инструктаж состоялся самый подробный. Все письменно подтвердили это. В деле у вас есть документ. Что же я еще мог сделать? — Многое, многое могли сделать, Никифоров. Мишутин, по всей видимости, не был опытен в зверовой охоте, и вы должны были его страховать. Далее, Мишутин шел след в след за раненым кабаном. Значит, не был должным образом проинструктирован. Сергей Павлович Чапыгин — работник одного из московских институтов, не стал спорить со следователем. — В сущности, все, что вы говорите, правильно. Но у меня из головы не выходит — почему Мишутин не стрелял? Когда вышел на эту прогалину, зверь был от него всего в десяти метрах. И почему шел он с одним заряженным стволом, когда в патронташе были патроны с картечью? — Ну, на эти вопросы мог бы ответить лишь сам гражданин Мишутин. Этого он, к сожалению, уже никогда не сделает. Но, логически рассуждая, ответы можно найти. Причины все те же: плохая подготовка охоты. — Да нет. Дело в том, что Мишутин был далеко не новичок в охотничьем деле. — Тогда в чем же дело? — Понимаете, в тот вечер, перед охотой, Василий Федорович был какой-то необычный, странный… — Как это необычный? — Ну, задумчивый, поникший, хмурый какой-то. Может, на службе у него что-нибудь случилось или дома?.. — И по служебной линии ясность полная, и по домашней. На работе его характеризуют положительно и даже очень, а дома о нем сказать некому, один жил. Что же касается его душевного, так сказать, состояния, то что же… Раз он был не в форме, может, устал, плохо себя чувствовал, опять-таки вы должны были учесть это и не ставить его один на один с таким зверем. Значит, опять вина ваша. Так что прошу подписать обвинительное заключение. Чапыгин вздохнул. — Подписать-то я подпишу, но во всем этом следовало бы разобраться более тщательно. Свою мысль Чапыгин не только высказал устно, но и написал об этом в небольшом письме на имя начальника следственного управления: «Не для того пишу, чтобы снять с себя или с кого-либо ответственность, а для того, чтобы была внесена полная ясность в дело, чтобы одна беда не повлекла за собой другую. Ибо осудить невинного — это тоже беда…» Начальник следственного управления Родников, прочитав письмо Чапыгина, затребовал дело о гибели Мишутина и подробно ознакомился с ним. В одном из протоколов допроса Никифорова его внимание привлекла знакомая фамилия: Крылатов. Егерь в ответ на вопрос следователя, почему он не поинтересовался, что за охотник Мишутин, ответил: «Он ведь и раньше приезжал к нам. С Петром Максимовичем Крылатовым приезжал. А тот со случайным человеком не поедет. Негоже мне было каким-то необоснованным сомнением обижать человека». Генерал Родников подчеркнул эту запись в протоколе и стал листать дело. Показаний Крылатова там, однако, не было. — Почему по делу Никифорова не опрошен Крылатов? — спросил он у Новиченко. — Так он же не был на охоте. И вообще в Москве не был. Что же он мог показать? — Мог охарактеризовать Мишутина. — О Мишутине собраны все необходимые данные. Кроме хорошего, о нем никто ничего не сказал. — А его моральное состояние? — Ну, для секача его моральное состояние, я думаю, было не столь уж существенно. Родников не принял шутки. — Для него не существенно, а для нас — очень. Узнайте, в Москве ли Петр Максимович Крылатов, и, если в Москве, попросите его приехать ко мне. Уже к концу дня в кабинет генерала вошел пожилой плотный человек с густым ежиком седых щетинистых волос — полковник милиции в отставке. Когда-то он был грозой домушников, карманников и прочей нечисти во многих северных городах. За несколько лет до пенсии переехал в Москву, работал в институте криминологии и вот уже несколько лет корпел над каким-то серьезным трудом, связанным с его прошлой деятельностью. Целыми днями сидел в библиотеках и музеях или вдруг уезжал на неделю, на две в какой-нибудь райцентр, где когда-то трудился. — Здравствуйте, коллега, — сдержанно поздоровался он с начальником управления и, усевшись в кресло, спросил: — Чем могу быть полезен? — Хотели, Петр Максимович, посоветоваться с вами по поводу случая в Заболотье. Я знаю, что вы не были там, но знали погибшего. — Да, знал, и неплохо. Хороший, душевный был человек. Я все еще не приду в себя от этого нелепого случая. — Понимаете, Петр Максимович, судить людей надо за его гибель. — Коль виноваты, надо судить. — Как он был охотник-то? Настоящий? — Любил это дело. Особенно охоту на птицу. На зверя ходил меньше, но ходил. Сдержанный, спокойный, с самообладанием. И стрелял неплохо. — Понимаете, вдруг пошел преследовать секача по следу. Обнаружил его затаившимся всего в десяти метрах, на открытом лежбище. И не стрелял. — Наверное, не успел выстрелить. — Даже не пытался. Двустволка и с предохранителя не была снята. — Да. Это странно. Очень странно… — Вечером, перед охотой, все заметили его угнетенное, хмурое состояние. Но не придали этому значения. — И зря. Может, здесь и кроется причина трагедии. Если можно, устройте мне поездку на место происшествия. Хочу посмотреть обстановку. — А почему нет? Хоть завтра. — Нет, послезавтра. Прежде прочту все дело. — Прекрасно, поедете послезавтра. Но следов там, видимо, уже нет. — Посмотрим. Снегопадов-то в этот месяц почти не было. Новиченко, когда ему сообщили о предстоящей поездке в Заболотье, проворчал: — А зачем, собственно? Дело вполне ясное. — Заметив, однако, неодобрительный взгляд начальника управления, поспешил заверить: — Все будет сделано, товарищ генерал. Старый егерь обрадовался Крылатову, посетовал на несчастье: — Каждый день вот суда жду. И Василий Федорович из головы не идет. Только не виноват я, Петр Максимыч, не виноват. — Что же делать, Никифорыч, что делать. Крепись. Коль не виноват — не засудят. Судьи — люди опытные, разберутся. Выехали в Заболотье. «Газик» до лесной просеки не пробился, километра три пришлось идти пешком. Вот и опушка, где стоял на номере Мишутин. Утоптанная дорожка следов ведет к той лесной прогалине. Никифоров показывает вывороченную сосну, около корневищ которой стоял Мишутин, лежку, с которой бросился на него зверь. Место его падения после расправы с Мишутиным… Крылатов долго осматривал прогалину, несколько раз вымеривал ее шагами, в разных поворотах становился к корневищам дерева. — Что ж, Никифорыч, зона обстрела у него была отличной. Мог легко добить. Видимо, принял зверя за мертвого, не ожидал нападения. — Возможно. Вообще преследовал он его чудно. То ли не был уверен, что нагонит, то ли, наоборот, был убежден, что никуда кабан не денется. Когда мы вот с товарищем следователем впервые осматривали их следы, то диву дались. Федорыч и шел, словно наобум. Иногда даже опережал секача, когда тот в стороне отлеживался. Удивляюсь, как он раньше на него не набросился. Новиченко подтвердил: — Действительно, товарищ полковник, все так и было. Неопытность была очень даже заметной. — Неопытность? Да ведь Мишутин только на моих глазах пять или шесть кабанов взял. — Тогда… Как же объяснить происшедшее? — Пока не знаю, товарищ майор. Генерал приветливо улыбнулся, поднявшись навстречу Крылатову. — Ну как, Петр Максимович, удачно съездили? Намучились, поди? — Да нет, не очень. Но, кажется, труд не напрасен. Думаю, уверен, что сумею помочь вам… помочь не совершить ошибки. Но сначала мне придется рассказать вам много такого, что на первый взгляд покажется не имеющим прямого отношения к случаю в Заболотье.Поводом для ссоры послужил незначительный, в сущности, случай. — Ты не забыл, что мы сегодня должны быть у Алешиных? — спросила Зинаида Михайловна мужа, когда он пришел домой со службы. Мишутин долго не отвечал, потом, стараясь придать голосу мягкий, просительный тон, проговорил: — Может, не пойдем, Зина? Устал я сегодня. Да и скучища там будет. Засядут за преферанс, никого от стола не оттащить. Разговоры тоже все об одном и том же. У мужчин — кто куда будет назначен, кого на пенсию вот-вот отправят… А у вас — все тряпки, моды да как похудеть. — А ты не будь бирюком. Люди играют — ты играй!Беседуют — ты беседуй! — Давай не пойдем, Зинуша. У Алешиных не какой-то там юбилей, а обычная вечеринка. Обойдутся без нас. Но Зинаида Михайловна была настроена иначе. Она и с работы отпросилась пораньше, и платье, что приятельницы еще не видели, только что погладила. — Стареешь ты, Василий. Обленился, как сибирский кот. Собирайся. А то одна уйду. — Вот и отлично. А я отдохну, — обрадовался Василий Федорович и стал расшнуровывать туфли. Зинаида Михайловна пришла поздно. От нее немного попахивало вином, и Василий Федорович отпустил по этому поводу безобидную шутку. Жена промолчала. — Ну, что молчишь? Расскажи, как там веселились? — отогнав от себя сон, спросил Василий Федорович и потянулся за сигаретами. — Не кури, пожалуйста. И так дышать нечем. — Это почему же нечем? Окно открыто. — И все равно не дыми. Противно. Василий Федорович пожал плечами. — Если противно, пойди в ту комнату. Зинаида Михайловна посмотрела на сонное лицо мужа, и злое чувство поднялось в ее душе. Она вскочила с кровати, свернула свое одеяло, простыню, матрац и ринулась из комнаты. Василий Федорович с недоумением посмотрел ей вслед и, с досадой затушив сигарету, двинулся за женой. Та лихорадочно устраивала постель на диване в столовой. — В чем дело, Зина? Что с тобой? — Уйди отсюда, пожалуйста. — Да объясни ты, наконец, в чем дело? Какая муха тебя укусила? Обозлилась, что к Алешиным я не пошел? Ну, виноват… Извини. И не злись. А то посмотри как разошлась, глаза гром и молнии мечут. — А ты хочешь, чтобы они любовь да ласку источали? По какой такой причине? — А что, так уж и нет этих самых причин? — тоже начиная раздражаться, спросил Василий Федорович. Зинаида Михайловна резанула мужа испепеляющим взглядом. Ей захотелось сейчас же высказать мужу все, что накопилось у нее на сердце. — Конечно, ты осчастливил меня. Ох, как осчастливил. Жизнь райская. Василий Федорович понял, что разговор предстоит длинный, и устало опустился в кресло у окна. — Ну, давай, давай, продолжай. — Да уж послушай. Выскажу, все выскажу. Нет больше моего терпения. Ты подумал хоть раз, какую радость я имею в жизни? Работа, магазин, кухня, стирка, уборка и опять работа… Ты черствый и закоренелый эгоист. Василий Федорович решил слушать жену не перебивая. Все, что говорила она, он слышал уже не раз и не два, нового она, в сущности, ничего не добавила. Но думал он сейчас о другом. Вспоминалось, как почти два десятка лет назад он, окрыленный, почти обезумевший от счастья, вбежал к ребятам в общежитие с двумя бутылками вина и огорошил всех невероятным сообщением: — Ребята, поздравьте, мы с Зинушкой расписались. Так что гуляем! Кто позавидовал, кто посочувствовал: еще одна холостая единица гибнет! — но поздравляли все. Выбор одобряли тоже, в сущности, все. Зина была все-таки интересной девчонкой. Василий Федорович смотрел на Зинаиду Михайловну и с грустью думал: как безжалостно время. Женщина, сидевшая на диване, даже отдаленно не напоминала ту Зину, которую он когда-то трепеща всем сердцем вел в загс. Зинаида Михайловна сидела все в той же оскорблённо-непримиримой позе. Волосы ее растрепались, неприбранные, они предательски обнажали поседевшие пряди, в открытый ворот рубашки проглядывало стареющее тело, желтоватая, уже морщинистая шея. Женщина заметила, что муж пристально смотрит на нее, уловила изучающий, недобрый взгляд, запахнула рубашку. И взглядом, тоже изучающим и недобрым, посмотрела на мужа. Перед ней был рыхловатый, полысевший человек. Помятое лицо. Довольно объемистый живот туго натягивал белую майку. И это — Вася Мишутин? Весельчак, заводила всех студенческих вечеров? Васька, который сводил с ума не только ее, но и многих ее подруг? Как же он изменился, постарел и подурнел! Зинаиде Михайловне почему-то сделалось ужасно жаль себя, и она, уткнувшись в подушку, заплакала. Василий Федорович встал с кресла, подошел к жене, положил на плечо руку. Она, вздрогнув, сбросила ее с какой-то неистовой озлобленностью. — Да что за бес в тебя вселился? Разве уж очень плохо мы живем? Работа у обоих неплохая, квартира отличная. Тряпок мало? Но без меры ты ими вроде никогда не увлекалась. Бриллианты и жемчуга? Есть же у тебя какая-то мелочишка, и довольно. Самое же необходимое у нас есть. Так что извини, но твоя декларация о каком-то там прозябании, мягко говоря, не обоснована, она, так сказать, плод взвинченного настроения. Что же касается домашних дел, то… что же тут можно сделать? Проблема, в сущности, всеобщая, международная, я бы сказал. Надо полагать, рано или поздно додумаются, как облегчить его, быт этот самый… Василий Федорович говорил что-то еще, но Зинаида Михайловна слушала плохо, вся во власти заполнившей ее обиды. — Какой же ты нудный! И как я тебя не поняла раньше? Иди спать. Надоело мне все, — неприязненно проговорила она и натянула на себя одеяло. Василий Федорович удивленно посмотрел на жену, обиженно закусил губу и ушел в спальню. Ночь оба не спали. Каждый думал о том, как плохо сложилась жизнь, как не повезло, какая роковая ошибка была совершена в молодости. Все пережитые годы обоим представлялись как бесконечная цепь серых, безрадостных дней, обид и неудач. И в них, в этих неудачах — и мелких и крупных — один винил другого. «В том, что я не поехал с институтом в Новосибирск, виновата только она. Уж наверняка кандидатом, а то и доктором был бы. То, что не получилось с назначением в главк, опять ее «заслуга». Вела себя с женой Петра Петровича как школьница-задира. Ну а та, конечно, мужу напела». Так думал он. И примеров такого рода на память приходило множество. «Как все-таки изменилась Зинаида. Ведь она никогда не была завистливой и вздорной, никогда не было у нее этакой неукротимой напористости в стремлении к излишним житейским благам. Откуда все это пришло? Может, потому, что всем стало лучше и она боится отстать от сослуживцев, подруг, знакомых? Но ведь у нас же есть все, все необходимое…» «Из-за него я не пошла в аспирантуру, — думала Зинаида Михайловна. — Эгоист. Все силы на него положила. До учебы ли было?.. В том, что детей у нас нет, опять он виноват. Обрадовался, что врач родить мне не посоветовал, уцепился: «Зачем, Зиночка, рисковать…» Ясно же, свой покой оберегал». И фактов, подтверждающих отрицательные качества мужа, находилось тоже немало. «Да, жизнь не удалась. Василий все-таки очень приземленный, непрактичный человек, довольствуется очень малым, нет у него стремления к большему, к тому, чтобы жить интереснее, шире. Да и чувства-то, видимо, настоящего у него нет, раз он так равнодушно относится к любой моей просьбе, к моим планам, стремлениям». Бывали у Мишутиных размолвки и раньше. Но такое отчуждение, озлобленное отношение друг к другу проявилось впервые. Утром, обнаружив, что завтрака на столе нет, Василий Федорович даже обрадовался этому и, не сказав жене ни слова, торопливо ушел на работу. Вслед за ним вышла и Зинаида Михайловна. Вечером не разговаривали тоже. И замолчали надолго. Жили в разных комнатах, молча приходили с работы, молча уходили. Через месяц Василий Федорович предложил: — Может, нам развестись? Зинаида Михайловна, даже не посмотрев в его сторону, тут же ответила: — Да, так будет, видимо, лучше. …Народный судья, пожилая, добродушная женщина, мягко, но настойчиво допытывалась о причинах их разрыва, советовала подумать. Обе стороны были непримиримы. На следующий день они были на приеме в райисполкоме, а через месяц разъехались на разные квартиры. Так закончилась семейная жизнь супругов Мишутиных. Первое время Василий Федорович наслаждался одинокой и такой не зависимой ни от кого жизнью. Он мог теперь прийти домой в любое время, ему никто не устраивал допросов, где был и почему задержался. Мог, когда хотел, идти на футбол или куда только желала душа. Мог выпить с приятелями, его никто не обнюхивал, не разносил в пух и прах, не устраивал истерики. Мог в любое время смотреть телевизор или читать — никому не было дела до того, когда он заснет. Хоть совсем не ложись! Никому не мешал дым от его сигарет. Даже завтраки и ужины, которые он сам себе готовил, были несравненно вкуснее. Ну, когда он мог поесть жареной колбасы? В год раз, да и то после длительных дискуссий о том, сколько в ней разных лишних калорий, углеводов и прочих вещей, вредных для здоровья. А сало? Василий Федорович всегда любил свиное замороженное сало. Но где там, Зинаида Михайловна даже слышать об этом не хотела: это же сплошной холестерин! На второй же день после начала самостоятельной жизни Василий Федорович купил его целый шматок и теперь нарезал себе такие аппетитные бело-розовые ломти. Даже столь неприятное обстоятельство, как стирка, глажение белья, не раздражало Василия Федоровича. Домовая прачечная отлично помогала ему в этом. Женщины его не интересовали. Когда сердобольные сослуживцы как-то сочувственно высказались в том смысле, что, мол, какая это жизнь одинокому мужчине, Василий Федорович испуганно замахал руками: — Чур меня! Спасибо. Узы Гименея меня теперь не прельстят. Дудки! Не менее благоприятно складывалась и жизнь Зинаиды Михайловны. Во всяком случае, ни Василий Федорович, ни Зинаида Михайловна не сожалели о разрыве, оба наслаждались отсутствием тех многочисленных неудобств и обязанностей, которые неизбежно налагает любой брачный союз.
Вернувшись из очередной поездки на Север, Петр Максимович Крылатов несказанно удивился, обнаружив, что Мишутин уже не живет в их доме. И еще больше удивился, узнав причину. Не откладывая, поехал к приятелю. Тот встретил его радушно, потащил показывать холостяцкое жилье, затем усадил на кухне и стал хлопотать насчет угощенья. — Стол будет не очень-то изысканным, так что не взыщи, Петр Максимович. Вот консервы, колбаса. Поели молча. Потом Петр Максимович, хмурясь, ковыряя вилкой в банке с баклажанами, спросил: — Ну, как холостая жизнь? — Ничего. Живем не тужим. — А что все-таки произошло, что приключилось? — Да просто обнаружили, что не подходим друг другу. — Поздно обнаружили-то. — Это верно. — А я-то смотрел на вас и радовался. Значит, все только внешне было, для постороннего глаза? Василий Федорович стал рассказывать. Вспомнил все, что накопилось к Зинаиде Михайловне за эти годы. — Переполнилась чаша терпения, Петр Максимович. — Дурак ты, Василий. Самый что ни на есть круглый дурак, — выслушав Мишутина, сказал Петр Максимович. — Это же все мелочи, обычные житейские дела. Как же можно было из-за этого идти на такой шаг? А где же твой ум, рассудительность, логика, наконец? Женщина может порой руководствоваться в своих поступках чувствами, эмоциями. Стресс — слышал, поди, такое слово? Ну, так вот, ученые утверждают, что у них он — у второй половины человечества — проходит куда более бурно, неистово порой. Ну а если говорить более просто, то женщине можно и должно прощать какие-то ее слабости. А ты возвел их, эти слабости, черт-те во что. Умнее я тебя считал, приятель, умнее. Василий Федорович стал говорить что-то такое о мужской гордости и самолюбии, но Крылатов с досадой махнул рукой: — Не мысли это, а жвачка, не причины, а не в меру разросшееся самолюбие, а еще точнее — себялюбие. Удивил ты меня, Мишутин. Удивил. Ушел Крылатов от приятеля злой и расстроенный. На следующий день он приехал к Зинаиде Михайловне. Жила она где-то в Кузьминках, ехать пришлось далековато. Разговор получился еще менее утешительный. Встретили Крылатова хорошо, и кофе и коньяк были предложены. Но все попытки Петра Максимовича уяснить, что же все-таки произошло между Мишутиными, ни к чему не привели. — Он так хотел. — Да не хотел он, не хотел. Поймите это. — Он законченный эгоист, пустой и никчемный человек. — Зинаида Михайловна, ну что вы такое говорите? Вы же не год-два прожили, а почти полжизни. Раньше надо было разбираться. Да и не такой уж он плохой. — Конечно, надо бы разобраться раньше. Это верно. Но что же делать? Людям свойственно ошибаться. И не будем больше об этом, Петр Максимович. Дело это решенное. Нельзя жить вместе, коли люди друг другу в тягость. — Понимаете, Зинаида Михайловна, бывает так, что иной опрометчивый шаг всю жизнь помнишь. И всю жизнь каешься. Вот и вы до седых волос оба дожили, а поступили, будто несмышленыши. Удивительная глупость и с вашей и с его стороны. — Так что же, может, через милицию нас заставите сойтись? Неужели и личные дела входят в обязанности блюстителей порядка? Петр Максимович встал, не спеша надел плащ. — Стражам порядка приходится заниматься и людскими радостями, и людскими горестями. Глупостями людскими — тоже. И скажу вам по своему опыту — не без пользы. Почти у каждого, кто носил или носит милицейский мундир, не одна и не две спасенных судьбы. Но я-то к вам пришел не по долгу службы. Он у меня уже выполнен. Зашел потому, что не мог иначе. Больно мне видеть, когда хорошие в общем-то люди сами себе жизнь портят. Всего доброго, Зинаида Михайловна.
Прошло полгода. Как-то бывшие супруги оказались в одной компании у тех же Алешиных. Зинаида Михайловна отметила, что облик Василия Федоровича основательно изменился. Он еще более потучнел, под глазами прочно обосновались коричневые полукружья. Зинаида Михайловна тоже изменилась, но, пожалуй, в лучшую сторону. Это Василий Федорович должен был признать. Как-то подобралась вся, посвежела. Мальчишеская прическа, короткая юбка очень молодили ее. — Как вижу, неплохо живешь? — глуховато спросил Василий Федорович. — Только что с Валдая вернулась. Отдохнула на редкость хорошо. А ты как? — В трудах и заботах, как говорится. — Он хотел сказать что-то еще, но Зинаида Михайловна упорхнула на кухню. Она была весела, оживлена, беззаботна. Больше они не разговаривали в тот вечер. Только когда уходили от Алешиных, Зинаида Михайловна, обгоняя Василия Федоровича на лестнице, бросила ему: — Потолстел ты, Мишутин. Следи за собой, а то совсем расплывешься. Василий Федорович хотел ответить какой-нибудь колкостью, вроде того, что какое, мол, собственно, тебе до меня дело, но на него пахнуло чем-то прошлым, привычным. Показалось, что в голосе Зинаиды Михайловны прозвучали теплые, заботливые нотки, и Василий Федорович промолчал. Домой он вернулся мрачный. Однокомнатная крепость показалась не столь уж привлекательной. На вешалке боролись за место шуба и болонья, шапка и нейлоновая шляпа валялись у зеркала, тут же были набросаны белые сорочки, которые предстояло нести в стирку. В холодильнике не нашлось боржоми. Это тоже огорчило. Обнаружилась, правда, банка сока, но она обмерзла бахромой инея, и сок превратился в желтоватые льдышки. Ложась спать, Мишутин заметил, что наволочки на подушках явно не первой чистоты, имеют буро-желтый оттенок. — Надо заняться хозяйством, запустил я все, запустил, — вслух проговорил Василий Федорович. Уснуть, однако, долго не удавалось. Перед глазами стояла Зинаида Михайловна — с мальчишеской прической, в коричневой короткой юбке, веселая, оживленная… Вот она садится в машину этого Сургучева из соседнего управления, и он нежно поддерживает ее за локоток… «Да что это я в самом деле? О чем думаю? Какое мне, собственно, дело и до нее, и до этого Сургучева?» Наконец под самое утро он заснул, а когда проснулся, было без четверти девять. Не побрившись, лишь чуть сполоснув помятое лицо и наскоро собравшись, он помчался на работу. Василий Федорович всегда был человеком общительным, а в последнее время стал избегать встреч даже с закадычными друзьями. Был он человеком веселым, сейчас постоянно хандрил. Был спокойным и уважительным со всеми, кто с ним сталкивался, сейчас мог вспылить и по поводу и без повода. Некоторая небрежность в одежде водилась за ним и раньше, но тогда это было как бы его почерком, рисунком, не переходило ту грань, когда следом идет уже неряшливость и неопрятность. Раньше вряд ли Василий Федорович мог прийти на работу в неглаженых, раструбами болтающихся брюках, теперь же это стало обычным. Сорочки тоже были сомнительной белизны, галстук на шее висел как что-то постороннее и ненужное. Сослуживцы давно заметили, что Василий Федорович явно потускнел, сегодняшний его вид окончательно убедил их, что друга надо «малость встряхнуть». В обеденный перерыв они подошли к Василию Федоровичу. — Федорыч, у нас созрело решение навестить тебя. Мишутин растерянно проговорил, что он-де всегда рад. Мальчишник состоялся на следующий день. Удался он неплохо. Выпили, потолковали о том о сем. Обсудили и женский вопрос. Пришли к единодушному выводу, что нет ничего дороже свободы от женского гнета. Но… далеко не каждому выпадает такое счастье. Все было хорошо. Когда же приятели ушли и Василий Федорович посмотрел на стол, полный посуды, объедков, когда увидел множество следов от мужских ботинок в передней, он тяжело вздохнул. «До утра убираться придется», — подумал он и, махнув рукой, решил отложить эту работу до завтра. Улегшись в кровать, решил прочесть статью, которую давно отложил. Речь в ней шла о продлении жизни. Зинаида была докой в этих делах. Забылся Василий Федорович и спрашивает: — Как думаешь, Зинаида, есть в этих предположениях ученых что-либо реальное? А? — Василий Федорович даже повернулся в кровати. И тут же обругал себя: — Ошалел, старый. Галлюцинировать начинаешь. Но мысли о жене стали теперь бродить в голове Василия Федоровича постоянно. Он незаметно для себя переосмысливал факты и события, которые полгода назад питали его непреклонное решение освободиться от деспотизма жены. Поездка в Новосибирск? Но ведь она же сразу согласилась ехать. Без восторга, верно, но согласилась. Насчет главка тоже, пожалуй, зря на нее вину взвалил. Вслед за этими мыслями о более или менее существенных событиях на память приходили тысячи мелочей. «Во многом, пожалуй, она права, — думал он. — Вниманием ее я не баловал. Помнится, как хотелось ей в Болгарию, в туристскую поездку. И путевки ведь были в институте. Так нет — уперся, денег пожалел. А случай с театром… Месяца два она твердила о том, чтобы сходить в Художественный, посмотреть там какую-то новую пьесу. Так и не собрались». Уже в иных красках и тонах вспоминалась их прошлая совместная жизнь. Вот он приходит с работы. Зинаида Михайловна бросает все и со всех ног торопится на кухню разогреть ужин. Сидит около него, во все глаза смотрит, как он ест, подкладывает ему лучшие кусочки. И говорит, говорит, говорит… Рассказывает, расспрашивает обо всем: что нового на работе, у соседей, у знакомых. И тут же подкладывает какой-то журнал с отчеркнутой красным карандашом статьей. И когда успевала прочесть? А если начинал рассказывать он — о своих ли мытарствах с гаражом для «Москвича», об охоте, рыбалке или о последнем футбольном матче, — слушала так, что хотелось рассказывать без конца. Было занятно просвещать ее, разъясняя некоторые азбучные истины футбольных баталий. Василий Федорович теперь все острее ощущал тяжесть одиночества, он как бы утратил жизненный стержень, державший его, стимул, что питал энергией и осмысленностью все его действия и поступки. Теперь все или, во всяком случае, очень многое потеряло смысл. Некого было радовать, не было укоряющего или откровенно обрадованного взгляда, и потому все, чем жил сейчас Василий Федорович, потеряло свое значение, обмельчало. Но об этих мыслях Василия Федоровича не знал никто. Не знала о них и Зинаида Михайловна. Она жила теперь без лишних хлопот и забот. Приходя со службы в свою чистенькую, аккуратно прибранную квартиру, быстро готовила ужин, пила чай и устраивалась за свой небольшой письменный стол или на диван с книгой. Все-таки удивительно проще, беззаботнее жизнь одинокой женщины. Зинаида Михайловна обнаружила, что у нее теперь много свободного времени, она успевала встретиться с подругами, зайти к портнихе и со вкусом, не торопясь выбрать фасон блузки или платья, опять-таки не спеша посидеть у знакомой мастерицы в парикмахерской. И даже на концерт или фильм теперь сходить оказалось значительно проще — захотела и пошла. Спутница для этого всегда найдется. Материально Зинаида Михайловна и раньше не была зависимой от мужа, зарабатывала она почти столько же. Обдумывая свое житье-бытье, Зинаида Михайловна неизменно приходила к выводу, что все, что произошло, — к лучшему. Правда, порой мысли о их разрыве с Мишутиным начинали тревожить Зинаиду Михайловну. Тогда она вспоминала все, что было нехорошего, раздражающего, мрачного в их жизни с Василием Федоровичем, нанизывала эти воспоминания на память, словно бусинки на нитку, и опять успокаивалась, что жалеть ей, собственно, нечего. А если учесть, что он сам, сам затеял этот развод, то и говорить не о чем… Но нет ничего неизменного в мире, нет и неизменных мыслей. Одиночество, таким привлекательным казавшееся поначалу, стало тяготить и ее, обращаться в осязаемую, гнетущую пустоту. Прежде ее оценки тех или иных явлений, восприятие всего окружающего, проверялись Зинаидой Михайловной на мнении Василия Федоровича. Оценки его были немногословны, но почти всегда точны. Подумав немного над ее вопросом, потерев пальцами правой руки свои лохматые брови, Василий Федорович без особой интонации отвечал: — Песня-то? Если бы автор не манерничал, не увлекся модернистскими выкрутасами, была бы песня! Или более категорично: — Стоящая штука. Так же серьезно он относился и к ее вопросам совсем на другие темы: как понравилось платье, что сегодня было на Полине Алексеевне? — Знаешь, понравилось. В меру ярко, материал подобран со вкусом и сшито хорошо. Только ей не надо так подчеркивать талию, она у нее не очень… Надо бы пустить чуть посвободнее. При всей своей природной аккуратности и педантичности Зинаида Михайловна не могла не заметить, что многие ее привязанности, увлечения, привычки уходят, пропадает интерес к ним. Зачем, собственно, перешивать шубу? Похожу и так. Зачем спешить домой? Кто там ждет? Зачем готовить что-то изысканное и вкусненькое? Обойдусь чем-нибудь обычным. Лучше уснуть поскорее, чтобы не донимали неспокойные, надоедливые мысли. Натура Зинаиды Михайловны была деятельной: она должна была всегда что-то для кого-то делать, заботиться, думать… Предметом ее забот всегда был муж. В плане житейском он представлялся ей неопытным, мало приспособленным к жизни человеком. И именно поэтому она всегда вмешивалась в то, как он одевается, и что ест, и как регулярно показывается врачу. Ей доставляло истинное удовольствие видеть, как он, бывало, уплетает котлету и винегрет, как, добродушно ворча, неохотно, но все же отправляется на утреннюю зарядку. Зинаида Михайловна настойчиво вела супруга по стезе добродетелей и была горда тем, что так неукоснительно выполняет свой долг. Теперь ей явно не хватало этой постоянной, всепоглощающей заполненности души. Кто-то из подруг как-то сказал ей, что видел Василия Федоровича с молодой женщиной. — А мне-то что, — с усмешкой ответила она. — Мы теперь с ним птицы вольные. Но сердце заныло обеспокоенно и тревожно. Хотя и хорошо знала Зинаида Михайловна своего бывшего мужа, уверена была, что не пойдет на случайную близость, однолюб он, так же, как и она, но все-таки весть, принесенная подругой, растревожила, взволновала ее. Целый вечер и ночь потребовались Зинаиде Михайловне, чтобы уравновесить свое настроение, унять нервные, взвихренные мысли. Итог она подвела такой: — Это еще раз подтверждает: все решено правильно. Если Зинаиду Михайловну Крылатов больше не встречал, то с Мишутиным они виделись на рыбалке и охоте, и Петр Максимович убеждался все больше, что жизнь у приятеля пошла явно вкось. Впечатление от последней встречи было особенно удручающим. Предстояла поездка на Сенеж. Они договорились увидеться вечером в пятницу, и Крылатов заехал к Мишутину около семи часов вечера. Петра Максимовича поразили беспорядок и запустение в квартире. Но больше всего удивил сам хозяин. Небритый, всклокоченный, с мутными бегающими глазами. — Ты что, Федорович, с перепоя, что ли? — Да нет, откуда ты взял? — Вид у тебя такой, что боюсь, всю рыбу перепугать можно. Они заехали к Крылатову домой. Пока полковник собирался, Мишутин рассеянно перелистывал журналы на газетном столике. Затем взгляд его остановился на портрете молодой женщины, что стоял на столе. У женщины был задорный, чуть прищуренный взгляд и еле заметная лукавая улыбка. — Петр Максимович, это… кто? — Жена. Мишутин угрюмо вздохнул: — А я и не знал… Она что… не живет с тобой? Ушла или… — Да, ушла. Навсегда ушла, Вася. Давно уже. — И ты… все время один? — Да, один. — Почему же? — Да так. Не мог иначе. — Она что, была больна? — Да, была. Но не только болезнь ее убила. Я тоже руку приложил. Будь умнее да повнимательнее, спохватись вовремя — всего этого могло не произойти. Полковник замолчал. Мишутин тоже не расспрашивал, решив про себя, что, видимо, Петру Максимовичу это воспоминание тяжело. Но когда выехали на просторное Минское шоссе, Крылатов сам вернулся к начатому разговору. — История, Федорович, довольно простая, но и поучительная. Работали мы с Настей вместе в одном из районов под Архангельском. Мы оба из тех краев, учились вместе, а после войны встретились вновь. Через год поженились и, как это говорится, жили душа в душу. Это поначалу. Работы у меня было по горло, домой приезжал я только ночью. А она все одна да одна. Ну и восстала против такой жизни. «Так жить я, — говорит, — не согласна, имей это в виду». Смолчать бы мне, успокоить ее. А я в амбицию. «Не согласная! Не нравится? Скучно стало? Тогда можешь убираться…» Накричал так на нее и ушел. А она гордая была, страшно гордая. Вернулся с работы — нет ее. Жду час, жду два — нету. Нашел ее у подруги, еле уговорил вернуться домой. «Если ты, — говорит, — Петя, на меня еще так накричишь, совсем не вернусь. Так и знай». Наутро слегла Настя в постель. Врачи определили нервный психический криз. Подняли они ее на ноги, но ненадолго. Таять стала моя Настя. Случилось что-то с кровью. Возил я ее в Ленинград, и в Москву, но… помочь не смогли даже лучшие профессора. Так и остался я один. Крылатов замолчал и долго разминал и без того мягкую сухую сигарету. Потом проговорил: — Помнишь: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем…» Всю дорогу до Сенежа молчали. Если и возникал разговор, то касался снастей, мотыля, наживки, предположений, какой будет клев… Но Мишутин думал только об истории, рассказанной Крылатовым. Он и сам не понимал, почему она так остро, с какими-то болезненными ощущениями вошла, врезалась в его память. Невольно мысли перекинулись на их разрыв с Зинаидой. Если по пути на озеро мысли эти были отрывочны и бессвязны, отвлекала дорога, управление машиной, то когда приехали на место и устроились в тихой заводи озера и лишь красные поплавки, мерно качавшиеся на волнах, остались в поле его зрения, мысли эти полностью заняли сознание. Вернувшись домой ночью, он принял окончательное решение, а на следующий день после работы поехал к Зинаиде Михайловне. Он долго стоял около двери ее квартиры, наконец отважился и нажал кнопку звонка. Открыв дверь, Зинаида Михайловна подняла в немом удивлении глаза, быстрым стремительным движением запахнула халат, поправила прическу. — Ты? Что такое? Что случилось? — Можно… я… войду? — Ну что ж… входи. Не пойму только — зачем? Мишутин пристально посмотрел на Зинаиду Михайловну. Она изо всех сил старалась показаться беспечной и спокойной. Но горестная складка вокруг рта, глубокая, затаенная боль во взгляде говорили о том, что не так-то уж весело у нее на душе. Василий Федорович заметил, что седых прядей в волосах Зинаиды Михайловны стало больше. Увидел, как бьется, пульсирует жилка на суховатой с заметными морщинами шее Зинаиды Михайловны. И такой дорогой, близкой, до боли родной показалась она ему в этот миг. Он понял удивительно ясно, что без Зинаиды Михайловны, без тепла ее рук, без постоянного, озабоченного, материнского взгляда, без вечно ворчливой и поминутной заботы ее жить больше не сможет. Многое поняла в этот момент и Зинаида Михайловна. Из этого многого главное было то, что она была рада ему, рада этому визиту, и сердце ее не испытывало ни злости, ни обиды, а было полно какой-то болезненной нежности к Мишутину. Сказала, однако, Зинаида Михайловна совсем не то, что думала и чувствовала: — Зачем ты здесь, Мишутин? Что у меня забыл? Мишутин растерялся, вновь пристально посмотрел ей в глаза. Ни затаенной боли, ни тепла в них уже не было. Они искрились непримиримостью. Он ожесточился тоже и уже упрекал себя за то, что решился на это дурацкое унижение и собрался к ней, чтобы предложить добрый мир. Все же Василий Федорович с трудом выдавил из себя: — Может, нам поговорить… Подумать… Может, мы того… помиримся? Зинаида Михайловна посмотрела на него величественно и снисходительно. — Ты лучшего ничего не придумал? — И со вздохом добавила: — Поздно, Мишутин, поздно. Она не пояснила, почему поздно, а для Мишутина эти слова прозвучали так неожиданно, с такой оглушающей силой, что он, прислонившись к косяку двери, смог только сказать: — Да? Ну, что ж… Я понимаю. Извини. Механическим движением он открыл и закрыл дверь. И когда стихли его шаги, Зинаида Михайловна бросилась на кушетку и заплакала. Потом ей показалось, что позвонили. Она побежала в переднюю, открыла дверь: лестничная площадка была пуста. Мишутин в это время шаркающей походкой плелся к стоянке такси. Через два или три дня после поездки в Кузьминки приятели пригласили его в Заболотье. Настроение у Василия Федоровича было хуже некуда — он буквально не знал куда себя деть и потому согласился сразу. Кто мог предположить, что эта поездка окажется столь роковой? Охота, лес, возможное появление зверя — это не было для Мишутина главным. Именно поэтому, находясь на номере, он заметил кабана, когда тот уже уходил, стрелял ему вдогонку. Стрелял неплохо, ранил тяжело, но все же лишь ранил, а не убил зверя. Преследование оказалось длительным, кабана не было ни видно, ни слышно, и азарт погони, чувство опасности стали спадать. Опять сознанием овладели мысли о том, о главном: «Что же делать? Как быть дальше?» На роковой ложбине он увидел кабана в тот самый миг, когда зверь, собрав последние силы, подгоняемый дикой болью и яростью, бросил свое трехсоткилограммовое тело на обидчика. Это был молниеносный бросок. Но, будь Мишутин сосредоточен лишь на этом поединке, он мог еще выйти победителем, мог встретить летящий на него живой снаряд картечью. Этого, однако, не произошло. Не произошло потому, что мозг поздно приказал поднять ружье, снять с предохранителя. А раньше дать такой приказ он не мог, так как был занят другими заботами и другими мыслями… Крылатов кончил свой рассказ, вытер платком вспотевший лоб и замолчал. Потом добавил: — Пространно вышло очень. Извините. Но, понимаете, я не только вам рассказывал, но и сам пытался разобраться. Никак не могу смириться с этой смертью. Генерал встал из-за стола, подошел к креслу и сел напротив Крылатова. — Значит, вы считаете, что Мишутин был в состоянии депрессии, не смог оценить степень опасности и потому… — Да, именно так. Только этим можно объяснить, почему он след в след шел за зверем, нарушая элементарные нормы предосторожности, почему не разрядил в него патрон с картечью… — А может, сам… хотел… — Смерти? Нет, это на Мишутина не похоже. — Но ведь тогда те, кто был с ним в Заболотье, все равно ответственны за этот случай. — Морально — да, юридически — нет. — Все правы, а человек погиб. — Я не сказал, что все правы. Виноваты многие. И приятели-охотники, и я, и сослуживцы, и Зинаида Михайловна, наконец. Будь мы все внимательнее, сумей вовремя понять всю боль Василия Федоровича, этой трагедии могло не быть.
…Вечером Крылатову позвонила Зинаида Михайловна. — Вы извините, Петр Максимович. Я к вам за консультацией. Меня вызывают на Петровку, 38. Ума не приложу, зачем я им понадобилась? — Вас, Зинаида Михайловна, вызывают по поводу Василия Федоровича. Зинаида Михайловна почувствовала, как сжимается сердце в тяжелом предчувствии. — А что с ним? Что? — Василий Федорович погиб. — Но ведь он… Мы… Неужели это правда? — Да. Несчастный случай. Зинаида Михайловна обессиленно опустилась на стул. Ее сознание было заполнено лишь одной мыслью: «Ничего, уже ничего нельзя исправить…» И эта мысль, настойчивая и жгучая, тяжким грузом давила на сердце, туманила мозг, отдаваясь тупой ноющей болью в каждой клетке ее существа.
Пять писем и телеграмма
Письмо первое
Здравствуйте, гражданин комиссар! Вы, конечно, удивитесь этому письму, тем не менее я решил его написать. Недавно мне попалась Ваша брошюра «О красоте душевной». Вечером, придя в казарму, я прочитал ее. Гладко написано. Василий Петушков, конечно, человек настоящий, герой в полном смысле. Тут спору нет. Но вот Ваши похвалы в адрес всех работников административных органов явно преувеличены. И очерк Ваш, по-моему, неправдив. От этой моей оценки, конечно, ровно ничего не изменится, и она может даже обидеть Вас, но пишу, что думаю. Особенно взвинтило меня одно место: «Да, тверда должна быть рука, карающая преступников. Но не менее важно человеку, облеченному властью, быть по-настоящему чутким, гуманным, справедливым. Ему надо уметь любить людей. Это, может быть, лучшая гарантия от ошибок, нарушений нашей советской законности. Так и только так работает абсолютное большинство блюстителей наших законов». Вам из своего кабинета на Петровке виднее, но я таких людей среди «блюстителей законов» что-то не встречал, Конечно, я преступник, осужденный, и вовсе не рассчитываю на то, чтобы «блюстители законов» со мной лобызались. Но все же человек есть человек. Поэтому по самым элементарным правилам нашего государства рабочих и крестьян и я имею право на то, чтобы и ко мне относились как к человеку. Я осужденный, и не просто осужденный, а трудновоспитуемый; по крайней мере, таким меня считает администрация колонии. Да и мое личное дело говорит то же самое. И все же я считаю себя человеком. Работаю я на мебельном производстве, учусь в вечерней школе, читаю газеты, журналы, художественную литературу. Хочу быть полезным людям, пока хотя бы тем, которые окружают меня сейчас. А вот доказать, что я человек, не могу. Привезли недавно к нам в мастерскую видавший виды станок. Я его довел до такой кондиции, что он втрое поднял производительность, облегчил труд людей, стал давать высококачественную продукцию. Старший надзиратель колонии заявил мне: «Хорошо, Галаншин, молодец. Внедрять новое — это долг каждого советского гражданина, в том числе и ваш. Вы тоже граждане, только временно изолированные от общества за свои деяния». Правильно сказал. А когда я толкнулся к нему со своим личным делом, он мне сунул в нос инструкцию: нельзя. А ведь дело-то у меня такое, что от него вся жизнь моя зависит. Не решу я его — и жить мне ни к чему. Да, да! Ни к чему. А мне говорят, инструкция. Я и просил, и требовал, и умолял. Ничего не помогло. Ну что осталось делать? Забился я в угол казармы и… заплакал. Да, да, ревел, как баба или пацан-несмышленыш. Хоть и стыдно об этом писать, а пишу, потому что факт остается фактом. Вы, гражданин комиссар, никогда не видели, как плачет мужчина? Плачет от обиды, оттого, что не может доказать свое право называться человеком, доказать, что у него честные, искренние стремления. Это страшные, мучительные слезы, и не дай бог никому их испытать. Да, есть среди тех, кто рядом со мной, такие, и их немало, которые считают, что раз они начали жихтарить, то есть жить по законам преступного мира, то должны и впредь грабить, воровать, бесчинствовать, пить, играть в карты, хранить блатные тайны. Это, дескать, у них на роду написано. А кто начинает думать иначе, тот дезертир. Тюрьма — штука неприятная, но временная. Зато это школа опыта, приобретения новых корешей для дальнейшей деятельности на уголовном поприще. Но должен сказать Вам, гражданин комиссар, что так думают не все, далеко не все. А этого-то «блюстители закона» как раз и не хотят знать. Вот почему статья о душевной красоте Ваших сослуживцев очень и очень приукрашена. Слишком Вы преувеличиваете, гражданин комиссар. Прочтя ее, можно подумать, что все вы герои, до краев наполненные благородством. А ведь это не так. Далеко не так. И рана в моей душе — убедительное подтверждение этому. С приветом Леонид Галаншин.Письмо второе
Гражданин комиссар! Вы даже не представляете, как ошеломило меня Ваше письмо! Во всем нашем отделении оно ходило из рук в руки целую педелю. Уж очень неожиданно все получилось. Я ведь, по правде, не рассчитывал на ответ. Большущее Вам спасибо. И, если можно, прошу меня извинить, что я так «безответственно и резко» написал о людях, призванных обеспечивать социалистический порядок. Действительно, написал я, не очень-то выбирая выражения. Но ведь в письме имелись в виду те, с кем волей судьбы я сталкивался. И то, что сказано там, не относится ко всем работникам административных органов. По возможности, прошу это иметь в виду. Хотя таких восторгов, как у Вас, они у меня, конечно, не вызывают. Вот пишу Вам это сам не знаю зачем. В моей беде Вы ведь тоже не поможете. Не захотите. Однако раз Вы проявили интерес к моей не ахти какой знатной особе и пишете, что Вам «надо знать подробно, кто я, что натворил и чего добиваюсь», отвечу на Ваши вопросы. Вот моя исповедь. Имейте, пожалуйста, в виду, что здесь нет ни одного слова неправды. Детство мое было очень горькое, а юность — тяжелая. Родители разошлись, подбросив меня тетке. Как жить в чужой семье, где своих пять ртов, Вы, наверное, представить можете. В общем, чужой среди родных. Потом война. Пошел на фронт. Раненый, без сознания, попал в плен. Из фашистского лагеря меня освободили наши войска, вступившие на территорию Украины. Не подумайте, что я форс давлю, нет. Обивал все пороги, просился на фронт, но… Стали, как это водилось тогда, изучать да проверять. Не выдержал, нагрубил начальству, взяли меня на заметку. Обозлился я еще больше. А тут умудрил меня господь организовать ночную вылазку на спиртзавод. Нахлебались мы там вдоволь да и с собой еще прихватили. Ну и закрутилось дело. Получил я вместо направления на фронт пять лет со строгой изоляцией. Вы, наверное, скажете: «А то как же? По заслугам». Да, по заслугам, не спорю. Конечно, я дурак, что затеял эту «операцию». Но сцепил зубы, решил: отбуду свой срок. И стал отбывать. Честно, аккуратно. Освободили даже на два года досрочно. Война уже кончалась. Вернулся в родные места. Не очень приятным было это возвращение. Дорогая тетушка от ворот поворот мне показала. Впрочем, понять ее можно. Все люди как люди. Кто уцелел и с войны пришел, гордые по земле ходят. Родину спасали. А я чем могу похвастаться? Конечно, надо бы совладать со своей обидой. Руки, ноги есть, голова цела. С лагерями покончено. Какого рожна еще? Но зол я был на весь свет. Поехал на шахты, стал работать. А у самого все время мысль: не такой я, как все, сторонятся меня люди, еле терпят. И скоро это подтвердилось. Набирали на шахте людей на курсы машинистов. Толкнулся и я. Куда там! Мы, говорят, берем тех, кто достоин, а с вас судимость еще не снята. Замерло у меня все внутри. Пить я начал, да так, что удивляюсь, как концы не отдал. Иду я, бывало, по улице пьянь-пьянью. Люди шарахаются, смотрят с осуждением, а я злорадствую. Не нравится? А мне наплевать! Вниз так вниз, катиться так катиться! И пил, пил… Ну, там, где пьянка, там закон побоку. Как-то не хватило в одной компании деньжат на застолье. Ну что за проблема — деньги? Распотрошили мы продовольственную палатку в поселке. А когда хмель прошел, понял я, что натворил неладное. Только что толку, что понял? Поздно уже было. Дали мне по совокупности семерку. Сбежал. Вернулся в Луганск. И опять пришлось в колонию возвратиться. Теперь уж мне все подытожили: и те недоотбытые два года, что по первой судимости скостили, и семь, что отбывать не начал, и еще пять лет прибавили. Одним словом, срок вполне достаточный, чтобы поразмыслить над своим житьем-бытьем. Вот Вам первая часть моей «героической» биографии. Так я превратился в индивидуум особого рода, стал «трудным осужденным». Ни под какие льготы я не попадаю. Раньше срока освобождать меня нельзя, потому что из меня еще не сделали «хрустального» человека. А задача эта нереальная, потому что не может мир состоять только из «хрустальных» людей. Но главное, что произошли в моей жизни, во всей моей необузданной натуре изменения невероятные. Приятели мои говорят: Галаншин начал трайлить, фантазировать. Начальство тоже не верит: считает, что восьмерить пытаюсь, то есть прикидываться, притворяться. Не хотят понять, что не блажь это, а перемена во мне произошла громадная. Родился новый Леонид Галаншин, совсем непохожий на прежнего. Как я уже сказал, у меня нет родных, семьи. Я не знал, что такое любовь, как можно гулять с девушкой, сидеть с ней в кино, делиться впечатлениями, мыслями. Ничего я этого не испытал. Всю жизнь мне приходилось натыкаться на черствых людей. Конечно, попадались среди них и хорошие, но то ли я их не понимал, то ли они меня понять не хотели. Только убедился я давно, что не верят мне люди. Сочувствуют иногда, ну а от сочувствия не всегда легче бывает. Помочь же никто, в сущности, не может или не хочет. Писатель Лацис в одной из своих книг сказал, что самое мучительное для человека — ничего не ждать от завтрашнего дня. Вы скажете, какое отношение это может иметь ко мне? Есть, мол, и тебе на что надеяться. Есть здоровье, силы, впереди — освобождение. Терпи, мол, Галаншин, и все рано или поздно утрясется. Но ведь пока солнце взойдет, роса очи выест. Не подумайте, что я хочу каких-то поблажек вроде досрочного освобождения. Я готов годы и годы пилить и строгать эти самые ножки для табуреток. Готов вынести и куда более худшее. Пусть я буду чистить выгребные ямы. И на это согласен. Но пусть поймут, что я человек! Собственно, в этом смысл моих писем к Вам, если говорить откровенно. Я люблю женщину. Да, гражданин комиссар, люблю женщину. И это не лакшовка какая-нибудь, а чистый,кристальный ключик. И люблю ее так, что ни в одной книге не читал про такую любовь, как наша. Вот уже пять лет, как я ее люблю. Думал, пройдет. Но нет. Не проходит моя любовь, а все сильнее и сильнее становится. Понимаю, что Вам трудно поверить в это, ибо Вы, наверное, знаете наш мир. Да, там, где я нахожусь, отношение к женщине низменное, циничное, хотя у людей, пишущих о ворах, жуликах, убийцах, и бытует порой обратное убеждение. Но это от незнания действительного положения дел. Люди, способные поднять руку на ребенка, на немощного старика и вообще на человека, как правило, не знают великого чувства — любви. Но известно ведь, что нет правил без исключения. Случай со мной еще раз подтверждает это. Во мне, моей зачерствевшей душе родилось такое чувство, что заслонило все, я сам себе удивляюсь, сам себя не узнаю. Очень прошу: не относитесь к моим словам легко. Они выстраданы, вымучены, они — крик моего сердца. Я чувствую, что, если бы мне поверили и разрешили сделать то, что я прошу, жизнь моя повернулась бы круто. Что же я прошу? Разрешить мне зарегистрировать брак с моей Галей. Только и всего. Я буду честно отбывать данный мне срок. Но тогда у меня будет путеводная звезда, тот огонек в ночи, который поведет за собой, отогреет сердце, поможет честно пройти оставшуюся часть пути. Вот с этой-то своей просьбой я и обратился по начальству. И получил ответ: нельзя. Не положено. Инструкция. Да, я совершил преступление, и не одно. Это я знаю, понимаю. Но я клянусь жизнью, клянусь своей любовью, что сделаю из себя другого человека! Только дайте мне эту возможность! Дайте! И все. Помогите, гражданин комиссар, если сможете. Галаншин Леонид.Письмо третье
Здравствуйте, гражданин комиссар! Получил Ваше письмо. Не очень-то оно меня обрадовало. Но все же спасибо за то, что Вы не чураетесь общения с тем, кого и человеком-то не признают. Отчитали Вы меня крепко. Признаюсь, не раз бросало в жар от Ваших увесистых слов. Однако Вы не совсем правильно поняли меня, гражданин комиссар. Вы сочли, что я требую какой-то особой к себе снисходительности, поблажки, прощения за свои ошибки. Да нет же! Нет! Прошу мне поверить. Поверить в то, что я хочу страстно, хочу во что бы то ни стало стать настоящим человеком. Вы пишете в своем письме: «Право на ошибку — высокое право первооткрывателей и первопроходцев. Оно допустимо при исканиях, стремлениях человека сделать что-то новое, лучшее, большое для людей. Но и при этом ошибки не прощаются, тем более, если они, эти ошибки, чреваты какими-то последствиями. А есть ошибки, на которые человек не имеет права даже один раз в жизни. Ни в восемнадцать, ни в восемьдесят лет». Правильные слова. Согласен, гражданин комиссар. Но ведь ошибка ошибке рознь. Конечно, я не из числа первооткрывателей. Но ведь и не убийца я, не предатель своей земли. И хочу не так уж много! Правда, моя просьба не укладывается в рамки инструкции. Но спрашивается: что изменится, если сделают исключение из этих инструкций? Для общего дела вреда никакого, для меня — другая жизнь. Теперь я отвечу на Ваш вопрос о том, что за романтическая история со мной произошла и что это за «Дульцинея, которая зажгла во мне пламень». Я понял Вашу иронию, не хотел совсем писать, так мне стало обидно. Но в конце письма Вы уже серьезно спрашиваете обо всем этом. Поэтому я подумал: нет, комиссар не издевается надо мной и не из любопытства задает свои вопросы. Я убедил, уверил себя в этом и вот пишу Вам все. Все как было. И если Вы разбираетесь в людях, умеете понимать их психологию — по должности вроде бы обязаны это уметь, — поймете и меня. Моя Дульцинея — это Галя. Маленькая, невзрачная на первый взгляд девушка. Милая моя Галя! Как я с ней познакомился, где? Работал я тогда каменщиком на строительстве нефтекомбината. И прислали на стройку девушек из ФЗО на практику. Ко мне направили Галю. Я вел кирпичную кладку одного из цехов. Приходит прораб и говорит: — Вот что, Галаншин! Эта девушка через пару месяцев должна стать мастером, доверяю ее тебе. От этого его слова «доверяю» я первый раз в жизни смутился. Меня когда-то стыдили целым базаром, и я не краснел. А здесь стушевался. Посмотрел я на нее, на девушку-то, а она на меня. Глаза не опускает, смотрит и не моргнет. Вот, думаю, кажется, своя девка… — Ну что же, — говорю, — полезем на леса, сейчас посмотрим, чему вас там учили, в ФЗО. Она такая щупленькая, маленькая. Комбинезон серенький, на голове берет, — ну как пацан. А подсобник мой отводит меня в сторону и говорит: «Давай, Лexa, действуй, а я на страже постою». Не знаю уж почему, но закипел я от его слов и так глянул на него, что тот попятился. Залезли мы на леса. Узнал я, что ей восемнадцать лет. А мне? Мне в то время было тридцать пять. Никаких особых мыслей в голове у меня не было, но так просто, из озорства, проявил к ней хамство. И такую оплеуху получил, что по сей день в ушах звенит. Но жаловаться Галя не пошла и никому ничего не сказала. А я уж готовился суток пятнадцать штрафника отбывать. До обеда ни я, ни Галя друг другу не сказали ни слова. Обедать я не пошел, во рту сухо было. Сел прямо на лесах десятиметровой высоты, закурил. Подходит ко мне Галя с белым узелком, садится возле меня. — Ну, давай, Леня, кушать. — И узелок развязывает. Лежали в том узелочке два огурца, пяток помидоров, яйца и соль в бумажке. Ну и хлеб, конечно. — Кушай, Леня. — Это она мне говорит, мне, который так по-хамски вчера поступил. Я посмотрел в ее глаза, а глаза-то у нее знаете какие? Электрические, нет, не электрические. Даже не знаю какие, очень красивые и нежные. И я… заплакал. Не знаю, как это случилось, но заплакал. И Галя все поняла. Так и сидели мы. Молчали. А потом она говорит: — Расскажи мне, Леня, о себе, о своей жизни. Все расскажи. И я рассказал. Рассказал все, без утайки. Когда кончил, Галя взяла мою руку, тихонько так пожала. Поверите, у меня красные круги перед глазами пошли, в горле горячий ком застрял, все тело стала бить какая-то неуемная дрожь. А Галя не отходила от меня и все говорила. Говорила о людях, о жизни, о разных местах, где бывала. В ушах у меня от ее слов играла настоящая музыка. После этого дня каждое слово Гали стало для меня законом. — Школа, оказывается, у вас есть? — Есть, — говорю. — А почему ж ты не учишься? Через неделю я уже ходил на занятия. — А что ты читал? Горького? Шолохова? — Нет, — говорю, — не пришлось. — Так почитай. Появились у меня книжки. Газетами, журналами стал интересоваться. Потом и до моей внешности добралась. — Зачем, — говорит, — ты эту страшную бородищу носишь? Ведь ты молодой еще. Почему не следишь за собой? А надо сказать, что среди нашего брата манера такая пошла, ну стиль, что ли, особый — на гориллу походить. Плюнул я на эту моду, стричься-бриться стал регулярно. Оказалось, что при желании вполне можно человеком выглядеть, а не образиной. Правду говорят, что все тайное становится явным. Узнали и о нашей с Галей любви. Пошли слухи, что живу с ней. Меня перевели на тюремный режим. Даже написать я Гале не мог. Из тюрьмы разрешают писать только родственникам, если они числятся в личном деле. А у меня никого нет. Я записался на прием к начальнику тюрьмы полковнику Хусайнову. Он меня выслушал, как отец родной. Разрешил мне повидаться с Галей. Я ей написал. Что я только не передумал, ожидая ответа, сравнивая ее жизнь и свою! Ее годы и свои. Мучился, сомневался. А вдруг не придет? И вот получил весточку: «Буду». В тот день начальник сам пришел в столярную мастерскую, где я работал, велел мне одеться почище и идти на свидание. Какая это была встреча! Два часа пролетели, как одна минута. Галя мне сказала, что ее исключили из комсомола за связь с осужденным и перевели на другой объект. Оказывается, как много она пережила! А еще смеется. Я стал ей советовать уехать в другой город. — Зачем, Леня? Ведь я не украла ничего, не разбила ничью семью. Я нашла тебя, и из-за этого должна уезжать? Нет, своей любви я не стыжусь. А что со мной так поступили, пусть, не все люди бездушные, найдутся такие. которые поймут. На прощание Галя сказала: — Помни, Леня, я тебя не покину никогда. Где бы ты ни был, я буду с тобой. Начальник присутствовал на нашем свидании и сказал ей: — Ты, Галя, настоящий человек, я уверен, что изменишь судьбу Галаншина. К прошлой жизни он не вернется. Я помогу вам. Ты станешь его женой, а он будет честно трудиться, чтобы скорее прошел срок. Мы поцеловались с Галей. И когда она на прощание передавала мне сумочку с продуктами, я готов был обнять весь мир от счастья, что теперь я не один на свете, что я нужен кому-то. Нужен Гале — хорошему, душевному человеку, девушке, милей которой нет в мире! После этого я стал жить надеждами. Но не все надежды сбываются. Полковника Хусайнова перевели в другое место, а новое начальство все повернуло в обратную сторону. В свиданиях нам отказали. Я узнал, что один из надзирателей оскорбил Галю. Решил с ним «посчитаться». Уже направился, чтобы исполнить задуманное, как один из осужденных подозвал меня и сказал: «Иди, Лexa, к тебе «твоя» пришла. У забора ходит». Я сказал Гале, что ее обидчику отомщу. Но она махнула рукой и сказала, что не обращает на это внимания, мало ли дураков и хамов. «Не смей с ними связываться!» После этой встречи я снова подал заявление начальству с просьбой разрешить нам с Галей зарегистрировать брак. Меня вызвали. Вызвали и Галю. Новый начальник сообщил нам, что ходатайствовать о регистрации не будет, так как это запрещено инструкцией, и, кроме того, у меня еще большой срок впереди. Галина же очень молода, и это, дескать, всего лишь порыв, романтика, молодость. Начиталась, мол, романов, вот и дурит. Галя плакала, а я скрежетал зубами от бессилия. Уходя, она сказала мне: — Дойду до самого высшего начальника, а добьюсь регистрации. Это не старое время, у нас не отнимут любовь. Так мы расстались с Галей. Я в полном и безнадежном отчаянии. Все наши попытки найти выход из положения, получить человеческое право быть мужем и женой разбились об инструкцию. Если можете, гражданин комиссар, помогите! Хотя я уже не верю ни во что. Галаншин.Письмо четвертое
Гражданин комиссар! Вы зря на меня так обрушились в своем письме. Хотя многие из Ваших слов должен признать справедливыми. Но, скажу откровенно, если бы не Галя, если бы не ее сердце, ее душевная теплота, покончил бы я все счеты со своим дрянным, незадачливым житьишком. Но попробую написать все по порядку. После той беседы с начальством настоял я, чтобы Галина уехала в другой город. Она послушалась и уехала. Устроилась работать неподалеку. Стал я посылать ей переводом деньги. Она не принимала сперва, отсылала назад: мол, она на воле, ей легче. Но я настоял. Да и деньги мне ни к чему. Есть во что одеться, харчи казенные. А Гале — ей и платьице, и туфельки нужны, и в кино, и на танцы сходить. Ведь молоденькая же. Но Галя знаете куда деньги тратила, что я присылал ей? Купила мне пальто, костюм, рубашек. Письмо я как-то получил от хозяйки, где она комнату снимает. Так она моей Галкой не нахвалится: и детей-то помыть поможет, и белье постирает. Как своя, родная в семье. Но тут новое происшествие: запретили мне деньги Гале посылать. А мне перед ней стыдно, вдруг что нехорошее подумает? То посылал, а то вдруг нет. Я пришел к начальнику, говорю ему: как же так, ведь у меня, кроме Гали, никого нет на свете. А он мне: дурак ты, Галаншин. Ты ей деньги посылаешь, а она там, поди, проматывает их со своими хахалями. Ты думаешь, она ждет тебя? Так вот знай, раз связалась с осужденным, значит, непутевая была… Не помня себя, я заорал: «Не смей так говорить, не смей!..» И если б не о Гале в этот момент думал, не знаю, что бы было… Если кто оскорбит Галину, съем сразу, только железные пуговки выплюну. Скис я здорово после этого случая. Но опять Галя вмешалась. Прислала письмо. Добилась она, оказывается, что ее в комсомоле восстановили. Описала все свои хлопоты по нашей регистрации: куда ходила, куда пробивалась. Молодчина, ну просто молодчина! И планы свои на этот счет изложила. А с меня опять потребовала: работать по совести и вести себя как подобает. Верите, всю хандру с меня как рукой сняло. Работаю, как тигр, веду себя, как сосунок. Мои дружки думают, что я работаю как чумной, потому что кого-то боюсь. А я ничего не боюсь. Даже смерти. Я ее презираю, она сама меня боится. Все дело в Галине. Ее письмо для меня — будто чудо живительное. Галя, только Галя держит меня!.. По неписаным законам нашего блатного мира вор или грабитель не должен в заключении занимать какие-либо административные должности. Десятник, бригадир, чем-либо заведующий — деятельность запрещенная, заключенный вроде бы не должен браться за нее. Я хорошо знаю эти звериные нормы. И все же согласился возглавить работу столярной мастерской. Почему? Да потому, что я не признаю ни за кем права делать меня слепым кутенком. Не хочу мириться с нормами и правилами, которые превращают человека в зверя! Нельзя, чтобы человек терял надежду хоть когда-нибудь получить право называться человеком. Так что Ваши слова, гражданин комиссар, о моем «в некотором роде заячьем поведении» не соответствуют истинному положению дел. Моменты, когда я падал духом, были, но мой жизненный стимул — Галя, она вовремя приходила на помощь. Ну и уж если совсем начистоту, Ваши письма тоже неплохо на меня подействовали. Только не сочтите это за подхалимаж. Я этого не люблю, и не в моем характере такие повадки. Ну а в общем итоге начальство наше иначе на меня смотреть стало. Видимо, понимать начало, что рождается новый человек в Галаншине. Один из начальников все допрашивает меня, откуда меня в Москве знают. Никак я его убедить не могу, что ни сватьев, ни братьев у меня нет и водку мы с Вами никогда не пили. Я все сделал, как Вы мне советовали. Обратился с подробнейшим заявлением в Москву. Описал все, как было, всю свою жизнь. И все отправил через свое начальство. Теперь жду ответа. Я понимаю, что изрядно надоел Вам, и все же опять прошу об одном и том же: помогите, подтолкните там, в Москве, чтобы не пропала моя исповедь, чтобы разрешили нам с Галей зарегистрироваться. Свободы я не прошу. Я ее заработаю. Буду горы ворочать, как бульдозер. И нарушений режима не допущу. Доверие оправдаю. Но без Гали я жить не смогу, моя жизнь без нее пустая. Ну что нужно, чтобы доказать, что мы беспредельно любим друг друга? Что не легкомыслие, не баловство это? Ведь пять лет прошло с тех пор, как мы встретились. И за это время мы еще больше, еще крепче привязались друг к другу. Кто может сказать, что это юношеская романтика, каприз девчонки из ФЗО? Сейчас Галя совсем взрослая и очень-очень красивая. А лицо — лицо у нее такое, что я буду любоваться им всю жизнь. Путаное это и какое-то слезливое письмо у меня получилось. Очень волнуюсь. Наболело все так, что кричать хочется. Только бы разрешили брак с Галиной. И больше мне ничего не надо. Свободу я горбом добуду. Не по обочинам, а по дороге пойду, если Галка будет рядом. Галаншин Леонид.Письмо пятое
Гражданин товарищ комиссар, здравствуйте! Пишет Вам Галина Власенко. Прежде всего сообщаю, что письмо Ваше получила. Спасибо Вам, большое спасибо, что написали. Извините, с ответом немного задержалась, была в командировке. Постараюсь ответить на все Ваши вопросы. Я не знаю, что писал Вам Леонид обо мне. О нем скажу все откровенно, как есть. Встретились мы с ним случайно на стройке. Обросший, грубый человек, с большими, натруженными, узловатыми руками. Не знаю почему, но защемило у меня сердце. Особенно когда я посмотрела ему в глаза. Было в них и страдание, и непроходящая тоска, а в глубине их что-то теплое, человеческое. Может, потому, что я тоже имела нелегкое детство (родители у меня в войну погибли), но мелькнула у меня мысль, что этому человеку нужна родная, близкая душа, нужна, как хлеб, как воздух. И потом уже эта мысль не покидала меня. Многие отзываются о Лене нелестно. Но они не знают его, какой он человек. А ведь это главное — человек. У него сердце золотое. И работать любит. Не злой он, не жадный, душевный и очень смелый, до отчаянности, что ему иногда и мешает. Может, я вижу в нем только хорошее? Возможно. Но сердце мое чувствует, что Леня настоящий, что на него понадеяться можно, что не подведет он, не обманет. И что мы с ним — те двое из всех людей, что нашли друг друга, для счастья встретились, для жизни вместе, до конца рядом. Поверила я в это, полюбила его и сама первая пошла к нему. Леня — моя судьба, он мой единственный, и нет другого на свете для меня. Я вспоминаю встречи с ним как светлые праздники, как самые счастливые дни. И то, что он старше меня, не имеет значения. И жизнь его прошлая не испугала меня. Потому что верю я в него, знаю сердце его большое, любовь нерастраченную. Очень волнуюсь я о Лене. Он горячий, неуравновешенный, как бы не сорвался. А уж если сорвется, тогда все — не поднимется. Это меня очень пугает. Письма я ему пишу по двое суток, все такие слова подбираю, чтобы не обидеть, успокоить. Он вроде слушается. Боится он, что я его бросить могу. Молодая, мол, жизнь вся впереди. И переживает разлуку нашу тяжко, нервничает. Свидания все просит. Да я к нему и сама побежала бы. Только ведь не так просто это! Наши законы, товарищ комиссар, справедливы, только жизнь в законы не вся укладывается. Вот люблю я Леню, хочу быть с ним. В беде, в несчастье, все равно где — хоть на Северном полюсе, только бы с ним. И знаю, что получится наша жизнь. Он тоже надеется, что все у него по-другому пойдет. А закон не дает нам быть вместе. Почему же не помочь нам? Я уже в разные места обращалась, куда только не писала. Одни сочувствуют, вроде понимают все. А другие говорят: «Брось его! Что, на нем свет клином сошелся, что ли? Что, ты на воле лучшего не найдешь мужа?» Как все это больно слушать! Сейчас у меня одна цель: добиться, чтобы мы были вместе. Я сделала все, как Вы велели: послала все бумаги и министру и Генеральному прокурору. Теперь с нетерпением жду решения. Умоляю Вас, товарищ комиссар, помогите нам! Век не забудем. Спасибо Вам за все, за отзывчивость Вашу — низкий поклон. Галя Власенко.Телеграмма
Москва, Петровка, 38. Товарищу комиссару. Сегодня наш самый светлый, радостный праздник. Зарегистрировались в горзагсе, как полагается. Даже начальство счастья пожелало. Леонид признается и кается, что он не прав, совсем не прав в отношении Вас, Ваших товарищей по службе. Спасибо, товарищ комиссар. Всегда, всегда будем помнить Вас. Леонид, Галина Галаншины.Послесловие
Эта переписка лежала в сейфе среди служебных бумаг одного заслуженного криминалиста, много лет проработавшего на Петровке. Листки уже чуть пожелтели. Я начал просматривать их и не мог оторваться, пока не прочитал все. В одну из встреч с комиссаром спросил его, знает ли он о дальнейшей судьбе своих подопечных. Или телеграмма была последней страницей этой истории? Комиссар улыбнулся и не без гордости ответил: — Нет, почему же? Просто последующие письма уже шли в мой домашний адрес, как к пенсионеру. А подопечные живы и здоровы. Есть за Тулой такой город — Новомосковск. Знаете? Ну так вот, там на Первомайской улице проживает семья Галаншиных. Муж, жена и двое хлопцев. Старший в этом году в школу пошел. Глава семьи, Леонид Петрович Галаншин, работает мастером деревообделочного комбината, жена — на стройке. Помолчав немного, комиссар добавил: — Был у них однажды. Рыбалка там на Иван-озере знаменитая. Думаю еще как-нибудь собраться.Зачем!
Сегодняшняя встреча полковника внутренних дел Стрельцова и Василия Крупенина являлась последней, завершающей. Крупенин уже понимал весомость фактов и цифр, скрупулезно собранных и зафиксированных в объемистых папках следственного дела, что лежали на столе полковника. Понимал и страшился их. Сейчас он признавал, что да, виноват. Серьезно виноват, но все же не в такой степени, как ему инкриминируют. Старался преуменьшить масштабы операций, выискивал любые мало-мальски объективные причины, которые якобы толкали его по наклонной плоскости. Часто и плаксиво сетовал по поводу своей неудавшейся жизни, раскаивался в том, что стал на такой скользкий путь. Он сидел сгорбившись на краешке стула, зажав в коленях потные дрожащие руки, и, надрывно всхрипывая, вопрошал: — Зачем мне это было нужно? Зачем? Жизнь-то порушена, сгублена. Зачем? Для чего? Полковник Стрельцов, уже привыкший к частой смене настроений Крупенина, ответил: — На этот вопрос сможете ответить только вы сами, только сами. А сейчас вот вам текст обвинительного заключения. Садитесь вон за тот стол и внимательно читайте. Согласны — подписывайте, не согласны, имеете замечания, возражения — заявляйте, будем вместе с вами разбираться вновь. — Да. да. Понимаю. Крупенин тяжело поднялся со стула, прошаркал к соседнему столу и углубился в чтение. Читал долго, поминутно вздыхая, охая, то и дело утираясь большим коричневым платком. Стрельцову завтра предстояло докладывать следственное дело прокурору города, и он придвинул ближе к себе пухлые голубоватые папки. Вновь и вновь читая документы — протоколы допросов, очных ставок, заключения экспертов, он в который уже раз зрительно, почти осязаемо представлял себе пути и перепутья, все кривые, запутанные тропы Крупенина и его подручных.…Дверь кабинета управляющего трестом Легпромстрой Крупенина тихо отворилась, и секретарша доложила: — Вас спрашивает полковник Стрельцов из городского отдела внутренних дел. Крупенин поднял трубку. — Здравствуйте, товарищ полковник. Слушаю вас. Что за докука появилась к нам у блюстителей правопорядка? — Дело вот какое, товарищ Крупенин. На Московском шоссе были задержаны два грузовика третьего стройуправления вашего треста с керамической облицовочной плиткой. Прошло три дня, а руководители стройуправления что-то не спешат приехать и помочь нам разобраться что к чему. Ведь в калужских краях ваших объектов, кажется, нет? У Крупенина вдруг заныл позвоночник, остро кольнуло в затылке. Болезненно поморщившись, он постарался ответить спокойно: — Объектов у нас, товарищ Стрельцов, много. Строим и у себя в области, и в Москве, и на юге, и даже ка БАМе. Руководству же стройуправления я сейчас накручу холку, и они живо помогут вам во всем разобраться. Сразу же после этого разговора Крупенин вызвал Гурия Борзых, своего заместителя, и начальника отдела снабжения Горовца. — Что там за история с грузовиками в третьем СМУ? Мне только что из милиции звонили. Борзых стал объяснять: — Должок мы досылали калужскому местпрому. Помните, днями они были у вас. Я распорядился, чтобы рассчитаться. Крупенин сумрачно посмотрел на Борзых и Горобца. — Сейчас же поезжайте в горотдел к полковнику Стрельцову и уладьте недоразумение. Эпизод этот надо локализовать, что-то он беспокоит меня. Однако, несмотря на все старания руководителей третьего стройуправления и подключившегося к ним в помощь Борзых и Горобца, локализовать эпизод не удалось. Старший лейтенант Камышин, что по поручению Стрельцова занимался случаем с грузовиками, навел за эти дни кое-какие справки и потому к объяснениям работников треста отнесся настороженно. — Говорите, отдавали долг? Но почему цемент, взятый у калужан в вашем СМУ, не был оприходован? И по чьему разрешению была осуществлена эта обменная операция? Ведь и плитка и цемент строго фондируемые материалы. Разрешение главка? Представьте его нам. Неясно и еще одно. Зачем калужским местпромовцам такая плитка? Дворцов они вроде не строят, особняков тоже. Кому же и зачем она вдруг понадобилась? Свои сомнения Камышин доложил Стрельцову, и вечером они вместе поехали к начальнику управления. — Легпромстроем, вероятно, придется заняться поглубже, товарищ генерал. Сигналы и раньше были, да все руки у нас не доходили. А этот эпизод с плиткой очень настораживает. Уловив предостерегающий взгляд генерала, Стрельцов добавил: — Понимаю: и трест авторитетный, и управляющий под стать, но материалы таковы, что игнорировать их мы не можем. Проверить, во всяком случае, должны. После короткого раздумья начальник управления проговорил: — Ну что же. Раз есть основания — начинайте проверку. Но имейте в виду, что трест, как вы верно заметили, известный, дела делает немалые, и нам не простят, если мы опорочим его или кого-либо из работников без достаточных оснований. Ни Стрельцов, ни начальник управления не предполагали тогда, что не столь уж значительная история с керамической плиткой положит начало разоблачению крупной, отлично организованной группы дельцов, расхитителей, подвизавшихся на некоторых подмосковных стройках. Крупенин, Борзых и Горобец — заправилы этой группы, хотя и были обеспокоены подозрительностью лейтенанта Камышина при разборе дела с грузовиками, тоже не предполагали, что этот эпизод будет последним в их многолетней преступной и, к сожалению, безнаказанной деятельности, будет предвестником их конца. Правда, для этого потребовался упорный, полуторагодичный каждодневный труд оперативной группы Стрельцова, работников прокуратуры, усилия многих консультантов, экспертов, специалистов по строительным, финансовым, плановым, транспортным и прочим проблемам. …Крупенина пригласили в ОБХСС в ходе следствия, когда довольно много было уже выяснено. Перед полковником Стрельцовым сидел грузноватый, излишне упитанный мужчина с бледным, часто потеющим лицом, с прядью рыжевато-седых волос, искусно закрывающих обширную залысину. В солидной осанке, басовитом голосе нет-нет да и проскальзывали властные нотки человека, привыкшего к тому, чтобы его и слушали и слушались. Только вот глаза были неспокойны, они ожидающе затаенным страхом следили за Стрельцовым, пытаясь угадать, что тому известно, все ли он знает из того, что знал сам Крупенин. Полковник был суховат, немногословен и интересовался пока что общими вопросами: системой учета материалов, взаимоотношениями заказчиков и подрядных организаций, порядком финансовых расчетов между ними и прочим. Крупенин отвечал на эти вопросы подробно, со знанием дела. Очень хотелось ему как-то расположить к себе этого служаку. Даже думалось: чем бы задобрить его? Особенно настойчиво эта мысль стала мельтешить у Крупенина, когда Стрельцов в конце разговора, сняв очки и подслеповато щурясь, проговорил: — А ведь мы, Василий Семенович, с вами когда-то встречались. Не помните? Крупенин с готовностью поднял голову: — Мир тесен. Наверное, встречались. Вероятно, на активах, совещаниях, конференциях. Стрельцов скупо усмехнулся: — Нет, я имею в виду другое. Но, впрочем, это несущественно. Крупенин, однако, не хотел упустить неофициальную, как ему показалось, интонацию разговора и торопливо зачастил: — Нет, нет. Подождите. Я вспомню. Склероз у меня еще только начинается. Так где же мы могли видеться? На стадионе? В театре? В ресторане? А впрочем, вы ведь в эти заведения, видимо, не ходите. — Ну почему же? Когда есть необходимость или повод, когда есть возможности, ходим в ресторан. Одним словом, все как у людей. Крупенин небрежно заметил: — Ну возможности — дело наживное. Стрельцов усмехнулся, пристально посмотрев на Крупенина. — Хотите помочь расширить эти возможности? Смелый вы, однако, Крупенин. — О чем вы, товарищ полковник? Вы, видимо, неверно меня поняли. — А мне думается, понял я вас абсолютно точно. И хочу дать вам, Крупенин, один совет. Не мудрствуйте лукаво, не тешьте себя несбыточными надеждами. Сухим из воды вы на этот раз не выйдете. И потому настоятельно рекомендую — расскажите следствию все. Повторяю — все, открыто и честно. Ценности же в любых видах, что нажили нечестным путем, сдайте государству. Они ведь принадлежат ему. Крупенин побледнел. Глаза сузились, чуть побелели в злобном всплеске. Хрипло, с неподдельным гневом проговорил: — О чем это вы, полковник? Что я должен такое рассказать? И какие ценности? Откуда они у меня? — Я дал вам совет. Если хорошенько подумаете, убедитесь — совет добрый. Крупенин, ошеломленный, сбитый с толку этим разговором, нещадно клявший себя за то, что сам его начал, не знал, как сейчас поступить и что предпринять. Наконец с кривой усмешкой проговорил: — Буду думать. Только где же мне взять то, чего нет? Не богач я, поверьте. Вы ошибаетесь. Я не тот, за кого меня приняли. Нашли миллионера. Надо же такое придумать. Шарада какая-то. И знакомство наше — опять же загадка. — Загадки, Крупенин, никакой нет. Жаль, конечно, что вы запамятовали один судебный процесс. А забывать его вам не следовало бы. …Было это более двух десятилетий назад. Следственными органами тогда была разоблачена крупная, крепко организованная группа расхитителей, возглавляемая некими Хейфицем, Евгеньевым, Рейделем и Козловским. Группа орудовала в нескольких универмагах Москвы и трикотажных фабриках Подмосковья. На одной из них был даже сооружен специальный цех для производства пуховых платков, джемперов, женских шерстяных кофт и прочего трикотажа. Прорабом на строительстве этого цеха работал Василий Крупенин, переброшенный сюда вместе с двумя бригадами с другой стройки. Когда началось разоблачение группы Хейфица, прораб незаконно строящегося цеха тоже, естественно, попал в поле зрения следствия. Но народный суд, учитывая молодость Крупенина, малый срок работы на нелегальном объекте, не счел необходимым привлекать его к уголовной ответственности, ограничившись административными мерами. Не понял, однако, Крупенин значимости сделанного ему предупреждения. В памяти от того процесса остались у него не суровые меры, примененные к обвиняемым, а ошеломляющие суммы, которыми они ворочали. Через два или три года, будучи старшим инженером отдела капитального строительства на фабрике № 5, он сделал первый шаг на скользкой, наклонной дорожке. Строительно-моитажное управление треста Легпромстрой, которое возглавлял Гурий Борзых, заканчивало на фабрике сооружение заготовительного цеха. На объекте еще много было недоделок, но строители настаивали на приемке. Площади предприятию нужны были позарез, и скрепя сердце дирекция подписала акт. Отдел капитального строительства фабрики тоже приложил к этому руку — гарантировал, что строительные недоделки в скором времени доведет до конца. Начальник СМУ Борзых эту заступку оценил по достоинству. Вечером, после митинга в новом цехе и не очень изысканного, но добротного угощения строителей в заводской столовой, Борзых зашел к Крупенину в отдел капитального строительства. Он по-свойски уселся против Крупенина и положил перед ним небольшой, но довольно пухловатый конверт. Видя удивление Крупенина, немногословно объяснил: — Все правильно и все законно. Будешь у нас в СМУ — в ведомости распишешься. Так что не волнуйся. Да и мзда-то пустяковая, разговора не стоит. За такой цех, да сданный в такие сроки разве так строителей и вас поощрять надо? Ну да ладно, все еще впереди. За ужином в городском кафе, куда они затем отправились, разговор вертелся вокруг фабричных и строительных дел. Борзых жалился на настырность заказчиков, все хотят получить объекты срочно, немедленно, и ему приходится крутиться как белке в колесе. Крупенин опасался, что после получения акта о сдаче цеха стройуправление не завершит недоделки. Об этом он довольно настойчиво напоминал своему сотрапезнику. — Все будет в норме, если вы, Крупенин, и ваше фабричное начальство будете понимать, что к чему. Между прочим, остатки стекла, шифера, плитки, огнеупорного кирпича приходовать не спеши. Займемся вместе. — А как же… — хотел спросить Крупенин, но собеседник с ходу понял вопрос. — Оформлять списание будем в объемах, предусмотренных проектом. Тем более что недоделки, сам говоришь, еще добивать придется. Усекай, Крупенин, что говорю. И вообще держись Гурия Борзых. И дело обеспечишь, и внакладе не останешься. Внакладе Крупенин действительно не остался. Вскоре он получил от Борзых еще один куш. Тревожные мысли в первое время приходили частенько, но, видя, что их альянс с Борзых идет не во вред фабрике, скоро успокоился. Соседей СМУ держало в черном теле, а пятая фабрика не бедствовала. После окончания заготовительного, занялись механическим цехом, подумывали уже и о пристройке к главному корпусу. Все это на фабрике и в главке связывали с оперативностью отдела капстроительства фабрики и старшего инженера Крупенина, исполняющего обязанности начальника. Крупенин не опровергал этих разговоров, принимая их как должное. Как должное воспринял и последовавшее утверждение начальником ОКСа. Через полтора или два года в целях большей специализации было решено Легпромстрой разделить на два самостоятельных треста — один для промышленного, другой для жилищного и культурно-бытового строительства. Есть правильная народная поговорка о том, что худая слава бежит, но хорошая тоже распространяется, хотя, может быть, и не так быстро. Когда в министерстве встал вопрос о руководстве треста по промышленному строительству, возникла фамилия Крупенина. Никаких очевидных изъянов за ним не числилось, и назначение состоялось. При этой реорганизации к промышленному тресту отошли многие важнейшие объекты, ему же были переданы строительные цехи и участки ряда предприятий, ведущие работы хозспособом. Таким образом, Легпромстрой быстро вырос в довольно мощную строительную организацию. В реконструкции и модернизации производства нуждались многие предприятия, и все они рассчитывали на его услуги. И Крупенин не чуждался ни новых, более масштабных служебных дел, ни более широких возможностей для дел, далеких от его обязанностей. Широкие связи треста со многими предприятиями, учреждениями, ведомствами, с различными районами и городами позволили группе Крупенина осуществлять довольно широкие, но пока безнаказанные рискованные операции. На нескольких объектах образовались немалые излишки силикатного кирпича. Выгодно пустили его в дело. Потом была операция с автомобильными скатами, с двумя десятками вагонов подтоварника, кровельным железом и еще многим строительным дефицитом. Как-то вечером Борзых — теперь уже заместитель Крупенина в тресте, затащил его в один из загородных ресторанов. Здесь они встретились с двумя прыткими южанами, оказавшимися представителями довольно солидных кооперативных ведомств, связанных с овоще-фруктовой и винной продукцией. В ходе ужина беседа довольно быстро приняла деловой характер. Южанам был нужен и кирпич, и цемент, и шифер, и многое другое. Все это было на складах и объектах треста, было у его заказчиков, было и в выделенных фондах. — Помочь вам, конечно, нужно. Но как все это оформить? — высказал озабоченность Крупенин. Борзых, однако, уже многое продумал. — Что-то передадим в порядке шефской помощи. Что-то взаимообразно. Часть оформим как сокращение излишков. Затоваренность-то у нас на складах — бельмо на глазу для всех ревизий. Южане основательно поживились за счет щедрот Легпромстроя, а сейф Крупенина пополнился новыми хрустящими купюрами. Солидно выросла и итоговая цифра вкладов в сберегательной кассе. Это радовало его, наполняло гордостью, сознанием собственной значимости. И отличная квартира, и отличная дача, и машина, и еще многое другое. Было с чего гордиться своей предприимчивостью и деловитостью. Он уже без зависти встречался со знакомыми сослуживцами, более успешно продвинувшимися по служебной лестнице, без прежней робости держался в министерских кабинетах и различных ведомствах, спокойно, а порой снисходительно выслушивал нотации того или иного начальствующего лица. Думал при этом: «А сколько ты стоишь, дорогой? Сколько карбованцев у тебя за душой?» Но все радости Крупенина кончались у порога его квартиры. Зинаида Михайловна Крупенина, его вторая половина, была сотворена из совсем другого теста. Оказалась она, как в итоге скажет Василий Семенович, «бескрылой улиткой, не способной понять моих устремлений». Не один год прожили вместе Крупенины. Интересы и вкусы, взгляды на жизнь должны бы совпадать, быть общими. Но супруги совершенно по-разному смотрели на то, как нужно жить и к чему стремиться человеку. Познакомились они около трех десятилетий назад, работая на стройке химического завода. Стройка была молодежная, условия сложились нелегкие, но жили строители шумно, не унывая. Трудились, влюблялись, женились. Веселому, разбитному прорабу понравилась скромная, робковатая фэзэушница. Она же втайне давно уже была без ума от него. Через месяца три или четыре всем поселком сыграли свадьбу. Первые годы жили и скромно, и дружно. Им хватало заработка на все необходимое: одеться, обставить недавно выделенную квартиру и сына растить. Потом Крупенин стал продвигаться по службе и, естественно, стал расти достаток в семье. Но молодую женщину насторожило то, что достаток этот стал расти слишком стремительно. С малых лет, еще от матери, бережливой костромской колхозницы, она усвоила простое жизненное правило: жить надо по карману, честно и чисто, чтобы было можно спокойно спать, открыто и прямо смотреть людям в глаза. Когда Крупенин принес первые три сотни сверх зарплаты, жена обеспокоенно и настойчиво допрашивала его: откуда? Он объяснил, что премия. Во второй раз сослался на вознаграждение за внесенное им рационализаторское предложение. Потом была получена новая квартира, приобретена дорогая мебель, хозяин обзавелся собственной «Волгой». И чем богаче становилась семья, тем меньше доставляло это радости Зинаиде Крупениной. Не в радость были вещи, что шли в дом, подарки, приносимые мужем. Не доставляли радости и нередкие поездки в гости к его друзьям, в московские рестораны, на юбилеи различных московских знаменитостей. Крупенина чувствовала себя в этой среде чужой и посторонней. Да и сам Крупенин, она видела это, лишь хорохорился и был тут как петух в гусиной стае. Приглашался-то он сюда как человек нужный, могущий оказать услугу. Крупнейший же стройтрест не шутка. Сам Крупенин, однако, видел в этих приглашениях нечто другое — признание его значительности, весомости, личного авторитета. Зинаида Крупенина, в сущности, опровергала широко бытующее мнение, что именно жены, прежде всего они, толкают мужей на различные темные стежки, заставляют их пускаться во все тяжкие, чтобы обеспечить повышенное благополучие в семье. Чтобы избежать бурных нервных сцен, Крупенин более не приносил в дом ни лишних денег, ни ценных вещей. Для них он нашел другое место. Но ограничивать себя в житейских удобствах он вовсе не собирался. И поэтому давно уже искал возможность соорудить себе хорошую дачу. Не раз заговаривал об этом с женой. — Помнишь, в Валентиновке мы видели такие уютные коттеджи? Прелесть. Надо бы нам соорудить нечто подобное. — Что тебе дались эти валентиновские дачи? Ну построили их, может, академики, лауреаты там или артисты знаменитые, нам-то что до этого? — Да узнавал я. Никакие не лауреаты и не академики. Просто люди жить умеют. — Но мы, кажется, тоже не отстаем от них. Я по горло сыта твоими замашками. Ночей не сплю. Столь неодобрительная реакция супруги, однако, не остановила Крупенина, и он предпринял нужные шаги, чтобы задуманное все-таки осуществить. «Хоть будет где спрятаться от моей ведьмы», — пошутил он, давая поручение своим сподвижникам порыскать, поискать подходящую «дачную ситуацию». Не зря говорится: ищите и обрящете. Один из московских заводов осваивал отведенный ему участок под дачное строительство. Но дело двигалось туго. Узнали об этом крупенинские помощники и сумели втиснуть несколько трестовских работников в организуемый кооператив. Конечно, основательно помогли ему трестовскими ресурсами, и через год с небольшим Крупенин получил вполне современную готовую, что называется, «под ключ» дачку. Скандал дома, когда он сообщил об этом событии, был несусветным. Как ни старался Крупенин образумить, успокоить супругу, все было тщетно. Зинаида Михайловна, словно что-то опасное, колючее, отодвинула от себя торжественно положенные на стол ключи и, удрученно вздохнув, проговорила: — Ты все же влез в эту авантюру, Василий. Зачем? У нас же есть дача. — Какая это дача? Садовый курятник. Пока мы его подержим, а потом продадим. Лицо супруги сделалось бледным, голос напряженно звонким и решительным. — Объясни, Крупенин, на какие доходы ты шикуешь? Откуда у тебя такие средства? — А это уже мое дело. — Нет, это дело не только твое, а и мое тоже. И сына нашего. И ты обязан объяснить: откуда у тебя такие деньги? Крупенин взбесился: — Знаешь, Зинаида, мне это начинает надоедать. Я по горло сыт твоими скандалами. — Мне это тоже надоело. Не могу больше. Я устала дрожать, не спать ночей. Постоянно ждать беды, позора. Не могу больше. Не могу. — Могу не могу. Все это слова. Женские капризы. Не можешь — уходи. Двери не заперты, задерживать никто не собирается. Это была серьезная оплошность Крупенина. Зинаида в изнеможении опустилась на стул, долго молча смотрела на Крупенина, затем глухо выговорила: — Я действительно не могу так жить, Крупенин. И уйду, да, уйду. Но напоследок скажу тебе вот что — не возьмешься за ум, кончишь плохо. Тюрьмой кончить. Помяни мое слово. Виталий — сын — пришел в самый разгар ссоры. Он долго вслушивался в нее, потом посоветовал: — Ну что вы постоянно цапаетесь? Не можете жить вместе — расходитесь. Зинаида Михайловна нервно бросила: — Опоздал со своими советами. Именно об этом мы и договорились, Я сейчас же ухожу. И если ты хочешь жить честно, то уйдешь вместе со мной. Виталий внимательно посмотрел на обоих разгневанных родителей и с усмешкой, так не подходящей к моменту, ответил: — Ну зачем мне-то спешить. Мне пока нужны вы оба. В определенной мере, конечно. Так что я занимаю нейтральную позицию — неприсоединения к блокам. Говорил Виталий с шутливыми интонациями, а глаза смотрели на мать холодно, отчужденно. Зинаида Михайловна поняла в тот вечер, что она потеряла не только мужа, но и сына. Бунт хранительницы домашнего очага Крупениных был закономерен и естествен, но он слишком долго тлел и разразился, опоздав на 15–20 лет. И уже ничего не мог изменить. Ссоры междуродителями Виталий слышал не раз и не два. Привык и относился к ним спокойно. Он только не понимал, почему мать устраивает шум по поводам, которые должны бы лишь радовать ее. Решил отец заменить квартиру — ссора. Заменили мебель — скандал. Появилась «Волга» — целый содом, слезы. А сколько у них свар из-за каждой покупки ему, Виталию. По ее мнению, и «Ява» ему ни к чему, и магнитола лишняя, и поездки в столицу с друзьями должны быть реже. А его короткий вояж на юг к морю — ненужная роскошь и баловство. Словно он отставок какой-то, а не единственный сын в семье. — Странная все-таки женщина наша маман, — сокрушался он, подстраиваясь под сумрачное настроение отца. — Всегда и всем недовольна. Крупенин со вздохом согласился: — Женщины, они, друг мой, такие — секрет за семью замками. Вот и она. Живет дай бог каждому. Так нет, ей еще надо, чтобы все было чистенько, все гладенько, чтобы и рыбку поймать, и ножки не замочить, а тряпки носит только импортные. Не так все просто в жизни. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Но ты не очень-то обращай внимания на ее крики. Бог терпел и нам велел. Не бери в голову. Но в случае чего — держись отца. У мужского сословия должна быть своя стезя… Говорил это Крупенин не для красного словца. Он давно уже не исключал того, что с женой у них дойдет до развода. Думал сам об этом не раз и не два, а однажды почти решился на этот шаг. Но привычка к сложившемуся жизненному укладу, опаска неизбежных в таких случаях пересуд сдержали его. Была и другая причина. Где-то в глубине души он признавал обоснованность тревог и беспокойства жены и неоднократно давал себе зарок — кончать комбинации, уходить с кривых дорожек. Правда, решения эти принимались ночью, в преддверии тревожного сна. Утром же они стушевывались или вовсе улетучивались из головы. И что в ночных мыслях представлялось страшным и пугающим, днем казалось обычным, малозначащим и нестрашным. Решение Виталия остаться с ним наполнило сердце Крупенина отцовской гордостью. Вскоре, однако, он узнал сына получше, чем знал до сих пор. Через несколько дней после ухода матери Виталий завел разговор о житейских делах и, ничуть не смущаясь, заявил: — Дачу надо оформить на меня, отец. И не откладывая. — Почему? Зачем? — недоумевая, спросил старший Крупенин. Виталий пояснил: — Ну чего же тут непонятного? С тобой может случиться всякое. И что тогда? И не только о даче я веду разговор. Ты, пожалуйста, организуй на мое имя некий возможный вклад в сберегательной кассе. Скупиться, я думаю, не будешь. И если что стрясется… — Вбила все-таки тебе мать в голову эти дурацкие мысли, — прервал его отец. Однако деловая хватка Виталия, его настойчивость и прыть понравились Крупенину, и он, поразмыслив день-другой, согласился с предложением сына. Была при этом и такая мысль: если действительно что приключится, то недвижимым имуществом не владею, а сын за отца, как известно, не ответчик. И хотя Крупенин где-то понимал всю шаткость и малую реальность этих рассуждений, все же они как-то утешали, успокаивали. Сын взял на себя все хлопоты по переоформлению дачи, ездил в кооператив, поселковый Совет, в нотариальную контору, в другие нужные инстанции, оформил все положенные документы. Владельцем особняка в Валентиновке стал не старший, а младший Крупенин. Василий Семенович невесело пошутил: — Ну а мне там хоть какая-то площадь будет выделена? Сын шутки не принял и на полном серьезе ответил: — Посмотрим. Но садовый участок с хибарой я бы на твоем месте продавать не спешил. Мало ли что. Да, младший Крупенин обещал в недалеком будущем далеко превзойти своего папашу. Убедиться в этом Крупенину-старшему вскоре была предоставлена новая возможность. В один из вечеров сын пришел домой не один, а в сопровождении бойкой, затянутой в потрепанные джинсы рыжеволосой девицы и объявил: — Знакомься, папан, это Галка, то есть Галина Матвеевна. Моя законная супруга. В загсе уже были. Званый сабантуй по этому поводу, как полагаем, за тобой. Крупенин почти всегда и во всем потакал сыну, но тут возмутился, наговорил и ему, и новоявленной родственнице кучу грубостей. И это было его еще одной крупкой ошибкой. Не знал он характера Галины Матвеевны, ее умения и сноровки в борьбе за свое место под солнцем. Уже через месяц Крупенин понял, что жизни ему в его гнезде не будет. Скандалы к ссоры, что происходили когда-то с женой, и в сравнение не шли с тем бедламом, что устраивала сноха. Старшая официантка кафе «Вега» по собственному опыту общения с посетителями знала, что такое психологическая атака, и в полной мере использовала и этот прием, и свои мощные от природы голосовые связки. Когда домашний базар достигал высшего накала, старший Крупенин торопливо ретировался из дома, не появляясь по нескольку дней. — Что делать будем? — спросил он сына после очередной баталии. Виталий ответил тут же: — Выход очень простой, отец. Построй нам кооперативную квартиру. Или хлопочи о государственной. Это было бы еще лучше. Крупенин долго удивленно смотрел на сына. Вновь подумалось о том, что малый вырос не промах, не пропадет и не затеряется на жизненных перекрестках. Будет шагать, видимо, пошире батьки. Мысль эта, однако, не вызвала у Крупенина ни радости и ни… тревоги за сына. Скорей он почувствовал нечто вроде зависти к Виталию на то, что, молод, что много сможет взять от жизни. Находиться дома ему стало невмоготу, и он перебрался в трестовскую гостиницу. Прожил там месяц или два и стал задумываться: а что же дальше? Решил наведаться к давней хорошей знакомой Нине Безруцкой. Та приняла его горячо и нежно, но в ответ на осторожные намеки Крупенина о его безрадостном существовании высказалась довольно четко: развод с семьей, загс, собственное гнездо в городе и пригороде. Одно из них на ее имя. Крупенин ежился, вздыхал, обещал все обдумать. Приятельница, однако, предупредила, что долго ждать не будет, ибо у нее есть и другие перспективы. — Да и что ты раздумываешь, Василь? Твоих запасов хватит не только на два гнезда. Так что не жадничай, а то прогадаешь… Эти слова основательно обеспокоили Крупенина, насторожили, и он долго пребывал в серьезных раздумьях. А потом решил твердо: — Хватит, обойдемся без уз Гименея. Эта Нинка будет похлеще моей старой супружницы. А я еще и от ее крепостнических замашек не совсем отошел. Вспомнив сейчас Зинаиду Михайловну, Крупенин мысленно упрекнул себя за то, что никак не соберется ответить на ее письма, что та шлет из своей Костромы. А впрочем, что он мог ей ответить? Она ведь в этих своих посланиях только и твердит одно: «Одумайся, Василий, меняй свою жизнь». «А, собственно, почему я должен менять ее? — спорил Крупенин с этими письмами. — Каждый живет своим умом. Вот и я живу как могу, как умею. А умею, кажется, неплохо. Во всяком случае, не в рядовых ходим…» Зинаида Михайловна действительно зря старалась наставить Крупенина на путь истинный. Семейная драма не отторгнула Крупенина ни от старых друзей, ни от сомнительных устремлений. Центробежная сила, которой он дал когда-то первоначальное движение, продолжала держать его на своей орбите. Крупенин и его сподвижники по-прежнему продолжали свои темные дела. Заканчивалась одна операция, подвертывалась другая, завершалась эта, Борзых готовил третью. Накопленный опыт, скрупулезное знание упущений и прорех в учете материалов, в порядке взаимоотношений предприятий и строек — заказчиков и подрядчиков — все это помогало дельцам безнаказанно осуществлять многие свои комбинации. Однако всему приходит конец. Мелкая по масштабам группы Крупенина операция с облицовочной плиткой была последней.
…Крупенин наконец закончил чтение обвинительного заключения, долго сидел молча и, повернувшись к Стрельцову, зло, не скрывая своей неприязни, проговорил: — Потрудились вы, полковник, изрядно. Собрали все мыслимое и немыслимое. Стрельцов уловил злые интонации в голосе Крупенина, но ответил спокойно: — Потрудиться действительно пришлось. Куролесили вы со своей компанией вон сколько лет. — Но я по-прежнему в корне не согласен с вашими выводами о хищениях якобы в особо крупных размерах… Вы почему-то все значительно преувеличиваете, цифры со многими нолями, конечно, эффектнее, но… Я буду апеллировать и к суду, и в самые высокие инстанции. Стрельцов прекрасно понимал, почему Крупенин оспаривает эту формулу обвинения. Она предусматривала повышенную меру ответственности. На эти слова ответил все в том же спокойном тоне: — Это ваше право, Крупенин. Но добиться иной квалификации ваших деяний будет трудно. На половине проверенных объектов треста установлено значительное завышение якобы выполненных объемов работ, почти половина актов на списание дорогостоящих строительных материалов не подтверждается замерами и нормативами. Вы обратили внимание на итоговые цифры убытков от этого? Пять миллионов рублей. А ведь для проверки мы брали лишь объекты, строящиеся трестом в последние пять лет. Да это и понятно. Иначе как бы могли удовлетворять запросы своей многочисленной клиентуры на стройматериалы, начиная с дачников из Валентиновки, Реутова, Захаровки и кончая южными кооператорами? А материалы, что ушли на сторону со складов треста и ваших стройуправлений? Нет, Крупенин, эта формула обвинения абсолютно обоснованна, и опровергнуть ее вам не удастся. Подождав каких-либо возражений со стороны Крупенина, Стрельцов продолжал: — На одной из наших первых встреч я советовал вам встать во взаимоотношениях со следствием на честный путь, искренне помочь распутать клубок ваших многочисленных злоупотреблений. И добровольно вернуть государству то, что нажито нечестными путями. Вы тогда возмутились и оскорбились даже; на что надеялись? Следствие с панталыку сбить вам не удалось, как вы ни старались. Не удалось и скрыть наворованное, хоть изобретательность и сноровка и тут были проявлены. Чего стоят эти тайники в гараже и на садовом участке, сберкнижки с вкладами на подставных лиц, история с разделом имущества между сыном и вами и прочее, и прочее. Крупенин, сидевший до этого молча, уткнувшись взглядом в пол, вдруг резко поднял голову и нервно, с надрывом выкрикнул: — Ну и что? Что? Много я имею от этого? Наказан, да еще как. Из партии исключен, семью потерял, живу на казенных харчах. Завидная судьба. Стрельцов с трудом сдержал себя, чтобы не ответить резкостью на эту тираду Крупенина. — О партии вам, гражданин Крупенин, и говорить грешно. Должна же быть и у вас хоть какая-то совесть. Вы в ней, в партии-то, оказались совершенно случайно. И коммунисты треста очень правильно сделали, что освободили ее от вашей личности еще до того, как вы оказались у нас на казенных харчах. Судьбу свою каждый человек строит сам. И свою вы тоже определили сами, сами поставили себя перед советским законом. Слова Стрельцова были и просты, и верны. Возразить против них Крупенину было нечего. Вспышка злого недовольства своей судьбой у него уже прошла. Через долгую паузу он задал Стрельцову вопрос, на который и страстно хотел ответа, и до головокружения боялся его: — Скажите, полковник, что мне ждать от встречи с законом? К чему готовиться? Стрельцов мог бы, конечно, высказать свои предположения, но не было желания делать это, и он без каких- либо интонаций ответил: — Это дело суда. Гадать не берусь. Покидая кабинет полковника, Крупенин опять хрипло и монотонно вопрошал: — Зачем я все это делал? Зачем? Стрельцов проводил его взглядом, долго сидел, задумавшись. Эта надрывная фраза, часто рефреном звучавшая во время их бесед, не выходила сейчас из головы полковника. Как жаль, что понимание ложного пути ко многим людям приходит слишком поздно. Чего не хватало этому человеку? Была работа, доверие людей, достаток, семья. Было все, чем живут люди. Зачем понадобились эти десятки тысяч, эта золотая мишура? Что они внесли в его жизнь, кроме неизбежной расплаты за содеянное? И, как бы подводя итог этим своим мыслям, Стрельцов проговорил вслух: — Да, гражданин Крупенин, надо было вам задать себе этот вопрос раньше, гораздо раньше. Пока не поздно, его следует задать себе и другим тебе подобным, кто уготовил себе такую же незавидную судьбу.
Улица Василия Петушкова
— Слыхали, новый участковый-то… Петушков… — А чего? — Мешает, понимаешь, культурно отдыхать. Ни тебе песни поорать, ни дать по зубам кому-нибудь на танцах. — Точно… Даже по четвертинке у магазина теперь спокойно не сообразишь. Петушков, видите ли, считает, что это нарушение порядка. Так беседовали между собой одним теплым летним вечером «хозяева» тушинских улиц — любители выпивки и дебошей. — Нет, хватит, — с ухмылкой сказал некто Зенков, считавшийся главарем этой теплой компании. — Довольно… Надо поучить этого Петушкова… вежливости. И «хозяева» решили воспользоваться первым же подходящим случаем. Вскоре он представился. …Однажды вечером за оголтелые крики, нецензурную брань и похабные песни Петушков остановил группу молодых людей. — А ну-ка, молодежь, потише. И, показав на темные окна домов, добавил: — Люди отдыхают. — А что такое? Разве веселиться запрещено? — с наглой улыбкой и хитро подмигивая друзьям, спросил Зенков. Петушков мельком взглянул на него: — Веселиться, Зенков, никому не запрещено. Но всему должно быть свое время. И потом, веселиться не значит безобразничать. — Смотрите. Инспектор-то, оказывается, знаком с нами, — осклабился вожак группы. — Знаем, Зенков, знаем. И тебя и дружков твоих. Тоже известны. — Вот что, Петушков, предлагаем тебе мирное сосуществование. Мы тебя не трогаем — ты нас. Петушков посмотрел на своих собеседников. Они обступали его плотным кольцом, дышали водочным перегаром, в глазах у одних играло озорство, у других мутнела пьяная злоба. «Шестеро. Многовато, — подумал Василий. — Как бы не сплоховать…» Но тут же одернул себя: «Кого бояться-то? Этих?» И спокойно, с расстановкой ответил: — Я согласен, Зенков, но при одном условии. — Это при каком же? — Ведите себя по-людски. А не то… — А что будет в противном случае? — Плохо будет, Зенков. Очень плохо. Испытывать не советую. — Брось, лейтенант… Рука Зенкова потянулась к кителю. Петушков стремительным рывком разорвал круг, но не отошел от него, а остановился в двух-трех шагах и глуховатым от волнения, но твердым голосом проговорил: — Смотрите, Зенков, да и вы все. Предупреждаю. Не уйметесь — пеняйте на себя. Кто-то из хулиганов подскочил было к Петушкову, замахнулся, но ударом в подбородок был отброшен к своим. Василий, прищурясь, смотрел, прикидывал — ринутся на него или нет? На всякий случай встал на более удобное место тротуара. — Ну, кто еще хочет? И, видя, что гуляки замешкались, бросил: — Будем считать инцидент исчерпанным. И запомните, что вам сказано. Он повернулся к группе спиной и спокойно, не спеша пошел по улице. Конечно, он знал, что они смотрят ему вслед, конечно, могло быть все — и камень, и нож в спину, а может, что-нибудь похуже. Но ни оглядываться, ни торопиться было нельзя. Надо, просто необходимо было показать свое превосходство перед кучкой этих наглых бездельников. Только дойдя до площади, Петушков разрешил себе остановиться и оглянуться. Уличные «герои» подались восвояси. …Трудный участок достался молодому уполномоченному. Так и сказал ему начальник отделения Пчелин: — Участок один из самых сложных. Вы представляете себе свои обязанности? Свою ответственность? Пороху хватит? Я имею в виду волю, настойчивость, умение. — О себе говорить трудно, но… постараюсь. Не боги горшки обжигают… Не случайно майор задал этот вопрос. Зона, или, как она теперь называется, микрорайон, где предстояло работать Петушкову, слыла в Тушине самой беспокойной. Около фабрики люди но вечерам боялись выходить на улицу. Площадь вокруг Дома культуры кишела хулиганами, которые сходились сюда со всего Тушина и даже приезжали с северо-западных окраин Москвы — от Сокола, с Марьиной Рощи и других мест. Работа на таком участке требовала отдачи всех сил и энергии, воли и настойчивости, личной храбрости и, главное, умения. Конечно, не перед каждым жизнь впрямую, в лоб ставит вопрос: «А ну покажи, на что ты способен, мужественное ли твое сердце, может ли Родина, люди рассчитывать на тебя, не подведешь ли в трудный момент?» Перед Петушковым этот вопрос был поставлен именно так… Мы идем по красивой улице. По той, что раньше называлась Фабричной. Когда-то по ее сторонам тянулись маленькие домики с палисадниками и подслеповатыми окнами, свинцово поблескивали большие лужи на мостовой. Теперь это большая магистраль с многоэтажными домами, облицованными светло-желтой керамикой. Широкие, сияющие голубизной окна, легкие ажурные балконы, скверы и газоны с яркими цветами. Другая стала улица. И название ее тоже стало другим. Теперь это улица Василия Петушкова. Невольно настраиваюсь на воспоминания и я. Память уводит в давние — комсомольские времена. …Молодежный вечер в просторном клубе. Доклад был скучноват, трактовал он, помнится, какие-то довольно важные, но всем известные истины. Но разговор, что разгорелся после доклада, захватил всех. Он давно уже перехлестнул и задачу вечера и регламент, шел, что называется, по большому счету. Тема — о месте человека в жизни, о роли молодежи, о путях-дорогах юности… Говорили много и интересно. Спор же между комсомольскими вожаками двух соседних предприятий особенно запомнился всем, кто был на том вечере. Поначалу многим казалось, что оба оратора стояли за одно и то же — за жизнь полную, насыщенную и яркую. Но один считал, что по жизни надо идти расчетливо, экономя силы, примеряя шаг. Другой же шумно требовал жизни без оглядки, без мелочно-бухгалтерских расчетов: как да что, повредит ли это да подойдет ли другое. Заканчивая спор, он взял себе в союзники Николая Островского, бросив в зал: — Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за мелочное существование и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному — освобождению человечества. Эти слова были уже тогда очень широко известны молодежи, и многочисленные цитатчики затаскали их, приводя по каждому подходящему и неподходящему поводу. Но юношей, стоявшим на трибуне, они сказаны были с таким трепетным, горячим чувством, с такой взволнованной убежденностью, что все почувствовали — это сказано не для красного словца, а от души, от всего сердца. Именно потому никто из участников вечера — а их был полный зал — не остался равнодушным. Аплодировали оратору долго, горячо и шумно. — Что же, посмотрим, как ты будешь руководствоваться этими принципами, — все еще не сдаваясь, проговорил оппонент. — Посмотрим, какой герой из тебя получится. — Ну, героя из меня, может, и не выйдет, но человеком… Человеком я быть обязан. Так ответил тогда Василий Петушков. Это именно он стоял в споре за жизнь «без оглядки». На том вечере, о котором идет речь, был человек, который внимательнее всех слушал спор. Это был вожак тушинских комсомольцев Василий Пушкарев — несмотря на молодость, удивительно вдумчивый, рассудительный парень. Долгим пристальным взглядом провожал он Петушкова с трибуны, а потом заметил: — Вот из таких вырастают настоящие люди.* * *
Исподволь, изо дня в день формируются характеры, постепенно и незаметно складываются качества человека. И не всегда удается понять, где же корни того или иного поступка, под воздействием каких обстоятельств сложились те или иные убеждения, взгляды на жизнь. Школа, работа, семья, товарищи — каждый кладет свои «кирпичики» в фундамент человеческого характера. …Небольшое село Сергеево под Юхновом. Вместе со сверстниками Вася Петушков после уроков бежит или на ферму, или на гумно, или в поле. И хоть не очень крепки еще мускулы, не очень широки шаги, но и снопы ребята вяжут, и сено ворошат, и солому от молотилки отбрасывают, и зерно перелопачивают. Нелегко было это для детских рук, но зато сколько тепла было в отцовском взгляде, каким удивительно вкусным был чёрный хлеб и холодное молоко, когда семья садилась за ужин. Пожалуй, здесь, участвуя в постоянном, каждодневном труде односельчан, мальчик впитал в себя презрение к праздности, постоянное стремление что-то делать и делать хорошо. Это немало помогло ему, когда он пришел в ремесленное училище. Шумные ленинградские улицы, голосистая ребятня, гулкие цехи завода, где проходили практику, — все это сначала настораживало, пугало робевшего сельского паренька. Но постепенно стало привычным и родным, как когда-то родное сельцо. И быть бы Василию Петушкову первоклассным токарем, а потом, наверное, и инженером. Ведь он удивительно быстро, на лету, схватывал сложные формулы, с блеском решал сложные алгебраические задачи, а замысловатые загадки чертежей читал так, что удивлял преподавателей. Но тут грянула война и грубо вмешалась в жизнь мальчугана из-под Юхнова. Глубокой осенью училище эвакуировалось из Ленинграда. Стоял слякотный серый сумрак. Тяжело, очень тяжело было в осажденном городе. И все-таки он по-отцовски заботливо отправлял ремесленников, найдя для них все, что было нужно: и составы из товарных и пассажирских вагонов, и продукты на дорогу, и запасы одежды, обуви. Нашлись и теплые слова на прощание. За какие-то пять-десять минут до отхода поезда к вокзалу прорвался фашистский стервятник и стал бомбить составы. Педагоги, мастера, работники городских организаций, пришедшие проводить ребят, бросились их спасать. Они торопливо заводили ребят в подвалы, запихивали под станционные платформы, не обращая внимания на визжащие осколки, вытаскивали то одного, то другого пацана из горящих вагонов. Себя они не жалели. Важнее всего было не дать погибнуть ребятне. Как птицы, завидя ястреба, прячут под крылья своих птенцов, так и люди, метавшиеся по платформам, делали все, чтобы уберечь ремесленников от разящих осколков вражеских бомб. Навсегда запомнил Василий, как их старший мастер, коммунист-путиловец, расстегнув свой старенький форменный китель, будто крыльями, прикрывал им двух белоголовых пацанов и торопливо, бегом вел их в укрытие. Взрыв бомбы настиг их у самого входа, и мастер рухнул на ступеньки… Немало потом приходилось видеть Петушкову в жизни, но то, как падал насмерть сраженный старший мастер, прикрывая своих питомцев, — этого Петушков не мог забыть никогда. Может быть, впервые тогда он всем сердцем ощутил трогательную заботу взрослых, старших о своей смене, материнскую любовь Отчизны к своим маленьким сыновьям. Он всегда вспоминал этот эпизод с какой-то щемящей болью, чувствуя за собой постоянный, волнующий долг. И, возможно, когда шел спор в заводском клубе о том, как жить, Петушков думал о военном Ленинграде и о том хмуром осеннем утре… Сверстники, да и люди постарше возрастом, работавшие с Василием Петушковым, порой удивлялись его настойчивости, рассудительности и удивительно страстному отношению к любому делу. — Серьезности и упорства этому парню не занимать, — говорили они. Это, однако, не мешало проявляться другим свойствам его натуры. В веселье умел он быть веселым, в горе — не терять головы. Если нужно было запеть песню — он первый, повальсировать на молодежном балу — не подведет, пошутить, да так, чтобы было смешно, но никому не обидно, — опять же Петушков. И еще одно качество у этого простоватого на вид парня — душевная теплота, уважительное, какое-то любовное отношение к людям. Все это и определило на долгие годы его жизненные дороги. Он стал комсомольским работником, вожаком заводской молодежи. А это очень непростое дело. Зайдите в любой комсомольский комитет любого завода, побудьте там час-два, и вы убедитесь в этом. Комсомольская работа — дело, как известно, до чертиков интересное. Но в то же время суматошное, хлопотливое, беспокойное. Здесь надо быть организатором, инженером, хозяйственником, педагогом, спортсменом. Строгим, веселым и душевным парнем. И все это одновременно. Надо уметь слушать десятки людей, советовать, требовать, учить, подсказывать, отвечать на сотни самых разнообразных вопросов, начиная с проблемы прилета марсиан на Землю и кончая тем, «что делать, если она совсем на меня не смотрит и игнорирует?». Надо не дать в обиду ребят какому-нибудь бюрократу и добиться, чтобы молодоженам давали квартиры, чтобы ребята прочли то-то и то-то, чтобы танцевали то, а не это… Надо организовать учебу, спортивную работу и кружки самодеятельности, субботники и воскресники: ратовать за массовки и за порядок в общежитиях, бывать на собраниях, на комсомольских свадьбах и при разборе самых сложных семейных историй… Одним словом, эти многочисленные «надо и надо» по плечу далеко не каждому. Петушков варился в таком котле четыре года. Промелькнули они быстро, стремительно, почти незаметно. Но свой след на его характере оставили. Прибавилось сдержанности, гибкости, уверенности в себе, умения общаться с людьми, влиять на их действия и поступки. Когда Петушков пришел в армию, молодежь и здесь быстро узнала в нем способного, энергичного вожака. Он возглавил комсомольцев батальона, а потом руководил комсомольской работой полка. Василий всегда считал, что жизнь у него довольно обычная, без сколько-нибудь выдающихся событий. Жизнь как жизнь, такая же, как у многих тысяч людей. Вот закончена вечерняя школа, сданы экзамены на аттестат зрелости. Об этом тепло пишут заводская многотиражка, молодежная московская газета. Когда Василий увидел эти заметки, он не знал, куда деться от смущения. — Ну зачем это они? Подумаешь, какое дело. — Ты брось скромничать, Петушков. Так хорошо закончить школу при твоей работе — это не шутка. — Не шутка, конечно. Но ведь не только я. Зачем же обо мне? Совсем ни к чему. Известен и другой случай. Когда женился, в парткоме завода сказали, что скоро из общежития он перейдет в квартиру. Петушков замахал руками: — Нет, нет, спасибо. Я подожду. У меня соседи по общежитию десять лет ждут этих квартир. Пусть им сначала… И в то же время эта настоящая скромность и даже какая-то застенчивость не мешали зреть л крепнуть в характере Петушкова иным качествам — воле и хорошей, чистой гордости. Случилось у него в жизни так, что проверку этих свойств его характера взял на себя самый, казалось бы, близкий человек. В своей автобиографии он об этом пишет лаконично, скупо: «Был женат на гражданке Кузнецовой. Она от меня уехала с гражданином Сергеевым, с которым была знакома ранее». Написано немногословно. Но сколько душевной боли, мужской и просто человеческой обиды стоит за этим сдержанным тоном. Когда Василий, будучи в армии, получил письмо с этой новостью, он не поверил. Перечитывал его не раз и не два. Лида, его Лида, о которой он никогда не вспоминал без теплого комка в груди, с которой было столько скромных и волнующих радостей, строилось столько планов на будущее — его Лида ушла, уехала с другим… Это не укладывалось в сознании, казалось чудовищным, неправдоподобным, чем-то вроде нелепого сна. Неотступно сверлил вопрос: почему? Что случилось? Разве не был он самым мягким и самым внимательным к ней? Разве не ей, Лиде, завидовали многие заводские девчата? И разве не он старался экономить каждую десятку, чтобы их молодая семья имела все, что нужно для более или менее обеспеченной жизни? Более или менее обеспеченной… Вот в этом-то и крылась причина. Подругам Кузнецова объяснила откровеннее, чем ему: — Что это за жизнь? Только и думаешь, как бы дотянуть до получки. И так до конца дней? Ну нет. Рыба ищет где глубже, человек — где лучше. Когда Василий узнал об истинной причине ухода жены, ему сделалось легче. Обидно было только, что не сразу понял ее, не распознал раньше. И хотя рана саднила еще долго, он постепенно смирился с потерей. Через год с небольшим Лида вернулась. Богатые посулы старого знакомого, за которыми она погналась, оказались призрачным миражем. — Как же ты теперь? — спросили подруги. — Вася добрый, он простит. Но женщина ошиблась. Доброта не поборола гордости. Петушков не простил. И хоть говорил с бывшей женой так, будто сам виноват в чем-то, — тихо и смущаясь, — но слова были такие, что переспрашивать было ни к чему. — Все, что было, Лида, прошло. Ворошить не будем. Тебе хочется жить богато. Любыми путями, но богато. А я хочу и буду жить прежде всего честно. В этом корень всего. Так что будем считать дело законченным…* * *
Вскоре Василий вернулся из армии. Сразу пошел на родной завод. Долго ходил по цехам, приглядывался ко всему новому, что появилось здесь за эти годы, примерял — на что он сам годен, обдумывал, за какое дело взяться. — Ну так как? Куда? Заводу-то, надо полагать, не изменишь? — допытывались друзья. — Не собираюсь. Хочу сюда, к вам. Так и скажу, когда буду в горкоме. Две отпускные недели пролетели незаметно. С жадным любопытством Петушков вглядывался в московские улицы, любовался чудесными, выросшими недавно домами, катался по новым линиям метро, ходил по театрам. Но хоть и хорошо было прогуливаться по столице, а без дела становилось скучно. По всем законам он мог отдыхать еще целый месяц, а при желании и больше. Петушков, однако, поспешил в горком партии, чтобы решить, где работать. Здесь его знали многие, а секретарем был все тот же, уже знакомый нам Василий Пушкарев. Когда-то вместе затевали они то строительство трамвайной линии в Тушине, то городскую техническую конференцию молодежи, то конкурс изобретателей… Пушкарев встретил его, не скрывая радости: — Петушков заявился? Совсем? Очень хорошо. Значит, в нашем полку прибыло. Давно прибыл? Две недели? И молчал. Нехорошо. Ну ладно. Рассказывай, где и как служил, что вообще новенького? Пушкарев был все так же немногословен, серьезен и вдумчив, только сероватый цвет лица да усталый взгляд показывали, что достается секретарю горкома изрядно. Удивительно умел слушать людей этот человек, умел расположить их на душевный разговор. Незаметно пролетело добрых полчаса. Петушков спохватился. Но Пушкарев успокоил его: — Не спеши. Расскажи, где побывал по приезде, что видел, что у нас понравилось, что нет… Петушков задумался. Видел он за эти две недели многое — и в своем родном Тушине и в Москве. И все ему нравилось. — Чего ж тут мне может не нравиться? Ведь все свое, близкое, — с улыбкой, чуть удивленно ответил он на вопрос Пушкарева. — А настроили всего столько, что глаза разбегаются. — Так-то оно так. Но и прорех много. Тебе со свежим-то взглядом они, поди, заметнее. Вот с торговлей, например, плоховато, магазинов мало строим. Трамвай, что мы с тобой когда-то строили, уже того, устарел как вид транспорта. Жалуются люди — шуму, звону много. С отдыхом молодежи неважно… — Верно, плоховато, — живо подхватил Петушков. — Домов-то эвон сколько, народу живет тысячи, а время проводят, фланируя по улицам. И хулиганы опять же. Вечером то в одном, то в другом месте драка. — Вот-вот, — с радостью согласился Пушкарев. — Это ты верно заметил. Борьба против этого уродства — одно из неотложных наших дел. И если говорить откровенно, я к этому и разговор веду… Какие думки насчет работы? Куда намерен податься? — На завод. К своим. — Понимаю. Друзья-товарищи. Все свое, знакомое. В знакомой-то гавани якорь бросать куда сподручнее. Пушкарев задумчиво глядел на Петушкова. Он хорошо его знал и строил свои планы о будущем Василия. «Да, безусловно, подходит, очень здорово подходит. А армия его еще больше отшлифовала», — думал он и все тверже решал использовать Василия на работе в милиции. — Как смотришь, если направим тебя в органы внутренних дел, в милицию? Петушков с недоумением посмотрел на Пушкарева. — Почему в милицию? — Ну а почему нет? Характер у тебя есть, не трус, с людьми работать умеешь. А теперь еще армейская закалка прибавилась. Вполне подходящая кандидатура. — Но почему милиция? Никогда не думал о таком варианте. — Вариант очень интересный, уверяю тебя. И если ты как следует подумаешь, уверен, что согласишься. — Не знаю, право. Честное слово, не знаю. Никогда такая мысль в голову не приходила. — Ну и что ж тут такого? Подумай, прикинь, взвесь все. Неволить тебя не буду, но подумать прошу. — Хорошо, подумаю. Петушков хорошо знал своего тезку, как и все в Тушине, и глубоко уважал его. Он был уверен — Пушкарев неразумного не посоветует. Но предложение все-таки было слишком неожиданным. Теперь, проходя по улицам, Василий с обостренным вниманием приглядывался к работе постовых милиционеров, работников ОРУДа. Как-то на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе разговорился с молоденьким задорным постовым. Тот охотно рассказал о своей службе. — Служба-то какова? Служба у нас важная. Ухо держи востро. Видите, — показал он рукой вокруг себя, — район-то какой. Людей тыщи, машин тоже. А домов, заводов, учреждений… И везде порядок должен быть. И хотя служил парень в милиции, как оказалось, всего полгода, говорил о своем деле с гордостью. Эта встреча оставила что-то теплое и хорошее в душе Петушкова. А дома его ждал пригласительный билет на городской актив народных дружин, присланный из горкома партии. Петушков улыбнулся — понял, что это забота секретаря. — Верен себе. Если за что уцепится — не отстанет. Доканает-таки он меня, сделает милиционером, — вслух сам себе сказал Василий. И, выутюжив обмундирование, отправился на актив. Собрание проходило в Доме культуры строителей. Здесь была и безусая веселая молодежь, и серьезные, малоразговорчивые рабочие, инженеры, техники с соседних предприятий. Порой слышались громкие задорные голоса тушинских трикотажниц. Пришло много отставных военных — капитанов, майоров, полковников и просто пенсионеров без званий. Ораторы сменяли один другого и просто, без тени хвастовства, как о чем-то очень обыденном говорили о своих ночных дежурствах, о патрулировании на тушинских улицах, о работе оперативных групп. Вот паренек рассказывает, как они, несколько дружинников, разняли пьяную драку, как обезоружили двух отъявленных хулиганов. Девушка с чулочной фабрики говорит, как комсомольцы вместе со старыми рабочими фабрики поймали с поличным группу расхитителей. В перерыв Пушкарев спросил Василия: — Ну как? — Очень интересно. У вас там такая работа раскручена, что мне и делать нечего. Пушкарев серьезно возразил: — Ну нет. Далеко не так. Мы эту работу только начинаем. А есть в городе и такие микрорайоны, где дело обстоит совсем плохо. И актива нет, и нарушений много, хулиганы распустились, сам же заметил… После собрания Пушкарев пригласил Василия: — Пойдем, походим по Тушину, подышим воздухом. Они вышли на вечерние, ярко освещенные улицы. В скверах сидели заядлые шахматисты, «козлятники». По широким тротуарам прохаживались парочки, группы молодежи. Слышался смех, шутки, то тут, то там вспыхивала песня… Говорили о разном, вспомнили, как ходили в комсомольских секретарях. Потом Пушкарев опять вернулся к прежней теме. — Видишь: отдыхает народ, вполне законно отдыхает, после трудового дня. И надо, чтобы отдыхал спокойно. Значит, всеми силами помогай милиции. Именно поэтому мы посылаем туда наиболее надежных людей, выделяем на работу в дружину лучший актив… — Не любят у нас милицию, — со вздохом заметил Петушков. — Не прав ты, не так это. Есть у нас не совсем правильное представление об органах милиции. Есть, это мы знаем. Кое-кто и не любит. Но давай разберемся, кто, кто не любит? Обыватель, спекулянт, хапуга, хулиган. Эти действительно не любят. Так это же — лучшая аттестация для наших блюстителей порядка. А народ нашу милицию, наоборот, уважает и поддерживает. Недавно на одной из многолюдных улиц города я был свидетелем такого случая. Группа не в меру развеселившихся подвыпивших молодых людей повздорила с водителем такси. Что-то там возникло у них с расчетом. Дело мелкое — пошумят и разойдутся. Но проходившего мимо постового милиционера насторожила услышанная им в этом гвалте фраза: «Бей под лопатку». Он понял, что обычное мелкое происшествие сейчас перерастет в преступление. И смело вошел в бурлящую толпу. — Молодые люди, прошу прекратить ссору и разойтись. Но куда там! Спорщики, что называется, вошли в раж. Теперь уж и милиционера окружили тесным кольцом, выкрикивая пьяные угрозы. Однако через несколько секунд они сами оказались в кольце и куда более многочисленном и плотном. Их окружили прохожие москвичи. Они все спешили по своим делам, но вмешались все-таки в это уличное происшествие. Хулиганы были взяты, что называется, в тиски. А милиционер не терял времени. Вот уже у одного из особенно крикливых молодчиков отобран нож… Да, возглас «Бей под лопатку!» не был случайным… Всю эту сцену наблюдал один иностранный корреспондент. Когда происшествие было ликвидировано и патрульная милицейская машина увезла нарушителей порядка, корреспондент пожелал проинтервьюировать одного из случайных участников этого уличного события. Он остановил мужчину лет сорока, несшего под мышкой рулоны каких-то чертежей. — Почему вы так рьяно ринулись в эту заварушку? Тут что — ваши родственники? Знакомые? — Нет ни родственников, ни знакомых. — Тогда почему же? Ведь это дело милиции. — Ну и что ж? Милиция-то ведь наша!.. По-моему, эта простая фраза, сказанная кем-то из москвичей, говорит об очень многом. Нам надо организовать борьбу за настоящий порядок, поднимать на эти дела широкий актив, всех наиболее энергичных граждан. Значит, в органы милиции должны прийти новые люди, организаторы, массовики, воспитатели… Пушкарев говорил не спеша, как бы в раздумье, но говорил уверенно. Было видно, что он хочет убедить Петушкова. Ему хотелось, чтобы старый комсомольский товарищ принял поручение горкома не только умом, а и сердцем, чтобы не просто пошел на предлагаемую работу в порядке партийной дисциплины, а с желанием, с полным пониманием значимости предлагаемого дела. Заметил Петушков в разговоре Пушкарева и еще одно. Он гневно, с ненавистью говорил о тех, кто, несмотря на предупреждения, не хочет свертывать с преступных тропок. Но в то же время с заботливой теплотой говорил о других людях, попавших на эти стежки-дорожки случайно, тянувшихся к исправлению, стремящихся вернуться к трудовой жизни. — Когда будешь работать в милиции, помни, что преступниками не рождаются, преступниками становятся. Судить того, кто этого заслуживает, конечно, надо. И мы правильно делаем, что судим. Преступник должен знать, что он получит по заслугам, что ему не уйти от наказания, что рано или поздно, но за нарушение, попрание норм, установленных обществом, он понесет ответственность. Но это только часть дела. И притом не главная. Нам необходимо активно, глубоко заниматься профилактикой преступлений, беречь людей от дурных поступков, предупреждать правонарушения. Давайте распахнем широко двери любого дворца, клуба, привлечем туда именно тех, кто сюда никогда не приходит. Пусть играют в бильярд, пусть стреляют в тире, пусть танцуют. А потом затеем разговор по душам. И не раз, и не два. Горячий, глубокий, острый, такой, чтобы заронил искру в сознание и в сердце. Чтобы задумался парень над своим времяпрепровождением, чтобы понял, как обворовывает свою юность. Понимаешь, Василий, мы должны, обязаны это сделать. Нам просто нельзя иначе. Но ведь и не только это. А воры? Жулики? Хапуги? Спекулянты? Их тоже не должно быть на советской земле. И вот возникает вопрос. Кто же все эти дела должен решать? Все, все должны взяться за них, единым фронтом, одним гужом. Все, в том числе и органы милиции. Им ведь все эти факты и явления известны лучше, чем кому-либо, они первыми сталкиваются с ними, одними из первых принимают на себя удар этих далеко не добрых сил старого мира… Закончив свой несколько затянувшийся монолог, Пушкарев посмотрел на Петушкова и спросил: — Ну как? Петушков, улыбнувшись, ответил: — Агитировать ты мастер. Но я пока еще не решил. Подумать хочу. Поразмыслить, прикинуть, что к чему. — Подумать никогда не вредно. Но учти, что это важное и боевое дело. Советоваться тебе теперь пока не с кем. Или, может, я ошибаюсь? — лукаво взглянув на Василия, спросил Пушкарев. — Да, на этот счет ты ошибаешься, товарищ секретарь. Обязательно посоветуюсь. — Ну что ж, я очень рад. Теперь-то, надеюсь, выбор сделал без ошибки? — Нет, Люба не такая. Она — человек замечательный. — Ну, очень рад. Когда познакомишь? — Как приедет. — Когда же ждать ответ? — Зайду в горком завтра или послезавтра. …Так Василий Петушков стал работником милиции. Когда в 129-м отделении появился коренастый темноволосый парень с густыми бровями, с загорелым лицом и большими мускулистыми руками, его встретили веселыми возгласами: — Так, так. Пополнение прибыло. Очень хорошо. Что же, давай знакомиться. Новым силам мы рады. Не сразу свыкся Василий с новой работой. Многое было здесь необычно, а иногда казалось пугающе сложным. И в самом деле, было немного странно. Кругом мир и спокойствие, люди поют мирные веселые песни, работают, радуются, любят. А здесь — совсем иной язык, иные слова, здесь живут и работают совсем иначе. Здесь воинская дисциплина, четкость и немногословность. Здесь каждый день начальник проверяет оружие, его чистоту и боевую готовность. В коллектив своего отделения Петушков вошел быстро и незаметно. Скоро все считали его старожилом. Служивому народу понравилось, что новенький прилежно посещает все оперативки, не пропускает ни одной лекции по криминалистике, серьезно, вдумчиво относится к каждому поручению. Эти свойства, однако, еще ничем не выделяли его среди товарищей. Дисциплинирован? Вдумчив? Старательно вникает в дело? Ну и что же? Не один он такой. Здесь люди служили по призванию. Зарплату им платили куда меньшую, чем каждый мог получить, допустим, на заводе. Далеко не в первую очередь они получали жилье. Не очень-то баловали их и другими привилегиями. Но зато требования предъявлялись без скидок. Здесь человек не мог твердорассчитывать не только на спокойную неделю, но и на спокойный день и даже час. Но люди, что окружали Василия, шли на свое беспокойное дело не во имя материальных благ, а потому, что понимали — наш советский дом надо охранять, чтобы люди могли мирно жить: трудиться, веселиться, отдыхать, растить детей. И чтобы им никто не мешал. Да, в отделении работали люди скромные, простые и безгранично преданные своему долгу. Петушков видел, как по первому же сигналу снимаются мотоциклисты, как по одному слову дежурного любой работник стремительно бросается к месту происшествия. А если работник этот увидел сам какое-либо нарушение, то ему и никаких команд не требовалось — каждый считал себя обязанным в любых условиях, в любой обстановке прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, вмешаться и сделать все, чтобы был охранен и восстановлен порядок. Петушков с головой уходит в свою работу. Каждый вечер бывает он в общежитиях, красных уголках, на танцверандах. Посещает молодежные вечера, киносеансы, гулянья. Заходит в квартиры. Но это не просто дежурные посещения, не просто минутные визиты. Нет, Это или задушевная беседа с людьми или немногословный, но строгий разговор с не в меру шумным и падким на зелье весельчаком, или предупреждение замеченным в хулиганстве молодым людям. А иногда просто чашка чаю у гостеприимных заводских друзей. Так прошло несколько месяцев. Петушков досконально изучил «свой контингент», как выражаются милиционеры. Он знал всех любителей выпить, всех буянов и скандалистов, а также и тех, кто при случае охоч до чужого добра… Но еще лучше он знал и тех, кто без раздумий придет на помощь в трудную минуту, кто не спрячется, не будет с безопасного расстояния наблюдать за тем или иным происшествием. Его уже тоже знали, с ним приветливо здоровались, охотно вступали в разговор, шли советоваться. Но кое-кто старался при встрече обойти инспектора стороной, кое-кто злобился. Среди таких злобствующих был и Зенков со своими дружками. Их первое столкновение, с которого мы начали свой рассказ, во всех деталях запомнилось Петушкову. Он еще раз убедился, что хулиганствующие субъекты отчаянно смелы, пока попадают на робких. А когда встречаются с твердым отпором, их нахрапистость улетучивается как дым. Встреча эта имела немаловажные последствия — главари тушинских лоботрясов поняли, что с участковым уполномоченным Петушковым шутки плохи, и приутихли. …Разнообразны и сложны обязанности участкового уполномоченного. Тысячи людей живут в его микрорайоне, десятки, сотни вопросов ежечасно возникают у них к представителю власти. Не поладили между собой соседи — к участковому, обидели родственники престарелую бабушку — она, постукивая клюкой по тротуару, направляется к нему же, в одной из квартир лежит одинокий больной гражданин — и об этом сообщают уполномоченному. А вот здесь сегодня свадьба — и часто, очень часто в таких случаях тоже зовут участкового. Нет, не для того, чтобы унять не в меру веселых гостей, а чтобы он сам был гостем — в знак уважения. Жизненный опыт, привычки, выработанные за время комсомольской работы, и, наконец свойство характера — все это помогало Петушкову всегда находить с людьми общий язык не на словах, а на деле, поддерживать с ними самые тесные связи. Но никакой, даже самый лучший милиционер не может работать в одиночку или при поддержке таких же одиночек. Нужна организация, нужна активная помощь общественности. Василий очень скоро понял это. Он становится частым гостем на чулочной фабрике, в строительном тресте, в школах, в техникуме… И везде говорит одно: порядок надо наводить сообща, общими усилиями. Для этого нужно вот что: дружины чтобы работали как следует. Это раз. Не потакать нарушителям — это два. Потом надо думать о том, как занять людей, на что им тратить свое свободное время… Торговля спиртным опять же… Ну зачем около каждой проходной по палатке, а то и по две? Ведь именно водка самый верный спутник хулиганов, воров, грабителей. С этими же делами он не раз бывал и в горкоме партии, у Пушкарева: — Помните, как вы меня агитировали идти в милицию? Теперь помогайте. Плоховато работают некоторые дружины, скучно в клубе, красные уголки большую часть времени закрыты. Прошу помочь… И вот уже на чулочной фабрике дружина — не шестьдесят-семьдесят человек, а четыреста. По улицам патрулируют не разрозненные кучки энтузиастов, а тройки и пятерки подтянутых строгих парней с красными повязками на рукавах. То в одном, то в другом цехе фабрики, то на одном, то на другом участке стройуправления рабочие собрания обсуждают поклонников «зеленого змия», любителей побуянить, отравить людям настроение мерзким словом или пьяным дебошем. Общественные суды судят таких людей. И судят строго. Жулики и воры, тунеядцы и пьяницы все больше боятся Петушкова. Но тем изворотливее стали они действовать, тщательнее скрывать следы своих грязных делишек. Как-то в пригородном доме отдыха воры разбили окно небольшого флигеля и украли вещи отдыхающих. Петушков и Пчелин прибыли на место. Один из потерпевших — рабочий парень — упавшим голосом повторял одно и то же. — Костюм и плащ. Только купил. Думал, в доме отдыха и обновлю. — Ну не стоит так убиваться. Найдут, — утешали его товарищи. — Найдут! Где это они их найдут? Ищи ветра в поле… Плакали мои вещички!.. А Петушков вместе с Пчелиным тщательно изучали место происшествия, методично, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром осматривали сквер, дорогу, ведущую к флигелю, комнаты. Ночные гастролеры не оставили ни следов, ни малейшей зацепки. Видимо, уже набили руку, имели, опыт. Куда направиться, где искать похитителей? Петушков снова и снова осматривает окно, комнату, аллею, вновь и вновь разговаривает с жильцами флигеля. Парень, у которого забрали наиболее ценное, твердит свое: — Обновить хотел. К знакомой хотел съездить утром, книжечку билетную на метро купил. — Сколько билетов израсходовал? — спросил Петушков, записывая разговор. — Ну сколько? Один. Сюда доехал. — Так, так. Ясно. Потом в кустах под окнами обнаружили кепку — серую, в елочку. Хозяина кепки среди отдыхающих не нашлось. Возможно, она принадлежит именно тому, кого надо найти? Билеты на метро, серая кепка… Не бог весть какие улики. И ничем они пока не могли помочь. Некоторые работники дома отдыха, видя, что Петушков забыл и про обед, и про сон, все ходит и ходит к ним, озабоченный и хмурый, уговаривали: — Да бросьте вы это дело. Ну подумаешь, какое-то барахло украли! Дело наживное, купят. Молодые, заработают, не велики потери. — Ну нет, найдем, обязательно найдем. Петушков продумал и прикинул все возможные пути и варианты. Отдыхающие? Нет. Все на месте. Отъезжающих в эти дни не было. Да и народ здесь отдыхал, как он убедился, положительный — металлисты, трикотажники, ребята из институтов. Нет. Подозрительных нет. Посторонний? Но почему он облюбовал именно этот одноэтажный флигель с одинарными рамами? Он мог скорее позариться на центральный корпус, там больше возможностей поживиться. Правда, там более людно. Но знать об этом скорее всего мог кто-нибудь из работающих здесь… Своим предположением Петушков поделился с Пчелиным, с начальником отделения. Тот одобрительно, но с добродушной иронией заметил: — Давай, давай, Пинкертон, действуй. Только не забывай глядеть и за другими делами на участке. А то за мелочишкой можно что-нибудь крупное упустить. — Да ведь это тоже не мелочь. Скромные рабочие ребята. На трудовые рубли все куплено. Нет, Надо найти. Обязательно.. И Петушков еще и еще раз прикидывает один вариант за другим. Он изучает материалы о всех, кто работает в доме отдыха. Нет, все вполне надежный народ. Интересуется теми, кто ушел с работы. Один из сотрудников сообщил, что видел проходившего по дому отдыха Тужилкина. Того, что грузчиком работал. Тужилкин? Что-то напоминает Петушкову эта фамилия. Но что? Петушков опять роется в списках бывших работников дома отдыха, Тужилкин работал временно. Документов поэтому на него почти никаких нет, лишь заявление о расчете. Но вот записи в собственном блокноте оказались более обстоятельными. Иван Тужилкин. Судился за кражи. Долгое время нигде не работает… Так. Так. Ясно. Петушков торопливо собирается, вызывает машину. Дорогой говорит Пчелину: — Убежден, что его работа. — Почему же? — А вот почему… И Петушков подробно, обстоятельно, взвешивая слова, продумывая еще раз свои мысли, делится ими с товарищем. — Да, пожалуй. На стук в дверь вышла жена Тужилкина. — Муж дома? — Выпивши. Спит. — Выпивши? Откуда у него деньги? — С приятелем встретился. А денег у него нет. Вон, одни билеты на метро. И женщина, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов, взяла с этажерки книжечку и показала Петушкову. Он просчитал билеты. Девять. Так. Потом, вытащив из портфеля кепку, найденную в кустарнике, около флигеля, повесил ее на крючок вешалки и ворчливо проговорил: — Ходит он у тебя по разным неположенным местам и теряет свои вещи. Женщина сияла кепку с вешалки, осторожно встряхнула и повесила вновь. — А сказал — в Москве где-то оставил. — Его убор-то? — Его, его. А чей же еще? В это время проснулся Тужилкин. Он сразу все понял, вскинулся было с кровати, но, встретившись с Петушковым взглядом, сник. — Докопались все-таки… Допрыгаешься ты, Петушков. — Разговорчики, Тужилкин, оставьте при себе. А сейчас собирайтесь, да поживей. Когда вещи были разысканы и возвращены владельцу, тот обрадованно тараторил: — Вот это да, вот это я понимаю! Здорово! Честное слово, здорово. Как же это вы? Ведь всего двое суток и прошло-то. Спасибо вам большущее. Ведь новый костюм-то, понимаете, обновить хотел. Не знаю, как и благодарить. — Благодарить нас не надо. Каждый свое дело делает, — спокойно заметил Петушков. Пчелин проговорил: — Ну что ж. С этим делом все ясно. Поехали в отделение посмотрим, что у нас на очереди? А дела на очереди действительно были. …Петушкова давно уже настораживали и беспокоили несколько семей в Тушине. Нет, это были не хулиганы и не пьяницы, они не ходили буйными ватагами по улицам и не били фонари и магазинные витрины. Скандалов у них в квартирах тоже как будто не бывало… Настораживали они участкового уполномоченного другим: уж что-то очень быстро, буквально не по дням, а по часам стали богатеть. И не то, чтобы такие люди вообще не пользовались доверием у Петушкова. Нет. Когда несколько жителей Тушина задумали приобрести машины, со знанием дела обсуждали они вместе с ним, какие машины купить — «Москвичи» или «Волги», как спланировать на соседнем незастроенном участке коллективный гараж. Так что не просто повышенное благополучие тех или иных граждан беспокоило Петушкова. Если заработано честным трудом, как это у нас и положено, — то пожалуйста. Но в случае, о котором пойдет речь, дело обстояло как раз наоборот. Петушков уже несколько раз замечал, что некий Николай Редькин — слесарь, Григорий Тимофеев — помощник мастера чулочной фабрики, Василий Дегтярев — электромонтер этой же фабрики, и Елена Воронина — заведующая магазином Тушинского торга, стали жить не по средствам. Шумные пиршества устраивали они не только по праздникам, а и в будни. Одному не понравилась мебель — и он ее заменил на более современную, другой обзавелся автомобилем, третий стал подыскивать дачный участок. Участковый уполномоченный не соглядатай, в личные дела людей он не вмешивается. Но он знает людей, с которыми живет бок о бок, знает их нужды и заботы, горе и радости. Знает и их достаток. И немудрено, что Петушкову, когда он наблюдал лихорадочное «обарахление» Редькиных, Дегтяревых и Тимофеевых, невольно приходила в голову мысль: «А все ли ладно тут? Все ли честно?» Он поделился своими сомнениями с начальником отделения. Тот посоветовал не спешить с выводами. Нельзя, чтобы честные люди попадали под подозрение. Однако фактов, вызывающих беспокойство, у Петушкова становилось все больше. Он пишет начальнику отделения рапорт: «Доношу, что 11 декабря примерно около 19 часов около магазина № 15 по улице Фабричной продолжительное время стояла группа граждан, среди которых находились братья Дегтяревы и Редькин Николай. Затем к ним присоединился гр-н Тимофеев. После длительного разговора они, взяв таксомотор, выехали в направлении Москвы». Как будто обычный, ничего особенного в себе не содержащий документ. Но как он понадобился, когда обнаружилось, что с чулочной фабрики в тот день пропало несколько тысяч пар капроновых чулок. Выяснилось также, что одиннадцатого числа по картонному цеху фабрики, откуда была произведена кража, дежурил помощник мастера Тимофеев… Рапорт Петушкова, в котором он сообщил о подозрительном «производственном совещании» Редькина, Дегтяревых и Тимофеева, дал ключ к разгадке этого происшествия. Оперативники шли, что называется, по горячим следам. Во время обыска у Редькина обнаружили значительную часть похищенного — воры не успели еще переправить чулки в торговую сеть. Компания была поймана с поличным. Деваться было некуда — жулики признались в этой краже. Но больше ни в чем. А работникам ОБХСС были известны случаи краж на Тушинской фабрике и прежде. А кроме того, при обыске у некоторых участников шайки была обнаружена в немалых количествах шелковая лента, дорогостоящие красители. Откуда это? Зачем? Й почему в таких значительных количествах? Оперативная группа скрупулезно исследует все детали, все мельчайшие штришки дела, все данные, которые представляют хоть малейший интерес. И вот результат. Оказалось, что на протяжении нескольких лет в Москве и Московской области действовала организованная группа расхитителей государственного имущества. Редькин, Дегтярев, Тимофеев, Костюшин, Константинов, Лохматов и другие крали чулки, ленты и ткани с государственных предприятий и сбывали эти товары в торговую сеть. Работники же магазинов, в свою очередь, продавали «левые» товары населению, деля вырученные деньги между собой. В «сферу деятельности» хищнической группы входило около десяти фабрик. Сбывали ворованное работники четырнадцати магазинов и торговых баз Москвы и области. Передо мной пухлые папки дел на «тушинскую группу», как она именовалась тогда в судебных органах. Девятнадцать толстых тяжелых томов — сотни протоколов допросов, десятки актов ревизий, ведомостей учета продукция, материалы судебно-бухгалтерских и товароведческих экспертиз, инвентаризационные документы и многое другое. И все же не будь той скромной бумажки — рапорта наблюдательного участкового уполномоченного, — не было бы этих томов, не было бы разоблачения. Следствие тоже проходило при живейшем участии Петушкова. Не случайно один из ведущих работников прокуратуры Москвы, руководивший следствием по тушинской группе, писал так: «Преступная деятельность группы расхитителей, действовавшей на тушинской, ногинской и других фабриках, раскрыта благодаря товарищу Петушкову. Это он изучал быт и жизнь работавших на фабрике людей, он благодаря своей бдительности напал на след преступников, и он, наконец, сыграл решающую роль в их изобличении». Яснее сказать трудно. Да, тверда должна быть рука, карающая преступников. Но как же важно человеку, облеченному властью, быть по-настоящему чутким, гуманным, предельно справедливым. Надо любить людей. Это, быть может, лучшая из гарантий от ошибок, извращений, от нарушений нашей советской законности. Василий Петушков обладал и этими драгоценными качествами. Они вскоре проявились, и вот при каких обстоятельствах. На Тушинском проезде был обнаружен с множественными ножевыми ранениями в грудь гражданин Попков. В больнице, несмотря на все принятые врачами меры, он скончался. Перед оперативными работниками милиции встала задача — найти убийц, изобличить их, не дать уйти от возмездия. Вечером того же дня около Дома культуры чулочной фабрики Петушков задержал Анатолия Кононенкова. Был он пьян и вел себя нервозно — все твердил: «Я знаю, чего вы ищете, вы ищете нож, но вы его не найдете. Попков мой друг, я его не трогал, только отвез в больницу». Уж очень подозрительны были эти лихорадочные объяснения, и Петушков отправил Кононенкова в отделение. По Тушину шли разговоры, что убийство совершил именно он, Кононенков, или Жирный, как называли его между собой знакомые. Попков и Кононенков действительно были приятелями, часто вместо гуляли, ходили в кино, в клуб, нередко выпивали. В день убийства они тоже были вместе. По пути на танцы зашли к знакомому Кононенкова — Николаю Лошанкову. Здесь выпили и через некоторое время ушли. А скоро Попкова нашли смертельно раненным. Вот что показал Лошанков на предварительном следствии: «Посидев у меня минут сорок или час, выпив пол-литра водки, Попков и Кононенков поднялись и ушли. Они спешили на танцы. Через некоторое время после их ухода я вышел в коридор, где разговаривал с женщинами — Шурой Абрамовой и Катей Улановой, которые спрашивали у меня о состоянии здоровья моей жены, находившейся в родильном доме. Я прочитал им письмо, которое получил от нее. В это время в коридор прибежала дочка соседки Таня и сообщила, что на улице зарезали парня, который был у меня в гостях. Я вышел на улицу и увидел, что по направлению к Тушинскому проезду идет народ. Я также пошел туда и около забора под деревьями увидел лежащего в крови гражданина, что приходил ко мне с Анатолием, то есть Попкова. Там же стоял народ. Когда я спросил, кто это сделал, из толпы ответили: «С товарищем своим повздорили, тот его и полоснул…» Постояв минут пять в толпе, я ушел домой». Кажется, яснее ясного. Побыв у Лошанкова и уйдя от него, приятели почему-то повздорили, завязалась драка, кончившаяся трагедией. А если учесть, что Кононенков все время нервничает и толкует о том, что «нож вы не найдете», предупреждая возможные вопросы, лихорадочно открещивается от убийства, то вывод напрашивался сам собой: Попков погиб от ножа Кононенкова. Но одних только рассуждений и предположений (пусть вполне обоснованных и логичных) в таком деле мало. Мало даже признания преступника. Нужны доказательства, бесспорно и недвусмысленно подтверждающие его вину. Оперативные работники, следователь беседуют с десятками людей, проверяют не одно и не два, а десять-пятнадцать сообщений, продумывают не один десяток фактов, догадок и предположений, вновь и вновь исследуют все, что имеет отношение к убийству. В который уже раз сверяются все версии и показания, уточняется время происшествия, исследуется каждая минута, предшествовавшая убийству: что, где и когда делал погибший, чем были заняты его знакомые… И все-таки все сходится к одному — к обоюдной драке между Кононенковым и Попковым. Да, пожалуй, здесь третьего не дано. Разве только Лошанков? Но он спокоен, уверенно объясняет все, о чем его спрашивают. Алиби его несомненно, Кононенков же путается, озлобленно молчит, наконец, совсем отказывается давать показания. — Ну, ведь ясно же все? Чего он крутит? — возмущались оперативные работники помоложе. Но более опытные предостерегали: — Не торопитесь с выводами, а ищите доказательства. Решительнее всех был настроен Петушков. — Не Кононенков убил. Не он. — Почему не он? Откуда такая уверенность? — Знаю я его. Работящий, смирный человек, не мог он. — Все это хорошо. Но факты вещь упрямая. А они против него. — Вижу, что против. Но думаю все-таки, что не он. Искать давайте. Обыск у Кононенкова ничего не дал. Не многим обогатил следствие и обыск у Лошанкова. Правда, здесь нашли две новые шапки-ушанки. По свидетельству Лошанкова и Кононенкова, они принадлежали покойному Попкову… — Почему Попков, уходя, не взял шапки? — спросили у Лошанкова. — Просто забыл. — Нет, не забыл, — уточняет Кононенков. — Лошанков оставил их у себя как залог. Попков деньги ему задолжал… Это было нечто новое. Но… не имеющее значения для дела. Ведь Лошанков-то из дома не выходил. Значит, к убийству отношения не имеет. А Кононенков и Попков ушли вместе. При чем же тут шапки, если они даже и обнаружены у Лошанкова? Просто Кононенков хватается за эти самые шапки, как утопающий за соломинку. Но участковый уполномоченный Петушков твердит свое: — Нет, не верю, что Кононенков убил. Искать надо. Кажется, невелика роль участкового уполномоченного, когда в следствие включается оперативный состав района, уголовного розыска города, следственные работники прокуратуры. Люди опытные, знающие… Но Петушков а это не смущало, и он выдвигал то одну версию, то другую, предлагал проверить то, перепроверить это, допросить такого-то, вызвать того-то. Его упорство и какая-то непоколебимая уверенность в невиновности Кононенкова породили сомнения у следователя Дорогуша и старшего оперативного уполномоченного Гуревича. Был проведен повторный обыск в комнате Лошанкова. И этот обыск решил все. Под радиоприемником обнаружили письмо Лошанкова к жене в родильный дом. «Дорогая Марина Николаевна, — писал он. — Я сделал большую глупость. Не знаю, насколько мы теперь разлучимся. Глупость я сделал, глупость…» Когда Лошанкову предъявили этот листок, вырванный из ученической тетради, он побелел. Понял, что теперь ему уже не спрятаться, не укрыться, не замести следов. Припертый к стене неопровержимыми уликами, убийца дает показания. Признается в совершенном преступлении. Оказалось, что события разворачивались совсем не так, как об этом говорил Лошанков вначале. Кононенков и Попков вместе вышли, но тут же, у крыльца, они расстались. Попков, пройдя несколько шагов, вернулся в дом, чтобы забрать оставленные у Лошанкова шапки. В комнате у них вышел крупный спор, который продолжался и на улице. Здесь спор перешел в озлобленную ссору. Разъяренный Лошанков ударил Попкова ножом в грудь и бегом вернулся домой. У него хватило выдержки спокойно беседовать с женщинами о здоровье своей жены, удалось не выдать себя при встречах с оперативными работниками. Но уверенности, что все пройдет бесследно, не было. Потому и было написано письмо жене… Правда, если бы это письмо и не было обнаружено, улики все равно нашлись бы. Не зря Петушков не удовлетворился и вторичным обыском. Уже когда дело подходило к концу, в подвале соседнего барака был обнаружен синий пиджак со следами крови. Все соседи подтвердили, что он принадлежит Лошанкову… Когда Кононенкова освободили из-под стражи, Петушков ходил улыбающийся, веселый. Кто-то из сослуживцев заметил: — Что это ты, Петушков, так радуешься? Что-нибудь радостное приключилось? — А как же? Конечно. Честного человека от такой беды уберегли. Как же не радоваться? Немного довелось Василию прослужить в милиции. Однако итогам его работы, его послужному списку позавидовал бы любой ветеран. Вот дело хулиганов и дебоширов Сорокина и Борисова, дело расхитителя Каурова, мошенника Иванова, карманника и домушника Балыгина… Это строгой рукой Василия Петушкова они и многие-многие другие возвращены с дурных стежек к честной жизни. В отделении милиции и в райотделе понимали, что из Петушкова растет незаурядный оперативник, отличный командир, видели, каким авторитетом пользуется он у своих товарищей. Ему предлагают подумать о другой, большей работе. Но Петушков не захотел покидать свой участок. Как это он не будет проходить по Фабричной улице, любоваться этими вот чудесными домами, скверами, не будет ходить мимо вот этой школы, этого Дома культуры, не будет встречаться с ребятами из народных дружин? И потом столько еще незаконченных дел, столько неосуществленных планов! Тунеядцы еще за ум взялись не все, пьяные ватаги нет-нет да и появляются на улицах Тушина, любители чужого добра тоже дают о себе знать… Нет, уходить с участка пока положительно нельзя. Он затевает организацию лектория по правовым вопросам. Договаривается с работниками прокуратуры, народного суда о лекциях, раздобывает подходящие фильмы, привозит из Москвы ученых-юристов. Кто-то из работников отделения пошутил: — Не иначе, Петушков хочет в Общество по распространению политических и научных знаний податься. Петушков серьезно ответил: — Если бы все хорошо знали законы, нарушений порядка у нас было бы гораздо меньше. Он был не без оснований убежден в этом и не жалел ни сил, ни времени на то, чтобы разъяснять и разъяснять людям нормы социалистического общежития. И, конечно же, это не проходило бесследным, хотя, может, сразу и не давало каких-то конкретных, осязаемых результатов.* * *
В числе не сделанных еще дел, о которых думал Петушков, было и такое маленькое, незначительное на первый взгляд дело, как беседа с Гридчиным. «Побеседовать, подробнее разобраться с Гридчиным…» Это запись в блокноте Петушкова. Последняя его запись… Они жили недалеко друг от друга. Обязанности одного и поведение другого сталкивали их. Сначала редко, затем все чаще и чаще. Гридчин принадлежал к немногочисленному, но всем изрядно осточертевшему племени отъявленных забулдыг. Есть у нас, к сожалению, такие люди. Правда, на людей они похожи только внешне, и то отдаленно. Это слизняки, недостойные гордого и светлого слова — человек. Пьют по каждому поводу и без повода, пьют, когда есть за что и когда не за что, когда есть на что и когда не на что, пьют все — водку, вино, а когда нет ни того, ни другого, глушат одеколон, муравьиный спирт, политуру. Таких типов у нас немного, но они есть. И мы порой удивительно терпимы к ним. Пьянчуг подбирают на улицах, затем в вытрезвителях бережно приводят в божеский вид. Заботливые врачи и сестры делают им разные там уколы, примочки, компрессы. А они, отоспавшись на мягких, чистых до стерильности постелях, опять появляются на людях. Кое-как отбыв на работе положенные часы, вновь околачиваются у магазинов и закусочных, соображая «на троих» или «на двоих», смотря по ресурсам и вкусам. Когда же общественность, врачи или милиция берут их в оборот, они хнычут, бьют себя в грудь, уверяя всех, что они больны, серьезно и мучительно больны. Не надо верить этим опухшим от пьянства субъектам и их плаксивым физиономиям. Это не болезнь, а распущенность, разнузданное попрание элементарных норм человеческого поведения… Петушков делал все, что мог, чтобы удержать Гридчина от дурных троп. Не раз и не два говорил ему: бросай пить, бросай буянить. Гридчин обещал, бил себя в грудь, плакал мутными обильными слезами и… опять напивался. Его предупреждали и на работе — включали в лучшие бригады, давали взыскания, устанавливали новые и новые сроки для исправления. Увольняли, брали вновь. Опять убеждали, критиковали, взывали к отцовским и иным человеческим чувствам. Не помогло. Пить продолжал. А пьяным — становился зверем. И вот он опять в отделении милиции перед старшим лейтенантом Петушковым. Опять мутные пьяные слезы. Но на них уже не обращают внимания. Требуют объяснения по поводу происшедшей драки, где был зачинщиком. Рука с синей наколкой на кисти мелко дрожит. Нехотя подписав протокол допроса, Гридчин зло выдохнул: — На, возьми. Подшивай к своим архивам. Петушков спокойно взглянул в лицо Гридчину, вздохнул. — Плохо ты кончишь, Гридчин. Потом старший лейтенант думает про себя: «Надо обязательно еще раз поговорить с ним. Только не сейчас. Сейчас не поймет». И когда за Гридчиным закрылась дверь комнаты, в записной книжке появилась та последняя запись: «Поговорить, разобраться с Гридчиным…» Это было за несколько часов до трагедии, что произошла на Фабричной. …Петушков собирался домой. Сын Юрка уже несколько раз робко, но настойчиво напоминал отцу: «Ты сегодня обещал прийти пораньше. Почему не идешь? Мы ждем…» Положив трубку телефона, Петушков улыбнулся. Он представил себе, как малыш карабкался на стул, всовывал маленькие розовые пальцы в круглые отверстия телефонного диска. Набирает старательно, весь сосредоточась на этой операции, и загорается радостью, когда слышит в трубке равный, спокойный голос отца… Петушков встал из-за стола, собрал бумаги, запер их в сейф, застегнул китель. Можно, кажется, идти домой. Но дверь стремительно открылась. На пороге стояла жена Гридчина с перекошенным от страха лицом, вся в слезах. — Товарищ Петушков! Скорее, умоляю… Николай детей убивает… Петушков, не спросив больше ни слова, опрометью бросился из комнаты. Вслед за ним побежали Пчелин и несколько дежуривших в отделении дружинников. Зимняя ночь, скользкая дорога, бежать по ней трудно. Но он бежал очень быстро. …Гридчин буйствовал. Прищуренные, белесые от пьяной злобы глаза слезились, лоб, не заживший от последней драки, собрался в крупные набухшие морщины. Разорванная на груди рубашка висела клочками, мокрые волосы свисали на уши. Дети, перепуганные жутким видом отца, давясь от слез, жались в угол кровати. — Сволочи… Надоели… Убью. Перестреляю. Видимо, это слово породило в пьяном мозгу новую мысль — достать ружье. Он шумно, лихорадочно и долго рылся за шкафом, наконец с остервенением вытащил оттуда двустволку. Потом полез за патронами. Нашел и их. Сережа, увидев, что отец заряжает ружье, в смертельном испуге истошно закричал: — Папочка, не надо! — Замолчи, тварь! — Гридчин с силой толкнул его стволом в белеющий лоб. Ребенок упал навзничь, обливаясь кровью. Слезы и крики детей, пьяные выкрики взбешенного бандита заглушали стук в дверь. Но стучали резко, настойчиво, властно. Гридчин вскочил на кровать, спрятался за выступ шкафа, выставил вперед зияющее дуло ружья. — Николай, отопри. Это я — Петушков. Открой, давай спокойно поговорим. — Уходи, стрелять буду… Петушков знал Гридчина, знал его буйный, необузданный характер, особенно, когда тот пьян. Знал и о том, что у Гридчина есть ружье, и потому понимал, что угроза эта была не просто пьяным бредом. Надо осторожнее… Но за дверью вновь послышался плач ребятишек. Как знать, может, они истекают кровью, может, озверевший сумасброд изуродовал их, посягает на их жизнь. И как бы в подтверждение этой мысли послышался истошный крик девочки: — Убил, убил Сережу… Раздумывать было некогда. Петушков первым навалился плечом на дверь. В коридоре яркий свет. В комнате же темнота. Поэтому уполномоченный, первым ринувшийся в комнату, ярко и отчетливо виден Гридчину. И поэтому прицел был предельно точным. Ярко-желтый, разящий сноп света ослепил Василия, страшный удар отбросил его назад. Прогрохотал по всему дому гулкий раскатистый ружейный залп из двух стволов. Старший лейтенант схватился за грудь, какую-то долю секунды стоял на ногах, недоуменно вглядываясь в комнату, а потом, обливаясь кровью, рухнул на пол. …В вестибюле больницы на стульях, на диване, на окнах сидели люди. Много людей. Было тесно, душно, но никто не уходил. Все ждали врача. Он вышел, и по его виду без слов все было понятно: конец. Так Юра Петушков и не дождался своего отца. Трагедия на Фабричной улице взволновала все Тушино. В милицию, в суд, прокуратуру шли десятки писем, телеграмм, шли делегации с предприятий. Требовали одного — строжайшего наказания убийцы. Василия Петушкова хоронило все Тушино, хоронило как героя. Перед клубом, где стоял гроб с его телом, собрались тысячи людей. Проспект Свободы тоже был полон народа. Многотысячная процессия прошла и по Волоколамскому проезду, остановилась около дома, где жил Петушков, и долгим молчанием почтила его память… Ветер далеко разносил по морозному воздуху печальные звуки траурного марша. А люди все прибывали и прибывали, заполняя прилегающие площади, улицы, переулки. И когда какой-то приезжий, только что сошедший с поезда, спросил: «Кого так хоронят?» — ему скупо ответили: «Настоящего героя».* * *
Мы стоим на улице Василия Петушкова. Яркое солнце золотыми бликами играет в зеркальных стеклах витрин, веселые стайки школьников, шумно споря и смеясь, идут по свежеполитым тротуарам. Один из ребят останавливается, читает табличку: «Улица Василия Петушкова». Паренек постарше начинает объяснять. Ребятня притихла, слушает… И мне вновь почему-то вспоминается далекий, давний комсомольский вечер в одном из тушинских клубов и спор о месте человека в жизни. Вспоминается задорный, вихрастый парень, с жаром споривший о том, как следует жить. Да, этот парень прожил свою жизнь не зря, он оказался сродни героям Островского.
Леонид Словин Пять дней и утро следующего. Астраханский вокзал
Пять дней и утро следующего
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
Появившаяся из-за леса электричка уже несколько секунд беззвучно подрагивала на краю горизонта. Лобовая часть ее быстро росла, заполняя неглубокую ложбину впереди. Моторный вагон теперь втягивался под путепровод в полукилометре от того места, где работала оперативная группа. «Мы всегда либо в прошлом, либо в будущем, — подумал Денисов. — И почти никогда — в настоящем!» Неожиданно он словно увидел все со стороны: голый февральский лес, как бы на возвышении по обеим сторонам железнодорожных путей, втягивающуюся в воронку под однопролетным путепроводом электричку и черную сеть контактных подвесок над заснеженным полотном. В направлении Москвы воронка круто расширялась. Ничем не нарушаемая тишина стояла кругом. «…Как все произошло? Как она попала сюда? Что навсегда умерло вместе с нею? Как будем искать?! Все только в прошлом и будущем!» — Дальше отходите! — махнул огромной, похожей на лопату рукавицей капитан Антон Сабодаш — дежурный. Снега намело много, отходить пришлось по своим следам. Денисов бросил взгляд на погибшую. В бескровном лице было невозможно ничего прочитать. Оно казалось отрешенным и скорбным. По плечам струились рыжеватые, видимо крашеные, волосы. Руки бессильно раскинуты. Между свитером и колготками, припорошенное снегом, белело бедро — доступная постороннему взгляду неукрытость мертвого тела. — Быстрее! — крикнул Антон, отступая с насыпи. Гипертрофированный передний вагон, все больше растягиваясь, закрыл собой путепровод и большую часть окружающего леса, где линии мачт по обе стороны сходились, казалось, совсем близко. Кабина машиниста, приближаясь, словно взмывала вверх. «Может, возвращается та же локомотивная бригада… — думал Денисов в последние мгновения тишины, — те, кто обнаружили труп?» Мощный гул налетел внезапно, вместе с морозным шквалом. За несколько метров до места происшествия все задрожало, ощущая приблизившуюся на огромной скорости тысячетонную массу. Сообщение поступило в Москву около четырнадцати. Звонила женщина, билетный кассир из Михнева. Связь работала плохо. Помощник дежурного по отделу милиции на вокзале понял только: встретить электричку, проследовавшую через Михнево в сторону Москвы, потому что бригаде известно о каком-то случае. — Когда? С кем? — Не сказали. Помощник дежурного отыскал нужный тумблер на пульте связи. В кабине со стрельчатым окном, с колонной, поддерживающей свод, — в старой, не подвергавшейся реконструкции части вокзала — трубку снял Денисов. В этот воскресный день по части уголовного розыска все замыкалось на нем. — Говорите! — крикнул помощник. — Во время стоянки передали! — Женщина объяснила сбивчиво. — С электрички… — Несчастный случай?! — Денисов тоже мало что понял. — Вроде… На перегоне… — Давно проследовали? — Только сейчас. «Надо ехать навстречу бригаде, — подумал Денисов, — будет быстрее». В окно увидел: внезапно начавшийся снегопад прекратился, платформы у поездов дальнего следования белы и пустынны, а все вокзальные часы показывают одно и то же время — четырнадцать ноль шесть. К отправлявшемуся с восьмого пути сцепу спешили люди. — Выезжаю, — сказал Денисов помощнику. — Запиши выезд. Дежурка отреагировала спокойно. — Сразу звони, Денисов, если что… Локомотивную бригаду Денисову удалось перехватить на платформе в Расторгуево. Сведения исходили от машиниста. — Как едешь на Москву — справа. Там сориентируетесь! — Он не спускал глаз со светофора. Помощник машиниста, сверстник Денисова, наоборот, внимательно разглядывал инспектора*["5]. — Второй пикет! У контактной мачты… Кричу: «Человек лежит! Неужели не видел?!» Денисов уточнил: — Вблизи переезда? — Не-ет! От шоссе порядочно. — В лесу?! — Ну! — Машинист тревожно переступал, по-прежнему не отрывая глаз от светофора. — За путепроводом… — Прямо на полотне? — С краю. — А вблизи? Никого не заметили? — Глухое место! Там и летом никто не ходит! Зажегся светофор, машинист был само внимание. — Выходной по второму пути! Два желтых… — На стрелках всю зиму устанавливали ограничение скорости. — Мы поехали… Вызывать будете? — Ну! — ответил Денисов в тон. Из билетной кассы позвонил в Москву. — Дело серьезное… Связь разладилась окончательно. В аппарате что-то чавкало, будто в нем обитало живое существо. — …В трех километрах от Михнева в направлении Шугарова. — К Шугарову? — В трех километрах! — А обстоятельства? — Ничего не известно. — Обитавшее в трубке существо немного утихло. В Москве замолчали. Теперь день раскололся на «до» и «после» телефонного сообщения… Денисов знал это — сводка о случившемся будет доложена в управление, взята на контроль… Сейчас там начнется! — Денис!.. Он узнал голос ответственного дежурного — капитана Антона Сабо-даша. — …Я тоже выезжаю. Встретимся на месте. — Денисов ощутил плохо скрываемую тревогу. — Оперативная группа со следователем прокуратуры и экспертом подключится из Каширы. На всякий случай помощник вызывает и группу райотдела… Жестко колотились колеса. На стыках рельсов вагоны неуклюже подскакивали — громоздкие, серо-зеленые, под цвет леса. Колюче стеганул ветер. Денисов успел заметить: из электрички что-то вылетело. Спичечный коробок… Воздушная волна несколько раз перевернула его, раскрыла, швырнула на полотно. Спички веером рассыпались по сторонам. Затем все стихло. — «…Труп девушки-подростка, — судебно-медицинский эксперт поправил очки, — предположительно шестнадцати-семнадцати лет, в четырех метрах от правой нити пути, припорошен снегом. Голова запрокинута, правая нога вытянута, левая полусогнута…» Следователь прокуратуры, молодой, немногословный, время от времени переставал писать, растирал руки, не снимая перчаток, засовывал их глубоко в карманы. Денисов работал с ним впервые. — «…На трупе короткие полусапожки с рантами, два свитера, — перечислял эксперт, — полушерстяной красный и черный хлопчатобумажный, брюки темно-синего цвета, колготки. Ценности и документы отсутствуют. Правый карман брюк вывернут. В левом — неполная пачка сигарет «БТ». На верхнем свитере у плеча имеется свежий разрыв ткани прямолинейной формы…» Денисов пошел в сторону путепровода. Это было для него правилом — высмотреть на месте происшествия все самому. Но сейчас он уходил от монотонного голоса эксперта, которым тот сообщал страшную истину, — эта девушка уже не засмеется, не заплачет, не удивится… Снежные барханы были чисты. Денисов шел уже полчаса, но продвинулся недалеко. Электричке понадобились бы для этого минуты. Смеркалось. Цепочка сотрудников возвращалась с осмотра по ту сторону третьего — Валуйского — пути, ничего не обнаружив, и теперь полукругом огибала место происшествия. Снег выпал около четырнадцати, и можно было утверждать, что с этого времени никто, кроме оперативной группы, к железнодорожному полотну не приближался. Денисов посмотрел на часы: «Восемнадцать…» Недалеко от путепровода, у одной из контактных мачт, Денисов насторожился. Снега здесь было меньше. Вмятина в снегу напоминала очертания человеческого тела. Будто кто-то лежал незадолго до снегопада за бетонным основанием. Еле заметный след волочения соединял вдавленность с железнодорожным полотном и там пропадал. Неподалеку из кювета что-то торчало. Бутылка!.. Денисов поднял ее. Явно брошена недавно: на дне виднелись капли жидкости. «Портвейн Бiле» — значилось на этикетке. Увязая в снегу, Денисов вышел на опушку, по лестнице с раскрошившимися ступенями из силикатного бетона поднялся к путепроводу. Наверху было пусто и ветрено. Контактные подвески над полотном вдали казались частыми, в направлении Москвы интенсивность их возрастала. Отрезок главных путей внизу выгибался, обоими концами упираясь в горизонт. Где-то далеко, слева, неожиданно прокричал петух, потом еще. Там была деревня. Денисов постоял. «Машинист ошибся: летом здесь, безусловно, кипит жизнь», — подумал он. — Впрочем, это неважно». Следователь, которому Денисов, возвратившись, отдал бутылку и рассказал о вмятине, подышал на перчатку. — Занятно! — Он так и не смог согреться. Денисов присел рядом со следователем. На теле пострадавшей изобиловали рваные, ушибленные, скальпированные раны — следствие удара или нанесенные орудиями преступления. — Откуда она?.. — ни к кому не обращаясь, спросила одна из железнодорожниц, понятая. — Чья? «Чья?» Денисова ожгло это слово — «Чья!» Почему не «кто»? Кто она? Какая она была? Добрая или злая, веселая или грустная? Как могла сложиться ее жизнь?! Два поезда, не снижая скорости, прошли в обоих направлениях. Воздушные течения упруго коснулись Денисова, возвращая к узкоделовой задаче, стоящей всегда перед инспектором уголовного розыска на месте происшествия. Девять вопросов, на которые следует ответить — «имеется ли убийство?», «какие следы оставил преступник на трупе и какие могли остаться на преступнике?», «в каком положении находились преступник и пострадавшая в момент совершения преступления?»… Трупных пятен Денисов не увидел: спазм, низкая температура не позволяли крови стекать в нижележащие сосуды и подкожную клетчатку. Следователь и эксперт негромко разговаривали, до Денисова долетали отдельные фразы: — …не были ли повреждения посмертны, в то время как действительная причина иная? — …ответ в данном случае однозначный? Следов колес на теле не видно… — Нельзя ничего упустить! Оперативныйсаквояж следователя был открыт, вверху лежала пачка «БТ», найденная в кармане у погибшей. Денисов осторожно, рукой в перчатке, поднял ее. Сигарет оставалось не более десятка. Он высыпал их на ладонь, пересмотрел, снова сложил. Под слюдяной обложкой и внутри пачки ничего не было. Он уже хотел положить ее в саквояж, но вдруг на основании пачки заметил буквы, нацарапанные шариковой ручкой: «Не режь по живому, Малыш!» Денисов показал следователю, потом понятым. Следователь кивнул благодарно. — Очень важно! Подошли инспектора оперативной группы. С ними дежурный. — Сброшена с поезда, шедшего в Москву. — Антон уверенно поставил точку над «и». «Даже слишком уверенно», — подумал Денисов. Эксперт долго поправлял очки. — Скажем так: падение с поезда. — Это был деликатный человек. Ничто не обязывало его дать на месте категорическое заключение. — Ушибы, множественные переломы… Плюс это… — Он показал на железобетонное основание контактной мачты, послужившее ложем для трупа. Антон вздохнул: — В электропоездах двери открываются автоматически. Падение все равно не может быть случайным. — А если применен стоп-кран?! — И тогда двери не открываются сами. Грузовые поезда практически отпадают… — Остаются пассажирские? — В поездах дальнего следования, — объяснил Антон эксперту, — бригадир по прибытии сдает вещи и билет «отставшего» пассажира!.. — «Выброшена» или «падение»… — эксперт помедлил, — для медика иногда может выглядеть идентично… — Астраханский поезд прибыл нормально? — спросил следователь. — В том-то и дело. Бригадиры не приходили ни с астраханского, ни с саратовского. — Антон достал «Беломор». Он курил много и все не мог похудеть. Форменный полушубок на нем дышал каждым швом, готовый лопнуть. — …После астраханского было пятнадцатиминутное «окно», потом прошли две электрички. Вторая локомотивная бригада обнаружила труп! На путепроводе над чахлым леском показался товарный состав. Отцепка грузовых вагонов тянулась поверх главных путей со скоростью улитки. Под путепроводом тоже показался поезд. «На месте происшествия больше ничего не узнать. Все! — подумал Денисов. — А составление протокола займет не менее полутора-двух часов…» Его молчаливый призыв дошел до следователя. — Сабодашу и инспектору уголовного розыска, — он оторвался от протокола, — я думаю, лучше возвратиться в Москву. — Следователь вздохнул. — Первоочередная задача: осмотры прибывших поездов, электричек. Поиск свидетелей. Работы хватит. Особенно инспектору… Денисов возблагодарил судьбу за то, что работает инспектором. Казалось, запущенный кем-то тяжелый чугунный шар катится в огромном кегельбане. Сабодаш надел шапку, сошел с полотна. С приближающейся электрички заметили сигналы; машинист выключил прожектор. — Надо стянуть людей на вокзал, — сказал Антон. Мысленно он был уже в Москве, руководил дежурным нарядом. — Установить все электрички с неисправностями компрессорных установок. Может найтись электричка, в которой дверь не закрывалась. Денисов кивнул. — …Кроме того, кровь в тамбуре! Следы сопротивления! Следователь снова оторвался от протокола: — Связь со мной держать круглосуточно… Тормозной путь электрички растянулся почти на километр. — Что случилось? — Моторный вагон остановился против Денисова. В кабине горел свет, лицо помощника машиниста Денисов не рассмотрел. Антон взялся за поручень. — Здравствуйте… Экстренный случай. Транспортная милиция участка! — Садитесь. Денисов поднялся следом. Кабина была высоко. В дверях он обернулся: фигурка девушки на снегу казалась совсем жалкой. Снежные пласты отдавали голубизной. — Зеленый… — Помощник машиниста не вышел из кабины. Электропоезд двинулся, с места набрал скорость. Денисов прошел в вагон. Пассажиров было немного, все головы повернулись к нему. Подумалось: «В электричках перманентный интерес к каждому, кто входит…» Он выбрал скамью над действующим обогревателем, сел. Антон остался с локомотивной бригадой, чтобы на первой стоянке звонить в Москву. «Труп появился совсем недавно… — Денисов обеими руками отбросил на себе верх куртки, воротник пришелся на лопатки. — С проходящих электропоездов его обязательно бы заметили. Может, трагедия произошла в электричке, которая бежала за астраханским?» Он подумал о поезде как о живом существе. — Платформа Пятьдесят первый километр… — объявило радио. Свет не зажигали. В тамбуре курил парень, сквозь стекло он неожиданно враждебно взглянул на Денисова. — Товарищи пассажиры! Соблюдайте в вагонах чистоту и порядок… — прохрипело радио и смолкло. Напротив Денисова сидел мужчина с рюкзаком. Рядом занимала место молодая пара. «В электричке всегда найдутся очевидцы… — Денисов поправил куртку. — Во всяком случае, на первом этапе. Где и с кем она села в поезд? Кто подходил к ней?» Он посмотрел в окно, на две трети словно залитое мутной молочно-белой краской; нижнюю треть занимала полынь, простоявшая ползимы в снегу. Лишенные запаха высохшие соцветия клонил ветер. Внезапно профиль пути изменился — рельсы скользнули вниз; крутой склон, покрытый толстым слоем сугробов, придвинулся к самому окну. «Почему потерпевшая оказалась в тамбуре? Вышла курить? Что означает фраза «Не режь по живому, Малыш!»? Кто ее написал? И разве может юное существо, которое нежно называют Малышом, резать по живому? Резать по живому — больно!» Денисов вынул записную книжку. Она была необычной — подарок фирмы «Фише-Бош», изготовительницы несгораемых шкафов, сувенир международной криминалистической выставки. Он рассеянно проглядел первую страницу. «Приступая к осмотру, путем опроса, следует выяснить, не перемещал ли кто-нибудь труп, не изменял ли его позу или положение одежды…» Ничто еще не было упущено, потеряно безвозвратно. Не дана ни одна ориентировка. Денисов знал: каждый раз должно начинать с самого начала, с собственных первых шагов. Таково непреложное правило. Ссадины, которые он видел на потерпевшей, имели вид пергаментных пятен. Образовавшиеся посмертно, они выглядят так же, как и те, что возникли непосредственно перед смертью. «Окончательное заключение о прижизненности повреждений принадлежит эксперту… — Мысли перемежались. — Но вот разорванный свитер на плече? Если б удалось быстро установить ее личность». Но Денисов не верил, что потерпевшая жила по соседству с местом происшествия. Он отложил «Фише-Бош». Парень в тамбуре потушил сигарету, вразвалку пошел по вагону. Недалеко от места, где сидел Денисов, он неожиданно шаркнул подошвой и стал сразу понятнее: недружелюбие скрывало его уязвимость — неловкость. Денисову была знакома эта манера. Народ в вагоне прибывал. «Дневную смену уголовного розыска, безусловно, оставили на вокзале до особого распоряжения… — Денисов представил, что сейчас делается в отделе после звонка Сабодаша. — Подтянули инспекторов со всего узла… ЧП! Операцию, наверное, возглавляет начальник отдела Бахметьев». Естественное течение мысли отклонялось то в одном, то в другом направлении: «…Вмятина за контактной мачтой, метрах в четырехстах от трупа. Словно кто-то лежал там до снегопада. Как она образовалась? И эта бутылка «Бiле» в кювете… Из электрички?» Мелькали платформы. В Белых Столбах на краю поселка стоял сруб. Дальше тянулся лес. Ель со сломанной верхушкой напомнила о потерпевшей. «Где ее пальто, варежки? Шапка, наконец? Что произошло? Всегда только в прошлом либо в будущем. И почти никогда в настоящем!..» Денисов знал свой недостаток: ему не хватало непрерывности последовательного мышления. Мысли необходимо было несколько раз снова пробежать всю цепь, чтобы пробиться вперед на самую малость. «Начать сначала» — это было как проклятие. Казалось, он постоянно обдумывает одни и те же посылки. Перед Расторгуевом Денисов задремал. Проснулся от стука. Почти все места вокруг были заняты, с хвоста поезда по вагону шли ревизоры. Один из них сразу прошел в тамбур, к кабине машинистов, — он и разбудил Денисова. Двое других двигались по вагону. Среди ревизоров имелись свои асы. Приближавшийся от кабины был одним из них: двух-трех пассажиров попросил предъявить проездные документы, других миновал, безошибочно определив владельцев льготных абонементных билетов. Денисов наблюдал до тех пор, пока физиономист-ревизор не скользнул напряженным взглядом по скамье, где сидел Денисов. Электропоезд прогрохотал через Варшавское шоссе над нескончаемым потоком машин. Слева открылась Москва-река. Денисов отвернулся к окну. За Автозаводским мостом покачивался на воде едва различимый в темноте малый буксирный флот. Река рябила. «Лыжный костюм!.. — разгадка, видимо, была в двух теплых свитерах потерпевшей. — Лыжная прогулка…» Денисов раскрыл блокнот, записал: «Отправлялся ли сегодня поезд здоровья?» Электричка заложила последний крутой вираж вокруг парка прибытия Москвы-Товарной. Показались белые дымы, неподвижные, как свечи. Ближе — водонапорная башня, затейливо выложенная, похожая на минарет. «Поезд здоровья! Воскресный состав для любителей зимнего отдыха… — Он поправил куртку, отложил наконец воротник. — Как я упустил из вида поезд с лыжниками?!» Он дописал: «Не прошел ли в «окно» между астраханским и электричкой поезд здоровья? Узнать, какого райсовета. Кто ответственный за вагоны? Изъять скоростемерную ленту. И еще: вмятина в снегу в четырехстах метрах от трупа в направлении Шугарова». Собираясь на выход, Денисов снова увидел ревизора. Ас разговаривал с коллегами. Взгляды их встретились, дальнейшее было нетрудно предвидеть. Ревизор неожиданно нашел разгадку психического феномена, мешавшего во время ревизии, обрадованный, через вагон направился к Денисову. Коллеги его следили, готовые немедленно прийти на помощь. — Приехали? — Ревизор остановился в двух шагах. — А как с билетиком, молодой человек? За стеклянной дверью показался Антон. Весь вагон наблюдал, как Денисов доставал удостоверение. «Надо срочно связаться с районными туристскими отделениями. — Денисов не думал больше об асе. — Мы выясним, откуда девушка. Должны существовать списки ехавших с поездом здоровья».ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении судебно-медицинской экспертизы «…Руководствуясь ст. 78, 184 и 187 УПК РСФСР, назначить судебно-медицинскую экспертизу, поручив производство районному судебно-медицинскому эксперту. Поставить на разрешение следующие вопросы: …4. Имеются ли следы, указывающие на возможную борьбу и самооборону? 5. Принимала ли потерпевшая незадолго до смерти алкоголь? Если принимала, в каком количестве? 6. Каков механизм возникновения повреждений, обнаруженных на трупе, и могли ли данные повреждения возникнуть при падении с движущегося поезда (60–80 км/ч) на снег и последующем ударе об основание контактной мачты?..»— …Колыхалова, Денисов, Сабодаш, к начальнику. Повторяю… Полковник Бахметьев выключил динамик. Все трое вызванных уже входили в кабинет. — Предварительная проверка через туристское отделение кое-что дала, — сказал Бахметьев. — Можно утверждать, что погибшей является Роза Анкудинова, учащаяся ПТУ. — Он вышел из-за стола: — Известно, что в поезде здоровья она была в компании своих приятелей. Мыслю: все это совпадает с информацией, которая получена в результате частного сигнала по телефону. Об этом звонке вы знаете… Против стола Бахметьева светлело круглое окно в центральный зал. Сотни людей бессистемно двигались внизу, словно в огромной, ожившей одели молекулярного движения Броуна. — …Поезд здоровья отправился в обратный путь на Москву в тринадцать тридцать восемь, в тринадцать пятьдесят он был на перегоне, где обнаружена потерпевшая. Двенадцать минут. — Было очевидно, что Бахметьев стремился уяснить все это для себя. — Всего через двенадцать минут после отправления из Жилева… Что произошло? Что значит надпись на пачке «БТ»: «Не режь по живому, Малыш!»? Бахметьев был в прошлом работником ОБХСС, следователем. Он не забывал дела, которые вел по линии отдела борьбы с хищениями социалистической собственности: письменные предупреждения в них бывали довольно часто. — Эта надпись… то это? Угроза, высказанная в корректной форме? Намек? — Может, девочка о чем-то знала? — Капитан Кира Колыхалова, ККК, как в шутку ее называли коллеги, старший инспектор уголовного розыска, начала почему-то с середины. — Вдруг девочке было известно о крупной краже? — Кира словно размышляла вслух. — О нераскрытом убийстве или разбойном нападении, наконец? Бахметьев кивнул: — Продолжайте. — Дела по линии уголовного розыска все еще требовали от него большого напряжения. «В ОБХСС четко: документы, накладные… — посочувствовал Денисов. — И всего один мотив: нажива! А здесь?» Он снова представил себе путепровод, частую сеть контактных подвесок над линией — вжатый в снег кусок полотна — место происшествия. — …И теперь преступник, возможно, считает, что единственный свидетель — Роза Анкудинова — устранен… — продолжала Колыхалова. Антон Сабодаш спросил: — Почему преступник? — Преступник, — Колыхалова поправила черную, как вороново крыло, прядку волос, — или преступница… И чувствуют себя преспокойно! — Капитан Колыхалова, в шубке, в вязаной мохеровой шапочке, с незажженной сигаретой, олицетворяла в вокзальном уголовном розыске опасный для преступников тонкий расчет и до некоторой степени присущий профессии макиавеллизм. — Что вы имеете в виду? — спросил Бахметьев. — Сейчас скажу. — Она щелкнула зажигалкой, но тут же сбила пламя. — Преступники должны думать, что девочка жива. Что они не достигли цели. Тогда они забегают. Допустят десятки промахов… — Утонченная хитрость Колыхаловой проявилась и на этот раз. — Мы не должны оставить им ни одного шанса! Так? — спросила ККК. За круглым окном кабинета Бахметьева, в зале для транзитных пассажиров, объявили посадку. По серому мрамору, обтекая скамьи и буфетные стойки, пополз к дверям бурлящий поток пассажиров. Он вызвал у Денисова тревожное чувство. — …Мы заставим преступников выдать себя! — подытожила Колыхалова. — Понимаете? Бахметьев помолчал, потом нажал на клавиши коммутатора. Зажглась лампочка — начальник штаба поднял трубку. — Информацию о гибели потерпевшей не давать, — сказал Бахметьев, он не стеснялся учиться у своих подчиненных. — Жива, находится в тяжелом состоянии в больнице. Предупредите всех, включая медкомнату вокзала. Подумав, Бахметьев развил мысль, высказанную Колыхаловой: — Местом госпитализации Анкудиновой будет считаться… — он помешкал, — больница в городе Видном. Больницу не упоминать. Устанавливать всех, кто будет этим интересоваться. Запишите: одновременно организовать в больнице круглосуточное дежурство. Впредь, до раскрытия преступления… Все! Бахметьев вынул чистый платок, коснулся им глаза, пострадавшего в войну, во время контузии. — Теперь о наших ближайших действиях… Задание обещало быть нестандартным. …Один из близких знакомых погибшей установлен. Его зовут Славой. Живет у метро «Профсоюзная», в доме рядом с магазином «Цветы». Вход под арку. Там многие из компании погибшей живут… — Мысль Бахметьева работала четко. — Задача: узнать ее приятелей, подруг. Она облегчается тем, что сегодня компания собирается отмечать чей-то день рождения. Хорошо, если бы вам удалось всех увидеть, чтобы лучше представлять, с кем имеем дело. Кто они? Их связи, характеристики, образ жизни. Это главное. Кроме того, проверьте, нет ли на ком-то из них телесных повреждений, гематом, царапин. Мыслю: разворачиваться начнем с утра… — «Мыслю» было его любимым словечком, он употреблял его в первом лице настоящего времени. Бахметьев взглянул в круглое окно: посадка на поезд подходила к концу, поток пассажиров в зале уменьшился. Вслед за Бахметьевым Денисов тоже посмотрел в окно на центральный зал. Казалось, там, внизу, как всегда, шелестит по деревьям несильный весенний ливень. — …И еще, — Бахметьев оглядел всех троих, — на Профсоюзной, сорок три, под аркой, вас будет ждать инспектор сто двадцатого отделения… Возьмите машину, рации. Звоните… Никто не хочет ничего сказать? Было рано делать предположения… Частный сигнал, о котором упомянул Бахметьев, поступил на пульт дежурного в двадцать один сорок, сразу после возвращения Денисова и Сабодаша с места происшествия. Мужской голос в трубке казался глуховатым. Звонили не из автомата. — Милиция? — Дежурный капитан Сабодаш… — Антон включил звукозаписывающее устройство. Пауза. Потом тот же голос: — Несчастных случаев на вашем участке не было? Девушка не вернулась домой… — Фамилия, возраст! — Тумблер, Антон! — показала Колыхалова. — Громкость! Антон щелкнул рычажком. — Анкудинова Роза, семнадцать лет. — Глуховатый голос наполнил помещение. — Ваш адрес? Мужчина на другом конце провода колебался. — Профсоюзная… — Он назвал номер квартиры, затем дома. — Давно уже должна быть и нет… — Кем вы ей доводитесь? — Отец. Отчим… Антон перешел к уточнениям: — Одежда, приметы. — Синие брюки, колготки, свитер красный… Сама русая, даже рыжеватая. На шее цепочка золотая с лезвием безопасной бритвы. Украшение такое. Имитация… Обещала: вернусь — позвоню. — Когда она ушла из дома? — Утром еще. Собиралась на лыжах… С поездом здоровья. Денисов вздрогнул, будто неизвестный абонент назвал его по фамилии: он так и предполагал! — Путевку достали приятели… — Вы знаете их? — Сабодаш расширил круг вопросов: первичное обращение отчима, возможно, будут не раз сопоставлять с материалами допросов, оценивать, анализировать. — Дима, Слава… — Анкудинов словно все еще не был уверен: правильно ли он сделал, впутав милицию в эту историю. — Фамилии жена знает. Она не пришла с работы. — Где они живут? — Дима жил в сорок третьем доме, потом переехал на Автозаводскую. Он дружит с Розой… — Давно? — С год… — А Слава? — Рядом с магазином «Цветы». Там арка. Сегодня у него отмечают день рождения. — Почему вы думаете, что Роза не там? — Роза бы позвонила. Ей завтра уезжать… — Далеко? — В Крым, в санаторий. — Что-нибудь со здоровьем? — Бронхит хронический. Антон помедлил. — Ваш телефон… — Сейчас! Извините!.. Кто-то идет… Раздались гудки. В дежурке стало шумно. Антон перекрутил магнитофонную пленку, включил воспроизведение: «Милиция?.. Несчастных случаев на вашем участке не было? Девушка не вернулась домой…» Денисов поднялся к себе в кабинет, попробовал связаться по телефону с руководством Совета по туризму. Было поздно, ни один из номеров не отвечал. Еще через несколько минут в углу под потолком щелкнул динамик: — Колыхалова, Денисов, Сабодаш! К начальнику… У метро было безлюдно. Пустые троллейбусы объезжали огороженный щитами прямоугольник: там что-то ремонтировали. Мутно светились красные лампочки на щитах. Поток свободных такси, не останавливаясь на стоянке, правил в сторону Мосфильмовской. Инспектор сто двадцатого отделения мерз на Профсоюзной у дома под аркой — долговязый, в куртке, в шапочке с помпоном. — Молодой человек! — Колыхалова приоткрыла переднюю дверцу машины, достала сигареты. Инспектор подошел, щелкнул зажигалкой. Представился: — Борис. — Садитесь. — Сабодаш на заднем сиденье сдвинул грузное тело, освобождая место. — Вы и есть транспортный уголовный розыск? — удостоверился инспектор сто двадцатого. Вместо ответа Кира спросила: — Ребят установили? Славу? — Фамилия его Момот. Студент… — Борис достал записную книжку. — Что-нибудь серьезное? — Пока неизвестно. — Кира уклонилась от ответа. — Где он был сегодня? — Катался на лыжах. Сейчас кейфует, день рождения. — Он новорожденный? — Не он. Верховский Володя — юрисконсульт какой-то фирмы… — Инспектор сто двадцатого отделения проинформировал: — Двадцать восемь лет, несудим. Живет вместе с бабушкой. А пируют у их друга Бабичева Евгения. Кира в зеркале заднего вида посмотрела удивленно, инспектор поспешил добавить: — Здесь отдельная квартира. Бабичев живет один. — А родители? — В Средней Азии метро строят. Один, и с ним еще собака. — Борис пояснил: — Я сам из этого дома. Поэтому в курсе всего. — Розу знаете? — Антон не ходил кружными путями. — Анкудинову? Рыженькую? — С Димой дружит. — А самого Диму? — Горяинова? Знаю. — Он здесь? — Вам Горяинов нужен? Тогда следует действовать через Момота. — Почему? — Лучший друг! — А вообще… что они все? — вмешалась Колыхалова. Инспектор попробовал пошевелиться — не смог. — Как чувствовал: что-то должно случиться. Не нравились они мне… Вино, тряпки. Правда, музыку любят, интересуются. — Ему все же удалось потеснить Антона. — Держатся замкнуто, особенно не подпускают. Называют себя «компанией». — Много их? — Человек одиннадцать. Мозг у них не Момот и не Верховский, хотя он и старше всех. Бабичев Женька… Момот Славка — это исполнитель. И опять же свой юрист — Верховский. — Почему он справляет рождение не у себя? — спросила ККК. — Площадь не позволяет. Да и не побезобразничаешь: бабушка! — Покажете их? — спросил Денисов. — Не знаю. Вас трое все-таки… — Один. — Кира погасила сигарету. — Вот он, Денисов. — Одному можно, — согласился инспектор. — Пальто оставим у моих знакомых. — Он немного отогрелся, несколько раз осторожно хлюпнул носом. — А как войти? — спросила Колыхалова. — На дни рождения, праздники приходят без приглашений. Так принято! Через двор шли в таком порядке: Борис, Денисов, Кира. Денисов обратил внимание: двор большой, с выходом на Профсоюзную и Нахимовский проспект. В центре скамейки, столы. Дорожки аккуратно расчищены после снегопада. — Мы не растеряем друзей, когда они начнут расходиться? — От ККК не ускользнула сложная география двора. — Позвоните, чтобы ваши подъезжали к двадцати трем. Парней здесь будет много. — Борис показал на крыльцо: — Нам сюда. Темный подъезд обдал стойким запахом апельсинов. — Магазин «Овощи-фрукты». Овощехранилище как раз под нами, — пояснил Борис. На лестнице гремел магнитофон, разнося тяжелый рок на любителей. Пока они поднимались, рок сменил голос певца. — Маккартни, — шепнула Денисову Колыхалова. — Моя любовь… На третьем этаже дверь оказалась открытой. Свет на площадке не горел. — Сюда. — Борис шагнул в квартиру. В прихожей было тоже полутемно. Инспектор закрыл дверь, щелкнул выключателем. — Раздевайся, зеркало там. — Он кивнул Денисову в узкий коридорчик. Из комнаты вышел парень в свитере. Увидев Бориса, приветственно махнул рукой. — Алексей, — представил его инспектор сто двадцатого. Они пошептались. Алексей снял с вешалки пиджак. — Он проводит. — Борис хлопнул Алексея по плечу, обернулся к Денисову: — Мы с капитаном Колыхаловой будем ждать здесь. — Пошли? — Алексей открыл дверь. Лестничный колодец был опять наполнен громом бит-музыки. Скользнул лифт, остановился выше этажом, кто-то помешкал, затем дважды металлически щелкнула дверца. Алексей предпочел подняться пешком, Денисов не вмешивался. На неосвещенных лестничных площадках, у окон, стояли и сидели. Алексей с кем-то поздоровался, ему ответили. Пустая бутылка, которую Денисов задел, завертелась со скрежетом. — А-а-а-а-а-а! — где-то выше отчаянно закричал певец, воздух вокруг задрожал. — «Панасоник», — шепнул Алексей. — Отличная машина. Обитая коленкором дверь оказалась открытой. Они вошли. В полутьме квартиры двигались танцующие — длинноволосые, молчаливые. Из установленных по углам динамиков доносились оглушающие удары музыкальных авангардистов. Стараясь никого не задеть, Алексей и Денисов прошли в темноту комнаты. Алексея знали все. Никто не обратил на них внимания. Во второй комнате на кушетке против двери молча полусидели, полулежали трое гостей. Дверь на балкон была открыта, морозный воздух стекал на паркет. Что-то напряженное почудилось Денисову в этом молчании по соседству с бешеным гулким стереозвуком, наполняющим квартиру. В углу, за балконной дверью, выстроилась батарея пустых бутылок. Сбоку, у кушетки, спала собака. Танцевали под песню «Мани, мани, мани», которую исполнял шведский квартет «АББА». — …Потрясающая мелодия. Правда? — вполголоса сказал Алексей. Им дали место на кушетке. Рядом с Денисовым оказалась девушка. Он почувствовал запах розового болгарского масла, ощутил хрупкость плеча. Девушка шепталась с худощавым юношей, полусидевшим по другую сторону ее. Денисов пригляделся. У обоих было развито чувство уюта. Денисов сразу определял людей, которым оно было присуще, потому что в его семье, сколько он помнил, телу давался только необходимый прожиточный минимум — раскладушка, матрац, подушка. — Мечтаю о «Грюндиге», — прошептала соседка Денисова своему партнеру. Тот отнесся с пониманием. Несколько минут они серьезно обсуждали высказанную мысль. Потом юноша спросил: — А как же «Весна-стерео»? — Сдам в комиссионный! — Возьмут? — Конечно. Отлично пашет, поставлены японские головки. — Горяиновы довольны «Юпитером»? — Ольга на седьмом небе. Ансамбль «АББА» сменил Элтон Джонн, потом «Квин». Кто-то прибавил громкости. Чистый звук бился о стены как кровь в висках. «Отлично пашет…», «Клево!» — повторяли вокруг на все лады. Рядом с магнитофоном, в углу, сидели на корточках несколько ребят. Денисов определил: на вид им лет по шестнадцати-семнадцати. Майки «адидас», нестриженые патлы, металлические побрякушки. Под ночником мальчик-лобастик в очках читал книжку. Теперь Денисов смог разглядеть танцевавших в первой комнате. Неухоженные волосы, словно униформа одежда — батники, джинсы. И на девушках и на парнях. Танцуют небрежно, как будто нехотя. Скупой, точно выверенный жест… Всплеск, ожидание. Мебели в первой комнате не было — только палас. На стене чеканка — вытянутые фигурки людей. Денисов видел такие в Риге, в Домском соборе, — уродливые в своем средневековом реализме. Ночник разливал красноватый дрожащий свет: имитация трепета камелька. «Эти ребята весь день провели с Анкудиновой, — подумал Денисов. — Кто-то из них, безусловно, знает многое…» — Вон Славка Момот, — прошептал Алексей. Парень с глубоко посаженными глазами, с раздвоенным подбородком, в свитере, прокладывал себе дорогу среди танцующих. Тело его плавно вибрировало в такт музыке, а на правой брови — Денисов весь напрягся — что-то белело. — …За ним Ольга, сестра Димки Горяинова! Девушка казалась чересчур высокой даже в этой компании акселератов. Она была полная, со вздернутым носом, сонными глазами. — Момот не в своей тарелке. Грустный какой-то, — подумав, добавил Алексей. — Уверен? — Денисов решил не фиксировать внимание Алексея на брови Момота, пока сам не разберется хорошенько. — Абсолютно. И Димки не видно. Вальяжная сестра Горяинова вплыла во вторую комнату. Денисов вдруг понял, кого она напоминает: «Маменькина дочка из сказки, вечная соперница Золушки — этот низкий лоб, прическа, раздвоенная со лба, вздернутый нос…» — Что невеселые, черти? — спросила Ольга Горяинова. — Вымотались, — ответил кто-то. — Мать, ты где? — позвала она. Соседка Денисова пошевелилась, Горяинова поймала ее руку. — Надо посоветоваться!.. — Теперь поздно… — Не глупи, Ленка! — Горяинова потянула ее к себе. — Что-то ведь говорить придется… Обе вышли из комнаты. «Сколько их всего было в поезде здоровья? — подумал Денисов. — Моя соседка… Кто она? — шепнул он Алексею. — Ленка, в восьмом ЖЭКе работает. — Родители есть? — Ушла она от них. — А где живет? — Здесь, рядом. На служебной площади… — А ее сосед? — Бабичев Женька. Денисов удивился. — Хозяин квартиры?! — Самый авторитетный здесь. Личность! Очень скрытный. Вожак… — Р-ребята! — В комнату ввалился сутулый парень в очках, в широкополой шляпе. Он был пьян. — За новорожденного! — В одной руке он нес рюмку, в другой — бутылку «Айгешата». — За его двадцать с малым… — Верховский Володя, — шепнул Денисову Алексей. Верховский наполнял рюмку. Вино плескалось, ребята судорожно отодвигались: джинсы в «опасности». Рядом с мальчишкой-лобастиком, читавшим книгу, Верховский остановился. Картина была трогательная. Ночник скупо освещал страницу, в стереоколонках гремел Джеймс Ласт, лобастик сосредоточенно читал. Верховский постоял, затем, нагнув к пацану черную, давно не стриженную голову, спросил: — Тебе хорошо с нами, Малыш? «Малыш»! Денисов замер: «Тебе хорошо с нами, Малыш?» И там, на перегоне, на пачке сигарет — «Не режь по живому, Малыш!». Одна и та же конструкция фразы! Верховский погладил лобастика по плечу: — Нравится? — Фирменный вечер. — Парнишка тряхнул головой. — Что читаешь? — «Находки в Кумранских пещерах…» Верховский, пошатываясь, поставил рюмку на пол. — Опять Плиния?! — Плиний Старший великий историк… — Лобастик поднял книгу выше, к ночнику. — Он писал об ессеях… Вот: «Племя уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире: у них нет ни одной женщины. — Лобастик заметно покраснел: — Они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм». В углу засмеялись. — Значит, не было и ревности, — сказал кто-то. Денисову послышался намек на какие-то известные всем, кроме него, обстоятельства. — Значит, нет. И нет стяжательства! — Вот когда будешь жить на Севере в брошенной деревне… — Может, и буду! Только не в брошенной, а в такой, где школа. Где можно будет учительствовать. — Лобастик с вызовом вздернул голову. Денисов интересовался разговором, но старался не упустить и того, что происходило в первой комнате. Ольга Горяинова и Лена все еще шептались. — Компанию не должен захватить дух стяжательства… — Верховский снял шляпу, второй рукой поднял рюмку. — Желание лепить червонцы на лоб! — Как это лепить на лоб? — спросил мальчик-лобастик. — Один идет с тросточкой и сбивает шляпы со всех встречных справа и слева, — пояснил Верховский. — А второй идет сзади и лепит каждому червонец на лоб: «Купи себе новую!» Понятно, Плиний? В углу заспорили: — Нуты сказал!.. — Мясо сбивает, а Володя лепит… — А как ессеи поступали с предателями, Плиний? — Бабичев поднялся с кушетки. — Брали они в руки оружие? — Его уверенный голос покрыл смех. Лобастик перелистал страницу. — Тут этого нет, Женя. — Брали! Когда это требовалось, они были беспощадны. Ессеи воевали с римлянами… Запомни. — Женя! — позвали из первой комнаты. Ольга Горяинова подошла к магнитофону, уменьшила звук. В проеме Денисов увидел скуластого приземистого человека в пальто, ондатровой шапке, рядом с ним женщину. — Горяиновы-старшие приехали, — шепнул Алексей. — Не Димку ли ищут?! Непонятно его отсутствие… Бабичев что-то объяснял им, потом несколько раз кивнул, слушая Горяинова-отца. С пола поднялся эрдельтерьер Бабичева, поочередно потряхивая лапами, вышел на середину комнаты. Компания молча следила за ним. «Пора… — понял Денисов. — Скоро начнут расходиться». Алексея кто-то вызвал в кухню. Денисов поднялся, не привлекая внимания, вышел на лестницу. Сидевшие на подоконниках умолкли, когда он проходил мимо. «Заходили ли они к Бабичеву или у них была своя компания»? Вслед Денисову на высоких нотах запел Демис Руссос. Голос певца словно путешествовал внутри причудливой и нежнейшей морской раковины. Хотя Денисову, выходя, не удалось пристально присмотреться к Момоту, у него возникла полная уверенность в том, что на брови Момота белела маленькая наклейка пластыря. …Выскочившие из подъезда попрятались за деревьями, приготовили снежки. Появившихся следом встретил дружный залп. Двор огласился воплями: — Бе-ей! Осторожно: фейс!*["6] Шел первый час. В глубине за домом мелькнул зеленый глазок. — Такси! — Все не поместимся! Ищи сарай! — имелся в виду такси-пикап. …Вновь прибывшие инспектора уголовного розыска быстро распределили между собой уходивших гостей и двинулись, подтягивая по мини-рациям напарников, медленно рассредоточиваясь. — Восьмой, я — пятый… — Слышу хорошо! Прием! С минуту дублировавшиеся в рациях голоса инспекторов и сигналы стояли в воздухе густой плотной завесой, как цокот ночных цикад. Денисов прикрывал выход на Нахимовский проспект. Он все стоял, когда во дворе уже не было ни души. Потом из подъезда показались двое. Денисов узнал Лену, она пересекла двор в направлении проспекта. За ней шел Бабичев. Рядом с ним бежала собака. Бабичев и его спутница вышли на проспект, свернули вправо, к продовольственному магазину. Они не оглянулись. Денисов пошел позади метрах в тридцати. Народу на проспекте было совсем мало. Только на остановке пятьдесят второго троллейбуса ждали несколько человек. Бабичев и девушка шли мимо классических пропорций здания с квадратным портиком, вынесенным к тротуару. Огромные окна первого этажа светились. Подойдя ближе, Денисов прочитал: «Институт научной информации». Второе здание, поодаль, тоже имело отношение к науке — огромный лист Мебиуса был виден издалека. Бабичев и его подруга остановились под портиком. «Дождь?» — Денисов поднял голову. Изморозь, падавшая с неба, холодила лицо. — Двести первый!.. — впервые за вечер Денисова окликнули по рации. — Слушаю. — Звони на базу. Срочно!.. Как понял? Инспектор, который вызывал его, находился где-то вблизи. Денисов огляделся. На другой стороне проспекта чернела фигура. — Объект беру на себя, — успокоил напарник. Бабичев и его спутница у институтского портика устроились, видимо, надолго. — Что случилось? — спросил Денисов. — У Горяиновых обворовали дачу. Осмотр места происшествия завтра с утра… — Далеко? — За Белыми Столбами. В Крестах… Сказали — от нас ты поедешь! «Ничего не поделаешь!» — Денисов вздохнул. В последнее время ему не всегда везло. — Понимаешь, Денис? Сначала погибает Анкудинова, а потом оказывается, что обворована дача полковника в отставке Горяинова, с сыном которого Анкудинова дружила и в доме которого бывала нередко, — рассудительно объяснял напарник. — А сын Горяинова нигде весь вечер не появляется… Это о чем-то говорит?! Антон Сабодаш стоял у коммутатора оперативной связи и курил, испытующе глядя на вошедшего в дежурку Денисова. — Какие новости? — спросил Антон. — Новости здесь, в дежурке. — Денисов расстегнул куртку. — Гости разошлись… Ты знаешь… — Не все. — Антон погасил папиросу. — Кира еще не звонила. — Кого она вела? — Ольгу Горяинову. Денисов удивился. — Разве Горяинова не уехала с родителями? — Зашла к этому… — Антон сверился с записями, — Верховскому. Чай у него пьет. А Кира ждет в подъезде… Замерз? — Нет. Значит, Горяинов Дмитрий так и не появился? — спросил Денисов. — Куда он денется! Пока не засекли… Денисов сел в вертящееся кресло. — Жара у тебя… А как узнали про кражу на даче Горяиновых? — Ориентировка поступила. — Сабодаш достал очередную папиросу. — Вечером родственница заезжала за яблоками. Она же заявила в милицию. — Похоже, сами Горяиновы не знают? — Денисов вспомнил скуластого мужчину и его жену в квартире Бабичева. — Иначе вряд ли они поехали бы на Профсоюзную… — Теперь уж узнали… тема исчерпала себя. Помощник дежурного, широкоплечий, под стать Антону, сибиряк, вошел в помещение. — То дождь, то снег… — Сибиряк не закончил: на коммутаторе оперативной связи зажегся огонек. — Вот и капитан Колыхалова дает отмашку. — Антон снял трубку. — Слушаю. Дежурный по отделу милиции… Это была не Кира. Мужской голос спросил: — Милиция? — Голос явно пытались изменить, он звучал натуженно-хрипло, скрывая возраст. — Капитан Сабодаш, вас слушаю. Денисов мгновенно щелкнул тумблером записывающего устройства. — Несчастных случаев с людьми на участке не было? — На вокзале имеете в виду? — Свободной рукой Антон поднял вторую трубку, подал Денисову. — И на линии. — Линия большая… — В задачу Антона входило тянуть время как можно дольше, пока Денисов не свяжется с телефонной станцией, а та, в свою очередь, не засечет абонента. — …Три линейных отделения милиции обслуживают. Какой все-таки участок вас интересует? Неизвестный абонент помешкал: — От платформы Жилево к Москве… — Значит, начиная с Каширского участка, — уточнил Антон. — Сейчас наведем справки… Куда вам сообщить? — своим вопросом он ускорил развитие события. Мужчина заспешил: — Я сам вам позвоню. — Одну минутку! — Сабодаш дал задний ход. — Это наша обязанность. Ваш телефон? — Ничего. Я сам. Мне это проще. Трубку положили, но Антон держал тумблер включенным — до звонка с телефонной станции. — Ти-ти-ти… — пела трубка на столе. — Надо же! — По лицу Антона поплыли багровые пятна. — В руках был! Телефонистка АТС дала справку: — Звонили из автомата двести шестьдесят один — семнадцать, рядом с Бауманским метро. — Благодарю. — Денисов опустил трубку на рычаг. Зарегистрированы ли несчастные случаи на перегоне Жилево — Москва? — интересовался неизвестный абонент. В другое время подобный звонок вряд ли насторожил бы. Но сейчас… Это же маршрут поезда здоровья! Кира Колыхалова оказалась провидцем: кого-то весьма интересовало, жива ли Анкудинова и сможет ли она предстать перед следователем, чтобы дать показания… Было уже совсем поздно, когда Денисов шел от электрички к дому. Он шел медленно. Слишком медленно даже для усталого человека. Что-то определенное пыталось выстроиться в утомленном мозгу, но думать, рассуждать не было сил. Таял снег, и совсем по-весеннему пахло сыростью. Подойдя к дому, Денисов привычно поднял голову: все окна были темны, только у него на кухне горел свет. Лина читала журнал. — Появилось, красно солнышко, — сказала она, когда Денисов вошел в прихожую. Он молчал, стаскивая куртку. Как ни старался Денисов скрывать свое состояние, жене обычно с первого взгляда не составляло труда догадаться о его настроении. — Что-нибудь не так в «конторе?» Какие-то потрясения? — И она закрыла журнал. — Потом скажу… — Я так и предвидела… — В шесть утра за мной пришлют машину. — И это тоже. Денисов помыл руки, прошел в комнату дочери. Наташка спала на спине, закутавшись с головой. Денисов поправил одеяло. Облегченно вздохнув, дочь повернулась на бочок. Маленькая головка была влажна от пота. «Надо бы Наташку в парикмахерскую отвести», — подумал он, заметив, как распушились в беспорядке волосы дочери. На кухне Лина что-то разогревала. — Иди поешь. — Она сдвинула сковороду и поставила на конфорку чайник. — Обедать, конечно, не пришлось? — Работа… — Между прочим, такая же, как и любая другая… — Ты серьезно считаешь, что раскрывать преступления такая же работа, как и любая другая? — В том смысле, что между ней и личной жизнью все-таки должна быть грань… — Ты открываешь мне глаза, Лин! Ему не хотелось начинать дискуссию… Тем более что они уже не раз говорили об этом. — …А ты эту грань, милый, только-только начинаешь понимать. Даже дома ты как будто продолжаешь расследование. А представь, и я начну дома мучиться: отчего дробится графит или идет расклейка… — На работе Лина отвечала за качество продукции. — Но у вас можно установить причину на месте, не таская «хвост» за собой в дом. — Я так и делаю… — Она подумала. — И для этого быть богом вовсе не обязательно! Он все-таки ввязался в давний непрекращающийся спор. — А у нас это невозможно, Лин! Разве ты не видишь? Каждый раз будто начинаешь с нуля. Раскрытие вчерашнего преступления не дает никаких гарантий на раскрытие завтрашнего… Никаких преимуществ! Наверное, я просто не могу этого объяснить. И перестать думать о «деле» все равно что прервать технологический процесс у тебя на фабрике… — Особенность только в том, что вы имеете дело с людьми… — Вот! Тут ты права. — Он отодвинул сковородку. — Ты даже сама не представляешь, Лин, насколько ты права сейчас… Мы имеем дело с высокоорганизованной тончайшей материей. Ты посмотри на нашу хитрющую Наташку, и все поймешь… Ему расхотелось есть. Он опять видел голый февральский лес по обеим сторонам путей, частую сеть контактных подвесок над заснеженным полотном, бессильно откинутые маленькие руки Анкудиновой.
Из протокола допроса Анкудинова Валерьяна Сергеевича, 32-х лет, шофера Первого автобусного парка Управления пассажирского транспорта Мосгорисполкома.
…О поезде здоровья Роза сказала накануне, в субботу: «Ребята достали путевки, не ехать неудобно…» Мне показалось, ей хотелось остаться дома. Тем более что в понедельник надо было выезжать в санаторий, да и физически она чувствовала себя неважно, несколько дней ходила в ПТУ с температурой. Мы с женой посоветовали ей отказаться от поездки. Роза ответила: «Утром решим!» Наутро она почувствовала себя лучше, за ней зашли брат и сестра Горяиновы, и Роза уехала с ними… Уходя, Роза сказала, что обязательно днем вернется, чтобы собрать вещи для санатория. Однако не пришла и не позвонила, как это обычно бывало. Это меня насторожило, так как Роза всегда ставила нас в известность, если обещала и по какой-то причине не могла в назначенный час вернуться. Не было звонков и от ее приятелей. Я заволновался… Вопрос. Роза — дочь вашей жены от первого брака? Ответ. Да. Когда я женился на ее матери, девочкебыло семь лет. Вопрос. Что вы можете сказать о своей падчерице? Ответ. Она неплохая. По характеру прямая, открытая, немного упряма, очень общительна. Друзья, как правило, старше Розы, но ее уважают как товарища. В основном это ребята, живущие по соседству. Вопрос. В районе Профсоюзной улицы? Ответ. Да. Вопрос. Были ли у нее с кем-либо неприязненные отношения? То есть жаловалась ли она на угрозы с чьей-нибудь стороны? Ответ. Роза вообще ни на кого никогда не жаловалась. Вопрос. Переписывалась ли она с кем-нибудь? Ответ. Ей никто не писал. Вопрос. Какие у вас с ней взаимоотношения? Ответ. Мы дружили. Вопрос. Замечали ли вы в последние дни за Розой что-либо необычное? Ответ. Мне показалось, она была чем-то расстроена. Особенно в пятницу и в субботу. В пятницу Роза вернулась домой поздно. Очень поздно. Вопрос. Вы спросили, где она была? Ответ. Да. Она ответила: «Потом скажу!» Но на следующий день мы к этому разговору не возвращались. Вопрос. Связываете ли вы ее гибель с какими-то событиями, предшествовавшими поездке в поезде здоровья? Ответ. Скорее с одним человеком из их компании. Вопрос. С кем именно? Ответ. С Горяиновым Дмитрием. Вопрос. Почему? Ответ. У меня нет фактов, но вы сами убедитесь в том, что я прав. Вопрос. Горяинов бывал у вас в доме? Ответ. Очень часто. Можно сказать, каждый день. Вопрос. Сегодня он тоже был? После случившегося? Ответ. Сегодня Горяинов не приходил. И это тоже странно. Жена разговаривала с Володей Верховским, приятелем Горяинова. Верховский сказал, что после их возвращения из Жилева Горяинова никто не видел…
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
В Кресты Денисов попал только утром. Всю ночь шел дождь. В электричке пахло сыростью, Денисов задремывал и снова просыпался. Остановок не объявляли, мелькали тускло освещенные платформы с металлическими крашенными в два цвета оградками. На переездах сверкал мокрый гудрон. Денисову больше не казалось, что, отправляя его в Кресты, Бахметьев как бы переводит во второй эшелон. «Убирает меня на время допросов с глаз Компании, — понял он. — Значит, я смогу и впредь, если потребуется, входить в их Компанию…» Еловый лес сменил березовый, но в Привалове ели снова вытолкнули березы на обочину. Мокрые стволы деревьев провожали поезд. Только за Вельяминовом, на шестьдесят шестом километре от Москвы, наметился рубеж погоды: дальше была зима. Дача Горяиновых… Имеет ли она отношение к гибели Розы Анкудиновой? Когда обнаружили кражу, Розы уже не было в живых! В поезде было зябко. И когда электричка остановилась в Крестах, Денисов почувствовал, что изрядно продрог. Тропинкой по-за сугробами он прошел вдоль церкви, нашел улицу, дом с голубым «Жигуленком» у калитки. Дом Горяинова был не новый, но крепкий, с двумя террасами. С десяток яблонь чернело в дальнем конце сада вдоль забора. Там же стоял кирпичный новый гараж. Осмотр еще не начинался. У крыльца несколько сотрудников милиции в форме и в штатском разговаривали с понятыми или свидетелями — хмурыми, одинаково продрогшими, невыспавшимися. На крыльце молодой человек в замшевой куртке возился с замком. Несмотря на мороз, он был без головного убора. «Наверное, приехал в голубом «Жигуленке», — предположил Денисов. — Не получается, Горяинов? — крикнул ему капитан милиции с оперативным чемоданом в руках, по-видимому, эксперт-криминалист. Горяинов повернул лицо, чисто выбритое, приятное, с аккуратной профессорской бородкой клинышком. Это был не тот Горяинов, которого Денисов видел вечером в квартире Бабичева. — Что-то заело замок… — Тогда мы сами откроем. Разрешите… Капитан действительно оказался экспертом-криминалистом, к тому же руководителем практики стажеров школы милиции, прибывших вместе с ним. Осматривая замок, он то и дело подкидывал своим подопечным каверзные вопросы. Денисов представился, но оперативной группе было не до него. Только участковый, с чубом, в сдвинутой на затылок фуражке, обрадовался: — И транспортная пожаловала?! — Когда точно обнаружили кражу? — спросил Денисов. — Горяинова приезжала сюда вчера около девятнадцати. Считай… — Жена полковника? — Николая, — участковый показал на молодого человека в куртке, — племянника Аркадия Ивановича. — И пояснил: — Дом этот родительский, на двух сыновей. Половина Аркадия Ивановича, полковника. Половина его брата. Но он умер. Теперь в ней сын Николай с семьей… Приедет Аркаша, даст шороху!.. — Аркадия Ивановича участковый как будто побаивался. — Всех на ноги поставит! Орел! — Семья большая у полковника? — спросил Денисов. — Сын Дима. Учится в институте, в Плехановском. Дочь Ольга. Тоже студентка. — Учится там же? — На последнем курсе… — Сын и дочь приезжают? — Сюда? Большой компанией. Человек по пятнадцать. Все у меня переписаны. — Участковый засмеялся беззлобно. — В прошлый год штрафовал… Костры жгли. А сушь-то была какая! Не их, конечно! Самого! — Аркадия Ивановича? — Полковника, конечно… — Он не договорил, поправил фуражку. Подошел Николай Горяинов, поздоровался. Внимательный взгляд протянулся к Денисову. — Вот уж меньше всего ждал… — сказал участковому Николай Горяинов. — Неужели и в замке копались? — Экспертиза покажет. — Участковый инспектор сбил фуражку снова на затылок. — Верно, капитан? — Разве вошли не с крыльца? — спросил Денисов. Горяинов кивнул в сторону крытого двора. — Там двери отжали. Эксперт на крыльце все еще экзаменовал стажеров: — …Итак, по способу крепления, по назначению… А как еще для криминалистических целей классифицируются замки? Денисов осмотрелся. Дорожка следов тянулась в снегу прямиком к крытому двору. Его огородили колышками. Видно, это была дорожка следов преступника. — Изымаем замок… — неторопливо журчал эксперт, — заметим попутно, что он импортный, с четырьмя сувальдами. Даже снаружи хорошо просматривается свежий динамический след. По-видимому, от подобранного ключа… — Зачем же в замок лазить? — спросил Горяинов. — Если взломана дверь… Капитан услышал. — Это другой вопрос, молодой человек! Его решать не криминалисту, а следователю! Стоявший рядом следователь тоже заинтересовался: — Такая сложность? К чему? — …Если ключ подобрали, значит, в руках преступников был его оригинал! Значит, они знакомы с хозяевами дачи! Может, бывали здесь… Чтобы это скрыть, взломали дверь. Это одна из версий. — У вас вчера шел снег? — спросил Денисов. — Нет. В пятницу около девятнадцати, — обернулся к стажерам эксперт. — Дело вот в чем… Пока эксперт отстаивал свою версию, Денисов покинул сад, пошел вдоль забора по внешнему периметру. Он обожал свободный поиск. Деревенская улица, казалось, еще спала, но над каждой избой торчал из трубы дым, дорожки были расчищены. На углу, у забора, были четко обозначены следы. Кто-то махом перескочил с тропинки и затем перемахнул через забор на участок Горяиновых. Денисов осмотрелся. Но, кроме отпечатков собачьих лап поодаль, больше ничего не увидел. — Может, эксперта позвать? — услышал он вдруг. Оказывается, Горяинов Николай следовал за ним. Он был все еще без шапки и, казалось, не чувствовал холода. — Да. Позовите, пожалуйста, — попросил Денисов. Осмотрев обнаруженный Денисовым след, работники милиции вернулись в сад, но здесь их ждало разочарование: человек, перемахнувший через забор, в дачу не входил — постоял сбоку, у дощатого туалета, и снова вернулся на улицу. — Этот человек, видно, стоял на стреме, — подумав, подытожил следователь. — Вот окурок. И с ним находилась собака! Дом был перегорожен на две половины. Полковник с семьей занимал южную. Здесь было много пыли и больше вещей, нужных и ненужных. Зонты, богемское стекло, керамика, безделушки. В углу стояло пианино. Денисов обратил внимание на цветную фотографию веснушчатого парня, с выпиравшими верхними зубами и большим носом под свисавшими на лоб соломенными волосами. Фотография висела в простенке. — Горяинов Дмитрий? — поинтересовался он у участкового. — Димка! Теперь его не узнаешь, вымахал… — Участковый огляделся. — По-моему, полный порядок. Шкафы заперты, все цело. — Он повеселел. Николай Горяинов огорошил: — Сервиза нет! Кузнецовский фарфор… Стоял в горке. Горяинов сбросил куртку, остался в шерстяных спортивных брюках с лампасами и свитере. Из-за стажеров осмотр проходил медленно. Осмотрели дверь крытого двора со следами взлома на запорной планке, отжатой преступниками, видимо, с помощью ломика, и вторую — на половину Николая, замок на ней был сорван. В коридоре, обитом свежевыструганными рейками, пахнущими лаком, эксперт опустился на колени и предложил стажерам сделать то же — здесь ему удалось обнаружить начес шерсти. — С ковра или паласа, — сказал эксперт. Следователь посмотрел: — Надо непременно исследовать. Я вынесу постановление… — Не сомневайтесь… — Эксперт осторожно упаковал все в полиэтиленовый пакет. — Можно входить, — сказал он наконец. — Иконы! — Пустыми глазницами зияла божница в углу. — Дед сыновьям подарил — Аркадию Ивановичу и моему отцу. — Горяинов смотрел из-под полуопущенных век, называл похищенное. — Тарелка с надписью: «Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь». — С разрешения следователя он выдвинул нижний ящик комода, встал на стул, осмотрел пыль на крышке шифоньера. — Что-то искали… Что? Понятия не имею! Но искали… Эксперт провел серебристой кистью по тусклой поверхности иконостаса, Денисов следил. Под мягким колонком мелькнули прерывистые линии. — Отпечатки пальцев? — Николай Горяинов вздохнул, погладил аккуратную бородку. — Нет, перчаток. Перед тем как начать составлять протокол, все снова обошли дом. Преступники знали обстановку: Денисов обнаружил всего две обгорелые спички, они лежали на подоконнике. Иконы снимали в темноте. — Фонарь горит всю ночь? — Денисов кивнул на окно. Ответил один из понятых: — Вечером только. Когда иду с работы, выключаю. Часов в восемь. Следователь обратился к Горяинову: — Названия икон помните? — Где-то записал. Посмотрю. — Когда в последний раз приезжали на дачу? — В то воскресенье. Да, неделю назад. — Значит, кража могла произойти в любой из дней недели? Горяинов развел руками. — Так и запишем, — сказал следователь. — И еще: выходит, похищенные иконы принадлежали двоим? — Мне и полковнику Горяинову. С участковым инспектором и одним из понятых Денисов вторично прошел на половину полковника. «Если разгадка происшедшего с Анкудиновой таится здесь, на даче, — подумал Денисов, — ее следует искать именно на этой половине…» Ольга Горяинова с матерью занимала, видимо, угловую комнату, там было больше керамики и стекла. Полковник с сыном обитал в столовой, в «зале», как назвал ее участковый. Денисов увидел здесь диски Джона Леннона, «Тич-Ин», вперемежку с конспектами по экономике производства и схемами вычислительных машин. В тетрадях Горяинова-сына попадались листки бумаги, записочки. Денисов подобрал несколько записок, листков с начатыми и перечеркнутыми фразами. На всякий случай переписал к себе в «Фише-Бош». — Родители, видно, привыкли не обращать на них внимания, иначе, несомненно бы, насторожились, прочитав: «Никогда я еще не целовал ее так нежно и без всякой надежды, как тогда, ночью, в подъезде…» Или: «К утру все прошло. И совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоска и слезы…» «Любовь, Жизнь, Смерть — величины одного порядка, они взаимосвязаны». «Она появляется неожиданно, когда кажется — не осталось никакой надежды! Стоит только возникнуть тревожному чувству — не придет!..» «…Эта прическа «пирогой» и нестойкий запах пустых конфетных коробок!..» «Какие только мысли не лезли мне в голову за эти десять минут, пока она не появлялась. А люди выбегали из беспрестанно подкатывающих автобусов и бежали в метро». В центре обеденного стола лежал несвежий лист ватмана, прикрывавший скатерть. Денисов обратил внимание на сделанную карандашом чьей-то размахнувшейся на поллиста рукой надпись посередине: «Мы еще будем здесь не один световой год, спасибо!» Карандаш, которым была сделана надпись, валялся тут же, на бумаге, рядом с учебником по бухгалтерскому учету. Денисов подумал: «Надпись могла быть сделана теми, кто приезжал за иконами…» Под учебником лежала фотография. В Денисове дрогнуло что-то, когда он увидел чуть расширенное девичье переносье, рассыпавшиеся на лбу короткие волосы «пирогой», трагичный, как ему показалось теперь изгиб безгубого в уголках рта. — Роза, — пояснил участковый. — Димкина девчонка. — Бывала здесь? — Сколько раз. Натерпелся он от нее. — Каким образом? Инспектор сказал неопределенно: — Бойка чересчур… Дарственной надписи на фотоснимке не было. В центре лба картонной Анкудиновой виднелось отверстие. Фотография была умышленно проколота. Денисов возвращался в Москву в «Жигуленке» Николая Горяинова. Бежали мимо прятавшиеся в сугробах деревни, опустевшие пионерские лагеря. Горяинов вел машину очень точно, экономично; И молчал. Поролоновая игрушка — мальчик в майке и джинсах — качалась у стекла. — Слишком много людей знали об этих иконах, — сказал Горяинов, подъезжая к Москве. — Поэтому и соблазн… Предупреждал я Аркадия Ивановича: нельзя держать их в деревне! — А он? — спросил Денисов. — «Всю жизнь, — отвечал, — там висели». — Подозреваете кого-нибудь? — Нет. Да и как можно сразу? Денисов видел в зеркальце его устремленный на дорогу взгляд, аккуратно выбритое энергичное лицо. Из-за невысокой лесопосадки на небольших холмах показались двенадцатиэтажные башни. Они надвигались уступом одна за другой, похожие на странные геометрические построения инопланетян. Развернутым строем они подступали к деревушке, жавшейся к краю шоссе. — Я видел, как вы записывали, — продолжал Горяинов. — «Слова улетают. Написанное остается», — процитировал он латинское изречение. — Иконы вас не интересовали! Потом вас заинтересовала фотография Анкудиновой. — Знаете ее? — Неужели нет?! — Он помолчал. — Всех здесь перебаламутила. Денисов заинтересовался: — Кого «всех»? — Димку, Ольгу. Димка институт хотел бросить… Еле отговорили! — Что она за человек? — Кому как… — Горяинов принял ближе к осевой. — Расскажу, как я с ней познакомился. Если интересно, конечно… В субботу, помню, приехала с ночевкой вместе со всеми. Культурно, чинно. Вечером пошли в кино. И я с ними. А после кино исчезла. Димка бледный, бегает, ищет. Мать за ним. Ольга за матерью… Полночи искали… Оказывается, ходила смотреть церковь в Ивановском, за шесть километров! Между прочим, с одним здешним пареньком. — С кем именно? — С Солдатенковым Сережей. Рядом дом… — Горяинов помолчал, обгоняя тягач с прицепом. — А что Аркадий Иванович? — спросил Денисов. — Не было его в тот день. Он бы им дал церковь! Заодно и за иконы, и за брошенные деревни на Севере. Денисов вспомнил: вчера у Бабичева он уже слышал о северной брошенной деревне. — А почему их интересуют эти деревни? — Идефикс! Податься в Архангельскую область в оставленные деревни… Они проехали мимо транспаранта с надписью: «Добро пожаловать!» С обратной стороны желалось наоборот: «Счастливого пути!» Ближе к Варшавскому шоссе поток машин стал гуще. Горяинов сбросил скорость. «Брошенные деревни, иконы… Это может пригодиться!» — подумал Денисов. — Если придется вас вызвать в милицию? Сложно это? — спросил он. — Только не с работы! — Почему? — Да минует чаша сия! — А если по повестке? — Я говорю: никак! — Где же вы работаете? — Заведующий магазином «Мясо». Вас к вокзалу? — закончил он неожиданно. Денисов внимательно всмотрелся в него. — …Вы же из железнодорожной милиции! — Горяинов ехал теперь совсем медленно. — Я слышал, как участковый к вам обращался. Димка у вас? Денисов не ответил. — Что-то случилось с Димкой и Анкудиновой? — Горяинов отер разом вспотевший лоб. — Мы знали: этим кончится. Аркадий как в воду смотрел… — Где вы живете? — спросил Денисов. — Мне далеко, на Басманную. — А ваш магазин где? — В районе Бауманского метро. — Горяинов свернул под запрещающий знак к вокзалу, остановился. — Въезжать? Впереди мелькнула надпись: «О т дел милиции на станции Москва-Астраханская». — Я выйду здесь, — сказал Денисов. У доски объявлений, в коридоре, Денисов увидел инспекторов, прикомандированных с других вокзалов. Они о чем-то оживленно переговаривались. Он прошел в учебный класс. За длинными столами милиционеры обычно изучали оружие, тактику постовой службы; вечерами смотрели по телевидению хоккей. Теперь Бахметьев превратил класс в диспетчерскую. Здесь сотрудники, выделенные для отдельных поручений, знакомились с заданиями. В углу, не успев разогреться, потрескивал видеомагнитофон. Денисов подсел к Антону Сабодашу. Из темноты на экране возникло удлиненное женское лицо с мелкими чертами, выпяченным удивленным ртом и круглыми глазами навыкате. «Жена полковника Горяинова…» — узнал Денисов невзрачную особу, которую видел в квартире Бабичева. — …Аркадий Иванович скоро подъедет, — сказала с экрана Горяинова. — Вы тоже были на даче? — Оператор показал следователя, неулыбчивого, с круглым, без единой морщины лбом. — Я только оттуда, — ответила ему Горяинова. — Похищено много? — Кузнецовский фарфор, двенадцать маленьких немецких селедочниц, двенадцать тарелочек… Салатница. — Что еще? — Иконы. Денисов отметил: Горяинова поставила иконы на последнее место. — Как мыслите, кто мог это сделать? Денисов узнал голос невидимого за кадром Бахметьева. Горяинова замотала головой. — Кому вы доверяете ключи от дачи? — Только дочери, сыну. — Они знали о ценности икон? — Бахметьев так и не появился на экране. — Был разговор. Продать, мол, часть икон Ольге в приданое… Девчонка, как раньше говорили, на выданье. С частым гребнем не отдашь. — Как отнесся к этому предложению сын? — спросил следователь. Горяинова задумалась. — Дима был согласен… Первое время. Потом стал возражать. — Друзья? — догадался следователь. Он неожиданно затронул наболевшее у Горяиновой. — Компания… В том и дело. Компания интересовалась иконами не меньше его. Носились. Узнавали названия в музее Андрея Рублева. — Кто именно? — Верховский Володя, Анкудинова… Момот Слава. — Когда они были в последний раз у вас на даче, в Крестах? — В январе, после экзаменационной сессии. — Что вы можете о них сказать? — С отцом Момота Аркадий Иванович вместе работал. Хорошая семья… — Денисов не услышал в голосе Горяиновой уверенности. — Слава много читает. — А Анкудинова? Горяинова помолчала. — Эта их всех умнее. — Почему вы так думаете? — Да так… — Она уклонилась от ответа. — У Верховского в голове сумбур. Деревянные храмы, Соловецкие острова. Носится с мыслью уехать на Онегу в брошенные деревни… Заинтересовал ребят иконами. Моего сына тоже. Денисов ориентировался главным образом на интонацию: Горяинова явно преувеличивала влияние компании на сына. — После знакомства с Верховским, Розой Дима зачастил на дачу, на половину племянника. — К иконам? — Да. Просил отца взять некоторые, самые ценные в Москву. — И что отец? — Лишенный морщин, крупный лоб следователя возник на экране. — Был против! Отец у нас очень строгий. Против ему не скажи. Все на нем: институт, дача, машина… — А вы работаете? Оператор показал наконец Бахметьева. — Преподавателем. — В школе? — В восемнадцатом ЖЭКе, на курсах кройки и шитья. — Горяинова вздохнула. — А Димка наш, он такой… На улице последний кусок друзьям отдаст. А домой вернется — возьмет себе самый лучший. Трудный парень! Оч-чень… — Она произнесла это слово с двумя «ч» — торжественно и скорбно. — Вы знали, что восьмого февраля ваш сын собирается на лыжную прогулку? — снова вступил в допрос следователь. — Я узнала об этом от дочери накануне. — Следствие ставит вас в известность, — негромко, без выражения начал следователь, — о том, что восьмого февраля после прохождения поезда здоровья на перегоне Шугарово — Михнево в бессознательном состоянии была обнаружена знакомая Дмитрия — Анкудинова… — Ничего не знаю! — быстро ответила Горяинова. — Ночевал ваш сын дома после возвращения с лыжной прогулки? — спросил следователь. — Дома Дмитрий не появлялся. — Чем вы объясните его отсутствие? — по какой-то причине следователь изменил тактику: вопросы его звучали более официально. — Не знаю… Думаю, он у кого-нибудь из друзей, — ответила Горяинова. — Может, уехал? Как вы считаете? Позвонил бы ваш сын домой, будь он в настоящее время в Москве? Горяинова помолчала. — Дима звонил. — Когда? — Сегодня ночью. Я взяла трубку, — она смахнула слезу, — стала умолять его приехать. Отец тоже его упрашивал. — А что Дмитрий? — Ничего не ответил. — Совсем не говорил с вами? — переспросил следователь. — Совсем. Потом телефон отключился. Почему же вы решили, что это звонил ваш сын? — Кто ж еще, товарищ следователь, — Горяинова развела руками, — в три часа ночи звонить будет?.. — Денисов! — раздалось неожиданно. — К телефону срочно! — В дверях класса стоял сержант. — Из Крестов! По краже с дачи Горяиновых звонят! — Надо же! — Денисов с досадой отставил стул, начал пробираться к выходу. — Потом досмотришь! — успокоил помощник дежурного. …Звонил участковый инспектор, с которым Денисов познакомился утром в Крестах, на месте происшествия. Ему был поручен розыск Дмитрия Горяинова. — Сын Аркадия Ивановича так и не появлялся? — Не приходил. — Но вы ведь тоже будете его искать? — Безусловно. — Денисов раскрутил замотавшиеся на телефонном шнуре кольца. — Дмитрий Горяинов слишком заметная фигура в этой истории. — Надо узнать, где он был на прошлой неделе. — Инспектор сказал об этом вскользь, как бы нехотя, — такова, очевидно, была его манера, словно он не принимал Горяинова-младшего всерьез. — Может, на даче? — Обязательно проверим. — Надо проверить и всю его Компанию… — У вас затруднения? — Денисов взглянул в окно. За окном бежала по крышам домов неоновая строчка: «Пользуйтесь услугами железнодорожного транспорта». — Видишь ли… — Участковый инспектор помолчал. — Деревенские за иконами не полезут. Они им не нужны. Да и где сбыть? — Тогда кто же, по-вашему? Участковый помолчал опять. — Это сделал кто-то связанный с Горяиновыми. — Из Компании? — уточнил Денисов. — У нас есть свидетели: Димка Горяинов и Анкудинова интересовались старинной утварью. Их часто видели в Крестах. В соседней деревне. — Давно? — Дней десять назад. Заходили к одной старухе… Проверьте, как они вели себя в поезде. Не было ли разговоров об иконах… «Вот почему он звонит… — подумал Денисов. — Кража в Крестах и гибель Анкудиновой! Для него одно преступление — следствие другого…» — Может, что не поделили?.. — Участковый разговорился. — Иконы могли оставить себе, а могли и предложить другим. На этой почве разногласия… Сам знаешь! И вот что еще странно… — Денисов услышал в голосе недоумение. — Эксперт оказался прав! В дачу проникали дважды! Через отжатую дверь крытого двора и с крыльца — с помощью подобранного ключа… Вот так, брат! К видеомагнитофону Денисов так и не вернулся. Зашел в кабинет, где Колыхалова беседовала с поджарым немолодым человеком в куртке и спортивном трико — инструктором Коношевским. Здесь же сидела его жена, много моложе, с округлым, матового цвета лицом. — Вы были старшим по вагону? — Да. — Будто вспомнив о чем-то, Коношевский резко выпрямил спину. — А всего старших инструкторов было трое. — Сможем мы установить всех, кто ехал в вагоне? — спросила Колыхалова. — Думаю, да. Путевки льготные. Если кто-то передал другому, можем узнать кому. Колыхалова последовательно шла к своей цели. — В вашем вагоне было много туристов? — Тридцать пять человек. — Из них молодежи? — Человек шестнадцать. — В трех купе ехала молодежь, — подсказала жена. — В крайнем, напротив нас, и еще в двух. — Несколько компаний? — В каждом купе своя. Собственно, вагон не купейный, никаких дверей. Просто я так называю — купе: два сиденья, обращенные одно к другому. — А где вы сидели? — спросила Кира. — На боковых, в начале вагона. Подумав, ККК, видимо, решила сбавить темп. — Вы состоите в штате? — поинтересовалась она у Коношевского. — Вообще-то оформлен по другой должности. — Он пожал плечами. — Но физическое здоровье коллектива на мне! Физическое здоровье, в конце концов, всегда самое главное, согласитесь! То, о чем никогда нельзя забывать! По этой фразе Денисов причислил его сразу к в общем-то невредной категории тех, кто запросто обращается с такими глобальными понятиями, как «главное», «всегда», «никогда». Все три слова присутствовали в его тезисе. — Девушек много было? — спросила ККК. Коношевская задумалась. — В первом купе? Трое или четверо. И пять или шесть парней. — Имена помните? — Оля, Роза… — Роза… у нее было на шее украшение в виде лезвия? — Да. Я обратила внимание: девичья шея и лезвие. А в общем, в ней есть… — Коношевская поискала в воздухе пальцами, — шарм. Была еще Лена… — А имена мальчиков назовете? — спросила Колыхалова. — Слава, Женя… — И Дима? — Веснушчатый такой… Что-нибудь случилось? — Вроде этого… — ККК не стала уточнять. Дверь открылась, вошел Антон, поздоровался, присел на подоконник. Денисову показалось, что при упоминании о Компании взгляд инструктора сразу потускнел. — Они не с вашего предприятия? — Теперь Кира обращалась к Коношевскому. — Нет. Юрисконсульт — этот наш. — Верховский? — Не знаю его фамилии. Вышла неувязка. Многих я вообще видел впервые. Особенно среди молодежи… Кто-то не поехал, кто-то передал путевку товарищу. За окном застучали компрессоры очередной электрички: по схеме составов они всегда оказывались за стеной кабинета. — Пренеприятнейшая публика, — уточнила жена. — Как они вели себя? — Как-то не так, одним словом. — Коношевский поправил «молнию» на куртке. — Я, например, всегда практикую «первую лыжню новичка», кросс. А тут разбрелись кто куда… — И отношения между собой непростые, — подсказала жена. — Еще немного бы и передрались. — В поезде? — И когда на санках катались. В Жилеве… Не удовлетворен я, одним словом, этой поездкой… — Что вы можете сказать еще об этой Компании? Инструктор повернулся к жене. — Расскажи про свой разговор по душам с этим… — С Димой? Вот уж действительно по душам… — Коношевская покачала головой. — Они только что перестали орать какую-то песню. Именно орать! Дима оказался сидящим с краю… Я спросила: «А спокойно петь нельзя?» Он мне: «Вы же слышали, что это за песня! Иначе не споешь!» — «Есть и другие песни!» — говорю. А он: «Под крылом самолета о чем-то поет?» Это для родителей…» — «Вы не любите своих родителей?» — И что же он вам ответил? — Колыхалова достала сигареты. — «Люблю, — говорит, — когда они дают деньги!» Я спрашиваю: «У них много денег?» — «Порядочно! Мне и сестре на жизнь хватит!» — Коношевская вздохнула… — У него есть сестра? — Есть. Она тоже ехала с ними. Ольга. — Я видела ее… — Коношевская помолчала. — Идиотская музыка, патлы до плеч, птичий язык… Здоровы ли они после этого нравственно? Конец разговора меня поразил. Я спросила: «А дальше-то как думаете жить?» А он — из Ходжи Насреддина. Насчет ямы, помните? Кира покачала головой. — Ходже твердили соседи: «Закопай яму во дворе — можно ноги сломать!» — «Успею». Ходже всегда некогда. Соседи напоминают и напоминают. Однажды смотрят: копает Насреддин во дворе вторую яму и землю из нее бросает в первую. «Что делаешь?» — спрашивают. «Не видите? Яму закапываю…» — «А дальше-то? Новую как закопаешь? Где земли возьмешь?» Ходжа удивился: «Не знаю… Я так далеко не заглядываю!» — Силен! — признал молчавший в течение всего разговора Сабодаш. Денисов спросил: — Был ли в поезде какой-нибудь разговор об иконах? Коношевская наморщила лоб. — Был. Определенно был. Но какой? Я почти не слышала. Уловила только слова: «иконы», «древнее искусство». Ишь чем интересуются, подумала. — Кто именно это говорил? Можете вспомнить? — Не помню. Кажется, Дима и Роза… — С кем они еще общались, кроме своей Компании? Ответил Коношевский. — Ни с кем. — Вы выходили в Москве вместе с ними? — Перед Москвой мы с женой перешли в штабной вагон, в седьмой. Высадка проходила без нас… Денисов поднялся и подошел к окну. На каменном подоконнике нежились кактусы, стук компрессоров им не мешал. Здесь же находился кувшинчик с водой. Растения Денисов поливал сам, ночью или утром, в часы дежурств. Каждое имело свое имя — «Олененок», «Агава», «Хлопок». «Олененку» требовалось влаги вдвое больше, «Агава» могла зимой обходиться вовсе без воды. — Доехали благополучно? — спросила ККК. Коношевская посмотрела на нее с тревогой. — Двоих никак не могли найти. Искали по всему составу. — Кого именно? — Этого самого Диму. И Розу. Что-то с ними случилось?.. Денисов заметил, как ее муж при этих словах напрягся. — Они все время сидели на месте? — спросила Кира. — Приходили, уходили… — Коношевская пожала плечами. — В тамбурах отирались. Девчонки ходили по всему вагону. Пели, носились с гитарой. Это важно? Из протокола допроса Ведерниковой Алины Александровны, 54-х лет, проводницы поезда здоровья.…Восьмого февраля к 7 часам утра поезд был подан на посадку для обслуживания туристов. Поезд наш обычный, ходит по маршруту Новомосковск — Москва, вагоны общие и плацкартные. В девятом плацкартном вагоне дежурили я и Берзарина Аня, в десятом — Соловьева. Старшим моего вагона был инструктор Коношевский, который ехал с женой. Посадка на вокзале была большая, трудная. Ехала в моем вагоне в основном молодежь. А всего было тридцать пять человек с лыжами, санками. Путевки проверяли я и инструктор… После отправления поезда я заварила чай и разнесла по купе. Пассажиры начали завтракать. Некоторые, только отъехав, стали принимать спиртные напитки, о чем я поставила в известность инструктора, а он предупредил пассажиров, чтобы этого не допускали. Остановок в пути поезд не делал. Молодежь пела, играла на гитарах, ходила по составу. …По прибытии на станцию Жилево пассажиры пошли кататься с гор, а я убралась в вагоне, после чего вместе с Соловьевой и Берзариной Аней пообедали. Катание продолжалось примерно до 13 часов 30 минут, но уже в 12 часов стали возвращаться некоторые пассажиры. В ожидании отправления поезда туристы организовали второй завтрак. Я снова приготовила чай, в седьмом штабном вагоне по талонам каждому туристу выдали сухой паек. На обратном пути я заметила, что некоторые пассажиры были выпивши. Они ходили по вагону, переходили из купе в купе. Выбрасывали из тамбура бутылки. Я им сделала замечание. По прибытии на вокзал мы произвели высадку, после чего состав был отведен в парк отстоя поездов на станцию Москва-Товарная. На Астраханском вокзале в Москве, по возвращении и потом, ко мне никто не обращался и никаких заявлений о том, что пропала пассажирка, не делал. Вопрос. Были ли закрыты в пути наружные двери тамбура? Ответ. Да, двери были закрыты на специальный ключ проводника, который был у меня все время с собой. Вопрос. Заметили ли вы что-нибудь подозрительное в поведении пассажиров? Не было ли в вагоне посторонних? Ответ. Не было. Один раз, правда, мне показалось, что на обратном пути кто-то мелькнул в тамбуре, одетый в полушубок. Но я не придала этому значения. Вопрос. Почему вы обратили на это внимание? Ответ. Просто в нашем вагоне никого в полушубке не было. Вопрос. Были ли в пути следования эксцессы, ссоры, драки между пассажирами? Ответ. Группа молодежи, ехавшая в первом купе, недалеко от меня, была чем-то недовольна. Ребята громко разговаривали, были возбуждены. В этой группе ехали три девушки. Все, по-моему, были выпивши. Вопрос. Кого из этой компании вы запомнили? Ответ. Парня, которого называли Момот, двух девушек. Одна высокая, вторая маленького роста, крашеная, с украшением в виде маленького лезвия на груди. Эта девушка курила, уединялась с ребятами в тамбуре. Так, когда ехали из Жилева, она стояла в тамбуре с парнишкой из своей компании, худым, в веснушках. Похоже было, что они ссорились…Из протокола допроса Гераскиной Елены, 19-ти лет, студентки, работника ЖЭКа № 18.
…Восьмого февраля в 6 часов 15 минут мы встретились под аркой во дворе, чтобы поехать с поездом здоровья кататься на лыжах. Путевки на поезд купил у себя в НИИ Верховский Володя, который работает там юрисконсультом. Под аркой нашего дома ждали Бабичев Женя, Слава Момот. Кроме того, были еще Ольга и Дима Горяиновы, Роза Анкудинова. С собой у мальчишек было три бутылки вина, а также бутылка наливки, по-моему «Клубничной», и восемь бутылок «Байкала». Путевки были в девятый вагон, где мы и заняли првое купе, около проводника… Еще мы везли с собой санки, лыжи, магнитофон «Вега-201 — стерео». Мы открыли бутылки, сели завтракать. Пили ли ребята вино, я не знаю. Я лично пила только «Байкал». В вагоне нашлась гитара, мы пели песни, играли. На станции Жилево выгрузились из вагона и отправились кататься с гор. Некоторые ребята, и я в их числе, поехали на лыжах, а другие девочки и ребята остались с санками. Лыжня была очень хорошая и прекрасное скольжение. Когда мы вернулись с лыжни, ребят уже не было на горках, мы нашли их в вагоне. Вопрос. Была ли во время поездки напряженность среди ваших товарищей? Если да, то между кем именно и по какой причине? Ответ. Мне показалось, что у Димы Горяинова произошло неприятное объяснение со Славой Момотом. Вопрос. Что вам конкретно известно? Ответ. Почти ничего. Горяинов всю дорогу нервничал, разговаривал неохотно. Когда парни ссорятся, всегда заметно. Вопрос. А в отношении Момота что можете сказать? Ответ. Слава волевой, с задатками лидера. Очень сильный. Вопрос. А Горяинов? Ответ. Дима нервный, он мягче Момота. Вспыльчивый. Вопрос. Что можете сказать о поведении в поезде других ваших друзей? Анкудиновой? Ответ. Роза вела себя как обычно. Была оживленна, разговорчива. Много курила. Я ничего особенного не заметила. На обратном пути мы снова пели под гитару, болтали. В дороге я немного вздремнула и проснулась почти перед самым прибытием в Москву. Анкудиновой в вагоне не было. Ее искали. Потом кто-то из ребят сказал, что нет и Горяинова. Мы поискали их, но не нашли. Вопрос. Был ли во время поездки какой-нибудь разговор о древнем искусстве, об иконах? Ответ. Разговор был. Его начал или Володя Верховский, или Горяинов, точно не помню. Мне этот разговор был неинтересен. В разговоре принимала участие и Роза… Вопрос. Где, по-вашему, может сейчас находиться Дима Горяинов? Ответ. На этот вопрос я не могу ответить. Вопрос. Есть ли у него близкие друзья, помимо Компании? Ответ. Не знаю. Дима часто бывал у своего родственника Горяинова Николая, который работает в районе Бауманского метро директором магазина. Обычно мы звонили ему туда. Вопрос. Видели ли вы у Димы Горяинова крупные суммы денег? Какие вещи он приобрел в последнее время? Ответ. После нового года Дима купил себе стереомагнитофон «Юпитер». Вопрос. Кого вы поставили в известность о том, что Анкудиновой нет в поезде? Ответ. Инструктора Коношевского, который ехал с нами.Из заключения почерковедческой экспертизы.
…Старший эксперт, образование высшее юридическое и специальное криминалистическое, стаж работы пять лет, на основании постановления следователя о назначении почерковедческой экспертизы… …Исследуемым объектом является лист бумаги высшего качества (ватмана) размером 30x40 с рукописным текстом «Мы еще будем здесь не один световой год, спасибо!», изъятый при осмотре места происшествия — дачи гр-на Горяинова 9 февраля сего года. При сравнительном исследовании рукописного текста с представленными образцами свободного почерка Горяинова Д. А., Горяиновой О. А., Бабичева Е. И., Момота С. Л., Анкудиновой Р. В., Верховского В. А. и других обнаружены совпадающие признаки в выполнении букв «е», «и», «у», количеству движений при выполнении букв «т», «ы», наличию рефлекторного штриха, относительной протяженности движения при выполнении буквы «м»… В связи с чем прихожу к выводу о том, что рукописный текст записи на листе ватмана, начинающийся ело-вама «Мы еще будем…» и т. д., выполнен Анкудиновой Розой Валерьяновной.Вечерняя планерка была перенесена. В кабинете, кроме Бахметьева и Денисова, находился еще Антон Сабодаш. Он принес фоторепродукции портрета Димы Горяинова. Худой, с жидкими свалявшимися волосами, выпирающими передними зубами Горяинов выглядел на них весьма жалко. Денисов доложил о звонке участкового инспектора из Крестов. — Конечно же, мы все проверим… — Несколько секунд Бахметьев сидел молча. Версия о связи обоих преступлений казалась с самого начала вероятной. — На заключение почерковедческой экспертизы, по-моему, можно опереться. На ватмане рука Анкудиновой… Но опять возникает сто вопросов! Зачем оставлять улику? Зачем проникать в дачу с двух сторон? И действительно ли то, что взлом должен отвлечь следствие от тех, кто имел доступ к ключу? — Может, действовали две совершенно самостоятельные группы… — сказал Антон. — В поезде здоровья все опрошены? — спросил Бахметьев. Мысль его сделала неожиданный поворот. — Я имею в виду тех, кто находился вблизи от Компании… — Почти все. — Денисову удалось проследить за ее течением. — Вы насчет Горяинова? — Вот именно! Мыслю найти логическое объяснение бегству Горяинова и не могу. — Бахметьев поднялся, прошел по кабинету. — Задаю себе вопрос: убежал бы он, будучи совершенно непричастным к случившемуся? Или нет? И не в состоянии найти другого ответа, кроме одного… — Он достал из кармана платок, поднес к поврежденному глазу. — Неужели они всерьез добиваются своих целей, всерьез ревнуют, любят?! Ты ближе к нежному возрасту, Денисов… Эти совершенные, дорогие магнитофоны, на их приобретение нужны деньги, и немалые! Денисов вздохнул, он думал о том же: «Рок-опера, вокально-инструментальные ансамбли… Его тоже коснулось это. Но не задело глубоко, не стало главным. Может, потому, что рядом не оказалось кого-то более увлеченного? Таких парней, как Бабичев, Момот?..» Денисов представил Момота, каким увидел во время танцев — с глубоко посаженными глазами, с еле заметной наклейкой на брови, с раздвоенным подбородком. Вспомнил, как ближайший друг Димы Горяинова прокладывал себе дорогу среди танцующих, плавно вибрируя всем телом в такт музыке. Про «Джизес Крайст», Джеймса Ласта он, Денисов, узнал позже их, когда вернулся с флота на завод. Сверстники уже перешивали джинсы, авторитетно судили о стереомагнитофонах. Ему же предстояла еще школа рабочей молодежи, переход по путевке комсомола на новую службу — в милицию, вечерний юрфак университета. О древнем искусстве, проблемах ессеев, о Плинии Старшем ему пришлось узнать позже, уже из учебников по истории государства и права. Нет, он не мог ничего сказать Бахметьеву от имени Компании, хотя некоторые из нее, например Верховский, были его сверстниками. — В отношении Анкудиновой в медкомнату пока никто не обращался. — Бахметьев не ждал ответа, следуя своим заботам начальника отдела и руководителя группы по раскрытию преступления. — И все же засаду в Видновской городской больнице я распорядился не снимать. Пока не раскроем. — Он снова взглянул на фотографию Горяинова. — До войны такую прическу мог позволить себе лишь вундеркинд — пианист или скрипач… — Оперативно-технический отдел изготовил сто репродукций. — Сабодаш отер капельки пота со лба: он даже зимой страдал от жары. — Если к утру Дима Горяинов не будет задержан, отдел отпечатает еще триста. Бахметьеву позвонили. — Где?! — Он привстал. — У метро «Автозаводская»? Понял. — Бахметьев посмотрел на Денисова и Сабодаша. — Денисов поедет… Его никто не знает. — Он положил трубку и пояснил: — У вестибюля на «Автозаводской» собралась вся Компания. Кого-то ждут. Видимо, Горяинова. Будем его задерживать… Срочно в машину.Старший эксперт (подпись)
Из протокола допроса Анкудиновой Зинаиды Ивановны, 36-ти лет, наладчицы типографии № 1.
…Роза росла бойкой. Рано научилась читать и писать. Отец ее оставил нас, когда девочке было три года, участия в воспитании ребенка не принимал. Когда Розе было семь лет, я вышла замуж за Анкудинова Валерьяна Сергеевича, от которого имею двух детей. Училась Роза неровно, по некоторым предметам домашних заданий не делала — запоминала все на уроках. Хуже других предметов осваивала математику и иностранный язык. Бывали у нее замечания по поведению. Девятого февраля Роза должна была уехать по льготной путевке в санаторий «Прибрежный» в район Ялты на два месяца в связи с обострением хронического бронхита. Роза очень хотела поехать в санаторий, радовалась предстоящей поездке в Крым. Однако ближе к отъезду я заметила, что она чем-то расстроена. Роза девочка ласковая, нежная. Она очень жалела меня, делала всю работу по дому, ухаживала за младшими братьями. Домой Роза приходила в десять — одиннадцать тридцать. В нетрезвом состоянии я ее никогда не видела. Хотяздоровье у нее не очень хорошее, она никогда не жаловалась. Болезнь обычно переносила на ногах. Только когда ей становилось совсем плохо, шла к врачу. Из увлечений Розы могу указать на диски, гитару, цветы. Сейчас молодежь стремится играть на музыкальных инструментах, слушать музыку. В последнее время Роза заинтересовалась старинными иконами. Характер у нее прямой, решительный. С девчонками сходится трудно. Зато имеет много друзей среди мальчиков. Из ее приятелей я знаю Бабичева Женю, Момота Славу — сына прежнего председателя шахткома, Верховского Володю — нашего соседа по лестничной клетке. Володя много старше Розы, но, как я знаю, уделяет ей внимание. Она дружит и с девочками — Ольгой Горяиновой, Ирой, Леной. Ближе других ей Дима Горяинов, хотя в этом не признавалась. Горяинов часто бывал в нашем доме, иногда приходил в то время, когда Роза еще была в ПТУ, ждал ее прихода. Наблюдая за ним, я замечала, что настроение у него было неровным. Быстро портилось, когда дочь запаздывала. Как-то Роза сказала, что стоит ей обратить на кого-нибудь внимание, как Дима нервничает, переживает… В последние дни Дима Горяинов тоже ходил чем-то подавленный, грустный. Седьмого февраля Роза сказала, что утром они всей компанией собираются на лыжах, а потом на день рождения. Настроение у нее, как часто случалось в последние дни, было плохое. Я спросила: «В чем дело, дочка?» Она ответила: «Скажу вечером». Я напекла им в дорогу пирожков, сварила десяток яиц. Утром, показалось мне, настроение у Розы изменилось к лучшему. Я порадовалась. В шесть утра за ней зашел Дима Горяинов. Они ушли. Больше я Розы не видела…Компания стояла у наземного вестибюля станции метро «Автозаводская». И явно кого-то дожидалась. Денисов еще издали узнал Верховского — сутулого, в странной широкополой шляпе. Поля ее впереди и сзади были опущены, а с боков подняты. Мальчик-лобастик и здесь был с книгой. Ольга Горяинова в капоре возвышалась над всеми и даже над Момотом. Рядом стояла Лена, которую тогда провожал Бабичев. Денисов теперь знал и ее фамилию — Гераскина. Бабичев обнимал ее за плечи. На улице Мастеркова, по направлению к заводу «Шарикоподшипник», темнели деревья, там в асфальтовой дали таяли отъезжавшие автобусы. Денисов переместился к доске объявлений — от нее площадь перед вестибюлем была как на ладони — и начал читать объявления. Боковым зрением он наблюдал за Компанией. Он прочитал их все — об обмене и заключении договоров на работу в отъезд, о пропажах и находках. Одно, маленькое, было обращено к работникам промышленности: «Снижайте удельный вес расходов электроснабжения…» Срок объявления истекал через пару дней, и было непонятно, каким образом работники промышленности разыщут его, чтобы прочитать — крохотное, в самом углу большого щита. Внезапно Компания зашевелилась — все ребята стали смотреть в глубь улицы Мастеркова. Денисов зажал в руке фото Горяинова. Подумал: «Я должен его узнать…» Но к Компании подошел отнюдь не Дима Горяинов, а полковник Горяинов и его жена. Рядом с молодыми акселератами они выглядели низкорослыми, тучными. Между Горяиновым-старшим и молодежью начался оживленный разговор. Затем Компания стала расходиться. «О Димке ничего не известно…» — понял Денисов. Он вернулся в машину. В его отсутствие шофер записал краткую радиограмму: «Улица Басманная, дом… квартира… Находиться вблизи дома либо в подъезде. В случае появления Горяинова Дмитрия доставить в отдел. Примите меры личной предосторожности. Начальник отдела полковник Бахметьев». «Подвижная засада…» Денисов перечитал текст. Слово «задержать» отсутствовало, его заменяла фраза «доставить в отдел» — Бахметьев не верил в виновность Горяинова. Адрес показался Денисову знакомым. «Басманная… — он вспомнил: — Там живет Димкин двоюродный брат — Горяинов Николай!» — Еще передали, что сменят в полночь, — обернулся шофер к Денисову. — С вами будет старший инспектор капитан Колыхалова и кто-то из прикомандированных. Фамилию не записал… Можно ехать? Денисов скользнул взглядом по будкам телефонов-автоматов. — Сейчас, только позвоню домой…
Из заключения почерковедческой экспертизы.
…Старший эксперт, образование высшее юридическое и специальное криминалистическое, стаж работы пять лет, на основании постановления следователя о назначении по-черковедческой экспертизы… …Исследуемым объектом является стандартная коробка от сигарет «БТ» с рукописным текстом: «Не режь по живому, Малыш!», обнаруженная при осмотре трупа гр-ки Анкудиновой Р. В. на месте происшествия в одежде последней (см. фото). Указанный текст выполнен выработанным, усложненным прямолинейно-угловатым, правоокружным, средним по вертикали и размашистым по горизонтали почерком. Образцы почерка подозреваемого Горяинова Д. А. представлены в виде свободных… (см. фото). …Перечисленные совпадающие признаки устойчивые, в своей совокупности индивидуальны и дают основания сделать вывод о том, что исследуемые рукописные тексты выполнены одним и тем же лицом. Имеющиеся незначительные различия в своей совокупности не индивидуальны и объясняются вариационностью почерка. На основании изложенного прихожу к выводу о том, что рукописный текст на пачке сигарет «БТ», начинающийся словами «Не режь…» и т. д., выполнен Горяиновым Дмитрием Аркадьевичем.Ст. эксперт (подпись)
ХАРАКТЕРИСТИКА. на студента 2-го курса Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова Горяинова Дмитрия. За время учебы Горяинов Д. допускал прогулы. В январе пропустил 36 часов без уважительных причин. В общественной жизни участия не принимал. Имел академические задолженности. В связи с допущенными прогулами ставился вопрос о снятии со стипендии. Выдана для представления в следственные органы…
СВОДКА-ОРИЕНТИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ГУВД МОСГОРИСПОЛКОМА. § 86. Нераскрытая кража икон. Восьмого февраля обнаружена кража из дачи Горяинова А. И. и Горяинова Н. Б. в дер. Кресты Московской области. Предполагается, что преступники для кражи использовали подобранный ключ к сувальдному замку импортного производства. Кроме того, преступники отжали запорную планку входной двери со стороны крытого двора. С места происшествия изъяты отпечатки обуви, пригодные для идентификации. Не исключено, что вместе с преступниками находилась собака крупной породы. Среди похищенного иконы: «Сергий Радонежский», риза серебряная, фольга с позолотой 96 см. «Иоанн-воин», риза серебряная, XVII век, 3228 см. «Гурий, Самон, Авив», оклад позолоченный, 3125 см. «Утоли моя печали», на жести, 9х6 см. «Всех скорбящих Радосте», на дереве, риза серебряная, 3228 см. «Тихвинская Богоматерь», риза серебряная, XVIII–XIX век, 3224 см. «Смоленская Богоматерь», риза серебряная, XVII век, 1916 см и другие. Начальникам управления и самостоятельных отделов милиции, ГУВД, РУВД, УВД, городских отделений милиции, командирам подразделений. Начальнику Московского управления милиции на воздушном транспорте. Начальникам отделов милиции Московского железнодорожного узла и линейных отделов милиции на Московской железной дороге. 8 февраля с.г. в 13 часов 55 минут после проследования туристского поезда здоровья на перегоне Шугарово — Михнево Московской ж. д. обнаружен труп Анкудиновой Розы, семнадцати лет, следовавшей с поездом. В вагоне с потерпевшей находился ее знакомый Горяинов Дмитрий Аркадьевич, девятнадцати лет, студент второго курса Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, местопребывание которого до настоящего времени не установлено. Приметы разыскиваемого…
ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
— Значит, он так и не появился, — констатировал Бахметьев, которому Денисов позвонил из метро. Было около часа. Шаги опаздывающих гулко разносились по вестибюлю. — Мыслю: Горяинов к родственникам не явится… — Бахметьев не собирался домой, в кабинете у него сидели люди. Денисов понял это по тому, что он сказал: — Надо искать новые решения. — А как по другим адресам? — поинтересовался Денисов. — Ты звонишь последним. Везде глухо. Посмотрим, что принесет ночь. Без Дмитрия Горяинова истории этой нам не распутать. — Бахметьев помолчал. — Сам-то как мыслишь? Денисов посмотрел на часы: до закрытия метро оставалось совсем мало. — Не установлены пассажиры, у которых Компания брала гитару. Мало еще знаем о юристе Верховском. Кроме того, не допрошена вторая проводница. — С проводницей проще… — У Бахметьева была привычка не торопиться. — С Верховским тоже. А что насчет гитары? Денисов затруднился это объяснить. — Ты имеешь в виду, что с гитарой ездят люди бывалые и Горяинов мог прибиться к незнакомым людям? — Мы договорились с Колыхаловой завтра пораньше подъехать к Коношевскому… — Сегодня, — поправил Бахметьев. — Уже сегодня. После инструктора Коношевского ты заедешь к Верховскому. Я намеренно отложил его допрос, пока мы не соберем больше сведений. После юрисконсульта отправляйся к проводнице. Это в одном районе… Большая стрелка часов приближалась к двенадцати. Немолодая, в накинутом на плечи пальто женщина, стоявшая на контроле, приблизилась к эскалатору, выразительно посмотрела на часы, потом на Денисова. — Завтра у нас трудный день, — как с равным поделился Бахметьев. — Допрос Горяинова-старшего… Я не задерживаю тебя? Денисов не мог предать его доверие. — Нет. — Я многое жду от этого допроса. Такие дела, — Бахметьев вздохнул. — Вопросы есть? Денисов поинтересовался: — В Видновскую больницу никто не обращался? — По поводу Розы? Пока нет. Засада на месте. — А в Крестах? Парнишка, с которым Анкудинова ушла после кино. — Сергей Солдатенков? — Бахметьев с секунду припоминал. — Уехал с родителями в Пензу. У него дедушка умер… — Он неожиданно спохватился. — Время-то уже! Ты как доберешься? — Автобусом… В автобусе Денисов сразу заснул. Ему приснилось, что он приехал домой раньше обычного, никого еще нет и он, не раздеваясь, присел на диван и спит. Спит как обычно — особым образом: спит и знает обо всем, что происходит в квартире, видит всех и разговаривает. Приходит с работы жена, приводит из детского сада Наташу. «Появилось, красно солнышко!» «Появилось», — отвечает он с закрытыми глазами. На кухне включают свет. Наташка шалит, забирается к нему на колени, дергает за волосы. Он играет с ней и… спит. Эрдель впрыгивает на диван, начинает лизать лицо. Лина смеется. «Разбуди меня пораньше, Лин, — оказывается, он и во сне не забывает об инструкторе Коношевском, который укажет владельцев гитары. — Это очень важно…» Автобус шел без остановок, не зажигая света в салоне. Однако в нужный момент какая-то сила подняла Денисова с сиденья и толкнула к дверям. Денисов и Колыхалова встретили Коношевского во дворе интерната. В тренировочном костюме, берете и тапочках, инструктор занимался утренней гимнастикой. Жена его — в таком же костюме и тапочках — неторопливой трусцой бежала по кругу спортивной площадки. — Привет! — окликнул их Коношевский, не прекращая круговых движений туловищем. Шел седьмой час, школьники на площадке еще не появлялись. В дальнем углу, у мусоросборников гуляли с собаками. Утро было серым, промозглым, совпадало с настроением. Денисов достал из куртки привезенный накануне список нитимфовцев, получавших путевки в поезд здоровья. Он помахал списком, крикнул: — Требуется ваша помощь! — Срочно? — спросил инструктор. — Как говорят: нужно было еще вчера! — Кто вас интересует? — Инструктор подошел. — Пассажир, у которого в поезде была гитара. — Алик? — Фамилию его знаете? — Его нет в списке, — развел руками инструктор. — Он не из НИТИМФа. — Кто же он? — вздохнул Денисов. Подошедшая Коношевская засмеялась. — Шикарный мальчик! Они отошли в сторону, к дереву с отрубленной верхушкой и сучьями, каждая ветка его кончалась утолщением, похожим на бородавку, из которой, как волоски, тянулось несколько новых побегов. — Ехали они вдвоем, — продолжила Коношевская. — На Алике был ярко-красный свитер. Парень выделялся. Его приятель Игорь был в спортивной куртке, очень светлой, с «молнией», с замочками. — Что вы можете еще сказать о них? — спросила капитан Колыхалова. — Спортивные, сильные. Футболисты или хоккеисты. Девочки к ним так и льнули… — Как они вели себя? Коношевская пожала плечами. — Замкнуто, высокомерно. Парням они определенно не нравились. — Не нравились? — ККК не выдала досады. — Как они вели себя с Димой Горяиновым? — Я бы сказала, со взаимной неприязнью. — Значит, Дима не мог уйти с ними? — Алик и Игорь ушли вдвоем. — Драки не было? — спросила еще Кира. — С такими драться рискованно… — ответила Коношевская. — Боксеры они! — вспомнил инструктор. — Кто же меня за них просил? Кажется, в городском совете по туризму! — Они еще подходили к тебе в поезде, благодарили. — Коношевская подумала. — По-моему, оставили телефон… На журнале «Нева» у меня записан какой-то номер. Сейчас принесу. — Она пошла к дому. Инструктор задумчиво смотрел вслед жене, которая удалялась пружинистым шагом. — Нам? Телефон? Не помню… — Вы видели этих боксеров в тамбуре? — спросил у него Денисов. — Нет. — А вам не показалось, что между компаниями может произойти драка? Коношевский поправил берет, приосанился. — Я бы не допустил. Коношевская вернулась с журналом «Нева», подала Денисову. Денисов переписал семизначный номер с обложки «Невы». Восьмерка в конце показалась ему переправленной из девятки, подумав, он записал оба варианта. — Вы знаете, что Анкудинова была обнаружена у железнодорожного полотна без сознания? — спросила Кира. — Следователь поставил нас в известность, — кивнул инструктор. Денисов отметил: во время всего разговора инструктор ни разу не употребил ни одного из любимых словечек — «всегда», «никогда», «главное». Что-то мешало ему сейчас пуститься в обычное резонерство. — В тот же день поздно вечером кто-то звонил нам в дежурную часть, интересовался несчастными случаями на перегоне… — сказала Колыхалова. — Следователь говорил вам? — Нет, нет! Ничего! — как-то поспешно отозвался Коношевский. — У вас, наверное, уже есть версия? На этот счет хорошо сказал Людвиг Больцман, австрийский физик: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория…» Вы уже уезжаете? Пока выбирались из лабиринта типовых десятиэтажных зданий, пошел снег. Отбрасываемый теплом радиатора, он взмывал над кабиной. Прохожих на улицах было совсем мало. Казалось, только недавно наступил рассвет. — Безусловно, это Коношевский звонил ночью. — ККК закурила, обернулась с переднего сиденья к Денисову. — Беспокоился о последствиях. Он ведь отвечал за порядок в вагоне… — Конечно. — Следователь не пройдет мимо этого. — Однако сейчас Колыхалову интересовало другое. — Ты считаешь, нам следует все же установить этих двоих — Алика и Игоря? — После того, что мы знаем о них? Безусловно. — Но Горяинова с ними нет! — Узнаем о взаимоотношениях в поезде! — Этим отличался их профессиональный почерк: Денисов не отказывался ни от одной зацепки для раскрытия преступления, какой бы малоперспективной она ни казалась. — От них я поеду на Профсоюзную. — К Верховскому? — И к проводнице. — Я бы охотно поменялась заданиями… — Сейчас-то куда ехать? — спросил шофер. Впереди, у метро, мелькнула галерея пустых телефонных будок, Кира затушила сигарету. — Василич, притормози. Шофер подрулил к тротуару. Денисов вместе с Колыхаловой вышел из машины, открыл блокнот с телефоном Алика, Кира набрала номер. — Здравствуйте… — промурлыкала Колыхалова в трубку с настойчивой, явно облеченной правами должностного лица вежливостью. — Четыре сорок девять-девятнадцать-двадцать восемь? Из телефонного узла говорят. Как слышите? Жалоб нет? Спасибо. Сейчас проверим… Положите трубочку. — Она нажала на рычаг, бросила в прорезь новую двушку. — А как теперь? — Кира замурлыкала снова. — Хорошо? Отмечаю: «Исправен». Номер квартиры? Сорок два? Дом? Подсказывайте! Улица? Фамилия? Спасибо. — Она положила трубку — Козловы. Улица Багрицкого. Едем! …На Багрицкого дверь открыл мужчина в очках, небритый, в мятых брюках, не сразу сообразил, что от него хотят. — Как вы назвали? Алик? — Алик и Игорь… Мы были в воскресенье вместе на лыжной прогулке, — объяснила ККК. — Не понимаю… — Алик дал этот телефон! Из комнаты появилась женщина — с нездоровым цветом лица, отечными веками, в странном для этого часа вечернем платье с «люрексом». — Мы не знаем никакого Алика! Растерянность Козловых позволила заглянуть в комнату. Повсюду в беспорядке лежала мужская одежда, у стола стоял раскрытый чемодан. Кто-то спешно покидал дом. — Алик и Игорь… В воскресенье! — ККК улыбалась. Денисов обратил внимание на куртку, свесившуюся со стула, с замочками, довольно светлую, такую, как описывала Коношевская. — Игорь друг Алика… — втолковывала Колыхалова. — Они дали ваш телефон. Мужчина в очках даже не пытался задуматься. — Здесь не живут… — Вот что. Я капитан милиции Колыхалова, — сказала ККК. — Мы хотим знать, что вам известно об Алике и Игоре. Это возымело действие. Женщина подняла отечные веки, в руке она держала сигареты и спички. Денисов показал оба варианта номера телефона: с девяткой и восьмеркой. То ли Алик нетвердо знал номер своего телефона, то ли Коношевский из каких-то соображений изменил последнюю цифру. — Наш телефон. — Женщина ткнула пальцем в восьмерку. — А этот… — Она показала на потолок. — Шемета Валентина Андреевича… Пришлось извиниться. Извинения были приняты молча. Дверь тотчас захлопнулась. В отличие от Колыхаловой Денисов чувствовал неловкость: семья Козловых явно переживала кризис. — Теперь к Валентину Андреевичу? — как ни в чем не бывало сказала ККК. — Тоже войдешь? Или сразу к Верховскому? — Ты знаешь, кто он, Шемет? — спросил Денисов. — Первый раз слышу фамилию. Денисов удивился. — Заслуженный мастер спорта, чемпион СССР и Европы… — Хоккей? — Бокс. Член президиума Международной ассоциации любительского бокса, почетный судья. Я читал его биографию… — Знаешь, — сказала ККК, — войдем вместе. Если придется записывать, я останусь. А может, работы на пять минут: «Давали гитару?» — «Давали»… И все дела! Таблица у двери блеснула тускло: «Ш е м е т В. А.» Денисов вспомнил: с таким же чувством нереальности он стоял в Калининграде у мраморной доски с надписью «Иммануил Кант» (1724–1804) «Вроде спиритизма!..» — подумал он, нажимая на звонок. Дверь открыл сам чемпион. Денисов узнал его по старым фотографиям. Только на них Шемет был без очков. — Слушаю вас. — Капитан Колыхалова, старший инспектор уголовного розыска. Это инспектор Денисов. Добрый день. — Слушаю, — повторил Шемет, пропуская Колыхалову и Денисова и закрывая за ними дверь. — Здравствуйте. Шемет пригласил пройти в кухню. — В комнатах все вверх дном… Уже в коридоре Денисов увидел висевшие в большом количестве спортивные вымпелы, значки, боевые перчатки чемпиона. В чистой маленькой кухне не было посуды — ее скрывали блестящие с пластиковым покрытием шкафы. Только несколько кофеварок разной емкости бросались в глаза. — Садитесь. Когда Колыхалова объяснила цель визита, Шемет удивился. — Алик и Игорь?! Но они уже уехали! — Давно? — В воскресенье! В тот же день… — В тот же день? Колыхалова переглянулась с Денисовым. — Откуда они приезжали? Пожалуйста, расскажите подробнее. — Из Инты. — Шемет оглянулся на кофеварки. — Кофе хотите? — Не откажусь. — Кира уже снимала шубку. — Видите ли, Алик и Игорь должны пролить свет на поведение одной компании в поезде здоровья. — ККК вынула блокнот. — Алик Турандин носит фамилию матери. Отец известный в прошлом боксер. Что же касается Игоря… — Шемет подумал. — Не знаю… Работает тренером в Инте вместе с Аликом. — Сколько они пробыли в Москве? — Три дня. Достал им билеты в Большой… В воскресенье отправил на лыжную прогулку… Отца Алика я отлично знал: прекрасный боксер. Работал против Марселя Тиля. Слыхали такого? — Он посмотрел на Денисова. Денисов отрицательно покачал головой. — Марсель Тиль в прошлом чемпион мира среди профессионалов. Причем отец Алика работал с ним на равных… Во время спаррингов в Москве, я имею в виду… Алик из другого теста. — Слабее? — спросил Денисов. — Здоровьем бог тоже не обидел. Но… — Шемет развел руками. — Алик уроженец Инты? Шемет зажег электрическую плиту, поставил турку с водой. — Нет. В Инте Алик поселился недавно, примерно с год назад. Родственники его проживали где-то в Москве, потом выехали. — У Алика были какие-то неприятности с законом? — поинтересовалась Колыхалова. — Ему давали срок. За что — не знаю. После освобождения приехал в Инту. — Шемет достал ручную кофемолку. — Уехали они неожиданно для меня в тот же день, в воскресенье вечером, в мое отсутствие. — А ключи? — спросила Кира. — Алик оставил их в почтовом ящике. — Они поехали назад, в Инту? — О маршруте я ничего не знаю. — Мне придется все записать подробнейшим образом. Кира задала еще несколько вопросов, с тем чтобы Денисов, уезжая, был в курсе всей полученной информации. — Валентин Андреевич, где были Турандин и его товарищ в субботу седьмого февраля? Шемет снял турку с плиты. — В этот день, по-моему, они ходили по магазинам. — ГУМ, ЦУМ? — Плюс букинистические… — Он разлил кофе по чашечкам. — Что их интересовало? — В основном вещи, книги. Пейте, пожалуйста… Кроме того, струны для гитары, диски модных ансамблей. Джинсы, иконы… — Иконы? — переспросила ККК. — У Турандина и его товарища были с собой иконы? — Одна небольшого размера. Алик показал мне ее в субботу. Я специалист небольшой. По-моему, «Утоли моя печали». Кира достала из сумочки бланк протокола допроса. — Не возражаете? — Если вы считаете нужным, — ответил Шемет галантно. Колыхалова обернулась к Денисову: — Видимо, тебе лучше сначала заехать в отдел, проинформировать Бахметьева… Полковника Бахметьева Денисов увидел на экране видеомагнитофона в учебном классе вместе со следователем и Горяиновым-старшим. Горяинов-старший попросил в это время дать ему воды, и Бахметьев тянулся к графину. — Звук! — крикнул один из инспекторов Денисову. — Звук покрути! Но кто-то вскочил и опередил Денисова. — …она буквально преследовала Диму… — Горяинов на экране отставил стакан, поблагодарив. — Каждый день они встречались по нескольку раз… Это я уже потом узнал. Утром — на Автозаводской, у нашего дома. После этого — в институте. Представляете, какой крюк она делала?! Если у него семинар — ждала внизу… А вечером, как говорится, сам бог велел встречаться. А еще — звонки! Не знаю, спала ли она этот год и когда? Бахметьев и следователь молчали. Камера поэтому все время показывала одного Горяинова. — …не представляю, как Дима сдал весеннюю сессию и теперь зимнюю. Собственно, ничего он не сдал. К преподавателю по вычислительным машинам я ездил и к политэконому. У математика раза четыре был. Да и когда было учиться? Встречи да звонки! Сначала мы не понимали. Поднимешь трубку — молчат… «Алло! Алло! Говорите» — гудки! Может, аппарат не срабатывает? — думали. Оператор показал теперь следователя линейно-следственного отделения. Тот, кивая, старался не пропустить ни одного слова Горяинова. — …впилась в него, как пиявка. Не оторвешь! Какие ребята — Женя Бабичев, Слава Момот! Все сейчас издерганные, злые! Юриста привела в компанию, а он их на десять лет старше… Следователь уточнил: — Верховского? — Его самого. Загуляла, одним словом. Вот они и бесятся… — Как вы узнали, что сыну звонила именно Анкудинова? — спросил Бахметьев. Горяинов усмехнулся. — Сначала я так не думал. Грешным делом, всех подозревал… — Он положил на стол локти, несколько раз сжал кулаки. — Да очень просто! Если я кому-то надоблюсь, сначала могут поинтересоваться на работе: «Ушел ли?» Если звонят жене — то же. А тут как-то позвонили и молчат. Я сразу звоню на работу: «Мне не звонили сейчас, не спрашивали?» — «Нет». К жене звоню на работу: «Никто не спрашивал?» К сестре, к племяннику Николаю. Есть! «Спрашивал Димку женский голос!» На следующий день история повторяется. Сначала она его ищет у Николая, потом звонит сюда. Если мы берем трубку — бросает… — Горяинов покачал головой: — Откуда хитрость такая в нежном возрасте? Любовь? У Димки — возможно. Денисов заметил, что в лице Горяинова что-то дрогнуло. — Я принес тут вам некоторые высказывания сына. — Горяинов достал бумажник, выложил несколько исписанных мелким скупым почерком листочков, надел очки и стал читать: — «Почему вдруг грустно, когда видишь дорогу в поле, облако, тихую деревню на косогоре?..» Или вот: «Чтобы миллионы людей спокойно любили, нужно, чтобы тысячи любили до исступления, а десятки — чтобы жертвовали всем…» — Он стихи писал? — спросил следователь, поморщив лоб. — Кто их не пишет? — сказал Горяинов. — Я сам писал. Или вот: «Все закрутилось после шестого февраля, словно подхватило течение и несет с бешеной скоростью!» А вот целый сценарий: «Ты сказала: «Наверное, все-таки не люблю. Привычка…» Я закрыл лицо. Мы стояли под навесом в детском саду. Ты не заметила слез: темно, дождь. «Тебе плохо? — спросила ты. — Тебе морально важно услышать «люблю». — «Я завишу от слов». — «Но ведь ничего не переменилось?» — «Все-таки что-то изменилось. Назвать — значит определить суть…» Горяинов опустил голову. — Я прав: она не любила его… — Вы говорили с ней? — спросил следователь. — С Анкудиновой? Один раз… — Не нашли общего языка? — «Что вы знаете о моей жизни?» — она так сказала. — Там еще есть? — Бахметьев кивнул на записки. — Это все — «Твои губы проснулись…», «Умытенькие глаза, легкий запах пустых конфетных коробок…» — Вам, конечно, надо было бы узнать ее больше, — сказал следователь. — Однажды собрались они в кино. Дима и Анкудинова, а на другой день у него семинары. Я приказал: «Ни в коем случае!» — Горяинов отпил воды. — Тут с работы звонят: «Нужен срочно. Приезжайте». Как назло! Я — Димке: «Без меня — никуда, учи!» Запер их вместе с женой, с Ольгой. «Приеду, — говорю, — через час выпущу!» Что же вы думаете? Ушли! Через соседний балкон. Все-таки шестой этаж!.. — А что вы мыслите?.. — начал Бахметьев. Горяинов вздохнул. — Девчонка далеко смотрит. Семья большая, отец неродной. Я сам в трудных условиях рос, к математику за меня пойти было некому. Не виню ее, поймите… — он оборвал себя. — Не Димка ей нужен. — Кто же? — Семья наша, клан. Я, наконец! Ольгу уже сейчас берут на работу в Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Она в этом году заканчивает торгово-экономический. Димка будет неплохо устроен. Квартира, машина, дача… Следователь придвинул бланк протокола, начал молча заполнять. Экран погас. Денисов увидел в дверях Колыхалову. — Бахметьев занят, я еще не был у него, — сказал он. — Я сама доложу. Значит, ты сейчас на Профсоюзную? — Да! — Показания Горяинова-старшего открывали новую, неизвестную пока сторону взаимоотношений членов Компании, и Денисов поймал себя на том, что хочет поскорее остаться один, чтобы все обдумать. Однако на Профсоюзной Денисову не повезло. Едва он вошел под арку, навстречу из подъезда вышел парень. «Бабичев…» — узнал Денисов. Независимый, с руками, засунутыми в карманы расстегнутой куртки, он шел с собакой. «В дом идти нельзя…» — решил Денисов и под жестким взглядом Бабичева молча ему кивнул. Рыжий с черным чепраком пес вожака Компании покосился на Денисова и лег в снег. — Ты милый! — сказал Денисов. Год назад, узнав об этой удивительной породе собак, он свел знакомство с кинологами служебного собаководства и приобрел собаку, как две капли воды похожую на эту. — Прекрасная собака… — Эрдель повел мордой, его крупные черные глаза затуманились. — Ты интеллигентный, ты образованный. Вот так… Только лаской… Денисов понял это, когда однажды тупыми ножницами, приговаривая: «Какая терпеливая, умная собака Билль», — стриг своего пса. — Ты бесконечно смелый, умный. — Бабичев и собака слушали. — Тебя не любят люди, остановившиеся в развитии на культе восточноевропейской овчарки. — Денисов не кривил душой. — Им и невдомек, что есть псы смелее и бесстрашнее… — И сильнее! — Бабичев поправил куртку, но так и не застегнул ее. — Сколько ему? — спросил Денисов. — Год. «Такие, как Бабичев, не будут обсуждать с посторонними дела Компании… — рассудил Денисов. — Как удалиться, не расшифровывая цель визита?» Бабичев был явно чем-то угнетен. — Убери собаку! — раздался вдруг хриплый выкрик. Откуда-то сбоку черный огромный дог бросился к беспечно купавшемуся в снегу эрдельтерьеру. Дог галопировал, выгнув назад гордую шею, одновременно выбрасывая прекрасные передние ноги. — …Сколько говорил: здесь не гуляйте! — снова закричал хрипатый. — За собаку свою не отвечаю! — Из-за детского грибка в конце двора вышел человек в длинном черном пальто с поводком-удавкой в руке. Эрдельтерьер вскочил, но дог с ходу сбил его, прижал к земле. Бабичев не двинулся, закурил. Когда он доставал зажигалку, крохотный листочек бумаги вылетел у него из кармана. Эрдель выскользнул из лап врага и встал против огромного дога. Пасть его некрасиво ощерилась, верхняя губа поднялась, обнажив десну. Он и не думал отступать! С носа дога капала кровь — эрдель прокусил ему мягкие ткани. Собаки стояли, тяжело дыша друг другу в пасть. Каждую секунду бой мог возобновиться. Бабичев невозмутимо курил. — Надо растаскивать! — заволновался хрипатый. — Чего ждать! Внезапно черный дог отскочил и, не оглядываясь, легкой трусцой побежал в сторону. Упругий саблевидный хвост его жестко качался. — Хорошо! — отрывисто похвалил эрделя Бабичев. — Хо-ор-р-ошо! — Он кивнул Денисову и пошел в подъезд. У Денисова возникло чувство, словно он только что наблюдал в деле не эрдельтерьера, а самого вожака Компании Бабичева — жесткого, не знающего страха, готового погибнуть, но не отступить. Денисов с минуту помешкал, поднял выпавший у Бабичева из кармана листочек — билет на электричку, аккуратно вложил его в блокнот. Идти к Верховскому было рискованно, Денисов не хотел расшифровывать себя, поэтому поднял воротник куртки и пошел назад, к остановке. Это утро приносило сюрпризы: Шемет, показания полковника Горяинова, теперь вот встреча с Бабичевым. «Что-то даст разговор с проводницей?» — подумал он. Вторая проводница поезда здоровья — Берзарина — жила неподалеку, на улице Кржижановского. Выйдя на Профсоюзную, Денисов повернул вправо к Черемушкинскому загсу, прошел мимо магазинов и учреждений, занимавших нижние этажи приземистых кирпичных зданий. Погода разгулялась, и на улицах появились женщины с детьми и колясками. У входа в Черемушкинский загс стояло несколько машин, в одной за шторками мелькнула фата невесты. «Хорошая примета», — решил Денисов. Проводница открыла дверь и впустила Денисова в квартиру. Она оказалась совсем молоденькой — с челочкой на лбу, в комнатных туфлях, в халатике. — Милиция Астраханского вокзала. Здравствуйте. — Денисов достал удостоверение, но Берзарина не проявила к красной книжице интереса. — Инспектор уголовного розыска. — Снимайте пальто, проходите, — предложила Берзарина. Денисов прошел в комнату, заставленную книжными шкафами. Тисненные золотом корешки «Брокгауза и Эфрона» глянули на него с полок. — Я здесь на квартире, — ответила Берзарина на немой вопрос. — Хозяин в больнице, а я вот… На письменном столе лежал учебник итальянского языка. — Хочу перейти в Бюро международных туристских перевозок, — пояснила Берзарина, перехватив взгляд Денисова. — В загранку? — Да, в поезд Москва — Рим… Да вы садитесь, — предложила девушка. Денисов сел в кресло на колесиках, оно сдвинулось в сторону. Проводница устроилась на тахте у окна. — Неприятность у нас… — начал он. Денисов рассказал об Анкудиновой, о Компании, потом обрисовал боксера и его друга. Берзарина внимательно слушала. — Мужчины, которые ехали с гитарой, нас очень интересуют… — Я видела их. — Берзарина тряхнула челкой. — И девочку эту. — Когда ехали туда? — И обратно тоже. — С теми, у которых гитара? — С одним из них. — Берзарина поправила стереонаушники на столе. — Мужчина этот лет двадцати восьми, красивый, в красном свитере. Женщины в вагоне на него заглядывались. Потом с нею стоял парнишка из ее компании. Он был возбужден, лицо совсем белое… злое. — Парнишку помните? — В лыжном костюме, шапка голубая с красным. Веснушчатый… «Горяинов, — подумал Денисов, — его одежда и приметы тоже». Берзарина снова поправила стереонаушники, отодвинула на край стола фломастеры. Денисов помолчал. — Боковая дверь вагона была закрыта? Не помните? Проводница вздохнула. — По инструкции мы должны держать ее закрытой. Но практически… — она безотчетно потянулась к столу, чтобы что-нибудь переложить или поправить, — практически закрыта она была только на верхнюю задвижку… Бахметьева в кабинете не оказалось. Несколько секунд Денисов вслушивался в тягучие гудки, потом позвонил Колыхаловой. — Я говорил с Берзариной. Сейчас она подъедет в отдел к следователю. Встречай. — Что-нибудь интересное? — Горяинов-старший прав: его сын любил Анкудинову и ревновал. — Где ты сейчас? — спросила Колыхалова. — На Профсоюзной. — Зайдешь к Верховскому? — Пожалуй, нет. — Визит, который Денисов сам предложил накануне, теперь, после случайной встречи с Бабичевым, представлялся рискованным. — Я должен кое-что проверить. В общем, скоро буду. Он подошел к той же остановке троллейбуса, где поздно ночью в день гибели Анкудиновой узнал о краже с дачи Горяиновых. «Какие шаги может предпринять Компания, чтобы встретиться с Дмитрием Горяиновым? — подумал он. — Что на уме у Бабичева? Бахметьев, наверное, уже направил телеграмму в Инту о Турандине и его спутнике… — Он продолжал без особого отбора, как это часто случалось, анализировать увиденное и услышанное. — Как сочетается в инструкторе Коношевском его панибратское отношение к известным категориям с мелочной психологией, равнодушием к подросткам, находившимся временнно под его опекой?» От остановки Денисову был виден двор, где обитало большинство членов Компании. От угла к зданию с лентой Мебиуса на фасаде шло несколько молодых людей с собакой. Денисову показалось, среди них возвышалась Ольга Горяинова. «Инспектор из Крестов ничего не сказал о человеке, который приходил с собакой на дачу Горяинова в день кражи, — подумал Денисов. — Кто это был? Что за собака была с ним?» Внимание его вновь привлекла лента Мебиуса на фасаде — перекрученное кольцо наводило на мысль о неисчерпаемости процесса познания, диалектической связи противоположностей. Троллейбуса все не было. Несколько его будущих пассажиров, не проявляя нетерпения, без любопытства поглядывали по сторонам. Немолодой мужчина впереди Денисова, считая, что никто не видит, поцеловал спутницу. «Весна, за которой скорее всего не последует лето», — подумал о нем Денисов. Наконец на кругу тягуче загудел троллейбус, вернее, два сразу. Троллейбусы этого маршрута чаще выходили в рейс попарно, словно опасались встретиться в одиночку со стихийными силами природы. Денисов посмотрел на часы. До улицы Болотникова ехать было недолго. Оттуда через пятнадцать минут на электропоезде он мог доехать до вокзала. Троллейбус потряхивало. Мужчина и женщина, целовавшиеся на остановке, предпочли заднюю площадку. Их бросало друг к другу. Это их устраивало. Денисов вынул из блокнота билет, выпавший из кармана у Бабичева, посмотрел. Дата отпечаталась неясно. «Туда и обратно. Девятая зона. 1 рубль 70 копеек». Денисов пригляделся получше и прочитал: «10 февраля». Вчера? Это же очень важно!.. Почему важно, Денисов не мог еще объяснить. Но, зацепившись за эту промелькнувшую мысль, стал перечитывать записи в блокноте, отыскивая «стройматериал» для логических построений. «Путем опроса лиц, обнаруживших труп, следует выяснить, не перемещал ли кто-нибудь труп, не изменял ли его позу или положение одежды…» Не то! Он перевернул несколько страниц: «Если я простужусь, вымокнув до нитки под вчерашним ливнем, — писал Горяинов на клочке бумаге, — значит, моя любовь ничего не стоит. На фронте не болели…» «К утру все прошло и совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоски и слезы…» «Все не то…» — вздохнул Денисов. Вмятина за контактной мачтой на полотне, метрах в четырехстах от трупа. Словно кто-то лежал там до снегопада. Как она образовалась? И эта бутылка «Бiле» в кювете… Девять проклятых вопросов: «Имеется ли убийство?», «Какие следы оставил преступник на трупе и какие могли остаться на преступнике?» А вот и не объясненное пока: «…В воскресенье для меня все кончится!..» — писал Горяинов. — Болотниковская улица, — объявил водитель. — Метро «Варшавская», платформа «Коломенское» Московской железной дороги… Денисов вышел, обдумывая внезапно пришедшую мысль. Он миновал управляемый не менее десятком светофоров перекресток, проходом между невыразительными корпусами обогнул здание военкомата. За военкоматом открылась поднятая метра на полтора над путями, пустая в этот час платформа «Коломенское», отрезанная с обеих сторон рельсами. От Москвы, изгибаясь, словно крупная мохнатая гусеница, шевеля щетиночками пантографов на крышах, неслышно приближалась электричка. Она была совсем близко, когда Денисов понял, что ему не надо терять времени на телефонные разговоры, а прямо сейчас, с этой электричкой, следует срочно ехать. Для этого необходимо успеть перебежать пути и вскочить на платформу. «У-у-у!» — загудела электричка. «Главное — четко! Не запнуться! И не спешить!» — на бегу мысленно приказал себе Денисов. Состав пролетел и остановился. Плечом и боком Денисов почувствовал жар миновавшей опасности, взбежал по лесенке на платформу. Холодный пот выступил под майкой. — Следующая остановка Чертаново… — объявило вагонное радио, когда Денисов стоял уже в тамбуре. «В соревновании с электричкой я на этот раз выиграл… Инспектор уголовного розыска обязан первенствовать», — он усмехнулся. Подъезжая к Чертанову, Денисов успокоился. За два прошедших дня на месте происшествия ничего не изменилось. Чернела частая сеть контактных проводов. Серый путепровод был по-прежнему пустынен и казался принадлежностью пейзажа, как голый лес по обеим сторонам путей. Денисов дошел до контактной мачты, о которой тогда же, на месте происшествия, поставил в известность следователя. Здесь все осталось почти таким же, как тогда. Только снег немного осыпался. Но вмятина, очертаниями напоминавшая человеческое тело, осталась, как и след волочения, соединявший вмятину с железнодорожным полотном. Денисов поднялся на путепровод. Наверху было ветрено и бесснежно. Зато внизу, у основания моста, намело сугробы, а кое-где обнажился промерзший, с блестящими перламутровыми раковинами, речной песок. Все здесь было осмотрено, учтено, описано. С путепровода Денисов свернул направо, в деревню, откуда в день осмотра донесся до него крик петуха. Инспектора уголовного розыска наверняка побывали и здесь, интересуясь обнаруженной на путях девушкой, о которой в деревне никто не знал. «Если то, о чем я думаю, подтвердится, это уже не будет иметь значения…» — подумал Денисов. За мостом, скрытая деревьями, открылась довольно большая деревенька, взбирающаяся окраинными избами и садами на невысокие увалы. Бездонной глубины тишина простиралась окрест. Денисов старался не думать, верна ли внезапно возникшая версия, которая привела его в эту деревню. «Волнуюсь, точно это мое первое самостоятельное дело, — подумал он. — Впрочем, «раскрытие одного преступления не дает никаких преимуществ в раскрытии следующего», — говаривал инспектор МУРа Кристинин, его первый наставник. Узкий незамерзающий ручей разделял деревню на две части. Денисов двинулся вправо, ближе к железной дороге и путепроводу. Из крайней избы его заметили: два женских лица — старое и молодое, — приникнув к оконному стеклу, смотрели на него с любопытством. Денисов открыл калитку. Тотчас откуда-то из-под крыльца вылетела, заливисто лая, кудлатая собачонка. — Ты хороший, — из вежливости сказал ей Денисов. Пес продолжал лаять и набрасываться, пока Денисов не поднялся на крыльцо и не постучал. В избе включили свет, открыли дверь. Денисов увидел девушку — она собиралась уходить, — пучеглазую, недовольную, в круглой зеленой шапочке. «Царевна-лягушка…» — мелькнуло в голове. Кроме девушки, в избе находилась ее мать, подслеповатое морщинистое лицо которой было выжидающим. Кто-то похрапывал за деревянной переборкой. Денисов снял шапку. — Я с железной дороги. Здравствуйте… Старуха кивнула, дочь сердито фыркнула — Денисов не показался ей с первого взгляда. — Парень у нас пропал. Третий день ищем, с ног сбились… — Третий день? — пожилая женщина приняла информацию сочувственно. — С воскресенья… — А какой он из себя? Денисов исходил из имеющихся непреложных фактов. Первый факт: никто не видел Горяинова в поезде здоровья послеотправления из Жилева; и второй: Бабичев десятого тоже приезжал сюда. — На вид лет девятнадцати, худощавый, веснушчатый. Зубы… — Денисов растопырил пальцы, показал — выдаются немного вперед… — Не было никого! — не дослушав, бросила «царевна-лягушка», отошла к зеркалу, мазнула по векам чем-то зеленым. — Может, вам к командировочным сходить? — предложила старуха. — У нас здесь рабочие из Посадов. В прогон за нашим домом и вправо. На работу их возят на машинах. Может, они его видели? Ты бы проводила, Лизавета. — Скажете тоже, мамк… — упрекнула от зеркала молодая. — Будто им парень нужен? А вы верите… Ходят, ищут дурней себя! — Был здесь такой… — Кряжистый мужичок в валенках, в телогрейке, наброшенной на плечи, часто закивал. — Молодой, высокий. Из себя занозистый. Куртка, костюм — все как ты говоришь. Сверху шапка не шапка, малахай не малахай. — Лыжная шапочка, — подсказал Денисов. — Пусть будет… Взошел, значит, сюда, точно, как ты, осмотрелся. «Убег, — говорит, — я! И скоро опять же начнут меня искать!..» «Вот оно!» — подумал Денисов. В прогон, который ему подсказала старуха, он так и не попал. Таинственным путем оказался в закутке, в самом конце села. В небольшой избе горел свет. Постучал. Дверь открыли не сразу; старик долго расспрашивал: кто, зачем? И вот результат. — …Смотрю, из себя ничего, ладный. «Один живешь?» — спрашивает. «Сыновья погибли, старуха померла. Спасибо, силенка покуда есть. Один живу, — я ему, значит. — Сам из каких краев будешь?» — «Московский», — он мне. — Мужичок выдерживал паузы, собирался с мыслями. — Хорошо… «Родители есть?» — «Есть!» — «А кто?» — Это я ему, значит. А он не ответил мне на это. — В какое время это было? — спросил Денисов. — В послеобед… Авдотьин на ферму прошел, рабочих еще не было. Один я во всем проулке. — Имя спросили? — Не сказал. Я было поинтересовался — не сказал. Только, мол, убег, скоро, значит, начнут искать. — Он умывался в избе? — Умывался… Я и полотенце дал. — Крови не видели? Царапин? — Про это не скажу. — Мужичок подумал. — Про это наш участковый Филат Андреич лучше скажет. — И участковый видел его?! — Ты слушай! «Садись, парень, — я ему говорю, — перекуси!» Картошку достал, тушенку. Нож у него как десантный, банку в момент вспорол. «Мне его накормить, — думаю, — чтоб в сон кинуло!» Порошку оставалось немного — омлет ему сделал, ложки четыре бухнул… «Тушенка, десантный нож, порошок… Непонятно!» — Уснул он, значит. Только захрапел — я за дверь! Денисов встал, прошелся по избе. На столике, в лукошке лежало десятка два свежих яиц: в яичном порошке не было никакой необходимости. — Да что долго рассказывать? — Старику показалось, что Денисов собирается уйти. — Из Москвы корреспондент приезжал!.. — Мужичок поднялся, пошарил у печки на полочке. — Вот, смотри! Денисов увидел медаль «За оборону Москвы», тускло блеснувшую на ладони. — Особо опасным преступником тот, в малахае, оказался… Выйдя из избы, Денисов повернул назад — отыскивать прогон, в котором жили командированные. В наступивших сумерках это оказалось непростым — он снова попал к дому «царевны-лягушки». Прогон в общежитие рабочих кирпичного завода был совсем рядом. В большой просторной избе царила неразбериха, обычная, когда мужчины в один и тот же час готовятся на работу, ложатся спать, обедают и собираются в клуб. — Автобус пришел! — крикнули от дверей. — Кто едет — потарапливайтесь! На Денисова в его куртке болонья не обратили внимания. Он подсел к единственному никуда не торопившемуся пареньку с усиками, нешумному, поглядывавшему вокруг философски спокойно и иронически. — Кто не успеет — доберется своим ходом… — успокоил философ. Сутолока в избе увеличилась. — Уж больно спешат на работу! Будто с собаками кто гонится. — Вот именно… — вставил Денисов. — «Семейный портрет в интерьере». — Что ж, помирать — все равно день терять… Парень-философ посмотрел на Денисова, видимо, остался доволен ответом. — Спят по-черному… — Денисов намеренно упрощал. Говорил обыденное, не задерживающее внимания. — «Воспоминания о будущем…» — Философ специализировался на названиях известных фильмов. Получалось неожиданно смешно. Сутолока в избе поуменьшилась, автобус, по-видимому, отправился. Денисов понял: «Пора! Иначе переборщу!..» — Друга ищу, — поделился он. — Здесь был где-то в деревне… — Давно? — В воскресенье. — Может, я видел? Какой из себя? — Парень пригладил усики. Денисов не выказал нетерпения: он еще вздохнул, провел руками по коленям. — Как столбы телеграфные гудят! Целый день хожу — все без проку… Росту он с меня, метр семьдесят восемь, в лыжном костюме. Шапка голубая… — С красным?! — перебил парень. — Костюм темно-синий?! Волосы светлые… — Светло-русые, — уточнил Денисов. Он не спешил поверить. — И веснушки вроде… — Ироничность, не оставлявшая парня-философа в течение разговора, внезапно пропала. — Мы видели его… Как раз на работу ехали, в воскресенье. Большую часть пути Денисов пробежал быстрой трусцой почти на одном дыхании. Он не вернулся в Михнево, предпочтя двигаться навстречу электричке, к Шугарову. Совсем стемнело. Ни один поезд не попадался навстречу. «Надо быстрее передать Бахметьеву разговор с посадскими… Эти сведения меняют все представления о происшедшем!» — думал на бегу Денисов. Скрипел снег. Морозное марево отходило назад, к Москве, оставляя Каширскую сторону черной. И когда из темноты выступили первые дома станции в Шугарове, они были почти уже по-ночному плоскими, как декорации. Наконец Денисов увидел вдали светящуюся точку и ускорил бег. Приближался поезд. Чувствуя, что все решат секунды, Денисов подбежал к платформе — оперся руками о нее, забросил ноги. Моторный вагон остановился с ним рядом. Денисов вскочил в первые двери. Они, по-гусиному шипя, сошлись за его спиной. Теперь можно было перевести дух. «Выйду из поезда и позвоню в отдел поближе к Москве. Там, где чаще электрички, где долго не придется ждать следующую…» В тамбуре было темно, несколько пассажиров курили по углам. Денисов не спешил в вагон, через маленький незамерзший глазок в стекле посмотрел в ночь. Черной тенью скользнул по стеклу огромный бетонный скелет путепровода. Справа осталась деревенька, общежитие кирпичного завода, паренек-философ, видевший Дмитрия Горяинова. Промелькнуло железобетонное основание контактной мачты, где был обнаружен труп. — Михнево, следующая станция Привалово, — объявило радио. Посадка в Михневе оказалась неожиданно большой. Денисова притиснули к двери кабины машинистов. Поверх чьей-то головы он смотрел, как с противоположного тамбура вваливаются в салон пассажиры, быстро разбирают свободные сиденья. Последние вошли в салон, когда поезд уже двигался. Денисов узнал всех: «Бабичев, Момот, Верховский и Ольга Горяинова…» На голове Верховского лихо сидела та же вышедшая из моды шляпа — с закрученными полями с боков. «Как у героев Брет-Гарта…» — подумал Денисов. Бабичев был в той же куртке, казалось, он так и не застегнул ее. Не разжимая губ, что-то бросил на ходу, обернувшись к Ольге Горяиновой. Та кивнула. Вожаки Компании держались подчеркнуто независимо, прошли через вагон и вышли в тамбур. Все четверо остановились в полуметре от Денисова. Он отвернулся. Ему было хорошо слышно тяжелое, с чуть уловимым хрипом дыхание Бабичева. Денисов старался не пропустить ни слова — о такой ситуации инспектору можно только мечтать! — «…Предчувствиям не верю, и примет я не боюсь», — как-то невыразительно забормотал Верховский: — Дальше плохо помню… «Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. Есть только явь и свет…» «И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком…» — Димке это выражение очень нравится, — сказала Ольга. — Он переписал его на обложку библиотечного учебника. Теперь до конца семестра лишится абонемента… — Чепуха! Я на свой возьму. — Бабичев отвернулся. «Компания не знает того, что теперь известно мне. О чем через несколько минут будет знать Бахметьев, — подумал Денисов. — Похоже, Бабичев пытается анализировать привязанности и настроения Димы Горяинова, так же как это недавно делал я сам…» По тому, как Компания внимательно слушала объявление остановок, Денисов понял, что выйдут они скоро. Момот даже пытался рассмотреть что-то сквозь замерзшее стекло. В Барыбине Компания вышла. «Зачем они приезжали? Может, тоже ходили по перегону? Искали?..» Денисов сошел с поезда в Домодедове, от дежурного по станции набрал номер телефона Бахметьева. — Говорит Денисов… — Он вспомнил, что весь день не давал о себе знать. — Ты где? — недовольно спросил Бахметьев. — В Домодедове… Горяинов нашелся! — Горяинов?! — Его подобрали там же на полотне… По ходу поезда он лежал первым. Помните вмятину рядом с мачтой? — Труп? — В бессознательном состоянии. Его нашли рабочие посадского кирпичного завода… — Интереснейшие сведения! — сказал кому-то Бахметьев. — Горяинов тоже лежал на путях. — Рабочие ехали на машине. Они его подобрали и увезли к себе в Посад, в больницу… — В такую даль?! — вырвалось у Бахметьева. Он включил дежурного. — Срочно закажите Посад, — приказал он. — Приемный покой больницы… Сейчас выезжаем туда. Вечернюю планерку отложить! До нашего возвращения никому не расходиться! Из дополнительного протокола допроса Гераскиной Елены, установочные данные в деле имеются… По существу заданных мне вопросов поясняю. Гитара принадлежала двум молодым людям, которые ехали в крайнем купе, от нас с другой стороны вагона, — Алику и Игорю. Алик был одет в ярко-красный свитер, Игорь — в светлую куртку. Дима во время поездки нервничал. Особенно после того, как Роза с Ольгой ушли за гитарой. Вопрос. Как долго отсутствовали девушки? Ответ. Минут десять. Как объяснила Роза, гитару им дали не сразу, сначала ребята сказали: «Девушки, попойте с нами! Нам скучно!» Они спели несколько песен вместе с Аликом и Игорем, после чего вернулись в купе. Вопрос. При каких обстоятельствах вы в поезде в последний раз видели Розу Анкудинову? Ответ. Розу в последний раз я видела в тамбуре. С ней стоял Алик, который давал гитару. Они о чем-то разговаривали. В это время рядом со мной сидел Дима Горяинов и тоже видел ее с Аликом. Он попросил меня позвать Розу в вагон. Диме не нравилось, как Роза себя вела. Он видел, что она «строила глазки» Алику. Дима даже сказал, что «смажет этому парню по физиономии». Я крикнула Розе: «Иди сюда!» Но она махнула рукой. После этого Горяинов тоже вышел в тамбур. Вопрос. Видели ли вы Алика, когда он возвращался из тамбура после того, как туда прошел Горяинов? Ответ. Не видела. Так как я в это время уже спала. Алика я увидела перед Москвой. Розы и Димы в это время в купе не было. Из протокола допроса Горяиновой Ольги, 21-го года, студентки Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова… …С катания мы вернулись минут за сорок до отправления поезда. Проводница открыла вагон, и мы вошли в купе, где оставались наши вещи. Уточняю: вместе со мной вернулись Момот Слава, Володя Верховский, Лева Розин, Виктор, фамилию его не знаю, и Плиний. Фамилию и имя также не знаю. Мой брат Горяинов Дима и его девушка Анкудинова Роза с нами не ездили, сначала катались на санках, а потом смотрели, как играют в зимний футбол. Дима был чем-то расстроен, это заметили все. Решили, что они с Розой «выясняли отношения». Анкудинову Розу я знаю как соседку, проживающую на Профсоюзной улице. Она моложе нас. Примерно год назад мой брат и его друзья — Слава Момот и Евгений Бабичев — пригласили ее в нашу компанию… На Розу в поезде обратили внимание два парня, которые ехали в нашем вагоне. Алик и Игорь. Ребята эти были старше моего брата, уже взрослые, и своим видом и одеждой выделялись среди туристов. Эти ребята играли в зимний футбол около поезда. Играли хорошо, и многие, в их числе Роза, никуда не пошли, предпочитая смотреть игру… В вагоне до отправления поезда из Жилева мы поели, потом стали петь песни, играть на гитаре. Кто из ребят пил вино, я не знаю. Я и Роза пили только «Байкал». На обратном пути я не видела, где ехали мой брат с Розой. Считала, что они курят в тамбуре. На половине пути в наше купе приходил Алик, чтобы взять свою гитару. Я обратила внимание на то, что красный свитер, который был на нем, разорван на плече по шву. Перед Москвой кто-то из наших ребят спросил: «Где Димка?» В это время поезд уже прибывал на станцию. Зная обидчивость брата, я решила, что Дима с Розой ушли в другой вагон… У брата характер резкий, горячий, его поступки иногда удивляют неожиданностью. Обидевшись, он вполне мог уйти в чем был, оставив пальто, вещи… — Полковник Бахметьев и следователь в больнице у Горяинова. — Колыхалова положила на стол довольно объемистую папку. — Само собой, ориентировка о розыске Горяинова отменяется, — сказала она. Инспектора, собравшиеся на вечернюю планерку, ждали. — Установлено, что он лежал ближе к дороге. Поэтому его заметили проезжавшие в автобусе рабочие кирпичного завода. Они занесли Горяинова в машину, отвезли в Посад, в больницу. — Ошибки нет? Это действительно Горяинов? — спросил кто-то. — С нами в больницу ездили его родители. Сейчас они тоже там… Состояние Дмитрия критическое, в сознание все еще не приходил. Обширные травмы внутренних органов, головы… — Что же посадская милиция? Почему не сообщили? — спросил Антон Сабодаш. — Такая деталь, товарищи… — Колыхалова подняла руку. Было слышно, как тяжело катят вагон за вагоном за окном по восьмому пути. — …У Горяинова на руке оказался браслет с фамилией Сергея Солдатенкова — парнишки из Крестов. Чуть не произошла беда! На браслете стояла группа крови Солдатенкова. Представляете, что могло произойти при переливании крови?! — Значит, вместо родителей Горяинова сообщили родителям Солдатенкова? — Именно! Но Солдатенковых нет, они уехали. Со дня на день должны вернуться. Денисов поднял руку: — Что обнаружено в одежде Горяинова? Колыхалова раскрыла лежавшую на столе папку. — Конспект по экономике производства… Единый проездной билет, ключ. Ничего существенного. — Она перелистала конспект. — «Япония — 4, Франция — 9, 5, Австралия — 7, 5… в пересчете на годовой рост розничных цен… По свидетельству журнала английских деловых кругов…» — Ключ от дома? — спросили ее. — Не думаю. Родители ключ не опознали. — А насчет браслета Солдатенкова? — Горяиновы его видели впервые. Из протокола допроса Шемета Валентина Андреевича, 72-х лет, персонального пенсионера… Вопрос. Отметили ли вы что-нибудь странное в поведении Турандина и его товарища по возвращении их с прогулки? Ответ. Ничего особенного в их поведении я не отметил. Турандин по характеру немногословен, несколько резок в обращении. Таким он был и в этот раз, когда вернулся с прогулки. Турандин попросил у меня иголку и красную нитку, зашил свитер, который расползся по шву на плече. Товарищ Турандина в это время читал книгу. Вопрос. Сказали они вам о том, что собираются уезжать? Ответ. Их отъезд был для меня неожиданностью, поскольку заранее Турандин меня об этом не предупредил. Вопрос. Куда выехали Турандин и его товарищ? Ответ. Об этом мне неизвестно.ТЕЛЕГРАММА. Начальнику отдела милиции на станции Москва-Астраханская — Турандин Александр Васильевич (Алик) работает тренером по боксу ДСО «Трудовые резервы» с января прошлого года. В настоящее время находится в очередном отпуске в городе Москве. Вместе с Турандиным может находиться тренер ДСО по зимним видам спорта Савиновский Игорь Львович. Фотографии высылаю с бригадиром поезда — начальник отделения уголовного розыска Инты.(подпись)
СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
Денисов приехал на вокзал затемно. Не проснувшимся еще центральным залом прошел к лестнице на антресоли. Торговали буфеты, звенели зуммеры автоматических камер хранения. Каждый второй, входивший в зал, направлялся к суточным кассам, где прямо на глазах росла по-утреннему неразговорчивая, нетерпеливая очередь. Сложной цепью переходов Денисов прошел в дежурку. Здесь готовились к сдаче смены. Из всех открытых форточек клубами валил морозный воздух. «Проветрено и даже прохладно, как в кабинете фтизиатра…» — подумал Денисов. В кресле у коммутатора оперативной связи сидел помощник, самого дежурного не было. — А где сам? — спросил Денисов. — Умывается… — Новости есть? — Звонили, — помощник полез в черновую книгу, — Шемет… — Валентин Андреевич? Помощник снова сверился с записями. Работа в дежурной части требовала абсолютной точности. — Да. Ему, в свою очередь, звонил… Турандин Александр Васильевич… Из Кишинева, гостиница «Молдова». Турандин извинился за то, что уехал, не поблагодарив. Опаздывал, сказал, на самолет. Осведомился у Шемета, все ли в порядке. — Это очень важно! — Денисов сразу почувствовал себя легко. — И вы? — Приняли меры… — Помощник не позволил себе ответить по памяти, заглянул в записи. — Доложили руководству, передали телефонограмму в управление уголовного розыска Молдавии. Об установлении и допросе Турандина… — Отлично! Денисов поднялся к себе. Повсюду горел свет. Шары абажуров отражались в стрельчатых окнах. В кабинете возилась с щеткой уборщица. У дверей Денисов увидел Горяинова-старшего, в руке он держал незажженную сигарету. — Ко мне? — спросил Денисов. — И сам не знаю… Сказали — в одиннадцатый кабинет. С таким трудом бросил курить! Не поверите. Казалось: чуть что — сразу закурю, не выдержу. А сейчас сын на грани жизни и смерти, а я не могу в рот взять. Понимаете? Уборщица, захватив с собой корзину для бумаг, ушла. Денисов снял пальто, подошел к столу, увидел вчерашний план-задание, который он не выполнил, встретив на Профсоюзной Бабичева с собакой. Задание называлось: «Володя Верховский». — А тут еще милиция в Крестах. — Горяинов вздохнул. — Вежлива, но настойчива! — В чем там дело? — спросил Денисов. — Просят раскрыть им кражу икон с дачи. Денисов удивился: — Вы в состоянии?! — Я же там всех до одного знаю!.. — Горяинов прошелся по кабинету — приземистый, с землистого цвета лицом. — К черту! Разве у меня иконы в голове? Или мои деревенские соседи? Или Серега Солдатенков? Я спрашиваю себя: до чего нужно дойти, чтобы скинуть человека с поезда?! И кто делает? Друзья! — Друзья? — Или не без их участия! Бабичев, Женька, Момот… Они ведь избили его однажды. Так отделали… Не знали? В дверях показалась Колыхалова. — Доброе утро. Кто избил? — Бабичев и Момот… И в этот раз, в поезде! — От кого эти сведения? — спросила Колыхалова: у полковника Горяинова мог быть свой источник информации. — От Ольги! Под большим секретом. Славка ударил, наш ответил. Видели у Момота наклейку на брови? Я еще в первый раз заметил… — Из-за чего подрались? — Разве скажут! — Нам стало известно, что в поезде с ними ехали двое… Один из них боксер, — сказала Колыхалова, доставая из сумочки пачку «Мальборо». — Мы их разыскиваем сейчас. Между обеими компаниями в вагоне возникла напряженность. — Колыхалова не могла выразиться определеннее, не разглашая тайны следствия. — Значит, вы подозреваете… — сказал Горяинов. — Именно. — Я считал, что все случившееся связано с Компанией… У них что-то произошло, я чувствовал. Где, например, Димка был в пятницу? Вернулся он в час ночи. Момот дважды звонил, Плиний. Чтобы Димка не сказал ребятам, куда поехал? Куда уходит? Чудеса! — Горяинов вздохнул. — Вы пробыли у сына всю ночь? — спросила Колыхалова. — Я, жена и следователь. Он, наверное, и сейчас там. Глаз не сомкнул. Этой ночью жена опять поедет или Ольга. — Горяинов покачал головой. — А тут еще Крестовская милиция: «Кто из друзей Димы и Ольги приезжал на дачу?», «У кого из них есть собака?» — Полагают, кражу совершил кто-то знакомый с обстановкой? — спросил Денисов. Он обратил внимание: Горяинов снова перевел разговор на Компанию. Полковник не принял эту версию о причастности к происшедшему посторонних. — В основном их беспокоит один из приятелей Димы — Верховский… — Горяинов помолчал. — Мне и самому не понятно: юрист, много старше… Какой ему с ними интерес? — Верховский говорил с вами об иконах? — спросил Денисов. — В открытую. Просил: «Если будете продавать, поставьте меня в известность…» Это он надоумил насчет музея Андрея Рублева: свозите, мол, чтоб знать ценность… Странный парень. — Горяинов посмотрел на Колыхалову. — И взгляд какой-то тяжелый, неприятный. — Дима бывал у него? — И Дима и Ольга. Они там днюют и ночуют. По-моему, Верховский нравится Ольге. Не хотелось бы, конечно, в это верить. — Он приезжал к вам на дачу с Димой? — Однажды был и один. Племянник Николай рассказывал. — Горяинов подумал. — «Сидим, — говорит, — с женой, видим, юрист подходит к даче. «Как попал, Володя?» — спрашиваю. «Погода хорошая, решил приехать. Думал, Дима здесь». — Никто из приятелей Димы не просил ключ от дачи? В частности, Верховский? — Меня уже спрашивал об этом следователь. — Горяинов покачал головой. — Замок у нас немецкий, привез из Роцлау. Ключ подобрать трудно… Может, у Николая ключ пропадал? В магазине «Мясо» у него кто-нибудь… Допрос Бабичева был записан на видеомагнитофон. Эксперт включил запись, сел за портативную пишущую машинку в углу — он печатал заключение. — Только уважая тебя, Денисов… — Эксперт рывком передвинул закладку. — Ну, я отключаюсь… На экране видеомагнитофона Бабичев, как и в жизни, был спокоен и холоден, через плечо следователя посматривал в окно — на перрон, где шла посадка. Следователю перрон не был виден, он сидел спиной к окну, хмурый, сосредоточенный. Видеозапись была сделана накануне, до того, как Денисов установил местонахождение Дмитрия Горяинова. — В каких отношениях вы находились с Димой? — спросил следователь. — В приятельских. — Бывали у вас ссоры? — Было всякое, — сказал Бабичев. — Иногда заканчивались дракой? Оператор, он же эксперт, лихо отстукивавший на машинке, отступал от строгих правил ведения процессуальной съемки, оживлял кадр. Фоном для допроса Бабичева служил перрон, толчея у последних вагонов электропоезда. Денисов подумал, что эксперт, человек с весьма острым чувством обстановки, намеренно снимал все, что видел Бабичев, обдумывая ответ следователю. — Помните случай? К вам в дом пришли подростки, вы их сразу не впустили? — спросил следователь. — А когда открыли, из вашей квартиры выбежал Горяинов. Рубашка у него была в крови… — Слава Момот демонстрировал ему приемы карате… — пояснил Бабичев. — А в поезде здоровья? — Не демонстрировал. — Будьте точны. Показания записываются на видеомагнитофон, будут приобщены к делу в качестве вещественного доказательства, — предупредил следователь. — Знаю. — Бабичев сидел в куртке, в которой Денисов видел его гулявшим во дворе с эрделем. — В поезде была символическая пощечина, но Горяинов обиделся, ударил чем-то. Повредил Славке бровь… Потом они помирились. — Это произошло на обратном пути из Жилева? — Когда ехали из Москвы… На экране снова возникла платформа. Группа подростков стояла у последнего вагона электрички. — Момот сказал Диме: «Ты ведешь себя как последний дурак!» — Что он имел в виду? — Не порть настроение Компании! — Точнее. — Вам же известие! Роза, видимо, сказала… «Они ничего не знают!..» — понял Денисов. Ловушка с больницей, придуманная ККК, действовала. — …Димка обиделся. Настроение было испорчено. Вы же знаете! Следователь на экране только повел бровью. Вопрос, который он задал, не имел отношения к делу: — Горяинов и Анкудинова… Им, наверное, было трудно на людях? На этот вопрос Бабичев неожиданно ответил охотно и очень искренно: — Люди, знаете, делятся на тех, кто в компании пляшет, и на тех, кто читает стихи. И вот тот, кто пляшет, стесняется за того, кто читает стихи, хоть и любит его. — Вы невысокого мнения об Анкудиновой… — Напротив! Однажды при мне она смотрела с Автозаводского моста. Шел пароходик. И показала: «Там пристань!» И точно. Понимаете? Догадалась по следу на воде. — Бабичев обобщил: — Главное — природный ум. То есть ум минус эрудиция. Согласны? Следователь уклонился от ответа. — По-вашему, Роза знала о краже икон на даче Горяиновых? — неожиданно спросил он. — При чем тут иконы? — Бабичев внимательно посмотрел на следователя. — Знала или нет? — Не имею понятия. — А вы? — Об иконах мне стало известно значительно позже… Бабичев замолчал. Следователю так и не удалось вызвать его на откровенность. Оператор снова показал перрон, группу подростков, вокзальную суету — все, что видел в этот момент Бабичев. Сбоку, рядом с подростками, Денисов заметил собаку. — Кто вам сказал о краже? — спросил следователь. — Горяинов Николай… Племянник полковника Горяинова. — Он звонил? — Звонил я, искал Диму. — Когда? — В понедельник вечером… — В какой момент вы в последний раз видели Горяинова и Анкудинову в поезде? — Это было недалеко от Жилева. Верховский Володя вышел в тамбур, дверь была открыта. В тамбуре стояли Дима и Роза. — Потом? — Володя вернулся за магнитофоном, закрыл за собой дверь. — Он вез магнитофон? — Да. — Видели вы Анкудинову и Горяинова после этого? — Нет. Следователю оставалось задать лишь несколько контрольных вопросов. — Выходил ли после Верховского кто-нибудь еще в тамбур? В частности, выходил ли после него мужчина в красном свитере, который давал девушкам гитару? — Алик? — Вы знаете его? — Не знаю. Девушки сказали… Кажется, после Володи Алик не выходил в тамбур. — Кажется или точно не выходил? Это очень важно. — По-моему, не выходил… Денисову предстояло еще немало дел — магазин «Мясо», поездка к Верховскому. Он отключил видеомагнитофон. Эксперт закончил печатать заключение, сложил бумаги и тоже собирался уходить. — Как? — спросил эксперт. — Впечатляет? — И сильно. — Денисов показал на клавиши: — Обратная перемотка здесь? — Здесь. Что тебя интересует? — Вид из следственного кабинета на перрон. Сейчас промелькнул. На экране возникла знакомая обстановка отправления пригородных поездов. Был вторник, и у торца платформ уже выстраивались контролеры-ревизоры с их добровольными помощниками для отлова потенциальных безбилетников. При желании Денисов мог бы воспроизвести все, что кричал в мегафон полный, в нахлобученной на самые уши папахе ревизор: — Граждане пассажиры! Предъявляйте билеты общественному контролю… Повторяю… «Почему общественному? — подумал Денисов. — Как известно, все они на зарплате и на проценте…» Но сейчас его интересовали стоящие на платформе подростки с эрдельтерьером. «Они ждали Бабичева… — понял Денисов. — И после его допроса старшие уехали в Михнево, а младшие куда-то еще». Магазин «Мясо», которым руководил Николай Горяинов, Денисов увидел сразу, неподалеку от метро. Магазин занимал первый этаж небольшого дома довоенной постройки. Шофер въехал на стоянку для служебных машин, остановился под самыми окнами магазина, рядом с узким тротуарчиком. Денисов и Сабодаш прошли в магазин, где несколько покупательниц терпеливо пережидали друг друга, чтобы остаться с продавщицей наедине. За скучной витриной прилавка не было ничего соблазнительного. — Хозяйство скромное, но аккуратное, — заметил Антон. Денисов кивнул. — На первое или на второе, мужчины? — продавщица мгновенно распознала в Денисове и Антоне нестандартных покупателей. При них не было даже портфелей. — Хорошего, правда, пока ничего нет… — Обидно, — сказал Антон. Перед ними на стене висело изображение коровьей туши с обозначенными пунктиром линиями разруба и указателями сортности. — Может, подвезут… Заходите к вечеру. Денисов подошел к внутреннему коридору, слева была обитая черным дерматином дверь в кабинет директора, справа — лестница в подвал. — Сам-то где? — Денисов кивнул на дверь. Продавщица оставила покупательниц, вышла из-за прилавка. Через наружную витрину ей была хорошо видна стоявшая у тротуара служебная машина с антенной на крыше. — Вам Николая Борисовича? — Она заволновалась. — Разве он не там? — Дверь заперта. — Может, в подвале? Николай Борисович! — крикнула продавщица в проем лестницы. Послышались легкие шажки. На лестнице неожиданно появился маленький мальчик лет восьми в джинсах «Ли купер», цветных подтяжках, с нотной папкой. — Уехал папа, — сказал он. — Куда? Не сказал? — спросила продавщица. — Позвонили. «Если ты так настаиваешь, Володя, — сказал папа, — мы можем встретиться прямо сейчас. Хотя это смешно, то, что ты сказал…» — Мальчик умница… — Продавщица досадливо улыбнулась. — Головка золотая. А фантазер! Чего только не нафантазирует! — Она заговорщицки мигнула: — Вот что… Мы сейчас телятинки поищем. Кажется, немного осталось… Парной…Из протокола дополнительного допроса Горяиновой Ольги, установочные данные имеются…
Вопрос. Когда вы в последний раз были на даче в Крестах? Ответ. Мы приезжали туда неделю назад с мамой. Там было все в порядке. Вопрос. Видели ли вы на столе предъявленный вам следователем для опознания лист ватмана с записью карандашом: «Мы будем здесь еще не один световой год» и т. д.? Ответ. Указанный лист ватмана я видела, однако никакой записи на нем не было. Вопрос. Кто еще приезжал на дачу после вас? Ответ. После нас с мамой в Кресты никто не ездил. Вопрос. Скажите: у кого из членов вашей семьи имеется ключ от дачи? Ответ. У нас один ключ. Им распоряжаются родители. Припоминаю, что брат как-то разговаривал со своими друзьями из Компании о том, что ему нужен ключ. Какой — не сказал. И больше при мне разговора о ключе не было. Вопрос. Кто из Компании мог слышать разговор о ключе? Ответ. Только Володя Верховский. Вопрос. Как давно Верховский появился в Компании? Ответ. Примерно год назад. В одно время с Анкудиновой. Анкудинова и Верховский живут в одном доме и подъезде, на одной лестничной клетке. Вопрос. Как вы можете охарактеризовать его? Ответ. Володю? Хороший товарищ… Вопрос. Что вы под этим понимаете? Ответ. Умеет слушать. Никогда никого не высмеивает. Ребята ему все о себе рассказывают. Уступчивый. Я имею в виду — мягкий. Вопрос. Какие отношения у Верховского с вашим братом? Ответ. Как со всеми. Нормальные. Вопрос. Не было между ними какого-нибудь соперничества? Ответ. По-моему, нет. Брат часто встречался с Верховским. Летом мы должны были вместе спускаться на плотах по Онеге. Вопрос. В поисках предметов древнего искусства? Ответ. Да. Мы хотели начать со Свиди и через озера Воже и Лаче попасть в Каргополь. Вопрос. Знал ли Верховский о стоимости икон, находившихся на даче в Крестах? То есть знал ли он об оценке стоимости икон, произведенной сотрудниками музея Андрея Рублева? Ответ. Володя был в курсе всего. Вопрос. Кого из ребят, участвовавших в воскресной поездке, вы видели в субботу и в пятницу? Ответ. Никого. В эти дни мы не встречались. Мой брат тоже отсутствовал. Вопрос. Вам предъявляется ключ, обнаруженный в одежде вашего брата Горяинова Дмитрия в больнице. Видели ли вы этот ключ раньше? Ответ. Этот ключ я прежде никогда не видела. Он не похож на ключи, которыми пользуется наша семья. С моих слов записано верно и мною лично прочитано.Из протокола допроса Горяинова Николая Борисовича, 29-ти лет, директора магазина «Мясо» № 83 райпищеторга…Горяинова.
…О краже я узнал со слов жены, приезжавшей в воскресенье, 8 февраля, на дачу. Жена обратила внимание на то, что дверь в дом со стороны крытого двора отжата, имеется доступ в помещение. Видя это, она попросила соседей забить дверь, а сама заехала в районное отделение милиции и заявила о краже. На следующий день утром я приехал на дачу и принял участие в осмотре, который произвели работники милиции. Они сказали, что в дачу попали с двух сторон и, кроме того, один из взломщиков с собакой стоял около забора. Вопрос. Кого вы подозреваете в совершении кражи? Вел ли до этого с вами разговор кто-либо об иконах? Делались ли попытки купить иконы или обменять их? Ответ. Об иконах со мной разговаривали несколько человек из числа друзей моего двоюродного брата — Горяинова Дмитрия. Вопрос. Кто именно? Ответ. Верховский Владимир и Бабичев Евгений. Оба собирались ехать на Север, чтобы заняться поиском икон в брошенных деревнях. Верховский старше моего двоюродного брата и имеет на него большое и не всегда положительное влияние, как и Бабичев. У обоих часто не бывает денег. Дмитрий водит их в кафе, в пивной бар. За них расплачивается. Вопрос. Откуда ваш брат брал деньги на это? Ответ. По моим сведениям, деньги ему дает мать, но так, чтобы дядя об этом не знал. Вопрос. Что именно говорили вам об иконах Верховский и Бабичев? Ответ. Верховский настойчиво интересовался, не собираюсь ли я продать иконы. Вопрос. Он советовал продать? Ответ. Наоборот, этого не делать. Оставить все как есть. И не увозить их из Крестов. Вопрос. Кто еще присутствовал при этом разговоре? Ответ. Разговор состоялся на даче в Крестах. При разговоре могли присутствовать друзья Дмитрия и сосед по даче Солдатенков. — Следствие ставит в известность о том, что в случае если преступники предложат выкупить у них похищенные иконы, вам надлежит немедленно сообщить об этом в милицию. — Если мне позвонят, я сразу же свяжусь с вами.…Лавина машин катила сзади, с площади Гагарина, словно увлекая за собой весь столичный транспорт. — К Верховскому! На Профсоюзной поток машин резко снизился, а скорость их, наоборот, возросла. Мелькнул небольшой овраг на правой стороне, зеленые шторы магазина «Березка». — Позвони, когда будешь выезжать с Профсоюзной в отдел, — сказал Антон. — Может, встретимся. Денисов кивнул, достал блокнот: «Что я записал о Верховском?» «Верховский Володя, юрисконсульт. Шляпа, как у героев Брет Гарта. Живет с бабушкой». Негусто! На страничке шли записи, сделанные в Крестах. Денисов тоже пробежал их: «…Какие только мысли не лезли в голову за эти десять минут, пока она не появилась…», «Мы еще будем здесь не один световой год, спасибо…» — надпись на ватмане. Машина затормозила рядом с подземным переходом. — Счастливо, — сказал Антон. — Погнали… На этот раз Денисов вошел во двор, убедившись, что не наткнется неожиданно ни на Бабичева, ни на другого члена Компании. Во дворе степенно прогуливались пожилые женщины с колясками. Денисов нашел нужный подъезд, поднялся по лестнице. Здесь… Дверь открыла старушка, круглая, похожая на грибок. Седая голова ее мелко тряслась. — Проходите. Здравствуйте… Вы к Володе? — голос ее тоже вибрировал. Она закрыла за ним дверь. — Только знаете, Володи нет. Он был дома. Еще немного, и вы бы его застали!.. — Он не сказал, куда едет? — К другу… А к кому, не сказал! Будто у него один друг! — Я, собственно, по поводу книг. Из библиотеки. — Предлог был продуман еще накануне. Денисову было не о чем беспокоиться. — «Загадка медного свитка» и «Двенадцать цезарей» Гая Светония Транквилла. — Сколько я напоминала! «Завтра, бабушка, да завтра!» Вот и дождался! Денисов огляделся. Две изолированные комнаты, шкаф с одеждой, тумбочка. Справа кухня. На стене против входной двери овальное зеркало, увеличенная фотография Верховского в пальто с поднятым воротником, в шляпе, с сигаретой в зубах. — Это Володя? — Да… — Она посмотрела на Денисова. — Может, чайку? Мы с Муркой как раз заварили… Денисов увидел под стулом в кухне ангорскую кошку — злой красноватый глаз. — Раздевайтесь! — старушка уже хлопотала у стола. — С вишневым или абрикосовым? Малиновое варенье я не предлагаю, потому что вам опять на улицу! — Какая у него странная шляпа! — глядя на фотографию, сказал Денисов. — Знаете, как он ее называет? «Шериф». Девочка, соседка по лестничной клетке, придумала. — Анкудинова? — Вы знаете Розу? — Тоже наша читательница. — Я считаю, если взрослый мужчина носит такую шляпу, значит, у него затянувшееся детство. А как вы думаете? — старушка засмеялась. — И Роза со мной согласна. А Володя говорит: «Эта шляпа «шериф» способствует моей индивидуальности!» У него все способствует индивидуальности… Новый год встречал где-то на вокзале с первым встречным — тоже. Между нами говоря, Роза ему нравится. Я бы сказала даже, что он любит ее… Только… — Она посмотрела на Денисова. — Никому ни слова!.. — успокоил он. — Стоит намекнуть, сразу шум, крик! «Я на десять лет старше». — Старушка застыла с чайником. — Разве это много?! Он говорит: «Ты бы знала, бабушка, какие у нее всегда горячие руки…» Как будто я не понимаю! — А как Роза Анкудинова к нему относится? — Девушки все чувствуют… — Его любовь безответна? — Не знаю. Роза говорит: впереди у каждого из них еще несколько световых лет… «Световых лет…» — вспомнил Денисов запись. Старушка вдруг погрустнела. — Володя очень переменился в последнее время. Я его таким не помню… Сейчас совсем дома не бывает!.. — Она вздохнула. — А если бывает дома, ляжет на диван и молчит… Один Володя ваш должник? — Горяиновы тоже… — Если бы зашли вчера, застали бы Ольгу… — У меня значится и Дмитрий Горяинов. — Это ее брат. Дня четыре назад приходил… Вы не знаете, как Ольге тяжело дома! Отец… Большой деспот, — старушка отставила блюдце. — Мы, взрослые, думаем часто, что стараемся для семьи: машина, дача, сберкнижка… Дескать, все это нашим детям. На самом деле для себя. Детям это не нужно. Поверьте. — Вы разрешите позвонить от вас? — спросил Денисов. — Пожалуйста… Телефон у Володи в комнате. Денисов прошел в комнату Верховского. Напротив, у окна, стоял письменный стол, над книжными полками висело несколько икон, на журнальном столике стоял телефон. Рядом лежал открытый блокнот с записанным поперек листа семизначным номером. Денисов переписал его в блокнот. Набирая номер Колыхаловой, Денисов рассматривал иконы. Названий их он не знал, заметил только желобки-«ковчеги», словно рамки, отделяющие изображения. «Ковчег» указывал на возраст. На письменном столе лежала фотография Анкудиновой — Денисов легко узнавал ее по прическе, чуть расширенному переносью, трагическому излому безгубого в уголках рта. Трубку сняла Колыхалова. — Ты где? — спросила она. — У Верховского. — Денисов продолжал осматривать комнату. — Никто не звонил? — Из Кишинева, из управления уголовного розыска. Турандина допросили. «Не видел», «не знаю»… Видимо, придется выезжать в командировку. Или везти сюда. Вечером планерка. — А что в Посадах? — Горяинов в сознание не приходил. Следователь пока там… Кира продолжала говорить, а Денисов заинтересованно смотрел в блокнот Верховского. «Знакомый телефон…» — Уже уходите? — спросила старушка. — Да. Спасибо за варенье, за беседу. На лестнице Денисов остановился, словно налетел на невидимую преграду. «Это же телефон магазина «Мясо», где работает Николай Горяинов! — Он вдруг представил мальчика с нотной папкой, в джинсах «Ли купер», цветных подтяжках, вспомнил тонкий детский голосок: «Если ты так настаиваешь, Володя, мы можем встретиться прямо сейчас. Хотя это смешно, то, что ты сказал…» «Не Верховский ли Володя позвонил в магазин и попросил о срочной встрече? — подумал вдруг Денисов. — Но зачем?»
Из протокола допроса Турандина Александра Васильевича, 28-ми лет, город Инта, тренера ДСО «Трудовые резервы»…
… По существу заданных вопросов поясняю: Будучи в очередном отпуске, с 6 по 8 февраля находился в Москве имеете со своим товарищем по работе Савиновским Игорем Львовичем. Останавливались у старого друга моего отца Шемета Валентина Андреевича. Вопрос. Выезжали ли вы, будучи в Москве, с Савиновским И. Л. в поезде здоровья на станцию Жилево на лыжную прогулку? Ответ. Действительно, через знакомого Шемету инструктора по туризму, достали путевку, 8 февраля я и Савиновский И. Л. выезжали с поездом здоровья на станцию Жилево. Поскольку лыж мы с собою не взяли, то, прибыв на место, с другими туристами играли в мини-футбол. Вопрос. Как вы были одеты во время лыжной прогулки? Ответ. На мне был ярко-красный свитер, лыжные брюки, синие с белой полосой, лыжная шапочка белого цвета. Савиновский И.Л. был в куртке светлого цвета и синем лыжном костюме. Вопрос. Была ли у вас с собою гитара? Кто в пути следования просил ее у вас? Ответ. Была. В пути следования к нам заходили девушки Ольга и Роза, ехавшие со своими сверстниками в крайнем купе с противоположной стороны вагона. Девушки унесли гитару к себе, и она находилась у них до приезда в Жилево, после чего они гитару вернули. На обратном пути они снова брали гитару, но не вернули ее, и я принужден был сходить за гитарой в их купе. Вопрос. Стояли ли вы в тамбуре с девушкой по имени Роза? О чем у вас был разговор? Ответ. Я действительно выходил курить в тамбур в то время, когда там находилась Роза. Она тоже курила. О чем мы говорили, я не помню, потому что не придал значения разговору. Вопрос. Не заметили ли вы какого-нибудь проявления неприязни к вам со стороны попутчиков Розы? Ответ. Я заметил, что ребята недовольны чем-то. Но причину недовольства так и не узнал, тем более что они, по-моему, перед этим передрались между собой. Один другому разбил бровь. Вопрос. Вы оставалисьтакже в тамбуре вместе с Розой и ее попутчиком втроем? Какой у вас состоялся разговор? Ответ. Не помню. Если Роза или ее попутчик смогут мне напомнить его содержание, возможно, я смогу дополнить ответ… Вопрос. При каких обстоятельствах у вас оказался распоротым свитер? Ответ. Это произошло в Жилеве во время игры в футбол… Из протокола допроса эксперта по поводу заключения трассологической экспертизы. Вопрос. Возможно ли открывание исследуемого дверного замка на даче Горяиновых предлагаемым ключом, обнаруженным в одежде Горяинова Дмитрия? Ответ. Учитывая имеющийся в скважине каждого замка люфт ключа, а также люфт стойки для ключа в сувальдных замках, возможно отпирание замка многими ключами, размеры бороздок которых будут находиться в пределах, указанных на схемах. Применительно к данному конкретному случаю считаю, что, поскольку параметры обнаруженного в одежде Горяинова Дмитрия ключа не выходят из приведенных пределов, открывание исследуемого замка представленным экспертизе ключом вполне возможно, что и было осуществлено в условиях лаборатории. Вопрос. Каким образом и чем был осуществлен отжим двери крытого двора дачи Горяиновых? Ответ. При наличии на запорной планке отчетливых динамических следов орудия взлома типа ломика следует считать, что отжим двери осуществлен указанным орудием взлома. При наличии подобного ломика у подозреваемых возможно установление соответствия выступающих элементов орудия динамическим следам, оставленным на запорной планке. Вопрос. Какова давность оставления динамических следов на запорной планке? Ответ. Давность оставления указанных следов порядка двух дней, то есть примерно 6 февраля сего года.— …Мыслю: Горяинов не мог выбросить из вагона Анкудинову, как мы раньше предполагали, — сказал Бахметьев, — поскольку по ходу поезда здоровья он лежал первым. Это аксиома. Все другое в области гипотез… Бахметьев собрал инспекторский состав в классе службы, здесь было просторнее. Сюда же перенесли из его кабинета черную школьную доску с вычерченным на ней планом дачи Горяиновых. Рядом с магнитофоном лежало наготове несколько кассет, при необходимости можно было в любую минуту воспроизвести наиболее существенные показания свидетелей. За столами сидели все, кто участвовал в расследовании обстоятельств гибели Анкудиновой. Ждали следователя. Окончательное слово так или иначе оставалось за прокуратурой. — …Начну с дневниковой записи Горяинова, поскольку это наиболее объективное свидетельство. Вряд ли Горяинов был причастен к нападению на себя. — Бахметьев был серьезен, почти торжествен. «Это, пожалуй, первое большое дело Бахметьева, после того как его перевели к нам, — подумал Денисов. — Дела ОБХСС в счет не идут…» Полковник перелистнул несколько страниц розыскного тома: — …Вот! «Все закрутилось после шестого февраля!» — писал Дмитрий Горяинов. Случай же в поезде здоровья имел место восьмого февраля. — Бахметьев обвел глазами сидевших в классе. — Два дня! С ними мы еще не раз встретимся… — Он взял в руки протокол допроса. — Анкудинов-отчим: «Мне показалось, она была чем-то расстроена. Особенно в пятницу и субботу». Так… В последние два дня… А это Ольга: «Последние два дня я никого не видела, мой брат отсутствовал…» Что произошло шестого? Инспектора сидели молча. — Исчерпывающий ответ дает трассологическая экспертиза следов, оставленных на запорной планке в даче Горяиновых, — продолжил Бахметьев. — В этот день была совершена кража икон на даче Горяиновых. Судя по обстоятельствам, неизвестные проникли в помещение, которое хорошо знали. В углу, где висели иконы, не нашли ни одной спички. Обнаружили две, и те лежали на подоконнике. Итак, — он подытожил, — все свидетельствует о каких-то событиях, происшедших в пятницу, и это совпадает с днем кражи икон в Крестах. А теперь позвольте мне зайти с другой стороны и поставить вопрос так: не было ли внутри Компании тайного соперничества? Только ли Дмитрий Горяинов испытывал сильное чувство к Анкудиновой? Мыслю: не пересекались ли в поезде здоровья линия «Анкудинова — Горяинов» с линией «Верховский — Анкудинова»? «Знает ли Бахметьев шахматную историю противолежащих полей? — подумал Денисов. — В пешечном окончании короли могут занимать только определенные поля, чтобы не подпустить короля противника к своим пешкам». В построении Бахметьева чувствовался безжалостный подход теоретика. — Роза не любила Горяинова… — Бахметьев приложил к глазу чистый платок, нагнулся над столом, прочитал: — «Ты сказала: «Наверное, все-таки не люблю. Привычка…» Она, как видите, была откровенна с ним. «Я закрыл лицо…» Так! «Тебе плохо, — сказала ты. — Тебе морально важно услышать «люблю»? — «Я завишу от слов», — ответил я…» По-моему, тут все ясно… Теперь, кто такой Верховский? Намного старше всех, неудачник. Его тяга к этим ребятам настораживает, как и его шляпа. Чудаковат, экстравагантен, зол. Принимает все, что «содействует его индивидуальности». Почему именно он организовал поездку, купил путевки? Наконец… — Бахметьев был полон решимости защищать свой пешечный строй. — Обратите внимание на показания Бабичева. Когда Верховский входил в тамбур, Анкудинова и Горяинов стояли там. После возвращения его в вагон Бабичев их уже не видел. — Центр компании — Бабичев, — сидевший напротив Бахметьева Антон Сабодаш заметил неуверенно. — Он ее мозг… Без него ничего не происходило. Замечание Сабодаша вызвало возражение Колыхаловой: — Почему мы отходим от показаний Алика, товарищ полковник? Только подумайте! Турандина спросили, о чем он разговаривал в тамбуре, оставшись наедине с Розой Анкудиновой и Горяиновым? С теми, кто после этого оказался без сознания на путях… А Тур ан дин ответил: «Не помню. Если кто-то из них напомнит мне содержание разговора, возможно, я смогу дополнить ответ…» Разве не ясно? Он уверен, что никто из них никогда не сможет напомнить!.. Два инспектора поддержали ККК: — Удар у такого, конечно, страшный! — И тут же оба уехали… Поэтому и засада в Видновской больнице не сработала. — Вспомните показания Бабичева, — возразил им Антон. — Последним в тамбур выходил именно Верховский, а не Турандин! — Что ты скажешь, Денисов? — спросил Бахметьев. — Дело такого рода… — Денисов не знал, как лучше начать. — Я думаю, что Горяинов и Анкудинова были на даче во время кражи икон… — Объяснись. — Все говорит за то, что Горяинов и Анкудинова приезжали шестого вечером на дачу. — Денисов помолчал. — Во-первых, обоих в пятницу вечером никто не видел. Горяинова искали Бабичев, Плиний… Во-вторых, браслет Солдатенкова… В субботу Солдатенковых в Крестах уже не было. Раньше браслета у Горяинова никто не видел. — Доказательств в его распоряжении оказалось немало. — Затем Анкудинова в тот день также вернулась домой поздно, сказала: «Потом скажу…» Сделанная ею надпись на листе ватмана: «Мы еще будем здесь не один световой год…» и так далее. Наконец, подобранный к даче ключ у Димки в кармане! — Предположим… — сказал Бахметьев. — За иконами пришли после того, как Горяинов и Анкудинова вошли в дачу. Вор не знал об их присутствии. Инспектор, сменивший ушедшего на пенсию Блохина, с которым Денисов проработал два года, поднял РУку. — Но, может, кражу совершили после их ухода! — Не думаю… — Денисов подошел к доске, взял мел. — Обгорелые спички лежали у окна, где фонарь. Здесь! Видно, света не хватило. Если кража была бы ночью, к окну со спичками не пошли бы! — Разве фонарь не горел до утра? — В двадцать его выключили. — Кража могла быть раньше, — не сдавался оппонент. — До приезда Горяинова и Анкудиновой. — Только после снегопада была кража. А снег шел вечером… — Денисов знал шахматную теорию противолежащих полей. — Хорошо. Представь, что вор пришел за пятнадцать минут до их прихода! За десять минут! Совершил кражу и ушел? — Нет же! Вор пропахал широкую дорогу к крытому двору. Я сам видел! — Защита Денисова была неотразима. — Следов нельзя было не заметить. А раз так — Анкудинова и Горяинов, увидев их, не вошли бы в дачу… Дверь учебного класса скрипнула, вошел следователь. У него было красное с мороза лицо. Тихо поздоровавшись, он сел. — Значит, ты мыслишь, что преступление было совершено позже? — спросил Бахметьев. — Преступники появились, когда Горяинов и Анкудинова были в даче. Воры прошли со стороны крытого двора и удалились тем же путем. — Почему же Горяинов ничего не предпринял против воров? — спросил Бахметьев. — Струсил?! — Вывод Денисова все еще казался интуитивным. Хотя с логикой денисовских построений было трудно не согласиться. — Я думаю, что Горяинов и Анкудинова знали похитителя икон. Именно поэтому! — Не хотели его компрометировать? За Денисова ответила ККК: — Скорее не его, а Анкудинову! Похититель тоже прекрасно знал обоих! — Тогда это кто-то из Компании! — Недавний оппонент Денисова, старший инспектор, стукнул себя по колену. — Компания была увлечена идеей коллекционирования старых икон… — Скорее не Компания, Верховский! — Бахметьев не дал отойти от фактов. — «Брошенные деревни», «оставленные иконы» — это ведь его! Через день-другой Горяинов мог дать понять похитителю о том, что ему все известно… — …И тот заставил его и Анкудинову «замолчать»… — договорил за Бахметьева тот же старший инспектор. — Своими или чужими руками… — Вы позволите? — спросил следователь Бахметьева. — Конечно. — Бахметьев жестом пригласил следователя к столу: — Слово уважаемому Николаю Васильевичу. Оказавшись в центре внимания, следователь достал из портфеля исписанную размашистым почерком пачку протоколов, перебрал их и, отложив одни, сунул другие опять в портфель. — Все, что здесь говорилось, весьма интересно. Я не хотел прерывать… Сегодня Горяинов ненадолго пришел в себя. К счастью, я в это время был у него в палате…Эксперт (подпись)
Из протокола допроса Горяинова Дмитрия Аркадьевича, 21-го года, студента Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова…
Допрошен в больнице в присутствии врача-реаниматора… …8 февраля сего года я с друзьями ездил на лыжную прогулку в поезде здоровья на станцию Жилево. На обратном пути мы с Розой Анкудиновой находились в тамбуре. Я курил у открытой двери с правой стороны по ходу поезда. Роза стояла рядом. Примерно через минут десять после отправления поезда здоровья со станции Жилево из соседнего вагона в тамбур вошло двое парней 22–23 лет, среднего роста, в черных полушубках, в шапках из кроликов. Обоих я никогда раньше не видел. Один из парней сразу подошел ко мне и грубо попросил у меня закурить. Я сказал, что сигареты в купе. Что было потом, я не помню. Узнать обоих парней вряд ли смогу. Больше я ничего не знаю. С моих слов записано верно и мне прочитано. Дополняю: у одного из парней была ссадина на лице…Следователь с величайшей осмотрительностью спрятал протокол допроса в портфель и обвел взглядом сидящих. Все молчали. — А ведь нам говорили о полушубках! — напомнил следователь. Денисов согласно кивнул. — Проводница вагона Ведерникова… — Мы не обратили на это внимания, увлеклись психологической стороной, чисто человеческими отношениями… — Следователь махнул рукой. — Не все еще, однако, потеряно. Есть зацепка. После допроса Горяинова я из больницы в Посадах прямиком махнул в Жилево, к начальнику милиции. И кое-что привез… — По делу Анкудиновой и Горяинова? — уточнил кто-то из инспекторов. — Да… Итак, до приезда в Жилево в поезде здоровья преступников никто не видел. — Почти лишенное морщин, неулыбающееся лицо следователя выглядело обманчиво молодым. — В пути следования поезд остановок не имел. Значит, преступники сели в Жилеве, чтобы доехать до Москвы. О чем это говорит? О том, что они либо постоянно живут в Жилеве, либо к кому-то приезжали. — Он заглянул в портфель, на этот раз чисто машинально. — Так вот… У начальника милиции есть данные… — Он защелкнул портфель. — На наш участок ездят двое, приметы совпадают полностью. До этого случая ограничивались кражами в электропоездах у пьяных. Но дерзки, способны на тяжкие преступления… И осторожны. Поймать с поличным пока не представлялось возможным. Это они…
ТЕЛЕФОНОГРАММА Начальнику отдела милиции на станции Москва-Астраханская полковнику милиции Бахметьеву В. А. По имеющимся данным, в вечернее время в электропоездах, находящихся в вашем оперативном обслуживании, занимаются кражами двое неизвестных, в возрасте 22–23 лет, среднего роста, в черных полушубках, шапках из кроликов. У одного имеется на лице сбоку пятно, похожее на ссадину. По имеющимся данным, неизвестные действуют крайне осторожно, постоянно перепроверяются из-за опасения быть замеченными. В случае подозрений на слежку могут скрыться.Начальник Жилевского отделения милиции (подпись)
РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МИЛИЦИИ. В соответствии с планом оперативно-розыскных мероприятий начиная с 18 часов 12 февраля сего года силами инспекторского состава уголовного розыска и приданных подразделений перекрыть на вечернее и ночное время все находящиеся в обслуживании платформы, станции, посадочные площадки и пригородные поезда. Работу личного состава отдела милиции на период проведения операции осуществлять по усиленному варианту.Полковник милиции Бахметьев В. А.
ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ И УТРО 13-ГО
— Уходят через пути! — услышал Денисов в крошечном манипуляторе под курткой. — Скорее! — Он оглянулся. Темные фигурки уже бежали впереди, где между высокими платформами у кирпичного домика, пункта технического осмотра, на уровне колес застыл мощный луч прожектора. — Перебегай… — подстегнула по рации Колыхалова. — Им не видно тебя за лучом! — И сразу же: — По четвертому пути электричка. Осторожнее! Денисов спрыгнул с платформы на путь. Рядом бесшумно тормозил прибывающий электропоезд. «Ох! И погоняют они нас сегодня!..» — подумал Денисов. Еще не прошло и двадцати минут, как он и ККК заметили в толпе на перроне двух парней в полушубках и кроличьих шапках. У одного на щеке краснела ссадина. И сразу началась гонка. Авторы ориентировки — работники Жилевского уголовного розыска — оказались правы, предупредив: «…постоянно перепроверяются, путают следы, очень осторожны». — Пошли, пошли… — заторопила Денисова по рации Колыхалова. — Я — двести восемнадцать! — вклинился в разговор невидимый Антон Сабодаш. — Рассчитывайте на меня. Подключаюсь… — Пошли! — пересохшими губами повторила Колыхалова. Электричка отправлялась. Парни перебежали путь, вскочили в первый вагон, ККК успела заскочить в кабину машиниста. В последнюю секунду Денисов и Антон оказались в десятом, в служебном купе проводницы. Вагон проплыл мимо неярких вокзальных светильников, мимо десятков людей, ожидающих очередную электричку. — Порядок! — крикнул Антон в микрофон, чтобы успокоить находившуюся за девять вагонов Колыхалову. — Погнали… Привыкшая ко всему проводница спросила: — Здесь поедете? Или пройдете по составу? — Пройдем, — ответил Денисов. Она открыла внутреннюю дверь. Денисов, за ним Сабодаш прошли в вагон. Электричка была не из дальних — до Расторгуева, пассажиров ехало немного. В первом же пустом тамбуре Денисов и Антон остановились. — Я — двести восемнадцать! — оповестил Антон в манипулятор. — Находимся во втором вагоне от хвоста. Колыхалова не отзывалась, видимо, стояла среди пассажиров. — Станция Москва-Товарная… — объявила проводница по поездному радио. Электричка остановилась. Денисов выглянул на перрон, но никого не увидел. В пятиэтажных кирпичных домах напротив горел свет, чуть сзади по подъездному пути на холодильник толкали рефрижераторную секцию. — Следующая — Речной вокзал… — объявила проводница. Платформа была дугообразной. Пристройка билетной кассы скрывала начало дуги. Денисов и Сабодаш ждали: перед тем как отправиться, помощник машиниста выбежал на платформу удостовериться в безопасности пассажиров. Двери оставались открытыми. — Пошли! — внезапно крикнула Кира. Денисов и Сабодаш выскочили из вагона, тут же, не сговариваясь, разошлись в разные стороны: Денисов в дальний конец платформы к киоску «Союзпечати», Антон к билетной кассе. Газетный киоск прикрывал надежно, но теперь Денисов не видел ни парней, ни Колыхалову. Словно почувствовав его тревогу, ККК успокоила: — Вижу их хорошо. Вся тяжесть наблюдения за преступниками теперь была на ней. Денисову оставалось разглядывать фотографии артистов, гашеные марки для коллекции. «В детстве на каждом углу в конверте за несколько копеек ждет радость, — подумал Денисов. — И сколько их, киосков «Союзпечати» и конвертов с гашеными марками…» — Стоят на платформе, — предупредила Колыхалова, — просматривают в окна проходящие электрички. Парни в полушубках словно чего-то ждали. «А Роза Анкудинова собирала фотографии киноартистов…» — глядя за стекло киоска, вспомнил Денисов. Он вдруг представил себе ее с «пирогой» рыжеватых волос, с блестящим лезвием на цепочке. У артистов на цветных фотографиях были серьезные, грустные лица. «Даже в обычных одеждах, — подумал Денисов, — они напоминают сыгранных ими героев, остаются Вайсами, Жегловыми, Шелленбергами…» С двух сторон снова показались приближающиеся огни встречных электричек. Машинисты обеих приветствовали друг друга короткими гудками. — Внимание! — крикнула ККК. — Бегут в конец платформы. Поезда остановились, открыли двери. Через секунду и Денисов увидел: парни в полушубках бежали вдоль вагонов, мимо не закрытых пока дверей электрички, прибывшей из Москвы. За ними быстро шел Сабодаш. — Двести восемнадцать! — предостерегающе крикнул Денисов. Но было уже поздно: Сабодаш шагнул в ближайший тамбур, и двери за его спиной сомкнулись. Электричка отошла. Парни круто свернули к другой. Денисов и Кира в разных концах платформы вскочили соответственно в первый и последний вагоны. — Следующая конечная — Москва, Астраханский вокзал! — пробурчало поездное радио. — Нахожусь в первом вагоне, — выждав, сообщил Денисов. — Я в десятом, — ответила ККК. — Иду к тебе. — Они где-то в середине… Внезапно их негромкие переговоры по рации накрыл мощный сигнал стационарной радиостанции, установленной в дежурной части милиции. — Сто девяносто восемь, двести один! Я Руза. — В дежурке их слышали. — Помощь требуется? — Ни в коем случае! — взволновалась Колыхалова. — Всем уйти с пятой и шестой платформ. Иначе все испортите! Дежурный испугался: — Всем уйти с пятой и шестой платформ! Внимание постов! Повторяю: всем уйти с пятой и шестой! — Вижу их в шестом! Там спит пьяный, при нем чемодан. Я в тамбуре седьмого… — Слышал… — отозвался Денисов. Он понял, почему парни на Москве-Товарной так долго стояли, пропуская проходившие поезда: смотрели в окна, высматривая жертву. Перегон от Москвы-Товарной до вокзала был совсем короткий: пакгауз, подъездные пути, низко нависший над рельсами Дубниковский мост. Электропоезд приняли на дальний путь рядом с забором отделения перевозки почты и пустырем. По другую сторону тянулась малоосвещенная платформа. — Граждане пассажиры! — объявила по радио проводница. — Не оставляйте в вагоне свои вещи… Машинист отключил пантографы, в вагонах потемнело. Денисов ждал в тамбуре. Несколько пассажиров прошли мимо него, направляясь к вокзалу, в метро. — Ты все еще в седьмом? — окликнул Денисов Колыхалову. — Да. — Иду к тебе. Разумеется, не по платформе. Могут увидеть в окно. Денисов раздвинул половинки двери с другой стороны тамбура — при отключенных пантографах пневматика не держала их, — спрыгнул на обочину, побежал вдоль забора вперед, к пустырю. В седьмом вагоне ККК тоже откатила двери и теперь стояла в проеме на уровне денисовской головы. — Все тихо? — спросил Денисов. — Хотят узнать, насколько пассажир пьян… Колыхалова, одной рукой держась за поручень, второй подтянула Денисова в вагон. Вдвоем они вошли на переходную площадку. В глубине салона Денисов увидел две фигуры, суетившиеся вокруг третьей. — Лазят по карманам… — зашептала ККК, словно Денисов не в состоянии был видеть. — Берут из чемодана! Не подошло. Бросили под лавку… Денисов оставил Колыхалову на площадке, вернулся в тамбур, закрылся курткой с головой: — Руза! Я двести первый! Перекрывай отходы с восьмого пути. Быстрее… Как поняли? Они в электричке! — Понял! — крикнул дежурный. Денисов отключил рацию. Возвращаться на переходную площадку ему не пришлось. Колыхалова поспешно отпрянула к нему в тамбур. Денисов услышал шаги — парни приближались. Ситуация с Анкудиновой и Горяиновым повторялась, с той разницей, что на этот раз поезд стоял. В дальнем месте станции. И, как тогда, шедший первым — коренастый, сильный — спросил: — Закурить не найдется? — В руке у него был кастет. Денисов ударил первым. Левым прямым в голову и правым боковым в челюсть. Оба удара достигли цели. Парень всхрапнул, но выдержал, лишь чуть замешкался. Этого оказалось достаточным, Кира метнулась к двери. — Прыгай! — крикнул Денисов. — Вызывай Рузу! Колыхалова соскочила на обочину, растворилась в темноте. Второй парень попытался прыгнуть следом, Денисов схватил его за полушубок. Раздался треск — кусок овчины остался в руке. «Антона бы сейчас! Его мощь!» — пронеслось в голове у Денисова. Он нырнул под руку парня, чтобы сзади захватить предплечье и рывком бросить через себя. Пол в тамбуре оказался скользким. Стоило Денисову секунду помедлить, он уже не смог рвануть парня с необходимой силой. Тот осел и теперь уже сам валил Денисова на себя. Преступники помешали друг другу. Парень, навалившийся на Денисова, не дал другому спрыгнуть на путь, где Колыхалова громко звала по рации на помощь. Денисову удалось высвободиться. — Беги! — крикнул он. Сильный удар обрушился на Денисова, и все же он успел прикрыть голову. Ударивший охнул: Денисов ногой достал его пах. Второй удар, много сильнее, возможно кастетом, пришелся Денисову по ребрам. Он бросился вперед и опять поскользнулся. Встречное движение прибавилось к силе удара. Масса, помноженная на ускорение… В тамбур вскочило несколько человек. Денисов почувствовал крепкие руки. Он тоже ухватил кого-то в темноте. Левый бок его горел, каждое движение причиняло боль. Заработали компрессоры, стало светло. Денисов увидел сотрудников в гражданском, державших его и парней в полушубках. — Денисов, выходи! — сказал Бахметьев. — Сможешь? Кто-то помог Денисову. — На задержанных надеть наручники! Обыскать, не дать ничего выбросить… — командовал Бахметьев. Подошли еще сотрудники, в форме. Задержанных повели, тесно сбившись в кучу. По мере приближения к дежурке конвоиров становилось больше. Незнакомые инспектора, прикомандированные от других отделов присоединялись, приноравливали шаг к идущим: — Отбой! — передавала Руза. — Внимание постам: отбой! Повторяю: внимание постам… У здания отдела стояла Колыхалова. — Наконец-то дождалась… — Только не могу вздохнуть. Ты как? — Не обращай внимания… — ККК всхлипнула, достала сигарету, пальцы дрожали. — Сейчас мой сынуля будет звонить… Температуру воздуха каждый день отмечает, ветер. Пасмурно или ясно. В школе поручили… — Почему ты вспомнила? — «Будь, — говорит, — мама, осторожнее при задержании. Прошу тебя!» — Она отвернулась. — Привет ему, — сказал Денисов. Стоявший у центрального зала младший инспектор окликнул: — Бабичева видел? Всей Компанией прошли. Наверное, в «Приэльбрусье». — Пожалуй, это теперь неважно, — сказал Денисов. Он еще не мог отойти от схватки. Слова младшего инспектора все же застряли в сознании. Молодежное кафе «Приэльбрусье» было рядом. «Может, пойти? А в медкомнату? — И сам себе ответил: — Сначала ужинать, потом в медкомнату, потом на рентген…» Денисов шел через площадь. Собственная тень кралась за ним серой кошкой. «Предположим, что Бахметьев прав, — думал он. — Горяинову казалось самым трудным прожить эти два дня после кражи икон… И ему и Анкудиновой. Но почему? Разве они знали, что их ждет? — Кругообразное движение собственных мыслей коробило. — Нет непрерывности! Даже верная гипотеза может затеряться как ключик, потому что не связана с предыдущей. — Раздумье причиняло не меньше боли, чем ребра. — «Все закрутилось после шестого февраля», — писал Димка… Но что из этого?» У входа в кафе садилась в такси шумная компания. Швейцар в форменной куртке, в очках, повторял: — Полный порядок… Полный порядок… В вестибюле гремела музыка. Гардеробщик — поджарый, на протезе, узнал Денисова, принял куртку без номерка. — Иди, инспектор. Ужинай! Гремела музыка. Однако эстрада была пуста. «Четверг», — вспомнил Денисов. Посетителей было мало. Зал уходил под прямым углом в сторону. Большинство гостей группировались ближе к эстраде. Денисов нашел свободный столик недалеко от входа — вплотную к стене. С трудом сел. Малейшее движение вызывало боль. «Как если бы я был деревом и повредил ствол, — подумал Денисов. — Не следовало приходить сюда…» Компании Бабичева не было. Он заказал гуляш, сметану, мясной салат. Подумав, прибавил еще ромштекс. Официантка оказалась знакомой. — Спешите? Постараюсь не задержать… Денисов огляделся. Сбоку за придвинутым к стене столом разговаривали несколько иностранцев в темных одеждах. Такими же темными, неулыбчивыми были их лица. Они не следили за танцующими, бутылка сухого вина стояла на их столе нетронутой. Касаясь друг друга головами, в отдалении сидели двое влюбленных, их медленная речь и касания были исполнены значения. В другое время Денисов не уделил бы им внимания, следуя прагматическому правилу: люди смотрят, сыщики наблюдают. Но теперь, с завершением дела Анкудиновой и Горяинова, он часто думал о любви. Ведь именно любовь он положил было в основу разгадки происшедшего. — Привет! — услышал Денисов. Появившийся неожиданно Бабичев смотрел привычно-холодно. Рядом с ним стояла Лена Гераскина. — Зашли поужинать? — спросил Бабичев. Денисов кивнул. Из-за угла зала показались Момот и Ольга Горяинова, величественная, со вздернутым носом. — Давайте к нам, — предложил Бабичев Денисову. — Ольге поднимем настроение… К Димке на ночь никого из родственников не пустили: «Состояние тяжелое…» То, что он говорил Денисову «вы», как бы удостоверяло: знает, что из уголовного розыска… Бабичев сказал: — Вы человек, который любит эрдельтерьеров. Для меня это наивысшая аттестация!.. Денисов переговорил с официанткой, вместе с Бабичевым перешел в угол зала, где сидели остальные члены Компании. Не было только Горяинова, Верховского и Розы. — Денисов, — представился он. — Нас, по-моему, можно не представлять! — Бабичев засмеялся. — Известны! — подтвердил Момот. В стереоколонках раздалась барабанная дробь, вначале мелкая, потом более крупная, усиливающаяся. Лена Гераскина потянула Бабичева за руку, прижалась к нему всем телом. — Потанцуем! Музыка развела их. Они разошлись в стороны, пружиня и изгибаясь. Другие ребята тоже повскакали с мест. Денисов подвинул тарелку. Подумал: «Судить о нравственном здоровье Компании? Все ли я знаю о них? Задача моя узкоделовая: уяснить истинные обстоятельства происшедшего с Анкудиновой и Горяиновым…» Мальчик-лобастик, сидевший по другую сторону стола, перехватил взгляд Денисова, послал смущенную улыбку. — Ну, как с ессеями? — спросил его Денисов, доедая гуляш и щедро сдабривая гарнир сметаной. — Что вы имеете в виду? — спросил Плиний. — Брали ли ессеи в руки оружие? — Денисов вспомнил вопрос, который задал Бабичев в день рождения Верховского. — Воевали они? Лобастик оживился. — Безусловно! Есть данные, что крепость Масаду от римлян защищали только ессеи. Поэтому Масада стойко держалась. — Какая же идея у них? — Как в каждой компании. Дружба! Дома начнешь говорить про инструментальные ансамбли, про «Стилай Спэн» или альбом «Ринго Старра» — разве тебя будут слушать? Отца потянет к газете, у матери обязательно начнет лук пригорать… Зато в компании тебя всегда выслушают с интересом. Денисов отставил пустую тарелку, спросил: — Значит, дружба… Хорошие ребята? — Клевые! Настанет день, и мы уедем… — Плиний даже зажмурился от удовольствия. — Воже, Лаче… Русский Север! — А потом? — Свидь, Онега, Кен-озеро! — Лобастик доверительно перегнулся к Денисову. — Оставленные деревни… Приходи — живи. Хочешь — покупай дом! — Переберетесь в деревню… А что делать будете? — спросил Денисов. — В совхозе, пожалуй, мы не меньше нужны! — И они тоже? — Денисов глянул на танцующих. — И Лена Гераскина? И Слава Момот? — А что Слава?! — Плиний пересел на соседний стул с Денисовым. — Слава один может выпить бутылку вина — да? Но он и прочитал всего Льва Толстого, Достоевского. Он перешивает джинсы, как заправский портной, играет на гитаре… (Плиний говорил о том, что Денисов уже не раз представлял себе.) Слава не побоялся сказать правду декану! Один пошел против пятерых хулиганов… — Лобастик помолчал. — Конечно, родители будут против… Но главное — остаться человеком! — Родители против… — повторил Денисов. — А вот Дмитрий Горяинов сказал жене Коношевского в поезде: «Люблю их, когда дают деньги…» — Так ведь назло! — Лобастик заволновался. — У нее же все было решено насчет нас. Ей хотелось только услышать подтверждение. Вы возьмите Лену Гераскину… Она работает в ЖЭКе дворником и учится, чтобы жить на собственные деньги! — А магнитофоны, а джинсы? Все эти «супер райфл», «ранглер»? — А сколько ребята разгрузили вагонов?! Сколько работали на холодильнике?! Музыка стихла. Лобастик застенчиво улыбнулся, пересел на свое место. Рядом с Денисовым сел Момот. Денисов внимательнее, чем хотел, посмотрел на него. — Есть вопросы? — Момот поднял глаза, волосы ниспадали на его плечи. Уже час сидел Денисов в «Приэльбрусье». Знакомая официантка поглядывала, ожидая знака, чтобы рассчитаться. Денисов медлил: грабители в полушубках были задержаны и доставлены в отдел, но чувства удовлетворения не пришло. Словно загадка осталась неразгаданной. — Кто-нибудь видел парней в черных полушубках? — спросил он. — Когда ехали в поезде здоровья… Вспомните. За столом помолчали. — Я нет, — сказал Бабичев. — Тоже. — И я нет. — Дима видел, — сказала Ольга Горяинова. — Он вам сказал? — Денисов круто повернулся к Ольге. — Медсестра. С его слов. Следователь при ней его расспрашивал… Димка сказал: «Двое в черных полушубках, в шапках из кролика…» Бабичев заметил: — К Сережке Солдатенкову эти двое тоже подходили. Недели две назад, в электричке. Сережка рассказывал… Попросили закурить, потом обыскали. «Вот в чем дело!..» — подумал Денисов. Превозмогая боль, поднял руку — подал знак официантке. Врал все Горяинов!.. Денисову и раньше приходило это в голову. Теперь Бабичев подтвердил: никаких парней в полушубках в поезде здоровья не было… Это все со слов Солдатенкова… следователю рассказал Горяинов. Потому и предупредил, что узнать парней не сможет… Кругообразное движение мыслей внезапно нарушилось, в расстановке фигур появилась новая — Солдатенков. Когда же Горяинов видел Солдатенкова? Видимо, в день кражи икон… Тогда же Горяинов и взял Сережкин браслет с группой крови… Загремела музыка, ребята из Компании не пошли танцевать. «Выходит, Солдатенков был вечером в день кражи на даче Горяиновых? — подумал Денисов. — Что он там делал? В каком качестве?» Официантка подала Денисову счет, не глядя, сунула мелочь в карман фартука. — Спасибо, ребята, за компанию. До свидания. Бабичев и Момот проводили Денисова к дверям. — У Солдатенкова есть собака? — спросил их по дороге Денисов. — Есть. — Бабичев посмотрел внимательно, точно мог читать мысли. — Овчарка. А что? — Так, деталь. — Денисов с трудом поднял руку, продевая ее в рукав. — Разберемся. — Его голосу не хватило уверенности. — Денисов?! — ахнул Сабодаш в трубку. — Жив? В отделе тебя нет, дома — тоже. — Жив… — Чтобы не отвечать на вопросы о самочувствии, которые должны последовать, он спросил сам: — Что с этими? В полушубках, Антон? — Да что с ними? У одного три или четыре бумажника, не успел выбросить. Чужие водительские права… — Антон перечислил мельком, как человек, торопящийся поскорее перейти к главному. — Тут другие новости! Потрясающие! Вот! — По знакомому долгому носовому «Уот!» Денисов понял, новости поистине потрясающие. — Позвонили в медкомнату насчет Анкудиновой! Сразу, как ты ушел! Уот! Представляешь? Мужской голос: «К вам Анкудинова Роза восьмого февраля не поступала? С поездной травмой…» Чуешь? То, что мы ждали… — Медсестра ответила «поступала». — «Все больницы обзвонил, травмопункты… По всем районам… Где она сейчас?» Медсестра ему по инструкции: «Обратитесь в больницу города Видное…» И сразу звонок нам. — Антон прервался, видно, доставал «Беломор». — Дальше… — Наши погнали в Видное, хотя там и была засада. Бахметьев, Колыхалова… — И что? — Клетка захлопнулась! Приехали, минут через двадцать он входит. С запиской для Анкудиновой. — Антон прикуривал, казалось, целую вечность. — Взяли! Кого ты думаешь? Денисова словно обожгло: — Верховского? — Его самого! С апельсинами, с цветами. С суетливой улыбочкой… Из автоматной будки Денисову был виден привычный высвеченный изнутри куб вокзала, зигзаги лестничных маршей, по которым с утра до глубокой ночи текла толпа. От вокзала тянулась очередь к стоянке такси. «Горяинов соврал, — снова подумал Денисов. — Парней в полушубках в поезде здоровья не было…» Он не пошел в отдел. Повесил трубку. Вдоль фасада вышел на площадь. На стоянке такси очередь оказалась небольшая, однако и машины подкатывали редко. «Пожалуй, лучше сходить за диспетчером…» — решил Денисов. Он знал, где его искать. В буфете воинского зала старик диспетчер вел долгие беседы с демобилизованными, инвалидами, пил кофе. Беседы и дежурства вносили в одинокую жизнь пенсионера-вдовца живую струю. — Сделаем! — Но я не Крез. — Денисов дотронулся до кармана. — Знаю. Пошли… — Минуту. — Денисов снял шарф, просунул под куртку, туго стянул на ребрах. Старик уже несколько лет жил ночною тревожною жизнью постовых, все понимал без слов. — Эх, моя милиция!.. Родной ты мой… Очередь заволновалась, увидев рядом с диспетчером постороннего. — В Посады есть кто? — спросил диспетчер. — Что же, никого? Мордастый сержант, дежуривший по площади, тоже подошел. Узнав, в чем дело, проявил активность. — Сейчас уедешь. Вернулся он минут через десять, позади него тоскливо тянулся таксист в заломленной фуражке, короткой куртке на меху. — Отвезешь его, — приказал ему сержант. — Круто берешь, начальник, — таксист противился только для видимости. — Еще легко отделался! Ходит по залам, клиентуру подбирает… Отвезешь инспектора на оперативное задание! — Далеко? — спросил таксист у Денисова. — В Посад. У Денисова наконец появилась возможность проанализировать последние события. «Итак, Верховский звонил в медкомнату. Он же приехал в больницу… — Теперь становилась понятной поездка Момота, Ольги Горяиновой, Бабичева и Верховского в район Михнева, когда Денисов встретился с ними в электричке. — Они искали Анкудинову в близлежащих больницах, расположенных вдоль железнодорожного полотна… Только потом вспомнили о медкомнате вокзала…» Таксист выбрал кратчайший из маршрутов: через Дубниковку на набережные, где в этот час движение почти отсутствовало. Какое предложение Верховский сделал Горяинову Николаю? В том, что именно Верховский звонил в магазин «Мясо» и просил о срочной встрече, Денисов не сомневался, сопоставив рассказ его сынишки с фактами, которыми он располагал сам. Денисов вспомнил странную реплику, услышанную в квартире Бабичева. Подростки тогда смеялись: «Один идет с тросточкой и сбивает шляпы со всех встречных справа и слева. А второй идет сзади и лепит каждому червонец на лоб: «Купи себе новую!» Мясо сбивает, а Володя лепит!» «Мясом» они, безусловно, называли Николая Горяинова…» — на этом мысль Денисова снова запнулась. Шофер гнал пустыми набережными, будто скрывался от погони, не сбросив скорости, выехал на шоссе. У одного из постов ГАИ их остановили. Подошедший молоденький сержант поздоровался, показал таксисту на мужчину и женщину у обочины. — Подбрось по пути… Новый инспектор ГАИ едет, назначение получил, а это наш бухгалтер. Им недалеко. — Ну, вечерок, — сказал таксист. — Садитесь. С назначением, товарищ начальник. Вскоре попутчики вышли. — Вон и Посад! — показал таксист. — Куда здесь? — В больницу. — Заболел? — впервые за дорогу Денисов почувствовал интерес к себе шофера. — Так бы и сказал! Он остановил такси у калитки длинного каменного забора. Здание больницы оказалось основательным, старым. У входа перед приемным покоем горел фонарь. Большая железная урна казалась чугунным геральдическим львом. С аллеи вспорхнул пятнистый нездоровый больничный голубь. Шансов на то, что план его увенчается успехом, у Денисова было совсем мало. «Посмотрим…» — вздохнул он. Денисов поднялся по щербатым ступеням, словно выложенным белым туфом. В приемном покое было пусто. Мимо висевших на стене «Правил» Денисов прошел дальше, открыл дверь в кабинет. И здесь ни души. Оставалось ждать или идти наверх, в отделение. Осторожно, боясь причинить себе боль, Денисов достал блокнот, открыл первую попавшуюся страницу, начал читать все подряд: «Ты сказала: «Наверное, все-таки не люблю. Привычка…» Я закрыл лицо. Это было под навесом в детском саду… Спросила: «Тебе важно услышать это слово?!» — «Я завишу от слов…» «Чтобы миллионы людей спокойно любили друг друга, нужно, чтобы тысячи любили до исступления, а десятки чтобы жертвовали всем…» Хлопнула дверь. Денисов оглянулся. Перед ним стоял полковник Бахметьев в осеннем пальто, промерзший, и чистым платком отирал глаз. — Удивляешься? Чуть-чуть, и я бы тебя на стоянке такси перехватил… — Диспетчер сказал? — спросил Денисов. — Он самый… Поехали домой! Бахметьев ни словом не обмолвился о звонке в медкомнату, о доставлении Верховского в милицию, его допросе. Будто Денисов знал, что эта версия ложная, как и все предыдущие. — …Сдам тебя Лине с рук на руки, пусть лечит. Отдышишься, придешь в себя… Денисов дернулся. — Болит? — забеспокоился Бахметьев. — Тогда подождем уезжать… Пусть все-таки хирург посмотрит. Вошел врач — полный, с кавказскими усами, в широком халате. Он удивленно взглянул на Бахметьева. — Опять?! Что случилось, дорогой? — С ним. — Бахметьев кивнул на Денисова. — Упал… с крыльца. — Покажи! Денисов скинул куртку, пиджак, осторожно развязал шарф. — Ну и крыльцо! Высо-о-окое! — Закурить можно? — Бахметьев сел к окну, под форточкой. — Закури, дорогой… Хирург несильно, холодными подушечками пальцев надавливал на тело, следил за выражением денисовского лица. — Больно? А здесь… Кем работаешь? — Он отошел к умывальнику. Тугая струя прокатилась по раковине, — Инспектор он, — ответил за Денисова Бахметьев. — Инспектор уголовного розыска. — Что скажу, дорогой? Посмотреть надо. Утром рентген сделаем. — Ребра целы? — спросил Бахметьев. — Думаю целы. Там увидим. — Положите меня в палату усиленной терапии, к Горяинову… — сказал Денисов. — Такой случай. Нельзя упустить… Хирург нахмурился, что-то поискал на столе. Оказалось, клей. Переставил пузырек ближе к настольной лампе. — Нельзя, дорогой. — Почему? — Плохо ему пока… — Так ведь я выписывать его не прошу… Только лежать рядом. — Разговаривать будешь. — Хирург посмотрел на Бахметьева, но тот отвел глаза, не желая вмешиваться. — А если я слово даю? — Денисов снова стянул себя шарфом. — Слово? — Хирург внимательно взглянул на него. — Если слово, можно, дорогой!.. Бахметьев у окна закашлялся. — Как мыслишь? Если у Горяинова не туда пойдет с выздоровлением?! Родители узнают, что ты лежал с ним в палате!.. Ничего? Абсолютная тишина лежала вокруг. Из коридора в палату усиленной терапии через застекленную дверь проникал неяркий свет. По стене откуда-то вползала толстая труба, напоминавшая анаконду. Кровати стояли почти рядом. Забинтованное лицо Горяинова казалось в полутьме крошечным. «В чем Горяинов не хотел или не мог признаться следователю?» — гадал Денисов. — Мама… — прошептал вдруг Горяинов. Денисов отвернулся от истощенного, маленького, с детский кулачок лица. Задумался. У нас закладывает уши от поп-рок-музыки… Рябит в глазах от крикливых одежд и застежек — и мы уже ничего хорошего не хотим видеть и слышать за этим… Когда пацан начинает говорить про инструментальные ансамбли — про «Стилай Спэн» или альбом «Ринго Старра», отцов тянет к газетам, у матерей на кухне сразу же пригорает лук… Горяинов, должно быть, тогда, в поезде, посмеивался над легковерием Коношевской, говоря, что далеко не заглядывает… У этих девиц и парней тяга к современным ритмам странным образом соединяется с мечтами о заброшенных архангельских избах, с «балдежем» в подъездах, с русской иконой, с желанием жить на собственные, заработанные деньги… Денисов не позволил мыслям о нравственном здоровье Компанииувести себя в сторону. Теперь он уже мог сказать: «По-моему, я знаю, что произошло в поезде здоровья. Правда, подтвердить или опровергнуть мою версию в состоянии только один человек. Если он захочет, если сможет…» Денисов приподнялся на локте, так он яснее видел лицо Горяинова. Тот что-то зашептал. Денисов разобрал знакомую фразу: — Не рви! Не режь по живому, Малыш!.. — Он словно просил подругу не обрывать связывающую их живую нить. Вошла сестра, она сделала Горяинову укол, которого он не почувствовал. Дыхание его стало размереннее: он спал. Сестра ушла так же неслышно, как и появилась. «Неужели у них проблемы?! — вспомнил Денисов брошенное Бахметьевым полушутливо: — Неужели они всерьез добиваются своих целей, всерьез любят, ревнуют, увлекаются?! Ты ближе к этому нежному возрасту, Денисов…» «Еще какие проблемы… — подумал Денисов, прислушиваясь. — Не надо считать, что у Горяинова или Момота их мало или они не так остры, как у ККК или Бахметьева. Во внутреннем мире подрастающих они занимают столько же места, сколько и у взрослых… И, может, переживаются они еще острее! Любовь, друзья, престиж…» Горяинов снова забормотал: — Прикуси! Чтобы я почувствовал: это не сон… Мочку уха! Будет больно? Умоляю, Малыш! Верю боли, твоему стону… — Он бредил. Денисов мог достать из-под подушки блокнот, но при тусклом свете, падавшем из коридора, все равно бы ничего не разобрал. Он вспомнил почти дословно: «…Какие только мысли не лезли мне в голову за эти десять минут, пока она не появлялась. А люди выбегали из беспрестанно подкатывавших автобусов и бежали в метро…» «…К утру все прошло. И совсем непонятно, отчего с вечера этот бессмысленный приступ ревности, тоска и слезы… В воскресенье для меня все кончится…» Денисов знал эти фразы почти наизусть. «Записи эти вовсе не малосущественны для дела», — подумал Денисов. И вспомнил: на противоположной стороне листа, против слов «К утру все прошло…» была выписана гипотеза Бахметьева: «Не пересеклась ли в поезде здоровья линия «Анкудинова — Горяинов Дмитрий» с линией «Верховский Владимир — Анкудинова»?!» И дальше шло извлечение из показаний Горяинова-отца, которое могло считаться ключевым: «…Я — Димке: «Без меня — никуда, учи!» Запер их вместе с женой, с Ольгой. «Приеду, — говорю, — через час, — выпущу!» Что же вы думаете? Ушли!.. Через соседний балкон. Все-таки шестой этаж!..» С этим перекликалась найденная Денисовым в Крестах записка Горяинова-младшего: «Любовь, Жизнь, Смерть — величины одного порядка, они взаимосвязаны!» Неожиданно Денисов увидел: темные карие глаза Горяинова открыты, смотрят в упор. — Сколько времени? Денисов не ответил. Горяинов заговорил с собой: — Кто-то меня окликнул: «Дима!» В последние дни мы просыпались в два и в три ночи. Каждый у себя. И мысленно будили другого… Звонят? — спросил он через минуту. — Она всегда звонит, когда кажется: больше без нее уже невозможно, как без воздуха. Вы любите кого-нибудь? — спросил он вдруг. Это было выше и больше узкой утилитарной задачи, которую ставил перед собой Денисов как инспектор: узнать истину, не дать пострадать невиновным. Но и для Денисова служба, как он ее понимал, была сама жизнь. — Почему вы молчите?.. — Не меньше врача Горяинову был необходим внимательный собеседник, с которым никогда больше не встретишься, которому можно безбоязненно открыть душу. — Да или нет? Денисов шепнул: — Да, — он тоже мог открыться только чужому человеку. — Спите. — Тогда вы поймете! Она сама нежность… Я говорю вам, потому что вы не задаете дурацких вопросов… — Шепот стал едва слышен, словно кто-то сгребал с тропинки сухие шелестящие под ветром листья. — Путевку в санаторий ей принесли в пятницу, всего за два дня до отъезда… Понимаете? «Два дня!.. — отозвалось в Денисове. — Вот откуда это злополучное число «два»? Со дня, когда принесли путевку!» — …Я не знал, что произойдет после ее отъезда. Жизнь, казалось, должна была остановиться!.. — Горяинов закашлялся. Попросил: — Пить! — Сейчас! — Денисов хотел подняться — резкая боль в торсе пригнула к постели. Не поднимая спины, он осторожно сполз на пол, дотянулся до поильника, стоя на коленях, выпрямился, держась за кровать, поднес воду к губам Горяинова. — Спасибо, — прошептал Горяинов. Вода попала ему в лицо, стекла на подушку. — …Я не знал, что делать. Я злился на то, что она есть. Мы решили проститься в тот же день. У нас на даче. Я был в отчаянии. Я проколол ее лицо на фотографии… Она утешала как маленького: «Два месяца… Что они в сравнении с вечностью?!» Написала на листе бумаги в столовой: «Мы еще будем здесь не один световой год!» Чудачка! Денисов стоял на коленях, держа в руках полупустой поильник, прижав больной бок к кровати. — …А в это время один человек, мой близкий родственник, забрался в дачу и совершил… Не знаю, как назвать… Подлость? Роза все видела и еще один парень, Серега. В тот вечер он подарил мне титановый браслет… Горяинов долго молчал. — Подлец всегда бросает тень на всех порядочных людей. Юрист должен поговорить с ним серьезно… Мне самому нельзя… «Кража икон все-таки сыграла роль в этой истории… — подумал Денисов. — Горяинов должен был доказать, что он не чета подлецу, что родство по крови ничего не объясняет…» — …Потом пришел последний день. Мы поехали кататься на лыжах. В поезде все было против нас. Какие-то парни, которые к ней липли. Поссорился с товарищами… Мы курили у открытой двери в тамбуре… — Горяинов заговорил медленнее, словно вспоминая с трудом. — Бежали деревья, дома. Скорость была страшная… Если бы день этот, последний, кончился как обычно, она забыла бы меня за месяц и была бы права… В промежутки между паузами Денисов слушал стерильную больничную тишину, спресованную словно вата. — …Я ждал, когда уйдет из тамбура наш товарищ, Володя. Наконец он ушел. «Я люблю тебя, — сказал я. — Сейчас ты узнаешь, как я тебя сильно люблю». Она пыталась задержать меня, схватила за куртку. Я ее оттолкнул… Человек обязан совершить подвиг ради любви… Понимаете? Он все оттягивал последнюю фразу. Горяинову казалось: тайна принадлежит только ему и Анкудиновой. Ни следователю, ни Компании — никому больше. — …Я подождал, пока промелькнет очередная контактная мачта… — Горяинов тяжело сглотнул. — Прыгнул!.. Денисов, превозмогая стон, держась за кровать, поднялся. «Анкудинова бросилась следом, чтобы быть рядом… — понял Денисов. Горяинов подтвердил его версию. — Какой верный, бесстрашный друг!» В коридоре у столика дремала сестра. Денисов осторожно прошел к лестнице, в приемный покой, где вечером заметил телефон. «Горяинов мечтал о подвиге… — Денисов вспомнил: — Он писал об этом в конспекте по экономике производства, который привезла ККК из больницы. Вплотную за цифрами, почти без знаков препинания, по-видимому, на лекции… Следователю надо отыскать это место. Между сведениями о пересчете на годовой рост розничных цен…» У Бахметьевых долго не отвечали, наконец он сам снял трубку. — Слушаю… Разговор получился кратким, сухим. Денисов опустил подробности, доверенные Горяиновым ему лично. — Ты молодец… — Бахметьев вздохнул. — Поправляйся… Денисов переставил пузырек с клеем на столе хирурга, подошел к окну. «Действительно ли исступленная любовь тысяч… помогает миллионам быть нравственно здоровыми? — думал Денисов, вглядываясь в темноту. — А для этого Ромео и Джульетта, Фархад и Ширин во имя любви должны свершать подвиги… Но как же тогда Аксинья и Григорий Мелехов? Тысячи других, не знавших о Шекспире? Может, для них существовали другие образцы? Вне литературы?» Стекла отражали спартанский интерьер приемного покоя. По каким-то неуловимым признакам за окном Денисов понял: «Ночь кончилась…»АКТ судебно-медицинской экспертизы от 10 февраля. Заключение. …2. Перечисленные повреждения причинены тупыми предметами или при ударе о тупые предметы вследствие падения. Возникновение их при падении с движущегося со скоростью 60–80 км/ч поезда вполне возможно. 3. Смерть наступила от несовместимости с жизнью множественных повреждений головы, позвоночного столба, грудной клетки… …5. При фотометрическом исследовании алкоголя в организме не обнаружено…Эксперт (подпись)
ХАРАКТЕРИСТИКА на бывшую ученицу ГПТУ Анкудинову Розу. Анкудинова Роза обучалась с 1 сентября по специальности «Наборщик вручную». Показала средние способности, но при желании могла бы учиться только на 4 и 5. Иногда была вспыльчива, не умела сдерживать чувств и эмоций. Очень любила петь, была жизнерадостной, отзывчивой, не любила трусость. Товарищи уважали ее за смелость и решительность. Любила твердость и справедливость… Характеристика дана в следственные органы. Директор ГПТУ (подпись) Мастер производственного обучения (подпись)
Анкудиновой Розе, больница, г. Видное. Малыш! Пять дней мы всей Компанией искали тебя. Объездили все больницы на линии, Михнево, Барыбино… Сегодня позвонил в медкомнату вокзала — мне дали этот адрес. Ты бесстрашный человек, Малыш, и верный друг. Все ждут твоего выздоровления. Я тоже. Как мы и договорились, я позвонил этой гниде — Коле Горяинову и предложил, как юрист, возвратить черные доски, если не хочет неприятностей. Мне пришлось открыть, что Сережа Солдатенков тоже наблюдал за ним, стоя с собакой по другую сторону дачи. Мясо поверил, когда узнал, что Сережа в тот вечер подарил Диме именной браслет. Так что все поправится, доски он подбросит. Но это так: чтобы развеселить Тебя. В пакете апельсины! До встречи, Малыш! Какие у тебя всегда горячие руки! Все будет хорошо!12 февраля. Володя Верховский.
Из конспекта Горяинова Д. А. по экономике производства «…Япония — 4, Франция — 9, 5… В пересчете на годовой рост розничных цен… Малыш! Люблю тебя, милый, единственный… По свидетельству журнала английских деловых кругов «Экономист». Во имя тебя хочу совершить подвиг. «Предчувствиям не верю и примет я не боюсь…» Италия — 12, Нидерланды — 4, 5, Великобритания — 8…»
Астраханский вокзал
31 декабря, 21 час 10 минут
Оттепель началась внезапно, за несколько часов до Нового года. Сначала повалил снег, влажный и рыхлый, потом зачастил дождь. Даже в темноте чувствовался туман, к ночи он еще больше усилился, плотная, опустившаяся сверху завеса застыла метрах в десяти над перроном. Денисов поднял воротник, на свой излюбленный манер стащил куртку назад, сунул руки в карманы. По всем платформам Астраханского вокзала шли люди. Наплыв пассажиров продолжался уже несколько дней. — Граждане пассажиры! От первой платформы шестого пути отправится электропоезд… — Конец сообщения Денисов не расслышал. Выход к перронам мгновенно оказался запруженным людьми. Они быстро двигались Денисову навстречу — встревоженный муравейник, заполнивший границы платформы. Впереди бежал человек с квадратным стеклом для аквариума. Денисов взял в сторону, с полсекунды помедлил, пропуская женщину, листавшую на ходу расписание поездов, потом внезапно, рывком, продвинулся на несколько метров вперед. Вплотную за женщиной шли двое — парень в пальто с шалевым воротником и девушка. Сделав сложный поворот, Денисов прошел между ними. Пробираясь сквозь толпу, он мысленно отделял встречных друг от друга и привычно индивидуализировал. Пассажиры, с которыми на платформе произошла бы беда, могли рассчитывать на неожиданную энергичную поддержку инспектора уголовного розыска. Ближе к вокзалу толпа заметно редела. Денисову предстояло обогнуть высокого моряка, младшего лейтенанта, пройти метров тридцать по диагонали, затем плавно повернуть к маленькой незаметной справочной. Это уже не было трудным — впереди освобождали дорогу: отъезжающие как бы признали его право двигаться против течения. Внезапное чувство заставило Денисова обернуться, посмотреть младшему лейтенанту вслед: морская фуражка, полоска кашне над шинелью… Неясный черный мазок с секунду продержался еще в зрительной памяти. Временная потеря курса не прошла бесследно. Сбоку на Денисова наскочил бородач с авоськой, полной журналов. Увернувшись от бородача, он столкнулся со стариком железнодорожником. — Тесновато, товарищ начальник? — Старшина у входа в центральный зал вытянулся с тяжеловесной щеголеватостью старослужащего, слегка прижал жестко выставленные по сторонам локти. С возвышения ему был хорошо виден сложный фарватер дежурного инспектора розыска. — Людей много, — ответил Денисов, обеими руками встряхнул на себе куртку. — Я буду на антресолях. — Понятно. — Старшина поправил висевший на груди миниатюрный микрофон. Едва войдя в зал, Денисов снова понял: такого количества отъезжающих Астраханский вокзал еще не знал. Диваны, кресла, боковые проходы были заняты. Огромный зал напоминал стадион, только места для зрителей находились посредине арены. Завеса тумана по ту сторону стеклянных панелей висела по-прежнему низко, о том, чтобы увидеть привычную бегущую неоновую строчку уличного катехизиса: «Пользуйтесь услугами железнодорожного транспорта», не могло быть и речи. Громадное электрическое табло показывало 21.15. Денисов стянул с головы мокрую шапку, прошел к двери, скрытой стойками касс, и винтовой лестницей поднялся на антресоли. Гул центрального зала слышался здесь глуше — казалось, совсем близко, не прекращаясь ни на минуту, шумит по деревьям светлый весенний ливень. «Чем меня заинтересовал этот моряк на платформе?» — неожиданно подумал Денисов. Давно — после демобилизации — он везде по привычке обращал внимание на моряков — искал «своих». Потом это прошло. — «Может, кого-то напомнил? Но кого? Лица я его не видел, фигуру тоже как следует не разглядел…» Пока Денисов отсутствовал, картину беспокойного ожидания внизу сменила картина великого исхода. Дежурные по посадке открыли двери на перрон, со всех сторон к ним устремились отъезжающие. — Граждане пассажиры, — с опозданием сообщила дикторша, — объявляется посадка на дополнительный скорый поезд Москва — Астрахань… Течение, начало которого проследить было трудно, крепло, в середине зала огибало приподнятую над полом площадку, где стояли кресла, и направлялось к дверям. Денисов еще несколько минут, раздумывая, постоял на антресолях, потом достал блокнот, ручку. «31 декабря, младший лейтенант флота, 21 час 12 мин. Платформа 1». Он взял за правило записывать все, что требовалось объяснить или запомнить. Без этого, Денисов знал, не может быть инспектора уголовного розыска.31 декабря, 21 час 27 минут
Илья снова увидел Капитана, когда волна отъезжающих вынесла обоих из зала. Тот оказался впереди, чуточку сбоку. Здесь, на платформе, им не грозила опасность, и он уже крутил головой, отыскивая Илью. В такие минуты Илья едва переносил своего напарника: на лице Капитана не отражалось ничего, кроме безграничной преданности и любопытства. За время их знакомства Капитан заметно изменился к лучшему: почти не пил, щеголял в новой, с иголочки, морской форме. Как-то внезапно, в одно утро, на выбритых теперь до глянцевого блеска щеках появились симпатичные, почти юношеские ямочки. Илья с трудом узнавал в моложавом белобрысом младшем лейтенанте флота жалкое существо, с которым случайно познакомился на вокзале. — Счастливо встретить праздник, Илья Александрович! — кротко пожелал Капитан, принимая ношу. — Я пошел! — Капитан сразу почувствовал, что портфель Ильи набит не одними тряпками. — Завтра, как договорились, — Небольшой, перехваченный бечевой сверток Илья оставил себе. Выпавший с вечера снег быстро таял. Уборочные машины, отчаянно сигналя, забрасывали лужи пригоршнями мокрого песка. Несколько раз принимался идти дождь, с разных сторон в направлении к поездам спешили люди. «Видел бы сейчас тесть эту сутолоку», — подумал Илья. Сунув сверток под пальто, он вместе со всеми побежал к платформе. Воспоминание об отце жены было мимолетным: в последние годы, когда ноги старика отказали, он переехал в Юрюзань и часами сиживал у окна, наблюдал. Невинное, с точки зрения Ильи, желание прохожих срезать угол газона или проложить дорожку через цветник вызывало у тестя осуждение: старик уважал порядок. — Если приходится топтать газон, чтобы сократить путь, — объяснял Илья новейшую концепцию, — значит, дорожки проложены не там, где следует. Тесть не соглашался. — Человек должен желать пройти весь путь! Не укорачивать. Иначе вот к чему подойдем! — Старик доставал с полки белый полиэтиленовый стакан без ручки. — Будет в каждом доме по такому сервизу на сто персон. Попил чай — и можешь выбросить! — При чем здесь стакан? — Старались, как прямее да короче! Спор был с подтекстом. — …Слышал я, — не уступал тесть, — где-то, перед тем как дорожку проложить, засевают все травой и ждут. Где протопчут тропинки — там и быть асфальту. Да только не верю я в это! Другой все равно для себя дорогу вытопчет. Не с дорожек начинать надо — с человека! …В полутемном тамбуре электрички на полу стояли лужи. Свет полностью не зажигали. Илья внезапно очнулся, откинул голову к стене. «Зачем я здесь? — подумал он. — Какого черта мне надо?!» Теперешнее положение требовало от Ильи ежечасно новых, каждый раз все более удовлетворительных объяснений. Необходимо было доказать самому себе, что не сошел с ума, не заболел, не сделал страшной, непоправимой ошибки, совершив этот внезапный на сто восемьдесят градусов поворот — оставшись в Москве и решившись на авантюру с Капитаном. «Все время думаю об одном и том же! Какой тогда прок от всего этого? Ведь, кроме меня и Капитана, никто ни о чем не знает! Только я и он. Но Капитан не в счет — через пару дней мы расстанемся. Значит, все дело во мне. Почему же не посмотреть проще? Скажем, так: «Лыжник Илья М., воспользовавшись боковой лыжней, слегка выпрямил дистанцию гонки. Конечно, это нельзя приветствовать, но до него так поступали многие!.. «Выпрямил». Видимо, никуда не уйти от этого слова»». Заработали моторы, люминесцентный свет разлился по вагону. Илья вздохнул свободнее. «…Во мне ничто не изменилось. Так же я продолжаю любить жену, сына, рисунки Анри де Тулуз-Лотрека, «Дон-Карлоса», арию Далилы. Экономия в бюджете не распространяется на книги, музыкальные записи. Без «Москоу ньюс» я уже давно никуда не хожу, при первой возможности зубрю слова. Лексика, упражнения, увеличение словарного фонда — все, как было раньше. Одно должно измениться: через несколько дней я куплю дачу, а через год — машину! Как это у Стендаля? «Если Жюльен только тростник колеблющийся, пусть погибает, а если это человек мужественный, пусть пробивается сам»».31 декабря, 22 часа 40 минут
— Товарищ Денисов! — разнесли по вокзалу динамики. — Срочно подойдите к бригадиру поезда номер пять Москва — Баку. Повторяю… Денисов взглянул на часы: посадка на бакинский заканчивалась. Стеклянный свод над платформой дальних поездов усиливал возникавшие внизу звуки — шарканье ног, голоса, таинственные звонки, доносившиеся из операторской. У последнего вагона затянутый в форменный плащ бригадир поезда внимательно слушал, что ему поочередно говорят майор Блохин и незнакомый пассажир. Появление Денисова всех троих как бы подхлестнуло. — Вот товарищ две сумки поставил в купе и пошел за женой. — Блохин, не снимая очки, пальцами протер стекла. — Пока остальные вещи принес, сумки украли. Он передернул плечами. Вечер старший инспектор провел на перроне и основательно промерз в своем колючем пальто и новой шляпе-«дипломат» с загнутыми вверх полями. — Да-а, — вздохнул бригадир и еще сильнее затянул кушак на плаще, — такой это день, товарищ! В четвертый вагон на одно место три билета продали, в шестом тоже два двойника… — Голова его была крепко забита своим. — Куда их посадить, ума не приложу. А ехать всем хочется! — Сержанта я послал в метро, к эскалатору. Сейчас следует хотя бы часть вещей переписать, — в руках Блохин держал блокнот и авторучку, — ориентировать наряд… И поезд отходит! Денисов заметил, что движение в вагонах прекратилось. Провожающие выстроились вдоль окон. — …Может, тебе стоянку такси перекрыть, Денисов? — Действовали не без головы, — потерпевший мигнул Денисову, — видно, следили. Я успел кое-что узнать: оказывается, вторая проводница все видела. Главный у них — в коричневом пальто, носатый. Он на стреме стоял, потом исчез. На левой поле нижняя пуговица пальто оторвана… — Вы в каком купе едете? — спросил Денисов потерпевшего. — В третьем. Девятое и десятое места. Если выходы на площадь перекрыть, по-моему, можно еще задержать: примета характерная! — Извините. Денисов бросился к вагону. — Зеленый дали! — крикнул Блохин. Тамбур был забит людьми. — Провожающие! — волновалась в дверях проводница. — Есть еще провожающие? Денисов протиснулся вперед. В первом купе ехали летчики. — Не видели, здесь выносили сумки?.. — Разве уследишь? Во втором и третьем купе он тоже ничего не узнал. — Здесь уже спрашивал какой-то мужчина, — сообщили в четвертом. Неожиданно Денисов увидел две одинаковые сумки, занимавшие всю нижнюю полку соседнего купе. — Чье это? — Когда мы вошли, они уже стояли. Послышался толчок. Поезд отправился. — Товарищи, чьи сумки? На голоса в купе пробилась женщина. — Господи! Как вы нашли?! — Ваш муж поставил их в чужое купе… По забитому людьми проходу Денисов устремился назад. Навстречу, энергично работая локтями, двигался потерпевший. Как пловцы на дистанции, не замечая друг друга, проследовали они каждый по своей дорожке. Проводница закрывала тамбур. — Нельзя! — крикнула она Денисову. — Теперь только через два часа. — Уголовный розыск! Тон его не позволил усомниться. Денисов спустился на подножку. Опережая свой тихий свист, совсем рядом — по соседнему пути — проскочила электричка. — Осторожнее! Денисов спрыгнул с поезда за выходными стрелками. Блохин ждал его в конце платформы. — Порядок? Думал, тебя в Баку увезут! — Со спальными местами туго. На перронах, успел заметить, пассажиров сильно поубавилось — верный знак, что время приближается к полуночи. — Хорошо сработано, — признал Блохин. Денисов отвернулся: улыбка, с которой он ничего не мог поделать, уже выдавала его скромный неофициальный триумф.31 декабря, 23 часа 10 минут
Время в переполненной людьми электричке пролетело незаметно. В Деганове Илья вышел из поезда, спрыгнул с платформы и пустырем зашагал к оврагу. Снова вовсю хлестал дождь. Ветер, который на вокзале почти не чувствовался, завывал здесь длинно, тоскливо. Впереди на бугре чернел забор мебельной фабрики. Тропа вела к мосткам, построенным для рабочих, живших по ту сторону оврага. Пройдя по пустырю метров триста, Илья резко повернул назад, присел на корточки и замер. Позади никого не было. Ни один подозрительный звук не доносился и от домов, вплотную подходивших к пустырю сбоку. Илья немного подождал, поднялся и стал осторожно спускаться по склону оврага. Туман постепенно рассеивался. На дне оврага бурлил ручей. Благодаря отходам мебельного производства он не замерзал даже в самые лютые морозы. Илья спустился по склону. В том месте, где ручей втягивался в бетонированную трубу, он присел и снова огляделся. Ледяной наст с вмерзшим в него камышом держал крепко. Илья положил сверток на наст, заголил руку, окунул в ледяную воду. Банка была на месте. Илья достал ее, проверил герметически закрывавшуюся крышку. В банке лежал капитал, предназначенный для покупки дачи. Илья переложил деньги из кармана в банку и снова тщательно ее закупорил. Теперь он совсем близок к цели: прописка — и сразу домик в Подмосковье. Через месяц-другой можно будет, пожалуй, перевозить семью. Обратный путь к домам оказался много легче. Прижимая сверток локтем, Илья поднялся по склону оврага, прямиком быстро дошел до жилого массива. По случаю праздника в домах не было ни одного темного окна. Илья нашел дом, поднялся лифтом на восьмой этаж. — Вы?! — Принимая сверток, хозяйка затрепетала. — Догадываюсь, что это. Хрусталь? — Она пожала руку красноватыми крепкими, похожими на мытую морковь в пучке пальцами. — Очень тронута, спасибо. Все в сборе. Он должен сейчас подъехать, уже звонил… Ждали начальника жэка, который обещал помочь с пропиской. Илья снял пальто, закурил, прошел к висевшему в конце коридора зеркалу. Из овальной рамки на него глянуло несколько помятое лицо тридцатилетнего мужчины, с крупным носом и чуть заметной красноватой ниточкой в глубине левого глаза. Илья поправил галстук. «…Этот костюм, рубашка, чистое лицо, руки — разве легко было содержать себя в чистоте, когда приходилось ночевать где попало — на вокзальных скамьях, даже в подъездах?! Сейчас самое страшное позади. Есть деньги, жилье, правда, еще нет прописки». Позади раздался звонок — Илья вздрогнул. Проклятые нервы! — Наконец-то! — Хозяйка пошла кому-то навстречу, послышался звук поцелуя. — А мы уж совсем заждались! Теперь все в сборе. — Погода-то какая! Еле нашел такси, — ответил густой бас. — Вся Москва как с цепи сорвалась! Вслед за ними Илья прошел в гостиную. — Илья, племянник Виктора, учитель физики в школе в Юрюзани и студент-заочник Института иностранных языков, — начальнику жэка надо было говорить правду — все равно узнает из документов. — Помню. — Начальник жэка оказался нестарым, но с лицом, изрытым морщинами. — Я уже зондировал почву, молодой человек, кажется, все будет в порядке. — Кивнув Илье, он снова повернулся к хозяйке: — Так что у нас главное, мать? На что, так сказать, прицел держать? Грибы? Соленья? Чтобы не мозолить глаза, Илья незаметно удалился. В кухне муж хозяйки, Виктор, вел разговор об ипподроме: — …Первым Натюрморт был — все видели! От Магнолии и Евфрата. Одна из хозяйничавших в кухне женщин вручила Илье круглый консервный нож: — Вот кому поручим консервы. Люблю, когда мужчины накрывают на стол: красиво у них получается. Илья улыбнулся из приличия. Другие женщины его не интересуют, хотя он в браке уже восемь лет. Он любит жену. Это как страсть. Как она сказала ему перед отъездом? «Страсть» и «страдание» — слова даже этимологически связаны. То же и в немецком — «ляйден» и «ляйденшафт». У нее врожденная способность к языку… Нет, он не ошибся, когда настоял, чтобы она тоже поступала в иняз. Тесть был против: лишь две специальности тесть считал на свете стоящими — бухгалтера и часового мастера… Да еще, пожалуй, врача! — У вас определенные способности, молодой человек. — Женщина сделала еще одну попытку его расшевелить. — Только прилежание. — Прилежание и упорство лучше, чем гений и безалаберность. «…Сейчас другое время, — доказывал Илья тестю, — о куске хлеба и глотке воды можно не заботиться, а вот о машине, о даче…» Они сидели у тестя в избе, разговаривая, смотрели на вытянувшуюся вдоль забора поленницу. «Если не будете нам мешать, обещаю, она будет счастлива. Я на ветер слов не бросаю». Это был еще один вексель, по которому теперь следовало расплачиваться. Тесть молча пил чай, размачивая сушки в молоке. Будь он покрепче, лет десять назад, он бы не потерпел у себя за столом таких разговоров. «Она будет учиться заочно, уедет со мной в Юрюзань. Но и там мы надолго не останемся, переедем в большой город». — «Каким же это путем?» — спросил старик. «Посмотрим», — пожал плечами Илья. Тесть помолчал. «Будто вся жизнь для тебя в этом, Илья, — дача, машина… Зверьки есть такие — леминги. По радио передавали: упрутся однажды и за тысячи километров бегут к морю, как кто их гонит! Стая за стаей. Там и топятся… Ничем, передали, не своротишь!» — К столу! — закричали из комнат. Облезлый хозяйский дог вошел в кухню, прижался мордой Илье к колену. «Откуда же такое чувство, будто что-то обязательно должно случиться? Словно взялся обучить грамоте этого старого, облезлого дога, прозаложил голову: или он научится читать, или моя голова с плеч долой. И с кем-то из нас неминуемо что-то произойдет! — Илья тихо отстранил собаку. — Может, милиционер на вокзале о чем-то заподозрил? Он как-то странно посмотрел… Или мне показалось? Конечно, все завертится, когда объявятся первые потерпевшие. Скорее бы он проходил, Новый год!»31 декабря, 23 часа 30 минут
Дождь прекратился внезапно. Температура воздуха упала, образовалась гололедица, которую тут же принялись травить солью и посыпать песком. По платформам засновали уборочные машины. Несколько раз Денисов видел издалека парадную фуражку начальника вокзала, которую тот надевал в исключительных случаях. Ни на минуту не умолкало радио. Дежурные по посадке метались от вагонов к администратору — устраивали места, согласовывали. Заканчивался час дополнительных поездов, автокаров, перевозки почты, тележек носильщиков — «час разъезда», час «пик», которого так долго ждали. Внезапно освещенные окна мариупольского скорого отправлением в 23.50 медленно двинулись вдоль перрона. Казалось, кто-то невидимый из темноты потянул к себе провод с маленькими электрическими лампочками. Скошенными квадратами поплыли по асфальту тени. Картине отходящего поезда не хватало завершающего штриха. И когда последний вагон поравнялся со срединой платформы, из тоннеля показалась традиционная фигура опоздавшего. Неудачник в сердцах грохнул чемоданом об асфальт, как это делало до него несколько поколений опаздывавших, и сел, подперев голову руками. Хотя причина опоздания была у каждого из них сугубо личная, все они были заранее принесены в жертву неумолимому Закону больших чисел, определяющему количество всего, в том числе новогодних пассажиров, следственных версий, вещей, оставленных в чужих купе, и опоздавших. Наступила тишина. Туман рассеялся еще раньше. Открылись верхние этажи окрестных зданий, Дубниковский мост. Выведенное вязью «Москва» светилось высоко над головой необыкновенно чистым пламенем… Денисов прошел через тоннель в автоматическую камеру хранения. Здесь было тоже тихо. Аккуратно пронумерованные ячейки поблескивали матово-черными рукоятками электронных шифраторов. Постояв несколько минут, Денисов эскалатором поднялся наверх. Огромный зал был почти пуст. Непривычно ярко блестели скрытые всегда под ногами тысячи квадратных метров вымытого к утру торжественно-серого кавказского мрамора. «Вот он и иссяк, нескончаемый — длиной от одного праздника до другого — поток пассажиров», — подумал Денисов.31 декабря, 23 часа
Капитан ехал в той же электричке, что и Илья. Он стоял в тамбуре и сквозь разбитое стекло двери смотрел в темноту. На станции Деганово он заметил спрыгнувшего с платформы Илью, но не вышел следом: Илья мог увидеть и заподозрить неладное. На ходу с шипением сомкнув двери, электричка двинулась дальше. Никаких планов у Капитана не было. На минуту ему захотелось вернуться в Москву, купить в гастрономе у вокзала «Столичную» или коньяк, но, подумав, Капитан отверг эту мысль: гастроном был уже закрыт, а клянчить у швейцаров ресторана не хотелось. Кроме того, Капитан был одинок — помимо выпивки, душа его жаждала простого человеческого общения. Все-таки это был необычный вечер! Пока Капитан решал, электричка увозила его все дальше от Москвы, мимо некоторых станций она проносилась без остановок. Новый год теперь уже наверняка должен был застать его в незнакомом месте, одного или со случайными попутчиками. Капитан стоял в тамбуре со своим туго набитым портфелем и терпеливо ждал. Неплохо было бы продать все, что находится в портфеле, не обнаглевшим барыгам-перекупщикам, а просто людям, которые будут благодарны за свалившееся на них по дешевке богатство. Посидеть за столом, «обмыть» покупку, утром налегке вернуться. Портфель можно будет просто выбросить. Иногда Капитана спрашивали: — На следующей выходите? Увидев мокрый асфальт, черные силуэты на платформе, он отстранялся. Поезд шел дальше — через неглубокие перелески, за которыми мелькали огни домов, дождливое шоссе. Народ в тамбуре менялся. Капитан продолжал терпеливо ждать. Он знал, что только один раз за вечер, не больше, судьба предоставит в его распоряжение шанс, которым надо суметь воспользоваться. Терпения его хватило бы на всю Юго-Восточную магистраль. В Валееве-Пассажирском толпа внесла в вагон хрупкую пожилую женщину. Капитан уважал старость. — Осторожно! Пожилой человек здесь! — Он метнулся в середину, освобождая свое место у стенки. — Не толкайте! Призыв достиг цели. — Женщину сдавили! — крикнул кто-то. Старушке давно уже ничто не угрожало, но Капитану казалось этого мало. — Еще назад, товарищи! Желание делать добро, как по цепи, передалось всем. В переполненном тамбуре мгновенно отгородили достаточно места, где старушка могла стоять, никого не касаясь. При этом пришлось потеснить нескольких женщин, в том числе одну с ребенком, — никто, и она в том числе, на это не сетовал. Капитан проявил себя прирожденным лидером. Под его руководством пассажиры образовали проход, по которому он переправил пенсионерку к дверям и вместе с ней втиснулся в салон. — Сюда, мамаша… На ближайшей скамье нашлось место. Старушка растерялась, забыла поблагодарить своего покровителя. За нее это сделали трое мужчин-южан, сидевших напротив. — Присаживайтесь, товарищ капитан! — Все трое аппетитно попахивали коньячком, ехали, как потом выяснилось, в аэропорт и начали встречать Новый год заблаговременно. — Благородный человек! — Старший из них, что сидел у окна, добавил несколько слов на родном языке и поднял с пола плоский ящичек-чемодан с блестящими замками — в нем оказались стоящие вертикально бутылки. — За благородный человек!1 января, 4 часа 03 минуты
Предутренние часы тянулись особенно долго. Возбуждение после бессонной ночи давало о себе знать беспокойством и непроходящей моторностью. Происшествий не было. В ожидании первой электрички Денисов вошел в дежурку. За стеклянной перегородкой Антон Сабодаш читал журнал. Обтекаемые формы аппаратов и пластик придавали дежурной комнате вид ультрасовременный. На пульте связи лежали накопившиеся за ночь бумаги. Сабодаш не поднимал головы. — Зима какая-то чудная в этом году. — Провести молча оставшиеся до поезда минуты Денисову казалось неудобным. — Вот и Новый год тоже: дождь и мороз… — Есть неопределенность, — не отрываясь от журнала, подтвердил Сабодаш. — Может, весна будет дружной? — Не исключено. Теперь можно было уходить, оставив дежурного наедине с его журналом. — Скоро поезд. — Первую электричку по традиции встречали еще с той поры, когда не было связи с дальними полевыми станциями. — Возьми с собой старшину, он в бытовке, — Антон перевернул страницу, — я сейчас. — О чем там все-таки? — Денисова разобрало любопытство. — Детектив? Сабодаш наконец поднял голову. У него были рыжие усики и глаза человека, с детства обеспокоенного своею физической исключительностью. — Как тебе сказать? — Он заглянул в мудреное название. — Кто-то забыл в электричке. Мне его утром сдавать. — Убийство? — Квартирная кража. В общем, скрипку Страдивари украли. Меня другое заинтересовало. Идея такая: у каждого человека есть в жизни событие, от которого все зависит на будущее. Уот! — Твердое носовое «уот!» служило Антону для усиления главной мысли. — Понимаешь, как бы звучат колокола судьбы. Только одни их слышат, а другие проходят мимо… Уот!1 января, 4 часа
— До чего же невыносливый пошел пассажир! Особенно мужчины! Дашь им нести одну-единственную вещь, скажем, к примеру, магнитофон, — и уже стоны! Рядом слабая жена несет две сумки — и ничего! Женщина держала в руках авоськи со всякой всячиной — детскими варежками, колготками, лыжными костюмчиками. — Мы уезжаем, — объявила она дежурному по автоматической камере хранения, — можете предложить нашу ячейку желающим. — Сейчас освободим, — подтвердил муж. Дежурный, парень с вьющимися до плеч волосами, рассеянно посмотрел в их сторону и сделал несколько шагов длинными, вяло ступавшими ногами. Мысли его витали далеко от авто камеры. Мужчина подошел к ячейке, набрал шифр и дернул дверцу. Дверца не открылась. Тогда он поставил магнитофон на пол. — Ох уж этот мне сильный пол! — Теперь они держались за рукоятку вдвоем. Ячейка не поддавалась. Утренний зал быстро наполнялся людьми. Прибыли первые в новом году поезда дальнего следования — фирменный «Лотос» и почтово-багажный. Короткие каникулы зала для транзитных пассажиров продолжались в общей сложности не больше трех часов. — Ну что дергать-то зря? — Рыжеватый человек с повязкой «Механик» протиснулся к ячейке. — Шифр надо правильно набирать! — Он оставался за дежурного. — Мы правильно набирали. — Женщина хотела что-то добавить, но мужчина сказал примирительно: — Бывает, конечно. Как же теперь быть? — Сейчас узнаем. — Грубоватый механик что-то прочитал на клочке бумаги, который предварительно извлек из кармана. — Открытой вы оставили ячейку. Я ее после вас запирал, вот она — четыреста семьдесят четвертая. У меня все записано. — Он ловко вывинтил контрольный винт и, услыхав зуммер, ключом-секреткой поддел внутренний рычаг запора. — А дел-то, между прочим, всего: бросил монету, набери четыре цифры изнутри, чтобы никто не видел, захлопни дверцу и иди! — Пока он говорил, зуммер продолжал тревожно звенеть. — Что в ячейке? — Сумка, чемодан, — женщина растерялась, — все перечислять? В сумке подарки… Авоська с апельсинами… — Сверху что? — Механик поставил на место контрольный винт, и звонок прекратился. — Два плаща-болонья — зеленый и синий, капюшон от зеленого лежит отдельно, — она успокоилась, — в кармане сумки: деньги, аккредитивы, документы… Учебник английского языка Бонка и Лукьяновой, авиабилет от Южно-Сахалинска. Две бутылки водки. Кинокамера, экспонометр… Механик распахнул дверцу. — Что это? — спросила женщина. Слева, в дальнем углу ячейки, стояли две бутылки фруктового напитка «Саяны» и наполовину пустая авоська с апельсинами. Сбоку белел сверток с этикеткой «Детского мира», других вещей в ячейке не было. — Где же чемодан? Сумка?! Ранние пассажиры и длинноволосый дежурный, прогуливавшийся вдоль отсека, словно догадались о происшедшем — напряженно смотрели в их сторону.* * *
…Под Дубниковским мостом, на стрелках, уже виднелась первая электричка. Она, казалось, стояла на месте, только середина ее беззвучно раздувалась то с одной, то с другой стороны, как будто странное пресмыкающееся дышало. — Товарищ Денисов! — раздалось вдруг из громкоговорителей. — Срочно зайдите в автоматическую камеру хранения. Повторяю…1 января, 4 часа 10 минут
Потерпевшие стояли у раскрытой ячейки. — Слушаю вас. Младший лейтенант Денисов. Мужчина скользнул взглядом по его небрежно откинутой назад куртке. Шапку с опущенными наушниками Денисов держал в руке — он снимал ее, как только предстояло работать в помещении. — Просто не верится, — женщина закусила губу, — как сон! — Как же, сон! — Горелов, механик по автоматическим камерам хранения, не принимал к сердцу бед огромного количества растерях, именуемых пассажирами, которые, считал он, едут, едут зачем-то и зимой, и летом, и пожилые, и больные, и с детьми, не могут верно набрать и запомнить шифр, а правил пользования камерами хранения и вовсе не читают — отсюда и идут все их и его неприятности. Коренастый милиционер с красным лицом — он словно только что покинул парилку, появился неожиданно, как из-под земли: — Ячейку, товарищ младший лейтенант, обнаружили открытой вчера вечером. Думали, кто-то забыл сверток и бутылки. Я распорядился закрыть на другой шифр. — В какое время обнаружили? — спросил Денисов. — Примерно в двадцать один тридцать. — А мы ячейкой пользовались часов в пять вечера, — вступил в разговор потерпевший. — Дверцу хорошо проверили? — спросил механик. — Закрыто было — это я точно говорю. «Ячейка не могла простоять открытой почти пять часов», — подумал Денисов. — Кто из вас набирал шифр? — Я набирал, девятнадцать — тридцать восемь. — Мужчина старался держаться с достоинством. — Хотя бы документы подбросили. — Его жена хрустнула переплетенными пальцами. — Как вы думаете, на какой день могут подбросить документы? — Одному документы, другому — только бы конспекты нашлись, — вспылил Горелов, — третьему — удостоверение или права! Преступников надо искать, обезвреживать их! Денисов оглянулся: дежурный по камере хранения Порываев видел, что с ячейкой что-то произошло, однако не спешил подойти — разговаривал с пассажирами. Автоматические камеры хранения Денисов знал лучше других инспекторов, потому что, когда впервые появились автоматы, стоял на посту у автокамер. Секций тогда было совсем мало, и Денисов в основном занимался тем, что объяснял их назначение пассажирам. — Принцип работы совсем простой, — говорил он, — четыре рукоятки шифратора снаружи, четыре внутри. Все соединены с цифрами. Поставьте в ячейку вещи, наберите четыре цифры на внутренней стороне дверцы, опустите монету и можете закрывать. Когда нужно открыть, снова наберите те же цифры, но уже снаружи. И здесь же показывал, как это делается: поворачивал черные ребристые рукоятки шифраторов с внутренней и внешней стороны дверцы. «Принцип работы несложен, — сформулировал Денисов для себя еще в те дни, — автокамеры подчиняются тому, кто владеет шифром. Одно плохо: они не делают разницымежду теми, кто этот шифр избрал, и теми, кто его подсмотрел, подслушал или угадал». …Мокрый воротник холодил шею, Денисов снова отбросил его назад. — Когда вы заняли эту ячейку? — Это был один из наиболее важных вопросов. — Тридцатого вечером, как только прилетели с Сахалина. Мы уже третий день в Москве — ходим по гостям, принимаем подарки, сами дарим. — Мужчине никак не удавалось перевести дух. — За эти дни несколько раз открывали ячейку, все было в порядке. И вчера вечером тоже… — Шифр меняли? — Пользовались одним. Считаете, следовало менять? — Правило надо читать! — снова взорвался механик. — Там же черным по белому — «нельзя пользоваться дважды»… И так далее. Вот люди! Денисов перебил его: — Не могли у вас подсмотреть? — Как только ячейка открывалась, я сразу набирал снаружи первые попавшиеся цифры… Шифр оставался только изнутри. Понимаете? Там его никто не мог увидеть. — Сосредоточьтесь на последнем приходе в автокамеру. Если шифр подсмотрели, то только в этот раз. — Тогда я спокоен. — Не понял. — Именно в этот раз шифр подсмотреть не могли. Здесь никого не было. — Совсем никого? — Ни одного человека — в такую минуту попали. Открыли ячейку, сунули веши, монету бросили — и хлоп! Дверцу закрыли. Всего несколько секунд стояли. Горелов вмешался в разговор: — Тогда их никто не взял. Целы вещи! — Думаете? Где же они? — В другой ячейке. — Но мы в эту клали. Механик раздраженно хмыкнул. — Поймите раз и навсегда: нельзя открыть ячейку, если не знаешь шифра. А вы сами сказали — рядом никого не было! — Тогда как же попали в ячейку апельсины? Джинсы из «Детского мира»? Кто их туда переложил? — Джинсы! Здесь и не такие чудеса бывают! Вчера, например, у пассажира сумка в одной, а портфель — в другой ячейке… Да и не в том отсеке! И все цело, а человек доказывает: «Вместе клал!» Ячейки, они все одинаковые. Бывает, человек отвлечется — вещи положил в одну, а шифр набирает на другой! Вот что: пишите заявление, приметы вещей укажите. Будут камеры хранения проверять, найдут — вышлют по указанному адресу. — Горелов лез из кожи, чтобы дело обернулось привычной перепиской между пассажиром и вокзалом. — Как часто проверка? — Через каждые десять дней. Последняя была двадцать восьмого. Пассажир вопросительно посмотрел на жену. Денисов вмешался: — Соседние ячейки проверим сейчас. Дежурный будет приоткрывать дверцы, не показывая шифр, а вы следите. Может, действительно найдем. Механик в сердцах махнул рукой. Дежурный по камере хранения Порываев по кивку Денисова подошел ближе. — Но вы же не знаете, на какой шифр заперты ячейки! — Потерпевший с сомнением взглянул на Денисова. — В камере хранения есть ключи ко всем ячейкам. Один хранится у дежурного, второй — у механика. Открывайте, пожалуйста, с четыреста пятьдесят пятого. Порываев словно ждал сигнала. Тревожно зазвенел зуммер. — А дежурный, между прочим, тот же самый. При нем приходили, — как-то со средины продолжил свою мысль потерпевший, отходя с Денисовым в сторону. Жена его в это время как завороженная следила за хорошо отрепетированными движениями дежурного. — Вот вы спросили, кто был, когда мы в последний раз открывали ячейки. Я ведь о нем не подумал. А он был. Несколько раз мимо меня прошел… — Потерпевший незаметно кивнул на Порываева. — Любопытно… — Меня еще память ни разу не подводила. «Что это за история с сумкой и портфелем, которые клали вместе, а нашли в разных ячейках? Выдумка Горелова, чтобы легче отделаться от потерпевших? А если нет? Выходит, кто-то специально перенес вещи в другую ячейку. Зачем? Чтобы потом взять. Но почему все цело?» Порываев проверил ячейки до угла отсека и теперь приближался к Денисову и потерпевшему по другой стороне ряда, ловко орудуя ключом-секреткой. — …Вам не кажется подозрительным? Почему он подходил к нам, когда мы закрывали ячейку? Какая в этом была необходимость? Денисов не ответил. — Стойте! — неожиданно крикнула женщина. — Вот наши вещи! Сумка и чемодан! Мужчина метнулся к ячейке: — Они самые! — Видите! — зашумел Горелов. — И ячейку-то правильно не запомнят! А все едут, едут… И шифр другой — четыре пятерки! Потерпевший притих, он смущенно улыбался, пока жена проверяла вещи. — Что это?! Я «молнию» застегнула до конца. Хорошо помню! Кинокамеры нет. Еще каких-то вещей… Хрусталя, баккара в серебре. Я его отдельно завертывала. Экспонометра… — Испорченный был, искупался в Тыми прошлый год… — …Духи. Ну и апельсины… При упоминании об апельсинах механик нервно хрустнул нераспечатанной пачкой «Столичных». — Вы лучше ищите! Если бы уж взяли, то все взяли, вместе с сумкой. Станет вам вор здесь с вещами располагаться, отбирать! Ждать, когда поймают! Он взял — и ходу! «Надо вызывать следователя, давать ориентировки, — подумал Денисов, — как пишется «баккара»? С двумя «к»?»1 января, 4 часа 20 минут
«Всем, всем. 31 декабря примерно в 21 час на Астраханском вокзале совершена кража вещей из автоматической камеры хранения. В числе похищенного — хрустальная ваза, баккара в серебре в виде чаши, закусочный прибор серебряный на восемь предметов, кинокамера «Кварц», фотоэкспонометр «Ленинград» — номера уточняются, флакон французских духов «Ле галон» с изображением на этикетке парусного судна, деньги в сумме… Прошу принять меры розыска преступников и похищенных вещей. Дежурный по отделу милиции на станции Москва-Астраханская. Капитан милиции Сабодаш».1 января, 4 часа 40 минут
Следователь и эксперт заканчивали составлять протокол осмотра, когда в отсеке камеры хранения появился майор Блохин. Старший инспектор был не один — позади держались двое похожих друг на друга мужчин — отец с сыном. — Кажется, еще кража, — объявил Денисову Блохин, — ну и подежурили мы! Наверное, по благодарности отхватим. — Он протер пальцами стекла очков и пристально посмотрел на Денисова. — Набрали шифр, а ячейка не открывается. Денисов отвел взгляд: Блохин мог «пересмотреть» кого угодно. — Может, перепутали шифр? Или ячейку? — Вряд ли. В подтверждение его слов потерпевший-сын кивнул. Следователь и эксперт из оперативной группы управления милиции подошли ближе, прислушиваясь к разговору. — Нам пока не уходить? — спросил эксперт. — Заодно и эту ячейку осмотрим. — Ему явно не хотелось снова приезжать на Астраханский. — Сейчас узнаем. Молодой человек! — крикнул Блохин Порываеву, видневшемуся в конце отсека. — Подойдите на минутку! — Блохин нервно передернул плечами — казалось, он так и не отогрелся за ночь. Полные, обросшие за ночь щеки старшего инспектора и особенно шея отливали с мороза лиловато-красным. Дежурный подошел к ячейке. Дверца открылась под тревожный аккомпанемент зуммера: внутри оказался чемодан из свиной кожи, перетянутый толстыми ремнями. — Не наш, — сказал молодой, сильный акцент выдавал в нем уроженца Прибалтики, — наш небольшой, новый. Мы его неделю назад купили в Каунасе. — Когда вы клали вещи? — заученно спросил Блохин. Потерпевшие перекинулись несколькими фразами. — Отец говорит, что он клал чемодан утром тридцать первого. Он говорит еще, что здесь в это время было много людей, но отец надеется, что все будет в порядке, поскольку он аккуратно выполнил все предписания. — Спросите, кого он подозревает из тех, кто находился в отсеке? — разговаривая, Блохин снимал и снова надевал свою шляпу. — Кто из них мог подсмотреть шифр? — Он говорит, что не знает. — Извините, — Денисов почувствовал неловкость, демонстрируя явное нетерпение, — на какой шифр была закрыта ячейка? — Год своего рождения… — А именно? — Одна тысяча восемьсот девяносто два. Все оглянулись на человека, который не подозревал, что речь идет о нем, и все время, пока находился у ячейки, оставался одинаково невозмутимым. Блохин снова разыскал Порываева, успевшего скрыться в лабиринте отсеков. — Измените шифр так, чтобы новый никто не знал. Когда придут за чемоданом, пошлите ко мне или к Денисову — узнаем, с какого времени лежат вещи. Порываев просунул руку в ячейку, не глядя, чтобы его не могли потом упрекнуть, изменил шифр внутри. — Могу идти? Старик литовец что-то сказал, показав на дежурного, сын перевел. — Этот дежурный был недалеко. — Мы вернемся к этому разговору. Что же находилось в чемодане? — Блохин глубже натянул шляпу-«дипломат». — Он говорит, — начал сын с излюбленной формулы, — вещи и чемодан большой ценности не представляют. Только кожаная папка, она лежала на дне чемодана. В ней были деньги. Он еще говорит, что приехал покупать машину «Жигули».1 января, 5 часов 10 минут
— И сразу заявили о второй краже! — кричал в трубку Сабодаш. Увидев Денисова, дежурный на секунду зажал своею огромной ладонью мембрану. — Ничего нового нет? Звонки, брат, совсем одолели! Сейчас с дежурным по управлению разговариваю в третий раз! Алло! Да, слушаю! Куда мне пропадать?! Еще несколько секунд они говорили втроем. — Первая электричка как? Нормально? — спросил Денисов. — Нормально. Вон портфель кто-то забыл, футляр от электробритвы. — Детективов больше не приносили? Антон вздохнул, убрал с мембраны ладонь: — …Сейчас инспектор подошел — пока ничего нового… За то время, пока Денисов отсутствовал, дежурная часть сильно изменилась, со стола исчезло все лишнее, пол подметен, журнал, который всю ночь читал Сабодаш, лежал в стороне, прикрытый суточной ведомостью нарядов. Пока дежурный, ежесекундно замирая, разговаривал по телефону с начальством, у Денисова появилась первая возможность осмыслить случившееся. Обычно преступник забирал вещи сразу после того, как узнавал шифр. Поэтому время последнего пользования ячейкой и время кражи практически совпадало. Если допустить, что обе кражи совершены одним лицом, на этот раз все обстояло по-другому: одну ячейку закрыли утром, другую — поздно вечером. Может, преступник подсмотрел шифр литовца утром, а за вещами приехал вечером и одновременно узнал шифр ячейки с хрусталем?! Денисов отверг эту возможность: вор не мог быть уверенным, что старик литовец не возьмет до вечера свой чемодан — рисковать не имело смысла. Вор Мог приехать дважды. Интересно, с какого часа лежит в ячейке литовцев чемодан из свиной кожи? С утра или его положили вечером? Резкий звонок оборвал его рассуждения. На коммутаторе оперативной связи вспыхнула красная точка. — Дежурный слушает! — В руке Сабодаша трубка выглядела маленькой гуттаперчевой игрушкой. — Здравия желаю, товарищ полковник! «Новое, пожалуй, и то, что в одном случае преступник не взял вещи полностью, а только самые ценные — хрусталь, кинокамеру, деньги… Остальное почему-то перенес в свободную ячейку — перепрятал. Может, думает вернуться?» — Веришь ли, — отключая коммутатор, сказал Сабодаш, — когда с начальством говорю, всегда тушуюсь! И всегда в мое дежурство оно приезжает. — Сабодаш был человеком решительным и храбрым, не любил особенно задумываться, предпочитая напористость сомнениям и выжиданию. — Холодилин звонил. Из машины. Через десять минут будет здесь. — Успеешь подготовиться, Антон? Кто ориентирован, кого куда направил? — Подожди — покурю. Он только выехал… Однако злосчастной судьбе Сабодаша даже десять минут, отпущенные Холоди-линым. по-видимому, показались чрезмерно большим сроком. Совсем скоро за окнами мелькнули черные крылья разворачивающейся «Волги». Вторая, серая, неприметная, с работниками уголовного розыска, приткнулась поодаль, между контейнерами почтовой перевозки. В коридоре послышались стук дверей, шаги, громкие голоса. Первым вошел полковник Холодилин, заместитель начальника управления, высокий, сухой, в надвинутой на глаза папахе. За ним — работники опергруппы, все, кто в этот час оказался под рукой. Холодилин не стал дожидаться рапорта, посмотрел на Денисова, который, подобрав руки по швам, стоял у дверей, и сразу прошел к столу дежурного. — Какие изменения? — Все по-прежнему, товарищ полковник, как я докладывал… На коммутаторе зажегся огонек — трубку снял Холодилин. — Нет, не ошиблись. Дежурная комната милиции. Холодилин у телефона. — Звонивший на том конце провода от неожиданности, должно быть, потерял дар речи, потому что Холодилин немного помолчал, давая время прийти в себя. — На вокзале совершены два преступления. Когда вы думаете прибыть? А успеете? Прошу прибыть в течение часа и обеспечить руководство нарядом… Разговаривая, заместитель начальника управления цепким взглядом прошелся по дежурке, обнаружил высунувшийся из-под ведомости журнал. — История Амати и Страдивари? — Положив трубку, он пробежал глазами оглавление. — Всю ночь читали? На дежурного было жалко смотреть. — Я мельком… Самую суть! — Гете потратил восемьдесят лет, чтобы научиться читать эту самую суть… — Разрешите! — На пороге показался старший инспектор Блохин, он привычно, не снимая очков, протер пальцами стекла. — Есть новые данные. — Прошу, — как многие прошедшие по служебной лестнице с самого низа, Холодилин обращался к подчиненным по званиям и произносил их подчеркнуто уважительно, — докладывайте, товарищ майор. — Чемодан со второй кражи нашелся. В нем всецело… — Кроме денег? — Да, за исключением денег. — О преступнике ничего не известно? — Нам кажется, преступник в обоих случаях был особенный: шифром не интересовался. — Что вы имеете в виду? — Товарищ полковник… — Блохин перевел дыхание. — Когда потерпевшие, муж с женой, клали вещи, в отсеке не было ни одного человека. Ни души! Как преступник мог узнать шифр? Другая важная деталь: чемоданы и сумки преступник с собою не забирает! Наша точка зрения, — он кивнул на дежурного и Денисова, — в совершении краж участвовал кто-то из персонала камеры хранения. Без своих здесь не обошлось. Их все знают, им нельзя вынести сумку или чемодан целиком, поэтому исчезает то, что занимает мало места, что можно спрятать в карман, в портфель. Обстановка разрядилась. — Значит, вы уже успели кое-что проанализировать… Денисов выдержал испытующий взгляд Холодилина, хотя ему не понравилось, что старший инспектор включил его в число авторов своей версии. Зачем это? В последнее время Блохин всюду, где только мог, превозносил его — будто наверстывал упущенное за то, что не замечал раньше. — …Засада у ячеек не имеет смысла: вор за оставшимися вещами не придет, товарищ полковник. — Пока рано делать вывод. Розыск начнет оперативная группа управления. Часть людей мы выделим для свободного поиска преступника. Наиболее сильных. Они будут как бы на положении «блуждающих форвардов». — Холодилин взглянул на часы. — Скоро приедет начальник розыска, он организует проверку версий. Вы, товарищ майор, — Блохин сделал шаг вперед, — вместе с младшим лейтенантом идите отдыхать. Утром продолжите розыск. Капитан Сабодаш, — Холодилин не забыл дежурного, — будет с вами. Новый год он будет встречать позднее. Нет возражений? — Ясно, товарищ полковник, — громко ответил за всех Антон, — разрешите исполнять?1 января, 5 часов 50 минут
Начальником органов милиции Московского железнодорожного узла.В отдел милиции Астраханского вокзала поступило второе заявление о краже вещей, приметы похищенного уточняются. В связи с появлением на узле преступника, совершающего кражи из автоматических камер хранения, примите меры предосторожности на московских вокзалах, совместно с администрацией организуйте разъяснение правил пользования автокамерами, усильте наряды милиции по охране указанных объектов. Приметами преступника не располагаем. Холодилин.
1 января, 5 часов 55 минут
Начальникам управлений транспортной милиции (согласно перечню).Срочно сообщите наличие нераскрытых краж из автоматических камер хранения, аналогичных совершенным в Москве на Астраханском вокзале, сведения о лицах, намеревавшихся выехать в Москву с целью совершения краж…
1 января, 6 часов 40 минут
Начальникам отделов милиции Московского железнодорожного узла.В отдел милиции Астраханского вокзала поступило третье заявление о краже вещей из автоматической камеры хранения…
* * *
Полковник Холодилин не колебался: несмотря на праздничный день, разыскные мероприятия следовало развертывать в полном объеме. Следующее преступление могло произойти в любую минуту, на любом из девяти московских вокзалов. Для координации действий был создан оперативный штаб. Холодилин сам принял на себя руководство операцией. И хотя кражи совершались на одном Астраханском, главное внимание управление милиции сосредоточило на Курском и Казанском вокзалах, где было размещено несколько тысяч автоматических ячеек. Сюда решено было стянуть резервы со всего железнодорожного узла, оперативный дивизион, усиленный курсантами школы подготовки со станции Силикатная. Перфокартотека должна была выбрать наиболее квалифицированных преступников — специалистов по кражам из автоматических камер хранения, не приобщившихся к труду и общественно полезному образу жизни. Во все концы полетели запросы с просьбами о срочных проверках. Сигнал тревоги прозвучал в аэропортах, аэровокзалах, где тоже имелись автокамеры и велся учет лиц, задерживавшихся при попытках самочинно ознакомиться с содержимым чужих ячеек. Первыми ощутили приближение начинающейся операции сотрудницы Центрального адресного бюро — по невиданному доселе в первые новогодние часы количеству запросов и справок. Начальник архива получил приказ прибыть на службу. Штаб Московского управления транспортной милиции получил приказ на 21 час 30 минут представить руководству комплексный анализ оперативной обстановки с указанием необходимых упреждающих мероприятий органов милиции.1 января, 8 часов 10 минут
— Ну и спать ты! — с завистью сказал Блохин, дергая Денисова за плечо. — Я и кофе пил, и в отделе побывал, — он заглянул Денисову в лицо, пытаясь «поймать на взгляд», — где, думаю, ты пропадаешь? Может, все преступления успел раскрыть? Денисов поднялся. Комната отдыха локомотивных бригад, в которой для него нашлось место, казалась необыкновенно сухой — с геранью на окнах, домашними ситцевыми занавесками. — …Отдохнул? Денисов догадался: старшему инспектору не терпится сообщить какую-то важную новость. — Вчера ты пятьсот вторую ячейку вскрывал? — Когда искали хрусталь, мы проверили весь отсек. — В ней вещи были? Не помнишь? — Наверно! Пустых ячеек не было. Одеваясь, Денисов подошел к окну. С высоты вокзала открывался вид на тихий, непроснувшийся город. Неярко светило солнце. В прозрачном воздухе дали казались особенно тонко прорисованными, точно высветленными. Несмотря на большое расстояние, Денисов различил вдали очертания бывшего Спасо-Андрониковского монастыря, Сыромятники. Тени домов лежали на пустых улицах. Денисов давно уже не видел такого ясного утра. Фирменный астраханский «Лотос» выполз с Дубниковки на мост между сдвинутых углом высоких, непохожих друг на друга зданий. Скоро должны были объявить посадку. — Так вот: пятьсот вторая ячейка обворована, — Блохин не позволил долго любоваться видом столицы. — Если хочешь, для меня это новостью не явилось. Вещи лежали с двадцать шестого декабря. Сегодня Порываев ее открывал — вещи были. Теперь она пуста. Последний вагон астраханского фирменного, описав полукруг, скрылся по другую сторону площади. — …Сомнений быть не может. Денисов накинул куртку, вслед за Блохиным узким проходом пошел к винтовой лестнице. Эта старая, не подвергавшаяся реконструкции часть вокзала славилась лабиринтами переходов от узких, в которых едва можно было разминуться вдвоем, до невиданно широких — дань исчезнувшему архитектурному стилю, — про них говорили, что автофургон мог спокойно проехать от кабинета начальника станции до операторской. — Мало поспали, — сказала вслед дежурная, — может, еще придете? — Спасибо. В другой раз… — Известно еще кое-что, — на ходу объяснял Блохин, — известный тебе Порываев иногда появляется на вокзале не в свою смену. Видят его и в час, и в два часа ночи… Иногда спит у механика, за билетной кассой. — Странно. — И еще как! Живет на линии, в Белых Столбах. Зачем ему приезжать в Москву? — У тебя точные данные? — Абсолютно достоверные. Дежурная по посадке недавно видела; приехал с последней электричкой… Может, он и занимается кражами? Старший инспектор все время чуточку спешил и в своих рассуждениях был как бы тоже на ступеньку впереди Денисова. Едва Денисов оказывался рядом и пытался в чем-то самостоятельно разобраться, Блохин снова делал шаг вперед. Работать с ним в паре было всегда нелегко. Наконец Денисову удалось временно перехватить инициативу. — На других вокзалах все тихо? — В том-то и дело. Если бы кто завелся, с Казанского бы давно просигналили. Смущает меня этот дежурный! — Но ведь Порываев всю ночь провел с нами. Когда ему успеть совершить кражу? — Мы с тобой за Порываевым не следили, а потом и вовсе ушли. — Остался милиционер… — А во-вторых, дежурному необязательно красть самому, — Блохин чуть задержался, открывая дверь в зал, — достаточно открыть ключом ячейку, подсмотреть шифр и передать сообщнику! — Но в этом случае необязательно брать столько, чтобы уместилось в кармане или портфеле! Можно взять чемодан целиком. — И все же, если шифр не подсматривали, значит, ячейку открыли ключом! Согласен? Чтобы никому не мешать и в то же время почувствовать обстановку, они пристроились к очереди, тянувшейся к суточной кассе. Людей в зале было не очень много, но пассажиры все прибывали. Тяжелые входные двери из стекла и металла ни на секунду не оставались в покое. — Холодилин предложил тебя для проведения личного сыска на вокзале, — вспомнил Блохин, — помнишь, он говорил — «блуждающий форвард», глаза и уши отделения уголовного розыска… — Про глаза и уши не помню. — Это он раньше на совещании так выразился. Смотри не подведи. — По ревнивому тону Денисов понял, что его назначение задело старшего инспектора. — Мне тоже придется больше находиться в залах, но в первую очередь я думаю заняться Порываевым. — Он еще на работе? — Там путаница с отгулами. Сегодня он будет до шестнадцати, отдохнет и снова выйдет в ночь. — А механик? — Горелов тоже… Хочешь пари? Денисов тайно считал себя неплохим психологом, но порою он становился в тупик, пытаясь понять Блохина: границы его характера были слишком расплывчаты и нечетко очерчены, а строй мышления незнаком вовсе. Вот и сейчас старший инспектор сказал то, что Денисов от него совсем не ожидал. — Посмотришь: сегодня или завтра в автокамере будет еще кража. Чтобы снять подозрения с дежурных. Вы, мол, нас проверяете, а кражи продолжаются. — Блохин покосился на очередь, но никто ничего не слышал. — Вспомнишь меня! — Он поправил шляпу и громко простился: — Давай, старик, пиши! Денисов немного постоял в очереди. Ему ни разу не приходилось быть на положении «блуждающего форварда». Он припомнил все, что связано со свободным розыском, — раскрепощенность версий, работа в относительной изоляции — без непосредственной локтевой связи с товарищами наблюдать, делать выводы, сопоставлять.1 января, 8часов 15 минут
Начальникам милиции Московского железнодорожного узла.Передаю приметы вещей, похищенных в период с 26 декабря по 1 января из ячейки автоматической камеры хранения № 502 на Астраханском вокзале. Для сведения сообщаю, что футляр похищенной электробритвы «Эра» обнаружен в электропоезде Аэропорт — Москва, прибывшем на Астраханский вокзал 1 января в 4 часа 12 минут, в том же вагоне электропоезда изъят бесхозный портфель коричневого цвета импортного производства. Холодилин.
1 января, 8 часов 40 минут
Кабинет, который Денисов занимал вместе с Блохиным и еще одним инспектором — капитаном Кирой Колыхаловой — ККК, значившейся в краткосрочном отпуске по случаю Нового года, был особенный — с ромбовидным стрельчатым окном, ступеньками у входа и колонной, поддерживавшей арочный свод. Холодилин разместил в нем свою оперативную группу и обосновался сам. Когда Денисов и Блохин появились в кабинете, там уже сидело несколько человек. Никто из них не снял пальто, готовый в любую минуту спуститься к машине. Позади полковника Холодилина, сидевшего за столом Блохина, с пачкой телеграмм стоял Сабодаш, он тоскливо посмотрел на вошедших. За приставным столиком сидела проводница утреннего электропоезда Нина Устюжанина. Она успела переодеться — Денисов ее едва узнал. — …Только спустилась я с платформы, стала хвостовой вагон огибать, слышу, кто-то идет сзади! — Вы хотите сказать — кто-то из пассажиров электрички пошел не к вокзалу, а через товарный парк? Назад? — Сидевший напротив инспектор перегнулся к ней через столик. Нина кивнула. — …Куда же он мог в таком случае идти? — Видно, на Дубниковку пошел. — Устюжанина достала из кармана платок, приложила к лицу. Ей, по-видимому, нравились резкие тона: платок был ярко-оранжевый, пальто из жатой кожи алое, брюки из темно-фиолетовой шерсти. — А может, на станцию, — она показала на окно, — в девятиэтажку. Я даже перепугалась сначала! За хитросплетением переулков, за одинаково занесенными снегом заборами розовел новый девятиэтажный дом. — Как вообще прошла поездка? — спросил тот же инспектор. — Трудная была ночь? Пассажиров много? Денисову нравилось, как инспектор задает вопросы, только голос был уж чересчур вкрадчивым. — С аэропорта не знаю сколько село… — А в Тополином? — Там платформа дугой, плохо видно. — Вы сами проходили по вагонам в аэропорту? — А как же? — Этого всего не было? — Вторгшийся в разговор Холодилин показал на расстеленную в углу газету. Денисов повернул голову, куда указал полковник. Кроме обычного вагонного сора, он увидел коричневый мятый портфель, пластмассовый черный футляр от электробритвы, несколько окурков. Денисов догадался, что Холодилин приказал подмести вагон и осмотреть мусор. — Портфель бы я увидела. — Устюжанина пожала плечами. По знаку Холодилина инспектор выключил диктофон и вместе с проводницей поднялся к дверям. С ними ушел еще один инспектор, который сидел у окна, третий их товарищ, дремавший на диване, остался неподвижным. — Что еще? — спросил Холодилин у дежурного. — Ничего существенного, товарищ полковник. — Сабодаш перелистнул не сколько ориентировок. — Кража ковра из пункта технического осмотра на Павелецком… «Господин Абдулали Саад-Эль Омейра утерял дипломатическую карточку и билет на самолет Москва — Бейрут». В коридоре раздался шум, Холодилин поморщился. Инспектор, провожавший Устюжанину, показался в дверях: — Генерал приехал! Находится внизу, у автокамер. Холодилин встал. Сабодаш легонько тронул спящего инспектора за плечо, тот не пошевелился. Холодилин обернулся: — Пусть немного поспит, только форточку прикройте — простудится… Денисов нагнулся к сейфу. В огромном двухъярусном шкафу «Бр. Смирновы, Москва, уг. Лубянской шт., Мебельные ряды» ему принадлежало нижнее отделение. Многие удачные мысли посетили Денисова в то время, пока он, сидя на корточках, смотрел в этот раскрытый стальной ящик. «Некоторые пассажиры еще не знают, что у них украдены вещи… — подумал Денисов. — Всех потерпевших и настоящие масштабы преступления мы сможем узнать лишь через пять дней — после окончания срока хранения вещей». Пронзительный телефонный звонок рассыпался на множество мелких тревожных звоночков. Инспектор на диване так и не проснулся, Денисов поднял трубку. — …Начальник караула с Москвы-Третьей. Такое дело. Вы пассажиром интересуетесь из первой электрички? Он в девятиэтажку забежал. Наш стрелок его видел. — Алло?! — …На планерке рассказывал. — Еду к вам. Где он сейчас находится? — Первый пакгауз, за арбузными шатрами. — Предупредите его: я сейчас буду! — Я считал, что вы знаете об этом, — стрелок, встречавший Денисова на Москве-Третьей, приоткрыл овчинный тулуп, который закрывал его с головой, — только сам я этого не видел. Весовщица говорила с контейнерной площадки. Побежал, сказала, в девятиэтажный дом на Дубниковку, где «Галантерея». — Как зовут весовщицу? Вы сможете ее показать? — Почему же? Невысоконькая. Валей зовут. Прошло минут пятнадцать, пока Денисов и стрелок в тяжелом тулупе обошли контейнерную площадку, растянувшуюся на добрый километр. — Нигде не вижу. — От стрелка клубами валил пар. Валенки с литыми галошами задевали за каждую шпалу. — Шапочка у нее еще со шнурочком… Сверху, из кабин грузовых кранов, их сопровождали острые взгляды. Стропальщики, прыгавшие по крышам контейнеров, тоже интересовались. Стрелок и милиционер в гражданском кого-то искали, и наблюдать за ними было увлекательнее, чем делать обычную работу — цеплять по два пустых контейнера и смотреть, как они висят над землей, словно две большие горбушки, прижавшиеся друг к другу корками. — Кого ищете? — не выдержал парнишка-стропальщик, проезжавший рядом на лесенке крана. — Может, помочь? — Весовщицу! Невысоконькую, в шапочке… — Со шнурочком? Валю? Так бы и сказали! Отпросилась она — скоро будет. — Попросите ее позвонить. — Денисов нахмурился, достал визитку. — О! — присвистнул стропальщик. — Инспектёр де инструксьон криминель… — Карточка была на двух языках, за образец Денисов взял визитную карточку Кристинина. — Э бьен! Как только появится — сразу передам. Вот и образование пригодилось!1 января, 9 часов 50 минут
Инспектора на диване уже не было. Слыша за собой шаги, Денисов проскользнул к столу, сбросил куртку на диван и быстро открыл сейф. Занимаясь личным сыском на вокзале, он, безусловно, не должен был уезжать. Холоди-лин застал Денисова в той же позе, в которой и оставил час назад, — сидящим на корточках у раскрытого сейфа. — Никто меня не спрашивал? — спросил Холодилин. — При мне нет. На одной плоскости была товарная станция, стрелок в литых галошах и огромном тулупе, бойкий, понимавший по-французски стропальщик, он сам, Денисов, только что прибежавший с товарной станции, на другой — заместитель начальника управления полковник Холодилин, полагавший, что все это время Денисов провел в кабинете, вокзал, кабинет с колонной, опять же он сам, инспектор Денисов, являвший ту единственную грань, в которой обе эти плоскости пересекались. — …Я отлучался… — Прозвенел телефон. — Астраханский вокзал, милиция. — Меня просили позвонить. Я из контейнерного отделения… — Инспектор Денисов. Здравствуйте. — Он на секунду замялся. — Уголовному розыску важно знать, как вы встретили Новый год. Не удивляйтесь. В трубке раздался смех. — Неплохо: смотрели телевизор. Часа в три ночи вышли на лыжах. В лесу хорошо! Не приходилось бывать? — Приходилось, но давно. Во сколько часов вы вернулись из леса? — В шесть, сразу на работу поехала. Можете объяснить, зачем это уголовному розыску? Основной вопрос Денисов приберегал на конец. — Каким образом вам стало известно, что из электрички в четыре двенадцать кто-то побежал на Дубниковскую улицу? К девятиэтажке? — Вот оно что? А я-то думала! — Весовщица снова засмеялась. — Мне подружка рассказала — Нина Устюжанина. Она в той электричке проводницей ездила. — Вас понял. Круг замкнулся.1 января, 10 часов 15 минут
— Кто это приходил к тебе тридцать первого декабря вечером на работу? — спросил Блохин у дежурного по автоматической камере хранения, полушутя и как бы не придавая большого значения. — Давно его знаешь? Блохин пригласил Порываева для беседы в кабинет. — …Или только познакомились? Длинноволосый Порываев сидел перед столом, выставив вперед тонкие, в огромных ботинках ноги. Вопрос застал его врасплох. — Да нет. Наш один — белостолбовский. — Сосед, что ли? — Он вроде теперь в Москве живет. — Порываев оглядел кабинет. Блохин спрашивал наугад. — Будем считать: товарищ. — Он оживился. — Что его на вокзал-то принесло? В такой день! — Кто знает? Может, просто так пришел! — Ну уж просто так! Как, говоришь, его фамилия? — Я и имени-то не знаю. Поздороваешься обычно: «Как дела, старик?» — «Ничего». Вот и все. — Порываев разговаривал нехотя, но Блохина это не смущало: у него была своя линия поведения во время таких бесед. — Бывает. У меня тоже, бывало, друзья-знакомые! Полгорода здоровается, где ни появишься, в любое время суток! Этот-то к тебе в какое время заявился? — После мариупольского. — Примерно в двадцать один час. Выпивали? По глазам вижу! А закуска? — Блохин засмеялся, снял с головы шляпу, подумал и снова надел. — Или под водичку? Порываев колебался. — Не бойся, начальнику вокзала не скажу. Старый год провожали? Независимо от ответа Блохин знал правду — выпивали. Во время кражи из автоматической камеры хранения дежурный был навеселе. К нему приходил человек, которого дежурный либо не знает, либо хочет скрыть. Все вместе это составляло освященный традицией набор ингредиентов раскрытия любого преступления: подозреваемый, ведущий сомнительный образ жизни; сообщник, которого «не знают», и алкоголь. — Ну ладно. Не хочешь — можешь не называть. Не настаиваю. Вот мне что скажи: когда ты открываешь ячейку и видишь, что в ней нет вещей, как ты обязан поступить? — Пустую ячейку я оставлю открытой — пусть пассажиры пользуются. — Правильно. Следующий вопрос: когда по указанию инспектора ты вскрывал ячейки, какую-нибудь из них оставил открытой? — Я? — Порываев с секунду смотрел Блохину в глаза, потом не выдержал, отвел взгляд. — …Да или нет? — Нет. — Вот видишь! Значит, во всех ячейках лежали вещи! Порываев не догадывался, куда клонит Блохин, но чувствовал подвох. — Повторяю: поскольку ты ни одной ячейки не оставил открытой, значит, среди них не было ни одной пустой — вывод из двух первых посылок. Так? — Так. — Следовательно, в пятьсот второй — слушай внимательно! — лежали в это время вещи. Их украли уже после этого. Верно? — Погодите! Про них я ничего не знаю! Я же только приоткрывал ячейки, чтобы пассажиры свои вещи искали! А сам в них не заглядывал. — Ловко? Так и не заглядывал?! — Зачем мне? — Порываев переступил на полу тяжелыми нелепыми ботинками. — Да еще при инспекторе? — Но, если бы ты открыл пустую ячейку, тебе бы потерпевшие подсказали! — А я откуда знаю? С них и спрашивайте. «Нечем тебя прижать, ведь врешь! — подумал Блохин. — Сейчас хотя бы еще улику, самую малую!» Тут ему снова повезло. — Ну ладно, Порываев, верю — не знаешь, не видел… Но о встрече-то с тем человеком вы договорились? Он к тебе зайдет после Нового года или ты к нему? Как? Блохин снова попал в точку — и это почувствовал. Дежурный заерзал на стуле. — Сказал, утром вернется с первой электричкой… — С первой?! — Он так сказал… — Понимаю. — Блохин пока еще ничего не понимал. — В чем он одет? — По-рабочему: куртка, сапоги.1 января, 10 часов 30 минут
Москва, начальнику Московского управления транспортной милиции.На ваш № 01/1 от 1 января сообщаю, в период с 22 по 26 декабря на бакинском вокзале зарегистрирован ряд краж из ячеек автоматической камеры хранения. При этом направляю словесное описание лиц, вызвавших подозрение дежурных сотрудников милиции и камеры хранения. Начальник линейного отдела милиции на ст. Баку.
Далее шли описания — всего одиннадцать словесных портретов.
1 января, 11 часов10 минут
— Ну, теперь краж не будет, честное слово! — обрадовался Денисову механик. — Кончились кражи! При вас не посмеют! Отрезано, товарищ начальник! — Горелов показал на баул, который Денисов нес в руке. — Это вы хорошо придумали. Полная конспирация! В лабиринтах камеры хранения было много людей. Щелкали шифраторы, хлопали дверцы ячеек. Уборщицы едва успевали отбрасывать в сторону оберточную бумагу, стружки. Киоскер напротив залавливал покупателей, модулируя глухим, хорошо поставленным баритоном: — «Две зимы, три лета» — писателя Федора Абрамова! Последние экземпляры! Факты биографии разведчика Георгия Суханова-Ставрова! — Все книги, проходившие через киоск, оказывались в конце концов детективами. — Предупреждаю, товарищи, всем не хватит! Не становитесь, Очень интересная книга! У киоска быстро росла очередь. Открывая ячейки, чтобы что-то взять или положить, большинство пассажиров не меняло шифр изнутри — как только электронное устройство срабатывало и щелкал замок, они быстро изменяли цифры на наружном шифраторе. Так было проще. Уложив вещи, просто опускали монету и гулко хлопали дверцами. Шифр внутри оставался тот же. Денисов прошел по всем отсекам. Обстановку для совершения кражи из автокамеры трудно было назвать благоприятной: наступал очередной прилив пассажиров. Он продолжался два часа, пока были закрыты на обед магазины. Вернувшись, обычно из «Лейпцига», «Тысячи мелочей», «Людмилы», пассажиры сортировали покупки. У входа в отсеки толпилось не менее двух-трех десятков ожидающих. О том, чтобы в таких условиях подобрать шифр, переходить от ячейки к ячейке, не могло быть и речи. — Пока ничего насчет вчерашних краж? — подошедший сзади Горелов положил Денисову руку на плечо. — Так с концами? — Пока да. — Хитро делают! Значит, среди них тоже головы есть — будь здоров артисты! А эти… — Механик показал на очередь. — Едут-едут, а шифр и тот набрать ни один как следует не умеет… Ну ладно. К врачу иду! — В руке он держал портфель. Сколько помнил Денисов Горелова, тот всегда лечился — это очень вязалось с его обликом лодыря и горлопана. Он лечил зубы, уши, белые пятнышки на руках, болезнь Витилиго. — Совсем ушел? — Скоро буду. — Механик махнул портфелем. На Денисова пахнуло апельсинами.1января, 11 часов 30 минут
— Блохин нашел человека, с которым выпивал Порываев, — сообщил Сабодаш, которого Холодилин на время прислал в камеру хранения, — оказывается, на багажке работал грузчиком! Не слыхал? И фотоэкспонометр нашли… — Не может быть! Денисов побежал в багажное отделение. «Возможно, пассажир, который напугал проводницу, шел сюда! Багажное отделение как раз против последнего вагона…» В открытом сверху каменном мешке багажки, как по дну котлована, передвигались люди. Они оттаскивали ящики. Денисов был здесь впервые. Сбоку, со стороны города, к багажке примыкала глухая стена кирпичного дома, с трех остальных — глухой каменный забор. — Где нашли фотоэкспонометр? — спросил Денисов у милиционера, стоявшего с рацией у входа в багажный двор. — Вот в том углу. Майор Блохин пришел, чтобы узнать, кто из грузчиков ночью отсутствовал, смотрит: что это? — Милиционер показал на дальнюю часть котлована, где мелькала шляпа старшего инспектора. Поодаль, с группой гражданских, стоял Холодилин. — Фотоэкспонометр! Лежит себе на ящике с сервантом… — Любопытно. Ящик этот давно поставили? — Ночью, завезли с транзитом. — Кто из грузчиков ставил? — Орлов! — О чем люди думают?! — услышал Денисов сзади — заведующая багажным двором кивнула ему как знакомому. — Ведь у Орлова двое детей. Сколько раз говорила, предупреждала: «Ты ведь не холостой парень! Семейный!» После получки, бывало, идешь — они у палатки стоят. «Иди, — говорю, — домой!» — «Я ничего, Татьяна Ивановна, только пивка! Сейчас уходим!» Вот и доигрался. — Думаете, он? — Клишко на это не пойдет! Давно работает, пожилой и вообще! А Орлов как с вечера ушел, так утром только появился. Решил остаться отработать, но и сейчас он пьяный. Где вот пропадал? — Она вздохнула. — Чужие не могли сюда проникнуть? Сколько человек в бригаде? — спросил Денисов. — Кроме Орлова, шесть. Три женщины, их можно не считать. Остаются Клишко, Орлов и старик Ахмадулин… — Вы не замечали? — Милиционер поправил висевшую на плече. рацию. — Он ни с какой группой не связан? — С какой еще группой? — Подавленная новым подозрением, заведующая всколыхнулась. — Ни с кем он не связан! Выпивать выпивает, не скрываю! Но милиционер ее не слышал: запищала рация, и он, подхватив микрофон, побежал к Холодилину. — Куда выходит этот угол двора? — спросил Денисов. — На перрон. — Вопросы, которые ей задавали работники милиции, не были связаны друг с другом, сбивали с толку и заставляли ежесекундно перестраиваться. — Конечно, на перрон. Подошел Блохин, тронул Денисова за рукав. — Такие дела получаются, Денис! — Он был доволен. — Думаешь, грузчик этот, Орлов?.. — Выходит, да. Но придется повозиться. Он и сейчас пьян — нельзя допрашивать. — Блохин достал из кармана полиэтиленовый мешочек, внутри его что-то лежало. — Узнаешь? «Ле галон» — духи. Успел жене подарить… Денисов увидел поодаль женщину в искусственной дубленке, видимо жену Орлова, она тоскливо смотрела в их сторону.1 января, 12 часов 15 минут
— Набрала номер, а ячейка не открывается, — сказала женщина, и Денисов весь напрягся, словно почувствовал еле уловимую разницу в поведении этой и других пассажирок, обращавшихся с такими же просьбами. — Кто здесь старший? Женщина выглядела не старой, на ней был плюшевый жакет, вязаный платок ирезиновые сапоги — униформа тульских колхозниц, приезжающих в Москву за покупками. — Пишите заявление, — подошел Порываев, — давайте паспорт. — Нет у нас паспорта. — Приезжайте с паспортом — без документа не имею права. — Да у меня все вещи переписаны! — Не могу. — Давайте проверим, — предложил Денисов. Порываев пожал плечами. — Под вашу ответственность. — Наша сто сороковая. — Женщина пошла впереди. Денисов остался у входа. Он видел, как из бокового отсека появился Антон Сабодаш и пошел вслед за Порываевым и пассажиркой в плюшевом жакете. Денисов проводил их глазами. По радио объявили посадку на саратовский и сразу же о прибытии опоздавшего из Липецка. — «…К услугам пассажиров, — зачитывала дикторша, — имеются комнаты отдыха, парикмахерские, ресторан, автоматические камеры хранения ручной клади…» Отсутствовали они недолго. Первым появился Сабодаш. Денисов все понял, едва увидел его растерянное лицо. — Опять? — спросил Денисов, и все у него внутри заныло. Антон кивнул. — Вы должны вспомнить, — потерпевших оказалось двое: рядом с женщиной, которую Денисов уже видел, стояла ее младшая сестра, в таком же платке и жакете, — кто мог видеть, как вы клали вещи. — Сабодаш явно подражал Блохину. — Сосредоточьтесь! Сейчас это крайне важно. — Мамочки, да что же это приключилось! — У старшей были сухие глаза плакальщицы и тонкий голос — Антона она не слышала. — Ведь на свадьбу сироте-то насобирали-и-и… Невеста теребила платок, видимо, с детских лет привыкнув во всем полагаться на сестру. — Прошу вас, — вмешался Денисов, — что находилось в чемодане? Из-под черного плюшевого жакета появилась на свет перегнутая ученическая, в линейку, тетрадь с записями: «…Фата — 11 руб. Туфли белые — 31 руб. Гипюр — 5 метров. Два зол. кольца…» — …Платье белое из салона новобрачных. В первый день брали. Пододеяльники, полотенца, подзоры… У нас уж так заведено, чтобы все невестино! Подарок жениху, подарок родителям… — Может, вы в другую ячейку положили? — Вчера открывали — все на месте лежало… И сегодня с утра проверяли! — Сегодня? В какое время? — В пол-одиннадцатого! — Какой вы шифр набирали? — спросил Антон. — Один-девять-пять. И четыре. — Снаружи он не оставался? — Я его снаружи весь перешорудила. Снаружи у меня стояло ноль девять восемьдесят семь. Это я точно помню… Дальше-то теперь что делать? В голосе старшей сестры послышалось отчаяние. Невеста сказала: — Не судьба. Не пойду замуж. — Осмотрите соседние ячейки! — Что-то запершило у Денисова в горле. Не ожидая, пока Порываев начнет ключом открывать камеры, Денисов пошел вдоль отсека. У выхода его догнал Антон. — Старшая запомнила человека, который стоял у соседней ячейки. Он один мог подсмотреть шифр. Вот приметы. Память у нее отличная. Заметил? Больше никого не было — только этот человек и работники автокамеры… — Поставь в известность начальника розыска и дежурного… «…Блуждающий форвард из меня аховый!» Он вышел на перрон. Впереди виднелся огромный, опутанный рельсами, акварельно-синий парк прибытия. Краски на станции никогда не повторялись. Денисов видел ее графитно-серой, туманной и прозрачно-сиреневой. Сегодня она казалась синей над полосами отполированных рельсов. Завтра могла легко стать аспидно-черной. «Значит, сегодня это сделано путем подсмотра, — без особой, впрочем, уверенности уточнил Денисов. Это была уже третья версия преступления. — Как будто выслеживаем невидимку. Ни одного свидетеля, который хоть что-нибудь видел!» На междупутье несколько уборщиков в оранжевого цвета робах жгли мусор. Сухой белый дым стоял, как воткнутая в снег палка. Станция не пустовала ни минуты. Под Дубниковский мост медленно втягивалась очередная электричка. Стекла ее задней, нерабочей, кабины мерцали, как странный неживой глаз огромного пресмыкающегося. На другой платформе Денисов снова увидел обеих потерпевших. Они шли в отдел милиции в сопровождении младшего инспектора розыска. Из-за потока пассажиров Денисов не заметил, несут ли они чемодан, но был уверен — вещи найдутся в другой ячейке. Не будет только денег, подарков и обручальных колец.1 января, 12 часов 30 минут
В камере горел свет. Блестели окрашенные охрой половицы. Сосед по камере прохаживался вдоль нар, накинув на плечи пальто. Орлову показалось, что все время, пока он находился здесь, тот не переставая ходил по камере. — У вас закурить найдется? — Орлов сел, поджал ноги. — Проснулись? — Сокамерник тонкими пальцами вынул из кармана сигарету, положил на нары. — Спички есть? — Есть. Ну и ситуация… — Создается впечатление, что вы попали в беду, и в большую. В первый раз? — В первый. — Понятно. Моя фамилия Савватьев. Еще вопрос: вы москвич? — Москвич. — Будем надеяться, что жена и родственники не оставят нас без внимания. Все-таки Новый год! Только бы не догадались сырокопченую колбасу купить! — Савватьев сделал еще несколько шагов. — Нельзя? — Не положено: быстропортящаяся! Будем надеяться, что в КПЗ объяснят. В стеклянной посуде тоже воспрещено. Практицизм Савватьева немного успокоил Орлова. — А вы что натворили? — Кто вам на это ответит? — Савватьев присел на край нар. — За такой вопрос раньше подсвечниками били. «В чем вас обвиняют?» Разницу улавливаете? Отвечаю: мое дело простое. Не стоит выеденного яйца. Теперь спрашиваю я: в чем вас обвиняют? — В краже вещей из автоматической камеры хранения. — Орлов в последний раз затянулся, поискал, куда бросить окурок, но не нашел, поплевав, сунул в карман. — Вещи краденые нашли? — Экспонометр и флакон духов. Духи жене подарил. — По первой части пойдешь. — Савватьев уверенно перешел на «ты». — Что показываешь следователю? Заметь, молодой человек: я не спрашиваю, как было дело. Как показываешь? Орлов вздохнул, но как-то неискренне. Он, правда, не знал пока, откуда придет помощь, но знал, что она придет, поскольку так бывало всегда. Настоящие беды обычно проносились над ним. Выручали родители, жена, заведующая багажным двором, сердобольные пенсионерки из дома, в котором он вырос. В последний момент удавалось кого-то неожиданно уговорить, разжалобить, умаслить. Ходатаи заверяли, унижались, клялись, что он переживает, раскаивается, давали слово, что ничто не повторится. Самому Орлову почти не приходилось говорить, он появлялся на сцене в последнюю минуту, когда все было уже решено, и ему приходилось только постоять несколько минут потупившись. Его прощали за молодость, за беспечность, за разлет густых бровей. Ради жены, которая вся извелась, живя с ним. Ради детей. Но проходило совсем немного времени, и все начиналось сначала. — Загулял: с последней электричкой уехал на Москву-Третью. Там вагоны разгружают с вином… Утром с первой электричкой вернулся — почтово-багажный принимать. Только сервант перенесли, смотрю — сверху, на ящике, экспонометр. Духи на снегу валяются. — Примитивно, — Савватьев поморщился, — в духе дворовой шпаны. Как упрутся на своем… Дети есть? — Двое. — Родители, иждивенцы? — Мать — инвалид труда, двадцать пять лет на «Рот-Фронте»… — Тогда лучше на чистосердечное. Мать, дети, все такое. Я смотрю, жена не спешит с передачей? Хорошо с ней жили? — Всяко бывало. Позвольте еще сигарету? — Магазин закрыт… — Савватьев встал, еще немного походил по камере. В руках он держал спичечный коробок, который быстро переворачивал наподобие колоды с картами. Все время, пока они с Орловым разговаривали, пальцы Савватьева постоянно находились в движении. Наконец Савватьев принял решение: — Кури. Потом сочтемся. Передачку мне сделаете или перевод. Проси у дежурного лист бумаги и карандаш. Скажи, явку с повинной хочешь оформить. Слыхал о повинной? Немолодой, плотно сбитый сержант передал в камеру два листа бумаги и карандаш. — Нашли себе работу, Савватьев? Эх, елки пушистые… — Раз просит человек. — Савватьев развел руками. Окошко захлопнулось. — На имя прокурора будем писать? — спросил грузчик. — В два адреса, в чем и хитрость. — Савватьев подмигнул. — Прессу подключим. — Он назвал фамилию известного публициста, автора судебных очерков. — Слыхал? Потом Орлов получил обещанную сигарету и не шевелясь, тихо, чтобы не тревожить наторевшую в ходатайствах мысль сокамерника, курил в углу, а Савватьев, раздевшись до кальсон и аккуратно сложив костюм, сидел на нарах. Писал: «Уважаемый Николай Иванович! Поверьте, ни при каких других обстоятельствах я не осмелился бы потревожить Вас, обратившись с просьбой. Более того, я весьма реально представляю затруднительное положение человека, вынужденного отказывать в чьей-нибудь просьбе, — человека честного и принципиального, разумеется, каким считаю Вас благодаря информации источника, — тут Савватьев на секунду задумался, но сразу же отыскал нужный ход, — который пока давайте оставим без внимания, отнюдь не потому, что он недостоин оного…»1 января, 5 часов 15 минут
Илья вернулся домой под утро. Квартира оказалась пустой — хозяйка встречала Новый год в гостях у сына. На столе Илья обнаружил ее поздравительное послание, кусок торта «Прага», испеченного лично хозяйкой, и программу телепередач на праздники. «Щелкунчик» был отчеркнут жирной красной чертой. И все же Илья не любил этот дом. Рядом, на лестничной клетке, жил заместитель начальника отделения милиции Александр Иванович, постоянный партнер хозяйки по шахматам, совсем молодой еще человек. В соседнем доме размещалась жилищно-эксплуатационная контора — с паспортисткой, товарищеским судом, штабом народной дружины, — чреватое опасностью соседство. Впрочем, жить в этом доме Илья не собирался: временное пристанище давало право на прописку, и только. Несколько минут Илья слонялся по квартире, хотел убедиться в том, что он действительно один. Потом спокойно и обстоятельно осмотрел свои вещи. Их было немного — все ценное хранилось в камерах хранения в Киеве и на Рижском вокзале в Москве. При себе держал только то, что не успел или не хотел отправить на Рижский, — «пентакон», две отличные кинокамеры, еще потрепанный чемоданчик с барахлом, вот и все. Илья поднял крышку чемодана — мелькнули расклеенные веером репродукции Айвазовского, несколько смазливых девиц, вырезанных из журналов, фотографии военных кораблей — Илья позаимствовал этот чемодан у Капитана на время, в самом начале знакомства. Все содержимое лежало в том же порядке, в каком Илья оставил его, — хозяйка особым любопытством не отличалась. Хотелось спать. Илья лег на софу, укрылся с головой клетчатым спальным мешком, заменявшим одеяло. Под окном с перерывами скребли асфальт дворники. Звук от скребков был такой, словно там что-то жарилось и шипело на огромной, прикрытой крышкой сковородке. Сон неожиданно пропал.* * *
С Капитаном они познакомились на вокзале. Илья привез в камеру хранения портфель с учебниками. Второй экзамен он тоже завалил, и, значит, прощай, институт. Илья уже представлял себе тягостное возвращение в Юрюзань, лицо жены, ее по-детски оттопыренную, перед тем как заплакать, пухлую нижнюю губу. Настроение было испорчено, Илья был подавлен, смят случившимся. Дежурный по камере хранения листал забытую кем-то из пассажиров толстую книгу «Оценка доказательств в советском уголовном процессе» — ее передавали по смене недели две. Сержант, молодая женщина в «интересном положении», как говорили еще лет пятнадцать-двадцать назад, беседовала за столом с приезжей. Свободных ячеек почти не было. Илья нашел одну — в самом конце отсека. Здесь уже находился пассажир. Мельком бросив взгляд на Илью, он продолжал заниматься своим чемоданом. Илья тут же забыл о нем. Похожее на металлическое корыто дно ячейки оказалось сплошь покрытым царапинами. Приезжая в Москву на сессии, Илья успел познакомиться со многими ячейками, но в эту клал вещи впервые. Он продвинул портфель дальше, вглубь, и потянулся к шифратору. Вид шифратора сразу насторожил: с внутренней стороны дверцы стояли четыре нуля, словно кто-то специально стер остающийся обычно чужой шифр. Илья посмотрел на человека, возившегося с чемоданом, — поворот головы, спина показались Илье подозрительными — в них чувствовалась неподвижная литая тяжесть. Щелк! Илья повернул рукоятку шифратора на одно деление — незнакомец замер, весь обратившись в слух. Продолжая наблюдать, Илья набрал шифр. Щелк! щелк! — отбивал старенький шифратор с каждым поворотом диска. Илья не стал запутывать незнакомца — каждый диск щелкнул ровно пять раз. «5555» — выскочили цифры с внутренней стороны дверцы. Потом Илья опустил в приемник монету, захлопнул ячейку и пошел к выходу. Женщина-сержант продолжала тихо консультироваться с приезжей, дежурный ни разу не оторвался от захватившей его книги. «Пока не узнает, уехал я или нет, все равно не возьмет», — подумал Илья, идя к выходу, и в ту же секунду услыхал позади тихое пошаркивание — незнакомец взял его под наблюдение. Неожиданное событие на время отвлекло от тягостных мыслей. Минут пятнадцать Илья и незнакомец ходили по вокзалу вместе, словно связанные невидимой, но крепкой нитью. Илья купил в киоске свежий номер «Москоу ньюс» и в это время еще раз мельком оглядел незнакомца. Тот оказался уже в годах, белобрысый, одетый небрежно, с темными кругами под глазами. Незнакомец купил себе программу телепередач и кусок мыла — продавали в киоске вместе с газетами. «Спокоен, видимо, уверен в себе, а может, пьян!» — Илье захотелось поговорить с этим человеком, который рискует свободой ради несвежей сорочки, англо-русского словаря и нескольких учебников. Направляясь к такси, Илья потерял вора из виду и больше уже не оглядывался, пока не попал на стоянку. Здесь оказалось немного людей. — Прямо! — сказал Илья, садясь рядом с водителем. Едва машина вырвалась на простор Садового кольца, Илья добавил: — А теперь снова на стоянку. «Оперативник», — сообразил таксист. Назад Илья продвигался осторожно, чтобы раньше времени не напороться на незнакомца. Поднявшись на антресоли, он остановился у медкомнаты. Илья знал вокзал хорошо, теперь вор не мог ускользнуть незамеченным. Ждать пришлось недолго. Новый владелец его портфеля появился на эскалаторе, быстро огляделся по сторонам. Прячась за пассажирами, Илья поспешил следом. Оба снова вышли к стоянке такси. Ближайший водитель показал незнакомцу место рядом с собой. — Держитесь вон за той машиной! — скомандовал Илья, вскочив в свободное такси. — Не потеряйте из виду! — Ну и денек у вас сегодня! — Рядом оказался тот же шофер, который делал с ним круг по площади. — Случается. «Белобрысый» — так Илья окрестил незнакомца — привез его на Астраханский вокзал. Здесь Белобрысый оставил такси и некоторое время прятался позади павильона передвижной камеры хранения. Когда в одной из электричек раздался звонок к отправлению, Белобрысый оглянулся и рысцой побежал на посадку. Илья оказался на высоте — он ждал нечто подобное: прежде чем тот вбежал в крайний тамбур и оглянулся, Илья обогнал его и вскочил в вагон в другую дверь. Электропоезд тут же отправился. Ехать пришлось недолго. Выйдя вслед за Белобрысым в Коломенском, Илья спрыгнул с высокой платформы и перебежал через пути. Вор не пренебрег обязанностями пешехода и воспользовался для той же цели переходным мостом. Убедившись, что опасность больше не угрожает, он зашагал спокойнее — обошел постового у табачного киоска, срезал угол маленького скверика и вошел в подъезд серого невыразительного дома. Илья ускорил шаг, а как только Белобрысый скрылся в подъезде, побежал бегом. На площадке четвертого этажа Илья догнал незнакомца, уже открывавшего квартиру, и, не дав опомниться, шагнул вместе с ним в неосвещенную прихожую. Автоматический замок щелкнул за спиной. Не обращая внимания на хозяина, Илья заглянул в кухню. Там никого не было. В мойке лежала груда немытой посуды. Сбоку, на холодильнике, — форменная морская фуражка. Вор оказался человеком опытным и ничего не сказал, ожидая, пока прояснится ситуация. Краденый портфель он держал в руке. — Там тоже никого? — Илья заглянул в комнату. Она выглядела темноватой, сплошь заставленной мебелью. На дверях, спинках стульев, ручках встроенных шкафов висели кофты, куртки, все поношенные и нечистые. По углам валялись стоптанные туфли. Такой же развал царил по всей квартире, словно многочисленные шкафы, шкафчики, ящики, серванты и подсерванты выдвигались лишь в одном направлении — наружу, а не внутрь. — Так вы живете? — спросил Илья. Хозяин квартиры будто ждал этих слов. Он сразу успокоился, поставил портфель на стол, неожиданно угодливо, по-кошачьи выгнул спину. — Здесь моя сестра живет. Сейчас она в больнице. — На щеках его появилось некоторое подобие ямочек. — Хотите выпить? — Не пью, спасибо. — Совсем не пьете? — Он явно лебезил перед Ильей. — Можно сказать, почти совсем не пью. — Тогда я сам, извините. Я ведь подумал, что вы из милиции. — Не служу. Дружинником, впрочем, был. — Уважаю дружину, — вставил Белобрысый. — Здесь можно снять пальто? — Позвольте, я повешу. Такой беспорядок. У сестры все руки не доходили… Должен сказать, вы меня здорово выследили. Гениально. — Он несколько раз подходил к серванту, «прикладывался» по этому случаю. — Талантливо… Садитесь на диван, там чисто. А все барахло сбросьте на пол. Илья присел на диван, потянулся в карман за сигаретами. — Пожалуйста. — Белобрысый зажег спичку, поднес Илье. Выпив, он стал более разговорчивым, внимательным — несколько раз Илья ловил на себе его изучающий взгляд. — Как вас отец с матерью ругали? Извините, если не так выразился. — Ильей, по деду. — А полностью? — Ильей Александровичем. — А я — Капитан. — Белобрысый улыбнулся. — В детстве, говорят, матроску носил. Ну и пошло с тех пор. На всю жизнь. Одесса, море. — Плавали? — Не хочу врать. Всякое бывало, Илья Александрович, — Капитан нашел в углу, за сервантом, непочатую бутылку «Старки», ловко раскупорил ее зубами и налил себе больше половины стакана, — теперь вот на мели. То, что вы сегодня увидели, так, случайность. На рюмку водки, пачку сигарет. — А если поймают? Потерпевшие, например? — Извинюсь! Принимаю, товарищи, ваше негодование как заслуженное, возмущаюсь вместе с вами. Но поймите и вы меня: родных никого не имею, Кроме сестры-шизофренички. Сейчас она лежит в Кащенко. Всю жизнь скитаюсь под влиянием многих обстоятельств, пенсию не заработал, — Капитан не спускал с Ильи внимательных глаз, — а заработал одни пороки. Веду, товарищи, краховый образ жизни, хотя в свое время, говорят, подавал надежды. — Он снова приложился к бутылке. — Самостоятельно теперь уже ни на что не способен. Даже на воровство. Даже щелчкам этим научился у людей: примитивно, но довольно тонко. — Тонко? — Илья засмеялся. — Это тонко?! — Я вас не понимаю. — Потому что мало пользовались автокамерами! А если вас научить отгадывать шифр, не подслушивая и не подсматривая? — Разве можно? — Определенный шифр. Капитан растерянно развел руками. Илья встал, прошелся по комнате, заглянул в окно. В чахлом сквере, у магазина, о чем-то спорили пенсионеры, ниже, на путях, вытянулись в нитку белоснежные вагоны-рефрижераторы. В доме было тихо, выше этажом кто-то с завидным упорством разучивал на рояле гаммы. Странно, что никогда до этого дня он не думал о нем — единственном оказавшемся в его распоряжении шансе. Шанс этот предоставлял возможность отыграть у жизни все — большой собственный дом, комфорт, машину, даже диплом. Все, что обещал тестю, когда уговаривал его не мешать счастью дочери, чем бредил сам и смог увлечь жену. Если он сейчас не воспользуется им — впереди у него грустный приезд в Юрюзань, многозначительные умалчивания коллег-учителей, упреки жены. Больше ничего… «Играя честно, выиграть бесчестно?» На это мало надежды. — И вы научите меня этому способу, Илья Александрович? «Перед этим субъектом можно не играть, — подумал Илья, — подонок не осудит, потому что он подонок. С ним проще. А потом никогда с ним больше не встречаться. Вернуться к тому, что было, стать снова честным…» Он еще колебался. Капитан держал в одной руке бутылку «Старки», в другой — чистый стакан. — Какая минута! — Капитан неожиданно прослезился, выбежал на кухню, вымыл Илье стакан. — Мне самому не нравится моя жизнь! В голове другое: «Есть у моря свои законы, есть у моря свои повадки…» Читали? Прекрасные стихи поэта Григория Поженяна. «…Море может быть то зеленым, с белым гребнем на резкой складке. То без гребня…» Это трудно — то, о чем вы сейчас сказали? — Просто. Просто, как все гениальное. — Пейте! За это вы обязаны выпить. Вас любит фортуна, Илья Александрович. С вами я бы мог накопить денег и уехать в Одессу! — Только не копить! — Илья залпом выпил и отстранил руку Капитана, подававшего ему огурец. — На это у меня просто нет времени. — «Волгу», дорогой Илья Александрович, в ячейку никто не поставит. То есть, я имею в виду, в первую попавшуюся ячейку… — Тогда надо поискать во второй, в третьей! — Преклоняюсь перед масштабами — это совершенно искренне! Как только вы еще вошли сюда… — Илья почувствовал: перед ним подонок порочнее, чем показался с первого взгляда, предприимчивый, наглый — такой, какой неожиданно, вдруг, теперь потребовался. — Вы видели море в Одессе, Илья Александрович? «То без гребня, свинцово-сизым, с мелкой рябью волны гусиной…» Никогда не пожалею о сегодняшнем дне! — Только я, наверное, зря с вами разговариваю: вы же дуете водку стаканами! — Все! Эта стопка последняя. Вы у нас капитан. — У вас есть знакомства на вокзалах? В автоматических камерах хранения? — Вообще-то масса полезных знакомств. Особенно на площади трех вокзалов. Барыги, девочки… Так я пью последнюю… За вас! — Девочки не понадобятся. Барыги? — Илья вдруг понял, что надо многое обдумать, прежде чем действовать. — Переночевать, наверное, мне предложат здесь? — Вы меня обижаете… «Море может быть в час заката то лиловым, то красноватым…» Вы действительно не знаете эти стихи? «…Чуть колышемым легким бризом…» Напиваясь, Капитан становился сердечнее, болтливее, жаловался на соседей, читал стихи, его тянуло ко сну, но он крепился. Илья хорошо рассмотрел его хрящеватый нос, порозовевшие щеки, короткие, довольно красивые темные брови, белобрысую челку. У Ильи было такое чувство, будто он близко к глазам поднес стрекозу или кузнечика и неожиданно обнаружил перед собою сложное живое существо. — Вы не представляете, Илья Александрович, каким одиноким провел я свою жизнь… Он положил голову на край стола, заставленного немытой посудой, вздохнул и перед тем, как заснуть, вдруг посмотрел на Илью так отчетливо-трезво, что Илья даже усомнился: не разыгрывают ли его. Но в следующую минуту Капитан уже спал, жуя и причмокивая во сне. «И такой человек решается плыть против течения, устанавливает для себя законы существования. А я не решался! Грош была мне цена!» Из кухонного окна открывался вид на старый кирпичный заводик. Он был пуст, но в разбросанных по двору помещениях что-то парило. Белые дымы рассеивались по крышам. На высокой насыпи беззвучно — из-за плотно законопаченных рам — работал экскаватор. Комки глины скатывались с насыпи к скучному, растянувшемуся на целый квартал забору, окруженному липовыми саженцами. Бродячий пес обнюхивал чахлые деревца. «Деньги, какие у меня остались, надо отослать домой. Написать, что заработал на переводах и аннотациях. Себе оставить в обрез, только на дорогу, сжечь мосты, чтобы некуда было отступать. И еще: начать, пожалуй, лучше в другом городе — в Баку, в Киеве. Потом вернуться в Москву и здесь закончить».1 января, 12 часов 35 минут
Начальникам отделов милиции Московского железнодорожного узла.1 января сего года между 10.30 и 12.15 часами на Астраханском вокзале совершена кража вещей из автоматической камеры хранения у сестер Малаховых, приезжавших в Москву из Тульской области. После совершения кражи чемодан, принадлежащий Малаховым, был перенесен в ячейку в семи метрах от места кражи. Похищены деньги в сумме 800 рублей, два обручальных кольца, отрез кримплена фиолетового цвета. В краже подозревается неизвестный мужчина, пользовавшийся соседней ячейкой, — на вид 35–40 лет, среднего роста, нормального телосложения, одет в полупальто синего цвета, черную меховую кепку, черные полуботинки. Обращаю ваше внимание, что все кражи совершаются из ячеек, в которых в качестве шифра потерпевшими используется год рождения. Примите предупредительные меры… Телетайп застучал, как всегда, внезапно, словно разбуженный среди ночи. Ориентировка о краже у невесты, переданная с Астраханского вокзала дежурному по управлению, рикошетом возвращалась назад. Штаб управления ее переработал, внес дополнения, и теперь передача шла одновременно на весь железнодорожный узел. Вскоре последовал приказ: перейти на усиленный вариант несения службы, всему инспекторскому составу занять посты согласно разработанной штабом схеме. Такие же меры были приняты и на других вокзалах. В поединок, начавшийся в стальном отсеке Астраханского в новогоднюю ночь, постепенно втягивались все большие силы транспортной милиции. — Аврал! — объяснил всем предпенсионного вида старшина, дежуривший у входа в отдел. — Получить инструкции у дежурного! Приказ — всем в залы!
1 января, 8 часов 40 минут
Илья прошел мимо витрин гастрономического отдела. В них аппетитно располагались колбасы. Толстые стекла прилавка и термометр изнутри наводили на мысль о барокамере. Покупателей в магазине почти не было. — А на третье я подала Коленьке мусс, — услышал Илья, проходя мимо кассы. Седая старушка доверительно разговаривала с кассиром. — Мусс он любит. «Кто считает, что в Москве все бегут, не замечая друг друга, сильно ошибается, — думал Илья, косясь в окно. — Здесь больше улочек тихих, с маленькими сквериками, с посыпанными песком тротуарами. В магазинах, как этот, постоянная клиентура, ровные отношения». Илья снова обогнул беседовавшую с кассиром старушку и пошел к выходу: находиться в пустом магазине и наблюдать за переулком было решительно невозможно. Илья приехал на место встречи намного раньше обусловленного срока. Когда Капитан уезжал продавать вещи, Илья нервничал, не находил себе места. Он и сам заметил, как быстро у него стало меняться настроение, достаточно было малейшего намека на опасность, дурной приметы. Он часто смотрел на часы, словно подгоняя время, и сутки для него стали емкими, как никогда раньше. Больше всего Илья боялся, что Капитана задержат при продаже вещей и он расколется. Поскольку адреса Ильи Капитан не знал, Капитан мог привести милицию только на место встречи. Поэтому Илья приезжал за полтора-два часа до срока, внимательно все осматривал. Так было в Баку и в Киеве, теперь здесь, в Москве. Выйдя из магазина, Илья перешел дорогу, юркнул в подъезд. Сверкающий отполированными ручками лифт с широким зеркалом посредине поднял его на пятый этаж. Здесь Илья вышел из лифта, подошел к окну и стал снова осматривать улицу. «Милиция вряд ли привезла бы Капитана на задержание, от него потребовали бы только место, остальное — дело милиции». — «А нельзя сделать так, чтобы Илья ничего не знал, — попросит Капитан. — ну вроде все получилось случайно?» Вверху хлопнула дверь. «…Вдруг они пришли еще раньше? И уже здесь?! — Мысли, мысли, мысли, тревожное ожидание, страх — все мгновенно перемешалось. — Как они будут меня брать? Скорее всего поручат двоим-троим в штатском. Один притворится пьяным, попросит у меня закурить, сразу же выбежит второй. Завяжут между собой ссору, перекроют лестницу, чтобы я не мог уйти… Где я читал об этом? Откуда-то, как из-под земли, «случайно» появится участковый: «Разберемся! А вас, товарищ, попрошу быть свидетелем, разрешите паспорт…», «О! Вы не москвич? Где временно остановились? Мы вынуждены проехать к вам домой — удостовериться… Это займет несколько минут, тысяча извинений…», «Вы фотографируете? Кинокамера тоже ваша? Позвольте, эти вещи значатся в розыске…» И все завертится. И никакого намека на Капитана». Шаги приближались. Странный бородатый старик с палкой и ученическим портфелем спускался с лестницы. — Молодой человек! Позвольте прикурить? Илья с трудом вытащил зажигалку — ему легче было б пронести наверх по лестнице чемодан, наполненный кирпичами. — Спасибо. Красивая вещица. — Старику не хотелось уходить. — Вам неведомо, как назывался раньше этот переулок?.. Жаль. В ваши годы я прекрасно знал и Москву, и Питер. Прекрасно помню, как в двадцать девятом году шел с читательской конференции из Дома печати — бывший дворец княгини Елены Павловны. Выступавших помню… А вот где живет мой редактор, не помню, хотя у него вчера был, и забыл, как теперь называется переулок. Только этаж запомнил. Простите, у вас какая-то неприятность? Почему так дрожат руки? Илья наконец понял, что этого чудака бояться не следует: он никак не мог участвовать в спектакле, сценарий которого родился у Ильи в голове минуту назад. Нервы, сжатые в комок, как-то сами разжались. Вместе со стариком он спустился вниз. Илья не мог больше думать о Капитане, в который раз мысленно переживать свой арест. Впереди, на повороте улицы, мелькнула надпись «Вина — воды». — Давайте зайдем, — неожиданно предложил он. Старик вынул из бокового кармана круглые часы на ремешке. — Пожалуй, только совсем ненадолго. Мой редактор — человек пунктуальный, к тому же нездоров. Я отвечаю перед лечащим врачом… — Вот говорят: «Все мы отвечаем друг за друга», — неожиданно вдруг заговорил Илья. — Но ведь за меня вы отвечать не собираетесь. Это только слова! Кто я вам? Да и перед кем отвечать? — Так-то так… — Я часто думаю об этом последние дни. Или еще вот: пока человек один, нельзя ничего сказать о том, есть у него совесть или ее нет. Ведь сам-то человек ни хороший и ни плохой. Только по отношению к другим людям он бывает положительным либо отрицательным… С потолка магазина свешивались нити с продетыми на них бамбуковыми стаканчиками. Ударяясь друг о друга, стаканчики издавали приятное звучание. Сквозь завесу бамбука по двое, по трое в магазин входили мужчины, чтобы через несколько минут вот так же жарко говорить о чем-то, что раньше не принимали близко к сердцу, а сейчас, после стакана вина, вдруг стало дорогим, хоть плачь, и непонятно, как ты жил без всего этого. — Так, так, — соглашался старик. — Я ни за кого не отвечаю. Разве только за жену и сына. И других прошу не отвечать за меня. Сам разберусь. — Илья только пригубил стакан и поставил на стойку. — Молодой человек, — спросил старик, — вы что-нибудь слышали о битве при Каннах? — Канны? Когда учил историю на первом курсе. Ксилофоном звучали бамбуковые стаканчики, слышалась неясная речь. — …Пятьдесят тысяч римлян погибло, пять тысяч попало в плен. Тогда Ганнибал сказал пленным, чтобы они выбрали десять человек, которые вернутся в Рим и убедят соотечественников выкупить всех римлян из рабства. Но дело не в этом. Уходя, посланцы поклялись Ганнибалу, что обязательно возвратятся, — вот к чему я веду речь. Когда посланцы покинули лагерь, один из десяти с дороги вернулся: притворился, что забыл какую-то вещь. А потом снова догнал товарищей. Так он освободил себя от клятвы, данной Ганнибалу… Незнакомые мужчины притихли, слушая старика. — …Что говорить? Мнения в римском сенате разделились. И тогда сказал Тит Манлий Торкват, человек честный, воспитанный в строгих правилах: «Сдавшихся без боя на милость победителей спасать нелепо…» Я обращаю внимание на другое. Когда сенат отказал посланцам в выкупе, девять из десяти пошли назад, к Ганнибалу, рыдая и обливаясь слезами. А десятый, у которого не было совести, выражаясь вашими словами, как ни в чем не бывало остался дома… Так вот. Сенат так не оставил дело: хитреца взяли под стражу и под конвоем отправили к Ганнибалу. — Странный старик улыбнулся, отпил из стакана. — К чему, спросите вы, такая щепетильность? Да еще в отношении противника?! Не проще ли объявить поступок лжеца военной хитростью, а его девятерых товарищей представить простаками? Совесть представляется вам чем-то абстрактным. На самом же деле она реальна, как наши руки, цвет глаз. Древние это понимали. Совесть не может исчезнуть на время и появиться снова. — Совесть, по-моему, дело личное. — Уверен в обратном. Вы задумывались, почему человечество так болезненно-упорно призывает к совести? Что заставляет нас веками твердить — «бедный, но честный», «честь смолоду», «угрызения совести», в то время когда вокруг всегда предостаточно других примеров? Попробуйте противопоставить что-нибудь этому. Не найдете. Я искал. Ни на родной мудрости, ни даже более-менее авторитетного высказывания. Нет их! И быть не может. Почему? Подумайте. — Вы латинист? — Илья пожалел, что затронул больной для себя вопрос. — Преподавал когда-то. Теперь я графоман. — Он кивнул на потрепанный ученический портфель, прислоненный к столику. — Не знаете, что это такое? Не дай Бог узнать. То же, что и писатель. Те же муки творчества и радости, может, их лаже больше, чем у настоящего писателя, потому что вся жизнь в этом… Только, кроме редакторов, вас никто не читает. Вы извините. Я, кажется, погорячился — вино. Вино и годы! — И уже совсем спокойно, даже скучно, добавил: — Из лжи ничего, кроме лжи, не получается. В жизни только правда и ложь — терциум нон датум. Третьего не дано.* * *
Капитан появился со стороны трамвайной остановки, откуда его ждал Илья. Он приближался быстрыми аккуратными шажками и выглядел как человек, проживший на этой улице всю жизнь. Илью всегда поражало это умение Капитана применяться к окружающему. Каждый день он выглядел иначе. Сейчас на Капитане было скромное пальто-деми, ондатровая шапка. Не доходя до Ильи и не видя его, он тоже заскочил было в продовольственный магазин, но не выдержал его тишины и безлюдья, купил баночку гусиного паштета и выбрался на улицу. — Как дела? — спросил Илья, внезапно появляясь из подъезда. — В лучшем виде. — Капитан достал бумажник, доля Ильи лежала отдельно — зеленоватые хрустящие купюры. — Только экспонометр я выбросил — не работает, заодно духи — народ за версту принюхивается. — Барыга надежный? — Барыга бы столько не заплатил — гости столицы! Сейчас, должно быть, уже у себя дома на курорте… Между прочим, я слышал сегодня, как милиция про нас говорила… Илья нахмурился. — …На Казанском вокзале, в автокамере, Илья Александрович, — человек не первой молодости, Капитан словно играл роль недалекого школяра, грубо добивающегося похвалы учителя, — один в гражданском подходит к другому и спрашивает: «Ты до двадцати трех, Дощечкин?» Тот отвечает: «Да». — «Смотри, — говорит, — Дощечкин, в оба, не упусти преступника…» Потом о чем-то еще поговорили, я не расслышал. — Мало ли о ком шла речь! Он же сказал — преступника… — Дай Бог бы не про нас. — Он снова пошарил по карманам, достал баночку с паштетом. — Гусиный! Вы как-то сказали, что любите. Пожалуйста.1 января, 12 часов 40 минут
Пользуясь своим правом «блуждающего форварда», Денисов перешел в центральный зал, где у него было заветное место — у телеграфа. Отсюда был хорошо виден эскалатор, соединявший зал с автоматической камерой хранения, и здесь Денисову никто не мешал. Стеклянные стены окружали телеграф с обеих сторон, а впереди высилась стена с антресолями, словно борт огромного, многопалубного судна, пришвартовавшегося к дебаркадеру. Люди, бродившие по залу, могли легко сойти за пассажиров с корабля, мраморные плиты под ногами напоминали пирс. Денисов внимательно смотрел вокруг, пока не почувствовал, что сам неожиданно стал объектом чьего-то пристального внимания. Вначале ему показалось, что он ошибается. Но нет, за ним определенно наблюдали. Денисов даже мог примерно указать откуда — со скамей, стоявших метрах в пятнадцати справа. Сделав это открытие, Денисов чуть переместился в сторону, чтобы скамьи оказались перед ним. Теперь он мог незаметно оглядеть каждого, чтобы разобраться, кто за ним следит и с какой целью: скучающий пассажир, которому просто нечего делать, или лицо заинтересованное. Под потолком плавали разноцветные шары. Их ловили с помощью других шаров — на длинных нитках, вымазанных почтовым клеем. Забава эта повторялась каждый день… Денисов поднял голову к потолку и сразу быстро провел взглядом по скамьям. Никто не встретился с ним глазами. Это насторожило: наблюдавший принял меры предосторожности — выбрал второй объект и перевел взгляд, когда инспектор посмотрел в его сторону. Денисов снова огляделся. Вторым объектом могли быть и шары, и электрическое табло, и голуби, перелетавшие с карниза на карниз, и другие пассажиры… Подозрение вызвал человек, рассматривавший светильник над входом в ресторан, — два точно таких же висели ближе и удобнее для обзора. Денисов подождал. Когда неизвестный с тем же вниманием стал изучать геральдического петушка, ничем не отличавшегося от своих собратьев на другой стене, он уже точно знал: им интересуется этот не примечательный ничем человек, сидящий в первом ряду с краю. «Сейчас проверим…» — Денисов поправил куртку и, словно кого-то увидев, резко повернул за угол телеграфа. Они встретились нос к носу. Незнакомец оказался строен, на вид лет двадцати семи — двадцати девяти, с аккуратно подстриженными висками. Он носил форменное серое кашне и туфли знакомого покроя. — Московская транспортная милиция! — Денисов дотронулся до верхнего кармана, где лежало удостоверение. — Денисов, инспектор розыска. Незнакомец вздрогнул от неожиданности. — К вам в помощь, — Денисов увидел у него в руках размноженную на ротаторе ориентировку о кражах. Сверху было размашисто написано: «РУО» — регистрационно-учетное отделение — «ст. лейтенанту», фамилия выведена неразборчиво. — Я ведь не в полупальто, товарищ старший лейтенант, и меховой кепки на мне тоже нет! — Вы стояли в таком месте… — Ему нельзя было отказать в наблюдательности. — Пока все тихо. Не перед бурей ли затишье? — Кто знает?! — Почерк, я слышал, по всем кражам один и тот же. Денисов поморщился: «затишье перед бурей» и «почерк преступника» — люди, раскрывавшие преступления, не разговаривали таким языком. Он еще немного подождал, но старший лейтенант, видимо, исчерпал запас профессионализмов. — Давайте не наступать друг другу на пятки, — предложил он перед тем, как разойтись. Денисов не возражал: — Собственно, в зале я случайно. Спор получил неожиданное разрешение сверху. — Товарищ Денисов, — объявило радио, — срочно зайдите к дежурному по милиции. Повторяю…* * *
В отделе милиции Денисова ждал Сабодаш. Антон протянул для пожатия обе руки, как на ринге. — Зачем вызвал? — После такого рукопожатия хотелось прикрыть нижнюю челюсть. — Ячейка литовцев была пуста уже в начале десятого вечера. Я разговаривал с пассажиром, который ее потом занял. Значит, одновременно с кражей баккара, подумал Денисов, преступник очистил еще две ячейки. Антон помолчал, потом добавил без всякого перехода: — Блохин допрашивает Орлова, грузчик берет все на себя…1 января, 10 часов 35 минут
Крохотный замочек долго не хотел открываться — Илья с трудом подыскал ключ. На дне чемодана оказались паспорт и несколько аккредитивов. Пока он возился с вещами, подошел Капитан. Обычно он только наблюдал со стороны — принимал меры на случай опасности. — На предъявителя. — Илья сунул ему в руки бумаги. Ничего другого брать не имело смысла. — Сегодня много милиции в штатском, — сказал Капитан, пряча аккредитивы, — утверждать не могу, но чувствую спиной. Лучше уйти. Спина опытного жулика словно аккумулировала тревожные сигналы. Илья не спешил закрывать ячейку. — Не надо паниковать. Владелец аккредитивов сначала подойдет к своей ячейке, попытается открыть, потом позовет дежурного. Мы десять раз успеем уйти… — Ваше слово для меня закон, но все же… — Секция, у которой мы стоим, навела меня когда-то на способ угадывания шифров. Какое совпадение! Я учился тогда на первом курсе, ночевал в общежитии, вещи держал на вокзале. Удобно: общежитие далеко, вокзал — в центре. В день, бывало, по нескольку раз приедешь — то учебник взять, то деньги, то рубашку сменить. Вот и ломаешь голову, как этот ящик перехитрить, чтобы без монет закрылся! — Илья похлопал ладонью по дверце. — Надо бы отметить ее серебряной табличкой. Как думаешь, разрешат? — Безусловно. А теперь пора: надо быстрее получить по аккредитивам. — Ерунда! Потерпевший может появиться через неделю, когда нас не будет в Москве! — Решим этот вопрос в другом месте. — Капитан не мог скрыть беспокойства. — Закрывайте лавочку! Вон их сколько кругом! — Мы стоим у своей ячейки! Что нам бояться? — Механик идет. — Знаете, мне вдруг захотелось апельсинов. Они лежат где-то поблизости. Не желаете? — Что с вами? — Сейчас почти в каждой ячейке апельсины. Видели ларьки у вокзала? С самого утра торгуют. — Ставлю ящик апельсинов, если вы закроете сейчас ячейку. На Илью, обычно осторожного, словно что-то нашло. — Я открою всего две ячейки — вот эту и ту. Если в них нет, мы сейчас же уходим. — Черт! — Отступать было поздно. — Товарищи, — подходя, строго сказал Горелов, — положили вещи — идите! Не создавайте тесноты для других пассажиров. — Не все еще взяли, отец. — Илья бесстрашно сделал несколько шагов вдоль секции. — Где у нас апельсины? Дайте вспомнить! Кажется, здесь… — Номер надо записывать! — заворчал механик. — Едут, едут, а набрать шифр ниодин правильно не умеет! — Шифр я помню: тысяча… Сказать? — Мне ваш шифр неинтересен! При себе держите, — разговаривая с пассажирами побойчее, вроде Ильи, Горелов сдерживался. — Берите апельсины и идите… — Он не хотел уходить посрамленным, а мало-мальски достойный предлог для отступления не находился. Илье пришлось подбирать шифр в его присутствии. Капитана подмывало бросить все и пойти к выходу. Он успел бы проскочить к эскалатору раньше, чем механик поднял крик. Илья держался, как хитрый мышонок, который задумал поиграть с грозной, но весьма недалекой кошкой. С секунды на секунду Капитан ждал, что кошка вот-вот бросится на мышонка и сцапает его. А заодно и самого Капитана. Щелк! щелк! — стучал шифратор. У Ильи выступил на лбу пот. Капитан отвернулся. Теперь он уже не успел бы к эскалатору, даже если бы и поспешил. В конце отсека показался милиционер, он не спеша приближался, на ходу перебрасываясь словами с дежурным. Милиционер был похож на того, что в последний раз арестовывал Капитана в Омске, только погоны у этого были прикреплены не к синей шинели, а к серому, весьма современного покроя пальто. Ячейка открылась. Кроме чемодана, в ней лежала большая хозяйственная сумка с апельсинами. — Ну вот, — Илья достал платок, вытер лоб, — все на месте, а мы беспокоимся. — Он выбрал тройку апельсинов покрупнее, один протянул механику: — Угощайся, отец! Остальные пусть пока полежат. — Спасибо, — буркнул «отец», принимая угощение, — народ разный идет — понимать надо! Есть и такие: едут, едут, а сами и шифры не могут набрать как следует. За такими только глаз да глаз! Весь этот месяц пассажиры щедро угощали механика апельсинами.1 января, 15 часов 20 минут
Денисов был в кабинете, когда в коридоре раздались шаги и голоса: — Кончай ночевать, Денис! — Сабодаш вошел в кабинет, потирая руки. — Задержали твоего… Уот! Инспектор задержал, из регистрационно-учетного… — В дверях, позади дежурного, появилась давешняя фигура в пальто с форменным серым шарфом. — Не может быть! — Денисов вскочил. — Холодилин приехал, сейчас с ним беседует… Прямо у ячейки взял! Антон прикурил папиросу, которая тут же погасла, выбросил, достал новую. Денисов еще не верил: Сабодаш мог и разыграть. Но почему здесь старший лейтенант? Отбой тревоги?! — …Ну и кабинетик! — Старший лейтенант осмотрелся. — Часовня здесь была, что ли? — Потом продолжил прерванный разговор с дежурным. — Как будто и оборвалось все во мне! Сначала вижу кепку, на пальто не смотрю… Меховая, черная — есть! Смотрю ниже — синее! Пальто или полупальто? Полупальто! Не вижу ботинок. Иду как привязанный, будто, кроме нас, никого на вокзале. Черные полуботинки. Все сходится, надо брать! Он к ячейкам… Все это считанные секунды, а казалось, час ходил за ним и все на меня смотрели! — Бывает, — кивал Сабодаш. В коридоре было шумно. Заступающая смена постовых получала оружие и радиостанции, перекидывалась шуточками. — Завтра за грибами поспеем — к ночи обещали тридцать градусов ниже нуля. — За волнушками? — Нынче белых урожай! На разводе им продиктовали приметы подозреваемого, который мог видеть шифр сестер Малаховых, попросили повторить, запомнить, потом дежурный поговорил с кем-то по телефону: — Внимание, наряд! Ввиду задержания подозреваемого последняя ориентировка отменяется. Из залов подтягивались в отдел сотрудники. Звонили с других вокзалов, просили старшего лейтенанта к телефону. Безалаберное настроение не покидало всех до той минуты, пока из кабинета начальника отдела не появился Холодилин вместе с незнакомым человеком, одетым в синее полупальто и черные полуботинки. Меховую кепку подозреваемый держал в руке. Холодилин проводил его до дверей. — Еще раз прошу извинить, — почему-то строго сказал Холодилин, прощаясь, — от себя и от имени сотрудников. — Понимаю. — Мужчина подал руку Холодилину. — Кроме меня и этих женщин, у ячейки действительно никого не было. Когда он пошел к выходу, старослужащий у дверей взял под козырек. Следом, немного поотстав, не прощаясь, ушел старший лейтенант. — Грузчика Орлова ко мне, — приказал Холодилин, входя в дежурку, на ходу он просматривал заявление задержанного. «…нисколько не заблуждаюсь в отношении Вашей занятости, не строю никаких иллюзий по поводу моего положения и даже не предлагаю создавшуюся ситуацию в качестве основы для литературного сценария, поэтому не обижусь в случае отказа… Но вдруг! Вдруг вы заинтересуетесь моим делом…» Орлов признавался в совершении инкриминируемого ему деяния: рано утром, еще пьяный, возвращаясь с Москвы-Третьей, где морально неустойчивые люди из числа проводников вагонов с вином предлагают другим морально неустойчивым лицам свою продукцию, он случайно оказался в зале, увидел запечатлевшийся мгновенно в воспаленном мозгу шифр автоматической камеры хранения… Задержанный ставил вопрос об освобождении от наказания: «Для борьбы с такими, как я, случайно оступившимися, надо искать новые гуманные решения…» Однако не закрывал путь для переквалификации действий по другим статьям Уголовного кодекса Федерации, предусматривающим меньший срок наказания: «Я не собираюсь на этих страницах приводить оправдания в доказательство своей невиновности. Мне просто хочется здесь с беспристрастностью и скрупулезностью хорошего адвоката еще раз, но уже чисто умозрительно пройтись по всей своей короткой жизни с целью анализа всех причин и факторов, приведших меня к совершению преступления, к моему моральному падению. Прошу простить мне несколько необычную форму и тон описания, но заранее искренне заявляю, что за необычным оформлением скрывается правда и только правда…» Заканчивал он так: «Прошу также извинить мне то, что, не владея в совершенстве юридическим языком, я воспользовался любезной помощью своего друга, который, надеюсь, справился с этим несравненно лучше, чем я». — Орлова! — уточнил Холодилин, дочитав заявление. — И через пятнадцать минут из той же камеры Савватьева!1 января, 16 часов 30 минут
Между центральным залом и входом в метро Денисов увидел женщину в искусственной дубленке. Лицо ее показалось ему знакомым. Женщина вела мужчину в куртке и сапогах. Спутник спотыкался, хотя пьяным не был. Прохожие оглядывались вслед. «Орловы! — вспомнил Денисов. — Значит, грузчик невиновен?!» После всех перипетий этих суток, смены надежд и разочарований Денисов впервые по-настоящему почувствовал усталость. «Съездить домой?» — Он колебался. Подумав, Денисов вернулся в камеру хранения. Здесь снова был полный штиль. Примерно третья часть ячеек пустовала. Одинокая пассажирка — дама в шубе и меховой шапке, похожей на тиару, — закрывала ячейку у входа. Денисов с секунду наблюдал за ее нехитрыми манипуляциями: быстро повернув каждую из рукояток, дама захлопнула ячейку, не записав шифр. Денисов подошел ближе. — Добрый вечер. Правила, между прочим, не рекомендуют набирать вместо шифра год рождения. Рискованно, извините. — Почему? Разве вы знаете, сколько мне лет? — Дама еще раз дернула за рукоятку и насмешливо улыбнулась. — Это узнается просто. — Он подошел к ячейке и обеими руками стал быстро перекручивать шифратор. — Ну, — торопила женщина. Денисов в последний раз повернул диск. Раздался характерный щелчок — дверца открылась. — Вы опасный человек: мне, между прочим, еще никто не давал моих лет. — Дама открыла сумочку и быстро подкрасила губы. Денисов не ответил. Из бокового отсека появился Порываев. Он казался непричастным ко всему, что происходило в автокамерах, — несмотря на символ власти — ключ от ячеек, с которым никогда не расставался. Денисов знал ребят Подмосковья — валеевских, белостолбовских, с их романтическими прическами и правилами хорошего тона, которые предписывали внешнее спокойствие, даже развязность во всех случаях жизни, особенно во взаимоотношениях с милицией и любимыми девушками. «Любимая девушка! Вот оно! — подумал Денисов. — Как это мне не приходило в голову?! Эта отрешенность, ночные приезды на вокзал… У него появилась девушка, он думает о ней. Где она живет? Видимо, не в Москве и не в Белых Столбах — тогда бы в два часа ночи он не попал на вокзал… Господи, как просто! Она живет между Москвой и Белыми Столбами, ближе к Москве. Он провожает ее с последней электричкой и успевает только на ту, что идет на отстой в Москву». Порываев не замечал инспектора. Лишь подойдя ближе, он словно почувствовал что-то, подозрительно посмотрел в его сторону. — Слыхал, скоро на свадьбу пригласишь, — сказал Денисов, — правда, что ли? Дежурный не ответил. — По-моему, я ее знаю. Она на семь одна ездит… Все они, жившие на линии и приезжавшие на работу в Москву, были «расписаны» по времени отправления утренних и вечерних электропоездов. Порываев поколебался. Денисов понял: ответ на его вопрос будет дан в наиболее независимой форме. — На семь одна она сроду не ездила. — Порываев цыкнул зубом. — На семь шестнадцать, а по пятницам и вовсе на семь двадцать девять! Денисов понял, что не ошибся. Порываев хотел что-то добавить, но его позвали. Денисов прошел в дальний отсек. Молоденький милиционер без пальто, в форменном мундире, по-домашнему, бродил лабиринтами камеры хранения, следуя какой-то известной ему одному системе — наступая на белые мраморные квадраты и старательно пропуская другие. В углу стояло несколько деревянных тумбочек-подставок, для пользования ячейками верхнего яруса. Денисов присел на одну из них. Здесь, вблизи стальных сейфов с их ячейками и шифраторами, мыслилось значительно яснее и четче, чем в кабинете. В том, чтобы открыть ячейку, в которой вместо шифра набран год рождения, ничего трудного нет. Не надо даже примерно знать возраст пассажира: число возможных цифровых перемещений существенно уменьшится. Вместо десяти тысяч, как обычно, останется сорок-пятьдесят. Но как преступник узнает, в каких ячейках набран год рождения и в каких нет? Ведь не крутит же он все шифраторы подряд! Денисов достал блокнот. Кроме новогодней записи о младшем лейтенанте флота, здесь была еще одна, сделанная наспех, той же ночью. Денисов с трудом ее разобрал. «Работник автоматической камеры хранения, которого все на вокзале знают, не станет совершать кражи подобным образом, — Денисов записывал слова полностью, не любил и не умел сокращать, за что на юрфаке получил прозвище Медлитель, — перемещая похищенные вещи из одной ячейки в другую, он вдвое увеличивает вероятность быть замеченным дежурным сотрудником милиции либо администрацией». Денисов еще утром хотел сказать об этом Блохину, но за весь день они так и не увиделись. После допроса Орлова Блохин уехал в Белые Столбы, проверяя показания Порываева. Теперь Денисов внес в блокнот дополнительные записи: «Преступник переносит вещи в другую ячейку, чтобы как можно меньше времени находиться у обворованной. Вывод: он не знает в лицо хозяина вещей». И еще: «Преступник берет только деньги и ценные вещи. Чтобы украсть из трех ячеек, он, наверное, открыл десять. Отсюда странные и на первый взгляд бессмысленные перемещения чемоданов, о которых говорил механик».1 января, 17часов 20 минут
На дверях ближайших столовых висели стандартные объявления «Санитарный день». Денисов сел в троллейбус и стал смотреть в окно, подыскивая, где бы можно было поесть. В одном переулке он увидел подъезд, к которому небольшими группами шли люди. Подъезд был неярко освещен, но в боковом огне мелькнули витрина буфета и белый халат. Уже внутри он узнал, что здание арендовано клубом служебного собаководства для ежегодной отчетной конференции. Регистрация делегатов заканчивалась, с началом работы совещания должен был закрыться буфет. Тем не менее Денисов успел плотно подкрепиться стаканом сметаны, холодными сардельками, пирожками с мясом, выпить чаю и бутылку лимонада. У него сразу поднялось настроение. — По-моему, Мини-Брет немного сыроват, — заметив, что Денисов покончил с едой, доверительно шепнул его визави, мужчина с маленькими чаплинскими усиками. Денисов неопределенно пожал плечами. — Сыроват. Кроме того, уши у него определенно легковаты! Стоявшая в очереди у буфета женщина обернулась: — Зато у вашего в потомстве исчезают премоляры! — Клевета! Уходя, Денисов подошел к боковой кулисе и посмотрел в зал. Все места были заняты, на сцене стоял стол для президиума. Собрание начиналось. Прямо против двери крайнее место было свободно. Удивительное чувство успокоенности поднялось в Денисове при виде этого единственного незанятого кресла — с подлокотником, уютно задрапированным пальто соседа. Раздевалка внизу не работала. — Проходите, — шепнули Денисову, — не занято. Он колебался не более секунды. С трудом протиснув колени между сдвинутых рядов, Денисов буквально упал в кресло. Никакая сила, казалось, уже не могла поднять теперь его с места и послать на вокзал. «Только бы не заснуть», — подумал Денисов и закрыл глаза. Засыпая, он слышал перебранку по поводу регламента: докладчик просил час, собрание соглашалось на сорок пять минут, зная, что он все равно будет говорить час. После этого докладчик произнес первую фразу: — В сравнительно сжатые сроки мы изжили серьезные пороки эрдельтерьеров: выпрямленность задних конечностей и растянутость корпуса… Денисов не знал, сколько он спал. Открыв глаза, он увидел на трибуне седую женщину в жокейской шапочке. Женщина рассказывала о чем-то сугубо личном, видимо, не очень интересном. Многие ее не слушали. Пожилой мужчина в спортивном костюме что-то выкрикнул, приложив руку ко рту. Денисов прислушался. — …Это был щенок на редкость общительный и жизнерадостный. Весь дом полюбил его. Однажды, когда нам пришлось подклеить ему пластырем уши, Крош заплакал. Он плакал, товарищи, такими слезами, что их можно было собирать в ладонь. Это надо видеть. И вот вчера нашего щенка украли… — Ре-гла-мент! — выгибаясь сабельным клинком, снова крикнул мужчина в спортивном костюме. Женщина в жокейской шапочке обвела глазами зал, словно отыскивая кого-то, кто сопереживал ей сильнее других. Неожиданно таким человеком оказался Денисов. История вызвала у него чисто профессиональный интерес. — Потом мы узнали, что вор готовился к краже заранее. Мы нашли место недалеко от площадки — вор приготовил его, чтобы спрятать щенка… — Ко-ро-че! На обладателя спортивного костюма зашикали, но женщина в шапочке уже спустилась с трибуны. «На какой шифр была закрыта ячейка, в которой нашлись вещи невесты?» — подумал вдруг Денисов. Он еще не знал, что произошло, не знал, как применит то, что сейчас пришло ему в голову, но уже вставал со своего уютного места и протискивался в боковой проход.1 января, 18 часов 30 минут
Капитан изрядно продрог, пока ждал Илью у платформы, за переездом. Одна за другой подходили электрички, пассажиров было мало. И все-таки Капитан едва не упустил Илью, когда тот спрыгнул на насыпь и, по-заячьи заметая следы, ежесекундно перепроверяясь, направился к оврагу. «Хитер! Тертый, как будто на терке растирали…» Капитан следил за ним издалека, к ручью не спускался. Илье вскоре надоело петлять: из оврага он прямиком отправился к домам. Капитан запомнил кирпичный многоэтажный дом, подъезд и даже угловое окно, которое сразу же осветилось после того, как Илья поднялся к себе. «Теперь мы квиты, — подумал Капитан, — я ведь тоже тогда — с вокзала — не приглашал к себе в гости». До следующего захода в автокамеру оставалось время. Капитан подошел к пивной палатке на углу. В ней горел свет. Используя новогоднюю конъюнктуру, расторопная продавщица бойко торговала пивом. «Наверняка разбавленное, — равнодушно подумал Капитан, вставая в очередь, — самый момент — никто не станет проверять». Узнав адрес Ильи, Капитан сразу успокоился, остальное было тоже привычным, не претерпевавшим почти никаких изменений от случая к случаю. Вещи и деньги Илья увозил с собой на квартиру. Дальнейшую их судьбу определить было нетрудно: деньги учитель прятал, а вещи переправлял в автоматическую камеру хранения на один из тихих московских вокзалов, например на Савеловский. Они там не бывали ни разу. Записи с номерами ячеек, где хранятся вещи, и шифры должны находиться на квартире — носить их с собою рискованно. Следующий этап — посещение квартиры в отсутствие квартиранта. Это вовсе несложно. «Надо только не суетиться, — так и этак раскидывал умом Капитан, наблюдая за быстрыми, хорошо отрепетированными приемами продавщицы, разливавшей пиво, — продолжать работать под простака, заглядывать шефу в рот: «Гениально, Илья Александрович!», «Мне бы это и в голову не пришло, Илья Александрович, а ведь я, слава Богу… профессионал, кормлюсь этим…»» Мысль обворовать Илью пришла к Капитану сразу, в тот же день, когда они познакомились и решили действовать сообща. Впрочем, «пришла» в данном случае нельзя было сказать, потому что мысль о краже никогда и никуда не уходила. Просто стало ясным, кто станет следующей жертвой. Илья! Иначе не могло быть, поскольку только через кражу Капитан и мог реализовать свое глубоко скрытое от окружающих «я». Кражу эту Капитан готовил со всей изобретательностью рецидивиста, даже не столько из материальной корысти, сколько ради самого преступления, в состоянии полного эмоционального безразличия. Лишь иногда, в особо удачные минуты, в Капитане вспыхивало подобие чисто профессионального удовлетворения — на квартире, когда Илья согласился «работать совместно», на следующий день, когда Илья поверил, что перед ним действительно спившийся интеллигент… Капитан не выдержал, фыркнул — стоявший перед ним в очереди мужчина, по виду шофер, обернулся. «…Какая, к черту, Одесса и кто, собственно, спившийся интеллигент?! Он, что ли, Костька Филин — Камбала?! Справка за восемь классов да девять судимостей!» Кража у Ильи казалась заманчивее оттого, что воровать у вора всегда безопаснее. Вор — существо запятнанное. Не побежит же он в милицию заявлять, что подло обманут своим сообщником. «…Впрочем, какой же он, Илья, вор? Фрайер чистой воды. Случайно наткнулся на золотую жилу и теперь гребет лопатой. К тому же жаден, скуп. Тут всю жизнь воруешь, и никогда денег нет, ни дома, ни шубы. Встретился бы этот Илья на Колыме лет пятнадцать — двадцать назад!» Неопределенного вида цыганки кого-то ожидали сбоку от ларька. На Капитана они не обратили никакого внимания. «Чем и хороша форма! К лицу не присматриваются — к фуражке только да к погонам! Моряк — вот и вся примета, все как на одно лицо!» От нечего делать он пристал к цыганкам: — Зумавэсса! Гадаешь? Та, что стояла ближе, лениво посмотрела в его сторону. — Шутишь, дядя? Капитан нашел в кармане металлический рубль. Цыганка поймала рубль на лету. — Как тебе гадать, дорогой? На судьбу или на даму? — Давай на судьбу! — Загни один палец. Если на даму — два… Вижу: не про хлеб-соль думаешь, про судьбу свою. — Она заговорила скороговоркой: — Много у тебя денег было, все ты роздал, простая у тебя душа и деньги легкие. Только похитрей будь, все вернется… «Пожалуй, верно она! Все точно!» — Мечтаешь ты о пиковом короле, ждешь с ним встречи, через него все расстраиваешься. Правду я говорю, нет? А жизни тебе будет девяносто два года. Бойся только черного глаза да стрелы летящей. Вторая цыганка дернула гадалку за платок. — Идти надо, дядя. Все! Дай папиросочку! Гадание неожиданно встревожило. Капитан выпил пива, в соседнем магазине взял бутылку «Солнцедара», прошел в ближайший подъезд. «Часть вещей учитель может еще держать в Киеве — не зря под праздник летал туда. Бросил пятиалтынный в ячейку, и назад. Вечером самолетом вернулся. Дороговато, правда…» Алкоголь подействовал привычным образом: как большинство рецидивистов, кроме тщательно запланированных, Капитан совершал еще кражи с ходу — внезапные, связанные со сложившимися благоприятными обстоятельствами либо с пьянством. Капитан поставил пустую бутылку под лестницу и, покачиваясь для вида, пошел наверх. В подъезде было уютно, жильцы придавали чистоте особое значение, являясь, следовательно, по мнению Капитана, людьми до некоторой степени особенными. В таких домах всегда было чем поживиться. Поднимаясь по лестнице, Капитан нажимал на аккуратные, отделанные под дуб двери и прислушивался. «Ишь замков понаставили! Жить надо проще, добра не копить!» — Квартирные воры тоже заботятся о мотивации своих поступков. Дверь на пятом этаже оказалась незапертой. Капитан нажал на нее, тихо вступил в прихожую. На всякий случай, если заметят, в уме держал дежурную фразу: «Вам стакана не жалко? Мы сейчас вернем…» Однако из комнат никто не появился. В прихожей висело много одежды: синтетическая шуба, пальто, куртка и фуражка летчика. Из комнат доносилась музыка. Раздумывать было некогда.1 января, 19 часов 10 минут
Срочная. Начальникам отделов транспортной милиции (согласно перечню).В течение последних суток совершен ряд краж из автоматических камер хранения. Способ совершения преступлений характеризуется предварительным перемещением похищаемых вещей в другие ячейки. Следует полагать, что, готовясь к совершению краж, преступник занимает в отсеках камеры хранения определенное число ячеек, которые использует во время совершения преступлений в качестве базовых — для осмотра и сортировки вещей. В результате поиска похищенного ряд менее ценных вещей, принадлежавших потерпевшим, обнаружен в ячейках, закрытых на шифры 1881, 2727, 5555, являющихся, возможно, личными постоянными либо временными шифрами преступников. Не исключено также, что в настоящее время на обслуживаемых объектах имеются базовые ячейки преступника, закрытые с помощью вышеуказанных шифров. Приказываю срочно установить на обслуживаемых объектах наличие ячеек с шифрами 1881, 2727, 5555, обеспечить за ними эффективное наблюдение. В необходимых случаях с санкции прокуратуры произведите тщательный осмотр содержимого ячеек на предмет обнаружения вещей, объявленных в розыск, и доказательств, могущих содействовать установлению преступника. Одновременно расследуйте имевшие место случаи противоправного перемещения вещей в автоматических камерах хранения. Срочно сообщите шифры ячеек, в которых оказались перемещенные вещи…
1 января, 20 часов 10 минут
Неожиданное бездумно-веселое настроение овладело Денисовым после того, как он, выбравшись из зала, нашел телефон и позвонил начальнику розыска. Трубку взял Сабодаш: — Начальник говорит по другому телефону. Что передать? — Говорит Денисов… Преступник заранее занимает ячейки, готовит… Потом переносит в них ворованное. Надо искать его ячейки. — Ты опоздал, дорогой «блуждающий форвард», — ответил начальник розыска, которому Антон успел передать трубку, — но ненамного. Действительно, идеи носятся в воздухе. Несколько минут назад получено указание проверить ячейки. Так что немного опоздал. Денисов не стал рассказывать, что на мысль о приготовленных заранее ячейках его навело выступление женщины в жокейской шапочке, рассказавшей об удивительном щенке, плакавшем святыми человеческими слезами. — Нового пока ничего? — Новое будет часа через два-три, когда закончится проверка базовых ячеек. Поспать удалось? — Немного. На других вокзалах тихо? — Все тихо. Денисов не вернулся в зал, хотя ему хотелось найти и ободрить женщину в жокейской шапочке, оставить свой телефон на случай, если щенок не найдется. На выходе к Денисову подошел человек с чаплинскими усиками, которого он видел в буфете. — Сейчас начнется голосование, — он заговорщицки оглянулся, — чем меньше потомства Мини-Брета, тем лучше. Согласны? — Абсолютно, — ободрил Денисов. — Для эрдельтерьера он легковат… — Истинная правда. И корпус растянут, — Денисов кивнул. — Значит, вы знаете, как вам голосовать? — На том стоим! — Идите в зал, я сейчас приду. Не надо, чтобы нас вместе видели.1 января, 20 часов 40 минут
Система была строго продумана. Несмотря на то что в базовые ячейки уже были рассованы старенькие портфели и чемоданчики с непременными электробритвами, сорочками либо пуловерами, Илья привозил с собой на вокзал еще баул или сумку. Пассажир без вещей не пассажир! Осмотревшись, Илья открывал базовую ячейку, вынимал находившийся в ней чемодан или портфель и ставил рядом. Каждым, кто заглянул бы в эту минуту в отсек, решил для себя, что видит приезжего с «двумя местами», занятого перекладкой вещей. В этот вечер, собираясь на вокзал, Илья не думал изменять правилу. Смущал очередной баул, он выглядел чересчур приметным — пестрый, окраска «в шашечку» и молния по диагонали. Подумав, Илья вытащил из-под кровати чемоданчик Капитана, вытряхнул содержимое, в спальный мешок — ключи, зачетку, записную книжку с номерами ячеек в Киеве и на Рижском вокзале, золотые запонки в коробке и много других нужных и ненужных предметов. В чемоданчик Илья положил электробритву «Харьков», две нейлоновые сорочки, туфли, посмотрел на часы и поехал на вокзал. Астраханский встретил Илью огнями и мощным звуковым фоном, который оглушал еще в дверях. Звуки вокзала одновременно успокаивали и настораживали. Потолкавшись по центральному залу, Илья перешел в детский, некоторое время сидел, наблюдая за входом, потом покинул вокзал — кружил по площади. Все было тихо. Илья вернулся в зал и эскалатором спустился в камеру хранения. Первая базовая ячейка, занятая Капитаном, находилась в углу бокового отсека, Илья не спеша направился в ее сторону. До последней минуты, пока не откроется дверца чужой ячейки, Илья мог считать себя неуязвимым на случай проверки. В чемодане, оклеенном морскими фотографиями Капитана, не было ни одной краденой вещи — бритва, купленная женой еще в Юрюзани, стоптанные туфли, сорочки. В базовой ячейке тоже ничего лишнего. В отсеке толпилось много людей, возможно, среди них находились работники милиции. Илья на ходу присматривался к ячейкам, почти каждая из них имела для него свое лицо. …Старая, часто неисправная двести семьдесят девятая — он как-то пометил ее крестом. Беднягу вечно чинили, потому что монеты, пролетая в приемник, каким-то образом размыкали ее пораженное неизлечимым недугом запирающее устройство. Илья иногда пользовался двести семьдесят девятой, будучи студентом. Одновременно Илья приглядывался к шифраторам, подыскивал нужные сочетания цифр. Обычно, подходя к базовой ячейке, он уже держал в голове несколько приемлемых вариантов. На этот раз Илья не увидел в отсеке ни одной знакомой комбинации. На шифраторах сплошь стояли цифры одного порядка — единицы и двойки или восьмерки с девятками. Вначале Илья не придал этому никакого значения: «Нет здесь — найдем дальше, в конце отсека…» До базовой ячейки оставалось всего несколько шагов. Илья вдруг занервничал, даже лоб у него покрылся холодной испариной. «…Все рукоятки снаружи перекручены! Кем? С какой целью?» И вдруг его словно осенило: «Ищут! Базовые ячейки ищут!» Он замедлил шаг. Много раз говорил себе: нельзя пользоваться одним и тем же шифром дважды, для каждой базовой ячейки надо выбирать новый. Думал, обойдется — щадил себя: слишком много цифр пришлось бы держать в голове. Теперь дождался! И оттого, что все ячейки, которые занимал одновременно, закрывал на один шифр! «Какой же из шифров провалился? Судя по всему, четыре пятерки — безусловно. А как другие?» Илья рассчитывал, что милиция не станет искать вещи по всем ячейкам раньше, чем произойдет плановая проверка автокамеры. Впереди, по его расчетам, было еще пять суток форы. Это была грубая, непростительная ошибка. Все шифры, которыми он пользовался, следовало теперь считать проваленными. Илья поравнялся с бывшей базовой ячейкой и прошел мимо. Первая мысль, которая пришла на ум, когда он удалялся от поставленного милицией капкана, была: «К черту все! Как можно скорее сматывать удочки!» Отсек был длинный, повернуть назад Илья не мог — это выглядело бы подозрительно. Проще всего было поставить чемодан в любую свободную ячейку. Постепенно Илья успокоился. Бросить все? Когда сделано главное? Когда почти решен вопрос о прописке и уже выбрана дача?! Что, собственно, узнала милиция? Его прежние базовые ячейки? Его шифры? Так он сменит их! Возьмет другие шифры, займет новые базовые ячейки! Станет во сто крат осторожнее прежнего! Позже, заняв новую базовую ячейку и покинув вокзал, Илья сделал еще одно малоприятное для себя открытие. Чемодан, из которого он взял обручальные кольца и деньги, остался в базовой ячейке с шифром 2727. Нашла ли его милиция? Если нашла, пропала его личная, Ильи, ячейка с вещами в Киеве и еще одна в Москве, на Рижском вокзале, — горжетка из трех куниц, он приготовил ее в подарок жене, японский транзистор «Хитачи», авторучки — необычные, с паспортами, словно это были Бог весть какие сложные аппараты, с номерами пишущих устройств и объемистыми инструкциями на трех языках, и много других вещей.1 января, 22 часа 50 минут
Было поздно, когда Денисов снова подъехал к вокзалу. Боковые улицы казались совершенно пусты. Встречные лавины такси замерли на перекрестке. Выше, над машинами, перечеркнутые Дубниковским мостом, в несколько ярусов поднимались громады серого камня — дома, выстроенные в начале тридцатых годов, угловатые, прямолинейные, напоминающие друг друга своею непохожестью. Новое здание Астраханского вокзала было в чем-то сродни этим домам и в то же время отличалось от всех. Сквозь стекло отчетливо виднелись люди. Астраханский жил ночью той же необычной жизнью, что и днем. Люди приезжали и уезжали, сидели за никелированными столиками кафе, брились, знакомились, завтракали, разговаривали на десятках языков, давали телеграммы, встречались и провожали. Ни на минуту не умолкало радио, вращались турникеты. Подкатывали машины с утренними выпусками газет, мелькали знакомые трафареты — «Известия», «Гудок», «Литературная газета». «Не люблю вокзалы» — называлась книга, которую Денисов как-то увидел в киоске. Название удивило и запомнилось. Как можно не любить вокзалы? Из центрального зала навстречу Денисову толпой выходили французы, он узнал их по красным заплечным сумкам фирмы «Франс-Вояж», комбинезонам и беретам с помпонами у мужчин, брюкам и очкам — у седовласых дам. Переговариваясь, французы шли к автобусам. Еще издали на стоянке служебного автотранспорта Денисов заметил много легковых машин. «Ого! — подумал он. — Кто-то из гостей МВД уезжает! Холодилин определенно здесь — вон его машина!» Под крытые своды перрона Денисов вышел с первыми звуками марша. Обстановка была праздничная. Впереди странно маячил последний вагон только что отошедшего поезда. Денисов не сразу решил, движется состав или еще стоит: весивший десятки тонн вагон, казалось, плавал над рельсами со скоростью парящей пылинки. В начале платформы с недавних пор была установлена привлекавшая к себе внимание ярко-желтая тумба с кнопкой и четко выведенными надписями: «Милиция», «Кратковременно нажмите кнопку» и «Говорите!». Денисов нажал кнопку. Тотчас беспокойно замигал световой маяк, подзывая ближайшего постового. — Говорит Денисов. Кто уезжает? — Гость из Республики Южный Йемен, — ответил в микрофон оперативный дежурный, — ты рацию получил, Денисов? — Я уезжал отдыхать, начальник розыска знает. На призыв светового маяка спешило сразу два милиционера. Денисов махнул им рукой: деловой разговор — помощь не требуется, и пошел по платформе. В группе провожающих, стоявшей особняком, он увидел нескольких дипломатов, сотрудников министерства во главе с министром и невольно подтянулся. В это время поезд, набрав наконец более или менее заметную скорость, выполз из-под стеклянного свода. Провожающие надели шляпы. Пропустив вперед министра и представителей дипломатического корпуса, стараясь не попасть на глаза полковнику Холодилину, Денисов прошел в дежурку и получил рацию: за выход на службу без нее строго взыскивали. Затем Денисов спустился в автоматическую камеру хранения. Условия, в которых он, как «блуждающий форвард», находился, открывали простор для собственных версий, фантазии, и Денисову это нравилось. У боковой стены камеры хранения, рядом с эскалатором, стояла молодая пара. Денисов прошел мимо, потом обернулся — ему вдруг представилось важным увидеть их лица — кто вот так стоит вдвоем на виду у всех и смотрит в глаза другому. Однако он ничего не увидел: парня и девушку заслонили другие пассажиры. В камере хранения все оставалось без изменений, в том же состоянии, как и до его ухода, несмотря на важные сведения, полученные уголовным розыском. Вдалеке, в самом крайнем отсеке, Антон Сабодаш и младший инспектор розыска продолжали поиск базовых ячеек. Инспектор шел впереди и последовательно пробовал шифры — 1881, 2727 и 5555. Если дверца не открывалась, он переходил к следующей ячейке, а шедший сзади Сабодаш убирал пятерки — перекручивая рукоятки шифраторов в разные стороны. Дело продвигалось споро, было приятно смотреть за их слаженными действиями. — Становись, Денис, — подмигнул Антон, — принимай работу! Когда Сабодаш своею огромной ладонью поворачивал рукоятку вправо, вместо пятерки, остававшейся после младшего инспектора, появлялась восьмерка или девятка. Когда же Антон с той же силой налегал влево — двойка, реже — единица. На всех ячейках, осмотренных ими, уже не оставалось ни одной пятерки, не было ни четверок, ни шестерок. Денисов в растерянности прошел по отсеку. — Что вы делаете?! У вас ведь все шифраторы как близнецы! — Вот еще! А пассажиры как делают?! Думаешь, они присматриваются? — огрызнулся Антон. — Крутанут рукоятку и уходят. И не обращают внимания, что там, снаружи! Им главное — внутри! Уот! — Святая простота! — Денисов чуть не застонал от злости. — Взгляни на свою работу. Сабодаш, набычившись, отошел в сторону. Когда он вернулся, вид у него был смущенный. — Да… Приходится держать ушки топориком. — Денисов не удержался, посмотрел на его плотно прижатые мясистые уши борца. — Сейчас все переделаем. Уот! Будет в лучшем виде…* * *
По восьмеркам и двойкам можно узнать, что вначале на их месте были пятерки… Не по тому ли принципу преступник находит ячейки, в которых зашифрован год рождения? Но как? Почему? Ведь шифр пассажиры набирают изнутри и никогда снаружи. Денисов сбросил куртку, вдвоем с Антоном начали перекручивать рукоятки в разные стороны. А мысль его сосредоточилась на одном, еще не осознанном до конца и с которым нужно было обращаться очень бережно, чтобы оно не рассеялось как мираж, — колеблющаяся связь цифр внешнего и внутреннего шифраторов.* * *
Преступник каким-то образом устанавливает ячейки, в которых набран год рождения, в том случае, если тот же год рождения по какой-то причине ранее набирали на наружном шифраторе. Денисов думал об этом и потом, когда они покончили с рукоятками, когда, отдыхая, сидел в удобном кресле посреди зала и глядел, как на экран, в огромное электрическое табло. «Но зачем пассажирам набирать свой год рождения снаружи? Для чего?» Перед ним была стена, сквозь которую никак не удавалось пробиться.1 января, 22 часа 15 минут
Начальникам отделов транспортной милиции (согласно перечню).В результате успешного поиска базовых ячеек преступников на московских вокзалах заблокирован ряд ячеек, которые, по всей вероятности, абонированы разыскиваемым в преступных целях. На Рижском вокзале в Москве обнаружена ячейка № 347, шифр 2727, в которой оказалось значительное число похищенных вещей и предметов, объявленных в розыск. Среди них: горжетка из куниц, украденная из автоматической камеры хранения на станции Киев-Главный в декабре месяце; японского производства транзисторный радиоприемник «Хитачи», авторучки фирмы «Паркер» (США)… Всего сто десять наименований. На некоторые вещи и предметы заявки о кражах до сего времени не поступали. В процессе осмотра ячейки экспертом выявлены невидимые отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. Все обнаруженные ячейки обеспечены наблюдением. Примите меры к установлению владельцев всех изъятых на Рижском вокзале вещей. Заместитель начальника Московского управления транспортной милиции полковник милиции Холодилин.
1 января, 23 часа 50 минут
Денисов чувствовал — все решится сегодня. Он не знал, куда себя деть, — слонялся по кабинетам, уходил в даль платформ к Дубниковскому мосту, снова возвращался в камеру хранения. Положение человека, занятого личным сыском, освобождало от участия в общих мероприятиях, в его присутствии начальник розыска давал поручения другим инспекторам, связывался с коллегами на вокзалах. …Женщина поставила сумку, сбила теплый платок на затылок. Рука, поставившая сумку, была затекшей, с мертвенно-белыми бороздами поперек ладони. Денисов видел, как женщина решительно подула на пальцы и набрала снаружи шифр — «тысяча девятьсот двадцать семь». Ячейка открылась. Те же цифры стояли внутри. Женщина посмотрела по сторонам и, никого не заметив, быстро перекрутила наружный шифратор. Цифры снаружи изменились — шифр теперь оставался только внутри ячейки. Женщина не собиралась его менять после того, как переложит часть вещей из сумки в ячейку. Ячейка снова будет закрыта на тот же шифр. Денисов, как зачарованный, смотрел на цифры наружного шифратора…2 января, 0 часов 28 минут
Девять человек сидели в кабинете полковника Холодилина — начальники розысков всех московских вокзалов, десятым был начальник штаба, одиннадцатым — инспектор отдела милиции на Москве-Астраханской младший лейтенант Денисов. В отсутствие Холодилина собравшиеся негромко переговаривались. Всего несколько человек знали, по какому поводу их вызвали. Холодилин должен был вот-вот приехать из министерства. — У меня он из трех ячеек чемоданы вытащил. — Начальник розыска Курского, сидевший рядом с Денисовым, обвел глазами коллег. — Еще неизвестно, сколько он вытащил на других вокзалах! Потерпевшие придут не сразу. — Три вытащил и ничего не взял, только все вещи перевернул. Младший инспектор Дощечкин в том же отсеке стоял — ничего не заметил! — Трудно! Тот ведь прямо к ячейкам прет, как хозяин! Холодилин появился вместе с начальником уголовного розыска управления и сутулым человеком с длинными, свисающими вниз усами. — Товарищи офицеры, — предупредил сосед Денисова. Начальники розысков встали одинаково дружно, и лица их приняли одинаково непроницаемые выражения. — На совещании присутствует конструктор существующих систем автоматических камер хранения. — Холодилин сказал это так, будто участие изобретателя в ночных совещаниях уголовного розыска было делом само собою разумеющимся. Усатый наклонил голову. — Предлагаю обменяться мнениями по поводу краж из ячеек. Слово инспектору Денисову. Начальники переглянулись. — Дело такого рода, — этой фразой Денисов начинал все свои не многочисленные публичные выступления, — все последние кражи имеют две особенности: внутри ячеек набран год рождения, и каждый потерпевший пользовался своим шифром дважды. Проще говоря, дважды закрывал ячейку на один и тот же шифр… — Что категорически запрещено правилами, — заметил конструктор, кивнул и стал что-то быстро записывать в блокнот, покрывая крупным размашистым почерком одну страницу за другой. — Последнее означает, что все они хотя бы раз набирали свой шифр снаружи, а потом его перекручивали… Денисов чувствовал, что его не все понимают. Было бы много легче подойти к ячейке, набрать снаружи шифр, например 1927, как у той женщины с отекшими руками, и предложить начальникам розысков изменить его. Единицу бы обязательно сместили влево — на нуль, дальше рукоятка не проворачивалась, семерка при повороте до упора вправо стала бы девяткой. Вместо 1927 появилось бы 0909, 0609, 0709 или 0409. Все равно комбинация цифр начиналась бы с нуля и кончалась девяткой. — Есть закономерность, на которую преступник талантливо обратил внимание. Изменяя снаружи цифры, пассажир поворачивает рукоятку в сторону нуля или девятки, в зависимости от того, что ближе. Дело в том, что рукоятка существующего шифратора не имеет кругового вращения и поворачивается только до упора… Я понятно объяснил? — Денисов помолчал. — У меня все. Холодилин посмотрел одобрительно: он уважал краткость. Обмен мнениями не занял много времени. Начальники розысков коротко отчитались о принятых мерах. Конструктор не был готов возразить Денисову, он только рассказал о новой модели ячеек, поступившей на Киевский вокзал. — Три обозначения цифровых и одно буквенное, — несколько раз повторил он, — никакого больше года рождения. Над секцией зеленый огонек, как у такси, свободную ячейку видно издалека. Потом конструктор перешел к главному — к особенностям запирающих устройств. — Щелчки исчезли напрочь, подслушать поворот диска невозможно. Реле времени, даже если шифр набран правильно, не позволит ячейке открыться сразу, так что подбирать шифр одним поворотом рукоятки уже нельзя. — Он постучал карандашом по блокноту с записями. — Что касается сообщения товарища, выступавшего первым, то мы должны его изучить… — Управление милиции подготовит соответствующие предложения, — сказал Холодилин. — Не проще закрывать ячейку на ключ? — спросил незнакомый Денисову начальник розыска. Конструктор поправил гайдуцкие усы. — Ключ, вы понимаете, — вчерашний день техники. Ключ можнопотерять, можно подобрать новый. При соблюдении правил эксплуатации электроника дает неизмеримые преимущества. Не подумайте, что я говорю это как один из авторов… Я уверен, что наши новые камеры хранения КХС-6 практически не уязвимы. Ответив на вопросы, конструктор уехал. — Будем заканчивать. — Холодилин встал. — В соответствии с рекомендациями Управления транспортной милиции мы приступаем к широкой оперативно-штабной операции по изъятию преступника. Кодовое наименование — «Магистраль». Операция проводится комплексно — одновременно на нескольких дорогах. В кабинете было тихо, изредка слышался шелест проносившихся за окном машин. Старинные часы под стеклянным колпаком бесшумно вели отсчет времени. — Какие практические меры мы в состоянии предпринять? — Он вышел из-за стола. — Во-первых, полностью пресечь кражи из автокамер еще до того, как преступник будет установлен. Следует взять отсеки под наблюдение и удалить с наружных шифраторов особенности, о которых здесь говорил младший лейтенант Денисов. Без них преступник не в состоянии найти ячейки с годом рождения. Во-вторых. — Холодилин помолчал, сделал несколько шагов по кабинету. Он умел думать на людях. — Надо как можно скорее определить точное количество и приметы всех похищенных вещей… Наконец, на всех станциях, вокзалах должно подготовить ячейки-ловушки с нулями и девятками. При попытке совершить кражу из них преступник будет задержан. В этом суть операции «Магистраль». Вопросы есть? Вокзалам доложить о готовности через тридцать минут.2 января, 01 час 30 минут
Заместителю начальника Московского управления транспортной милиции полковнику милиции Холодилину.В соответствии с планом проведения операции «Магистраль» взяты под контроль остающиеся после набора шифров комбинации цифр наружных шифраторов. В каждом отсеке оставлено по две ячейки-ловушки для поимки преступника с поличным в момент подбора шифра. Ячейки-ловушки обеспечены оперативным наблюдением. Начальник отдела милиции на станции Москва-Астраханская.
2 января, 01 час 40 минут
В приемной отдела Денисов в третий раз за эти сутки увидел жену грузчика Орлова. Она всюду теперь сопровождала мужа и испуганно оглянулась на Денисова, когда тот проходил в дежурку. — Что нового? — поинтересовался Денисов у помощника дежурного. Самого дежурного не было. Молоденький помощник не пригласил инспектора к себе, за стеклянную перегородку, ответил как положено — в микрофон. — Объявлена операция «Магистраль». — Майор Блохин не приезжал? — Нет. Его ждет грузчик Орлов. — Микрофон работал нормально. — Я хочу с ним поговорить. — Материалы в столе, товарищ младший лейтенант. «Четкий парень», — подумал о помощнике Денисов. Заявление Орлова о явке с повинной лежало вместе с протоколом его допроса. В витиеватых выражениях признаваясь в кражах и уповая на снисхождение, в допросе Орлов не мог указать ни одной подробности совершенных преступлений. Вверху почерком Холодилина было выведено: «Освободить». Орлов ожидал, что допрашивать его будет майор Блохин, и, увидев Денисова, был разочарован. — Меня уже допрашивали в этом кабинете. Майор Блохин. — Садитесь. Сколько времени вы знакомы с дежурным по камере хранения? — С Борисом? Не знаю. — Тридцать первого вы с ним выпивали? Орлов опустил голову. Получилось неискренне, Денисов заметил это. Вначале Денисову было важнее всего понять, кто перед ним. Важнее, чем признание. Кто? Как относится к себе, близким? Чем жив? — Выпивали? — Было. — Он вздохнул. — Потом вы поехали на товарную станцию? К вагонам с вином? Там тоже выпивали? Орлов снова сделал вид, будто раскаивается, переживает. — Чем закусывали? — Где? У вагона? — Вопрос удивил. — Нет, в автокамере. — Апельсинами. Механик принес. Денисов задумался. — Много апельсинов? — Штуки три. Он без апельсинов не бывает… Из отдела милиции они вышли втроем — Орлова держалась чуть поодаль. Было морозно и тихо. Несколько электричек стояло у платформ. В центре перрона не спеша разговаривали двое постовых, издали к ним направлялся еще один, дежуривший на площади. «Пустая платформа, электропоезда с опущенными пантографами, сбежавшиеся перекурить постовые, — подумал Денисов, — ночной вокзальный пейзаж». Из дверей центрального зала выглядывали пассажиры бакинского скорого — ждали посадки. — Ну, мы пойдем, — сказала Орлова, — простите его! Денисов успел забыть о них: странная супружеская пара — задерганная женщина и гуляка-муж, которого она никогда не оставит в беде, не бросит и не предаст. Немногим выпадает такое.2 января, 0 часов 30 минут
Илья ждал скрещения поездов. Начало посадки на бакинский скорый и прибытие ночного астраханского приходились на одни и те же минуты. В это время автоматическая камера хранения всегда была наполнена пассажирами. Вся ночь шла кувырком. В поисках базовых ячеек сотрудники милиции изменили структуры цифр на наружных шифраторах. Исчезли привычные комбинации, Илья несколько раз проходил по отсеку к своей ячейке. Надо было уходить либо ждать новых пассажиров. Илья нервничал. Появление Капитана не добавило обычной порции энергии. Помощник явился с опозданием. На этот раз он был в куртке летчика. Форменная фуражка, надетая чуть набекрень, придавала испитому лицу вид насмешливый. «Ничто ему не грозит, — в который раз с неприязнью подумал Илья о напарнике, — подбирать шифр не приходится, к ячейкам подходить не надо. Поставить вещи в базовую ячейку да задать пару вопросов дежурному: «Сколько хранятся вещи?», «Как поступить, если забыл номер ячейки?», «Где предварительная касса?». И — до свиданья!» Увидев Илью, Капитан сразу же заспешил навстречу — само дружелюбие и мягкость. — Все в порядке? Илье показалось, что от него попахивает алкоголем. — Пока вы со мной, что может с нами случиться? — привычно рассыпался в комплиментах Капитан. — Просто удивительно: никогда не чувствовал себя настолько спокойно. — Он еще глубже, как в панцирь, втянулся в свою новую куртку. Илья не стал вводить его в курс дела с базовыми ячейками: зачем паниковать раньше времени? — …Я, Илья Александрович, решил пригласить вас с женой и ребенком этим летом в Одессу. Принимаете приглашение? Мне попалось расписание Черноморского пароходства: отход из Одессы в пять ноль-ноль ежедневно, и через пару дней вы в Батуми! Заботы о каютах я беру на себя — некоторые связи еще остались… Они остановились у киоска военторга. Илья протянул руку — постучал по дереву: просил удачи на ближайший час, дальше не загадывал. — Внимание! Граждане, встречающие пассажиров! Ко второй платформе… — Астраханский прибывал без опоздания. На эскалаторе появились первые пассажиры. Вновь прибывшие рассыпались по отсекам, занимая ячейки. С минуты на минуту Илья ждал начала посадки на бакинский. — Начинается посадка, — наконец объявило радио, — на скорый поезд Москва — Баку… Вместе с другими пассажирами Илья прошел в отсек к базовой ячейке, открыл ее. Потертый чемодан Капитана показался на свет, Илья даже не взглянул на него. Вокруг спешили пассажиры, Илья тоже спешил. Здесь же, в отсеке, он увидел давешнего механика с повязкой и с ним еще одного в гражданском — оба подходили к ячейкам, проверяли шифраторы. Надо было во что бы то ни стало найти знакомые комбинации цифр. Илья сделал несколько шагов в сторону — напрасно! Вернулся назад — снова ничего. «Эх, была не была!» — Илья пошел вдоль секций в глубь камеры. Никто не обращал на него внимания: многие занимали ячейки в разных концах отсека — все зависело от того, где в данный момент освобождалось место. Главное было — чувствовать себя пассажиром, которому крайне необходима ячейка. Знакомая комбинация цифр оказалась в дальнем углу, но надо было подождать, пока уйдет расположившаяся рядом супружеская чета. Илья пошел назад. — Дежурного не видели? — Какой-то толстяк в плаще загородил дорогу. Илья сделал вид, что не слышит: у толстяка было странное представление об этикете: ни «извините», ни «пожалуйста». — Ячейка не срабатывает! Что здесь, все глухие в Москве? — В раскрытой ячейке среднего яруса стоял пухлый кожаный чемодан, похожий чем-то на своего пухлого бесцеремонного владельца. Проходя, Илья машинально отметил шифр — 5317. — Где дежурный? — Отчаявшись, толстяк выдернул из неисправной ячейки чемодан и переставил в соседнюю. «Он и в этой наберет наверняка тот же шифр, ротозей!» — подумал Илья.2 января, 01 час 45 минут
Денисов прошел центральным залом. Все было тихо. В почтовом отделении успели убрать сор со столов, появилась новая банка с клеем. Его должно было хватить на все бандероли и на все улетевшие воздушные шары. Пассажиры рассеялись по залу, никто не спешил вниз, к автокамерам. Залитые светом эскалаторы привычно продолжали теперь уже никому не нужную ритмичную работу. — Двести первый! — неожиданно услышал Денисов из миниатюрного микрофона-манипулятора, прикрепленного к внутреннему карману куртки. — Двести первый! Срочно зайдите в автоматическую камеру хранения! Денисов понял — что-то случилось, но случившееся не связано с блокированными по плану «Магистраль» ячейками. Там был для вызова другой пароль. Вызывали «блуждающего форварда» — вызов связан с происшествием. Сбегая по эскалатору, он заметил, что дежурного по автокамере Порываева нет на месте, а дверь в служебную часть вокзала раскрыта. Несколько пассажиров растерянно выглядывали из отсека. Увидев стремительно спускающегося сверху Денисова, один из них махнул рукой на дверь. Денисов бросился туда. Свет в коридоре был приглушен. Впереди, у дверей почтовой экспедиции, мелькнула милицейская фуражка. Там что-то происходило. Первым, кого Денисов увидел, вбежав в экспедицию, был старший инспектор Блохин. Денисов так и не понял, как он здесь оказался. Блохин поднимал с пола чью-то подбитую мехом куртку. Сбоку стояли перепуганный насмерть старик экспедитор, Борис Порываев и молоденький милиционер. — В окно выскочил, — растерянно объяснил экспедитор, — как вбежал — и сразу в окно! «Патрули, — говорит, — папаша! Патрули!» А сам куртку с себя… Денисов увидел, что оконная рама над столом только притворена, не закрыта, а на полу, у радиатора, валяется форменная синяя фуражка. Милиционер вспрыгнул на подоконник, рванул раму на себя. Худощавый, он легко проскользнул в неширокое отверстие. Денисов связался с дежурным по рации, но не успел сказать и нескольких слов, как дежурный перебил: — Понял! Развертываюсь! По сигналу дежурного автоматически изменялась дислокация постов, никто не мог незамеченным покинуть с этой минуты Астраханский. Единственное, что осложняло положение, это то, что преступник, убегая через окно экспедиторской, оказывался как бы в тылу у дежурного наряда — необходимо было дополнительное маневрирование. — Денисов! — позвал Блохин. Во внутреннем кармане куртки он обнаружил маленький картонный квадрат: «Краснодарский авиаотряд. Талон на обед». Лицо Блохина расплылось в улыбке. — Молодец, Порываев! С этой минуты он оказывал дежурному по камере хранения всевозможные знаки внимания. — Как все произошло? Порываев никак не мог собраться с мыслями. — П-пассажир мне подсказал: зайдите, говорит, в крайний отсек… Т-там, говорит, летчик по ячейкам лазит! — Порываев волновался. Волнение в первую очередь сказывалось на его речевой системе. — Я его чуть-чуть не п-поймал! Блохин осторожно упаковал талон в специальный хлорвиниловый пакет. — Запомнил летчика? Какой он из себя? — Лет тридцати, нормальный… На руке, похоже, наколка. — А свидетель? — Постарше. Особенно не присматривался… Да что же мы? Он же там вещи бросил! Вслед за Порываевым Блохин и Денисов побежали к ячейкам. В камере хранения пассажиры обсуждали случившееся. Посредине отсека, метрах в пятнадцати от выхода, лежал пухлый кожаный чемодан с биркой аэропорта. Клавшие вещи обходили его стороной, никто не пытался поднять или оттащить в сторону. Денисов снова по рации связался с дежурным. — Как дела? — Никаких известий. Развернулись, по-моему, нормально. Как у вас? — Пока тоже ничего. Блохин подтолкнул Порываева к креслам с отдыхающими людьми. — Ищи своего свидетеля — очень важно. А мы попробуем узнать, какая ячейка вскрыта. Может, в ней есть и другие вещи. Кто-то из проходивших пассажиров обернулся: — Там в незапертой ячейке чемодан. Старший инспектор и Денисов подошли к секции, на которую указывал пассажир. В ячейке стоял потертый небольшой чемоданчик. Он не мог иметь ни малейшего отношения к грузному кожаному пузану, лежавшему в проходе. — Здесь что-то другое! — Блохин огляделся. — Хозяев вещей здесь нет? Руками никому не трогать. Подошел огорченный Порываев. — Не нашел. — Куда же он мог деться? Транспорт еще не ходит… — Может, уехал с бакинским? — Денисов размышлял вслух. — Правильно. Он либо в поезде, либо на стоянке такси… Порываев, голубчик! Давай вместе с постовым к стоянке такси. А Денисов свяжется пока насчет талона на обед с Краснодарским авиаотрядом… Может, найдем хозяина куртки? А? Азарт проявлялся у старшего инспектора в тех же формах, что и забота. Последнее, что увидел Денисов, покидая отсек, был Блохин, нервно обминавший поля своей новой шляпы-«дипломат».2 января, 4 часа
Краснодар отозвался быстро. Трубку принял дежурный по аэропорту. Он терпеливо выслушал Денисова, потом сам овладел инициативой. — Все понял. Что же он такое натворил? Как мне доложить начальнику? — Пока ничего не могу сказать. — Ого! Значит, летать не сможет? Сильно! Летчик или штурман? — Неизвестно. — Ну ясно… Нельзя говорить — значит, нельзя. Как там у вас насчет погоды в Москве? — Дежурный заложил крутой вираж. — У нас в Краснодаре мороз завернул градусов на восемь, не меньше… Ты мне только вот что скажи: он давно у нас работает или недавно пришел? Чтобы не думать на всех! — И этого не знаю. — Ох и темнишь! Ну ладно. Там, в Москве, находится ростовский экипаж. У них могут быть неиспользованные талоны нашего аэропорта. Звони в Шереметьево, найди Людочку из профилактория, у нее узнаешь. А в Ростов и командиру отряда я сам позвоню. Значит, какие у тебя приметы? — Лет тридцати, нормального телосложения. На тыльной стороне ладони небольшая татуировка… Одет… — Среди наших, кажется, нет. Я еще позвоню. Во время разговора против Денисова сидел Порываев. Он смотрел фотографии людей, задерживавшихся за преступления на Астраханском вокзале. Делал он это с неожиданным интересом. Особенно привлек его старый альбом, составленный сразу после войны и давно списанный. У Денисова не поднялась рука его уничтожить. С пожелтелых страниц смотрели люди в длинных, почти до пят, пальто, в вышедших из моды полосатых джемперах, в рубашках с узкими воротничками, выпущенными поверх пиджаков. Задержанные стояли рядом с антропометрической аппаратурой Бертильона, у белых экранов, на сером фоне заборов, вложив в позы и выражения лиц одновременно вызов и отчаяние. — Производит впечатление? — спросил Денисов. — Производит. Но этого парня здесь нет. — Он, наверное, и не родился, когда создавали этот альбом. — Я тоже. — Ваши родители были, — сказал Денисов, чтобы поддержать разговор. — Мои родители были, но я их по фотографиям не узнал бы. — Не узнал? — Я же их не помню, меня бабушка воспитала. — Порываев захлопнул альбом. — В Гарме это случилось. Во время землетрясения… Кажется, все посмотрел. — Он взял себя в руки, шевельнул огромным ботинком. — Знаете Гарм? — Да, — сказал Денисов. Он никогда не слышал про Гарм, но ответить иначе не мог. — Не повезло. Порываев ушел спать. Телефонное обращение к Людочке в Шереметьево вызвало цепную реакцию ответных запросов и уточнений. Теперь Денисов не мог оставить телефон ни на минуту. Он сидел в кабинете рядом с окном, придававшим помещению средневековый облик, и отвечал на звонки: звонили из гостиницы для летных экипажей, из профилактория, от диспетчера. Ночь проходила в телефонных переговорах. Только снизу — от Блохина — не поступало никаких известий. Иногда рация Денисова начинала неожиданно шуметь, и до него долетали обрывки разговоров: — …Три пятнадцатый, проверь сорок четыре — ноль восемь идет на стоянку… — …Тунгуска вызывает Ангару… Прием… Речь, видимо, шла о стоянках такси: розыск преступника продолжался. В пять часов утра после звонка начальника отдела кадров Домодедовского аэропорта до Денисова добрался дежурный из Быкова и сразу перешел в наступление: — Где же ваша оперативность? Почему такое отношение? Внуково, Шереметьево знают, а мы не в курсе! Не считаете нужным ставить в известность?! Кто у телефона? — Только узнав, что у телефона не МУР, не Главное управление внутренних дел, а всего-навсего инспектор уголовного розыска вокзала — младший лейтенант, он успокоился. — Давай приметы! Я тебе за полчаса его найду! Денисов объяснял всем одинаково. Уголовный розыск транспортной милиции устанавливает неизвестного. Человек этот находился ночью на Астраханском вокзале, на нем была надета меховая куртка и форменная фуражка авиатора, в кармане лежал талон на обед Краснодарского авиаотряда. Далее шли скудные приметы, указанные Порываевым. За редким исключением все абоненты подозревали, что Денисов знает куда больше, но по понятным причинам утаивает. — Товарищ дежурный, ради Бога! — взмолился молодой женский голос, когда Денисов в следующий раз снял трубку. — В какой он больнице? Он жив? Это его знакомая. — Кто? О ком вы говорите? — Второй пилот! — Женщина заплакала. — Жив! — было естественным вначале ее успокоить. Плач усилился. — Не обманывайте меня, умоляю! — Жив! Теперь скажите… — Жив! — послышался ликующий голос, и в трубке раздались гудки. Едва Денисов нажал на рычаг, раздался новый звонок. — Товарищ Денисов? Это из ростовского экипажа. — Наступила пауза, потом решительный голос продолжал: — У меня с вечера человек исчез. Похож на того, кого вы описали. В такой же куртке… В Краснодаре, мне сейчас подсказали, в столовой его не видели — талон на обед у него мог быть… Где вы находитесь? Я сейчас подъеду.2 января, 5 часов 10 минут
На время центр розыска переместился снова в кабинет Блохина, Денисова и ККК. В ожидании приезда командира корабля сюда переехал Холодилин со своим штабом, техник связи обеспечил пару временных дополнительных каналов для прямой связи с дежурным по управлению и Петровкой, 38. Денисову продолжали звонить из аэропортов. Холодилин словно не замечал присутствия инспектора. Денисов исподтишка наблюдал за начальством, вспоминал, что ему приходилось слышать о заместителе начальника управления. Милиция Астраханского вокзала не ходила у полковника Холодилина в любимчиках. Говорили, что на первом инспекторском смотре, который он устроил в управлении, произошел казус. Объявив порядок движения колонн, Холодилин спросил офицеров: — Все ясно? — У меня нога стерта, — подал голос начальник службы Астраханского, пожилой майор: при предшественниках Холодилина особой строгости не было. — Кому не ясна задача? — Товарищ полковник, — думая, что Холодилин не слышал, повторил майор, — у меня пятка стерта. — Разговоры! Вам понятна задача? Выйти из строя! Майору пришлось выйти вперед, оказалось, что задачу он усвоил. — Встать в строй! Теперь вопросы! Больные есть? В управлении поняли — с Холодилиным следует держать ухо востро, а астраханцы смекнули — проверка знания уставов на Астраханском не за горами. Так и оказалось. Теперь Денисов мог наблюдать полковника Холодилина вблизи — как разговаривает со своими помощниками, отвечает по телефону. — …Билет на «Огонек», посвященный юбилею уголовного розыска? Большое спасибо. От нас придет самый достойный. Еще раз спасибо. — …Установите, где продавалась обнаруженная в базовой ячейке электробритва, запросите завод. Пусть проверят по рекламациям, может, с этой тысячей номеров что-то прошло… Поразило Денисова то, что Холодилин ничего не записывает, — пишут работники оперативного штаба, начальник уголовного розыска управления. — Отработать методику изменения шифров в отсеках, чтобы это никому не бросалось в глаза. Рекомендации передайте всем дорогам, в первую очередь в Киев и Баку… — Сколько задействовано подразделений в южном направлении? По каким позициям идет проверка? Денисов многое не успел уловить. Понял только, что Холодилин и его штаб стремились к оптимальной системе поиска. В принципе та же система лежала в основе любого поиска, шла ли речь о преступнике, о дискретности наследственных факторов или других сложных проблемах, о которых Денисов знал понаслышке. Научно-техническая революция несла милиции не только компьютеры и электронику, но и изменение системы организации управления, комплексное взаимодействие во время операций типа «Магистрали». Автомашина уверенно проскользнула под запрещающий знак на стоянку служебного транспорта. Денисов видел из окна, как широкоплечая фигура мелькнула у угла вокзала. Вскоре на лестнице послышались шаги, и в псевдомонастырскую келью, кабинет со стрельчатыми окнами, вошел человек. — Я знал, что этим кончится. — Коренастый летчик пожал руки всем, включая Денисова. — Он на свободе? Что с ним? Или правду мне пока не скажут? Хороший штурман, прекрасный товарищ… И вдруг роковая любовь! А в Ростове — жена и ребенок. Пробовали с ним говорить — куда там! Вчера, как только прилетели, сразу на такси и к ней — весь разговор! У него в куртке женской фотографии не было? Я бы сразу сказал, он это или нет? — Фотографии не было, — Холодилин показал на стул, — садитесь. Вы не помните, есть у него татуировка? На тыльной стороне ладони, здесь? — Кажется, есть. Крылышки. Сейчас уточню. Это городской телефон? — Он так и не сел. Стоя набрал номер, круто переворачивая пальцем диск. — Людочка? Ты не помнишь, у Володи… Как? Звонил? Да я ему! — Летчик в сердцах бросил трубку на рычаг, платком вытер лоб. — Сейчас звонил — скоро приедет. Куртку у него украли. С вешалки из квартиры…2 января, 3 часа 40 минут
Илья перелез через какой-то забор, не разбирая дороги, кинулся между кустов маленького скверика и неожиданно оказался в незнакомом месте, у бензозаправочной станции. Сбоку, на пустыре, пристроились на ночь серебристые фургоны Автотранса, большие, как железнодорожные пульманы. Впереди, у церкви-склада, стоял мотоцикл ночной милиции. Илья бросился было в темень, по направлению к товарной станции, — в это время из-за поворота неожиданно мелькнул глазок такси. — На Каланчевку! — Илья тяжело ввалился на переднее сиденье, рядом с шофером. — Плачу вдвойне. Неприятность: хорошо, хоть не в одном белье остался! Остальное должен понять, как мужчина мужчину. Таксист промолчал. — Не приходилось бывать в переделках? Водитель снова не ответил, Илья незаметно оглядел его. «Себе на уме. Это плохо». — Я закурю. Не возражаешь? — Шофера ни на минуту не следовало оставлять наедине с его мыслями: мало ли что может прийти в голову, когда в мороз ночью встречаешь на улице человека в одном костюме. — Мне не мешает. — Спасибо. За мостом сверни влево. — Через Красноказарменный быстрее… — Ничего. — Он стремился в объезд. «Сейчас оповестят посты милиции, диспетчеров такси, через несколько минут все будут знать, что разыскивается человек без пальто и шапки…» Встречных машин было мало. Когда ехали по какой-то набережной, их обогнал черный блестящий форд, сидевший за рулем внимательно посмотрел на Илью. — Ночная работа тяжелая. По себе знаю! Внезапно Илья понял причину неприязненного молчания таксиста. Работающий посменно шофер мог скорее понять мужа, чем убегающего любовника. Объяснение Илья выбрал неудачно, и теперь было поздно что-нибудь поправить. …А началась ночь спокойно. Заметив шифр ячейки, где первоначально лежал чемодан толстого бесцеремонного пассажира, Илья подошел к базовой, закрыл ее и подался на выход. Вместе с Капитаном они несколько минут наблюдали за толстяком, который стоял у телефона-автомата, никак не мог решить, будить ему своего московского абонента или нет. Он несколько раз снимал трубку с рычага и снова водворял ее на место. Пока делать было нечего. Капитан оглаживал новую куртку. — Изменили морю? — Илья кивнул на форменные пуговицы. Капитан словно ждал этого вопроса. — Между прочим, эту робу я приобрел для вас. Вы вот смеетесь, когда я говорю, что надо носить форму… Переоденьтесь, подойдите к расписанию самолетов и оттуда заходите в отсек. Рискните! — Пожалуй. — Илью озадачило неожиданное проявление участия. — А вы как же? — Не беспокойтесь. Куртка мне немного мала, вам будет в самый раз. «В пристрастии к форменной одежде есть логика, — подумал Илья, — эксплуатируются стереотипные представления обывателя о служивых людях». Через несколько минут Илья выглядел заправским летчиком гражданской авиации. — Я останусь стоять у киоска военторга. — Мысль Капитана работала на редкость четко. — Если дежурный пойдет к вашему отсеку, я перехвачу его двумя-тремя вопросами… Толстяк у автомата наконец решился. Результат телефонного разговора превзошел ожидания: просияв, он быстро направился в сторону стоянки такси. Илья вошел в отсек, чувствуя себя совершенно спокойно. Ячейка открылась на шифр 5317. Пухлый чемодан пребывал в ней в состоянии благодушия, Илья сразу невзлюбил его крутые бока и манеру выставлять из-под крышки белые концы то ли рубашек, то ли носовых платков. Даже новые вещи в таких чемоданах бывали чудовищно измяты или засалены на самых видных местах; деньги, запонки лежали в них вместе с яичной скорлупой, засохшими бутербродами. Илья оглянулся — Капитан, одетый в его, Ильи, пальто, стоял у киоска военторга, небрежно облокотившись на витрину. Все дальнейшее было отработано Ильей до автоматизма: достать из ячейки заупрямившийся чемодан — поставить рядом — вынуть из правого кармана монету — бросить в прорезь приемника — перекрутить рукоятки шифраторов (сначала снаружи, потом изнутри) — захлопнуть дверцу — поднять чемодан — отнести в базовую ячейку, которая открыта заранее. Все! Конец первой серии. На какое-то мгновение Илья потерял Капитана из виду и вдруг увидел дежурного по камере хранения; находящийся обычно в состоянии непреходящей меланхолии дежурный на этот раз почти бежал. «Что-то случилось!» Дежурный оглядывался по сторонам. Илья сразу понял: раскрытая базовая ячейка выдает его с головой. Видавший виды рундучок Капитана и разбухший от сознания собственного превосходства кожаный чемодан с биркой «Аэрофлот» не могут принадлежать одному человеку. — Что со мной? — Илья бросил чемодан, прижал руки к животу. — Что такое? Минутку! Пожалуйста, посмотрите за моими вещами! — Ссутулившись, он отскочил в сторону. Кожаный чемодан брал блестящий реванш. Запнувшись о его крутой бок, Илья едва не упал, кое-как удержался на ногах, с силой отпихнул чемодан в сторону. Тот упал глухо, всей тяжестью хрястнув о мраморный пол. Илья потерял на этом не менее пяти секунд. — Старшина! — крикнул дежурный. Илья выскочил из отсека. Бежать по эскалатору было поздно и бессмысленно. Сбоку, на дверях, мелькнула табличка «Посторонним вход воспрещен», другого пути не было. Илья бросился в коридор. Двери кабинетов по обе стороны были опечатаны. Впереди, почти в самом конце, мелькнула полоска света. В комнате, пахнущей сургучом, незнакомый старик опечатывал бандероли — он испуганно покосился на Илью. В коридоре слышался шум преследования. — Патрули, папаша, — пробормотал Илья первое, что пришло в голову, по привычке давая какие-то теперь уже никому не нужные объяснения. Он вскочил на стол и стал с треском отдирать шпингалеты. Окно открылось не полностью. Илья так и не узнал, что ему помешало. Сбросив куртку, он изо всех сил потянул раму на себя. — Здесь! — раздалось у дверей. В ту же секунду ему удалось протиснуть голову и плечи в образовавшееся отверстие, и, ни о чем больше не думая, он камнем свалился вниз. …На Каланчевке Илья, как обещал, щедро расплатился с таксистом, но тот даже не взглянул на деньги, с обидной поспешностью включил зеленый глазок. На улице никого не было. Каланчевка спала, припорошенная снегом, под не умолкающие всю ночь голоса маневровых диспетчеров. Где-то совсем близко за забором постукивал на стрелках тепловоз, в хлебном магазине на углу принимали выпечку. Помочь Илье там не могли, в лучшем случае могли предложить дымящуюся свежую булку. Илья знал, почему он едет на Каланчевку. Оглядываясь по сторонам, он обежал Казанский вокзал, перелез через крышу летней камеры хранения и оказался на путях. До столовой локомотивных бригад, работавшей круглосуточно, отсюда было рукой подать. «Если сейчас выкарабкаюсь, — подумал Илья, — значит, в рубашке родился… Счастливец!» Обитая дерматином дверь подалась, впустив с Ильей рваный клуб морозного воздуха. В столовой сидели ранние посетители — работники станции. Несколько человек у стойки рассматривали меню. Илья уже бывал здесь. Подхватив со стола пластмассовый, потемневший от времени поднос, он бросил на него ложку с вилкой и смешался с людьми, стоявшими у буфета.2 января, 5 часов 20 минут
Начальникам отделов милиции Московского железнодорожного узла.В отдел милиции на станции Москва-Казанская поступило заявление о том, что в период с 21 часа 28 декабря по 05 часов 2 января совершена кража вещей из ячейки автоматической камеры хранения. Способ совершения краж аналогичный. Часть похищенных вещей ранее, до получения заявления, была изъята в базовой ячейке преступника на Рижском вокзале. Малоценные вещи потерпевшего обнаружены перемещенными в другую ячейку того же отсека.
Начальнику Московского уголовного розыска Главного управления внутренних дел исполкома Моссовета депутатов трудящихся.
Дополнение к ориентировке о краже вещей изавтоматической камеры хранения, совершенной в ночь на второе января на Астраханском вокзале.
Установлено, что обнаруженная на месте происшествия форменная верхняя одежда — куртка и фуражка — принадлежит штурману Ростовского экипажа Латуну В. Г. и была похищена из незапертой прихожей по адресу — Москва, Овражная, 83/4 (Деганово). Прошу дать указания: разыскные мероприятия по краже проводить в контакте с отделением уголовного розыска Московского управления транспортной милиции. Заместитель начальника управления полковник милиции Холодилин.
2 января, 6 часов 15 минут
Капитан давно приглядывался к дежурному по автокамере и был рад, что именно он в этот день оказался на дежурстве. — Слушай, друг, — сказал Капитан, — срочно беги в четвертый отсек — летчик там. Лазит по ячейкам. Беги, а то упустишь! В помещении камеры хранения было тихо, только у автоматов с водой еще толпились пассажиры. Капитан отошел к стеклянной стене, отделявшей зал от перрона. По другую сторону стекла чернели покинутые на ночь поезда. И вдруг все в зале пришло в движение. Из отсека камеры хранения выскочил бледный, перепуганный Илья, он метнулся было к эскалатору, но, поняв, что из вокзала уже не убежать на площадь, бросился в тупик — к двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». За ним, точно гончие, преследующие дичь, устремились милиционер и дежурный по автокамере, потом еще двое в штатском. Пассажиры вскочили со своих мест, словно внезапный вихрь пронесся впомещении. Финал представился Капитану довольно четко — он знал, что из коридора нет другого выхода. Поэтому сразу, как только сцена освободилась для нового действия, покинул вокзал и переулками постарался уйти от него как можно дальше. Капитан знал, что работники милиции непременно будут искать свидетеля, который показал дежурному по автокамере на преступника. Встреча с ними не входила в его планы — наступавший день обещал множество других забот. Первым делом предстояло нанести визит на квартиру Ильи, нужно было явиться туда достаточно поздно, чтобы хозяйка успела встать, и в то же время рано — раньше, чем туда приедут с обыском. Следовало найти повод, чтобы заглянуть, не вызывая подозрений, в записные книжки Ильи, найти номера и шифры базовых ячеек — и прощай, столица! Прощайте, любимый Илья Александрович, чао! К обеду неплохо будет разгрузить вашу ячейку в Киеве! Сонный мальчишка-таксист отвез Капитана домой и подождал, пока он собрался. Собираться, собственно, пришлось недолго — портфель, сумка — он засунул в нее пальто Ильи. Никакой сестры у Капитана не было: на квартиру его пустила опекунша больной старухи, долгие годы лежавшей в больнице Кащенко. Капитан надел шинель, ключ от квартиры бросил в почтовый ящик. Снова, как в былые годы, ничто его не удерживало: «Я не командировочный, не фрайер! Я честный вор!» Через всю Москву таксист повез его на Юго-Запад. Было еще темно. Из машины Капитан видел людей, ехавших на работу городским транспортом. Иногда такси и автобусы подолгу задерживались вместе на перекрестках — Капитан и пассажиры автобусов бесцеремонно разглядывали друг друга. Это было неприятно Капитану, он отворачивался, смотрел на дорогу. Мелькали дома. У закрытых еще газетных киосков застыли завсегдатаи. Между крышами домов красной точкой завис самолет. «Скоро и мне во Внуково, — он посмотрел на часы, — только бы хозяйка квартиры не заартачилась!» — Всю ночь за баранкой, — пожаловался таксист. — Сейчас чуть не повело. Засыпаю. — Смотри! Давно работаешь? — Второй день. — Я буду говорить тебе, ты слушай. Не спи, пока не приедем. — Валяйте какой-нибудь эпизод из морской жизни! Или так — высказывания! — «Нет, видимо, предела человеческой подлости. Речь — ловкий сутяга, находящий ответ на все, всегда и все видящий и умеющий извернуться на тысячу ладов, чтобы оказаться правым!» В голосе Капитана слышалось глубокое понимание этого грустного непреложного факта, он цитировал реплику государственного обвинителя, произнесенную как-то на процессе в связи с его делом. — На Овражной ты меня подождешь, оттуда мы поедем во Внуково! Вот тебе еще афоризм: «Летайте самолетом!»2 января, 5 часов 10 минут
Начальнику Южного направления транспортной милиции. Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».В связи с обнаружением в Москве в базовой ячейке преступника вещей, похищенных на обслуживаемом вами участке, прошу проверить возможность перевоза разыскиваемых нами ценностей в базовые ячейки на Южной железной дороге. Особое внимание прошу обратить на отработку версии по станции Киев. Заместитель начальника Московского управления транспортной милиции полковник милиции Холодилин.
2 января, 6 часов 45 минут
Заместителю начальника Московского управления транспортной милиции полковнику милиции Холодилину. Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».Сообщаю, что дополнительной проверкой по указанным вами шифрам в автоматической камере хранения на станции Киев-Пассажирский-Главный обнаружена базовая ячейка, в которой находятся пять кинокамер, фотоаппараты, импортный трикотаж, часы и около сорока предметов украшений желтого металла. Наличие вещей, объявленных вами в розыск, проверяется. Ячейка блокирована техническими средствами, взята под круглосуточное наблюдение. Начальник Южного управления Транспортной милиции.
2 января, 7 часов 20 минут
Расплывчатая вначале фигура подозреваемого принимала все более конкретные очертания. Холодилин зачитал справку о результатах комплексного исследования вещественных доказательств, Денисов вместе со всеми слушал. — …Объект исследования: предметы и вещи, изъятые из базовых ячеек, не значащиеся в розыске и являющиеся, по всей вероятности, личным имуществом преступника: сорочка вискозная, размер воротничка сорок первый, завернута в газету «Советская Россия», номер от 20 ноября прошлого года, отпечатана с матриц в городе Свердловске… Портфель коричневого цвета… Электробритва… Чемодан фибровый, оклеенный фотографиями размером… Многое из того, о чем докладывал Холодилин, Денисов уже знал, слышал на ночном совещании начальников уголовных розысков и незаметно для себя отвлекался в поисках новой информации. — Разыскиваемый прибыл в Москву из районов, прилегающих к Свердловской области… «Само собою разумеется…» — Обнаруженная электробритва изготовлена во втором квартале прошлого года и направлена в торговую сеть Челябинской области… Имеются образцы почерка, оставленные на номере «Москоу ньюс»… Знает английский язык в объеме курсов иностранных языков, технический текст знает значительно лучше… — Как с отпечатками пальцев? — Они есть. Нужен подозреваемый. Прошу всех запомнить: первого января преступник шел с электрички мимо багажного отделения и выбросил за забор испорченный фотоэкспонометр и духи… Кто-то мог его видеть! Кто-то мог идти навстречу к электричке! Холодилин снова заговорил об устранении условий, способствовавших кражам. Денисов слышал об этом на ночном совещании начальников уголовных розысков. Интерес вернулся к нему, когда Холодилин заканчивал совещание. — Преступник систематически переодевается. Сегодня он был в форме летчика. Чемодан, о котором мы говорили, принадлежит моряку. Это не случайно. Обращаю ваше внимание на то, что в списках подозреваемых из Баку упоминается морской офицер… «Моряк! — вспомнил Денисов и достал блокнот. — 31 декабря, младший лейтенант флота, 21 час 12 мин. Платформа 1. Нужно срочно поставить в известность Холодилина!» — Часть наклеенных вырезок пятилетней давности взяты из журнала «Огонек». На обороте одной из фотографий на клеевой массе обнаружен отпечаток пальца с характерным узором… Пока заместитель начальника управления говорил, пыл Денисова постепенно угас. «О чем поставить в известность Холодилина? О том, что тридцать первого декабря по платформе шел моряк? Можно и сейчас при желании найти на вокзале моряка, и не одного! О странном чувстве, заставившем обернуться и посмотреть вслед? Про загадки человеческой психики? Ну и что? Тот ли это офицер флота? А если и тот, чем это поможет сегодня?» — Весьма странным выглядит, между прочим, исчезновение свидетеля, который послал Порываева в отсек за преступником. Проверкой установлено, этот человек был один, без вещей. Покинул вокзал ночью при непонятных обстоятельствах. Во всяком случае, на стоянке такси он не появлялся. Холодилин поблагодарил за внимание. Денисов вышел из кабинета одним из последних, однако, спускаясь по широкой парадной лестнице, вдруг заспешил, заторопился на первую платформу, как будто она могла ответить на вопрос о моряке, который теперь его интересовал.2 января, 16 часов 30 минут
Иллюзия пирса и корабля исчезала, когда Денисов смотрел на вокзал со стороны перрона. В обе стороны большепролетных железобетонных конструкций перекрытия разбегались вдоль путей каменные шатры, терема. В начале века специфику и перспективы развития нового вида транспорта представляли туманно, первый вокзал в Павловске, под Петербургом, служил пассажирским зданием и концертным залом одновременно. Высоко, в стрельчатой башне, чернела открытая форточка в окнах кабинета уголовного розыска. Под ними тридцать первого декабря Денисов встретил незнакомого моряка. Было бесконечно заманчиво докопаться до причины, по какой он выделил моряка из всех людей, проходивших по перрону. Но Денисов понимал: то, что не удалось под непосредственным впечатлением увиденного в тот же вечер, вряд ли удастся теперь. Он только вспомнил, как растекалась по платформам вначале такая компактная, сплотившаяся воедино толпа пассажиров, похожая издалека на огромный встревоженный муравейник. Посадка сразу шла на три-четыре электрички. Единственное, что Денисов мог сделать, — установить электропоезд, с каким уехал моряк. В кирпичном домике у самого блокпоста было по-больничному тихо и чисто. Несколько свободных от смены машинистов и их помощников разбирали за столом шахматную партию. Доска и фигуры, которые передвигали игроки, обращали на себя внимание — потемневшие, закопченные, они наводили на мысль о поколениях кочегаров, игравших в шахматы до ввода электрической тяги. В другой комнате сидел дежурный диспетчер по обороту электропоездов — сероглазая, с высоким начесом белых кукольных волос девушка. — Слушаю, — сказала она Денисову. Он представился. — Хочу с вашей помощью восстановить картину станции на двадцать один пятнадцать тридцать первого декабря… — Постараемся. — Она поправила волосы и встала из-за стола. Под начесом мелькнул нежный, казавшийся хрупким, как яйцо, девичий затылок. Денисов поймал себя на том, что ему сейчас куда проще каламбурить, чем думать серьезно. — Присядьте. — Позвольте, я постою. Сидя он бы мгновенно уснул. Откуда-то из глубины сознания всплыла история об Ахиллесе и черепахе — ее разбирали на семинаре по философии. Ахиллес никогда не догонит ползущую впереди черепаху. Пока он пробежит разделяющее их расстояние, черепаха успеет проползти еще немного, Ахиллес преодолеет его — черепаха тем временем снова продвинется… Расстояние между ними будет только бесконечносокращаться… «Таинственные карманы времени, безграничные, как миры, процессы деления, — Денисов совсем зарапортовался, — мы могли бы их использовать для сна: высыпаться в то самое время, в какое Ахиллес и черепаха пробегают свои чудовищно малые отрезки пути…» Казалось, не тридцать с лишним часов, а уже несколько месяцев прошло с той минуты, когда была обнаружена первая обворованная ячейка. Дверь к машинистам оставалась открытой, один из игравших в шахматы вошел в комнату, снял со шкафа рулон бумаги. — Я помогу тебе, Эдит. Вдвоем они развернули на столе схему станции. Четыре вытянутых прямоугольника обозначали ближайшие к вокзалу платформы. — Так, — сказала кукольная Эдит, — в двадцать один пятнадцать тридцать первого декабря все пути были заняты. С какого начнем? — С шестого. — На шестом пути первой платформы стояла электричка до Валеева-Товарного отправлением в двадцать один час двадцать семь минут… — Дальняя, — сказал машинист. Оставалась еще надежда ограничить пункты розыска. — Остановки не по всем пунктам? — По всем, кроме трех-четырех станций. Машинист поддерживал рулон, который ежесекундно грозил свернуться. Эдит называла номера электричек, время отправления, остановочные пункты. Денисов постигал суть с трудом, но главное все-таки уловил: моряк сел не в первую отправлявшуюся от вокзала электричку. У платформ стояли поезда, уходившие в двадцать один шестнадцать и двадцать один двадцать одна. Последняя — в двадцать один двадцать одна — была самая дальняя, она делала остановку и в Валееве-Товарном. Преступник или человек, которого Денисов принимал за преступника, выбрал тем не менее электричку, отправлявшуюся позже. Выходит, ему не надо было спешить. — Извините, — Денисов достал блокнот и авторучку, — на слух ничего не получилось — тупею. Ей пришлось повторить объяснение сначала. Вскоре стала проглядывать некая система. «Почему же преступник не воспользовался поездом, который отправлялся раньше, — Денисов пробежал глазами по схеме, — куда он ехал?» Денисов стал рассматривать каждую строчку в отдельности и вдруг почувствовал, что без помощи со стороны ему ничего не сделать. — Как по-вашему? Есть станции, до которых можно добраться только этой электричкой, а не другой? Машинист внимательно посмотрел на него. Эдит ответила первой: — Есть. Деганово. Денисов вновь заставил себя сосредоточиться. Эдит оказалась права. Только в Деганово можно было попасть с электричкой, отправлявшейся в двадцать один двадцать семь. Две другие электрички в Деганове не останавливались. Ничего загадочного в поведении моряка не было. — Спасибо, Эдит. Уже на перроне Денисов почувствовал незначительность этой своей фразы, хотел вернуться, но вместо этого еще решительнее зашагал к вокзалу. Обычная уверенность в себе вернулась в кафе, на антресолях. Приземистая официантка-коротконожка, про которую говорили, что она неравнодушна к Денисову, плеснула было в стакан тепловатого кофе с коричневой пенкой. — Сейчас принесут новый термос. Будете ждать? Сбоку от стойки стоял музыкальный автомат. Денисов опустил пятак, наугад нажал клавиш. Автомат сработал не сразу. — «…а может быть, нам этот день запо-о-мнится, — родилось наконец в глуби не музыкального ящика, — как самый светлый день из сотен тысяч дне-е-ей…» Денисов посмотрел на часы. «Деганово. Жилой массив, где ночью была украдена куртка штурмана…» Как «блуждающий форвард», Денисов имел право на самостоятельную отработку собственной версии. Он снова посмотрел на часы: в Деганово лучше было отправляться сейчас же, до дневного перерыва в движении электропоездов.2 января, 11 часов 10 минут
Дача выглянула сразу, как только Илья свернул с шоссе. Увидев ее, он тут же забыл о своих злоключениях. Было мучительно вспоминать, как в столовой он выпросил старую промасленную телогрейку у стропальщика. Стропальщик, чудак, наотрез отказался взять деньги… Как поехал в ГУМ за пальто. Пальто купил первое попавшееся, особенно не выбирал. Сразу, на контроле, надел на себя. Упакованную продавщицей телогрейку оставил там же, в ГУМе, у фонтана, — кто найдет, будет несколько разочарован находкой. Вспоминать, в общем, было не о чем, только страх не проходил. Тишина и спокойствие исходили от утонувших в снегу построек. Островерхая черепичная крыша плыла между высоченными соснами. «Моя дача!» Дорогу к крыльцу давно не расчищали, рассохшийся почтовый ящик на калитке покосился. Илья уже не раз бывал здесь. Не заходя в дом, он остановился полюбоваться деревьями — их колеблющиеся вершины обозначали верхнюю границу недвижимого имущества высоко в небе. Хозяин, уже немолодой, в вытертых джинсах и ватнике, вышел на крыльцо. Он жил одиноко, Илья ни разу не спрашивал у него, кто ухаживал раньше за гладиолусами в парниках, катался на трехколесном велосипеде, ржавевшем теперь за сараем. Во всем доме Илья не встретил ни одной женской вещи. — Сколько этим соснам? — Илья виделся с хозяином дачи довольно часто за последние дни, и в обоюдных приветствиях не было необходимости. — Лет сто — сто двадцать, кто знает? — Мужчина смотрел куда-то в сторону, такая была у него манера. — Я в сарай иду. Хотите со мной? Из сарая они прошли в дом. Не глядя на Илью, хозяин дачи снова открывал и закрывал двери, поднимал на террасе доски, показывая состояние полов и фундамента. Так же торопливо и до обидного равнодушно открыл погреб, свел с крыльца, продемонстрировал пустой гараж. — В прошлый раз мне показалось, что у вас яма не облицована. — Все как в настоящем гараже. Страшно вспомнить, чего все это стоило. — Рабочих нанимали со стороны? — Я не об этом. Свет, между прочим, включается с террасы. — Верстак с собой увезете? — Еще не решил. — Мужчина снял с верстака масленку, подержал, поставил на место. — У вас нет машины? — Пока нет. — Ну и не надо. — Меня беспокоят жуки, вредители дерева. Говорят, если заведется, в несколько недель все изведет. — Пока Бог милует. Кроме того, сейчас есть химикаты. — Там тоже парники? — Илья показал в конец участка. Хозяин дачи на секунду оживился: — Цветы. Жена разводила отличные гладиолусы… Не интересуетесь? «Все-таки здесь жила женщина», — подумал Илья. Набирая полные туфли снега, Илья прошел к парникам, в дальний конец сада, под вишни. «Сюда поведет тропинка, выложенная каменными плитами… Перед гаражом надо будет посадить зелень, пусть поглощает выхлопные газы… Под вишнями — круглый стол, камышовые кресла. Хочу пожить красиво!» …Случайно в салоне готового платья в Юрюзани увидел он когда-то давно-давно транспарант, потрясший все его существо не меньше любимого теперь Анри де Тулуз-Лотрека. И сейчас, много лет спустя, с закрытыми глазами Илья мог воспроизвести во всех деталях изображенный на транспаранте уголок осеннего сада — с высоченными деревьями, аккуратно обихоженными дорожками, с невиданным ранее модерновым киоском на первом плане, с манекенами, расставленными вдоль аллей. Мужчины помоложе были облачены в короткие пальто модных силуэтов, очерчивающих мужественную изысканную красоту. На пожилых — они стояли группами позади киоска или сидели на длинных садовых скамейках — пальто выглядели посолиднее, построже. Группа молодых людей готовилась к игре в лаун-теннис. На переднем плане во весь рост был изображен спортивного вида манекен, в надвинутой на лоб мягкой шляпе, с газетой и тростью. Зажав трость под мышкой, манекен поверх развернутого газетного листа улыбался женщине в мини-юбке, катившей по дорожке элегантную детскую коляску. Сбоку, за ажурной оградой, виднелась припаркованная машина. «Если Жюльен только тростник колеблющийся, пусть погибает, а если это человек мужественный, пусть пробивается сам». Мысль о женитьбе на женщине, которая могла бы обеспечить материально, Илья отверг, что называется с порога. Тестем его стал мужик-сибиряк. Тесть мог легко поставить и раскатать избу, вырубить топорище, пройти шестьдесят километров из Пызмаса в Соть за тракторными санями, но сбережений не имел. Единственным капиталом была его дочь. Никто не мог бросить Илье упрек в том, что он женился ради денег. Не деньги влекли его и потом, когда из райцентра он переехал с женой в Юрюзань, настоял на том, чтобы она поступила в иняз, стал готовиться к переезду в Москву. Жить стоило только той жизнью, что была изображена на транспаранте в салоне готового платья в Юрюзани.2 января, 14 часов 15 минут
Участковый инспектор в Деганове, средних лет, в очках, с поплавком гуманитарного вуза, вернул Денисова к действительности. Участковый оперировал конкретными цифрами — площадь микрорайона, население, промышленность. По населению Северное и Южное Деганово оказалось равным среднему областному центру — Костроме или Вологде. По промышленности давало фору некоторым группам зарубежных стран, взятых в совокупности. По рождаемости держалось на среднем уровне. Денисов понял, что всем формам предупредительно-профилактической работы участковый инспектор предпочитает публичные выступления перед гражданами. С другой стороны, если послушать участкового инспектора, получалось, что искать преступника по приметам в Деганове не имеет смысла — все равно как иголку в стогу сена. С этим Денисов не мог согласиться. — Выходит, преступление пусть остается нераскрытым? — Прошу не передергивать! Я рассказал тебе о районе, в который ты прибыл. По площади до последнего районирования он был только на семьсот гектаров меньше Парижа… В Деганове сегодня трудится более тысячи докторов и кандидатов наук. В непосредственной близости от города здесь созданы одновременно благоустроенные зоны отдыха. Введены в строй тысячи квадратных метров жилой площади… Представляешь, сколько сотен, а то и тысяч моряков может проживать здесь постоянно, а также приезжать со всех сторон нашей необъятной страны на побывку, в гости, на экскурсии? У тебя ведь нет данных, что он прописан здесь? — Откуда? Я вообще о нем ничего определенного не знаю. Младший лейтенант флота. Приметы… И все. — Все? И с этим ты думаешь его найти? Так ведь это знаешь чем отдает? Нет? Детективом! «Натпинкертоновщиной»! — Участковый инспектор обрадовался, найдя сразу слова, нужные для сравнения. — Сам-то ты это чувствуешь? — Что же прикажешь делать? Преступник не позаботился о том, чтобы дать свой точный адрес. Не искать? — Система розыска… Система! Понимаешь? Как в футболе! Вот что важно. — Между прочим, как с кражей куртки у штурмана? — Возбудили уголовное дело. Ищем. Должен тебе, правда, сказать, что и этот преступник, возможно, не из Деганова. Во-первых, такая кража на моем участке первая. Почерк новый… Участковый инспектор мог оказаться прав. Спорить, не располагая фактами, было бессмысленно. Денисов молча протянул руку. — Поехал? — спросил инспектор. — Ну давай. Я позвоню, если что будет. Денисов вышел. Сразу за домами начиналось полотно железной дороги, дальше пустырь, за которым вновь тянулись дома. Преступник направлялся в Южное Деганово, что ближе прилегало к железной дороге, иначе тридцать первого вечером он воспользовался бы автобусом или трамваем. Таким образом, район поиска заметно ограничивался. «Значит, «детектив», «натпинкертоновщина», — замечание участкового инспектора неприятно задело Денисова, — но разве система розыска не требует индивидуального мастерства? Как это называлось в книге, которую читал на дежурстве Сабодаш? Колокола судьбы? Любопытно, гремели ли эти самые колокола, когда заводской комитет комсомола рекомендовал в милицию именно меня? Наверное, гремели, но я не слышал». Внутренним взором Денисов увидел себя постовым на платформе в первые недели работы. Медовые дачные сосны, усыпанные хвоей тропинки. Ночью вровень с высокими платформами проплывают кабины электровозов, залитые серебристым светом. Будто идут в Гавану или на Острова Зеленого Мыса… За переездом днем играли в футбол пацаны. Денисов несколько раз за смену подходил к краю поля, ждал, когда мяч отлетит в его сторону. Денисов даже не оглядывался, приехал проверяющий или нет, — так хотелось ударить по мячу. Мяч в конце концов оказывался рядом. Денисов пробивал точно по воротам. — Повторить! — кричали пацаны. Он повторял. Мяч звенел от удара. — Играйте за нас! Но он уже жалел, что не сдержался, и уходил на пост. Через несколько недель он ходил по платформе не один, в сопровождении двух-трех футболистов с красными повязками. — Хорошо несет службу новенький милиционер, э, Денисов! У него авторитет перед молодежью, и пассажиры о нем отзываются положительно, — объявил как-то на разводе старший лейтенант — проверяющий. — Вот скоро на сборы его отправим, тогда и вовсе вернется асом. — В университет его, — подсказывал кто-то из заднего ряда. Подсказывавший словно в воду смотрел. Через год Денисов поступил на юрфак. — Разговорчики в строю! Смирно! Слушай приказ! — командовал старший лейтенант. — Приказываю заступить на охрану общественного порядка в столице нашей Родины, городе-герое… — Денисов знал к тому времени приказ наизусть, но каждый раз, когда его читали, невольно подтягивался, — …во время несения службы строго соблюдать социалистическую законность, быть справедливым и вежливым в обращении с гражданами. На-ряд! Напра-ву! По по-о-стам шагом аррш! Но если невидимые колокола действительно гремят, предупреждая о глубоких отдаленных последствиях наших внешне совсем обычных, даже случайных шагов, то слышнее всего они, должно быть, грохотали во время сборов, в тот день, когда он познакомился с Кристининым, попал на первую серьезную операцию… Шлагбаум на переезде был закрыт, пропускали пассажирский состав. Денисов посмотрел на часы — «Лотос» шел без опоздания. Мелькнула дверь вагона-ресторана с поперечной металлической планкой-ограждением. Усатый повар в белом колпаке, с оголенными по локоть руками, не замечая мороза, наблюдал строительный пейзаж Деганова. «Сначала надо проверить «горячие точки» — винные отделы гастрономов, пивные палатки, потом адресоваться к сторожам, дворникам», — решил Денисов, но тут же изменил свое решение. Проходная маленького заводика за переездом выходила окнами на дорогу. Дверь была приоткрыта — очевидно, для притока свежего воздуха. Денисов не стал искать ближайшую «горячую точку» и пошел в проходную: «Моряк в форме — человек заметный. Может, видели?» Пенсионного вида вахтер сразу все понял, едва Денисов попросил разрешения позвонить: — С Петровки? Или из районного управления? Что-то не знаю тебя. — Из тридцатки. Московское управление транспортной милиции размещалось в доме тридцать по улице Чкалова. Денисов сослался на управление для солидности. — Все ясно. Сейчас в бюро пропусков положат трубку, и можно звонить. У нас с ними параллельный. Звонить Денисову было некому, он набрал номер своего кабинета. Как и рассчитывал, никто не отозвался. — Не отвечают, придется подождать. Вахтер сам начал разговор. — Работы под самую завязку? Знакомо. Все бегает молодежь, все шебаршит! Потому что жизнь не понимают. — Не так легко понять. — А чего нелегко? Живи как вокруг живут! — Так-то так. — Тоже вот я шебаршился… На работе устаешь, а тут в школу вызывают: девчонка тройки носит, жена шумит! А как хирург отхватил полжелудка, так все в норму пришло. Больше не шебаршу… Ты ищешь кого или так, между прочим? — Бывает здесь один человек. Моряк, младший лейтенант. — Живет или как? — Разве найдешь?! Вон сколько домов понастроили… «Знакомая песня…» — Для приличия Денисов еще раз набрал тот же номер. — Капитан Колыханова слушает! Денисов положил трубку: за эти двое суток он совсем забыл о ККК. — Куда бы тебя адресовать? — Вахтер снял со стены висевшие на гвоздике заявки на пропуска. — Вот что! Сходи-ка ты для начала в общежитие техникума. Народ там — ух! Идут вечером, волосы распустят, поют — смотреть страшно. — Он повертел бумажки в руках и снова наколол на гвоздик. — С них и начни! «Вот уж там мне делать совершенно нечего…» Поблагодарив вахтера, Денисов пошел к домам. Протянувшиеся вдоль фасадов витрины предлагали сразу несколько «горячих точек» — на выбор.2 января, 15 часов 20 минут
— Товарищ полковник, разрешите обратиться! — Сутуловатый капитан линотделения, прикомандированный к оперативной группе вокзала, четко взял под козырек. — Установлено, что свидетель Вотрин Евгений Иванович тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения, проживающий на Дубниковской улице, видел подозрительного мужчину, шедшего со стороны вокзала мимо багажного отделения первого января в пятом часу утра, о чем и докладываю на ваше распоряжение! — Капитан словно сошел со страниц милицейской повести: в своем длинном сообщении не сделал ни одной паузы, не допустил ни одного неуставного оборота и ни разу не перевел дух. Окончив рапорт, капитан лихо рванул руку к бедру и щелкнул сапогами. Холодилин слушал скептически, потом посмотрел на Блохина, пришедшего вместе с капитаном. Блохин напряженно молчал. — Пригласите сюда. — Он здесь, за дверью. Свидетель оказался человеком средних лет, в джинсах, заштопанных на коленях грубыми мужскими стежками, со значком рационализатора на куртке. — Вот вы, полковник, юрист, — заговорил он, прежде чем Холодилин задал ему вопрос, — можете вы мне сказать, почему разбор моего дела начали раньше, чем указано в повестке? И сколькими репликами в гражданском процессе могут обмениваться прокурор с ответчиком? Блохин положил ему руку на плечо: — Два слова о себе, пожалуйста… Почему первого января вы пошли на вокзал? — Я и тридцать первого декабря ходил… А что делать? Он жил один, рано вставал, ходил пить кофе на станцию. Работа в котельной посменно нарушила ход его физиологических часов. Вотрин по привычке каждую ночь приходил в вокзальный буфет, хотя еще в сентябре его уволили из котельной и теперь он судился по поводу восстановления на работу. Холодилин ни разу не прервал сбивчивый рассказ слесаря, мысленно подыскивая объяснение странному костюму Вотрина, латкам на джинсах, значку, личной неустроенности — всем несоответствиям, вытекавшим из его рассказа. — …Я не задерживаю? — Пожалуйста, пожалуйста. Рассказчиком Вотрин оказался плохим. — Работал как все. Еще рационализацией занимался, — Вотрин показал на значок, — ни одного дня не болел. А когда завхозу понадобилось своего человека в котельную взять, вспомнили: инвалид, нельзя использовать на работе с механизмами… Да! А тут, значит, так было… Я иду мимо девятиэтажки. Пятый час, никого. Один только человек от вокзала. Знаете, где церковь за багажным двором? Трубы еще выведены из алтаря на крышу? — Далеко он от вас прошел? — Вот как вы сейчас сидите. — Молодой? — Лет за сорок, высокий. В форме. — В форме? В какой? — В какой, не помню. Голова своим забита. — Вотрин помолчал. — Как вы думаете, товарищ полковник, могут отменить решение суда, если нарушен принцип несменяемости судей?2 января, 16 часов 20 минут
В винном отделе гастронома Денисов ничего не узнал — час неурочный: отсутствовали завсегдатаи. В «Березку» завотделом идти не посоветовала — кафе только открылось, не подобрался постоянный контингент. В кинотеатре шли «Озорные повороты». По случаю демонстрации популярного фильма контролера в дверях не оказалось. Темнело. Все так до удивления не клеилось, что становилось смешно. У палатки, торговавшей черствыми мучными деликатесами, Денисов увидел пьяненького мужичка — он приставал к прохожим с одним и тем же вопросом: — Куда мне сейчас, товарищи? К законной или к незаконной? — Конечно, к законной! — Да-а, она опять пилить будет! Инспектора мужичок обошел, обостренной интуицией пьяного почувствовал возможную от этой встречи неприятность. Денисов просунул голову в окно палатки. — Моего дружка не видела? Приветик! Скучающая девица с припухлыми веками взглянула недоверчиво. — Какого еще дружка? — Здравствуй! Морячка, младшего лейтенанта! Пиво у тебя пьет. Вспомнила? — Вспомнила. — Продавщица легла грудью на прилавок. — Боишься, потеряется? — Приходится за ручку водить, — отшутился Денисов. — Не видела его сегодня? — Может, видела. Что мне за это будет? Вид у нее был плутоватый, но Денисов вдруг понял, что в устах этой скучающей девицы правда и должна выглядеть именно так — сильно замаскированной под ложь. — Да я серьезно говорю. — И я серьезно. — Не шучу. — Какие могут быть шутки! Видя, что Денисов не собирается просить пива или клянчить взаймы, она успокоилась. — Я ему электродрель принес, — Денисов назвал первое, что пришло в голову, — полки книжные вешать, а он ушел. И дрель возвращать надо. Давно его видела? — Утром. Я как раз открывала. Он к парикмахерской шел. — Туда? Продавщица внимательно посмотрела на Денисова. — Ты не угорел, милый? Да вот сзади тебя. За восьмым корпусом. Как большинство моряков-северян, Денисов плохо плавал. Бегал отлично, через несколько секунд был уже в парикмахерской. В мужском салоне никого не оказалось. В дамском юная парикмахерша делала начес своей коллеге. Громко играло радио. Иосиф Кобзон исполнял песню из «Семнадцати мгновений весны». — Девочки, к вам моряк не заходил? Младший лейтенант? Никто не ответил. Денисов знал песню — Кобзону оставалось еще два длиннющих куплета. — Большая просьба… — С утра никого, — шепнула появившаяся сзади пожилая уборщица, — весь день только и щиплют друг дружку. Денисов бегом вернулся к палатке. — Когда вы его перед этим видели? Давно? — Вчера, перед закрытием. Ему, между прочим, еще цыганка гадала — я его поэтому и запомнила. — Волнение Денисова передалось продавщице. — А что он сделал? — Официальное «вы» отвергало мысль о книжных полках и электродрели. — Это точно, что он заходил в парикмахерскую? — Не знаю. Шел между корпусами. — Не помните, что у него было в руках? — Портфель, что ли… — Вчера он был здесь один? — Один. Взял два пива. — А раньше? — Раньше я его никогда не видела. Денисов отошел от окошка. Откуда-то из домов пропищали сигналы точного времени. Семнадцать часов. Денисов огляделся. Сразу за палаткой простирался пустырь, он заканчивался оврагом. По другую сторону улицы белел новый жилой массив. Свободная застройка чередовалась в нем с нудной, успевшей порядком надоесть рядностью.2 января, 16 часов 30 минут
Переговоры с хозяином дачи закончились на веранде, за старым столом, испачканным белилами. — Вначале я перееду как квартирант, потом внесу остальные деньги. Скажем, в трехмесячный срок. Не возражаете? — Илья, собственно, предвидел, каков будет ответ. — Меня это устраивает. Переезжайте в любое время. Теперь я здесь один, — Илье показалось, что он незаметно смахнул слезу, — круглые сутки. — Вам не кажется, что цена все-таки немного завышена? — Продажа дач не мое хобби. Я сказал, что она стоит. Другой на моем месте запросил бы больше. Тем более с вас. Где вы возьмете такие деньги? — Не волнуйтесь. — Илья не стал торговаться. О задатке договорились тоже быстро — обоим хотелось поскорее покончить с этим делом. Обмыть сделку Илья отказался. — Вы на Электричку? — спросил хозяин дачи, прощаясь. — Нет, автобусом. — Тогда тропинкой, через пруд. Так короче. Автобус подошел быстро и сразу же двинулся с места, едва Илья встал на ступеньку. На задней площадке было много людей. Илье удалось протиснуться к кассе. Здесь его прижали к болезненного вида человечку, и с этой минуты Илья уже не мог пошевелиться: с обеих сторон подпирали люди, в том числе женщина в нечищеном пальто с въевшимися в него комочками пыли. Неподвижно согнутая рука пассажира уперлась Илье в грудь. Дорога шла проселком. Автобус несколько раз тряхнуло, болезненного вида мужчина неожиданно еще сильнее прильнул к Илье. В этот момент женщина стала поворачиваться, готовясь к выходу. Илью совсем сжали, но он был начеку. — А ну отодвинься! — Он перехватил руку, успевшую расстегнуть пуговицу пальто. — Да вы что? — болезненного вида карманник несколько раз испуганно икнул. Женщина в грязном пальто накинулась на Илью: — Что пристаете? Не видите, инвалид едет?! — Сообщница оказалась препротивной — под глазом тускло просвечивал то ли синяк, то ли близко расположенный кровеносный сосуд. — Я вам дам инвалид! С другого бока кто-то массивный тоже стал разворачиваться — спокойно, со знанием дела; Илья почувствовал прижатый к его ребру нахальный локоть третьего карманника. — Это на тебя, что ли, Василий? Трудягу порочить? — Едет без билета да еще к людям пристает! — Тусклый синяк маячил у Ильи перед лицом. Болезненного вида карманник продолжал громко икать. — Человека расстроил! Не видишь? — Проходимцы! — искренне вырвалось у Ильи. — Надо работать, а не по карманам шарить. Скажите спасибо: в милицию идти некогда! — Пошли! Пошли в милицию! Илья схватился за вертикальный поручень, подтянулся к дверям, нажал на кнопку. Карманники в нерешительности замолчали. Автобус остановился. — Тесно? Тогда такси бери! — опомнилась женщина, когда Илья выходил. — Видать, хлюст хороший! — улюлюкал тот, что был поздоровее. — Сам вот ты и лазишь по чужим карманам. Вот ты какой! «…Нет, я не такой! Если и такой, то временно, на несколько дней. Это вам уже никогда не быть честными. Воровство у вас в крови, въелось в плоть! Представляю, что вы делаете, когда удается заиметь ваши жалкие гроши!» Сгоряча он быстро шел по шоссе. «…Важно не то, что присваиваешь чужие деньги, а то, что собирешься делать дальше — пропивать, проматывать или употребить с толком, чтобы была польза для тебя, а значит, и для всего общества! Я, например, тополя высажу от дачи до остановки». Позади настойчиво засигналила машина. Шофер грузовика показал на свободное место рядом. Илья мотнул головой. Спешить было некуда. Впереди мог быть только вокзал. Капитан, старый пройдоха, бросивший в трудную минуту… Что там еще? Стенд с надписью: «Их разыскивает милиция», медлительный дежурный по камере хранения. Решение пришло вдруг: «Хватит. Как это у жуликов? Бросаю? Нет! Завязываю!»2 января, 17 часов 45 минут
Денисову удалось выделить участок поиска довольно четко. Дорожкой, которая вела к парикмахерской, пользовались не все. Она укорачивала путь к платформе Деганово только жителям отдаленных домов. Все другие предпочитали тропинку, начинавшуюся ближе к станции. Внутри обозначенного Денисовым многоугольника оказалось десятка три кирпичных домов и десятка полтора блочных башен. Никто из тех, к кому обращался Денисов на улице, кроме продавщицы пивной палатки, никогда не видел здесь моряка, младшего лейтенанта. Была еще надежда на дворников, но первая же дворничиха, молоденькая, в спортивных брючках и дымчатых очках, ее отвела: — Пока я здесь разметалась, — то, что она проделывала метлой, определить точнее было бы затруднительно, — пока я здесь разметалась, моряки не проходили. — А у парикмахерской? Кто там разметается? — Мой муж. Но сегодня я за него. У нас здесь много моряков живет… — Много? Денисов был слишком увлечен своей версией, чтобы отнестись к ней критически, и в то же время видел, что она не безупречна. Именно это останавливало его от официального рапорта Холодили-ну. Что-то подсказывало: «Тот ли это моряк, которого ты ищешь?», «Можешь ли ты утверждать, что младший лейтенант на платформе и моряк у пивной палатки — одно лицо?» и, наконец: «Кто сказал, что тридцать первого вечером ты видел преступника?» Отступать было поздно. Стараясь не думать о том, что ему предстоит, Денисов вошел в ближайший подъезд, постучал в первую дверь.2 января, 19 часов 10 минут
Заместителю начальника Московского управления транспортной милиции полковнику милиции Холодилину. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».Шофер такси ММТ 13–42 показал, что перевозил ночью сего числа пассажира, схожего по приметам с разыскиваемым, без верхней одежды. Неизвестный сел в машину в районе Астраханского вокзала и вышел на Каланчевской улице (территория 68-го отделения милиции). После ухода в машине обнаружена газета «Москоу ньюс» от первого января. Начальник следственного отдела.
2 января, 20 часов
«Ты учись расслабляться, Денисов, — говорил ему еще на заводе старый мастер, проработавший не один десяток лет, заядлый шахматист, — иногда можно и легче к чему-нибудь подойти, и проще. Что ты все время как будто турнирную партию играешь? Ну сделаешь не тот ход сначала — пускай! Вторым выправишь, третьим! Расслабься, положи локти на стол, доставь себе удовольствие от игры! Бывает, дотронешься не до той фигуры, но ведь не на турнире! Никто не закричит: «Тронуто — схожено!» В жизни надо иной раз и уметь снять напряжение, перейти с большей фазы на меньшую…» Он соглашался, но следовать совету не мог. Коллеги посмеивались над его медлительной основательностью: — Зачем далеко загадывать, Денис! «Может, это у меня от работы в электроцехе, — пробовал себе объяснить Денисов, — когда рядом электрические провода, невольно будешь осмотрительнее!» …Ничего такого не требовалось сейчас. Была работа, не требовавшая ни сообразительности, ни особенных умственных усилий. В некотором смысле даже тупая, неинтересная, и все же Денисов ни на секунду не разрешал себе расслабиться. Открывались и закрывались двери. Менялись цвета обоев в прихожих, циновки, половики. Процедуры отпирания и запирания замков. — Сюда, пожалуйста. — Вы не могли бы спросить у соседей? Мы здесь недавно. — Хозяина дома нет. Придите завтра. Денисов постепенно совершенствовал тактику: поднимался лифтом на самый верх — ноги сами вели вниз. — Здравствуйте, я на минуту. Не наслежу? Ваши окна выходят на улицу? Вы не видели моряка в форме? Я его целый день ищу. Где-то здесь живет. Младший лейтенант… — Вы обратились бы лучше в адресный стол! Фамилию, год и место рождения знаете? — Моряка? По-моему, нет… — Слышь, Коля, уже моряк объявился! Ну и райончик! До остановки пешком! Ям понарыли… Как на острове, ну Сицилия! Только мафии нам не хватало! — Моя жена редактор. Ей, извините, некогда в окна глазеть! — Здесь как-то подрались двое, думали, поубивают друг друга. Хоть бы, думаю, кто милицию догадался вызвать! Куда там! А на третий день опять у палатки как ни в чем не бывало вместе… Задачу: «Во что бы то ни стало найти младшего лейтенанта» — Денисов вскоре сформулировал более конкретно: «Опросить жителей близлежащих домов». Через несколько часов безуспешных поисков до него постепенно стали доходить смысл и масштабы им затеянного, но Денисов не позволил себе думать только о них. Было странно, что во время этого бесконечного опускания по лестницам Денисов меньше всего вспоминал «моряка», которого стремился отыскать во что бы то ни стало. Даже когда задавал свои стереотипные вопросы и выслушивал такие же стереотипные ответы. Думал о вещах, никак не связанных с сегодняшним, — о Кристинине, вылетевшем на задержание в Хорог, о пианино из Хорогского музея, о котором как-то рассказывал Михаил Иосифович Горбунов, о никогда прежде не встречавшейся ему породе собак — эрдельтерьер, наконец, об обязанностях, какие человек берет на себя от рождения перед другими людьми, — «долг», «совесть» — можно их называть как угодно. — Нет, моряка не встречала… — Вы не обращались в тридцать первую? Там все знают! — Господи! Какой еще моряк? У одного из подъездов Денисову встретились дружинники. Он объяснил, почему находится здесь. Дружинники вызвались поговорить с лифтерами, в хлебном, в прачечной. Двое сразу же отправились дежурить на переезд — евушка и парень в очках, — им было все равно где дежурить, только б вдвоем. Дом Денисов оставил себе. — Мне помнится, вы как-то уже приходили с месяц назад. После этого у нас случай произошел в подъезде. — А я работал тогда в шестом главном… Сразу нас на машины и на стадион. Игра заканчивается. Судья растерян, хронометра нет. Да-а… И вот подходит ко мне моряк… Аккурат такой, как ты ищешь… Час возвращений с работы сменил час ужина. Ароматные запахи растеклись по подъездам. Они не оставили Денисова равнодушным — жаркое, гороховый суп, макароны по-флотски. В одной из двенадцатиэтажных башен на восьмом этаже готовили баранью ногу. Нога лежала в духовке, приправленная чесночком, зеленым горошком и жареным луком. Денисов как будто видел эту живописную картину. Аккуратная хозяйка открывала духовку и каждые несколько минут поливала ногу кипящим бараньим жиром. Запах готовых мясных котлет! Разве его можно спутать с запахом домашних! Хозяйки добавляют в котлеты приперченный фарш и сырые яйца — от этого запах меняется, и чуткое обоняние его фиксирует… Казалось, Денисов спускается все время по одной, растянувшейся на многие километры лестнице. Стемнело. Из квартир в подъезды проникли звуки телевизоров, хрипы эфира. «В роли Петрушки актер раскрыл не только тему трагической сломленности, — сопровождал Денисова в непрерывном опускании хрипловатый голос, — но и тему невероятной духовной живучести, тему воскрешения…» Денисов уже не верил, что найдет «моряка», и хотел одного — поскорее выйти из последней двенадцатиэтажной коробки и сесть на крыльцо. Парень ужинал. Впустив Денисова, он вернулся в кухню и сел за стол. Движения были исполнены неторопливой уверенности. На парне была майка, она открывала худые плечи с голубоватыми линиями татуировок. По ним Денисов предположил основные вехи его биографии — детская воспитательная колония, судимость, колония для взрослых. Сейчас с этим, видимо, было покончено. Парень вернулся с работы, принял душ, ужинал без спиртного. — Я видел такого, как говоришь, моряка. Денисов присел на табурет. Человек, помогавший ему вольно или невольно в поисках, безусловно, заслуживал благодарности, и Денисов сидел, хотя больше всего в эту минуту ему хотелось уйти, молчал, хотя вопрос уже вертелся на кончике языка. — Своего кореша ищешь? — спросил парень, продолжая есть. Денисов молча показал синий якорек на кисти — память о службе в бухте Лиинахамари. Парень встал к окну: — Котельную видишь? Теперь бери правее. Второй подъезд. Я его утром видел. Дуй туда.2 января, 20 часов 50 минут
Трубку не снимали долго. Из телефонной будки Денисов видел занесенные снегом детские песочницы, покатые горки — не самодельные, устроенные кое-как, а типовые, о двух скатах — отдельно для младшего и среднего возраста. Большой благоустроенный двор не напоминал Денисову о его детстве, потому что он рос в другом — с лопухами у забора, дорожками из красного кирпича. Мужчины играли за столом в «козла», молодежь танцевала под выставленную на подоконник радиолу… Двор в Булатникове, где вырос Денисов, много выигрывал от бревен, вповалку валявшихся у забора. Никто не знал, когда они появились, зачем. Сидя на бревнах, пацаны вели разговоры, делились наблюдениями, ссорились, дрались. На этих самых бревнах он признался Лине. Что останется в памяти пацанов из этого двора? Вспомнят ли они о нем, чистеньком, безликом? — Капитан Колыхалова слушает. — Денисов не мог себе представить, что будет, если никого не окажется на месте. — Иду по коридору, слышу звонки. Что нового? — Потом расскажу… Срочное дело. Скажи дежурному, что хочешь, возьми машину и приезжай в Деганово. Совершенно необходимо. По делу «Магистраль». Я на Овражной, три, у палатки. — Не дав Кире возразить, Денисов повесил трубку. Он по-прежнему почти не думал о «моряке», действуя словно запрограммированная машина: окончание каждой предыдущей операции служило началом последующей. Мимо второго подъезда, в который ему еще предстояло войти, Денисов направился в контору жэка. В конторе жэка худенькая, похожая на белую мышку паспортистка с шумом задвигала ящики картотеки. Мужчина с лицом, изрытым морщинами, ждал ее. Денисов показал удостоверение, объяснил, в чем дело. Паспортистка вернула красную книжечку, вздохнула, словно отрезала: — В этом подъезде моряков нет и никогда не было. Я сама в нем живу. — Его видели утром и вчера тоже… Вечером он… Она не дослушала. — Вчера вечером? Враки. Я часов до десяти гуляла с собакой. Ни один в дом не входил! — Вас, по-видимому, дезориентировали, — пророкотал мужчина начальственным басом. Денисов присел на стул, наблюдая, как женщина ловко собирает паспорта и укладывает в деревянные ящички. — Трудная у вас работа, — сказала паспортистка, чтобы его как-то утешить, — но интересная… Недавно книгу принесли. Читаешь, дух захватывает! На месте преступления оставили обыкновенную пуговицу… Именно инспектору уголовного розыска приходится выслушивать чаще других чудовищно перевранные, а то и вовсе несостоятельные криминальные истории. Может, люди считают, что профессионалу интересно знать обо всем, что связано с преступлениями? — Вот вызывает его следователь на допрос, а пакет уже на столе. «Значит, невиновны?» — «Невиновен!» — «Так и запишем! А теперь откройте пакет!» А в пакете пуговица! Потрясающая книга! Рассказ паспортистки вызвал в Денисове неожиданный отклик. В споре с дегановским участковым проиграл он — Денисов. Поиск моряка с самого начала был чистой «натпинкертоновщиной». «Блуждающий форвард» действительно подстраховывал, но раскрыть преступление могла только система Холодилина! …В эпоху широких оперативно-штабных мероприятий сыщик-одиночка выглядел анахронизмом, чем-то вроде достославного странствующего рыцаря, и требовался новый гений, равный талантом великому Сервантесу, чтобы покончить с литературой о сыщике, как тот лет триста назад разделался навсегда с рыцарскими романами! — Я прошу еще раз проверить, это очень важно, — сказал Денисов. Мужчина вынул из-под стопы домовых книг тетрадь в коленкоровых корках. — Подождите, я попробую уточнить, — его начальственный бас заполнил помещение. Денисов поднялся. Жилищно-эксплуатационная контора № 38 выпускала стенную газету «За культуру быта». Денисов подошел к ней, усилием воли заставил себя читать строчку за строчкой. «Мы, отвечающие за текущий ремонт, — читал Денисов, — идя на встречу новогоднего праздника, горим желанием не допустить аморальных проявлений ни на работе, так и в быту, и в учебе». Обладатель командирского баса кому-то звонил, решал одновременно какие-то свои хозяйственные вопросы, шутил, порою оказывался настоятельно строг. Наконец он сказал: — Хлопотливое дело — руководить жэком: какие только вопросы решать не приходится: от покуса собаки до сдачи нормы пищевых отходов… Не верите? — У него было изрытое морщинами лицо, серое, как его перешитая из папахи каракулевая шапка. — Моряк действительно приходил в подъезд. Но не вчера — сегодня. В сто пятьдесят восьмую квартиру. У нас он не проживает. Денисов не знал, как отнестись к этому сообщению. — Кто живет в сто пятьдесят восьмой? — Пенсионерка, одинокая женщина… Моряк? К ней? Не знаю… Между прочим, на той же площадке, напротив, живет заместитель начальника милиции Александр Иванович. Хороший мужик, только вы вряд ли его застанете — работа!2 января, 21 час 30минут
Капитан Кира Колыхалова отпустила машину в начале улицы и пешком подошла к палатке. Денисов ждал ее. — Чем могу быть полезной? — ККК откинула прядь выбившихся из-под шапки иссиня-черных волос, — Что произошло? — Капитан Колыхалова держала себя немного примадонной, оттого что была единственной женщиной, старшим инспектором уголовного розыска в управлении… Рассказав суть своих предположений, Денисов ненадолго вновь почувствовал себя свободно. Он и не стал уточнять, какой ценой он нашел дом, в который приходил неизвестный моряк. — Пойдем на место, — распорядилась Кира. — Как дела на вокзале? — Ждут, когда ты привезешь моряка, — Кирз, была в ударе, — конвой готовят. Денисов промолчал. — Я не шучу. Как зовут ее соседа? Александр Иванович? Заместителя начальника милиции дома не оказалось — Кира решительно позвонила в дверь пенсионерки. — Добрый вечер. Пришли к вашему соседу, а он опаздывает… — Двери этой квартиры открыты для друзей Александра Ивановича в любое время суток, — церемонно приветствовала их хозяйка, приглашая в квартиру, — добро пожаловать! — Как у вас мило! Мы не помешали? — О чем вы говорите?! Даже неудобно. Если бы вы знали, как надоедает одиночество! Прошу! Денисов знал за ККК эту особенность — она нравилась другим женщинам и быстро сходилась с людьми. Благодаря Кире им тут же предложили раздеться и пройти в комнату, к столу, покрытому красным торжественным плюшем. К неудовольствию Денисова, из серванта был извлечен кофейный сервиз, мельхиоровые ложечки, лопатка для кекса, какая-то особенная вилка с двумя зубцами. Посещение затягивалось. Хозяйка — с жесткими волосами и маленькими черными усиками — предложила выпить кофе, перекурить. Своего соседа — Александра Ивановича она безгранично уважала. «Где я видел это лицо, распадающиеся на две стороны прямые волосы, усики? — вспоминал Денисов, отпивая маленькими глотками кофе. — Может, в старом муровском альбоме, когда показывал его Порываеву?» Кира нашла в сумочке распечатанную пачку «Мальборо», щелкнула зажигалкой. Денисов мог быть спокоен: она ничего не упустит. Сквозь наплывавшую дрему до негодолетали обрывки разговора: — …И перемолвиться не с кем. А приведись заболеть? —..Моя мама всегда держала квартирантов… Сколько себя помню! — …Учитель он из Юрюзани. Хочет постоянно прописаться. Если придет, я вас познакомлю. — Если? Если придет ночевать? — Вы меня не так поняли… Илья Александрович — мужчина самостоятельный. Без баловства — ни знакомств, ни выпивок. Сессия у них! Засиживается допоздна, а то и ночует в общежитии. Как сейчас трудно стало учиться! «Где я видел ее?» — думал Денисов, задремать ему так и не удалось. — …Мы с мамой жили тогда в Севастополе. — Необычной, понятной ему одному интонацией голоса Кира настойчиво пригласила участвовать в разговоре. — Лучших квартирантов, чем моряки, пожалуй, не придумаешь. Любопытный народ, и никаких с ними хлопот — по нескольку месяцев в плавании… — Люди бывалые, — промямлил Денисов. — …Последний, помню, капитан дальнего плавания — красавец, весельчак. Как у нас говорили, жовиальный… Настоящий морской волк. Вам приходилось встречаться с такими? Против потока Кириной доброжелательности было трудно устоять. — Представьте: как раз сегодня раз говаривала! — Что вы говорите?! — Чего он только не знает! В каких морях-океанах не побывал! «…Выходит, квартирант ни при чем?» Кира снова вооружилась зажигалкой, пододвинула собеседнице сигареты. В эту минуту она напоминала хирурга в ответственнейший момент операции. Легкая испарина показалась у нее на висках. Денисов не вмешивался: малейшая психологическая неточность могла все испортить. Найти верный тон для следующего вопроса! — Кто же он? Капитан? Штурман? У Денисова отлегло от сердца: так мог спросить только очень вежливый собеседник. Из любопытства. И только! — У него одна звездочка на погоне. Маленькая. — Наверное, штурман… — Возможно. Позвольте еще чашечку… — И мне, пожалуйста, — сказал Денисов. Хозяйка поправила волосы. Денисов вдруг вспомнил, где видел эту прическу, маленькие черные усики — фотоальбом здесь был совсем ни при чем! Кольбер! Министр финансов одного из Людовиков. Учебник по истории государства и права. Курсовая работа. — Ему, вероятно, сказали, что здесь так мило — он решил снять комнату… — Совсем не так. — Какая-нибудь романтическая история. Женщина с усиками а-ля Кольбер оживилась. — Он привез Илье Александровичу его пальто. Ничего романтического… «…И все-таки квартирант!» — У вашего квартиранта блестящие связи. — Оказывается, они вчера где-то встретились, и Илья Александрович предложил ему свое пальто. Понимаете, моряк! Все время в форме! В отпуске… — Не думала, что южане проводят отпуска в Москве! — Сегодня он уезжает. — Жаль, что мы не встретились. Правда, Денисов? — Правда, — с трудом выжал из себя Денисов. — Я только не пойму, как же ваш квартирант? Без пальто, в такой мороз… — Видимо, взял куртку в общежитии. Моряк ждал его, чтобы поблагодарить, — Илья Александрович так и не приехал. Кира завела длинный разговор о детстве, о Севастополе, о своем маленьком сыне, — когда они с Денисовым уйдут, только этот последний разговор и останется в памяти хозяйки, если она вздумает пересказать его Илье Александровичу. В открытую дверь второй комнаты Денисову была видна кинокамера, лежавшая на софе. — Я могу на нее взглянуть? — спросил Денисов. Хозяйка, словно впервые заметила его — полную противоположность светской, жизнерадостной Колыхаловой. — Только осторожно. Денисов вошел во вторую комнату. На софе, застеленной спальным мешком, кроме кинокамеры, валялись исписанные четвертушки бумаги, запонки, пустая коробочка «Ювелирторга», шахматный учебник. Кинокамера оказалась не новой, с девятизначным номером. Денисову пришлось разделить его на две половины. Семизначный он запоминал целиком. Когда Денисов вернулся в комнату, Кира даже не взглянула в его сторону. В такие минуты они без слов отлично понимали друг друга и как по нотам разыгрывали каждый свою партию. Женщины успели обсудить достоинства газовых зажигалок, королевского мохера. — …Илья Александрович как-то привез отрез чудесного фиолетового кримплена. В провинции все легче достать: и кримплен, и хрусталь. «Мы эту провинцию давно знаем: там была еще фата, обручальные кольца, капроновый тюль…» Денисов участия в разговоре не принимал. Неожиданно ему открылась причина, по которой «моряк» оказался в его блокноте. Офицер флота после окончания училища получает не одну, а сразу две звездочки. Какое-то количество младших лейтенантов, может быть, и несет службу, но Денисов их никогда не встречал — ни в Москве, ни в Лиинахамари. Вечером тридцать первого декабря на платформе сознание непроизвольно это зафиксировало. Наконец Кира решила, что пора прощаться. — Придется приходить в другой раз: я думаю, Александр Иванович раньше полуночи не появится. — Всегда заходите. На улице, когда они вышли, было совсем пустынно. На неяркий зеленоватый свет фонарей слетали снежинки. За магазином, на бугре, жгли ящики. Там полыхало пламя. Денисов ждал приговора ККК. — Совсем забыла, — Кира вынула из сумочки конверт, — тебе у дежурного лежал. Денисов не глядя сунул конверт в карман — сейчас было не до новогодних поздравлений. — Где здесь телефонная будка? Из автомата Кира позвонила начальнику розыска — не застала его на месте, набрала номер Холодилина. Операцией «Магистраль» он руководил лично. — Докладывает капитан Колыхалова… — Кира чуть повернула трубку, чтобы Денисов мог тоже слышать. Холодилин долго молчал, не прерывая и не поддакивая, и Денисову стало казаться вскоре, что на том конце провода никого нет. Наконец заместитель начальника управления взял разговор на себя. — Пожалуй, это они… Повторите номер кинокамеры… Записал… Как его фамилия? — Маевский Илья Александрович. Юрюзань, улица… — Неясны пока обстоятельства обмена одеждой… Телефонная трубка не была предназначена для переговоров втроем: голос Холодилина то пропадал, то появлялся снова. Денисов понял только, что он вместе с Кирой останется в засаде у дома. К ним присоединится опергруппа. После задержания Маевского опергруппа произведет обыск в его комнате. — …Запрос в Юрюзань мы сейчас отправим, кроме того, вышлем самолетом оперативную группу. К утру придут первые ответы, — услышал еще Денисов. — Все ясно? — Ясно, товарищ полковник. — Колыхалова обращалась к начальнику как-то особенно звонко и даже здесь, в темноте будки, словно чуть перегибалась в сторону воображаемого Холодилина. Денисову это не нравилось: говорить надо со всеми одним тоном.2 января, 22 часа 10 минут
Лучший момент для того, чтобы завязать, исчезнуть, вернуться к тому, от чего ушел, было трудно придумать. Илья понял это не сразу — лишь отшагав добрых километров пять по шоссе. Впереди, будто огромные зонтики, по линейке выстроились мачты светильников. Они вели в Москву. Мороз то усиливался, то отпускал снова — менялось направление ветра. С Капитаном было покончено навсегда, все произошло само собой. Уверенный в том, что Илью арестовали, он наверняка бежал к себе в Одессу. Капитал у него был. Ничего не осталось после их недолгого сотрудничества. Только стихотворение: «…и порою в ночном дозоре глянешь за борт, и под тобою то ли небо, а то ли море…» Для самого Ильи путь на вокзалы закрыт — ищут! Может, и к лучшему все? Хватило бы у него самого силы завязать? «Но почему я решил, что меня будут искать только на вокзалах? Из чего это следует?» Таким образом, все сходилось на одном — срочно, сейчас же, надо переехать на дачу, исчезнуть, залечь, никому не давать знать о себе. Не выходить даже в магазин… Тогда… Тогда по истечении некоторого времени можно будет вернуться в Юрюзань таким же честным, свободным человеком, каким уехал на экзамены. И не только честным. Переезд на дачу он перенес на ночь — больше такси, меньше людей. Оставалось как-то убить время — ходить по улицам было рискованно. Вечер Илья провел в библиотеке. Копался в журнальных подшивках, перелистывал словари. Несколько книг попросил оставить за собой — «Оксфордский учебник» Хорнби, Джесперсена и одну историческую «Война с Ганнибалом» — о битве при Каннах. Илья ушел из библиотеки перед самым закрытием. Милиционер у выхода проверил его контрольный листок, Илья оделся, пешком через пустой Большой Каменный мост подался в сторону метро «Новокузнецкая». Особенная послепраздничная тишина стояла на набережной. Транспорт почти полностью отсутствовал. На Пятницкой, у магазина «Меха», Илья неожиданно наткнулся на группу женщин. — Что-нибудь случилось? Одна, побойчее, со свернутой в трубку школьной тетрадкой, в черном жакете, засмеялась, махнула рукой на витрину. — Шубы стережем! Для вашей жены не требуются? Илья поколебался. — Записывайтесь, пока желающих мало. Жене, безусловно, понадобится шуба: на Рижском теперь показываться рискованно. Но ведь он хотел исчезнуть уже сегодня ночью? — Это ведь вас ни к чему не обязывает! Хотите — приходите, хотите — нет! — Она угадала его сомнения. — Пишите: Маевский. — Между прочим, мужские шапки тоже будут. — У меня есть. Он не покупал себе ничего, кроме самого необходимого, презирал мужчин, придававших значение своим туалетам — «внизу с разрезом, здесь две пуговицы…» Не это, считал, главное. Главное… Всегда вперед и было главное! Так и шло: «Сначала перейди в следующий класс!», «Поступишь в техникум, будешь получать стипендию — делай как знаешь!», «Вот сдашь сессию…», «Сначала получи распределение!», «Женишься…» Наверное, были и другие наставления. Даже определенно — о чести, о порядочности. Но ведь дети усваивают от родителей не то, о чем им чаще приходится слышать, а прежде всего то главное, порою даже незаметное, что родители часто и не предполагают в себе, только догадываются и бывают страшно удивлены, обнаруживая много лет спустя в своих детях. «…Живут люди. Фибиков хапнул десять тысяч… Сейчас кум королю, сват министру… Машина. Дача». «Хабибулина помните? Уже в Москве живет! Вызвал мать, будет записывать дачу на нее — восемь комнат, ванная, гараж. Газ подведен, вторую половину записали на золовку…» Собственно, жизнь с ее будничными радостями отодвигалась все время на неопределенный срок. Не хватало всегда какого-то существенного компонента, чтобы начать дышать полной грудью, по-настоящему. За седьмым классом грозно вставал восьмой с его четырьмя сложными экзаменами, за одним днем рождения — другой, казалось, еще более значимый, а там уже самостоятельная жизнь со своими вехами — рубежами… На выпускной вечер в десятом классе не пошел: если уж отмечать, то поступление в институт! На приемных экзаменах в институт — сразу после школы — срезался… Сегодняшний день не имел веса, потому что был как бы только ступенькой к завтрашнему, праздничному. А завтрашний никак не приходил: чего-то не хватало. Много раз думал об этом: «Сколько же можно ждать?» Заочный педагогический институт, работа в школе — все было лишь временным… Институт иностранных языков обещал впереди вполне определенные реальные перспективы. Постоянное ожидание давалось нелегко. Илья срывался на мелочах, не мог заставить себя садиться за учебники. У него вошло в привычку приезжать на сессии в Москву без подготовки, на авось, слоняться вечерами у витрин магазинов, ресторанов. В институте его несколько раз предупреждали, он давал последнее слово — жена ни о чем не знала. И вдруг как снег на голову два заваленных экзамена, приказ по институту, список отчисленных. «Если Илья Маевский только тростник колеблющийся, пусть погибает, а если это человек мужественный — пусть пробивается сам!» В тот самый день судьба послала ему Капитана. Неожиданно Илья подумал о жене. Эмоционально она была раскованнее его. Когда Илья улыбался, она уже смеялась, когда ему было только смешно — хохотала. Она плакала, когда Илья бывал лишь расстроен. Она не умела лгать. «Что же с ней будет, если она все узнает?!» — впервые вдруг с особой отчетливостью подумал Илья. Странный одинокий прохожий прошел мимо по направлению к собору, держа в каждой руке по бумажному пакету с картофелинами. Откуда он шел ночью? Почему с картофелем? Неожиданно один из пакетов прорвался — картофелины, как шарики для пинг-понга, запрыгали по тротуару. «Что же с ней будет? Как она посмотрит на меня: ведь красть-то действительно низко… Никуда от этого не денешься!» — Товарищ! Никак вас не догоню! Илья обернулся. Женщина, записывавшая в очередь за шубами, махнула ему тетрадкой. — Забыла сказать: перекличка перед открытием магазина! В десять сорок пять! — Спасибо! Женщина повернула обратно. Ее шаги гулко слышались за углом, у огромного собора, занимавшего с половину квартала.2 января, 23 часа 40 минут
Начальникам отделов транспортной милиции (согласно перечню). Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».Произведенным дактилоскопическим исследованием установлено, что отпечатки пальцев, изъятые на внутренней поверхности чемодана, оставленного преступником на Астраханском вокзале, принадлежат вору-рецидивисту Филину Константину Федоровичу, уголовная кличка Камбала. Фотография и описание примет направляются фототелеграфом. Прошу срочно ориентировать на розыск преступника весь личный состав. Начальник Управления транспортной милиции МВД СССР.
Дополнение. За ряд краж, совершенных в автоматических камерах хранения в гг. Москве, Киеве, Баку, совместно с Филиным К. Ф. разыскивается Маевский Илья Александрович, работавший преподавателем физики в школе в г. Юрюзани, приметы… Примите срочные меры розыска преступников.
Начальнику городского отдела милиции г. Юрюзани.
Прошу ускорить выполнение нашей телеграммы, выделите сотрудников в помощь оперативной группе, направленной для проведения обыска и других следственных мероприятий. Холодилин.
3 января, 0 часов 30 минут
Ночь нельзя было назвать ни глухой, ни длинной — обычная ночь города, какой каждый день видят ее водители такси, милиция, представители десятка служб, работающих по ночам. Подъезд, в который должен был вернуться Маевский, находился против детской площадки. По другую сторону, за небольшой оградой, виднелись освещенные витрины новой парикмахерской. Денисов и Колыхалова ходили по двору, сквозь стекла рассматривали интерьер. За магазином тлели остатки костра. Где-то на верхних этажах блочного здания повизгивала собака. — Что за порода собак эрдельтерьеры? — спросил Денисов. — Не знаешь? — Как тебе сказать? — Кира знала решительно все. — Предположим, нужно встретить твоего хорошего знакомого, а ты, как назло, занят. Овчарку не пошлешь, если она этому не обучена. А эрделя… Берешь двумя руками его милую морду, смотришь в глаза и объясняешь: «Старик, автобус сто шестьдесят четвертый, на остановке, под часами, в двадцать сорок…» Денисов засмеялся. — Четыре эрдельтерьера берут льва. Это уже серьезно. Еще до полуночи появилась группа захвата, поставила свои машины наискосок, у булочной № 567 — одну и рядом другую. Старший оперативной группы подошел к Колыхаловой прикурить. Они успели обо всем договориться. Время шло — Маевского не было. В половине второго Денисов с Кирой ушли в подъезд, к окну над батареей — излюбленному месту свиданий ночных пар: дольше оставаться во дворе становилось рискованным. Денисов быстро задремал в тепле, уткнувшись в воротник куртки. Его разбудили тихие шаги на лестнице. Кира стояла, молча глядя в окно. Денисов решил, что это один из группы захвата, которым строжайше было запрещено до сигнала входить в подъезд. — Кажется, нас меняют… — Может, не нас, а только тебя? — усмехнулась Колыхалова. — Я третью ночь на ногах. — Оглянувшись, он вдруг увидел, что человек на лестнице — вовсе не работник оперативной группы — стоит у перил и растерянно смотрит на них. — Что скажете? — спросил его Денисов. Он сразу узнал Маевского — по описанию Порываева и женщины с усиками а-ля министр Кольбер. Естественность Денисова подействовала на Маевского успокаивающе. — Пора иметь свой дом, а не стоять в подъездах. — Он ничего не заподозрил. — Спички у вас хотя бы найдутся? Кира щелкнула зажигалкой, подала сигнал опергруппе. — Весьма признателен. — Ничего не стоит. Маевский поднялся на пятый этаж, открыл ключом дверь. Денисов показал Колыхаловой на окно: внизу Маевского ждало такси. Быстро потекли минуты. Машины группы захвата маневрировали по дорожкам, проложенным между домами. Наконец первая оперативная машина подошла к подъезду. Кто-то из инспекторов пересел в такси, и оно отъехало за угол. Оперативная машина заняла его место напротив двери. Инспектора из второй машины поднялись на крыльцо. На пятом этаже снова щелкнул замок. Послышались приглушенные голоса, звуки передвигаемых чемоданов. — Он сказал, что друг вашей семьи! Кроме того, я узнала пальто. — Хозяйка квартиры старалась говорить тише, но голос ее разносился по этажам. — И зачем ему ваша записная книжка?! Мне и в голову не пришло! — Теперь это неважно. — Всего на несколько минут оставила в комнате: он попросил воды… — Я приеду через месяц. Маевский появился с двумя неудобными большими чемоданами, они то задевали перила, то ударяли его по ногам. — Пойдем и мы? — пропустив Маевского вперед, спросила Кира негромко. — Когда спать будешь? С этой минуты их роль в операции менялась. В случае, если Маевскому удалось бы выскочить из устроенной на крыльце засады, Денисов и Колыхалова должны были отрезать путь назад, в дом. Внизу хлопнула дверь. Оставив Денисова, Колыхалова устремилась вниз. Ее всегда влекло в самое пекло. Денисов едва успел схватить Киру за руку. — Нельзя! Киру била дрожь, невозможно было чувствовать себя спокойно: из-под лестницы доносились негромкие восклицания. Дверь хлопнула вторично. — Руки! — послышалось внизу. Раздался лязг наручников. Кира как-то сразу обмякла. Стараясь не шуметь, они быстро спустились по лестнице. Внизу Денисов снова увидел Маевского. Илья тяжело дышал, рукав нового пальто был испачкан белым, на запястье виднелся металлический браслет. Второй наручник старший группы захвата замкнул у себя на руке. Схватка была короткой и стремительной. Еще через секунду задержанный и задержавший вместе сели в машину. Кира заняла место рядом с шофером, Денисов — на втором сиденье, по другую сторону от Маевского. Разом хлопнули дверцы. Следователь, который оставался, чтобы принять участие в обыске, махнул рукой. Денисов с сочувствием посмотрел в его сторону: с поимкой Маевского дело для следователя еще только начиналось, для Денисова же и других инспекторов уголовного розыска самое главное было теперь позади.3 января, 1 час 55 минут
Начальникам отделов транспортной милиции (согласно перечню). ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».На территории обслуживания аэропорта Внуково обнаружена бывшая в употреблении шинель военнослужащего ВМФ, размер 58, рост 5, без существующих знаков различия. Предполагается, что шинель оставлена вором-рецидивистом Филиным, объявленным в розыск вместе с подозреваемым Маевским. Филина видели в последний раз 2 января сего года около шести часов утра на улице Веерной, у дома, где он проживал без прописки с декабря прошлого года. Филин был одет в форму младшего лейтенанта ВМФ. О возможных изменениях в одежде разыскиваемого срочно ориентируйте личный состав. Заместитель начальника Московского управления транспортной милиции полковник милиции Холодилин.
3 января, 2 часа 10 минут
Всем. Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».Розыск подозреваемого в совершении краж Маевского И. А. прекратить в связи с задержанием последнего в г. Москве. Заместитель начальника Московского управления транспортной милиции полковник милиции Холодилин.
3 января, 2 часа 35 минут
На Астраханском вокзале в комнате для доставленных, куда Илью ввели вначале, несмотря на поздний час, былошумно. Много людей разговаривало одновременно: спрашивали, отвечали на вопросы, куда-то звонили со всех расставленных по столам телефонов. Дежурный и его помощники оформляли документы, актировали ценности. В шуме было трудно что-то понять. — …Не нарядно нарядилась, не бело умылася… — умильно тянул сидевший на скамье у входа пьяный, — знала, что милого нет, нисколь не торопилася… Руки его в смирительной рубашке были связаны, но он не замечал этого, присутствуя мысленно на большом семейном празднике, окруженный близкими и родными. — Маевский Илья Александрович, — представил Илью инспектор, отстегивая наручник. Крепко сбитый, моложавый сержант протопал к дверям, закрыл на ключ. Илья успел заметить, что сержант ладен и спор; когда Илья поздоровался, он спросил: — Что, елки пушистые, приехали? Все вокруг отдавало непробиваемой прочностью — и конвоир, и засов, и сами «елки пушистые». Пока ехали, пока его водили по кабинетам, задавали анкетные вопросы, фотографировали, заполняли многочисленные протоколы, карточки, Илья мучительно старался вспомнить название маленьких животных, о которых рассказывал тесть: — Упрутся однажды и за тысячи километров бегут к морю, словно кто их гонит! Стая за стаей, все — в воду, в воду! Пока не перетонут… И ведь видят задние, что впереди тонут и им то же будет, все равно прут! Не остановишь! Возбуждение, в котором Илья находился, выдавало себя приступом необычайной говорливости, он глушил мысли словами и понимал это: «Говорю, значит, существую!» — Не помните? — спросил Илья у доставившего его инспектора. — Кажется, это Платон недоумевал, почему люди знают, что хорошо, а делают то, что плохо? Инспектор не ответил. Ладно скроенный сержант взял Илью за руку. — Ну, елки пушистые, ладно, — сказал он грубовато, — мы не курить остановились. Показывайте карманы.3 января, 2 часа 36 минут
В зале для транзитных пассажиров в Киеве до глубокой ночи толпились люди, слышалась громкая, непривычная уху речь. Капитану мало приходилось бывать здесь. Он нашел в лабиринте камеры хранения ячейку Ильи, но не подошел, занял для себя ячейку поблизости. Потом вышел в зал, совсем рядом со входом оказалось свободное место. Когда он не знал, как лучше поступить, он ждал. И мог ждать сколько угодно: час, полдня, сутки. Игра стоила свеч. В случае ошибки, понимал, рискует всем. Многолетний опыт подсказывал Капитану, что сотрудники милиции скорее всего здесь же, среди пассажиров. Капитан одного за другим отводил пассажиров, которые не участвовали в игре: кто-то неудобно сидел — не мог видеть вход в зал, кто-то только что позавтракал прямо на скамье, несколько человек в разных концах зала Капитан отвел из-за их бород — ношение бород в милиции не допускалось. Возраст, комплекция, выражение лица — все подвергалось тщательной оценке, изучалось, отсеивалось. Время шло. Капитан ни на минуту не упускал милиционеров в форме, на его глазах пришла третья смена постовых. Капитан все еще ждал, следил, с кем заговорят постовые, кто обратится к ним вдали от глаз, где-нибудь за колоннами, с кем из пассажиров неожиданно поздоровается носильщик или по привычке кивнет дежурный администратор. Капитану удалось выявить одного такого, но он с восемнадцати часов больше не появлялся, видимо, успел смениться. Одного за другим прощупывал Капитан каждого, кто входил в автоматическую камеру хранения. Рядом с Капитаном на скамье сидели двое — женщина в длинном, спускающемся чуть не до пола платке, и мужчина в шубе, похожей на дамскую. Они везли четыре чемодана и круглую картонку, затянутую ремнем: в другое время Капитан поинтересовался бы картонкой — она стояла сбоку, и за ней не смотрели. — Вы еще будете с полчаса? — спросил он у странной пары. — Я оставлю портфель. Думаю перекусить. — Мы будем всю ночь, — ответила женщина. — Идите. У черного входа ресторана Капитан приобрел бутылку водки, в буфете нашелся жареный судак, полтавская колбаса и курица. Стакан ему вначале не дали, он выпил из бумажного фунтика, сделанного из газеты. Потом уборщица принесла стакан. Выпив, Капитан поставил бутылку сбоку, у прилавка. С Маевским было покончено, Капитану не надо было прикидываться овцой, отказывать себе в привычном. Из уличного телефона-автомата набрал 02. — Милиция? Вокзал! В зале, где автоматическая камера хранения, вещи украли! Скорее, жду! Напротив колонны! Быстрым шагом Капитан вернулся в зал, засек время: два часа тридцать шесть минут. Странная пара продолжала разговаривать, картонка по-прежнему стояла сбоку вне внимания. «Воров нет, что ли?» — подумал Капитан. В два тридцать девять к буфету за колонной подошел гражданский в каракулевой шапке. Он не встал в очередь, о чем-то спросил буфетчицу, несколько раз окинул глазами зал. Постовые незаметно следили за ним. «За три минуты сработали…» Продолжая наблюдать за действиями инспектора уголовного розыска, Капитан не оставлял без внимания выходные двери. Несколько человек покуривали там на сквознячке. Капитан оглядел и запомнил каждого: кто-то из них определенно прикрывал выход из зала. Пройдя вдоль диванов с пассажирами, инспектор в каракулевой шапке снова подошел к буфету. Туда же подтянулся вскоре и один из курильщиков — маленького роста, сутуловатый. Теперь Капитан смотрел за этими двумя. Они никак не могли понять, куда делся человек, обратившийся в милицию. Наконец, решив, что искать дольше не имеет смысла, они разошлись. Через сутуловатого, в гражданском, Капитан вскоре установил его коллегу — он сидел в самой глубине зала, у окна. «Вот, пожалуй, все…» — подумал Капитан, оглядываясь. Странная пара на скамье вызывала у Капитана чувство недоумения: кто такие? Зачем живут? Зачем ездят?! Как и под Новый год, хотелось поговорить о жизни, отвести душу. Зачем ездите, дорогие? Кто попадает под трамваи, под электрички? Такие, как вы, растеряхи, очкарики… Воруют у кого? Опять же у вас. Электрички, жулики улучшают человеческую породу! А как же? На то и щука в море, чтобы карась не дремал! Специальная наука, писали в журнале, вас изучает — виктимология, что ли? Смотрите, как надо жить, болезные, учитесь! Но смотреть пока было не на что. Капитана изрядно развезло, но он держался молодцом: там, в камере хранения, в ячейке, лежало целое состояние. В начале пятого часа оба работника милиции неожиданно потянулись к выходу. Зал спал, всякое движение прекратилось. Сотрудники сверили часы — Капитан догадался, что в это время перерыв. Капитан дал им уйти подальше, прошел к автоматам с газированной водой, постоял секунды три и быстро вошел в камеру хранения. Длинный ярко освещенный отсек был пуст. Так однажды Капитан проник в больницу и шел нескончаемым коридором мимо уснувших больных, свернувшихся калачиком медсестер, наполненных внутренней дрожью, разболтанных огромных холодильников. Все было ярко освещено, пусто, чисто. Базовая ячейка Ильи была в конце отсека. Капитан набрал шифр — реле времени отсчитало заветные три секунды… Автомобильный гудок потряс больничную чистоту автокамеры. Капитан с силой ударил кулаком по дверце — гудок не прекратился. Казалось, кто-то изо всех сил сжимает резиновую грушу старого довоенного клаксона. Капитан заметался по отсекам, как две капли воды похожим один на другой. У выхода его уже ждали… Сосед по скамье в шубе, он уже не казался странным, — инспектор розыска, участвовавший в операции. Капитан сжал себя в комок, на всякий случай поднял обе руки. Каждая клеточка мозга, каждый мускул напряженно работали, пока он медленными шагами шел к выходу. Можно было испробовать один вариант, но не сейчас — когда выведут из зала… На путях работал маневровый локомотив… Спасение заключалось в том, чтобы выскользнуть из рук, когда поведут, и броситься наперерез маневровому, проскочить перед ним… Такое уже удавалось, преследователи отстанут — только когда на карту поставлено все, тогда бегут через путь! Он пошел быстрее, привычно льстиво выгнув спину, как еще недавно делал перед Ильей: — Сдаюсь! Гениально выслежен! Преклоняюсь, просто преклоняюсь!3 января, 3 часа 20 минут
Пронзительный телефонный звонок разбудил Денисова. Не поднимаясь со стула, он попытался достать трубку, но выронил — трубка со стуком ударила в настольное стекло. — Слушаю, Денисов, — он был уверен, что кто-то случайно набрал не тот номер. Звонил Сабодаш. — Не уехал еще? — Электричку жду. — Так… В четыре двенадцать, значит? — В голосе Антона слышалась неуверенность. — Понимаешь, Маевский хочет сделать важное заявление… И вот я подумал: лучше тебе с ним. Как говорится, сыграл первую скрипку. — Скажешь тоже! — Денисов пошевелил затекшими пальцами. — Где он? — Возьми его в кабинет начальника отдела. Там все материалы. Учти: скоро Холодилин появится! — Сабодаш снова привычно трусил. — Ни пуха! Кабинет Бахметьева был тоже весьма необычным, хотя и похуже денисовского — одно из окон кабинета выходило в центральный зал на уровне верхних антресолей. Сквозь открытую форточку снизу доносились те же непрекращающиеся звуки шумящего по деревьям дождя. Денисов мельком окинул глазами зал. Сбоку, у колонны, стояли сиротливо чьи-то чемоданы, младший инспектор посматривал за ними со своего места — от суточных касс. В ряду спящих Денисов задержал взгляд на девушке в ватнике и вспомнил знакомую официантку из третьего буфета: любопытно, что она нашла в нем, в Денисове… Высокий худой старик рисовал спящих, удобно устроившись в кресле, карандаш его так и скользил над альбомом. — Ко мне ничего не будет? — негромко кашлянув, спросил конвоир. Денисов очнулся. — Спасибо, идите. — Он прикрыл форточку, шум ливня мгновенно прекратился. На столе лежали подобранные к приезду Холодилина документы — ответы на ночные телеграммы, справки, меморандум ночного разговора Сабодаша с начальником уголовного розыска из Юрюзани. Денисов видел все, перед тем как уйти спать. В углу были сложены привезенные с обыска вещи, их было немного. Отдельно, под сургучом, содержался пакет с деньгами — денег не хватило бы даже на то, чтобы возместить ущерб одному литовцу. Маевский выглядел чуточку возбужденным. Ему не пришлось пока остаться одному. Все это время он был в центре внимания дежурных, все было вновь, неожиданно буднично, не так, как представлялось. — И двери не открываются с жалобным стоном, и никаких темных комнат… — сказал Маевский, войдя в кабинет начальника отдела, — и нет комиссара Мегрэ… Я могу сесть? — Прощу. Слушаю вас. Денисов сел за приставной столик, Маевского посадил напротив. Кресло начальника отдела осталось незанятым — на случай, если приедет Холодилин. — Мне необходимо встретиться с кем-то из руководящих работников аппарата министерства: надо обсудить несколько вопросов первостепенной важности. — Задержанный хотел поправить галстук, но вспомнил, что его отобрали при обыске, поэтому только провел рукой по воротничку. — Вы в состоянии организовать такое свидание? С кем я разговариваю? Денисов представился: — Младший лейтенант Денисов, инспектор уголовного розыска. — Маевский Илья Александрович. — Илья держался солидно. — Речь пойдет об автокамерах. — Самостоятельно вопросы не решаю, хочу предупредить. — То, что я сообщу, перевернет ваши представления о профилактике краж из камер хранения. Конструкторы получат новый аспект для изысканий. Министерство сможет перестроить комплекс предупредительных мер. Видите, я не думаю запираться… Мне нужна свобода. — С вами будет разговаривать заместитель начальника управления. Я это знаю. У вас все? Отсутствие любопытства со стороны младшего лейтенанта — инспектора задело Илью. — Понимаю, что кажусь вам обычным уголовником. — Илья попытался улыбнуться. — И все же, верите или нет, это факт: за свою жизнь я ни у кого не взял и копейки без спроса… До того, как стал открывать ячейки, — он избегал слова «воровать», — вам это подтвердит каждый… — Что же произошло? — Я предвидел вопрос. Ничего не произошло… Постоянно воровать я не собирался, — наконец он произнес слово, которое ему никак не давалось, — разрешил себе стать нечестным на время. Какое-то затмение нашло… Слушая, Денисов просматривал прибывшие из Юрюзани материалы, некоторые подтверждали показания задержанного: «Маевский Илья Александрович жил неподалеку и в любой момент дня и ночи был готов помочь школе. Нравственно устойчив, хороший семьянин, общественник. Несколько раз ограждал учителей в вечернее время от приставания хулиганов. По просьбе администрации школы ремонтировал забор, вставлял разбитые стекла в окнах, много времени проводил с детьми в зооуголке…» Встречалось, правда, и другое: «Средняя школа № 3. Отстранен от преподавания черчения в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины…» «Дорогой радиослушатель! Благодарим Вас за Ваше письмо, которое Вы передали жюри конкурса. Как только будут известны результаты конкурса, мы сообщим о них в наших передачах. С совершенным почтением русский отдел Би-би-си». — Как-то на вокзале в Риге я увидел слепую девушку — ее никто не встречал. У нее оказался тяжелый, набитый продуктами и вещами чемодан… Я взял такси и отвез ее домой, в записной книжке есть адрес. Можно допросить. Родители не знали, как меня отблагодарить. Преступника легче распознать, подумал Денисов, если он кровожаден, подл, обладает одними патологическими извращениями, жестокими инстинктами, труднее представить себе подлеца, который помогает слабым, любит животных, не представляет себе близости с женщиной без любви… Денисов прибег к приему, который называл для себя испытание потерпевшим: человек с совестью, опустившийся под влиянием обстоятельств, глубоко страдал, когда следователь напоминал о его жертвах. — А потерпевшие? Сыграли ли они какую-нибудь роль в вашем падении? Маевский не дал договорить. — Если бы они действовали по инструкции о правилах эксплуатации! — Он снова поправил воротничок. — Ротозеи! Денисова всегда удивляла эта злоба на пострадавших, желание возложить вину за преступление на свои жертвы. Денисов еще задал несколько вопросов Маевскому: испытание соучастником, испытание корыстью… Только о семье решил не спрашивать — чего уж тут спрашивать?! Маевский отвечал охотно — чувствовалось, что он рад всеми силами отсрочить возвращение в камеру: — Настоящего имени Капитана я не знаю, фамилии тоже. Что можно о нем сказать? Личность ничтожная. — Соучастника Илья не собирался выгораживать. За деньги же был намерен бороться. — Я и сам не знаю, как они разошлись: часть прокутил, часть у меня в автобусе украли. — Денисов почувствовал фальшь, но промолчал. — Но я выплачу всю сумму, не беспокойтесь, займу, буду работать — рассчитаюсь! — Как, по-вашему, где сейчас Капитан? — Сейчас, должно быть, уже в Одессе… Вы не поверите: во мне ничего не изменилось после этих проклятых краж! Я сам не перестаю этому удивляться! Встреться они в других условиях, прочитай лежащие на столе бумаги, Денисов, пожалуй, мог и в самом деле принять Илью за сбившегося с пути «бессребреника». Недаром в меморандуме из Юрюзани цитировались слова молодой учительницы, работавшей вместе с Маевским: «Мне кажется, люди, подобные Илье Александровичу, редки. Нам, прибывшим на работу в Юрюзань, он оказывал чисто товарищеское бескорыстное внимание». Весьма любопытным оказалось свидетельство бывшего преподавателя Института иностранных языков: «…Если верно то, в чем подозревается Маевский, — это свидетельствует о неудаче процесса социализации, то есть включения человека в общество. Цель наказания в данном случае должна способствовать восстановлению связей Ильи с коллективом». В целом преподаватель высоко оценивал Маевского, и, когда ночью его поднял звонок Сабодаша, первое, что он сказал, было: — Я пророчил ему аспирантуру… — Суд решит, — отвечал ему Антон Сабодаш, которому предстояло обзвонить многих, чьи телефоны были записаны в блокноте задержанного. Об этом Антон рассказывал позже, в справке же он записал: «Бывший преподаватель иняза готов дать личное поручительство». — «Если Жюльен только тростник колеблющийся, пусть погибает, а если человек мужественный, пусть пробивается сам», — процитировал Илья. «Куда важнее не то, что мы можем сделать, а то, чего сделать не в состоянии. Человек не может сознательно, на время, разрешить себе совершать подлости, какими бы соображениями он при этом ни руководствовался». Жюльен Сорель, которого цитировал задержанный, и Илья Маевский жили в иных эпохах, ставили перед собой неодинаковые задачи и добивались их разрешения непохожими средствами. Появился ладный сержант из конвойного взвода. Денисову осталось задать последний, чисто профессиональный вопрос: — Вы воровали в основном на Астраханском вокзале. Почему? — Больше ячеек первого выпуска. Я тоже хочу спросить. Разрешите? Денисов понял, о чем пойдет речь. — Вы ведь и сейчас не можете догадаться, как вскрывались ячейки? — Маевский поднялся. — Пассажир набрал шифр, никого рядом не было, полная гарантия — и вдруг! Удивительно? Денисов не ответил. — Если мне вернут свободу, я немедленно открою секрет. Когда Маевского увели, Денисов привел в порядок бумаги на столе, подошел к окну, выходившему в зал. Внизу, на диванах, еще спали. По-прежнему в отдалении стояли оставленные еще с вечера чемоданы. Разметав руки по сторонам, спала девушка в ватнике — круглолицая, с короткими тяжелыми ногами, похожая на официантку третьего буфета. Старик художник делал эскизы, далеко отставляя острый локоть. Денисову был хорошо виден высокий свод черепа художника, крупный нос, глубоко запавшие глазницы. «До чего совершенной может быть голова человека», — подумал Денисов, который незадолго до этого прочитал «Родена».3 января, 5 часов 12 минут
На этот раз Сабодаш лучше подготовился к приезду заместителя начальника управления, и полковник Холодилин, прошедший напрямую, через зал, не застал дежурного врасплох. — …На участке обслуживания происшествий не зарегистрировано, объявленный в розыск преступник задержан, находится в ИВС. — Антон подождал. — С личным составом все в порядке. Холодилин не прервал короткого доклада, был он в гражданской одежде, нешумный, покладистый. В семь утра ему предстояло доложить выводы «дела Маевского — Филина» начальнику управления, в девять — заместителю министра. Он за руку поздоровался с дежурным. — …Задержанный передал, товарищ полковник, что хочет сделать заявление, представляющее интерес для органов транспортной милиции. Я дал команду вывести Маевского из камеры. С ним разговаривал младший лейтенант Денисов. «Снова Денисов, — подумал Холодилин. — Начальник штаба говорил, что ищет к себе в аппарат человека…» — …Так, я решил, будет лучше для общего дела. Уот! — В чем суть заявления? — Маевский готов открыть способ, каким угадывал шифр… В обмен на личную свободу. Холодилин помолчал. — Инспектор поставил его в известность о том, что способ этот мы знаем? — Нет, товарищ полковник. Он написал здесь подробный рапорт с обоснованием, почему так сделал. Этот вопрос он увязывает с возмещением материального ущерба. Кончалась ночь. Первые утренние электропоезда оставляли одну за другой промерзшие за ночь платформы, они отправлялись полупустые — до начала работы метро. Зато все приходившие электрички были переполнены. Холодилин прочитал рапорт о беседе с Маевским — необходимость срочного разговора с задержанным отпала, в жестком распорядке дня Холодилина неожиданно возник резерв свободного времени. Постепенно к дежурному возвращалась уверенность, не покидавшая его в отсутствие высокого начальства. Казалось, преследовавший Антона злой рок отступил. — Штангой больше не занимаетесь? — спросил Холодилин вдруг. — Иногда, товарищ полковник. Так, для себя. — А тянет? — Как же! Столько лет… Сабодаш не успел договорить. Красный огонек вспыхнул на коммутаторе: у входа в центральный зал милиционер подошел к ярко-желтой тумбе, снабженной четкими надписями — «Милиция», «Кратковременно нажмите кнопку» и «Говорите». — Капитан Сабодаш, слушаю вас, — специально для Холодилина Антон нажал на тумблер громкости, подкрутил регулятор. Голос милиционера вошел в помещение. — Товарищ капитан! В автоматическую камеру хранения пришла заявительница. Говорит, что из ячейки похищен кассетный магнитофон… — Ячейка пуста? — Нет, там чужие вещи. — Хорошо, сейчас буду. Глазок на коммутаторе потух, Сабодаш улыбнулся: — Маевский сидит в ИВС, товарищ полковник, а некоторые потерпевшие еще считают, что их ценности преспокойно лежат в ячейках. Натворил он дел! Вы… — Дерзкая мысль пришла к нему, в первую секунду Антон был сам ошарашен ее дерзостью. — Не хотите взглянуть, товарищ полковник? Холодилин посмотрел на часы. — Пожалуй. Он вышел первым, за ним, без шинели, не чувствуя холода, двинулся Сабодаш. Помощник дежурного занял место за пультом. — Не понимаю таких, как Маевский. — Антон вспомнил журнал, найденный в электричке. — Ведь есть такие события, после которых вся жизнь может пойти по-другому… Как бы звучат колокола судьбы! Только их слышать надо. Уот! В автоматической камере хранения людей было немного,заявительница ждала сотрудников милиции в конце отсека, приземистая, с коротко остриженными цвета хны волосами, крупными чертами лица, с сигаретой. — Никуда не годится, друзья мои! — выговаривала она дежурной по камере хранения, сменившей на этом посту Бориса Порываева, и другой женщине — механику-практикантке. — Факт налицо: был магнитофон, сумка, а теперь… пшик! Увидев работников милиции, она торопливо заспешила навстречу. — Уголрозыск, ну наконец-то! Господи, как вы медленно! — Когда вы положили вещи? — спросил Сабодаш, здороваясь. — Это сейчас так важно? Мне кажется, теперь важнее что-то предпринять, где-то искать, кого-то проверить… Вы уголрозыск, не мне вас учить, вы лучше знаете… Вещи я клала тридцать первого, если это, конечно, вам надо. Кассетный магнитофон импортный, сумку с вещами. Отдельно лежал лещ копченый, в сетке. Знала б, лучше б в поезде разда-ла… — Вы приехали из Астрахани? — Да, я ездила в гости. — В качестве шифра, надо полагать, набрали год своего рождения? — Вы догадались или… — Догадался. Ячейку вскрывали дважды, шифр не меняли. — Точно. — Могу одно сказать, — Антон ненадолго задумался, — часть вещей, в том числе лещ, где-то в соседних ячейках, магнитофон, вероятнее всего, придется искать далеко отсюда. А жулик сидит в камере… — Чудеса какие-то, — рукой с сигареткой она разогнала дым, — не могу выразить, насколько я вам признательна. — Опишите приметы вещей. Холодилин прошел лабиринтом стальных отсеков, главная мысль доклада руководству вырисовалась еще раньше, сейчас она снова получила подтверждение. Современный транспорт неотделим от автоматических камер хранения, от электроники, век старозаветных камер хранения ручной клади с квитанциями и жетончиками кончился. Надо предпринять все, чтобы «дело Маевского — Филина» не могло повториться. Возможно ли это? Главный конструктор, звонивший Холодилину на квартиру, рассказал, что документация на усовершенствования, которые предлагала милиция, была разработана, но в свое время ее не приняли во внимание. Теперь, безусловно, этим предложениям будет дана зеленая улица… — Сейчас дежурная будет открывать соседние ячейки, — Сабодаш уверенно проводил в жизнь методику Денисова, — смотрите внимательно, не пропустите сетку с лещом! …Заместитель министра обязательно будет интересоваться деталями проведения операции «Магистраль». Что можно сказать? Все органы милиции, участвовавшие в поиске, сработали четко. Результаты говорят сами за себя: с момента поступления первого заявления о краже до установления преступников прошло менее трех суток. Холодилин поднялся по эскалатору, прошел в центральный зал, незнакомый молоденький милиционер что-то объяснял женщине, окруженной детьми, по-видимому воспитательнице. Когда он снова спустился к автоматическим камерам хранения, Сабодаш и заявительница стояли у телефона, рядом со столиком дежурной. Вид у Сабодаша был растерянный. — В ячейках нет, все осмотрели, товарищ полковник. Я позвонил помощнику. Сейчас он ищет магнитофон по ориентировкам — среди вещей, изъятых в базовых ячейках Ильи Маевского… — Меня так успокоили! — перебила потерпевшая. — Одну минуточку. Она выразительно закатила глаза к потолку. — «Одну минуточку»! Сколько мы уже времени потеряли?! Может, как раз мой магнитофон сейчас пропивают и закусывают моим же лещом?! Заливисто прозвенел телефон, Сабодаш снял трубку. — Хорошо проверил? — Он посмотрел на Холодилина. — Нигде нет, товарищ полковник. — Действуйте, — приказал заместитель начальника управления. Он не собирался подменять дежурного, по крайней мере на этом, начальном этапе поиска — включение в розыск необходимого числа сотрудников, организация их работы, знал Холодилин, много важнее для дела, чем появление сейчас в отсеке еще одного дежурного или, в лучшем случае, еще одного инспектора в звании полковника. Сабодаш словно только и ждал этого распоряжения. — …Вызывайте наличный инспекторский состав по схеме «Кража в камере хранения», поставьте в известность следователя и эксперта-криминалиста. Дежурного по управлению я проинформирую сам. — Он положил трубку. — Вокзал есть вокзал! Ушки надо держать топориком! Холодилин заметил время. Потекли минуты, из тех, что оставляли след в «Книге учета происшествий». Заместителю начальника управления неожиданно представилась возможность наблюдать подчиненный аппарат как бы со стороны. Все так же шли вдоль отсеков пассажиры, их становилось все больше. Заявительница и Сабодаш ждали. Холодилин поглядывал на часы. Первой появилась в камере хранения капитан Колыхалова, старший инспектор уголовного розыска. — Что случилось? Здравия желаю, товарищ полковник… Через минуту прибежал Блохин, вскоре за ним в конце отсека возник Денисов. Инспектора здоровались с заместителем начальника управления, пристраивались рядом с Сабодашем и потерпевшей. Три инспектора — три характера, Холодилин, как опытный работник розыска, представлял их себе в целом: увлекающаяся первой версией Колыхалова; осторожный, недоверчивый Блохин; внешне простоватый, старающийся заглянуть чуть дальше, чем все, Денисов. Каждый из инспекторов словно уже нашел точку приложения своих сил. Блохин присматривался к любопытствующим, собравшимся у бокового отсека. Кира не спускала глаз с потерпевшей. Денисов осматривал автоматическую секцию. — Вы хорошо помните, что оставили ячейку закрытой? — спросила Колыхалова. — За ручку подергали? — Извините, родненькая, вы не за ту меня принимаете. Я могла оторвать — так дергала. Ничего, если я буду курить? Дико волнуюсь за вещи… — Может, кто-то подсмотрел ваш шифр? — Никто! Я же все понимаю! Если вы написали «Держите в тайне набранный шифр!», — она ткнула в «Правила эксплуатации», висевшие посреди отсека, — будьте уверены: я набрала шифр так, что никто не увидел. — Тогда я что-то упустила… — Разрешите, я помогу, не обижайтесь… Давайте рассуждать логически! Раз никто посторонний не мог узнать шифр, тогда… Продолжайте развивать вашу мысль! Эти женщины, дежурные… Вы меня извините, родненькие! — Она обернулась к работникам камеры хранения и тут же снова к Колыхаловой: — Разве нельзя у них посмотреть?! Должны быть какие-то ящички, подсобные каморки… Вы уголрозыск, вам лучше знать! В крайнем случае можно потом извиниться. Я сама, родненькие, перед вами извинюсь… Даже Холодилин, заинтересовавшись, на время оставил без внимания своих сотрудников. — Может, вы доверили шифр кому-нибудь вне вокзала? — Колыхалова прервала потерпевшую величественным жестом примадонны. — Кто знал, что ваши вещи здесь? Женщина застыла, словно наткнулась на неожиданное препятствие. — Господи, как я могла забыть?! Своей подруге… — Кому еще? Вспомните. Денисов участия в разговоре не принимал, рассматривал наружные цифры соседних секций. — Только ей — я просила съездить за моими вещами. Она вчера приехала ко мне поздно, сказала, что ячейка не открылась. Какая же я слепая… — Подождите! — возмутилась Колыхалова. — Какие у вас основания подозревать? — …Я решила, что она что-то напутала, не придала значения! — Заявительница снова закатила глаза к потолку. — Тут мне надо самой… Я ей скажу: «Тоня, родненькая! Пока не поздно! Милиция ничего не знает! Не бери грех на душу!» — А если не она? Колыхалова и Блохин обсуждали ситуацию серьезно: потерпевшая не вызывала симпатии, но они не имели права руководствоваться такими критериями, как «симпатия» и «антипатия». — Извинюсь! «Тоня, — скажу, — родненькая, извини, ради Бога!» — У нее было два обращения — «родненькая» и «друзья мои», — и она поочередно пользовалась обоими. — Вы не могли бы сделать у нее обыск? Блохин снял шляпу-«дипломат», основательно размял поля. — А если кто-нибудь вот так покажет на меня, на вас? Что тогда? Обыск?! — Надо же что-то делать, друзья мои! Не век же стоять здесь! — Мария Ивановна, — неожиданно обратился Денисов к дежурной по камере хранения, — откройте еще раз ячейку. Пожалуйста. Зуммер не привлек внимания других пассажиров, они продолжали заниматься своими делами. Денисов заглянул внутрь: несколько пачек в типографской обертке, отрывные календари… Ячейку занимал книгоноша, тот самый, что рекламировал все поступавшие к нему издания как детективы. Денисов не спеша произвел тщательный осмотр. Книгоноша был человеком предприимчивым, острым на язык, некоторые подходили нарочно, чтобы его послушать. Как-то один из покупателей вернулся к нему с жалобой: — Вы говорили, детектив! А здесь об осушении торфяника… Книгоноша и глазом не моргнул: — Жизнь работяг вас не интересует?! Вам только про жуликов подавай! Где вы трудитесь, любопытно? С удовольствием бы приехал к вам на службу… Денисов вынул голову из ячейки. — В этой ячейке лещ не лежал. А если лежал, то давно, — книгоноша никогда не положил бы товар в ящик, пропахший рыбой. — Извините, друзья мои! — Женщина с силой погасила сигаретку о край урны. — Всему существует предел. Кто-то есть и повыше вас… — Она неплохо разобралась в ситуации и косвенно обращалась к прохаживавшемуся по отсеку Холодилину. — Мария Ивановна, пожалуйста, проверьте монетоприемник. — Денисов привычно откинул воротник куртки назад. Дежурная по камере хранения другим ключом — не тем, каким открыла ячейку, — извлекла монетоприемник, стальную копилку, в которой скапливались пятнадцатикопеечные монеты. — Я так и думал, — Денисов потряс металлической погремушкой, — здесь только одна монета! — Выходит, я не платила?! — Выплатили… Колыхалова на лету поймала его мысль. — …Только до тридцатого декабря. Тридцатого у нас выемка денег. Раз второй монеты нет, значит, вы опускали свою до выемки… — Что из того? — Надо было на третий день приехать и доплатить. Здесь же написано — срок хранения три дня! — А мои вещи… — На складе забытых вещей. Сейчас я позвоню туда. Сабодаш пошел проводить заместителя начальника управления к машине. — …Денисов в таких делах как рыба в воде. Уот! Чувствую, возьмете его от нас, товарищ полковник! В добрый час. Холодилин молчал. За годы работы наблюдал он многих работников, в том числе таких, как Сабодаш, — честных, старательных, в то же время часто попадающих в тупик. Такие работники, Холодилин знал это, отнюдь не были бесполезны: когда версия бывала определена, никто скрупулезнее и тщательнее, чем они, не проходил столбовой дорогой поиска. Безусловно, главную силу уголовного розыска составляли другие — их было абсолютное большинство, те, кто умел извлечь из доказательств максимум того, что из них можно извлечь. И были единицы. Они смотрели на улики под каким-то совершенно неожиданным углом зрения и поэтому замечали то, что упускали другие. «Нет, — подумал Холодилин, вышагивая рядом с Сабодашем, то и дело останавливаясь, чтобы пропустить людей, устремившихся в метро, — начальник штаба подыщет себе другого работника. Место Денисова в уголовном розыске, в самой гуще событий, на вокзале». Поняв, что полковник не намерен говорить на эту тему, Сабодаш перевел разговор: — Это верно? Говорят, «Голубой огонек» будет к юбилею детективов… О нас!3 января, 6 часов 40 минут
Все эти дни Денисов ни разу не вспомнил о доме. И вот он возвращается с дежурства. На станции Булатниково он оставляет полупустой вагон электрички, здоровается со знакомым милиционером на платформе и длинной улицей идет к дому. Дом появляется издалека, и, если смотреть только на окна верхнего этажа, кажется, что он не приближается, а тянется вверх на твоих глазах. В кармане Денисова шуршит конверт, который вручила ему ККК, — Денисов распечатает его только завтра. Денисов идет с дежурства. На улице много людей, хотя еще темно. Прохожие спешат навстречу, к станции, и только он один возвращается с работы домой. Он идет небыстро. Все пережитое живо в нем. Протокол допроса Маевского подошьют в дело вместе с другими документами. Лист к листу, в хронологическом порядке. По материалам уголовного дела всегда трудно представить, как раскрыто преступление, кем. За протоколами допросов Бориса Порываева и сестер Малаховых неожиданно мелькнет постановление о задержании Маевского. Имя Денисова нигде не будет упомянуто. Не останется ни строчки о том, как разгадана тайна шифра. И Денисов сам забудет об этом. Останется главное: работа. Преступления на вокзалах раскрыты. Зло обнаружено, справедливости не нанесен ущерб. С этим все. Денисов опять нащупал конверт. Пора было возвращаться к обычной жизни. В конверте лежал листок плотной тисненой бумаги.ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ (на два лица) Тов. Денисов! Дирекция Главной редакции музыкальных передач Центрального телевидения приглашает вас в качестве гостя на «Голубой огонек», посвященный юбилею уголовного розыска.
Всем. Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ».
При попытке вскрыть ячейку-ловушку автоматической камеры хранения на станции Киев-Пассажирский-Главный был взят под наблюдение объявленный в розыск Филин, уголовная кличка Камбала. Последний пытался скрыться, бросившись бежать через пути впереди маневренного тепловоза, однако был смертельно травмирован передними колесами. Проводится расследование.
Начальнику управления транспортной милиции МВД СССР.
Представление, направленное в порядке статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР об устранении условий, способствовавших совершению краж из автоматических камер хранения, обсуждено на техническом совещании с широким привлечением заводской общественности и представителей транспортной милиции. В настоящее время внедрены в производство разработанные ранее конструктивные усовершенствования, полностью исключающие возможность подбора шифра. Заканчиваются работы по переводу оставшихся секций первого выпуска на новый вид шифраторов. Директор электротехнического завода.
Всем. Срочная. ОПЕРАЦИЯ «МАГИСТРАЛЬ»
В связи с выполнением комплекса задач, связанных с раскрытием и предотвращением краж из автоматических камер хранения, операцию «Магистраль» считать завершенной. Управление транспортной милиции МВД СССР объявляет благодарность сотрудникам, активно участвовавшим в ее проведении. Управление транспортной милиции МВД СССР.
1973
Тамаев Л. Запасной вариант
ГЛАВА I Кленовый яр
1
Маясов не узнавал Ченска. Чем больше он ездил и ходил по его улицам, тем больше нравился ему город. Собственно, стало два Ченска. Новый, выросший за послевоенные годы, прижал старый город к реке, и тот выглядел теперь как-то по-деревенски. Когда Маясов высказал удивление этой переменой, шофер Тюменцев обернулся к нему, сдвинул на висок кубанку: — Ченск сейчас самый отменный город в области! Маясов и лейтенант Зубков, сидевшие в автомашине рядом, весело переглянулись: словечко «отменный» было у Тюменцева любимым. Маясов позволил себе усомниться: — Так уж и самый? Тюменцев нимало не смутился: — Конечно, Владимир Петрович, и на солнце есть пятна… Они ехали на завод, где Маясов должен был прочесть лекцию о подрывной работе иностранных разведок. Вид города и разговор с шофером на несколько минут отвлекли его. Но вот Ченск остался позади, и майором вновь овладели мысли, которые неотвязно преследовали его последнее время. Началось это почти два месяца назад. А если говорить точнее — двадцатого сентября. В тот день он явился к начальнику областного управления, который вызвал его телеграммой из Ялты, где Маясов отдыхал с женой. Генерал Винокуров предложил ему новое назначение: в Ченский отдел КГБ, начальником. Маясов был в недоумении: неужели нельзя было подождать, к чему такая спешка? Винокуров улыбнулся, молча достал из муаровой папки, лежавшей перед ним, несколько отпечатанных на машинке листов, протянул их Маясову, сидевшему за приставным полированным столиком. Это были присланные два дня назад из Москвы выписки из протокола допроса недавно арестованного на Урале агента американской разведки Лазаревича. Прежде чем прочитать выписки по порядку, Маясов невольно пробежал глазами строчки, кем-то жирно подчеркнутые синими чернилами. И ему сразу стало понятно главное: американцы забросили своего разведчика в Ченский район. Майор на мгновение поднял голову от бумаг. И тут же Винокуров сказал: — Вот так. Заброшен еще весной. К сожалению, Владимир Петрович, о нем вы больше ничего существенного в протоколах не найдете… Генерал взял со стола перочинный ножик, начал над пепельницей затачивать карандаш. Ждал, когда Маясов закончит чтение. — В Ченском районе, — сказал он потом, — есть несколько важных оборонных объектов. Особое значение представляет экспериментальный химический завод. К нему-то, видимо, и присматриваются американцы. Генерал поднялся из-за стола — плотный, широкоплечий, — подошел к висевшей на стене географической карте. — Завод в двадцати километрах от Ченска, вот здесь… В урочище Кленовый яр. — Кленовый яр? — удивленно переспросил Маясов и тоже подошел к карте. Карта была крупномасштабная, почти вся изумрудно-зеленая. Маясов присел у ее нижнего обреза, стал искать знакомые названия поселков и деревень… А вот и урочище Кленовый яр, на запад от которого болотистые Ченские леса тянулись за пределы области, до самой Белоруссии. — В этих местах я в войну партизанил, товарищ генерал… — Что ж, Владимир Петрович, знакомство с Ченским районом вам не помешает. — Заложив тяжелые руки за спину, Винокуров прошелся по кабинету. — Но мы учитывали не только это. Думаю, и ваш старый гражданский опыт инженера-химика тоже пригодится. — Что вы имеете в виду? — Уязвимость экспериментального завода в диверсионном отношении, — сказал Винокуров. И, помолчав, пояснил: — Арестованный Лазаревич, как вы могли заметить из протокольных выписок, готовился не только в качестве разведчика, но и как диверсант. В каком амплуа заслан американский агент вместо него, пока неизвестно. Поэтому вы должны быть готовы ко всяким сюрпризам… Вспомнив эти слова теперь, в несущейся по шоссе машине, Маясов подумал, что они во многом, пожалуй, и определили контрразведывательную тактику Ченского отдела: всеми мерами обезопасить химзавод в Кленовом яру от вражеских диверсий. «Но правильно ли это — преднамеренно ограничивать возможную сферу действий американского разведчика в столь обширном районе рамками одного завода? — спросил себя Маясов. — Ведь это же серьезный риск». И тут же мысленно ответил на свой вопрос: да, безусловно, риск есть, но он неизбежен, потому что бить надо кулаком, а не растопыренными пальцами… Подняв воротник пальто, майор закрыл глаза. «Риск риском, однако перегибать палку тоже нельзя: в создавшихся условиях предупредительную, профилактическую работу в районе надо продолжать на всех оборонных предприятиях…»2
С вечера над Ченском разгулялась вьюга. Ветер трепал голые ветки старых лип, завывал в проводах. По тротуарам, в колеблющемся свете фонарей, мела поземка. С темного неба сыпал и сыпал снег… Алексей долго стоял у окна, взгляд его был угрюм. Потом он задернул ситцевую занавеску, включил свет, посмотрел на часы. Докуривая сигарету, вышел в полутемный длинный коридор. Немного постоял там, прислушиваясь. В соседних квартирах было тихо — все уже легли спать. Алексей вернулся к себе. Часы показывали ровно двенадцать. Он подошел к этажерке, на которой стоял небольшой радиоприемник, толстыми короткими пальцами покрутил ручку настройки. Голос диктора, говорившего по-английски, был слышен негромко, но четко. Алексей запер на ключ дверь и, как только чеканный дикторский баритон сменился вальсом «Амурские волны», поспешно сел за стол, положил перед собой карандаш и бумагу. Тихо играла музыка. Но вот вместе с ней, как это бывает, когда перехлестываются радиоволны, в эфире появились другие звуки — приглушенный женский голос, называвший пятизначные числа: 63431, 42708, 92543, 43309, 27865, 73917… Алексей стал быстро записывать. Твердый графит рвал бумагу. Перемежаемые короткими паузами шифрогруппы следовали одна за другой. Минуты через три женский голос умолк. Алексей перевел дыхание, бросил карандаш на стол. Достав с этажерки толстый том «Политического словаря», иглой извлек из корешка шелковую ленту с нанесенными на ней мелкими знаками. Низко склонившись над столом, начал расшифровывать полученную радиограмму. Шифр был сложный. Абсолютной надежности. Для особых сообщений. Об этом предупреждала счетверенная пятерка индекса, принятая в заключение. Когда дешифровка была закончена, Алексей прочитал радиограмму, машинально подчеркивая каждое слово. Всего их оказалось сорок семь. Не так уж много… Однако вполне достаточно, чтобы заставить человека помрачнеть… У него вдруг заныли пальцы. Они всегда начинают ныть, как только занервничаешь. Алексей с ненавистью поглядел на лежавший перед ним текст шифровки и стал поглаживать, растирать пальцы на левой руке. Из пяти пальцев болели четыре — те, что побывали тогда под прессом… С этого все и началось. Его уволили с завода. На другую работу устроиться не мог: в Мюнхене, как и везде в Западной Германии, с избытком хватало парней со здоровыми руками. Он прожился до последней рубашки. Однажды осенью, под вечер, Алексей зашел в магазин погреться. Его мутило от голода. За стеклом витрины аппетитно лоснились колбасы. Он решил: чего бы это ни стоило, украсть круг «гамбургской» — наесться досыта. И он украл его… С того дня воровство стало его профессией. После одной из краж Алексея поймали. Глядя на светлое небо за окном, перехваченным тюремной решеткой, он подолгу думал о возвращении домой, в Союз. Эта мысль являлась ему и прежде. Но он все отгонял ее: западные газеты и радио утверждали, что возвращающихся ссылают в Сибирь или расстреливают… Потом снова скитальческая жизнь. В поисках работы он исколесил половину Германии, побывал в Италии, приехал во Францию. В Париже, наконец, ему удалось устроиться чернорабочим в гараж, к белоэмигранту Рогожину. Но зарабатывал мало, жизнь была полунищая, бесперспективная. Однажды в гараже появился некто в сером костюме. Когда подошло обеденное время, он пригласил Алексея в соседнее бистро. Угощение было подходящим, спиртного вволю. Они сидели за столиком в углу, разговор велся вполголоса. — Я не обманываю, Михайленко: если решитесь, вас ожидает интересная жизнь. Можете стать богатым человеком. Алексей думал, положив на кулаки отяжелевшую от вина голову. И наконец, сказал: — Один черт! Терять мне нечего… Ударили по рукам. Выпили еще. Через неделю этот вербовщик привез Алексея в Западный Берлин, где в небогатом полупустом отеле с рук на руки сдал долговязому молчаливому Хьюзу. Прошла еще неделя. В понедельник вечером Хьюз посадил Алексея в порядком потрепанный «шевроле» и примчал к какому-то большому серому дому, В просторной, неуютной квартире на втором этаже их уже ждали. Хьюз познакомил Алексея с маленьким, быстрым человеком, который отрекомендовался Лаутом. Налив в рюмки коньяку, Лаут угостил Алексея дорогой сигарой (сам он не курил), стал дотошно расспрашивать о его прошлой жизни. На прощание сказал: — Мы с вами еще встретимся… Вторая встреча состоялась на той же квартире примерно через месяц. Вместе с Лаутом была молодая желтоволосая женщина с ярким красивым ртом. И на этот раз Лаут расспрашивал Алексея о его биографии, потом заключил: — Вы нам подходите! — И протянул лист бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Это была подписка о сотрудничестве с американской разведкой, которую представлял в Западном Берлине Лаут.«…Обязуюсь свою работу выполнять добросовестно и честно, никому, даже своим близким, не разглашать того, что я делаю. Я предупрежден, что за невыполнение настоящего обязательства я предстану перед неофициальным судом по закону американского конгресса…»Когда Алексей расписался под этим текстом, Лаут сложил бумагу, убрал в боковой карман. — А теперь Хьюз отвезет вас на медицинский осмотр. — Но меня уже осматривали… — сказал Алексей. — Это вторичный осмотр. — Лаут строго посмотрел на него. — Так у нас принято. «Медицинский осмотр» оказался обыкновенной проверкой на полиграфе, который в обиходе принято называть детектором лжи. Хозяева хотели установить, не является ли Алексей советским разведчиком. А потом его отправили в разведшколу. Она находилась в пригороде западногерманского города Фюссена, неподалеку от озера Алатзее. В большом двухэтажном доме, стоявшем в лесистых горах, Алексею, который теперь значился под фамилией Романов, отвели отдельную комнату. Программа обучения была обширная: радиодело, тайнопись, шифрование, секретное фотографирование, прыжки с парашютом. Много практиковались в рекогносцировке «важных объектов». Слушателей вывозили к аэродромам, в районы расквартирования воинских частей, к военным заводам. После каждого такого урока Алексей подробно, в мельчайших деталях, докладывал старшему инструктору Карнеру о том, что видел, — так шлифовались наблюдательность и зрительная память. — Запомните, Романов: разведчик проваливается только раз! — поучал Карнер. — Вся его работа — это напряженная и опасная игра. Но если артист перевоплощается на короткий срок, то разведчик играет свою роль в течение длительного времени, иногда несколько лет. Поэтому, перевоплощаясь, не забывайте, какую вы носите маску на своем лице! Этот Карнер был тертый калач, прошел огонь и воду. Недаром он свысока относился ко всем другим инструкторам и был запанибрата с самим начальником школы — хмурым и нелюдимым человеком, которого все боялись. Зато инструктор по стрельбе — лысый толстоватый Ульм был всем доступен и прост. — Стрелять надо только в коробочку, — весело наставлял он своих питомцев, постукивая себя по лбу. — Если ты не научился попадать из любого положения в коробочку — ты еще не стрелок, а дерьмо… Ровно через девять месяцев в школе появился старый знакомый Алексея — молчаливый Хьюз. С ним вместе приехал пухлощекий верзила Ванджей, развязный и шумный. Он хлопнул Алексея по плечу: — Старина Лаут шлет тебе привет! На другое утро начальник школы пригласил Алексея к себе. Хмуро, будто на панихиде, поздравил с успешным окончанием учебы. Здесь же сидел Ванджей, ободряюще подмигивал. Весь этот день и потом еще два они сообща отрабатывали задание Алексея. Он получил теперь новую фамилию — Никольчук. Затем переэкипировка (заставили надеть все ношеное, советского производства, вплоть до носков), получение документов, оружия и денег. Провожая Алексея к машине, Ванджей сказал ему: — Лаут просил передать: будете хорошо работать — сколотите солидный капитал. А если забалуете — пеняйте на себя. С этим напутствием, которое звучало в его ушах по сей день, Никольчук, он же Михайленко, он же Романов, покинул Фюссен. Все тот же Хьюз доставил его на аэродром. Прямо из автомобиля они пересели в самолет. Через несколько минут самолет поднялся в воздух и взял курс на восток. Чтобы не так волноваться, Алексей беспрестанно курил, то и дело глядел на часы. Когда на светящемся циферблате обе стрелки сошлись на двенадцати, к нему подошел Хьюз: — Пора!.. Алексей, поправив лямки парашюта, шагнул к раскрытой дверце, в которую со свистом врывался ветер. Хьюз положил ему руку на плечо. — Счастливо! Не робей. Вздохнув полной грудью, Алексей нырнул вниз головой в черную пустоту… …Со стола, задетый локтем, вдруг упал карандаш. Никольчук вздрогнул, вскочил на ноги. Ударом башмака отбросил карандаш к плинтусу, зашагал по комнате. Когда надоело ходить, опять опустился на табурет у стола. Еще раз перечитал подписанную Лаутом радиограмму:
«Двадцать седьмого ноября быть в Москве».Не дочитав до конца, скомкал бумагу в кулаке. «Чрезвычайная явка — только этого не хватало!» Он выругался. Над чайным блюдцем, заменявшим пепельницу, сжег листки с расшифровкой, пепел растер пальцем. Потом, в ботинках и пиджаке, он долго лежал на кровати, глядел в опостылевший потолок. В голове было тяжело. Он хотел заснуть и не мог. Разбитый и злой поднялся с кровати, достал из стенного шкафчика начатую бутылку водки, налил полный стакан — залпом выпил. И снова зашагал по комнате — тягостной дорогой без конца.
3
Элен Файн остановилась в гостинице «Националь». Приехав с аэродрома, она приняла ванну, потом спустилась в ресторан, пообедала и теперь отдыхала у себя в номере, перелистывая свежие московские журналы. Ее чтение прервал деликатный стук в дверь. — Войдите, — сказала она по-немецки. На пороге появилась девушка в темном строгом костюме. — Госпожа Барбара Хольме? — Да, слушаю вас. — Элен поправила прическу, свои золотистые локоны. — Я из «Интуриста»… Извините за беспокойство. Вам нужен переводчик? — Спасибо. Я достаточно понимаю и говорю по-русски. — А какой вы предпочитаете транспорт? — О, мне, пожалуй, придется больше ходить, чем ездить, — сказала Файн. — Я работаю под руководством профессора Шермана, это известный немецкий искусствовед. Помогаю ему иллюстрировать книгу о церковном зодчестве… В вашей стране меня будут интересовать храмы и соборы Москвы и Загорска. И еще хотелось бы увидеть и заснять знаменитые деревянные церкви в Коломенском и Ченске — уникальные памятники старинной архитектуры. Девушка из «Интуриста», простившись, ушла. А Файн тут же оделась и отправилась в Кремль. Она была здесь не впервые, и ее не очень занимали прекрасные белые храмы с их горящими в красных лучах вечернего солнца золотыми куполами. Но Файн делала вид, что эта старина ее по-настоящему захватила: останавливалась подле каждого собора и добросовестно щелкала затвором фотоаппарата, висевшего у нее на груди. И все время, пока ходила по аккуратно расчищенным от снега кремлевским дорожкам, она настороженно всматривалась в окружающих, выискивая тех, кто, по ее мнению, мог вести за ней наблюдение и кого она должна была с первого же дня пребывания в Москве сбить с толку, дезориентировать и вообще всем своим поведением показать, что в Советском Союзе ее интересует лишь то, о чем она официально заявила по приезде, то есть памятники церковного зодчества. Но как ни изощрялась помощница полковника Лаута, никакого наблюдения за собой не обнаружила. Это ее успокоило и воодушевило: значит, свое настоящее дело она сможет делать без помех… Это «настоящее дело», ради которого Файн прилетела из Берлина в Москву, началось для нее в воскресенье утром. Гостиницу она покинула в одиннадцать часов. День был солнечный. Деревья вдоль кремлевской стены искрились инеем. Накануне вечером Файн наведалась в ГУМ, чтобы провести рекогносцировку. Там она обстоятельно ознакомилась с местом у фонтана, куда должен был сегодня, ровно в двенадцать, явиться вызванный из Ченска Алексей Никольчук. Она облюбовала уголок, где ей удобно будет стоять и где Никольчук сможет сразу заметить ее по обусловленной в радиограмме примете: белый пуховый платок, в кармане коричневого пальто сложенная прямоугольником газета. Никольчук должен пройти рядом, и она незаметно передаст ему билет в театр. Только и всего. Деловой разговор с агентом состоится вечером, в театральной ложе. Ложа на четыре места. Все четыре билета Файн купила еще вчера, и теперь они лежали у нее в сумочке… Время в магазине тянулось нестерпимо медленно. Было душно, шумно. Файн посмотрела на свои часики: без десяти двенадцать. И ей вдруг почему-то подумалось, что Никольчук не придет. Файн пыталась отогнать эту мысль, как вздорную, ничем не обоснованную, но ничего не могла поделать. Она почти физически ощущала как бы заторможенное движение времени. От духоты и долгого нервного напряжения закружилась голова. Часы показывали уже двадцать пять минут первого. Файн еще и еще раз обвела взглядом площадку у фонтана. Значит, дурное предчувствие сбылось, к сожалению. Достав из кармана пальто сигареты, она пошла к выходу, медленно ступая по желтоватым каменным плитам, отшлифованным до сухого блеска башмаками покупателей. Ее настроение, такое прекрасное с утра, было испорчено. И все-таки отчаиваться пока не стоило. Ведь на завтра предусмотрена вторая, запасная явка… Эта мысль несколько приободрила Файн. Перед тем как покинуть ГУМ, она наскоро перекусила в кафетерии. Остаток дня провела в московских меховых магазинах — ей хотелось приобрести хорошую шубу или палантин из черно-бурых лисиц. На такие вещи в Западном Берлине всегда спрос… Спать в эту ночь она легла с легким сердцем и упрочившейся надеждой, что завтрашний день принесет ей удачу. Но прогнозы ее не оправдались: Никольчук не вышел и на запасную явку. Файн напрасно бродила по кассовому залу Ярославского вокзала, где была намечена встреча с агентом. Устав от бесплодного ожидания и сутолоки, она прислонилась плечом к массивной колонне. Что же теперь? Ехать к Загорск, как было задумано, или спуститься в метро и вернуться в гостиницу?.. Нет, в Загорский монастырь она не поедет. С таким настроением у нее нет охоты играть интеллигентную дуру, влюбленную в отретушированные голубями церковные камни… Весь остаток этого дня и вечер Файн просидела у себя в номере. Курила сигарету за сигаретой, перебирала в памяти события последнего времени, готовясь к завершающему, самому трудному этапу своей московской миссии. Как никогда прежде, она боялась оступиться, сделать непоправимый шаг. И это не было только привычной профессиональной осторожностью. Кодовое дело «444», по которому использовался Никольчук, в западноберлинском филиале считалось очень важным. Оно было связано с «проблемой номер один», стоявшей перед всеми подразделениями американской разведки: охотой за секретной информацией о новом ракетном топливе русских. Это дело находилось на особом контроле самого директора ЦРУ, о чем неоднократно напоминал своим сотрудникам полковник Лаут. При всем этом практическое развитие дела «444» оставляло желать лучшего: ченский агент не проявлял пока ожидаемой от него активности. Причины некоторое время оставались неясными. Понять их в какой-то степени помог лишь недавний случай. Девятого сентября 1960 года потерпел провал заброшенный полтора месяца назад в Приуралье разведчик западноберлинского филиала Лазаревич. Судя по условному сигналу, который он успел передать, чекисты взяли его в момент очередного сеанса радиосвязи с центром. В тот же день, раздраженный случившимся, полковник Лаут вызвал Элен к себе. — Надо, пока не поздно, спасать Ченское дело! Она непонимающе посмотрела на шефа. Маленький, сухонький Лаут возбужденно ходил по кабинету из угла в угол. Перехватив взгляд Файн, он желчно заметил: — Что вы смотрите, будто с луны свалились? И она сразу вспомнила: вначале по делу «444» готовился Лазаревич, но потом он внезапно и надолго заболел. — Мог ли Лазаревич знать, кто был заброшен в Ченск вместо него? — спросил полковник. — Это исключено. — Все равно надо что-то срочно предпринимать, потому что о нашей заинтересованности Ченским районом Лазаревич выболтает русским на первом же допросе… В тот день разговор на этом и кончился: у Лаута еще не было готовой идеи, как поправить неожиданно осложнившееся дело. Решили на первых порах ограничиться дополнительной проверкой агента «444» — Никольчука. И тут вдруг вскрылся один неприятный факт. Оказывается, незадолго до отъезда на задание Никольчук был в баре в Фюссене. И там, подвыпив, настойчиво расспрашивал приятеля по разведшколе: правда ли, что в СССР введен новый закон о неподсудности тех, кто добровольно заявляет властям о своей связи с иностранной разведкой? — Над этим стоит задуматься, — сказал Лаут своей помощнице, когда она доложила ему о результатах проверки. — Что это было: пустая болтовня спьяну или зондирование с мыслью о предательстве? Прошло несколько дней, и полковник сообщил Файн свое окончательное решение: — Будем вводить в Ченское дело нового человека! — Он пристукнул костяшками согнутых пальцев по краю стола. — И учтите: нам нужен не агент-дилетант, а опытный, надежный разведчик… Задача, поставленная перед Файн, была не из легких. К ее решению, с благословения шефа, она подключила добрую треть сотрудников филиала. Работали, что называется, не покладая рук, не считаясь со временем. Но все пока было впустую. На еженедельные доклады к полковнику Файн являлась мрачная, злая, молча клала на стол справки из оперативных архивов. — Все это мусор! — недовольно кривил губы Лаут, пробегая глазами листок за листком. — Мне начинает надоедать ваша медлительность. Так в безрезультатных поисках шла неделя за неделей. Но всему, как известно, приходит конец. И вот однажды обрадованная Файн сама позвонила шефу: — Я, кажется, зацепила то, что нужно! Лаут тотчас потребовал ее к себе. — Кто же он? — спросил нетерпеливо, как только помощница появилась на пороге кабинета. — Фамилия — Букреев. Кличка — Барсук. Бывший агент абвера. — Подробнее… — Имеет немало грехов перед Советами. В минувшую войну активно использовался немцами в карательных операциях против русских партизан. За участие в одной из них, близ Ченска, был награжден железным крестом второго класса. — Вот как! — Лаут сразу оживился, протянул руку через стол: — Дайте досье. Открыв картонную крышку, он стал внимательно читать пожелтевшие от давности бумаги. Когда перевернул последний лист, надолго задумался. Потом поднял свою седую, гладко причесанную голову. — Что ж, с помощью этого Букреева, пожалуй, можно спутать карты чекистам… — Немного помолчав, добавил: — Будем пока считать этот вариант запасным. Над ним стоит серьезно подумать. — Простите, шеф, — сказала Файн. — А вы не смогли бы сразу определить в вашем новом плане место и роль Никольчука? — Никольчук нам пригодится при любом из вариантов. Но сначала нужно проверить, собирается ли он работать, как надо. Для этого, мне кажется, будет полезно выехать на место и окончательно во всем разобраться.4
Широко расставив локти, Алексей Никольчук сидел за столом, застланным тусклой клеенкой; макая в горчицу колбасу, прикидывал, что купить на завтрак. В столовой он только обедал. Так делали все одиноко живущие, подобно ему, сослуживцы. Он ничем не хотел выделяться, не нарушал первую заповедь нелегала, которую вдолбил ему инструктор Карнер: «Маскировка разведчика чем проще, тем надежнее. Не давай окружающим повода обращать на тебя внимание…» В коридоре вдруг послышались шаги, в дверь постучали. — Да, — сказал Алексей. В комнату вошла и нерешительно остановилась у порога женщина в коричневом пальто и белом пуховом платке, низко надвинутом на лоб. — Мне нужно товарища Никольчука, — проговорила она, пристально всматриваясь в Алексея: в комнате было по-вечернему сумрачно. — Я Никольчук… — Он встал, включил свет. Женщина прошла к столу, села на подвинутую ей табуретку. — Я к вам от брата, — вдруг сказала она совсем другим тоном, сухо. Голос показался Никольчуку знакомым. Смысл ее слов дошел до него не сразу. А между тем они составляли первую фразу пароля. — От какого брата? У меня их много… — с трудом, будто нехотя произнес он ответную фразу. — От Серафима. — А чем вы подтвердите? Никольчук, в упор смотревший на женщину в платке, наконец, узнал ее. Это она на берлинской квартире, где с ним разговаривал Лаут, сидела у окна. Узнал, и, несмотря на это, в его душе еще теплилась какая-то глупая надежда, что завязавшийся обусловленный разговор окажется случайным совпадением, а сама женщина — не имеющей никакого отношения к американской разведке. Но незваная гостья вынула из кармана пальто половинку деревянного мундштука и, пристукнув ею, как фишкой домино, положила на стол. Очередь была за Алексеем: вторая половинка перепиленного мундштука лежала у него где-то в чемодане. Но он не стал доставать эту другую частицу вещественного пароля: и так было ясно, что длинные руки Лаута все-таки дотянулись до него. — Я вас слушаю… — Это я вас буду слушать! — строго сказала Элен Файн, сбрасывая с головы пуховый платок, поправляя прическу. — Заприте дверь, занавесьте окно! Никольчук торопливо исполнил ее приказание. Она кивнула на тарелку с остатками еды: — Я вам помешала? — Ужинать? Нет… — Ну, а вообще? — Файн в упор посмотрела на него, нехорошо усмехнулась. Этот ее дерзкий, вызывающий вопрос, в главное — нахальный взгляд вернули Алексею самообладание. — А вообще да! — твердо сказал он и впервые смело глянул ей в лицо. — Значит, помешала? — Значит, помешали… — в тон ей ответил Никольчук и улыбнулся от пришедшей вдруг на ум дикой мысли: взять вот сейчас эту рыжеволосую красотку под локоток, да и доставить прямехонько в КГБ — займитесь, мол, заграничной путешественницей… — Чему вы улыбаетесь? — А что мне не улыбаться? — с вызовом сказалАлексей. — Я у себя дома. — Дома ли?! — Она усмехнулась и опять пристально посмотрела в его глубоко посаженные глаза, словно желая понять, совершил ли он уже то, что задумал, или нет. Если совершил — значит будет вести себя смело, не робея. Никольчук не выдержал ее взгляда, что-то дрогнуло у него в лице. Он поспешно протянул руку за сигаретами, лежавшими на другом конце стола. Файн облегченно вздохнула («Уверенности в нем не заметно — это хорошо».) и тоже закурила из его пачки. Несколько минут они говорили о разных пустяках, о погоде. Файн хотела заставить Никольчука расслабиться, избавиться от настороженности. Внимательно наблюдая за ним, она постепенно пришла к убеждению, что Никольчук еще не успел переметнуться, но как, видимо, задумал, живет под страхом возмездия. И как только она уверовала в это, сразу же, не давая ему опомниться, перешла в наступление: — Шеф считает, что период вашей акклиматизации в Ченском районе слишком затянулся. — Шеф и все вы там плохо представляете здешнюю обстановку, — сказал Алексей. — Очень трудно работать… — А я считаю, вы просто струсили, товарищ Никольчук, — оборвала его Файн, делая ироническое ударение на слове «товарищ».5
— Я смекаю так, — неторопливо говорил старик Смолин, шагая рядом с Маясовым. — Уж больно не подходяще выбрано место для перевалочной базы. Какая-то несуразность получается: мы привозим с завода на автомашинах спецгруз, складываем его на этой Шепелевской базе, и он лежит там, можно указать, на виду, пока по железной дороге не пригонят порожняк. А груз этот, кроме всего прочего, огнеопасный. — Но разве нельзя сделать, чтобы порожняк подавали точно к прибытию автомашин? — спросил Маясов. — Пытались, Владимир Петрович, да не получается. Ведь тут как две державы: мы по себе, а железнодорожники — по себе… Не впервые идет по огромному двору экспериментального химзавода майор Маясов. Его высокую фигуру в черном осеннем пальто, тонкое, строгое лицо узнают многие рабочие. Здороваются. А со Смолиным Маясов встретился еще тогда, когда приезжал сюда читать лекцию. Встретился и долго тряс его руку, обрадованно глядя в знакомые, теперь уже стариковские, глаза. — Партизанили вместе, — сказал Маясов в ответ на удивленный взгляд стоявшего рядом лейтенанта Зубкова. Смолин, по-волжски окая, уточнил: — В Ченских лесах в одном отряде горе мыкали… Они помолчали немного, справляясь с волнением. — Из своих партизан кого-нибудь встречали после войны? — спросил Маясов. — Почти никого… Да и где встретишь, если большинство ребят было из Смоленской области: отряд-то зародился там. Ведь в здешние леса его каратели потеснили. — А сами вы, Федор Гаврилович, давно здесь?.. Помню, вы говорили, что до войны жили в нашем областном центре. — Я и после войны там жил. Да и теперь туда к родне нередко наведываюсь… А в Кленовый яр приехал два года назад, после смерти своей старухи. Тут, на заводе, у меня дочка в инженерах. Потом они стали вспоминать свое партизанское житье-бытье. — Где я ни воевал, до самого Берлина дошел, — взволнованно сказал Смолин, — а такого, что пришлось нам, Владимир. Петрович, хлебнуть тогда здесь, в этом самом урочище Кленовый яр, не доводилось переживать. — Да-а, — тяжело вздохнул Маясов. — Предательство Букреева дорого обошлось отряду. — Ох как дорого! Расставаясь сегодня со Смолиным в заводском поселке, майор сказал старику: — Насчет перевалочной базы вы, пожалуй, правы. Что-то надо придумать. Когда Смолин скрылся в подъезде своего дома, Маясов, захлопнув дверцу автомашины, предложил Зубкову: — Давайте-ка сейчас, не откладывая, проедем в это самое Шепелево.На Шепелевской перевалочной базе они пробыли около часа. Излазили ее и вдоль и поперек. Потом вместе с охранником забрались на обледеневшую по краям деревянную платформу. Сквозняк там гулял вовсю, со свистом обвевая столбы, подпиравшие крышу. Неподалеку от платформы тянулось расчищенное от снега шоссе с его бесконечным потоком автомашин: дорога начиналась на границе страны и, пересекая область с запада на восток, вела к Москве. По тропе, проложенной между сугробов, поблизости от торцевой стороны платформы, не переставая, сновали пешеходы — и местные жители и приезжие, из тех, кому требовалось забежать в стоявшую на краю поселка закусочную. — Ну как? — спросил Маясов Зубкова. — По-моему, товарищ майор, слесарь Смолин прав: место для перевалочной базы надо искать другое. — А мне кажется, никакой базы вовсе не нужно, — сказал Маясов. — Почему? — не понял лейтенант. — Очень просто… От Кленового яра до Шепелева всего пять километров? — Пять. — Так вот, если проложить здесь железнодорожную ветку, то спецгрузы с завода будут следовать без перевала до места назначения. — Немного помолчав, Маясов решительно заключил: — Завтра же поеду к Андронову. Думаю, он нас поддержит.
6
В тот день, с утра, директор завода делал обход подсобных объектов. В пыжиковой шапке и добротном пальто, крупный, ладный, румяный от мороза, он по-хозяйски шагал между смолистыми, наполовину обтесанными бревнами, внимательно оглядывал заиндевевшую кирпичную кладку строящейся водокачки. Андронов был в прекрасном настроении — много шутил и почти не ругал сопровождавших его инженеров и снабженцев. Указания он давал на ходу, и те, кому они адресовались, быстро делали пометки себе в блокноты, зная, что Сергей Иванович не забывчив. От водокачки директор и его свита направились к электростанции. Припорошенная свежим снежком асфальтовая дорога вела через заводской поселок. На сей раз ему было суждено стать местом, испортившим сразу и до конца дня хорошее настроение Андронова. На площади в центре поселка, между магазином и клубом, в это время по обыкновению собирались в ожидании автобуса рабочие экспериментального завода, жившие в Ченске. Человек двенадцать, в большинстве молодежь, сгрудились у подъезда клуба. На его широких дверях, обляпанных известью, висел потемневший от давности фанерный лист с корявыми буквами: «Клуб закрыт на ремонт». А поверх этой надписи ярко белела прихваченная кнопками бумага. Она-то и притянула сюда рабочих. Посмеиваясь, они слушали, как белобровый паренек громко и нараспев читал стихи, написанные от руки под рисунком, сделанным тушью. Стихи были злые, высмеивающие директора завода за то, что он снял бригаду плотников с ремонта клуба и перебросил ее на ремонт домов ИТР, в том числе и своего коттеджа. Стоявшие позади паренька, покуривая, комментировали: — Андронов теперь от злости лопнет… — Разделали по всем правилам… — А карикатурка сильна: не хуже Кукрыниксов! Кто это его так? — Наверно, Савелов постарался, — спокойно сказал Андронов. Он только что подошел со своими спутниками и прочитал стихи. Они задели его за живое. Но Сергей Иванович и виду не подал, как больно и неприятно ему — он умел держать себя на людях. Его взгляд выражал лишь добродушную снисходительность, когда он повернулся в сторону Игоря Савелова — смуглолицего парня с насмешливыми глазами, стоявшего неподалеку в группе заводских ребят. — Ты же завклубом, — говорил Савелов рыжему толстяку, — действовать надо, бороться! — А я что, не борюсь? — оправдывался тот. — «Борюсь»! — передразнил Игорь, нахлобучив рыжему на глаза клетчатую кепку. — Хотя ты действительно весь день на посту: до обеда борешься с голодом, а после обеда со сном. Парни захохотали. — Не рано ли смеешься, Кукрыникса! — обиженно сказал завклубом Савелову. — Смотри, быть тебе с клизмой. — А что, не правда, что ли? — кивнул Савелов на карикатуру. — Правда-то правда. Только ведь она иной раз боком выходит… — Ладно, ладно, пророк! — вступился рослый парень в полушубке. — Ты вот небось супротив директора и сморкнуться не посмеешь. — Ага, — улыбнулся тот. — Я ж, Митя, рожденный ползать. Только если говорить серьезно, зря Савелов краски расходовал. Ему бы одним дегтем мазать. — Это почему же? — спросил Савелов. — Яду в тебе много. Вот и норовишь все, что ни видишь, выпачкать. Я тебе, Игорь, так скажу: за таких, как Андронов, держаться надо. Он потому из монтеров в директора выбился, что мозги у него не чета нашим… Кончив рассматривать карикатуру, Андронов снял кожаную перчатку, подчеркнуто не спеша закурил и своим степенным шагом двинулся в сторону электростанции. Свита молча потянулась за ним. Начавшийся утром обход продолжался своим чередом. Как и до этого, директор везде вникал в каждую мелочь, давал короткие, быстрые указания. Не было только шуток и прежней игривости в поведении Сергея Ивановича. Закончив обход, Андронов у крыльца конторы отпустил сопровождавших его людей. Прошел к себе в кабинет и, не раздеваясь, сел за стол. Вид у него был хмурый. В эту минуту, явно некстати, и явился к Сергею Ивановичу майор Маясов со своей идеей о прокладке железнодорожной ветки до Шепелева и ликвидации там перевалочной базы. В директорском кабинете Маясов пробыл около часа и вышел расстроенный, будто перенял от Андронова плохое расположение духа. Нужного разговора у них не получилось. И хотя внешне все обстояло вполне корректно, даже деликатно, майор в течение всей беседы чувствовал какое-то внутреннее упорство Андронова. Создавалось впечатление, будто он не понимает (или делает вид, что не понимает), что пора ставить этот вопрос перед министерством, старается уйти от неприятного разговора. Всю дорогу до Ченска Маясов досадовал на себя за то, что не сумел убедить директора. И постепенно пришел к такому выводу: «Что ж, на Андронове свет клином не сошелся. Будем продвигать это дело по другой линии, поскольку решать его все-таки надо, и решать радикально».ГЛАВА II Случайная встреча
1
В слякотный мартовский день, под вечер, Тюменцев и его приятель Арсений Павлович Рубцов шли к автобусной остановке: им надо было доехать до Дворца спорта. Почти не обходя луж, размахивая чемоданчиком, Тюменцев на ходу оживленно рассказывал: — …Он меня раза три на канаты бросал. И все-таки на мой крюк справа нарвался. И тут уж, конечно, амба: отменный нокаут! Тюменцев от избытка чувств даже крякнул. — А после боя, когда я вышел из душа, — подкатывает ко мне его тренер: «Ты, — говорит, — победил чемпиона области, но, чтобы стать первой перчаткой в своем весе, надо еще много работать. Однако, — говорит, — игра стоит свеч». И тут же предлагает мне перейти к нему тренироваться. Ты чуешь, Арсений Павлович?! Замедлив шаг, Тюменцев посмотрел на своего рослого сухопарого приятеля. Он ждал совета, Рубцов был намного старше его и опытнее. Впрочем, разница в возрасте не мешала им дружить по-настоящему, на равных правах. Наверное, сказывалось совпадение увлечений: оба любили спорт, были заядлыми охотниками и рыбаками. А может, причина их прочной дружбы крылась в исключительности ее завязки: четыре года назад при переправе через бурную Чену Рубцов спас Тюменцева от верной гибели. Но, как бы там ни обстояло дело в прошлом, теперь это была пара, что называется, водой не разольешь. И поэтому Тюменцев по-братски надеялся на разумную подсказку Арсения Павловича в непредвиденно возникшей ситуации: заманчивая своими перспективами работа с новым тренером требовала переезда боксера в областной центр. Заморосил дождь. Подняв воротник пальто, Рубцов неторопливо заговорил: — «Первая перчатка»… Это, конечно, звучит. Только, Петь, тут надо все обмозговать, чтобы потом конфуза не было. — Он помедлил немного. — Первым делом тебе надо дыхание ставить. И потом: руки у тебя коротышки, а ты все в дальний бой норовишь. Соображать же надо! — А, Павлыч, — отмахнулся Тюменцев, не любивший, когда ему напоминали о его недостатках, и поспешил закончить разговор шуткой: — Где там соображать, когда тебя по морде бьют. Рубцов добродушно похлопал приятеля по спине и первым шагнул с тротуара, чтобы перейти улицу. И тут с подоконника углового дома им под ноги спрыгнул большой черный кот. — Тьфу, черт! — невольно выругался Арсений Павлович. — Давай-ка свернем… от греха. Тюменцев удивленно пожал плечами и свернул вслед за Рубцовым в обход. Минутой позже он, однако, не удержался и заметил с улыбкой: — Арсений Павлович, я однажды на рыбалке заметил: к твоему сачку кошка подкралась, принюхиваться стала, так ты потом всю рыбу в болотце вывалил. Примета у тебя, что ли? — Я, брат, эту примету с фронта принес, — серьезно сказал Рубцов, первым опускаясь на скамейку у автобусной остановки. Тюменцев сел рядом. — Прижился как-то у нас во взводе кот. Черный был, тощий и хромой. Геббельсом звали. И заметили мы: от кого этот Геббельс перед боем шарахается — тому амба. Точно, сукин сын, предсказывал… Рубцов замолк и, закуривая, чиркнул спичкой. Трепещущий огонек высветил его худощавое лицо, беспечное выражение которого вдруг сменилось удивлением. Словно увидел что-то неожиданное, необычное. Он даже привстал, подался вперед, напряженно всматриваясь в противоположную сторону улицы, ярко освещенную неоном витрин. Тюменцев проследил за его взглядом, не обнаружил ничего достойного внимания и с подковыркой спросил: — На кого это ты, Павлыч, стойку сделал? — Минуточку, Петя! — глаза у Рубцова сузились, стали строгими, он неотрывно смотрел на подъезд углового дома. Там, на мокрых ступенях, ведущих в парикмахерскую, у зеркальной витрины стоял приземистый плечистый человек в черном грубом плаще. Прикрыв ладонями пламя спички, он закуривал. Потом спустился с крылечка и, слегка переваливаясь, пошел наискосок через улицу. Рубцов резко шлепнул Тюменцева по плечу: — Подожди меня здесь! — И, обгоняя прохожих, ринулся за примеченным человеком. Заинтересованный странным поведением приятеля, Тюменцев не выдержал — подхватил чемодан и направился следом. Он нашел Арсения Павловича в «Гастрономе». Стоя в простенке, тот внимательно наблюдал за кем-то в очереди. Заметив Тюменцева, Рубцов поманил его к себе, кивнул на коренастого покупателя в черном плаще, взволнованно сказал: — Или мне мерещится, или… Постой здесь, я его поближе разгляжу. Рубцов смешался с толпой, но как только примеченный покупатель направился к выходу, тотчас вернулся за Тюменцевым и торопливо прошептал: — Быстро, не то потеряем! Все больше и больше недоумевая, Петр покорно двинулся за Рубцовым. На улице он было остановился, спросил: — Чего хоть случилось-то? — Потом! — оборвал его Арсений Павлович, увлекая в переулок, где, удаляясь, маячила широкая спина в черном плаще. Но вот Рубцов замедлил шаг, чтобы закурить. И тут Тюменцев опять спросил: — Да кто это? — Если не ошибаюсь, это Алексей Михайленко… — Что за человек? И на кой ляд он тебе сдался? — Я его еще по Полесью помню, — пояснил Рубцов. — Он у немцев в лагерной охране служил. — Да ну? — Точно… Потом от нас его в Жатковичи перевели, в криминальную полицию. А последний раз я его в сорок третьем в оцеплении видел. Нас тогда под Ровно этапом гнали… — Что же делать? — Тюменцев взглянул на часы. — Бросать этого мерзавца нельзя, — сказал Рубцов. — Ты один поезжай. — А может, наплевать на эти соревнования? — Нет, не годится. Ты не бойся, управлюсь… Тюменцеву было неловко оставлять приятеля одного, он еще несколько минут тащился за ним следом, пока не увидел свой автобус, который как раз подкатывал к остановке. Рубцов на прощанье помахал Петру рукой. Дождь все моросил. Опускались промозглые сумерки, быстро темнело. Михайленко зашел в булочную. Через несколько минут вышел. В руке — небольшой бумажный сверток. Постояв немного, он зашагал вниз по улице. Выждав, Рубцов двинулся следом. Не упуская своего подопечного из виду и стараясь не попадаться ему на глаза, когда тот время от времени оборачивался, Арсений Павлович неотступно сопровождал его квартала четыре — до Большой Болотной улицы. Возле трехэтажного кирпичного дома со светящимся номером «33» над зелеными воротами Михайленко остановился. Прежде чем открыть калитку, внимательно осмотрелся по сторонам и только после этого скрылся во дворе. Дождь пошел сильнее. Рубцову пришлось искать убежища в ближайшем подъезде. Однако он тут же изменил свое намерение, оставил подъезд и быстро зашагал под дождем, не разбирая дороги… Когда Арсений Павлович постучался в двери городского отдела госбезопасности, на нем не было сухой нитки. Светлые волосы прилипли ко лбу, лицо было мокрым, с пальто стекала вода, образуя на полу мутные лужицы. — Мне срочно нужен ваш начальник! — нетерпеливо сказал он лейтенанту Зубкову, дежурившему в тот вечер. — По какому вопросу? — Я хотел бы переговорить лично… Лейтенант молча подал взбудораженному посетителю стул, пошел доложить Маясову. Скоро вернулся.2
Проводив Рубцова до самого вестибюля, майор вернулся к себе, зашагал по комнате. Семь шагов от стола до стены, семь шагов обратно. Большая Болотная, тридцать три… Этот адрес был отделу знаком. Еще зимой, как-то в начале декабря, позвонил по «ВЧ» генерал Винокуров. Он сказал Маясову: — К вам в Ченск из Москвы прибывает самолетом группа немецких туристов. В их числе некая Барбара Хольме. По имеющимся данным, эта особа интересуется не только соборами и церквами, из-за которых она к нам официально пожаловала. Короче говоря, понаблюдайте за ней… К туристам в Ченске привыкли. Особенно много их бывает летом. Иностранцев манят соборы Староченского монастыря и уникальная деревянная церковь, сооруженная без единого гвоздя крепостными умельцами в XVII веке. Барбара Хольме, которая провела в Ченске три дня, на первый взгляд мало чем отличалась от других туристов. Разве только больше остальных щелкала фотоаппаратом перед монастырскими колокольнями: над обработкой ее негативов достаточно пришлось потрудиться местному фотоателье. Но, кроме этого, было установлено, что Хольме вместе с другой туристкой посетила в городе одну старушку. Эта старушка — немка Дитрих — жила на Большой Болотной улице, дом 33, квартира 9. Хольме привезла ей письмо и посылочку от родственников из Мюнхена. Если пользоваться обычными представлениями, то в этом посещении не было ничего особенного: в туристских общениях подобное не редкость. Однако Барбару Хольме нельзя было считать обычной туристкой. Поэтому все, что имело отношение к ее визиту на квартиру Дитрих, не миновало проверки. К сожалению, это проверка до сих пор не была закончена: старуха немка второй месяц тяжело болела… И вдруг это сегодняшнее заявление Рубцова об Алексее Михайленко: опять тот же дом 33 по Большой Болотной. Странное совпадение! А собственно, почему странное и почему совпадение? Ведь Дитрих, у которой была зимой Барбара Хольме, живет в отдельной квартире. Живет одна. И, насколько известно, ни к какому Михайленко отношения не имеет. Кстати, а в какой квартире обитает сам Михайленко? Ответ на этот вопрос получить было нетрудно. Маясов позвонил в адресное бюро, попросил срочную справку. Через несколько минут ему сообщили: — В доме тридцать три по Большой Болотной улице Алексей Михайленко не прописан… Вот как! Значит, Михайленко живет там без прописки… А может, у него теперь другая фамилия? Для бывшего сотрудника оккупационной полиции это не удивительно. Маясов раздавил в пепельнице потухшую сигарету и снова зашагал по комнате. А что, если Михайленко вообще не живет в доме 33? Ведь Рубцов только видел, как он вошел в дом. Мог к кому-нибудь просто в гости заглянуть. В таком случае надо не потерять его. Маясов приоткрыл дверь в дежурку и приказал Зубкову: — Немедленно вызовите капитана Дубравина, и оба — ко мне…3
Ирина лежала на диване, держала в руках тетрадку, негромко читала вслух стихи. Потом закрыла дерматиновый переплет. — Декадентщина какая-то… — Поднялась с дивана, одернула платье. — Ты эти свои вирши показывал кому-нибудь? — Ребята читали… — Савелов сидел за старым пианино, неумело бренчал что-то. — А какое это имеет значение? — Может быть, большее, чем ты думаешь… Я понимаю, тебе нравится бравировать своим особым мнением. Это один из способов обратить на себя внимание. Но я не думала, что ты можешь пойти так далеко… Впрочем, оригинального тут мало. И вообще все это попахивает передачками «Голоса Европы», или как она там называется, которые ты одно время усердно слушал. Ирина подошла сзади, положила ладони ему на плечи. — И откуда в тебе столько злости? — Злость не трава, на пустом месте она никогда не растет… — Мне кажется, ты стал таким потому, что слишком усложняешь все. Савелов обернулся: — А ты давно стала такой простенькой? — У меня другое… Тебе надо смотреть на вещи шире. — Прозрела! Ну, а я все еще хожу в тэ-эмных. — Он по-обезьяньи поскреб себя под мышками. Ирина невесело улыбнулась, отошла к окну. Отведя рукой занавеску, стала смотреть на улицу. Апрельское солнце светило ярко. Игорь взглянул на нее, как на чужую. Тоже нашлась проповедница! Лезет в душу, будто у самой все гладко. Ирина стояла молча, словно совсем забыла о его существовании. Ее отношения с Савеловым, говоря откровенно, уже давно перестали доставлять ей одну только радость. Приходилось все время таиться, лгать, изворачиваться. Вначале это было незаметно.4
Когда лейтенанта Зубкова спрашивали, играет ли он в шахматы, он отвечал: «Балуюсь немного». Это звучало излишне скромно. По мнению Тюменцева, познавшего древнюю игру три месяца назад, лейтенант был отменным шахматистом, которому недалеко до гроссмейстера. Но тут он, конечно, преувеличивал. Если быть точным, Зубков солидно тянул на первый разряд. Во всяком случае, ченские пенсионеры, с которыми вот уже несколько дней подряд на правах отпускника Зубков воевал за шахматной доской в городском саду на Большой Болотной улице, имели случай убедиться в его квалификации. Когда-то этот сад с высокими старыми липами, густыми кустами жасмина, терновника и сирени принадлежал архиерею. С годами он не стал хуже, и теперь в теплые погожие дни сюда стекались пенсионеры чуть ли не со всего старого Ченска. Приглушенный гомон голосов и щелканье костяшек домино не прекращалось в голых, безлиственных по весне аллеях до позднего вечера. В другой части сада, у терновых кустов, склонившись над столиками, сидели шахматисты, по преимуществу старики. Курили, сосали валидол, глотали пирамидон — кому что требовалось. Общеобязательным здесь было лишь одно условие: соблюдение тишины. Зубков, которого пенсионеры знали только по имени — Виктор или просто Витя, придерживался еще одного важного для себя и не известного для других правила: он всегда садился лицом к железной решетке сада. Отсюда он мог хорошо видеть противоположную сторону Большой Болотной улицы, особенно дом № 33 с раскрытыми зелеными воротами, часть его двора и даже окно Никольчука на втором этаже. …Зубков развивал королевский гамбит в партии с одним щуплым упорным старичком в пенсне и, предвкушая скорую победу, беззлобно подтрунивал над своим противником. — Хожу слоном, и можете, папаша, — руки в гору. — Я, сынок, не то что тебе — Колчаку не сдавался. — Ну, чего зря время тянуть? — язвительно сказал какой-то молодой пижон, дожидавшийся своей очереди за спиной старика. — Лучше сбегаем за пенсией, чекушку купим. — Обождите-с… чекушку… Гардэ! — Ах, гардэ?.. Ну, раз гардэ, — глядите, папаша, какой я из вашего ферзя компот сделаю… Зубков решительно передвинул на доске фигуру, потом привычно поднял глаза на решетчатый забор. Он увидел, как к черноволосому статному парню в светлом плаще, который стоял во дворе дома № 33 на низком крылечке, подошел Никольчук и о чем-то заговорил с ним. Улица была неширокая, но все равно разговора на крыльце лейтенант слышать не мог. Поэтому для него имела значение каждая мелочь в поведении Никольчука и парня, каждый жест и кивок головы. По тому, как оживленно они беседовали, Зубков заключил, что эти два человека, видимо, знакомы давно и, уж во всяком случае, встретились не впервые. А если это так, то их встреча имела несомненный интерес для дела. Что происходило в этот момент на шахматной доске, Зубков сказать бы не мог. Фигуры он передвигал кое-как. И только робость партнера, успевшего за неделю проникнуться уважением к сильному шахматисту и сейчас думавшему, что тот умышленно мутит воду, готовя каверзный удар, спасала Виктора от немедленного мата. И все-таки мат последовал. Виктору трудно было противиться такому исходу партии. Он в этот момент увидел, как Никольчук вынул из кармана портмоне, раскрыл его на ладони, послюнявил пальцы и отсчитал несколько бумажек. Взяв деньги, черноволосый парень благодарно потряс Никольчуку руку. — Может, еще партийку? — самоуверенно предложил старичок-победитель. Зубков встал из-за стола, застегнул пальто. — Как-нибудь в другой раз… — Дело молодое! Небось на свиданье? — В душе старичок рад был, пожалуй, отказу опасного партнера. — Небось! — Зубков подмигнул старику. До железной решетчатой калитки он шагал степенно, не торопясь. А миновав ее, сразу же ускорил шаг, быстро прошел по тротуару к большому соседнему дому. И как только завернул за угол, побежал бегом к стоявшей в переулке «Волге»…Игорь Савелов возвращался к Ирине с Большой Болотной тем же путем — проходными дворами, огородами, зареченским мостом. Минут через пятнадцать он уже стоял перед знакомой дверью. Когда Ирина открыла ему, он в возбуждении прошел к столу, молча выложил деньги. — Где ты достал?.. — удивленно спросила она. — Это не имеет значения, — сказал Савелов. — Завтра ты должна выкупить свой перстень.
5
…Вокруг была ночь. Темная, душная. Он едва шагал, с трудом вытягивая ноги из грязи. Было страшно от мысли, что ему никогда не выбраться из этого засасывающего омута. Он закричал, стал звать Ирину. «Что ты кричишь, дурачок? — ласково прошептал ее голос. — Я же здесь…» Вытянув ноги из трясины, он рванулся в темноте на этот голос. И тут же почувствовал: кто-то не пускает, держит сзади за плечи. Он стал вырываться из обхвативших намертво рук. Потом понял: ему не высвободиться, пока не удастся повернуться к своему душителю. И он повернулся! И увидел какое-то белое пятно вместо лица и выброшенные вперед волосатые руки с толстыми, сильными пальцами. Охваченный ужасом, Игорь закричал изо всех сил, втянул голову в плечи, чтобы не дать этим хищно разведенным пальцам сомкнуться на его горле… А белое пятно все приближалось, принимая вид человеческого лица. Крутые скулы в синеве от частого бритья, глаза под выступающим лбом с густыми темными бровями. «Где я видел это лицо?!» — пытался вспомнить Игорь. И наконец, вспомнил: «Алексей Никольчук!»… И вдруг все исчезло куда-то, пропало в ночи. А Игорь все кричал, натуживая свой голос. «Зачем я кричу, ведь все кончилось?» — подумал он. И проснулся. Над его головой, на тумбочке звонил будильник. Тяжело дыша, Игорь сел на кровати, надавил пальцем кнопку звонка. В наступившей тишине слышалось только щебетанье птиц на деревьях за посветлевшим окном. Он никак не мог прийти в себя после кошмара и опять расслабленно повалился на постель. Вдруг вспомнив что-то, Савелов начал торопливо собираться. Надел поверх рубашки старую телогрейку, достал из тумбочки блокнот и, запихнув его в карман, направился к выходу. Приоткрыв дверь, он почувствовал знакомый запах валерьянки и каких-то отдающих яблоками капель, которые пила мать, когда с сердцем у нее было плохо. Нет, через ее комнату идти не стоит. Мать, наверное, не спит. Начнутся вопросы: «Куда, зачем спозаранку?» Он тихо закрыл дверь. Потом, стараясь не греметь шпингалетами, растворил окно, спустился на землю. Жухлая прошлогодняя трава под тополями была мокрая от росы. Отворотив рукав ватника, Савелов посмотрел на часы и быстро зашагал вниз по улице, к реке. На пристани, осторожно ступая по скользким мосткам, он отвязал лодку, сел в нее, стал выгонять на чистую воду. Через несколько минут хорошего хода причалил к разлапистой иве, начавшей выпускать на обвислых ветвях зеленые листочки. Лодку слегка покачивало набегавшей со стремнины волной. Вода вокруг была сине-розовая, под цвет высокого утреннего неба. С противоположного берега, чуть подернутого понизу туманом, из-за темной громады Зеленой горы дул теплый ветер. Повернувшись назад, Савелов еще раз внимательно оглядел пологий спуск к реке. Никольчука все не было. Назначенное время давно уж прошло. Игорь опять стал смотреть на крутой правый берег. Зеленая гора! Сколько воспоминаний с ней связано. …Особенно запомнился один день. Быть может, последний из самых счастливых в его жизни. Это было почти четыре года назад. В конце июля, перед отъездом в областной художественный институт на вступительные экзамены. Они в тот день сидели на самом высоком обрыве Зеленой. Ирина, Сашка Ласточкин и он, Игорь. Внизу, за Ченой, расстилались залитые солнцем скошенные луга, над далеким горизонтом струилось марево. Они тогда мечтали о счастье. — А в чем оно?! — По-моему, — сказала Ирина, — счастье — это слава! И я, как чеховская Чайка, Нина Заречная, больше всего на свете желаю славы… Она вдруг смутилась от собственной откровенности: — А Игорь все пишет… — Старик! — крикнул Ласточкин. — Топай к нам. Савелов, стоявший на коленях перед раскрытым этюдником, махнул рукой: не мешай! — Игорек, — певуче позвала Ирина. Он покорно отложил на траву палитру. — Скажи, как ты понимаешь счастье? — Счастье? — Игорь подошел озабоченный: не ладилось с этюдом. — Я где-то читал: творчество без счастья приемлемо, но счастья без творчества не бывает. Ровно в полдень друзья торжественно расселись вокруг спортивной сумки Ласточкина. В ней нашлось кое-что. Через некоторое время слегка захмелевший от вермута Игорь поднялся с рюмкой, патетически произнес: — Леди и джентльмены! Поклянемся же искать свое счастье на великом, священном поприще, где уже подвизается одна из нас (поклон Ирине) и на которое завтра берут старт еще двое будущих гениев! — Аминь!.. Они паясничали, чтобы не выглядеть сентиментальными, но каждый думал про себя всерьез: для избранников, наделенных талантом, настоящая жизнь только в мире искусства. «Настоящая жизнь!..» Она совсем, оказывается, не такая, как представляется из туманного абитуриентского далека. Столкновение с нею может разочаровать. И тогда начинается мучительная переоценка ценностей… Погруженный в воспоминания, Савелов не слышал, как Никольчук подошел к лодке. Поздоровавшись, проворчал: — Хозяйка забыла разбудить, старая ведьма! — Снял черный плащ, закатал по локти рукава байковой куртки на мускулистых руках, поросших густым волосом. Потом взглядом из-под выпуклых надбровий указал Игорю, чтобы тот пересел на корму. Сильными, умелыми ударами весел Никольчук погнал лодку от берега. Савелов, наладив руль, положил на колени блокнот, нашарил в кармане карандаш.ГЛАВА III Лаборант Савелов
1
Дело Никольчука Маясов вел сам. Ему помогали капитан Дубравин и лейтенант Зубков. Этот выбор помощников, людей столь разных, был для Маясова не случаен. Он хотел, чтобы молодой сотрудник практически перенимал все полезное у своего старшего товарища, более опытного чекиста. В конце каждой недели они втроем подводили итоги по делу, анализировали оперативную обстановку. Сегодня сделать сообщение Маясов поручил Зубкову. И тут же предупредил: — Только покороче! Времени у нас в обрез. Педантичный лейтенант встал (хотя докладывать разрешалось и сидя), поправил и без того аккуратный узел галстука и, стараясь не заглядывать в лежавшие перед ним бумаги, начал говорить: — Полученные нами за последнее время материалы дают основание предполагать, что Алексей Никольчук, он же Михайленко, является не только бывшим пособником гитлеровских оккупантов. Слушая Зубкова, Маясов глядел в свою раскрытую тетрадь, на чернильный чертежик. То был схематический поэтажный план дома № 33 по Большой Болотной улице. Никольчук снимал здесь комнату в квартире № 16 на втором этаже. Там же находилось еще семь квартир (в доме была коридорная система), и в том числе квартира № 9, где жила Дитрих. Обе квартиры (№ 9 и № 16) Маясов обвел кружочками, кружочки соединил кривой линией, а линию оседлал большим вопросительным знаком. А что, если зимой Барбара Хольме была в девятой квартире лишь ради маскировки? Зашла на несколько минут к старухе, передала ей письмо из Мюнхена и, не выходя на улицу, по внутреннему коридору прошла в другую, нужную ей, квартиру. Это тем более допустимо, если учесть, что ее могла подстраховывать подруга из их туристской группы, которая была с ней. Маясов закрыл тетрадь, снова стал внимательно слушать Зубкова, перешедшего ко второй части своего доклада. — Из связей Никольчука, представляющих интерес для отдела, установлен Игорь Савелов — лаборант экспериментального оборонного завода, имеющий доступ к секретным материалам. Сведения, которыми мы располагаем, являются, на мой взгляд, серьезными уликами против Савелова. Прежде всего это две его подозрительные встречи с Никольчуком. При этом считаю нужным подчеркнуть, что Савелов оба раза вел себя нервозно, настороженно. В частности, после первой встречи он уходил от Никольчука проходными дворами и огородами, в малолюдном месте перелез через забор. Идя на вторую встречу, в воскресенье рано утром, Савелов вылез из своего дома через окно. Полдня провел вместе с Никольчуком в лодке на реке. Никольчук удил, а Савелов что то чертил или писал в блокноте… Не имея пока возможности сделать окончательный вывод о характере этих двух встреч, о содержании бесед между Никольчуком и Савеловым, думаю, что сами обстоятельства, в которых происходили эти встречи, несомненно, представляют оперативный интерес.2
Счетовод Сухов жил на дальнем конце заводского поселка. В большой квартире зятя-инженера он занимал комнату с окном, выходящим в сосновый лес. Маясова старик встретил приветливо. Узнав, что он пришел к сыну, сказал: — Сейчас позову… Мешать вам не буду. И, собрав со стола свои бумаги, скрылся в смежной комнате. Тотчас оттуда вышел Иван. Высокий, сильный, лет тридцати. Маясов сказал о причине своего вечернего визита — попросил помочь разобраться в одном деле. — Чем могу — помогу, — улыбнулся Сухов. Они закурили. И разговор за столом как-то сразу наладился. Впрочем, это был еще не деловой разговор, а только вступление к нему. Сперва у них зашла речь о борьбе с буржуазными разведками. Любознательный Иван подбрасывал Маясову вопрос за вопросом. Потом заговорили о войне, о партизанах. Оказалось, старший брат Сухова воевал в том же партизанском отряде, что и Маясов. — Он погиб где-то в здешних лесах, под Ченском, — сказал Иван. — Говорят, какое-то предательство в отряде произошло… Маясову было сейчас не до воспоминаний, однако пришлось некоторое время поддерживать разговор. И, только уловив подходящий момент, Владимир Петрович повернул беседу в желательном направлении — начал расспрашивать Ивана о Савелове, который раньше работал в его бригаде на механическом заводе в областном центре. Сухов на вопросы отвечал охотно и обстоятельно, и в результате еще один этап биографии парня для Маясова перестал быть белым пятном.В то лето Игорь Савелов не выдержал экзамены в художественный институт. Домой вернулся с ощущением полной катастрофы. Казалось, солнце померкло, кончилась жизнь. Мать, Варвара Петровна, строгая, властная женщина, сказала ему: — Надо взять себя в руки и попытать счастье еще. — В третий раз? — Я понимаю, ты устал… — Не в этом дело. — Главное — не киснуть и не сдаваться. Твоего отца не принимали в летную школу по состоянию здоровья. Но он очень хотел быть летчиком. Он подчинил свою жизнь железному режиму, закалил себя настолько, что через два года его приняли по первой категории. — При чем здесь отец? — После смерти твоего отца, — взволнованно сказала Варвара Петровна, — я жила только для тебя… думала, будешь большим человеком. Она вынула из пачки папиросу, закурила. Потом спросила другим, равнодушным, голосом: — Где же ты думаешь учиться? — Пока нигде. — А что намерен делать? — Еще не знаю… Мишка Гринев зовет к себе на завод. — Метаморфоза, достойная восхищения: из художников в слесари! — гневно сказала Варвара Петровна. — Пойдешь в педагогический — я позвоню директору. — В педагогический я не пойду! — отрезал Игорь. Наступила тягостная пауза. Мать и сын сидели в разных углах комнаты, каждый по-своему переживая случившееся. Потом Игорь спросил: — Мам, Ира ко мне приходила? — Да. Она сегодня уезжает. В студии начинаются занятия. — Варвара Петровна тяжело вздохнула. — Через год Ирина станет актрисой… и ты потеряешь для нее всякий интерес. Недели через две после этого разговора Савелов уехал в областной центр, где в театральной студии учились его ченские друзья — Ирина Булавина и Сашка Ласточкин. Он поступил учеником на механический завод. Не просто было Игорю заставить себя встать за слесарные тиски. А дело началось именно с них и с обыкновенного слесарного зубила. Только через несколько месяцев его допустили к первому станку. Но и тогда Игорь не проявил особого рвения и радости… Однажды бригада собирала отремонтированный токарный станок. Руководил сборкой помощник Сухова — насмешливый и грубоватый парень Валерка Стрелец. Работали весело, только Игорь по обыкновению хандрил. Стрельцу, у которого инструмент так и играл в руках, не нравилось настроение Савелова, и он все время подтрунивал: — Если так работать, можно и год в учениках проходить. — А мне торопиться некуда, — мрачно отмахивался Игорь. Когда Савелов хотел было сам закрепить маховичок, Стрелец небрежно отстранил его: — Это тебе не кисточкой мазать, здесь нужно кумекать железно. Игорь обиделся. В обед он не ушел из цеха вместе со всеми. Засунув руки в карманы, несколько минут стоял возле собранного почти станка. И вдруг подумал: а что, если показать этому типу Стрельцу, что и он, Савелов, не лыком шит и, если захочет, может работать не хуже других? «Подумаешь, кибернетика — закончить сборку станка! Сделаю это не хуже других слесарей». И Игорь решительно приступил к делу. Он спешил изо всех сил, чтобы уложиться до конца перерыва, он взмок, задыхался… И вот, наконец, станок полностью собран. Сейчас он включит его, позовет ребят. И пусть они позеленеют от удивления… Игорь надавил на кнопку пускателя. Раздался страшный скрежет, треск, запахло горелым маслом. Со всех сторон к Савелову кинулись люди. — Доигрался! — О себе много понимает! Едва завидев показавшегося в пролете бригадира, Игорь бросился вон из цеха. И все-таки разговора с бригадиром избежать не удалось. Через два дня Иван Сухов сам пришел к нему, — Савелов жил вместе с Ласточкиным у его тетки. Игорь был уверен: бригадир явился, чтобы сообщить о вычете из его зарплаты за поврежденный станок. И с отчаяния рубил напрямик: — Быть слесарем — не мое призвание! — Поэтому и сбежал? — Поэтому и ушел. — «Призвание»… Не бросайся, браток, словами, — сказал Сухов. — О призвании можно говорить, когда ты хоть что-то уже сделал в жизни. Игорь молчал, не зная, куда поведет бригадир дальше. И скоро ли заговорит о главном, ради чего пришел. Вот, наконец, кажется, заговорил. Но Савелов что-то не понимает его. Он ведь вовсе не этого ожидал. — Бригада решила отремонтировать попорченный станок в воскресенье… — Мне вашей благотворительности не нужно, — заносчиво сказал Игорь. — Я готов заплатить сколько требуется. — Ты, парень, потише на поворотах! — строго заметил Иван. — Это не благотворительность, а товарищи из беды тебя выручают. В общем в воскресенье ждем. — А если я не приду? — спросил Игорь. И снисходительно добавил: — Рад был узнать, что в нашей… то есть в вашей, бригаде имеются не только Стрельцы. — Что же, наш Стрелец позубоскалить любит. Но технику понимает, — сказал бригадир. — Кстати, это не кто иной, как Стрелец, и предложил отремонтировать в выходной день загубленный тобой станок. — Стрелец? Поражен. — Вот так, парень…
Делая себе пометки в записной книжке, Маясов спросил: — Интересно, получился все же из Савелова ремонтник или так себе? Владимир Петрович задал этот вопрос как бы между прочим. Но ответ на него хотел получить самый обстоятельный: ему нужно было понять, почему Савелов, имея специальность слесаря-ремонтника, поступил лаборантом на завод, до которого от дому ездить очень далеко. Да к тому же в лаборатории ему и платили меньше. Если всем этим Савелов пренебрег, значит что-то другое руководило им, когда он вернулся в Ченск и устроился на оборонный завод. Значит, экспериментальный химзавод представлял для этого парня какой-то особый интерес? На вопрос Маясова Сухов ответил не сразу и весьма неопределенно: — Игорь малый не дурной, смекалистый… — А как, по-вашему, почему он обратно в Ченск вернулся? Сухов пожал плечами. — Затрудняюсь сказать. Я в то время уже в другом цеху работал… Еще в первые дни после того, как Савелов попал в поле зрения чекистов, Маясов, изучая материалы, обратил внимание, что возвращение парня в Ченск примерно совпадает с появлением в городе Никольчука. До этого, как выяснилось, Никольчук тоже жил в областном центре: около двух месяцев он там работал в парикмахерской. Возможно, совпадение случайное. Но могло быть и по-другому. Это очень интересовало Маясова. Идя сегодня к Сухову, Владимир Петрович рассчитывал, что он поможет ему хотя бы немного приблизиться к решению этого вопроса. К сожалению, надежды не оправдались. Но делать было нечего — приходилось довольствоваться тем, что удалось получить. Да и часы показывали уже четверть первого — людям давно спать пора.
3
Уезжая ночью от Сухова, Маясов решил завтра же командировать в областной центр капитана Дубравина, чтобы разыскать там тетку Ласточкина, у которой квартировал Савелов. Но утром неожиданно позвонили из областного управления КГБ: Маясова вызывали на совещание. Нужда в командировке Дубравина отпала. После совещания Маясов задержался в областном городе еще на два дня и сам нашел нужных ему по делу Савелова людей. Он даже успел зайти в художественный институт, где Игорь провалился на экзаменах. Чужая жизнь становилась все яснее и понятнее… Вернувшись в Ченск, Маясов сразу же засел за обработку материалов, полученных в поездке. Он начал со своей записной книжки. Эта довольно пухлая книжка едва ли не вся была заполнена пометками о Савелове. Но не только о нем самом. Среди имен слесарей, с которыми работал Игорь, данных об его отце и матери, о друзьях упорно повторялось, мелькало чаще других одно имя — Ирина Булавина. С Ириной Булавиной Савелов вместе учился в школе. Оба мечтали о творчестве и славе. Бежало время, школьная дружба перерастала в нечто большее. И это, пожалуй, объясняло, почему Игорь после неудачи с поступлением в художественный институт оказался в том же городе, где училась Ирина. Савелов на механическом заводе. Не менее двух десятков страниц, исписанных угловатым маясовским почерком. После неприятного случая со станком Игорь, смирив гордыню, все-таки вернулся в бригаду. Вернуться вернулся, однако завод, цех, бригада долго еще оставались для него чужими. И все же дело как будто понемногу налаживалось. Игорь, наконец, сумел найти общий язык с ребятами. Получил разряд. Участвует в установке первой автоматической линии на заводе… И вдруг неожиданно для всех берет расчет и уезжает в Ченск. В записной книжке снова начинаются страницы о Булавиной. Что же делала в это время Ирина? Она вышла замуж за Константина Николаевича Сахарова. Об этом рассказала Маясову старая актриса Ласточкина. Она была у них на свадьбе. И ей запомнился такой разговор среди гостей: — А у Сахарова губа не дура! — Девица тоже не промах: муж режиссер, дядя мужа — главный режиссер! — Театральная семейка… …Семейка оказалась непрочной. Как-то вечером молодые сидели за столом в своей новой квартире. Листая альбом марок, над которым он обычно коротал свой досуг, Сахаров спросил: — Что ты там столь внимательно читаешь? — Рецензии о нашем последнем спектакле. — Ирина протянула мужу газету, взволнованно заговорила: — Работаешь как лошадь, пропадаешь целыми днями на репетициях, а о тебе всего пять скупых слов: «Булавина свою роль провела ровно…» Боже, придет ли когда настоящий, большой успех?! — Театр, моя радость, не асфальтовая дорога, где все гладко, — сказал Константин Николаевич. — Ты думаешь, у Ермоловой, Савиной или другой так называемой великой — у них были только одни победы? Как бы не так! Все слабое отсеялось, а хорошее дошло до нас, и мы курим им фимиам: великие! В действительности же все обстоит по-другому: как прежде, так и теперь играли и играют хорошо и плохо. Это нормальный процесс. — Значит, ставить плохие спектакли, плохо играть — это нормально и закономерно? Странная философия! — Я вовсе не призываю к этому, я только констатирую: подобное неизбежно. — Сахаров аккуратно вставил пинцетиком марку. — Что касается твоей артистической судьбы, можно считать, она сложилась счастливо. — Раньше я тоже так думала… — Напрасно иронизируешь, — сказал Константин Николаевич. — Тут от настоящих, невыдуманных забот голова пухнет, однако я не ною. — Что случилось? — Я уже говорил, мне дают самостоятельную постановку. — И что же? — Оказывается, пьеса-то современная. — Не понимаю. — Все-таки это риск… Хотелось бы освоиться на какой-нибудь классической вещи, уже, так сказать, обкатанной. — Ах, вот ты о чем… — Ирина посмотрела на мужа снисходительно-иронически. Сахарову был неприятен этот ее взгляд. Так она никогда на него не смотрела. И он поспешил переменить тему разговора. — Мы оба устали, дорогая. Пойдем куда-нибудь, рассеемся? — Я не могу… болит голова. Это была неправда, и Сахаров понял это. — В таком случае я иду один! — обиженно сказал он. Когда за мужем захлопнулась дверь квартиры, Ирина подошла к телефону — позвонила Ласточкиной. Через полчаса она уже была в театре, за кулисами. Кто-то стоявший возле сложенных штабелем декораций сказал ей: — Вы опоздали… у Ласточкиной сейчас выход. И действительно, из гримерной появилась Мария Ивановна. Ирина поздоровалась, сказала, что подождет ее. Но Ласточкина со строгим, сосредоточенным лицом прошла мимо, почему-то ничего не ответила. «Уж не сердится ли она на меня? — подумала Ирина, входя в гримерную. — Однако пригласила сюда и так приветливо разговаривала со мной по телефону…» Теряясь в догадках и предположениях, Ирина не заметила, как пролетели минуты ожидания. Дверь вдруг отворилась, и в комнату вошла Ласточкина… Но сейчас эта была обычная, добрая, ласковая и немножко усталая Мария Ивановна. — Здравствуй, землячка, здравствуй еще раз, — приветливо сказала она, опускаясь в кресло. — А я, извините, подумала, что вы на меня сердитесь. — Прости, голубушка, не обижайся… — Ласточкина улыбнулась. — Я считаю, что артист должен не изображать человека, а жить на сцене его жизнью. Чтобы игра была искренней, надо быть сосредоточенной, собранной перед тем, как выйти на сцену. Поэтому уже загримированной я обычно запираюсь на ключ, чтобы собраться с силами. По звонку я вылетаю из гримерной — в это время я уже не принадлежу себе. Я только внутренне молю, чтобы никто не подошел ко мне, не заговорил, чтобы не расплескать в разговоре эту собранность, настроенность. — Она, как бы извиняясь, развела руками. — Вот поэтому я и промчалась мимо тебя… Ну что ж, поедем к нам чай пить, там и потолкуем. По дороге, в полупустом троллейбусе, выслушав Ирину, Мария Ивановна сказала: — Вот ты сетуешь, что много работаешь над ролями, из сил выбиваешься, а успех якобы достается другим… — Но разве это плохо, если актриса хочет прославиться? — Неплохо. Каждый артист любит славу. Но ведь это не главное. Мне кажется, настоящий актер должен испытывать радость уже потому, что он делает то, к чему у него призвание… Не договорив, Ласточкина вдруг пристально посмотрела в глаза Ирине. — Но только ли в этом дело?! Я замечаю, с тобой, дорогая, происходит что-то неладное. Ирина подавленно молчала. — Если не ошибаюсь, дело в Игоре? — Я, кажется, люблю его, — вырвалось у Ирины. — Кажется или?.. Не отвечая на вопрос, Ирина заговорила взволнованно, сбивчиво: — Еще девчонкой, у кого-то из великих актрис я прочитала о тщеславии, с которым она боролась. Но только теперь я по-настоящему поняла, насколько губительна эта черта характера. Нездоровое внимание к своему «я», вероятно, порождает недоброжелательность к людям, которые тебя чем-то превосходят… — Не взвинчивай себя, Ирина! — Нет, нет, не перебивайте… Я хотела стать первой в нашем театре, быть лучше всех. Я и замуж вышла… — Она не договорила, махнула рукой и заплакала. Прошла неделя после этого разговора, и Ирина вдруг объявила мужу, что предстоящий отпуск она решила провести в Ченске. Сахаров с ней поехать не мог: готовился новый спектакль. Ирина уехала одна. Что ее тянуло в этот город? Ведь с отъездом матери и отчима в Москву, а затем в длительную заграничную командировку у нее никого из родных в Ченске не осталось. Почему же она так скоропалительно согласилась на предложение Ласточкиной поехать вместе с ней? На этот вопрос Ирина смогла ответить лишь тогда, когда оказалась в Ченске и на второй день по приезде встретилась в парке с Игорем. (Он вернулся в родной город сразу же после свадьбы Ирины с Сахаровым.) И хотя Ирина уверяла Ласточкину, что встреча с Савеловым на танцевальной площадке произошла случайно, это было не так. За первой встречей последовала вторая, потом третья. И с той поры началась их тайная связь, которая вместе с радостью обладания любимым человеком заставляла обоих страдать… Маясов продолжал листать свою записную книжку. Непросмотренных страниц оставалось немного. …В одну из июльских ночей в Ченск неожиданно приехал Сахаров. Ирина была у себя в комнате (она жила в квартире Ласточкиных), читала книгу. Константин Николаевич, как всегда, был чисто выбрит, безукоризненно одет. Он горячо обнял жену, сел рядом на софу. Ирина избегала смотреть мужу в глаза. — Что нового в театре, дома? От этого вопроса Сахаров сразу как-то обмяк. — Надоело мне работать по указкам дяди, — сказал он. — Что же ты намерен предпринять? — Если обстановка в областном театре сложится неблагоприятно, мы переберемся сюда, в Ченск… Маясов закрыл записную книжку. Долго сидел в задумчивости. Потом достал из стола бумагу и начал писать отчет о своей поездке.4
В закусочной было чадно, душно. Подвинув к себе тарелку, Рубцов принялся за борщ. Рядом за столиком шел разговор о футболе. Арсений Павлович не удержался, вставил несколько дельных замечаний, — беседа стала общей. А когда официантка принесла полдюжины «Жигулевского» и тарелку с красными раками, Рубцов пригласил соседей-болельщиков разделить с ним трапезу. Оба пересели к нему за стол. Один из них — буйно-кудрявый, с тонким голосом, сразу же заказал штофик водки. Народу в закусочной по случаю дня получки было много. Дверь на тяжелом блоке то и дело хлопала, впуская все новых посетителей. Многих из них Рубцов знал в лицо, с некоторыми был коротко знаком. С той поры, как он стал внештатным фотокорреспондентом областной газеты, ему часто приходилось наведываться в эти места: поселок Шепелево с прилегающими к нему населенными пунктами входил в его «репортерский куст». К столу подошел шофер в распахнутой телогрейке, попросил официантку побыстрее обслужить его. — Куда это, Сердюк, торопишься? — полюбопытствовал кудрявый сосед Рубцова. Он уже порядком захмелел. — Одного парня надо подбросить до Ченска. — Кому так приспичило? — Савелов из главной лаборатории… — Постой, это какой Савелов? — Кудрявый посмотрел за окно, во двор, где стоял грузовик. И вдруг тоненько захихикал: — Тю! Это же хахаль Булавиной, артистки, она моя соседка была… — Я извиняюсь, — вмешался в разговор Рубцов, — эту Булавину случайно не Ириной Александровной звать? — В самую точку! — Кудрявый даже подпрыгнул на стуле и тут же принялся выкладывать Арсению Павловичу все, что знал об отношениях Савелова с Булавиной. А знал он, этот словоохотливый человек, оказывается, немало. Из его пьяного бормотанья Рубцов понял, что Савелов работает на химзаводе в урочище Кленовый яр, а живет в Ченске вместе с матерью, бывшей учительницей, недавно вышедшей по состоянию здоровья на пенсию. Рубцов слушал, попыхивая в открытое окно папироской, а в памяти его всплывали давние события. Заинтересовался актрисой он не случайно: он знал не только Ирину Булавину, но и ее отца и мать. В свое время, перед войной, отец Ирины, Александр Букреев, работал в Донбассе начальником цеха на коксохимическом заводе, а он, техник Рубцов, в том же цехе был мастером. Когда началась война, их призвали вместе. На фронт они уезжали в одном вагоне: Букреева провожала жена, звали ее Валентина. Фамилию она носила девичью — Булавина. Второй раз в жизни Арсений Павлович встретился с нею уже после войны, летом сорок шестого года. Они неожиданно столкнулись в Ченске, на пыльной Болотной улице. И Булавина очень смутилась. Рубцов, почтительно приподняв шляпу, в одно мгновение понял причину ее смущения: рядом с ней стоял представительный, полный блондин — ее новый муж. Тут же была и красивая девочка-подросток, дочка Александра Букреева. Новый муж Булавиной деликатно оставил их одних, они присели на лавочку у тесового забора, и Рубцов, как ни тяжело это было, стал рассказывать Валентине все, что знал о своем фронтовом товарище, — до того самого дня, когда Букреев не вернулся из последней разведки. После его печального рассказа долго молчали. Девочка заплакала. Чтобы как-то развлечь мать и дочь, Рубцов достал из бумажника пожелтевшую любительскую фотографию — там, на фоне полуразрушенной темной громады берлинского рейхстага, стояли рука в руку высокий сухопарый лейтенант и полногрудая красивая женщина с погонами капитана медицинской службы. — Я и моя жена, — объяснил Рубцов. — Познакомился с ней в сорок четвертом году. А после войны затащила меня вот сюда, на свою родину… Когда Булавины уходили потом по длинной улице, Арсений Павлович долго смотрел им вслед, думал, как похожи мать и девочка. И вот эта девочка превратилась в красивую взрослую женщину. Стала актрисой. Вышла замуж. Сама сделалась матерью. Полюбила другого, связь с которым скрывает от людей. Но люди, оказывается, все знают. А теперь знает об этом и он, Рубцов, товарищ ее отца. И не его ли право (если не обязанность) поинтересоваться нынешней жизнью молодой женщины и, главное, тем человеком, которого люди называют ее любовником… Будучи натурой деятельной, Арсений Павлович не стал откладывать в долгий ящик своего только что возникшего намерения — поближе присмотреться к этому парню, ехавшему из Кленового яра в Ченск. Когда шофер Сердюк отобедал и вышел на крыльцо, Рубцов попросил и его подбросить до города. — Пожалуйста. Места в машине хватит. Арсений Павлович открыл дверцу кабины, приветливо поздоровался с сидевшим там Савеловым. Мощный ЯЗ, тяжело зарычав мотором, тронулся со двора на улицу.5
Капли дождя, дробясь о подоконник, падали на голое плечо Игоря. Но он ничего не чувствовал. Он целиком ушел в свои записи в тетради, которую держал на коленях. Это был забытый в последние месяцы дневник. Дождь, дождь… Сама жизнь казалась ему пасмурной, как нынешнее утро. За эти двое суток он даже стал как-то привыкать к мысли о неотвратимости того страшного, что должно с ним случиться. Поэтому теперь его больше занимало другое: степень возмездия, которое суждено ему нести. Если судьба улыбнется, он может рассчитывать на снисхождение. Если же не улыбнется… Нет, лучше не гадать на кофейной гуще. Лучше за эти оставшиеся часы привести в порядок свои бумаги: выбросить, сжечь все, что может осложнить его положение. Собственно, для того он и отпросился вчера с работы пораньше. И как только Сердюк на своем грузовике привез его домой — сразу же полез в нишу над входной дверью в прихожей. Там он отыскал связку перевязанных шпагатом толстых тетрадей, притащил в свою комнату. Потом сказал матери, что болит голова, и заперся на ключ. Но мать ему все-таки помешала: принесла аспирин и пирамидон, заставила лечь в постель. Пришлось подчиниться — чтобы оставила в покое. Но лежа, оказалось, даже удобнее и читать и, где нужно, вырвать из дневника листы, складывая их в тумбочку.«…Неожиданная встреча в парке! Приехала в Ченск. (Зачем приехала — без мужа — я так и не понял.) Но дело не в этом. Увидев меня, она сказала всего два слова: «Здравствуй, Игорь…» И это певучее — «Игорь» (так умеет говорить только она!) сразу перевернуло все во мне. Придя домой, я достал спрятанную в чемодане ее фотографию, поставил перед собой на тумбочку — и смотрел, смотрел…» «…После концерта ждал Ирину. Простоял у столба двадцать шесть минут. И вот она вышла из переулка. Шагает ко мне, стуча каблучками, приподняв подбородок. Черт побери, никогда в жизни не испытывал подобного чувства! Сердце застучало, как молот, а сам весь превратился в одну нежность. Гуляли по парку под луной, говорили о разных пустяках. А говорить-то мне и не хотелось. Хотелось просто смотреть на нее». «…Сегодня, когда я уходил на работу, мать вдруг спросила: — Игорь, а что у тебя с Ириной? Я сразу не нашелся что ответить: с минуту, наверное, молчал. Потом сказал без обиняков: — Я люблю ее. Мать осуждающе посмотрела на меня. — Она замужняя женщина. Тогда я повторил: — Я люблю ее. Мы поженимся». «…Да, мы решили пожениться. Это решение было твердым, по крайней мере с моей стороны. И вдруг записка, принесенная соседским мальчишкой в день ее внезапного отъезда с мужем из Ченска: «Мы должны разлучиться. Возможно, я не права. Но по-другому не могу: оставить мужа в трудную для него минуту было бы подлостью. У него серьезные осложнения в облдрамтеатре, возможно, придется перебраться сюда, в Ченск, чтобы он смог, наконец, стать по-настоящему самостоятельным режиссером… Если можешь, прости…» «Я не выдержал. Когда до отхода ее поезда оставалось пятнадцать минут, я бегом побежал на вокзал. Вот где мне пригодилось знакомство с проходными дворами Заречной стороны! Благодаря этому я сумел сократить расстояние вдвое. Но тут, на площади, случилось непредвиденное: поскользнувшись на мокрой мостовой, я упал и угодил под автомашину. Рубчатые колеса проехали по моей правой ладони, искалечили пальцы…» «Провалялся в больнице более двух месяцев. Чуть было не отняли три пальца. Но обошлось. Пальцы оставили, хотя контрактура обеспечена на всю жизнь. Придется искать другую работу: с такой рукой я больше не слесарь…» «Сегодня Сашка Ласточкин сообщил мне приятно ошеломляющую новость: в Ченск приехала Ирина!.. Но, к сожалению, с мужем. Оба будут работать в нашем драмтеатре…»Чтение Игоря прервал стук в дверь. В комнату вошла мать с хозяйственной сумкой в руке. — Почему ты не завтракал? Или совсем разболелся? — Нет, я здоров, — сказал Игорь, пряча в тумбочку дневник. — Здоров? — мать удивленно посмотрела на него. — Почему же тогда не на работе? Игорь встал, молча начал одеваться. Мать снова спросила, что с ним. Но Игорь опять ничего не сказал, делая вид, что распутывает шнурок на ботинке. Мать не стала больше спрашивать. Она только обвела пристальным взглядом маленькую комнату сына, словно надеясь найти разгадку непонятного его поведения. И пошла на кухню. Завтракали они по обыкновению молча. Но необычным было само молчание: Игорь все время чувствовал на себе изучающий взгляд матери. И ждал ее вопроса. В третий раз. После этого уже нельзя будет отмалчиваться, придется все рассказать… И он, торопливо допивая горячий чай, внутренне готовился к неприятному разговору, обдумывая, как лучше все это преподнести матери, чтобы меньше расстраивать ее и тревожить… Но мать так ни о чем и не спросила. Она стала убирать со стола, мыть посуду. Потом ей понадобилась свежая вода, а в ведрах, прикрытых фанерными кружками, было пусто. — Давай я схожу, — сказал Игорь и усмехнулся: — Может, в последний раз… Когда он возвратился, мать с нескрываемым беспокойством спросила: — Что с тобой, Игорь? — Суши, мама, сухари. — Он хотел отшутиться, но шутка вышла невеселая. — Меня вызывают в КГБ. Мать тяжело опустилась на стул, положила руку на сердце. — Зачем? — Для задушевных бесед, по-моему, туда не приглашают…
6
— …Мне исполнилось девятнадцать лет, когда к нам на Украину пришла война. — Голос Никольчука, записанный на магнитофон, звучал глуховато. Откинувшись в кресле, Маясов внимательно вслушивался в этот голос, и казалось, в комнате незримо присутствует еще один человек. — За год перед этим я окончил школу, работал в редакции газеты… Я любил Украину, но по-своему. И когда заговорили националисты — поверил им, начал сотрудничать в их газете, которая издавалась на средства оккупантов… За этой ошибкой последовала другая — я поступил на службу в немецкую комендатуру: там больше платили… Маясов остановил магнитофон, достал из сейфа папку с ответами на запросы в несколько районов Украины, где в годы немецкой оккупации служил в полиции Алексей Михайленко. Пролистав несколько бумаг, майор снова включил аппарат, с помощью которого он решил сегодня проанализировать ход следствия по делу Никольчука, арестованного две недели назад. — …Когда немцев погнали с Украины, куда мне было деваться? Я ушел с ними. Второго апреля, в сорок пятом, меня в Будапеште арестовали и осудили военным трибуналом. Дали десять лет лагерей… В камере предварительного заключения со мной сидели два дезертира, они подбили меня на побег. Нам это удалось. Но они пошли на восток, на родину, а я подался в обратную сторону. Боялся… Вскоре я очутился на территории Западной Германии, стал одним из тех, кого называют «перемещенные лица»… А потом попал на крючок американской разведки. После обучения в специальной школе, как я уже вам рассказывал, в марте прошлого, шестидесятого, года меня посадили на самолет и ночью выбросили с парашютом в районе Ставрополя, в степи… Маясов достал из папки акт экспертизы о парашюте Никольчука: его действительно нашли в том месте, которое указал арестованный. Просматривая этот акт, Маясов вспомнил рассказ капитана Дубравина, вылетавшего вместе со следователем и экспертом в Ставрополье. …Никольчук, бывший с ними, не сразу нашел нужную балку. Они проплутали около двух суток. Попали под страшный ливень, следователь загрипповал, и Дубравину пришлось отправить его в сопровождении эксперта до ближайшей станицы. Оставшись вдвоем, капитан и арестованный продолжали поиски. На крутом спуске в овраг Дубравин, оступившись, вдруг упал. Никольчук, который шел впереди, обернулся, бросился было к нему, но капитан тут же поднялся во весь свой могучий рост, кивнул, чтобы Никольчук шел дальше. Этот случай насторожил Дубравина: помочь хотел Никольчук, или?.. В душу закралась тревога: не опрометчиво ли поступил, оставшись с арестованным один на один в степи? Дело в том, что, спешно вылетая из Ченска, он не взял свой пистолет. Попросить же оружие у заболевшего следователя не решился: трусом себя капитан никогда не считал, силой его бог не обидел, к тому же следователь из областного управления, старший в их группе, не погладил бы по головке, узнав, что он, Дубравин, прибыл на задание без пистолета. В общем нелепо получилось. И теперь капитан чувствовал себя так, будто в стужу его вытолкнули на улицу босиком. Это ощущение еще усилилось, поскольку наступала ночь. Остановившись на ночлег на дне балки, они насобирали большую кучу хвороста, прибитого половодьем. Но хворост был сырой, и, чтобы разжечь его, требовалось нащепать лучинок для запалки. Большой, вроде финского, нож нашелся в чемодане эксперта, который остался у Дубравина. Только кто должен колоть этим ножом лучину? Если сам Дубравин, то ему нужно для удобства присесть на корточки, а это будет исключительно невыгодная поза: ухватив сзади за шею, Никольчук может задушить его, как котенка. Остается другое — поручить работу арестованному. Но это значит дать ему в руки нож, оставаясь совершенно безоружным… «Придется, наверное, обойтись без костра», — подумал капитан и при вспышке красного огонька сигареты увидел (или ему показалось), что толстоватые губы Никольчука дернулись в иронической усмешке, словно он догадался о его беспокойных мыслях. Дубравину стало не по себе, и он молча протянул нож арестованному. Наконец костер был раздут, и они легли спать, подложив под бока по охапке прошлогодней травы. К середине ночи небо вызвездило, стало еще холоднее. Никольчук беспокойно завозился на своем жестком ложе, поднял голову, пристально всматриваясь в лицо Дубравина. Капитан прикрыл глаза, сделал вид, что крепко спит. Никольчук встал на колени, протянул в темноту руку, вытащил за черенок заступ. Дубравин лежал не шевелясь, сжав под оглушительно стучавшим сердцем тяжелые кулаки, следил за каждым движением арестованного, готовый вскочить при первой опасности. Перехватив в руке черенок, Никольчук стал шуровать в головнях затухавшего костра. В темное небо взметнулись иголки красных искр. Подбросив в огонь хворосту, Никольчук лег на другой бок, и вскоре опять послышалось его ровное похрапывание… Когда, вернувшись в Ченск, Дубравин доложил о степных злоключениях Маясову, тот проявил к ним большое любопытство. Причину его заинтересованности капитан понял не сразу. Откровенно говоря, он ждал от начальника нахлобучки за то, что выехал на задание без оружия. Но Маясова ночная история заинтересовала совсем с другой стороны. Он определил ее как случайно состоявшийся следственный эксперимент и после рассказа Дубравина долго расспрашивал его о подробностях. Маясов хотел найти ответ на возникший у него тогда вопрос: не пытался ли Никольчук использовать благоприятную обстановку для своего освобождения, для побега?.. Теперь, у замолкшего магнитофона, Маясов еще раз подумал над этим. Потом нажал кнопку, и аппарат стал рассказывать о деятельности американского агента после его проникновения на территорию Советского Союза.7
— По-моему, я вам русским языком сказал: было нужно… Поэтому я и пошел к Сашке. — Кто он, этот Сашка? — Будто не знаете, — ухмыльнулся Савелов. — Ну, хорошо, могу напомнить: Александр Витальевич Ласточкин из семьи советских интеллигентов, холост, жениться пока не собирается, проходит режиссерскую практику в Ченском доме культуры, проживает на Болотной улице — дом номер тридцать три, квартира номер четыре… Этого достаточно? — Вполне, — тихо сказал Маясов. Ему было неприятно и в то же время немножко смешно видеть гонористое кривляние юнца, умышленно не желавшего разговаривать в предложенном ему доброжелательном тоне. Маясов понимал, что амбиция Савелова дутая, что он прикрывает ею овладевшую им растерянность и, может быть, страх. И поэтому, не выдавая своего раздражения, продолжал невозмутимо задавать вопрос за вопросом, стараясь втянуть парня в разговор по душам. — Ну, а дальше… — Ах, дальше? — Савелов опять ухмыльнулся. — Извольте. Когда я пришел к Ласточкину, его не оказалось дома. Я спустился во двор, раздумывая, где-бы мне достать денег. И тут на крыльцо вышел этот самый парикмахер Никольчук. — И что же было потом? — Никольчук сказал, что неплохо бы рвануть на рыбалку, да лодки нет. А я ему говорю: лодка и вся снасть будут, если подбросите мне энную сумму взаймы: горю как швед… — Зачем вам понадобились деньги? — А это уж, позвольте, мое дело. — Ну, а все-таки? — Кольцо я с одной женщиной пропил, — подчеркнуто грубо сказал Савелов. — Вот и пришлось покрутиться, чтоб назад выкупить. — Вот как? — Вот так! — Скажите, вам нравится ваша поза? — А вы что хотите, чтобы я от страха дрожал? — Нет, не хочу, — очень серьезно возразил Маясов и, помолчав, вдруг спросил: — Каким карандашом вы делали наброски, когда рыбачили с Никольчуком? — Что?! — Савелов настороженно сузил глаза. — Разве это имеет отношение к делу? — Просто интересуюсь… потому что сам этим балуюсь. — Рисуете или пишете красками? — В основном пишу маслом. — А меня больше тянет к акварели… Игорь достал из кармана сигареты. Сигареты были дешевые. От предложенных еще в начале разговора хороших, в целлофановой пачке, демонстративно отказался: «Не на такого напали!..» Все эти криминалистические фигли-мигли ему известны: он читал о них не раз. Угостят пахучей папиросочкой, погладят по шерстке, расслабят твой мозг и нервы, а потом внезапно — бац какой-нибудь коварный вопрос… Дудки! Он не дастся, чтобы его заклевали, он постоит за себя… — Так, значит, больше увлекаетесь акварелью? — спросил Маясов после недолгой паузы. — По-моему, акварелью трудней работать. Он подошел к книжному шкафу, достал дешевенький картонный альбом, подал Савелову. Игорь сперва рассматривал рисунки небрежно, не задерживая ни на одном из них взгляда. И только где-то в середине альбома остановился. Прижмурив глаза, долго всматривался в один этюд. Потом недоверчиво спросил: — Сами делали? — Зачем бы я стал чужое показывать? — Кто вас знает… — Савелов пожал плечами: — Искусство — и ваша служба… В общем не знаю… А у меня вот… Он немного помолчал и вдруг возбужденно заговорил. Но не об акварелях Маясова. А о себе, о своих картинах и этюдах — об их слабом месте: непроработанности рисунка. Он понял это, к сожалению, слишком поздно: после третьего провала на экзаменах. Несмотря на то, что по живописи и по композиции он получил четверки, слабость рисунка сказалась на итоговом балле. Савелов заглянул в пачку и смял ее в кулаке: сигарет больше не было. Маясов подвинул ему свои. Закурив, Игорь продолжал: — В общем с институтом не повезло… С той поры и гремлю! Из художников — в монтажники. Мало! Из монтажников — в ремонтники. Мало! Уцепился Андронов за мою контрактуру — в лаборанты сунул. Вкалывай, Савелов, на здоровье! Протирай колбы да пробирки, таскай из цеха в цех бумажки с анализами! Веселая работенка… — В голосе парня были гнев и горечь. — А я, товарищ майор, рисовать хочу! Мне краски по ночам снятся. Вы это понять можете?!. Видя, что Савелов, попав на свое больное место, опять начинает горячиться, Владимир Петрович решил пока поговорить о другом. Он сказал, что его в определенном смысле интересуют отношения Игоря с актрисой Булавиной. — Это мое личное дело, — сказал Савелов. — Любовь… — Да, это вопрос деликатный, — согласился Маясов. — И все-таки я позволю себе спросить: всегда ли человек имеет моральное право на это чувство? — Любовь выше всякого права, — усмехнулся Савелов. — Ваша любовь? — Наша с ней. — Ну, а если существует любовь е г о с ней? — Ирина не любит своего мужа. — Вы в этом уверены? — Я уверен только в том, что я ее люблю. — Все остальное вас не интересует? — В этом смысле — нет. — И то, что их трое: муж, жена, сын, то есть целая семья — это вы тоже не принимаете в расчет? — Расчет и любовь несовместимы. — Но это же махровый эгоизм! — По-моему, любовь всегда эгоистична. — Чепуха! Настоящая любовь там, где человек готов на все ради другого человека. — Могу вас уверить, товарищ майор, ради этой женщины я не остановился бы ни перед чем. — А могли бы вы ради ее счастья с другим отказаться от нее? — Это свыше моих сил. — Но разве вы не способны взять себя в руки, если видите, что дело идет к развалу семьи Булавиной? — Поступиться своей любовью? Нет, не хочу, — упрямо сказал Савелов. — Но я понимаю: так продолжаться не может. Надо наши отношения из тайных сделать явными или… — Да, вам стоит над этим поразмыслить, — заключил Маясов. И тут же подумал, что эта рекомендация едва ли будет правильно парнем воспринята. Может быть, вообще не стоило об этом говорить. В конце концов это его личное дело. Во всяком случае, оно вне компетенции органов госбезопасности. Это, конечно, так, если допустить, что все нити дела существуют сами по себе, независимо одна от другой: честолюбивые замыслы юноши, крушение его жизненного идеала, нездоровые настроения, упаднические стихи, неудачная любовь. Но в том-то и сложность, что в действительности этой параллельности нет. Все сплелось в один клубок. Потяни за первую нить — зацепишь вторую. Оставь нетронутой третью — окажется незамеченной следующая, быть может, самая важная для распутывания всего клубка. Маясов встал из-за стола, задумчиво походил по кабинету и, остановившись возле Савелова, сидевшего за приставным столиком, сказал: — Вот вы, Игорь, переживаете, что вам не удалось поступить в художественный институт. А ведь бывает и так: человек поступает туда, учится год, другой, а потом сам подает заявление об отчислении? — Почему? — Желание стать художником — одно, а настоящий талант, без которого художника не бывает, — это другое. — Старо как мир, товарищ майор. — Да, истина не новая… И надо быть мужественным, чтобы посмотреть правде в глаза. — Вы зря осторожничаете: мне как художнику приговор объявлен давно. — Зачем же так: «приговор»? Старайтесь взглянуть на это проще. — Это не просто, если вместо кисти приходится брать в руки метлу. — Подметать улицы тоже кому-то нужно, — сказал Маясов. — А что касается творчества, то все зависит от самого человека. Можно быть художником за слесарными тисками и равнодушным ремесленником на сцене академического театра. — Тоже верно, — Савелов тяжело вздохнул. — Только человеку не безразлично, где трудиться, чем заниматься. — Разумеется. Свое место в жизни каждый должен настойчиво искать. — Я так и делал. — Не совсем. Вы хотели впрячь себя в такой воз, который вам явно не по силам. — Маясов чуть помедлил. — Вас предостерегают от худшего, а вы разыгрываете трагедию, впадаете в мировую скорбь. — Я ничего не разыгрываю. — Савелов нахмурился, отвернулся к окну. — Не будем придираться к словам… Вы не разыгрывали трагедию: вы ее сами создали и поверили в нее. И, к сожалению, слишком искренне. — Никакой трагедии я не создавал, откуда вы взяли? — А ваши стихи?! — строго сказал Маясов и постучал по тетради, лежавшей на столе. — Вы думаете, я не понимаю, на каких дрожжах бродит ваша поэзия? — Пишу, как умею. — Вы напрасно обижаетесь: я говорю не о форме, а по существу. Можете писать, как хотите… Но не распространяйте вирши с антисоветским душком! — Я их не распространял. — Но знакомым читали? — Это было, — тихо подтвердил Савелов. — Вот об этом давайте и поговорим… Маясов увидел, как сразу побледнело смуглое лицо парня. Рассказывая, Савелов много и жадно курил. Владимир Петрович почти не перебивал его. Было похоже, что обстоятельный рассказ юноши искренен и правдив. Маясов только подумал, как неровно, «клочковато» подготовлен этот сын не в меру честолюбивой учительницы. (Знакомясь с домашней жизнью Савелова, Маясов пришел к выводу: во многом виновата мать. Для нее Игорь был единственный, с детства исключительный, чуть ли не вундеркинд. В результате она разожгла в сыне обостренное, нездоровое честолюбие.) Суждения Савелова об одних вещах поражали своей зрелостью, о других — свидетельствовали о порядочном сумбуре в его голове: плохо усвоенные догмы старых истин переплетались с крылатой романтической мечтой, мальчишеская наивность уживалась рядом с цинизмом человека, познавшего в какой-то степени изнанку жизни. Кончив свой рассказ, Савелов вытер платком вспотевший лоб, потом, немного помолчав, спросил глухим голосом: — Меня будут за стихи судить? — Передавать ваше дело в суд мы не будем. Савелов тревожно взглянул на майора: — Это что ж, без суда осудят? — Без суда никого не осуждают, — сказал Маясов. — Что касается вас, то будет полезнее, если с вами поговорят ваши товарищи…8
— Господи, наконец!.. — выдохнула Варвара Петровна, услышав звук открываемой входной двери. Она тревожно подняла голову от пухлого романа, который читала, прислушалась. В глазах ее отразился весь страх, пережитый за долгие часы ожидания. И сразу же — невольный вздох облегчения: в комнату с тетрадкой в руке вошел сын. — Ну что тебе сказали? Игорь отсутствующе посмотрел в сторону матери, бросил тетрадку на диван и молча направился в свою комнату. Варвара Петровна проводила его внимательным, испытующим взглядом, отложила книгу, поднялась. С минуту постояв и не дождавшись, когда сын выйдет из своей комнаты и все объяснит, принялась накрывать на стол. Потом принесла из кухни подогретый обед. Взяла тетрадь, для чего-то полистала ее, пошла к сыну. Игорь сидел верхом на стуле, упершись подбородком в его спинку, и отрешенно смотрел в окно. Мать тронула его за плечо. Он странно, словно внезапно разбуженный, посмотрел на нее и опять отвернулся. — Иди поешь. Сын не откликнулся. — Тетрадку твою куда положить? — Порви. Погоди… я сам. Игорь встал, пошел в кухню. Сдвинув с горящей конфорки чайник, сунул тетрадь в огонь. Пламя охватило листки, больно лизнуло пальцы. Игорь отдернул руку, крикнул раздраженно: — Где щипцы?! — Что? Перемешивая мягко шуршащий пепел подвернувшимся под руку кухонным ножом, Игорь ответил с веселой злостью: — Я на ней… второй раз… обжегся!ГЛАВА IV Странные письма
1
Ирина Булавина отпросилась у режиссера с репетиции. Дома она решила наскоро переодеться и тотчас уйти. Это выглядело смешно, но она действительно стала бояться одиночества и тишины в квартире. Тишина пугала ее, настораживала, заставляла прислушиваться: не стучит ли кто в дверь?.. Отыскивая в сумочке губную помаду, Ирина снова увидела там письмо. Она получила его позавчера. Письмо было в зеленом конверте. Точно таком, как и первое, которое пришло из Москвы две недели назад. Только на этом штемпель стоял не московский: письмо было отправлено с почтамта областного центра. Возможно, отец находился в области проездом. Между делами забежал на почту, чтобы написать ей несколько слов. А может, он надолго или даже навсегда обосновался здесь, чтобы быть поближе к ней, Ирине, своей единственной дочери. Впрочем, все это странно и непонятно. Уйти из дому в сорок первом году и вновь объявиться ровно через двадцать лет, двадцать лет молчания — такое не вдруг укладывалось в голове… До этих писем в зеленых конвертах она и мысли не могла допустить о причастности отца к каким-то темным делам. Только прочитав второе письмо (еще более туманное, чем первое, тревожно-смутное), она подумала, что с ее отцом, которого она считала пропавшим без вести, а попросту говоря, погибшим на фронте, произошло что-то неладное, нехорошее. И еще она поняла из этого короткого письма, написанного характерным бисерным отцовским почерком, что он приехал «оттуда» и приехал не как Александр Христофорович Букреев, а под чужим именем. Когда он уходил на фронт, ей едва исполнилось пять лет. Но она навсегда запомнила то июньское утро. Отец нагнулся, потом присел перед ней на корточки, поскрипывая ремнями новой портупеи. Он не плакал, как мать, он улыбался. Подняв ее на руки, сказал: — До свидания, Ири. — И при этом смешно пошевелил черными усами. Он всегда так делал, когда уходил на работу. И всегда называл «Ири» — так, как она себя называла. И вот теперь, через двадцать лет, в обоих письмах она прочла: «Моя дорогая Ири…» Ирина подошла к шкафу, взглянула на себя в зеркало: лицо было бледным, под глазами тени. Открыв дверцу, она достала голубое платье. Любимое платье Игоря. Впрочем, и мужа тоже. К сожалению, ни тот, ни другой ей не могут сейчас помочь. Единственный человек, с кем бы она могла поделиться своей тревогой, была мать. Но мать с отчимом далеко от Ченска — в заграничной командировке, в Африке… Торопливо переодевшись, Ирина вышла из дому. На малолюдной улице было тихо. И от этой вечерней тишины, от мягкого света заходящего солнца у Ирины как-то сразу стало спокойнее на душе. Она вдруг решила, что все уладится, что человек, к которому она идет, непременно ей поможет, и она, наконец, сумеет выбраться из мучительного тупика, в котором неожиданно оказалась. Человек этот был Арсений Павлович Рубцов, друг их семьи, знавший ее отца, как никто другой: вместе работал с ним, вместе воевал. Ирина позвонила ему сегодня утром, и он, как всегда, радостно и приветливо говорил с ней. Арсений Павлович уже ждал ее в своем маленьком кабинете в фотоателье на Советской улице — он работал здесь заведующим и приемщиком одновременно. И как только Ирина появилась в дверях, приветливо улыбаясь, встал ей навстречу. — А, Иришка! Здравствуй, здравствуй. А я уж думал, совсем забыла старика. — Вы извините… — Да ты садись, садись, — сниматься, что ли, пришла? — Я к вам, Арсений Павлович, за советом… Они сели друг против друга за круглый столик, накрытый тяжелым плюшем. — Слушаю тебя, дочка. — Не знаю, с чего и начать… — Может, чайку сперва попьешь? Я мигом согрею. — Нет, нет, спасибо. Видя, что Ирина никак не может справиться с волнением, Рубцов пришел ей на помощь: — У тебя муж-то тоже артист? — Режиссер. — О-о!.. А этот, чернявый? — лукаво подмигнул Арсений Павлович. — Ну тот, с которым ты в прошлое воскресенье на стадионе была? Ирина вскинула на Рубцова смущенный взгляд, хотела что-то сказать, но промолчала. — Н-да, — улыбнулся Рубцов. — Видать, неладно у тебя по сердечной части. — Неладно, Арсений Павлович. Я ведь всю жизнь к театру тянулась, потому и замуж вышла… за режиссера. Глупо. — Почему глупо? Современный, так сказать, брак по расчету. А любишь, стало быть, другого? Не поднимая глаз, Ирина кивнула. — А что он за человек? — спросил Рубцов. — Ты его хорошо знаешь? — Мы с ним со школы вместе. — Ты вот что, — ты меня с ним познакомь. — Зачем? — Одну глупость уж сделала, как бы в другую не вляпалась. Ведь теперь я тебе вместо отца. — Арсений Павлович, я как раз насчет отца и пришла… Вы маме о его смерти рассказывали? — Ну? — А ведь он… жив! — То есть как жив?! Я ж его, можно сказать, своими руками… Но Ирина не дала ему закончить: — Я получила два письма… от отца… Вот они. Прочтите. Рубцов взял вчетверо сложенные листки, которые Ирина достала из сумки, и начал читать. По мере чтения лицо его отразило сначала жадное любопытство, потом недоумение, наконец гнев. У переносья собрались жесткие морщинки. Он невольно поднялся и так, уже стоя, дочитал до конца. Бросив письма на стол, Рубцов достал из нагрудного кармана трубочку с валидолом, положил таблетку под язык. Потом растерянно сказал: — Что ж это… Неужто Букреев здесь? Ты понимаешь, что это значит? Для него и для вас с матерью? — Поэтому я и пришла к вам. — Постой, постой… Может, это путаница какая? — Нет. Я знаю почерк отца. Я сравнивала со старыми письмами… Значит, вы говорили неправду, когда рассказывали о его смерти? — Есть правда, которую, Ириша, не говорят вслух, — сказал Рубцов после мрачного молчания. — Для меня твой отец умер. Было бы хорошо, если бы он умер и для вас с матерью. Эти письма — еще одна подлость, которую он сделал. — Почему вы так говорите? А?.. Арсений Павлович, я хочу знать… знать все… Он мой отец, и я имею право знать правду о нем. — Никогда больше не вспоминай о нем. Он перестал быть твоим отцом, потому что предал тебя, предал мать твою, всех нас. — Умоляю вас, расскажите! — Хорошо, расскажу. — Рубцов потер ладонью высокий, с залысинами лоб, как бы соображая, с чего начать. — Ты считаешь, что твой отец пропал без вести? Это ложь! В свое время я мог бы перед твоей матерью эту ложь рассеять. Но у меня тогда, в первую нашу послевоенную встречу, не хватило духа. Я решил, что для Валентины Петровны лучше быть вдовой пропавшего без вести фронтовика, чем женой изменника Родины. — Изменника? — прошептала Ирина, чувствуя, как отвратительная слабость разливается по телу. — Да, изменника… — Рубцов говорил негромко, но его неторопливые слова, как ни тщательно он их выбирал, чтобы меньше травмировать ее, входили в сознание Ирины, как острые гвозди. — Твой отец добровольно сдался в плен. Он ушел к немцам ночью, убив часового. И ушел не с пустыми руками. Будучи командиром роты, которая охраняла армейский штаб, он сумел выкрасть две оперативные секретные карты… Арсений Павлович, видя, что Ирине не по себе, заботливо подал ей стакан воды. Затем, с трудом преодолевая волнение, продолжал свой рассказ: — Наша дивизия вскоре после этого попала в окружение. Была частично разбита, частично рассеяна. Для вышестоящих штабов она вообще прекратила свое существование, как и все те, кто в ней служил. Только этим я и объясняю, что Букреева включили в списки пропавших без вести. Не понимаешь? Ну, если бы дивизия целиком не попала в окружение, то Букреев не оказался бы в списках, а твоя мать не получила бы сообщения, что он пропал без вести… Когда Арсений Павлович стал делать предположения, как и зачем вернулся Букреев, в каком «амплуа» мог теперь оказаться, Ирина подумала, что их выводы совпадают: с добрыми намерениями потайным путем оттуда не приезжают. — Вот так, Ириша, выглядит эта правда, — печально подытожил Рубцов. Ирина долго молчала. Потом спросила едва слышно: — А как же теперь с письмами?.. Я, наверно, должна сообщить о них. — Послушай, дочка, у тебя что — неприятностей мало? Шутка сказать: у актрисы Булавиной через двадцать лет объявился отец-предатель! — А если он здесь, в городе? — Ты ничего и знать не знаешь. Ни про отца, ни про письма. Матери-то не писала об этом? — Нет. — И не пиши. Хватит с нее того, что пережила. Порви письма и забудь… Когда Ирина возвращалась по ночной улице домой, ее пошатывало от усталости; ноги были как ватные, ныло сердце. Лучше бы она не ходила к Рубцову. Лучше неопределенность, чем эта страшная правда. И к тому же расстроила Арсения Павловича: она видела, как тяжело ему было ворошить в памяти всю эту гниль прошлого.2
В начале июля у Маясова тяжело заболела жена. Врачи определили: отдаленное последствие фронтовой контузии — и дали направление в Москву, в нейрохирургический институт. Маясову пришлось сопровождать жену, устраивать на лечение. Накануне своего отъезда Владимир Петрович поручил лейтенанту Зубкову съездить на экспериментальный завод и рассказать директору о деле Савелова: все, что требовалось сделать чекистам, они сделали, — пусть хорошенько возьмутся за парня администрация и комсомол… В первый же день по возвращении из Москвы Маясов спросил лейтенанта, как он выполнил его указание. Зубков, как всегда подтянутый, с тщательно завязанным галстуком и с тем уверенно-победоносным видом, который появился у него с тех пор, как был арестован Никольчук, начал докладывать о своем разговоре с директором Андроновым. Педантичность и обстоятельность вообще были свойственны лейтенанту, сейчас же он особенно старался «изложить дело в деталях», так как оно происходило в отсутствие начальника, перед которым ему хотелось выглядеть вполне самостоятельным оперативным работником. Маясов слушал его внимательно, изредка кивал головой в знак одобрения. И вдруг удивленно вскинул брови: — Что вы сказали? — Андронов считает, что Савелова надо уволить с завода, — повторил Зубков. — Как это уволить? — Обыкновенно… По сокращению штатов. — Здорово! Ну, а вы? — Я сказал, это его дело, директорское. — Так и сказали?! — Маясов не выдержал, встал из-за стола. — Это же черт знает что! Вы не должны, не имели права так говорить! Вспышка гнева была столь неожиданной, что лейтенант, густо покраснев, вытянулся у стола по стойке «смирно», не зная, что сказать в свое оправдание. И только минуты две спустя смущенно и виновато проговорил: — Я считал, что директор завода имеет право… — Имеет право! — жестко повторил Маясов. — Неужели вам непонятно, что речь идет не просто о лаборанте, а о человеке, о его судьбе… Садитесь! Когда Зубков сел, Владимир Петрович, уже поостыв, продолжал: — Начнем с главного вывода по делу. Каков он? Никольчук после его заброски к нам шпионской деятельности не проводил. Установили мы это или нет? — Так точно. — Второй вывод по делу: связь Никольчука с Савеловым носит случайный характер. Убеждены мы в этом? — Да, убеждены. — Следовательно, у нас нет оснований не доверять Савелову. Так? — Совершенно верно. — А раз так, мы не можем оставаться нейтральными. — Маясов немного помолчал и вдруг сказал: — Вызовите машину! Поедете со мной… В заводской конторе директора они не застали. Секретарша сказала, что Андронов уехал на строительство Шепелевской железнодорожной ветки. — Как, уже начали строить? — спросил Владимир Петрович. — Да, со вчерашнего дня. Маясов решил не дожидаться Андронова в конторе, а ехать прямо в Шепелево: ему захотелось посмотреть своими глазами на то дело, которое, по сути, было начато им самим. Ведь тогда, зимой, Андронов не поддержал идею о строительстве этой ветки. Он дал понять Маясову, что в министерстве лучше знают («им сверху виднее»), когда, где и что надо строить. После этого Маясов вынужден был проталкивать вопрос сам, через областное управление КГБ. В конечном итоге в министерстве, которому подчинялся завод, вопрос сочли важным и дали ему быстрый ход. А директору экспериментального завода попутно указали, что он в свое время не проявил необходимой инициативы. Об этом Маясову стало известно несколько дней назад от секретаря парткома завода инженера Котельникова, с которым он встретился на районном собрании партийного актива. — Не хотел бы я теперь быть на вашем месте, Владимир Петрович, — шутливо заключил Котельников свой рассказ. — Неужели обиделся на меня Сергей Иванович? — А вы как думали? Он считает, что вы его чуть ли не подсидели. — Напрасно, — засмеялся Маясов. — Для этого у него нет никаких оснований… Дорогой до Шепелева Владимир Петрович старался не думать о предстоящем разговоре с директором. Но это ему не особенно удавалось. Припомнились вдруг слова Котельникова, и возникло беспокойство. Нечто вроде смутного предчувствия неудачи. В Шепелеве, неподалеку от платформы перевалочной базы, Маясов вышел из машины и сразу увидел Андронова. Тот разговаривал с инженером-путейцем. Заметив подходившего Маясова, он помахал ему рукой и некоторое время еще продолжал разговор с железнодорожником. Когда, наконец, они остались вдвоем, Маясов сказал о причине своего визита. — Стоило ли из-за этого так спешить? — улыбнулся Андронов, ступая остроносыми ботинками по запыленной траве. — По-моему, у нас с вами нет расхождения в оценке: Савелов фрукт с гнильцой, настроения у него, мягко выражаясь, нездоровые, поведение в жизни — явно аморальное… — Все это, Сергей Иванович, так и в то же время не так. — Маясов шагал рядом, сцепив пальцы на пояснице. — Вот вы говорите: нездоровые настроения. Но давайте вдумаемся: что это? Злобствование махрового антисоветчика? Нет же! Юношеская обида на всех и вся в связи с собственными неудачами. Дальше. Аморальное поведение… Интрига с замужней женщиной… Не те слова! Можете поверить, дело здесь гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это не пошлая связь, не флирт, а любовь — глубокая, настоящая. По крайней мере с его стороны. Маясов немного помедлил и закончил: — Короче говоря, у вас нет оснований увольнять парня. Особенно если учесть, что в лаборатории, кажется, штатных сокращений не намечается. — Ну, это, Владимир Петрович, позвольте мне знать! — возразил Андронов. — Если нет штатных сокращений в лаборатории, то они есть на других участках. И я не считаю правильным увольнять хороших работников, честных советских людей, а таких, как Савелов, оставлять на заводе. — Почему, разрешите уточнить? — Да потому, что этот стихоплет не внушает доверия. — Андронов вдруг остановился, взял Маясова за пуговицу пиджака. — Логики не вижу в ваших рассуждениях, дорогуша. — Что вы хотите этим сказать? — Вспомните, когда мы с вами зимой у меня в кабинете толковали по поводу ликвидации Шепелевской перевалочной базы и о строительстве этой ветки, вы мне рьяно доказывали, как необходима широкая предупредительная, так сказать, профилактическая работа на предприятиях, подобных моему заводу. А прошло каких-нибудь пять-шесть месяцев, и вы берете под защиту человека, скомпрометировавшего себя, считаете, что он может работать на важном оборонном объекте. — Стреляете мимо цели: бдительность и огульная подозрительность вещи разные. Если говорить без обиняков, вы хотите перестраховаться: а вдруг что случится? С меня, мол, спросят, с директора. Андронов перестал улыбаться. — Да, я директор и не хочу рисковать репутацией вверенного мне завода. К тому же я не могу взять в толк вашу амбицию: Савелова не репрессируют, не наказывают, мы его просто увольняем по сокращению штатов. Что же в этом страшного? — Страшно то, что это произвол! — резко сказал Маясов. — Кстати, стоило бы вам знать, что из-за контрактуры пальцев правой руки парень не может работать по своей специальности слесарем-ремонтником. — Пусть идет в парикмахеры, — усмехнулся Андронов. «У нас уже один уходил в парикмахеры», — хотел сказать Маясов, имея в виду Никольчука, но вместо этого спросил: — Это ваше окончательное решение? — Приказ об увольнении подписан. — Что ж… В таком случае можно считать нашу приятную беседу законченной… Но имейте в виду: я буду ставить этот вопрос в партийном порядке. — Это ваше право, — сказал Андронов. Говорить им было больше не о чем. И они, сухо попрощавшись, разошлись каждый к своей машине.3
Маясов не так бы расстраивался, знай он о разговоре, который произошел чуть позже в тот же день между Андроновым и секретарем парткома Семеном Семеновичем Котельниковым. Они сидели в комнате парткома. Попыхивая трубкой, Котельников долго молчал. Потом вдруг сказал задумчиво: — Ничто так не сбрасывает человека обратно в яму, как недоверие… Андронов прошелся по комнате. — А вы не думаете, Семен Семенович, что народ нас может неправильно понять, и этот Савелов героем еще прослывет: взял, мол, верх над директором! Он уже набил себе руку на антидиректорских пасквилях. — Это вы насчет карикатуры и стихов о клубе? — Допустим. — То, Сергей Иванович, если говорить начистоту, тоже была критика. Хотя по форме, быть может, и уродливая… Андронов тяжело опустился в кресло у стола, подпер ладонью тугую, гладко выбритую щеку. Он никак не ожидал, что вся эта история с лаборантом получит столь шумный резонанс. Очень нескладно вышло. Котельников — человек в высшей степени решительный, и «принципиальничать» с ним не так-то просто, да и небезопасно для директорского авторитета. Разумнее всего закончить эту заваруху мирно, без шума, без обнаженных шпаг. И, как бы подытоживая свои раздумья, перед уходом из парткома на совещание с начальниками цехов Андронов сказал: — Что ж, придется это дело переиграть. — Что именно «переиграть»? — Приказ директорский, вот что… Когда за Андроновым закрылась дверь, Котельников, насупив седоватые брови, подошел к окну. Ему не понравилось словцо, вырвавшееся у директора: «переиграть». Будто речь идет о пустяке каком-то. Нет, уж если ты решил, то до конца отстаивай свою правоту, доказывай, а если потребуется — в драку лезь. А то «переиграть»… Вернувшись к столу, он снял телефонную трубку: — Лабораторию! Анохина. Через несколько минут в трубке послышался запальчивый юношеский голос: — Анохин на проводе. — Костя, я к тебе опять о Савелове… Что с ним делать-то будем? — Так вы же, Семен Семенович, правильно предложили, поскольку он не комсомолец, обсудить его на молодежном собрании, — затараторил Костя. — Будет сделано! Пропесочим по седьмому разряду… — Погоди, «пропесочим»! И откуда только у тебя слова такие. Ведь ты теперь комсорг цеха… Давай-ка вот что: приходи ко мне, посоветуемся, как лучше провести это собрание.ГЛАВА V Серебряный портсигар
1
Андрейку Чубатова застал на улице дождь, настоящий ливень. Мальчишка спрятался под карниз дома. Там он стоял долго. А дождь все лил, хлестал сверху упругими струями. От нечего делать Андрейка оглядывал по-утреннему малолюдную площадь. К соседнему дому, где находилась лучшая в областном центре гостиница «Восток», подъехал большой желтолобый автобус. Едва он остановился, из дверей дома с веселым шумом начали выскакивать люди и под дождем бежать наперегонки, стараясь поскорее попасть в сухое, теплое нутро машины. Во время этой толчеи из кармана у одного из бегущих вдруг вывалилось что-то блестящее и, мягко звякнув, упало на мокрую мостовую, рядом с колесом автобуса. Андрейка крикнул: «Эй, дядя!» Но дверцы уже захлопнулись, и автобус тронулся. Прикрыв голову от дождя продуктовой сумкой, Андрейка быстро подбежал к блестящему предмету, схватил его и тут же вернулся под карниз дома. Предмет оказался обыкновенным портсигаром. Андрейка попробовал открыть его, но ничего не получилось. Наверное, замок сломался.2
Бег времени всесилен и неудержим. Каждый день, сменяя день минувший, приносит новые заботы и волнения. Во вторник утром Маясов вызвал лейтенанта Зубкова и сказал: — Для вас есть новое задание… И объяснил, что вчера в отдел приходил слесарь экспериментального химзавода Смолин — принес найденный на улице областного центра уникальный портсигар, который когда-то принадлежал изменнику Родины, гитлеровскому карателю Букрееву. Надо выяснить все обстоятельства и начать розыск Букреева. Лейтенант внимательно выслушал начальника и ничего не сказал. — Вам понятно, что от нас требуется? — Так точно, товарищ майор. Маясов уловил, что это привычное «так точно» было произнесено без всякого энтузиазма. Ответ не понравился Маясову. Он подумал, что лейтенант, видимо чувствуя вину за недавнюю оплошность по делу Савелова, воспринял новое задание как некую воспитательную меру со стороны начальника. Работа по розыску бывших карателей и вообще преступников военного времени считалась среди сотрудников не особенно желательной: возни много, а результаты, даже при удачном исходе розыска, не доставляли профессионального удовлетворения. Для настоящего контрразведчика (которым в душе не мог не считать себя лейтенант) куда интереснее было заниматься действующими шпионами, чем ворошить архивы, искать очевидцев и свидетелей преступлений, совершенных много лет назад. Маясов приучал своих сотрудников к тому, что нет дел мелких или неинтересных, что в чекистской работе все важно и все серьезно. Поэтому он решил несколько расшевелить воображение лейтенанта и рассказать ему со слов Смолина предысторию подозрительной находки. Предыстория эта была такова. Впервые букреевский портсигар Федор Гаврилович Смолин увидел в партизанском лагере. Этот лагерь отряд готовил на зиму в районе урочища Кленовый яр. В тот погожий октябрьский день они копали траншею. Пошабашили на перекур. Смолин с цигаркой в зубах лежал под кустом, следил за полетом переливчатых паутинок в прозрачном воздухе. Внезапно знакомый голос вывел его из ленивого оцепенения: — Федор, поди-ко! Смолин поднялся, застегнул телогрейку и, прошуршав сапогами по белесой траве, подошел к своему младшему брату. Он сидел на покрытом свежим дерном бруствере. Рядом курил партизан из второй роты Букреев. Смолин немного знал его: на прошлой неделе вместе рубили в лесу слеги для землянок. — Гляди-ко… — Братишка подал Федору мягко блеснувший на солнце тяжелый серебряный портсигар. — С секретом, и воды никакой не боится! — И тут же с досадой посетовал: — Торгую вот у него, а он упирается. Букреев почесал в округло подстриженной бороде. — Сказано тебе, эта вещь фамильная, не для продажи… На том разговор и кончился. Еще раз судьба свела Федора Гавриловича с хозяином редкостного портсигара при обстоятельствах исключительных: во время боя с карателями, напавшими на отрядный лагерь. Это случилось на рассвете. Смолин проснулся от взрыва мины. Рвануло где-то поблизости у землянки. С потолка посыпалась сухая глина. Висевшие на стене ходики упали. Федор Гаврилович выбежал наверх. Партизаны, кое-как одетые, а кто и просто в одном исподнем и босиком, как могли отбивались от немцев. Выстрелы раздавались редко: в ход были пущены штыки, приклады и кулаки. Бой был неравный. Партизаны начали отступать. Смолин с братом прикрывали отход отряда, перебегая со своим «максимом» от одной позиции к другой, расстреливая наседавших гитлеровцев короткими очередями. После одной из перебежек, упав в неглубокую воронку от мины, Федор Гаврилович установил пулемет, привычно протянул руку за лентой. Но брат замешкался: патронная коробка не открывалась. Смолин хотел закричать на брата, но не закричал — страх сдавил сердце и лишил голоса: справа, из кустов, вдруг выметнулась группа немцев и устремилась к замолкшему пулемету. Не спуская с них напряженного взгляда, Федор Гаврилович онемело лежал с протянутой к брату рукой. Брат, плача и матерясь, обдирая пальцы и обламывая до крови ногти, пытался открыть патронную коробку. Уже различимы стали лица солдат, одетых в темно-зеленые шинели с оловянными пряжками ремней. Впереди, потрясая пистолетом, бежал сухопарый длинный унтер. Его лицо, небольшая борода, характерный наклон головы показались Смолину страшно знакомыми… Когда брату, наконец, удалось сбить каблуком барашек запора у патронной коробки и Смолин продернул ленту в приемник, немецких солдат, возглавляемых унтером, достать из пулемета было уже трудно: они залегли на скате высоты, в мертвом пространстве. «Теперь начнут донимать гранатами», — подумал Смолин. И не ошибся. Первым приподнял голову над белой от инея травой унтер. Сейчас Смолин еще лучше, чем прежде, увидел его лицо. Увидел и не поверил своим глазам: в пятнадцати шагах, за серым валуном, одетый в немецкий мундир, лежал партизан второй роты Букреев… Раздумывать над этим было некогда. Брошенная унтером граната, описав крутую дугу, упала в трех метрах от воронки, где лежали Смолины. Взрывом перевернуло пулемет. Братья снова поставили его на катки, но он уже не работал. Вынув из пулемета замок, Федор Гаврилович стал отползать вслед за братом к оврагу… Через несколько дней небольшая группа партизан пробралась в свой разгромленный лагерь. Они пришли, чтобы предать земле тела погибших товарищей. И тут Смолин опять услышал фамилию Букреева. Услышал, чтобы уж никогда не забыть ее! То, что раньше было лишь смутным подозрением, теперь не вызывало сомнений: произошло подлое предательство. На развилке лесных дорог, где находился один из сторожевых постов отряда, обнаружили труп партизана первой роты Сухова. Он был убит сзади ударом ножа в шею. А в трех метрах от убитого в густой траве нашли маленькие ножны с металлическим наконечником. — А ведь это, ребята, букреевская вещица! — сказал рябоватый снайпер Тюрин. — Узнал отца в тесте! — недоверчиво усмехнулся кто-то. — Букреев за три дня до налета ушел с Медведевым и Орленко в разведку. Откуда взяться тут его финке, если из разведки никто не вернулся? Смолин сразу вспомнил бородатого унтера, взял у Тюрина ножны. — Дойдем к комиссару!.. Федору Гавриловичу очень хотелось выяснить эту темную историю. Но так, к сожалению, и не удалось. Вскоре начались бои, стало не до Букреева. Потом эта история постепенно забылась. Но вот теперь, когда старик увидел знакомый портсигар, она неожиданно воскресла. Конечно, может статься, что владелец у этой вещи уже другой. Но что, если предатель и убийца жив? Что, если он топчет советскую землю, и, быть может, даже живет в одном городе с теми, кого предал девятнадцать лет назад?.. Когда Маясов рассказал обо всем этом Зубкову, тот с интересом спросил: — Вы, товарищ майор, кажется, тоже воевали в этих местах? — Да, — сказал Маясов. — Эта история мне знакома не только со слов Смолина. И он отошел к раскрытому окну. Пока лейтенант с любопытством разглядывал букреевский портсигар, изучая секрет его замка, Владимир Петрович курил, глядя на синюю кромку леса, видневшуюся над крышами домов. Это там, в Ченских лесах, в партизанском краю, начиналась его боевая жизнь. Он попал туда прямо со спецкурсов, на которые был направлен по комсомольской путевке как спортсмен-лыжник. В отряде — от рядового бойца до командира взвода — вдоволь хлебнул партизанского лиха. Вместе со Смолиным пришлось ему пережить горечь и унижение разгрома в урочище Кленовый яр осенью сорок второго года. В том же бою тяжело контузило жену Маясова — радистку отряда. Потом — служба в действующей армии. Особый отдел дивизии, а затем корпуса. Ранение на Одере. После лечения в госпитале Маясов демобилизовался и пошел в химический институт доучиваться. Став инженером, он около шести лет проработал ка Зеленогорском химкомбинате, а оттуда в 1954 году его направили в областное управление КГБ. Время было трудное, напряженное: полным ходом шла перестройка деятельности органов государственной безопасности. И вот снова Ченск. Город, в котором начиналась его боевая биография. И, быть может, поэтому стал он для него таким дорогим и близким.3
Поздним июльским вечером по шоссе из Ченска шел последний рейсовый автобус. Лучи фар вырывали из темноты унылую, навевающую дремоту ленту асфальта. В салоне автобуса всего несколько пассажиров. На диване у кабины водителя поклевывает загорелым до красноты носом старик крестьянин. Рядом с ним усталая женщина с неподвижным, ничего не выражающим взглядом. На руках у нее спит ребенок, завернутый в байковое одеяльце. В другом углу салона тесно прижались друг к другу парень и девушка. Оттуда то и дело доносится приглушенный смех и неразборчивый говор, тонущий в шуме ветра и рокоте мотора. У задней двери одиноко сидит человек в стареньком пыльнике с поднятым воротником. Лица его не разглядеть: он сидит, отвернувшись к окну, надвинув на глаза кепку. У ног его плетенная из прутьев корзина, с которой удобно ходить за грибами: легкая и вместительная… Мчится автобус, мелькают по бокам его беленькие придорожные столбики. Но вот, наконец, и короткая остановка. Глухо урча мотором, автобус прижался к обочине. Распахнулась дверь, пассажир в пыльнике подхватил свою корзину и шагнул в темноту. Подождав, пока автобус исчез за поворотом, он пересек шоссе, поднялся на крутой откос, постоял там с минуту, любуясь россыпью огней близкого селения, и зашагал по проселку в противоположную от деревни сторону. Пройдя километра два, человек с корзиной свернул с проселка на едва заметную в траве тропу, ведущую в лес. Зыбкий, неверный силуэт его окончательно растворился в непроглядной темени. Теперь слышались лишь слабый шорох раздвигаемых веток да сухое потрескивание валежника под тяжелой ступней. В одном месте, там, где человеку показалось, что он заблудился, дважды мгновенными вспышками загорался и тотчас гас луч карманного фонаря. И снова треск валежника в темноте. Человек шел по лесу, пока не достиг крохотной; стиснутой кустами полянки. Здесь он поставил свою ношу на землю, опустил воротник пыльника и чутко прислушался. Было тихо. Только чуть слышно шелестела листва над головой да откуда-то издалека приглушенный лесным массивом донесся протяжный гудок электровоза. Достав из-под тряпья в корзине саперную лопатку, человек опустился на корточки перед большим, поросшим мягким мхом камнем. Несколько сильных, резких движений лопатой — и тайник под валуном открыт. В яме — небольшой герметически закрытый чемодан. Человек вынул чемодан из тайника, поставил на широкий пень, снял крышку. Потом, нащупав пальцами гнездо, он выдвинул телескопическую антенну, аккуратно расправил «звездочку» на конце ее. Вынув из нагрудного кармана заранее запрограммированную «обойму» для передачи, он вставил ее в приемник, включил питание и нажал на пусковую кнопку. В ту же секунду из железного нутра радиоавтомата вырвался и унесся в черное, равнодушное ко всему небо прерывистый писк морзянки…Радиопередача из Ченского леса продолжалась всего одну минуту. Принята она была далеко на западе от этого места — в узком, длинном, ярко освещенном зале с высокими готическими окнами, надежно защищенными металлическими решетками. Вдоль стен — бесконечный ряд сложных, опутанных проводами приборов. Сюда, под сводчатый потолок этого зала, стекаются из эфира по чутким нервам мощных антенн тысячи тайных сигналов, которым предстоят еще сложные превращения, прежде чем хаотический цифровой набор обретет стройную форму сводок и донесений, отпечатанных на машинке на хорошей бумаге и доложенных по назначению.
4
В Западном Берлине есть две большие шумные площади. Их соединяет не менее шумная улица — широкая, многолюдная. А неподалеку, почти параллельно, протянулась другая улица — узкая и тихая, с потемневшими от времени островерхими домами в тени старых каштанов. В конце этой улицы за высоким забором из гофрированного железа стоит двухэтажный каменный особняк. На заборе, справа от калитки, — небольшая медная дощечка. Судя по надписи, в доме разместилась контора частной американской фирмы, ведущей торговые дела с СССР. Здесь действительно занимаются делами, имеющими отношение к Советскому Союзу. Но только не торговыми. В этом можно убедиться, если, открыв калитку, пройти асфальтированным двориком мимо гаража и зеленых кустов сирени, потом подняться по неширокой мраморной лестнице на второй этаж. Алая ковровая дорожка приведет к двойным дубовым дверям, за ними большой кабинет с дорогой старинной мебелью и высокими стрельчатыми окнами. В один из жарких июльских дней сюда вошла, почти вбежала, энергичная Элен Файн: — Вы позволите?.. Полковник Лаут сидел за столом без пиджака, в белой рубашке, с распущенным галстуком. Он недовольно поднял от бумаг седую, гладко причесанную голову. Ему не нравилось, когда его отрывали от работы в неположенное время. Каждый сотрудник должен знать свой час приема и не мозолить глаза начальнику без особой необходимости. Порядок есть порядок. К тому же Файн нарушила ход его мыслей, оторвала от важной работы. Работа эта была не только важная, но и срочная. На прошлой неделе Лауту позвонили по спецтелефону из Франкфурта-на-Майне, — там в здании бывшего химического концерна «И. Г. Фарбениндустри» находилась теперь европейская штаб-квартира ЦРУ, официально именуемая «Управлением специальных армейских подразделений». Оттуда сообщили: руководители всех филиалов ЦРУ, размещенных на территории Западной Германии и Западного Берлина, приглашаются на совещание по координации плана готовности к «Э-фалль». Совещание состоится в Берлине — Целендорф, Клейаллее, 170. В тот же день, после обеда, Лаут поехал на Клейаллее. Дом 170 занимал аппарат «Группы региональной поддержки американской армии», или, говоря по-иному, главный филиал ЦРУ в Западном Берлине — самый крупный разведывательный орган США в Европе. Начальник этого филиала Дейв Мерфи ознакомил Лаута с тезисами основного докладчика — директора ЦРУ и уточнил те вопросы, которые должен был осветить в своем двадцатиминутном выступлении сам Лаут. На другое утро Лаут уже засел за составление своего доклада. Присутствие на совещании главного шефа ко многому обязывало. Правда, вопрос о степени готовности к «Э-фалль» — «серьезному случаю», а говоря точнее — к военным действиям, для Лаута был не нов. Собственно, вся деятельность возглавляемого им филиала за последние годы была подчинена этой задаче. И не только его филиала. Это была «задача задач» всех секретных служб и агентурных организаций Западного Берлина, как определил ее однажды сам директор ЦРУ в своем специальном циркуляре. Основным в докладе Лаута на предстоящем совещании должен быть вопрос о решающих принципах создания агентурной сети в канун превентивных боевых действий. Вчерне эту работу он уже закончил. И результатами ее был доволен. Ему удалось сухую схему оживить новейшим опытом практики. Разумеется, практики возглавляемого им филиала. И кажется, перед директором ЦРУ ему краснеть не придется… Но работы оставалось еще немало. Бросив на стол карандаш, Лаут отрывисто спросил: — В чем дело? — Могу вас, наконец, обрадовать, шеф: у Никольчука оказался толковый преемник… — Файн положила на стол несколько листков, сцепленных прозрачным пластиковым зажимом. — Судя по этому донесению, Барсук активно включился в работу. Лаут кивком пригласил помощницу сесть и, постукивая пальцами по столу, начал читать отпечатанные на машинке листки. Файн внимательно наблюдала за выражением лица полковника, державшего в руке долгожданную шифровку из Ченска. Эта шифровка достоверно подтверждала, что работа по вводу нового агента в Ченское дело, наконец, завершена, а самое дело вступило в решающую фазу. Все последнее время Файн, в сущности, жила этим делом, думала о нем постоянно — разрабатывала по указанию шефа наиболее эффективные пути замены Никольчука Барсуком. Вначале Лаут считал этот вариант запасным. Но потом, когда Барсук, бывший агент гитлеровского абвера, был достаточно изучен, а затем перевербован (это сделала лично Файн), стало ясно, что именно он и будет преемником Никольчука. Барсук был введен в Ченское дело. После этого потянулись изнуряющие недели ожидания: что же принесла эта работа? Сама Файн уже никак не могла повлиять на ход событий, которым они вместе с Лаутом дали движение. Оставалось только надеяться, что это движение (пока невидимое и неконтролируемое) происходит в заданном направлении. И вот, наконец, этой неизвестности больше нет. Все прояснилось, встало на свои места. Замысел Лаута — через Барсука спутать чекистам карты — по-видимому, удался. Кончив читать донесение, полковник поднял голову от бумаг. — Что ж, пока неплохо. Он встал из-за стола, маленький, быстрый. Подошел к круглому инкрустированному столику в углу кабинета, нацедил из сифона стакан содовой. — Учтите, Элен: информация по экспериментальному заводу не должна залеживаться у Барсука ни одного лишнего часа. — Агент снабжен быстродействующим передатчиком, — сказала Файн. Лаут недовольно поморщился. — Только не радио… Даже автомат с часовой системой не гарантирует от пеленгования. Передайте Барсуку: отныне для него выход в эфир только в крайнем случае. — Полковник помолчал немного. — Необходимо найти более эффективный и безопасный способ связи… И вообще было бы целесообразнее направлять работу агента непосредственно из России. — Может быть, передать Барсука на связь посольской резидентуре? — Я уже подумал об этом. Что вы скажете относительно капитана Ванджея? — Гарри Ванджей?.. Я не совсем понимаю вас, шеф. — Все довольно просто. Ванджей давно просился на дипломатическую работу… — Теперь ясно… — Файн улыбнулась, хотя эта новость ее не обрадовала. Вот, оказывается, о какой «небольшой командировочке» трепался толстый Гарри месяца четыре назад. Что ж, скатертью дорога, как говорят русские. Ванджей, конечно, смелый и опытный разведчик. Но она терпеть его не могла. Хотя бы за то, что он сын богатейшего заводчика, а ее родители всего лишь простые клерки. Гарри никогда не испытывал нужды в деньгах и поэтому ни в чем себе не отказывал. Карьеру ему делали связи его семейства, а она, Элен Файн, подымалась по служебной лестнице только своими силами… Вот и теперь: чистая, безопасная работа под дипломатической крышей, интересная, новая жизнь в чужой стране, деньги, комфорт — что еще может желать профессиональный разведчик! Везет жирному борову… — И последнее, — прервал ее мысли Лаут. — Учитывая сложность задания, передайте Барсуку, чтобы в средствах он не стеснялся.5
В воскресенье Маясов с семилетним сыном Вовкой собирались поехать на целый день в лес, на озеро. Для этого у них уже все было приготовлено: и этюдник, и мяч, и желтый сачок. Однако заманчивый план пришлось поломать: утром из пионерского лагеря пришло письмо от Гали, дочери Владимира Петровича. Она просила отца купить и поскорее привезти ей (к дню отрядных соревнований) кеды и спортивные шаровары. Мужчины посовещались за завтраком и великодушно решили исполнить эту просьбу. А на озеро поехать в другой раз. Напившись чаю, они быстро собрались и вышли из дому. Походили по магазинам на своей улице — ничего подходящего не нашли. Решили ехать в центр. Сели на троллейбус, доехали до «Детского мира». Возле остановки, рядом с баней, был ларек. Тут продавали мыло, мочалки, веники. У окошечка стояло несколько человек. И среди них лейтенант Зубков. Он только что купил березовый веник — плоский, слежавшийся, и потряхивал им, чтобы расправить. — Виктор! — позвал Маясов. Зубков обернулся и вдруг смутился, увидев своего начальника. Маясов засмеялся: — Попариться захотел? — Да вот, после дороги… — Дело стоящее, — сказал Маясов. — Вы когда приехали? — Сегодня утром. — Ну и как? Лейтенант огляделся по сторонам, отвел Маясова на несколько шагов от ларька и, пока Вовка управлялся с мороженым и глазел на мочалки и веники, вкратце доложил о своей пятидневной командировке. — В общем подозрения по Узловой начисто отпадают, — сказал он под конец. — Значит, поездка ничего не дала? — Не сказал бы, — лейтенант улыбнулся. — Был еще второй автобус, ченский. — Ну, ну, выкладывайте. — Человек в плаще с погончиками, которого мы ищем, есть, по всей видимости, Ласточкин. — Ласточкин? — Да, помощник художественного руководителя Ченского дома культуры… Мне удалось выяснить, что он ездил с самодеятельностью на областной смотр и потерял серебряный портсигар. — Интересно, — задумчиво сказал Маясов. — Что ж, завтра об этом поговорим. И они распрощались. Зубков пошел к бане, а Маясов с Вовкой отправились в свой магазин. Но теперь у Владимира Петровича уже не было того душевного подъема, с которым он утром вышел из дому. Сообщение лейтенанта его озадачило. Маясов стал припоминать, что ему известно о Ласточкине. Это друг Игоря Савелова. Вместе строили честолюбивые планы, мечтали о славе на поприще искусства… Но каким образом мог оказаться у Ласточкина этот букреевский портсигар. «Да и букреевский ли он? — тут же спросил себя Маясов. — И вообще, не ошибся ли старик Смолин? Разве не может быть двух абсолютно похожих вещей? Правда, этот портсигар, по всему видать, делался на заказ. Вещь действительно уникальная. Оригинальная инкрустация, замок с секретом, вензель внутри на крышке: «АБ», что надо, вероятно, понимать как «Александр Букреев»… Нет, едва ли этот портсигар Ласточкина. Что-то здесь не то…» Вовка тянул отца за руку, Маясов как бы опомнился, и они влились в шумный людской поток, который подхватил их и понес под высокие своды самого большого и красивого магазина в Ченске.6
На другой день после разговора у бани Маясов и Зубков вместе разработали новый план розыска по делу Букреева. Прошло еще четыре дня, и лейтенант снова пришел к начальнику отдела: — Я хотел бы доложить о ходе розыска… Маясов взглянул на часы. Предстояли дела более срочные и важные, чем розыск бывшего карателя. — Чтобы не комкать вашего доклада, давайте встретимся завтра с утра, ровно в девять, — предложил Владимир Петрович. — Идет? — Нет, товарищ майор! — упрямо сказал Зубков. Маясов удивленно посмотрел на лейтенанта. — Что-нибудь стряслось? — Пока ничего не стряслось. Но… — Зубков помедлил. — Дело в том, что, хотя портсигар потерял действительно Ласточкин, хозяин у этой вещи совсем другой. — Кто же? — Портсигар принадлежит Савелову. — Что?! — Да, товарищ майор. Как выяснилось, к Ласточкину он попал случайно. Перед своим отъездом в область тот взял его у своего приятеля Игоря Савелова. Ну, просто, чтобы пофорсить. — А каким образом букреевский портсигар очутился у Савелова? Зубков ничего не ответил, и они с полминуты молча глядели друг на друга. Потом, обстоятельно расспросив лейтенанта, как ему удалось получить эти сведения, Маясов встал из-за стола и, мрачный, принялся шагать по кабинету. То, что рассказал Зубков, не укладывалось у него в голове. При самой необузданной фантазии нельзя было предположить такого оборота дела… Если сведения лейтенанта верны, надо немедленно выяснять, каким путем портсигар попал к Савелову. Промедление недопустимо. Потому что одно дело, когда вещь, ранее принадлежавшая изменнику, оказалась вдруг, скажем, у Ласточкина или какого-то иного нейтрального лица, и совсем другая картина, если к этой вещи имеет отношение Савелов. С одной стороны, преступник военных лет, пока неизвестно где и на кого работающий, а с другой — лаборант оборонного завода, которого подозревали в пособничестве агенту иностранной разведки Никольчуку. Маясов понимал, что самое простое в создавшемся положении — это поговорить с самим Савеловым. Парня можно вызвать в отдел повесткой или встретиться с ним где-нибудь в другом месте — как ему удобнее — и обо всем, что требуется, расспросить. И тогда окажутся излишними хитроумные окольные тропинки к истине. Вместо сложных и дорогостоящих оперативных комбинаций простой разговор по душам поможет сразу, без зигзагов выйти в розыске карателя на прямую магистраль. И не исключено, что скоро приведет к определенным, ощутимым результатам… Но к каким результатам? Вдруг окажется вопреки прежним выводам о Савелове, что он не такой, каким чекисты «открыли» его? Ну, не то чтобы вовсе не такой, а хотя бы частично? То, что Савелов не враг, — это вне всяких сомнений. Но могли ведь его запутать? Игнорируя пока предположение, что букреевский портсигар попал к Савелову случайно, оставалось допустить, что этот парень к разыскиваемому преступнику имеет, возможно, какое-то косвенное отношение. Но даже и в этом, лучшем случае, прямая беседа с Савеловым чревата серьезными последствиями, так как нет гарантии, что содержание беседы не просочится куда не следует. «А почему бы, собственно, такой гарантии не быть? — спросил себя Маясов. — Разве у меня нет веры в парня?» Он подошел к сейфу, вынул толстую тетрадь, в которую заносил различные пометки и соображения, когда вел дело Никольчука и Савелова, и стал ее перелистывать. Но ничего утешительного для себя там не нашел. Маясов позвонил по внутреннему телефону Дубравину — попросил его зайти. И когда тот пришел, кратко рассказал ему о внезапно осложнившемся деле. — Н-да, — пробасил Николай Васильевич. — Неужели поторопились мы с Савеловым? Маясов не ответил. — А что, если этот самый Букреев сейчас здесь, в городе? — приподнял голову Зубков, сидевший за приставным столиком. — Может быть, — сказал Маясов. — Все, Зубков, может быть. — Тогда нужно что-то срочно предпринимать! Ведь если Савелов связан с Букреевым и успел предупредить… — Теоретически, конечно, и это возможно. — Предлагаю, товарищ майор, вынести постановление о временном задержании Савелова, — сказал Зубков. Маясов внимательно посмотрел на него: — А стоит ли?.. Человек он путаный, с вывихом — еще более озлобится… Может, просто вызвать его? — А если не придет, скроется? — Мне кажется, дело не в том, придет или не придет, — заметил Дубравин. — Чужая душа — потемки. А вдруг Савелов действительно замешан. В таком случае, если вызовем или приведем его сюда — значит спугнем, испортим дело. — Выходит, чтобы прояснить ситуацию, надо искать какие-то окольные дорожки? — задумчиво проговорил Маясов. — Конечно. — Но это же явная потеря времени. — Иначе можем дров наломать. В конце концов Маясов решил: что бы там ни было, но рисковать конспирацией он не имеет права. И тут же подал Зубкову несколько листов чистой бумаги. — Пишите! Лейтенант достал авторучку. — План дополнительных оперативных мероприятий по делу о розыске изменника Родины Букреева… — начал диктовать Маясов. Он диктовал минут десять, лейтенант едва успевал записывать. Потом Маясов попросил прочитать план вслух. Пока Зубков читал, Владимир Петрович, казалось, не слушал его — тихонько постукивал карандашом по настольному стеклу, глядя куда-то в окно. — Ну как? — спросил он, когда лейтенант умолк. — По-моему, хороший получился план. — Да, план неплохой… — рассеянно проговорил Маясов. И, помолчав, неожиданно резко спросил: — А нужен ли он вообще?! Зубков непонимающе посмотрел на начальника. — К чему все-таки огород городить? — почти сердито сказал Маясов. Было похоже, что сердится он на самого себя, быть может, на свою нерешительность. — Зачем мудрить с каким-то планом, если можем поговорить с самим Савеловым? С этими словами Владимир Петрович взял у Зубкова четко исписанные листки и разорвал их пополам. И еще раз. Затем клочки полетели в коробку для испорченных и уничтоженных документов, стоявшую в нижнем отделе сейфа. — Вот что, — сказал лейтенанту Маясов. — Напишите-ка Савелову повестку на завтра… Пусть сам ко мне явится… Когда Дубравин и Зубков ушли, Владимир Петрович устало опустился в кресло, закрыл глаза, долго сидел так. Потом стал просматривать бумаги, принесенные секретаршей еще утром. Сложил их в папку, убрал в сейф. Взглянул на часы: рабочий день давно уже кончился. Но Маясов все не уходил из отдела, сидел за столом, сцепив длинные пальцы. Он ждал звонка от Зубкова. И, наконец, без четверти восемь дождался. Лейтенант сказал по телефону всего два слова: — Повестку вручил. Маясов вздохнул с облегчением: он преодолел минутную слабость, поборол собственное предубеждение против человека, которому раньше поверил прочно и до конца.Устав за необыкновенно трудный день, Владимир Петрович спал в эту ночь, как никогда, крепко. И поэтому не сразу услышал зазвонивший рано утром телефон. Когда проснулся, протянул руку к столику у кровати, снял трубку. Кто бы это мог быть? В телефонной трубке, неожиданно для себя, Маясов услышал взволнованный, торопливый голос директора химзавода. Даже не сразу узнал его: самоуверенный Андронов никогда не разговаривал таким тоном. Спросонок Маясов не вдруг понял, чего от него хотят. И только потом, когда директор повторил свои слова, до майора дошел, наконец, смысл сказанного: — Сегодня ночью убит Савелов…
ГЛАВА VI Две версии
1
Кто-то сказал: дремать сидя — профессиональная болезнь шофера. Может, это он вычитал где-то в сатирическом журнале или слышал от какого-то ехидного человека — есть еще такие. «Профессиональная болезнь» — придумают же… Нет, спать он не будет: не такой выдался нынче денек. Чтобы перебороть дремоту, Тюменцев вылез из машины, начал ходить туда-сюда по мягкому асфальту. Солнце палило нещадно. «При такой тропической погодке много не натопаешь», — сказал он себе и снова забрался под брезентовый тент «газика». Сел, закрыл глаза, натянул кепку до переносицы — и мгновенно уснул, будто в теплую воду опустили. Минут через тридцать, проснувшись, Тюменцев поглядел на часы и удивленно присвистнул: с того момента, как он подвез к дому милиции майора Маясова и лейтенанта Зубкова, прошло почти полдня. И неизвестно было, сколько еще придется торчать на этом пятачке под безжалостно горячим солнцем. Какие-то сумасшедшие были эти дни. Вчера утром, например, он по обыкновению подъехал к дому, где жил Маясов, и вдруг из окна услышал голос его тещи: — А Владимир Петрович давно ушел… Тюменцеву даже не по себе стало: уж не ошибся ли он, вовремя ли подал машину? Не получилось ли, как в прошлый понедельник, когда он опоздал на целых десять минут и майор ушел пешком. В то утро они с Арсением Павловичем Рубцовым были на рыбалке. И пожадничали, засиделись с удочками. А потом, на обратном пути, их еще задержало одно происшествие возле Дома культуры. У подъезда стояла толпа, и, когда они спросили, что случилось, какая-то бабка сказала: — Кассу, сыночки, ограбили. Да еще, говорят, музыкальные струменты из кладовой утащили. Приятели увлеклись, смотрели, как работают сотрудники уголовного розыска с собаками. Ну и опоздал Тюменцев… Зато после этого неприятного случая он старался во всем быть на высоте. Машина у него сияла, пол в гараже был посыпан песочком. Сам меньше зубоскалил и паясничал и даже бросил курить, решительно разорвал на глазах у майора недокуренную пачку сигарет. Правда, истинные причины этой самоотреченности Маясову были неведомы: Тюменцев всего лишь выполнял приказ своего тренера. И вдруг вчера, что называется нежданно-негаданно, опять опоздание. Обругав себя раззявой, Тюменцев повернул машину от дома Маясова, погнал ее обратно в отдел. И как только приехал, сразу же побежал наверх, к секретарше Нине. Эта Нина, между прочим, была влюблена в двоюродного брата Тюменцева — Николая. И поэтому Тюменцев позволял себе обращаться с ней запросто. — У себя? — спросил он про майора. — У воспитанных людей принято здороваться, — сказала Нина. — Здравствуйте, миссис. — Во-первых, не миссис, а мисс. — Пусть будет мисс, — согласился Тюменцев. — Ты лучше скажи, Маясов давно приехал? — Это мне нравится: ты его шофер, а меня спрашиваешь. У него сейчас Дубравин и Зубков… И вообще он сегодня, по-моему, не в духе. Тюменцев решил, что лучше пока воздержаться от объяснении с начальником. И направился было к двери, но Нина вдруг спросила: — Говорят, Николай жениться собрался? — Говорят. Нина перестала стучать на машинке. — И скоро свадьба? — Скоро. Как в новую квартиру въедет, так и сыграет. Да ты, мисс, не расстраивайся, на свадьбу позовем. — Дурак ты! — И Нина снова застучала по клавишам. Больше Тюменцеву здесь делать было нечего, и он отправился к себе в гараж читать «Пособие для тренировок боксера». Но вскоре туда прибежал лейтенант Зубков, велел подавать машину. Маясов уже был на улице, беспокойно ходил по тротуару. Он показался Тюменцеву небритым. Это удивило шофера. И вдруг в одно мгновение он все понял: Маясов утром так куда-то спешил, что не успел ни побриться, ни даже повязать галстука. Тюменцев привычно распахнул дверцу. Не поздоровавшись, майор хмуро приказал: — В уголовный розыск! Так было вчера. А сегодня Маясов и Зубков как засели почти с утра в кабинете у следователя, так невылазно и сидят там. Только в седьмом часу вечера они вышли из милиции. У обоих были потемневшие, осунувшиеся лица. Молча сели в машину. За всю дорогу не проронили ни слова. И лишь возле отдела, выходя из машины, Маясов сказал лейтенанту: — Завтра я еду в управление. Все другие дела отложите и займитесь еще раз протоколами допросов. «Да, — подумал Тюменцев, — видимо, что-то где-то стряслось серьезное». И повернул машину в переулок, чтобы отвезти Зубкова домой.2
Дождь провожал скорый поезд от самого Ченска. И казалось, ему не будет конца: все кругом заволокло хмарью, будто осенью. Устало привалившись плечом к стенке купе, Маясов снова и снова перебирал в памяти события последних дней. В то злополучное утро Андронов ему сказал: — В милиции считают, что Савелов убит своими же приятелями по шайке: что-то не сумели поделить… Я же говорил, что этот парень хорошо не кончит. Маясов тут же позвонил в милицию. Ему ответили, что к месту ночного происшествия как раз выезжает начальник угрозыска Шестаков. Маясов попросил, чтобы заехали за ним. И через десять минут в синей милицейской машине уже мчался к месту убийства. Это произошло неподалеку от дома, где жил Савелов, — в глухом переулке старого Ченска. Преступник, по всей видимости, настиг парня сзади, внезапно выйдя с ножом из-за угла двухэтажного деревянного дома.«Падло, делить надо по-божески…»— Это как понимать? — спросил Маясов про записку, когда с места преступления они приехали в уголовный розыск, в кабинет Шестакова, где на приставном столике было разложено содержимое карманов Савелова. Кроме записки, там лежали: перочинный нож, кошелек с мелочью, карандаш, блокнот, наполовину заполненный рисунками. — Наверно, что-то не поделили из ворованного, — сказал Шестаков. — Савелов вор? — недоуменно воскликнул Маясов, когда до него дошел смысл услышанного. — Сам видишь… — Чепуха! — Маясов бросил записку на стол. — Накрутили тут твои Шерлоки Холмсы. — Не спеши, Владимир Петрович, есть кое-что еще… — Шестаков вынул из ящика и протянул Маясову фотографию. — Ты этого типа знаешь? — Кто это? — спросил Маясов, мельком взглянув на снимок. — Женька Косач. Вор-рецидивист. — При чем тут Савелов? — При том, что накануне убийства их видели имеете. — Да?.. Маясов еще раз, и теперь уже внимательно, поглядел на фотографию угрюмого толстомордого парня. В тот же день Владимир Петрович ознакомился с заключением милицейской экспертизы. Там было отмечено, что отпечатков пальцев преступника не обнаружено ни на одежде убитого, ни на найденной при нем записке. Место на тротуаре, где было совершено нападение, преступник густо посыпал табаком. Все это говорило о его немалой опытности, умении замести следы, чтобы лишить органы следствия каких-либо улик. И все-таки следы остались: та самая записка, которую обнаружили в кармане Савелова. Именно ее Маясов считал самой существенной из улик. Разумеется, эта записка заинтересовала не только Маясова. На нее прежде всего обратили внимание работники уголовного розыска. По их предположениям, убийство было совершено из мести. Особенный интерес в записке представляла одна фраза:
«Заначенные инструментики твои плакали».Эти слова навели на мысль: не связано ли убийство Савелова с недавним ограблением кассы и кладовой музыкальных инструментов городского Дома культуры? А тут вплелись в дело еще два факта. Первый: Савелова дважды видели вместе с Женькой Косачом — вором-рецидивистом. Второй факт: из допроса работника Дома культуры Ласточкина выяснилось, что между ним и Савеловым как-то был разговор насчет денежных сборов кассы Дома культуры. При этом, как показал Ласточкин, Савелов очень удивился, что за билеты выручают такие значительные суммы. Все это и легло в основу версии уголовного розыска. Маясову эта версия вначале показалась стройной. Даже чрезмерно стройной. Но, поразмыслив, он отверг ее. Отверг потому, что знал о Савелове больше, чем коллеги из милиции. Вероятно, и они бы задумались над чрезмерной стройностью своей версии, если бы знали, например, об истории с букреевским портсигаром или о причастности Савелова к делу Никольчука. Ничего этого они не знали. А он, Маясов, знал и потому не мог принять их версии, хотя она выглядела достаточно убедительной. Самое трудное для Маясова состояло в том, чтобы вопреки очевидной правильности версии уголовного розыска доказать правоту своей, которая со стороны представлялась далеко не безупречной. При этом Маясов не мог свободно оперировать известными лишь ему фактами. Как трудно ему придется, Маясов понял, когда попытался поделиться своими сомнениями с начальником угрозыска, сказав ему, что, кроме их выводов, исходящих из анализа записки, могут быть сделаны и другие. Шестаков внимательно выслушал его и, поглаживая бритую голову, сказал: — Что-то мудришь ты, Владимир Петрович. Мы уж будем вести следствие так, как начали. Маясов не стал спорить. Он понимал, что Шестаков, не зная о Савелове всего, не мог действовать иначе. Рассказывать же ему это в с е майор не считал себя вправе, поскольку подобные вещи не входили в компетенцию органов милиции. О своей версии и своих сомнениях с исчерпывающей полнотой Маясов мог доложить только своему непосредственному начальнику. Ради этого, собственно, он и ехал теперь к генералу Винокурову.
3
Доказательство своей правоты равнозначно доказательству неправоты кого-то другого. Для Маясова докладывать начальнику управления о своей версии означало отрицать, критиковать, подвергать сомнению версию Ченского уголовного розыска. Резюмировал он так: — В милиции считают, что Савелов, по всей вероятности, убит соучастниками ограбления Дома культуры. Основанием для этих подозрений, как я уже доложил, служит записка, обнаруженная в кармане убитого. Несмотря на шаткость улик… — Почему же шаткость? — перебил его Винокуров. В этом вопросе, вернее, в тоне, которым он был задан, Маясов уловил явное недовольство: генералу, видимо, не нравилось, что Маясов так резко не согласен с уголовным розыском. И майор вдруг не то чтобы оробел, но на какой-то миг усомнился сам в себе, замешкался с ответом. И поэтому ответ его прозвучал не особенно убедительно. — Савелов, мне кажется, не мог стать грабителем… Генерал с чуть иронической улыбкой посмотрел на Маясова, потом перевел взгляд на своего заместителя — высокого, худощавого полковника Демина, который курил, сидя на подоконнике у открытого окна. — Разумеется, мое мнение не аксиома, — тут же сказал Маясов. — Но мне казалось, что я понимал этого парня. — И каковы же ваши выводы? — спросил Винокуров. — Если предположить, что Савелов не участвовал в ограблении, значит он убит не грабителями, а кем-то другим. Но записка почти прямо наталкивает на мысль о его причастности к этому ограблению. Тогда возникает вопрос: может быть, тот, кто писал эту записку, так и хотел, чтобы следствие пошло по этому пути?.. Маясов помедлил, преодолевая волнение, и продолжал: — В таком случае напрашивается вывод: записка подкинута специально. А если это липа, то можно ли строить на ее основе следственную версию?.. Дальше. Савелов и Косач пили за одним столом в баре. Разве не могло это быть случайным совпадением? Что касается разговора Ласточкина с Савеловым о денежных сборах кассы, то стоит внимательно прочитать протокол допроса Ласточкина, чтобы увидеть: они говорили об этом просто так, между прочим. — Допустим, — сказал генерал. — И что же из всего этого следует? — Поскольку версия убийства по уголовным мотивам отпадает, логично предположить, что преступление вызвано какими-то иными причинами. — Конкретнее! — У меня сложилось два предположения. Первое: убийство Савелова, может быть, имеет какое-то отношение к истории с букреевским портсигаром, — сказал Маясов. И замолчал. — Так. Ну, а еще что? Маясов ответил не сразу. Обычно он говорил, как думал: живо, резко, быстро. Но сейчас, стиснув кулаки на коленях, он заговорил медленно и тяжело: — Остается предположить, товарищ генерал, что убийство Савелова каким-то образом, возможно, связано с делом Никольчука… — Вы понимаете, что вы говорите?! — генерал строго посмотрел на Маясова из-под густых бровей. Встал из-за стола, подошел к Демину, попросил у него сигарету. Неловко, как все некурящие люди, зажал ее между пальцев, стал прикуривать. — Убийство темное… — глухо заговорил Маясов. — Мне тяжело думать, что оно может иметь касательство к делу Никольчука. И все-таки я бы снова обратился к этому делу. — С какой целью? — спросил Винокуров. — Хотя бы за тем, что оно, быть может, натолкнет нас на правильный путь при расследовании. К тому же возврат к делу Никольчука означает… — Означает, — гневно прервал его генерал, — что работа по делу Никольчука была проведена вами не так, как нужно! Это вы хотели сказать? — Этого я не хотел сказать, — побледнев, ответил Маясов. Генерал продолжал ходить по кабинету, нагнув крупную голову, заложив руки за спину. Несколько поостыв, остановился перед Деминым: — А ты, Дмитрий Михайлович, что скажешь? — Мне кажется, игнорировать версию милиции, как это делает товарищ Маясов, еще рано… — Не верю я в это! — сказал Маясов. — Я предлагаю, товарищ генерал, дело Савелова из милиции взять. Я сам готов его вести. Винокуров ничего не ответил. Бросил в пепельницу сигарету, брезгливо понюхал пальцы. Сел за стол, взял в руки перочинный ножик и стал затачивать карандаш. — Нет, Владимир Петрович, вашу просьбу я удовлетворить не могу. — Генерал говорил уже по-обычному неторопливо, тщательно подбирая слова. — Преступление совершено не на объекте, где работал Савелов, а в городе. Значит, и расследование должна вести городская милиция. Это во-первых. А во-вторых, вы сами по профилю работы не следователь, и такое запутанное дело может оказаться вам не по плечу. Я прямо говорю, прошу не обижаться на меня. — Дело не в обиде. — Тем лучше. Теперь к главному. Предлагая возвратиться к делу шпиона Никольчука, вы сами-то представляете, что лично для вас это означает? — Вполне, — мрачно сказал Маясов. — Я вел дело Никольчука и Савелова, и если оно окажется проведенным плохо, ответственность несу я сам… Разрешите закурить, товарищ генерал? Винокуров кивнул. Пока Маясов делал первые жадные затяжки, он молча продолжал строгать карандаш, потом сказал: — Давайте сделаем так. Вы сейчас поезжайте к себе в Ченск и постарайтесь пока переключиться на другое. Да. А завтра к вам приедет Дмитрий Михайлович. Он следователь по профессии. С его помощью, я думаю, мы сумеем разобраться в этом деле. Маясов опять побледнел. — Так, понятно… Мне не доверяете? Меня в сторону? — Он рывком поднялся со стула и быстро пошел к двери. Демин хотел было вернуть майора, крикнул вслед: — Что еще за выходка, Маясов?! — Не надо, Дмитрий Михайлович, — остановил его генерал. — Пускай остынет, приведет мысли в порядок. В комнате наступила неловкая тишина. Демин отвернулся к окну, генерал рассеянно вертел в руках карандаш. — Мне кажется, — первым нарушил молчание Демин. — Маясов горячку порет, как всегда. Версия угрозыска достаточно обоснованна. — Не будем пока делать выводов. Приедешь в Ченск, на месте будет виднее. Генерал задумчиво глядел перед собой. Только что сказанные Деминым слова о горячности Маясова напомнили ему о разговоре в тот день, когда состоялось назначение майора на должность начальника Ченского отдела. Тогда Демин, не одобрявший этого назначения, заметил: — Маясов слишком горяч. Да и опыта у него маловато, чтобы возглавлять отдел на отшибе от управления. «Неужели он прав? — спрашивал теперь себя генерал. — Неужели я ошибся в Маясове?..»4
И опять скорый поезд монотонно выстукивал по рельсам. Только теперь он шел в обратном направлении. И по мере его приближения к Ченску все гуще и прекраснее становились леса. Маясов глядел на них из окна вагона, но думы его были далеки от того, что видели глаза. При всех своих опасениях майор не ожидал, что дело обернется столь круто. Ведь то, что произошло, равносильно неофициальному (пока!) отстранению его от должности. Как же иначе понимать командировку полковника Демина в Ченск? Он же там не будет сторонним наблюдателем, а сразу возьмет вожжи в руки, все поведет по-своему. А ему, Маясову, можно рассчитывать лишь на роль пристяжной лошадки. Это в лучшем случае… Первое, что Маясов почувствовал, когда вышел за двери генеральского кабинета, была обида: почему они, двое опытных чекистов, не захотели понять его, не пожелали вникнуть в то, что он пытался им втолковать? Видимо, потому, что он в их глазах всего-навсего «молодой чекист, недавно выдвинутый на руководящую работу». А несколько лет назад и вовсе не имевший никакого отношения к чекистскому делу: был инженером, сугубо штатским человеком. Разве можно всерьез считаться с ним в столь сложных обстоятельствах? Им было проще и надежнее поверить многоопытному начальнику Ченского уголовного розыска. Выйдя из здания областного управления КГБ, Маясов в расстройстве не сразу решил, куда ему надо идти. Знакомых у него в городе было много. Он направился к автобусной остановке. Но когда подъехал автобус, Маясов передумал. Зачем вообще куда-то ехать, кому-то надоедать, выслушивать сочувствия, утешения? Почему он должен плакать друзьям в жилетку? Он поехал прямо на вокзал. Ченский поезд отправлялся ровно в восемь. Когда Маясов, отстояв в очереди у билетной кассы, проходил мимо буфета, он вспомнил, что не ел с самого утра. Во рту было сухо и горько: за эти сутки он выкурил две пачки. И ему вдруг захотелось подойти к буфетной стойке, спросить коньяку и хватить так, чтобы забыться хоть на несколько часов. Но это, кажется, было бы бесполезно… Вагон, в котором Маясову пришлось ехать, был переполнен. Он вышел покурить в тамбур. И больше не возвращался почти всю ночь: глядел из открытого окна на мерцающие звезды в черном небе, глядел и думал не переставая. И то ли от холодного предутреннего воздуха или потому, что с каждым часом пути все более отдалялись дневные неприятности, мысли его постепенно делались менее хаотичными. Он опять вернулся к милицейской версии. Еще раз попытался рассмотреть ее без предубеждения. Каковы же доводы? Их три. Главный — записка. Написана печатными буквами. Следы пальцев отсутствуют. Ее стиль, обороты, блатные словечки — все говорит за то, что убийца из уголовного мира или хорошо знаком с ним. Женька Косач, например, судился за воровство два раза, он, конечно, знает, что для него в «мокром» деле лучше обойтись без отпечатков пальцев, потому что отпечатки Косача хранятся в картотеке уголовного розыска, где ему уже дважды приходилось «играть на рояле». Играть в третий раз Косачу нет резону. Довод второй. Савелова дважды видели вместе с Косачом. Первый раз на бегах — рядом сидели на трибуне — это было за несколько дней до ночного налета на Дом культуры. Затем — накануне дня убийства. Пили пиво в баре за одним столиком. Косач в чем-то убеждал Савелова. Игорь трижды порывался встать, но собеседник довольно бесцеремонно усаживал его на место. Их разговор кончился тем, что Косач вынул пухлую пачку денег, отслюнявил несколько купюр и подал Савелову, который сунул их в карман. Из бара они вышли вместе. Так себя вести случайно познакомившиеся люди едва ли могут. Здесь что-то другое. И наконец, довод третий. Разговор Савелова с Ласточкиным. Они сидели в служебной комнате Ласточкина в Доме культуры, в комнату зашла молоденькая кассирша. Она положила на стол газетный сверток, перевязанный шпагатом, сказала, что сейчас вернется, только на минутку забежит к бухгалтеру. На недоуменный взгляд приятеля Ласточкин объяснил, что кассирша сделала из него инкассатора: «Возим с Люсей деньги в банк». Савелов поинтересовался: помногу ли приходится возить и вообще большие ли сборы делает клубная касса? Ласточкин кивнул на сверток, предложил: «Угадай!» Савелов подержал сверток на ладони, сказал: «Смотря какие купюры». Ласточкин назвал приблизительную сумму. «Ого! — улыбнулся Савелов. — Как раз бы мне на мотоцикл, да еще с коляской». Потом разговор у них пошел о мотоцикле, который Савелов хотел купить, чтобы ездить на работу. Он уже начал копить деньги. «Неужели деньги? — вдруг спросил себя Маясов. — Ради денег некоторые способны на все, теряют голову». Он тяжело вздохнул. Ночной воздух, бивший в открытое окно, отдавал паровозной гарью. Если угрозыск прав, если тут замешаны деньги, то нет больше веры, которая давала силы бороться, отстаивать свою правоту. Значит, нет и не было того человека, в которого Маясов поверил. Он существовал лишь в его воображении. Маясов выдумал его таким, каким ему хотелось его видеть. Что это: просчет, ошибка? Несомненно. Но не просто ошибка. Возможно, он вообще впрягся в воз не по силам. После всего, что произошло, быть может, самое разумное набраться смелости и откровенно признаться: не горазд, не умею, отпустите туда, где могу приносить пользу. Маясов достал из кармана носовой платок, отер пот, выступивший на лбу. В висках тяжело стучало, от затылка по всей голове растекалась тупая боль.5
Теперь в кабинете Маясова поставили еще один стол. Для полковника Демина. Пристроили его у окна, слева от двери. Первое время Маясов не мог без смущения проходить мимо этого стола. Ему было как-то не по себе: его начальник сидит в углу комнаты, а он по-прежнему занимает в ней самое лучшее, самое удобное место. Но когда Маясов сказал об этом Демину, тот махнул рукой: — Пустяки… Маясову сперва показалось, что своим демонстративным безразличием к элементарным удобствам полковник, видимо, хочет смягчить тяжесть удара, так неожиданно обрушившегося на начальника Ченского отдела. Деликатничает, чтобы не задевать его самолюбия. По той же причине, наверное, отказался единолично занять весь кабинет, как предложил ему Маясов в первый же день: сам он хотел переселиться в кабинет к своему заместителю. Но Демин тогда сказал: «Не нужно мне никакого отдельного кабинета. Вы продолжайте работать, как работали. Я вам мешать не буду». Собственно, мешать стало и некому. На третий день после приезда Демина Маясову стало совсем невмоготу от головной боли. Он пошел в поликлинику. Оказалось, сильно подскочило давление. Ему предложили немедленную госпитализацию. Маясов отказался. — Не советую шутить со своим здоровьем, — строго заметила врач. Она отпустила несговорчивого пациента только после того, как он дал ей слово соблюдать предписанный режим. Проболел Владимир Петрович целую неделю. Врач советовала еще полежать дома дня четыре, но Маясов не согласился. Болеть ему сейчас действительно было некогда. Он лежал в постели, а мысли его были там, где шла напряженная, ответственная работа. Пусть не он руководил ею. В конце концов не это главное. Когда он вернулся в отдел, на него хлынула целая лавина вопросов. Демин почти не закрывал своего блокнота. Их разговор продолжался с небольшими перерывами три дня. За это время Маясов смог убедиться, какой деловой хваткой обладает этот болезненный на вид, седоволосый полковник, какая необыкновенная у него работоспособность. Ставя перед Маясовым вопрос за вопросом, Демин старался докопаться до самого дна, не оставляя для себя ни малейших «белых пятен» в деле. Такая скрупулезность нравилась Маясову, так как сам он презирал дилетантство в любых его проявлениях и умел ценить по-настоящему добросовестный труд. Это было дорого видеть еще и потому, что въедливость Демина не походила на ревизорство, или по крайней мере это было не только ревизорство. Когда неясных моментов поубавилось, Деминна некоторое время оставил Маясова в покое. И снова засел за папки, читая каждую подшитую в них бумажонку. Во второй половине дня он отправлялся в уголовный розыск: там еще продолжались допросы свидетелей. После ужина Демин снова приходил в отдел часа на полтора-два, чтобы по свежим впечатлениям, полученным на допросах, записать кое-что для себя. В один из таких вечеров он сидел в кабинете Маясова над раскрытым блокнотом. Но не писал, а только задумчиво глядел на бумажный лист. Ему припомнился разговор с начальником управления после дерзкой вспышки и ухода Маясова из генеральского кабинета. — Я понимаю Маясова и, откровенно говоря, не завидую ему, — сказал тогда Винокуров. — Ведь за этого Савелова ему пришлось выдержать настоящий бой. Маясов уверовал в его порядочность, и вдруг оказывается, что он вор и грабитель. Такое не сразу укладывается в голове. Но убийство — факт, а моральный, так сказать, облик Савелова — мистика, и вот рождается предположение о связи между делом об убийстве и прежним — о шпионаже. Какая тут может быть связь?.. Если допустить, что Савелов был сообщником Никольчука, шпионскую деятельность которого не сумели вскрыть, то для предположений есть широкие возможности. Логично считать, например, что Савелов убит теми, на кого он работал. Зачем, почему убит? Здесь уже труднее быть конкретным. Возможно, он стал больше не нужен своим хозяевам. Или слишком много знал о них. Или они заподозрили его в предательстве, потому что Савелов трижды вызывался в Ченский отдел КГБ. Но каковы бы ни были причины убийства, суть версии Маясова неизменна: при расследовании надо отталкиваться от прежнего дела — дела Никольчука. — Генерал остановился посредине кабинета. — А это что означает? Для Маясова это равносильно рубить сук, на котором сидишь. И Маясов его рубит: своей версией по делу об убийстве он допускает несостоятельность своих прежних выводов по делу о шпионаже. — Но это же явное неверие в себя, — сказал Демин. — Неверие в себя? — переспросил Винокуров. — Однако не всякий на это пойдет. Нужна смелость. Ведь Маясова за язык никто не тянул. — Генерал помедлил. — Но главное не в этом. Какая бы из версий — милицейская или маясовская — ни оправдалась, Маясов все равно остается в проигрыше. И он сам это понимает… Сейчас Маясов ратует за свою версию. Что ж, это его право. Но беда в том, что его аргументация исходит только из того, что Савелов, мол, по своей натуре не мог стать вором. Короче говоря, Маясов руководствуется больше своими чувствами, чем логикой фактов. А это для контрразведчика опасно: может помешать добраться до истины. Припомнив эти слова теперь, Демин подумал, что его командировка в Ченск оказалась полезной во многих отношениях. Он на месте изучил оперативную обстановку, без чего невозможно было определить, правильно ли велось дело Никольчука и Савелова. А не решив этого вопроса, нельзя было подступиться к другому — о реальности версии Маясова. Сейчас Демин был близок к тому, чтобы дать обоснованный ответ на этот вопрос. Но ему требовалось еще несколько дней работы над протоколами допросов, и потом он хотел поговорить с рабочими экспериментального завода, знавшими Савелова.ГЛАВА VII Время не ждет
1
Демин не смог закончить свою работу. Однажды утром его неожиданно вызвал к телефону генерал Винокуров. Разговор был короткий. Положив трубку, Демин спросил: — Когда ближайший самолет? Маясов заглянул в расписание, лежавшее на столе под стеклом. — Ровно в одиннадцать. Демин быстро собрал со стола бумаги, сложил их в сейф. Ключ от сейфа отдал Маясову. — Поговорим, когда вернусь. Направление работы остается пока прежнее… И уехал. И не возвращался в отдел вот уже пятый день. Все это время Маясов чувствовал себя связанным по рукам и ногам. «Направление работы остается прежнее…» Это надо понимать, видимо, так: расследование по делу Савелова продолжают органы милиции, а он, Маясов, и его сотрудники по-прежнему выжидают, стоят в сторонке, занимаются другими вопросами. Но ведь эти «другие вопросы» не идут ни в какое сравнение с делом Савелова. К тому же это дело в настоящий момент приобрело для него, Маясова, принципиальное значение. И пожалуй, не только для него. Для всего Ченского отдела. Но самое главное — с каждым днем уходило дорогое время… На шестые сутки Маясов не выдержал: решил действовать. Для этого у него все уже было обдумано и подготовлено. В половине двенадцатого он приказал Тюменцеву подать машину и поехал в уголовный розыск. За эти дни к подполковнику Шестакову он наведывался часто, интересовался, нет ли чего новенького. Сегодня Владимир Петрович приехал к нему с просьбой разрешить провести некоторые оперативные мероприятия параллельно с мероприятиями уголовного розыска. Без этого разрешения Маясов действовать не хотел, опасаясь помешать сотрудникам милиции. Шестаков не возражал. Он только сказал, чтобы Маясов информировал его обо всем, что будет представлять интерес для уголовного розыска. Выйдя из милиции, Маясов отпустил Тюменцева на машине обедать, а сам пошел в отдел пешком. После болезни у него временами еще побаливала голова. День был жаркий, и он свернул на бульвар, в тенистую аллею. И пока шел по ней, все время думал об одном — о своих предположениях, реальность которых решился доказать. Собственно, на это его вызвала сама обстановка. Но, как бы там ни было, отступать он теперь уже не мог. И не потому, что нуждался в реабилитации, а потому, что не считал себя вправе бросить на полпути начатые поиски истины. Только этим он и руководствовался. Отчего он не приемлет милицейской версии? Оттого ли только, что Савелов, по его соображениям, вообще не мог стать вором, а тем более обворовать кладовую музыкальных инструментов, материальная ответственность за которые лежала на его друге Ласточкине? Или на то были еще какие-то причины? Маясов знал по личному опыту и не раз слышал от других чекистов, что дела о шпионаже, кроме всего прочего, характерны одной особенностью: про многие из них никогда нельзя сказать: все сделано. Такое утверждение невозможно даже в том случае, если дело уже сдано в архив, а его объект — шпион — получил по заслугам. Ведь шпион почти никогда не действует в одиночку. И если пойман он сам, это еще не значит, что сделано все: у него могут оказаться невыявленные помощники. В деле Никольчука среди других не выясненных до конца обстоятельств было одно, вызывавшее особенно серьезные подозрения. Как показал Никольчук, Барбара Хольме — связник западноберлинского разведцентра — от имени полковника Лаута дала ему зимой новые установки, а именно: переключить свое внимание с Ченского экспериментального завода на Зеленогорский химический комбинат. Для организации работы на новом месте Никольчук попросил у нее денег. Барбара Хольме сказала, что нужная сумма уже предусмотрена шефом. И тут же сообщила о тайнике, из которого в назначенный день Никольчук может взять деньги. Тайник находился якобы на Староченском кладбище, под мраморной плитой крайней могилы девятого ряда. Однако этих денег Никольчук не получил. Более того, сходив на кладбище, он убедился, что в том месте, о котором сказала Хольме, едва ли вообще можно было устроить тайник: могила просматривалась буквально со всех сторон. В общем место не понравилось Никольчуку. И он ушел с кладбища ни с чем, изругав глупую бабу, которая не сумела найти более надежного тайника для его денег. Потом он наведывался сюда еще несколько раз. И все напрасно. Денег так и не положили. Маясов со своими сотрудниками тоже тщательно обследовал это место на кладбище. И им оно тоже показалось не особенно подходящим для тайника. А специальная экспертиза подтвердила, что провал в земле под мраморной плитой ничем посторонним никогда не заполнялся: структура почвы была не нарушена. После этого капитан Дубравин высказал предположение: не перепутал ли Никольчук названное ему место? Начали искать по всему кладбищу. Оно было невелико. Но ничего похожего на тайник так и не нашли. В поисках разгадки, почему агенту не были доставлены обещанные деньги, Маясов и его помощники перебрали не одну версию, пока не пришли к такому выводу: деньги Никольчуку не принесли, видимо, потому, что с переменой устремлений лаутовской разведки с экспериментального завода на Зеленогорский химический комбинат роль Никольчука поручена кому-то другому, находящемуся, по всей вероятности, в Зеленогорске. При подобных обстоятельствах разведцентр счел излишним посылать крупную сумму в Ченск, Никольчуку. Когда Маясов докладывал начальнику управления свои соображения по этому поводу, тот в общем одобрил их. Однако тут же предостерег майора, чтобы он не слишком увлекался созданной версией. — У противника, конечно, свои планы, — сказал генерал Винокуров. — Не исключено, что, не добившись желаемого на Ченском экспериментальном, решили попытать счастья в Зеленогорске. Но имейте в виду, Владимир Петрович, Зеленогорский продукт «Б» хоть и разновидность ченского топлива, однако во многом ему уступает. Поэтому вашей главной задачей было и остается обеспечение безопасности экспериментального завода. Что касается Зеленогорского химкомбината, то тут мы с вами обязаны кое-что предпринять… Маясов сразу же освободил от всяких других обязанностей капитана Дубравина и поручил ему заниматься только тем, что так или иначе помогло бы выйти на след возможного «преемника» Никольчука в Зеленогорске. Никто не мог сказать, чем бы закончилась эта работа, сколько времени пришлось бы действовать в новом направлении, если бы не вспышка чрезвычайных событий. Сперва вдруг выяснилось, что принадлежавший изменнику Родины уникальный портсигар оказался у лаборанта оборонного завода. Не успели разобраться с этим, как произошло другое: лаборант был кем-то зверски убит. Случайно ли такое совпадение? И нет ли связи между этими событиями и прежним делом Никольчука, в котором тоже был замешан лаборант Савелов? Чтобы еще раз проверить прежнюю версию, Маясов и Дубравин в один из дней поехали на Староченское кладбище. — Нет, не подходящее это место для тайника! — решительно сказал Маясов, как только они подошли к заросшей могиле поблизости от разрушенной почти до основания кирпичной стены, за которой открывалась панорама лежащего в низине города. — На версту кругом все видно. — Да и сам тайник — мокрая дыра, — заметил Дубравин. — Лично я ни за что бы деньги сюда не положил. Они присели возле мраморной могильной плиты, рассматривая небольшой провал под ней с одной стороны. — А может, темнит Никольчук? — Дубравин поднялся с земли, отряхнул руки от налипшей глины. — А какой ему смысл? — Деньги всегда деньги. Расчет простой: отсидит, выйдет, пригодятся. — Может, и так, — задумчиво сказал Маясов. — Только мне что-то в это не верится. У меня такое впечатление, будто он даже рад, что очутился, наконец, у нас. Выкладывал как на духу. И похоже, не врал. — Но ведь не бывает же так: центр дает агенту новое задание, а денег для его выполнения не доставляет? — Не бывает… — Что же получается? — А как ты думаешь? — вопросом на вопрос отозвался Маясов. — Стою железно на своем выводе: денег для Никольчука в этот тайник не только не клали, но и не собирались класть. Если полковник Лаут заинтересовался Зеленогорским химкобинатом, зачем же посылать деньги в Ченск, Никольчуку? — Короче говоря, роль Никольчука поручена кому-то другому, находящемуся в Зеленогорске? Так ты считаешь? — Да… А ты? — спросил Дубравин. — Разве это не наше общее мнение? — Я тоже так думал… до убийства Савелова и этой странной истории с портсигаром. — А теперь? — Собственно, в главном я и теперь того же мнения: Никольчук, видимо, выведен из игры. — Так в чем же дело? — А в том, что преемник его, возможно, действует не в Зеленогорске, а скорее всего здесь, в Ченске. — Занятно! — сказал Дубравин. Немного помедлив, продолжил: — Впрочем, резонно. Ведь эти непонятные события, связанные с находкой портсигара и убийством Савелова, произошли не где-нибудь, а здесь, в Ченске. — Это одна сторона дела, — заметил Маясов. — Я уже тебе говорил: куда бы ни стремилась американская разведка — в Ченск или Зеленогорск, мы должны хорошо помнить: зеленогорская продукция — это вчерашний день Ченского экспериментального. — Об этом полковник Лаут может и не знать. — А если знает? — А если знает, то его людям нечего делать в Зеленогорске. — В том-то и дело… Они помолчали. Потом, закурив, Маясов сказал: — И еще такая деталь… Наша радиослужба в июле засекла выход в эфир неизвестной быстродействующей рации. — Запеленговали? — Точный пеленг не получился. Но ориентировочно — Ченский лес… Понимаешь: опять район Ченска, а не Зеленогорска!.. Но этим не исчерпывалась сложность обстановки по делу. Ведущие от него нити были незримо, но крепко переплетены с нитями того дела, над которым работала ченская милиция. Чтобы не порвать их, требовалась величайшая осмотрительность при распутывании клубка. И ничем другим, как соображениями этой осмотрительности, нельзя было объяснить наказ полковника Демина перед его отъездом из Ченска: «Работу пока вести в прежнем направлении». По крайней мере так это понимал Маясов. Но Маясов понимал и другое: никто так не знал обстановку по этому делу, как он сам. И там, где Демин, принимая то или иное решение, может быть, колебался из-за недостаточного знания всех обстоятельств, для Маясова подобных сомнений не было. Отчасти поэтому он теперь и решился на активные действия до возвращения заместителя начальника управления в Ченск. В новом оперативном плане Маясов в числе прочего наметил побеседовать с Ласточкиным и Булавиной, людьми, наиболее близко знавшими Савелова. Хотя и Ласточкин и Булавина уже вызывались в милицию как свидетели, Маясов считал необходимым с ними поговорить еще раз. Причем в обстановке, не напоминающей допроса. Особенно нужным был разговор с Булавиной, в отношении которой появились новые сведения. Обе беседы Маясов вначале думал провести сам, но, поразмыслив, решил послать к артистке капитана Дубравина: может быть, обаяние заядлого театрала сыграет свою роль. Сам же он поехал в Дом культуры — к Ласточкину. Через три часа Владимир Петрович вернулся в отдел. К сожалению, его разговор с Ласточкиным не много прибавил к тому, что уже было известно. Вскоре вернулся и Дубравин. Несмотря на жару, он был в полном параде: новый светло-коричневый костюм, белоснежная рубашка и хорошо повязанный галстук. Прямо с порога капитан сказал густым басом: — Или эта кареглазая что-то темнит, или я ни шута не понимаю в людях! Маясов удивился. Он достаточно хорошо знал этого могучего, добродушно-спокойного человека. Знал, что он умеет ровно держать себя в любых обстоятельствах. Сейчас же Дубравин был явно не в своей тарелке. — Ну, ну, рассказывай! — нетерпеливо предложил Маясов. То, что капитан сумел выудить из беседы с Ириной Булавиной, заинтересовало Маясова новизной некоторых деталей, которые могли повернуть дело совсем в другом направлении. Когда Дубравин закончил свой рассказ, Владимир Петрович спросил: — Так, говоришь, портсигарчик смутил ее? — В этом вся соль… — Хорошо! — Маясов поднялся из-за стола, открыл сейф, вынул из него тощую папку с делом о розыске Букреева и начал быстро листать, что-то отыскивая. Наконец нашел, уткнулся в какой-то лист, забыв о сидящем в кабинете Дубравине. Потом, видимо, вспомнив, сказал: — Поработал ты, Николай Васильевич, неплохо. Иди отдыхай. Когда капитан ушел, Маясов начал снова читать букреевское дело. В седьмом часу вечера он закрыл папку, отодвинул ее от себя. Некоторое время сидел неподвижно, уставив невидящий взгляд куда-то в стену. Потом вдруг сказал негромко: — Теперь при помощи Шестакова и попробуем все повернуть! — И решительно протянул руку к телефону.2
Остро необходимого разговора с начальником уголовного розыска у Маясова в тот вечер не получилось: дежурный сказал, что подполковник уехал из отдела «ровно в семнадцать ноль-ноль». «Ишь ты, какой пунктуальный стал, — досадливо усмехнулся Маясов. — Что-то на него не похоже…» Наутро, прямо из дому, Владимир Петрович поехал в милицию. Шестаков был у себя. Он сидел за столом, через лупу разглядывал лежавший перед ним фотоснимок. Вид у подполковника был нездоровый: лицо желтоватое, под глазами мешки. — Загрипповал, что ли? — спросил Маясов. Шестаков не ответил, только кивнул, приглашая сесть. — Нового ничего нет? — привычно поинтересовался Маясов. Шестаков мрачно усмехнулся: — Ты что, думаешь, если к нам будешь через день ходить, то расследование ускорится? — А кто же вас подталкивать должен, как не я, — шутливо сказал Маясов. Но Шестаков не принял шутки. — Я тебе, Владимир Петрович, уже говорил: пока Женьку Косача не разыщем, едва ли распутаем этот клубок. — Ладно, — сказал Маясов, — я сейчас не за тем приехал. И он коротко рассказал, что удалось узнать за последнее время о любовнице Савелова — Булавиной. — В общем ведет она себя как-то неестественно и в высшей степени нервозно, — заключил Маясов. — Для нас это не новость, — сказал Шестаков. — В ее положении спокойной быть нельзя. — Отчасти правильно. Но если это горе и искренне то за ним стоит что-то еще, какой-то непонятный страх… И другое припомни: ее показания здесь, в милиции, — из допроса в допрос одно и то же, со скрупулезной точностью, будто зазубрила. — И что же ты предлагаешь? — Мы к этой артистке не первый день присматриваемся. А теперь я пришел к выводу, что прежний план действий надо поломать и все повернуть по-другому. — Давай точнее. — Предлагаю вызвать Булавину к нам, в КГБ, допросить ее вполне официально и при этом посмотреть, как она станет реагировать. Это будет началом… — Обожди! — Шестаков протестующе подняв широкую ладонь. — У нас с полковником Деминым договоренность: мы ведем следствие и вас информируем. Что касается твоей затеи, я не вижу в ней необходимости: в милиции ли допрашивать Булавину или в КГБ, какая разница? — Есть разница, и большая! — горячо сказал Маясов. — К допросам в милиции Булавина, если хочешь, привыкла. Вызов же в КГБ заставит ее взглянуть на происходящее с иных позиций: почему это вдруг органы госбезопасности заинтересовались этим, так сказать, сугубо уголовным делом? Короче говоря, новая обстановка должна вызвать у нее новую реакцию. Шестаков задумчиво погладил бритую голову, сказал: — Нет, Владимир Петрович, на это я не могу пойти. Посмотрев на его плотно сжатые губы, Маясов понял, что дальнейший разговор с подполковником бесполезен: он сейчас находился в таком состоянии, что его раздражало всякое неосторожно сказанное слово. И виной, видимо, была болезнь. Перед тем как уехать к себе в отдел, Маясов от Шестакова прошел в комнату следователя, попросил у него протоколы допроса Булавиной и, пристроившись у круглого столика, покрытого зеленым сукном, начал их перелистывать. Сделав три коротенькие пометки в записной книжке, Маясов вернул протоколы следователю. — Спасибо… Кстати, что с Шестаковым? Какой-то он сегодня странный. Следователь снял очки, близоруко прижмурил глаза. — У него, Владимир Петрович, горе. Вчера единственную дочь похоронил… Порок сердца… В двадцать-то лет! Маясов ничего не сказал. Молча пожал руку следователю и вышел из комнаты. Спустившись с лестницы, он пошел опять к Шестакову. Быть может, стоило попросить извинения за то, что так не вовремя и бесцеремонно полез к нему со своими делами. Маясов открыл дверь. И тотчас плотно притворил ее: в кабинете начальника уголовного розыска на стульях, расставленных вдоль стены, сидело человек шесть сотрудников. Сам подполковник что-то негромко говорил, постукивая о стол рукояткой лупы. По всей видимости, шло оперативное совещание. Маясов с минуту постоял в нерешительности, потом пошел к выходу. Всю дорогу до отдела, сидя в машине, он мрачно молчал. Было скверно от сознания собственного бессилия помочь человеку, оказавшемуся в беде. У себя в кабинете Маясов долго сидел, раздумывая над сложившейся обстановкой. В конце концов начальник областного управления КГБ рано или поздно должен узнать о его самовольно начатых действиях. Владимир Петрович снял трубку с белого телефона, набрал номер. Поздоровавшись с генералом, стал с помощью переговорного кода докладывать о том новом, что выявилось по делу Савелова в последние дни. Закончил он просьбой о разрешении на допрос Булавиной. Винокуров помолчал, потом сказал: — Не возражаю. Но все же посоветуйтесь на месте с Деминым. Он сегодня вылетел к вам.3
Если отбросить все чисто психологическое и потому в какой-то степени субъективное, то фактически полученное капитаном Дубравиным из беседы с Булавиной сводилось к тому, что она действительно видела у Савелова серебряный портсигар с орлом на крышке. С этого фактического, точно установленного и начали допрос Демин и Маясов. Ирина Булавина в белой нарядной кофточке сидела у столика, приставленного к большому письменному столу, за которым устроились Демин и Маясов, — оба в офицерской форме, с орденскими колодками на кителях. Отвечая на вопросы, Булавина то и дело прикладывала кружевной платочек к своему пряменькому носу, пила воду из стоявшего перед ней стакана. Однако, несмотря на свое явное беспокойство и неуверенность, она долго ничего не хотела прибавить к прежним показаниям, данным ею в милиции. А между тем и Демину и Маясову было ясно, что эта молодая красивая женщина с карими блестящими глазами что-то недоговаривает.4
«Цок, цок, цок, — четкие, гулкие звуки болью отдавались в затылке. — Цок, цок, цок». И вдруг они сразу оборвались. А боль в голове осталась. И Ирина поняла, что так оглушительно цокали ее собственные высокие каблуки. Свернула с тротуара на бульвар и зашагала по дорожке, посыпанной желтым песком. Она опустилась на первую же скамейку. Вздохнула, запрокинула голову, чтобы унять боль. Думать ни о чем не хотелось. Только неподвижно сидеть — отдышаться, успокоиться, собраться с мыслями… Ей было нестерпимо обидно. Почему она должна страдать, таиться, фальшивить? Давно уже она не знает ни минуты покоя. День и ночь настороже. Стала рассеянной и уже не одно замечание от режиссера получила из-за этого. Сколько ей пришлось пережить, переплакать втихомолку. Но кому она может открыться? Открыться в том, что перестала спокойно спать… Ведь ее отец не просто попал в плен, не по воле случая, а с умыслом изменил Родине. Всю войну служил гитлеровцам, а теперь, видимо, перепродался новым хозяевам. А если об этом станет известно там, где она только что побывала? Ведь она скрыла на допросе все, что узнала от Рубцова об отце. Сцепив на коленях пальцы, Ирина стала вспоминать, как и с чего началась эта, измучившая ее до «редела, история. Летом сорок шестого года, в жаркий полдень, они с матерью и отчимом шли по пыльной Болотной улице. И там, возле дома с тесовым заборчиком, повстречали Рубцова. Когда отчим ушел в парикмахерскую, они втроем присели на теплую от солнца скамеечку у забора, и мать сказала Ирине, что Арсений Павлович до войны был товарищем ее погибшего отца. — Почему же до войны? — заулыбался Рубцов. — И в войну вместе горе хлебали. — Простите, — сказала мать и тут же попросила рассказать обо всем, что ему было известно об Александре Букрееве. Рубцов стал рассказывать, от волнения беспрестанно поправлял закатанные рукава рубашки на загорелых жилистых руках. Он хотел закурить — вынул из кармана портсигар, достал из него папиросу. И тут увидел глаза матери, смотревшие на этот портсигар. Арсений Павлович смутился. — Да, да, это Сашин портсигар, — сказал он. — Однажды мы решили обменяться чем-нибудь на память. — Рубцов помедлил. — Но теперь, Валентина Петровна, эта вещь по праву должна перейти к вам. Булавина с побледневшим лицом подержала портсигар в ладонях, потом молча передала дочери. Ирина попыталась его открыть, но не смогла. — Он с секретом, — сказала ей мать. — Надо нажать на орлиный глаз. Положив портсигар на колени, Ирина изо всей силы надавила пальцем на черное зернышко орлиного глаза. Послышался четкий щелчок. Раскрыв портсигар, как книгу, девочка увидела на золотистой внутренней стороне крышки тонкую паутинку гравировки вокруг букв «АБ». Это было все, что осталось от отца. С этим портсигаром он ушел на войну. Портсигар вернулся, а его хозяин не вернется никогда. У девочки задрожали губы, она заплакала. Мать взяла у нее портсигар и протянула его Рубцову. Но Арсений Павлович протестующе поднял руки, убежденно сказал: — Нет, нет… портсигар должен принадлежать вам. Как память о Саше. — Память о нем, — тихо сказала мать, — самое дорогое для меня… Так Ирина впервые узнала о существовании отцовского портсигара. Тогда, в сорок шестом году, ела, разумеется, и не предполагала, что эта красивая серебряная коробка еще сыграет в ее жизни какую-то роль. Она попросту забыла о ней. Однако теперь, через пятнадцать лет, отцовский портсигар снова напомнил о себе, и при таких неприятных обстоятельствах. Ирина встала со скамейки и пошла по аллее, ведущей с бульвара на улицу. Было душно, парило. Листья на липах вяло обвисли. Подходя к своему дому, Ирина замедлила шаг, потом остановилась. Здесь, на углу, возле продовольственного магазина, тесно прижавшись друг к другу стеклянными боками, стояли телефонные будки. Ирина раскрыла сумочку и стала искать двухкопеечную монету. Она искала долго, медленно — оттягивала время, напряженно думала: «Позвонить — попросить совета или не делать этого, потому что, быть может, совсем с другого конца надо начинать?» И все же, наконец, решилась. Вошла в будку, плотно притворила дверь. Номер она запомнила: 2-37-35. Палец потянул диск вправо и вниз: один раз, второй, третий, четвертый. И вдруг нерешительно замер на последней цифре «5». Как будто его приморозило. Прошло, наверное, не меньше минуты. Рука, застывшая на диске, делалась все тяжелее. Ирина повесила трубку, привалилась затылком к стеклянной стенке.5
В пятом часу вечера Маясову позвонил Зубков. — Артистка пришла домой, — торопливо доложил он. — Прошу записать номер, по которому она пыталась с кем-то связаться по телефону. — Почему «пыталась»? — не понял Маясов. Зубков коротко рассказал, как вела себя Булавина в телефонной будке. И опять попросил скорее записать номер. Видимо, времени для обстоятельного доклада у него не было. Маясов записал цифры и сказал: — Это же неполный номер. — Последнюю цифру, товарищ майор, точно установить не удалось. — Продолжайте наблюдение… Маясов вызвал капитана Дубравина и приказал выяснить номер абонента, которому хотела звонить Булавина. Дубравин ушел. А Маясов опять стал ждать. Ровно в пять вернулся из столовой Демин. Они просидели вдвоем до девяти. И все напрасно. Артистка не возвращалась. Кажется, их предположения оказались слишком оптимистическими. Не пришла Булавина и на другой день. И на третий, в субботу, она тоже не явилась. Впрочем, в субботу о ней почти не вспоминали. Потому что с утра произошли два события, которые не могли не взволновать всех, кто работал по делу Савелова, и особенно самого Маясова. В половине десятого позвонил начальник уголовного розыска Шестаков. Он сообщил, что прошедшей ночью удалось арестовать Женьку Косача. — Если есть время, приезжайте, — пригласил подполковник. Демин сказал, что поедет в милицию сам. Маясову оставалось лишь молчаливо согласиться. Как ни хотелось ему поговорить с этим вором, поехать на допрос он не мог: его уже ждал Дубравин. Сразу же, как только Демин уехал, Маясов пригласил капитана к себе. Дубравин вошел в кабинет с картонной трубочкой, зажатой в громадном кулаке. Вид у него был суровый, лицо несвежее, помятое. Похоже, ночь капитан провел без сна. Раскатав на столе картонную трубочку и разгладив ее ребром ладони, он сказал: — Работу, Владимир Петрович, мы закончили. Результат получился, я бы сказал, несколько неожиданный… — Ну, ну! — Удалось установить, что из всего списка вероятных абонентов Булавина знакома лишь с одним. — С кем? — Это наш старый знакомый… — Давай без загадок, — нетерпеливо сказал Маясов. — Рубцов Арсений Павлович. — Какой Рубцов?.. Фотограф? — Да, тот, что сообщил нам весной о Никольчуке. Маясов притянул по столу список к себе. Пробежал его глазами, внимательно прочитал в конце выводы капитана… — Странно… — Он в недоумении посмотрел на Дубравина. Тот лишь пожал широкими плечами. Когда приехал из милиции Демин, настала его очередь удивляться. — Тот самый Рубцов? — переспросил он. — Действительно интересное совпадение… Это надо немедленно проверить! — Кое-что мы с Николаем Васильевичем в этом направлении уже придумали, — сказал Маясов и протянул полковнику лист бумаги. — Этого недостаточно, — прочитав, заметил Демин. — Придется нам вместе, втроем, посидеть нынче вечером и, пожалуй, завтра, в воскресенье. Глядишь, и высидим что-нибудь стоящее. — Он взъерошил седую шевелюру. — А сейчас предлагаю поехать на озеро. Жарища — спасу нет. А?.. — Не возражаю, — сказал Маясов.6
Оправдавшиеся прогнозы, как и сбывшиеся надежды, не могут не вселять в человека гордости за свое умение предвидеть. Однако Маясов не ощущал ничего подобного. Более того, ему казалось, будто он потерял что-то. Это странное ощущение не покидало его с той самой минуты, как Демин по дороге на озеро, в машине, рассказал о допросе Женьки Косача. После этого допроса уже ни у кого не могло быть сомнения, что Савелов в ограблении Дома культуры не участвовал и вообще не имел никакого отношения к воровской братии. Таким образом, само собой снималось подозрение в убийстве его соучастниками-грабителями. А предположение Маясова, что это убийство, видимо, имеет какое-то отношение к делу Никольчука, кажется, начинало оправдываться. Какое же место в преступной шпионской цепи, первым звеном которой был Никольчук, мог занимать Савелов? — спрашивал себя Маясов. И тут же вместо ответа на вопрос задавал себе другой: но почему все-таки Савелов должен занимать место в этой цепи? Отчего, скажем, не предположить стечения обстоятельств, простого совпадения случайностей?.. Если бы так! К сожалению, дело, по-видимому, обстоит хуже. Значительно хуже… Эти сомнения разъедали когда-то прочную веру в собственную правоту, как кислота разъедает металл. И Маясову временами казалось, что сомнения вот-вот одолеют его, заставят капитулировать — признать, что он как оперативный работник оказался не на высоте, допустил непоправимую ошибку в оценке личности погибшего парня и других обстоятельств дела, с ним связанного. Впрочем, так думал не он один. Его тревогу и беспокойство за судьбу неожиданно осложнившегося дела разделяли все, кто работал вместе с ним. И прежде всего капитан Дубравин. Именно эта тревога и привела его на днях к Маясову домой. В тот тихий душный вечер Вовка затащил отца на старый пруд, неподалеку от их дома, Маясову было не до рыбной ловли, но он все же пошел с сыном, потому что несколько раз обещал ему. Там, на берегу полузаросшего осокой пруда, Дубравин их и нашел. — А-а, вот вы где, два Владимира! Капитан подал Вовке кулек с конфетами. Обнаружив, что он ловит карасей на голый крючок, с добродушной укоризной покачал головой. — Да я говорил папке, что червяк сорвался, а он не слышит, — начал оправдываться Вовка. Наладив мальчонке удочку, Дубравин подошел к Маясову, склонившемуся над раскрытым этюдником. — Вроде неплохо получается. — Не льсти, не умеешь. Они помолчали, любуясь латунно-желтой кромкой неба на горизонте. — Какой закат! — восхищенно воскликнул Дубравин. — Глядя на такую красотищу, поневоле думаешь: все житейское — суета сует. Маясов сразу раскусил эту дипломатию. — Давай-ка, Николай Васильевич, без подхода, без философии… Утешать, что ли, меня пришел? Дубравин смущенно заулыбался: — Так уж и утешать… Маясов отложил на траву кисть и палитру, сокрушенно вздохнул: — Как ни ломаю голову, не могу понять, где дали промах? — На ошибках учатся… — За такие ошибки, Лука-утешитель, не прощают, — сказал Маясов. — Помолчав, мрачно добавил: — И правильно, пожалуй, делают.С каждым днем обстановка по делу Савелова становилась все более напряженной. Было похоже, что без артистки им клубка быстро не распутать. Маясов уже собирался отдать приказ, чтобы Ирину Булавину пригласили в Ченский отдел КГБ. Но повестку писать не пришлось. Булавина пришла сама. Это произошло в понедельник, в десятом часу утра. Маясов вышел из-за стола, поздоровался с ней за руку, подвинул ей стул. — Одну минуту, Ирина Александровна… — Он позвонил по телефону Демину, который находился в это время у Дубравина, — сообщил о приходе гостьи. Ожидая полковника, Маясов завел речь о ближайших театральных премьерах, о последних ролях Булавиной. Она отвечала рассеянно, односложно. За прошедшие четверо суток ее будто подменили: лицо осунулось, под глазами лежали тени. Когда, наконец, пришел Демин, Маясов сказал: — Что ж, Ирина Александровна, расскажите, с чем пожаловали… У нее был такой вид, что она вот-вот заплачет. Маясов подал ей воды. — Благодарю вас, — Булавина отпила глоток, вздохнула. — Я пришла, чтобы сказать вам всю правду об этом портсигаре… Впрочем, вы уже и сами, наверное, все знаете, если так настойчиво добиваетесь… не даете покоя. — Вы позволите? — Маясов достал пачку сигарет. — Разрешите, я тоже… Ирина несколько раз затянулась, потом, глядя на кончик сигареты, заговорила негромко, с долгими паузами: — Я врала… Муж ничего не знает о портсигаре… Он принадлежал моему отцу. Букрееву Александру Христофоровичу… Мать говорила, что он погиб… на войне… Но она тоже не знала всей правды… Теперь, когда я получила эти письма… Ирина осеклась, бросила быстрый взгляд на Маясова и нервной скороговоркой продолжила: — Когда портсигар случайно попал в ваши руки. Нет, когда Игорь… Окончательно запутавшись, она замолкла, потом, глядя в пол, едва слышно закончила: — Простите, мне очень трудно собраться с мыслями… — Вам не следует так волноваться, Ирина Александровна, — сказал Маясов. — Прошлое отца не имеет к вам отношения. — Да, но он жив! — вырвалось у Булавиной. Маясов многозначительно переглянулся с Деминым. Он понимал, что его собственная реакция на услышанное должна быть достаточно точной, чтобы не вспугнуть пошедшую на откровенность женщину, не дать ей снова замкнуться в себе. — Вы упомянули о письмах… от него? — Да. — Они у вас? — Нет. Мне посоветовали уничтожить их. И опять пауза, потом осторожный вопрос, рожденный внезапной догадкой: — И посоветовал Арсений Павлович Рубцов, не так ли? — Он сам рассказал вам об этом? — Ирина в замешательстве уставилась на Маясова. — Как же так… Мне он сказал молчать… а сам… за моей спиной… Ирина замолкла. Теперь заговорил Демин. — И только поэтому вы боялись рассказать правду о портсигаре? — Портсигар — это все, что осталось от отца… В сорок шестом году эту вещь передал моей матери Арсений Павлович. Он и рассказал нам о смерти отца. А теперь, когда я получила эти письма… — Расскажите обо всем этом подробнее, — попросил Демин.
ГЛАВА VIII Свадьба
1
В большом светлом кабинете генерала Винокурова были открыты все окна. Не переставая жужжали два настольных вентилятора в никелированных решетках. И все равно было жарко, душно. Казалось, с шумной улицы в комнату вливается не свежий воздух, а раскаленный пар. Прилетевшие из Ченска Демин и Маясов сидели по бокам полированного столика, рядом с большим столом Винокурова, молчаливо ожидая генеральского «да» или «нет» своему замыслу, венчавшему трудную многомесячную работу. Винокуров читал их доклад. Протянув руку к деревянному стакану, он вынул красный карандаш и поставил им жирный восклицательный знак на полях. Маясов увидел, что это было то место, где подводились итоги второго допроса Булавиной. Ему припомнился разговор с Деминым после этого допроса. — Не нравится мне что-то реакция Рубцова на букреевские письма, — сказал тогда полковник. — В самом деле, смотрите, что происходит: встревоженная известиями от отца, Булавина после мучительных сомнений решается открыться его старому товарищу. Она приходит к нему за утешением и советом. Но утешения не находит. Наоборот, друг семьи безжалостно растравляет ее рану. А совет? Какой он дает ей совет: уничтожить письма и никому, даже матери, не говорить о них! — Мне тоже это непонятно, — сказал Маясов. — Если учесть, что Рубцов в свое время сообщил нам о Никольчуке, он не должен был отговаривать Булавину сделать то же в отношении этих писем. — И еще один момент… Патриотическое негодование Рубцова можно бы объяснить, если бы он впервые услышал, кем оказался его бывший друг. Но ведь о предательстве Букреева он знал и раньше. Об этом он сам рассказал Булавиной. А стоило ему вдруг увидеть письма, как он вознегодовал. Да так, что дело дошло до валидола… Демин внезапно умолк, потом спросил: — Кстати, что у него с сердцем? — Рубцова хорошо знает мой шофер Тюменцев, — сказал Маясов. — По его словам, здоровье у Рубцова отменное: рыбак, охотник и сильный лыжник. — И все же дайте команду, чтобы поинтересовались у врачей его сердцем. — Хорошо, Дмитрий Михайлович. — И еще: надо попытаться разыскать материалы о довоенной жизни Букреева. И все, что касается его службы в Красной Армии. Первый «заход» по архивам мало прибавил к тому, что уже было известно о Букрееве и Рубцове со слов Булавиной. Впрочем, определение «мало», для всякого следствия понятие относительное. Бывает, что случайно услышанное слово, перехваченный взгляд подследственного или другая подобная мелочь в корне меняют ход расследования. Через архив удалось узнать номер части, в которой служили Букреев и Рубцов, и фамилию ее командира. А дальше уже просто повезло: скоро стало известно, что этот бывший командир части живет в Москве, на Зубовском бульваре. К нему немедленно вылетел Дубравин. Полковник в отставке Яблоков рассказал, что старший лейтенант Букреев, которого он помнил как ротного командира, был вместе с ним в лагере военнопленных вблизи поселка Борисина до тех пор, пока Яблокова не перевели в другой лагерь. Но суть не в том. Осенью сорок первого года в Борисинском лагере находился и Рубцов — об этом он сам написал в анкете, когда устраивался на службу в ченское фотоателье. К тому жеЯблоков хоть и не помнил Рубцова, сказал, что все оставшиеся в живых люди его полка могли оказаться только в Борисинском лагере — самом ближнем от места последнего боя части. Таким образом, выходило, что Букреев и Рубцов попали в плен в одно и то же время. Однако это никак не вязалось с версией Рубцова: Ирине Булавиной он рассказал, что Букреев переметнулся к немцам еще до того, как их часть попала в окружение. Но зачем было Рубцову столь безбожно искажать факты? Не мог же он забыть, как на самом деле все произошло? Когда возникли эти вопросы, оказалось, что к ним сам по себе тяготеет еще один — его ранее высказал Демин: — Чем объяснить странную реакцию Рубцова на букреевские письма? — Неспроста это, — сказал Маясов. С того момента, можно считать, в развитии дела начался новый этап. Занимаясь всесторонним изучением личности Рубцова, Маясов пришел к мысли о необходимости переоценки некоторых фактов из биографии этого скромного служащего фотоателье. И прежде всего одного его поступка, который чекистами до этого квалифицировался не иначе как патриотический. В высшей степени патриотический! Да по-другому и быть не могло: с помощью Рубцова удалось обезвредить агента американской разведки. Теперь же, с получением новых данных, этот «патриотический поступок» впервые представился Маясову не с блестящей фасадной его стороны, а как бы с черного хода. Все, что было связано с заявлением Рубцова на Никольчука в органы госбезопасности, показалось уже в ином свете. «Сообщил или выдал?» — вот как стоял теперь вопрос. Проверяя свою догадку, Маясов спросил у Дубравина: — Николай Васильевич, ты еще не забыл, как вместе с Никольчуком искали в Ставропольской степи зарытый им парашют? — И рад бы забыть, да не забывается. — А как ты считаешь, мог бы тогда Никольчук убежать, если бы захотел? — Нет. — Почему? — Потому что я всю ночь не смыкал глаз. — Однако ты сам говорил, что были моменты, удобные для Никольчука, чтобы ударить тебя, наброситься с лопатой. — Были. — И он не воспользовался? — Он спал почти всю ночь. — Выходит, и не думал о побеге, — заключил Маясов. — А мог ли человек в положении Никольчука не думать о побеге? — И тут же сам ответил себе: — Нет! Не бывает, чтобы пойманный шпион не использовал такого подходящего случая… Маясов помолчал, потом продолжил свою мысль: — Значит, убежать мог, но не сделал этого. Почему? — Не решился. — Это не ответ! Почему не решился? — Видимо, не чувствовал за собой серьезной вины. — Вот в чем дело! — Маясов даже хлопнул Дубравина по плечу: — Именно: не чувствовал за собой серьезной вины! И все-таки он оказался в КГБ. Почему? Дубравин посмотрел на него долгим взглядом. — Вон куда клонишь. Никольчуком, выходит, пожертвовали?.. В тот же день Маясов доложил о своих предположениях Демину. Тот понял все с полуслова и сказал: — В делах, связанных с убийствами, работать по одной версии рискованно. Хотя и разбрасываться неразумно. И все же целесообразнее действовать одновременно в нескольких направлениях… Таких направлений было два. Первое составляло цепь: Никольчук — Рубцов — Булавина — Савелов. Второе: Никольчук — Букреев — Булавина — Савелов. Главной считалась «рубцовская» версия, разработанная настолько обстоятельно, насколько это позволяли сделать мотивы, легшие в ее основу. Но мотивы — это еще не факты, которые давали бы право арестовать преступника. Факты нужно было добыть, к чему в основном и сводилась теперь работа ченских чекистов. Эту работу требовалось провести как можно быстрее, а без прямой помощи начальника управления здесь не обойтись. Генерал прочел доклад, закрыл папку, посмотрел на Демина, потом на Маясова. — Что ж, интересно. Очень интересно… — Он помолчал, поглаживая подбородок. — Разведчики обычно делают все, чтобы не привлекать к себе внимания. А этот сам пришел к нам. — Психологически трюк, вполне оправданный, — заметил Демин. — Если это так, значит перед нами крупная фигура, — сказал Винокуров. — Здесь надо бить наверняка.2
Вот и настал день свадьбы брата Тюменцева — Николая. Долго оттягивали и переносили его, ждали, когда получат квартиру, но справлять свадьбу пришлось все-таки не у себя: слишком много набралось гостей. Неожиданно выручил Маясов. Когда Петр Тюменцев рассказал ему о возникшем затруднении, майор договорился со своими знакомыми, у которых была четырехкомнатная квартира на проспекте Химиков, и они с удовольствием предоставили ее в распоряжение молодоженов. В день свадьбы, ровно в пять часов, все приглашенные уже сидели за двумя длинными столами, составленными буквой «Т» в самой большой комнате. Неразлучные друзья, Рубцов и Тюменцев, пристроились с краю стола, за которым сидели жених и невеста, откуда всех хорошо было видно. Арсений Павлович, выбритый, в новом костюме, был без жены: она уехала в командировку. И все время весело намекал Петру, что сегодня никто не помешает им разгуляться: «Хочешь пей, хочешь пой, хочешь барыню пляши!» Когда выпили за здоровье молодых и начался общий шумный, бестолковый застольный разговор, Арсений Павлович, любопытный, как всегда, стал расспрашивать Тюменцева о тех, кого не знал за столом. Положив широкую ладонь ему на плечо, Петр охотно рассказывал обо всех присутствующих по очереди: — …А вот тот, лобастый, в стильном костюмчике, тоже родня невесты — Аркадий. Хват парень! Работает в Москве, в Торговой палате, все время по заграницам ездит. Говорят, квартира у него — антикварный магазин… — Тюменцев понизил голос, подмигнул весело: — А рядом с ним Нинка сидит, видишь, крепенькая, как репка. Подруга невесты. Аркашка не столько из-за свадьбы, сколько из-за нее приехал. Только Нинка что-то все волынит. Или не любит его, или все по нашему Кольке, по жениху вот этому, сохнет… Кто их, девок, разберет! — Тюменцев махнул рукой, наполнил коньяком рюмку Арсения Павловича. — А себе? — спросил Рубцов. — Ты и так меньше меня выпил. — Мне же режимить надо, Павлыч… «Первая перчатка области» — это на тарелочке не поднесут. Рубцов вдруг брезгливо сморщил губы: — Коньяк-то, братцы, горький! — Горько! Горько! — закричали вокруг. Жених и невеста встали, смущенно поцеловались. В этот момент Тюменцев случайно взглянул на Нину. И не сразу отвел глаза. Нина вместе со всеми кричала «горько». Только как кричала! Лучше бы она молча сидела — не так бы выдавала себя, свои ревнивые переживания. Ее обычно задорное лицо с ямочкой на подбородке казалось каким-то измученно-озябшим. А глаза? Всегда веселые, насмешливые, они сейчас смотрели жалобно. И это чекистская секретарша Нинка Грицевец! Та самая, что никому спуску не дает, у которой язычок острей бритвы… И как же она не понимает, что в ее настоящем положении нельзя так таращить свои глазищи ни на Кольку-жениха, ни на свою соперницу Зойку? Ага, наконец-то, видимо, дошло. Начала с Аркадием разговаривать. Просит, чтобы налил ей вина. Чокаются, выпили. Нинка улыбается. Хохочет. От смеха у нее даже выступили на ресницах слезы. Только от смеха ли они, эти слезы? Резкий шлепок по боку прервал наблюдения Тюменцева. — Слушай, а кто это сидит вон там, черный как грач? — шепотом спросил Арсений Павлович. — Что-то знакомая физия… — Так это же Кузьмич. Бывший председатель Хребтовского колхоза. — А, точно! За что же его из председателей-то вытряхнули? — Не вытряхнули, а сам попросился! — взъерошился Тюменцев. — Там теперь нужен председатель с агрономическим образованием. — Ладно, не хмурь свои пшеничные брови, — мирно сказал Арсений Павлович. — Налей-ка! И Тюменцев, едва начав злиться, сразу встал на тормоза. И так вот всегда: только он соберется обрезать Арсения Павловича за ехидную подковырку — тот крутит все в обратную сторону, просит не придавать значения «капризам его натуры». И Тюменцев старался не придавать. Потому что он знал в Рубцове еще и другого человека: веселого, простецкого, смелого. К тому же Арсений Павлович был на редкость отходчив: пошипит, пошипит — и опять нормальным человеком станет. Эту черту в характере Рубцова он открыл давно, еще в начале их знакомства, которое ему теперь припомнилось в связи с разговором о бывшем председателе Кузьмиче. В тот день своего короткого солдатского отпуска Тюменцев шел в родное село Плотвихино и по дороге нагнал высокого, сухопарого человека со свертком в руке. На вид ему было лет сорок — сорок пять. Разговорились. Оказалось, их путь лежал вместе, через Хребтовский колхоз. И случилось так, что Тюменцеву надо было на сутки задержаться в этом хозяйстве: председатель Кузьмич, его дальний родственник, просил починить автомашину-трехтонку, позарез нужную в страдную пору жатвы. Рубцов тогда сказал: — Стоит ли торчать над чужой машиной? — в голосе его слышалось явное неодобрение. — Шофер у них заболел, — объяснил Тюменцев. — Люди просят, надо помочь. Рубцов улыбнулся: — Ты, Петя, скажи не виляя: подкалымить решил? Это другой коленкор. Только здесь, мне кажется, не разгуляешься… — Он помолчал и, понизив голос, добавил: — Если хочешь по-настоящему заработать, предлагаю вместе, так сказать, на паях действовать. — Как это? — не понял Тюменцев. — Ты, думаешь, я в деревню пустой иду? — Рубцов кивнул на сверток, лежавший у его ног: — Все имеется: и аппарат и бумаги достаточно. — Ясно, — сказал Тюменцев, — бродячий фотограф. — Почему же бродячий? — Арсений Павлович пропустил насмешку мимо ушей. — Я в законном отпуске: чем хочу, тем и занимаюсь. — Ни пуха ни пера, — Тюменцев взял свой вещевой мешок и зашагал на другой конец деревни, к гаражу. — Чудак! — бросил вслед Арсений Павлович. — Куга зеленая… Несмотря на такое прохладное расставание в Хребтове, на другой день — в Плотвихине, Рубцов встретил Тюменцева как ни в чем не бывало. И с доброжелательной улыбкой предложил: — Забудем, Петя, вчерашние недоразумения… Возможно, Тюменцев не поверил бы в искренность этих слов, если бы не случай, происшедший еще через день на переправе. Зубоскаля с деревенскими девчатами, Петр свалился с парома на середине быстрой реки. Рюкзак с охотничьим снаряжением за плечами был тяжелый — Тюменцев упал вниз спиной, сразу глотнул порядочную порцию воды и, задохнувшись, камнем пошел на дно. Рубцов спас ему жизнь, вытащив из бурлящей холодной Чены. С той поры Петр поверил в широкую душу Арсения Павловича и искренне привязался к нему. И поэтому многое прощал своему приятелю, снисходительно считая, что у каждого человека есть свои слабости, каждый не без изъяна. В последнее время Тюменцев стал замечать, что поведение Рубцова сильно изменилось. Он стал какой-то дерганый: то бесшабашно-веселый, то мрачный, нелюдимый. Причем эти переходы от одного состояния к другому были, как правило, внезапны, необъяснимы. Однажды на рыбалке Рубцов ни с того ни с сего выхватил из воды удилище, переломил его о свою острую коленку и обломки забросил в кусты. — К черту, надоело! — Клев же хороший, Павлыч, — пытался было удержать его Тюменцев. — Можешь торчать здесь хоть до вечера! — с непонятным озлоблением проговорил Рубцов. — А я поехал… В тот же день Петр зашел к нему на квартиру, когда он вернулся с ипподрома. Арсений Павлович пьяный лежал на диване, положив длинные ноги в пыльных полуботинках на полированную боковину. И что-то непонятное бормотал себе под нос. — Проигрался, что ли? — спросил Тюменцев. Рубцов посмотрел на него мутными глазами и ничего не сказал. Лишь тяжело, прямо-таки по-лошадиному, вздохнул. После этого случая Тюменцев пришел к твердому мнению, что женился Арсений Павлович неудачно. («Три года вдовствовал — и, пожалуйте, влип»). От этого, наверное, и выпивать стал чаще и характер поиспортился. Правда, это мнение хотя и было твердым, но едва ли окончательным. Потому что, сколько ни приходилось Петру видеть Рубцова вместе с его новой женой Ларисой, он никогда не замечал между ними ни ссор, ни малейших раздоров, ни даже взглядов косых, недоброжелательных. И тогда, теряясь в догадках о причинах неустойчивости настроения Арсения Павловича в последние месяцы, Тюменцев философски заключил, что чужая душа — потемки. Этот вывод, достойный мудреца, освобождал его от необходимости ломать голову над вопросом, который казался ему неразрешимым, ставил в тупик. А Тюменцев, как всякий шофер, не любил тупиков. Он старался избегать их. Потому что было проще и приятнее принимать в жизни все как есть. В том числе и людей — такими, какими их встретил и узнал. И от них надо не отмахиваться, а, не мудрствуя лукаво, жить вместе со всеми и так, как все… Свадебное гулянье было в полном разгаре, когда к столу, где сидел Тюменцев, подошел улыбающийся Аркадий. — А не пора ли, Петя, показать свое искусство? — Это можно, — сказал Тюменцев и пошел в сутолоке искать куда-то отлучившегося Рубцова. Он нашел его в прихожей. Арсений Павлович курил вместе с двумя инженерами химического завода, на котором работал брат Тюменцева. На предложение «малость размяться» Рубцов весело, по-пионерски отсалютовал: — Всегда готов, Петруша! — И, извинившись перед собеседниками, слегка покачиваясь, зашагал вслед за Тюменцевым в соседнюю комнату. Там было шумно, играла радиола, кто-то плясал, слышался дробный перестук каблуков по паркету. Выждав, когда плясавшая пара выдохлась и отступила в сторону, Рубцов с Тюменцевым перемигнулись, попросили поставить пластинку снова и, растолкав кольцо гостей, вышли на круг. Они плясали недолго, не больше пяти минут. Но уж это была пляска! За их ногами невозможно было уследить. Лишь мелькали начищенные ботинки. Дребезжали стекла книжного шкафа, дрожал пол, и все вокруг били в ладоши. Волосы у плясунов растрепались, лица стали красными. Шел молчаливый неистовый спор: кто кого? Этой сумасшедшей пляске научил Петра Арсений Павлович. Называлась она «Нашенская»; тот, кто переплясывал партнера, обычно выкрикивал: «Нашенская взяла!» Сейчас эти слова прокричал Тюменцев: его приятель сдался — выбежал из круга прямо к раскрытому окну, плюхнулся на подоконник. А через несколько минут тут уже образовался мужской кружок. Рубцов с невозмутимым выражением лица рассказывал веселые анекдоты. Это была его обычная манера: говорить о смешном с серьезной миной. Москвич Аркадий, успевший уже порядком захмелеть, угощал всех настоящими гаванскими сигарами. Арсений Павлович понюхал сигару с видом знатока и сказал: — Такую курить не здесь, в толкучке, а где-нибудь в тишине, в мягком кресле, с кофейком. — Есть тут такой уголок, — сказал Тюменцев. И тоже понюхал свою сигару. В это время подбежали девушки, начались танцы. Лавируя между парами, Тюменцев и Рубцов пошли в дальнюю комнату, отведенную для отдыха гостей. Там никого не было. Через раскрытое окно виден был тусклый свет уличного фонаря. Рубцов устало опустился на диван. Достав перочинный ножик, крепким ногтем раскрыл миниатюрные ножницы, обрезал кончик сигары, закурил. — И в самом деле, только чашки кофе и не хватает, — сказал он, блаженно закрыв глаза. — Попытаюсь организовать, — откликнулся Тюменцев и исчез за дверью. Рубцов распустил галстук, вытянул ноги. Голова слегка кружилась, клонило в сон… Должно быть, он задремал на несколько минут, потому что не помнил, как в полутемной комнате очутились Нина и Аркадий, о которых Тюменцев рассказывал за столом. Они сидели на подоконнике. Точнее, сидела она, а он, взлохмаченный, в расстегнутом пиджаке, стоял рядом и пьяно, горячо бормотал что-то о ее недальновидности.3
Над Берлином стояла душная сырая ночь. Влажный асфальт отражал разноцветные огни реклам. С низкого неба моросил дождь. Улицы в этот поздний час были малолюдны, пустынны, — можно свободно мчаться по ним, и это движение доставляло полковнику Лауту удовольствие: он всегда любил быструю езду. Правда, куда приятнее было бы сидеть за рулем гоночной машины, нежели качаться в скрипучей кабине двухтонного грузовика. Но, увы, в разведке выбирать не приходится… Впрочем, нынешнее дело было совершенно особенное и, можно считать, к разведке прямого отношения не имело. В минувшую пятницу Элен Файн вдруг попросила у Лаута внеочередного приема. Оказалось, от ченского агента Барсука поступило сразу два сообщения. Одно из них было с приложением — микропленкой. С этого приложения, уже обработанного в лаборатории, Лаут и начал. Он взял фотоснимок, прочитал сделанную Файн подпись внизу:«Промежуточный пакгауз для продукции Ченского экспериментального химического завода в районе станции Шепелево».Постукивая по столу маленьким кулаком, Лаут довольно долго разглядывал фотографию. Потом, не скрывая разочарования, сказал: — Подобную информацию мы с успехом можем получать через наших туристов… Но нам сейчас требуется не это. Совсем не это! — Осмелюсь заметить, шеф, мы обычно руководствовались, мне кажется, несколько иными вашими установками… — Что вы хотите этим сказать? — Вы всегда подчеркивали, что мы должны меньше рассчитывать на сведения, исходящие из одного источника, или на единичную информацию, чем на методическое изучение мелких, самых различных подробностей, отобранных из всей огромной массы сведений. — Да, нашу разведку интересует все: от атомных и ракетных объектов до деторождаемости и климата в Советском Союзе. — Лаут строго посмотрел в загорелое, с четко очерченными губами лицо помощницы. — Но прошу не забывать: мы сейчас ограничены слишком жесткими сроками. Цель номер один для нас — продукция экспериментального завода: ее образец, формула, технология! Полковник придвинул к себе второе донесение Барсука, отпечатанное на машинке. Прочитав его, пробурчал: — Хм! Какие-то драгоценности… Однако солидная сумма. — Неопределенно пожевал губами. — А что, Барсук получает от нас за каждое сообщение? — Да, шеф. Лаут поморщился: — Имейте в виду, Элен, погоня за количеством информации может отразиться на ее качестве. — Я напомню Барсуку… Полковник уточнил: — Это, разумеется, только в принципе. В данном случае агент поступил правильно: сообщение говорит о его активности. — Я тоже так считаю. Лаут еще раз пробежал глазами донесение. — Дрезденштрассе? Если не ошибаюсь, это в Восточном секторе? — Совершенно верно. Подумав над бумагой с минуту, полковник распорядился: — Пожалуй, этим займется Смит… После ухода помощницы Лаут, стоя у окна, продолжал думать о сообщении из Ченска. Какие все-таки большие деньги. Почти полмиллиона. Целое состояние… Только почему, собственно, он поручил это дело Смиту? Конечно, Смит толковый, опытный разведчик. Но чем хуже, скажем, Паулс? Девять лет нелегальной работы на чужой территории — это говорит само за себя. Или Голтер-«дипломат», успешно использовался под крышей американского посольства в нескольких странах и нигде не засветил себя. Или та же хитрая и осторожная Элен Файн. Все, как на подбор, мастер к мастеру… Но тут деньги. А деньги, как известно, имеют свойство прилипать к пальцам… Лаут взял трубку внутреннего телефона: — Элен, не вызывайте Смита! Операцию на Дрезденштрассе я проведу сам… …Впереди вспыхнул красный зрачок светофора. Полковник резко затормозил машину. Высунувшись из кабины, осмотрелся. Фридрихштрассе. Здесь начинался демократический сектор. Граница двух миров. Через минуту грузовик уже снова мчался. Над эстакадой вокзала Фридрихштрассебанхоф бежали в облаках белого пара электрические буквы последних телеграмм, полученных редакцией «Нейес Дейчланд» — новости со всех концов света. Машина набирала скорость. Ветер со свистом обвевал кабину. По обеим сторонам мостовой потянулись громады домов в светлой облицовке — новые застройки на месте послевоенных руин и пепелищ. На перекрестке Лаут крутнул руль вправо. Грузовик свернул на неширокую безлюдную улицу с высокими каштанами вдоль тротуаров. Дрезденштрассе. Большинство домов здесь были старые, с островерхими черепичными крышами. У двухэтажного дома со светящимся номером «Б» Лаут притормозил машину и осторожно, стараясь не зацепить бортами, въехал под невысокую, узкую арку. Во дворе с разбитым посредине цветником, окаймленным асфальтовой дорожкой, было пустынно. В центре цветника, как бы вырастая из клумбы, стоял фонарь. Его желтоватый свет бликами отражался в лужицах, образовавшихся от дождя в неровностях асфальта. Лаут вылез из кабины, тихо прикрыл дверцу. — Приехали, — сказал он, натягивая на голову капюшон черного плаща. Из кузова неслышно выпрыгнули двое в таких же плащах, только мокрых и блестевших от дождя. Лаут что-то приказал им коротко и негромко. И они, открыв боковой и задний борта, сноровисто и бесшумно стали вытаскивать из грузовика деревянные щиты и расставлять их один возле другого. Через несколько минут рабочий коридор был готов. Он замыкал пространство от чугунной крышки канализационного люка до средней из трех колонн, которые поддерживали портик террасы, ведущей из старинного особняка во двор. Оглядев это сооружение из стандартных щитов, полковник сказал: — А кто из вас будет открывать люк?! Один из помощников Лаута бросился в конец «коридора» и, поддев железным крюком тяжелый чугунный диск, открыл темный спуск в канализационный колодец. Потом принес из машины и пристроил на внешней стороне углового щита железный трафарет: «Осторожно! Ремонт канализации». Теперь как будто все готово, можно начинать. По команде Лаута его помощники подтащили к колонне инструменты. Ломом сняли асфальтовый слой, облегавший массивный цоколь. Под асфальтом грунт оказался сравнительно мягким. В дело пошли лопаты. Помощники сбросили плащи — копали в одних рубашках. Оба молодые, рослые, с сильными руками. Впрочем, эти ребята могли похвастаться не одной физической силой. Они умели еще кое-что. Им, например, не составляло труда вспороть стальное брюхо любому сейфу. На первом этаже особняка, справа от террасы, вдруг ярко вспыхнул в окне электрический свет. Через несколько минут во двор вышел человек в пальто с поднятым воротником. — Доброй ночи, — сказал он. — Как лицо официальное, хотел бы знать, чем товарищи намерены заниматься в нашем дворе? — А вы что, не видите? — пробурчал Лаут, показывая, что не намерен вступать в подробные объяснения. — На производство канализационных работ необходимо разрешение городских властей, — сказал человек в пальто, поглаживая пальцами седые усы. Лаут вынул из кармана бумажку, молча протянул усатому. Пока тот читал, полковник, заложив руки за спину, с подчеркнутым равнодушием посматривал по сторонам: разрешение на производство ремонтных работ было хотя и липовое, но исполненное на подлинном, неподдельном бланке и с настоящей печатью соответствующего отдела городских властей демократического Берлина. Возвратив Лауту бумажку, старик развел руками: — Извините, долг службы… — и медленно побрел к подъезду. Проводив его взглядом, Лаут быстрыми шагами подошел к работавшим у колонны парням, нетерпеливо спросил: — Ну как? — Пока ничего похожего, — ответил молодой голос из ямы. — Попробуем еще с полметра снять. — Не с полметра, а столько, сколько понадобится! — строго сказал Лаут. — Будем копать хоть до преисподней, пока не найдем. Он опустился на корточки у края ямы. Вынув карманный фонарь, направил белый луч на обнажившийся кирпичный фундамент колонны. Грунт вокруг кладки был вперемешку с крупным щебнем и кусками битого кирпича. И Лаут то и дело освещал эти камни и комья земли: ему начинало казаться, что под ними вот-вот откроется заветный ящичек, или железная банка, или какая-то другая посудина, доверху наполненная изящными безделушками, каждая из которых стоит кучу денег. Парни, как заводные, копали, не разгибая спины. Теперь Лаут следил за каждым движением их лопат: он опасался, что вместе с землей они выбросят и сам драгоценный клад. Напряжение, с которым полковник наблюдал за работой, нарастало с каждой минутой, с каждым ударом заступа о взрыхленный грунт. Наконец снизу донеслось: — Стоп! Кажется, докопались… Увидев, как две головы в мокрых кепках сблизились, что-то внимательно рассматривая в кирпичном фундаменте и взволнованно зашептались, Лаут отрывисто приказал: — Наверх! И как только парни, тяжело дыша от усталости, вылезли на земляную насыпь, он спрыгнул вниз, на их место. То, что Лаут затем увидел под лучом своего фонаря, заставило его выругаться сквозь зубы. С минуту он стоял неподвижно. В фундаменте была небольшая ниша — в объем вынутого из кладки кирпича. Именно вынутого, а не случайно выпавшего: ровные, гладкие внутренние стенки ниши, следы аккуратной наружной заделки — все говорило, что это дело рук человеческих. Драгоценности могли быть замурованы только здесь. Они, несомненно, были здесь. Были! А теперь их нет. Кто-то сумел опередить…
4
Полученные за последнее время данные подтверждали ранее возникшее у чекистов предположение, что дело Рубцова территориально не замыкается на Ченске. Поэтому Демин и Маясов на несколько дней выехали в областной центр, чтобы провести там некоторые оперативные мероприятия. Их работа близилась к концу, когда однажды утром генерал Винокуров обоих срочно вызвал к себе. — Есть интересные новости! — весело сказал он, как только Демин и Маясов появились в его кабинете. — От наших друзей из ГДР получено сообщение. — Значит, рыбка клюнула? — улыбаясь, спросил Демин. — Позавчера дом номер пять на Дрезденштрассе посетили американские гости. — Винокуров вынул из папки несколько фотоснимков. — Вот полюбуйтесь: ночную операцию возглавлял сам начальник русского филиала полковник Лаут. Когда Демин и Маясов, посмотрев снимки, положили их на стол, генерал переменил тон: — С Рубцова теперь глаз не спускать! Используйте, Владимир Петрович, все средства… В тот же день, вечерним рейсом, Маясов вылетел в Ченск. Заложив под язык кисловатую конфету, которую навязала ему, как и всем другим пассажирам, вежливая стюардесса, Владимир Петрович сидел в кресле у окна. Глаза закрыты, руки сложены на груди. От тяжелого рева моторов мелко вибрировала металлическая стенка салона, за которой где-то внизу в темноте проплывали Ченские леса. Маясову припомнился разговор с Деминым перед отъездом на аэродром, за ужином у него на квартире. И теперь он думал об этом разговоре. Вначале у них шла речь о фотоснимках, запечатлевших полковника Лаута, который приехал на Дрезденштрассе искать несуществующий клад. Потом Маясов сказал: — Хотелось бы все-таки знать, как далеко этому мистеру удалось обскакать нас? Вместо ответа Демин неопределенно проговорил: — Закономерность многих явлений: противодействие отстает от действия… Он допил свой чай, отодвинул стакан и, закурив, продолжал: — История свидетельствует, что начало почти всякой войны независимо от ее финала выглядит как успех нападающей стороны. Использование «права» заранее подготовленного первого удара является важнейшим преимуществом того, кто развязал войну. И это относится не только к войнам «классическим», открытым, но и к тем, что ведутся тайно, короче, к борьбе между разведкой и контрразведкой. В этом смысле разведка находится в более выгодном положении, потому что может заранее готовиться к активным действиям. Контрразведка же вынуждена вести поединок в обстановке, навязанной ей. У Демина потухла сигарета: так случалось нередко, когда он увлекался разговором. Втягивая худые щеки, Дмитрий Михайлович раскурил сигарету и закончил свой экскурс в теорию выводом: — Сила контрразведки — в ответном ударе. Однако и здесь она поставлена в менее выгодные условия: прежде чем нанести контрудар, надо знать, где и когда противник совершит нападение. — А не слишком ли это пассивно, — возразил Маясов. — По-моему, задача контрразведки не фиксировать действия врага, а упреждать их. — Абсолютно верно: контрразведка должна быть активной. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое: контрразведка никогда не может проявить себя прежде разведки, так же как не может противодействие упредить само действие. Это было бы абсурдом, смешением понятий, бессмыслицей. — Согласен с вами, если под «действием разведки» понимать не только ее решающий удар, но и подготовку к нему. При таком положении вещей действия контрразведки не могут не отставать от действий разведки, — сказал Маясов. И, помедлив, с посуровевшим вдруг лицом добавил: — К сожалению, нам, контрразведчикам, от этой закономерности не легче. После этого они долго в задумчивости молчали: Демин — покуривая у стола, Маясов — по привычке расхаживая по комнате. Обоих беспокоило одно: к чему же в конечном итоге приведет действительное, а не теоретическое уже отставание «противодействий контрразведки» от «действий разведки». И насколько оно значительно. Это тревожило всех, кто работал по делу Никольчука — Рубцова. А больше других Маясова: он вел это дело на первом этапе его развития, когда, вероятно, и были допущены непоправимые ошибки. Из-за них чекисты не смогли своевременно выявить взаимоотношения Рубцова и Савелова. В результате к оценке действий парня подошли, видимо, слишком оптимистично… Выслушав сомнения Маясова по этому поводу, Демин заметил: — Дзержинский однажды сказал Уншлихту: «Лучше тысячу раз ошибиться в сторону либеральную, чем послать неактивного в ссылку, откуда он сам вернется, наверное, активным, а его осуждение сразу будет мобилизовано против нас». — Все это так. — Маясов тяжело вздохнул. — Однако ошибка остается ошибкой… «Ошибка остается ошибкой». Такое, оказывается, он уже услышал. Это было сказано в одном разговоре, случайным свидетелем которого Маясов стал накануне своего отъезда из Ченска. …В тот день Тюменцев только что вернулся из городского совета «Динамо» и во дворе тряпкой надраивал тускло блестевшие бока «газика». Когда с крыльца к нему спустился Маясов, он шумно сказал: — Все, товарищ майор! — И, видя недоумевающий взгляд начальника, объяснил: — Сделаю своей карете легкий ремонтишко, и можете прощаться с Тюменцевым. Как говорится, ауфвидерзеен. — Это окончательно или опять наметки? — Окончательно и бесповоротно! — Плотное, загорелое лицо шофера расплылось в улыбке. — «Первая перчатка области» — отменная цель. А там, чем черт не шутит, глядишь, через несколько лет Петр Тюменцев и чемпион Советского Союза! В общем, товарищ майор, ищите себе нового шофера. Маясов прошел в гараж, чтобы заправить бензином зажигалку. Но тотчас вернулся, увидев, что бутылка на окне пуста. В ожидании куда-то отлучившегося Тюменцева он сел в машину, на заднее сиденье. И тут же услышал доносившийся с крылечка приглушенный голос Зубкова: — Может статься, что больше и не понадобится Владимиру Петровичу новый шофер. — Не рано ли ты, голубь, поешь панихиду, — возразил бас Дубравина. — Это я к слову… Но ведь факты. Ведь получается, что существовала целая преступная цепь. А Маясов и мы вместе с ним не сумели вовремя разглядеть. — Может, и так… Только не забывай, что если бы Маясов согласился с версией милиции, то Савелов так бы, наверное, и прошел как уголовник, убитый соучастниками по ограблению. И возможно, вся эта, как ты говоришь, преступная цепь так бы и осталась невскрытой. — А меняет ли это картину, Николай Васильевич? Скажут: ошибка остается ошибкой. …Беспокойные раздумья Маясова были прерваны голосом стюардессы. Пройдя в своей темно-синей шапочке набекрень между рядов кресел с дремавшими в них пассажирами, она объявила о скорой посадке: самолет приближался к Ченску.ГЛАВА IX С поличным
1
Странное мучительное ощущение возвращалось вновь и вновь: ему казалось, что за ним все время кто-то следит. Какой-то чужой глаз, пристальный и неотступный. И самое скверное состояло в том, что он ни разу не видел «наблюдателя». Он только постоянно ощущал его взгляд на себе и уже не выдерживал — старался оторваться от него, скрыться. Громадными прыжками он вбегал к себе на третий этаж, запирал дверь. И потом весь превращался в слух. И хотя он ничего не слышал там — ни шагов, ни движения, он был уверен: за дверью кто-то есть. Стоит и ждет, готовый открыть ее и переступить порог… И дверь действительно начинает открываться. Между ее прямоугольным краем и косяком возникает узкая, как натянутая нить, черная полоска. Эта полоска увеличивается и увеличивается. Теперь в нее из темноты может просунуться голова. А дверь все продолжает открываться. И это самое жуткое: никого нет, а дверь открывается, открывается… Охваченный ужасом, он начинает кричать, звать на помощь. Кричит до тех пор, пока не просыпается. …В комнате никого нет. За окном солнечное утро. На решетке балкона весело чирикают воробьи. «Глупые твари — и чему радуются?» — с раздражением подумал Рубцов, ощущая неприятную вялость в теле. Он знал: это проходит после гимнастики и холодного душа. Но сейчас у него не было желания заняться спасительной процедурой: он вспомнил, какая ему предстоит работа… В пижаме и ночных туфлях Арсений Павлович прошел в маленькую комнату и закрылся там. Собственно, на железную задвижку можно бы и не запираться, так как в квартире он один: жену еще с вечера удалось выпроводить к матери в деревню. Но он уже привык работать взаперти. Когда-то эти меры предосторожности Рубцов считал для себя ненужными. Сейчас — не то. Страх донимал его. Мешал работать, не давал спокойно спать. И только самообладание, сила воли помогали ему внешне выглядеть «таким, как всегда». Это изнуряющее чувство, длительное напряжение, связанное с боязнью провала, сделали Рубцова болезненно мнительным. Он теперь не верил никому. И свою жизнь строил так, чтобы ни один посторонний, чужой глаз не проникал в нее. Зимой он женился на Ларисе. Она служила бухгалтером-ревизором. Эта ее должность весьма устраивала Рубцова: частые командировки жены создавали все условия, чтобы он, пребывая в роли добропорядочного мужа, хорошего семьянина, мог распоряжаться собой и своим временем, как ему нужно. К тому же у Ларисы была большая комната, которая в соединении с его комнатой, дала возможность получить в обмен отдельную квартиру, так необходимую ему для конспирации дела, которым он теперь занимался. Но на живого человека, как говорится, не угодишь. Вскоре после женитьбы Арсений Павлович заявил жене, что отныне будет спать отдельно. — Почему, котик? — удивилась она. — Отвык я после смерти Глафиры вдвоем спать, — отрезал Рубцов. — Да и гигиена не рекомендует. Лариса благоговела перед научной терминологией. «Гигиена не рекомендует» — это звучало. И она не стала возражать мужу. Покладистость жены обезоружила Рубцова: он ожидал сопротивления более упорного. И ему вдруг по-мальчишески, из-за озорства, захотелось рассказать ей об истинной причине этого новшества. Причина была проста и прозаична: он боялся выболтать что-либо «лишнее», так как с некоторых пор стал разговаривать во сне. Но Арсений Павлович, разумеется, не рассказал об этом жене. Он только снисходительно пошлепал ее по пышному плечу. В общем обижаться на свою Ларису он не мог: все расчеты, с которыми была связана женитьба на ней, оправдались. Если, конечно, не считать квартирной проблемы: ее, по мнению Рубцова, удалось разрешить все же не лучшим образом. Впрочем, Лариса здесь ни при чем. Он сам виноват, что отказался от первого, наиболее выгодного обмена. Только сам со своей мнительностью: он в тот раз, можно сказать, испугался собственной тени. Короче, свалял дурака. А квартирка предлагалась и впрямь что надо: две прекрасных комнаты, и главное — изолированные, все удобства. Он уже совсем договорился с хозяином, хотел идти посоветоваться с Ларисой. И надо же было в тот недобрый час встретиться на лестничной площадке с новым соседом! Поставив ногу на ступеньку, тот надраивал щеткой хромовый сапог. Увидев Рубцова, прекратил работу и, вежливо извинившись, заговорил с ним. Причем заговорил так, будто многие годы знал его. Однако не эта фамильярность была причиной вдруг возникшей предубежденности к словоохотливому толстяку. Начав разговор о погоде, они потом перешли к обсуждению ченских новостей и, в частности, одного воровского происшествия, о котором сообщалось в местной газете. Когда сосед стал комментировать эту газетную заметку, Рубцов понял, что в подобных делах он стреляный воробей. Несколько слов толстяка особенно запомнились Арсению Павловичу. Они-то, как ни странно, и повлияли на его решение: «Важно, чтобы негласно добытые данные перекрылись, и тогда дело выиграно»… «Прежде чем приступать к реализации разработки, надо было изучить окружение фигуранта»… И еще в том же роде. Рубцов подумал: «Подобные слова могут проскальзывать в речи юристов, работников прокуратуры, милиции, следователей. Короче, всех тех, с кем для него, Рубцова, соседство нежелательно». И он как-то сразу охладел к только что облюбованной квартире. Дня через два беспокойных раздумий Арсений Павлович решил: перед тем как покончить с обменом, стоит все же уточнить служебное положение толстяка. Он оказался пенсионером. Ранее был техническим секретарем в уголовном розыске. Рубцов обругал себя идиотом. И тут же пошел к хозяину квартиры, чтобы подтвердить свое согласие на немедленный обмен. Увы! Ему сказали, что он опоздал: только вчера состоялась сделка с другим человеком. Рубцов с досады зашел в пивную и домой заявился лишь к ночи «чуть тепленький», как говаривала в подобных случаях любвеобильная и всепрощающая жена Лариса… «Однако довольно ворошить старье, пора приступать к делу!» — сказал себе Арсений Павлович. И снял со шкафа черную шкатулку, где хранились его бритвенные принадлежности. Выложил их на стол. Потом поддел шилом верхнее дно шкатулки и вытащил стопочку бумажных листков, начал разбирать их. Сверху лежала маленькая, в ладонь, брошюрка. Рубцов машинально открыл ее, стал медленно перелистывать, выхватывая глазами из знакомого текста отдельные фразы:…«Забудь свое прошлое, точно следуй легенде, — поучала «Памятка». — Твоя работа требует сильной воли и твердого характера — повседневно развивай их в себе… Совершенствуй свою память и научись молчать, ибо способность уметь молчать и уметь запоминать будет твоим лучшим помощником… Если ты хочешь что-либо узнать упостороннего, говори с собеседником так, чтобы он не чувствовал твоих вопросов… Собирай все попадающиеся обрывки сведений, не проявляя к ним заметного интереса… Всегда записывай то, что узнал, абсолютно невинными словами: цифры или размеры, о которых тебе нужно сообщить, лучше записывай как цифры личных расходов. В Орше ты видел, скажем, десять самолетов новой марки, стоявших на аэродроме, — запиши, что обед, заказанный в оршинском ресторане, обошелся тебе в десять рублей… Никогда не говори и не веди себя таинственно… Возьми себе за правило не выделяться из окружающей среды, подстраивайся под общую массу…»Рубцов не стал читать дальше. «Поучения писать всякий может…» Сложил «Памятку» пополам и разорвал. Клочки отнес в уборную, сжег над унитазом. Вернувшись к столу, Арсений Павлович начал работать над листками, вынутыми из шкатулки. Они были густо исписаны цифрами и условными знаками. Через некоторое время все «иероглифы» обратились в обычные слова. Рубцов пробежал глазами написанное донесение:
«На днях мне удалось побывать в ряде интересных мест нашего района. Возле Осокино, направо от железной дороги, я видел новый аэродром, на котором насчитал 46 истребителей. На станции Березкино с поезда сошли два подполковника авиации. Когда поезд тронулся, у переезда я заметил еще двух офицеров ВВС, они шли по дороге, ведущей из леса. Будучи в облцентре, от водителя такси я услышал, что на местном автозаводе находится в производстве машина спецназначения грузоподъемностью более 50 тонн…»Далее шло в том же духе: что видел сам, что удалось подслушать. Все это не имело отношения к основному заданию, являлось результатом личной инициативы. Однако пренебрегать подобной информацией не следовало: за нее платили деньги. Впрочем, была и другая, более веская причина, заставлявшая его действовать «по совместительству». Но об этой причине он сейчас не хотел вспоминать. Рубцов оттянул пальцами плинтус под столом, достал из тайника шифровальный блокнот. Прежде чем приступить к зашифровке донесения, он еще раз прочел его и задумался, вспомнив недавний наказ своего непосредственного «хозяина» — Ванджея: «Главное, чтобы нас никогда впредь не видели вместе. Шифрованные сообщения, исполненные тайнописью, вы должны маскировать строками невинного открытого текста, который по своему содержанию мог бы навести на мысль о мальчишеской игре, если магнитный пенал, куда вы вложите свою информацию, случайно попадет в чужие руки…»
2
Ченский поезд подошел к вокзалу областного центра. И как только, зашипев тормозами, остановился — из вагонов хлынул шумный поток пассажиров. Наблюдая это пестрое шествие, Рубцов не спешил покидать купе. Он стоял у окна, суженными глазами всматривался в лица пассажиров, проходивших по платформе. При этом на людей с тяжелой поклажей Арсений Павлович почти не обращал внимания, на идущих с небольшими чемоданчиками в руках, глядел пристальнее, а тех, кто шел совсем без вещей, ощупывал пытливым взглядом с головы до ног. Он вышел из вагона, когда платформа почти опустела. И тут же остановился, поставил возле ног саквояж, стал закуривать. И пока закуривал на ветру, растопырив локти, пригнув голову, успел обвести весь перрон тем же ищущим взглядом, которым «просеивал» толпу из вагонного окна. Убедившись, что никто за ним не следит, Рубцов, попыхивая папиросным дымком, зашагал вдоль платформы. Теперь его худощавое, продолговатое лицо не выражало ничего, кроме беззаботного довольства теплым, солнечным днем. С таким видом человек мог идти на прогулку, в гости или хотя бы в магазин за покупками… С вокзальной площади Рубцов направился к троллейбусной остановке, но не прямым, ближним путем, а окольным — пустынными переулками. Таких переулков он миновал три и в конце каждого незаметно оглядывался. На троллейбусе Арсений Павлович проехал всего две остановки и, когда вышел из него, опять осторожно осмотрелся. Потом перешел через улицу на противоположный тротуар и пристроился к очереди пассажиров, ожидавших автобус. Автобус снова привез его на вокзальную площадь. Выйдя из машины, он зашагал к магазину «Фотопринадлежности». Купил там десяток пакетов фотобумаги, попросил выписать счет. Обратный путь Рубцова лежал через ту же продуваемую со всех сторон предвечерним ветерком гомонливую площадь. Он шел не торопясь, свободно, но с прежней, незаметной для постороннего глаза настороженностью. И пришел на вокзал. Сдав в камеру хранения свой саквояж, он быстрым шагом направился к двери. Но не к той, в которую вошел, а к противоположной, ведущей через товарный двор на улицу, к стоянке такси. Сел в машину, коротко бросил шоферу: — К Большому бульвару! — И расслабленно откинулся на упруго-мягкую спинку сиденья.Когда Арсений Павлович начал прохаживаться по липовым аллеям, над городом уже опускались синие сумерки. Большой бульвар был излюбленным местом вечерних прогулок. И Рубцов тоже с видом праздного человека вышагивал по его дорожкам, протянувшимся на добрых два километра. «Этот заход последний!» — решил он, подходя к кустам желтой акации, откуда начинались каменные ступени длинной лестницы, ведущей с бульвара на улицу. Он замедлил шаг, вынул из кармана и зажал в потной ладони маленький пенал. На повороте аллеи, где акация разрослась особенно густо, Рубцов как бы невзначай дотронулся до железной ограды. Этого неуловимого движения было достаточно, чтобы всунуть магнитный пенал в железное дупло: в этом месте полый столбик ограды был проломан. Пересиливая желание поскорее уйти от тайника, Рубцов, сцепив на пояснице руки, идет по улице подчеркнуто медленно. И, только свернув за угол ближайшего дома, как бы отпускает натянутые до предела вожжи, прибавляет шагу. Еще один поворот в переулок. Рубцов больше не сопротивляется той внутренней силе, которая гонит его вперед, — идет все быстрее и быстрее. На шумной, залитой вечерними огнями площади, куда его приводят ставшие вдруг непослушными, отяжелевшие ноги, он останавливается, осматривается по сторонам и, с минуту подумав, решительно направляется к угловому дому со светящейся зеленой вывеской над распахнутой дверью. Народу в шашлычной немного. Но Рубцов не в силах ждать ни минуты. Внутри у него все как-то мелко дрожит. Ему надо унять в себе эту гадкую трясучку. Он подходит к буфетной стойке. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, просит водки. Потом неверной рукой принимает от буфетчицы стакан и жадно, залпом пьет.
3
Ровно через час после того, как Рубцов вложил в тайник пенал с донесением, на центральной аллее Большого бульвара среди гуляющей публики появился новый человек. Был он высок ростом, пухлощек, с покатыми крепкими плечами. Распахнув свой темно-зеленый короткий пиджак, заложив руки в карманы, человек шел по дорожке и беспечно что-то мурлыкал себе под нос, какой-то веселый мотивчик. На этого человека обратил внимание светловолосый юноша, сидевший со своей подружкой на одной из бульварных скамеек. Он увидел его несколько минут назад и, наверное, сразу забыл бы о нем, как о других людях, которые в одиночку, парами или группами гуляли под сенью старых лип. Но человек во второй, а затем и в третий раз прошелся по аллее, которая вела к кустам желтой акации. — Тебе не кажется, что он болтается здесь неспроста? — спросил юноша у своей подруги. До этого она без умолку тараторила, смеялась, теперь подвинулась ближе, тихо сказала: — Да, я тоже об этом подумала. — Гляди! Опять идет сюда, — шепнул парень. — Обними меня крепче. Да не бойся, не укушу. — Может, еще захочешь, чтобы поцеловала? — Не возражаю. Для дела не противопоказано. — Сойдет и так. — Она повернулась, обняла его рукой за шею. — Если бы знать, что за тип?.. Но этого не знал даже тот, кто посадил их на бульварную скамейку, кто организовал засаду у тайника. Никто из чекистов не ведал, что за человек может прийти к тому месту у кустов желтой акации, где недавно побывал Рубцов. Знали только одно: за шпионским сообщением обязательно кто-то придет. Пришел капитан Гарри Ванджей. Именно он и вышагивал теперь по дорожкам Большого бульвара, выбирая удобный момент, чтобы подойти к тайнику. Наконец Ванджей уловил такой момент. Бульвар пересекала группа парней, они пели под гитару. И Ванджей пристроился сзади, как только понял, что ребята пойдут на улицу по каменным ступеням мимо кустов. Он смело шел за веселой ватагой, не рискуя быть замеченным со стороны улицы. По бокам его надежно маскировали густые заросли акации. Незащищенным оставался только тыл, но там ничего подозрительного не замечалось — гуляющих поблизости нет, а парочки, сидевшие поодаль на скамейках, вообще не в счет: на таком расстоянии, при скудном свете фонарей едва ли можно разглядеть, что делает человек, задержавшийся на секунду у решетки бульвара. Но юноша-блондин видел все, что делал Ванджей. И то, что видел, шепотом передавал своей подруге, невольно заражая ее волнением, которое испытывал сам. — Пора? — нетерпеливо спросила девушка. — Обожди! Спугнешь… Ванджей, приотстав от шумной компании, решительно шагнул к железной решетке ограды. Вынув из кармана стержень длиною чуть побольше карандаша, он запустил его в дупло полого металлического столбика, плавно потянул вверх и извлек пенал, заложенный Рубцовым. Молодой человек рванулся со скамьи, следом за ним побежала девушка. Ванджей успел сделать лишь несколько шагов, когда они, появившись на аллее из темноты, встали перед ним. — Что вам надо?! — в недоумении спросил Ванджей. Не ожидая ответа, он быстро повернулся, чтобы уйти. И тут же отпрянул назад: наперерез ему из кустов акации вышел коренастый милиционер с сержантскими нашивками на погонах. Это был сотрудник Демина — капитан Исаев. Недавно, на свадьбе у Тюменцева, в роли пьяного болтуна Аркаши ему пришлось вместе с Ниной Грицевец обрабатывать Рубцова, а теперь вот посчастливилось встретиться с его непосредственным хозяином. — Минуточку, — спокойно сказал милиционер, преграждая Ванджею дорогу. — Торопиться не надо.4
Темно-зеленый, с парусиновым верхом «газик» мчался по пустынным улицам ночного Ченска. Широко растопырив локти, подавшись вперед, за рулем сидел Тюменцев. Он гнал машину на полной скорости. Так требовали обстоятельства оперативного задания. Но не только поэтому. Щедро показывать свое умение красивой, лихой езды его побуждало еще и то, что он вел эту машину в последний раз. И ему хотелось, чтобы о нем как о шофере осталась добрая память у всех, с кем он вместе работал, и, конечно же, прежде всего у майора Маясова, который сейчас сидел рядом с ним. С завтрашнего дня Тюменцев больше не работает в отделе. А примерно через неделю, как только получит от тренера из областного «Динамо» телеграмму, уедет из Ченска совсем, чтобы начать по-настоящему заниматься боксом. Правда, боксерские дела были не единственной причиной его ухода из отдела. Тюменцев уже не раз говорил о своей слишком будничной работе и хотел подыскать в областном центре более живую: мечтал, например, о профессии летчика-испытателя. Об этих романтических порывах своего шофера Маясов знал давно и считал их не особенно серьезными, поэтому принятого им решения об увольнении не одобрил, назвал это дезертирством. По глазам майора Тюменцев понял, что он шутит. И все-таки за «дезертирство» тогда обиделся: — Какой же я дезертир, если работаю по вольному найму? — Это не меняет дела, — сказал Маясов. — Вас в КГБ прислал комсомол. — Так я же не на курорт отправляюсь, и даже не на пенсию по выслуге лет, — оправдывался несколько смущенный Тюменцев. — Я иду в народное хозяйство. Буду, так сказать, практически участвовать в строительстве коммунизма. — Цель, разумеется, похвальная, — сказал Маясов. — Но нельзя забывать, что коммунизм надо не только строить, его еще и охранять требуется. — И все-таки, товарищ майор, важнее строить, чем охранять. — Тюменцев уже оправился от минутной заминки. — Ведь у нас теперь с каждым днем становится все больше друзей, чем врагов. — Это верно, — согласился Маясов. — Только и в народном хозяйстве «летунов», порхающих с места на место, не особенно жалуют. Что касается друзей, то их надо с умом выбирать. — Как это? — не понял Тюменцев. — Друзья бывают разные: одни настоящие, а другие кажущиеся, фальшивые… Тюменцеву это было опять непонятно. Однако Маясов ничего более конкретного, разъясняющего в тот раз так и не сказал. И только сегодня для Тюменцева наступила полная ясность. После обеда майор вызвал его к себе, пригласил сесть. Тюменцев подумал: разговор, видимо, будет не короткий, и, наверное, по поводу увольнения. Не исключено, что Маясов, не найдя хорошего шофера, начнет его уговаривать, чтобы он не уходил из отдела: такие водители, как Тюменцев, на дороге не валяются. И действительно, разговор начался с вопроса об увольнении, хотя и не с той его стороны, как предполагал Тюменцев. — Как у вас с машиной? — спросил Маясов. — После профилактики мотор работает, как зверь. — Ну, а остальное хозяйство? — Тоже в отменном виде. — Что ж. Завтра придет новый шофер, ему и сдадите машину… А сейчас я вас вызвал по другому делу. — Маясов помолчал немного и с невеселой иронией закончил: — Ночью поедем в гости к вашему другу. — В гости? К другу? — Да, к Арсению Павловичу. И майор рассказал о Рубцове такое, что у Тюменцева чуть душа не оборвалась. Пока разговаривали, он все время чувствовал, как горят у него уши, будто их надрали ему, как мальчишке. «И стоило бы надрать…» — подумал теперь Тюменцев и опасливо покосился на майора: не догадался ли тот ненароком о его переживаниях? Тонкое, бледное лицо Маясова было строго и непроницаемо. Пожалуй, строже, чем всегда. Это Тюменцев определил по глубокой складке между размашистых бровей майора, по его твердо сжатым губам. Оно и понятно: не на веселую гулянку ехали. Тюменцев был прав: на душе у Маясова было сейчас тяжело. Но не потому, что предстояло важное оперативное задание. Хотя это само по себе и не способствовало радостному накалу чувств. И все же основная причина суровой внутренней сосредоточенности майора заключалась в ином. За четыре часа до выезда он получил письмо от жены, находившейся на лечении в Московском нейрохирургическом институте. Зина сообщала, что операция ей назначена через три дня. Судя по дате, письмо было написано трое суток назад. Следовательно, операция будет завтра. А говоря точнее, не завтра, а уже сегодня. Потому что сейчас на его циферблате стрелки показывают четверть первого. Значит, до тяжелейшей, опасной операции осталось всего несколько часов. Быть может, девять или десять… Машина повернула в узкий, скудно освещенный переулок и почти бесшумно остановилась. — Заякорил, где приказано, — тихо доложил Тюменцев. — Добро, — отозвался Маясов. — Во двор въедете, когда увидите свет в окнах. — Ясно, товарищ майор. Маясов вылез из машины, осторожно прикрыл дверцу. Вслед за ним, так же стараясь не шуметь, выпрыгнули Дубравин и Зубков. Подошли к начальнику, начали о чем-то тихо разговаривать. Прикрыв ладонями зажженную спичку, Маясов закурил. К огню потянулся с сигаретой Дубравин. А за ним и Зубков. И Тюменцев подумал, что лейтенант закурил сейчас, наверное, от волнения, так как вообще-то был некурящим. Впрочем, все это в порядке вещей. Если говорить откровенно, то и он, Тюменцев, в эти минуты порядком волновался. Он даже слышал учащенный стук собственного сердца, что случалось с ним редко. Постояв с минуту, Маясов и Зубков пошли к дому, где жил Рубцов. Немного погодя туда же зашагал Дубравин. Скоро его могучая фигура скрылась в полумраке. Тюменцев остался один. Прислушиваясь, поднял голову. Небо над крышами было черное, вокруг стояла тишина. Только чуть слышны были звуки шагов: это Дубравин прохаживался перед домом с той его стороны, куда выходили окна квартиры Рубцова. Как только в одном из этих окон вспыхнул яркий свет, Тюменцев вырулил на середину мостовой, набрал скорость и с ходу сделал лихой разворот во двор. Он мог бы сделать это и с закрытыми глазами: сколько раз заезжал за Рубцовым, знает тут каждый уголок. К сожалению, низкий заборчик из штакетника, огораживающий клумбу, не дает подогнать машину прямо к подъезду. Придется держать ее немного поодаль. Это не совсем удобно, однако ничего не поделаешь. И потом место заранее согласовано с майором… Но Тюменцев напрасно беспокоился: ему не довелось исполнить до конца свои прямые шоферские обязанности. Все произошло в какие-нибудь три-четыре минуты. Когда Маясов и Зубков вывели Рубцова из квартиры на лестничную площадку, ничто не предвещало, что мирно протекавшая операция может вдруг резко осложниться. По лестнице во двор они спускались в таком порядке: впереди Зубков, за ним, понуро опустив голову, заложив за спину руки, шел Рубцов и позади него Маясов с двумя дворниками-понятыми. На повороте лестницы, между вторым и первым этажами, в полуметре над полом чернело давно не мытыми стеклами окно. Рамы его были плотно закрыты. Но, как оказалось, не заперты. И Рубцов этим воспользовался. Когда Зубков повернул на нижний пролет лестницы, Рубцов ударом ноги распахнул раму и спрыгнул вниз. Ему повезло: он упал на мягкую землю цветника. Мгновенно вскочил и бросился через двор. Зубков выбежал из подъезда первым, выхватил пистолет. Но подоспевший сзади Маясов не дал ему даже прицелиться: — Не смей! Надо взять живым… Маясов уже понял, что Рубцову не убежать: к забору, в левый дальний угол двора, куда мчался Рубцов, наперерез ему бежал Тюменцев. Через высокий тесовый забор Рубцову сразу не перелезть, Тюменцев неизбежно настигнет его. Однако сам Тюменцев, бежавший изо всех сил, знал, что Рубцову перелезать через забор и не нужно: достаточно отвести в сторону широкую доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, и нырнуть в лаз, который ведет в густые заросли городского парка. Рубцов, как и Тюменцев, прекрасно знал этот ход, проделанный мальчишками. Они сами не раз пользовались им, чтобы перед рыбалкой накопать червей в жирной парковой земле. Тюменцеву удалось добежать до лаза первым. Тяжело дыша, он встал к забору спиной, для устойчивости широко расставил ноги. Здесь, за домом, в углу, у выкрашенного бурым суриком забора, было темнее, чем во дворе. Но Рубцов сразу узнал Тюменцева. — Петя! — глухо вскрикнул он. — Пропусти! Я ж тебя спас, Петя!.. От этих слов Тюменцев на какое-то мгновение растерялся. Перед ним стоял не враг, не преступник, а Павлыч, приятель… И тут же страшный удар в челюсть бросил Тюменцева на землю. Рубцов рванул к забору, стал лихорадочно нашаривать в темноте доску, прикрывающую лаз. Наконец нашел, рванул, и она с железным скрипом сорвалась с гвоздя, упала.ГЛАВА X Битые козыри
1
Приступая к допросу Рубцова, полковник Демин располагал значительными уликами против него. И все-таки Рубцов упорно не хотел признаваться в предъявленном ему обвинении. Он долго петлял, путал в показаниях, старался увести следствие в сторону. Не предвещавший скорого завершения разговор с подследственным происходил в кабинете Маясова. В том самом кабинете, куда дождливым весенним вечером явился Рубцов, чтобы сообщить чекистам о якобы случайной встрече с Никольчуком на улице города. С уточнения и раскрытия причин появления Рубцова в тот вечер Демин и начал допрос. Вначале Рубцов пытался разыгрывать «честного советского патриота». Но скоро пришлось перестраиваться: полковник выложил на стол вещи, найденные при обыске у Рубцова на квартире. Здесь были портативный радиопередатчик, два фотоаппарата «Минокс», четыре шифровальных блокнота, несколько листов бумаги для тайнописи. — Зачем понадобились эти предметы честному советскому гражданину? — спросил Демин. Рубцов ничего не ответил, только с откровенной злобой посмотрел на него. Он впервые так смотрел на следователя. А до этого юлил с мягкой улыбочкой человека, по ошибке арестованного чекистами, всем своим видом показывая, что готов терпеливо дожидаться, пока в этой ошибке полностью разберутся. Но, как ни врал, ни изворачивался Рубцов, он вынужден был под давлением неопровержимых улик постепенно сдавать свои позиции. На девятый день допроса полковник Демин решил подвести первые итоги следствия: — Итак, мы установили: разоблачив Никольчука, вы должны были зарекомендовать себя патриотом, честным советским гражданином, войти в доверие органов государственной безопасности? Рубцов молча наклонил голову. — А вы не находите, что со стороны ваших американских хозяев это была весьма рискованная затея? — спросил Демин. — Они пошли на это потому, что Никольчук собирался явиться к вам с повинной. — Как они узнали об этом? — Этого я не знаю. Но мне известно, что помощница полковника Лаута приезжала сюда зимой, чтобы проверить Никольчука. — И что же? — Никольчук дал ей согласие продолжать сотрудничать, но она поняла, что он темнит и просто боится, а согласился только для того, чтобы от него отвязались. — Понятно. Дальше! — Ну, тогда, видимо, они решили использовать Никольчука по-другому. Не дожидаясь, когда он сам к вам придет, ему дали новое задание. Расчет был на то, что арестованный Никольчук, зарабатывая себе судебное снисхождение, неизбежно откроется как завербованный, но практически ничего не сделавший агент. И при этом расскажет о своем новом задании. А оно спутает вам карты, уведет от главного. — В чем же заключалось главное? — Главное было в том, чтобы внушить вам мысль, будто экспериментальный завод в Кленовом яре с некоторых пор больше не интересует Лаута, что его агент Никольчук переключается на другой объект — Зеленогорский химический комбинат, выпускающий похожую продукцию… Глядя на медленно вращающийся диск магнитофона, Рубцов помолчал немного и потом продолжал: — Все это должно было на какое-то время ослабить внимание вашей контрразведки к экспериментальному заводу и в конечном итоге облегчить проникновение к его секретам с нового направления. — Облегчить проникновение кому? — Новому агенту американской разведки. — Зачем же так отвлеченно? — улыбнулся Демин. — Какому агенту? — Барсуку. — То есть вам? Рубцов промолчал. — Этим и исчерпывалось ваше задание? — Нет… Рассчитывали, что после сдачи Никольчука вы заинтересуетесь мною. Сочтете в высшей степени бдительным патриотом, готовым активно помогать вам в контрразведывательной работе. И это, разумеется, не являлось самоцелью… — Какова же была конечная цель? — Чтобы создать благоприятные предпосылки для моего внедрения в систему органов госбезопасности. — Рубцов потер небритый подбородок. — При всем этом еще раз прошу принять во внимание, что ни по первому, ни по второму заданию я ничего не делал. — Все учтем, Рубцов, не беспокойтесь, — сказал Демин и дал знак Маясову, сидевшему рядом с ним за столом, выключить магнитофон. — Что ж, перейдем к другому вопросу… Может, сегодня, на свежую голову, вы все-таки припомните, что означает та комбинация цифр в вашей записной книжке, о которой мы вчера говорили? — Я вам уже сказал, что забыл… Возможно, это номера облигаций или пометки о расходах. — В таком случае объясните, почему эти номера облигаций во многом схожи с цифрами на бумаге, которую нашли под переплетом книги «Овод», изъятой у вас при обыске? — Я не вижу никакого сходства, — упрямо сказал Рубцов. — В книжном тайнике у меня хранилось запасное расписание радиосвязи с центром. В этом я сам чистосердечно признался. И это тоже прошу учесть. — Положим, признание было вынужденным, — уточнил Демин. — Однако в чем все-таки секрет чисел? — Больше я ничего не знаю… Демин достал из сейфа записную книжку. — Ну что ж, тогда придется мне вам напомнить. — Он раскрыл книжку на ладони. — Это не простые цифры. Это радиопароль, по которому вы, Рубцов, при необходимости могли вызывать из Москвы известного вам Гарри Ванджея из не менее известного вам посольства. — Никакого Ванджея я не знаю. — Рубцов криво усмехнулся, пожал плечами. — И цифры в записной книжке не доказательство. — Напрасно упорствуете. У нас имеются более веские доказательства, — сказал Демин, раскрывая папку, лежавшую на столе. — Сотрудник американского посольства Ванджей был задержан в областном центре, на Большом бульваре, когда доставал из тайника ваше донесение… Вот, полюбуйтесь на составленный по этому поводу акт. Кстати, вот фотографии. Тут есть и вы. Рубцов взял протянутый полковником лист, пробежал глазами по строчкам. Потом дрожащими пальцами перетасовал пачку фотографий. Оказывается, след к нему идет от Ванджея, по милости которого он и попал в руки чекистов. Выходит, он клюнул на следовательский крючок, поверил, будто веревочка вьется с другой стороны — от Никольчука. Поверил, как простак, седому и наболтал такого, о чем, быть может, тот только догадывался. Вся его тактика, которой он придерживался на допросе, летела к чертям собачьим, оказывалась несостоятельной. Надо было немедленно перестраиваться. И, решив так, Рубцов вдруг тяжело вздохнул, прижал растопыренную ладонь к груди. — У меня, гражданин следователь, что-то плохо с сердцем… Демин внимательно посмотрел на него из-под очков, потом сказал Рубцову, что он может прилечь на диван или пересесть поближе к форточке. Арсений Павлович подвинулся со стулом к окну. Пока Демин и Маясов, склонившись над бумагами, вполголоса разговаривали, он, стиснув между коленей тяжелые кулаки, думал. Но думалось плохо. Перед глазами мелькали события последних месяцев. И ярче других — тот первый день… Было холодно, мела метель. Красивая баба в коричневом пальто появилась у него в фотоателье под вечер внезапно. Отряхнула с рыжей челки снег, сбросила пуховый платок, потом молча подошла к двери и опустила предохранитель на замке. — Что вам нужно? — поразился Арсений Павлович. — В вашем ателье обрабатываются негативы и печатаются снимки наших туристов: архитектура Староченского монастыря… Но сейчас мне нужны лично вы, Рубцов. — Она бесцеремонно села в кресло, закурила. — А если говорить точнее, меня интересует Барсук, бывший агент абвера. Эти слова были сказаны ею просто и даже дружелюбно. Но они будто пригвоздили Рубцова к стулу. А она между тем говорила, и он понял из ее быстрой, отрывистой речи, что ему предлагают сотрудничество с американской разведкой. — Я ничего не знаю, вы ошиблись… — Он пытался увильнуть от прямого ответа. — Прекратите, Рубцов, словоблудие! — оборвала его она. — И запомните: если вы откажетесь помогать нам, то завтра же чекистам станет известно о вашем прошлом. Испытывая одновременно страх и ярость, Рубцов подумал: «Нынче ночью я убью эту бабу!» Но она словно прочитала его мысли: — Мне нужно вернуться в Берлин. Не вздумайте помешать. И от этих слов ярость Арсения Павловича испарилась. А страх остался. И с той поры постоянно жил в нем. Бежали дни. Но боязнь разоблачения не отпускала Рубцова, заставляла все чаще задумываться, как ему выпутаться из опасного дела, в которое его втянули. Но не вообще выпутаться (это для него исключалось), а найти способ без риска для себя создать у хозяев впечатление, что он, Барсук, работает активно. Когда Арсений Павлович думал об этом, ему вновь припомнился зимний визит Барбары Хольме. И ее слова. Но не те, которыми она с места в карьер пыталась запугать его, потребовав немедленного согласия на сотрудничество, чтобы поправить дело, от которого задумал увильнуть Никольчук, а другие — ими она завершила сделку: «Мы будем щедро оплачивать вашу работу. Часть денег вы сможете получать на руки, другая часть будет откладываться в Берлинском банке на ваш личный счет. Пройдет не так уж много времени, и в вашем распоряжении окажется солидная сумма…» Ради этого стоило напустить туману в мозги тем, от кого зависела его будущая красивая жизнь. Рубцов устроился внештатным фотокорреспондентом в газету и теперь мог колесить по области, не вызывая подозрений. Он ездил на поездах, автомашинах, шлялся пешком — высматривал, запоминал, делал пометки в своем «корреспондентском» блокноте.. Просиживал часами за бутылкой пива в закусочных, поблизости от оборонных заводов, аэродромов, научно-исследовательских институтов, прислушивался к разговорам и порой выуживал кое-что стоящее, годное для того, чтобы включить в сообщение, предназначенное мистеру Ванджею. Это, по сути, была обыкновенная перестраховка, ибо Рубцов понимал: если он не выполнит свое главное задание, все может кончиться плохо. К нему придут и спросят, что он сделал за деньги, которые получал. Расчет будет короткий: в лучшем случае его ждет участь Никольчука. Но, как бы там ни было, хозяин принимал эти донесения и щедро платил за них. И вот все лопнуло. В первые дни после ареста он умышленно путал в показаниях, оттягивал время, чтобы сориентироваться, выявить причины своего провала. Он терялся в догадках. И даже, грешным делом, подумал, не удружил ли ему Петька Тюменцев, который, возможно, что-то пронюхал о его участившихся поездках по району. Однако потом Рубцов понял, что Тюменцев к его провалу, видимо, не причастен. Когда же полковник выложил перед ним фотоаппараты, шифры и все то, что нашли у него дома, он понял и другое: петлянье и запирательство бесполезны, надо менять тактику. И он круто изменил ее: стал давать показания о своей связи с американской разведкой, о вербовщице Барбаре Хольме, о задании, которое она ему дала. Все это для того, чтобы вызвать сочувствие следователя своим видимым раскаянием, а главное — выставить себя агентом, которого хотя и завербовали, но который ничего для разведки не делал. И вдруг как ушат холодной воды на голову: Гарри Ванджей, его непосредственный хозяин, пойман с поличным… В этом месте мысль Арсения Павловича вдруг споткнулась. А не он ли сам виновник своего провала? Вместо того чтобы постепенно, шаг за шагом, идти к своей главной цели, он из-за алчности стал размениваться на мелочи. Он отправлял свои донесения слишком часто, тем самым увеличив вероятность их перехвата. И видимо, где-то, в каком-то звене пересылки его выследили… Рубцов скосил глаза на часы полковника, лежавшие на столе. «Сердечное недомогание» слишком затянулось. Пора было прекращать игру. Но у него еще не созрело никакого решения, как дальше вести себя. А время шло, и полковник все чаще нетерпеливо поглядывал в его сторону. Что ж, у них с полковником разные точки зрения на процесс следствия. Ему, Рубцову, ускорять этот процесс нет никакой необходимости. Арсений Павлович придал своему лицу постное выражение и слабым, болезненным голосом попросил отложить допрос. — Хорошо, согласен, — сказал Демин и, пристально посмотрев на подследственного, добавил: — Я сейчас распоряжусь, чтобы к вам вызвали врача.2
Над причинами провала Барсука ломал голову не только он сам, но и все, кто направлял его работу. И прежде всего шеф филиала ЦРУ в Западном Берлине полковник Мартин Лаут. Собственно, для Лаута вопрос был не в самом Барсуке, который потерпел провал: рано или поздно проваливались почти все его агенты, засылаемые в Советский Союз, — таков удел разведчиков, действующих на самом остром участке невидимого фронта. Тут было иное. Дело, по которому Барсук работал и которое загубил, было особое, незаурядное, и поэтому провал его не мог быть причислен к разряду обычных. Кроме прочего, случившееся в Ченске вызвало дипломатические осложнения с русскими. И это, пожалуй, было хуже всего. Три дня тому назад во всех центральных советских газетах было опубликовано сообщение, которое совсем вышибло Лаута из колеи:«…Как стало известно Министерству иностранных дел СССР, советскими органами госбезопасности был пойман с поличным сотрудник посольства США Гарри Ричард Ванджей в момент изъятия им шпионских материалов из тайника… Характер обнаруженных при Ванджее материалов не оставляет сомнения, что он осуществлял конспиративную связь с находящимся на территории СССР шпионом. Министерство иностранных дел СССР заявляет указанному посольству протест по поводу подобных недопустимых действий со стороны дипломатических сотрудников посольства и ожидает, что Гарри Ричард Ванджей немедленно покинет пределы Советского Союза, так как его деятельность несовместима со статусом дипломатического работника…»За несколько дней до опубликования советского протеста в Берлин приезжала специальная комиссия ЦРУ в составе трех полковников для расследования причин провала Ченского дела. Из Берлина полковники под видом финансовых ревизоров госдепартамента вылетели в Москву и, обосновавшись в посольстве, на месте изучали обстановку работы Ванджея с Барсуком. На обратном пути из России комиссия в берлинский филиал не заехала, и в этом Лаут усматривал дурной для себя признак. Если судить объективно, Ченское дело было задумано тонко и с далеким прицелом, несмотря на трудность обстоятельств, в которых оно возникло. В тот момент для шефа западноберлинского филиала создалось почти безвыходное положение. На Урале провалился Лазаревич, знавший о факте заброски агента ЦРУ в Ченск. Понимая, что чекисты должны искать этого агента, Лаут сам пошел им навстречу: выдал бездействующего и к тому же задумавшего выйти с повинной Никольчука, тем самым расчистив путь специально завербованному для этого дела Барсуку. Но этим план Лаута не исчерпывался. Тщательно подготовленное Файн с помощью сотрудников посольской резидентуры «разоблачение» Никольчука Рубцовым (который перед его вербовкой изучался тоже через этих американских «дипломатов») преследовало важную цель внедрения Барсука в систему советских органов безопасности. Такая задача руководством ЦРУ Лауту вначале не ставилась. Он сам предложил ее, и она была утверждена. Сделал же это Лаут с умыслом. Понимая исключительную сложность создавшейся ситуации, полковник начал заранее возводить позиции для своей реабилитации на случай возможной неудачи. При этом Лаут рассуждал так: если к назначенному сроку информация о новом ракетном топливе русских не попадет на стол директора ЦРУ, он, Лаут, хотя бы частично оправдается тем, что за это время сумел кое-что сделать для внедрения Барсука в систему русской контрразведки… В общем предусмотрено было все до последней детали. И тем не менее дело потерпело крах. Не удалось осуществить ни одной из поставленных задач. (Отрывочная, поверхностная информация Барсука о некоторых оборонных объектах в пригородах Ченска не в счет.) Здание, возводимое с таким трудом в течение нескольких месяцев, рухнуло в один миг. Почему? Лаут много раз за последние дни задавал себе этот мучительный вопрос. И сейчас, сидя за рулем своего «форда», он опять спросил себя об этом: почему? Почему? День стоял жаркий. В окна автомобиля врывался с ветром запах разогретого асфальта и бензиновой гари. Побаливала голова. Но Лаут, пересиливая усталость, напрягая мозг, продолжал искать и искать ответ на свое неотвязное: «Почему?» На перекрестке движение транспорта неожиданно перекрыли. Лаут резко нажал тормоз, высунулся из машины, привлеченный странным зрелищем. Улицу пересекала, направляясь в сторону Бранденбургских ворот, шумная толпа людей. Их было, наверное, человек сто, в большинстве молодежь. Они кричали, размахивали, кому-то угрожая, кулаками, свистели, заложив в рот пальцы. Лаут не мог понять, что это за публика. Над головами качались плакаты: «Лучше умереть — чем стать красным!», «Не говорить, а действовать!» Вокруг толпы сновали репортеры, беспрестанно щелкали камерами. «Черт знает что, — подумал Лаут. — Какая-то манифестация… Или что-нибудь серьезное произошло в городе? Вроде не похоже. Кроме этой толпы полупьяных крикунов, на улицах ничего необычного»… Дали зеленый свет. Лаут тронул машину и тут же забыл о толпе. Опять ожили беспокойные мысли, связанные с неудачей в Ченске. И Лаут, весь поглощенный ими, вел автомобиль почти машинально. И вдруг его словно осенило. Он сам не понимал, как это произошло, почему у него возникло столь странное предположение. Случайно? Или потому, что в эту минуту он увидел на улице дом, очень похожий на тот памятный особняк на Дрезденштрассе, во дворе которого они недавно искали клад? Ведь сообщение об этом кладе было получено от Барсука. Но никакого клада не оказалось… А что, если клада вообще не было? Что, если… Лаут не успел додумать до конца: он услышал оглушающий рев автомобильных сирен. Высунувшись из окна, полковник увидел позади с десяток вынужденно остановившихся машин, а в ближней из них — побагровевшее от гнева лицо шофера и выставленный из кабины кулак. Лаут понял, что он создал тупик. А между тем он совсем не помнил, когда остановил свой автомобиль. И даже мотор выключил. Как это произошло?.. Но раздумывать было некогда. Надо было скорее ехать, чтобы рассосалась пробка на узкой улице: половину мостовой рассекал свежий канализационный ров. Всю оставшуюся до служебного особняка дорогу Лаут думал о злополучном кладе. И все больше склонялся к мысли, что сведения о нем, присланные из Ченска, возможно, были стопроцентной липой, которую чекисты сумели подсунуть Барсуку. Когда полковник подъехал к своей «конторе по торговым делам», его напряженные раздумья завершились выводом: «Все это вполне допустимо, хотя бы как предположение. И это предположение надо немедленно проверить. Поднять все материалы, связанные с кладом…» Он не стал загонять автомобиль в гараж, оставил его у тротуара. А сам стремительно прошагал в особняк. Едва войдя в кабинет, он тут же вызвал к себе Файн и коротко объяснил ей, в чем дело. — Я решил еще раз обследовать место клада, — сказал он нетерпеливо. — Каким образом, шеф? — Немедленно поехать туда, на Дрезденштрассе. — Но это же в Восточном секторе. — Мне это известно, — он все более раздражался. Файн удивленно повела плечами. — По-моему, сейчас не особенно подходящее время для поездки туда. — Вы хотите сказать, что лучше ехать ночью? — Нет, я имею в виду другое. — Что же? — Происходящие в городе события… Лаут непонимающе посмотрел на нее. — Разве вы еще не читали сегодняшних газет? — сказала Файн. — Красные закрыли границу в Берлине… Так вот оно что! Теперь понятно, о чем орала на улице эта толпа купленных за деньги шалопаев… Но ему в конце концов нет дела до этого! Он должен выполнять свою работу, ему без Восточного Берлина не обойтись! Там десятки явок, десятки людей… Ему самому, наконец, надо немедленно быть там, на этой Дрезденштрассе! Когда он выпалил все это, в возбуждении расхаживая по кабинету, Файн с мрачным спокойствием сказала: — Мы опоздали, шеф… Лаут тяжело опустился в кресло. С минуту сидел молча, нервно выстукивая пальцами по резному подлокотнику. Потом схватил газету из кипы, лежавшей на столе, впился в нее глазами. «Постановление Совета Министров Германской Демократической Республики от 12 августа 1961 года». Речь шла о введении твердого контроля и порядка в городе, о решении правительства ГДР применить пропускную систему и приступить к возведению в Берлине пограничных сооружений. В конце постановления говорилось:
«…Эти мероприятия необходимы для того, чтобы воспрепятствовать исходящей из Западного Берлина подрывной и шпионской деятельности против Германской Демократической Республики и других социалистических стран и предотвратить политическую и военную агрессию против ГДР, запланированную Западной Германией…»— Сто чертей в печень! — выдохнул Лаут. Его душил гнев. Вскочив с кресла, он опять заходил по комнате.
3
Развязка наступила через четыре дня. Потом, как в угаре, прошло еще два дня. Седьмой день был воскресенье. Лаут, не зная, как убить медленно тянувшееся время, слонялся по городу. Моросил дождь. Но Лаут словно не замечал его. Надвинув по самые глаза капюшон плаща, он с хлюпаньем шагал, не разбирая дороги. Больше ему ничего не оставалось, как шляться по улицам — без цели, без направления, пока не выдохнешься вконец. После этого можно хватить добрую порцию виски и под шум дождя завалиться спать… Как ни приготовлял себя Лаут к «худшей развязке», она сверх ожиданий оказалась на редкость болезненной и оскорбительной. Как удар бичом по лицу. Это произошло в минувший четверг, ровно в двенадцать. Лаут просматривал принесенные секретаршей бумаги. И вдруг — телефонный звонок. У полковника тревожно заныло сердце. Он по звуку определил, что звонил аппарат красного цвета — для связи с штаб-квартирой ЦРУ. Такой телефон в филиале был один, и пользоваться им мог только шеф. Лаут поспешно снял трубку. Говорил Кейбелл — первый заместитель Даллеса. Разговор был тихий и недолгий. Сперва — об усложнившихся условиях работы в Берлине, о необходимости «наращивания усилий, несмотря ни на что». А о провале в Ченске — ни слова. У Лаута затеплилась в душе надежда: быть может, все обойдется с минимальными потерями. И вдруг как ледяной душ! Даже перехватило дыхание, и солоно стало во рту. Лаут едва разомкнул дрожавшие губы, чтобы ответить: — Да, сэр, я понял. Я долженподать в отставку… Лаут еще долго держал в руке красную трубку. Но из нее доносились лишь отрывистые, скрипуче-металлические гудки. Полковник подумал, что он не заслужил такого к себе отношения, обижен несправедливо. Душевно подавленный, разбитый, он передал секретарше не просмотренную до конца почту и, сев в автомобиль, уехал домой. На службу Лаут вернулся только в субботу, после приглашения прилетевшего накануне в Берлин Мак-Стенли — своего преемника по филиалу. С «оголтелым Маком», как именовали его в кругах даллесовской разведки, он был знаком давно. Однако встретились они не так, как встречаются старые знакомые. Видимо, соответственно настроенный свыше, Мак-Стенли при приемке дел филиала был беспощадно ретив, придирался по пустякам. К тому же, верный своей развязной манере, он с Лаутом держался бесцеремонно, хотя был моложе его почти на десять лет. Эти бесило самолюбивого, надменного полковника, еще больше растравляло его душевную рану… Но все, как известно, проходит. Сегодня с утра, на свежую голову, Лаут впервые почувствовал себя в состоянии оценить случившееся с ним всесторонне, с объективной полнотой. Не кривя душой, он мог сказать себе, что отставка породила в нем двоякое чувство: горести и облегчения. Горести оттого, что с увольнением он терял хорошо оплачиваемое место — источник дохода, материального обеспечения своей большой семьи. Облегчения потому, что сравнительно легко вышел из этой грязной, дьявольской игры, именуемой разведкой. Его отправляли в отставку, не лишая права на пенсию. Могло случиться и хуже… Дождь, наконец, перестал. Между облаков показалось солнце. Было душно, парило. Лауту захотелось пить. Сняв плащ и перебросив его через руку, он направился к павильону с прохладительными напитками. Его путь лежал мимо контрольно-пропускного пункта — одного из тринадцати, установленных на вновь возведенной границе, протянувшейся между Западным и Восточным Берлином почти на сорок пять километров. Возле временного дощатого помещения КПП собралась небольшая толпа любопытных жителей. Тут же сновали с фото- и киноаппаратами западноберлинские корреспонденты. Они ждали сенсаций, скандалов, стычек. Но у Бранденбургских ворот, как и везде вдоль границы, в эти дни было тихо. По всему чувствовалось, что народ Берлина воспринимает происходящее спокойно. Выпив в павильоне стакан апельсинового сока, Лаут расплатился и вышел. Опять зашагал по улице куда выведут ноги. Возвращаться домой, в осточертевшую бобылью квартиру не хотелось: с отъездом семьи на лето в Штаты в ней было пустынно и неуютно. Миновав площадь, Лаут остановился возле многоэтажного дома. Прочитал название улицы и удивленно присвистнул: он, оказывается, вышел к месту, где жила Элен Файн. Решение зайти к ней созрело мгновенно. Ведь Элен не однажды приглашала его к себе: на свой день рождения и еще по случаю каких-то праздников. Однако он все отказывался, находил для этого благовидные предлоги. Но истинная причина крылась в другом: Лаут опасался, что интимная близость с этой видавшей виды женщиной может скомпрометировать его, отразиться на карьере. Теперь подобные соображения отошли в сторону. Его карьера испорчена настолько, что больше ее испортить нельзя. А перестав бояться за себя, он мог не опасаться и хищной красоты Элен. Лаут был уверен, что она примет его наилучшим образом: считая ее прекрасной разведчицей, он все время ей покровительствовал. К сожалению, карьера Файн тоже поставлена под угрозу из-за провала в Ченске. Но поддержать ее сейчас уже некому… Однако, как оказалось, Элен вовсе не была удручена случившимся. И, похоже, не особенно тужила по поводу кончившегося покровительства своего бывшего шефа. В длинном цветастом халате, перетянутом на гибкой талии поясом, она встретила его на пороге возгласом холодного удивления: — Мистер Лаут? Каким ветром вас занесло? Вместо ответа полковник галантно взял ее руку, поднес к своим губам. — Вы весьма любезны… сегодня. — В голосе Файн слышалась ирония. Раньше она не разговаривала с ним подобным тоном. Пройдя вслед за хозяйкой в комнату, Лаут обнаружил, что она ходит по ковру, устилавшему почти весь пол, босая. Элен, перехватив его взгляд, нимало не смутилась: — У меня только что была педикюрша. Через несколько минут пустой болтовни Файн, извинившись, вышла переодеться. Когда она вернулась, на ней было глубоко декольтированное вечернее платье. — Я к вашим услугам, мистер Лаут. — Она села в кресло напротив гостя. — «Мистер Лаут». Зачем так строго, официально? — улыбнулся полковник. — Вашему лицу не пристало выражение беспощадности. Но Элен не приняла шутливого тона, ответила с серьезной назидательностью: — Беспощадность в наше время — качество не лишнее… — Закурила из пачки, лежавшей на столе. — Кстати, думая о случившемся, я прихожу к выводу, что, быть может, именно отсутствие в вас этой самой беспощадности и привело к столь плачевному финалу. — Как это понимать? — На мой взгляд, причина вашей отставки не в провале Барсука. От чекистских контрударов вы бывали в нокауте не раз. И не только вы. В схватках с такой контрразведкой, как советская, неудачи неизбежны. Поэтому крах Ченского дела не причина, а только повод к вашей отставке в изменившихся, новых условиях. — Интересно! — Истинная причина, по-моему, кроется в том, что вы не обладали необходимой в нынешние дни железной хваткой. — Ну, ну, продолжайте. — Я, собственно, все сказала… И в этой оценке я не одинока. — Вот как?! — Наш новый шеф Мак-Стенли вчера на совещании сказал весьма определенно: «Лаут был слишком либерален, он распустил вас». — Для начала неплохо! Ну, а его деловые планы, если не секрет? — Мак считает, что демократический Берлин — это ручка, которой можно открыть дверь на Восток. И если нас туда не хотят пустить по земле, мы будем действовать под землей, но своего добьемся. — Я смотрю, вы совсем очарованы новым шефом. — У него я начинала свою карьеру разведчицы. — Файн пустила к потолку синее табачное колечко. — И этим могу гордиться: Мак из тех, кто всегда знает, что ему надо. — А, бросьте! — раздраженно сказал Лаут. — Ваш оголтелый Мак, как и все мы, не имеет ничего святого за душой, обыкновенный корыстолюбец. — Что ж, если вам угодно прослыть бессребреником, можете, например, считать, что вы здесь защищаете свою отчизну. — «Можете считать» — лучше не скажешь! — Лаут саркастически усмехнулся. — Действительно, никто из нас всерьез и не думает, что здесь, в Берлине, мы обороняем родную страну, находясь от нее за тысячи километров. — Ну, это дело большой политики… — Разумеется… — Лаут немного помолчал. — А вы никогда не задумывались над таким вопросом: почему мы так часто терпим неудачи?.. Может быть, мы хуже русских знаем ремесло разведки? — Не думаю.ГЛАВА XI Следствие продолжается
1
Следствие по делу Рубцова продолжалось. Постепенно вскрывались все новые обстоятельства преступления этого «простака», «рубахи-парня», который всех знал и со всеми умел поладить, в подходящий момент рассказать веселую байку, выпить крепко и гульнуть. В таком обличье ему легко было делать свое дело: вползать в душу к доверчивым людям, выуживать по крупицам нужную информацию у простаков и болтливых, запугивать и держать в страхе робких и слабовольных. К последним можно было отнести и Ирину Булавину. Женщина предельно впечатлительная, она легко подпала под влияние Рубцова и в полной мере испытала на себе его хватку. Страх, который сумел вселить в ее душу этот беспощадный человек, был так силен, что Ирина не могла освободиться от него даже тогда, когда ей сказали об аресте Рубцова. Это была какая-то инерция страха, его затянувшаяся реакция. У Маясова даже возникло опасение: не повлияла ли вся эта «психическая атака» Рубцова на душевное здоровье женщины. Поэтому они с Деминым решились на ее последний допрос только после консультации с психиатром. Но когда начался этот допрос, у Маясова вновь возникли опасения за Булавину. До нее не всегда сразу доходил смысл того, что ей говорили. Маясов старался ее успокоить: — Я вам, Ирина Александровна, еще раз повторяю: выслушайте меня внимательно. За отца вам отвечать не нужно. Более того, вы можете гордиться своим отцом… Она удивленно посмотрела на майора. — Ваш отец, Александр Букреев, был замучен в Борисинском лагере военнопленных, — сказал Маясов. — Он умер как настоящий солдат. — Я не понимаю… — прошептала Ирина. — Это установлено точно. Она была совсем растерянна. — Но как же отцовы письма? Его обещание приехать? — Все это неправда, фальшивка. — Но ведь письма написаны его рукой, я знаю… — Оба письма, что вы получили, были сфабрикованы в разведцентре, по заданию которого действовал Рубцов. — Мне трудно это представить, — сказала Ирина. — Разве можно подделать стиль письма, отцовские слова? Например, Ири… Только он звал меня так. — К сожалению, Ирина Александровна, и это возможно: Рубцов знал вашего отца несколько лет, работали вместе, вместе пошли на фронт… Что касается оригинала, с которого были сделаны фальшивки, у Рубцова сохранилось письмо Александра Букреева к жене, вашей матери. Письмо было написано за несколько дней до того, как полк, в котором он служил, попал в окружение. — А портсигар? — вдруг спросила Ирина. — Портсигар, выходит, тоже поддельный? — Нет, вот портсигар как раз не поддельный, — сказал Маясов. — Все, что принадлежало при жизни вашему отцу, в том числе письмо и портсигар, после смерти Букреева присвоил себе его «друг». — Рубцов? — Да, Рубцов, по доносу которого в Борисинском лагере и был повешен коммунист Букреев. — Маясов помедлил, потом негромко продолжал: — Через девятнадцать лет письмо, принадлежавшее вашему отцу, было пущено в ход против вас… Надеюсь, вы теперь, Ирина Александровна, понимаете, для чего все это Рубцову понадобилось? — Смутно. — Для того, чтобы запугать вас, держать в постоянном страхе возможного разоблачения, как дочь изменника Родины и шпиона. — Но какая ему от меня польза? — в полном недоумении спросила Ирина. В разговор вступил Демин: — Рубцов знал о ваших отношениях с Игорем Савеловым. Знал, что Игорь очень любит вас. С вашей помощью он хотел обработать Савелова и завербовать. — Подлец, боже, какой подлец… — шептала Ирина и не могла сдержать слез. — Возьмите себя в руки, Ирина Александровна. Что же делать? Игоря не вернешь, но в наших силах очистить от грязи память о нем. — Демин полистал бумаги в папке, нашел нужную страницу. — Следствием установлено, что накануне трагического происшествия Савелов после свидания в баре с Косачом, которому он продал охотничье ружье, вечером был у вас дома. Там же был и Рубцов. Почему вы промолчали об этом? — Рубцов просил не упоминать о нем. К убийству он отношения не имеет, а кому приятны все эти вызовы, допросы, протоколы… — Гм… А чем объяснить, что Савелов и Рубцов оказались у вас в одно и то же время? — Рубцов давно хотел, чтобы я познакомила его с Игорем… Я это сделала… Но получилось не совсем удачно: они поссорились в тот же вечер. — Поссорились?.. А как это случилось? — Знаете, я так толком ничего и не поняла. — Постарайтесь вспомнить. Расскажите нам все, как было. И с самого начала…В тот день Игорь пришел к ней под вечер. — Я ненадолго, — сказал он. — Мне скоро на вокзал, мать провожать. Ирина усмехнулась. — Ты как будто оправдываешься… Что с тобой? Избегаешь меня в последнее время. Он ответил не сразу, раскурил сигарету, потом взял Ирину за руки: — Нам нельзя, как прежде, пойми! Надо что-то придумать. Упорядочить отношения… — Словечко-то какое — «упорядочить». — Ирина громко засмеялась. — Перестань! — крикнул Игорь. — Мне надоело прятаться. Вот так, урывками, тайно… Ирина ласково сказала: — Ведь ты же, дурачок, знаешь: сына я не оставлю. Что мы будем делать, как жить? После короткой паузы она вдруг спросила: — Я слышала, тебя хотели уволить? — Хотели. Только руки коротки у одного ретивого. — Кто это? — Наш директор… Как бы сам скоро не загремел. — Снимают его? — Ходят такие слухи… — Ну, а ты, значит, отделался легким испугом? — Не сказал бы. На собрании стружку с меня снимали здорово… Не дослушав его, Ирина предложила: — Ну ладно, раздевайся… Арсений Павлович уже ждет. — Только за этим и пригласила? — улыбнулся Игорь, снимая плащ. — Не только — в тон ему ответила Ирина. — Идем. В гостиной навстречу Савелову поднялся Рубцов, протянул руку. — Здравствуй, здравствуй… Садись. Что так поздно? — Да так… побегать пришлось. Как говорится, волка ноги кормят. — Ну и набегал? — Полтораста целковых. — Ого! Где ж это так платят? — Да нет… Ружье продал. — И хорошее? — «Зауэр». — Жаль. — Конечно жаль. Да деньги нужны. На мотоцикл собираю. — Иришка, ты чего же это молчала, что дружку твоему деньги нужны?! — Я вижу, вы просто жаждете дать мне в долг, — усмехнулся Игорь. — Не жажду, но могу. Тратить особенно некуда, а Ирина мне что дочь. — Арсений Павлович, вы меня уговорили, — полушутливо сказал Савелов и придвинул к себе лист бумаги. — На какую сумму писать расписку? — А сколько стоит твой мотоцикл? — Шестьсот пятьдесят. Полтораста уже имею. — Значит, остается всего пятьсот? — Всего, Арсений Павлович, — рассмеялся Игорь. — В математике вы прямо Софья Ковалевская! — Ну, раз Софья… Получи. Рубцов достал из кармана бумажник, небрежно отсчитал пять сотенных купюр и положил их перед Савеловым. Игорь посмотрел на деньги, на Рубцова, потом на Ирину, снова на Рубцова и недоуменно переспросил: — Вы что — серьезно? — Для таких шуток я стар. Да и почему бы вам молодым, не помочь?! — Ирина, — воскликнул Игорь, — и где ты только находишь таких друзей! — Там же, где и ты. — Ха! Я со своими друзьями на троих еле-еле два восемьдесят семь наскребаю. Вот, пожалуйста. — Игорь придвинул Рубцову расписку. — Предупреждаю: в артели я не работаю, так что отдавать буду частями. Рубцов взял расписку, повертел ее в пальцах, удовлетворенно кивнул: — Красивый почерк. — Поднял рюмку и чокнулся с молодыми: — Ну-с, за мотоцикл! Закусив, он снова заговорил с Савеловым. — Ирина рассказывала, будто ты на экспериментальном работаешь? — Угу, — кивнул Игорь, прожевывая кусок ветчины. — В лаборатории? — Угу. — Нравится? — Нет. Скоро уйду. — Напрасно. — Платят там, как кот наплакал. — Платят мало? Ну это не беда… Иришка, сваргань-ка мне чашечку кофейку. Ирина поднялась и ушла в кухню. Минуту спустя туда же вошел Рубцов. — Где тут у тебя спички? — сказал он и, понизив голос, добавил: — Ты не торопись с кофеем. У меня с дружком твоим разговор есть… Ирина занялась приготовлением кофе. Сначала до нее доносились из комнаты отрывки фраз, потом там включили приемник, и говор утонул в громкой, бравурной мелодии. Но вот сквозь музыкальную ткань вдруг прорвался резкий, раздраженный возглас Игоря, сменившийся звоном разбитой посуды. Ирина составила с плиты кофейник и бросилась в комнату. Рубцов и Савелов стояли у сдвинутого с места стола в позах людей, застигнутых в момент драки. Ирина испуганно спросила: — Что случилось? — Да так… Ничего особенного. — Рубцов перевел дыхание, поправил пиджак и нагнулся к черепкам разбитой тарелки. — Вот только, извини, тарелочка… — Уходите, — угрожающе прохрипел Игорь. — Не торопи. Уйду, — криво усмехнулся Рубцов и не спеша зашагал к двери. — Игорь!.. Арсений Павлович! — взмолилась Ирина, в замешательстве переводя взгляд с одного на другого. — Пусть он уйдет! — крикнул Игорь. — Ничего не понимаю… — Горячится твой дружок, — силясь улыбнуться, проговорил Рубцов и натянул пыльник. — Извини, Ириша. До свидания. — Погодите! Вот ваши деньги. — Игорь сорвал с вешалки шляпу Рубцова, бросил в нее пять смятых купюр и сунул головной убор его хозяину. — Ну, ну… — неопределенно пробормотал Рубцов и осторожно прикрыл за собой дверь. Ирина и Савелов остались одни. — Что здесь произошло? — Не важно. — Игорь поправил волосы и сунул в рот сигарету. — Важно, чтобы этот тип и на порог не ступал. — Игорь, ты понимаешь, что говоришь! Он же друг моего отца, друг семьи нашей… — А ты знаешь, что предложил мне друг семьи вашей? — Понятия не имею. — Он мне прозрачно намекнул на одну доходную работенку… Больше Игорь ничего не сказал. Он посмотрел на часы и начал торопливо надевать плащ. Ушел он около одиннадцати. А на рассвете, как Ирине стало известно потом, его нашли уже мертвым…
Когда Демин и Маясов закончили допрос Булавиной и отпустили ее домой, они с минуту в задумчивости молчали. Показания Булавиной полностью подтверждали вывод следствия о том, что Рубцов начал ее «обрабатывать» уже после того, как Никольчук был арестован. Таким образом, Савелов, на которого пало тяжкое подозрение в пособничестве шпиону, в то время не имел никакой связи с Рубцовым. Это был очень важный вывод. Он снимал все сомнения следствия насчет роли Савелова в этом деле. А одновременно окончательно реабилитировал тех, кто прежде вел это дело, и, в частности, начальника Ченского отдела госбезопасности. Демин поднялся из-за стола, подошел к курившему у окна Маясову. — Как гора с плеч… С чем тебя, Владимир Петрович, и поздравляю. — Спасибо, — сказал Маясов. — Хотя утешение маленькое: парня-то в живых нет. — Да-а… И, похоже, настоящего парня.
2
В воскресенье с утра Маясов и капитан Дубравин поехали в больницу к Тюменцеву. Дело шло на поправку. Раньше, навещая его, они видели лишь зеленые глаза на забинтованном лице да закованные в гипс плечо и руку. Теперь бинты сняли. Тюменцев был гладко выбрит, без конца шутил по поводу «боевого крещения», которое по-приятельски устроил ему Рубцов. Дубравин, поправляя на своих широченных плечах белый халат, весело пробасил: — Никогда бы не подумал, что ты, первая перчатка Ченска, можешь так опростоволоситься. — Так он же самбист! — Тюменцев перестал смеяться. — Но дело, конечно, не в этом. Когда там, у забора, он попросил пропустить его, мне сделалось как-то того… не по себе. И он, гад, этим воспользовался. Маясов осторожно положил ладонь на руку Тюменцева, вытянутую поверх одеяла. — Ничего, еще чемпионом станешь. — С боксом, кончено, товарищ майор, это я точно знаю. — Тюменцев поморщился и вновь заговорил о том, что не давало ему покоя: — Я, видите ли, должен был отпустить его, потому что он когда-то вытащил меня из реки… Уж лучше бы этот подлец сразу мне в челюсть дал — не так обидно. А то ведь переговоры начал. Значит, рассчитывал на что-то. Значит… — Ерунду ты говоришь, — грубовато перебил его Маясов. Тюменцев посмотрел на него. — Если ерунда, то вот я хочу спросить вас, Владимир Петрович. — Ну, ну… — Помните, на свадьбе у брата был Аркадий? Вы мне объяснили, что он из уголовного розыска. Попросили свести его в одной комнате с Рубцовым. Научили, как надо Аркадия рекомендовать… Теперь я понял, из какого он уголовного розыска и какое уголовное дело их с Нинкой интересовало… Неужели вы мне тогда не доверяли? — Не в этом дело, — с улыбкой сказал Маясов. — Тебе мы, конечно, доверяли. Но мы знали, что ты приятель Рубцова, и это могло отразиться на твоем поведении: ты бы чувствовал себя скованно, вынужден был бы играть, а так ты вел себя естественно. И это нам помогло. — А что же с тем парнем, с Савеловым? — вдруг спросил Тюменцев. — Тоже, выходит, Рубцов его?.. Маясов сразу помрачнел. — Да, — сказал глухо. — На совести этого страшного человека немало жизней… Он встал и сразу заторопился. Встал и Дубравин. Но Тюменцеву не хотелось, чтобы они уходили. Он спросил у Маясова, как здоровье Зинаиды Михайловны. Маясов сказал, что жена после благополучно сделанной операции вроде бы пошла на поправку. — Передавайте ей привет от меня. — Спасибо, передам обязательно. — Товарищ майор! — опять заговорил Тюменцев. — Примете меня обратно в отдел? Рука когда подживет. Маясов засмеялся: — Ты же в народное хозяйство решил идти? Тюменцев смущенно покашлял в кулак. — Вы тогда правильно сказали: коммунизм не только строить нужно, его еще охранять требуется.3
Следствие приближалось к концу. То, что удалось установить через свидетелей, с помощью различных косвенных улик и архивных материалов, неопровержимо доказывало, что к сотрудничеству с иностранной разведкой Рубцов пришел не случайно. Страх перед разоблачением прошлого и жадность к деньгам были не единственными мотивами, толкнувшими его в объятия врагов нашей страны. …Арсений Рубцов (а по-настоящему Рукавишников) родился в семье богатого мучного торговца на Кубани. Отец его встретил Октябрьскую революцию враждебно и в гражданскую войну оказался в стане белогвардейцев. В годы нэпа он вынырнул в Орловской губернии под именем Рубцова, опять было начал вставать на ноги — открыл лавку, купил паровую мельницу. Но его разоблачили, судили и выслали в Сибирь. Когда Арсению исполнилось семнадцать лет, он уехал из дому — «искать счастья». Обосновался в Курске. Обманным путем вступил в комсомол. Но его обман скоро вскрылся, дальше оставаться в Курске не имело смысла. Он поехал в Донбасс, устроился работать конторщиком на коксохимическом заводе. Через год поступил учиться в техникум, одновременно продолжая работать. Учиться и работать было нелегко. И вообще вся жизнь была нелегкая, а главное — невеселая: не о такой мечтал единственный наследник богатого купца… Бежало время, и он с горечью убеждался: прошлой жизни не вернуть, надо приспосабливаться к той, что есть. Так приспособленчество стало его второй натурой. Он женился на дочери крупного советского работника, лебезил и заискивал перед ним, а когда тесть умер, даже не пришел на его похороны и через месяц развелся с женой. Осенью сорок первого года Рубцову представился подходящий случай покончить с жизнью, которая не устраивала его во всех отношениях. Когда полк, где он служил, попал в окружение, Рубцов (его перевели к тому времени в писарскую команду) добровольно сдался в плен. Причем принес с собой выкраденный в штабе секретный код. В Борисинском лагере военнопленных судьба Арсения Рубцова определилась окончательно: он приглянулся сотруднику абверкоманды Карлу Кёлеру, который завербовал его и под кличкой «Барсук» пустил в дело как агента-провокатора. Там, в лагере, Александр Букреев, на свою беду, и встретился с ним. И был уничтожен ради того, чтобы Барсук мог действовать под его именем. После Борисинского лагеря пошли другие лагеря. Но задача была везде одна: «выявлять врагов великой Германии — коммунистов, комиссаров и евреев». И Рубцов из кожи лез вон, стараясь заслужить внимание и милость своих хозяев. Усердие не осталось незамеченным. Барсука похвалили и ввели в «настоящее дело»: подрывать боеспособность партизанских отрядов, действуя внутри их. В разное время ему удалось поставить под удар гитлеровских карательных войск три партизанских отряда: один в Ченских лесах и два в Белоруссии. Успех был исключительный, и Барсук удостоился высокой награды: ему дали железный крест второго класса. Перед ним раскрывалась желанная карьера офицера «великой германской армии» — так по крайней мере обещали ему гитлеровцы. Но этому не суждено было осуществиться. И не потому, что сама «великая германская армия» потерпела полный крах. Карьера удачливого агента-провокатора оборвалась еще раньше, и весьма неожиданно. В марте сорок четвертого года Барсук со специальным заданием был помещен в лагерь пленных советских офицеров. Но задания он выполнить не успел. Советские войска внезапно перешли на этом участке фронта в наступление и освободили пленных. И в их числе «лейтенанта Рубцова», как значился он в лагерных списках. Начался новый этап в его жизни. Рубцова мобилизовали в действующую армию. В качестве командира комендантского взвода при фронтовом госпитале он дошел с наступающими войсками до Берлина. За это время сумел покорить сердце хирурга Глафиры Басмановой. Женился на ней и, демобилизовавшись, вместе с молодой супругой прикатил в Ченск, на ее родину. У Глафиры был двоюродный брат, заведующий фотоателье. Он сказал Рубцову: «Приобщайся! Выгодное дело, не то что твоя химия». И Рубцов приобщился… Шли годы. Попав в автомобильную катастрофу, погибла Глафира. Через некоторое время уехал из Ченска ее брат, по-родственному передав фотоателье под начало Арсения Павловича. Жизнь его постепенно приобретала устойчивые формы. Необременительная служба, достаток в доме, по вечерам «пулька» в кругу приятелей, а по воскресеньям — охота или рыбалка. Маленькие радости человека, вынужденного навсегда распрощаться с честолюбивыми мечтами прошлого. И вдруг сразу все поломалось! У Барсука объявились новые хозяева. Взяли за горло, прижали к стенке: или — или! И снова — надежда на какую-то фантастически-ослепительную жизнь. Но вот финал — полная катастрофа: четыре стены следовательского кабинета, стол с черным ящиком магнитофона, за столом чекисты, постепенно сужающие кольцо неопровержимых улик. Но он, Рубцов, не хочет, чтобы кольцо сужалось. Он противится этому изо всех сил — мутит воду, стараясь запутать следствие. Так было на первых допросах и так продолжается теперь. Только он избрал другую тактику: давать правдивые показания по мелочам и всячески уклоняться от предъявленных ему больших, тяжких обвинений. К этой тактике он прибег, когда начали выяснять, что Рубцов делал в войну. Следствие тянулось несколько дней без заметных успехов. Наконец полковник Демин не выдержал: — Давайте, Рубцов, договоримся: или бы будете рассказывать всю правду, или прямо скажите, что не желаете давать показания. В общем подумайте… И с этими словами Демин вышел из кабинета, оставив арестованного вдвоем с охранником, стоявшим у двери. Не повернув головы, Рубцов проводил полковника косым взглядом. «Ждешь, чтобы я вывернул себя наизнанку, подписал себе смертный приговор? Нашел дурака!.. О том, что произошло в урочище Кленовый яр осенью сорок второго года, не знает никто. А сам себе я не враг, чтобы рассказывать об этом…».…Лес. Суровый, хмурый, окутанный утренним туманом. Низкое небо. Тишина. На широкой поляне, защищенной со всех сторон дремучим бором, спит партизанский лагерь. Вокруг большой штабной землянки, среди редких кустов видны землянки поменьше. Ни дымка, ни звука. И только часовые, которых пробирает свежий октябрьский утренник, не спят, вслушиваются в ночные шорохи. Один из них, совсем молодой парень, лежит на пригорке, под развесистым желто-багряным кленом, у тропы, которая едва заметно петляет между кочек в высокой траве. И хотя в легкой стеганке зябко, все-таки клонит в сон. Парень покусывает травинку, трет кулаком глаза, но веки все равно слипаются. Чтобы прогнать дремоту, он высыпает на ладонь из расшитого алыми маками кисета остатки махорки. И огорченно вздыхает: даже на полкозьей ножки не набирается… Но что это? Впереди слышен треск сухих веток. Часовой берет автомат наизготовку, вглядывается в туманную чащу. На изгибе тропинки появляется человек. — Стой! Кто идет? — Свои. — Пропуск? — Стебель. — Пароль правильный! — Дозорный улыбается и, поднявшись из-за укрытия, идет навстречу рослому человеку в брезентовом плаще с капюшоном, надвинутым по самые глаза: — Ты, если не ошибаюсь, из второй роты? — Вторая рота, первый взвод, Букреев, — отвечает тот, приглаживая округло подстриженную бороду. — То-то, я гляжу, знакомый вроде. — И я тебя знаю: Сухов из первой роты? — Верно! — подтверждает парень. — А ты, похоже, из разведки возвращаешься? — Точно. — А где же ребята?.. На разводе говорили, трое вас тут должно пройти. — У ручья задержались, сапоги моют… — Бородач протягивает Сухову портсигар: — Курить будешь? — С толстым удовольствием! — парень обрадовался, начал открывать серебряную коробку. — Эге, штуковина-то с секретом! — Надави на орлиный глаз… И когда Сухов наклоняет голову над портсигаром, бородач заходит сзади и, выхватив из кармана нож, вдруг бьет парня пониже затылка. Потом быстро вытирает финку о мокрую траву. Шарит глазами по земле, ища упавшие кожаные ножны. Нет их, черт возьми! Но искать некогда. Он поднимает с травы портсигар, опускает в карман. Сбрасывает с себя брезентовый плащ. Под плащом надет мундир немецкого унтер-офицера, туго перехваченный в талии ремнем. Он берет в рот свисток — раздаются звуки, напоминающие пение лесной птахи. Через несколько минут на эти звуки из леса, справа и слева от тропы, густо валят солдаты в темно-зеленых шинелях. Тяжело дыша от быстрой ходьбы, с автоматами наготове, они крадутся к спящему партизанскому лагерю…
— Ну как, Рубцов, надумали? — полковник Демин вошел в кабинет вместе с Маясовым. Рубцов от неожиданности вздрогнул, провел ладонью по лицу, как бы смахивая страшное видение, только что его посетившее. Окончательно вернувшись к действительности, он сказал: — Напрасно ждете. Больше я ничего не знаю. Демин и Маясов сели за стол. — Итак, вы продолжаете настаивать на своих прежних показаниях? Фамилию Букреева себе не присваивали и под этой фамилией в Ченском партизанском отряде никогда не были? — спросил полковник. — Да ну, что вы, ей-богу! — Рубцов с видом обиженного развел руками. — Хорошо, — сказал Демин и, открыв ящик стола, вынул из него серебряный портсигар. — Вам знакома эта вещь? Длинные пальцы Рубцова чуть дрогнули, когда он взял тускло блеснувшую коробку с орлом на крышке. Но он тут же овладел собой и твердо сказал: — Да. Этот портсигар принадлежал моему приятелю Александру Букрееву. — Очень хорошо, — согласился Демин и, взяв телефонную трубку, попросил: — Пригласите Федора Гавриловича. В короткие напряженные минуты перед появлением еще какого-то нового свидетеля, Рубцов лихорадочно думал. Так ли он ответил? Ведь портсигар мог попасть к чекистам только от Ирины Булавиной. А ей он в свое время сам сказал, что получил портсигар от ее отца на память, в обмен на свой, — значит, этого и надо теперь держаться… И вот в кабинет вошел высокий, сутуловатый старик с прокуренными до желтизны усами. И Рубцов вдруг понял, куда гнет следователь, вытащив на свет божий красивую коробку из литого серебра. Когда старик, поздоровавшись и одернув коротковатый ему пиджачишко, сел у стола, Демин спросил:. — Товарищ Смолин, вам знаком этот портсигар? Старый слесарь положил раскрытый портсигар на свою широкую ладонь, поглядел на него. — Да, знаком… Эту вещицу по осени сорок второго года я вместе со своим братаном торговал у бойца нашего партизанского отряда Букреева. — А личность этого человека вам никого не напоминает? — Полковник перевел взгляд на побледневшего Рубцова.
Дмитрий Анатольевич Тарасенков Человек в проходном дворе
Глава 1. Знакомства
 Тетка на углу возле “Флотского универмага” торговала мороженым. Я собрался взять, потому что это соответствовало бы моей роли, но раздумал: не хотел пачкать пальцы. Подошвы липли к асфальту. Большой уличный термометр у входа в гостиницу показывал 31 градус. “Гостиница “Пордус”, — прочел я и нырнул внутрь.
В вестибюле было темно и прохладно. Возле каждой колонны стояла кадка с пальмой. В дальнем углу горела лампа под зеленым абажуром: закуток дежурного администратора. Стуча каблуками, я пересек по диагонали вестибюль, поставил чемодан на пол и положил локти на стойку.
— Нету мест, — скучным голосом сказала женщина за стойкой.
Я вытащил паспорт и раскрыл перед ней.
— Насчет меня звонили из горкома комсомола.
— Фамилия? — спросила она, глядя в паспорт.
— Моя?
— А чья еще?
— Насколько я знаю, Вараксин. Там написано.
Она взглянула на меня, но смолчала. Потом порылась в бумажках на столе и буркнула:
— Есть Вараксин.
Все было в порядке. Пока она заполняла квитанцию, я огляделся. Какой-то тип, развалившийся на кожаном диванчике, крутил ручку настройки транзистора. “Ай эм фонд оф ю, та-тарара, — орал хриплый голос. — Ай эм фонд оф ю, та-тара”. На стене висела копия картины Ивана Константиновича Айвазовского “Девятый вал”. Бушующее море смахивало на овощной салат в миске.
— Надолго остановитесь?
— Я бы остановился у вас на всю жизнь. Но дела, знаете ли…
— Я вас серьезно спрашиваю, — обиделась она. — Вы дома шутите, а здесь учреждение.
— Извините. Я всегда шучу. Пишите ориентировочно — две недели. Думаю, управлюсь.
“Ты должен, — сказал я себе, — управиться за несколько дней, голубчик. Иначе грош тебе цена. Да и не в тебе дело”.
Я поднялся по лестнице на третий этаж, разыскал дверь с номером 305 и открыл ее. Марлевые занавески на окне рванулись и вытянулись на весу. В комнате было три койки. На одной лежал человек, с головой за вернувшийся в простыню.
Я прикрыл за собой дверь.
— Эй, друг! — окликнул я негромко.
— Чего надо?
— Вставай, знакомиться будем! Ты что в простыню залез?
— Мухи, — ответил голос из-под простыни. — Кусаются.
— Так купил бы ленту ядовитую и повесил. Они все подохнут.
— Еще чего!
— Полотенцем выгони.
— Еще чего!
— Ну и лежи так, шут с тобой!
Я сел на койку и покачался на пружинах. За окном звенели трамваи. Комната была залита солнцем. Я закурил, и тень от дыма поплыла по стене.
— Как здесь городок, ничего?
Из простыни на меня уставился один глаз.
— Дерьмовый городок. И не городок, а город: здесь двадцать тыщ живет.
— Так уж и двадцать? — засомневался я.
— Точно тебе говорю.
— Ты местный, что ли?
— Жил до войны.
“Кажется, он”, — подумал я. И спросил:
— А сейчас?
— А тебе-то что?
— Да я так, простое человеческое любопытство.
— Вот и сиди со своим любопытством тихо.
— Сижу.
Мы помолчали.
— В кино чего-нибудь интересненькое идет? — спросил я.
— Еще чего! Я в кино не хожу!
Под койкой у моего соседа стояли пустые бутылки: “Перцовая”, “Старка”, “Плодово-ягодное”. Плохо. По мне, уж пить, так что-нибудь одно, но я, конечно, дилетант. А кино моему соседу не нужно, это очевидно. Оно было бы для него просто-таки помехой.
Я вспотел как мышь, пока добрался с аэродрома до гостиницы. Вода в графине была теплая. По слоям осадков на стенке можно было судить о том, как она постепенно испарялась в течение последней недели. Ну-ну!
— Перейдем на самообслуживание, — сказал я вслух.
В умывальнике я выплеснул воду в раковину и раскрутил кран до отказа. Я стоял и курил, и вода брызгала на меня, но умываться я не стал — хотел сразу залезть под душ. Я наполнил графин и вернулся в номер.
— Попей водички, — предложил я соседу. — Холодная, аж лоб ломит.
Потом занялся чемоданом.
Я достал из него бумажник и посчитал на виду деньги. Пальто я продал в Москве, на очереди фотоаппарат. Матери послал денег, сюда шикарно летел самолетом, то да се; осталось девятнадцать рублей. Если экономить, хватит на неделю. Потом придется катать бочки в порту. Все это мы тщательно продумали с Ларионовым. Всякий раз, когда мы доходили до этих бочек, он начинал хохотать: “Извини, старик, у меня богатое воображение. Тебе так пойдут эти бочки”.
— Может, заложим? — спросил голос из-под простыни, и снова блеснул один глаз.
— С утра не пью, — отрезал я, решив, что, придерживаясь тактики коротких ответов, я выиграю больше.
— Ну-ну. А чемодан ты свой на хранение сдай. Сопрут.
— Не сопрут. Тут и переть-то нечего.
Я вынул рубашки и положил их в тумбочку, чтобы не мялись.
— Жарища какая, а? — сказал сосед.
— Как в Африке, — сказал я.
— Американцы со своими водородными бомбами климат испортили. Допрыгались, гады!
— Проклятые империалисты, — сказал я. — Не хватало еще, чтобы снег пошел.
— А в Антарктику не хочешь с белыми медведями на льдине покататься?
— Хочу. Душ здесь где?
— Этажом ниже.
Все правильно: местные товарищи прислали точное описание места и возможных действующих лиц трагедии. Я повесил полотенце на плечо, вышел в коридор и стал спускаться по лестнице. На площадках висели пыльные зеркала в вычурных металлических рамах: сверху были пристроены веночки, их держали позолоченные пузатые купидоны. Гостиница была старой постройки и раньше принадлежала, наверное, какому-нибудь прусскому юнкеру. Я представил его себе с пышными усами, в крахмальном стоячем воротничке, а его супругу — в гладком платье с короткими рукавами-пузырями. Однажды мне пришлось провести две недели, не выходя на улицу, в пустой квартире, где в старомодном книжном шкафу лежали комплекты “Нивы” за все годы, и с тех пор все, что относилось к началу века, я представлял себе по тем иллюстрациям.
Тетка на углу возле “Флотского универмага” торговала мороженым. Я собрался взять, потому что это соответствовало бы моей роли, но раздумал: не хотел пачкать пальцы. Подошвы липли к асфальту. Большой уличный термометр у входа в гостиницу показывал 31 градус. “Гостиница “Пордус”, — прочел я и нырнул внутрь.
В вестибюле было темно и прохладно. Возле каждой колонны стояла кадка с пальмой. В дальнем углу горела лампа под зеленым абажуром: закуток дежурного администратора. Стуча каблуками, я пересек по диагонали вестибюль, поставил чемодан на пол и положил локти на стойку.
— Нету мест, — скучным голосом сказала женщина за стойкой.
Я вытащил паспорт и раскрыл перед ней.
— Насчет меня звонили из горкома комсомола.
— Фамилия? — спросила она, глядя в паспорт.
— Моя?
— А чья еще?
— Насколько я знаю, Вараксин. Там написано.
Она взглянула на меня, но смолчала. Потом порылась в бумажках на столе и буркнула:
— Есть Вараксин.
Все было в порядке. Пока она заполняла квитанцию, я огляделся. Какой-то тип, развалившийся на кожаном диванчике, крутил ручку настройки транзистора. “Ай эм фонд оф ю, та-тарара, — орал хриплый голос. — Ай эм фонд оф ю, та-тара”. На стене висела копия картины Ивана Константиновича Айвазовского “Девятый вал”. Бушующее море смахивало на овощной салат в миске.
— Надолго остановитесь?
— Я бы остановился у вас на всю жизнь. Но дела, знаете ли…
— Я вас серьезно спрашиваю, — обиделась она. — Вы дома шутите, а здесь учреждение.
— Извините. Я всегда шучу. Пишите ориентировочно — две недели. Думаю, управлюсь.
“Ты должен, — сказал я себе, — управиться за несколько дней, голубчик. Иначе грош тебе цена. Да и не в тебе дело”.
Я поднялся по лестнице на третий этаж, разыскал дверь с номером 305 и открыл ее. Марлевые занавески на окне рванулись и вытянулись на весу. В комнате было три койки. На одной лежал человек, с головой за вернувшийся в простыню.
Я прикрыл за собой дверь.
— Эй, друг! — окликнул я негромко.
— Чего надо?
— Вставай, знакомиться будем! Ты что в простыню залез?
— Мухи, — ответил голос из-под простыни. — Кусаются.
— Так купил бы ленту ядовитую и повесил. Они все подохнут.
— Еще чего!
— Полотенцем выгони.
— Еще чего!
— Ну и лежи так, шут с тобой!
Я сел на койку и покачался на пружинах. За окном звенели трамваи. Комната была залита солнцем. Я закурил, и тень от дыма поплыла по стене.
— Как здесь городок, ничего?
Из простыни на меня уставился один глаз.
— Дерьмовый городок. И не городок, а город: здесь двадцать тыщ живет.
— Так уж и двадцать? — засомневался я.
— Точно тебе говорю.
— Ты местный, что ли?
— Жил до войны.
“Кажется, он”, — подумал я. И спросил:
— А сейчас?
— А тебе-то что?
— Да я так, простое человеческое любопытство.
— Вот и сиди со своим любопытством тихо.
— Сижу.
Мы помолчали.
— В кино чего-нибудь интересненькое идет? — спросил я.
— Еще чего! Я в кино не хожу!
Под койкой у моего соседа стояли пустые бутылки: “Перцовая”, “Старка”, “Плодово-ягодное”. Плохо. По мне, уж пить, так что-нибудь одно, но я, конечно, дилетант. А кино моему соседу не нужно, это очевидно. Оно было бы для него просто-таки помехой.
Я вспотел как мышь, пока добрался с аэродрома до гостиницы. Вода в графине была теплая. По слоям осадков на стенке можно было судить о том, как она постепенно испарялась в течение последней недели. Ну-ну!
— Перейдем на самообслуживание, — сказал я вслух.
В умывальнике я выплеснул воду в раковину и раскрутил кран до отказа. Я стоял и курил, и вода брызгала на меня, но умываться я не стал — хотел сразу залезть под душ. Я наполнил графин и вернулся в номер.
— Попей водички, — предложил я соседу. — Холодная, аж лоб ломит.
Потом занялся чемоданом.
Я достал из него бумажник и посчитал на виду деньги. Пальто я продал в Москве, на очереди фотоаппарат. Матери послал денег, сюда шикарно летел самолетом, то да се; осталось девятнадцать рублей. Если экономить, хватит на неделю. Потом придется катать бочки в порту. Все это мы тщательно продумали с Ларионовым. Всякий раз, когда мы доходили до этих бочек, он начинал хохотать: “Извини, старик, у меня богатое воображение. Тебе так пойдут эти бочки”.
— Может, заложим? — спросил голос из-под простыни, и снова блеснул один глаз.
— С утра не пью, — отрезал я, решив, что, придерживаясь тактики коротких ответов, я выиграю больше.
— Ну-ну. А чемодан ты свой на хранение сдай. Сопрут.
— Не сопрут. Тут и переть-то нечего.
Я вынул рубашки и положил их в тумбочку, чтобы не мялись.
— Жарища какая, а? — сказал сосед.
— Как в Африке, — сказал я.
— Американцы со своими водородными бомбами климат испортили. Допрыгались, гады!
— Проклятые империалисты, — сказал я. — Не хватало еще, чтобы снег пошел.
— А в Антарктику не хочешь с белыми медведями на льдине покататься?
— Хочу. Душ здесь где?
— Этажом ниже.
Все правильно: местные товарищи прислали точное описание места и возможных действующих лиц трагедии. Я повесил полотенце на плечо, вышел в коридор и стал спускаться по лестнице. На площадках висели пыльные зеркала в вычурных металлических рамах: сверху были пристроены веночки, их держали позолоченные пузатые купидоны. Гостиница была старой постройки и раньше принадлежала, наверное, какому-нибудь прусскому юнкеру. Я представил его себе с пышными усами, в крахмальном стоячем воротничке, а его супругу — в гладком платье с короткими рукавами-пузырями. Однажды мне пришлось провести две недели, не выходя на улицу, в пустой квартире, где в старомодном книжном шкафу лежали комплекты “Нивы” за все годы, и с тех пор все, что относилось к началу века, я представлял себе по тем иллюстрациям.

В коридоре этажом ниже стояли козлы, пол был заляпан краской. Пахло известью. У стены лежала груда неструганых белых досок. “Есть какая-то закономерность в том, что ремонт в гостиницах затевается именно летом, в разгар сезона, — подумал я. — Профессиональная тайна директоров и администраторов”. Я взглянул на часы. До обеденного перерыва было еще далеко, а рабочие между тем отсутствовали. “Собрались где-нибудь перекурить”, — решил я. Дежурная по этажу (вернее, по двум этажам сразу — тому, где я остановился, и этому) сидела возле канцелярского стола и листала “Огонек”. Я присел рядом на край кожаного дивана — близнеца тех, что украшали вестибюль, — кашлянул и спросил старческим голосом: — Как насчет душа, милая? Функционирует? — Угу.Тридцать копеек, — ответила она, не отрываясь от журнала. — А у меня большое несчастье, — сказал я проникновенно и сделал несчастное лицо. — Я бумажник потерял, и деньги, и все-все. Она все-таки подняла голову. Она была некрасива, но в ней имелась какая-то изюминка — это я отметил еще в комитете, знакомясь с делом. Большие глаза, очень большие. Гордая посадка головы. Блестящие волосы до плеч. — Да что-о вы! — протянула она, щурясь, потому что солнце било через оконное стекло в эти ее большие глаза. — Точно. И жара сегодня необыкновенная и невыносимая. Одно к одному. — А много денег было? — спросила она. — Как раз тридцать копеек, — сказал я быстро. — Но я волшебник. Если вы дадите мне ключ от душевой, вас полюбит принц. — Если вы волшебник, войдите без ключа. Через замочную скважину. — Она уткнулась в “Огонек”. “Все равно дашь ключ, — весело подумал я, — никуда ты не денешься”. — Заклинание для дверей забыл, вот что. Все остальное помню: и для больных зубов, и для присушивания сердец, а это из головы вылетело. Она засмеялась. Полдела было сделано. — У нас один жил здесь такой, то-оже весельчак. Только старенький. И… — Она сделала паузу. — Что — и? — Ничего. — А сейчас куда он делся? — А… — Она замкнулась. Так. Хорошо. Эта тема меня слишком волновала. Быть настырным сейчас нельзя: все ограничится несколькими общими фразами. А это меня никак не устраивало. Я подвигал стакан с карандашами по столу и сказал: — Ну и бог с ним. А так жарко! — Я вздохнул. — Вся рубашка на мне мокрая. — Ну и что? — Ключик. — Я протянул руку. — Если я всем ключ давать буду, это порядок, по-вашему, как? — Милая, — сказал я с чувством, — так то ж простые смертные, а я волшебник. Вол-шеб-ник! Она выдвинула ящик и достала ключ. — Только верните мне. — Что? — Ключ. — А-а, ключ… Фамилия ее была Быстрицкая, как у актрисы. Да и смахивала она на какую-то актрису, только не на свою однофамилицу, а на другую — польскую, что ли. Я всегда путал фамилии актеров. Но сама-то Быстрицкая наверняка знает, на какую актрису она похожа. Ей двадцать три года. В комсомоле не состоит. На руке у нее шрам. Я и о нем знал: попала в автомобильную катастрофу, катаясь по побережью на машине с приезжим инженером. Я все знал, все, кроме главного. — Непременно верну, — сказал я. — Принц будет сдувать пушинки с ваших туфель. Она опять засмеялась. Кокетливо поправила волосы. Посмотрела на меня с интересом, склонив голову к плечу. — А какой он будет, принц ваш? Брюнет или блондин? — Белобрысый, как я. Вы сейчас похожи на петуха, разглядывающего жемчужное зерно. Между прочим, вы когда сменяетесь? — Жемчужное зерно — это вы, надо понимать? — Так точно. Так когда? — В восемь. А что? — Вечерок вместе? — А вы нахал, — протянула она. — Наоборот. Я страшно стеснительный и робкий и, чтобы скрыть это, притворяюсь нахалом. Самозащита. Знаете, как в том анекдоте… — Я замолчал. — В каком анекдоте? — конечно, спросила она. — Расскажу вечером. Я знаю двести пять первоклассных анекдотов и сто хороших. Сомнительных не рассказываю. Сегодня вы скучать не будете: не дам. — Все мужчины обещают слишком много, — сказала она. — Но берегитесь, если вы обманываете бедную, несчастную девушку. “Господи, — с ужасом подумал я. — Господи, мне придется вертеться как карасю на сковородке. Мне предстоит тяжелый вечерок”. Я улыбнулся как можно обаятельней и отправился в душ. Я сразу раскрутил холодную воду и сунулся под струи. Вода обжигала. Я рычал и танцевал в ванне, задирая руки, чтобы вода била в бока, отплевывался мыльной пеной и вообще чувствовал себя преотлично. Только через пятнадцать минут я решил: хватит. Я расчесал мокрые волосы, дунул на расческу и подмигнул себе в зеркало. Я скорчил физиономию каторжника, потом государственного деятеля, потом похлопал ресницами, изображая невинного мальчика, “Так, Боря, — сказал я себе. — Работа началась, и, кажется, неплохо, Боря”. — От робости я забыл узнать, как вас зовут, — сказал я Быстрицкой, отдавая ключ. — А вы говорите: нахал. — Рая. — А меня Боря. Я смотрю, Раечка, ремонт у вас осуществляется невиданными темпами. — Я кивнул в сторону выглядывавших из-за поворота одиноких малярных козел. Рабочих по-прежнему не было видно. — Ах это! Вы знаете, поработали с неделю, а потом ушли. Когда же… ах ну да, пятого числа и ушли. Просто безобразие! — И она опять стала прятать лицо от нестерпимого солнца в тень. О ремонте ребята из здешнего горотдела не сообщали. Пятого? Совпадение, конечно. Но именно утром пятого, шесть дней назад, гражданин Ищенко Тарас Михайлович, пятидесяти восьми лет от роду, как будто приехавший сюда отдохнуть и провести время, занимавший в гостинице ту самую койку, на которой теперь расположился я, был убит. — Куда ж они делись? — В доме через улицу авария случилась. Все протекло. Ну и знаете, как это делается: наверное, перебросили рабочих… — Такой большой серый пятиэтажный дом? — спросил я. — Видел, когда сюда шел. — Да нет, он маленький. Дом номер восемь по Чернышевского. Еще одно совпадение. Этот адрес я уже знал. Но расспрашивать дальше было неосторожно: с чего бы это я мог так заинтересоваться какой-то аварией? Да и вряд ли Быстрицкая могла что-то знать. — Ну ничего, все образуется, — сказал я. — Держите тридцать копеек за душ. Я пошутил. Я люблю шутить. Но насчет вечера я говорил серьезно.
Глава 2. Человек с фотографии

Человек в номере лежал в той же позе под простыней. В марле на окне гудела запутавшаяся муха. — Слушай, нельзя же спать весь день, — сказал я. — Уже начало одиннадцатого. — А может, я ночью работал? — Ну разве что… Я достал ножницы из чемодана, сел за стол, постриг ногти на левой руке и полюбовался. — Сосед, а сосед! — Чего? — отозвался тот, но не шевельнулся под простыней. Надо было выманить его из этого кокона. На столе лежала шахматная доска. Я двинул локтем и смахнул ее. Она, слава богу, не раскрылась и фигуры не высыпались, но она бухнула об пол как выстрел. Человек сел на койке. Ему было лет пятьдесят. — Извините, — сказал я. Это был он, хотя на моментальной фотографии он выглядел старше. Помощник капитана рыболовного траулера, списанный на берег за пьянство. Морщины пересекали его лоб. Он был небрит, волосы на голове торчали как перья. — Чего надо? Не люблю, когда извиняются. Я поднял шахматную доску. — Мне ничего не надо. Еще раз извините. И взял ножницы в левую руку. — А ты наглец, — сказал помощник капитана и почесался. — И стрижка у тебя, — он пошевелил растопыренными пальцами над головой, — короткая. Наглая. Ты с какого года? — С сорок третьего, — сказал я, убавив шесть лет согласно документам: я как раз и выгляжу на этот возраст. — Правильно. Все вы нахалы, — заявил мой визави. — Бывает, — сказал я. — А я тебе, между прочим, в отцы гожусь. — Папочка, — сказал я, — купи мне шоколадку. Он засмеялся. — Студент? — Студент, — сказал я. Все шло как надо. По документам я был студент. Досрочно сдал летнюю сессию и приехал подработать на зиму, хочу устроиться матросом на рыболовное судно. Студент-романтик. Играть мне было легко: не так уж давно я на самом деле учился в институте. Кроме того, устраиваюсь на работу, жду визы на выход в море, словом, могу много времени сидеть в гостинице, шляться по городу и от нечего делать заводить знакомства. — Глаза б мои на тебя не глядели! — закричал помощник капитана. — Как ты ножницы держишь! Ты себе палец отрежешь! — Искусство требует жертв. Где здесь, между прочим, управление экспедиционного лова? — Рыбкина контора? Возле базара, на улице Прудиса. А ты не в море, часом, собрался? — В море. — А меня списали, — вдруг грустно сказал он. — Воспитывают? — Я кивнул на пустые бутылки, бросил ножницы в чемодан и задвинул его под койку. — Воспитывают? Дурак ты! — Он взорвался. У него задергалась кожа на лбу — тик. Он завернулся в простыню. Лег. Потом не выдержал, опять вскочил. — А почему потомственный моряк Войтин пьет с утра вино и ложится на койку? Почему, спрашивается в задачнике? Я тебе отвечу! — Ну-ну, — поощрил я его. Он меня не слушал. — Я лежу и рисую себе картину: штормяга — десять баллов, а начальник отдела кадров крепит груз на палубе и делает все, что положено делать моряку в шторм. А волна с пеной — через него, через него. А еще он думает: как благополучно привести судно в порт, потому что он за него отвечает. Понял? — Понял. — А то он сидит в кабинетике — розовый, в роговых очках и — пьете вы, говорит, много, звание моряка позорите. И на берег меня. Старый стал, помоложе нужны. Они не пьют. Они культурные. Весело?
 “Куда как весело, — подумал я. — Но только ты ж сам и виноват. Не бывает так, чтобы ничего нельзя было сделать”.
— В шахматы можешь? — спросил моряк.
— Могу. Закуривайте, — предложил я.
— Сигарет не курю. Только папиросы.
“Беломор”, — машинально отметил я. Если б он был матросом, то курил бы “Север” или “Прибой”, а старпому положен “Беломорканал”.
Я вытряхнул фигуры к нему на постель, и мы стали расставлять их. Черного слона не было. Я знал, что его нашли в кармане пиджака убитого. Ну, это-то было легко объяснить: Ищенко машинально сунул слона в карман во время игры и забыл о нем. Кстати, карманы у него были пустые: только носовой платок, бумажный рубль, 23 копейки медью и эта шахматная фигура; документы и деньги остались в гостинице в камере хранения.
Войтин стал искать глазами, чем заменить отсутствующую фигуру.
— В гостинице шахматы дали? — спросил я.
— Мои.
— А где слона посеяли?
— Играл шесть дней назад. Пятого числа, утром. Приблизительно с восьми пятидесяти до девяти тридцати. И он был на месте. Ума не приложу, куда он делся. Всю комнату обыскал.
— Ого, какая точность! Это вы всегда запоминаете числа и часы, когда играете в шахматы?
— Тут запомнишь! — сказал Войтин, продолжая рассеянно озираться. — Меня милицейский капитан два раза с пристрастием допрашивал: в котором часу я играл, да как сосед — он как раз на твоем месте жил, Тарасом Михайловичем звали, — как он выглядел, не волновался ли в то утро, да что он говорил, да что я, после того, как он ушел, делал…
— А что такое? — спросил я.
— Да то, что убили его, Тараса Михайловича.
— Как убили?
— Очень просто. Тюкнули чем-то по голове в проходном дворе, и все.
Не чем-то, а кастетом. Его подобрал недалеко от места преступления, под стеной дома, старик, выносивший мусор, и, зная об убийстве, обернул в бумажку и принес в милицию. Кастет немецкого производства, каким пользовались эсэсовцы во время войны.
— Ограбление? — спросил я.
— Какое там ограбление! Я его все время выпить звал. А он: “Я здесь еще долго проживу, у меня все рассчитано, денег в обрез”. А может, скупой был, врал. Но, по-моему, особых денег у него не водилось
Войтин вынул из кармана ключ несколько необычной формы, подбросил на ладони, поглядел на него и положил вместо отсутствующего слона.
— Ходов обратно не берем?
— Ага.
— Давай. Е — два, е — четыре.
— Гроссмейстерский ход. А вот так? Слушайте, а если не ограбление, тогда что?
— Помешал кому-то, значит.
— Кому ж он мог помешать?
— Ему лет шестьдесят было. Слабенький. Валидол все сосал. “Я, — говорит, — отдохнуть приехал, здоровьице поправить”. Вот и поправил! Но один раз, — моряк остро взглянул на меня, — пришел ночью, часа в два, и все вздыхал, на койке ворочался. Потом встал, зажег лампу, долго писал что-то, но порвал и бросил в пепельницу. А утром мы с ним вместе выходили, он в дверях встал, обратно кинулся и обрывки из пепельницы вытащил. Вот какие старички бывают, студент. А?
Мне показалось, что говорит он как-то нарочито равнодушно и его интересует этот “старичок” больше, чем он хочет показать.
— А вы капитану, что вас допрашивал, рассказали про это?
— Нет, забыл.
Правильно, капитану Сипарису он этого не говорил.
— Странный он был мужик, этот Тарас Михайлович, — сказал я. — Может, шпион?
— Сам ты шпион! Пить будешь?
— Сказал — с утра не пью. Шах!
— Ша-ах? — Он задумался, сделал ход и встал. — Тогда я один выпью.
Он запустил руки в тумбочку и погремел там стаканом, слушая, наклонив — голову к плечу, как булькает жидкость; он совершал привычную, видно, манипуляцию на ощупь. Вынул стакан — он был налит до половины. Опрокинул в горло. Ничем не закусил.
Его передернуло, и он вздохнул.
— Ключик хороший, — сказал я и взял с доски ключ.
— Не лапай!
— А что?
— Положи, говорю, на место.
— Чудак вы человек! Это ж слон. Если я буду его бить, так ведь возьму же его в руки. Нелогично получается.
— Ну и пусть нелогично!
— Интересная бородка у него, — не отставал я. — Я когда-то слесарничал и немного разбираюсь в замках.
— На заказ делал, — буркнул Войтин.
— А замок к нему где?
— Где, где!.. Что ты привязался к человеку? Играй и помалкивай!
— Извините, — сказал я. — Я не думал, что вы примете это близко к сердцу. Мне совсем не хочется лезть вам в душу и задавать вопросы, которые вам неприятны.
— Ладно, опять извиняться начал! Может, выпьешь вина?
— Нет.
— А ты ничего парень, — сказал Войтин. — Упрямый. Ты мне даже нравиться начинаешь.
Я промолчал.
— Ты не обижайся, — сказал он. — Дело вот в чем… а-а… все равно не поймешь!
— Если вам неприятно, не рассказывайте, — предупредил я.
— Не в этом дело… — Он со всхлипом втянул ноздрями воздух, помолчал и сказал почти спокойно: — Это ключ от дома, которого нет. У меня до войны здесь, в этом городе, квартира была, понимаешь? Я мебель купил, все мелочи продумал и сделал. Замочек вот врезал на заказ, понимаешь? Ужасно приятно было самому этим заниматься. Гнездышко вил. Мы с женой занавески ходили в магазин выбирать, у нее на это дело большой вкус был. А, черт, где же спички?
Я дал ему прикурить.
— Ну вот… — Он глубоко затянулся. — Ну вот. А двадцать третьего июня я ушел на войну, а она погибла.
— Бомбежка? — осторожно спросил я.
— Она была связной партизанского отряда. Мне потом рассказали. Кто-то выдал ее в сорок четвертом. Ее держали полтора месяца в гестапо. Она ничего не сказала, понимаешь? Понимаешь? Кто бы так смог? Ты бы смог?
— Мой отец был расстрелян в гестапо. Он был разведчиком генштаба, — сказал я.
Это была правда.
— Да? — Он устало потер лоб. — Где?
— В Германии. После войны мы несколько лет ничего не знали о нем.
— Да? — опять сказал он. — Если б я знал, кто ее предал, я бы убил его сам. Этими руками. — Он посмотрел на свои руки. — Сначала поговорил бы с ним, а потом — р-раз! — Он сказал это будничным голосом и трезво, внимательно посмотрел на меня. — Считаешь, пустые слова? А? Я об этом думал много лет по ночам.
“Мне предстоит решить, — подумал я, — способен ли он на убийство вообще…”
— Вы пробовали что-нибудь узнать? — спросил я.
— Пробовал. Писал куда надо.
— Ну и что?
— Ничего! Сами они ни хрена не знают. Да нет, кое-что мы знали.
В течение 1942–1944 годов в лесу базировался партизанский отряд, связанный с подпольем в городе: отсюда осуществлялось руководство партизанской борьбой в районе. В конце 1944 года отряд был окружен на стоянке эсэсовскими частями и полностью уничтожен (уцелело двое разведчиков: они выполняли особое задание, о котором знал только командир отряда; один из них умер в 1958 году от рака легких, второй — Корнеев Владимир Исаевич — проживал теперь в Ленинграде и работал директором школы). Отряд сменил место стоянки за два дня до трагедии.
Одновременно был нанесен точно рассчитанный удар по подполью: гестапо арестовало 38 человек. Чудом спаслась только Евгения Августовна Станкене, которая несколько месяцев скрывалась в сарае у родственников и поседела, ожидая прихода наших войск. Остальные после пыток были казнены.
В самом конце 1944 года среди захваченной документации местного отделения гестапо были найдены датированные расписки на крупную сумму марками — даже не оккупационными, а имперскими. Деньги были выданы спустя три дня после гибели отряда и арестов в городе человеку под псевдонимом “Кентавр”. Был найден также лист из копии донесения начальнику окружного отделения гестапо об “акции по уничтожению отряда и городского подполья”. В этом отрывке фигурировал Кентавр, названный “очень талантливым” агентом. Упоминалось также, что он физически крепок, инициативен, в совершенстве знает как русский, так и немецкий язык; единственная негативная черта — любит выпить и в этом состоянии болтлив. Больше по этому делу ничего обнаружить не удалось: немцы сожгли основную документацию. Были предприняты некоторые шаги по опознанию и розыску Кентавра, но безуспешно.
Все эти документы были подняты в наших архивах в связи с событием, имевшим место шесть дней назад, пятого июня: в этот день в 11.20 в горотдел КГБ пришла Евгения Августовна Станкене — после войны она безвыездно жила здесь, в этом приморском городе, работала санитаркой в больнице и теперь вышла на пенсию — и сообщила, что полчаса назад (около одиннадцати) встретила на улице бывшего бойца отряда, которого неоднократно видела в лесу, приходя на связь; он появился там за несколько месяцев до гибели отряда. Все это время считалось, что тогда уцелело трое. Значит, он четвертый. Она остановила его, назвала себя и спросила: “Тарас, узнаешь?” Видно было, что он никак не ожидал этой встречи и растерялся. “Обознались, гражданочка”, — сказал он и быстро пошел от нее прочь. “Но я — то видела, что он меня узнал”, — писала в своем заявлении Станкене. Через четверть часа было установлено, что Тарас Михайлович Ищенко прописан в этой гостинице. А в 14.10 был обнаружен его труп в проходном дворе, куда не выходит ни одно окно соседних домов, за контейнером для мусора. Вскрытие показало, что Ищенко был убит приблизительно через десять минут после того, как столкнулся на улице с Евгенией Августовной (то есть в одиннадцать с минутами). Корнеев, которому была предъявлена в Ленинграде фотография убитого, опознал бойца отряда, но вспомнить о нем ничего не мог, так как часто уходил на задания и почти не бывал в отряде.
Все это входило в сферу работы нашего отдела, который занимался розыском предателей народа и бывших нацистских преступников. Было решено, что местные товарищи проверят другие возможные версии (убийство могло не иметь ничего общего с событиями более чем двадцатилетней давности) и помогут работнику центра, то есть мне, в разработке основного варианта расследования. Лиц, о которых было известно, что они вступали в контакт с убитым и могли быть так или иначе причастны к случившемуся, было четверо. Среди них был моряк Войтин. В местном отделе его не считали возможным убийцей, хотя и не знали о нем многого. Например, того, что он рассказал мне сегодня. У него было алиби: в день убийства он был с утра в гостинице — на виду. Он выходил только на 20 минут за папиросами — как объяснил он капитану Сипарису — приблизительно в то время, как было совершено убийство. Дежурная по этажу (не Быстрицкая, та была в этот день свободна) случайно заметила время, когда он вышел и когда вернулся. Если б у него была машина, он мог, конечно, доехать до места преступления, провести там несколько минут и вернуться, но это было маловероятно.
— А ее фамилия тоже Войтина была? — спросил я.
— Ты откуда знаешь мою фамилию? — Он вдруг подобрался и взглянул на меня настороженно.
Я засмеялся.
— Вы же сами говорили полчаса назад: потомственный моряк Войтин.
— Верно, — сказал он, уронив голову на грудь. — Совсем дырявая память стала. Нет, она была самостоятельной в этом вопросе. Она была Круглова. Она писала стихи и мечтала, что их напечатают.
Я вспомнил: эта фамилия была в списке казненных.
— Знаешь, я сдаюсь, — сказал он. — Ты силен в шахматы играть.
— Kämpfen habe ich seit meiner Kindheit qelernt*["7]. Еще одну?
— He хочется. Что это ты сказал?
— По-немецки. Вы немецкого не знаете?
Он усмехнулся.
— “Хальт” и “хенде хох”. И еще — “шнапс”.
— Ну ладно, — сказал я. Пойду искать это рыбкино управление. А то у меня денег, как у того Тараса Михайловича, в обрез. Он, кстати, в шахматы играл?
— Даже не знал, как фигуры называются.
Бум! Вот так так. Откуда же тогда в кармане его пиджака оказался черный слон?
— Но небось любил смотреть, как играют? Учился?
— Терпеть не мог. К доске не подходил.
— А третий наш? — Я кивнул на пустующую, аккуратно застеленную койку.
— Ого! Как зверь. Я с ним только и играю. Он, пожалуй, тебя переиграет.
Третьим был работник мебельной промышленности из Саратова: приехал на местную фабрику не то передавать, не то перенимать опыт. Тихий, незаметный человек. Сорок один год. Фамилия его была Пухальский.
— А, черт! — Войтин вскочил и стал суетливо одеваться. — Автобус… А мне надо точно… — бормотал он.
— Едете куда-нибудь?
— Нет! — раздраженно крикнул он, выскакивая за дверь.
Я пожал плечами и стал собирать фигуры.
Может, ему надо было кого-то встретить? Я вспомнил, что среди вещей Тараса Михайловича было найдено переписанное от руки (почерк Ищенко) расписание автобусов, курсирующих по побережью. “Ну и что? — подумал я с сомнением. — Никакой связи тут нет”.
“Куда как весело, — подумал я. — Но только ты ж сам и виноват. Не бывает так, чтобы ничего нельзя было сделать”.
— В шахматы можешь? — спросил моряк.
— Могу. Закуривайте, — предложил я.
— Сигарет не курю. Только папиросы.
“Беломор”, — машинально отметил я. Если б он был матросом, то курил бы “Север” или “Прибой”, а старпому положен “Беломорканал”.
Я вытряхнул фигуры к нему на постель, и мы стали расставлять их. Черного слона не было. Я знал, что его нашли в кармане пиджака убитого. Ну, это-то было легко объяснить: Ищенко машинально сунул слона в карман во время игры и забыл о нем. Кстати, карманы у него были пустые: только носовой платок, бумажный рубль, 23 копейки медью и эта шахматная фигура; документы и деньги остались в гостинице в камере хранения.
Войтин стал искать глазами, чем заменить отсутствующую фигуру.
— В гостинице шахматы дали? — спросил я.
— Мои.
— А где слона посеяли?
— Играл шесть дней назад. Пятого числа, утром. Приблизительно с восьми пятидесяти до девяти тридцати. И он был на месте. Ума не приложу, куда он делся. Всю комнату обыскал.
— Ого, какая точность! Это вы всегда запоминаете числа и часы, когда играете в шахматы?
— Тут запомнишь! — сказал Войтин, продолжая рассеянно озираться. — Меня милицейский капитан два раза с пристрастием допрашивал: в котором часу я играл, да как сосед — он как раз на твоем месте жил, Тарасом Михайловичем звали, — как он выглядел, не волновался ли в то утро, да что он говорил, да что я, после того, как он ушел, делал…
— А что такое? — спросил я.
— Да то, что убили его, Тараса Михайловича.
— Как убили?
— Очень просто. Тюкнули чем-то по голове в проходном дворе, и все.
Не чем-то, а кастетом. Его подобрал недалеко от места преступления, под стеной дома, старик, выносивший мусор, и, зная об убийстве, обернул в бумажку и принес в милицию. Кастет немецкого производства, каким пользовались эсэсовцы во время войны.
— Ограбление? — спросил я.
— Какое там ограбление! Я его все время выпить звал. А он: “Я здесь еще долго проживу, у меня все рассчитано, денег в обрез”. А может, скупой был, врал. Но, по-моему, особых денег у него не водилось
Войтин вынул из кармана ключ несколько необычной формы, подбросил на ладони, поглядел на него и положил вместо отсутствующего слона.
— Ходов обратно не берем?
— Ага.
— Давай. Е — два, е — четыре.
— Гроссмейстерский ход. А вот так? Слушайте, а если не ограбление, тогда что?
— Помешал кому-то, значит.
— Кому ж он мог помешать?
— Ему лет шестьдесят было. Слабенький. Валидол все сосал. “Я, — говорит, — отдохнуть приехал, здоровьице поправить”. Вот и поправил! Но один раз, — моряк остро взглянул на меня, — пришел ночью, часа в два, и все вздыхал, на койке ворочался. Потом встал, зажег лампу, долго писал что-то, но порвал и бросил в пепельницу. А утром мы с ним вместе выходили, он в дверях встал, обратно кинулся и обрывки из пепельницы вытащил. Вот какие старички бывают, студент. А?
Мне показалось, что говорит он как-то нарочито равнодушно и его интересует этот “старичок” больше, чем он хочет показать.
— А вы капитану, что вас допрашивал, рассказали про это?
— Нет, забыл.
Правильно, капитану Сипарису он этого не говорил.
— Странный он был мужик, этот Тарас Михайлович, — сказал я. — Может, шпион?
— Сам ты шпион! Пить будешь?
— Сказал — с утра не пью. Шах!
— Ша-ах? — Он задумался, сделал ход и встал. — Тогда я один выпью.
Он запустил руки в тумбочку и погремел там стаканом, слушая, наклонив — голову к плечу, как булькает жидкость; он совершал привычную, видно, манипуляцию на ощупь. Вынул стакан — он был налит до половины. Опрокинул в горло. Ничем не закусил.
Его передернуло, и он вздохнул.
— Ключик хороший, — сказал я и взял с доски ключ.
— Не лапай!
— А что?
— Положи, говорю, на место.
— Чудак вы человек! Это ж слон. Если я буду его бить, так ведь возьму же его в руки. Нелогично получается.
— Ну и пусть нелогично!
— Интересная бородка у него, — не отставал я. — Я когда-то слесарничал и немного разбираюсь в замках.
— На заказ делал, — буркнул Войтин.
— А замок к нему где?
— Где, где!.. Что ты привязался к человеку? Играй и помалкивай!
— Извините, — сказал я. — Я не думал, что вы примете это близко к сердцу. Мне совсем не хочется лезть вам в душу и задавать вопросы, которые вам неприятны.
— Ладно, опять извиняться начал! Может, выпьешь вина?
— Нет.
— А ты ничего парень, — сказал Войтин. — Упрямый. Ты мне даже нравиться начинаешь.
Я промолчал.
— Ты не обижайся, — сказал он. — Дело вот в чем… а-а… все равно не поймешь!
— Если вам неприятно, не рассказывайте, — предупредил я.
— Не в этом дело… — Он со всхлипом втянул ноздрями воздух, помолчал и сказал почти спокойно: — Это ключ от дома, которого нет. У меня до войны здесь, в этом городе, квартира была, понимаешь? Я мебель купил, все мелочи продумал и сделал. Замочек вот врезал на заказ, понимаешь? Ужасно приятно было самому этим заниматься. Гнездышко вил. Мы с женой занавески ходили в магазин выбирать, у нее на это дело большой вкус был. А, черт, где же спички?
Я дал ему прикурить.
— Ну вот… — Он глубоко затянулся. — Ну вот. А двадцать третьего июня я ушел на войну, а она погибла.
— Бомбежка? — осторожно спросил я.
— Она была связной партизанского отряда. Мне потом рассказали. Кто-то выдал ее в сорок четвертом. Ее держали полтора месяца в гестапо. Она ничего не сказала, понимаешь? Понимаешь? Кто бы так смог? Ты бы смог?
— Мой отец был расстрелян в гестапо. Он был разведчиком генштаба, — сказал я.
Это была правда.
— Да? — Он устало потер лоб. — Где?
— В Германии. После войны мы несколько лет ничего не знали о нем.
— Да? — опять сказал он. — Если б я знал, кто ее предал, я бы убил его сам. Этими руками. — Он посмотрел на свои руки. — Сначала поговорил бы с ним, а потом — р-раз! — Он сказал это будничным голосом и трезво, внимательно посмотрел на меня. — Считаешь, пустые слова? А? Я об этом думал много лет по ночам.
“Мне предстоит решить, — подумал я, — способен ли он на убийство вообще…”
— Вы пробовали что-нибудь узнать? — спросил я.
— Пробовал. Писал куда надо.
— Ну и что?
— Ничего! Сами они ни хрена не знают. Да нет, кое-что мы знали.
В течение 1942–1944 годов в лесу базировался партизанский отряд, связанный с подпольем в городе: отсюда осуществлялось руководство партизанской борьбой в районе. В конце 1944 года отряд был окружен на стоянке эсэсовскими частями и полностью уничтожен (уцелело двое разведчиков: они выполняли особое задание, о котором знал только командир отряда; один из них умер в 1958 году от рака легких, второй — Корнеев Владимир Исаевич — проживал теперь в Ленинграде и работал директором школы). Отряд сменил место стоянки за два дня до трагедии.
Одновременно был нанесен точно рассчитанный удар по подполью: гестапо арестовало 38 человек. Чудом спаслась только Евгения Августовна Станкене, которая несколько месяцев скрывалась в сарае у родственников и поседела, ожидая прихода наших войск. Остальные после пыток были казнены.
В самом конце 1944 года среди захваченной документации местного отделения гестапо были найдены датированные расписки на крупную сумму марками — даже не оккупационными, а имперскими. Деньги были выданы спустя три дня после гибели отряда и арестов в городе человеку под псевдонимом “Кентавр”. Был найден также лист из копии донесения начальнику окружного отделения гестапо об “акции по уничтожению отряда и городского подполья”. В этом отрывке фигурировал Кентавр, названный “очень талантливым” агентом. Упоминалось также, что он физически крепок, инициативен, в совершенстве знает как русский, так и немецкий язык; единственная негативная черта — любит выпить и в этом состоянии болтлив. Больше по этому делу ничего обнаружить не удалось: немцы сожгли основную документацию. Были предприняты некоторые шаги по опознанию и розыску Кентавра, но безуспешно.
Все эти документы были подняты в наших архивах в связи с событием, имевшим место шесть дней назад, пятого июня: в этот день в 11.20 в горотдел КГБ пришла Евгения Августовна Станкене — после войны она безвыездно жила здесь, в этом приморском городе, работала санитаркой в больнице и теперь вышла на пенсию — и сообщила, что полчаса назад (около одиннадцати) встретила на улице бывшего бойца отряда, которого неоднократно видела в лесу, приходя на связь; он появился там за несколько месяцев до гибели отряда. Все это время считалось, что тогда уцелело трое. Значит, он четвертый. Она остановила его, назвала себя и спросила: “Тарас, узнаешь?” Видно было, что он никак не ожидал этой встречи и растерялся. “Обознались, гражданочка”, — сказал он и быстро пошел от нее прочь. “Но я — то видела, что он меня узнал”, — писала в своем заявлении Станкене. Через четверть часа было установлено, что Тарас Михайлович Ищенко прописан в этой гостинице. А в 14.10 был обнаружен его труп в проходном дворе, куда не выходит ни одно окно соседних домов, за контейнером для мусора. Вскрытие показало, что Ищенко был убит приблизительно через десять минут после того, как столкнулся на улице с Евгенией Августовной (то есть в одиннадцать с минутами). Корнеев, которому была предъявлена в Ленинграде фотография убитого, опознал бойца отряда, но вспомнить о нем ничего не мог, так как часто уходил на задания и почти не бывал в отряде.
Все это входило в сферу работы нашего отдела, который занимался розыском предателей народа и бывших нацистских преступников. Было решено, что местные товарищи проверят другие возможные версии (убийство могло не иметь ничего общего с событиями более чем двадцатилетней давности) и помогут работнику центра, то есть мне, в разработке основного варианта расследования. Лиц, о которых было известно, что они вступали в контакт с убитым и могли быть так или иначе причастны к случившемуся, было четверо. Среди них был моряк Войтин. В местном отделе его не считали возможным убийцей, хотя и не знали о нем многого. Например, того, что он рассказал мне сегодня. У него было алиби: в день убийства он был с утра в гостинице — на виду. Он выходил только на 20 минут за папиросами — как объяснил он капитану Сипарису — приблизительно в то время, как было совершено убийство. Дежурная по этажу (не Быстрицкая, та была в этот день свободна) случайно заметила время, когда он вышел и когда вернулся. Если б у него была машина, он мог, конечно, доехать до места преступления, провести там несколько минут и вернуться, но это было маловероятно.
— А ее фамилия тоже Войтина была? — спросил я.
— Ты откуда знаешь мою фамилию? — Он вдруг подобрался и взглянул на меня настороженно.
Я засмеялся.
— Вы же сами говорили полчаса назад: потомственный моряк Войтин.
— Верно, — сказал он, уронив голову на грудь. — Совсем дырявая память стала. Нет, она была самостоятельной в этом вопросе. Она была Круглова. Она писала стихи и мечтала, что их напечатают.
Я вспомнил: эта фамилия была в списке казненных.
— Знаешь, я сдаюсь, — сказал он. — Ты силен в шахматы играть.
— Kämpfen habe ich seit meiner Kindheit qelernt*["7]. Еще одну?
— He хочется. Что это ты сказал?
— По-немецки. Вы немецкого не знаете?
Он усмехнулся.
— “Хальт” и “хенде хох”. И еще — “шнапс”.
— Ну ладно, — сказал я. Пойду искать это рыбкино управление. А то у меня денег, как у того Тараса Михайловича, в обрез. Он, кстати, в шахматы играл?
— Даже не знал, как фигуры называются.
Бум! Вот так так. Откуда же тогда в кармане его пиджака оказался черный слон?
— Но небось любил смотреть, как играют? Учился?
— Терпеть не мог. К доске не подходил.
— А третий наш? — Я кивнул на пустующую, аккуратно застеленную койку.
— Ого! Как зверь. Я с ним только и играю. Он, пожалуй, тебя переиграет.
Третьим был работник мебельной промышленности из Саратова: приехал на местную фабрику не то передавать, не то перенимать опыт. Тихий, незаметный человек. Сорок один год. Фамилия его была Пухальский.
— А, черт! — Войтин вскочил и стал суетливо одеваться. — Автобус… А мне надо точно… — бормотал он.
— Едете куда-нибудь?
— Нет! — раздраженно крикнул он, выскакивая за дверь.
Я пожал плечами и стал собирать фигуры.
Может, ему надо было кого-то встретить? Я вспомнил, что среди вещей Тараса Михайловича было найдено переписанное от руки (почерк Ищенко) расписание автобусов, курсирующих по побережью. “Ну и что? — подумал я с сомнением. — Никакой связи тут нет”.
Глава 3. “Привет от Коли”
 Я опять спускался по лестнице, отражаясь в пыльных зеркалах. На первом этаже было сумрачно и прохладно. Пахло вымытым полом. Уборщица, стоя на стремянке, протирала плафоны в люстре. Тетя Маша, или тетя Клава, или тетя Ядвига — обычно их не зовут по имени-отчеству. Они бывают очень наблюдательны, и с ними всегда стоит потолковать. Иной раз они подмечают такую мелочь, “детальку”, которая может обернуться кладом для следствия. Правда, ребята наверняка опросили всех, но, может быть, имело смысл пройтись по второму кругу. Не то чтобы я им не доверял, просто я любил делать все сам.
Я огляделся. К стене была прислонена щетка. Рядом стояла корзина с мусором. Я прошел мимо и опрокинул корзину ногой.
— Ох, извините!
Уборщица посмотрела со стремянки вниз и завелась с пол-оборота.
— Вот дьявол! А глядеть надо, куда ноги ставишь? Убираешь тут, вылизываешь все тут, а они ходют!..
— Не сердитесь, я все подниму.
Я поставил корзину, присел на корточки и стал медленно, одну за другой, собирать бумажки.
— И часто вы так все трете? — спросил я.
— А ты думал?
— Все равно опять пыль насядет, — философски заметил я.
— Верно! — Я попал в больное место, потому что она даже перестала тереть плафоны. — Откуда она берется, проклятая?
— Но и ничто не вечно под луной, — свернул я, — а жизнь человеческая вовсе копейка.
— Это как же? — Она была не прочь поболтать.
— Въехал сегодня в вашу гостиницу — и бац: узнаю, что человека убили.
— Этого-то? Его бог наказал!
— Ну да? — заинтересовался я.
— Ага, — подтвердила она. — Он распущенный был, — сказала она с удовольствием. — Пес такой!
— Да?
— Точно говорю.
— Вот оно что! Это как же — распущенный-то?
— Мыла я это пол, — охотно начала она. — И стояла вот так. — Она чуть не свалилась со стремянки. — Он мимо шел и одет-то прилично, не подумаешь, а ущипнул меня. Я чуть тряпкой его не съездила, ей-богу! Я ему говорю: “Я тебе не какая-нибудь!” А он смеется: “Потише, — говорит, — девушка”. А я ему: “Двадцать лет как не девушка, и не тебе смешки строить, старый хрыч!” Вот как я сказала! А он увидел, что еще кто-то по коридору идет, махнул рукой и боком-боком ушел. Убежал.
“Осторожным человеком был Тарас Михайлович”, — подумал я. И сказал:
— Шалун, значит, был покойничек?
— Ох!
— За что ж его кончили, интересно?
— По-моему, так за бабу!
— Какую бабу?
— Известно какую… Любовь!
— Он же не молоденький был вроде? Года вышли.
— А, все вы паразиты.
Н-да. Клада я, пожалуй, не открыл. Хотя все, что касалось Ищенко, было мне интересно.
— Новая уборщица? — раздался насмешливый мужской голос за моей спиной. — Что-то я вас раньше не замечал?
Моя собеседница сразу принялась за плафоны.
Я скосил глаза и увидел ноги, обутые в войлочные домашние туфли. Как подошел их владелец, я не слышал. Интересно, давно он стоит? Хотя уборщица разговаривала, глядя на меня, и, конечно, заметила бы его.
— Я внештатная, — сказал я без особого энтузиазма и перевел глаза вверх.
Он был невысокого роста, седой, с веселыми глазами. Руки держал в карманах.
Я опять спускался по лестнице, отражаясь в пыльных зеркалах. На первом этаже было сумрачно и прохладно. Пахло вымытым полом. Уборщица, стоя на стремянке, протирала плафоны в люстре. Тетя Маша, или тетя Клава, или тетя Ядвига — обычно их не зовут по имени-отчеству. Они бывают очень наблюдательны, и с ними всегда стоит потолковать. Иной раз они подмечают такую мелочь, “детальку”, которая может обернуться кладом для следствия. Правда, ребята наверняка опросили всех, но, может быть, имело смысл пройтись по второму кругу. Не то чтобы я им не доверял, просто я любил делать все сам.
Я огляделся. К стене была прислонена щетка. Рядом стояла корзина с мусором. Я прошел мимо и опрокинул корзину ногой.
— Ох, извините!
Уборщица посмотрела со стремянки вниз и завелась с пол-оборота.
— Вот дьявол! А глядеть надо, куда ноги ставишь? Убираешь тут, вылизываешь все тут, а они ходют!..
— Не сердитесь, я все подниму.
Я поставил корзину, присел на корточки и стал медленно, одну за другой, собирать бумажки.
— И часто вы так все трете? — спросил я.
— А ты думал?
— Все равно опять пыль насядет, — философски заметил я.
— Верно! — Я попал в больное место, потому что она даже перестала тереть плафоны. — Откуда она берется, проклятая?
— Но и ничто не вечно под луной, — свернул я, — а жизнь человеческая вовсе копейка.
— Это как же? — Она была не прочь поболтать.
— Въехал сегодня в вашу гостиницу — и бац: узнаю, что человека убили.
— Этого-то? Его бог наказал!
— Ну да? — заинтересовался я.
— Ага, — подтвердила она. — Он распущенный был, — сказала она с удовольствием. — Пес такой!
— Да?
— Точно говорю.
— Вот оно что! Это как же — распущенный-то?
— Мыла я это пол, — охотно начала она. — И стояла вот так. — Она чуть не свалилась со стремянки. — Он мимо шел и одет-то прилично, не подумаешь, а ущипнул меня. Я чуть тряпкой его не съездила, ей-богу! Я ему говорю: “Я тебе не какая-нибудь!” А он смеется: “Потише, — говорит, — девушка”. А я ему: “Двадцать лет как не девушка, и не тебе смешки строить, старый хрыч!” Вот как я сказала! А он увидел, что еще кто-то по коридору идет, махнул рукой и боком-боком ушел. Убежал.
“Осторожным человеком был Тарас Михайлович”, — подумал я. И сказал:
— Шалун, значит, был покойничек?
— Ох!
— За что ж его кончили, интересно?
— По-моему, так за бабу!
— Какую бабу?
— Известно какую… Любовь!
— Он же не молоденький был вроде? Года вышли.
— А, все вы паразиты.
Н-да. Клада я, пожалуй, не открыл. Хотя все, что касалось Ищенко, было мне интересно.
— Новая уборщица? — раздался насмешливый мужской голос за моей спиной. — Что-то я вас раньше не замечал?
Моя собеседница сразу принялась за плафоны.
Я скосил глаза и увидел ноги, обутые в войлочные домашние туфли. Как подошел их владелец, я не слышал. Интересно, давно он стоит? Хотя уборщица разговаривала, глядя на меня, и, конечно, заметила бы его.
— Я внештатная, — сказал я без особого энтузиазма и перевел глаза вверх.
Он был невысокого роста, седой, с веселыми глазами. Руки держал в карманах.
 — Ах так! Могу оформить.
— Айвазовского оформите.
— Какого Айвазовского? — не понял он.
Я кивнул головой на копию “Девятого вала”.
— Ивана Константиновича.
— Зачем смеяться? — вроде как обиделся он. — Это большой художник был.
— Художник-то большой, но ведь стыдно такую плохую копию на стену вешать.
Он внимательно поглядел на картину. Отошел и еще поглядел. Но, кажется, ни к какому решению не пришел и задрал голову.
— Почище три, Перфилова, а то они какие-то тусклые.
— Я уж стараюсь, Иван Сергеевич, — ответила уборщица.
Это был директор. Гостиница по летнему времени была забита, а капитан Сипарис не разрешил селить кого-нибудь на место убитого. Сегодня он снял запрет, и сразу вслед за этим директору позвонили из горкома и предложили устроить меня. При случае я мог бы рассказать историю, как я, московский студент, пришел в горком комсомола — и попросил помочь с жильем, — работник горкома был предупрежден. Мы решили в комитете, что так я сразу и естественно попаду в окружение людей, которые нас интересуют. Был и еще один довод за гостиницу…
— Сегодня прибыл? — спросил меня директор.
— Да.
— В триста пятом, значит, остановился?
— Ага.
Он чуть заметно прищурил глаз.
— Хорошо мусор собираешь. Со старанием.
— Служу трудовому народу, — сказал я. — Так точно.
Он стоял, засунув руки в карманы, и глядел, как уборщица исполняет свою работу, не упуская и меня при этом из поля зрения. Любопытство, конечно, похвальная черта, но… Я искоса взглянул на часы, обругал его про себя и разогнулся.
— Все собрал. Порядок, — сказал я уборщице. — Всего хорошего, — повернулся я к директору.
— А копия с картины Айвазовского “Девятый вал” — все-гаки неплохая копия, — сказал он мне вдогонку.
Я сделал вид, что не слышу.
После темного вестибюля солнце, ослепило меня, я даже прикрыл глаза. Стало еще жарче. Асфальт пружинил под ногами, как поролоновый ковер. Я завернул за угол гостиницы “Пордус”, немного подождал и вошел в телефонную будку. От стенок несло раскаленным металлом. “Привет от Коли”, — сказал я, набрав номер, который получил в комитете. “Седьмой слушает, — Ответили мне. — С прибытием вас”. — “Спасибо. Все готово?” — “Он уже здесь”. — “Хорошо. Еду”, — сказал я.
— Ах так! Могу оформить.
— Айвазовского оформите.
— Какого Айвазовского? — не понял он.
Я кивнул головой на копию “Девятого вала”.
— Ивана Константиновича.
— Зачем смеяться? — вроде как обиделся он. — Это большой художник был.
— Художник-то большой, но ведь стыдно такую плохую копию на стену вешать.
Он внимательно поглядел на картину. Отошел и еще поглядел. Но, кажется, ни к какому решению не пришел и задрал голову.
— Почище три, Перфилова, а то они какие-то тусклые.
— Я уж стараюсь, Иван Сергеевич, — ответила уборщица.
Это был директор. Гостиница по летнему времени была забита, а капитан Сипарис не разрешил селить кого-нибудь на место убитого. Сегодня он снял запрет, и сразу вслед за этим директору позвонили из горкома и предложили устроить меня. При случае я мог бы рассказать историю, как я, московский студент, пришел в горком комсомола — и попросил помочь с жильем, — работник горкома был предупрежден. Мы решили в комитете, что так я сразу и естественно попаду в окружение людей, которые нас интересуют. Был и еще один довод за гостиницу…
— Сегодня прибыл? — спросил меня директор.
— Да.
— В триста пятом, значит, остановился?
— Ага.
Он чуть заметно прищурил глаз.
— Хорошо мусор собираешь. Со старанием.
— Служу трудовому народу, — сказал я. — Так точно.
Он стоял, засунув руки в карманы, и глядел, как уборщица исполняет свою работу, не упуская и меня при этом из поля зрения. Любопытство, конечно, похвальная черта, но… Я искоса взглянул на часы, обругал его про себя и разогнулся.
— Все собрал. Порядок, — сказал я уборщице. — Всего хорошего, — повернулся я к директору.
— А копия с картины Айвазовского “Девятый вал” — все-гаки неплохая копия, — сказал он мне вдогонку.
Я сделал вид, что не слышу.
После темного вестибюля солнце, ослепило меня, я даже прикрыл глаза. Стало еще жарче. Асфальт пружинил под ногами, как поролоновый ковер. Я завернул за угол гостиницы “Пордус”, немного подождал и вошел в телефонную будку. От стенок несло раскаленным металлом. “Привет от Коли”, — сказал я, набрав номер, который получил в комитете. “Седьмой слушает, — Ответили мне. — С прибытием вас”. — “Спасибо. Все готово?” — “Он уже здесь”. — “Хорошо. Еду”, — сказал я.
Глава 4. Допрос в соседней комнате

Через три остановки, на четвертой, я слез с трамвая и пошел назад. Сразу за подъездом, около которого висела табличка “Штаб народной дружины” и еще несколько других табличек, я свернул под арку. Возле черного хода стоял человек в модной банлоновой рубашке и курил. Увидев меня, бросил сигарету, машинально вытянулся и, спохватившись, виновато улыбнулся одними глазами. Он молча вошел в парадное, я — за ним. На втором этаже он открыл английский замок своим ключом и пропустил меня вперед. — Младший лейтенант Красухин, — представился он, когда мы вошли в помещение. Я назвал себя. Потом поздоровался с Виленкиным, который встал из кресла при моем появлении (он прилетел еще вчера), и огляделся. В комнате с полукруглыми сводами — они напомнили мне театральные декорации постановки из купеческой жизни — было две двери: одна та, через которую мы вошли, и вторая — обитая дерматином. — Они там? — Я мотнул головой на вторую дверь. — Да. — Допрос будет вести капитан Сипарис? — Как договорились. Капитан Сипарис был начальником городского уголовного розыска и вел официальное расследование: важно было создать впечатление в городе, будто расследуется просто убийство. — Первый допрос? — спросил я. — В день убийства его вызывал помощник Сипариса. Несколько общих вопросов для проформы. — Если можно, хорошо бы начать сразу, а то время поджимает. Младший лейтенант поднял трубку и сказал в нее: — Порядок, товарищ Сипарис. Все на месте. Потом передвинул рычажок в белом пластмассовом трансляционном аппарате, стоявшем на столе. Мы услышали: Капитан. Попросите Буша. (Звук открываемой двери.) Буш. Здравствуйте. Если не ошибаюсь, капитан Сипарис, да? Так указано в повестке, вот — на второй строчке. Капитан. Да. Буш. Ага, ага. Капитан. Садитесь, Генрих Осипович. Извините, что вам пришлось подождать. Буш. Да ничего, ничего, я же понимаю. У вас работа такая: одно беспокойство. У меня муж двоюродной сестры тоже в милиции работал, сейчас он полковник на пенсии, в Риге, у него такие связи, весь город его знает. Капитан. Мы вас вызвали не за этим… Буш. Все понимаю, все, это я так, к слову. Вы ведь знаете, жена Тараса Михайловича вся испереживалась, бедняжка, она ведь теперь на моих руках и, как приехала, плачет, плачет не переставая. (Я прикрыл глаза и представил, как Буш это говорит: коренастый, с толстыми веками, похожий на маленького бегемота). Капитан. Как вы познакомились с Тарасом Михайловичем Ищенко? Буш. В лодке, товарищ капитан. Капитан. В лодке? Буш. Ага, я в Евпатории отдыхал, по-дикому, сидел на пляже — там есть два, может, знаете: один в черте города, близко, а другой — на трамвае надо ехать. Вы бывали в Евпатории? Капитан. Нет. Буш. Ах как жалко! Обязательно поезжайте, там чудный песок. Везде ведь галька, камни, а там входишь в воду с настоящим удовольствием, как у нас в Прибалтике, только там сразу глубоко. Капитан. Вы начали про лодку. Буш. Про лодку? Ах да, про лодку! (Младший лейтенант покрутил головой и что-то сказал. — Что? — переспросил я, убавляя звук. — Ваньку валяет. Хитрый мужик, — повторил он.) Буш. Так вот, сидел я на песке, то есть, конечно, не на самом песке, а на подстилке. Подъехала лодка, такая большая, знаете, шлюпка даже, а не лодка, и мужчина из организации спасения на водах, как говорили раньше — он сидел на веслах, — предложил покататься по морю. Двугривенный с носа, если по-новому. Нас набилось человек восемь. В основном пожилые. Среди прочих был там Тарас Михайлович. Мы приглянулись друг другу… Капитан. А потом? Буш. Как обычно на отдыхе: вечером расписали пулечку, выпили сколько положено. Капитан. Ищенко один отдыхал? Буш. Один, один! Его супруга тоже одна отдыхала. У них была теория: отдыхай от работы и друг от дружки. Капитан. Отношения у них были ровные? Буш. Как обычно после пятидесяти, когда детей нет. Она, правда, моложе его была. Намного моложе. Капитан. Она сейчас ведь у вас остановилась? Буш. Да, все-таки одна в чужом городе… Жила, ни о чем таком не думала, вдруг, как гром в ясном небе, телеграмма: “Ваш муж убит, срочно вылетайте…” Сами понимаете. Капитан. Телеграмму давали вы? Буш. Я, я. Капитан. До этого вы не были с ней знакомы? Буш. Мимолетно. Она заезжала за супругом в Евпаторию, пробыла три дня. Красавица!.. Мы чудесно провели время втроем, купались, сидели в ресторанчиках. Капитан. Она что же, отдыхала неподалеку? Буш. В шестидесяти километрах. Забыл, как местечко называется… Ей все равно нужно было в Евпаторию, чтобы попасть на железную дорогу. Капитан. Странные у них были взаимоотношения. Буш. Не нахожу-с. Капитан. Так, значит, выпили после пулечки… Ищенко любил выпить? Буш. Очень даже грешен был по этой части, весьма и весьма уважал Бахуса, был такой бог, его в гимназиях проходили. (Я придвинул к себе лист чистой бумаги из стопки, лежавшей на столе, и быстро написал: “Проверить у жены насчет выпивки. Войтин утверждает обратное”.) Капитан. Вы тоже, наверно, не отставали, простите? Буш. По мере сил моих и возможностей. Капитан. Когда состоялось ваше знакомство в Евпатории? Буш. Сейчас, сейчас. Значит, та-ак… В шестьдесят третьем… Капитан. С тех пор вы не виделись? Буш. Как не виделись? Виделись Мы имели с ним переписку, потом встретились опять на юге в бархатном сезоне. Потом он не смог приехать, а в этом вот году решил, на свою беду, искупаться в Балтийском море нашем. И вот… Капитан. Скажите, он бывал здесь раньше, в этом городе? Он вам не говорил? Буш. Он говорил, что до войны проживал в этой местности. Он очень обрадовался, когда узнал, что я из этого города. Он сразу спросил, когда я здесь поселился. Я говорю: после войны. Он говорит: “Ну, значит, ты меня сменил, я, — говорит, — до войны проживал одно время”. Спрашивал, как улицы теперь называются, что переменилось, очень интересовался. Капитан. Знакомых общих не искал? Ни про кого не расспрашивал? Буш. Чего не помню, того не помню. Капитан. Такие мелочи, как то, что с вас двадцать копеек взяли за лодку в шестьдесят третьем году, вы помните, а это забыли? Обидно. Это ведь очень важно для следствия. (Я записал: “Спросить у жены: был ли здесь Ищенко после войны или приехал в первый раз?” Ищенко женился в 1947 году вторично, до этого был женат и развелся. Первая жена недавно умерла, проживала в Новосибирске. Сам Ищенко до последнего времени жил там же. “У вдовы узнать, — подумал я, — не у жены”. И переправил в записке). Буш. Забыл-с. Капитан. Здесь он с кем-нибудь встречался? Буш. Да, да… Вы знаете, он мне про какого-то Семена говорил, я, правда, слушал невнимательно. Не то он собирался с ним встретиться, не то встречался. Капитан. Семен? А вы не помните, где этот Семен работает или вообще что-нибудь про него? Буш. Ничего не знаю. Капитан. Постарайтесь припомнить. Буш. Н-нет… Он ничего о нем не говорил. Капитан. Что вы думаете об убийстве? Враги могли быть у Ищенко? Буш. Ума не приложу, ведь чистейшей души был человек, я это не потому, что о покойниках плохо не говорят, нет. Просто он именно такой был: душевный, чуткий. Капитан. В чем же это проявлялось? Буш. Ну, трудно сказать так. Например, здесь в гостинице девушка одна работает, Рая. Он мне мельком говорил: у нее неприятности какие-то, жалел ее. Как-то я зашел за ним в гостиницу, она на этаже дежурит, а он стоит возле ее столика и так ласково с ней говорит! Капитан. Не слышали о чем? Буш. Когда я подошел, они замолчали. Капитан. Не хотели, чтобы их кто-то слышал, а? Буш. У меня создалось такое впечатление. Капитан. А что вы все-таки сами думаете об убийстве? Буш. Я очень много думал, но ни к какому выводу не пришел. Может быть, его хотели ограбить? Капитан. У него были при себе крупные суммы денег? Буш. Он мне не говорил. Но это ж я так, в порядке предположения. Капитан. Он долго собирался здесь оставаться? Буш. Не знаю. Капитан. Странно. А мне показалось, что вы друзья. Он мог бы быть с вами более откровенным. Буш. Ну, наверное, весь отпуск. Капитан. Вы много времени проводили вместе? Буш. Почитай, каждый день виделись. И на пляж й после работы приезжал к нему, и домой он ко мне приходил. Я ему предлагал, кстати, у меня остановиться, но он не захотел. Капитан. Дел у него здесь никаких не было? Буш. Не знаю. Капитан. Вечером накануне убийства вы с ним виделись? Буш. Да. Капитан. Где? Буш. В ресторане “Маяк”. Капитан. Как он выглядел? Ничем угнетен не был? Буш. Как будто нет. Может, молчал только много. Так-то он веселый человек был, пошутить любил. Капитан. Вы долго сидели? Буш. До закрытия. Капитан. Кто платил? Буш. Пополам. Капитан. Домой вы шли вместе? Буш. Он проводил меня до дому, немного посидел у меня. Я его уговаривал переночевать, но он пошел в гостиницу. Капитан. Он был здесь пять дней. Вы каждый вечер проводили вместе? Буш. Да. Капитан. Днем вы встречались? Буш. Нет, я же работаю. Хотя один раз мы договорились, что он зайдет ко мне на фабрику, но он не зашел. Капитан. В котором часу он должен был зайти? Буш. В полдвенадцатого. И, кстати, я вспомнил: тем вечером мы не виделись. Я заглянул в гостиницу, его не было. Капитан. Он был обязательный человек? Буш (слегка удивленно). Д-да. Капитан. Как же он объяснил все на следующий день? Буш. А-а… Он сказал, что днем купался, а вечером ходил гулять по побережью, зашел далеко и не хотел торопиться в город: сидел смотрел закат. Капитан. Он любил природу? Буш. Раньше я не замечал за ним. Капитан. Когда произошло это? Буш. Что “это”? Капитан. Извините. Когда вы должны были встретиться и не встретились? Какого числа? Буш. Третьего как раз. Капитан. Почему как раз? Буш. Ну… накануне того вечера, что мы сидели в “Маяке”. Капитан. Так. И последний вопрос — вы сами понимаете: идет следствие, и мы обязаны все проверить, — где вы были утром во время убийства? Буш. Понимаю, понимаю. Простите, а во сколько его… убили? По времени? (Скрипнул стул.) Капитан. Приблизительно в одиннадцать часов. Буш. С утра и до часу был дома: отгул взял. Можете проверить, соседи по дому номер десять видели меня в садике. Капитан. Что ж вы отгул взяли в середине недели? Лучше приплюсовали б к выходному. Буш. Дела накопились дома. Капитан. Какие, если не секрет? Буш. Да всякие, всякие. Повозиться вот с цветами в садике хотел. И аккурат в это утро протек на меня сосед сверху. Хорошо, я дома был: целый потоп. Капитан. С Ищенко вы договорились в этот день встретиться? Буш. Нет. То есть да. Вечером. Но не удалось уже свидеться, н-да. Капитан. Спасибо. (Шуршание бумаги.) Прочтите, пожалуйста, протокол и распишитесь. Да, сейчас уже три часа, мы поставим в повестке, что задержали вас до конца рабочего дня. Чего ж вам сейчас на работу идти… Буш. Вот это хорошо бы!
— Вы, наверное, хотите посмотреть, как он одет? — спросил младший лейтенант. — Да и вообще на фотографии люди часто бывают непохожи на себя.
 — А можно? — спросил я.
— Конечно.
Младший лейтенант подошел к стене и сдвинул в сторону пасторальный пейзажик в темной раме.
— Нас оттуда не видно? — спросил я.
— Нет.
Я взглянул в стеклянное окошечко.
Буш был именно таким, как я его себе представлял: бегемотик. Он внимательно читал протокол, слегка шевеля губами от напряжения и помаргивая. Он был в старых, лоснившихся на коленях брюках и застиранной рубашке (по вечерам он выглядел более импозантно, его сфотографировали для нас в ресторане “Маяк”, где он был завсегдатаем), — он приехал сюда прямо с работы, не заходя домой. Он работал сменным инженером на той самой мебельной фабрике, куда прибыл в командировку из Саратова мой второй сосед по номеру — Пухальский.
Напротив Буша сидел капитан Сипарис, остроносый, чернявый. Он поглядывал в окно на улицу и барабанил пальцами по стеклу на столе. Трансляционный аппарат был выключен, и звук не доходил до нас сквозь толстую стену.
— Вдова Ищенко когда уезжает? — спросил я, повернувшись к младшему лейтенанту.
— Она пока не решила.
— Уточните у нее через капитана Сипариса некоторые детали. — Я протянул записку.
— Слушаюсь. Пойдемте вниз? Он уже, наверное, выходит.
— Завтра в десять на бульваре, как договаривались, — сказал я Виленкину.
— Понятно, товарищ старший лейтенант, — ответил он.
Он остался в комнате, а мы спустились вниз. Прямо у дверей стоял крытый “газик”. Я залез вглубь на заднее сиденье. Младший лейтенант сел рядом с шофером.
— Поехали, — сказал он.
Шофер вырулил под арку — и на улицу.
— Стоп, — сказал младший лейтенант. — Вот он.
Из подъезда с табличкой “Штаб народной дружины” вышел Генрих Осипович Буш. Он не торопясь закурил и пошел от нас по тротуару. Когда он скрылся за поворотом, мы медленно поехали за ним.
— Стоит на трамвайной остановке. Если сядет на “тройку”, значит поехал домой. Ага! Двигай напрямик, Миша, — угол Чернышевского и Маркса.
— А можно? — спросил я.
— Конечно.
Младший лейтенант подошел к стене и сдвинул в сторону пасторальный пейзажик в темной раме.
— Нас оттуда не видно? — спросил я.
— Нет.
Я взглянул в стеклянное окошечко.
Буш был именно таким, как я его себе представлял: бегемотик. Он внимательно читал протокол, слегка шевеля губами от напряжения и помаргивая. Он был в старых, лоснившихся на коленях брюках и застиранной рубашке (по вечерам он выглядел более импозантно, его сфотографировали для нас в ресторане “Маяк”, где он был завсегдатаем), — он приехал сюда прямо с работы, не заходя домой. Он работал сменным инженером на той самой мебельной фабрике, куда прибыл в командировку из Саратова мой второй сосед по номеру — Пухальский.
Напротив Буша сидел капитан Сипарис, остроносый, чернявый. Он поглядывал в окно на улицу и барабанил пальцами по стеклу на столе. Трансляционный аппарат был выключен, и звук не доходил до нас сквозь толстую стену.
— Вдова Ищенко когда уезжает? — спросил я, повернувшись к младшему лейтенанту.
— Она пока не решила.
— Уточните у нее через капитана Сипариса некоторые детали. — Я протянул записку.
— Слушаюсь. Пойдемте вниз? Он уже, наверное, выходит.
— Завтра в десять на бульваре, как договаривались, — сказал я Виленкину.
— Понятно, товарищ старший лейтенант, — ответил он.
Он остался в комнате, а мы спустились вниз. Прямо у дверей стоял крытый “газик”. Я залез вглубь на заднее сиденье. Младший лейтенант сел рядом с шофером.
— Поехали, — сказал он.
Шофер вырулил под арку — и на улицу.
— Стоп, — сказал младший лейтенант. — Вот он.
Из подъезда с табличкой “Штаб народной дружины” вышел Генрих Осипович Буш. Он не торопясь закурил и пошел от нас по тротуару. Когда он скрылся за поворотом, мы медленно поехали за ним.
— Стоит на трамвайной остановке. Если сядет на “тройку”, значит поехал домой. Ага! Двигай напрямик, Миша, — угол Чернышевского и Маркса.
Глава 5. Хитрит?
 Мы остановились на тихой зеленой улице. Я вышел из машины и отошел под деревья: стал изучать объявление домкома о наборе в кружок гитаристов. Оно было написано от руки и криво висело на одной кнопке (слово “гитара” — через “е”). “Газик” укатил.
Генрих Осипович сошел с трамвая и стал пережидать, пока он отъедет. Я подошел ближе. Генрих Осипович начал пересекать улицу. Я следовал сзади в двух шагах. У меня был отработан план знакомства, но случайности играют не последнюю роль и в нашем деле. Из-за поворота на большой скорости выскочила “Волга”. Я успел толкнуть Буша в спину. Потом прыгнул сам и опрокинул его. Некоторое время мы барахтались на тротуаре, составляя, по-видимому, живописную группу — что-нибудь вроде Лаокоона и его сыновей, борющихся со змеем.
Когда Буш вскочил, “Волги” уже не было в помине. Буш потряс воздетыми к небу руками.
— Лихач чертов! Идиот проклятый, а туда же, за баранку!
Он был слегка бледен.
— Номер успели заметить?
— Нет! В том-то и дело, что нет! Но вам я по край жизни… Спасибо! Вставайте. — Он протянул мне руку.
— Нога, — сказал я и коротко застонал.
Мне повезло с этой “Волгой”. Я обязательно хотел попасть к нему в дом. Я сидел на земле, кряхтел и растирал колено. Потом попробовал встать, но откинулся назад.
— Больно, ч-черт!
— Ну-ка! — Генрих Осипович присел на корточки, засучил мне штанину и потрогал ушибленное место.
Я снова застонал.
— Надо бы в больницу малого, — сказал кто-то.
Вокруг уже стояло несколько человек, собравшихся поглазеть на происшествие. Франт в банлоновой рубашке — он подбежал первым — спросил, вопросительно глядя на Буша, как на главного:
— Может, машину пригнать? Такси?
Буш взял меня под мышки и поставил на ноги. Это получилось у него легко, на вид он был гораздо слабее.
— Можете идти? — спросил он, поддерживая меня.
— Ох! — сказал я и сделал шаг. — Вроде того!
— Опирайтесь на меня.
Генрих Осипович недовольно оглядел собравшихся.
— Ну что? Интересно, как человек упал и ногу повредил? Очень интересно? — Он по очереди посмотрел на каждого — люди стали расходиться. Буш был гораздо инициативнее и собраннее, чем полчаса назад на допросе. Там он поддакивал, тянул слова и вообще играл в Иванушку-дурачка. Хитрил? С какой целью? Правда, когда людей вызывают в милицию, они почти всегда стараются казаться не тем, что есть на самом деле… “Психология-с”, — сказал бы сам Буш.
Он обратился ко мне:
— Я живу совсем рядом. Вот здесь. Сейчас сделаем холодный компресс на ногу. И вообще вы посидите у меня.
“Повезло”, — еще раз подумал я.
Мы стояли у невысокого, по пояс, каменного заборчика. Генрих Осипович сунул руку между прутьями чугунной калитки (“Как на даче”, — подумал я) и отпер ее. Входя в калитку, я скосил глаза на номерной знак — там стояло: ул. Чернышевского, № 8.
Мы пошли по дорожке, посыпанной песком. Несколько тополей, клумбы, кусты сирени. В глубине сквозного садика стоял двухэтажный коттедж с покатой крышей из черепицы, с башенкой и флюгером. По фасаду был пущен вьюн с розовыми “граммофончиками”.
— Симпатичный дом какой, — похвалил я. — Много человек живет?
— Внизу я, — охотно ответил Буш, — а наверху семья из двух: он и она.
— Молодежь?
Мы остановились на тихой зеленой улице. Я вышел из машины и отошел под деревья: стал изучать объявление домкома о наборе в кружок гитаристов. Оно было написано от руки и криво висело на одной кнопке (слово “гитара” — через “е”). “Газик” укатил.
Генрих Осипович сошел с трамвая и стал пережидать, пока он отъедет. Я подошел ближе. Генрих Осипович начал пересекать улицу. Я следовал сзади в двух шагах. У меня был отработан план знакомства, но случайности играют не последнюю роль и в нашем деле. Из-за поворота на большой скорости выскочила “Волга”. Я успел толкнуть Буша в спину. Потом прыгнул сам и опрокинул его. Некоторое время мы барахтались на тротуаре, составляя, по-видимому, живописную группу — что-нибудь вроде Лаокоона и его сыновей, борющихся со змеем.
Когда Буш вскочил, “Волги” уже не было в помине. Буш потряс воздетыми к небу руками.
— Лихач чертов! Идиот проклятый, а туда же, за баранку!
Он был слегка бледен.
— Номер успели заметить?
— Нет! В том-то и дело, что нет! Но вам я по край жизни… Спасибо! Вставайте. — Он протянул мне руку.
— Нога, — сказал я и коротко застонал.
Мне повезло с этой “Волгой”. Я обязательно хотел попасть к нему в дом. Я сидел на земле, кряхтел и растирал колено. Потом попробовал встать, но откинулся назад.
— Больно, ч-черт!
— Ну-ка! — Генрих Осипович присел на корточки, засучил мне штанину и потрогал ушибленное место.
Я снова застонал.
— Надо бы в больницу малого, — сказал кто-то.
Вокруг уже стояло несколько человек, собравшихся поглазеть на происшествие. Франт в банлоновой рубашке — он подбежал первым — спросил, вопросительно глядя на Буша, как на главного:
— Может, машину пригнать? Такси?
Буш взял меня под мышки и поставил на ноги. Это получилось у него легко, на вид он был гораздо слабее.
— Можете идти? — спросил он, поддерживая меня.
— Ох! — сказал я и сделал шаг. — Вроде того!
— Опирайтесь на меня.
Генрих Осипович недовольно оглядел собравшихся.
— Ну что? Интересно, как человек упал и ногу повредил? Очень интересно? — Он по очереди посмотрел на каждого — люди стали расходиться. Буш был гораздо инициативнее и собраннее, чем полчаса назад на допросе. Там он поддакивал, тянул слова и вообще играл в Иванушку-дурачка. Хитрил? С какой целью? Правда, когда людей вызывают в милицию, они почти всегда стараются казаться не тем, что есть на самом деле… “Психология-с”, — сказал бы сам Буш.
Он обратился ко мне:
— Я живу совсем рядом. Вот здесь. Сейчас сделаем холодный компресс на ногу. И вообще вы посидите у меня.
“Повезло”, — еще раз подумал я.
Мы стояли у невысокого, по пояс, каменного заборчика. Генрих Осипович сунул руку между прутьями чугунной калитки (“Как на даче”, — подумал я) и отпер ее. Входя в калитку, я скосил глаза на номерной знак — там стояло: ул. Чернышевского, № 8.
Мы пошли по дорожке, посыпанной песком. Несколько тополей, клумбы, кусты сирени. В глубине сквозного садика стоял двухэтажный коттедж с покатой крышей из черепицы, с башенкой и флюгером. По фасаду был пущен вьюн с розовыми “граммофончиками”.
— Симпатичный дом какой, — похвалил я. — Много человек живет?
— Внизу я, — охотно ответил Буш, — а наверху семья из двух: он и она.
— Молодежь?
 — Нет, моего возраста.
— Значит, танцы ночью напролет не устраивают?
— Ни-ни.
Я старательно ковылял, наваливаясь на его плечо.
— Ох ты! — сказал я. — И клумба кирпичом обложена. Видно, заботитесь?
— Это я, — признался Генрих Осипович. — Люблю покопаться в земле.
Пятого числа Буш провел все утро здесь, на виду у соседей — пенсионеров из дома № 10: это было проверено до его заявления. Никаких причин подозревать его не было. Он попал в поле нашего зрения потому, что был единственным хорошим знакомым Ищенко в этом городе. Парторганизация мебельной фабрики аттестовала его как пьяницу и бабника, что было нехорошо само по себе, но не являлось криминалом в данном случае.
Мы вошли в дом. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами.
— Не туда, не туда, — сказал Буш. — Там сосед живет.
В прихожей на подзеркальнике (в зеркале отразились я и Буш, покрасневший от жары и напряжения) лежала женская сумочка. Настоящая лаковая, определил я. О такой сумочке мечтала моя жена, но найти ее можно было только в комиссионном магазине, и то с большим трудом.
Буш усадил меня на стул.
— Ох, жарища! — простонал он, стягивая через голову рубашку с темными пятнами под мышками. — Сразу в ванную: ногу — под холодную струю. И душ примите.
— Знаете, мне неудобно как-то. Я сейчас пойду. Вот только нога пройдет, и пойду, — нетвердо сказал я.
— Слушайте! — слегка торжественно заявил Генрих Осипович. — Я человек обязательный. Вы меня из-под машины вытащили, и я у вас как бы взаймы взял. Я должен оказать вам услугу в свою очередь. Вы приезжий?
— Да.
— Может быть, вам нужно что-нибудь устроить? Не стесняйтесь. Где вы остановились?
— Видите ли… — протянул я.
В этот момент открылась дверь, ведшая, по-видимому, в комнаты. В прихожую кто-то вышел. Меня не было видно: я сидел на стуле за массивным платяным шкафом.
— Геночка! — произнес женский голос. (“Интересная интерпретация имени Генрих”, — успел подумать я). — Я не слышала, как вы пришли. Встреча прошла на уровне? Чем интересовался наш детектив Сипарис? Он был так любезен со мной, когда я прилетела…
Буш давно уже кашлял.
— Ой, вы не один?
Теперь она, наверное, заметила мою вытянутую ногу.
Я выглянул из-за шкафа и привстал.
— Извините, я не одета, — кокетливо улыбаясь и не трогаясь с места, сказала она.
Она была в халатике до коленей, расшитом райскими птицами. Колени крупные, красивые. Рослая. Аккуратно подведенные глаза. На вид лет тридцать (по паспорту — сорок один); только на лбу две четкие, как нарисованные, морщины. Ларионов, разглядывая ее карточку (фото нашли среди вещей Ищенко и копию сразу послали нам в комитет), даже вздохнул: “Наградил же бог, не обидел!” Было непохоже, чтобы она плакала в три ручья, как расписывал Буш. Он лгал. Значит ли это, что все остальное, сообщенное им, ложь? Но зачем Бушу вилять, если он ни в чем не замешан? Значит, замешан? А может, просто боится, что его могут заподозрить — знакомый, пили вместе, — и все это сверхосторожность? На всякий пожарный случай? А может, он выгораживает ее? “Ох и работенка же у нас, — подумал я. — Двухсменная, вредная и так далее. Почему Буш так заинтересовался временем убийства? Или он только делал вид?.. Как всегда, сто тысяч разных “как” и “почему”.
А Генрих Осипович между тем расцвел.
— Этот молодой человек только что спас мне жизнь, — сообщил он ей. — Вытолкнул из-под машины в последнюю минуту… Ах, я ведь даже не спросил, как вас зовут!
— Борис.
— А меня Генрих Осипович. А это Клавдия Николаевна.
— Можно просто Кла-ава, — почти пропела она. — Я сейчас переоденусь и расцелую вас за спасение нашего дедушки.
Генрих Осипович поморщился. “Эге”, — подумал я.
— Марш в ванную. Боря! Вам сейчас же нужно поставить ногу в холодную воду. Он ушибся, — пояснил он Клавдии Николаевне, не глядя на нее.
— Какая красивая у вас жена! — как бы мимоходом заметил я.
— М-м, — сказал Буш, как будто у него заболели зубы.
— Вы слегка ошиблись, — спокойно ответила Ищенко. — Мы не муж и жена. Генрих, я сейчас приготовлю вам что-нибудь, вы наверняка оба голодные.
— Ради бога, не беспокойтесь! — воскликнул я.
— Ну-ну. В вашем возрасте надо любить кушать, если уж речь зашла о возрасте. — И, отечески обняв за плечи, Буш повел меня в ванную. — Это вдова моего друга, — зашептал он в коридоре. — Прелестная женщина, с характером. Овдовела несколько дней назад, а держится по-мужски: на вид, как птичка, веселая, ничего нельзя по ней сказать.
“Похоже, что не только на вид”, — подумал я, заходя в ванную комнату.
Генрих Осипович положил поперек ванны доску. Я покорно снял брюки и сел на нее, спустив ноги в ванну. Генрих Осипович открутил кран. Тут я поднял глаза и увидел синеватое пятно в половину потолка.
— Ого! — сказал я. — Что тут у вас было? Генрих Осипович поморгал и чуть заметно нахмурился.
— Сосед наверху наполнял ванну и забылся, и вот результат.
— Но вы, кажется, поверху уже белили?
— Нашел тут мастеров. Халтурщики. Ободрали как липку, а пятно снова проступило.
— Верно, сразу красили, — определил я. — Потолок просохнуть не успел, а они не прокупоросили.
— Сегодня утром еще подбеливали.
— А когда это случилось? В смысле — протекло?
Он куснул губу и посмотрел на меня.
— Шесть дней назад, — сказал он. — Я в садике клумбу полол, потом зашел в дом, гляжу: настоящее наводнение.
— Вы знаете, помогает холодная вода! Прямо-таки здорово помогает, — сказал я, массируя колено.
“Хитрил или не хитрил?” — опять подумал я.
— Нет, моего возраста.
— Значит, танцы ночью напролет не устраивают?
— Ни-ни.
Я старательно ковылял, наваливаясь на его плечо.
— Ох ты! — сказал я. — И клумба кирпичом обложена. Видно, заботитесь?
— Это я, — признался Генрих Осипович. — Люблю покопаться в земле.
Пятого числа Буш провел все утро здесь, на виду у соседей — пенсионеров из дома № 10: это было проверено до его заявления. Никаких причин подозревать его не было. Он попал в поле нашего зрения потому, что был единственным хорошим знакомым Ищенко в этом городе. Парторганизация мебельной фабрики аттестовала его как пьяницу и бабника, что было нехорошо само по себе, но не являлось криминалом в данном случае.
Мы вошли в дом. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами.
— Не туда, не туда, — сказал Буш. — Там сосед живет.
В прихожей на подзеркальнике (в зеркале отразились я и Буш, покрасневший от жары и напряжения) лежала женская сумочка. Настоящая лаковая, определил я. О такой сумочке мечтала моя жена, но найти ее можно было только в комиссионном магазине, и то с большим трудом.
Буш усадил меня на стул.
— Ох, жарища! — простонал он, стягивая через голову рубашку с темными пятнами под мышками. — Сразу в ванную: ногу — под холодную струю. И душ примите.
— Знаете, мне неудобно как-то. Я сейчас пойду. Вот только нога пройдет, и пойду, — нетвердо сказал я.
— Слушайте! — слегка торжественно заявил Генрих Осипович. — Я человек обязательный. Вы меня из-под машины вытащили, и я у вас как бы взаймы взял. Я должен оказать вам услугу в свою очередь. Вы приезжий?
— Да.
— Может быть, вам нужно что-нибудь устроить? Не стесняйтесь. Где вы остановились?
— Видите ли… — протянул я.
В этот момент открылась дверь, ведшая, по-видимому, в комнаты. В прихожую кто-то вышел. Меня не было видно: я сидел на стуле за массивным платяным шкафом.
— Геночка! — произнес женский голос. (“Интересная интерпретация имени Генрих”, — успел подумать я). — Я не слышала, как вы пришли. Встреча прошла на уровне? Чем интересовался наш детектив Сипарис? Он был так любезен со мной, когда я прилетела…
Буш давно уже кашлял.
— Ой, вы не один?
Теперь она, наверное, заметила мою вытянутую ногу.
Я выглянул из-за шкафа и привстал.
— Извините, я не одета, — кокетливо улыбаясь и не трогаясь с места, сказала она.
Она была в халатике до коленей, расшитом райскими птицами. Колени крупные, красивые. Рослая. Аккуратно подведенные глаза. На вид лет тридцать (по паспорту — сорок один); только на лбу две четкие, как нарисованные, морщины. Ларионов, разглядывая ее карточку (фото нашли среди вещей Ищенко и копию сразу послали нам в комитет), даже вздохнул: “Наградил же бог, не обидел!” Было непохоже, чтобы она плакала в три ручья, как расписывал Буш. Он лгал. Значит ли это, что все остальное, сообщенное им, ложь? Но зачем Бушу вилять, если он ни в чем не замешан? Значит, замешан? А может, просто боится, что его могут заподозрить — знакомый, пили вместе, — и все это сверхосторожность? На всякий пожарный случай? А может, он выгораживает ее? “Ох и работенка же у нас, — подумал я. — Двухсменная, вредная и так далее. Почему Буш так заинтересовался временем убийства? Или он только делал вид?.. Как всегда, сто тысяч разных “как” и “почему”.
А Генрих Осипович между тем расцвел.
— Этот молодой человек только что спас мне жизнь, — сообщил он ей. — Вытолкнул из-под машины в последнюю минуту… Ах, я ведь даже не спросил, как вас зовут!
— Борис.
— А меня Генрих Осипович. А это Клавдия Николаевна.
— Можно просто Кла-ава, — почти пропела она. — Я сейчас переоденусь и расцелую вас за спасение нашего дедушки.
Генрих Осипович поморщился. “Эге”, — подумал я.
— Марш в ванную. Боря! Вам сейчас же нужно поставить ногу в холодную воду. Он ушибся, — пояснил он Клавдии Николаевне, не глядя на нее.
— Какая красивая у вас жена! — как бы мимоходом заметил я.
— М-м, — сказал Буш, как будто у него заболели зубы.
— Вы слегка ошиблись, — спокойно ответила Ищенко. — Мы не муж и жена. Генрих, я сейчас приготовлю вам что-нибудь, вы наверняка оба голодные.
— Ради бога, не беспокойтесь! — воскликнул я.
— Ну-ну. В вашем возрасте надо любить кушать, если уж речь зашла о возрасте. — И, отечески обняв за плечи, Буш повел меня в ванную. — Это вдова моего друга, — зашептал он в коридоре. — Прелестная женщина, с характером. Овдовела несколько дней назад, а держится по-мужски: на вид, как птичка, веселая, ничего нельзя по ней сказать.
“Похоже, что не только на вид”, — подумал я, заходя в ванную комнату.
Генрих Осипович положил поперек ванны доску. Я покорно снял брюки и сел на нее, спустив ноги в ванну. Генрих Осипович открутил кран. Тут я поднял глаза и увидел синеватое пятно в половину потолка.
— Ого! — сказал я. — Что тут у вас было? Генрих Осипович поморгал и чуть заметно нахмурился.
— Сосед наверху наполнял ванну и забылся, и вот результат.
— Но вы, кажется, поверху уже белили?
— Нашел тут мастеров. Халтурщики. Ободрали как липку, а пятно снова проступило.
— Верно, сразу красили, — определил я. — Потолок просохнуть не успел, а они не прокупоросили.
— Сегодня утром еще подбеливали.
— А когда это случилось? В смысле — протекло?
Он куснул губу и посмотрел на меня.
— Шесть дней назад, — сказал он. — Я в садике клумбу полол, потом зашел в дом, гляжу: настоящее наводнение.
— Вы знаете, помогает холодная вода! Прямо-таки здорово помогает, — сказал я, массируя колено.
“Хитрил или не хитрил?” — опять подумал я.
Глава 6. Веселая вдова
 В этой комнате пахло духами.
— Мы пока здесь посидим. Чтобы не мешать, значит, — сказал Буш. — А она соберет на стол.
Едва мы вошли, Генрих Осипович стал прятать женское белье, в беспорядке разбросанное по комнате, — он старался это делать незаметно. На стене висела картина: дородная голая красавица, прикрывшаяся чем-то легким и прозрачным. Она двусмысленно улыбалась. Под картиной стояла кровать. Двуспальная. Покрывало с кружевами, горка смятых подушек — видно, Ищенко лежала, когда мы пришли. А вот и книга, которую она читала. Я скосил глаза и разобрал: “Как только г-н Кастанед удалился к себе в келью, ученики разбились на группы. Жюльен не примкнул ни к одной из них; его сторонились, как паршивой овцы”. Ого, Стендаль! “Красное и черное”.
Буш сел на кровать и положил ногу на ногу.
В проем двери было видно, как Ищенко — она уже надела темное платье с вырезом — накрывает на стол. Она делала это уверенно, как хозяйка, только раз остановилась и спросила: “Где у вас майонез для салата, Генрих? Я не могу найти”. Она выставила из холодильника на стол запотевшую бутылку водки. “О господи, везет же мне! — подумал я. — Еще вечер не наступил, а меня второй раз усаживают пить”.
Ни в той, ни в другой комнате полок с книгами не было. Судя по всему, существовала еще третья комната, но, наверное, нежилая, иначе Буш повел бы меня туда. “А про белье он забыл”, — подумал я. В углу стоял фикус в кадке, а в землю вокруг растения были часто натыканы заостренные палочки.
— Это зачем же?
— Что?
— Частокол этот. — Я ткнул пальцем.
— Чтобы кошечка не ходила, — деликатно объяснил Генрих Осипович. — А то она повадилась туда ходить, проклятая.
— Вы вообще один живете? — помолчав, спросил я.
— Один. Жена умерла. Дети разъехались.
— Много детей? Он часто поморгал.
— Двое. Два сына. Совсем уже взрослые. Чужими стали.
К нам вошла Ищенко, шурша платьем.
— Мужчины соскучились?
— Очень!.. Между прочим, хорошая книга. — Я кивнул на Стендаля.
— А, “Красное и черное”? Вы тоже любите?
— Да.
— А помните, как Жюльен пришел убивать госпожу Реналь? — оживилась она. — Вы помните, он стоит с пистолетом за ее спиной и думает: “Нет, я не могу ее убить!” А потом она закуталась в шаль и стала как бы незнакома ему. Тут он выстрелил. Ах, как это психологически точно! Я шестой раз перечитываю.
— Да, да, — сказал я. — Ваша книга? — спросил я Буша.
— Я мало читаю, — чопорно ответил Генрих Осипович. Ему не нравилось, что мы так быстро нашли тему для разговора, в котором он не может принять участия.
— Я с собой привезла, — заметила Ищенко.
“Как странно! — подумал я. — Ее вызывают телеграммой, в которой сообщают о насильственной смерти мужа. Она спокойно собирает халатики, сумочки и еще берет книгу для чтения. Можно подумать: она знала о предстоящем и была готова к нему”.
— Товарищи мужчины, давайте организованно к столу, — пригласила Ищенко. — Все готово.
— Не трудите зря ногу. Опирайтесь, — предложил Буш.
Мы прошли в соседнюю комнату.
Стол был сервирован с толком: разрезанные крутые яйца были украшены петрушкой, стояла в вазочке кабачковая икра, громоздилась тяжелая фарфоровая миска с двумя ручками — с салатом. Старый фарфор, отметил я. Была не забыта селедка, обсыпанная кружочками лука. Тут же сыр, колбаса. На блюде лежала какая-то рыбка в ржавом горчичном соусе, по-моему, это была маринованная минога — деликатес даже для Прибалтики. Все это напоминало старый голландский натюрморт. “Интересно, сколько получает Буш на фабрике?” — подумал я. Ножи и вилки лежали парами на специальных стеклянных подставках, отражавших люстру под потолок, — ее зажгли, хотя еще был день. А в высоком бокале топорщились бумажные салфеточки.
— Ого! — воскликнул я. — Вы устроили целый пир! Мне просто неудобно.
— Чем богаты, тем и рады. Садитесь. — Буш энергично потер руки. — Водочки?
— Не пью, — сказал я.
— То есть как?
— Совсем не пью.
— Ни вот столечко?
— Тренер запрещает. Если можно, мне томатного соку. Я им и чокаться буду.
— Жаль, — сказала Ищенко.
— За ваш геройский поступок сегодня, — сказал Буш.
— Который привел к такому чудесному знакомству! — подхватила Ищенко.
Я скромно промолчал, только привстал, чтобы чокнуться. Буш выпил. И Клавдия Ищенко выпила. Стопку она держала, оттопырив мизинец.
— Ха-арошо! — сказал Буш, отдуваясь. — Лучшее лекарство от всех волнений жизни.
— Да уж! — сказал я. — Лечит так лечит. Было бы только что лечить.
— Вы-то молодой. У вас все еще впереди.
— Так точно. А что именно впереди?
— Всякое, — сказал Буш. Помолчал и помотал в воздухе растопыренной пятерней. Потом туманно пояснил: — Жизнь, одним словом.
— Но жизнь прекрасна и удивительна, как говорят классики! — воскликнул я, внутренне поморщившись. — Читайте классиков!
Он вздохнул, опять разлил. И опять Ищенко выпила с ним. Довольно лихо это у нее получалось: даже у Генриха Осиповича недовольно дрогнули щечки.
— Sie nehmen eine Festung nach der anderen*["8], как сказал бы немец, — любезно ввернул я.
Глупо, конечно, было надеяться, что Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка, но на всякий случай я вставлял немецкие фразы, где мог. Кентавр отлично владел немецким. Я тоже. Это была одна из причин, почему выбор пал на меня, а не на Ларионова: он лучше знал английский, чем немецкий.
— А что это значит? — поинтересовался Буш. Я перевел.
— Вы немецкого совсем не сечете? — спросил я.
— Откуда же? Я институтов не кончал, в инженеры вышел самоучкой, — грустно сказал Буш.
Мне вдруг стало как-то неудобно. Я ставил ловушки этому пожилому человеку и притворялся, будто у меня страшно болит нога (на самом деле она только слегка саднила). А Буш мог быть совсем ни при чем. “Но я не имею права на это чувство неловкости”, — подумал я. “Я буду очень рад, если убийца не он”, — опять подумал я. Но ведь есть же какая-то вероятность? Есть. Поэтому я и сижу здесь. Почему Буш так странно вел себя на допросе?
— Мой покойный супруг болтал по-немецки как немец, — сказала Клавдия Ищенко. — К нам приезжала делегация из ФРГ, так он им все переводил.
— А где он изучал язык?
— Нигде. Просто он жил до войны здесь, в Прибалтике.
— Здесь — в этом городе? — спросил я.
— Да. И в других местах тоже.
— Мне очень нравится Прибалтика. Вы, наверное, часто сюда с ним приезжали?
— Он не любил сюда ездить, — как-то надменно сказала Клавдия Николаевна; она уже заметно опьянела. — Он был труслив, как заяц, скуп и скучен. Он всю жизнь чего-то боялся. Во всяком случае, ту часть жизни, которую прожил со мной.
— Вот странно! Чего ж он мог бояться?
— Не знаю. — Она вдруг как-то сразу стала старше и теперь выглядела на все свои сорок лет. — Он боялся и меня. Вообще хватит о нем! Я выскочила за него, когда мне было двадцать два, а ему — четыре десятка… Тогда он казался мне настоящим мужчиной.
Буш молчал, моргал и хмурился. Интересно: как отличалась характеристика Тараса Михайловича Ищенко, данная на допросе Бушем, от того, что говорила о нем сейчас Клавдия Николаевна!
— А вы немецкий хорошо знаете? Изучали? — не очень ловко перевел разговор Буш.
— И сейчас учу в институте, — объяснил я.
— По какой же специальности будете?
— Буду-то? Инженер-энергетик.
Как раз из этого института я ушел по комсомольской путевке на работу в наш отдел. Про отца я помнил всегда, но узнал подробности его гибели, когда учился на четвертом курсе. Пепел Клааса стучал в мое сердце? Нет. Просто я понял, что должен сделать свой взнос в борьбу с фашизмом, в которой участвовал мой отец.
— Сюда на отдых?
— Не совсем, — сказал я. — Хочу оформиться, пока каникулы, матросом в сельдяную экспедицию. Мне деньги нужны: на одну стипендию не проживешь, да и одеться прилично хочется… Сами понимаете. Девочку там в кино сводить… Но, говорят, трудно устроиться.
— Устроиться — что! Надо ждать, пока визу откроют.
— Во-во!
— Значит, деньги нужны? — раздумчиво сказал Буш.
— Да, — сказал я. — Прямо задыхаюсь.
— Пошли! — сказал он, вылезая из-за стола. — Ах да, у вас же нога… Слушайте, мой сосед наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — его фамилия Суркин, он работает в рыбном управлении. Он кое-что может. Сейчас я к нему поднимусь.
И Генрих Осипович исчез за дверью, зачем-то включив по дороге еще одну лампу — на журнальном столике.
— И так хорошо! — запротестовал я вдогонку.
— Пусть, — сказала Клавдия Ищенко, подвигая свой стул ко мне. — Какие у тебя чудесные ямочки на щеках, Карик! Просто прелесть!
— Меня зовут Боря.
— Ах, простите, у меня есть знакомый в Новосибирске — Карик. Я привыкла к нему и теперь по привычке назвала вас так.
“Наведем справочки”, — мелькнуло у меня в голове.
— Вообще-то ты похож на скандинава. Цветом волос и сложением.
— Я живу в Москве, — невпопад сказал я. И отодвинул стул, потому что вовсе не хотел, чтобы Буш смотрел на меня косо, когда вернется. Но и с Клавдией Ищенко ссориться было нельзя. “Положеньице!” — подумал я.
Когда планировалась эта операция, предполагалось, что придется иметь дело как с приезжими, так и с местными жителями, а потому студент должен быть приезжим сам. Почему именно из Москвы? Московский студент боек и общителен — это раз. Во-вторых, москвичи занимают в какой-то мере привилегированное положение — жители столицы! — и к ним относятся с большим уважением, значит, легче заводить знакомства.
— Ах, Москва! — сказала она. — Театры, концерты! Как я мечтала о жизни в столице!
— Не получилось?
— Все мой Ищенко! Искал тихой заводи, говорил: в Москве люди слишком на виду. И чего боялся?.. Ну ладно! Теперь я свободна. Как птица. Куда захочу, туда полечу! Или я уже стара? — спросила она с горечью.
— Вы прекрасно выглядите, — сказал я.
— А ты действительно ничего парень. Давай выпьем на брудершафт.
— Придет Генрих Осипович — и выпьем… Вот вы Стендаля любите, а литературу — вообще?
— Обожаю! Знаете, я скажу вам, в детстве я мечтала стать писательницей.
— А кем стали?
— Кем? Домработницей у мужа! — горько отрезала она.
И опять ясно обозначились у нее на лбу две морщины-трещинки: печать совместной девятнадцатилетней жизни с Тарасом Михайловичем Ищенко.
— “Шанель”? — спросил я: от нее шел сладковатый запах духов.
— Что?
— Вы употребляете “Шанель”?
— Ах это? Да, мне достали по знакомству один флакончик. Люблю шик!
— Дорогие духи, — заметил я.
— Плевать! Выпьем?
— Подождем все-таки Генриха Осиповича.
— Да? — сказала она капризно. — Мужская солидарность?
И встала, отошла к приемнику: стала крутить ручку настройки.
Вошел Буш, кинул быстрый взгляд сначала на нее, потом на меня и сказал:
— Странно что-то! Никого у них нет. Понятно, она сейчас гостит у родных на Смоленщине, но Суркин? Не пришел еще с работы? Уже шесть, он в это время всегда бывает дома. Очень странно, — опять повторил он.
— Шесть? — переспросил я. — Так мне пора собираться. Извините, что нарушаю компанию. Было очень хорошо. — И я встал: я хотел застать своих соседей по номеру, пока они не исчезли куда-нибудь на весь вечер.
— Ну вот еще! — Буш замахал руками. — Посидим, посидим еще! Выпьем! Ах да, вы не пьете. Клавочка, что же вы, наш гость заскучал?
— Генрих Осипович, — я слегка понизил голос, — мне, право, неудобно, у меня свидание, понимаете, я тут познакомился с одной… м-м… девушкой.
Буш уставился на меня. Я скорчил ему физиономию, которая должна была означать, что я продувная бестия. Он, по-моему, даже обрадовался.
— Вас понял. Снимаю все возражения. И вот что: с Суркиным я обязательно поговорю. Сегодня же. А вы завтра зайдете к нему на работу, вот адрес. — Он взял с серванта карандаш и стал писать на бумажке. — Слушайте, а как же вы сегодня с больной ногой на свидание пойдете, а?
Об этом я забыл. Видно, мне придется прихрамывать весь вечер: вдруг еще столкнусь с Бушем. Хотя сегодня он уже, кажется, не выберется из дому.
— Вроде лучше стало, — сказал я и сделал несколько пробных шагов по комнате, припадая на “больную” ногу. — Видите!
— Отлично, — сказал Буш. — Вы ведь спортсмен, Боря? Идемте, я вас провожу.
— Всего хорошего, Клавдия Николаевна, — попрощался я.
— Желаю удачи, — ответила она, не отрываясь от приемника.
Буш открывал двери и пропускал меня вперед. Мы остановились с ним в прихожей, не внутренней, с зеркалом, а там, где была лестница.
— Слушайте, — сказал Генрих Осипович, вертя пуговицу на моей рубашке, — если вам нужны взаймы деньги, то я всегда готов. Я вам очень, очень обязан…
Я случайно поднял глаза вверх. На втором этаже, там, где деревянная лестница кончалась и образовывала балкончик, была приотворена дверь: оттуда на меня кто-то глядел. Я отвел взгляд. Горячо сказал Бушу:
— Конечно! Большое спасибо! Но пока у меня есть.
— И держите со мной связь, одному в чужом городе плохо. Вы в гостинице остановились?
— Да.
— В каком номере?
— В триста пятом.
— Вот это совпадение! — Буш внимательно поглядел на меня, поморгал.
— А что?
— Да ничего… Заходите ко мне почаще. Я бы пригласил вас остановиться у себя, но сами видите… — Он хихикнул. — Да и старик я, какая вам компания!.. Но, может, Клавочка вас развлечет? Заходите!
— Она разве не собирается уезжать? Домой?
— Пока нет. Хочет прийти в себя как-то, позагорать. Вы не думайте, она очень переживает.
“А мне-то зачем врать? — подумал я. — Или ему просто неудобно за нее?”
— Спасибо. Буду заходить.
Я снова мельком взглянул на лестницу: там никого не было. “Суркин похож на сурка, — машинально подумал я. — Интересно, где он был во время убийства?”
В этой комнате пахло духами.
— Мы пока здесь посидим. Чтобы не мешать, значит, — сказал Буш. — А она соберет на стол.
Едва мы вошли, Генрих Осипович стал прятать женское белье, в беспорядке разбросанное по комнате, — он старался это делать незаметно. На стене висела картина: дородная голая красавица, прикрывшаяся чем-то легким и прозрачным. Она двусмысленно улыбалась. Под картиной стояла кровать. Двуспальная. Покрывало с кружевами, горка смятых подушек — видно, Ищенко лежала, когда мы пришли. А вот и книга, которую она читала. Я скосил глаза и разобрал: “Как только г-н Кастанед удалился к себе в келью, ученики разбились на группы. Жюльен не примкнул ни к одной из них; его сторонились, как паршивой овцы”. Ого, Стендаль! “Красное и черное”.
Буш сел на кровать и положил ногу на ногу.
В проем двери было видно, как Ищенко — она уже надела темное платье с вырезом — накрывает на стол. Она делала это уверенно, как хозяйка, только раз остановилась и спросила: “Где у вас майонез для салата, Генрих? Я не могу найти”. Она выставила из холодильника на стол запотевшую бутылку водки. “О господи, везет же мне! — подумал я. — Еще вечер не наступил, а меня второй раз усаживают пить”.
Ни в той, ни в другой комнате полок с книгами не было. Судя по всему, существовала еще третья комната, но, наверное, нежилая, иначе Буш повел бы меня туда. “А про белье он забыл”, — подумал я. В углу стоял фикус в кадке, а в землю вокруг растения были часто натыканы заостренные палочки.
— Это зачем же?
— Что?
— Частокол этот. — Я ткнул пальцем.
— Чтобы кошечка не ходила, — деликатно объяснил Генрих Осипович. — А то она повадилась туда ходить, проклятая.
— Вы вообще один живете? — помолчав, спросил я.
— Один. Жена умерла. Дети разъехались.
— Много детей? Он часто поморгал.
— Двое. Два сына. Совсем уже взрослые. Чужими стали.
К нам вошла Ищенко, шурша платьем.
— Мужчины соскучились?
— Очень!.. Между прочим, хорошая книга. — Я кивнул на Стендаля.
— А, “Красное и черное”? Вы тоже любите?
— Да.
— А помните, как Жюльен пришел убивать госпожу Реналь? — оживилась она. — Вы помните, он стоит с пистолетом за ее спиной и думает: “Нет, я не могу ее убить!” А потом она закуталась в шаль и стала как бы незнакома ему. Тут он выстрелил. Ах, как это психологически точно! Я шестой раз перечитываю.
— Да, да, — сказал я. — Ваша книга? — спросил я Буша.
— Я мало читаю, — чопорно ответил Генрих Осипович. Ему не нравилось, что мы так быстро нашли тему для разговора, в котором он не может принять участия.
— Я с собой привезла, — заметила Ищенко.
“Как странно! — подумал я. — Ее вызывают телеграммой, в которой сообщают о насильственной смерти мужа. Она спокойно собирает халатики, сумочки и еще берет книгу для чтения. Можно подумать: она знала о предстоящем и была готова к нему”.
— Товарищи мужчины, давайте организованно к столу, — пригласила Ищенко. — Все готово.
— Не трудите зря ногу. Опирайтесь, — предложил Буш.
Мы прошли в соседнюю комнату.
Стол был сервирован с толком: разрезанные крутые яйца были украшены петрушкой, стояла в вазочке кабачковая икра, громоздилась тяжелая фарфоровая миска с двумя ручками — с салатом. Старый фарфор, отметил я. Была не забыта селедка, обсыпанная кружочками лука. Тут же сыр, колбаса. На блюде лежала какая-то рыбка в ржавом горчичном соусе, по-моему, это была маринованная минога — деликатес даже для Прибалтики. Все это напоминало старый голландский натюрморт. “Интересно, сколько получает Буш на фабрике?” — подумал я. Ножи и вилки лежали парами на специальных стеклянных подставках, отражавших люстру под потолок, — ее зажгли, хотя еще был день. А в высоком бокале топорщились бумажные салфеточки.
— Ого! — воскликнул я. — Вы устроили целый пир! Мне просто неудобно.
— Чем богаты, тем и рады. Садитесь. — Буш энергично потер руки. — Водочки?
— Не пью, — сказал я.
— То есть как?
— Совсем не пью.
— Ни вот столечко?
— Тренер запрещает. Если можно, мне томатного соку. Я им и чокаться буду.
— Жаль, — сказала Ищенко.
— За ваш геройский поступок сегодня, — сказал Буш.
— Который привел к такому чудесному знакомству! — подхватила Ищенко.
Я скромно промолчал, только привстал, чтобы чокнуться. Буш выпил. И Клавдия Ищенко выпила. Стопку она держала, оттопырив мизинец.
— Ха-арошо! — сказал Буш, отдуваясь. — Лучшее лекарство от всех волнений жизни.
— Да уж! — сказал я. — Лечит так лечит. Было бы только что лечить.
— Вы-то молодой. У вас все еще впереди.
— Так точно. А что именно впереди?
— Всякое, — сказал Буш. Помолчал и помотал в воздухе растопыренной пятерней. Потом туманно пояснил: — Жизнь, одним словом.
— Но жизнь прекрасна и удивительна, как говорят классики! — воскликнул я, внутренне поморщившись. — Читайте классиков!
Он вздохнул, опять разлил. И опять Ищенко выпила с ним. Довольно лихо это у нее получалось: даже у Генриха Осиповича недовольно дрогнули щечки.
— Sie nehmen eine Festung nach der anderen*["8], как сказал бы немец, — любезно ввернул я.
Глупо, конечно, было надеяться, что Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка, но на всякий случай я вставлял немецкие фразы, где мог. Кентавр отлично владел немецким. Я тоже. Это была одна из причин, почему выбор пал на меня, а не на Ларионова: он лучше знал английский, чем немецкий.
— А что это значит? — поинтересовался Буш. Я перевел.
— Вы немецкого совсем не сечете? — спросил я.
— Откуда же? Я институтов не кончал, в инженеры вышел самоучкой, — грустно сказал Буш.
Мне вдруг стало как-то неудобно. Я ставил ловушки этому пожилому человеку и притворялся, будто у меня страшно болит нога (на самом деле она только слегка саднила). А Буш мог быть совсем ни при чем. “Но я не имею права на это чувство неловкости”, — подумал я. “Я буду очень рад, если убийца не он”, — опять подумал я. Но ведь есть же какая-то вероятность? Есть. Поэтому я и сижу здесь. Почему Буш так странно вел себя на допросе?
— Мой покойный супруг болтал по-немецки как немец, — сказала Клавдия Ищенко. — К нам приезжала делегация из ФРГ, так он им все переводил.
— А где он изучал язык?
— Нигде. Просто он жил до войны здесь, в Прибалтике.
— Здесь — в этом городе? — спросил я.
— Да. И в других местах тоже.
— Мне очень нравится Прибалтика. Вы, наверное, часто сюда с ним приезжали?
— Он не любил сюда ездить, — как-то надменно сказала Клавдия Николаевна; она уже заметно опьянела. — Он был труслив, как заяц, скуп и скучен. Он всю жизнь чего-то боялся. Во всяком случае, ту часть жизни, которую прожил со мной.
— Вот странно! Чего ж он мог бояться?
— Не знаю. — Она вдруг как-то сразу стала старше и теперь выглядела на все свои сорок лет. — Он боялся и меня. Вообще хватит о нем! Я выскочила за него, когда мне было двадцать два, а ему — четыре десятка… Тогда он казался мне настоящим мужчиной.
Буш молчал, моргал и хмурился. Интересно: как отличалась характеристика Тараса Михайловича Ищенко, данная на допросе Бушем, от того, что говорила о нем сейчас Клавдия Николаевна!
— А вы немецкий хорошо знаете? Изучали? — не очень ловко перевел разговор Буш.
— И сейчас учу в институте, — объяснил я.
— По какой же специальности будете?
— Буду-то? Инженер-энергетик.
Как раз из этого института я ушел по комсомольской путевке на работу в наш отдел. Про отца я помнил всегда, но узнал подробности его гибели, когда учился на четвертом курсе. Пепел Клааса стучал в мое сердце? Нет. Просто я понял, что должен сделать свой взнос в борьбу с фашизмом, в которой участвовал мой отец.
— Сюда на отдых?
— Не совсем, — сказал я. — Хочу оформиться, пока каникулы, матросом в сельдяную экспедицию. Мне деньги нужны: на одну стипендию не проживешь, да и одеться прилично хочется… Сами понимаете. Девочку там в кино сводить… Но, говорят, трудно устроиться.
— Устроиться — что! Надо ждать, пока визу откроют.
— Во-во!
— Значит, деньги нужны? — раздумчиво сказал Буш.
— Да, — сказал я. — Прямо задыхаюсь.
— Пошли! — сказал он, вылезая из-за стола. — Ах да, у вас же нога… Слушайте, мой сосед наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — его фамилия Суркин, он работает в рыбном управлении. Он кое-что может. Сейчас я к нему поднимусь.
И Генрих Осипович исчез за дверью, зачем-то включив по дороге еще одну лампу — на журнальном столике.
— И так хорошо! — запротестовал я вдогонку.
— Пусть, — сказала Клавдия Ищенко, подвигая свой стул ко мне. — Какие у тебя чудесные ямочки на щеках, Карик! Просто прелесть!
— Меня зовут Боря.
— Ах, простите, у меня есть знакомый в Новосибирске — Карик. Я привыкла к нему и теперь по привычке назвала вас так.
“Наведем справочки”, — мелькнуло у меня в голове.
— Вообще-то ты похож на скандинава. Цветом волос и сложением.
— Я живу в Москве, — невпопад сказал я. И отодвинул стул, потому что вовсе не хотел, чтобы Буш смотрел на меня косо, когда вернется. Но и с Клавдией Ищенко ссориться было нельзя. “Положеньице!” — подумал я.
Когда планировалась эта операция, предполагалось, что придется иметь дело как с приезжими, так и с местными жителями, а потому студент должен быть приезжим сам. Почему именно из Москвы? Московский студент боек и общителен — это раз. Во-вторых, москвичи занимают в какой-то мере привилегированное положение — жители столицы! — и к ним относятся с большим уважением, значит, легче заводить знакомства.
— Ах, Москва! — сказала она. — Театры, концерты! Как я мечтала о жизни в столице!
— Не получилось?
— Все мой Ищенко! Искал тихой заводи, говорил: в Москве люди слишком на виду. И чего боялся?.. Ну ладно! Теперь я свободна. Как птица. Куда захочу, туда полечу! Или я уже стара? — спросила она с горечью.
— Вы прекрасно выглядите, — сказал я.
— А ты действительно ничего парень. Давай выпьем на брудершафт.
— Придет Генрих Осипович — и выпьем… Вот вы Стендаля любите, а литературу — вообще?
— Обожаю! Знаете, я скажу вам, в детстве я мечтала стать писательницей.
— А кем стали?
— Кем? Домработницей у мужа! — горько отрезала она.
И опять ясно обозначились у нее на лбу две морщины-трещинки: печать совместной девятнадцатилетней жизни с Тарасом Михайловичем Ищенко.
— “Шанель”? — спросил я: от нее шел сладковатый запах духов.
— Что?
— Вы употребляете “Шанель”?
— Ах это? Да, мне достали по знакомству один флакончик. Люблю шик!
— Дорогие духи, — заметил я.
— Плевать! Выпьем?
— Подождем все-таки Генриха Осиповича.
— Да? — сказала она капризно. — Мужская солидарность?
И встала, отошла к приемнику: стала крутить ручку настройки.
Вошел Буш, кинул быстрый взгляд сначала на нее, потом на меня и сказал:
— Странно что-то! Никого у них нет. Понятно, она сейчас гостит у родных на Смоленщине, но Суркин? Не пришел еще с работы? Уже шесть, он в это время всегда бывает дома. Очень странно, — опять повторил он.
— Шесть? — переспросил я. — Так мне пора собираться. Извините, что нарушаю компанию. Было очень хорошо. — И я встал: я хотел застать своих соседей по номеру, пока они не исчезли куда-нибудь на весь вечер.
— Ну вот еще! — Буш замахал руками. — Посидим, посидим еще! Выпьем! Ах да, вы не пьете. Клавочка, что же вы, наш гость заскучал?
— Генрих Осипович, — я слегка понизил голос, — мне, право, неудобно, у меня свидание, понимаете, я тут познакомился с одной… м-м… девушкой.
Буш уставился на меня. Я скорчил ему физиономию, которая должна была означать, что я продувная бестия. Он, по-моему, даже обрадовался.
— Вас понял. Снимаю все возражения. И вот что: с Суркиным я обязательно поговорю. Сегодня же. А вы завтра зайдете к нему на работу, вот адрес. — Он взял с серванта карандаш и стал писать на бумажке. — Слушайте, а как же вы сегодня с больной ногой на свидание пойдете, а?
Об этом я забыл. Видно, мне придется прихрамывать весь вечер: вдруг еще столкнусь с Бушем. Хотя сегодня он уже, кажется, не выберется из дому.
— Вроде лучше стало, — сказал я и сделал несколько пробных шагов по комнате, припадая на “больную” ногу. — Видите!
— Отлично, — сказал Буш. — Вы ведь спортсмен, Боря? Идемте, я вас провожу.
— Всего хорошего, Клавдия Николаевна, — попрощался я.
— Желаю удачи, — ответила она, не отрываясь от приемника.
Буш открывал двери и пропускал меня вперед. Мы остановились с ним в прихожей, не внутренней, с зеркалом, а там, где была лестница.
— Слушайте, — сказал Генрих Осипович, вертя пуговицу на моей рубашке, — если вам нужны взаймы деньги, то я всегда готов. Я вам очень, очень обязан…
Я случайно поднял глаза вверх. На втором этаже, там, где деревянная лестница кончалась и образовывала балкончик, была приотворена дверь: оттуда на меня кто-то глядел. Я отвел взгляд. Горячо сказал Бушу:
— Конечно! Большое спасибо! Но пока у меня есть.
— И держите со мной связь, одному в чужом городе плохо. Вы в гостинице остановились?
— Да.
— В каком номере?
— В триста пятом.
— Вот это совпадение! — Буш внимательно поглядел на меня, поморгал.
— А что?
— Да ничего… Заходите ко мне почаще. Я бы пригласил вас остановиться у себя, но сами видите… — Он хихикнул. — Да и старик я, какая вам компания!.. Но, может, Клавочка вас развлечет? Заходите!
— Она разве не собирается уезжать? Домой?
— Пока нет. Хочет прийти в себя как-то, позагорать. Вы не думайте, она очень переживает.
“А мне-то зачем врать? — подумал я. — Или ему просто неудобно за нее?”
— Спасибо. Буду заходить.
Я снова мельком взглянул на лестницу: там никого не было. “Суркин похож на сурка, — машинально подумал я. — Интересно, где он был во время убийства?”
Глава 7. Командированный из Саратова
 Я вошел в номер уже не такой бодрый, как утром: немного устал. По-прежнему парило. Но теперь над городом зашла краем клубящаяся туча. Через минуту мог брызнуть дождь — погода в Прибалтике меняется всегда внезапно. “Километрах в пяти уже, наверное, льет”, — подумал я.
Мне повезло: оба соседа были в комнате. Войтин взбивал помазком в чашке мыльную пену — собирался бриться.
— Я смотрю, вы возвращаетесь к цивилизованной жизни, — заметил я.
— Смотри, смотри, студент, — пригласил Войтин. — Учись. Науки юношей питают.
Марлевые занавески, которые утром летали на сквозняке, были раздернуты и привязаны тесемками к гвоздям в оконной раме. Прикреплять занавески было не в характере моряка. Скорее всего это сделал второй сосед. Сам он лежал сейчас животом на подоконнике и смотрел на площадь. Я подошел к окну, тоже поглядел и громко сказал:
— Гроза как будто собирается.
Сосед выпрямился. Он был аккуратен, волосы гладко причесаны и, кажется, смазаны бриллиантином, в очках (он стоял так, что в стеклах отражалось грозовое небо и глаз не было видно), среднего роста. Он сказал тихим голосом:
— Очень вероятно.
И представился, слегка поклонившись:
— Пухальский, Николай Гаврилович.
Он был четвертым из тех, что пока интересовали меня.
— Ich begrüße Sie in diesem schönen Haus. Ich heiße Boris Waraxin*["9], — шутливо сказал я. Просто так сказал. Потому что вряд ли он мог быть причастным к событиям 44-го года: ему тогда было 19 лет.
Он слегка удивился. Поднял жиденькие брови над золотой оправой.
— Sehr angenehm, Herr Waraxin*["10], — ответил он.
— Verzeihen Sie, daß ich deutsch spreche… Das ist nur ein Versuch… Im nächsten Jahr habe ich Staatsexamen, und mir fehlt Praxis*["11].
— Praxis ist das wichtigste für die Sprach — beherrschung*["12].
— Ну и произношеньице у вас, позавидовать можно, — после маленькой паузы сказал я. — Настоящий берлинский диалект!
— Я служил после войны в Берлине, — по-прежнему тихо сказал он.
— А воевали?
— Чуть-чуть, в конце войны.
— Наверное, училище кончали? — догадался я.
— Нет, я был до сорок четвертого года на оккупированной территории.
Это мы знали сами: из его анкеты, затребованной из Саратова. В армию он попал на Карпатах (из тех мест, кстати, был родом Тарас Михайлович Ищенко), а что делал Пухальский до этого, в настоящее время проверялось. Меня интересовал ряд вопросов, которые я бы охотно задал своим соседям по номеру. Например: откуда в кармане убитого взялся черный слон, — он не давал мне покоя. И один из них должен был знать это. Но трудность нашей работы состоит в том, что прямые вопросы не имеют смысла, пока он не обнаружен. До этого они чаще всего приносят вред. Кто враг, кто друг, было пока неясно. Значит, будем ходить вокруг да около.
— Партизанили, наверное? — спросил я с уважением.
— Нет.
— По годам не вышли?
— Нет.
Я спросил: почему же тогда? Он сказал, что я странный человек и что если б я был под немцами (“…а вам просто повезло во многих отношениях, в том числе и в смысле возраста”), то не задавал бы таких вопросов. Там все было по-разному, и далеко не все участвовали в борьбе. Он покашлял в кулак.
— Значит, труса праздновали! — брякнул я.
Я хотел вызвать его на спор, потому что в споре не только рождается истина, но и познается собеседник. Кроме того, мне показалось, что тихому Пухальскому по закону контрастов должны нравиться настойчивые люди. А я хотел понравиться ему.
Я вошел в номер уже не такой бодрый, как утром: немного устал. По-прежнему парило. Но теперь над городом зашла краем клубящаяся туча. Через минуту мог брызнуть дождь — погода в Прибалтике меняется всегда внезапно. “Километрах в пяти уже, наверное, льет”, — подумал я.
Мне повезло: оба соседа были в комнате. Войтин взбивал помазком в чашке мыльную пену — собирался бриться.
— Я смотрю, вы возвращаетесь к цивилизованной жизни, — заметил я.
— Смотри, смотри, студент, — пригласил Войтин. — Учись. Науки юношей питают.
Марлевые занавески, которые утром летали на сквозняке, были раздернуты и привязаны тесемками к гвоздям в оконной раме. Прикреплять занавески было не в характере моряка. Скорее всего это сделал второй сосед. Сам он лежал сейчас животом на подоконнике и смотрел на площадь. Я подошел к окну, тоже поглядел и громко сказал:
— Гроза как будто собирается.
Сосед выпрямился. Он был аккуратен, волосы гладко причесаны и, кажется, смазаны бриллиантином, в очках (он стоял так, что в стеклах отражалось грозовое небо и глаз не было видно), среднего роста. Он сказал тихим голосом:
— Очень вероятно.
И представился, слегка поклонившись:
— Пухальский, Николай Гаврилович.
Он был четвертым из тех, что пока интересовали меня.
— Ich begrüße Sie in diesem schönen Haus. Ich heiße Boris Waraxin*["9], — шутливо сказал я. Просто так сказал. Потому что вряд ли он мог быть причастным к событиям 44-го года: ему тогда было 19 лет.
Он слегка удивился. Поднял жиденькие брови над золотой оправой.
— Sehr angenehm, Herr Waraxin*["10], — ответил он.
— Verzeihen Sie, daß ich deutsch spreche… Das ist nur ein Versuch… Im nächsten Jahr habe ich Staatsexamen, und mir fehlt Praxis*["11].
— Praxis ist das wichtigste für die Sprach — beherrschung*["12].
— Ну и произношеньице у вас, позавидовать можно, — после маленькой паузы сказал я. — Настоящий берлинский диалект!
— Я служил после войны в Берлине, — по-прежнему тихо сказал он.
— А воевали?
— Чуть-чуть, в конце войны.
— Наверное, училище кончали? — догадался я.
— Нет, я был до сорок четвертого года на оккупированной территории.
Это мы знали сами: из его анкеты, затребованной из Саратова. В армию он попал на Карпатах (из тех мест, кстати, был родом Тарас Михайлович Ищенко), а что делал Пухальский до этого, в настоящее время проверялось. Меня интересовал ряд вопросов, которые я бы охотно задал своим соседям по номеру. Например: откуда в кармане убитого взялся черный слон, — он не давал мне покоя. И один из них должен был знать это. Но трудность нашей работы состоит в том, что прямые вопросы не имеют смысла, пока он не обнаружен. До этого они чаще всего приносят вред. Кто враг, кто друг, было пока неясно. Значит, будем ходить вокруг да около.
— Партизанили, наверное? — спросил я с уважением.
— Нет.
— По годам не вышли?
— Нет.
Я спросил: почему же тогда? Он сказал, что я странный человек и что если б я был под немцами (“…а вам просто повезло во многих отношениях, в том числе и в смысле возраста”), то не задавал бы таких вопросов. Там все было по-разному, и далеко не все участвовали в борьбе. Он покашлял в кулак.
— Значит, труса праздновали! — брякнул я.
Я хотел вызвать его на спор, потому что в споре не только рождается истина, но и познается собеседник. Кроме того, мне показалось, что тихому Пухальскому по закону контрастов должны нравиться настойчивые люди. А я хотел понравиться ему.
 Но он вроде согласился со мной.
— Возможно. Меня, например, насильно мобилизовали тогда в полицию, я несколько месяцев служил, а потом бежал.
— К нашим?
— В другой район.
— Так надо было к партизанам бежать! — гнул я свою линию.
Но он снова поддакнул:
— Наверное, надо было.
А Войтин молчал. Хотя, мне казалось, он должен был вмешаться в этот разговор. Он сосредоточенно водил бритвой по щеке, не отрывая глаз от зеркала. В комнате было еще светло, но бриться стало труднее. Он молча прошел через всю комнату и включил верхний свет, — в черном пластмассовом приемничке на столе, который все время что-то бубнил, раздался короткий сухой треск. Войтин вернулся к зеркалу.
— А вы бы ушли? — вдруг спросил меня Пухальский.
— Куда?
— В лес к партизанам? Я немного подумал.
— Да. Хотя… — я еще помедлил, — вообще-то вы правы: тогда, наверное, все было гораздо сложнее, чем кажется сейчас.
— Вот видите, — тихо сказал Пухальский.
Мне вдруг показалось, что он совсем не такой вялый, а, наоборот, твердый, упрямый человек. Он вынул гребешок и причесался, хотя в этом не было никакой надобности, — просто привычный жест. Он, судя по всему, следил за своей внешностью.
Приемничек на столе захрипел, и кто-то красивым голосом запел “Сережку с Малой Бронной”.
Пухальский сделал погромче.
— Чудесная песня!
Мне она тоже нравилась, но я буркнул, продолжая играть роль:
— Сплошная сентиментальщина!
— Тю-тю, студент! — коротко сказал Войтин, на секунду оторвался от зеркала и покрутил указательным пальцем возле виска.
Но Пухальский вступился за меня:
— Что ж тут такого? Песня не может нравиться всем поголовно.
Войтин молча пожал плечами. Пухальский вернулся к нашему разговору:
— В те годы я был очень неуравновешенным юношей, слабым, с комплексом неполноценности, как теперь говорят на Западе.
— Но с годами это проходит? — опять задрался я.
— У кого как.
— По Фрейду, такой комплекс есть почти у каждого.
— Я с трудами Фрейда незнаком, только слышал о них.
— А что вы слышали?
Войтин кончил бриться и теперь собирал бритвенные принадлежности, чтобы идти в туалет мыть их. Все-таки он, наверное, раньше боялся порезаться, потому что теперь заговорил:
— Тебе бы в милиции работать, студент!
— А что?
— Вопросов много задаешь.
Это было несколько рискованно, но я сейчас нарочно разыгрывал вариант не в меру назойливого и любопытного человека, потому что именно так не должен был бы вести себя работник следственных органов.
Пухальский внимательно взглянул на меня и сказал:
— Ну зачем вы обижаете товарища?
— Разве это обидно? — удивился я. — Моя милиция меня бережет. У меня кореш в Москве там работает, мировой парень. Или вы считаете это зазорным?
— Ни в коем случае! Я, наоборот, думал, что это вы так отнесетесь. То есть не думал, но ведь могло же быть такое, — путано сказал Пухальский.
— Нет! — решительно возразил я.
— Вот и чудесно! А я, знаете ли, перед вашим приходом любовался из окна на город: здесь только третий этаж, но под уклон, и поэтому открывается чудесный вид.
— Вы в первый раз здесь?
— Нет, — ответил Пухальский. — А как эта река называется? Которая течет по городу, вон там?
Я не знал. Войтин сказал, как она называется, и вышел, держа перед собой в руке бритвенный прибор. Полотенце он повесил на отставленный указательный палец, чтобы не испачкать в мыле.
— Наш сосед отлично знает город, — заметил Пухальский.
— Он когда-то жил здесь.
— А потом?
— Он вам ничего не рассказывал?
— Нет.
— У него было большое горе, и он до сих пор не справился с ним, — сказал я и, глядя на Пухальского в упор, добавил: — Какой-то подлец выдал его жену во время войны гестаповцам. Она была связной партизанского отряда.
— Да что вы!
Он снял очки в золотой оправе. Теперь он казался совсем беспомощным и растерянным: у него была сильная близорукость. Он вынул из кармана отглаженный платок, подышал на стекла и стал протирать их.
— Как была ее фамилия?
— Круглова. — Теперь пришел черед удивляться мне. — Вы знали ее?
— Откуда же? Просто на днях мне рассказали о гибели здешнего подполья. И показали, кстати, место, где был домик этой Кругловой: его сожгли немцы, сейчас там сквер.
— Где это?
— Улицы не знаю, а так, зрительно, помню. Я был в гостях у инженера с мебельной фабрики — я работаю но мебели и сюда приехал в командировку, — мы стояли с ним у окна, он рассказывал. Там еще присутствовал один старичок, некий Ищенко, он отошел и не стал слушать. Он сказал, что не любит жутких историй. Забавный старикан был! Между прочим, он жил как раз на вашем месте. Его стукнули какие-то хулиганы насмерть шесть дней назад.
“Еще одна версия”, — отметил я про себя.
— Хулиганы? Какие? Поймали их хоть?
— Я ничего не знаю… А Ищенко был невредным человеком. Любил анекдоты и преферанс… Непьющий.
Но он вроде согласился со мной.
— Возможно. Меня, например, насильно мобилизовали тогда в полицию, я несколько месяцев служил, а потом бежал.
— К нашим?
— В другой район.
— Так надо было к партизанам бежать! — гнул я свою линию.
Но он снова поддакнул:
— Наверное, надо было.
А Войтин молчал. Хотя, мне казалось, он должен был вмешаться в этот разговор. Он сосредоточенно водил бритвой по щеке, не отрывая глаз от зеркала. В комнате было еще светло, но бриться стало труднее. Он молча прошел через всю комнату и включил верхний свет, — в черном пластмассовом приемничке на столе, который все время что-то бубнил, раздался короткий сухой треск. Войтин вернулся к зеркалу.
— А вы бы ушли? — вдруг спросил меня Пухальский.
— Куда?
— В лес к партизанам? Я немного подумал.
— Да. Хотя… — я еще помедлил, — вообще-то вы правы: тогда, наверное, все было гораздо сложнее, чем кажется сейчас.
— Вот видите, — тихо сказал Пухальский.
Мне вдруг показалось, что он совсем не такой вялый, а, наоборот, твердый, упрямый человек. Он вынул гребешок и причесался, хотя в этом не было никакой надобности, — просто привычный жест. Он, судя по всему, следил за своей внешностью.
Приемничек на столе захрипел, и кто-то красивым голосом запел “Сережку с Малой Бронной”.
Пухальский сделал погромче.
— Чудесная песня!
Мне она тоже нравилась, но я буркнул, продолжая играть роль:
— Сплошная сентиментальщина!
— Тю-тю, студент! — коротко сказал Войтин, на секунду оторвался от зеркала и покрутил указательным пальцем возле виска.
Но Пухальский вступился за меня:
— Что ж тут такого? Песня не может нравиться всем поголовно.
Войтин молча пожал плечами. Пухальский вернулся к нашему разговору:
— В те годы я был очень неуравновешенным юношей, слабым, с комплексом неполноценности, как теперь говорят на Западе.
— Но с годами это проходит? — опять задрался я.
— У кого как.
— По Фрейду, такой комплекс есть почти у каждого.
— Я с трудами Фрейда незнаком, только слышал о них.
— А что вы слышали?
Войтин кончил бриться и теперь собирал бритвенные принадлежности, чтобы идти в туалет мыть их. Все-таки он, наверное, раньше боялся порезаться, потому что теперь заговорил:
— Тебе бы в милиции работать, студент!
— А что?
— Вопросов много задаешь.
Это было несколько рискованно, но я сейчас нарочно разыгрывал вариант не в меру назойливого и любопытного человека, потому что именно так не должен был бы вести себя работник следственных органов.
Пухальский внимательно взглянул на меня и сказал:
— Ну зачем вы обижаете товарища?
— Разве это обидно? — удивился я. — Моя милиция меня бережет. У меня кореш в Москве там работает, мировой парень. Или вы считаете это зазорным?
— Ни в коем случае! Я, наоборот, думал, что это вы так отнесетесь. То есть не думал, но ведь могло же быть такое, — путано сказал Пухальский.
— Нет! — решительно возразил я.
— Вот и чудесно! А я, знаете ли, перед вашим приходом любовался из окна на город: здесь только третий этаж, но под уклон, и поэтому открывается чудесный вид.
— Вы в первый раз здесь?
— Нет, — ответил Пухальский. — А как эта река называется? Которая течет по городу, вон там?
Я не знал. Войтин сказал, как она называется, и вышел, держа перед собой в руке бритвенный прибор. Полотенце он повесил на отставленный указательный палец, чтобы не испачкать в мыле.
— Наш сосед отлично знает город, — заметил Пухальский.
— Он когда-то жил здесь.
— А потом?
— Он вам ничего не рассказывал?
— Нет.
— У него было большое горе, и он до сих пор не справился с ним, — сказал я и, глядя на Пухальского в упор, добавил: — Какой-то подлец выдал его жену во время войны гестаповцам. Она была связной партизанского отряда.
— Да что вы!
Он снял очки в золотой оправе. Теперь он казался совсем беспомощным и растерянным: у него была сильная близорукость. Он вынул из кармана отглаженный платок, подышал на стекла и стал протирать их.
— Как была ее фамилия?
— Круглова. — Теперь пришел черед удивляться мне. — Вы знали ее?
— Откуда же? Просто на днях мне рассказали о гибели здешнего подполья. И показали, кстати, место, где был домик этой Кругловой: его сожгли немцы, сейчас там сквер.
— Где это?
— Улицы не знаю, а так, зрительно, помню. Я был в гостях у инженера с мебельной фабрики — я работаю но мебели и сюда приехал в командировку, — мы стояли с ним у окна, он рассказывал. Там еще присутствовал один старичок, некий Ищенко, он отошел и не стал слушать. Он сказал, что не любит жутких историй. Забавный старикан был! Между прочим, он жил как раз на вашем месте. Его стукнули какие-то хулиганы насмерть шесть дней назад.
“Еще одна версия”, — отметил я про себя.
— Хулиганы? Какие? Поймали их хоть?
— Я ничего не знаю… А Ищенко был невредным человеком. Любил анекдоты и преферанс… Непьющий.
 “Ага! — подумал я. — Значит, с Пухальским он тоже не хотел пить”. Я поежился.
— Тут вечером-то на улицу не выйдешь, а?
— Его убили днем. По голове ударили.
— Может, сам упал и стукнулся?
— Нет, его убили.
— Казалось бы, такой тихий городок! — сказал я. — Древний, улочки каменные, и вообще…
— Никогда не верьте внешнему виду, — наставительно сказал Пухальский, надевая чистые очки. Спрятал платок в карман. Улыбнулся: — Вы еще очень молоды, Боря, разрешите вас так называть, и у вас нет жизненного опыта.
— Что верно, то верно! — сказал я.
— Вы не обижайтесь. Это как раз тот недостаток, который исправляется с годами. Простите, вы курите?
— Курю. Но… — я похлопал себя по карманам, — на данном этапе ничем не могу быть полезен.
— Вот досада! Так курить хочется, а купить забыл. Придется идти вниз.
— Так сейчас вместе пойдем. А что он рассказывал про подполье, этот инженер?
— Кто? Ах, Буш этот!
“Ого!” — подумал я.
— Он сам почти ничего не знает. Он говорит, что поселился здесь в сорок восьмом году, а всю эту историю ему пересказал сосед, который живет над ним.
“В этом деле явно не хватает Суркина, — подумал я. — Все идет к тому”. И спросил:
— А сосед партизанил?
— Не знаю. Он чудак какой-то. Когда мы выходили от Буша вместе с Ищенко, он спокойно сидел на скамеечке и дымил папиросой. Потом увидел нас, вдруг бросил папиросу, схватился за скулу и отвернулся. Мы отошли шагов на двадцать, я оглянулся: он пристально смотрит нам вслед и за щеку уже не держится.
— Пьяный? — предположил я.
— Скорее человек с расстроенной психикой.
— Ну, может, он уже сидит в сумасшедшем домике. Давно это было? — равнодушно спросил я.
Пухальский поднял глаза к потолку.
— Второго числа, — вспомнил он.
“Ищенко увидел Суркина второго, — подумал я. — Третьего числа он с кем-то встретился. Пятого убит. Цепочка? Может быть. Если только Буш не придумал зачем-то насчет третьего числа”.
Тут вошел Войтин; он был чисто выбрит и казался намного моложе, чем утром. Он повесил полотенце на спинку кровати, расправил его. Потом налил в ладонь одеколону — по комнате разошелся щекочущий ноздри запах — и, зажмурившись, плеснул себе в лицо. Интересно, куда он собрался? Я-то думал, что к концу дня он будет пьян в лоск.
— На танцы? — спросил я.
— Ага. Гопак плясать буду.
“И еще интересно, — подумал я, — зачем ему утром был нужен автобус?”
— А по правде?
— По правде, по правде, где она, правда? — проворчал он. — Надоело в номере валяться и польки по радио слушать, вот что! Пойду в кабак, посижу с людьми. Приглашаю.
— Спасибо, у меня свидание с девушкой.
— Вы? — обратился Войтин к Пухальскому.
— Я же не пью, вы знаете. Да и грех в такой вечер под крышей сидеть: жара спала, сейчас гулять хорошо.
— Тучи! — сказал Войтин.
— Хорошо для здоровья: ионов в воздухе много.
Я вдруг представил себе Пухальского маленьким, с ранцем за спиной. Наверное, в школе его звали для краткости “Пух”. Во всяком случае, это подошло бы ему. “Эй, Пух, пошли в расшибалочку играть?” — “Мне мама не разрешает”.
— У вас табачку не найдется? — спросил я Войтина.
— Я уже спрашивал, — сообщил Пух.
— Кончились, — сказал Войтин.
— Может, у покойника в тумбочке завалялись? Я еще ящики не смотрел.
— Он не курил.
— Жалко! Но какое совпадение: сразу у троих курево кончилось! Надо идти покупать.
— Меня не ждите, я еще буду гладить брюки, — сказал Войтин.
— Мы вам купим.
— Сам куплю, когда буду спускаться.
— Пойдемте, Николай Гаврилович?
— Да-да, сейчас.
— Накиньте пиджачок, если потом гулять собираетесь: погода ненадежная, вот-вот хлынет дождь, — посоветовал я.
Он вдруг почему-то смешался. Или мне показалось?
— Я так пойду.
— Слушайте, правда, где ваш пиджак? — спросил Войтин. — Вы каждый вечер в нем ходили, а теперь я его не вижу.
— Забыл где-то.
— То есть как где-то?
— На пляже.
“Странно! — подумал я. — Пиджак — все-таки вещь дорогая, а он даже не пожаловался: забыл, и все”. Я почему-то вспомнил, что убитый Ищенко на фотографии был в пиджаке. Днем, в жару?
— А как здесь с погодой? — спросил я.
— Очень жарко! Может, за десять дней первый раз дождь намечается, — быстро ответил Пух. И, мне показалось, даже облегченно вздохнул оттого, что я сменил тему разговора. — Идемте?
— Счастливо провести вечер, — пожелал я Войтину. Он не ответил.
Мы прошли коридор и стали спускаться по лестнице. Пух шел первым. Одного из прутьев, державших ковровую дорожку, не было, и ковер поехал под ногами. Пух чуть не упал. Я успел ухватить его за руку выше локтя. Он был в плотной, слегка великоватой ему рубашке, и трудно было сказать, крепкого ли он сложения, а тут я ощутил под пальцами литую, тренированную мышцу, как у боксера-перворазрядника. Я никак этого не ожидал. Я вспомнил “рабочую” характеристику Кентавра: “В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически, любит выпить…” Нет, этот не любит. И я сказал:
— Ого, у вас прямо чемпионские бицепсы!
— Я занимаюсь гантелями, — тихо ответил Пух (нет, все-таки Пухальский!). — У меня слабое от природы здоровье, я его укрепляю. Да к тому же оно расшатано неумеренностью.
— В каком смысле?
— В вашем возрасте я любил заглядывать на донышко, — самодовольно сказал Пухальский. — Я пил, простите, как лошадь!
“Ага! — подумал я. — Значит, с Пухальским он тоже не хотел пить”. Я поежился.
— Тут вечером-то на улицу не выйдешь, а?
— Его убили днем. По голове ударили.
— Может, сам упал и стукнулся?
— Нет, его убили.
— Казалось бы, такой тихий городок! — сказал я. — Древний, улочки каменные, и вообще…
— Никогда не верьте внешнему виду, — наставительно сказал Пухальский, надевая чистые очки. Спрятал платок в карман. Улыбнулся: — Вы еще очень молоды, Боря, разрешите вас так называть, и у вас нет жизненного опыта.
— Что верно, то верно! — сказал я.
— Вы не обижайтесь. Это как раз тот недостаток, который исправляется с годами. Простите, вы курите?
— Курю. Но… — я похлопал себя по карманам, — на данном этапе ничем не могу быть полезен.
— Вот досада! Так курить хочется, а купить забыл. Придется идти вниз.
— Так сейчас вместе пойдем. А что он рассказывал про подполье, этот инженер?
— Кто? Ах, Буш этот!
“Ого!” — подумал я.
— Он сам почти ничего не знает. Он говорит, что поселился здесь в сорок восьмом году, а всю эту историю ему пересказал сосед, который живет над ним.
“В этом деле явно не хватает Суркина, — подумал я. — Все идет к тому”. И спросил:
— А сосед партизанил?
— Не знаю. Он чудак какой-то. Когда мы выходили от Буша вместе с Ищенко, он спокойно сидел на скамеечке и дымил папиросой. Потом увидел нас, вдруг бросил папиросу, схватился за скулу и отвернулся. Мы отошли шагов на двадцать, я оглянулся: он пристально смотрит нам вслед и за щеку уже не держится.
— Пьяный? — предположил я.
— Скорее человек с расстроенной психикой.
— Ну, может, он уже сидит в сумасшедшем домике. Давно это было? — равнодушно спросил я.
Пухальский поднял глаза к потолку.
— Второго числа, — вспомнил он.
“Ищенко увидел Суркина второго, — подумал я. — Третьего числа он с кем-то встретился. Пятого убит. Цепочка? Может быть. Если только Буш не придумал зачем-то насчет третьего числа”.
Тут вошел Войтин; он был чисто выбрит и казался намного моложе, чем утром. Он повесил полотенце на спинку кровати, расправил его. Потом налил в ладонь одеколону — по комнате разошелся щекочущий ноздри запах — и, зажмурившись, плеснул себе в лицо. Интересно, куда он собрался? Я-то думал, что к концу дня он будет пьян в лоск.
— На танцы? — спросил я.
— Ага. Гопак плясать буду.
“И еще интересно, — подумал я, — зачем ему утром был нужен автобус?”
— А по правде?
— По правде, по правде, где она, правда? — проворчал он. — Надоело в номере валяться и польки по радио слушать, вот что! Пойду в кабак, посижу с людьми. Приглашаю.
— Спасибо, у меня свидание с девушкой.
— Вы? — обратился Войтин к Пухальскому.
— Я же не пью, вы знаете. Да и грех в такой вечер под крышей сидеть: жара спала, сейчас гулять хорошо.
— Тучи! — сказал Войтин.
— Хорошо для здоровья: ионов в воздухе много.
Я вдруг представил себе Пухальского маленьким, с ранцем за спиной. Наверное, в школе его звали для краткости “Пух”. Во всяком случае, это подошло бы ему. “Эй, Пух, пошли в расшибалочку играть?” — “Мне мама не разрешает”.
— У вас табачку не найдется? — спросил я Войтина.
— Я уже спрашивал, — сообщил Пух.
— Кончились, — сказал Войтин.
— Может, у покойника в тумбочке завалялись? Я еще ящики не смотрел.
— Он не курил.
— Жалко! Но какое совпадение: сразу у троих курево кончилось! Надо идти покупать.
— Меня не ждите, я еще буду гладить брюки, — сказал Войтин.
— Мы вам купим.
— Сам куплю, когда буду спускаться.
— Пойдемте, Николай Гаврилович?
— Да-да, сейчас.
— Накиньте пиджачок, если потом гулять собираетесь: погода ненадежная, вот-вот хлынет дождь, — посоветовал я.
Он вдруг почему-то смешался. Или мне показалось?
— Я так пойду.
— Слушайте, правда, где ваш пиджак? — спросил Войтин. — Вы каждый вечер в нем ходили, а теперь я его не вижу.
— Забыл где-то.
— То есть как где-то?
— На пляже.
“Странно! — подумал я. — Пиджак — все-таки вещь дорогая, а он даже не пожаловался: забыл, и все”. Я почему-то вспомнил, что убитый Ищенко на фотографии был в пиджаке. Днем, в жару?
— А как здесь с погодой? — спросил я.
— Очень жарко! Может, за десять дней первый раз дождь намечается, — быстро ответил Пух. И, мне показалось, даже облегченно вздохнул оттого, что я сменил тему разговора. — Идемте?
— Счастливо провести вечер, — пожелал я Войтину. Он не ответил.
Мы прошли коридор и стали спускаться по лестнице. Пух шел первым. Одного из прутьев, державших ковровую дорожку, не было, и ковер поехал под ногами. Пух чуть не упал. Я успел ухватить его за руку выше локтя. Он был в плотной, слегка великоватой ему рубашке, и трудно было сказать, крепкого ли он сложения, а тут я ощутил под пальцами литую, тренированную мышцу, как у боксера-перворазрядника. Я никак этого не ожидал. Я вспомнил “рабочую” характеристику Кентавра: “В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически, любит выпить…” Нет, этот не любит. И я сказал:
— Ого, у вас прямо чемпионские бицепсы!
— Я занимаюсь гантелями, — тихо ответил Пух (нет, все-таки Пухальский!). — У меня слабое от природы здоровье, я его укрепляю. Да к тому же оно расшатано неумеренностью.
— В каком смысле?
— В вашем возрасте я любил заглядывать на донышко, — самодовольно сказал Пухальский. — Я пил, простите, как лошадь!
Глава 8. Кто что курит
 Табачный ларек около входа в гостиницу был еще открыт. Старушка в окошке — очки на носу, губы поджаты — считала на блюдце мелочь.
— Будьте добры, мне две пачечки “Трезора”, — попросил Пухальский, наклонившись к окошку. — Самые благородные и безвредные сигареты!
— Мне “Джебл”. Столько же.
— Тоже предпочитаете болгарские? А наш моряк курит исключительно “Беломор”. Я не люблю папирос, они часто гаснут, и их надо сильно тянуть.
Я машинально посмотрел на витрину: “Беломорканал” был выставлен.
— Мать, “Беломор” редко бывает?
— А всегда… Почитай, месяц торгую без перебоя.
В тот промежуток времени, когда был убит Ищенко, Войтин выходил за папиросами. Он отсутствовал 20 минут, по показаниям дежурной. Чтобы не торопясь спуститься сюда и вернуться на третий этаж, нужно максимум три минуты. Может быть, он прогуливался? Нет, он твердо сказал: ходил за папиросами. Когда надо доказать алиби с точностью до нескольких минут, человек обычно подробно указывает, что он делал. Может быть, этот киоск был закрыт и Войтину пришлось идти до следующего?
— О чем задумались?
— А? Вспомнил одну веселую историю.
— Расскажите.
Я закурил и рассказал старый анекдот. Пухальский посмеялся. Потом он рассказал свой анекдот, и теперь захохотал я.
— Вы в какую сторону направляетесь, если не секрет? — спросил Пухальский благожелательно.
— А вы?
Я не хотел, чтобы он шел за мной в гостиницу.
— Куда глаза глядят.
— Могу вас проводить, имею четверть часа свободного времени. А потом убегу. Идет?
— Конечно, конечно.
Мы пошли по бульвару, который начинался за гостиницей. Еще не смерклось. Тучи разметало по небу, и над крышами проступила полоска заката. В высоком доме напротив плавились окна, отсвечивая слюдой.
— Слушайте, вы сказали: его фамилия Буш, ну… того инженера, что рассказывал про подполье? А его зовут не Генрих Осипович? Бегемотик такой?
Пухальский остановился: слепо блеснули очки.
— Именно.
— Господи! — сказал я обрадованно. — Как тесен мир! Я ж его буквально четыре часа назад вытолкнул из-под машины! Вот так “Волга” — р-раз! А он идет себе… Я его в последний момент толкнул! Мы познакомились. Он меня к себе зазвал.
— Ногу вы растянули, когда его спасали?
“Хм!” — подумал я. Я на всякий случай слегка прихрамывал.
— Ага! Он как вам показался? По-моему, ничего мужик, верно?
— Не знаю, — уклонился от прямого ответа Пухальский. — Я только один раз был у него. Инженер он толковый, наладил в цехе производство стандартной разборной мебели.
— А квартирка у него обставлена подходяще. Картины красивые висят. Он, наверное, рублей двести получает!
У нас получался не то чтобы искренний, но довольно непринужденный разговор: в таком собеседник легко выкладывает свое отношение к тому или иному в жизни. Но Пухальский только неопределенно хмыкнул.
— Насчет женщин он тоже не промах, — добавил я.
— С чего вы решили? — вдруг заинтересовался Пухальский.
— У него такая красотка была!
— Да?
— Ага!
И снова Пухальский уклонился от какого-либо развития этой новой “темы”. Из него трудно было что-нибудь вытянуть. Это напоминало игру: “Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, “да” и “нет” не говорите, белое и черное не выбирайте…” Как будто он дал зарок не говорить ничего определенного!
— Вы москвич? — спросил он.
— Да, — сказал я. — А что?
— Да так, ничего. Заметно. — Он сказал это без холодка, скорее даже с одобрением.
— Москвичей узнают сразу, — гордо сказал я. Потом заметил как бы мимоходом: — Дождя-то не будет. Так что можно и без пиджака.
Он сделал вид, что не слышит, и, согнувшись, стал раскуривать сигарету. Мне пора было в гостиницу: я увел его достаточно далеко. Еще по дороге надо было сделать одно дело.
— Ну, я побегу, Николай Гаврилович, — сказал я.
Он распрямился.
— Что, пора уже? Хорошая девушка? Ну, не уроните чести нашего номера.
Я свернул с бульвара и, попав на параллельную улицу, нашел телефон-автомат. “Привет от Коли, — сказал я, набрав номер. — Вы предлагали Клаве опознать… дядю?” — “Она сказала, что ей тяжело его видеть. Мы не настаивали”. — “Опишите подробно, как он был одет?” — “Темно-синие лавсановые брюки, немного коротки ему. Белая простая рубашка. Пиджак…”- “Стоп! Какой пиджак?” — “Серый, в полоску”. — “Покупной или сделан на заказ?” — “Венгерский”. — “Какая была погода в утро происшествия?” — “М-м, жара”. — “Дождь не собирался?” — “Нет”. — “Проверьте, есть ли в карманах табачные крошки — отдельно в брюках и в пиджаке. Второе: работала ли табачная лавка у входа в гостиницу в то утро. Третье: соберите сведения о соседе Генриха с улицы Чернышевского. Он живет наверху, на втором этаже. Свяжитесь с Новосибирском: меня интересует друг Клавы, некий Карик. Где он сейчас? Все”.
Я повесил трубку и быстро пошел к гостинице. По лестнице я поднимался осторожно, потому что вовсе не хотел столкнуться с Войтиным. Миновав сваленные у стены доски, я прошел к столику Быстрицкой. Было без пяти восемь. Я скосил глаза на щиток с ключами, “305” висел на гвозде. Войтин уже ушел. Быстрицкая что-то писала в книге дежурства. Рядом стояла ее сменщица.
Я постучал костяшками пальцев по столу.
— Тук-тук, можно войти?
Сменщица неодобрительно покосилась на меня. А Быстрицкая подняла голову.
— А, это вы?
— Точен, как этот механизм, — сказал я, показывая на часы.
Табачный ларек около входа в гостиницу был еще открыт. Старушка в окошке — очки на носу, губы поджаты — считала на блюдце мелочь.
— Будьте добры, мне две пачечки “Трезора”, — попросил Пухальский, наклонившись к окошку. — Самые благородные и безвредные сигареты!
— Мне “Джебл”. Столько же.
— Тоже предпочитаете болгарские? А наш моряк курит исключительно “Беломор”. Я не люблю папирос, они часто гаснут, и их надо сильно тянуть.
Я машинально посмотрел на витрину: “Беломорканал” был выставлен.
— Мать, “Беломор” редко бывает?
— А всегда… Почитай, месяц торгую без перебоя.
В тот промежуток времени, когда был убит Ищенко, Войтин выходил за папиросами. Он отсутствовал 20 минут, по показаниям дежурной. Чтобы не торопясь спуститься сюда и вернуться на третий этаж, нужно максимум три минуты. Может быть, он прогуливался? Нет, он твердо сказал: ходил за папиросами. Когда надо доказать алиби с точностью до нескольких минут, человек обычно подробно указывает, что он делал. Может быть, этот киоск был закрыт и Войтину пришлось идти до следующего?
— О чем задумались?
— А? Вспомнил одну веселую историю.
— Расскажите.
Я закурил и рассказал старый анекдот. Пухальский посмеялся. Потом он рассказал свой анекдот, и теперь захохотал я.
— Вы в какую сторону направляетесь, если не секрет? — спросил Пухальский благожелательно.
— А вы?
Я не хотел, чтобы он шел за мной в гостиницу.
— Куда глаза глядят.
— Могу вас проводить, имею четверть часа свободного времени. А потом убегу. Идет?
— Конечно, конечно.
Мы пошли по бульвару, который начинался за гостиницей. Еще не смерклось. Тучи разметало по небу, и над крышами проступила полоска заката. В высоком доме напротив плавились окна, отсвечивая слюдой.
— Слушайте, вы сказали: его фамилия Буш, ну… того инженера, что рассказывал про подполье? А его зовут не Генрих Осипович? Бегемотик такой?
Пухальский остановился: слепо блеснули очки.
— Именно.
— Господи! — сказал я обрадованно. — Как тесен мир! Я ж его буквально четыре часа назад вытолкнул из-под машины! Вот так “Волга” — р-раз! А он идет себе… Я его в последний момент толкнул! Мы познакомились. Он меня к себе зазвал.
— Ногу вы растянули, когда его спасали?
“Хм!” — подумал я. Я на всякий случай слегка прихрамывал.
— Ага! Он как вам показался? По-моему, ничего мужик, верно?
— Не знаю, — уклонился от прямого ответа Пухальский. — Я только один раз был у него. Инженер он толковый, наладил в цехе производство стандартной разборной мебели.
— А квартирка у него обставлена подходяще. Картины красивые висят. Он, наверное, рублей двести получает!
У нас получался не то чтобы искренний, но довольно непринужденный разговор: в таком собеседник легко выкладывает свое отношение к тому или иному в жизни. Но Пухальский только неопределенно хмыкнул.
— Насчет женщин он тоже не промах, — добавил я.
— С чего вы решили? — вдруг заинтересовался Пухальский.
— У него такая красотка была!
— Да?
— Ага!
И снова Пухальский уклонился от какого-либо развития этой новой “темы”. Из него трудно было что-нибудь вытянуть. Это напоминало игру: “Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, “да” и “нет” не говорите, белое и черное не выбирайте…” Как будто он дал зарок не говорить ничего определенного!
— Вы москвич? — спросил он.
— Да, — сказал я. — А что?
— Да так, ничего. Заметно. — Он сказал это без холодка, скорее даже с одобрением.
— Москвичей узнают сразу, — гордо сказал я. Потом заметил как бы мимоходом: — Дождя-то не будет. Так что можно и без пиджака.
Он сделал вид, что не слышит, и, согнувшись, стал раскуривать сигарету. Мне пора было в гостиницу: я увел его достаточно далеко. Еще по дороге надо было сделать одно дело.
— Ну, я побегу, Николай Гаврилович, — сказал я.
Он распрямился.
— Что, пора уже? Хорошая девушка? Ну, не уроните чести нашего номера.
Я свернул с бульвара и, попав на параллельную улицу, нашел телефон-автомат. “Привет от Коли, — сказал я, набрав номер. — Вы предлагали Клаве опознать… дядю?” — “Она сказала, что ей тяжело его видеть. Мы не настаивали”. — “Опишите подробно, как он был одет?” — “Темно-синие лавсановые брюки, немного коротки ему. Белая простая рубашка. Пиджак…”- “Стоп! Какой пиджак?” — “Серый, в полоску”. — “Покупной или сделан на заказ?” — “Венгерский”. — “Какая была погода в утро происшествия?” — “М-м, жара”. — “Дождь не собирался?” — “Нет”. — “Проверьте, есть ли в карманах табачные крошки — отдельно в брюках и в пиджаке. Второе: работала ли табачная лавка у входа в гостиницу в то утро. Третье: соберите сведения о соседе Генриха с улицы Чернышевского. Он живет наверху, на втором этаже. Свяжитесь с Новосибирском: меня интересует друг Клавы, некий Карик. Где он сейчас? Все”.
Я повесил трубку и быстро пошел к гостинице. По лестнице я поднимался осторожно, потому что вовсе не хотел столкнуться с Войтиным. Миновав сваленные у стены доски, я прошел к столику Быстрицкой. Было без пяти восемь. Я скосил глаза на щиток с ключами, “305” висел на гвозде. Войтин уже ушел. Быстрицкая что-то писала в книге дежурства. Рядом стояла ее сменщица.
Я постучал костяшками пальцев по столу.
— Тук-тук, можно войти?
Сменщица неодобрительно покосилась на меня. А Быстрицкая подняла голову.
— А, это вы?
— Точен, как этот механизм, — сказал я, показывая на часы.
Глава 9. “Тебя как звать?” — “Никак”

На улице смерклось окончательно. Тучи снова сгустились над городом, бульвар потемнел (фонари еще не зажглись), поднялся ветер и зашелестел листвой. Я взял Быстрицкую под руку. — Вам не холодно? Она сказала, что не очень. Я стал снимать свою куртку — старенькую, “студенческую”. — Нет, неудобно. — Бросьте! Если холодно, надо утепляться: это естественно. — Про меня и так сплетни разводят. Увидят, что я в вашей куртке, совсем заедят. — Никого ж нет. — Это только кажется: здесь все всех знают. Она была в клетчатом платье, через плечо висела сумка. Ветер путал ее волосы, и время от времени она гордо откидывала голову. — Куда мы идем? — Я домой, а вы — не знаю. Наверное, провожаете меня. — Слушайте, это нечестно! Давайте посидим в тепле, в кафе каком-нибудь. — Не хочу. Я заступил ей дорогу. — Раечка, вы только представьте себе: я сейчас приду в номер, я совсем один, и мне будет так грустно. Я не зажгу свет, сяду на кровати и буду плакать горючими слезами. Она засмеялась. — А вы свет зажгите! — Вот видите, какая вы жестокая! — сказал я. — Вы, между прочим, похожи на какую-то актрису: не могу вспомнить, как ее зовут. — Мне уже говорили, что я напоминаю Барбару Брыльску. Вы не новы. У меня только цвет волос другой. А правда, похожа? Вы тоже это находите? — Вылитая Барбара, — сказал я торжественно. — Барбара, вкафе пойдем? — Нет. Вы женаты? — Женат. — Странно, обычно говорят, что нет. А почему вы кольца не носите? — Не люблю. — Ваша жена тоже не носит? — Конечно. — Так изменять удобнее. Вы своей жене изменяете? “Вот черт! — подумал я. — Но другого-то выхода у меня не было: как еще я мог с ней познакомиться? Мы расстанемся добрыми товарищами, но часа два мне придется корчить из себя бог знает что”. — Я люблю ее, — сказал я. — А она красивая? — По-моему, да. — Наверное, красивая. У вас должна быть красивая жена. — Послушайте, мне совсем не хочется говорить с вами о ней. Давайте говорить о вас. Вот вы такая хорошенькая — наверное, отбоя нет от женихов. “Как я старомодно сказал! — подумал я. — Наверное, так говорил с ней Тарас Михайлович Ищенко”. Она скорчила гримаску. — Поберегите комплименты для жены. А потом… мне никто не нравится. — Так уж никто? — Не знаю. Я, наверное, легкомысленная. Здесь есть один парень, он влюблен в меня по уши, ну а мне интересно с людьми, которые рассказывают всякие истории… ну, словом, от которых я что-то узнаю. Здесь же страшная провинция, вы себе представить не можете! А он ревнует. — Разве что-то узнать можно только от приезжих? Вы читать любите? — Когда есть свободное время, читаю. — Толстого читали? — Какого? Льва? Мы его в школе проходили. — “Проходи-или”! — передразнил я. — Вы “Анну Каренину” читали? — К нам приезжал театр, я инсценировку смотрела. Скучища! — Господи! А “Холстомер”? Когда старый мерин ночью рассказывает лошадям историю своей жизни… — Нет! — заявила она. — Все Толстые там, Чеховы — они устарели. Они писали не про нас, мы совсем другие. — Ну, знаете! — А на вкус и цвет товарищей нет, известна вам такая пословица? — Известна, — сказал я. Она спросила меня, не в отпуск ли я приехал. Я изложил свою историю. Она сказала, что завидует мужчинам и что женская доля гораздо скучнее и непригляднее: женщин матросами не берут. — Давайте посидим на скамейке, если не совсем замерзли, — предложил я. — Да нет, ничего. Мы сели. — Правда, возьмите куртку. — Ну, давайте. А вы? — Я закаленный. — Вы имейте в виду? ночью в гостинице бывает холодно. Вы попросите теплое одеяло у Хильды — ну, она меня сменила, — она добрая, даст вам. — Спасибо. Трудно работать целые сутки? — Потом отсыпаемся. И на дежурстве можно поспать: у нас только сорок восемь номеров, даром что вестибюль громадина, а трехзначные номера комнат — липа, первая цифра обозначает этаж. Горсовет хочет новую гостиницу строить, та будет многоместная. — Перейдете туда? — Не знаю. А вообще-то уехать бы за тридевять земель! — А мне нравится ваш город: море под боком, и вообще… — Разве это море! В прошлом году я была на юге — там о’кэй!.. А здесь дождь зарядит и идет месяц. Знаете, как действует на нервы, ужас! — Тогда уезжайте. — Никто не берет. Вот вы бы не были женаты, увезли бы меня? — Тоном она дала понять, что это шутка. — Обязательно, — сказал я. — Знаете, за что мужчина нравится женщине? За любезность, за го, что он джентльмен и уступает ей. Но он не должен принимать женщину всерьез, тогда с ним легко и приятно. Я вам выдаю наши секреты, да? А тот парень, про которого я говорила, он сухарь, он все понимает только всерьез: давай женимся, давай будем любить друг друга до конца жизни! — Бывает, — сказал я. Мы сидели возле детской площадки. Совсем стемнело. Зажглись газовые фонари, дававшие какой-то ядовитый свет. От деревьев упали тени. Мальчуган лет шести возился в песочной куче. Напротив нас — в тени на скамейке белели только лица — устроилась парочка. Он обнимал ее, а она визгливо хохотала. — Противная она, верно? — кивнула Быстрицкая. — Зачем так зло? Вы же ее не знаете. — А вы до-обренький! — протянула она. — Между прочим, вы на несчастливом месте поселились. — В каком смысле? “Интересная ассоциативная связь, — подумал я, — “добренький” и — Ищенко”. — Неужели соседи не рассказали? — Нет. — Человек, который жил на вашей койке, убит. — То есть? — переспросил я с глупым выражением. — Очень просто: убит, — повторила она. И мне показалось: с удовольствием. — За что? — Откуда я знаю! Только он подлый-подлый был, не зря его стукнули. “Так”, — отметил я. Об Ищенко отзывались по-разному, но такой крайней характеристики еще не давал никто, интересно, что это сделала именно Быстрицкая. — Вы его хорошо знали? — Нет. — Я смотрю, вы любите красить людей в черный цвет. Женщину напротив обхаяли, того человека… Может, зря? — Не зря, — упрямо сказала она. — За что вы его так? — Было за что. — Он что, приставал к вам? — Не хочу о нем! — Ну и не надо. А убийцу-то поймали? Она зябко повела плечами и, оглянувшись, ответила почему-то шепотом: — Не поймали. Я не предполагал узнать сегодня все. Пока надо было просто сориентироваться: я как бы находился в незнакомом лесу и искал тропинку, которая выведет меня к цели. Я кое-что знал об этой тропинке, но пока не мог увидеть ее. А еще я был похож на пеленгационную машину с вращающейся чуткой антенной — она ползет из улицы в улицу, крутится по городу, чтобы выделить среди множества других волну врага, засечь ее, поймать в перекрестие радиусов. Но скорей всего я просто был человеком, который должен знать истину, но не знает ее. И мне было беспокойно. — Тебя как звать? — донеслось с противоположной скамейки. Даме, сидевшей там, наскучило хохотать, теперь она допрашивала мальчика, который по-прежнему копался в песке. — Никак! — сердито ответил тот. — Ха-ха, мальчик Никак! “Вот и его пока зовут Никак”, — подумал я про того, кто убил Ищенко. — А по фамилии? — продолжала забавляться она. — Дурак! — сказал в рифму упрямый мальчик. Дама зашлась от смеха. “А тот вовсе не дурак”, — опять подумал я. — Ты что в темноте сидишь? Иди домой! — сказала дама. — Еще чего! — ответил мальчик. — Его же домой отвести надо, а мы тут сидим, — вскочила Быстрицкая. Она шагнула через барьерчик в песок, присела перед мальчиком, очистила ему ладони от песка. — Пойдешь со мной? Странное дело: мальчуган не выдернул руки и послушно шагнул на дорожку. — Держите свою куртку, она сползает у меня с плеч! Сумочку возьмите! Эх вы, кавалер! — деловито командовала она. Потом наклонилась к мальчику: — Где ты живешь? — Вона! — Он небрежно махнул рукой в сторону высокого дома. — А зачем по ночам гуляешь? Мальчик молчал. — Мамка где? — На работе. — Она во вторую смену работает? — В продмаге, — четко ответил мальчик. — Есть хочешь? Он снова не ответил. Мы вышли с бульвара на улицу. Здесь было много народу, по мостовой катили машины. Быстрицкая велела нам постоять, взяла сумочку и нырнула в открытую дверь булочной. Она вышла, держа в руке плюшку. Мальчик вонзился в булку зубами и благодарно поглядел на Быстрицкую. Мы прошли в темный — колодцем — двор, поднялись на второй этаж. Я позвонил. Нам открыла женщина, повязанная платком. На лестнице было темно, и на нас падала полоса света из двери. — Я-то собралась бежать искать его! Вот спасибо! Шляется где-то, чертенок, угомону на него нет! Пришла с работы: пустая комната. Может, зайдете, а? — Нет, нет! — сказала Быстрицкая. — Мы пойдем. Она стала спускаться вниз. Я шел чуть позади. “Когда ты приглядываешься к человеку, — учил меня начальник отдела Шимкус, — то предпосылкой должно быть: он невиновен. Старайся сначала доказать это. Так тебе будет легче работать, и так будет лучше для дела. Для людей. Не забывай, что ты работаешь для людей”. Самое главное — установить, что за человек перед тобой: никакие анкеты в мире не могут помочь сделать это. Как хорошо, если б в характеристике Быстрицкой было написано: “Может накормить голодного мальчика сдобой и отвести домой”. Конечно, это ничего не решало, но все-таки это было кое-что… Я довольно хмыкнул. — Что вы там мычите? — спросила Быстрицкая. — Просто так. — У меня что-нибудь с платьем не в порядке? — Она изогнулась и попыталась заглянуть себе за спину. — Нет, нет! Это я сам с собой. Сначала понять, что за человек перед тобой. Потом решать, он или не он!
Глава 10. Вполне быть уверенным я не имел права

Мы снова вышли на бульвар, который круто поднимался в гору. Мы влезли на самый верх. Здесь было темно и тихо, с одной стороны был обрыв, и у нас под ногами лежал ночной город. Центральная улица текла, окаймленная огнями: там гудели машины, звенели трамваи. Дальше чернела громада замка с острыми клиньями готических башен — его выстроил, наверное, еще рыцарский тевтонский орден. Я набросил куртку на плечи Быстрицкой. Внизу лежал город, в котором раздался отзвук войны. Война кончилась в сорок пятом, но она продолжалась. — Зато мне повезло на соседей, — сказал я. — Это к вопросу о несчастливом месте. — Да, Николай Гаврилович — очень приличный, вежливый человек. — А моряк вам не нравится? — Он разве моряк? Не знала. Нет, не нравится, он не поздоровается никогда. Один раз, когда я отлучилась на пять минут, ему нужно было платить за койку, так он такой тарарам поднял: “Вы должны рабо-отать, а не маникюрами заниматься”. А я к Нинке из камеры хранения спустилась, она никак не может решиться, выходить ей замуж или нет. Он грузин, у него машина, говорит, на руках носить будет, а она колеблется. Зря, да? Мы почти пришли. Бон там я живу, это окраина. — Одна живете? — В гости собираетесь? — Что вы! Просто так. — С теткой. Отец погиб восьмого мая сорок пятого года, глупо, да? Что же вы молчите? Обещали, что с вами не будет скучно, а сами молчите! — Не капризничайте. — Вот еще! Вы гнусный обманщик: не держите слова. Что ж, я рассказал ей две истории: про выпившего человека, которому мерещился голубой крокодильчик, и другую, о том, как проходил набор в театральный институт. Потом сказал: — Хороший вечер, тихий. Трепаться не хочется. — Ага. — Значит, не будем. Некоторое время мы молчали. Потом она спросила: — Только не смейтесь: у вас есть цель в жизни? — Да, — ответил я. У меня была цель в жизни: уничтожить всю дрянь на земле. Это была наша общая цель, но, помимо того, и моя личная. Я знал, что эта цель недостижима. Я не пессимист, нет. Просто я трезво рассчитал, что моей жизни на это не хватит. Недостижима для меня. Может быть, достижима для моего сына. Наверняка — для сына моего сына. Но если я мало сделаю сейчас, она будет недостижима для него тоже. Я редко специально думал об этом, но помнил всегда. — Настоящая и большая? — спросила она. — Да. — А… какая? И мне пришлось щелкнуть ее по носу, потому что придумывать что-либо я не хотел. Если же не говорить конкретно, чем я занимаюсь, то говорить обо всем этом вслух неловко и трудно. — Мы с вами недостаточно знакомы, а такими вещами делятся только с близкими людьми, — сказал я. Тут я испугался, что она поймет меня неправильно — как какой-то намек. Но она промолчала. По-настоящему обижаться она не умела, потому что через минуту заговорила: — Я завидую вам! Вот не желаю завидовать, а завидую. Я тоже хочу иметь цель в жизни, и любимую работу, и не сидеть в этой паршивой гостинице! — Хотите, я вас поглажу по голове? Просто так. Как маленькую? — Ну вас! Пойдемте вон туда. Она потянула меня за руку. Слева лепились дома, скупо освещенные фонарем на столбе. Справа были темный пустырь и сосны. Она повела меня туда. Я шел осторожно, боясь запнуться за корень: после освещенной улицы я ничего не видел. Мы прошли под соснами. — Стойте! — предупредила она шепотом. — Чиркните спичкой и смотрите вниз. Я чиркнул. Деревья отступили и стали еще черней. У наших ног лежала мраморная плита с поблескивающими буквами. Зажигая спички одну от другой, я прочел: “Здесь лежат погибшие в бою за город 22 ноября 1944 года: старший лейтенант Торлин Н.И. 1912, лейтенант Дризе Ю.А. 1920, рядовые: Байтемиров Ю.С. 1920, Карпавичюс Э. 1903, Губа И.В. 1922, Елагин К. 1923”. — Когда я была маленькой, мне казалось, что здесь лежит отец. — Она заговорила только тогда, когда мы вернулись под фонарь. — Еще я воображала себя медицинской сестрой: я выносила его с поля боя, перевязывала, и он оставался жив. Мне его очень недостает. Как тихо, правда? Все уже спят. — Угу, — сказал я. Я был почти уверен, что она ни в чем не виновата. Вполне быть уверенным я не имел права: за час до убийства ее видели с Ищенко на пляже. Кроме того, в ходе расследования Евгения Августовна Станкене сообщила следующее: когда Ищенко прошел мимо, не пожелав ее узнать, она увидела Раю Быстрицкую. “Я ее хорошо знаю, я всех в городе знаю, — писала Станкене, — я окликнула ее, но она не услышала или сделала вид, что не слышит. Она явно бежала за Ищенко, боясь упустить его из виду”. Станкене добавляла, что сначала она не придала этому значения, но когда узнала, что Ищенко был убит через несколько минут после встречи с ней, сочла данное обстоятельство немаловажным. Капитан Сипарис пока не трогал Быстрицкую. — Идемте, — сказала она. — Я тоже хочу спать, я ужасно устала. — Мы завтра увидимся на пляже? — Может быть. — Хотя вон тучи. — Я повертел головой, стараясь разглядеть что-нибудь в небе. — Мне на руку несколько капель упало. — Распогодится! Я обычно лежу там, где кончается улица Прудиса, она выходит прямо к морю. “Улица Прудиса, — вспомнил я, — это там находится рыбное управление. Мне нужно все-таки побеспокоиться насчет работы”. Кроме того, меня интересовал работавший там сосед Буша — Суркин. — Ах, вы же не знаете города! Запоминайте, очень просто: Пру-ди-са, вам всякий покажет. Только я приду попозже, надо выспаться. Теперь мы шли по мостовой, мощенной булыжником: тротуар сузился, и вдвоем на нем было тесно. Казалось, мы передвигаемся по дну ущелья: противоположные стороны улицы сдвинулись, стены домов, освещенные фонарями до первого этажа, круто уходили вверх в черное небо. “Декорации к Шекспиру”, — подумал я. Потом мы свернули в такую же средневековую боковую улочку и неожиданно вышли в современный квартал: стандартные дома-коробки с балконами, травянистые газоны. Здесь одуряюще пахло сиренью. По проспекту прошел пустой автобус — он был ярко освещен изнутри. Мы пересекли проспект. На скамейке под пышным кустом сирени сидел парень и брал на гитаре одну и ту же ноту — получалось довольно тоскливо. В тени куста белела его рубашка. Быстрицкая не сразу заметила его. — Мы почти пришли. — Раечка? Парень поднялся и ущипнул басовую струну. Гитара угрожающе загудела. Мы стояли почти вплотную, у парня было неприятное толстое лицо. Он был плечист. “Примерно моего веса, — прикинул я. — Килограммов восемьдесят пять”. — Опять, девочка, крутишь с приезжими любовь? А что скажет Сема, когда узнает? Быстрицкая передернула плечами. На ней была моя куртка, поэтому жест получился немного смешным: рукава болтались ниже колен. — Иди донеси! Но я ясно видел: ей все это было неприятно. И эта неприязнь распространилась так же на меня, потому что отчасти я был виноват. Я держал ее под руку, и теперь она высвободилась. — Нет, ты мне скажи, на что это похоже? — не отставал тот. — Мой друг верит ей. а она тут с какими-то весело время проводит, а? — Он тебе не друг! Ты любого продашь за четвертинку. — Как, как ты сказала? — заинтересовался тот. “Работает под блатного, — подумал я. — Схватит срок, будет блатным, если не остановят”. Мне пора было вмешаться. “Странствующий рыцарь из Комитета госбезопасности”, — мельком усмехнулся я и шагнул вперед. — О любви не говори, о ней все ска-азано, — пропел я ему в лицо. — Тридцать три? — Чего? — А ты чего? — Я-то ничего. — Вот и порядочек, — сказал я деловито. — Можешь считать себя свободным. “Мы, московские студенты, — подумал я, — никому спуску не даем”. Парень явно стушевался. Он отступил, сплюнул и пробормотал себе под нос что-то вроде “неохота связываться”. Но скорей всего он просто не любил драться в одиночку, потому что, когда мы отошли, он негромко крикнул: — Морду мы тебе еще пощупаем, сволочь! — Не обращайте внимания, — сказала Быстрицкая. — Я не обращаю. “Он слишком легко отлепился. Следует ждать продолжения”, — подумал я. — А здорово вы его! У, шпана несчастная! Вы, пожалуйста, не связывайтесь с ними. Идите к гостинице не так, как мы шли, я вам покажу. — Обязательно, — заверил я ее. — А кто этот Семен? — Тот парень, о котором я вам говорила. Вы правда идите другой дорогой. А вот мой подъезд. Возле водосточной трубы притулилась кошка. “Кис кис-кис”, — позвала Быстрицкая. Кошка не послушалась и потрусила в подворотню с железными воротами. На стене было нацарапано углем: “Лена, я так любил!” Пахло жареной рыбой. Во дворе орал радиоприемник. Было, наверное, уже часов одиннадцать: мне не хотелось смотреть на часы так, чтобы Быстрицкая это видела. Что-то прогудело вдалеке — так гудят летом электрички в дачных поселках возле крупных городов. — Знаете, — шепотом сказала Быстрицкая, — только вы не подумайте ничего, мне страшно идти одной в подъезд: у нас лампочка перегорела. Нет, сначала я покажу, как вам возвращаться. Я механически запоминал дорогу сюда и, не раздумывая ни на одном перекрестке, мог вернуться в гостиницу “Пордус”. Другим путем я идти не собирался, потому что, если меня ждет Семен с дружками, имело смысл на него посмотреть: меня интересовало все связанное с Быстрицкой. Но я слушал ее внимательно. Потом мы вошли в подъезд и, нащупывая ногами ступеньки, стали подниматься. — Вот здесь. Посветите мне спичками. Она стала отпирать дверь ключом. Я держался подальше. — Ну вот! А теперь я хочу тебе сказать: ты очень хороший! Ты не приставал и не распускал руки, когда мы сидели на скамейке. Привет! Она юркнула в дверь. Куртка осталась у меня в руках. Я натянул ее, немного постоял и стал спускаться. Мне крупно везло: три раза за этот день я слышал, что я хороший. Бывает же! Выйдя из подъезда, я взглянул по сторонам: никого не было. На всякий случай я пошел посередине мостовой, держась настороже, и не зря! Когда я свернул за угол, раздался тихий свист. Под фонарем стояли двое, один — “блатной” (так я его окрестил) в белой рубашке. Гитару он где-то оставил. Они, конечно, поджидали меня. Я остановился в нескольких шагах, сгорбился и, закрывая ладонями огонек спички, стал прикуривать. Сам я смотрел на них, потому что, если смотреть на огонь, а потом очутиться в темноте, можно на момент ослепнуть.
 — Хороший вечер, — сказал я.
Они молчали. Вероятно, претензии имел ко мне тот, что стоял впереди. “Похоже, его зовут Семеном”, — подумал я. “Блатной” в белой рубашке “опекал” его — он стоял сбоку и держал руку в кармане. Его надо было нейтрализовать первым. Он стал придвигаться ко мне.
— Чего ж только двое? — спросил я. — Надо бы человек пять собрать. Или времени не было?
Тут я заметил третьего. Он отделился от кустов сирени и стал заходить сбоку. “Ай-я-яй, — подумал я. — Мне так не хочется этого”. Мне не хотелось драться Но другого выхода не было, поэтому надо было начинать первым. Я даже не успел сунуть коробок в карман Я сделал шаг вперед, “блатной” замахнулся. Шаг вбок — и я перехватил его правую руку, в которой было, конечно, что-то зажато — самодельный кастет или свинчатка. Я терпеть не могу любителей драться компанией на одного, и поэтому я не почувствовал неловкости, ударив “блатного” сверху вниз рубящим ударом — ребром ладони в основание шеи. На моем месте вполне мог быть кто-то другой, он мог не заниматься борьбой с пятнадцати лет и не кончать спецкурса по самообороне. Его бы они избили без всякой жалости. Краем зрения я не упускал из виду и того, которого мысленно называл Семеном, — он, несомненно, был центральной фигурой, а “блатной” только подбивал его на “месть”, — и когда он кинулся на меня, я ушел вбок и подставил вместо себя тушу “блатного”. Семен споткнулся. Они оба упали. Я отскочил, принял третьего: обманный нырок и — коротко — “под дых”. Он осел на мостовую. “Блатной” тоже был не в счет: он держался рукой за ключицу и постанывал. Мне пока везло. Я отскочил назад: я не хотел выводить того, которого считал Семеном, из строя и поэтому должен был быть внимательным, но если б мы возились рядом с теми двумя, они могли бы мне повредить. Мне было интересно, нападет ли Семен теперь, когда он остался один. А Семен кинулся ко мне. Это мне понравилось, потому что он видел, что приятели на помощь не придут. Я был почти уверен, что не он инициатор бить втроем. Я поймал его за одежду, перевел в удобное положение и сделал самое простое — заднюю подножку. Он поднялся и снова пошел на меня.
— А можно так!
Я провел обратный бросок через спину — эффектный прием. Очень мне не хотелось всего этого делать, но потом я решил, что, может быть, так даже лучше. Я старался осторожнее тушировать его и подстраховывал: он не был серьезным противником.
Теперь он сидел на мостовой и тяжело дышал. Вставать он не собирался. А может, он вовсе не Семен? Остальные стояли вразброд кругом.
— Дзю-до, да? Самбо, да? — ныл “блатной”.
— Он профессионал, — презрительно сказал “Семен”. — Заколачивает денежки в цирке: Григорий Новак с сыновьями.
— Меня зовут Борис, — сказал я. — Если хочешь, давай теперь по-человечески.
— А что ты к его девчонке липнешь, сволочь? — спросил тот, который по-прежнему держался за шею, “блатной”.
Так. После драки по этикету полагался “разбор полетов”: кто, за что и почему. Но я не ошибся- это все-таки был Семен.
— Помолчи, — сказал Семен своему приятелю.
— Насчет твоей девчонки я ничего не имею, понятно? И она ко мне как к столбу деревянному. Просто я один в чужом городе, мне поговорить-то не с кем, я пошел проводить ее после дежурства.
— Все вы так!
— Брось, Семен! Она про тебя говорила, что ты приличный парень. Она мне про тебя говорила, понимаешь? Она бы не стала этого делать, если б у нее было что-то со мной.
Я протянул ему руку, чтобы помочь встать. Он чуть помешкал и принял ее.
— Не слушай его, Семка! — морщился “блатной”.
А третий молчал. Он был моложе всех. Он уже оправился, курил, но никак не вмешивался в разговор. Видно было: он не из тех, что стоят “кодлой” в подворотне и отпускают замечания в спину одиноким прохожим, — тоже затесался сюда случайно. Я следил за ним, когда возился с Семеном, но он-то не знал этого и вполне мог ударить меня в спину. Но не сделал этого. Я уже жалел, что не вступил в предварительные переговоры. Хотя поладить с “блатным” до “полетов” вряд ли удалось бы.
Подняв Семена, я сказал всей компании:
— Не доверять следует тому, кто чего-то хочет от вас. Я, кажется, непохож на такого человека. Скорее наоборот: вы добивались от меня чего-то. Улавливаешь логику? — Я обратился к “блатному”.
— Какую еще логику? — затянул тот.
Он успокоился и понял, что бить я их не буду. Он теперь выламывался перед дружками, желая показать, что он вовсе не трус.
— Напридумывают всякого, а я их понимать должен!
— Купи словарь иностранных слов, — посоветовал я.
Я подобрал валявшийся на асфальте коробок — его чудом не раздавили во время потасовки — и закурил.
— Куришь? — Я протянул сигареты Семену.
— У меня свои.
Третий, который молчал и только что бросил окурок, взял. И “блатной” потянулся.
— А только ты первым начал, мы поговорить хотели, — сказал Семен.
— И только?
Он промолчал.
— Разговорчики со свинчаткой знаешь чем кончаются? Вон она, в кармане у твоего компаньона, подобрал. Пользоваться не может, а лезет. — Я глубоко затянулся. — Между прочим, вы мне кастет можете достать? Хорошо заплачу или сменяюсь на что-нибудь.
“Блатной” оживился:
— На кой ляд он тебе?
— Чтоб с такими, как ты, себя спокойно чувствовать. Ну, достанешь?
— Попробовать можно, — уклончиво сказал он.
— Только не самоделку какую! Мне настоящий нужен, хорошо бы немецкий.
— Где я тебе возьму?
— Может, я достану, — внезапно сказал тот, что до сих пор не произнес ни слова.
— Сколько возьмешь? — До этого я следил за Семеном, а теперь сразу повернулся к нему.
Честно говоря, я удивился. Я рассчитывал на возможность выяснить что-то о кастете (и то у Семена, если он был тем самым Семеном и имел касательство к делу), но самого кастета не должно было быть. Он лежал среди других вещественных доказательств в горотделе КГБ. Значит, это другой кастет. “Все равно встречусь с парнем, — подумал я, — и попытаю его насчет Семена”.
— Тогда договоримся, — сказал он.
— Где я тебя увижу?
— Завтра у нас что? Суббота? С утра буду на пляже.
— Пляж-то большой!
— Найдешь.
— Ладно, — сказал я. — Договорились. — И, обращаясь к Семену, подытожил наш с ним сепаратный разговор: — А кроме того, пропорция три к одному всегда считалась неджентльменской. Рая о тебе лучшего мнения. Или тебя этот науськал? — Я кивнул на “блатного”.
— Вали все на меня! — сказал тот.
— Оправдываться будешь в милиции, — сказал я. — Ладно, парни, уже ночь, а мне в гостиницу топать. Значит, завтра на пляже. Желаю всего наилучшего!
Мне ответил тот, что обещал кастет:
— Всего хорошего.
И “блатной” буркнул:
— Привет с кисточкой! Иди, иди!
А Семен ничего не ответил. Он думал.
Я не пошел по бульвару, а срезал дорогу напрямик и довольно быстро добрался до гостиницы: ориентироваться в незнакомом городе я начинаю в первый день. Я вошел в темный номер — дверь была не заперта изнутри — и, стараясь не шуметь, стал раздеваться. По комнате разливался красноватый отсвет неоновой рекламы, висевшей снаружи: “Страхование имущества и жизни оформляйте в инспекциях Госстраха” (это я прочел, подходя к гостинице). “Умеют же придумать, черти! — подумал я. — Днем, когда открыты инспекции, вывески почти незаметно. А куда пойдешь ночью? Хотя нет, — решил я, — Ищенко наверняка обдумал это ночью, во время бессонницы”. Жизнь Тараса Михайловича Ищенко была застрахована на максимальную сумму, и его супруга, едва прилетев сюда, заявила об этом, чтобы получить необходимые справки. Н-да, это не говорило в ее пользу. Хотя, если она как-то участвовала в этой игре, она не должна была вести себя так откровенно. С другой стороны, в этом тоже мог быть расчет. Я выкурил три сигареты, ворочаясь с боку на бок.
Войтин спал. Пухальского еще не было.
— Хороший вечер, — сказал я.
Они молчали. Вероятно, претензии имел ко мне тот, что стоял впереди. “Похоже, его зовут Семеном”, — подумал я. “Блатной” в белой рубашке “опекал” его — он стоял сбоку и держал руку в кармане. Его надо было нейтрализовать первым. Он стал придвигаться ко мне.
— Чего ж только двое? — спросил я. — Надо бы человек пять собрать. Или времени не было?
Тут я заметил третьего. Он отделился от кустов сирени и стал заходить сбоку. “Ай-я-яй, — подумал я. — Мне так не хочется этого”. Мне не хотелось драться Но другого выхода не было, поэтому надо было начинать первым. Я даже не успел сунуть коробок в карман Я сделал шаг вперед, “блатной” замахнулся. Шаг вбок — и я перехватил его правую руку, в которой было, конечно, что-то зажато — самодельный кастет или свинчатка. Я терпеть не могу любителей драться компанией на одного, и поэтому я не почувствовал неловкости, ударив “блатного” сверху вниз рубящим ударом — ребром ладони в основание шеи. На моем месте вполне мог быть кто-то другой, он мог не заниматься борьбой с пятнадцати лет и не кончать спецкурса по самообороне. Его бы они избили без всякой жалости. Краем зрения я не упускал из виду и того, которого мысленно называл Семеном, — он, несомненно, был центральной фигурой, а “блатной” только подбивал его на “месть”, — и когда он кинулся на меня, я ушел вбок и подставил вместо себя тушу “блатного”. Семен споткнулся. Они оба упали. Я отскочил, принял третьего: обманный нырок и — коротко — “под дых”. Он осел на мостовую. “Блатной” тоже был не в счет: он держался рукой за ключицу и постанывал. Мне пока везло. Я отскочил назад: я не хотел выводить того, которого считал Семеном, из строя и поэтому должен был быть внимательным, но если б мы возились рядом с теми двумя, они могли бы мне повредить. Мне было интересно, нападет ли Семен теперь, когда он остался один. А Семен кинулся ко мне. Это мне понравилось, потому что он видел, что приятели на помощь не придут. Я был почти уверен, что не он инициатор бить втроем. Я поймал его за одежду, перевел в удобное положение и сделал самое простое — заднюю подножку. Он поднялся и снова пошел на меня.
— А можно так!
Я провел обратный бросок через спину — эффектный прием. Очень мне не хотелось всего этого делать, но потом я решил, что, может быть, так даже лучше. Я старался осторожнее тушировать его и подстраховывал: он не был серьезным противником.
Теперь он сидел на мостовой и тяжело дышал. Вставать он не собирался. А может, он вовсе не Семен? Остальные стояли вразброд кругом.
— Дзю-до, да? Самбо, да? — ныл “блатной”.
— Он профессионал, — презрительно сказал “Семен”. — Заколачивает денежки в цирке: Григорий Новак с сыновьями.
— Меня зовут Борис, — сказал я. — Если хочешь, давай теперь по-человечески.
— А что ты к его девчонке липнешь, сволочь? — спросил тот, который по-прежнему держался за шею, “блатной”.
Так. После драки по этикету полагался “разбор полетов”: кто, за что и почему. Но я не ошибся- это все-таки был Семен.
— Помолчи, — сказал Семен своему приятелю.
— Насчет твоей девчонки я ничего не имею, понятно? И она ко мне как к столбу деревянному. Просто я один в чужом городе, мне поговорить-то не с кем, я пошел проводить ее после дежурства.
— Все вы так!
— Брось, Семен! Она про тебя говорила, что ты приличный парень. Она мне про тебя говорила, понимаешь? Она бы не стала этого делать, если б у нее было что-то со мной.
Я протянул ему руку, чтобы помочь встать. Он чуть помешкал и принял ее.
— Не слушай его, Семка! — морщился “блатной”.
А третий молчал. Он был моложе всех. Он уже оправился, курил, но никак не вмешивался в разговор. Видно было: он не из тех, что стоят “кодлой” в подворотне и отпускают замечания в спину одиноким прохожим, — тоже затесался сюда случайно. Я следил за ним, когда возился с Семеном, но он-то не знал этого и вполне мог ударить меня в спину. Но не сделал этого. Я уже жалел, что не вступил в предварительные переговоры. Хотя поладить с “блатным” до “полетов” вряд ли удалось бы.
Подняв Семена, я сказал всей компании:
— Не доверять следует тому, кто чего-то хочет от вас. Я, кажется, непохож на такого человека. Скорее наоборот: вы добивались от меня чего-то. Улавливаешь логику? — Я обратился к “блатному”.
— Какую еще логику? — затянул тот.
Он успокоился и понял, что бить я их не буду. Он теперь выламывался перед дружками, желая показать, что он вовсе не трус.
— Напридумывают всякого, а я их понимать должен!
— Купи словарь иностранных слов, — посоветовал я.
Я подобрал валявшийся на асфальте коробок — его чудом не раздавили во время потасовки — и закурил.
— Куришь? — Я протянул сигареты Семену.
— У меня свои.
Третий, который молчал и только что бросил окурок, взял. И “блатной” потянулся.
— А только ты первым начал, мы поговорить хотели, — сказал Семен.
— И только?
Он промолчал.
— Разговорчики со свинчаткой знаешь чем кончаются? Вон она, в кармане у твоего компаньона, подобрал. Пользоваться не может, а лезет. — Я глубоко затянулся. — Между прочим, вы мне кастет можете достать? Хорошо заплачу или сменяюсь на что-нибудь.
“Блатной” оживился:
— На кой ляд он тебе?
— Чтоб с такими, как ты, себя спокойно чувствовать. Ну, достанешь?
— Попробовать можно, — уклончиво сказал он.
— Только не самоделку какую! Мне настоящий нужен, хорошо бы немецкий.
— Где я тебе возьму?
— Может, я достану, — внезапно сказал тот, что до сих пор не произнес ни слова.
— Сколько возьмешь? — До этого я следил за Семеном, а теперь сразу повернулся к нему.
Честно говоря, я удивился. Я рассчитывал на возможность выяснить что-то о кастете (и то у Семена, если он был тем самым Семеном и имел касательство к делу), но самого кастета не должно было быть. Он лежал среди других вещественных доказательств в горотделе КГБ. Значит, это другой кастет. “Все равно встречусь с парнем, — подумал я, — и попытаю его насчет Семена”.
— Тогда договоримся, — сказал он.
— Где я тебя увижу?
— Завтра у нас что? Суббота? С утра буду на пляже.
— Пляж-то большой!
— Найдешь.
— Ладно, — сказал я. — Договорились. — И, обращаясь к Семену, подытожил наш с ним сепаратный разговор: — А кроме того, пропорция три к одному всегда считалась неджентльменской. Рая о тебе лучшего мнения. Или тебя этот науськал? — Я кивнул на “блатного”.
— Вали все на меня! — сказал тот.
— Оправдываться будешь в милиции, — сказал я. — Ладно, парни, уже ночь, а мне в гостиницу топать. Значит, завтра на пляже. Желаю всего наилучшего!
Мне ответил тот, что обещал кастет:
— Всего хорошего.
И “блатной” буркнул:
— Привет с кисточкой! Иди, иди!
А Семен ничего не ответил. Он думал.
Я не пошел по бульвару, а срезал дорогу напрямик и довольно быстро добрался до гостиницы: ориентироваться в незнакомом городе я начинаю в первый день. Я вошел в темный номер — дверь была не заперта изнутри — и, стараясь не шуметь, стал раздеваться. По комнате разливался красноватый отсвет неоновой рекламы, висевшей снаружи: “Страхование имущества и жизни оформляйте в инспекциях Госстраха” (это я прочел, подходя к гостинице). “Умеют же придумать, черти! — подумал я. — Днем, когда открыты инспекции, вывески почти незаметно. А куда пойдешь ночью? Хотя нет, — решил я, — Ищенко наверняка обдумал это ночью, во время бессонницы”. Жизнь Тараса Михайловича Ищенко была застрахована на максимальную сумму, и его супруга, едва прилетев сюда, заявила об этом, чтобы получить необходимые справки. Н-да, это не говорило в ее пользу. Хотя, если она как-то участвовала в этой игре, она не должна была вести себя так откровенно. С другой стороны, в этом тоже мог быть расчет. Я выкурил три сигареты, ворочаясь с боку на бок.
Войтин спал. Пухальского еще не было.
Глава 11. Кто?
 Я проснулся первым. Войтин хрипло дышал и бормотал во сне. Я встал. Старясь не стучать шпингалетами, отворил окно: Пухальский вчера вернулся позже всех и, наверное, опасаясь дождя, закрыл его. Сейчас он лежал лицом к стене и спал.
Внизу расстилался город в утренней дымке. Черепичные крыши чередовались с островками зелени. Замок — целый лес островерхих готических башен с узкими щелями окон — выглядел совсем не таким мрачным, как ночью. Посверкивала речка под горбатыми древними мостами. Я нашел глазами бульвар, по которому мы шли вчера с Быстрицкой, — он полупетлей охватывал город. Моря из этого окна не было видно. “Маленький город”, — подумал я. Небо было в облаках. Дул ветерок. На окраине уже дымил какой-то заводик, и дым из трубы заваливался на сторону.
Я отошел от окна, выкурил сигарету, сидя на койке (Тамара безуспешно пыталась отучить меня курить до завтрака), и достал из тумбочки бритвенный набор Я привык к электробритве “Харьков”, но студенту такая роскошь не по карману, я взял с собой “безопаску”. До позавчерашнего утра мы с Ларионовым не знали, кто будет выполнять основное задание, и готовились оба. Начальник отдела Шимкус вызвал нас и, выслушав доклад, ткнул пустым мундштуком мне в грудь: “Планируй!” Я знал, что Ларионову очень хотелось взять это дело. Может быть, даже больше, чем мне: мою жену только что положили в роддом. “За супругу не волнуйся, — сказал Шимкус. — Все устроим в лучшем виде”. Ларионов хлопнул меня по плечу: “Лети, старик, со спокойным сердцем и ясной головой. Как родится сын, дадим знать”. — “Девочка — это тоже хорошо, — сказал Шимкус. — У меня их две. Старшая уже парням головы крутит и мне подробно докладывает, как и что. Я ей советы даю”. Ларионов сделал мне большие глаза: старик считал, что в молодости он был большим сердцеедом. “А ты не мигай! — сердито сказал Шимкус. — Думаешь, не вижу? И вообще, генуг трепаться, как она говорит”. — “Генуг по-немецки значит — достаточно”, — снисходительно объяснил я Ларионову. “Geh zum Teufel!”*["13] — буркнул тот. “Ярко выраженный ростовский акцент”, — констатировал я. “К делу, товарищи старшие лейтенанты”, — строго сказал Шимкус. И мне: “Значит, у тебя есть девица, которая следила за ним, заявление Евгении Августовны Станкене, кастет, ну, соседи по номеру и некто Буш. Может быть, это цветочки, а может быть…” — Он сделал паузу. “Может быть, ягодки”, — забежал вперед Ларионов. Шимкус внимательно и холодно поглядел на Ларионова, отчего тот затянулся сигареткой и стал притворно сильно кашлять. Потом Шимкус сказал: “А может быть, ягодки. Решать будешь сам. На месте”. Я сделался серьезен. “Виленкин вылетает раньше, он придается тебе для связи”, — добавил начальник отдела…
Мы доводили операцию еще сутки. Вчера утром я наконец остался один: мне нужно было сосредоточиться. На мне были джинсы и рубашка с короткими рукавами. Я надел куртку. Сложил все, что лежало на столе и диване, в старенький чемодан (ребята из научно-технического отдела даже обмотали его ручку изоляцией). В последний раз просмотрел содержимое бумажника, хотя можно было не глядеть: я помнил все наизусть. Пистолет я оставил в сейфе: оружия мне не полагалось. Я вообще считаю, что пистолет в кармане вредит, он часто придает излишнюю уверенность, а значит, размагничивает там, где надо глядеть в оба.
Я спустился на лифте вниз. Меня ждала машина. Сквозь дождь мы помчались на аэродром. Ларионов сидел на заднем сиденье и рассказывал старые анекдоты, “делал” мне настроение. Шофер тормозил так, что машину заносило на мокром асфальте. “Я сто лет не был в кино, — думал я. — У меня ни на что не остается времени”. Мы поспели на аэродром впритык.
Потом я сидел у окна и смотрел на Ларионова, который стоял на поле возле турникета и махал рукой. Самолет выруливал на взлетную полосу… Через полчаса я был здесь. Мы сели на семь минут раньше московского самолета.
Мне было о чем подумать. Бреясь, я умудрился порезаться в трех местах. “Нашему брату надо уметь бриться любой бритвой”, — иронически сказал бы Шимкус. Итак, вопрос как в романе: кто убийца? И еще: кто убитый? Тарас Михайлович Ищенко мог быть Кентавром. Он тщательно скрывал свою принадлежность к партизанскому отряду и не упоминал о ней ни в одной анкете. Страх проходит нитью через всю его послевоенную жизнь, судя по словам Клавдии Ищенко. Правда, иногда так ведут себя, совершив крупное преступление, а иногда струсят в чем-то один раз, другой, и трусость становится чертой характера: все зависит от человека. Почему так по-разному отзывались об Ищенко люди, знавшие его? Быстрицкая: “Подлый-подлый, не зря его стукнули”; Буш: “Чистейшей души был человек…”; родная жена: “Труслив, расчетлив…”; а Пухальский — Пухальскому он понравился. Случается, что об одном и том же человеке говорят противоположные вещи: что он дурак — и что умница, подлец — и герой. Всяк судит по своей мерке. Но кто-то бывает прав. Кто в данном случае? Я был склонен верить жене: с каждым Ищенко был иным, в этом чувствовался расчет, а- перед женой ему быстро надоело играть. “Тогда он казался мне настоящим мужчиной”, — вспомнил я. Если все это так, Ищенко смахивал на Кентавра. Тогда версия такова: кто-то узнал в Ищенко предателя и убил его, мстя за своих родных. Это мог быть помощник капитана рыболовного траулера Войтин (правда, непонятно, как он распознал Кентавра) или кто-то другой, неизвестный нам. Но зачем было Ищенко приезжать сюда отдыхать вместо Черного моря, если он послал здесь на смерть стольких людей? Он все время опасается чего-то, живет с оглядкой, и вдруг — такой промах! Зачем? Пощекотать себе нервы? На Ищенко непохоже. Какова же тогда причина для приезда сюда? Она должна быть очень важной, эта причина!
Но Ищенко с таким же успехом мог не быть Кентавром, он мог оказаться его жертвой. Тарас Михайлович приезжает в этот город, он действительно чего-то опасается, но это не связано с гибелью отряда: он не предатель. И вдруг на улице он сталкивается так, как столкнулся со Станкене (кстати, в плане сегодняшней работы у меня стояло: увидеть Станкене и, если удастся, поговорить с ней под благовидным предлогом, я хотел составить себе впечатление о ней), сталкивается с настоящим предателем. Откуда он знал, что тот предатель? Почему молчал все эти годы? Неясно. Но Ищенко собирается разоблачить его: рассказывал же Войтин, что Ищенко был взволнован, что-то писал, порвал и даже вытащил обрывки записки из пепельницы. И Кентавр убивает его.
Кто он — этот Кентавр? Скорее всего приезжий: трудно предположить, что он останется жить здесь после того, что совершил. Поэтому такое внимание мы уделяли единственной гостинице “Пордус”. Конечно, большинство приезжих остановилось на квартирах: сезон уже начался. Но отдыхать “по-дикому” приезжают обычно с семьями, а если в одиночку — то молодежь. Предполагаемый возраст Кентавра — старше сорока лет. Таких мало, они были проверены. И Кентавр не приедет сюда отдыхать, не должен по логике, во всяком случае. Он приехал по делу, совсем не думая об Ищенко. В командировку, например. Значит, гостиница.
Мы проверили всех, кто остановился в “Пордусе” и примерно соответствует возрасту Кентавра: это ничего не дало. Все, кто выехал после пятого числа, были под наблюдением, их было немного — семь человек. Но убийца, конечно, все рассчитал: нельзя было уезжать сразу после совершенного. Как зверь, он должен был отсидеться в темноте. “Если развернуть этот образ: в темноте нашего незнания”, — подумал я, водя бритвой по щеке. Пройдет время, он станет незаметным. Тогда — уходить! Сейчас наступали самые горячие дни: выжидать слишком долго он тоже не будет.
С другой стороны, Кентавр все-таки мог быть местным жителем. И каждый день рисковал встречей со Станкене? Нет, она была связной и не могла знать в лицо всех партизан и людей, связанных с партизанским отрядом, тем более что в последние месяцы отряд сильно пополнился: приходили колеблющиеся, те, которым стал ясен исход войны. Кентавр понимал это. Он мог спокойно ездить на работу в одном трамвае со Станкене.
Но имелась одна любопытная деталь: скорее всего убийца не работает вовсе, или не работал в этот день, или если он находится здесь в командировке, то довольно свободно распоряжается своим временем, потому что Ищенко был убит днем, около одиннадцати часов. Интересно, что и встреча с кем-то третьего, так взволновавшая Ищенко, состоялась приблизительно в то же время. “А была ли она вообще”, — подумал я. Скорей всего была. Вечером третьего числа Ищенко был взволнован и что-то писал. Утром этого дня он не пришел на фабрику к Бушу. Буш лгал насчет Клавдии Ищенко. Но вряд ли он стал бы придумывать такую сложную историю о несостоявшемся свидании. Зачем? “А в самом деле, зачем? — опять подумал я. — Стоит поразмыслить”. Пока же я принимал за доказанное, что Тарас Михайлович Ищенко дважды с кем-то виделся. Во второй раз это обернулось для него трагедией. И виделся в одно время, было похоже на расписание. Какое расписание? А черт его знает! Почему он был убит днем и в таком неудобном для преступления месте — проходном дворе? “Потому что в другое время и в другом месте он не мог быть убит, — подумал я. — Парадокс или истина?”
Кстати, третьего числа Ищенко было не обязательно с кем-то встречаться. В этот день он мог просто узнать Кентавра в ком-то из окружавших его людей (в том же Пухальском!). Разговор с ним. Ищенко взволнован. Он не хочет видеть Буша: ему нужно побыть одному и все обдумать. А пятого его убивают… Другой вариант: Кентавр давно уже попал в поле зрения Ищенко. Это Буш, например. Но третьего происходит что-то неожиданное, и опять-таки Ищенко разговаривает с Кентавром. Если Буш врал насчет третьего числа, то разговор мог произойти и вечером, но не второго и не четвертого, потому что Ищенко пишет записку именно в ночь с третьего на четвертое: моряк упоминал, что Ищенко писал записку, вернувшись в гостиницу в два часа ночи, а из опроса работников гостиницы, сделанного Сипарисом, я еще до приезда сюда знал, что Ищенко где-то задержался допоздна именно в этот день, в остальные же приходил до двенадцати часов. Но так или иначе, третьего июня обстоятельства складываются так, что Ищенко становится опасен, и Кентавр убирает его пятого. Что за обстоятельства? Неизвестно.
По наличию же свободного времени подходили: Буш (хотя он как будто все утро был на глазах у соседей); Пухальский — в этот день он явился на фабрику после обеда, а на допросе утверждал, что загорал на дальнем пляже, но если б даже он лежал на общем городском пляже, проверить это было невозможно: его никто не знал в этом городе; Войтин — он отсутствовал в гостинице как раз в момент убийства. Да, еще Быстрицкая была в этот день свободна. Но какой у нее мог быть мотив? И уж никак не могла она быть Кентавром! Девушка убивает мужчину кастетом и прячет тело за контейнер с мусором! Нет, конечно! Но почему она следила за Ищенко? Что делала в момент убийства? Знает ли убийцу? А может, Станкене просто ошиблась: Рая Быстрицкая торопилась по своим делам и ей никакого дела не было до Ищенко. Н-да!
Был еще некто Суркин: сегодня я собирался им заняться.
Был еще какой-то Семен (опять-таки, если Буш говорил правду). Но кто он — этот Семен? Моего вчерашнего “соперника” звали Семеном, но как он может быть замешан в деле Кентавра? Непонятно. Убийство на почве ревности? Чушь!
Убийцей мог быть кто-то из тех, кого я уже знал, или неизвестное нам лицо. “Цветочки или ягодки”, — вспомнил я напутствие Шимкуса. Может быть, его надо искать не среди них?
Фотографии Пухальского, Войтина и Буша были предъявлены Корнееву в Ленинграде и Станкене. Они их не опознали (Станкене знала Буша как человека, лежавшего однажды в городской больнице с воспалением легких). Но Кентавр мог и не быть бойцом отряда. Образцы почерков убитого Ищенко (после него осталось много бумаг), Пухальского, Войтина (они заполняли регистрационные листки в гостинице) и Буша (была взята в отделе кадров мебельной фабрики его автобиография) подверглись графической экспертизе: их сравнивали с расписками Кентавра в получении денег. Не сошлись. Но это тоже не доказывало ровным счетом ничего: материала для сравнения было мало. Одна короткая подпись, несколько букв.
— А ты ранняя пташка, студент! — прервал течение моих мыслей Войтин. — Хорошо вчера погулял?
Интересно, давно он следит за мной?
— Неплохо. Только вон третьего нашего, когда я пришел, еще не было. Наверное, он еще лучше погулял.
Но Пухальский дышал ровно и безмятежно.
— В управление ходил наниматься? — спросил Войтин.
— Нет, сегодня пойду.
— Блат нужен?
— А есть?
— Наверное, нету, раз сам себе не помог. Это я так… А вот капитанов знаю многих, могу хорошего посоветовать.
— До этого дело не дошло, спасибо. Мне бы документы сначала оформить, — сказал я. — А вы, между прочим, спите беспокойно, разговариваете во сне.
— Бывает. А что я говорил?
— Не прислушивался.
Я отправился в туалет, сполоснул бритву, умылся и вернулся в номер. Пухальский продолжал безмятежно посапывать в кровати: наш разговор его не потревожил. Войтин натягивал брюки.
— Интересно, о чем же я говорил? — опять спросил он.
— Надо включать на ночь магнитофон, а потом прослушивать запись. Завтракать пойдете?
— Спасибо за совет. Нет, мой день начинается поздно, — сказал он. — Мой рабочий день! Тьфу!
— Наш сосед на работу не опоздает?
— Командировочный! Ходит на свою фабрику когда вздумается.
— Тогда привет! — сказал я. И подумал: “Сегодня надо обязательно повидать Станкене”.
Я проснулся первым. Войтин хрипло дышал и бормотал во сне. Я встал. Старясь не стучать шпингалетами, отворил окно: Пухальский вчера вернулся позже всех и, наверное, опасаясь дождя, закрыл его. Сейчас он лежал лицом к стене и спал.
Внизу расстилался город в утренней дымке. Черепичные крыши чередовались с островками зелени. Замок — целый лес островерхих готических башен с узкими щелями окон — выглядел совсем не таким мрачным, как ночью. Посверкивала речка под горбатыми древними мостами. Я нашел глазами бульвар, по которому мы шли вчера с Быстрицкой, — он полупетлей охватывал город. Моря из этого окна не было видно. “Маленький город”, — подумал я. Небо было в облаках. Дул ветерок. На окраине уже дымил какой-то заводик, и дым из трубы заваливался на сторону.
Я отошел от окна, выкурил сигарету, сидя на койке (Тамара безуспешно пыталась отучить меня курить до завтрака), и достал из тумбочки бритвенный набор Я привык к электробритве “Харьков”, но студенту такая роскошь не по карману, я взял с собой “безопаску”. До позавчерашнего утра мы с Ларионовым не знали, кто будет выполнять основное задание, и готовились оба. Начальник отдела Шимкус вызвал нас и, выслушав доклад, ткнул пустым мундштуком мне в грудь: “Планируй!” Я знал, что Ларионову очень хотелось взять это дело. Может быть, даже больше, чем мне: мою жену только что положили в роддом. “За супругу не волнуйся, — сказал Шимкус. — Все устроим в лучшем виде”. Ларионов хлопнул меня по плечу: “Лети, старик, со спокойным сердцем и ясной головой. Как родится сын, дадим знать”. — “Девочка — это тоже хорошо, — сказал Шимкус. — У меня их две. Старшая уже парням головы крутит и мне подробно докладывает, как и что. Я ей советы даю”. Ларионов сделал мне большие глаза: старик считал, что в молодости он был большим сердцеедом. “А ты не мигай! — сердито сказал Шимкус. — Думаешь, не вижу? И вообще, генуг трепаться, как она говорит”. — “Генуг по-немецки значит — достаточно”, — снисходительно объяснил я Ларионову. “Geh zum Teufel!”*["13] — буркнул тот. “Ярко выраженный ростовский акцент”, — констатировал я. “К делу, товарищи старшие лейтенанты”, — строго сказал Шимкус. И мне: “Значит, у тебя есть девица, которая следила за ним, заявление Евгении Августовны Станкене, кастет, ну, соседи по номеру и некто Буш. Может быть, это цветочки, а может быть…” — Он сделал паузу. “Может быть, ягодки”, — забежал вперед Ларионов. Шимкус внимательно и холодно поглядел на Ларионова, отчего тот затянулся сигареткой и стал притворно сильно кашлять. Потом Шимкус сказал: “А может быть, ягодки. Решать будешь сам. На месте”. Я сделался серьезен. “Виленкин вылетает раньше, он придается тебе для связи”, — добавил начальник отдела…
Мы доводили операцию еще сутки. Вчера утром я наконец остался один: мне нужно было сосредоточиться. На мне были джинсы и рубашка с короткими рукавами. Я надел куртку. Сложил все, что лежало на столе и диване, в старенький чемодан (ребята из научно-технического отдела даже обмотали его ручку изоляцией). В последний раз просмотрел содержимое бумажника, хотя можно было не глядеть: я помнил все наизусть. Пистолет я оставил в сейфе: оружия мне не полагалось. Я вообще считаю, что пистолет в кармане вредит, он часто придает излишнюю уверенность, а значит, размагничивает там, где надо глядеть в оба.
Я спустился на лифте вниз. Меня ждала машина. Сквозь дождь мы помчались на аэродром. Ларионов сидел на заднем сиденье и рассказывал старые анекдоты, “делал” мне настроение. Шофер тормозил так, что машину заносило на мокром асфальте. “Я сто лет не был в кино, — думал я. — У меня ни на что не остается времени”. Мы поспели на аэродром впритык.
Потом я сидел у окна и смотрел на Ларионова, который стоял на поле возле турникета и махал рукой. Самолет выруливал на взлетную полосу… Через полчаса я был здесь. Мы сели на семь минут раньше московского самолета.
Мне было о чем подумать. Бреясь, я умудрился порезаться в трех местах. “Нашему брату надо уметь бриться любой бритвой”, — иронически сказал бы Шимкус. Итак, вопрос как в романе: кто убийца? И еще: кто убитый? Тарас Михайлович Ищенко мог быть Кентавром. Он тщательно скрывал свою принадлежность к партизанскому отряду и не упоминал о ней ни в одной анкете. Страх проходит нитью через всю его послевоенную жизнь, судя по словам Клавдии Ищенко. Правда, иногда так ведут себя, совершив крупное преступление, а иногда струсят в чем-то один раз, другой, и трусость становится чертой характера: все зависит от человека. Почему так по-разному отзывались об Ищенко люди, знавшие его? Быстрицкая: “Подлый-подлый, не зря его стукнули”; Буш: “Чистейшей души был человек…”; родная жена: “Труслив, расчетлив…”; а Пухальский — Пухальскому он понравился. Случается, что об одном и том же человеке говорят противоположные вещи: что он дурак — и что умница, подлец — и герой. Всяк судит по своей мерке. Но кто-то бывает прав. Кто в данном случае? Я был склонен верить жене: с каждым Ищенко был иным, в этом чувствовался расчет, а- перед женой ему быстро надоело играть. “Тогда он казался мне настоящим мужчиной”, — вспомнил я. Если все это так, Ищенко смахивал на Кентавра. Тогда версия такова: кто-то узнал в Ищенко предателя и убил его, мстя за своих родных. Это мог быть помощник капитана рыболовного траулера Войтин (правда, непонятно, как он распознал Кентавра) или кто-то другой, неизвестный нам. Но зачем было Ищенко приезжать сюда отдыхать вместо Черного моря, если он послал здесь на смерть стольких людей? Он все время опасается чего-то, живет с оглядкой, и вдруг — такой промах! Зачем? Пощекотать себе нервы? На Ищенко непохоже. Какова же тогда причина для приезда сюда? Она должна быть очень важной, эта причина!
Но Ищенко с таким же успехом мог не быть Кентавром, он мог оказаться его жертвой. Тарас Михайлович приезжает в этот город, он действительно чего-то опасается, но это не связано с гибелью отряда: он не предатель. И вдруг на улице он сталкивается так, как столкнулся со Станкене (кстати, в плане сегодняшней работы у меня стояло: увидеть Станкене и, если удастся, поговорить с ней под благовидным предлогом, я хотел составить себе впечатление о ней), сталкивается с настоящим предателем. Откуда он знал, что тот предатель? Почему молчал все эти годы? Неясно. Но Ищенко собирается разоблачить его: рассказывал же Войтин, что Ищенко был взволнован, что-то писал, порвал и даже вытащил обрывки записки из пепельницы. И Кентавр убивает его.
Кто он — этот Кентавр? Скорее всего приезжий: трудно предположить, что он останется жить здесь после того, что совершил. Поэтому такое внимание мы уделяли единственной гостинице “Пордус”. Конечно, большинство приезжих остановилось на квартирах: сезон уже начался. Но отдыхать “по-дикому” приезжают обычно с семьями, а если в одиночку — то молодежь. Предполагаемый возраст Кентавра — старше сорока лет. Таких мало, они были проверены. И Кентавр не приедет сюда отдыхать, не должен по логике, во всяком случае. Он приехал по делу, совсем не думая об Ищенко. В командировку, например. Значит, гостиница.
Мы проверили всех, кто остановился в “Пордусе” и примерно соответствует возрасту Кентавра: это ничего не дало. Все, кто выехал после пятого числа, были под наблюдением, их было немного — семь человек. Но убийца, конечно, все рассчитал: нельзя было уезжать сразу после совершенного. Как зверь, он должен был отсидеться в темноте. “Если развернуть этот образ: в темноте нашего незнания”, — подумал я, водя бритвой по щеке. Пройдет время, он станет незаметным. Тогда — уходить! Сейчас наступали самые горячие дни: выжидать слишком долго он тоже не будет.
С другой стороны, Кентавр все-таки мог быть местным жителем. И каждый день рисковал встречей со Станкене? Нет, она была связной и не могла знать в лицо всех партизан и людей, связанных с партизанским отрядом, тем более что в последние месяцы отряд сильно пополнился: приходили колеблющиеся, те, которым стал ясен исход войны. Кентавр понимал это. Он мог спокойно ездить на работу в одном трамвае со Станкене.
Но имелась одна любопытная деталь: скорее всего убийца не работает вовсе, или не работал в этот день, или если он находится здесь в командировке, то довольно свободно распоряжается своим временем, потому что Ищенко был убит днем, около одиннадцати часов. Интересно, что и встреча с кем-то третьего, так взволновавшая Ищенко, состоялась приблизительно в то же время. “А была ли она вообще”, — подумал я. Скорей всего была. Вечером третьего числа Ищенко был взволнован и что-то писал. Утром этого дня он не пришел на фабрику к Бушу. Буш лгал насчет Клавдии Ищенко. Но вряд ли он стал бы придумывать такую сложную историю о несостоявшемся свидании. Зачем? “А в самом деле, зачем? — опять подумал я. — Стоит поразмыслить”. Пока же я принимал за доказанное, что Тарас Михайлович Ищенко дважды с кем-то виделся. Во второй раз это обернулось для него трагедией. И виделся в одно время, было похоже на расписание. Какое расписание? А черт его знает! Почему он был убит днем и в таком неудобном для преступления месте — проходном дворе? “Потому что в другое время и в другом месте он не мог быть убит, — подумал я. — Парадокс или истина?”
Кстати, третьего числа Ищенко было не обязательно с кем-то встречаться. В этот день он мог просто узнать Кентавра в ком-то из окружавших его людей (в том же Пухальском!). Разговор с ним. Ищенко взволнован. Он не хочет видеть Буша: ему нужно побыть одному и все обдумать. А пятого его убивают… Другой вариант: Кентавр давно уже попал в поле зрения Ищенко. Это Буш, например. Но третьего происходит что-то неожиданное, и опять-таки Ищенко разговаривает с Кентавром. Если Буш врал насчет третьего числа, то разговор мог произойти и вечером, но не второго и не четвертого, потому что Ищенко пишет записку именно в ночь с третьего на четвертое: моряк упоминал, что Ищенко писал записку, вернувшись в гостиницу в два часа ночи, а из опроса работников гостиницы, сделанного Сипарисом, я еще до приезда сюда знал, что Ищенко где-то задержался допоздна именно в этот день, в остальные же приходил до двенадцати часов. Но так или иначе, третьего июня обстоятельства складываются так, что Ищенко становится опасен, и Кентавр убирает его пятого. Что за обстоятельства? Неизвестно.
По наличию же свободного времени подходили: Буш (хотя он как будто все утро был на глазах у соседей); Пухальский — в этот день он явился на фабрику после обеда, а на допросе утверждал, что загорал на дальнем пляже, но если б даже он лежал на общем городском пляже, проверить это было невозможно: его никто не знал в этом городе; Войтин — он отсутствовал в гостинице как раз в момент убийства. Да, еще Быстрицкая была в этот день свободна. Но какой у нее мог быть мотив? И уж никак не могла она быть Кентавром! Девушка убивает мужчину кастетом и прячет тело за контейнер с мусором! Нет, конечно! Но почему она следила за Ищенко? Что делала в момент убийства? Знает ли убийцу? А может, Станкене просто ошиблась: Рая Быстрицкая торопилась по своим делам и ей никакого дела не было до Ищенко. Н-да!
Был еще некто Суркин: сегодня я собирался им заняться.
Был еще какой-то Семен (опять-таки, если Буш говорил правду). Но кто он — этот Семен? Моего вчерашнего “соперника” звали Семеном, но как он может быть замешан в деле Кентавра? Непонятно. Убийство на почве ревности? Чушь!
Убийцей мог быть кто-то из тех, кого я уже знал, или неизвестное нам лицо. “Цветочки или ягодки”, — вспомнил я напутствие Шимкуса. Может быть, его надо искать не среди них?
Фотографии Пухальского, Войтина и Буша были предъявлены Корнееву в Ленинграде и Станкене. Они их не опознали (Станкене знала Буша как человека, лежавшего однажды в городской больнице с воспалением легких). Но Кентавр мог и не быть бойцом отряда. Образцы почерков убитого Ищенко (после него осталось много бумаг), Пухальского, Войтина (они заполняли регистрационные листки в гостинице) и Буша (была взята в отделе кадров мебельной фабрики его автобиография) подверглись графической экспертизе: их сравнивали с расписками Кентавра в получении денег. Не сошлись. Но это тоже не доказывало ровным счетом ничего: материала для сравнения было мало. Одна короткая подпись, несколько букв.
— А ты ранняя пташка, студент! — прервал течение моих мыслей Войтин. — Хорошо вчера погулял?
Интересно, давно он следит за мной?
— Неплохо. Только вон третьего нашего, когда я пришел, еще не было. Наверное, он еще лучше погулял.
Но Пухальский дышал ровно и безмятежно.
— В управление ходил наниматься? — спросил Войтин.
— Нет, сегодня пойду.
— Блат нужен?
— А есть?
— Наверное, нету, раз сам себе не помог. Это я так… А вот капитанов знаю многих, могу хорошего посоветовать.
— До этого дело не дошло, спасибо. Мне бы документы сначала оформить, — сказал я. — А вы, между прочим, спите беспокойно, разговариваете во сне.
— Бывает. А что я говорил?
— Не прислушивался.
Я отправился в туалет, сполоснул бритву, умылся и вернулся в номер. Пухальский продолжал безмятежно посапывать в кровати: наш разговор его не потревожил. Войтин натягивал брюки.
— Интересно, о чем же я говорил? — опять спросил он.
— Надо включать на ночь магнитофон, а потом прослушивать запись. Завтракать пойдете?
— Спасибо за совет. Нет, мой день начинается поздно, — сказал он. — Мой рабочий день! Тьфу!
— Наш сосед на работу не опоздает?
— Командировочный! Ходит на свою фабрику когда вздумается.
— Тогда привет! — сказал я. И подумал: “Сегодня надо обязательно повидать Станкене”.
Глава 12. Снова Суркин
 Я спустился в вестибюль: шаги гулко отдавались в пустом зале. И тут же, словно он ждал меня, в дверях с табличкой “Служебная комната” появился директор гостиницы. “Только его не хватало! — подумал я. — Как его зовут? Ах да, Иван Сергеевич!” Он пошел на меня. Подойдя, протянул руку.
— Как дела, москвич? Ты ведь из Москвы?
— Великолепно! — коротко сказал я.
Осаживать его мне не хотелось, но и быть особенно приветливым было не с чего.
— А ты старательный парень! Та-ак вчера мусор собирал! — Он захохотал и повторил свою шутку: — Может, пойдешь ко мне в уборщицы?
— Смысла нет, — сказал я. — Мне расти надо.
— Ишь ты! Небось зарплата не удовлетворяет? Небось хочешь в большие дяди выйти, а? — Он опять захохотал.
— Очень хочу, — сказал я.
— Слушай, а чего нового в Москве? Я у вас был разок проездом, только ночью.
Мне пора было идти на связь. Часто звонить по телефону не рекомендовалось, да и многого сказать было нельзя: он мог оказаться и телефонным мастером. Впрочем, почему бы нет? Кем угодно! “Хоть директором гостиницы, — раздраженно подумал я. — Вот старый филин!”
— Растет Москва, — сказал я. — Разрастается. Вы в директорах гостиницы давно ходите?
— Я работал завмагом, — уклончиво сказал он. — А что?
Тут к нему подошел дежурный администратор, и он отстал. Но сказал на прощание:
— Ну мы с тобой после потолкуем! Ты заходи прямо ко мне, я студентов люблю.
Кто ему сказал, что я студент? Я-то не говорил. И поглядывал он на меня с хитрецой, будто давая понять: ты меня принимаешь всерьез, а я над тобой посмеиваюсь. У него было лицо умного человека. Впрочем, может, исходя из этого, его и назначили директором гостиницы, когда он завалил работу в магазине? Так бывает, к сожалению.
Я вышел на улицу. Было без пяти десять. Я медленно побрел по бульвару. Сегодня я должен был сидеть на скамейке с правой стороны, а Виленкин должен был подсесть ко мне. Я устроился, положил ногу на ногу, вынул из кармана куртки томик Есенина и стал листать его. Когда рядом оказался Виленкин, я положил Есенина между нами. Прикрываясь развернутой газетой, Виленкин сунул вкнигу записку, еще немного посидел и встал. Я раскрыл Есенина.
Сообщалось следующее: в карманах брюк убитого табачных крошек не обнаружено, зато они есть в пиджаке. Та-ак! А покойник, между прочим, не курил. Второе: табачный киоск у входа в гостиницу был открыт в день убийства с восьми до двух часов дня, старушка никуда не отлучалась. Где отсутствовал 20 минут Войтин? Неясно… Клавдия Ищенко показала, что Тарас Михайлович был замкнутым человеком: любил пошутить, но с людьми не сближался. Друзей у него не было, так, несколько приятелей, с которыми он мог выпивать. Значит, оба говорили правду — и Буш и Войтин. Насколько она знает (в браке с Ищенко состояла с сорок седьмого года, что было до этого, не в курсе дела), после войны Ищенко в этих местах не был. Так. Дальше… Ого! Как в радиопередаче “Спрашивайте — отвечаем”. Дальше сообщалось, что с утренней почтой в горотдел милиции пришло письмо — местное, опущенное вчера вечером. Анонимный автор писал, что Ищенко убил… Суркин Юрий Петрович. По имеющимся данным, стояло в записке, Суркин — работник управления экспедиционного лова — в период оккупации сотрудничал с немцами. В день убийства был на бюллетене. Третьего числа целый день присутствовал на работе (обед — с часу до двух). Все это было очень любопытно. Анонимку мог написать преступник, чтобы усложнить следствие и отвлечь внимание от себя. Тем более что писавший знал: убийцу мы еще не нашли. Скорее всего писал кто-то, кого мы уже знали. Было очень важно установить: кто? Этим уже, конечно, занялся начальник городского отдела КГБ Валдманис, с которым я должен был работать в контакте и чью записку я сейчас читал. Но, может быть, автор анонимного письма сообщает правду и по какой-то причине не хочет назвать себя? Так или иначе, в круг следствия вводилось новое лицо.
Я нашел телефон-автомат и позвонил Бушу, — вчера он дал мне свой номер. Я спросил, когда мне можно зайти в управление экспедиционного лова к Суркину. Буш сказал, что тот ждет меня в час дня. “Сегодня короткий день, и они работают без перерыва”, — добавил он. Отлично, у меня было время в запасе.
Я позавтракал в маленьком кафе на углу (шесть столиков, свистящая кофеварка и аккуратная девушка в белой наколке) и вернулся в номер.
Пухальский уже ушел. Это было мне на руку.
— Ушел наш соседушка? — спросил я Войтина.
— Ага.
— Как же он без пиджака теперь? Облачно, вдруг дождь пойдет?
— Не пойдет. А у него хороший пиджак был, импортный, и где он его оставил? Врет насчет пляжа. Небось к бабе шлялся, а муж пришел, знаешь!
— Он тихий. Вряд ли.
— В тихом омуте черти водятся.
— Пиджак, наверное, модный? В клеточку такой?
— Много ты понимаешь! Серый, в полоску.
Вот и слоник черный стал ясен. Пиджак Пухальского, он играл в шахматы и машинально положил фигуру в карман.
Почему Тарас Михайлович Ищенко был в чужом пиджаке?
Я спустился в вестибюль: шаги гулко отдавались в пустом зале. И тут же, словно он ждал меня, в дверях с табличкой “Служебная комната” появился директор гостиницы. “Только его не хватало! — подумал я. — Как его зовут? Ах да, Иван Сергеевич!” Он пошел на меня. Подойдя, протянул руку.
— Как дела, москвич? Ты ведь из Москвы?
— Великолепно! — коротко сказал я.
Осаживать его мне не хотелось, но и быть особенно приветливым было не с чего.
— А ты старательный парень! Та-ак вчера мусор собирал! — Он захохотал и повторил свою шутку: — Может, пойдешь ко мне в уборщицы?
— Смысла нет, — сказал я. — Мне расти надо.
— Ишь ты! Небось зарплата не удовлетворяет? Небось хочешь в большие дяди выйти, а? — Он опять захохотал.
— Очень хочу, — сказал я.
— Слушай, а чего нового в Москве? Я у вас был разок проездом, только ночью.
Мне пора было идти на связь. Часто звонить по телефону не рекомендовалось, да и многого сказать было нельзя: он мог оказаться и телефонным мастером. Впрочем, почему бы нет? Кем угодно! “Хоть директором гостиницы, — раздраженно подумал я. — Вот старый филин!”
— Растет Москва, — сказал я. — Разрастается. Вы в директорах гостиницы давно ходите?
— Я работал завмагом, — уклончиво сказал он. — А что?
Тут к нему подошел дежурный администратор, и он отстал. Но сказал на прощание:
— Ну мы с тобой после потолкуем! Ты заходи прямо ко мне, я студентов люблю.
Кто ему сказал, что я студент? Я-то не говорил. И поглядывал он на меня с хитрецой, будто давая понять: ты меня принимаешь всерьез, а я над тобой посмеиваюсь. У него было лицо умного человека. Впрочем, может, исходя из этого, его и назначили директором гостиницы, когда он завалил работу в магазине? Так бывает, к сожалению.
Я вышел на улицу. Было без пяти десять. Я медленно побрел по бульвару. Сегодня я должен был сидеть на скамейке с правой стороны, а Виленкин должен был подсесть ко мне. Я устроился, положил ногу на ногу, вынул из кармана куртки томик Есенина и стал листать его. Когда рядом оказался Виленкин, я положил Есенина между нами. Прикрываясь развернутой газетой, Виленкин сунул вкнигу записку, еще немного посидел и встал. Я раскрыл Есенина.
Сообщалось следующее: в карманах брюк убитого табачных крошек не обнаружено, зато они есть в пиджаке. Та-ак! А покойник, между прочим, не курил. Второе: табачный киоск у входа в гостиницу был открыт в день убийства с восьми до двух часов дня, старушка никуда не отлучалась. Где отсутствовал 20 минут Войтин? Неясно… Клавдия Ищенко показала, что Тарас Михайлович был замкнутым человеком: любил пошутить, но с людьми не сближался. Друзей у него не было, так, несколько приятелей, с которыми он мог выпивать. Значит, оба говорили правду — и Буш и Войтин. Насколько она знает (в браке с Ищенко состояла с сорок седьмого года, что было до этого, не в курсе дела), после войны Ищенко в этих местах не был. Так. Дальше… Ого! Как в радиопередаче “Спрашивайте — отвечаем”. Дальше сообщалось, что с утренней почтой в горотдел милиции пришло письмо — местное, опущенное вчера вечером. Анонимный автор писал, что Ищенко убил… Суркин Юрий Петрович. По имеющимся данным, стояло в записке, Суркин — работник управления экспедиционного лова — в период оккупации сотрудничал с немцами. В день убийства был на бюллетене. Третьего числа целый день присутствовал на работе (обед — с часу до двух). Все это было очень любопытно. Анонимку мог написать преступник, чтобы усложнить следствие и отвлечь внимание от себя. Тем более что писавший знал: убийцу мы еще не нашли. Скорее всего писал кто-то, кого мы уже знали. Было очень важно установить: кто? Этим уже, конечно, занялся начальник городского отдела КГБ Валдманис, с которым я должен был работать в контакте и чью записку я сейчас читал. Но, может быть, автор анонимного письма сообщает правду и по какой-то причине не хочет назвать себя? Так или иначе, в круг следствия вводилось новое лицо.
Я нашел телефон-автомат и позвонил Бушу, — вчера он дал мне свой номер. Я спросил, когда мне можно зайти в управление экспедиционного лова к Суркину. Буш сказал, что тот ждет меня в час дня. “Сегодня короткий день, и они работают без перерыва”, — добавил он. Отлично, у меня было время в запасе.
Я позавтракал в маленьком кафе на углу (шесть столиков, свистящая кофеварка и аккуратная девушка в белой наколке) и вернулся в номер.
Пухальский уже ушел. Это было мне на руку.
— Ушел наш соседушка? — спросил я Войтина.
— Ага.
— Как же он без пиджака теперь? Облачно, вдруг дождь пойдет?
— Не пойдет. А у него хороший пиджак был, импортный, и где он его оставил? Врет насчет пляжа. Небось к бабе шлялся, а муж пришел, знаешь!
— Он тихий. Вряд ли.
— В тихом омуте черти водятся.
— Пиджак, наверное, модный? В клеточку такой?
— Много ты понимаешь! Серый, в полоску.
Вот и слоник черный стал ясен. Пиджак Пухальского, он играл в шахматы и машинально положил фигуру в карман.
Почему Тарас Михайлович Ищенко был в чужом пиджаке?
Глава 13. Хозяйка маленького дома
 Дождь не пошел. Тучи свалились за горизонт, и через какие-нибудь полчаса уже пекло солнце. Море было молочное, гладкое, как стекло, над ним поднимался парок.
Я лежал на пляже метрах в пятидесяти от маленького домика — один этаж, покатая черепичная крыша (ужасно я люблю эти крыши!) с трубой и телевизионной антенной. Окна были распахнуты. На веревке, привязанной к двум соснам и протянутой через двор, висело белье. Хозяйку дома звали Евгения Августовна Станкене; она была одной из тех, чьи фотографии я видел в комитете. Нет, мы ее ни в чем не подозревали! Но я хотел поговорить с ней: иногда стоит просто так поговорить с человеком пять минут.
Во дворе стоял “Москвич”, а под сосной в шезлонге расположился наголо обритый мужчина в шортах и темных очках. Время от времени он снимал очки, клал на столик рядом и брал со столика бинокль: глядел вдоль берега.
Из домика вышла женщина с тазом и остановилась перед веревкой — стала снимать белье.
— Стерва она, эта Станкене! У-у, чертова перечница! — произнес кто-то за моей спиной.
Я оглянулся. Рядом со мной бухнулся на песок старик в длинных трусах и майке. На голове у него красовалась мятая шляпа. Видно, специально он не загорал, потому что почернели только жилистые руки и шея. “Местный житель”, — определил я.
— Не знаешь ее, что ли? — удивился старик. Он был не очень трезв. — Ну, вон та баба, что белье сушит, ты ж на нее уставился. Нашел на кого — старуха!
— А что она вам сделала?
— Подлость, величайшую подлость!
— Какую?
— Даже говорить не хочется! — сказал старик. И тут же выложил: — Здесь бочку с пивом поставили. Чтобы все желающие могли подойти и попить, за свои-то кровные. А эта дрянь пошла в милицию, говорит: здесь пляж, люди купаются, они отяжелеют от пива и потонут. А что она понимает в пиве? Сама небось не пьет и другим не дает. Собака на сене! Бочку-то и увезли.
— А ты, отец, с утра пропустил?
— Кружечку, — кисло сказал он.
— И я попить хочу, — заметил я.
— Пошли! — Старик оживился и встал на колени.
— Да нет, водички.
— Пошел ты знаешь куда со своей водичкой!
Старик лег на спину и сдвинул шляпу на глаза. Он был оскорблен.
— Как ты думаешь, удобно у этой Станкене попросить?
— Удобно, — прохрипел он. — Она принципиальная.
Я поднялся, отряхнул ладони, закурил и, оставив одежду возле старика, направился к домику.
— Доброе утро, — сказал я бритому человеку в шезлонге.
Он не обратил на меня внимания. Он держал бинокль у глаз и регулировал резкость. “Сильная оптика, — автоматически определил я по длине трубок. — Цейсовская. Скорее всего восьмикратная”. Из дверей домика снова вышла Евгения Августовна, держа в руке помойное ведро.
— Извините, пожалуйста! — остановил я ее. — Вы не угостите меня водой?
— Отчего же не угостить? Заходите в дом.
— Жалко сигарету бросать, а с ней неудобно: у вас, наверное, не курят?
— Заходите с сигаретой.
Она улыбнулась. У нее были добрые-предобрые глаза, какие бывают у больничных нянь и сиделок. Но я не хотел идти в дом — я наблюдал за бритым: что он так заинтересованно разглядывает в бинокль?
— Нет, нет!
— Тогда подождите, сейчас вынесу. Руки помою и вынесу.
Она была не по возрасту подвижная (во время войны ей уже было сорок три года), почти тотчас вернулась и протянула мне стакан.
— Пейте спокойно, колодезная.
— А я не боюсь.
— Зачем вы курите? — вдруг спросила она.
“Вот чудачка! — подумал я. — Сейчас будет объяснять, что никотин вреден для здоровья”.
— От застенчивости в шестнадцать лет начал, — сказал я как можно мягче: — С девушками говорить не мог, без дела стоять неудобно, а куришь — как будто занят.
— Да нет! Я потому спрашиваю, что вы хорошо сложены, наверняка спортсмен. Я люблю ходить на стадион, там мой внук занимается. А у вас вот эти мышцы на руках и на груди развиты как у мужчин, занимающихся борьбой. Наверное, трудно бороться, если куришь, — дыхание неровное. Вы, наверное, подумали про меня: вот дура, чего пристает! — Она опять улыбнулась. — Старуха болтливая!
— Ну что вы, что вы! — запротестовал я, отпивая воду из стакана мелкими глотками. Нет, конечно, она ничего не перепутала с Быстрицкой: она была очень наблюдательна.
— Вы только что приехали? Из Москвы?
“Хм!” — подумал я.
— Почему вы так решили?
— Я радио слушала: передают, что там дожди. А у нас уже две недели жара стоит. А вы беленький, совсем не загорели.
Последний месяц я заканчивал дело, работал круглые сутки и ни разу не выбрался за город. Но почему обязательно из Москвы?
— Наверное, не только в Москве льют дожди?
— У вас плавки японские, с полоской, в таких москвичи ходят. У меня снимает комнату одна семья из Киева, — она кивнула на шезлонг. — Так она говорит: хотела мужу достать такие плавки, и — никак, только в Москве их выбрасывают в универмагах. И они дорогие! Вы, наверное, инженер, хорошо зарабатываете?
Я едва не почесал в затылке как человек, застигнутый врасплох. Подбирая вещи, мы не подумали об этом, — я взял свои плавки, которые Тамара привезла действительно из Москвы. Н-да, глазастой была Евгения Августовна, недаром работала связной. Когда каждый день ходишь под смертью, привыкаешь замечать мелочи: они много значат.
— Это подарок ко дню рождения, — сказал я. И перевел разговор: — Вот ваш жилец отлично загорел, позавидуешь!
— Затем люди и едут к морю.
Дождь не пошел. Тучи свалились за горизонт, и через какие-нибудь полчаса уже пекло солнце. Море было молочное, гладкое, как стекло, над ним поднимался парок.
Я лежал на пляже метрах в пятидесяти от маленького домика — один этаж, покатая черепичная крыша (ужасно я люблю эти крыши!) с трубой и телевизионной антенной. Окна были распахнуты. На веревке, привязанной к двум соснам и протянутой через двор, висело белье. Хозяйку дома звали Евгения Августовна Станкене; она была одной из тех, чьи фотографии я видел в комитете. Нет, мы ее ни в чем не подозревали! Но я хотел поговорить с ней: иногда стоит просто так поговорить с человеком пять минут.
Во дворе стоял “Москвич”, а под сосной в шезлонге расположился наголо обритый мужчина в шортах и темных очках. Время от времени он снимал очки, клал на столик рядом и брал со столика бинокль: глядел вдоль берега.
Из домика вышла женщина с тазом и остановилась перед веревкой — стала снимать белье.
— Стерва она, эта Станкене! У-у, чертова перечница! — произнес кто-то за моей спиной.
Я оглянулся. Рядом со мной бухнулся на песок старик в длинных трусах и майке. На голове у него красовалась мятая шляпа. Видно, специально он не загорал, потому что почернели только жилистые руки и шея. “Местный житель”, — определил я.
— Не знаешь ее, что ли? — удивился старик. Он был не очень трезв. — Ну, вон та баба, что белье сушит, ты ж на нее уставился. Нашел на кого — старуха!
— А что она вам сделала?
— Подлость, величайшую подлость!
— Какую?
— Даже говорить не хочется! — сказал старик. И тут же выложил: — Здесь бочку с пивом поставили. Чтобы все желающие могли подойти и попить, за свои-то кровные. А эта дрянь пошла в милицию, говорит: здесь пляж, люди купаются, они отяжелеют от пива и потонут. А что она понимает в пиве? Сама небось не пьет и другим не дает. Собака на сене! Бочку-то и увезли.
— А ты, отец, с утра пропустил?
— Кружечку, — кисло сказал он.
— И я попить хочу, — заметил я.
— Пошли! — Старик оживился и встал на колени.
— Да нет, водички.
— Пошел ты знаешь куда со своей водичкой!
Старик лег на спину и сдвинул шляпу на глаза. Он был оскорблен.
— Как ты думаешь, удобно у этой Станкене попросить?
— Удобно, — прохрипел он. — Она принципиальная.
Я поднялся, отряхнул ладони, закурил и, оставив одежду возле старика, направился к домику.
— Доброе утро, — сказал я бритому человеку в шезлонге.
Он не обратил на меня внимания. Он держал бинокль у глаз и регулировал резкость. “Сильная оптика, — автоматически определил я по длине трубок. — Цейсовская. Скорее всего восьмикратная”. Из дверей домика снова вышла Евгения Августовна, держа в руке помойное ведро.
— Извините, пожалуйста! — остановил я ее. — Вы не угостите меня водой?
— Отчего же не угостить? Заходите в дом.
— Жалко сигарету бросать, а с ней неудобно: у вас, наверное, не курят?
— Заходите с сигаретой.
Она улыбнулась. У нее были добрые-предобрые глаза, какие бывают у больничных нянь и сиделок. Но я не хотел идти в дом — я наблюдал за бритым: что он так заинтересованно разглядывает в бинокль?
— Нет, нет!
— Тогда подождите, сейчас вынесу. Руки помою и вынесу.
Она была не по возрасту подвижная (во время войны ей уже было сорок три года), почти тотчас вернулась и протянула мне стакан.
— Пейте спокойно, колодезная.
— А я не боюсь.
— Зачем вы курите? — вдруг спросила она.
“Вот чудачка! — подумал я. — Сейчас будет объяснять, что никотин вреден для здоровья”.
— От застенчивости в шестнадцать лет начал, — сказал я как можно мягче: — С девушками говорить не мог, без дела стоять неудобно, а куришь — как будто занят.
— Да нет! Я потому спрашиваю, что вы хорошо сложены, наверняка спортсмен. Я люблю ходить на стадион, там мой внук занимается. А у вас вот эти мышцы на руках и на груди развиты как у мужчин, занимающихся борьбой. Наверное, трудно бороться, если куришь, — дыхание неровное. Вы, наверное, подумали про меня: вот дура, чего пристает! — Она опять улыбнулась. — Старуха болтливая!
— Ну что вы, что вы! — запротестовал я, отпивая воду из стакана мелкими глотками. Нет, конечно, она ничего не перепутала с Быстрицкой: она была очень наблюдательна.
— Вы только что приехали? Из Москвы?
“Хм!” — подумал я.
— Почему вы так решили?
— Я радио слушала: передают, что там дожди. А у нас уже две недели жара стоит. А вы беленький, совсем не загорели.
Последний месяц я заканчивал дело, работал круглые сутки и ни разу не выбрался за город. Но почему обязательно из Москвы?
— Наверное, не только в Москве льют дожди?
— У вас плавки японские, с полоской, в таких москвичи ходят. У меня снимает комнату одна семья из Киева, — она кивнула на шезлонг. — Так она говорит: хотела мужу достать такие плавки, и — никак, только в Москве их выбрасывают в универмагах. И они дорогие! Вы, наверное, инженер, хорошо зарабатываете?
Я едва не почесал в затылке как человек, застигнутый врасплох. Подбирая вещи, мы не подумали об этом, — я взял свои плавки, которые Тамара привезла действительно из Москвы. Н-да, глазастой была Евгения Августовна, недаром работала связной. Когда каждый день ходишь под смертью, привыкаешь замечать мелочи: они много значат.
— Это подарок ко дню рождения, — сказал я. И перевел разговор: — Вот ваш жилец отлично загорел, позавидуешь!
— Затем люди и едут к морю.
 Из домика вышла женщина с бигуди на голове.
— Семе-ен! — капризно сказала она бритому. — Ты накачал правый баллон?
— Сейчас жарко, — отозвался тот, сразу опуская бинокль. Лицо у него было плоское, как у бумажного человечка из детской игры “Одень сам”. — Я вечером накачаю, мамочка.
— Что ты там все время разглядываешь?
— На море смотрю, дружок, как кораблики плавают.
“Господи, и этот Семен! — машинально подумал я. — Сколько их развелось! Но вряд ли… Не могу же я кидаться на каждого Семена: вы не знали Тараса Михайловича Ищенко? О чем он собирался с вами поговорить?”
— Большое спасибо, — сказал я, возвращая стакан. — Очень вкусная вода! Он давно загорает? В смысле какие у меня перспективы?
— На здоровье… У меня они живут второй день. Они катаются на машине по побережью и перебрались сюда из Радзуте.
— Из Радзуте?
— Да. Жаловались, что там много народу.
“Не подходит”, — решил я.
— Всего доброго!
— Счастливо отдыхать, — отозвалась она.
— Спасибо.
Я побрел, увязая в песке, к своей одежде. Старик в шляпе сидел и смотрел, как я иду.
— В бинокль смотрит! — раздраженно сказал он, как только я приблизился.
— Кто?
— Дачник у этой Станкене! В бинокль баб разглядывает! В милицию бы его, а?
— А вы биноклем не пользуетесь? — спросил я, чтобы отвязаться: пора было уходить.
— Еще чего! — вскинулся он. — Я и так хорошо вижу, слава богу!
Я оглянулся на домик Станкене. Очень невзрачный был домишко. Сама Евгения Августовна теперь вскапывала лопатой клумбу в углу двора. “Здесь бы санаторий отгрохать! — подумал я. — А самую большую и светлую комнату предоставить в вечное пользование ей, бывшей связной подполья. Было бы справедливо”.
Из домика вышла женщина с бигуди на голове.
— Семе-ен! — капризно сказала она бритому. — Ты накачал правый баллон?
— Сейчас жарко, — отозвался тот, сразу опуская бинокль. Лицо у него было плоское, как у бумажного человечка из детской игры “Одень сам”. — Я вечером накачаю, мамочка.
— Что ты там все время разглядываешь?
— На море смотрю, дружок, как кораблики плавают.
“Господи, и этот Семен! — машинально подумал я. — Сколько их развелось! Но вряд ли… Не могу же я кидаться на каждого Семена: вы не знали Тараса Михайловича Ищенко? О чем он собирался с вами поговорить?”
— Большое спасибо, — сказал я, возвращая стакан. — Очень вкусная вода! Он давно загорает? В смысле какие у меня перспективы?
— На здоровье… У меня они живут второй день. Они катаются на машине по побережью и перебрались сюда из Радзуте.
— Из Радзуте?
— Да. Жаловались, что там много народу.
“Не подходит”, — решил я.
— Всего доброго!
— Счастливо отдыхать, — отозвалась она.
— Спасибо.
Я побрел, увязая в песке, к своей одежде. Старик в шляпе сидел и смотрел, как я иду.
— В бинокль смотрит! — раздраженно сказал он, как только я приблизился.
— Кто?
— Дачник у этой Станкене! В бинокль баб разглядывает! В милицию бы его, а?
— А вы биноклем не пользуетесь? — спросил я, чтобы отвязаться: пора было уходить.
— Еще чего! — вскинулся он. — Я и так хорошо вижу, слава богу!
Я оглянулся на домик Станкене. Очень невзрачный был домишко. Сама Евгения Августовна теперь вскапывала лопатой клумбу в углу двора. “Здесь бы санаторий отгрохать! — подумал я. — А самую большую и светлую комнату предоставить в вечное пользование ей, бывшей связной подполья. Было бы справедливо”.
Глава 14. Кастет с дубовым листком
 Вчерашнего паренька, который обещал мне кастет, я нашел довольно скоро. Он играл в волейбол. Я сложил одежду и встал в “кружок” напротив него.
Он сразу прыгнул и ахнул в меня мячом. Я прозевал, не принял. Он ухмыльнулся, поэтому я опоздал выйти на следующий мяч.
— Это тебе не что-нибудь! — громко сказал он. — Это игра интеллигентная!
Ого, парень был самолюбив!
— А ты прилично играешь, — так же громко ответил я. — По какому разряду?
— Давно не тренировался. Вообще, за институт выступал когда-то. На первом курсе. Потом забросил.
— Чувствуется! А, черт!..
Я опять прозевал его “гас”.
Он сделал щегольскую “ласточку”. Потом, вставая, небрежно выдал пас за голову.
— Здорово! — сказал я. — Пойдем окунемся, припекает.
— Можно.
Мы вошли в воду. Для Балтийского моря характерно, что прежде, чем доберешься до глубокой воды, надо метров сто брести по колено. Мы сошлись на том, что нас обоих это страшно раздражает.
— Ты в каком институте обитаешь? — спросил я.
— В калининградском рыбном.
— Кончаешь?
— На втором курсе.
Теперь я смог оценить ту небрежность, с которой он сказал: “Играл за институт когда-то”.
Он, в свою очередь, поинтересовался, чем я занимаюсь. Я рассказал свою историю.
— Трудно будет устроиться, — посочувствовал он. — Они с визой долго тянут, черти!
— Потерплю. Осознанная необходимость в этих вот бумажках, сам понимаешь.
— Не маленький.
— Но на ту игрушку у меня есть, — напомнил я.
— Хе, тут осечка вышла!
Он рассказал, что сегодня утром, когда дядька ушел на работу, он обшарил всю квартиру. “Дядька живет в другом конце города с женой, но она сейчас в отъезде, а я знаю, куда он ключ кладет”, — пояснил он. Кастета не нашел. Он точно помнил, что видел кастет в прошлом году в ящике для инструментов. Теперь кастет исчез. Я сказал, что он зря огорчается, — наверное, так себе был кастет, дрянь. Он горячо запротестовал: “Мировой кастет!” Я поинтересовался, какой он был с виду.
— На четыре пальца, никелированный. Здесь выпуклости. Здесь марка. Фабричная, наверное. — Он все показывал у себя на руке. — Здесь упор для ладони.
“Вот это фокус!” — подумал я. И спросил:
— Какая марка?
— Дубовый листок выгравирован.
Все совпадало. Точно таким кастетом был убит Ищенко. Может быть, этим самым?
— Я его у дядьки еще когда выпрашивал, а он говорит: нельзя, холодное оружие, а ты еще молодой.
“Разумно”, — мысленно одобрил я дядьку. И осторожно спросил:
— У дядьки-то он откуда?
— Черт его знает! В войну, наверное, подобрал! У него железные немецкие кресты были, каска с рогами, — я давно уже стянул.
— Он в каком звании воевал?
— Он не воевал, у него рука сухая. Он всю войну здесь прожил.
Та-ак! Расспрашивать его про дядьку дальше мне не хотелось. Рука — это уже зацепка. В поликлинике наверняка можно выяснить, у кого из жителей городка такое редкое увечье. “Можно так, а можно по-другому, — решил я. — Быстрее и проще”.
— Что-то вода холодная, — сказал я.
— Да брось ты! В самый раз.
— Нет, пойду на берег.
Я еще раньше приметил телефонную будку. Это уже давно вошло у меня в привычку: примечать, есть ли под рукой телефон-автомат. Будка стояла на пляже у ограды, можно было звонить не одеваясь. Выйдя из воды и оглянувшись, я направился к ней.
Умеючи можно звонить из любого автомата без двухкопеечной монеты. Я набрал номер, объяснил, где нахожусь, и попросил прислать сотрудника. “Виленкина?” — спросили меня. “Нет, местного”. Судя по всему, со мной говорил начальник горотдела Валдманис. Он сказал, что пришлет сотрудника, который знает меня по фотографии. “Если я буду один, пусть подсядет ко мне, — сказал я. — Я покажу ему паренька: надо кое-что выяснить”. — “Он будет на месте через пятнадцать минут. У него в руках будет журнал “Знамя”, желтенькая обложка с красным корешком. Четвертый номер. Он будет… Коля, какие у тебя плавки? Он будет в красных плавках. Очень красных, он говорит…” — “Жду”.
Я беспечно растянулся на горячем песке. Скоро из воды вылез мой новый знакомый.
— Уф, хорошо!
— Кончай брызгаться.
— Извини. А ты здорово нас вчера раскидал! Как детишек! Ты борьбой занимаешься?
— Ага.
— А Бычок вчера прибежал, мы с Семкой сидели, о кино толковали, а он прибежал и кричит: “Там твою Райку какой-то хлюст окручивает!” Это ты, значит… “А ты тут моргаешь! Беги скорей!” Семка сначала не хотел, говорит: “Это ее дело”, — а Бычок уговорил.
— У них любовь?
— Вроде.
— Бычок — это плечистый, в белой рубашке был?
— Он! Ну, ты ему здорово дал! Он вообще-то сильный и всегда хвастает этим, а тут нашла коса на камень. Лично я — “за”, так и надо! А он сулит: “Еще повстречаюсь с ним на узенькой дорожке”.
— Ладно, — сказал я рассеянно.
Переступая через лежащих и помахивая желтым журналом с красным корешком, в нашу сторону шел парень в красных плавках. Он выбирал место, где устроиться. На момент мы встретились глазами, и я отвернулся. Но тут же повернулся обратно, потому что сзади кто-то сказал:
— Привет, Боря!
Сотрудник Валдманиса стоял над нами. Я даже на момент растерялся. А мой паренек сказал:
— Привет! Я уж давно тебя приметил, смотрю, идешь мимо, зазнаешься. Ты чего не на работе?
— Смылся позагорать.
— Знакомься! — сказал мне паренек. — Колька, в милиции, что ли, работает, вообще темная личность, но приемчики знает мировые, вроде тебя.
Тут я сообразил.
— Мы, оказывается, с тобой тезки, — сказал я пареньку. — Меня тоже Борисом звать. — Я протянул руку подошедшему.
— Николай, — сказал тот. Получилось отлично: они были знакомы.
— Устраивайся здесь, — предложил мой тезка.
— Я девушку жду, — сказал сотрудник. — Она очень стеснительная и, пожалуй, испугается вас.
Он отошел к ограде, расстелил полотенце и лег — стал листать журнал. Вскоре Боря убежал играть в волейбол. Я встал и лениво побрел вдоль воды. Через минуту сотрудник нагнал меня. Мы пошли почти рядом.
— Вы его хорошо знаете? — спросил я, глядя на сторожевик, дымивший на горизонте.
— На одной площадке жили. Он сейчас учится в Калининграде и сюда приезжает на каникулы. Вроде он парень неплохой, ничего такого за ним не замечалось.
— Все в порядке, — успокоил его я. — Вы, случаем, не знаете, кто его дядя?
— Знаю.
— Кто? — не выдержал я.
— Тот самый, на которого пришла анонимка. Он работает в рыбном управлении. Его фамилия Суркин.
Я тихонько присвистнул.
Вчерашнего паренька, который обещал мне кастет, я нашел довольно скоро. Он играл в волейбол. Я сложил одежду и встал в “кружок” напротив него.
Он сразу прыгнул и ахнул в меня мячом. Я прозевал, не принял. Он ухмыльнулся, поэтому я опоздал выйти на следующий мяч.
— Это тебе не что-нибудь! — громко сказал он. — Это игра интеллигентная!
Ого, парень был самолюбив!
— А ты прилично играешь, — так же громко ответил я. — По какому разряду?
— Давно не тренировался. Вообще, за институт выступал когда-то. На первом курсе. Потом забросил.
— Чувствуется! А, черт!..
Я опять прозевал его “гас”.
Он сделал щегольскую “ласточку”. Потом, вставая, небрежно выдал пас за голову.
— Здорово! — сказал я. — Пойдем окунемся, припекает.
— Можно.
Мы вошли в воду. Для Балтийского моря характерно, что прежде, чем доберешься до глубокой воды, надо метров сто брести по колено. Мы сошлись на том, что нас обоих это страшно раздражает.
— Ты в каком институте обитаешь? — спросил я.
— В калининградском рыбном.
— Кончаешь?
— На втором курсе.
Теперь я смог оценить ту небрежность, с которой он сказал: “Играл за институт когда-то”.
Он, в свою очередь, поинтересовался, чем я занимаюсь. Я рассказал свою историю.
— Трудно будет устроиться, — посочувствовал он. — Они с визой долго тянут, черти!
— Потерплю. Осознанная необходимость в этих вот бумажках, сам понимаешь.
— Не маленький.
— Но на ту игрушку у меня есть, — напомнил я.
— Хе, тут осечка вышла!
Он рассказал, что сегодня утром, когда дядька ушел на работу, он обшарил всю квартиру. “Дядька живет в другом конце города с женой, но она сейчас в отъезде, а я знаю, куда он ключ кладет”, — пояснил он. Кастета не нашел. Он точно помнил, что видел кастет в прошлом году в ящике для инструментов. Теперь кастет исчез. Я сказал, что он зря огорчается, — наверное, так себе был кастет, дрянь. Он горячо запротестовал: “Мировой кастет!” Я поинтересовался, какой он был с виду.
— На четыре пальца, никелированный. Здесь выпуклости. Здесь марка. Фабричная, наверное. — Он все показывал у себя на руке. — Здесь упор для ладони.
“Вот это фокус!” — подумал я. И спросил:
— Какая марка?
— Дубовый листок выгравирован.
Все совпадало. Точно таким кастетом был убит Ищенко. Может быть, этим самым?
— Я его у дядьки еще когда выпрашивал, а он говорит: нельзя, холодное оружие, а ты еще молодой.
“Разумно”, — мысленно одобрил я дядьку. И осторожно спросил:
— У дядьки-то он откуда?
— Черт его знает! В войну, наверное, подобрал! У него железные немецкие кресты были, каска с рогами, — я давно уже стянул.
— Он в каком звании воевал?
— Он не воевал, у него рука сухая. Он всю войну здесь прожил.
Та-ак! Расспрашивать его про дядьку дальше мне не хотелось. Рука — это уже зацепка. В поликлинике наверняка можно выяснить, у кого из жителей городка такое редкое увечье. “Можно так, а можно по-другому, — решил я. — Быстрее и проще”.
— Что-то вода холодная, — сказал я.
— Да брось ты! В самый раз.
— Нет, пойду на берег.
Я еще раньше приметил телефонную будку. Это уже давно вошло у меня в привычку: примечать, есть ли под рукой телефон-автомат. Будка стояла на пляже у ограды, можно было звонить не одеваясь. Выйдя из воды и оглянувшись, я направился к ней.
Умеючи можно звонить из любого автомата без двухкопеечной монеты. Я набрал номер, объяснил, где нахожусь, и попросил прислать сотрудника. “Виленкина?” — спросили меня. “Нет, местного”. Судя по всему, со мной говорил начальник горотдела Валдманис. Он сказал, что пришлет сотрудника, который знает меня по фотографии. “Если я буду один, пусть подсядет ко мне, — сказал я. — Я покажу ему паренька: надо кое-что выяснить”. — “Он будет на месте через пятнадцать минут. У него в руках будет журнал “Знамя”, желтенькая обложка с красным корешком. Четвертый номер. Он будет… Коля, какие у тебя плавки? Он будет в красных плавках. Очень красных, он говорит…” — “Жду”.
Я беспечно растянулся на горячем песке. Скоро из воды вылез мой новый знакомый.
— Уф, хорошо!
— Кончай брызгаться.
— Извини. А ты здорово нас вчера раскидал! Как детишек! Ты борьбой занимаешься?
— Ага.
— А Бычок вчера прибежал, мы с Семкой сидели, о кино толковали, а он прибежал и кричит: “Там твою Райку какой-то хлюст окручивает!” Это ты, значит… “А ты тут моргаешь! Беги скорей!” Семка сначала не хотел, говорит: “Это ее дело”, — а Бычок уговорил.
— У них любовь?
— Вроде.
— Бычок — это плечистый, в белой рубашке был?
— Он! Ну, ты ему здорово дал! Он вообще-то сильный и всегда хвастает этим, а тут нашла коса на камень. Лично я — “за”, так и надо! А он сулит: “Еще повстречаюсь с ним на узенькой дорожке”.
— Ладно, — сказал я рассеянно.
Переступая через лежащих и помахивая желтым журналом с красным корешком, в нашу сторону шел парень в красных плавках. Он выбирал место, где устроиться. На момент мы встретились глазами, и я отвернулся. Но тут же повернулся обратно, потому что сзади кто-то сказал:
— Привет, Боря!
Сотрудник Валдманиса стоял над нами. Я даже на момент растерялся. А мой паренек сказал:
— Привет! Я уж давно тебя приметил, смотрю, идешь мимо, зазнаешься. Ты чего не на работе?
— Смылся позагорать.
— Знакомься! — сказал мне паренек. — Колька, в милиции, что ли, работает, вообще темная личность, но приемчики знает мировые, вроде тебя.
Тут я сообразил.
— Мы, оказывается, с тобой тезки, — сказал я пареньку. — Меня тоже Борисом звать. — Я протянул руку подошедшему.
— Николай, — сказал тот. Получилось отлично: они были знакомы.
— Устраивайся здесь, — предложил мой тезка.
— Я девушку жду, — сказал сотрудник. — Она очень стеснительная и, пожалуй, испугается вас.
Он отошел к ограде, расстелил полотенце и лег — стал листать журнал. Вскоре Боря убежал играть в волейбол. Я встал и лениво побрел вдоль воды. Через минуту сотрудник нагнал меня. Мы пошли почти рядом.
— Вы его хорошо знаете? — спросил я, глядя на сторожевик, дымивший на горизонте.
— На одной площадке жили. Он сейчас учится в Калининграде и сюда приезжает на каникулы. Вроде он парень неплохой, ничего такого за ним не замечалось.
— Все в порядке, — успокоил его я. — Вы, случаем, не знаете, кто его дядя?
— Знаю.
— Кто? — не выдержал я.
— Тот самый, на которого пришла анонимка. Он работает в рыбном управлении. Его фамилия Суркин.
Я тихонько присвистнул.
Глава 15. По-прежнему на пляже
 До часу было еще далеко.
Я решил пройти по берегу до улицы Прудиса и найти Быстрицкую, — помахал рукой Борису (он не заметил, увлеченный игрой), собрал одежду в охапку и отправился. Солнце пекло, плечи у меня начинали гореть. Я всегда обгораю, когда первый раз в сезоне выбираюсь на пляж, а жена дразнит меня: “Неуязвимый старший лейтенант пасует перед какими-то солнечными лучами”. Я все время помнил, что сейчас она лежит в больнице и ждет. Перед отлетом мне удалось выкроить полчаса и забежать к ней, — она стояла возле подоконника, не опираясь на него. Я объяснил, что наш старик гонит меня делать выписки из старых дел. “И вообще я скоро превращусь в архивную крысу”, — весело добавил я. “Ты тогда тоже говорил про крысу, а потом два месяца лежал в больнице”, — сказала она. “Да? — Я не помнил, что я тогда так говорил. — Накладочка получилась, ужасная нелепица! Ты же знаешь, что ничего такого больше не будет, и ты знаешь, что я родился в рубашке и вообще страшно везучий. Я всегда выкручусь”. — “Знаю”, — сказала она и заплакала… А может быть, она уже не ждет и все в порядке. Но мне было чертовски обидно оттого, что я не мог быть рядом.
Вдоль всей прибрежной полосы плескались люди, далеко впереди они казались против солнца черными точками. Пляж тоже был заполнен. Люди были разные: хорошие и плохие, веселые и грустные, умные и дураки. И среди них был он. Или, может быть, он сейчас ехал в трамвае по городу, или стоял в очереди за пивом, или сидел за письменным столом. Он был наверняка умен. Может быть, весел. Обычный человек в обычном костюме, его не отличишь от других.
Я шел вдоль самой воды по узкой полосе мокрого песка. Ноги не вязли, и идти было удобно, как по дороге. Я увидел Быстрицкую, рядом с ней Семена и подошел.
— Раечка, привет! — сказал я, покосившись на Семена. — У вас чудесный купальный костюм, и этот цвет вам к лицу!
— Спасибо за комплимент. Что это вы такой веселый?
— Так ведь утро какое, Раечка! Первый сорт, как говорит один мой знакомый. Выспались?
— Выспалась. Как вы добрались вчера до гостиницы?
Семен дымил сигаретой и хмуро смотрел в морскую даль.
— Отлично! Только, — я сделал паузу, — только боялся, что дождь хлынет. Но он не хлынул.
— Я же вам говорила! Знакомьтесь, кстати: мой верный рыцарь Сема.
— Борис. — Я протянул ему руку.
“Рыцарь” вяло пожал ее и буркнул:
— Мы уже знакомы.
Я сел на песок и стал аккуратно складывать одежду.
— Когда же вы успели? — удивилась Быстрицкая.
Семен набрал воздуху и, мельком глянув на меня, бухнул:
— Мы ему вчера морду набить хотели.
Нет, в этом Семене что-то было! Он не захотел принять предложенную ему возможность выкрутиться. Ему и врать-то не надо было, он мог просто промолчать.
— За что-о?
— Чтоб к тебе не лез!
— Да-а? — Она сухо рассмеялась. — А твое какое дело? Я тебе сто раз говорила, что могу быть с кем угодно и когда угодно: мне уже надоела опека! Что это за мальчишество?
Семен молчал, ковыряя ногой песок.
— Ну?
— Ну так он нам же и насовал, — неохотно сказал Семен.
— Правильно! И я очень рада! А кто это — вы? Своих дружков привел, кучей на одного?
— Он борец, — сообщил Семен.
Быстрицкая оценивающе посмотрела на меня — это получилось у нее очень кокетливо. Мне вдруг стало жалко Семена. Он выглядел рядом с ней совсем мальчиком. “Она его помучает, а потом выскочит за какого-нибудь приезжего инженера”, — подумал я. А может, я ошибаюсь? Но мне она сегодня определенно не нравилась. Из-за Семена. И какое все-таки отношение она имела к Ищенко?
— Вода холодная, товарищ борец? — спросила она.
— Как сказать.
— В каком это смысле?
— Что? Ах, вода! Вода совсем неплохая… Вы знаете, я как раз думал про Ищенко, ну, которого убили. Вы мне вчера про него рассказывали и плохо о нем отзывались. А мои соседи по номеру твердят в один голос: замечательный был человек! Странно, правда?
— Он дрянью был! — быстро сказала Быстрицкая. — А моряк этот, ваш сосед, горький пьяница. Мне уборщица говорила, что у него под кроватью целый склад пустых бутылок стоит.
— Я смотрю, моряк вам активно не нравится. Почему?
— Так!
— А мне Тарас Михайлович понравился, — вдруг заявил Семен.
— Ты его знал? — безразлично спросил я.
— Ага! Я ж приходил к Райке вот, в гостиницу. Он добродушный был, ласковый. Свой мужик!
— Ты-то что понимаешь в людях! Он… — сказала Быстрицкая и осеклась.
Тут прямо к ее ногам подкатился мяч, — кто-то из игравших неподалеку слишком сильно “погасил”. Она встала и кинула его обратно. Кинула точно, по-спортивному. Она была очень яркая: копна блестящих волос, купальник в полоску… Кто-то из мужчин, игравших по соседству в преферанс, крякнул.
Она улыбнулась, села, и совсем уже не было никакого смущения на ее лице. Если б я не ловил каждый оттенок, каждую мелочь в разговоре, то ничего не заметил бы.
Я лег на спину, заложив руки под голову. Небо надо мной было чистое, голубое, только след от реактивного самолета нарушал его однотонность. Со стороны моря доносились плеск воды, удары по мячу, смех. Я блаженно сощурил глаза.
— Что это у вас за шрамы на боку? — спросил Семен. — Как дырки.
— Это? Так, ерунда. — Я сразу опустил руку и повернулся на бок.
Это была неудобная примета: люди, побывавшие на войне, знают, как выглядят следы от пулевых ранений. Правда, Семен не был на войне. Тут я заметил, что совсем недалеко от нас расположилась Клавдия Ищенко. Она смотрела в нашу сторону. Рядом с ней лежал, опираясь на локти, мужчина лет сорока, очень черный, худой. Он что-то со смехом говорил ей. У него в головах была сложена форменная одежда: военный. “Она как из тюрьмы вырвалась”, — подумал я.
Она приглашающе помахала мне рукой.
Я, наоборот, развел руками, показывая, что я, дескать, никак не могу подойти, сижу в компании. Быстрицкая заметила нашу пантомиму. И я продолжил тему “Ищенко”, играя в основном на Семена, — тот он все-таки Семен или не тот?
— Жена убитого, — сказал я. — То есть вдова. Она была намного моложе его и, кажется, рада его смерти. Меня, познакомили с ней сегодня, — соврал я.
Но Семен никак не отреагировал. Зато Быстрицкая повернулась и стала внимательно разглядывать ее.
— Можно подумать, что вы видите перед собой врага, — заметил я.
— А вы слишком быстро заводите знакомства! — ядовито отпарировала она. — Она сильно красится. И у нее уже шея морщинистая.
Я вдруг почувствовал страшную усталость: вчера и сегодня, каждую минуту, я ставил окружающим меня людям ловушки и находился в постоянном напряжении. Мне захотелось побыть одному. Заплыть далеко в море.
Я вытащил из кармана брюк часы. Было четверть двенадцатого.
— Пойду погружу свое белое тело в воды Балтийского моря.
Я быстро миновал мелководную зону, где резвился основной состав купающихся. Потом оттолкнулся ногами от дна и пошел ровным сильным брассом.
Я отплыл далеко и перевернулся на спину. Берег превратился в узкую полоску. “Сразу обратно, — подумал я. — Нужно быть пунктуальным и произвести хорошее впечатление на Суркина. Хотя, может быть, сегодня его придется брать и все это ни к чему”. Но я вовсе не был уверен в этом. Я передал через сотрудника для Валдманиса все, что знал, и сказал, что позже, вечером, сам появлюсь в горотделе. Суркин уже, конечно, под наблюдением. Но мне казалось, что до развязки далеко.
Подплывая к берегу, я снова почувствовал себя собранным и напряженным. “Порядок”, — подумал я. Я вышел на пляж и осмотрелся.
Худой военный поливал Клавдию Ищенко водой из резиновой шапочки. Она хохотала и отбивалась. Быстрицкая с Семеном о чем-то горячо спорили.
Увидев меня, они замолчали.
— Пардон! — сказал я, подходя. — Не хочу мешать вашей задушевной беседе и сейчас смоюсь. Только брюки надену.
— Чего вам не сидится? — внезапно рассудительным тоном хозяина, уговаривающего гостя побыть “еще капельку”, сказал Семен.
С каждым из них порознь мне было о чем поговорить, ко общая беседа меня не устраивала.
— Дела, брат! Надо подумать о личной жизни. В смысле денег. Хлопочу насчет работы, — сказал я скороговоркой, потому что уже было пора идти к Суркину.
До часу было еще далеко.
Я решил пройти по берегу до улицы Прудиса и найти Быстрицкую, — помахал рукой Борису (он не заметил, увлеченный игрой), собрал одежду в охапку и отправился. Солнце пекло, плечи у меня начинали гореть. Я всегда обгораю, когда первый раз в сезоне выбираюсь на пляж, а жена дразнит меня: “Неуязвимый старший лейтенант пасует перед какими-то солнечными лучами”. Я все время помнил, что сейчас она лежит в больнице и ждет. Перед отлетом мне удалось выкроить полчаса и забежать к ней, — она стояла возле подоконника, не опираясь на него. Я объяснил, что наш старик гонит меня делать выписки из старых дел. “И вообще я скоро превращусь в архивную крысу”, — весело добавил я. “Ты тогда тоже говорил про крысу, а потом два месяца лежал в больнице”, — сказала она. “Да? — Я не помнил, что я тогда так говорил. — Накладочка получилась, ужасная нелепица! Ты же знаешь, что ничего такого больше не будет, и ты знаешь, что я родился в рубашке и вообще страшно везучий. Я всегда выкручусь”. — “Знаю”, — сказала она и заплакала… А может быть, она уже не ждет и все в порядке. Но мне было чертовски обидно оттого, что я не мог быть рядом.
Вдоль всей прибрежной полосы плескались люди, далеко впереди они казались против солнца черными точками. Пляж тоже был заполнен. Люди были разные: хорошие и плохие, веселые и грустные, умные и дураки. И среди них был он. Или, может быть, он сейчас ехал в трамвае по городу, или стоял в очереди за пивом, или сидел за письменным столом. Он был наверняка умен. Может быть, весел. Обычный человек в обычном костюме, его не отличишь от других.
Я шел вдоль самой воды по узкой полосе мокрого песка. Ноги не вязли, и идти было удобно, как по дороге. Я увидел Быстрицкую, рядом с ней Семена и подошел.
— Раечка, привет! — сказал я, покосившись на Семена. — У вас чудесный купальный костюм, и этот цвет вам к лицу!
— Спасибо за комплимент. Что это вы такой веселый?
— Так ведь утро какое, Раечка! Первый сорт, как говорит один мой знакомый. Выспались?
— Выспалась. Как вы добрались вчера до гостиницы?
Семен дымил сигаретой и хмуро смотрел в морскую даль.
— Отлично! Только, — я сделал паузу, — только боялся, что дождь хлынет. Но он не хлынул.
— Я же вам говорила! Знакомьтесь, кстати: мой верный рыцарь Сема.
— Борис. — Я протянул ему руку.
“Рыцарь” вяло пожал ее и буркнул:
— Мы уже знакомы.
Я сел на песок и стал аккуратно складывать одежду.
— Когда же вы успели? — удивилась Быстрицкая.
Семен набрал воздуху и, мельком глянув на меня, бухнул:
— Мы ему вчера морду набить хотели.
Нет, в этом Семене что-то было! Он не захотел принять предложенную ему возможность выкрутиться. Ему и врать-то не надо было, он мог просто промолчать.
— За что-о?
— Чтоб к тебе не лез!
— Да-а? — Она сухо рассмеялась. — А твое какое дело? Я тебе сто раз говорила, что могу быть с кем угодно и когда угодно: мне уже надоела опека! Что это за мальчишество?
Семен молчал, ковыряя ногой песок.
— Ну?
— Ну так он нам же и насовал, — неохотно сказал Семен.
— Правильно! И я очень рада! А кто это — вы? Своих дружков привел, кучей на одного?
— Он борец, — сообщил Семен.
Быстрицкая оценивающе посмотрела на меня — это получилось у нее очень кокетливо. Мне вдруг стало жалко Семена. Он выглядел рядом с ней совсем мальчиком. “Она его помучает, а потом выскочит за какого-нибудь приезжего инженера”, — подумал я. А может, я ошибаюсь? Но мне она сегодня определенно не нравилась. Из-за Семена. И какое все-таки отношение она имела к Ищенко?
— Вода холодная, товарищ борец? — спросила она.
— Как сказать.
— В каком это смысле?
— Что? Ах, вода! Вода совсем неплохая… Вы знаете, я как раз думал про Ищенко, ну, которого убили. Вы мне вчера про него рассказывали и плохо о нем отзывались. А мои соседи по номеру твердят в один голос: замечательный был человек! Странно, правда?
— Он дрянью был! — быстро сказала Быстрицкая. — А моряк этот, ваш сосед, горький пьяница. Мне уборщица говорила, что у него под кроватью целый склад пустых бутылок стоит.
— Я смотрю, моряк вам активно не нравится. Почему?
— Так!
— А мне Тарас Михайлович понравился, — вдруг заявил Семен.
— Ты его знал? — безразлично спросил я.
— Ага! Я ж приходил к Райке вот, в гостиницу. Он добродушный был, ласковый. Свой мужик!
— Ты-то что понимаешь в людях! Он… — сказала Быстрицкая и осеклась.
Тут прямо к ее ногам подкатился мяч, — кто-то из игравших неподалеку слишком сильно “погасил”. Она встала и кинула его обратно. Кинула точно, по-спортивному. Она была очень яркая: копна блестящих волос, купальник в полоску… Кто-то из мужчин, игравших по соседству в преферанс, крякнул.
Она улыбнулась, села, и совсем уже не было никакого смущения на ее лице. Если б я не ловил каждый оттенок, каждую мелочь в разговоре, то ничего не заметил бы.
Я лег на спину, заложив руки под голову. Небо надо мной было чистое, голубое, только след от реактивного самолета нарушал его однотонность. Со стороны моря доносились плеск воды, удары по мячу, смех. Я блаженно сощурил глаза.
— Что это у вас за шрамы на боку? — спросил Семен. — Как дырки.
— Это? Так, ерунда. — Я сразу опустил руку и повернулся на бок.
Это была неудобная примета: люди, побывавшие на войне, знают, как выглядят следы от пулевых ранений. Правда, Семен не был на войне. Тут я заметил, что совсем недалеко от нас расположилась Клавдия Ищенко. Она смотрела в нашу сторону. Рядом с ней лежал, опираясь на локти, мужчина лет сорока, очень черный, худой. Он что-то со смехом говорил ей. У него в головах была сложена форменная одежда: военный. “Она как из тюрьмы вырвалась”, — подумал я.
Она приглашающе помахала мне рукой.
Я, наоборот, развел руками, показывая, что я, дескать, никак не могу подойти, сижу в компании. Быстрицкая заметила нашу пантомиму. И я продолжил тему “Ищенко”, играя в основном на Семена, — тот он все-таки Семен или не тот?
— Жена убитого, — сказал я. — То есть вдова. Она была намного моложе его и, кажется, рада его смерти. Меня, познакомили с ней сегодня, — соврал я.
Но Семен никак не отреагировал. Зато Быстрицкая повернулась и стала внимательно разглядывать ее.
— Можно подумать, что вы видите перед собой врага, — заметил я.
— А вы слишком быстро заводите знакомства! — ядовито отпарировала она. — Она сильно красится. И у нее уже шея морщинистая.
Я вдруг почувствовал страшную усталость: вчера и сегодня, каждую минуту, я ставил окружающим меня людям ловушки и находился в постоянном напряжении. Мне захотелось побыть одному. Заплыть далеко в море.
Я вытащил из кармана брюк часы. Было четверть двенадцатого.
— Пойду погружу свое белое тело в воды Балтийского моря.
Я быстро миновал мелководную зону, где резвился основной состав купающихся. Потом оттолкнулся ногами от дна и пошел ровным сильным брассом.
Я отплыл далеко и перевернулся на спину. Берег превратился в узкую полоску. “Сразу обратно, — подумал я. — Нужно быть пунктуальным и произвести хорошее впечатление на Суркина. Хотя, может быть, сегодня его придется брать и все это ни к чему”. Но я вовсе не был уверен в этом. Я передал через сотрудника для Валдманиса все, что знал, и сказал, что позже, вечером, сам появлюсь в горотделе. Суркин уже, конечно, под наблюдением. Но мне казалось, что до развязки далеко.
Подплывая к берегу, я снова почувствовал себя собранным и напряженным. “Порядок”, — подумал я. Я вышел на пляж и осмотрелся.
Худой военный поливал Клавдию Ищенко водой из резиновой шапочки. Она хохотала и отбивалась. Быстрицкая с Семеном о чем-то горячо спорили.
Увидев меня, они замолчали.
— Пардон! — сказал я, подходя. — Не хочу мешать вашей задушевной беседе и сейчас смоюсь. Только брюки надену.
— Чего вам не сидится? — внезапно рассудительным тоном хозяина, уговаривающего гостя побыть “еще капельку”, сказал Семен.
С каждым из них порознь мне было о чем поговорить, ко общая беседа меня не устраивала.
— Дела, брат! Надо подумать о личной жизни. В смысле денег. Хлопочу насчет работы, — сказал я скороговоркой, потому что уже было пора идти к Суркину.
Глава 16. Он?
 У подъезда с табличкой “Управление экспедиционного лова” я все-таки помедлил: хотел оглядеться.
Улица была обсажена старыми тополями. По мостовой катился пух. Напротив, в одноэтажном домике — “Парикмахерская”. Там было пусто, окна раскрыты, и мастер в ожидании клиентов сидел на ручке кресла и щелкал возле лица ножницами, подстригая воображаемую бороду. Ему было лет семнадцать. Фасад домика, как и стены многих зданий в городе, был испещрен следами пуль, похожими на отметины после оспы. Немцы отчаянно сопротивлялись в сорок четвертом, предчувствуя конец. При въезде в город цепью стояли обвалившиеся доты — я видел их из окна автобуса, когда ехал с аэродрома, — это были остатки линии обороны.
“Теперь все это принадлежит истории: блиндажи заросли крапивой и лопухами, ребятишки играют там, наверное, в прятки, — подумал я. — Принадлежит, да не совсем: моя работа мало походит на работу историка”.
Возле подъезда толпились рыбаки.
— Ваньку Шилова знаешь? Списался, на берегу вкалывает!
— И я спишусь. Надоело море — во как!
— Угу. Фурункулы там всякие, ревматизм…
Я вошел в подъезд.
Перед дверью с цифрой 7 я остановился. На табличке были три фамилии: “Вишняускас Р.М., Шипко Е.К., Суркин Ю.П.”. Я толкнул застекленную матовую дверь и оказался в комнате, напоминавшей клетушку. Три стола, на каждом — кипы картонных папок “Дело №…”. В углу сидела женщина и сердито стучала на машинке.
— Юрий Петрович? — коротко, чтобы не мешать, спросил я.
— Вышел! — так же немногословно ответила она, на момент оторвавшись от клавишей и взглянув поверх машинки на меня.
— Скоро будет?
— Он мне не докладывал.
Я ей не понравился.
На подоконнике стоял аспарагус. Я потрогал пальцем землю в горшке: она была совсем сухая.
— Поливать надо, а то помрет, — посоветовал я. — Когда же он все-таки будет?
— Я знаю, что надо поливать растение, а то оно погибнет. — Женщина достала платочек с кружевцами и яростно высморкалась. — Я вам сказала, что не знаю когда будет Юрий Петрович!
Я уставился на нее.
— Что еще?
— Где вы простудились в такую жару?
Она обиженно отвернулась.
— А вы, наверное, Шипко Е-Ка. — продолжал я заинтересованно. — Потому что Вишняускас и Суркин — это мужчины, тут не может быть сомнения. На вашу долю как раз остается Шипко. Только вот, что значит Е-Ка?
Тут вошел Суркин.
— Вы меня ждете?
— Мне нужен Юрий Петрович Суркин.
— Значит, меня.
— Здравствуйте! — сказал я слегка застенчиво. — Мне вот Генрих Осипович сказал…
— Вы от Буша? Отлично. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Не обращайте внимания на нашу тесноту. Извините, что вам пришлось обождать.
Я сел, но разговора не начинал, косясь на женщину и делая вид, что стеснен ее присутствием.
— Я выйду, а то еще помешаю молодому человеку, — язвительно сказала она.
Мой расчет оправдался. Я предпочитал говорить с Суркиным наедине и сделал для этого все. Женщина выплыла из комнаты, прямо держа голову, и напоследок хлопнула дверью.
— С характером товарищ! — уважительно сказал я.
— Не обращайте внимания.
Теперь я мог разглядеть его. Он был в светлой рубашке, щуплый, одна рука заметно тоньше другой. Он был, несомненно, нервен, импульсивен по натуре, но сейчас он не напоминал того испуганного человека, который подглядывал в приоткрытую дверь, когда я уходил от Буша. “А в утро убийства он “протек” на своего соседа”, — почему-то вспомнил я.
У подъезда с табличкой “Управление экспедиционного лова” я все-таки помедлил: хотел оглядеться.
Улица была обсажена старыми тополями. По мостовой катился пух. Напротив, в одноэтажном домике — “Парикмахерская”. Там было пусто, окна раскрыты, и мастер в ожидании клиентов сидел на ручке кресла и щелкал возле лица ножницами, подстригая воображаемую бороду. Ему было лет семнадцать. Фасад домика, как и стены многих зданий в городе, был испещрен следами пуль, похожими на отметины после оспы. Немцы отчаянно сопротивлялись в сорок четвертом, предчувствуя конец. При въезде в город цепью стояли обвалившиеся доты — я видел их из окна автобуса, когда ехал с аэродрома, — это были остатки линии обороны.
“Теперь все это принадлежит истории: блиндажи заросли крапивой и лопухами, ребятишки играют там, наверное, в прятки, — подумал я. — Принадлежит, да не совсем: моя работа мало походит на работу историка”.
Возле подъезда толпились рыбаки.
— Ваньку Шилова знаешь? Списался, на берегу вкалывает!
— И я спишусь. Надоело море — во как!
— Угу. Фурункулы там всякие, ревматизм…
Я вошел в подъезд.
Перед дверью с цифрой 7 я остановился. На табличке были три фамилии: “Вишняускас Р.М., Шипко Е.К., Суркин Ю.П.”. Я толкнул застекленную матовую дверь и оказался в комнате, напоминавшей клетушку. Три стола, на каждом — кипы картонных папок “Дело №…”. В углу сидела женщина и сердито стучала на машинке.
— Юрий Петрович? — коротко, чтобы не мешать, спросил я.
— Вышел! — так же немногословно ответила она, на момент оторвавшись от клавишей и взглянув поверх машинки на меня.
— Скоро будет?
— Он мне не докладывал.
Я ей не понравился.
На подоконнике стоял аспарагус. Я потрогал пальцем землю в горшке: она была совсем сухая.
— Поливать надо, а то помрет, — посоветовал я. — Когда же он все-таки будет?
— Я знаю, что надо поливать растение, а то оно погибнет. — Женщина достала платочек с кружевцами и яростно высморкалась. — Я вам сказала, что не знаю когда будет Юрий Петрович!
Я уставился на нее.
— Что еще?
— Где вы простудились в такую жару?
Она обиженно отвернулась.
— А вы, наверное, Шипко Е-Ка. — продолжал я заинтересованно. — Потому что Вишняускас и Суркин — это мужчины, тут не может быть сомнения. На вашу долю как раз остается Шипко. Только вот, что значит Е-Ка?
Тут вошел Суркин.
— Вы меня ждете?
— Мне нужен Юрий Петрович Суркин.
— Значит, меня.
— Здравствуйте! — сказал я слегка застенчиво. — Мне вот Генрих Осипович сказал…
— Вы от Буша? Отлично. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Не обращайте внимания на нашу тесноту. Извините, что вам пришлось обождать.
Я сел, но разговора не начинал, косясь на женщину и делая вид, что стеснен ее присутствием.
— Я выйду, а то еще помешаю молодому человеку, — язвительно сказала она.
Мой расчет оправдался. Я предпочитал говорить с Суркиным наедине и сделал для этого все. Женщина выплыла из комнаты, прямо держа голову, и напоследок хлопнула дверью.
— С характером товарищ! — уважительно сказал я.
— Не обращайте внимания.
Теперь я мог разглядеть его. Он был в светлой рубашке, щуплый, одна рука заметно тоньше другой. Он был, несомненно, нервен, импульсивен по натуре, но сейчас он не напоминал того испуганного человека, который подглядывал в приоткрытую дверь, когда я уходил от Буша. “А в утро убийства он “протек” на своего соседа”, — почему-то вспомнил я.
 — Нуте-с, вы мне подробно объясните, пожалуйста, что вы хотите, — попросил он, упираясь локтями в стол и подводя сложенные руки под подбородок.
Я объяснил.
— Решили поплавать? Поглядеть, что за штука такая — море?
Я сказал, что так оно и есть, но еще я очень нуждаюсь в заработке.
— От денег еще никто и никогда не отказывался, хе-хе! Значит, вы учитесь?
— Да.
— Вы знаете, что в море выйти не просто? Необходимо выполнить всякие формальности. Как-то: требуется характеристика из вашего института, как для выезда за границу.
— Вот!
Я вынул из кармана характеристику, заверенную в Кировском районе города Москвы (ее прислали в комитет фельдсвязью вместе с остальными документами), развернул и положил перед ним на стол.
Он прочитал ее два раза, посмотрел зачем-то на бумагу с обратной стороны и сказал:
— Все в порядке. Печати есть, подписи есть. Все как следует. Но этого мало. У вас прописочка московская?
— Конечно.
— Я не могу дать вам работу в нашем городе. Вам нужно было оформляться по месту жительства.
Нет, он не зависел от Буша, как мне показалось вначале. Во всяком случае, он был далек от намерения выполнить его просьбу.
— Но в Москве нет Балтийского моря, Юрий Петрович, — возразил я.
— Все понимаю, товарищ Вараксин. Все. Но помочь не смогу. Не имею никаких прав.
— Как же так! — настаивал я. — Мне нужно устроиться на работу временно, я студент. Неужели ничего нельзя сделать?
— Выходит, что нельзя.
— У меня есть отношение! — “вспомнил” я. И вытащил из кармана письмо на бланке. — Я в комитет по рыбному хозяйству обращался. Там отнеслись ко мне сочувственно и вот написали: просят помочь.
— Союзный комитет? — спросил Суркин и взял письмо. — Мы в системе. Это наше начальство. Это другой разговор, что же вы сразу не сказали? Так, Радин подписал. Знаю, как же! Вы у него были?
— Да. Рассказал о своем студенческом житье-бытье. Он очень внимательный человек.
— Да, да! И отличный, прямо-таки отличный руководитель!
“Вот жучок!” — подумал я про Суркина.
Казалось бы, прямого отношения к нашему делу эта беседа не имела. Зато теперь у меня было представление о Суркине — недостаточное, чтобы делать выводы, но все-таки кое-что. Он вовсе не походил на Кентавра. Но и то, что Ищенко убит Кентавром, было пока теоремой, для доказательства которой не хватало исходных данных. “Но есть еще кастет”, — подумал я.
— Совсем, совсем другое дело! — приговаривал Суркин, читая письмо. — Но, — тут он поднял палец, — все равно придется ждать. Будет проверяться ваша анкета, то да се, сами понимаете.
Это-то я знал хорошо, но спросил растерянно: — Как же быть? Мне жить не на что! Я думал, все произойдет гораздо быстрее!
— Вам вообще-то в Радзуте надо было ехать: райцентр, большой порт, больше нашего. Ну да уж ладно! Тяжелой работы не боитесь? Могу определить на время рабочим в порт, оплата сдельная. Но не раньше чем в середине той недели: бригадир выйдет, он болен, вот тогда. Устраивает?
Это меня вполне устраивало.
— Спасибо! — горячо сказал я. — А у вас очень симпатичный городок! Красивый и тихий такой, здесь хорошо будет пожить. Я прямо с удовольствием!
— Да, да, — сказал он рассеянно.
— Правда, не совсем тихий. Недавно случилось убийство, мне Генрих Осипович рассказывал. Вы не слышали?
— Буш сказал сегодня утром. Я его давно не видел. Я не знал. — Он нервно потер щеку.
— Говорят, безобидный старичок был.
— Кто?
— Да этот убитый.
— Да, да. Вы, товарищ Вараксин, заполните вот эту анкету в двух экземплярах. Напишите автобиографию. Надо сделать фотокарточки, сюда требуется особая форма: четыре на шесть, овалом. В ателье знают. Тут рядом, на улице Прудиса, только повыше. И будем ждать. А насчет работы в порту зайдите ко мне что-нибудь в среду.
— Спасибо. — Я приподнялся и снова сел. — Но с фотографиями, наверное, лучше поторопиться? И анкеты… Я тогда в понедельник забегу.
— Хорошо. И набирайтесь терпения. Как у вас с жильем? Вы в гостинице устроились?
— Да. В триста пятом номере. — Я сделал паузу, но Суркин никак не отреагировал. — Кстати, в том же номере живет старпом Войтин. Тоже рыбак. Вы его знаете?
— Знаю! Он пьяница и позорил наше управление. — Суркин нахмурился. — Он вообще неприятен в быту. Таких в море не любят!
— А вы знаете, почему Войтин пьет?
— Разве это не все равно? Для меня важен факт.
— Это не всегда верно, — сказал я.
Тут, не постучавшись, вошли два рыбака. Они о чем-то спорили. Я встал.
— Извините. Всего хорошего. До понедельника, — сказал я.
— Всего хорошего.
Суркин уткнулся в бумаги, бросив одному из вошедших:
— Минутку! Я ваше дело помню, сейчас буду искать копию приказа.
Я шел по коридору и думал: “И все-таки он неспокоен, внутренне напряжен. Он чего-то опасается”.
— Нуте-с, вы мне подробно объясните, пожалуйста, что вы хотите, — попросил он, упираясь локтями в стол и подводя сложенные руки под подбородок.
Я объяснил.
— Решили поплавать? Поглядеть, что за штука такая — море?
Я сказал, что так оно и есть, но еще я очень нуждаюсь в заработке.
— От денег еще никто и никогда не отказывался, хе-хе! Значит, вы учитесь?
— Да.
— Вы знаете, что в море выйти не просто? Необходимо выполнить всякие формальности. Как-то: требуется характеристика из вашего института, как для выезда за границу.
— Вот!
Я вынул из кармана характеристику, заверенную в Кировском районе города Москвы (ее прислали в комитет фельдсвязью вместе с остальными документами), развернул и положил перед ним на стол.
Он прочитал ее два раза, посмотрел зачем-то на бумагу с обратной стороны и сказал:
— Все в порядке. Печати есть, подписи есть. Все как следует. Но этого мало. У вас прописочка московская?
— Конечно.
— Я не могу дать вам работу в нашем городе. Вам нужно было оформляться по месту жительства.
Нет, он не зависел от Буша, как мне показалось вначале. Во всяком случае, он был далек от намерения выполнить его просьбу.
— Но в Москве нет Балтийского моря, Юрий Петрович, — возразил я.
— Все понимаю, товарищ Вараксин. Все. Но помочь не смогу. Не имею никаких прав.
— Как же так! — настаивал я. — Мне нужно устроиться на работу временно, я студент. Неужели ничего нельзя сделать?
— Выходит, что нельзя.
— У меня есть отношение! — “вспомнил” я. И вытащил из кармана письмо на бланке. — Я в комитет по рыбному хозяйству обращался. Там отнеслись ко мне сочувственно и вот написали: просят помочь.
— Союзный комитет? — спросил Суркин и взял письмо. — Мы в системе. Это наше начальство. Это другой разговор, что же вы сразу не сказали? Так, Радин подписал. Знаю, как же! Вы у него были?
— Да. Рассказал о своем студенческом житье-бытье. Он очень внимательный человек.
— Да, да! И отличный, прямо-таки отличный руководитель!
“Вот жучок!” — подумал я про Суркина.
Казалось бы, прямого отношения к нашему делу эта беседа не имела. Зато теперь у меня было представление о Суркине — недостаточное, чтобы делать выводы, но все-таки кое-что. Он вовсе не походил на Кентавра. Но и то, что Ищенко убит Кентавром, было пока теоремой, для доказательства которой не хватало исходных данных. “Но есть еще кастет”, — подумал я.
— Совсем, совсем другое дело! — приговаривал Суркин, читая письмо. — Но, — тут он поднял палец, — все равно придется ждать. Будет проверяться ваша анкета, то да се, сами понимаете.
Это-то я знал хорошо, но спросил растерянно: — Как же быть? Мне жить не на что! Я думал, все произойдет гораздо быстрее!
— Вам вообще-то в Радзуте надо было ехать: райцентр, большой порт, больше нашего. Ну да уж ладно! Тяжелой работы не боитесь? Могу определить на время рабочим в порт, оплата сдельная. Но не раньше чем в середине той недели: бригадир выйдет, он болен, вот тогда. Устраивает?
Это меня вполне устраивало.
— Спасибо! — горячо сказал я. — А у вас очень симпатичный городок! Красивый и тихий такой, здесь хорошо будет пожить. Я прямо с удовольствием!
— Да, да, — сказал он рассеянно.
— Правда, не совсем тихий. Недавно случилось убийство, мне Генрих Осипович рассказывал. Вы не слышали?
— Буш сказал сегодня утром. Я его давно не видел. Я не знал. — Он нервно потер щеку.
— Говорят, безобидный старичок был.
— Кто?
— Да этот убитый.
— Да, да. Вы, товарищ Вараксин, заполните вот эту анкету в двух экземплярах. Напишите автобиографию. Надо сделать фотокарточки, сюда требуется особая форма: четыре на шесть, овалом. В ателье знают. Тут рядом, на улице Прудиса, только повыше. И будем ждать. А насчет работы в порту зайдите ко мне что-нибудь в среду.
— Спасибо. — Я приподнялся и снова сел. — Но с фотографиями, наверное, лучше поторопиться? И анкеты… Я тогда в понедельник забегу.
— Хорошо. И набирайтесь терпения. Как у вас с жильем? Вы в гостинице устроились?
— Да. В триста пятом номере. — Я сделал паузу, но Суркин никак не отреагировал. — Кстати, в том же номере живет старпом Войтин. Тоже рыбак. Вы его знаете?
— Знаю! Он пьяница и позорил наше управление. — Суркин нахмурился. — Он вообще неприятен в быту. Таких в море не любят!
— А вы знаете, почему Войтин пьет?
— Разве это не все равно? Для меня важен факт.
— Это не всегда верно, — сказал я.
Тут, не постучавшись, вошли два рыбака. Они о чем-то спорили. Я встал.
— Извините. Всего хорошего. До понедельника, — сказал я.
— Всего хорошего.
Суркин уткнулся в бумаги, бросив одному из вошедших:
— Минутку! Я ваше дело помню, сейчас буду искать копию приказа.
Я шел по коридору и думал: “И все-таки он неспокоен, внутренне напряжен. Он чего-то опасается”.
Глава 17. Две чашки кофе
 А город уже накалился.
Можно было идти только по теневой стороне улицы. Блестели стекла витрин, белые стены домов, катящиеся легковые автомобили: приходилось щурить глаза. В куцей тени под де ревом лежала собака, она изнемогала от жары и часто дышала, свалив на сторону красный язык. Листва на деревьях была неподвижна.
На противоположной стороне улицы, в кафе под тентом я увидел Пухальского. Он курил, пуская дым струей вверх, и сидел один за пустым столиком: вероятно, ждал заказа. “Отлично, пообедаем вместе”, — решил я и пересек улицу.
— Скучаете, Николай Гаврилович?
Он резко обернулся.
— А-а, это вы! Гуляете? Мы оба были ужасно любезны.
— Да вот что-то проголодался. Вы уже заказали?
— Жду официанта.
— Чудесно! В таком случае я вам составлю компанию. Не возражаете?
Он не возражал, но, кажется, и доволен особенно не был. Я по привычке сел так, чтобы видеть вход и улицу (Пухальский сидел спиной к входу), развалился в кресле и выложил на стол сигареты и спички.
— Жара какая, а, Николай Гаврилович?
— Страшная жара!
— Купались сегодня?
— Окунулся.
— А я вас на пляже не видел. Вы где обычно располагаетесь?
— Я далеко хожу, на дюны, — неохотно ответил он.
— А-а, — протянул я. — Но здесь тоже вроде неплохо.
— Я, видите ли, не люблю, когда много народу. У меня есть на это свои причины.
Что ж, я ничего не мог возразить, хотя не отказался бы услышать, какие именно причины. Но Пухальский не собирался входить в подробности. А я решил рассказать ему о своих затруднениях с устройством на траулер и посоветоваться: люди типа Пухальского любят давать советы и при этом обычно благожелательно настраиваются к собеседнику.
— Деньги платят и на суше, — сказал он, все выслушав. — Незачем для этого рваться к черту на рога.
— Такие суммы не платят! А мне и одеться надо, и матери послать. На стипендию особенно не разгуляешься!
Он усмехнулся и поправил свои очки в тонкой золотой оправе.
— Ну, скажите сами! — настаивал я. — Где можно загрести в один раз такую кучу дензнаков?
Он внимательно взглянул на меня, но ничего не ответил.
— Нет, правда?
Он пожал плечами. И, обернувшись, посмотрел на улицу. Он делал это второй раз за десять минут: было похоже, что он ждет кого-то.
— Да-а! — сказал я, словно только что вспомнив. — Вы ведь по мебельной части работаете? Я хотел Буша попросить, но неудобно как-то. Он считает себя обязанным мне за свое спасение, ну и… Дело вот в чем: мой профессор, когда я уезжал сюда, просил достать ему кабинетную секцию. Разборную, такие здесь, в Прибалтике, делают. В магазине я спрашивал, — (имея в виду та кой поворот разговора, я специально заглянул в магазин), — там они бывают страшно редко. Так, может, прямо на фабрике как-нибудь можно договориться? Неофициально, а? — Я глупо ухмыльнулся и почесал в затылке. — Профессор, он богатый, этих бумажек не жалеет.
— Почему вам все-таки не поговорить с Бушем?
— Знаете, мне показалось, что он не тот человек, с которым можно договориться, — сознался я, понизив голос.
— А что вам показалось в отношении меня?
Я смутился.
— Но я же…
— Ладно, Боря, вас ведь Борей зовут? Я попробую что-нибудь сделать. — Было похоже, что ему понравилось мое смущение. — Но сразу предупреждаю, это будет дорого стоить.
— Плевать! Я телеграмму отобью! Молнию! Старик сразу вышлет! — воскликнул я. — Он так обрадуется! А мне у него диплом писать, сами понимаете.
— Понимаю.
— А вы еще долго здесь пробудете? — спросил я. И мне показалось, что голос у меня был выпытывающий и фальшивый.
— А что?
— Да я в связи с этой мебелью интересуюсь, Николай Гаврилович.
— Через три дня у меня кончается командировка.
Тут я заметил молодого человека, который через пустое кафе направлялся к нашему столику. Он был в модных темно-зеленых очках, наполовину закрывавших лицо, и крутил на указательном пальце цепочку с ключом и брелоками. А Пухальский его не видел. Если Пухальский был тем, за кого я его принимал, он мог бы иметь больший опыт в организации такого рода встреч.
— Ба-а! Вот вы где, Николай Гаврилович, прячетесь от мирской суеты! Шел мимо, гляжу: вы! — воскликнул молодой человек и, поймав взгляд Пухальского, слегка повел глазами в мою сторону.
— Присаживайтесь, — пригласил Пухальский. — Это мой сосед по гостинице — Боря, из Москвы. Знакомьтесь.
Мы познакомились. Молодой человек сказал, что сегодня ужасно жарко. Мы помолчали. Подошел официант, и мы все трое сделали заказ. Я попросил полный обед. Эта парочка — она все больше возбуждала мое любопытство — по чашке кофе. Меня они, видимо, не опасались. Хотя, наверное, предпочли бы встречу наедине.
— Опять градусов тридцать, — сказал Пухальский.
— Больше! — с чувством воскликнул молодой человек.
— И воздух здесь не такой насыщенный кислородом, как на Черном море.
— Гораздо хуже! — поддержал молодой человек.
Я болтал ложкой в невкусном супе, который мне принесли. Молодой человек спрятал в карман цепочку с ключом и теперь занялся темными очками: вертел их за дужку. Когда он их снял, обнаружились подвижные хитрые глазки. Он посматривал на официанток, на женщину за соседним столиком и вообще сидел как на иголках.
А город уже накалился.
Можно было идти только по теневой стороне улицы. Блестели стекла витрин, белые стены домов, катящиеся легковые автомобили: приходилось щурить глаза. В куцей тени под де ревом лежала собака, она изнемогала от жары и часто дышала, свалив на сторону красный язык. Листва на деревьях была неподвижна.
На противоположной стороне улицы, в кафе под тентом я увидел Пухальского. Он курил, пуская дым струей вверх, и сидел один за пустым столиком: вероятно, ждал заказа. “Отлично, пообедаем вместе”, — решил я и пересек улицу.
— Скучаете, Николай Гаврилович?
Он резко обернулся.
— А-а, это вы! Гуляете? Мы оба были ужасно любезны.
— Да вот что-то проголодался. Вы уже заказали?
— Жду официанта.
— Чудесно! В таком случае я вам составлю компанию. Не возражаете?
Он не возражал, но, кажется, и доволен особенно не был. Я по привычке сел так, чтобы видеть вход и улицу (Пухальский сидел спиной к входу), развалился в кресле и выложил на стол сигареты и спички.
— Жара какая, а, Николай Гаврилович?
— Страшная жара!
— Купались сегодня?
— Окунулся.
— А я вас на пляже не видел. Вы где обычно располагаетесь?
— Я далеко хожу, на дюны, — неохотно ответил он.
— А-а, — протянул я. — Но здесь тоже вроде неплохо.
— Я, видите ли, не люблю, когда много народу. У меня есть на это свои причины.
Что ж, я ничего не мог возразить, хотя не отказался бы услышать, какие именно причины. Но Пухальский не собирался входить в подробности. А я решил рассказать ему о своих затруднениях с устройством на траулер и посоветоваться: люди типа Пухальского любят давать советы и при этом обычно благожелательно настраиваются к собеседнику.
— Деньги платят и на суше, — сказал он, все выслушав. — Незачем для этого рваться к черту на рога.
— Такие суммы не платят! А мне и одеться надо, и матери послать. На стипендию особенно не разгуляешься!
Он усмехнулся и поправил свои очки в тонкой золотой оправе.
— Ну, скажите сами! — настаивал я. — Где можно загрести в один раз такую кучу дензнаков?
Он внимательно взглянул на меня, но ничего не ответил.
— Нет, правда?
Он пожал плечами. И, обернувшись, посмотрел на улицу. Он делал это второй раз за десять минут: было похоже, что он ждет кого-то.
— Да-а! — сказал я, словно только что вспомнив. — Вы ведь по мебельной части работаете? Я хотел Буша попросить, но неудобно как-то. Он считает себя обязанным мне за свое спасение, ну и… Дело вот в чем: мой профессор, когда я уезжал сюда, просил достать ему кабинетную секцию. Разборную, такие здесь, в Прибалтике, делают. В магазине я спрашивал, — (имея в виду та кой поворот разговора, я специально заглянул в магазин), — там они бывают страшно редко. Так, может, прямо на фабрике как-нибудь можно договориться? Неофициально, а? — Я глупо ухмыльнулся и почесал в затылке. — Профессор, он богатый, этих бумажек не жалеет.
— Почему вам все-таки не поговорить с Бушем?
— Знаете, мне показалось, что он не тот человек, с которым можно договориться, — сознался я, понизив голос.
— А что вам показалось в отношении меня?
Я смутился.
— Но я же…
— Ладно, Боря, вас ведь Борей зовут? Я попробую что-нибудь сделать. — Было похоже, что ему понравилось мое смущение. — Но сразу предупреждаю, это будет дорого стоить.
— Плевать! Я телеграмму отобью! Молнию! Старик сразу вышлет! — воскликнул я. — Он так обрадуется! А мне у него диплом писать, сами понимаете.
— Понимаю.
— А вы еще долго здесь пробудете? — спросил я. И мне показалось, что голос у меня был выпытывающий и фальшивый.
— А что?
— Да я в связи с этой мебелью интересуюсь, Николай Гаврилович.
— Через три дня у меня кончается командировка.
Тут я заметил молодого человека, который через пустое кафе направлялся к нашему столику. Он был в модных темно-зеленых очках, наполовину закрывавших лицо, и крутил на указательном пальце цепочку с ключом и брелоками. А Пухальский его не видел. Если Пухальский был тем, за кого я его принимал, он мог бы иметь больший опыт в организации такого рода встреч.
— Ба-а! Вот вы где, Николай Гаврилович, прячетесь от мирской суеты! Шел мимо, гляжу: вы! — воскликнул молодой человек и, поймав взгляд Пухальского, слегка повел глазами в мою сторону.
— Присаживайтесь, — пригласил Пухальский. — Это мой сосед по гостинице — Боря, из Москвы. Знакомьтесь.
Мы познакомились. Молодой человек сказал, что сегодня ужасно жарко. Мы помолчали. Подошел официант, и мы все трое сделали заказ. Я попросил полный обед. Эта парочка — она все больше возбуждала мое любопытство — по чашке кофе. Меня они, видимо, не опасались. Хотя, наверное, предпочли бы встречу наедине.
— Опять градусов тридцать, — сказал Пухальский.
— Больше! — с чувством воскликнул молодой человек.
— И воздух здесь не такой насыщенный кислородом, как на Черном море.
— Гораздо хуже! — поддержал молодой человек.
Я болтал ложкой в невкусном супе, который мне принесли. Молодой человек спрятал в карман цепочку с ключом и теперь занялся темными очками: вертел их за дужку. Когда он их снял, обнаружились подвижные хитрые глазки. Он посматривал на официанток, на женщину за соседним столиком и вообще сидел как на иголках.
 Я отодвинул тарелку с супом и попросил дать мне второе: я боялся, что они поднимутся сразу оба. Но молодой человек уже допил свою чашку кофе, а Пухальский не торопился. Под локтем у него лежала свернутая газета. Молодой человек потянул ее к себе.
— В Палняй сейчас еду, Николай Гаврилович, — сказал он. — В дороге скучно будет, дайте хоть возьму у вас газетку, почитаю.
— Сегодняшняя? — спросил я. — Можно взглянуть?
— Это старая, — быстро сказал Пухальский.
А молодой человек, свернув газету в трубку и сунув ее в карман, стал прощаться.
Интересно, что было вложено в газету? В том, что там что-то было, я не сомневался: встреча в кафе не была случайной Пухальский работал не чисто, — я успел заметить, что газета была как раз за сегодняшнее число. Но обсуждать это с гражданином Пухальским было, пожалуй, рано. Так же, как и задавать ему вопрос насчет пиджака. Впрочем, мне было уже, кажется, ясно, как связаны между собой пиджак и газета.
— Вы не спешите, — сказал мне Пухальский. — Я вас подожду. Вы в гостиницу?
— В гостиницу, — ответил я. — А что это за парень?
— Так, пляжное знакомство.
Он не торопясь допил кофе, я доел ромштекс. Он оставил официанту всю сдачу с рубля, я расплатился точно — копейка в копейку, и мы вышли.
Кривая улочка вывела нас на площадь. Пухальский задержался возле витрины обувного магазина и, сказав, что ему нужно купить новые шнурки для туфель, нырнул в открытую дверь, Я отошел в сторону, к стоянке междугородных автобусов.
Это были мощные “Икарусы”, они стояли впритык друг к другу и занимали полплощади. Покрытые пылью никелированные части тускло блестели на солнце, от автобусов шел сильный запах бензина и нагретой краски. На столбе висело расписание, под ним — паутина маршрутов на жестяной доске. От нечего делать я стал изучать карту. Вот Палняй, куда собирался молодой человек: точка, обведенная кружком. Остановка на пути в Радзуте, специально в Палняй автобусы не ходят. Вот само Радзуте. Тоже на берегу моря. Эх, сесть бы сейчас в шикарный автобус и укатить куда-нибудь подальше: валяться на пляже с закрытыми глазами, слушать крики чаек и ни о чем не думать! Автобусы ходили в Радзуте раз в день. Три часа езды. В Радзуте я был с Тамарой в позапрошлом году: торцовые мостовые, пыль, костел на центральной площади, часы с боем. Кроме того, я несколько раз бывал там по делам. Кстати, автобус на Радзуте отходил в 12.37 — и здесь получилась накладка у партнера Пухальского: он никак не мог уехать сегодня. Хотя у него могла быть своя машина. Но в машине газет не читают.
— Собираетесь куда-нибудь? — окликнул меня Пухальский.
Он подошел вплотную, а я его не заметил. Он держал в руке шнурки. Мне даже показалось, что он выставил их напоказ — дескать, на самом деле заходил в магазин за шнурками и ни зачем больше. “Не увлекайтесь, студент Вараксин, — одернул я себя. — Пухальский знает правила игры, но он не может знать, что я тоже играю в нее”.
Я сказал, что никуда не собираюсь, а рассматриваю карту просто так, и мы направились к гостинице. Я опять навел разговор на секцию, выяснил, сколько надо денег, и сказал, что за профессором дело не станет. Конечно, никакой телеграммы я давать не собирался, да и профессора не существовало в природе, но я знал, что эта сделка противозаконна, а мне надо было выяснить, занимается ли такими вещами Пухальский.
Мы пересекли бульвар. Тут из-за угла дома вывернулся эсэсовец. Он был в заломленной фуражке, из-под которой тек по лицу пот. На груди у него брякали оловянные медали. Откинувшисьназад, он вел на поводке огромную овчарку. Он зло посмотрел на нас. Я знал, в чем дело, но нарочно испуганно вскрикнул, чтобы дополнить впечатление. Пухальский посерел и привалился к стене — таким неожиданным было появление на вымершей улице этого призрака минувшей войны.
— Ах, черт! Это же артист! — воскликнул я.
Утром артисты при мне садились возле гостиницы в автобус, собираясь на натурные съемки: в городке снимались эпизоды из военного фильма.
— Вижу, — тихо сказал Пухальский. — У меня сердце слабое. Схватило.
— Вы их, наверное, настоящих помните?
Из-за угла высыпали остальные артисты.
— Да, — сказал Пухальский.
Зачем мне понадобился этот спектакль — я очень натурально изобразил испуг, — я сам не знал. Но меня не покидало ощущение, что Пухальский носит маску: я не верил в правдивость его рассказа об оккупации.
В номере было пусто. Войтин, наверное, ушел на пляж.
— Наш моряк изменил своим привычкам.
— Что? Ах да! Верно, — рассеянно откликнулся Пухальский. — Изменил.
Он снял туфли, надел на ноги домашние шлепанцы и, захватив полотенце, ушел. Я распахнул пошире окно и решил поменять воду в графине: он, как и вчера, стоял на самом солнцепеке.
Дверь в туалет была приоткрыта. Пухальский, голый по пояс — клубки мышц катались у него на спине, — склонился над раковиной, громко фыркая. Кран был один, и я остановился за его спиной, держа графин. За шумом воды он не слышал, как я вошел. Разогнувшись, он сразу прижал к лицу полотенце и повернулся ко мне. Когда он развел в стороны руки, я увидел у него на груди затертую татуировку. Я уже не раз видел такие татуировки у подследственных. Теперь мне стало понятно, почему он купается у безлюдных дюн.
— Что это у вас там написано? — спросил я с любопытством.
Он вздрогнул всем телом и отнял полотенце от лица. Глаза у него без очков были выпуклые и злые. Он сразу закрыл грудь локтями.
— Что ты лезешь, когда занято? — грубо крикнул он. Он был совсем непохож на прежнего тихого человека в золотых очках.
— Я… я хотел набрать воды в графин, — в меру растерянно сказал я.
Он уже жалел о своей вспышке.
— Извините, бога ради! Нервы… Эту штуку мой родственник устроил. Он ненавидел Советскую власть. Он был националистом и полицаем. Он напоил меня до потери сознания… Я был мальчишкой, — хмуро сказал Пухальский. — Я пробовал вытравить, но неудачно.
— Н-да, — сказал я. — Сволочь он, ваш родственничек-то!
— Его расстреляли партизаны.
— Вы можете свести наколку в институте красоты в Москве, — посоветовал я. — Там делают операции.
Я наполнил графин, и мы пошли в номер. “А он штучка”, — думал я по дороге, глядя ему в спину. В номере я сел на подоконник, а Пухальский скинул шлепанцы и разлегся на койке. Сначала я хотел кой о чем поговорить с ним, но потом решил, что не стоит перебарщивать: он сейчас слишком насторожен.
Я снова и снова мысленно возвращался к двум датам. Третьего Ищенко с кем-то виделся, э пятого был убит. Встреча (если, конечно, была встреча третьего) произошла в то же время, что и убийство: где-то около одиннадцати часов утра. Час, наверное, назначил тот — убийца. Почему вторая встреча через день? Давал время на размышление? Размышление — о чем? Или, может быть, он уезжал куда-то?.. Да, еще Войтин торопился на автобус тоже к одиннадцати часам. Ну и что? При чем тут это? Хотя… был возможен один вариант.
Я слез с подоконника.
— Пойти пройтись, что ли? — неуверенно сказал я.
— Жа-арко! — протянул с отвращением Пухальский.
— Не хочется торчать в гостинице.
Я спускался по лестнице, незаметно для себя ускоряя шаги. Потом спохватился и, выйдя из подъезда, побрел неторопливой походкой человека, который еще не решил, куда ему свернуть на следующем перекрестке: налево или направо. “Автобус уходит на Радзуте в 12.37, — размышлял я. — А когда он прибывает сюда?..”
Я отодвинул тарелку с супом и попросил дать мне второе: я боялся, что они поднимутся сразу оба. Но молодой человек уже допил свою чашку кофе, а Пухальский не торопился. Под локтем у него лежала свернутая газета. Молодой человек потянул ее к себе.
— В Палняй сейчас еду, Николай Гаврилович, — сказал он. — В дороге скучно будет, дайте хоть возьму у вас газетку, почитаю.
— Сегодняшняя? — спросил я. — Можно взглянуть?
— Это старая, — быстро сказал Пухальский.
А молодой человек, свернув газету в трубку и сунув ее в карман, стал прощаться.
Интересно, что было вложено в газету? В том, что там что-то было, я не сомневался: встреча в кафе не была случайной Пухальский работал не чисто, — я успел заметить, что газета была как раз за сегодняшнее число. Но обсуждать это с гражданином Пухальским было, пожалуй, рано. Так же, как и задавать ему вопрос насчет пиджака. Впрочем, мне было уже, кажется, ясно, как связаны между собой пиджак и газета.
— Вы не спешите, — сказал мне Пухальский. — Я вас подожду. Вы в гостиницу?
— В гостиницу, — ответил я. — А что это за парень?
— Так, пляжное знакомство.
Он не торопясь допил кофе, я доел ромштекс. Он оставил официанту всю сдачу с рубля, я расплатился точно — копейка в копейку, и мы вышли.
Кривая улочка вывела нас на площадь. Пухальский задержался возле витрины обувного магазина и, сказав, что ему нужно купить новые шнурки для туфель, нырнул в открытую дверь, Я отошел в сторону, к стоянке междугородных автобусов.
Это были мощные “Икарусы”, они стояли впритык друг к другу и занимали полплощади. Покрытые пылью никелированные части тускло блестели на солнце, от автобусов шел сильный запах бензина и нагретой краски. На столбе висело расписание, под ним — паутина маршрутов на жестяной доске. От нечего делать я стал изучать карту. Вот Палняй, куда собирался молодой человек: точка, обведенная кружком. Остановка на пути в Радзуте, специально в Палняй автобусы не ходят. Вот само Радзуте. Тоже на берегу моря. Эх, сесть бы сейчас в шикарный автобус и укатить куда-нибудь подальше: валяться на пляже с закрытыми глазами, слушать крики чаек и ни о чем не думать! Автобусы ходили в Радзуте раз в день. Три часа езды. В Радзуте я был с Тамарой в позапрошлом году: торцовые мостовые, пыль, костел на центральной площади, часы с боем. Кроме того, я несколько раз бывал там по делам. Кстати, автобус на Радзуте отходил в 12.37 — и здесь получилась накладка у партнера Пухальского: он никак не мог уехать сегодня. Хотя у него могла быть своя машина. Но в машине газет не читают.
— Собираетесь куда-нибудь? — окликнул меня Пухальский.
Он подошел вплотную, а я его не заметил. Он держал в руке шнурки. Мне даже показалось, что он выставил их напоказ — дескать, на самом деле заходил в магазин за шнурками и ни зачем больше. “Не увлекайтесь, студент Вараксин, — одернул я себя. — Пухальский знает правила игры, но он не может знать, что я тоже играю в нее”.
Я сказал, что никуда не собираюсь, а рассматриваю карту просто так, и мы направились к гостинице. Я опять навел разговор на секцию, выяснил, сколько надо денег, и сказал, что за профессором дело не станет. Конечно, никакой телеграммы я давать не собирался, да и профессора не существовало в природе, но я знал, что эта сделка противозаконна, а мне надо было выяснить, занимается ли такими вещами Пухальский.
Мы пересекли бульвар. Тут из-за угла дома вывернулся эсэсовец. Он был в заломленной фуражке, из-под которой тек по лицу пот. На груди у него брякали оловянные медали. Откинувшисьназад, он вел на поводке огромную овчарку. Он зло посмотрел на нас. Я знал, в чем дело, но нарочно испуганно вскрикнул, чтобы дополнить впечатление. Пухальский посерел и привалился к стене — таким неожиданным было появление на вымершей улице этого призрака минувшей войны.
— Ах, черт! Это же артист! — воскликнул я.
Утром артисты при мне садились возле гостиницы в автобус, собираясь на натурные съемки: в городке снимались эпизоды из военного фильма.
— Вижу, — тихо сказал Пухальский. — У меня сердце слабое. Схватило.
— Вы их, наверное, настоящих помните?
Из-за угла высыпали остальные артисты.
— Да, — сказал Пухальский.
Зачем мне понадобился этот спектакль — я очень натурально изобразил испуг, — я сам не знал. Но меня не покидало ощущение, что Пухальский носит маску: я не верил в правдивость его рассказа об оккупации.
В номере было пусто. Войтин, наверное, ушел на пляж.
— Наш моряк изменил своим привычкам.
— Что? Ах да! Верно, — рассеянно откликнулся Пухальский. — Изменил.
Он снял туфли, надел на ноги домашние шлепанцы и, захватив полотенце, ушел. Я распахнул пошире окно и решил поменять воду в графине: он, как и вчера, стоял на самом солнцепеке.
Дверь в туалет была приоткрыта. Пухальский, голый по пояс — клубки мышц катались у него на спине, — склонился над раковиной, громко фыркая. Кран был один, и я остановился за его спиной, держа графин. За шумом воды он не слышал, как я вошел. Разогнувшись, он сразу прижал к лицу полотенце и повернулся ко мне. Когда он развел в стороны руки, я увидел у него на груди затертую татуировку. Я уже не раз видел такие татуировки у подследственных. Теперь мне стало понятно, почему он купается у безлюдных дюн.
— Что это у вас там написано? — спросил я с любопытством.
Он вздрогнул всем телом и отнял полотенце от лица. Глаза у него без очков были выпуклые и злые. Он сразу закрыл грудь локтями.
— Что ты лезешь, когда занято? — грубо крикнул он. Он был совсем непохож на прежнего тихого человека в золотых очках.
— Я… я хотел набрать воды в графин, — в меру растерянно сказал я.
Он уже жалел о своей вспышке.
— Извините, бога ради! Нервы… Эту штуку мой родственник устроил. Он ненавидел Советскую власть. Он был националистом и полицаем. Он напоил меня до потери сознания… Я был мальчишкой, — хмуро сказал Пухальский. — Я пробовал вытравить, но неудачно.
— Н-да, — сказал я. — Сволочь он, ваш родственничек-то!
— Его расстреляли партизаны.
— Вы можете свести наколку в институте красоты в Москве, — посоветовал я. — Там делают операции.
Я наполнил графин, и мы пошли в номер. “А он штучка”, — думал я по дороге, глядя ему в спину. В номере я сел на подоконник, а Пухальский скинул шлепанцы и разлегся на койке. Сначала я хотел кой о чем поговорить с ним, но потом решил, что не стоит перебарщивать: он сейчас слишком насторожен.
Я снова и снова мысленно возвращался к двум датам. Третьего Ищенко с кем-то виделся, э пятого был убит. Встреча (если, конечно, была встреча третьего) произошла в то же время, что и убийство: где-то около одиннадцати часов утра. Час, наверное, назначил тот — убийца. Почему вторая встреча через день? Давал время на размышление? Размышление — о чем? Или, может быть, он уезжал куда-то?.. Да, еще Войтин торопился на автобус тоже к одиннадцати часам. Ну и что? При чем тут это? Хотя… был возможен один вариант.
Я слез с подоконника.
— Пойти пройтись, что ли? — неуверенно сказал я.
— Жа-арко! — протянул с отвращением Пухальский.
— Не хочется торчать в гостинице.
Я спускался по лестнице, незаметно для себя ускоряя шаги. Потом спохватился и, выйдя из подъезда, побрел неторопливой походкой человека, который еще не решил, куда ему свернуть на следующем перекрестке: налево или направо. “Автобус уходит на Радзуте в 12.37, — размышлял я. — А когда он прибывает сюда?..”
Глава 18. В проходном дворе
 Покружив по переулкам — готический замок все время оставался справа, — я наконец выбрался на площадь. Не торопясь подошел к столу с расписанием и нашел глазами нужную строчку. Точно. Автобус из Радзуте приходил в одиннадцать ноль-ноль.
Та-ак.
Я еще раз проглядел расписание. Я должен был бы подумать об этом раньше. Дело заключалось в том, что в расписании, найденном среди вещей Ищенко, радзутская линия была отчеркнута карандашом. Валдманис проверил эту ниточку: фотография Ищенко была предъявлена кассирше, которая работала последние полторы недели без выходных (болела сменщица), но она утверждала, что он не брал билетов: она бы запомнила, у нее хорошая память на лица. “Возможно, он и не собирался никуда ехать. — подумал я. — Возможно, его интересовал не отход автобуса на Радзуте, а его приход. Одиннадцать часов…”
Я огляделся.
Неподалеку от тесно стоящих автобусов собрались в кружок шоферы. Один размахивал руками и что-то рассказывал. Послышался хохот. “Анекдоты травят”, — решил я. Все шоферы были одеты в одинаковые синие холстинные куртки. “Сервис, — подумал я. — А в общем-то удобно. Автобазы закупают оптом: так дешевле, они немаркие, и в них хорошо в жару…” Поодаль стояла диспетчерская будка.
Я мысленно представил себе план проходного двора, в котором был убит Тарас Михайлович Ищенко, и план окрестностей, — я долго сидел над ними в кабинете Шимкуса. Двор выходил на эту площадь. Я поискал глазами арку. Вот она. Метрах в ста отсюда. И это тоже должно было бы насторожить меня раньше: близость места преступления к стоянке автобусов. Тут, пожалуй, и Валдманис проморгал. Ну да ладно. Так. Я убийца. Я слезаю с автобуса — он пришел в 11.00 — и иду туда. Там я назначил Ищенко встречу.
Я пересек площадь и посмотрел на часы. Пятьдесят секунд. Предположим, я пошел не сразу, а сначала покрутился по площади. Нет, мозолить людям глаза мне ни к чему. Я, конечно, пошел сразу. Но не напрямик, не на виду, а свернул вон за то длинное строение, напоминающее старые купеческие ряды. Что там? “Склад фабрики культтоваров”, — щурясь на солнце, прочел я. Ага. Проход за ним есть? Я засек пожилого мужчину с портфелем, который скрылся за зданием. Через минуту он вышел на меня. Есть. Пошли во двор. Я лениво посмотрел по сторонам и свернул в подворотню.
Солнце сюда не попадало, и от высоких кирпичных стен тянуло сыростью. “Такие дворы в Средней Азии, — подумал я. — Здесь можно спасаться от жары”. Проход круто заворачивал влево: теперь меня уже не было видно с площади. У стены лежала куча угля. Рядом — ржавый рукомойник и какие-то трубы. В стене была дощатая дверь с висячим замком. Я потрогал замок. Нет, его не отпирали давно: слой ржавчины прикипел к пробоям и дужке замка, скрепляя их. Пошли дальше. Поворот — и я увидел контейнер с мусором. Тот самый контейнер. Двор здесь расширялся и был абсолютно голым. Я пошарил глазами по стенам: ни одного окна. Тут кричи во весь голос, услышать некому. Я посмотрел на часы. Прошла еще одна минута. Если я сойду с радзутского автобуса и не торопясь приду сюда, это будет как раз время убийства. Правда, в таком расчете была натяжка: медэксперты делали допуск на 10–15 минут. Ладно.
Я свернул еще два раза и вышел на другую площадь, маленькую и круглую. Ищенко попал в проходной двор отсюда: он шел из центра. Я повернул назад. Теперь я был Тарасом Михайловичем Ищенко. Так. Я спешу на встречу. Но если я опасаюсь человека, с которым должен встретиться (а я наверняка боюсь его, ведь если все правильно в наших рассуждениях, я знаю о нем что-то такое, что он скрывает), то зачем я иду в такое глухое место? Я же знаю этот двор: когда двое договариваются о месте встречи, оно заведомо известно обоим. Но я все-таки иду. Почему? Неясно. За мной бежит Быстрицкая, — час назад я о чем-то говорил с ней на пляже. Что она хочет сделать? Предупредить меня? Нет, это она могла сделать раньше: двадцатитрехлетней девушке нетрудно догнать пожилого человека. Она следит за мной. С какой целью? Опять-таки неясно. Но если она свернула за мной во двор, она должна была видеть убийцу. И убийство. Значит, он сделал свое дело у нее на глазах и позволил ей уйти целой и невредимой? Он не дурак. Не решился на второе убийство? Ерунда, одно или два — для него это вряд ли уже играло роль (если, конечно, он не мстил Кентавру за своих родных, но непохоже, слишком все точно и хладнокровно рассчитано, да и Ищенко непохож на Кентавра). И, с какой бы целью он ни совершил преступление, он убийца. А Быстрицкая — его сообщница. “Нет, — подумал я. — Не верю”. Но она не пришла в милицию. Факт остается фактом. Ладно, будем думать. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается… Поворот. Контейнер. Убийство произошло где-то здесь. Потом он затащил труп Ищенко за контейнер. Теперь надо сматывать удочки, и побыстрее. Куда он побежал? На площадь. Где стоянка автобусов. Потому что кастет, которым был убит Ищенко, лежал метрах в тридцати отсюда в направлении площади.
Но владелец кастета, судя по всему, — Суркин. Тогда при чем тут радзутский автобус? Пятого Суркин был на бюллетене. Уехать из города только для того, чтобы вернуться в одиннадцать часов и ждать здесь Ищенко? Бред какой-то.
Быстрицкая шла за Ищенко на расстоянии: предположим, метрах в сорока. Он входит во двор и скрывается из ее поля зрения. Потом, сохраняя эту дистанцию, он все время находится за очередным поворотом, — это-то и губит его. Сорок метров, если идти быстро, — это двадцать секунд. Значит, они есть в распоряжении у убийцы. Ударил, подхватил тело. Готов? Готов. Оглядел двор. Ага, контейнер. Туда его! Так. Теперь, если кто-нибудь пройдет через двор, ничего не заметит… За двадцать секунд можно управиться, если есть сноровка в такого рода делах. Теперь бежать.
И Быстрицкая ничего не увидела. Прошла двор насквозь, но Ищенко не нашла. Что ж, могло быть и так. Но зачем ей было идти за ним? Почему все связанное с Ищенко теперь настораживает ее?.. Ладно, Быстрицкую пока оставим.
Двор был подходящим местом для обдуманного убийства: за все время, пока я здесь находился, никто не прошел. “Прямо Сахарская пустыня”, — подумал я.
Я снова вышел на площадь. Заглянул в диспетчерскую будку. Там было накурено, дым плавал слоями. Его пронизывали лучи полуденного солнца, светившего в пыльное окно. На столе стоял бак с водой, к нему была прикована цепью эмалированная кружка. На скамье вдоль стены расположились шоферы в холстинных куртках. Стоял галдеж.
Я сунул руки в карманы, засвистел и двинулся с площади. “Попрошу Валдманиса навести ряд справок, — думал я. — Например, как часто меняются шоферы на радзутской линии? Кто работал третьего и пятого? Может, они запомнили кого-нибудь, кто ездил в эти дни сюда и обратно…”
Когда я вернулся в гостиницу, Пухальского в номере не было. Странно. Он же умылся и расположился на кровати с явным намерением подремать. Дела? Или решил поехать на море? Любопытно все это.
Я расстегнул рубашку, закурил. “Подобью бабки”, — решил я. Но как раз в этот момент открылась дверь, и в комнату заглянул Виленкин. “Извините! — сказал он. — Ошибся номером”. И захлопнул дверь. Поэтому я застегнулся, скатился по лестнице вниз и вышел на улицу. Проходя мимо Виленкина, разглядывающего обложки журналов в витрине киоска, я замедлил шаги.
Он негромко сказал мне в спину:
— Суркин сидит в горотделе. Сам пришел. Валдманис допросил его и послал за вами.
Покружив по переулкам — готический замок все время оставался справа, — я наконец выбрался на площадь. Не торопясь подошел к столу с расписанием и нашел глазами нужную строчку. Точно. Автобус из Радзуте приходил в одиннадцать ноль-ноль.
Та-ак.
Я еще раз проглядел расписание. Я должен был бы подумать об этом раньше. Дело заключалось в том, что в расписании, найденном среди вещей Ищенко, радзутская линия была отчеркнута карандашом. Валдманис проверил эту ниточку: фотография Ищенко была предъявлена кассирше, которая работала последние полторы недели без выходных (болела сменщица), но она утверждала, что он не брал билетов: она бы запомнила, у нее хорошая память на лица. “Возможно, он и не собирался никуда ехать. — подумал я. — Возможно, его интересовал не отход автобуса на Радзуте, а его приход. Одиннадцать часов…”
Я огляделся.
Неподалеку от тесно стоящих автобусов собрались в кружок шоферы. Один размахивал руками и что-то рассказывал. Послышался хохот. “Анекдоты травят”, — решил я. Все шоферы были одеты в одинаковые синие холстинные куртки. “Сервис, — подумал я. — А в общем-то удобно. Автобазы закупают оптом: так дешевле, они немаркие, и в них хорошо в жару…” Поодаль стояла диспетчерская будка.
Я мысленно представил себе план проходного двора, в котором был убит Тарас Михайлович Ищенко, и план окрестностей, — я долго сидел над ними в кабинете Шимкуса. Двор выходил на эту площадь. Я поискал глазами арку. Вот она. Метрах в ста отсюда. И это тоже должно было бы насторожить меня раньше: близость места преступления к стоянке автобусов. Тут, пожалуй, и Валдманис проморгал. Ну да ладно. Так. Я убийца. Я слезаю с автобуса — он пришел в 11.00 — и иду туда. Там я назначил Ищенко встречу.
Я пересек площадь и посмотрел на часы. Пятьдесят секунд. Предположим, я пошел не сразу, а сначала покрутился по площади. Нет, мозолить людям глаза мне ни к чему. Я, конечно, пошел сразу. Но не напрямик, не на виду, а свернул вон за то длинное строение, напоминающее старые купеческие ряды. Что там? “Склад фабрики культтоваров”, — щурясь на солнце, прочел я. Ага. Проход за ним есть? Я засек пожилого мужчину с портфелем, который скрылся за зданием. Через минуту он вышел на меня. Есть. Пошли во двор. Я лениво посмотрел по сторонам и свернул в подворотню.
Солнце сюда не попадало, и от высоких кирпичных стен тянуло сыростью. “Такие дворы в Средней Азии, — подумал я. — Здесь можно спасаться от жары”. Проход круто заворачивал влево: теперь меня уже не было видно с площади. У стены лежала куча угля. Рядом — ржавый рукомойник и какие-то трубы. В стене была дощатая дверь с висячим замком. Я потрогал замок. Нет, его не отпирали давно: слой ржавчины прикипел к пробоям и дужке замка, скрепляя их. Пошли дальше. Поворот — и я увидел контейнер с мусором. Тот самый контейнер. Двор здесь расширялся и был абсолютно голым. Я пошарил глазами по стенам: ни одного окна. Тут кричи во весь голос, услышать некому. Я посмотрел на часы. Прошла еще одна минута. Если я сойду с радзутского автобуса и не торопясь приду сюда, это будет как раз время убийства. Правда, в таком расчете была натяжка: медэксперты делали допуск на 10–15 минут. Ладно.
Я свернул еще два раза и вышел на другую площадь, маленькую и круглую. Ищенко попал в проходной двор отсюда: он шел из центра. Я повернул назад. Теперь я был Тарасом Михайловичем Ищенко. Так. Я спешу на встречу. Но если я опасаюсь человека, с которым должен встретиться (а я наверняка боюсь его, ведь если все правильно в наших рассуждениях, я знаю о нем что-то такое, что он скрывает), то зачем я иду в такое глухое место? Я же знаю этот двор: когда двое договариваются о месте встречи, оно заведомо известно обоим. Но я все-таки иду. Почему? Неясно. За мной бежит Быстрицкая, — час назад я о чем-то говорил с ней на пляже. Что она хочет сделать? Предупредить меня? Нет, это она могла сделать раньше: двадцатитрехлетней девушке нетрудно догнать пожилого человека. Она следит за мной. С какой целью? Опять-таки неясно. Но если она свернула за мной во двор, она должна была видеть убийцу. И убийство. Значит, он сделал свое дело у нее на глазах и позволил ей уйти целой и невредимой? Он не дурак. Не решился на второе убийство? Ерунда, одно или два — для него это вряд ли уже играло роль (если, конечно, он не мстил Кентавру за своих родных, но непохоже, слишком все точно и хладнокровно рассчитано, да и Ищенко непохож на Кентавра). И, с какой бы целью он ни совершил преступление, он убийца. А Быстрицкая — его сообщница. “Нет, — подумал я. — Не верю”. Но она не пришла в милицию. Факт остается фактом. Ладно, будем думать. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается… Поворот. Контейнер. Убийство произошло где-то здесь. Потом он затащил труп Ищенко за контейнер. Теперь надо сматывать удочки, и побыстрее. Куда он побежал? На площадь. Где стоянка автобусов. Потому что кастет, которым был убит Ищенко, лежал метрах в тридцати отсюда в направлении площади.
Но владелец кастета, судя по всему, — Суркин. Тогда при чем тут радзутский автобус? Пятого Суркин был на бюллетене. Уехать из города только для того, чтобы вернуться в одиннадцать часов и ждать здесь Ищенко? Бред какой-то.
Быстрицкая шла за Ищенко на расстоянии: предположим, метрах в сорока. Он входит во двор и скрывается из ее поля зрения. Потом, сохраняя эту дистанцию, он все время находится за очередным поворотом, — это-то и губит его. Сорок метров, если идти быстро, — это двадцать секунд. Значит, они есть в распоряжении у убийцы. Ударил, подхватил тело. Готов? Готов. Оглядел двор. Ага, контейнер. Туда его! Так. Теперь, если кто-нибудь пройдет через двор, ничего не заметит… За двадцать секунд можно управиться, если есть сноровка в такого рода делах. Теперь бежать.
И Быстрицкая ничего не увидела. Прошла двор насквозь, но Ищенко не нашла. Что ж, могло быть и так. Но зачем ей было идти за ним? Почему все связанное с Ищенко теперь настораживает ее?.. Ладно, Быстрицкую пока оставим.
Двор был подходящим местом для обдуманного убийства: за все время, пока я здесь находился, никто не прошел. “Прямо Сахарская пустыня”, — подумал я.
Я снова вышел на площадь. Заглянул в диспетчерскую будку. Там было накурено, дым плавал слоями. Его пронизывали лучи полуденного солнца, светившего в пыльное окно. На столе стоял бак с водой, к нему была прикована цепью эмалированная кружка. На скамье вдоль стены расположились шоферы в холстинных куртках. Стоял галдеж.
Я сунул руки в карманы, засвистел и двинулся с площади. “Попрошу Валдманиса навести ряд справок, — думал я. — Например, как часто меняются шоферы на радзутской линии? Кто работал третьего и пятого? Может, они запомнили кого-нибудь, кто ездил в эти дни сюда и обратно…”
Когда я вернулся в гостиницу, Пухальского в номере не было. Странно. Он же умылся и расположился на кровати с явным намерением подремать. Дела? Или решил поехать на море? Любопытно все это.
Я расстегнул рубашку, закурил. “Подобью бабки”, — решил я. Но как раз в этот момент открылась дверь, и в комнату заглянул Виленкин. “Извините! — сказал он. — Ошибся номером”. И захлопнул дверь. Поэтому я застегнулся, скатился по лестнице вниз и вышел на улицу. Проходя мимо Виленкина, разглядывающего обложки журналов в витрине киоска, я замедлил шаги.
Он негромко сказал мне в спину:
— Суркин сидит в горотделе. Сам пришел. Валдманис допросил его и послал за вами.
Глава 19. Два кастета?
 “Ай да Суркин! — думал я по дороге. — Значит, третьего числа он весь день был на работе. Пятого он был дома. И еще кастет…” Через пятнадцать минут я сидел в знакомой комнате со сводами, напоминавшими арки, с пейзажем на стене, и слушал магнитофонную запись допроса (его вели вдвоем капитан Сипарис и начальник горотдела КГБ Валдманис).
Капитан. Давайте знакомиться.
Суркин. Я работаю в управлении экспедиционного лова. Моя фамилия Суркин.
Капитан. Садитесь, пожалуйста, товарищ Суркин. Как ваше имя-отчество?
Суркин. Юрий Петрович. Так вот (пауза), я, наверное, давно должен был сделать это заявление, но (пауза) только сегодня утром в случайном разговоре я узнал от своего соседа Генриха Осиповича Буша, что пятого числа в нашем городе произошло преступление: я говорю об убийстве Тараса Ищенко.
(“Странное сочетание: не просто Ищенко и не Тарас Михайлович Ищенко, а Тарас Ищенко, — подумал я. — Эту вводную фразу Суркин, конечно, репетировал про себя много раз”.)
Суркин (продолжая). А я знал его еще во время войны…
Капитан. Вы имеете в виду Ищенко?
Суркин. Да. Сюда я переехал только в сорок пятом году, до этого проживал в Радзуте.
Валдманис. Простите, точнее? Когда вы переехали, в начале или в конце года?
Суркин. Еще война не кончилась. Но здесь уже были наши. В феврале, кажется.
Валдманис. Причины переезда?
Суркин. Из-за домика. Верх принадлежал моей родственнице, она умерла.
Валдманис. Ясно. Продолжайте.
Суркин. Так вот, Ищенко с начала оккупации работал в радзутской полиции.
Капитан. Вы не ошибаетесь?
Суркин. Я неоднократно видел его в форме. Видите ли, в Красную Армию меня не взяли по причине здоровья: рука. Я остался в оккупации, был мобилизован на работу в горуправу и косвенно сталкивался с полицейским управлением. Не подумайте, пожалуйста, ничего такого, — я относил бумаги на подпись. И там встречал Ищенко… А дней десять назад я увидел его у Генриха Осиповича Буша Я не был уверен в том, что это он: прошло много лет. Но когда Буш назвал мне сегодня его фамилию, все совпало. Буш сказал, что убийцу до сих пор не нашли. Мне кажется, что все это связано с прошлым Ищенко.
Капитан. Почему вам так кажется?
Суркин (после паузы). Н-не знаю. Думаю только так.
Капитан. Но для этого должны быть основания!
Суркин. Генрих Осипович сказал, что это, наверно, не ограбление. А что еще? Убийство — штука серьезная, на него редко решаются даже отпетые грабители.
Капитан. Жалко, что вы не пришли к нам раньше, Юрий Петрович.
Суркин. Я не хотел попасть в глупое положение: я мог и ошибиться То, что Ищенко — это точно Ищенко, я узнал только сегодня.
Капитан. Да, да. Но, может быть, это предотвратило бы преступление, как вы думаете? Если оно было связано с прошлым Ищенко?
Суркин. Я, конечно, виноват…
Капитан. Вас никто ни в чем не обвиняет. (Пауза). Пока.
Суркин (тихо). Почему пока?
Капитан. Где вы были во время убийства?
Суркин. Дома. Я чувствовал себя плохо и не вышел в этот день на работу.
Валдманис. Вы ходили в поликлинику открывать бюллетень?
Суркин. Я вызвал врача на дом.
Валдманис. Диагноз?
Суркин. У меня больное сердце. Стенокардия.
Валдманис. В какое время был врач?
Суркин. В десять.
Валдманис. И вы никуда не выходили?
Суркин. В два часа пошел за продуктами: жена в отъезде, в доме пусто.
Валдманис. Откуда вы знаете, что убийство произошло до двух часов? Вы сказали, что в то время, когда произошло убийство, вы были дома.
Суркин. Я… мне Генрих Осипович сказал.
(Я нарисовал на листе бумаги вторую закорючку. Первую я поставил, когда Суркин сказал, что Генрих Осипович считает, что это не ограбление).
Капитан. Чем вы занимались дома?
Суркин. Как чем? Ну, лежал, читал книгу…
Капитан. Какую книгу?
Суркин. Ну, я не помню… Разве это важно?
Валдманис. Очень важно! Убийство произошло около одиннадцати часов и (пауза)…
Суркин (нетерпеливо). Да?
Валдманис. Приблизительно в это время Буш, сажавший на участке цветы, зашел к себе и увидел, что у него протекает потолок. Он поднялся и стал стучаться к вам. Вас не было дома.
Суркин (поспешно). Да, да, я вышел… Значит, вы уже наводили обо мне справки?
Капитан. Не задавайте вопросов. Отвечайте! Вы вышли? Зачем? Только говорите правду.
Суркин. Я (пауза)… я увидел в окне Ищенко, он шел внизу по улице. Тогда я решил… я собирался принимать ванну, но сразу оделся и выбежал на улицу. Я забыл выключить воду. И я забыл, что заткнул отверстие в ванне.
Капитан. Буш видел вас?
Суркин. Нет, я воспользовался черным ходом на Красноармейскую. Она идет параллельно Чернышевского, знаете? Ищенко шел по Красноармейской
Капитан. Дальше.
Суркин. Дальше все… Я не увидел его на улице. Он куда-то свернул.
Капитан. Когда вы глядели в окно, вы не обратили внимания: его кто-нибудь преследовал?
Суркин. Н-нет, по-моему… Девчонка какая-то шла в том же направлении. Больше никого.
Капитан. Она шла следом за Ищенко или впереди?
Суркин. Следом.
Капитан. Опишите ее.
Суркин. Ну, волосы такие длинные, рассыпанные…
Капитан. Еще!
Суркин. Я видел ее в спину.
Капитан. Как она была одета?
Суркин. Не помню я, товарищ капитан!
Капитан. Ищенко торопился?
Суркин. Пожалуй.
Валдманис (быстро). Вы встретили кого-нибудь знакомого?
Суркин. Нет.
Капитан. Вы знаете Раису Быстрицкую, которая работает в гостинице?
Суркин. Нет. Я в гостинице не бываю.
Валдманис. На лестнице в вашем доме есть окно?
Суркин. Да.
Валдманис. Буш работал на участке, когда вы спускались? Вы видели его?
Суркин. Я не посмотрел. Я торопился вниз.
Валдманис. Что вы сделали потом?
Суркин. Я немного прошелся и вернулся домой.
Капитан. Для вас будет лучше, если вы будете говорить правду.
Суркин. Но я говорю правду!
Капитан. Нет! Вы в тот день были в этих туфлях?
Суркин (неуверенно). Да… Да-да, я сейчас все расскажу! Я понимаю, там была сырая земли, сохранились отпечатки, а я стоял совсем рядом… Я расскажу, одну минуточку!..
(“Молодец капитан! — подумал я. — Тело обнаружила старуха, потащившая выбрасывать дырявое ведро, и на ее крик сбежалось столько народу, что никакой эксперт не смог бы разобраться в следах возле трупа. Возле. Потому что был еще один след… Только не Суркина. У него совсем другая обувь”.)
Суркин. Я увидел Ищенко метрах в ста от себя, когда выбежал на улицу. Я не стал догонять его: а вдруг это вовсе не Ищенко, а просто похожий на него человек, я тогда еще не говорил с Генрихом Осиповичем, я попал бы в неловкое положение… Я подумал, что лучше пойти за ним и заговорить, если представится случай. Я шел за ним некоторое время, сохраняя дистанцию. Я хорошо знаю город и не боялся потерять его из виду: было жарко, и на улицах было пусто. Да, только та девчонка шла. Ей лет двадцать было, по-моему. Если б он зашел в кафе или еще куда-нибудь, я бы подсел к нему. Он свернул в проходной двор… Простите, можно водички?
(Звяканье графина о край стакана, звук льющейся воды.)
Капитан. Пожалуйста.
Суркин. Спасибо. В горле пересохло… Он свернул в проходной двор, а когда я вошел туда за ним через полминуты, я услышал впереди чьи-то поспешные шаги. Двор там делает поворот, такое колено… Стены высокие, двор очень гулкий, шаги отдавались, но я никого не видел. Я тоже прибавил шагу. Двор был пуст
Капитан. Криков, шума драки не слышали?
Суркин. Только шаги… Когда я выскочил на площадь, там шли люди, но Ищенко среди них не было. Я вернулся обратно. Ищенко нигде не мог спрятаться: двор голый, подъезды туда не выходят. Да это и глупо было, зачем ему прятаться?.. Но я почему-то заглянул за мусорный ящик.
Капитан. Там вы увидели Ищенко?
Суркин. Да. Я попытался прослушать пульс, но… он был мертв…
Валдманис. Минуточку. Вы переворачивали тело? Поднимали его?
Суркин. Нет. Он лежал лицом вниз, и висок у него был весь в крови. Помочь ему было уже нельзя. Мне стало страшно. Я не герой, знаете ли…
Капитан. Понятно. И вы ушли?
Суркин. Я представил себе, как я все это буду объяснять: что я шел за ним, и как его убили чуть не у меня на глазах, а я ничего не могу сказать…
Капитан. Вы боялись, что заподозрят вас?
Суркин. Именно.
Валдманис. У вас были причины его убить?
Суркин. Нет! Что вы!
Капитан. Но вы же не с луны упали, вы должны понимать, что нельзя осудить человека, не доказав его вины.
Суркин. Я очень испугался.
Валдманис. Куда делась та девушка, о которой вы упоминали?
Суркин. Не уследил… Свернула куда-то. Если б я знал, что это важно…
Валдманис. Где вы потеряли ее из виду?
Суркин. Не помню.
Валдманис. Во дворе ее не было?
Суркин. Нет, нет. Не было.
Капитан. Хорошо. Значит, вы солгали, сказав, что узнали об убийстве только сегодня?
Суркин (тихо). Да.
Капитан. Но почему вы именно сегодня пришли к нам?
Суркин. Не знаю. Я все время мучился, мне было страшно. Мне казалось, что меня найдут с собакой, я же стоял рядом с телом, и я тогда долго петлял по городу, прежде чем вернуться домой. Мне казалось, что за мной следят. Вчера к Бушу приходил один молодой человек, а я испугался…
Валдманис. Какой молодой человек?
Суркин. Студент из Москвы. Он сегодня был у меня в управлении, он хочет устроиться матросом на траулер. Он действительно студент.
Валдманис. Почему вы испугались?
Суркин. Я решил вчера, что он… из милиции.
Валдманис. Почему вы так решили?
Суркин. Ну, не знаю… Генрих Осипович все выпытывал у меня, где я был, когда у него протек потолок в ванной… Я всего боялся после случившегося, буквально всего. Мне казалось, что все меня подозревают.
Валдманис. Когда же это он “все выпытывал”?
Суркин. В день этого… убийства Когда я вернулся домой. Я после этого стал избегать встреч с ним…
Валдманис. Так. Продолжайте.
Суркин. Но я… я хотел какой-то определенности Сегодня после разговора с Бушем — он поймал меня на лестнице — я принял решение. Мне сразу стало легче. Я знал, что должен заявить о прошлом Ищенко. Может быть, Генрих Осипович, сам того не подозревая, как-то подтолкнул меня. Я понял, что нельзя молчать дальше…
Капитан. Хорошо. Я хочу показать вам один документ. (Скрип открываемого ящика: вероятно, капитан доставал анонимное письмо.) Ознакомьтесь.
Суркин (долгая пауза, потом почти крик). Это не я, это не я, клянусь вам, поймите, это не я!
Капитан. Вы ничего не хотите добавить?
Суркин. Нет, но это не я… не я! Я вам рассказал нее, как было. Честно рассказал!
Капитан. Письмо без подписи. Подумайте, кто мог его написать?
Суркин (подавленно). Не знаю.
Капитан. Вас мог кто-нибудь видеть в проходном дворе?
Суркин. Нет. Я боялся, что кто-нибудь пройдет. Но никого не было. И окна туда не выходят, двор глухой.
Капитан. У вас есть, скажем… недоброжелатели? Или, может, кто-то пошутил?
Суркин. Хорошенькие шутки! Нет, недоброжелателей у меня нет. (Устало.) Но это не я, поймите. Вам нужно искать настоящего убийцу.
Капитан. Мне хочется вам верить, Юрий Петрович…
(Я переключил магнитофон, вернулся назад и еще раз прослушал последние фразы. Когда я разговаривал сегодня с Суркиным в рыбном управлении, мне показалось, что, если б даже он и захотел сыграть, у него ничего не вышло бы: он не годился в актеры. Слова “это не я!..” звучали достаточно искренне.
Потом я пустил ленту дальше).
Капитан. Но есть еще одна невыясненная деталь. (Снова скрип ящика). Вам знакома эта штука?
Суркин (после паузы, слегка удивленно). Да, это кастет. Это… мой кастет.
Капитан. Не торопитесь. Посмотрите внимательней.
Суркин (не так уверенно). По-моему, мой… Вот дубовый листок. Кажется, мой. Но как он попал к вам?
Капитан. Именно этим кастетом был убит Тарас Михайлович Ищенко!
(Стук: вероятно, Суркин уронил кастет на пол.)
Суркин (дрожащим голосом). Свой кастет я выбросил в отхожее место прошлым летом на даче моего родственника Крамвичуса. Я жил у него целый месяц.
Валдманис. Почему вы повезли его выбрасывать так далеко?
Суркин. Не знаю. Все-таки оружие… Наверное, боялся, что найдут и прицепятся: откуда, зачем хранил?
Валдманис. Не знаете или боялись?
Суркин. Совершенно справедливо. Боялся.
Валдманис. Ваш родственник знал о кастете?
Суркин. Нет.
Капитан. Где находится дача?
Суркин. Я могу поехать и…
Капитан. Поедем мы сами. Вы укажите место.
Суркин (тихо). Понимаю. Все обстоятельства против меня. Но он должен быть там. Должен.
Капитан (спокойно, как учитель, ведущий урок). Значит, существуют два кастета, похожих как родные братья. Близнецы, так сказать. Один тот, которым было совершено убийство, другой — ваш. Вы знали, что полагается за хранение холодного оружия?
Суркин. Да. Потому и выбросил. К нему подбирался мой племянник, мальчишка, и я вспомнил о нем. А до этого он валялся у меня в ящике для инструментов. И, как вы сами понимаете, товарищ капитан, без всякого применения.
Капитан. Кто видел у вас кастет?
Суркин. Затрудняюсь сказать.
Капитан. Подумайте, это очень важно.
Суркин. Н-не знаю. Генрих Осипович, может быть, видел: он часто берет у меня инструменты.
Капитан. В каких вы с ним отношениях?
Суркин. В самых хороших. Мы отлично ладим.
Капитан. Он знает, что вы выбросили кастет?
Суркин. Вряд ли.
Валдманис. А Пухальского вы знаете?
Суркин. Кого, простите?
Валдманис. Пухальского? Он приехал в командировку на мебельную фабрику, был у Буша в гостях.
Суркин. Нет. Не знаю. Может быть, видел в лицо, но по фамилии не знаю.
Капитан. Вы у кого-нибудь видели подобный кастет?
Суркин. Нет.
Капитан. Как вам достался ваш?
Суркин. Нашел на улице, когда немцы отступали. Зачем-то взял, просто так. Я был тогда молодой, собирал всякую дрянь.
Капитан. Понятно. Нам придется задержать вас на некоторое время.
Суркин. Это арест?
Капитан. Буду откровенен: по закону я должен вас отпустить, взяв подписку о невыезде. Против вас нет прямых улик. Кроме кастета, конечно.
Суркин. Я выбросил свой кастет в прошлом году.
Капитан. Буду очень рад, если мы его там найдем, Юрий Петрович. Но вы нам должны помочь. Кто-то написал на вас анонимку. Очень важно для следствия выяснить: кто? Скорей всего это сделал убийца. Но если он узнает, что вы арестованы, возможно, он будет вести себя посвободнее…
Суркин. А что скажут на работе, когда узнают, что я… сижу?
Капитан. Если вы не виноваты, вам нечего беспокоиться. Мы потом сами поедем к вам на работу и все уладим. Будете героем. А пока потерпите.
Суркин. Понятно, товарищ капитан. И… спасибо, что верите.
Капитан. Вам дадут бумагу. Я попрошу вас написать все, что вы нам рассказали. Укажите точно, куда выбросили кастет. Самое главное: подробно напишите все, что вы знаете об Ищенко радзутского периода.
Суркин. Как, простите?
Капитан. Ну, о том времени, когда вы служили в горуправе, а Ищенко — в полиции.
Суркин. Понял вас. Постараюсь все вспомнить.
Валдманис. Еще минуточку, Юрий Петрович. Почему вас все-таки так интересовал Ищенко? Ну, служил он в полиции, ну, узнали вы его. Но ведь вы так стремительно бросились за ним, что даже забыли выключить воду. А вы еще неважно чувствовали себя в этот день. Вы боялись упустить его? Почему?
Суркин (после паузы). Я отвечу. Я знаю, это свидетельствует против меня, но я отвечу. Он тогда… в сорок третьем году, ударил по лицу женщину, которая… с которой… словом, я был к ней неравнодушен.
Валдманис. За что он ее ударил?
Суркин (горько). С его точки зрения, он был, наверное, прав. Она оскорбила его. Она сказала, что только подлец может носить форму, которую носит он. Это было на улице. Он отпустил какую-то шутку, увидев ее, а она… она ответила.
Валдманис (быстро). Что с ней было потом?
Суркин. Ничего. Все кончилось благополучно. Он не арестовал ее и не донес на нее. Но он ударил ее на моих глазах… Я, конечно, ничего бы ему не сделал. Ноя хотел напомнить ему эту сцену. Просто напомнить. Ему, наверное, было бы неприятно. (Совсем тихо.) А мне хотелось, чтобы ему было неприятно… Эта женщина — моя жена.
Валдманис. Понятно, Юрий Петрович. Понятно… Извините, еще вопрос: вы что-нибудь слышали о партизанском отряде, который действовал здесь во время войны?
Суркин. Конечно. Это было громкое дело. Весь отряд погиб.
Валдманис. Никто не спасся?
Суркин. Говорили, что нет.
Валдманис. Вы знали лично кого-нибудь из партизанского отряда или городского подполья?
Суркин. Нет. Я вообще мало кого знал здесь. Я же жил в Радзуте.
Валдманис. А Круглову вы знали?
Суркин. Мне о ней рассказывали. Ее казнили, а дом сожгли. Как раз рядом с домом, где я сейчас живу.
Валдманис. Кто рассказывал, не помните?
Суркин. Нет, к сожалению. Тогда ж и рассказывали, после войны. Сколько времени прошло!
Валдманис. Да, да. А то, что Ищенко был партизаном, вы знали?
Суркин. Первый раз сейчас слышу. Он же служил в полиции! Ага, понимаю, по заданию…
Валдманис. Вы встречали Ищенко в Радзуте, А здесь, когда переехали?
Суркин. Нет.
Валдманис. Что ж, благодарю вас.
Капитан. Спасибо, Юрий Петрович.
— Все, — сказал начальник горотдела КГБ Валдманис, сидевший рядом: он вместе со мной слушал запись.
“Ай да Суркин! — думал я по дороге. — Значит, третьего числа он весь день был на работе. Пятого он был дома. И еще кастет…” Через пятнадцать минут я сидел в знакомой комнате со сводами, напоминавшими арки, с пейзажем на стене, и слушал магнитофонную запись допроса (его вели вдвоем капитан Сипарис и начальник горотдела КГБ Валдманис).
Капитан. Давайте знакомиться.
Суркин. Я работаю в управлении экспедиционного лова. Моя фамилия Суркин.
Капитан. Садитесь, пожалуйста, товарищ Суркин. Как ваше имя-отчество?
Суркин. Юрий Петрович. Так вот (пауза), я, наверное, давно должен был сделать это заявление, но (пауза) только сегодня утром в случайном разговоре я узнал от своего соседа Генриха Осиповича Буша, что пятого числа в нашем городе произошло преступление: я говорю об убийстве Тараса Ищенко.
(“Странное сочетание: не просто Ищенко и не Тарас Михайлович Ищенко, а Тарас Ищенко, — подумал я. — Эту вводную фразу Суркин, конечно, репетировал про себя много раз”.)
Суркин (продолжая). А я знал его еще во время войны…
Капитан. Вы имеете в виду Ищенко?
Суркин. Да. Сюда я переехал только в сорок пятом году, до этого проживал в Радзуте.
Валдманис. Простите, точнее? Когда вы переехали, в начале или в конце года?
Суркин. Еще война не кончилась. Но здесь уже были наши. В феврале, кажется.
Валдманис. Причины переезда?
Суркин. Из-за домика. Верх принадлежал моей родственнице, она умерла.
Валдманис. Ясно. Продолжайте.
Суркин. Так вот, Ищенко с начала оккупации работал в радзутской полиции.
Капитан. Вы не ошибаетесь?
Суркин. Я неоднократно видел его в форме. Видите ли, в Красную Армию меня не взяли по причине здоровья: рука. Я остался в оккупации, был мобилизован на работу в горуправу и косвенно сталкивался с полицейским управлением. Не подумайте, пожалуйста, ничего такого, — я относил бумаги на подпись. И там встречал Ищенко… А дней десять назад я увидел его у Генриха Осиповича Буша Я не был уверен в том, что это он: прошло много лет. Но когда Буш назвал мне сегодня его фамилию, все совпало. Буш сказал, что убийцу до сих пор не нашли. Мне кажется, что все это связано с прошлым Ищенко.
Капитан. Почему вам так кажется?
Суркин (после паузы). Н-не знаю. Думаю только так.
Капитан. Но для этого должны быть основания!
Суркин. Генрих Осипович сказал, что это, наверно, не ограбление. А что еще? Убийство — штука серьезная, на него редко решаются даже отпетые грабители.
Капитан. Жалко, что вы не пришли к нам раньше, Юрий Петрович.
Суркин. Я не хотел попасть в глупое положение: я мог и ошибиться То, что Ищенко — это точно Ищенко, я узнал только сегодня.
Капитан. Да, да. Но, может быть, это предотвратило бы преступление, как вы думаете? Если оно было связано с прошлым Ищенко?
Суркин. Я, конечно, виноват…
Капитан. Вас никто ни в чем не обвиняет. (Пауза). Пока.
Суркин (тихо). Почему пока?
Капитан. Где вы были во время убийства?
Суркин. Дома. Я чувствовал себя плохо и не вышел в этот день на работу.
Валдманис. Вы ходили в поликлинику открывать бюллетень?
Суркин. Я вызвал врача на дом.
Валдманис. Диагноз?
Суркин. У меня больное сердце. Стенокардия.
Валдманис. В какое время был врач?
Суркин. В десять.
Валдманис. И вы никуда не выходили?
Суркин. В два часа пошел за продуктами: жена в отъезде, в доме пусто.
Валдманис. Откуда вы знаете, что убийство произошло до двух часов? Вы сказали, что в то время, когда произошло убийство, вы были дома.
Суркин. Я… мне Генрих Осипович сказал.
(Я нарисовал на листе бумаги вторую закорючку. Первую я поставил, когда Суркин сказал, что Генрих Осипович считает, что это не ограбление).
Капитан. Чем вы занимались дома?
Суркин. Как чем? Ну, лежал, читал книгу…
Капитан. Какую книгу?
Суркин. Ну, я не помню… Разве это важно?
Валдманис. Очень важно! Убийство произошло около одиннадцати часов и (пауза)…
Суркин (нетерпеливо). Да?
Валдманис. Приблизительно в это время Буш, сажавший на участке цветы, зашел к себе и увидел, что у него протекает потолок. Он поднялся и стал стучаться к вам. Вас не было дома.
Суркин (поспешно). Да, да, я вышел… Значит, вы уже наводили обо мне справки?
Капитан. Не задавайте вопросов. Отвечайте! Вы вышли? Зачем? Только говорите правду.
Суркин. Я (пауза)… я увидел в окне Ищенко, он шел внизу по улице. Тогда я решил… я собирался принимать ванну, но сразу оделся и выбежал на улицу. Я забыл выключить воду. И я забыл, что заткнул отверстие в ванне.
Капитан. Буш видел вас?
Суркин. Нет, я воспользовался черным ходом на Красноармейскую. Она идет параллельно Чернышевского, знаете? Ищенко шел по Красноармейской
Капитан. Дальше.
Суркин. Дальше все… Я не увидел его на улице. Он куда-то свернул.
Капитан. Когда вы глядели в окно, вы не обратили внимания: его кто-нибудь преследовал?
Суркин. Н-нет, по-моему… Девчонка какая-то шла в том же направлении. Больше никого.
Капитан. Она шла следом за Ищенко или впереди?
Суркин. Следом.
Капитан. Опишите ее.
Суркин. Ну, волосы такие длинные, рассыпанные…
Капитан. Еще!
Суркин. Я видел ее в спину.
Капитан. Как она была одета?
Суркин. Не помню я, товарищ капитан!
Капитан. Ищенко торопился?
Суркин. Пожалуй.
Валдманис (быстро). Вы встретили кого-нибудь знакомого?
Суркин. Нет.
Капитан. Вы знаете Раису Быстрицкую, которая работает в гостинице?
Суркин. Нет. Я в гостинице не бываю.
Валдманис. На лестнице в вашем доме есть окно?
Суркин. Да.
Валдманис. Буш работал на участке, когда вы спускались? Вы видели его?
Суркин. Я не посмотрел. Я торопился вниз.
Валдманис. Что вы сделали потом?
Суркин. Я немного прошелся и вернулся домой.
Капитан. Для вас будет лучше, если вы будете говорить правду.
Суркин. Но я говорю правду!
Капитан. Нет! Вы в тот день были в этих туфлях?
Суркин (неуверенно). Да… Да-да, я сейчас все расскажу! Я понимаю, там была сырая земли, сохранились отпечатки, а я стоял совсем рядом… Я расскажу, одну минуточку!..
(“Молодец капитан! — подумал я. — Тело обнаружила старуха, потащившая выбрасывать дырявое ведро, и на ее крик сбежалось столько народу, что никакой эксперт не смог бы разобраться в следах возле трупа. Возле. Потому что был еще один след… Только не Суркина. У него совсем другая обувь”.)
Суркин. Я увидел Ищенко метрах в ста от себя, когда выбежал на улицу. Я не стал догонять его: а вдруг это вовсе не Ищенко, а просто похожий на него человек, я тогда еще не говорил с Генрихом Осиповичем, я попал бы в неловкое положение… Я подумал, что лучше пойти за ним и заговорить, если представится случай. Я шел за ним некоторое время, сохраняя дистанцию. Я хорошо знаю город и не боялся потерять его из виду: было жарко, и на улицах было пусто. Да, только та девчонка шла. Ей лет двадцать было, по-моему. Если б он зашел в кафе или еще куда-нибудь, я бы подсел к нему. Он свернул в проходной двор… Простите, можно водички?
(Звяканье графина о край стакана, звук льющейся воды.)
Капитан. Пожалуйста.
Суркин. Спасибо. В горле пересохло… Он свернул в проходной двор, а когда я вошел туда за ним через полминуты, я услышал впереди чьи-то поспешные шаги. Двор там делает поворот, такое колено… Стены высокие, двор очень гулкий, шаги отдавались, но я никого не видел. Я тоже прибавил шагу. Двор был пуст
Капитан. Криков, шума драки не слышали?
Суркин. Только шаги… Когда я выскочил на площадь, там шли люди, но Ищенко среди них не было. Я вернулся обратно. Ищенко нигде не мог спрятаться: двор голый, подъезды туда не выходят. Да это и глупо было, зачем ему прятаться?.. Но я почему-то заглянул за мусорный ящик.
Капитан. Там вы увидели Ищенко?
Суркин. Да. Я попытался прослушать пульс, но… он был мертв…
Валдманис. Минуточку. Вы переворачивали тело? Поднимали его?
Суркин. Нет. Он лежал лицом вниз, и висок у него был весь в крови. Помочь ему было уже нельзя. Мне стало страшно. Я не герой, знаете ли…
Капитан. Понятно. И вы ушли?
Суркин. Я представил себе, как я все это буду объяснять: что я шел за ним, и как его убили чуть не у меня на глазах, а я ничего не могу сказать…
Капитан. Вы боялись, что заподозрят вас?
Суркин. Именно.
Валдманис. У вас были причины его убить?
Суркин. Нет! Что вы!
Капитан. Но вы же не с луны упали, вы должны понимать, что нельзя осудить человека, не доказав его вины.
Суркин. Я очень испугался.
Валдманис. Куда делась та девушка, о которой вы упоминали?
Суркин. Не уследил… Свернула куда-то. Если б я знал, что это важно…
Валдманис. Где вы потеряли ее из виду?
Суркин. Не помню.
Валдманис. Во дворе ее не было?
Суркин. Нет, нет. Не было.
Капитан. Хорошо. Значит, вы солгали, сказав, что узнали об убийстве только сегодня?
Суркин (тихо). Да.
Капитан. Но почему вы именно сегодня пришли к нам?
Суркин. Не знаю. Я все время мучился, мне было страшно. Мне казалось, что меня найдут с собакой, я же стоял рядом с телом, и я тогда долго петлял по городу, прежде чем вернуться домой. Мне казалось, что за мной следят. Вчера к Бушу приходил один молодой человек, а я испугался…
Валдманис. Какой молодой человек?
Суркин. Студент из Москвы. Он сегодня был у меня в управлении, он хочет устроиться матросом на траулер. Он действительно студент.
Валдманис. Почему вы испугались?
Суркин. Я решил вчера, что он… из милиции.
Валдманис. Почему вы так решили?
Суркин. Ну, не знаю… Генрих Осипович все выпытывал у меня, где я был, когда у него протек потолок в ванной… Я всего боялся после случившегося, буквально всего. Мне казалось, что все меня подозревают.
Валдманис. Когда же это он “все выпытывал”?
Суркин. В день этого… убийства Когда я вернулся домой. Я после этого стал избегать встреч с ним…
Валдманис. Так. Продолжайте.
Суркин. Но я… я хотел какой-то определенности Сегодня после разговора с Бушем — он поймал меня на лестнице — я принял решение. Мне сразу стало легче. Я знал, что должен заявить о прошлом Ищенко. Может быть, Генрих Осипович, сам того не подозревая, как-то подтолкнул меня. Я понял, что нельзя молчать дальше…
Капитан. Хорошо. Я хочу показать вам один документ. (Скрип открываемого ящика: вероятно, капитан доставал анонимное письмо.) Ознакомьтесь.
Суркин (долгая пауза, потом почти крик). Это не я, это не я, клянусь вам, поймите, это не я!
Капитан. Вы ничего не хотите добавить?
Суркин. Нет, но это не я… не я! Я вам рассказал нее, как было. Честно рассказал!
Капитан. Письмо без подписи. Подумайте, кто мог его написать?
Суркин (подавленно). Не знаю.
Капитан. Вас мог кто-нибудь видеть в проходном дворе?
Суркин. Нет. Я боялся, что кто-нибудь пройдет. Но никого не было. И окна туда не выходят, двор глухой.
Капитан. У вас есть, скажем… недоброжелатели? Или, может, кто-то пошутил?
Суркин. Хорошенькие шутки! Нет, недоброжелателей у меня нет. (Устало.) Но это не я, поймите. Вам нужно искать настоящего убийцу.
Капитан. Мне хочется вам верить, Юрий Петрович…
(Я переключил магнитофон, вернулся назад и еще раз прослушал последние фразы. Когда я разговаривал сегодня с Суркиным в рыбном управлении, мне показалось, что, если б даже он и захотел сыграть, у него ничего не вышло бы: он не годился в актеры. Слова “это не я!..” звучали достаточно искренне.
Потом я пустил ленту дальше).
Капитан. Но есть еще одна невыясненная деталь. (Снова скрип ящика). Вам знакома эта штука?
Суркин (после паузы, слегка удивленно). Да, это кастет. Это… мой кастет.
Капитан. Не торопитесь. Посмотрите внимательней.
Суркин (не так уверенно). По-моему, мой… Вот дубовый листок. Кажется, мой. Но как он попал к вам?
Капитан. Именно этим кастетом был убит Тарас Михайлович Ищенко!
(Стук: вероятно, Суркин уронил кастет на пол.)
Суркин (дрожащим голосом). Свой кастет я выбросил в отхожее место прошлым летом на даче моего родственника Крамвичуса. Я жил у него целый месяц.
Валдманис. Почему вы повезли его выбрасывать так далеко?
Суркин. Не знаю. Все-таки оружие… Наверное, боялся, что найдут и прицепятся: откуда, зачем хранил?
Валдманис. Не знаете или боялись?
Суркин. Совершенно справедливо. Боялся.
Валдманис. Ваш родственник знал о кастете?
Суркин. Нет.
Капитан. Где находится дача?
Суркин. Я могу поехать и…
Капитан. Поедем мы сами. Вы укажите место.
Суркин (тихо). Понимаю. Все обстоятельства против меня. Но он должен быть там. Должен.
Капитан (спокойно, как учитель, ведущий урок). Значит, существуют два кастета, похожих как родные братья. Близнецы, так сказать. Один тот, которым было совершено убийство, другой — ваш. Вы знали, что полагается за хранение холодного оружия?
Суркин. Да. Потому и выбросил. К нему подбирался мой племянник, мальчишка, и я вспомнил о нем. А до этого он валялся у меня в ящике для инструментов. И, как вы сами понимаете, товарищ капитан, без всякого применения.
Капитан. Кто видел у вас кастет?
Суркин. Затрудняюсь сказать.
Капитан. Подумайте, это очень важно.
Суркин. Н-не знаю. Генрих Осипович, может быть, видел: он часто берет у меня инструменты.
Капитан. В каких вы с ним отношениях?
Суркин. В самых хороших. Мы отлично ладим.
Капитан. Он знает, что вы выбросили кастет?
Суркин. Вряд ли.
Валдманис. А Пухальского вы знаете?
Суркин. Кого, простите?
Валдманис. Пухальского? Он приехал в командировку на мебельную фабрику, был у Буша в гостях.
Суркин. Нет. Не знаю. Может быть, видел в лицо, но по фамилии не знаю.
Капитан. Вы у кого-нибудь видели подобный кастет?
Суркин. Нет.
Капитан. Как вам достался ваш?
Суркин. Нашел на улице, когда немцы отступали. Зачем-то взял, просто так. Я был тогда молодой, собирал всякую дрянь.
Капитан. Понятно. Нам придется задержать вас на некоторое время.
Суркин. Это арест?
Капитан. Буду откровенен: по закону я должен вас отпустить, взяв подписку о невыезде. Против вас нет прямых улик. Кроме кастета, конечно.
Суркин. Я выбросил свой кастет в прошлом году.
Капитан. Буду очень рад, если мы его там найдем, Юрий Петрович. Но вы нам должны помочь. Кто-то написал на вас анонимку. Очень важно для следствия выяснить: кто? Скорей всего это сделал убийца. Но если он узнает, что вы арестованы, возможно, он будет вести себя посвободнее…
Суркин. А что скажут на работе, когда узнают, что я… сижу?
Капитан. Если вы не виноваты, вам нечего беспокоиться. Мы потом сами поедем к вам на работу и все уладим. Будете героем. А пока потерпите.
Суркин. Понятно, товарищ капитан. И… спасибо, что верите.
Капитан. Вам дадут бумагу. Я попрошу вас написать все, что вы нам рассказали. Укажите точно, куда выбросили кастет. Самое главное: подробно напишите все, что вы знаете об Ищенко радзутского периода.
Суркин. Как, простите?
Капитан. Ну, о том времени, когда вы служили в горуправе, а Ищенко — в полиции.
Суркин. Понял вас. Постараюсь все вспомнить.
Валдманис. Еще минуточку, Юрий Петрович. Почему вас все-таки так интересовал Ищенко? Ну, служил он в полиции, ну, узнали вы его. Но ведь вы так стремительно бросились за ним, что даже забыли выключить воду. А вы еще неважно чувствовали себя в этот день. Вы боялись упустить его? Почему?
Суркин (после паузы). Я отвечу. Я знаю, это свидетельствует против меня, но я отвечу. Он тогда… в сорок третьем году, ударил по лицу женщину, которая… с которой… словом, я был к ней неравнодушен.
Валдманис. За что он ее ударил?
Суркин (горько). С его точки зрения, он был, наверное, прав. Она оскорбила его. Она сказала, что только подлец может носить форму, которую носит он. Это было на улице. Он отпустил какую-то шутку, увидев ее, а она… она ответила.
Валдманис (быстро). Что с ней было потом?
Суркин. Ничего. Все кончилось благополучно. Он не арестовал ее и не донес на нее. Но он ударил ее на моих глазах… Я, конечно, ничего бы ему не сделал. Ноя хотел напомнить ему эту сцену. Просто напомнить. Ему, наверное, было бы неприятно. (Совсем тихо.) А мне хотелось, чтобы ему было неприятно… Эта женщина — моя жена.
Валдманис. Понятно, Юрий Петрович. Понятно… Извините, еще вопрос: вы что-нибудь слышали о партизанском отряде, который действовал здесь во время войны?
Суркин. Конечно. Это было громкое дело. Весь отряд погиб.
Валдманис. Никто не спасся?
Суркин. Говорили, что нет.
Валдманис. Вы знали лично кого-нибудь из партизанского отряда или городского подполья?
Суркин. Нет. Я вообще мало кого знал здесь. Я же жил в Радзуте.
Валдманис. А Круглову вы знали?
Суркин. Мне о ней рассказывали. Ее казнили, а дом сожгли. Как раз рядом с домом, где я сейчас живу.
Валдманис. Кто рассказывал, не помните?
Суркин. Нет, к сожалению. Тогда ж и рассказывали, после войны. Сколько времени прошло!
Валдманис. Да, да. А то, что Ищенко был партизаном, вы знали?
Суркин. Первый раз сейчас слышу. Он же служил в полиции! Ага, понимаю, по заданию…
Валдманис. Вы встречали Ищенко в Радзуте, А здесь, когда переехали?
Суркин. Нет.
Валдманис. Что ж, благодарю вас.
Капитан. Спасибо, Юрий Петрович.
— Все, — сказал начальник горотдела КГБ Валдманис, сидевший рядом: он вместе со мной слушал запись.
Глава 20. Варианты
 Валдманис не спешил начать разговор.
Я представился ему, когда пришел, и он сидел молча, пока я крутил пленку. Сейчас он отошел в угол комнаты и стал там что-то перекладывать, время от времени поглядывая на меня. У него была крупная седая голова, стриженная ежиком. Фигура бывшего тяжеловеса. Двигался он уверенно и быстро, несмотря на полноту.
— Как вам нравится наше “секретное” окно? — Он кивнул на невинный пейзажик, висевший на стене. — Дом строил немецкий барон, на черта ему эта штука понадобилась, неясно. Тайны мадридского двора, а?.. Мы случайно обнаружили механизм. Погода вам нравится? Город наш? Вы вообще часто бываете на море?
Он сел и уставился на меня, подперев рукой голову. Я знал, что мальчишкой восемнадцати лет он работал в охране Ленина. “Интересно, на что способен этот молодой человек? — вероятно, думал он про меня. — Столичная штучка! Скор, наверное, на действия, а посидеть подумать — на это их не хватает. Молодо-зелено”.
— Крепкий орешек, а? Это дело? — Он откинулся в кресле. — Как вам Суркин? — спросил он.
— Меня очень интересует, связан ли его приход с анонимкой? Он молчал и мог молчать дальше. Вы ему верите?
Тут я немного схитрил. Я уже составил себе определенное мнение о Суркине. Но я хотел посмотреть на все это как бы со стороны — чужими глазами.
Валдманис покрутил сигарету в пальцах.
— Я когда-то арестовал типа, который сам на себя написал анонимку. Он отводил от себя внимание: в анонимке были перечислены именно те улики, которые при проверке оказывались несостоятельными. Он был под подозрением. Это как бы обеляло его.
— Вы хотите сказать, что ничто не ново под луной?
— Ничего не хочу сказать. Младший лейтенант Красухин отправился искать кастет в отхожем месте.
— Ассенизаторов не найти. Сегодня короткий день.
— Найдет.
— Суркин пришел сам. Почему сегодня? Через несколько часов после того, как анонимка легла на ваш стол. Совпадение?
— Подождем Красухина. Но думаю, что Суркин сказал правду. Врать имеет смысл тогда, когда невозможно проверить. Любопытно, вспомнит ли он еще что-нибудь про Ищенко.
— Любопытно.
— Итак, Ищенко был полицаем. А потом стал бойцом партизанского отряда.
— Странная метаморфоза!
— Думаете, он и есть Кентавр? — быстро спросил Валдманис.
Мы были похожи на борцов, которые, опустив плечи и напружинившись, ходят друг против друга по ковру, не начиная схватки. Но все было правильно. Всегда хочется знать, чего стоит человек, с которым делаешь одно дело.
— Нет, — сказал я. — Скорей всего нет. Полицейского не будут использовать в роли провокатора. Слишком мало шансов за то, что его не опознают.
— Его не опознали. Тогда.
— Да. Но гестапо не могло всерьез принимать это в расчет. Я думаю, Ищенко просто решил встретить нашу армию не полицаем, а партизаном. И скрыл свое прошлое. Рискнул.
Валдманис удовлетворенно кивнул головой.
— А почему он уцелел, в то время как весь партизанский отряд погиб? Почему предпочел, чтобы его считали убитым?
— Здесь пока все темно, — сказал я. — Боялся же он своего полицейского прошлого, трясся всю жизнь.
— Кто написал анонимку, вопрос номер один. Если мы ответим на него, сделаем многое. Но вот такая тонкость… Предположим — я говорю, предположим, — Буш видел кастет у Суркина. Но не знает, что тот его выбросил. И Буш, опять-таки предположим, написал анонимное письмо. Логичный вывод: Ищенко убил Буш, потому что кто, кроме убийцы, мог знать, каким оружием убийство совершено? Но, — тут Валдманис поднял палец, — этот кастет убийца бросил или потерял недалеко от места преступления. И он не мог об этом забыть. А наличие двух кастетов — этого и того, который, предположим, мы найдем у Суркина, уже нелогично…
— Да, — сказал я.
— Но, — продолжал Валдманис, — Буш часто брал инструменты у Суркина. Он мог заметить, что кастета нет. Узнал мимоходом, что Суркин его выбросил, а Суркин мог не запомнить этого разговора. Зато запомнил Буш. И теперь, надеясь, что мы не поверим Суркину, будто он выбросил кастет, или не сможем его найти, Буш пишет анонимку. Он думает, что в следствии будет фигурировать только один кастет.
— Должны быть свидетели, которые подтвердят, что видели такой кастет у Суркина.
— Это сделает тот же Буш.
— Нет, слишком сложно, — сказал я. — Ведь мы совершенно случайно узнали, что у Суркина был кастет. В анонимном письме о нем нет ни слова.
— Верно, — усмехнулся Валдманис. — Но вы забыли, я сказал: предположим. Это всего лишь одна из возможных гипотез. Я просто хотел обратить ваше внимание на тот факт, что мы имеем два абсолютно идентичных кастета.
— Еще не имеем. Второй-то пока не нашли.
— Уверен: найдут.
— И, кстати, вы забыли, что у Буша есть твердое алиби: соседи все утро видели его на участке.
— Нет.
— То есть?
— Грош цена этому алиби. Они утверждают, что видели его все время, а это не так. Ведь он обнаружил, что потек потолок, он бегал стучаться к Суркину и наверняка пытался принять какие-то меры. На это ушло минут двадцать, если не больше.
— Значит, соседи солгали?
— Опять же нет! Здесь есть один психологический нюанс, вот смотрите. Мы навели справки: соседи — чета пенсионеров — все утро сидели на веранде, пили чай, читали газету и, конечно же, не следили за Бушем специально. Они видят: он работает. Они отвлеклись, и — случайное совпадение — Буш в это время отлучается. Они снова взглянули в сад, а он уже опять возится с цветами. И соседи ручаются, что он работал весь день у них на глазах. Ведь они же не заметили, как он уходил в дом. Он мог отсутствовать и полчаса.
— Буш не может иметь никакого отношения к событиям сорок четвертого года. Всю войну он провел на фронте, это установлено.
— Мы связываем убийство с предательством. Может, мы ошибаемся? Клавдия Ищенко, судя по всему, — любовница Буша. Она стала ею через несколько дней после смерти супруга.
— Нелюбимого супруга.
Я рассказал про Стендаля и опять вспомнил, как Клавдия Ищенко цитировала: “Госпожа Реналь закуталась в шаль и стала незнакомой ему, и тогда он выстрелил…” Имело ли это какой-то смысл?
— Кстати, сегодня рано утром были похороны, — сказал Валдманис.
— Я видел ее днем на пляже. Она довольно беспечна. Пожалуй, даже слишком беспечна, чтобы быть замешанной в этом деле. Она бы вела себя иначе: зачем вызывать лишние подозрения?
— Может, она учла это? И рассчитывает на два хода вперед?
— Сомневаюсь.
— Капитан Сипарис спросил, долго ли она собирается пробыть в нашем городе. Она сказала, что решила использовать все это как поездку на курорт и отдохнуть здесь. А по приезде изображала убитую горем любящую жену.
— Не сразу сориентировалась. Она получила документы по страховке?
— Не получит, пока не кончится следствие. Кстати, из Новосибирска сообщили, что Карик никуда не выезжал и сейчас там.
— Сколько ему лет?
— Сорок.
— Цепляться она за него не станет.
— Да.
— А Буш с шестьдесят третьего года не встречался с Клавдией Ищенко, возможность предварительного сговора исключается. С самим Ищенко он познакомился случайно, на юге. У него нет никаких видимых мотивов для убийства, а она просто дамочка, ищущая развлечений. И, кстати, есть такой вариант: автор анонимного письма (ну хотя бы тот же Буш) и убийца — два разных человека, никак не связанных друг с другом. Просто Буш видел, как Суркин шел за Ищенко. Он решил, что тот — убийца. И про то, что Ищенко убит кастетом, он ничего не знал: простое совпадение.
— А почему анонимка? Почему не пришел сам и не рассказал?
Я развел руками.
Мне было очень хорошо сидеть здесь и обсуждать все это с Валдманисом, потому что вчера и сегодня я только и делал, что ахал и удивлялся, узнавая об убийстве, и ни с кем не мог быть искренним. Тем более было приятно, что начальник горотдела был умен и знал свое дело. Но мне было тревожно — по-прежнему Кентавр разгуливал по городу.
— Мы продолжаем проверять всех выбывающих из города, — сказал Валдманис. — Насколько это возможно.
— Ничего?
— Ничего. Посмотрите, кстати, анонимку. Написана на машинке. Под копирку. Это второй экземпляр.
— А первый где?
— Надо полагать, у автора.
— Хм, нелепо! Анонимки пишут, когда не хотят себя называть. Зачем же хранить копию, которая может послужить уликой? Тут что-то не так.
— Пальцевых отпечатков, как и на кастете, нет. Одна ошибка: перед “что” нет запятой.
Я посмотрел. Там было всего три строки: “Считаю своим долгом сообщить что Ищенко убил Суркин Юрий Петрович, проживающий по адресу: улица Чернышевского, 8, кв. 2”. Все.
— Любопытная деталь — автор знает убитого по фамилии.
Валдманис кивнул головой.
— Вероятно, он многое знает об убийстве.
Валдманис снова кивнул.
— У Буша есть машинка?
— Нет.
— Значит, надо искать машинку. Скорей всего в учреждениях: до такого состояния свою не доводят, половина букв сбита.
— Ищем. Но завтра воскресенье. А потом, думаете, легко найти? Работников — раз, два и обчелся. И устал я как черт. Как сто чертей, — пожаловался он. — За Суркина нам будет нахлобучка от прокурора… Кстати, машинка может быть и собственная — списанная, потому в таком виде, а найти ее тогда будет намного труднее. Но меня очень интересует кастет. Удар был нанесен точно, я бы сказал, профессионально. Пальцевых отпечатков на кастете нет, несмотря на жару: наверное, обертывал платком. Предусмотрел все, даже что может его потерять. Но почему кастет, а не что-нибудь более “безобидное” — кирпич, например, или разводной ключ? Ведь преступник не в Америке, где он мог бы спокойно носить при себе оружие. Кастет может выпасть из кармана на людях, он оттягивает карман, кто-нибудь да и поинтересуется: что это у тебя?..
— Потому что привык к кастету? Когда-то часто пускал его в ход? Убийство случилось не вдруг, оно подготовлено, и убийца хотел действовать наверняка. Поэтому он достал кастет, хранящийся с прежних времен, и воспользовался им.
— Он знал, что Ищенко пойдет именно этим проходным двором? И именно в это время?
— Похоже.
Я рассказал Валдманису, как провел время сегодня в проходном дворе.
— Все, как я рассчитал, — добавил я. — Только по двору за Ищенко шел Суркин, а не Быстрицкая. Фокус.
— Криков Суркин не слышал. Значит, убийца пришел во двор первым и ждал, когда Ищенко покажется из-за угла. И сразу ударил.
— Да. Но вот почему он потерял кастет, если он такой опытный преступник? Он спешил уйти от места преступления. Кастет лежал довольно далеко от трупа в направлении площади. Но, выронив кастет, он должен был вернуться.
— Его спугнул Суркин, и он не вернулся, потому что вполне резонно предполагал, что Суркин может случайно обнаружить труп и поднять шум.
— Что ж, возможно, — протянул я.
— Думаете, нарочно подбросил?
— Зачем бы это ему? Вот вопрос! Целый лес вопросов… Кстати, я, кажется, нашел Семена, о котором упоминал Буш на допросе, помните? Молодой парень, влюблен в Быстрицкую. Часто приходит к ней в гостиницу и там познакомился с Ищенко. А тот был с ним ласков и обходителен. Мне кажется, что Ищенко был связан с Быстрицкой так: он чем-то шантажировал ее, это как раз было в его характере, насколько я понимаю. Но вот почему Быстрицкая шла за ним в то утро? И куда потом делась?
— Официально допрашивать ее вы, конечно, не хотите?
— Но ведь капитан Сипарис всех вызывал, как положено в таких случаях. И ее тоже. Это ничего не дало. Нет, настаивать не стоит. Боюсь, — сознался я. — Все время боюсь нечаянно спугнуть его. Мы пока все еще работаем как бы на ощупь, почти вслепую. Я здесь два дня, а результатов — кот наплакал. Хотя кое-что есть.
Я рассказал ему про записку, которую писал Ищенко по словам моряка. Но это лишь подтверждает наши догадки, добавил я. Потом рассказал о пиджаке Пухальского.
— Вы, кстати, предлагали Войтину и Пухальскому опознать труп? — спросил я.
— Только Пухальскому. Моряк был пьян. И директору гостиницы.
— Нехарактерный для Прибалтики директор гостиницы, а? Не комильфо.
— Н-да. А насчет Пухальского, минуточку… Я там портфель оставил.
Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с ответом на наш запрос в архив Министерства обороны. Мы запросили характеристику на Пухальского за тот период времени, когда он служил в Группе советских войск в Германии. Ответ пришел почти моментально. Молодец Ларионов, он обеспечивал мне тылы. В характеристике говорилось, что Пухальский занимался спекуляцией на черном рынке в Берлине, был наказан и кончал службу в Гомеле.
— Его видели в компании с местным фарцовщиком, — сказал Валдманис. — Тот верткий парень. Капитан Сипарис много про него знает, но с поличным не поймал ни разу.
Я описал сегодняшнего молодого человека.
— Судя по словам Сипариса, тот самый. Между прочим, Пухальский приезжает на мебельную фабрику уже третий раз. Сегодня у него кончилась командировка. Он взял бюллетень в больнице: катар верхних дыхательных путей
— Он абсолютно здоров. Мне он сказал, что срок его командировки истекает через три дня. Что-то держит его здесь.
— Капитан занялся его связями. По-моему, он просто спекулянт. А это уже по части капитана Сипариса, но никак не по нашей. Вообще, мне кажется, что Войтин и Пухальский — по разным, конечно, причинам — к нашей истории отношения не имеют. Я бы их исключил.
— Не знаю, не знаю… Мы ни в кого не можем ткнуть пальцем — это он. Мы не знаем. Мы так и задумывали эту операцию, потому что у нас нет прямых улик: я стараюсь попасть в окружение покойного Ищенко и ищу какую-то зацепку. Вы всех допрашивали, но моряк забыл или не захотел рассказать про записку. Я узнал о ней в случайном разговоре. Так и с другими.
— Что ж, верно.
— Но вот еще что… — Я немного поколебался, говорить или нет, потому что это было только предположение, но все же спросил: — Вы не думаете, что центр расследования может переместиться в Радзуте? Данных нет никаких, кроме того, что Ищенко служил там полицаем. Только ощущение…
— Не верьте ощущениям, — усмехнулся начальник горотдела.
Я не верил. Но что-то уж слишком часто я сталкивался сегодня с этим Радзуте. От кого первый раз я услышал о нем? “Ах да, Станкене сказала, что ее постояльцы приехали из Радзуте”, — вспомнил я.
— Я связался с радзутским отделом и попросил поднять архивные документы, в которых может фигурировать Ищенко Если, конечно, таковые имеются, — сказал Валдманис.
— Я вас попрошу еще узнать, кто водил третьего и пятого радзутский автобус, — сказал я. — С этими товарищами надо побеседовать.
И рассказал о том, что время убийства и предполагаемой встречи Ищенко с кем-то — третьего числа — совпадает с временем прихода радзутского автобуса.
Валдманис недоверчиво хмыкнул.
— Заметьте, у Ищенко была отчеркнута именно радзутская линия, — добавил я. — Кстати, Войтин тоже почему-то интересуется радзутским автобусом. В день моего приезда сюда он торопился на остановку. Я проверил: около одиннадцати часов прибывает только автобус из Радзуте.
— Может быть, отходит куда-нибудь?
— Тоже проверил. Нет.
— А мне теперь кажется вполне естественным, что Ищенко отчеркнул Радзуте. Знакомое место, так сказать.
— Не знаю, не знаю, — сказал я.
— Слишком все кругло получается.
— Да, — согласился я.
Он посмотрел на меня, поднял телефонную трубку и сделал все, о чем я просил.
— Пошлите на площадь Янкаускаса, — сказал он. — Только пусть тихо выяснит, культурненько. Да-да. — Он положил трубку. — Вы будете ждать?
— Еще посижу, — сказал я. — Хочу проглядеть показания Станкене.
Я листал заявление Евгении Августовны, которое помнил почти дословно. Но ни за что не зацепился. Только один абзац снова привлек мое внимание. “Соседка Владимира Игнатьевича Малина рассказывала мне впоследствии, когда уже наши войска вступили в город и я могла свободно ходить по улицам, — писала Станкене, — что гестаповцы вошли в дом Малина, пробыли там минуту, раздался выстрел, и они почти тотчас вышли. Он жил один. Спустя час она решилась войти к нему. Малин лежал на полу: он был убит выстрелом в затылок. Это было странно, потому что всех арестовывали и потом долго мучили, а Малин был убит сразу. У него не было оружия, это я точно знаю. Выстрел был только один, значит, он не был убит при попытке сопротивления. У Малина обычно собирались члены подпольного комитета. Соседку его звали Элла Густавовна Пикус, ей было около шестидесяти лет, когда она умерла в 51-м году от инфаркта. Нет, Малин был надежный товарищ. Может быть, он был излишне легкомыслен, но предателем он быть не мог…” Почему Малина убили сразу? Станкене больше ничего не знала.
— Удалось собрать дополнительные сведения о Малине? — спросил я.
— Нет.
— Родственников у него не было?
— Не нашли.
Зазвонил телефон.
— Да? — ответил Валдманис. — Да… Так… Значит, и третьего и пятого один водитель. Фамилия — Черкиз, Владимир Пантелеймонович. Так… Ах вот как! — Он прикрыл ладонью трубку и сказал мне: — Пятого он ездил не в очередь, по расписанию автобус должен был привести другой шофер. Это уже любопытно… Что еще? — спросил он в трубку. — Какой мальчишка? Лет десяти, говорите? Приехал пятого вместе с Черкизом, сидел в запертом автобусе, а потом Черкиз увез его обратно?.. — Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул головой. — Берите машину и выезжайте в Радзуте. Соберите сведения об этом Черкизе. Обязательно найдите мальчишку. Да. Все.
Он положил трубку и поиграл карандашом на столе.
— Интересно, — сказал он. — Но… мой совет: постарайтесь поскорей выяснить все с Быстрицкой.
— Да, — сказал я. — Ей двадцать три года, и она глупая девчонка.
Наше свидание подходило к концу. Мне ужасно не хотелось вставать и уходить из этой комнаты. Начальник горотдела ободряюще улыбнулся.
— Давно работаете оперативником?
— Шесть лет, — сказал я.
Валдманис не спешил начать разговор.
Я представился ему, когда пришел, и он сидел молча, пока я крутил пленку. Сейчас он отошел в угол комнаты и стал там что-то перекладывать, время от времени поглядывая на меня. У него была крупная седая голова, стриженная ежиком. Фигура бывшего тяжеловеса. Двигался он уверенно и быстро, несмотря на полноту.
— Как вам нравится наше “секретное” окно? — Он кивнул на невинный пейзажик, висевший на стене. — Дом строил немецкий барон, на черта ему эта штука понадобилась, неясно. Тайны мадридского двора, а?.. Мы случайно обнаружили механизм. Погода вам нравится? Город наш? Вы вообще часто бываете на море?
Он сел и уставился на меня, подперев рукой голову. Я знал, что мальчишкой восемнадцати лет он работал в охране Ленина. “Интересно, на что способен этот молодой человек? — вероятно, думал он про меня. — Столичная штучка! Скор, наверное, на действия, а посидеть подумать — на это их не хватает. Молодо-зелено”.
— Крепкий орешек, а? Это дело? — Он откинулся в кресле. — Как вам Суркин? — спросил он.
— Меня очень интересует, связан ли его приход с анонимкой? Он молчал и мог молчать дальше. Вы ему верите?
Тут я немного схитрил. Я уже составил себе определенное мнение о Суркине. Но я хотел посмотреть на все это как бы со стороны — чужими глазами.
Валдманис покрутил сигарету в пальцах.
— Я когда-то арестовал типа, который сам на себя написал анонимку. Он отводил от себя внимание: в анонимке были перечислены именно те улики, которые при проверке оказывались несостоятельными. Он был под подозрением. Это как бы обеляло его.
— Вы хотите сказать, что ничто не ново под луной?
— Ничего не хочу сказать. Младший лейтенант Красухин отправился искать кастет в отхожем месте.
— Ассенизаторов не найти. Сегодня короткий день.
— Найдет.
— Суркин пришел сам. Почему сегодня? Через несколько часов после того, как анонимка легла на ваш стол. Совпадение?
— Подождем Красухина. Но думаю, что Суркин сказал правду. Врать имеет смысл тогда, когда невозможно проверить. Любопытно, вспомнит ли он еще что-нибудь про Ищенко.
— Любопытно.
— Итак, Ищенко был полицаем. А потом стал бойцом партизанского отряда.
— Странная метаморфоза!
— Думаете, он и есть Кентавр? — быстро спросил Валдманис.
Мы были похожи на борцов, которые, опустив плечи и напружинившись, ходят друг против друга по ковру, не начиная схватки. Но все было правильно. Всегда хочется знать, чего стоит человек, с которым делаешь одно дело.
— Нет, — сказал я. — Скорей всего нет. Полицейского не будут использовать в роли провокатора. Слишком мало шансов за то, что его не опознают.
— Его не опознали. Тогда.
— Да. Но гестапо не могло всерьез принимать это в расчет. Я думаю, Ищенко просто решил встретить нашу армию не полицаем, а партизаном. И скрыл свое прошлое. Рискнул.
Валдманис удовлетворенно кивнул головой.
— А почему он уцелел, в то время как весь партизанский отряд погиб? Почему предпочел, чтобы его считали убитым?
— Здесь пока все темно, — сказал я. — Боялся же он своего полицейского прошлого, трясся всю жизнь.
— Кто написал анонимку, вопрос номер один. Если мы ответим на него, сделаем многое. Но вот такая тонкость… Предположим — я говорю, предположим, — Буш видел кастет у Суркина. Но не знает, что тот его выбросил. И Буш, опять-таки предположим, написал анонимное письмо. Логичный вывод: Ищенко убил Буш, потому что кто, кроме убийцы, мог знать, каким оружием убийство совершено? Но, — тут Валдманис поднял палец, — этот кастет убийца бросил или потерял недалеко от места преступления. И он не мог об этом забыть. А наличие двух кастетов — этого и того, который, предположим, мы найдем у Суркина, уже нелогично…
— Да, — сказал я.
— Но, — продолжал Валдманис, — Буш часто брал инструменты у Суркина. Он мог заметить, что кастета нет. Узнал мимоходом, что Суркин его выбросил, а Суркин мог не запомнить этого разговора. Зато запомнил Буш. И теперь, надеясь, что мы не поверим Суркину, будто он выбросил кастет, или не сможем его найти, Буш пишет анонимку. Он думает, что в следствии будет фигурировать только один кастет.
— Должны быть свидетели, которые подтвердят, что видели такой кастет у Суркина.
— Это сделает тот же Буш.
— Нет, слишком сложно, — сказал я. — Ведь мы совершенно случайно узнали, что у Суркина был кастет. В анонимном письме о нем нет ни слова.
— Верно, — усмехнулся Валдманис. — Но вы забыли, я сказал: предположим. Это всего лишь одна из возможных гипотез. Я просто хотел обратить ваше внимание на тот факт, что мы имеем два абсолютно идентичных кастета.
— Еще не имеем. Второй-то пока не нашли.
— Уверен: найдут.
— И, кстати, вы забыли, что у Буша есть твердое алиби: соседи все утро видели его на участке.
— Нет.
— То есть?
— Грош цена этому алиби. Они утверждают, что видели его все время, а это не так. Ведь он обнаружил, что потек потолок, он бегал стучаться к Суркину и наверняка пытался принять какие-то меры. На это ушло минут двадцать, если не больше.
— Значит, соседи солгали?
— Опять же нет! Здесь есть один психологический нюанс, вот смотрите. Мы навели справки: соседи — чета пенсионеров — все утро сидели на веранде, пили чай, читали газету и, конечно же, не следили за Бушем специально. Они видят: он работает. Они отвлеклись, и — случайное совпадение — Буш в это время отлучается. Они снова взглянули в сад, а он уже опять возится с цветами. И соседи ручаются, что он работал весь день у них на глазах. Ведь они же не заметили, как он уходил в дом. Он мог отсутствовать и полчаса.
— Буш не может иметь никакого отношения к событиям сорок четвертого года. Всю войну он провел на фронте, это установлено.
— Мы связываем убийство с предательством. Может, мы ошибаемся? Клавдия Ищенко, судя по всему, — любовница Буша. Она стала ею через несколько дней после смерти супруга.
— Нелюбимого супруга.
Я рассказал про Стендаля и опять вспомнил, как Клавдия Ищенко цитировала: “Госпожа Реналь закуталась в шаль и стала незнакомой ему, и тогда он выстрелил…” Имело ли это какой-то смысл?
— Кстати, сегодня рано утром были похороны, — сказал Валдманис.
— Я видел ее днем на пляже. Она довольно беспечна. Пожалуй, даже слишком беспечна, чтобы быть замешанной в этом деле. Она бы вела себя иначе: зачем вызывать лишние подозрения?
— Может, она учла это? И рассчитывает на два хода вперед?
— Сомневаюсь.
— Капитан Сипарис спросил, долго ли она собирается пробыть в нашем городе. Она сказала, что решила использовать все это как поездку на курорт и отдохнуть здесь. А по приезде изображала убитую горем любящую жену.
— Не сразу сориентировалась. Она получила документы по страховке?
— Не получит, пока не кончится следствие. Кстати, из Новосибирска сообщили, что Карик никуда не выезжал и сейчас там.
— Сколько ему лет?
— Сорок.
— Цепляться она за него не станет.
— Да.
— А Буш с шестьдесят третьего года не встречался с Клавдией Ищенко, возможность предварительного сговора исключается. С самим Ищенко он познакомился случайно, на юге. У него нет никаких видимых мотивов для убийства, а она просто дамочка, ищущая развлечений. И, кстати, есть такой вариант: автор анонимного письма (ну хотя бы тот же Буш) и убийца — два разных человека, никак не связанных друг с другом. Просто Буш видел, как Суркин шел за Ищенко. Он решил, что тот — убийца. И про то, что Ищенко убит кастетом, он ничего не знал: простое совпадение.
— А почему анонимка? Почему не пришел сам и не рассказал?
Я развел руками.
Мне было очень хорошо сидеть здесь и обсуждать все это с Валдманисом, потому что вчера и сегодня я только и делал, что ахал и удивлялся, узнавая об убийстве, и ни с кем не мог быть искренним. Тем более было приятно, что начальник горотдела был умен и знал свое дело. Но мне было тревожно — по-прежнему Кентавр разгуливал по городу.
— Мы продолжаем проверять всех выбывающих из города, — сказал Валдманис. — Насколько это возможно.
— Ничего?
— Ничего. Посмотрите, кстати, анонимку. Написана на машинке. Под копирку. Это второй экземпляр.
— А первый где?
— Надо полагать, у автора.
— Хм, нелепо! Анонимки пишут, когда не хотят себя называть. Зачем же хранить копию, которая может послужить уликой? Тут что-то не так.
— Пальцевых отпечатков, как и на кастете, нет. Одна ошибка: перед “что” нет запятой.
Я посмотрел. Там было всего три строки: “Считаю своим долгом сообщить что Ищенко убил Суркин Юрий Петрович, проживающий по адресу: улица Чернышевского, 8, кв. 2”. Все.
— Любопытная деталь — автор знает убитого по фамилии.
Валдманис кивнул головой.
— Вероятно, он многое знает об убийстве.
Валдманис снова кивнул.
— У Буша есть машинка?
— Нет.
— Значит, надо искать машинку. Скорей всего в учреждениях: до такого состояния свою не доводят, половина букв сбита.
— Ищем. Но завтра воскресенье. А потом, думаете, легко найти? Работников — раз, два и обчелся. И устал я как черт. Как сто чертей, — пожаловался он. — За Суркина нам будет нахлобучка от прокурора… Кстати, машинка может быть и собственная — списанная, потому в таком виде, а найти ее тогда будет намного труднее. Но меня очень интересует кастет. Удар был нанесен точно, я бы сказал, профессионально. Пальцевых отпечатков на кастете нет, несмотря на жару: наверное, обертывал платком. Предусмотрел все, даже что может его потерять. Но почему кастет, а не что-нибудь более “безобидное” — кирпич, например, или разводной ключ? Ведь преступник не в Америке, где он мог бы спокойно носить при себе оружие. Кастет может выпасть из кармана на людях, он оттягивает карман, кто-нибудь да и поинтересуется: что это у тебя?..
— Потому что привык к кастету? Когда-то часто пускал его в ход? Убийство случилось не вдруг, оно подготовлено, и убийца хотел действовать наверняка. Поэтому он достал кастет, хранящийся с прежних времен, и воспользовался им.
— Он знал, что Ищенко пойдет именно этим проходным двором? И именно в это время?
— Похоже.
Я рассказал Валдманису, как провел время сегодня в проходном дворе.
— Все, как я рассчитал, — добавил я. — Только по двору за Ищенко шел Суркин, а не Быстрицкая. Фокус.
— Криков Суркин не слышал. Значит, убийца пришел во двор первым и ждал, когда Ищенко покажется из-за угла. И сразу ударил.
— Да. Но вот почему он потерял кастет, если он такой опытный преступник? Он спешил уйти от места преступления. Кастет лежал довольно далеко от трупа в направлении площади. Но, выронив кастет, он должен был вернуться.
— Его спугнул Суркин, и он не вернулся, потому что вполне резонно предполагал, что Суркин может случайно обнаружить труп и поднять шум.
— Что ж, возможно, — протянул я.
— Думаете, нарочно подбросил?
— Зачем бы это ему? Вот вопрос! Целый лес вопросов… Кстати, я, кажется, нашел Семена, о котором упоминал Буш на допросе, помните? Молодой парень, влюблен в Быстрицкую. Часто приходит к ней в гостиницу и там познакомился с Ищенко. А тот был с ним ласков и обходителен. Мне кажется, что Ищенко был связан с Быстрицкой так: он чем-то шантажировал ее, это как раз было в его характере, насколько я понимаю. Но вот почему Быстрицкая шла за ним в то утро? И куда потом делась?
— Официально допрашивать ее вы, конечно, не хотите?
— Но ведь капитан Сипарис всех вызывал, как положено в таких случаях. И ее тоже. Это ничего не дало. Нет, настаивать не стоит. Боюсь, — сознался я. — Все время боюсь нечаянно спугнуть его. Мы пока все еще работаем как бы на ощупь, почти вслепую. Я здесь два дня, а результатов — кот наплакал. Хотя кое-что есть.
Я рассказал ему про записку, которую писал Ищенко по словам моряка. Но это лишь подтверждает наши догадки, добавил я. Потом рассказал о пиджаке Пухальского.
— Вы, кстати, предлагали Войтину и Пухальскому опознать труп? — спросил я.
— Только Пухальскому. Моряк был пьян. И директору гостиницы.
— Нехарактерный для Прибалтики директор гостиницы, а? Не комильфо.
— Н-да. А насчет Пухальского, минуточку… Я там портфель оставил.
Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с ответом на наш запрос в архив Министерства обороны. Мы запросили характеристику на Пухальского за тот период времени, когда он служил в Группе советских войск в Германии. Ответ пришел почти моментально. Молодец Ларионов, он обеспечивал мне тылы. В характеристике говорилось, что Пухальский занимался спекуляцией на черном рынке в Берлине, был наказан и кончал службу в Гомеле.
— Его видели в компании с местным фарцовщиком, — сказал Валдманис. — Тот верткий парень. Капитан Сипарис много про него знает, но с поличным не поймал ни разу.
Я описал сегодняшнего молодого человека.
— Судя по словам Сипариса, тот самый. Между прочим, Пухальский приезжает на мебельную фабрику уже третий раз. Сегодня у него кончилась командировка. Он взял бюллетень в больнице: катар верхних дыхательных путей
— Он абсолютно здоров. Мне он сказал, что срок его командировки истекает через три дня. Что-то держит его здесь.
— Капитан занялся его связями. По-моему, он просто спекулянт. А это уже по части капитана Сипариса, но никак не по нашей. Вообще, мне кажется, что Войтин и Пухальский — по разным, конечно, причинам — к нашей истории отношения не имеют. Я бы их исключил.
— Не знаю, не знаю… Мы ни в кого не можем ткнуть пальцем — это он. Мы не знаем. Мы так и задумывали эту операцию, потому что у нас нет прямых улик: я стараюсь попасть в окружение покойного Ищенко и ищу какую-то зацепку. Вы всех допрашивали, но моряк забыл или не захотел рассказать про записку. Я узнал о ней в случайном разговоре. Так и с другими.
— Что ж, верно.
— Но вот еще что… — Я немного поколебался, говорить или нет, потому что это было только предположение, но все же спросил: — Вы не думаете, что центр расследования может переместиться в Радзуте? Данных нет никаких, кроме того, что Ищенко служил там полицаем. Только ощущение…
— Не верьте ощущениям, — усмехнулся начальник горотдела.
Я не верил. Но что-то уж слишком часто я сталкивался сегодня с этим Радзуте. От кого первый раз я услышал о нем? “Ах да, Станкене сказала, что ее постояльцы приехали из Радзуте”, — вспомнил я.
— Я связался с радзутским отделом и попросил поднять архивные документы, в которых может фигурировать Ищенко Если, конечно, таковые имеются, — сказал Валдманис.
— Я вас попрошу еще узнать, кто водил третьего и пятого радзутский автобус, — сказал я. — С этими товарищами надо побеседовать.
И рассказал о том, что время убийства и предполагаемой встречи Ищенко с кем-то — третьего числа — совпадает с временем прихода радзутского автобуса.
Валдманис недоверчиво хмыкнул.
— Заметьте, у Ищенко была отчеркнута именно радзутская линия, — добавил я. — Кстати, Войтин тоже почему-то интересуется радзутским автобусом. В день моего приезда сюда он торопился на остановку. Я проверил: около одиннадцати часов прибывает только автобус из Радзуте.
— Может быть, отходит куда-нибудь?
— Тоже проверил. Нет.
— А мне теперь кажется вполне естественным, что Ищенко отчеркнул Радзуте. Знакомое место, так сказать.
— Не знаю, не знаю, — сказал я.
— Слишком все кругло получается.
— Да, — согласился я.
Он посмотрел на меня, поднял телефонную трубку и сделал все, о чем я просил.
— Пошлите на площадь Янкаускаса, — сказал он. — Только пусть тихо выяснит, культурненько. Да-да. — Он положил трубку. — Вы будете ждать?
— Еще посижу, — сказал я. — Хочу проглядеть показания Станкене.
Я листал заявление Евгении Августовны, которое помнил почти дословно. Но ни за что не зацепился. Только один абзац снова привлек мое внимание. “Соседка Владимира Игнатьевича Малина рассказывала мне впоследствии, когда уже наши войска вступили в город и я могла свободно ходить по улицам, — писала Станкене, — что гестаповцы вошли в дом Малина, пробыли там минуту, раздался выстрел, и они почти тотчас вышли. Он жил один. Спустя час она решилась войти к нему. Малин лежал на полу: он был убит выстрелом в затылок. Это было странно, потому что всех арестовывали и потом долго мучили, а Малин был убит сразу. У него не было оружия, это я точно знаю. Выстрел был только один, значит, он не был убит при попытке сопротивления. У Малина обычно собирались члены подпольного комитета. Соседку его звали Элла Густавовна Пикус, ей было около шестидесяти лет, когда она умерла в 51-м году от инфаркта. Нет, Малин был надежный товарищ. Может быть, он был излишне легкомыслен, но предателем он быть не мог…” Почему Малина убили сразу? Станкене больше ничего не знала.
— Удалось собрать дополнительные сведения о Малине? — спросил я.
— Нет.
— Родственников у него не было?
— Не нашли.
Зазвонил телефон.
— Да? — ответил Валдманис. — Да… Так… Значит, и третьего и пятого один водитель. Фамилия — Черкиз, Владимир Пантелеймонович. Так… Ах вот как! — Он прикрыл ладонью трубку и сказал мне: — Пятого он ездил не в очередь, по расписанию автобус должен был привести другой шофер. Это уже любопытно… Что еще? — спросил он в трубку. — Какой мальчишка? Лет десяти, говорите? Приехал пятого вместе с Черкизом, сидел в запертом автобусе, а потом Черкиз увез его обратно?.. — Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул головой. — Берите машину и выезжайте в Радзуте. Соберите сведения об этом Черкизе. Обязательно найдите мальчишку. Да. Все.
Он положил трубку и поиграл карандашом на столе.
— Интересно, — сказал он. — Но… мой совет: постарайтесь поскорей выяснить все с Быстрицкой.
— Да, — сказал я. — Ей двадцать три года, и она глупая девчонка.
Наше свидание подходило к концу. Мне ужасно не хотелось вставать и уходить из этой комнаты. Начальник горотдела ободряюще улыбнулся.
— Давно работаете оперативником?
— Шесть лет, — сказал я.
Глава 21. Не искажая истины
 Тем же вечером я заглянул к Бушу.
Он был мрачен, запустил шлепанцем в кошку и сказал, что Клавдия Николаевна спит: плохое настроение, хандра, вот и завалилась пораньше.
— Посидим тесной мужской компанией, Боря.
— Ага.
— И выпьем! — Он достал из буфета початую бутылку, на этот раз коньяку. — Грибки вот есть, маслята. Хорошие.
— Мне томатный сок, как обычно. Если имеется.
— Найдем.
— Нога-то как?
— Совсем прошла! — отрапортовал я. — Помощь была оказана своевременно.
— Поехали?
— Ваше здоровье!
Буш спросил, как у меня дела с устройством на работу. Помог ли Суркин? Я все рассказал и добавил, что только что видел Суркина. Он был какой-то странный. Сидел в машине на заднем сиденье, а по бокам от него сидели двое. Машину вел человек в милицейской форме. Она стояла у светофора, поэтому я все так хорошо разглядел.
— Да? — не особенно удивившись, сказал Буш. Он похлопал своими толстыми веками и опять напомнил мне бегемотика.
— Так арестантов возят.
— За что ж его арестовывать? — равнодушно спросил Буш, прицеливаясь вилкой в банку с маслятами. Он даже не выложил их на тарелку: холостяцкая привычка.
— А я почем знаю? Может, мне и показалось. Но только странно: шофер — милиционер… Эх, хороши грибки! Прибалтийские?
— Не знаю. На банке написано, наверное.
— “Белорусские”, — прочел я.
— А куда его везли?
— По этой… как ее… по улице Прудиса. — Я проглотил скользкий гриб. — В общем, дело дрянь, конечно!
— Какое дело?
— Ну у меня! Визу, наверное, месяц надо ждать, а денег у меня на неделю.
— Одолжу.
— Спасибо, я помню. Но пока у меня нет уверенности, что я могу отдать, не возьму. Такой у меня принцип. Суркин обещал устроить на временную работу в порт, так что выкручусь.
— Ну, это еще бабушка надвое сказала!
— Он твердо обещал. Говорит: приходите на той неделе.
— Так его ж арестовали!
— Я не говорил, что арестовали. Просто было похоже.
— Вы на всякий случай поищите работу где-нибудь еще, — посоветовал Генрих Осипович. — Всякое бывает.
“Так”, — подумал я.
— У нас один парень в институте здорово стихами подрабатывает: печет их ко Дню леса, Дню физкультурника и к другим датам. Может, мне попробовать?
— Тут талант нужен.
— Не скажите! Иной раз такую муру печатают!
“Вы отлично чувствуете себя в шкуре студента, старший лейтенант, — похвалил я себя. — А может, переигрываете? Может, полегче надо?”
— Что ж, попробуйте.
— Машинки нет. Все поэты пишут на машинке, а так несолидно: никто в редакции читать не будет. Ответят, что стихи хорошие, но надо еще чуть-чуть подучиться. А сами даже не прочтут.
“Еще легче, старший лейтенант!”
— У нас на фабрике есть машинка, — безмятежно сказал Генрих Осипович.
— Ну, туда меня не подпустят!
— Приходите и печа-айте. Она стоит в красном уголке, и все, кому не лень, тычут в нее пальцами. Я скажу, чтобы вас пропустили на фабрику.
— Я пошутил, — сказал я. — Какой из меня поэт!
“Значит, Пухальский тоже имеет под рукой машинку”, — подумал я. И вспомнил его рассказ про Суркина: как тот глядел Ищенко вслед и как странно вел себя. Но зачем Пухальскому было нарочно привлекать мое внимание к Суркину? Это имело смысл в том случае, если он с первого дня знал, кто я. А это-вряд ли!
Я просидел у Буша еще с час и, ничего больше не выяснив, отправился в гостиницу. Небо на западе было зеленое, просветленное. Над замком висел месяц. Тень под деревьями была пятнистой от света, падавшего сквозь листву. “Кто написал анонимку, — думал я, — убийца или человек, вовсе непричастный к этому делу?..”
Пухальский лежал на кровати, курил и читал “Десять лет спустя”, отрываясь, чтобы пустить струю дыма в потолок. Я вдруг понял, чем меня настораживали его манеры. Он держался барином, пусть небольшим, но как бы имеющим свой капитал: иначе я не мог выразить этого духа.
Войтина не было. Я его не видел с утра. Что они, график установили, что ли? Один гулял допоздна вчера, другой гуляет сегодня?
— Где морячок? — спросил я.
Пухальский блеснул очками.
— Не знаю, — безразлично ответил он.
Я, морщась, стянул рубашку. Когда я поднимал руки, мышцы натягивали кожу на спине, и было больно. Все-таки я “сжегся” на пляже.
— Видел сейчас соседа Буша. Меня с ним вчера Генрих Осипович познакомил, — сообщил я. — Ну помните… вы еще о нем говорили?
— Помню, — односложно ответил Пухальский.
— Так вот! По-моему, его арестовали!
— Да?
— Так, во всяком случае, в кино арестовывают. — Я рассказал ему про машину и шофера-милиционера. — Машина была вроде “раковой шейки”, — добавил я.
— Может быть, его увозили в больницу? Этот товарищ произвел на меня странное впечатление. Возможно, он даже психически ненормален.
“Он вовсе не производит такого впечатления”, — подумал я. И сказал:
— Милиция в больницу не возит.
— Тоже верно.
Пухальский зевнул и положил книгу на тумбочку. Взбил подушку. Поерзал в кровати, устраиваясь удобней.
— Свет тушить?
— Тушите. Я встал.
— И замкните дверь на ключ, — посоветовал Пухальский. — Сосед придет — постучится, а нам спокойнее.
Неоновая реклама Госстраха, как и вчера, озаряла комнату тусклым красноватым светом. Я не мог уснуть. Кончился второй день моего пребывания здесь. Тот, кого я искал, мог решить, что со дня убийства прошло достаточно времени и ему пора заметать следы.
“Почему анонимка написана в двух экземплярах? — думал я. — На всякий случай? Но на какой?..”
Тем же вечером я заглянул к Бушу.
Он был мрачен, запустил шлепанцем в кошку и сказал, что Клавдия Николаевна спит: плохое настроение, хандра, вот и завалилась пораньше.
— Посидим тесной мужской компанией, Боря.
— Ага.
— И выпьем! — Он достал из буфета початую бутылку, на этот раз коньяку. — Грибки вот есть, маслята. Хорошие.
— Мне томатный сок, как обычно. Если имеется.
— Найдем.
— Нога-то как?
— Совсем прошла! — отрапортовал я. — Помощь была оказана своевременно.
— Поехали?
— Ваше здоровье!
Буш спросил, как у меня дела с устройством на работу. Помог ли Суркин? Я все рассказал и добавил, что только что видел Суркина. Он был какой-то странный. Сидел в машине на заднем сиденье, а по бокам от него сидели двое. Машину вел человек в милицейской форме. Она стояла у светофора, поэтому я все так хорошо разглядел.
— Да? — не особенно удивившись, сказал Буш. Он похлопал своими толстыми веками и опять напомнил мне бегемотика.
— Так арестантов возят.
— За что ж его арестовывать? — равнодушно спросил Буш, прицеливаясь вилкой в банку с маслятами. Он даже не выложил их на тарелку: холостяцкая привычка.
— А я почем знаю? Может, мне и показалось. Но только странно: шофер — милиционер… Эх, хороши грибки! Прибалтийские?
— Не знаю. На банке написано, наверное.
— “Белорусские”, — прочел я.
— А куда его везли?
— По этой… как ее… по улице Прудиса. — Я проглотил скользкий гриб. — В общем, дело дрянь, конечно!
— Какое дело?
— Ну у меня! Визу, наверное, месяц надо ждать, а денег у меня на неделю.
— Одолжу.
— Спасибо, я помню. Но пока у меня нет уверенности, что я могу отдать, не возьму. Такой у меня принцип. Суркин обещал устроить на временную работу в порт, так что выкручусь.
— Ну, это еще бабушка надвое сказала!
— Он твердо обещал. Говорит: приходите на той неделе.
— Так его ж арестовали!
— Я не говорил, что арестовали. Просто было похоже.
— Вы на всякий случай поищите работу где-нибудь еще, — посоветовал Генрих Осипович. — Всякое бывает.
“Так”, — подумал я.
— У нас один парень в институте здорово стихами подрабатывает: печет их ко Дню леса, Дню физкультурника и к другим датам. Может, мне попробовать?
— Тут талант нужен.
— Не скажите! Иной раз такую муру печатают!
“Вы отлично чувствуете себя в шкуре студента, старший лейтенант, — похвалил я себя. — А может, переигрываете? Может, полегче надо?”
— Что ж, попробуйте.
— Машинки нет. Все поэты пишут на машинке, а так несолидно: никто в редакции читать не будет. Ответят, что стихи хорошие, но надо еще чуть-чуть подучиться. А сами даже не прочтут.
“Еще легче, старший лейтенант!”
— У нас на фабрике есть машинка, — безмятежно сказал Генрих Осипович.
— Ну, туда меня не подпустят!
— Приходите и печа-айте. Она стоит в красном уголке, и все, кому не лень, тычут в нее пальцами. Я скажу, чтобы вас пропустили на фабрику.
— Я пошутил, — сказал я. — Какой из меня поэт!
“Значит, Пухальский тоже имеет под рукой машинку”, — подумал я. И вспомнил его рассказ про Суркина: как тот глядел Ищенко вслед и как странно вел себя. Но зачем Пухальскому было нарочно привлекать мое внимание к Суркину? Это имело смысл в том случае, если он с первого дня знал, кто я. А это-вряд ли!
Я просидел у Буша еще с час и, ничего больше не выяснив, отправился в гостиницу. Небо на западе было зеленое, просветленное. Над замком висел месяц. Тень под деревьями была пятнистой от света, падавшего сквозь листву. “Кто написал анонимку, — думал я, — убийца или человек, вовсе непричастный к этому делу?..”
Пухальский лежал на кровати, курил и читал “Десять лет спустя”, отрываясь, чтобы пустить струю дыма в потолок. Я вдруг понял, чем меня настораживали его манеры. Он держался барином, пусть небольшим, но как бы имеющим свой капитал: иначе я не мог выразить этого духа.
Войтина не было. Я его не видел с утра. Что они, график установили, что ли? Один гулял допоздна вчера, другой гуляет сегодня?
— Где морячок? — спросил я.
Пухальский блеснул очками.
— Не знаю, — безразлично ответил он.
Я, морщась, стянул рубашку. Когда я поднимал руки, мышцы натягивали кожу на спине, и было больно. Все-таки я “сжегся” на пляже.
— Видел сейчас соседа Буша. Меня с ним вчера Генрих Осипович познакомил, — сообщил я. — Ну помните… вы еще о нем говорили?
— Помню, — односложно ответил Пухальский.
— Так вот! По-моему, его арестовали!
— Да?
— Так, во всяком случае, в кино арестовывают. — Я рассказал ему про машину и шофера-милиционера. — Машина была вроде “раковой шейки”, — добавил я.
— Может быть, его увозили в больницу? Этот товарищ произвел на меня странное впечатление. Возможно, он даже психически ненормален.
“Он вовсе не производит такого впечатления”, — подумал я. И сказал:
— Милиция в больницу не возит.
— Тоже верно.
Пухальский зевнул и положил книгу на тумбочку. Взбил подушку. Поерзал в кровати, устраиваясь удобней.
— Свет тушить?
— Тушите. Я встал.
— И замкните дверь на ключ, — посоветовал Пухальский. — Сосед придет — постучится, а нам спокойнее.
Неоновая реклама Госстраха, как и вчера, озаряла комнату тусклым красноватым светом. Я не мог уснуть. Кончился второй день моего пребывания здесь. Тот, кого я искал, мог решить, что со дня убийства прошло достаточно времени и ему пора заметать следы.
“Почему анонимка написана в двух экземплярах? — думал я. — На всякий случай? Но на какой?..”
Глава 22. Опять Радзуте
 А утром оказалось, что Войтин не ночевал в гостинице.
Ночью в номер никто не стучал, кровать Войтина была аккуратно заправлена. Только (как же я вчера не обратил на это внимания!) поверх одеяла лежало скомканное полотенце. Войтин каждый раз педантично расправлял его и вешал на никелированную спинку кровати. Значит, вчера он опять спешил. Куда? Новая загадка. Знал ли об этом что-нибудь Пухальский? Честно говоря, все это было мне не по душе. Я вспомнил, что вчера утром я первым выходил из комнаты. Дверь не была заперта. А ведь последним вернулся в номер Пухальский. Ночью никто не выходил, я бы услышал. Знал ли он, что сегодня моряк не будет ночевать? Почему он просил запереть дверь на ключ?
— Похоже, наш старпом прожигает жизнь! Коротает время у какой-нибудь вдовушки! — поделился я с Пухальским. Он был одет в тренировочный костюм: делал на середине комнаты зарядку, сдвинув стол к окну.
Пухальский ответил не сразу. Он следил за дыханием и, наверное, считал в уме: “Раз, два, три, четыре… выдох!”
— Вряд ли, — сказал он, опуская руки. — Непохоже.
— А куда ж он делся?
“Раз, два, три, четыре…”
— Выехал.
Я заглянул в платяной шкаф.
— Да вот же плащ висит! И умывальные принадлежности лежат на подоконнике!
— Значит, не выехал. Хотите руку размять?
— Как размять?
— Вот так! — он пояснил жестом. — У меня мышца в предплечье застужена. По утрам ноет. Врач посоветовал давать на нее нагрузку.
— Мо-ожно.
Мы подвинули стол на место. Он слегка качался, и я положил свернутую бумагу под ножку. Мы сели друг против друга, уперлись локтями в поверхность стола и сцепили руки. У Пухальского была крепкая кисть: его рука Fie сразу стала поддаваться. Он стиснул зубы и выкатил желваки на скулах. Потом я решил, что будет лучше, если победителем окажется он. И постепенно ослабил нажим. Он пригнул мою руку к столу. Отдулся. Покровительственно сказал:
— Надо заниматься по утрам зарядкой, молодой человек! Ф-фух! Вы очень прилично сложены, а не занимаетесь. Вот результат — пасуете перед стариком.
— Ничего себе старик! — засмеялся я. — Все бы такие старики были. Вам, наверное, еще сорока нет?
“Где же Войтин?..” — думал я.
— Сорок один. Еще разик?
— Давайте! — азартно сказал я.
Он снова положил мою руку, а я с шумом перевел дыхание.
— Здорово!
— Вы тоже молодцом, — великодушно сказал он. — Силенка есть. Вы сначала чуть меня не побороли. Выносливости, вот чего вам не хватает!
Он пришел в отличное расположение духа.
Мы отправились в туалет. Сначала мылся он, потом — я. Пока я чистил зубы, он стоял за моей спиной. Он рассказал анекдот. Я не мог смеяться со щеткой во рту, поэтому показал глазами в зеркало, что анекдот великолепен. Он сказал, что я “отлично чувствую юмор”. Когда мы возвращались по коридору, я заметил:
— Странный тип этот Войтин! То пьет без просыпу, то вдруг — бац, и куда-то исчезает.
— Какое вам до него дело, Боря? Он взрослый человек.
— Никакого, — согласился я. — Завтракать пойдете?
Он взглянул на часы, висевшие в конце коридора.
— Чуть позже.
Мы зашли в номер.
— В таком случае я сгоняю пока за сигаретами.
Я спустился вниз, купил сигареты и быстро пошел по бульвару. Виленкин ждал меня. Этот отрезок бульвара не просматривался из окон гостиницы, его заслонял пятиэтажный дом. Скамейки были пустые. Я подсел к Виленкину и, совершив ту же манипуляцию, что вчера, забрал записку.
— Передать ничего не надо? — спросил Виленкин.
— Нужно узнать, где провел ночь Войтин. И где он сейчас.
— Ага.
— Как с водителем радзутского автобуса?
— Мальчишку нашли. Этот Черкиз — пустой номер. Пятого он не уходил с площади ни на минуту.
— Со слов мальчишки?
— Да. В записке это есть.
— Расскажи подробно.
— Янкаускас, который ездил в Радзуте, докладывал при мне, так что могу в деталях. Парня он нашел к вечеру…
— Каким образом?
— Битых два часа вертелся на улицах, знакомился с пацанами. Выяснилось, что родители “Леньки с соседней улицы” уехали по путевке в Польшу, хотели оставить Леньку у родственницы, Ленька катался на автобусе в другой город, сюда то есть, но что-то не получилось, и теперь он живет у соседей, а родители с ним вообще не очень цацкаются и даже не ругают, если он весь день торчит на море… — Виленкин говорил быстро, не делая пауз. — Янкаускас отправился на “соседнюю улицу”. Ему повезло: Ленька сидел на крыльце и читал книгу. Он оказался тем самым мальчишкой, что ездил пятого с Черкизом. Парню одиннадцать лет, читает запоем, одолел уже “Дон-Кихота”, “Отелло” и “Сердце Бонивура” Нагишкина. Все очень нравится. Янкаускас даже погонял с ним мяч на пустыре. Водить этот Ленька еще водит, но когда Янкаускас стал в ворота, тот все время мазал…
— Не увлекайся, — сказал я слегка раздраженно.
— Вы просили подробней.
— Извини… Нервничаю. Не трогается это дело с мертвой точки. Давай дальше.
— Его родители позвонили родственнице сюда, просили встретить автобус и забрать мальчика, — сухо сказал Виленкин.
— Извини, — еще раз попросил я.
— Ладно, ладно, я понимаю… Они поручили мальчика Черкизу. Приехав сюда, Черкиз для верности запер автобус, чтобы потом не искать парня, и посулил ему мороженое. Тот, соответственно, следил за ним, не отрываясь: ждал обещанного. Кроме тоги, он попал в чужой город, сидит в запертом автобусе, единственный человек, которого он знает, — Черкиз… словом, он боится потерять его из виду. Он говорит, что все время видел Черкиза. Тот два раза забегал в диспетчерскую, крутился на площади, болтал с шоферами, но с площади не уходил. Через полчаса он купил мальчику мороженое, а сам стал копаться в моторе. Мотор в кабине, так что из салона Ленька по-прежнему видел его. Потом он опять ходил на площадь и, вернувшись, снова лазил в мотор. Все это подтверждает диспетчер. Она видела Черкиза на площади и как он мотор проверял. Она спросила его: чей такой милый мальчик? Не его ли? Черкиз только сказал: “Ну его к черту!” — и махнул рукой. Но специально она, конечно, за Черкизом не следила. Она вообще хвалила его: грамотный водитель, у него большая экономия горючего, а в последние дни он еще сокращает время в пути — приводит автобус раньше, чем требуется по расписанию.
“Сосредоточил внимание на своей особе, чтобы иметь алиби? — думал я. — Обещал мальчишке мороженое, чтобы тот не сводил с него глаз? Но это абсурд! Наоборот, он должен был бы отвлечь свидетеля, если…”
— Книжки у этого паренька с собой не было? — спросил я. — Может, он читал и увлекся?
— Янкаускас — дошлый мужик, — ухмыльнулся Виленкин. — Он и это проверил. Нет, не было.
Может, их было двое? Один убивал, а Черкиз… Что Черкиз? Ерунда какая-то. Да, кажется, прокол.
— Почему родственница не пришла на остановку?
— Забегалась по делам. Забыла. А ее адреса Ленька не знал.
— Не мог Черкиз запугать мальчишку? Или, наоборот: пообещать ему что-нибудь, если он будет говорить то, что надо Черкизу? — спросил я без всякой надежды, потому что такой вариант не годился для Кентавра.
— Янкаускас говорит, что это исключено. Мальчик ведет себя очень естественно. Характер честный и открытый. Янкаускас когда-то работал в милиции, в “детской комнате”: психологию ребенка знает.
Мы по-прежнему говорили скороговоркой, не делая пауз, потому что я помнил, что выскочил только за сигаретами, но и так наша беседа затягивалась.
— Анкета Черкиза в порядке? — спросил я.
— Да. Единственное “но”: когда Янкаускас попросил личное дело Черкиза, начальник отдела кадров заметил, что Черкиз хорошо владеет немецким языком — хвастал в пьяном виде, — а в анкете этого почему-то не указал.
— Когда он поселился в Радзуте? — спросил я.
— Был ранен при наступлении, попал в госпиталь, валялся до конца войны, а потом застрял здесь.
“Да”, — вспомнил я и спросил:
— А почему пятого он ездил вне очереди?
— Инициатива исходила не от него: об этом просил начальство сменщик.
— Янкаускас спрашивал мальчика: кто-нибудь из пассажиров возвращался тем же рейсом?
— Спрашивал. Никто не возвращался.
— Когда Черкиз будет здесь?
— Сегодня.
— Ладно.
“Хоть взгляну на него, — вяло подумал я. — А впрочем, ни к чему. Мальчик видел его. Видел. И Черкиз здесь ни при чем…” Я мысленно представил себе площадь, Черкиза, который бродит в ожидании часа, когда по расписанию надо вести автобус обратно, перекидывается шутками с шоферами — они курят, сплевывают, смеются — копается в моторе, а мальчишка неотрывно следит за ним. Н-да.
— Ладно, — сказал я и поднялся. — Привет. Мне пора.
— Там в записке для вас есть сюрприз, — ухмыльнулся Виленкин. — Поздравляю.
Я пропустил его слова мимо ушей — есть, так узнаю, — вернулся по бульвару в гостиницу, заперся в кабинке туалета на первом этаже и стал читать записку. Про Черкиза ясно. Дальше. Валдманис сообщал, что кастета на даче не нашли. Та-ак. Это многое меняло: Суркин солгал. Но зачем? Ведь он знал, что его легко проверить. И потом: он пришел к нам сам, хотя скорей всего не мог предполагать, что разговор зайдет о кастете. А если главное как раз заключается в том, что он пришел сам? Может быть, именно так было нужно ему или кому-нибудь еще? Н-да. Все сегодня было не слава богу. Еще в записке сообщалось, что анонимка написана на машинке, принадлежащей мебельной фабрике. Молодцы, докопались, несмотря на выходной! Но кто автор? “Буш или Пухальский, — мелькнуло у меня в голове. — Скорее Буш. Потому что Пухальский незнаком с Суркиным. Он видел его один раз мельком и не знает его фамилии. Правда, это известно только со слов Пу-хальского и ничем пока не подтверждено. Но он говорил это мне, а я — студент. Но, может быть, не Буш и не Пухальский, а кто-то третий?..” По-прежнему ясности никакой. Тут в конце листка я заметил приписку: “Вчера, девочка, В — 3600, Р — 51, чувствует себя хорошо, поздравляем”. Сначала я ничего не понял, а потом догадался. Господи, Тамара родила! Девочку! А буквы “В” и “Р” означали вес и рост. Так вот что имел в виду Виленкин. Я закурил. Еще раз перечитал. Мы договорились, что если сын — будет Сергеем, если девочка — Татьяна, Таня, Танечка. Значит, Таня! А я здесь… Ах, черт! Я закрыл глаза и представил себе Тамару. Коляску придется пока взять у Лингисов, их ребенок уже вырос. Хорошую коляску в магазине сразу не найдешь. Все мелочи мы с Тамарой купили, а колясок не было. Нам предложили зайти в конце месяца: будут немецкие. Ларионов, наверное, торчит в роддоме. Носит цветы и фрукты. Пишет записки, что у меня все в порядке и я скоро буду дома. Скоро?.. Я открыл глаза. В маленькое оконце, до половины закрашенное масляной краской, било солнце. Я посмотрел на часы: я здесь уже три минуты.
Я вернулся в номер.
Вероятно, что-то было написано у меня на лице, потому что Пухальский спросил:
— Что это с вами? Вы сияете, как блин на сковородке.
Я снова был на работе.
— С девчонкой на бульваре перемигнулся. Может, встречусь вечерком, — проинформировал его я. — Вы как по этой части?
— Я? Да так… А вчера?
— Все было о’кэй! Вы женаты?
— Имею супругу и двоих детей. Но, как в том анекдоте, знаете… — Он рассказал “солдатский” анекдот.
Я посмеялся.
— Завтракать?
— Сейчас пойдем. Подождите минутку, — сказал Пухальский.
— А что?
— Мне позвонить надо.
— В коридоре есть телефон.
— В коридоре? Нет, я спущусь и позвоню из автомата.
— Как раз по пути.
— Нет, вы подождите меня здесь. Я через минуту вернусь.
— Зачем же вам подниматься?
— Ничего, я быстро. Подождете? Я пожал плечами.
— Валяйте. Он вышел.
Кажется, это было что-то вроде моего “почтового ящика” на бульваре. Поэтому я пристроился у окна за занавеской и стал ждать, когда Пухальский выйдет из подъезда. Но он пересек улицу и действительно сунулся в телефонную будку. Значит, не хотел, чтобы я что-то услышал. Ладно… Он вернулся, в отличие от меня, озабоченным.
— Все в порядке?
— Что? Нет, не совсем в порядке, — произнес он рассеянно. — Слушайте, у меня к вам есть деловое предложение. Так, пустяк. Вы ведь, кажется, нуждаетесь в деньгах?
— Еще как! — сказал я быстро. Но спрашивать ничего не стал.
— Пошли в кафе, — решил Пухальский.
Мы выбрались на улицу. Светлое и жаркое утро превращалось в день. Возле “Флотского универмага” стояла очередь. Проехала поливальная машина. Мы обогнали группу туристов, которые, озираясь, шествовали по старой мощеной улице. Они высоко поднимали ноги, чтобы не сбить туфли о булыжники, и говорили по-французски. Пухальский окинул их внимательным взглядом.
— Неплохо одеваются, черти! А? Европа! — закричал я.
— Тише, — сказал Пухальский.
— Так они ж по-русски ни бум-бум… Пойдем туда, где вчера сидели?
— Там яичницы не подают. А я привык утром кушать яйца. Очень полезно, так англичане кушают.
— Так они вроде едят всмятку? И вообще они пробавляются утром овсяной кашей, если не ошибаюсь?
— Вы много читаете, Боря, — сказал Пухальский. — Мне это в вас нравится.
Я чувствовал, что он еще не решил окончательно: стоит ли связываться со мной насчет этого “делового предложения”. Но, вероятно, что-то случилось. Отказал винтик в налаженной машине, и выбирать не приходилось. Это был мой козырь. Но и переигрывать мне нельзя. Чем проще, тем лучше.
— Читаю от скуки. Иногда. А вообще предпочитаю книгам жизнь. И терпеть не могу “книжных червей”.
— Книги бывают интересней жизни, — туманно сказал Пухальский.
— Ха! Так это смотря какая жизнь! — понес я. — Я о чем говорю: чтоб можно было выпить и закусить. Понятно, надеюсь? Девочки меня любят. Не обижаюсь. У меня в Москве есть костюм американский в полоску. Я иду: каждый мускул напряжен, руки-ноги стальные, в зубах — хорошая сигарета, а в глазах черти прыгают. Ну, знаете, это: “Ты мне скажешь тихо: “Добрый вечер”, я отвечу: “Добрый вечер, мисс”… — “откровенничал” я. Потом сразу замолчал, как бы спохватившись: не наговорил ли я лишнего?
Мы свернули за угол.
— Что ж! — сказал Пухальский. — Нам сюда, Боря.
Это было милое кафе в современном национальном духе: уютный интерьер со стенами “под дерево”, гравюры, висячие светильники. “Там, где чисто, светло”. Я вспомнил старика из этого рассказа. Он каждый вечер сидел один допоздна в таком вот, наверное, кафе. И пил. Ему было некуда уйти от самого себя. “А ведь Пухальский тоже одинок, — подумал я. — Характер, занятия…” Мы облюбовали столик, сели, и некоторое время я молчал. Потом спросил, узнал ли Пухальский о мебели для профессора.
— Сделаем, — коротко бросил он.
— А договорились?
— Договорился.
Значит, он с кем-то говорил по телефону. Или встречался. Потому что на фабрике он со вчерашнего дня быть не мог: у них “пятидневка”.
— Дорого?
— С побочными расходами четыреста пятьдесят. Тому дать, другому. Потянет ваш профессор?
— А чего ж! У него учебник недавно вышел, тугрики должны быть. Так что пребольшое спасибо вам!
“Где может быть Войтин?” — продолжал мучиться я.
— Потом поблагодарите. Сейчас — услуга за услугу.
— Да? — я придвинул свой стул.
— Дело ерундовое, оплата царская. Это даже не мне надо, а одному человеку.
“Осторожничает”, — мельком подумал я. И сказал:
— Как пионеры, всегда готов!
Пухальский не торопясь намазал хлеб маслом. Откусил. Прожевал. Я ждал.
— А дело вот какое… Вы сегодня свободны?
— Сегодня и каждый день.
— Надо отвезти чемоданчик. Здесь, поблизости. И отдать одному человеку. И все.
Это мог быть ход конем. Пухальский убил Ищенко, а хочет быть арестованным за спекуляцию. Ему дают срок, он уходит со сцены — и концы в воду. Следствие, возможно, зайдет в тупик. Поэтому он обращается к первому попавшемуся человеку с этой просьбой. Он думает: “Тот пойдет и донесет на меня”. Но для Кентавра это, пожалуй, грубая работа. А если он учел и это? Органы не будут копать вглубь, решил он, и его оставят в покое по делу Кентавра. Нет. Это было слишком сложно уже для Пухальского. “Как ни странно, в его пользу говорит именно случай с пиджаком”, — подумал я. Кроме того, он приглядывался ко мне с определенной целью, а я ему подыгрывал.
Я сказал:
— Гоните ваш чемоданчик.
А если я ошибаюсь? То, что он спекулянт, это ясно. Приехал сюда обделывать свои темные делишки. Но не это же меня интересовало. Мог ли он быть Кентавром? “В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически…” Пить он бросил, но раньше, по его собственным словам, пил. Наколка. Пробел в биографии в 43–44-м годах: до сих пор не удалось выяснить, чем он занимался и где находился в то время. Но пиджак! На основании тех данных, что были у меня, пиджак можно было объяснить только одним способом. По нему выходило, что Пухальский в истории с Ищенко ни при чем. Но чего-то я мог не знать. А это “что-то” могло уложить все факты совсем в другой комбинации. В комбинации: Пухальский — это Кентавр. Правда, у Пухальского не было никакого алиби на время убийства. Даже сомнительного. А Кентавр должен был бы подумать об алиби. Но это в стандартном варианте. А если он способен на тонкую игру? Если в нужный момент он “вспомнит” о том, что алиби у него все-таки есть? “Нет, я не могу пока принимать окончательного решения относительно Пухальского, — подумал я. — Я должен по-прежнему выжидать”.
Пухальский подтянул манжет рубашки на левом рукаве и взглянул на часы.
— Не так прытко, молодой человек! У меня его пока нет. А везти надо будет в Радзуте, есть такой городок.
Я замер. Опять Радзуте. Это уже становилось интересным. Я собирался туда, но пока было рано. Мне нельзя было уезжать сейчас. Взять чемодан и где-то пересидеть? Тоже не вариант. Это значило быть выключенным из событий. Что-нибудь могло случиться — напряжение нарастало. Да еще Войтин исчез. Отказаться? Это покажется подозрительным.
Он заметил мое колебание.
— Так как же?
— Везти обязательно сегодня?
— Да.
Я решился.
— Сколько? — спросил я как можно небрежнее.
— Вы в смысле оплаты? Можете не беспокоиться.
— А все же? Он подумал.
— Считайте, что двадцать пять новыми у вас в кармане.
Опять ошибочка Если “заказчиком” был не он, то долго думать не надо: цена уже должна быть оговорена.
— Это мизер! — быстро сказал я. Он удивился.
— Мизер? А чего вы хотите, интересно? Вам надо только поехать и передать чемодан. И никаких хлопот.
— Про хлопоты все знаем. С Уголовным кодексом я знаком только заочно. И слава богу! Вы предлагаете двадцать пять рублей за то, чтобы передать че-мо-дан-чик. Это пахнет более близким знакомством с кодексом. Мне плевать, что лежит в этом вашем чемоданчике, но я не хочу рисковать свободой за четвертную бумажку.
Он снова занялся хлебом с маслом.
— Я не хочу вас переубеждать, — сказал он наконец. — Но это совсем не то, что вы думаете. И никакого отношения к этому не имеет. Просто мой приятель сейчас в безвыходном положении: ему позарез нужно переслать вещи, и поэтому он платит такую сумму. Но это его дело, и, повторяю, я не хочу ни в чем вас убеждать. Какова ваша цена?
— А почему бы вам самому не выручить приятеля?
— Это другой вопрос. Но вы не ответили, сколько вы хотите.
Я, в свою очередь, подумал. И заломил:
— Полтораста.
— Что?
— Сто пятьдесят рублей ноль-ноль копеек. Половину вперед.
Он посмотрел на меня с интересом. Потом снял очки и стал их протирать. Я испугался, что его хватит удар
— Это нереально и мне не подходит, — сказал он. — Вернее, моему приятелю. Он не настолько богат, чтобы платить такие деньги за пересылку. Считайте, что я вам ничего не предлагал.
— Я тут познакомился с одним парнем. Может, он согласится, — безразлично сказал я.
Пухальский быстро взглянул на меня и наклонился над своей яичницей.
— Нет. — сказал он. — Забудьте об этом. Я пошутил.
— Новый анекдот?
— Ага, — сказал он.
Кажется, я напрасно сделал это предложение: Пухальский насторожился. Но все равно он в безвыходном положении. Он будет кого-то искать или поедет сам, а проследить его связи будет нетрудно Мы еще немного посидели, Я сказал, что мне надо в туалет. Телефон-автомат, я заметил, висел на стене рядом с раздевалкой за портьерой. Я прошел туда. Там никого не было. Встал так, чтобы меня не было видно из зала (сам я видел Пухальского в щель между дверью и портьерой)? и быстро набрал номер. “Хорошо, что вы позвонили, — сказал дежурный. — Начальник просил передать, что ту игрушку нашли. На дачном участке было два “скворешника”: клиент неточно указал место”. Значит, все-таки, два кастета. Но какое совпадение: оба всплывают одновременно в момент следствия, пролежав “без дела” столько лет! Хотя насчет “без дела” не совсем верно… “Я нахожусь в кафе “Валдия”, — сказал я. — Со мной сидит сосед по номеру, не моряк, а другой. Кстати, насчет моряка не выяснили?” — “Пока нет”. — “Хорошо, пришлите кого-нибудь в кафе. Я задержу соседа на десять минут. Сосед хочет переправить в Радзуте чемодан, он поедет сам или кого-то пошлет. Проследите. Свяжитесь с товарищами на месте”. — “Слушаюсь”, — сказал дежурный. Я повесил трубку и вернулся в зал.
Выждав несколько минут, я спросил:
— Может, выпьем по маленькой?
— Не пью.
— Вообще не пьете?
— Вообще не пью.
— Плохо ваше дело. Слушайте, а симпатичные в Прибалтике кафе! Вот это, например. Одни светильнички чего стоят. Здесь просто сидеть приятно. Не то что какая-нибудь забегаловка в Москве. Хотя там сейчас тоже ничего делают. Вы в Москве бываете?
— Изредка, — неохотно ответил Пухальский. Он держался джентльменом.
— Я люблю Москву. Все-таки прожил всю свою сознательную. Вы не в “Минске” останавливаетесь? Там сейчас такой ресторан отгрохали! Вообще люблю рестораны: коньячок на столе, музыка заворачивает. Эх!.. Слушайте, хотите я вам за сто тридцать это дело обделаю?
— Нет, — сказал Пухальский. — Я же вам объяснил: я пошутил. И больше не хочу говорить на эту тему.
— Ладно! Сто двадцать!
— Вы идете?
— Ну иду.
Десять минут я протянул: сотрудник уже должен быть здесь. Мы вышли из кафе. Улица была пустынна. Только напротив входа, наискось, сидел на скамейке человек.
— Вы в гостиницу? — спросил я Пухальского.
— Нет. Мне в другую сторону.
— Пойду возьму плавки. Может, на пляж закачусь.
— Всего хорошего, — сухо попрощался Пухальский.
Мы разошлись в противоположные стороны. Пройдя несколько десятков метров, я оглянулся. Человек, сидевший на скамейке, аккуратно сложил газету и направился за Пухальским.
Он шел не торопясь и разглядывал витрины.
Кто-то взял меня под руку. Я повернулся.
— Как проводите время? Не скучаете?
Это была Быстрицкая.
— А вы? — спросил я.
— Я весь день была на море.
— Вы сейчас торопитесь?
— Ага. Тетка чистит рыбу и послала меня за желатином: хочет делать заливное.
— Когда мы увидимся?
— Сегодня вечером я буду в “Маяке”. Правда, меня туда пригласил Сема, — протянула она. — Но я буду рада, если вы придете.
— Отлично. Приду. Потанцуем… — быстро сказал я. Снова она будет не одна. Ладно, там что-нибудь придумаем. — Ну, привет. Бегите, а то влетит вам от тетки.
— Привет!
Суркин показал, что ее не было в проходном дворе, когда он свернул туда. Если это была правда, можно подумать, что ее целью было проследить, пойдет Ищенко во двор или нет. Но во дворе его ждал Кентавр. Н-да. “Неужели я ошибся с Быстрицкой?” — подумал я.
А утром оказалось, что Войтин не ночевал в гостинице.
Ночью в номер никто не стучал, кровать Войтина была аккуратно заправлена. Только (как же я вчера не обратил на это внимания!) поверх одеяла лежало скомканное полотенце. Войтин каждый раз педантично расправлял его и вешал на никелированную спинку кровати. Значит, вчера он опять спешил. Куда? Новая загадка. Знал ли об этом что-нибудь Пухальский? Честно говоря, все это было мне не по душе. Я вспомнил, что вчера утром я первым выходил из комнаты. Дверь не была заперта. А ведь последним вернулся в номер Пухальский. Ночью никто не выходил, я бы услышал. Знал ли он, что сегодня моряк не будет ночевать? Почему он просил запереть дверь на ключ?
— Похоже, наш старпом прожигает жизнь! Коротает время у какой-нибудь вдовушки! — поделился я с Пухальским. Он был одет в тренировочный костюм: делал на середине комнаты зарядку, сдвинув стол к окну.
Пухальский ответил не сразу. Он следил за дыханием и, наверное, считал в уме: “Раз, два, три, четыре… выдох!”
— Вряд ли, — сказал он, опуская руки. — Непохоже.
— А куда ж он делся?
“Раз, два, три, четыре…”
— Выехал.
Я заглянул в платяной шкаф.
— Да вот же плащ висит! И умывальные принадлежности лежат на подоконнике!
— Значит, не выехал. Хотите руку размять?
— Как размять?
— Вот так! — он пояснил жестом. — У меня мышца в предплечье застужена. По утрам ноет. Врач посоветовал давать на нее нагрузку.
— Мо-ожно.
Мы подвинули стол на место. Он слегка качался, и я положил свернутую бумагу под ножку. Мы сели друг против друга, уперлись локтями в поверхность стола и сцепили руки. У Пухальского была крепкая кисть: его рука Fie сразу стала поддаваться. Он стиснул зубы и выкатил желваки на скулах. Потом я решил, что будет лучше, если победителем окажется он. И постепенно ослабил нажим. Он пригнул мою руку к столу. Отдулся. Покровительственно сказал:
— Надо заниматься по утрам зарядкой, молодой человек! Ф-фух! Вы очень прилично сложены, а не занимаетесь. Вот результат — пасуете перед стариком.
— Ничего себе старик! — засмеялся я. — Все бы такие старики были. Вам, наверное, еще сорока нет?
“Где же Войтин?..” — думал я.
— Сорок один. Еще разик?
— Давайте! — азартно сказал я.
Он снова положил мою руку, а я с шумом перевел дыхание.
— Здорово!
— Вы тоже молодцом, — великодушно сказал он. — Силенка есть. Вы сначала чуть меня не побороли. Выносливости, вот чего вам не хватает!
Он пришел в отличное расположение духа.
Мы отправились в туалет. Сначала мылся он, потом — я. Пока я чистил зубы, он стоял за моей спиной. Он рассказал анекдот. Я не мог смеяться со щеткой во рту, поэтому показал глазами в зеркало, что анекдот великолепен. Он сказал, что я “отлично чувствую юмор”. Когда мы возвращались по коридору, я заметил:
— Странный тип этот Войтин! То пьет без просыпу, то вдруг — бац, и куда-то исчезает.
— Какое вам до него дело, Боря? Он взрослый человек.
— Никакого, — согласился я. — Завтракать пойдете?
Он взглянул на часы, висевшие в конце коридора.
— Чуть позже.
Мы зашли в номер.
— В таком случае я сгоняю пока за сигаретами.
Я спустился вниз, купил сигареты и быстро пошел по бульвару. Виленкин ждал меня. Этот отрезок бульвара не просматривался из окон гостиницы, его заслонял пятиэтажный дом. Скамейки были пустые. Я подсел к Виленкину и, совершив ту же манипуляцию, что вчера, забрал записку.
— Передать ничего не надо? — спросил Виленкин.
— Нужно узнать, где провел ночь Войтин. И где он сейчас.
— Ага.
— Как с водителем радзутского автобуса?
— Мальчишку нашли. Этот Черкиз — пустой номер. Пятого он не уходил с площади ни на минуту.
— Со слов мальчишки?
— Да. В записке это есть.
— Расскажи подробно.
— Янкаускас, который ездил в Радзуте, докладывал при мне, так что могу в деталях. Парня он нашел к вечеру…
— Каким образом?
— Битых два часа вертелся на улицах, знакомился с пацанами. Выяснилось, что родители “Леньки с соседней улицы” уехали по путевке в Польшу, хотели оставить Леньку у родственницы, Ленька катался на автобусе в другой город, сюда то есть, но что-то не получилось, и теперь он живет у соседей, а родители с ним вообще не очень цацкаются и даже не ругают, если он весь день торчит на море… — Виленкин говорил быстро, не делая пауз. — Янкаускас отправился на “соседнюю улицу”. Ему повезло: Ленька сидел на крыльце и читал книгу. Он оказался тем самым мальчишкой, что ездил пятого с Черкизом. Парню одиннадцать лет, читает запоем, одолел уже “Дон-Кихота”, “Отелло” и “Сердце Бонивура” Нагишкина. Все очень нравится. Янкаускас даже погонял с ним мяч на пустыре. Водить этот Ленька еще водит, но когда Янкаускас стал в ворота, тот все время мазал…
— Не увлекайся, — сказал я слегка раздраженно.
— Вы просили подробней.
— Извини… Нервничаю. Не трогается это дело с мертвой точки. Давай дальше.
— Его родители позвонили родственнице сюда, просили встретить автобус и забрать мальчика, — сухо сказал Виленкин.
— Извини, — еще раз попросил я.
— Ладно, ладно, я понимаю… Они поручили мальчика Черкизу. Приехав сюда, Черкиз для верности запер автобус, чтобы потом не искать парня, и посулил ему мороженое. Тот, соответственно, следил за ним, не отрываясь: ждал обещанного. Кроме тоги, он попал в чужой город, сидит в запертом автобусе, единственный человек, которого он знает, — Черкиз… словом, он боится потерять его из виду. Он говорит, что все время видел Черкиза. Тот два раза забегал в диспетчерскую, крутился на площади, болтал с шоферами, но с площади не уходил. Через полчаса он купил мальчику мороженое, а сам стал копаться в моторе. Мотор в кабине, так что из салона Ленька по-прежнему видел его. Потом он опять ходил на площадь и, вернувшись, снова лазил в мотор. Все это подтверждает диспетчер. Она видела Черкиза на площади и как он мотор проверял. Она спросила его: чей такой милый мальчик? Не его ли? Черкиз только сказал: “Ну его к черту!” — и махнул рукой. Но специально она, конечно, за Черкизом не следила. Она вообще хвалила его: грамотный водитель, у него большая экономия горючего, а в последние дни он еще сокращает время в пути — приводит автобус раньше, чем требуется по расписанию.
“Сосредоточил внимание на своей особе, чтобы иметь алиби? — думал я. — Обещал мальчишке мороженое, чтобы тот не сводил с него глаз? Но это абсурд! Наоборот, он должен был бы отвлечь свидетеля, если…”
— Книжки у этого паренька с собой не было? — спросил я. — Может, он читал и увлекся?
— Янкаускас — дошлый мужик, — ухмыльнулся Виленкин. — Он и это проверил. Нет, не было.
Может, их было двое? Один убивал, а Черкиз… Что Черкиз? Ерунда какая-то. Да, кажется, прокол.
— Почему родственница не пришла на остановку?
— Забегалась по делам. Забыла. А ее адреса Ленька не знал.
— Не мог Черкиз запугать мальчишку? Или, наоборот: пообещать ему что-нибудь, если он будет говорить то, что надо Черкизу? — спросил я без всякой надежды, потому что такой вариант не годился для Кентавра.
— Янкаускас говорит, что это исключено. Мальчик ведет себя очень естественно. Характер честный и открытый. Янкаускас когда-то работал в милиции, в “детской комнате”: психологию ребенка знает.
Мы по-прежнему говорили скороговоркой, не делая пауз, потому что я помнил, что выскочил только за сигаретами, но и так наша беседа затягивалась.
— Анкета Черкиза в порядке? — спросил я.
— Да. Единственное “но”: когда Янкаускас попросил личное дело Черкиза, начальник отдела кадров заметил, что Черкиз хорошо владеет немецким языком — хвастал в пьяном виде, — а в анкете этого почему-то не указал.
— Когда он поселился в Радзуте? — спросил я.
— Был ранен при наступлении, попал в госпиталь, валялся до конца войны, а потом застрял здесь.
“Да”, — вспомнил я и спросил:
— А почему пятого он ездил вне очереди?
— Инициатива исходила не от него: об этом просил начальство сменщик.
— Янкаускас спрашивал мальчика: кто-нибудь из пассажиров возвращался тем же рейсом?
— Спрашивал. Никто не возвращался.
— Когда Черкиз будет здесь?
— Сегодня.
— Ладно.
“Хоть взгляну на него, — вяло подумал я. — А впрочем, ни к чему. Мальчик видел его. Видел. И Черкиз здесь ни при чем…” Я мысленно представил себе площадь, Черкиза, который бродит в ожидании часа, когда по расписанию надо вести автобус обратно, перекидывается шутками с шоферами — они курят, сплевывают, смеются — копается в моторе, а мальчишка неотрывно следит за ним. Н-да.
— Ладно, — сказал я и поднялся. — Привет. Мне пора.
— Там в записке для вас есть сюрприз, — ухмыльнулся Виленкин. — Поздравляю.
Я пропустил его слова мимо ушей — есть, так узнаю, — вернулся по бульвару в гостиницу, заперся в кабинке туалета на первом этаже и стал читать записку. Про Черкиза ясно. Дальше. Валдманис сообщал, что кастета на даче не нашли. Та-ак. Это многое меняло: Суркин солгал. Но зачем? Ведь он знал, что его легко проверить. И потом: он пришел к нам сам, хотя скорей всего не мог предполагать, что разговор зайдет о кастете. А если главное как раз заключается в том, что он пришел сам? Может быть, именно так было нужно ему или кому-нибудь еще? Н-да. Все сегодня было не слава богу. Еще в записке сообщалось, что анонимка написана на машинке, принадлежащей мебельной фабрике. Молодцы, докопались, несмотря на выходной! Но кто автор? “Буш или Пухальский, — мелькнуло у меня в голове. — Скорее Буш. Потому что Пухальский незнаком с Суркиным. Он видел его один раз мельком и не знает его фамилии. Правда, это известно только со слов Пу-хальского и ничем пока не подтверждено. Но он говорил это мне, а я — студент. Но, может быть, не Буш и не Пухальский, а кто-то третий?..” По-прежнему ясности никакой. Тут в конце листка я заметил приписку: “Вчера, девочка, В — 3600, Р — 51, чувствует себя хорошо, поздравляем”. Сначала я ничего не понял, а потом догадался. Господи, Тамара родила! Девочку! А буквы “В” и “Р” означали вес и рост. Так вот что имел в виду Виленкин. Я закурил. Еще раз перечитал. Мы договорились, что если сын — будет Сергеем, если девочка — Татьяна, Таня, Танечка. Значит, Таня! А я здесь… Ах, черт! Я закрыл глаза и представил себе Тамару. Коляску придется пока взять у Лингисов, их ребенок уже вырос. Хорошую коляску в магазине сразу не найдешь. Все мелочи мы с Тамарой купили, а колясок не было. Нам предложили зайти в конце месяца: будут немецкие. Ларионов, наверное, торчит в роддоме. Носит цветы и фрукты. Пишет записки, что у меня все в порядке и я скоро буду дома. Скоро?.. Я открыл глаза. В маленькое оконце, до половины закрашенное масляной краской, било солнце. Я посмотрел на часы: я здесь уже три минуты.
Я вернулся в номер.
Вероятно, что-то было написано у меня на лице, потому что Пухальский спросил:
— Что это с вами? Вы сияете, как блин на сковородке.
Я снова был на работе.
— С девчонкой на бульваре перемигнулся. Может, встречусь вечерком, — проинформировал его я. — Вы как по этой части?
— Я? Да так… А вчера?
— Все было о’кэй! Вы женаты?
— Имею супругу и двоих детей. Но, как в том анекдоте, знаете… — Он рассказал “солдатский” анекдот.
Я посмеялся.
— Завтракать?
— Сейчас пойдем. Подождите минутку, — сказал Пухальский.
— А что?
— Мне позвонить надо.
— В коридоре есть телефон.
— В коридоре? Нет, я спущусь и позвоню из автомата.
— Как раз по пути.
— Нет, вы подождите меня здесь. Я через минуту вернусь.
— Зачем же вам подниматься?
— Ничего, я быстро. Подождете? Я пожал плечами.
— Валяйте. Он вышел.
Кажется, это было что-то вроде моего “почтового ящика” на бульваре. Поэтому я пристроился у окна за занавеской и стал ждать, когда Пухальский выйдет из подъезда. Но он пересек улицу и действительно сунулся в телефонную будку. Значит, не хотел, чтобы я что-то услышал. Ладно… Он вернулся, в отличие от меня, озабоченным.
— Все в порядке?
— Что? Нет, не совсем в порядке, — произнес он рассеянно. — Слушайте, у меня к вам есть деловое предложение. Так, пустяк. Вы ведь, кажется, нуждаетесь в деньгах?
— Еще как! — сказал я быстро. Но спрашивать ничего не стал.
— Пошли в кафе, — решил Пухальский.
Мы выбрались на улицу. Светлое и жаркое утро превращалось в день. Возле “Флотского универмага” стояла очередь. Проехала поливальная машина. Мы обогнали группу туристов, которые, озираясь, шествовали по старой мощеной улице. Они высоко поднимали ноги, чтобы не сбить туфли о булыжники, и говорили по-французски. Пухальский окинул их внимательным взглядом.
— Неплохо одеваются, черти! А? Европа! — закричал я.
— Тише, — сказал Пухальский.
— Так они ж по-русски ни бум-бум… Пойдем туда, где вчера сидели?
— Там яичницы не подают. А я привык утром кушать яйца. Очень полезно, так англичане кушают.
— Так они вроде едят всмятку? И вообще они пробавляются утром овсяной кашей, если не ошибаюсь?
— Вы много читаете, Боря, — сказал Пухальский. — Мне это в вас нравится.
Я чувствовал, что он еще не решил окончательно: стоит ли связываться со мной насчет этого “делового предложения”. Но, вероятно, что-то случилось. Отказал винтик в налаженной машине, и выбирать не приходилось. Это был мой козырь. Но и переигрывать мне нельзя. Чем проще, тем лучше.
— Читаю от скуки. Иногда. А вообще предпочитаю книгам жизнь. И терпеть не могу “книжных червей”.
— Книги бывают интересней жизни, — туманно сказал Пухальский.
— Ха! Так это смотря какая жизнь! — понес я. — Я о чем говорю: чтоб можно было выпить и закусить. Понятно, надеюсь? Девочки меня любят. Не обижаюсь. У меня в Москве есть костюм американский в полоску. Я иду: каждый мускул напряжен, руки-ноги стальные, в зубах — хорошая сигарета, а в глазах черти прыгают. Ну, знаете, это: “Ты мне скажешь тихо: “Добрый вечер”, я отвечу: “Добрый вечер, мисс”… — “откровенничал” я. Потом сразу замолчал, как бы спохватившись: не наговорил ли я лишнего?
Мы свернули за угол.
— Что ж! — сказал Пухальский. — Нам сюда, Боря.
Это было милое кафе в современном национальном духе: уютный интерьер со стенами “под дерево”, гравюры, висячие светильники. “Там, где чисто, светло”. Я вспомнил старика из этого рассказа. Он каждый вечер сидел один допоздна в таком вот, наверное, кафе. И пил. Ему было некуда уйти от самого себя. “А ведь Пухальский тоже одинок, — подумал я. — Характер, занятия…” Мы облюбовали столик, сели, и некоторое время я молчал. Потом спросил, узнал ли Пухальский о мебели для профессора.
— Сделаем, — коротко бросил он.
— А договорились?
— Договорился.
Значит, он с кем-то говорил по телефону. Или встречался. Потому что на фабрике он со вчерашнего дня быть не мог: у них “пятидневка”.
— Дорого?
— С побочными расходами четыреста пятьдесят. Тому дать, другому. Потянет ваш профессор?
— А чего ж! У него учебник недавно вышел, тугрики должны быть. Так что пребольшое спасибо вам!
“Где может быть Войтин?” — продолжал мучиться я.
— Потом поблагодарите. Сейчас — услуга за услугу.
— Да? — я придвинул свой стул.
— Дело ерундовое, оплата царская. Это даже не мне надо, а одному человеку.
“Осторожничает”, — мельком подумал я. И сказал:
— Как пионеры, всегда готов!
Пухальский не торопясь намазал хлеб маслом. Откусил. Прожевал. Я ждал.
— А дело вот какое… Вы сегодня свободны?
— Сегодня и каждый день.
— Надо отвезти чемоданчик. Здесь, поблизости. И отдать одному человеку. И все.
Это мог быть ход конем. Пухальский убил Ищенко, а хочет быть арестованным за спекуляцию. Ему дают срок, он уходит со сцены — и концы в воду. Следствие, возможно, зайдет в тупик. Поэтому он обращается к первому попавшемуся человеку с этой просьбой. Он думает: “Тот пойдет и донесет на меня”. Но для Кентавра это, пожалуй, грубая работа. А если он учел и это? Органы не будут копать вглубь, решил он, и его оставят в покое по делу Кентавра. Нет. Это было слишком сложно уже для Пухальского. “Как ни странно, в его пользу говорит именно случай с пиджаком”, — подумал я. Кроме того, он приглядывался ко мне с определенной целью, а я ему подыгрывал.
Я сказал:
— Гоните ваш чемоданчик.
А если я ошибаюсь? То, что он спекулянт, это ясно. Приехал сюда обделывать свои темные делишки. Но не это же меня интересовало. Мог ли он быть Кентавром? “В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически…” Пить он бросил, но раньше, по его собственным словам, пил. Наколка. Пробел в биографии в 43–44-м годах: до сих пор не удалось выяснить, чем он занимался и где находился в то время. Но пиджак! На основании тех данных, что были у меня, пиджак можно было объяснить только одним способом. По нему выходило, что Пухальский в истории с Ищенко ни при чем. Но чего-то я мог не знать. А это “что-то” могло уложить все факты совсем в другой комбинации. В комбинации: Пухальский — это Кентавр. Правда, у Пухальского не было никакого алиби на время убийства. Даже сомнительного. А Кентавр должен был бы подумать об алиби. Но это в стандартном варианте. А если он способен на тонкую игру? Если в нужный момент он “вспомнит” о том, что алиби у него все-таки есть? “Нет, я не могу пока принимать окончательного решения относительно Пухальского, — подумал я. — Я должен по-прежнему выжидать”.
Пухальский подтянул манжет рубашки на левом рукаве и взглянул на часы.
— Не так прытко, молодой человек! У меня его пока нет. А везти надо будет в Радзуте, есть такой городок.
Я замер. Опять Радзуте. Это уже становилось интересным. Я собирался туда, но пока было рано. Мне нельзя было уезжать сейчас. Взять чемодан и где-то пересидеть? Тоже не вариант. Это значило быть выключенным из событий. Что-нибудь могло случиться — напряжение нарастало. Да еще Войтин исчез. Отказаться? Это покажется подозрительным.
Он заметил мое колебание.
— Так как же?
— Везти обязательно сегодня?
— Да.
Я решился.
— Сколько? — спросил я как можно небрежнее.
— Вы в смысле оплаты? Можете не беспокоиться.
— А все же? Он подумал.
— Считайте, что двадцать пять новыми у вас в кармане.
Опять ошибочка Если “заказчиком” был не он, то долго думать не надо: цена уже должна быть оговорена.
— Это мизер! — быстро сказал я. Он удивился.
— Мизер? А чего вы хотите, интересно? Вам надо только поехать и передать чемодан. И никаких хлопот.
— Про хлопоты все знаем. С Уголовным кодексом я знаком только заочно. И слава богу! Вы предлагаете двадцать пять рублей за то, чтобы передать че-мо-дан-чик. Это пахнет более близким знакомством с кодексом. Мне плевать, что лежит в этом вашем чемоданчике, но я не хочу рисковать свободой за четвертную бумажку.
Он снова занялся хлебом с маслом.
— Я не хочу вас переубеждать, — сказал он наконец. — Но это совсем не то, что вы думаете. И никакого отношения к этому не имеет. Просто мой приятель сейчас в безвыходном положении: ему позарез нужно переслать вещи, и поэтому он платит такую сумму. Но это его дело, и, повторяю, я не хочу ни в чем вас убеждать. Какова ваша цена?
— А почему бы вам самому не выручить приятеля?
— Это другой вопрос. Но вы не ответили, сколько вы хотите.
Я, в свою очередь, подумал. И заломил:
— Полтораста.
— Что?
— Сто пятьдесят рублей ноль-ноль копеек. Половину вперед.
Он посмотрел на меня с интересом. Потом снял очки и стал их протирать. Я испугался, что его хватит удар
— Это нереально и мне не подходит, — сказал он. — Вернее, моему приятелю. Он не настолько богат, чтобы платить такие деньги за пересылку. Считайте, что я вам ничего не предлагал.
— Я тут познакомился с одним парнем. Может, он согласится, — безразлично сказал я.
Пухальский быстро взглянул на меня и наклонился над своей яичницей.
— Нет. — сказал он. — Забудьте об этом. Я пошутил.
— Новый анекдот?
— Ага, — сказал он.
Кажется, я напрасно сделал это предложение: Пухальский насторожился. Но все равно он в безвыходном положении. Он будет кого-то искать или поедет сам, а проследить его связи будет нетрудно Мы еще немного посидели, Я сказал, что мне надо в туалет. Телефон-автомат, я заметил, висел на стене рядом с раздевалкой за портьерой. Я прошел туда. Там никого не было. Встал так, чтобы меня не было видно из зала (сам я видел Пухальского в щель между дверью и портьерой)? и быстро набрал номер. “Хорошо, что вы позвонили, — сказал дежурный. — Начальник просил передать, что ту игрушку нашли. На дачном участке было два “скворешника”: клиент неточно указал место”. Значит, все-таки, два кастета. Но какое совпадение: оба всплывают одновременно в момент следствия, пролежав “без дела” столько лет! Хотя насчет “без дела” не совсем верно… “Я нахожусь в кафе “Валдия”, — сказал я. — Со мной сидит сосед по номеру, не моряк, а другой. Кстати, насчет моряка не выяснили?” — “Пока нет”. — “Хорошо, пришлите кого-нибудь в кафе. Я задержу соседа на десять минут. Сосед хочет переправить в Радзуте чемодан, он поедет сам или кого-то пошлет. Проследите. Свяжитесь с товарищами на месте”. — “Слушаюсь”, — сказал дежурный. Я повесил трубку и вернулся в зал.
Выждав несколько минут, я спросил:
— Может, выпьем по маленькой?
— Не пью.
— Вообще не пьете?
— Вообще не пью.
— Плохо ваше дело. Слушайте, а симпатичные в Прибалтике кафе! Вот это, например. Одни светильнички чего стоят. Здесь просто сидеть приятно. Не то что какая-нибудь забегаловка в Москве. Хотя там сейчас тоже ничего делают. Вы в Москве бываете?
— Изредка, — неохотно ответил Пухальский. Он держался джентльменом.
— Я люблю Москву. Все-таки прожил всю свою сознательную. Вы не в “Минске” останавливаетесь? Там сейчас такой ресторан отгрохали! Вообще люблю рестораны: коньячок на столе, музыка заворачивает. Эх!.. Слушайте, хотите я вам за сто тридцать это дело обделаю?
— Нет, — сказал Пухальский. — Я же вам объяснил: я пошутил. И больше не хочу говорить на эту тему.
— Ладно! Сто двадцать!
— Вы идете?
— Ну иду.
Десять минут я протянул: сотрудник уже должен быть здесь. Мы вышли из кафе. Улица была пустынна. Только напротив входа, наискось, сидел на скамейке человек.
— Вы в гостиницу? — спросил я Пухальского.
— Нет. Мне в другую сторону.
— Пойду возьму плавки. Может, на пляж закачусь.
— Всего хорошего, — сухо попрощался Пухальский.
Мы разошлись в противоположные стороны. Пройдя несколько десятков метров, я оглянулся. Человек, сидевший на скамейке, аккуратно сложил газету и направился за Пухальским.
Он шел не торопясь и разглядывал витрины.
Кто-то взял меня под руку. Я повернулся.
— Как проводите время? Не скучаете?
Это была Быстрицкая.
— А вы? — спросил я.
— Я весь день была на море.
— Вы сейчас торопитесь?
— Ага. Тетка чистит рыбу и послала меня за желатином: хочет делать заливное.
— Когда мы увидимся?
— Сегодня вечером я буду в “Маяке”. Правда, меня туда пригласил Сема, — протянула она. — Но я буду рада, если вы придете.
— Отлично. Приду. Потанцуем… — быстро сказал я. Снова она будет не одна. Ладно, там что-нибудь придумаем. — Ну, привет. Бегите, а то влетит вам от тетки.
— Привет!
Суркин показал, что ее не было в проходном дворе, когда он свернул туда. Если это была правда, можно подумать, что ее целью было проследить, пойдет Ищенко во двор или нет. Но во дворе его ждал Кентавр. Н-да. “Неужели я ошибся с Быстрицкой?” — подумал я.
Глава 23. Где был Войтин?
 Я действительно решил заскочить на минуту в “Пордус”: может, Войтин объявился? Меня серьезно беспокоило его отсутствие. Но ключ от номера висел на щитке, а когда я отпер дверь, то увидел, что в номер никто не заходил.
Я сел на койку и тупо уперся взглядом в стену. Комната была залита солнцем. Стояла тишина. Только где-то в конце коридора гудел пылесос.
В этом деле было слишком много совпадений. Убитый Ищенко был в пиджаке Пухальского. Потолок в квартире Буша протек в момент убийства. В это же время Войтин спускался за сигаретами. У Суркина был кастет, как две капли воды похожий на тот, которым проломили голову Ищенко. Быстрицкая следила за Ищенко за несколько минут до убийства. Суркин тоже шел за ним. Водитель радзутского автобуса? Здесь целых два совпадения: расписание и пятого — ездка вне очереди. Даже три: Черкиз скрывает знание немецкого языка. Но у него алиби: Ленька. Твердое алиби. А главное, случайное, оно не могло быть подстроено. Н-да… “Пойду на площадь, — решил я. — Посмотрю еще раз на месте”. Площадь притягивала меня, как магнит. Кстати, я хотел взглянуть на Черкиза. Я посмотрел на часы: автобус уже пришел. Я выскочил из номера. Быстро спустился по лестнице. Вышел на улицу. “Направо”, — сориентировался я. И, завернув за угол, лицом к лицу столкнулся с Войтиным.
Он что-то бормотал себе под нос и глядел мимо меня.
Я окликнул его:
— Алле!
— А, студент, — вяло ответил он.
— Привет! — сказал я и сразу напал на него: — Куда вы пропали? Я уж начал беспокоиться: что-то случилось!
— Что со мной может случиться?
— Хоть бы предупредили, что не будете ночевать.
— Я уже сто лет никого не предупреждаю. Вышел из этого возраста.
— Уезжали куда-нибудь?
— Уезжал.
— Надоело здесь сидеть?
— Ага.
— Ну и как?
— Никак.
Я зашел в тупик. И решил начать с другого конца.
— Хотел выпить, а сосед наш трезвенник. Его святейшеству врачи запретили. Вот я и ждал вас. Может, составите компанию?
— У тебя же был принцип: не пить с утра, — проворчал моряк.
— Какое удовольствие от принципов, если их не нарушать! Это не я, а кто-то из классиков. Но я целиком присоединяюсь. Так что, опрокинем?
— За углом есть автомат. Портвейн “Три семерки” в разлив.
— Идет. А заесть чем?
— Конфетку купишь, если без закуски не научился. Там дают.
Было четверть двенадцатого, и на стоянку автобусов я мог пойти позже. Сейчас важнее был Войтин. Поэтому я побренчал мелочью в кармане, и мы отправились в “автомат”.
— Угощаю я! — заявил я категорично.
— Не прыгай. Тебе денежки пригодятся.
— Всем пригодятся.
— Вот не люблю я этих счетов! — сказал Войтин. — Просто терпеть не могу! И молод ты еще со мной спорить и меня угощать. Или у тебя опять принцип?
— Тогда пополам, — сдался я.
Мы зашли в “Пиво — воды”, где стояли автоматы. В окошечки были засунуты этикетки от бутылок: они соответствовали содержимому, которым заправляли автоматы. “Портвейн”, “Виньяк”, “Вермут”… Войтин взял в кассе жетоны. Один сунул мне.
— Потом. — Он отвел мою руку с деньгами. — Потом посчитаемся. Э, стаканы опять грязные?
— Вот привереда! — воскликнула кассирша за стойкой. — Вот Мишка-аристократ! — В ее голосе слышалась явная симпатия к Войтину. — Бывает, почитай, два раза на дню, и кажный раз ему грязные! Вчера только пропустил. А то ведь как на работу ходит!
Он, казалось, не обратил внимания на последние фразы.
— Да? Вообще верно. Алкоголь уничтожает бациллы. — Он нажал кнопку. Внутри автомата что-то заурчало. Из крана пролилась жидкая струйка вина. Войтин поглядел через стакан на свет и чокнулся со мной.
— На пляж не собираетесь? — спросил я и поставил стакан на стойку.
— Чего я там не видел.
— Солнышко, песок горячий. Природа сейчас на высоте.
— Настроения нет. Давай пей!
— Не идет что-то… А настроение появится! Поехали?
— Нет.
— Завтра дождь пойдет! — пообещал я. — Захотите позагорать, будет поздно.
“Да. Завтра… — подумал я. — Завтра будет десять дней как убит Ищенко”.
— Я загадывать разучился. Что будет завтра, одному богу известно. Впрочем, мне тоже, — мрачно сказал Войтин, уставясь себе под ноги в грязный кафельный пол.
— Может, поделитесь? Тогда мы будем знать втроем: бог, вы и я.
— Что?
— Что будет завтра, спрашиваю?
Он вскинул голову и, прищурясь, посмотрел на меня.
— Много будешь знать, скоро состаришься.
— Стариться не хочу.
— Тогда не спрашивай. И вообще, был бы ты матросом на моем траулере, я б тебя живо вышколил.
— “…ходит рыба-кит, а за ней на сейнере ходят рыбаки”, — пропел я.
— Это верно, — грустно сказал Войтин. — Еще будешь?
— Пропускаю. Куда вы торопитесь?
— На кудыкину гору. К лучшим людям. На тот свет. Удовлетворяет?
— Вроде рано собрались.
— В самый раз.
— Если так запивать будете, долго не проживете, — не выдержала кассирша и сочувственно потрясла пышной прической. — Враз ножки протянете!
Я действительно решил заскочить на минуту в “Пордус”: может, Войтин объявился? Меня серьезно беспокоило его отсутствие. Но ключ от номера висел на щитке, а когда я отпер дверь, то увидел, что в номер никто не заходил.
Я сел на койку и тупо уперся взглядом в стену. Комната была залита солнцем. Стояла тишина. Только где-то в конце коридора гудел пылесос.
В этом деле было слишком много совпадений. Убитый Ищенко был в пиджаке Пухальского. Потолок в квартире Буша протек в момент убийства. В это же время Войтин спускался за сигаретами. У Суркина был кастет, как две капли воды похожий на тот, которым проломили голову Ищенко. Быстрицкая следила за Ищенко за несколько минут до убийства. Суркин тоже шел за ним. Водитель радзутского автобуса? Здесь целых два совпадения: расписание и пятого — ездка вне очереди. Даже три: Черкиз скрывает знание немецкого языка. Но у него алиби: Ленька. Твердое алиби. А главное, случайное, оно не могло быть подстроено. Н-да… “Пойду на площадь, — решил я. — Посмотрю еще раз на месте”. Площадь притягивала меня, как магнит. Кстати, я хотел взглянуть на Черкиза. Я посмотрел на часы: автобус уже пришел. Я выскочил из номера. Быстро спустился по лестнице. Вышел на улицу. “Направо”, — сориентировался я. И, завернув за угол, лицом к лицу столкнулся с Войтиным.
Он что-то бормотал себе под нос и глядел мимо меня.
Я окликнул его:
— Алле!
— А, студент, — вяло ответил он.
— Привет! — сказал я и сразу напал на него: — Куда вы пропали? Я уж начал беспокоиться: что-то случилось!
— Что со мной может случиться?
— Хоть бы предупредили, что не будете ночевать.
— Я уже сто лет никого не предупреждаю. Вышел из этого возраста.
— Уезжали куда-нибудь?
— Уезжал.
— Надоело здесь сидеть?
— Ага.
— Ну и как?
— Никак.
Я зашел в тупик. И решил начать с другого конца.
— Хотел выпить, а сосед наш трезвенник. Его святейшеству врачи запретили. Вот я и ждал вас. Может, составите компанию?
— У тебя же был принцип: не пить с утра, — проворчал моряк.
— Какое удовольствие от принципов, если их не нарушать! Это не я, а кто-то из классиков. Но я целиком присоединяюсь. Так что, опрокинем?
— За углом есть автомат. Портвейн “Три семерки” в разлив.
— Идет. А заесть чем?
— Конфетку купишь, если без закуски не научился. Там дают.
Было четверть двенадцатого, и на стоянку автобусов я мог пойти позже. Сейчас важнее был Войтин. Поэтому я побренчал мелочью в кармане, и мы отправились в “автомат”.
— Угощаю я! — заявил я категорично.
— Не прыгай. Тебе денежки пригодятся.
— Всем пригодятся.
— Вот не люблю я этих счетов! — сказал Войтин. — Просто терпеть не могу! И молод ты еще со мной спорить и меня угощать. Или у тебя опять принцип?
— Тогда пополам, — сдался я.
Мы зашли в “Пиво — воды”, где стояли автоматы. В окошечки были засунуты этикетки от бутылок: они соответствовали содержимому, которым заправляли автоматы. “Портвейн”, “Виньяк”, “Вермут”… Войтин взял в кассе жетоны. Один сунул мне.
— Потом. — Он отвел мою руку с деньгами. — Потом посчитаемся. Э, стаканы опять грязные?
— Вот привереда! — воскликнула кассирша за стойкой. — Вот Мишка-аристократ! — В ее голосе слышалась явная симпатия к Войтину. — Бывает, почитай, два раза на дню, и кажный раз ему грязные! Вчера только пропустил. А то ведь как на работу ходит!
Он, казалось, не обратил внимания на последние фразы.
— Да? Вообще верно. Алкоголь уничтожает бациллы. — Он нажал кнопку. Внутри автомата что-то заурчало. Из крана пролилась жидкая струйка вина. Войтин поглядел через стакан на свет и чокнулся со мной.
— На пляж не собираетесь? — спросил я и поставил стакан на стойку.
— Чего я там не видел.
— Солнышко, песок горячий. Природа сейчас на высоте.
— Настроения нет. Давай пей!
— Не идет что-то… А настроение появится! Поехали?
— Нет.
— Завтра дождь пойдет! — пообещал я. — Захотите позагорать, будет поздно.
“Да. Завтра… — подумал я. — Завтра будет десять дней как убит Ищенко”.
— Я загадывать разучился. Что будет завтра, одному богу известно. Впрочем, мне тоже, — мрачно сказал Войтин, уставясь себе под ноги в грязный кафельный пол.
— Может, поделитесь? Тогда мы будем знать втроем: бог, вы и я.
— Что?
— Что будет завтра, спрашиваю?
Он вскинул голову и, прищурясь, посмотрел на меня.
— Много будешь знать, скоро состаришься.
— Стариться не хочу.
— Тогда не спрашивай. И вообще, был бы ты матросом на моем траулере, я б тебя живо вышколил.
— “…ходит рыба-кит, а за ней на сейнере ходят рыбаки”, — пропел я.
— Это верно, — грустно сказал Войтин. — Еще будешь?
— Пропускаю. Куда вы торопитесь?
— На кудыкину гору. К лучшим людям. На тот свет. Удовлетворяет?
— Вроде рано собрались.
— В самый раз.
— Если так запивать будете, долго не проживете, — не выдержала кассирша и сочувственно потрясла пышной прической. — Враз ножки протянете!
 — Не каркай, — отрезал он. И вдруг обратился ко мне: — Понимаешь, студент, надо терпение иметь. Это великая вещь. Я был юнгой на “торгаше”, мы в Порт-Саид зашли. У трапа стоял полицейский. Босой, на плече ружье. Ружью — лет двести, стреляет на пятьдесят шагов круглыми пулями. Я прошу: “Дай посмотреть”. А он щеки надул, сделал страшное лицо и головой качает: “Нет. Нельзя”. Я опять прошу, а он гонит меня. Но в полдень он постелил коврик, положил ружье и встал на молитву. Он говорил с богом. Я спер ружье и разобрал его. Интере-есное ружье… Соль в чем? Я терпенье проявил… Понимаешь, к чему я клоню? А?
Я не понимал, но промолчал.
Кассирша слушала, навалившись грудью на стойку и подперев руками толстые щеки.
— Поставлю точку. Терпенье — великая вещь. Давно пора поставить, — невнятно пробормотал Войтин и посмотрел на свою руку. Сжал в пальцах стакан. Стакан выскользнул на пол. Брызнули осколки. — Эх!
— Я подберу! — закричала кассирша. — Я подберу, не беспокойтесь!
— Впрочем, тебе этого не понять, — сказал Войтин. — Лежи на солнышке. Загорай.
— С этим связано ваше ночное исчезновение? — серьезным тоном спросил я.
Он опять взглянул на меня с прищуром. Оглядел с ног до головы. Я явно пришелся ему не по вкусу.
— Извините, — сказал я, — если что не так.
— Опять за свое? Ты все время извиняешься. Ты пить еще будешь? Нет? Тогда пошли. Я в гостиницу, а ты отправляйся на свой пляж. И не обижайся, не люблю. Привет, толстуха! — крикнул он кассирше
Мы вышли.
— Вы не слишком оптимистично смотрите на жизнь, — заметил я.
— Ерунда! — он махнул рукой и пошел прочь.
“Слава богу, — размышлял я, направляясь туда, куда шел до встречи с Войтиным. — С ним ничего не случилось. А что могло случиться? Не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего, ничего не знаю…” У меня начинали сдавать нервы. Плохо.
Спустя несколько минут я выбрался на площадь. Автобусы стояли впритык друг к другу — огромные, Гладкие. Они напоминали стадо доисторических животных.
Возле красного автобуса, стоявшего на отшибе, топтался перед боковым зеркальцем шофер в синей холстинной куртке — плотный лысый человек. Пальцем он раздирал рот, пытаясь заглянуть поглубже. Потом что-то недовольно промычал и сплюнул.
У меня кончились спички, и я подошел прикурить.
— Болит?
— Всю ночь дергал, сволочь!
— К врачу надо.
— А вкалывать за меня кто будет? Дядя? — Он опять сплюнул. Ему было лет пятьдесят.
— Огоньку не найдется?
Он похлопал по карманам куртки и вынул коробок. Я прикурил.
— Благодарствую.
Под подошвой у меня что-то лежало, напоминающее камешек. Я отодвинул ногу. Ключ. Я поднял его.
— Не вы потеряли?
— У меня, парень, ключи на брелочке. Вот. Не такой я человек, чтобы ключи терять.
Я хотел бросить его, но что-то заставило меня приглядеться повнимательней: ключ был необычной формы. Господи, Войтина ключ! Значит, он был сегодня здесь.
Я опустил ключ в карман и подмигнул шоферу:
— Зачем добру пропадать! Может, сгодится в хозяйстве.
Мы стояли возле передних дверей автобуса. Я перевел взгляд на табличку. Автобус был из Радзуте. У окон уже сидели пассажиры.
— Прямо здесь пассажиров выпускаете, когда приезжаете из Радзуте? Не разворачиваетесь? — спросил я тоном, показывающим уважение к шоферской профессии. Видимо, это и был Черкиз. У него было крупное открытое лицо, которое портила гримаса: щекадергалась от зубной боли.
— На кой ляд еще разворачиваться!
— Очередь сомнет выходящих.
— Не сомне-ет. Ох!
— Скоро едете?
— Через пять минут. Влезай, ждать не буду.
Та-ак. Ключ Войтина. Это значило… А черт его знает, что это значило! Ясно было одно: Войтину что-то понадобилось в Радзуте. Но что? Что? Еще одно совпадение!
В то утро Черкиз дважды копался в моторе. Мотор расположен в кабине: если поднять капот, с улицы тебя не видно. Он сделал это как бы нарочно, — шоферы не могут сказать, что он был вне поля их зрения один раз. Нет, несколько. Уходил, приходил. Хоть всех опроси. Ну, вертелся тут. Ну, видели: одни — здесь, другие — в диспетчерской. Иллюзия постоянного присутствия. Но мальчик-то в самом деле видел его все время. И когда Черкиз проверял мотор — тоже: пол в салоне выше, чем в кабине. “Я начинаю запутываться в деталях, — подумал я, — и теряю способность отделять главное от второстепенного. Это оттого, что я слишком боюсь упустить его. Так тоже нельзя. Так я и в самом деле его упущу…”
Черкиз снова охнул и повернулся к проходившему мимо шоферу — тот был в такой же синей куртке.
— Здорово, Петр Карпыч! Зуб вот у меня разболелся, паразит, прямо криком кричи. Ночь не спал, понимаешь!..
Я отошел от автобуса. Заглянул в диспетчерскую будку: выход один, прямо против стоянки. Тут никуда не скроешься. Все шоферы в синих куртках. “Ну и что? — уныло подумал я. — Это ж не шапки-невидимки”. Мальчик видел его все время. Мороженое ждал, а не мяч гонял. Кстати, гонять он не умеет. То есть водит, а по воротам мажет. Мажет? Стоп. Читает запоем, очень много читает. Родители на него не обращают внимания. По воротам мажет. А? Да ну, ерунда. А все же… Это могло быть единственной “прорехой” в алиби водителя, который скрывал знание немецкого языка и пятого ездил не в очередь.
Я вернулся к столбу с расписанием и проводил взглядом автобус, отошедший на Радзуте. Ни Пухальского, ни сопровождавшего его человека Валдманиса среди пассажиров не было.
“Один шанс из тысячи, — думал я, уходя с площади. — Но и его я должен иметь в виду…”
— Не каркай, — отрезал он. И вдруг обратился ко мне: — Понимаешь, студент, надо терпение иметь. Это великая вещь. Я был юнгой на “торгаше”, мы в Порт-Саид зашли. У трапа стоял полицейский. Босой, на плече ружье. Ружью — лет двести, стреляет на пятьдесят шагов круглыми пулями. Я прошу: “Дай посмотреть”. А он щеки надул, сделал страшное лицо и головой качает: “Нет. Нельзя”. Я опять прошу, а он гонит меня. Но в полдень он постелил коврик, положил ружье и встал на молитву. Он говорил с богом. Я спер ружье и разобрал его. Интере-есное ружье… Соль в чем? Я терпенье проявил… Понимаешь, к чему я клоню? А?
Я не понимал, но промолчал.
Кассирша слушала, навалившись грудью на стойку и подперев руками толстые щеки.
— Поставлю точку. Терпенье — великая вещь. Давно пора поставить, — невнятно пробормотал Войтин и посмотрел на свою руку. Сжал в пальцах стакан. Стакан выскользнул на пол. Брызнули осколки. — Эх!
— Я подберу! — закричала кассирша. — Я подберу, не беспокойтесь!
— Впрочем, тебе этого не понять, — сказал Войтин. — Лежи на солнышке. Загорай.
— С этим связано ваше ночное исчезновение? — серьезным тоном спросил я.
Он опять взглянул на меня с прищуром. Оглядел с ног до головы. Я явно пришелся ему не по вкусу.
— Извините, — сказал я, — если что не так.
— Опять за свое? Ты все время извиняешься. Ты пить еще будешь? Нет? Тогда пошли. Я в гостиницу, а ты отправляйся на свой пляж. И не обижайся, не люблю. Привет, толстуха! — крикнул он кассирше
Мы вышли.
— Вы не слишком оптимистично смотрите на жизнь, — заметил я.
— Ерунда! — он махнул рукой и пошел прочь.
“Слава богу, — размышлял я, направляясь туда, куда шел до встречи с Войтиным. — С ним ничего не случилось. А что могло случиться? Не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего, ничего не знаю…” У меня начинали сдавать нервы. Плохо.
Спустя несколько минут я выбрался на площадь. Автобусы стояли впритык друг к другу — огромные, Гладкие. Они напоминали стадо доисторических животных.
Возле красного автобуса, стоявшего на отшибе, топтался перед боковым зеркальцем шофер в синей холстинной куртке — плотный лысый человек. Пальцем он раздирал рот, пытаясь заглянуть поглубже. Потом что-то недовольно промычал и сплюнул.
У меня кончились спички, и я подошел прикурить.
— Болит?
— Всю ночь дергал, сволочь!
— К врачу надо.
— А вкалывать за меня кто будет? Дядя? — Он опять сплюнул. Ему было лет пятьдесят.
— Огоньку не найдется?
Он похлопал по карманам куртки и вынул коробок. Я прикурил.
— Благодарствую.
Под подошвой у меня что-то лежало, напоминающее камешек. Я отодвинул ногу. Ключ. Я поднял его.
— Не вы потеряли?
— У меня, парень, ключи на брелочке. Вот. Не такой я человек, чтобы ключи терять.
Я хотел бросить его, но что-то заставило меня приглядеться повнимательней: ключ был необычной формы. Господи, Войтина ключ! Значит, он был сегодня здесь.
Я опустил ключ в карман и подмигнул шоферу:
— Зачем добру пропадать! Может, сгодится в хозяйстве.
Мы стояли возле передних дверей автобуса. Я перевел взгляд на табличку. Автобус был из Радзуте. У окон уже сидели пассажиры.
— Прямо здесь пассажиров выпускаете, когда приезжаете из Радзуте? Не разворачиваетесь? — спросил я тоном, показывающим уважение к шоферской профессии. Видимо, это и был Черкиз. У него было крупное открытое лицо, которое портила гримаса: щекадергалась от зубной боли.
— На кой ляд еще разворачиваться!
— Очередь сомнет выходящих.
— Не сомне-ет. Ох!
— Скоро едете?
— Через пять минут. Влезай, ждать не буду.
Та-ак. Ключ Войтина. Это значило… А черт его знает, что это значило! Ясно было одно: Войтину что-то понадобилось в Радзуте. Но что? Что? Еще одно совпадение!
В то утро Черкиз дважды копался в моторе. Мотор расположен в кабине: если поднять капот, с улицы тебя не видно. Он сделал это как бы нарочно, — шоферы не могут сказать, что он был вне поля их зрения один раз. Нет, несколько. Уходил, приходил. Хоть всех опроси. Ну, вертелся тут. Ну, видели: одни — здесь, другие — в диспетчерской. Иллюзия постоянного присутствия. Но мальчик-то в самом деле видел его все время. И когда Черкиз проверял мотор — тоже: пол в салоне выше, чем в кабине. “Я начинаю запутываться в деталях, — подумал я, — и теряю способность отделять главное от второстепенного. Это оттого, что я слишком боюсь упустить его. Так тоже нельзя. Так я и в самом деле его упущу…”
Черкиз снова охнул и повернулся к проходившему мимо шоферу — тот был в такой же синей куртке.
— Здорово, Петр Карпыч! Зуб вот у меня разболелся, паразит, прямо криком кричи. Ночь не спал, понимаешь!..
Я отошел от автобуса. Заглянул в диспетчерскую будку: выход один, прямо против стоянки. Тут никуда не скроешься. Все шоферы в синих куртках. “Ну и что? — уныло подумал я. — Это ж не шапки-невидимки”. Мальчик видел его все время. Мороженое ждал, а не мяч гонял. Кстати, гонять он не умеет. То есть водит, а по воротам мажет. Мажет? Стоп. Читает запоем, очень много читает. Родители на него не обращают внимания. По воротам мажет. А? Да ну, ерунда. А все же… Это могло быть единственной “прорехой” в алиби водителя, который скрывал знание немецкого языка и пятого ездил не в очередь.
Я вернулся к столбу с расписанием и проводил взглядом автобус, отошедший на Радзуте. Ни Пухальского, ни сопровождавшего его человека Валдманиса среди пассажиров не было.
“Один шанс из тысячи, — думал я, уходя с площади. — Но и его я должен иметь в виду…”
Глава 24. Кто кого?
 Я поднимался по лестнице медленно: жара чувствовалась и здесь.
На площадке между первым и вторым этажами знакомая уже мне уборщица (“Пес такой! — вспомнил я. — Ущипнул меня…”) посыпала ковровую дорожку спитым чаем и мела веником. Выше, на ступеньках, играл оловянным солдатиком мальчуган лет девяти — наверное, ее сын.
— Добрый день, — сказал я.
— Вы с какого номера?
— Из триста пятого.
— А, у вас я прибрала. Я думала, с триста девятого: они ушли и ключ унесли.
— В нашем номере народ дисциплинированный, — сказал я. И пошел к себе.
Номер был заперт.
Я спустился на второй этаж.
Дежурная — дамочка с выщипанными бровями — подала ключ и сообщила:
— К вам приходили. Ждали вас, а потом ушли.
— Много человек? — удивился я.
— Зачем много? Один. Толстенький такой. Все глазами хлопает. Скажет слово — хлопнет, скажет — хлопнет.
“Буш”, — догадался я.
— Он здесь ждал?
— Нет, он ключ принес.
— Какой ключ? Вы бы по порядку рассказали.
— Ну от номера от вашего! Приносит ключ и дает мне. Я его спрашиваю: “Вы разве у нас проживаете?” А он говорит: “Нет, я молодого человека из триста пятого ждал, а больше ждать не буду, может, он только вечером придет, возьмите ключ”. Вы не беспокойтесь, ежели насчет вещей. Я его знаю. Он приходил тут к одному. Которого убили. Слышали?
— А где он ключ взял?
— Ему моряк оставил. Вот пьяница, прости господи!
“Завтра будет дежурить Быстрицкая”, — почему-то вспомнил я. И спросил:
— Толстенький ничего не передавал?
— Нет. Присел здесь, журнальчик вон полистал, а потом вздохнул, сказал: “Скушно жить на белом свете” — и ушел.
Я поднялся в номер.
Времени было час дня. Жара, воскресенье. Я решил взять плавки и махнуть на пляж: там я мог сейчас встретить почти всех, кто интересовал меня. Нужно было запастись деньгами.
Я выдвинул из-под кровати чемодан (он был у меня не заперт) и откинул крышку. Среди вещей чего-то не хватало. Чего? Я не сразу сообразил, что не было фотоаппарата. Нет, в тумбочку я его не клал. Вчера, когда я доставал бритву, он был на месте. Сегодня утром я его тоже видел. Украли?
Бумажник был цел.
— Очень странно, — сказал я вслух.
Моряк? Нет, конечно. Пухальский? Он не пойдет на кражу в номере. Остается Буш? Ерунда какая-то.
— Итак, потерпевшая сторона: студент. Что вам стоит провести следствие, товарищ старший лейтенант, и помочь бедному студенту? — опять сказал я вслух. — Помогите, пожалуйста.
Я закурил. Придется бежать к дежурной и, размахивая руками, делиться несчастьем. “Все-таки я крепко “вошел в образ”, — подумал я. Мне очень не хотелось привлекать к себе внимание, но для студента фотоаппарат — целое состояние.
Я опять спустился на второй этаж.
Когда я шел по коридору, то чуть не упал на сваленные у стены доски: на туфле развязался шнурок, а я наступил на него. Я нагнулся. Между досками что-то лежало. Я слегка приподнял верхнюю доску. Под ней лежала моя “Смена-2” в расстегнутом футляре из кожзаменителя. Так! Я сразу подвинул доску на место. Не я положил сюда аппарат, не мне брать. Столик дежурной отсюда не виден: коридор заворачивает вправо. Значит, она тоже не могла ничего увидеть.
Я завязал шнурок и снова поднялся в номер. Лег на койку.
Кто-то украл фотоаппарат. И спрятал. Но какой же вор будет так нелепо прятать украденную вещь? Взял — и уноси подальше. Помешали? Чепуха. Если уж ты вынес фотоаппарат из номера и спустился на второй этаж, то самое правдоподобное: притвориться, что аппарат твой.
Я лег поудобнее и стал думать дальше. А если кто-то хотел убедить меня в том, что совершена кража? Я должен был обнаружить пропажу фотоаппарата. И только. Мне просто повезло. Здорово повезло. Но опять — почему аппарат спрятан в досках? Сегодня воскресенье. Завтра могут прийти рабочие. Ладно. Пока остановимся на гипотезе: вор не был вором. А зачем эта инсценировка? Кто-то написал анонимное письмо, чтобы отвлечь наше внимание. Тут все ясно. Но при чем тут я, московский студент, посторонний человек?
“Кто-то сомневается в том, что я студент”, — подумал я. Зачем кража? Чтобы проверить, как я буду реагировать. А как я могу реагировать? Очень просто: либо подниму шум, либо не подниму шума. Если студент — подниму. Но если я очень молодой (моя внешность могла обмануть кого угодно) и неопытный работник следственных органов, то могу сделать ошибку. Не захочу привлекать к себе внимание. Так? Так. Это была моя первая мысль, когда я обнаружил кражу. Но странный способ проверки. Какой-то примитивный. Надо выяснить, должны ли прийти завтра рабочие. Если нет, кому об этом может быть известно.
Ладно. Иду вниз и делаю заявление о пропаже.
И тут меня осенило. Фотоаппарат лежит за досками. Я этого не знаю. Если я заглотну наживку, что предпримет он? Ведь эту проверку он устраивал не из простого любопытства, он понимает, что рано или поздно должен попасть в поле нашего зрения. Самая пассивная реакция: будет опасаться меня, а не всего мира. Второе — скроется. Но я его хорошо знаю, а круг таких людей ограничен. И Валдманис будет настороже. Третье. Если я, по его предположениям, на верном пути и стал опасен, он может попытаться убрать меня. Хм, новое убийство — новые улики. Такой вариант мог быть ему полезен только в одном случае: если все удастся обставить так, что подозрение падет на кого-то другого. Тогда и убийство Ищенко будет приписано не ему. С другой стороны, он, может быть, думает, что я уже знаю: он — это он. Он считает, что чем-то выдал себя. Тогда он может пойти на все, предполагая, что я еще не поделился ни с кем своими подозрениями, — ведь он на свободе, — а хочу прежде окончательно во всем убедиться. “Это, в общем, нереально, — прикидывает он. — Но это единственный шанс”. Для него что одно убийство, что два: “вышка” обеспечена. Да еще старые “грехи”. Тут мне стало на момент страшно. Не за себя. Нет. По улицам городка ходил человек, готовый убить в любую минуту. Но если я раскроюсь, у меня есть шанс ускорить расследование. Так не стать ли мне приманкой? Козленком, которого привязали к дереву? Козленком — и одновременно охотником. Вызвать огонь на себя и засечь противника. Так? Только не спешить. Обдумать все по порядку. “Законсервируйся, как болгарские помидорчики, — сказал мне на прощанье начальник отдела Шимкус. — Расшифровка “в крайнем случае”. Может быть, это тот самый случай? Чем я рискую? Ничем.
Почти ничем.
Потому что, если у него есть пистолет или обрез, он может стрелять вечером в спину. Вряд ли он пойдет на это. Но если пойдет, моим товарищам придется начинать все сначала. Я не имею права рисковать в одиночку. Значит, опять-таки не обойтись без Валдманиса. “Если я ошибся, мне не дадут прохода в комитете”, — машинально подумал я. Впрочем, Шимкус всегда говорил: “Не бойтесь ошибаться, не ошибаются бездельники. Умейте исправлять ошибки”. Так или иначе, сейчас Кентавр находится в “состоянии покоя”, говоря языком физики. “Открыв” во мне работника КГБ, он должен будет прореагировать на это открытие. А я должен буду уловить его реакцию. Просто, как в задачнике. “Мне придется быть чем-то вроде сейсмографа, — подумал я. — Или мишенью”.
Я принял решение. Потушил в пепельнице окурок и встал с койки. Вышел в коридор.
В коридоре было пусто.
Я попробовал открыть 309-й номер своим ключом: уборщица говорила, что там никого нет. Если я смогу войти туда, то войти в 305-й номер мог кто-то и посторонний. Не Буш, не Пухальский и не моряк. Замок не поддавался. Я подошел к 307-му и прислушался. За дверью стояла тишина. Дверь заперта, а ключа в скважине нет. В крайнем случае скажу, что ошибся номером. Я вставил ключ. Нажал. Ключ повернулся!
Я спустился к дежурной.
— Послушайте, долго еще такая грязь будет? Начали ремонт, а потом бросили!
— Рабочие в среду придут.
“Так”, — подумал я.
— Но ведь безобразие!
— Конечно, конечно. Вы уж извините… Директор в исполком звонил, а они уперлись: только в среду дадим рабочих обратно. Нам, дескать, надо — это они говорят — веранду для танцев в городском саду открывать, сезон начался, а она не крашена, и столбы погнили.
— Порядочки! — Я не очень любил говорить в таком тоне с людьми, но сейчас это было нужно для дела.
— Сегодня ваш сосед уже учинил скандал: наткнулся на козлы и стал меня ругать. Я директора позвала. Тот говорит: “В среду, дорогой товарищ, начнем”. А он кричит: “Меня в среду, может, уже не будет. А ногу я или кто другой вполне свободно можем до среды поломать”. Ну, директор велел козлы в подвал снести.
— Мудро. Это какой же сосед — в очках?
— Моряк. В очках — тот тоже шел по коридору. Но он постоял молча, взял ключ и ушел наверх.
Выходит, про среду знали все, кроме меня. Н-да!
В вестибюле я чуть не налетел на директора гостиницы.
— Стоп! — он ткнул меня в грудь указательным пальцем. — Почему не заходишь, дорогой? Я тебя приглашал. Как делишки, москвич?
Черт! Он умел встречаться удивительно не вовремя. Я очень вежливо сказал ему, что обязательно зайду, и как-нибудь мы с ним отлично проведем время, но сейчас мне недосуг.
— Люблю, понимаешь, культурную беседу! — сказал он. — Давеча с артистом выпивал, он в сто седьмом остановился. Он в кино немецкого полковника играет. Та-ак умеет зубами скрипеть! Талант!
Опять мне показалось, что он умнее того, что говорит. У него были насмешливые, искушенные глаза и рот кривился в усмешке. Какое-то несоответствие формы и содержания, как говорят литературоведы.
— Но я же не артист!
— Я знаю, — отвечал Иван Сергеевич. — Но ты бойкий парень. Язык у тебя как бритва. Студент. Очень уважаю таких. Только насчет Айвазовского ты ошибочку допускаешь…
Я отвязался от него и вышел на улицу.
Автомат за углом не работал.
Пришлось пройти по бульвару. Весь город был на море, и на бульваре я увидел только двух стариков в кепках: они играли в шахматы в тени под развесистым тополем. Наконец я нашел исправный автомат и набрал номер.
К телефону подошел начальник горотдела: у него тоже сейчас не было выходных. “Мальчик много читает. — сказал я. — При большой нагрузке можно испортить зрение”. Догадка, которая мелькнула у меня на площади, теперь вовсе не казалась мне стоящей — фотоаппарат все перевернул, — но я привык быть добросовестным. “Он не носит очков, — возразил Валдманис. — Янкаускас не упустил бы такой детали в докладе”. — “Но родители не обращают на него внимания”. — “А в школе?” — “Он может сидеть на первой парте… Если он близорук, Черкиз мог смешаться с толпой шоферов в таких же синих куртках, как на нем, исчезнуть с площади, а мальчику казалось, что он видит его по-прежнему”. — “Гм, остроумно, — с сомнением сказал Валдманис. — Ладно, попробуем”. Я подумал: “Интересно, что ты скажешь, когда услышишь про фотоаппарат?” — и сказал: “Меня смущает достаток в доме Генриха Осиповича. Он живет не по средствам. Откуда деньги? Проверьте, пожалуйста”. — “Уже”, — сказал Валдманис. “Что уже?” — “Проверил. Все очень просто. Он был раньше отличным краснодеревцем и теперь изредка подрабатывает по этому делу”. — “Что ж, — сказал я. — Тогда все в порядке”. Я нарочно тянул время. Ладно, решил я. В нескольких словах я рассказал Валдманису историю с фотоаппаратом. “Проверьте уборщицу”, — попросил я. “Ее зовут Марта?” — спросил Валдманис. “Да”. — “Я ее знаю. Она нам как-то помогла. Абсолютно честный человек”. Я хотел попросить начальника горотдела поинтересоваться директором гостиницы Иваном Сергеевичем. Но передумал. И ничего не сказал. “Может, вы перемудрили и это простая кража?” — спросил Валдманис. “Почему украден только фотоаппарат? Почему он спрятан в досках?” — возразил я. “Вот это меня и смущает”. — “Ставка на мою неопытность. Другого варианта не вижу”. Теперь я рассказал о своей затее. “Ладно. Где вы находитесь?” — спросил Валдманис. Я сказал, что сейчас еще рано: мне должно быть дано время на обнаружение пропажи. “Лучше подстраховаться, — твердо сказал Валдманис. — Где вы?” Я объяснил. “Пришлю Красухина, — сказал он. — Вы его знаете. Он встречал вас в первый раз”. — “Хорошо”. — “Но вообще что-то тут не так. Я сомневаюсь”. Я и сам сомневался. “Поживем — увидим”, — бодро сказал я. И повесил трубку.
Через десять минут на соседнюю скамейку опустился Красухин. Он был в соломенной шляпе. “Он слишком выделяется, — мельком подумал я. — Молодые парни таких шляп теперь не носят”. Я бросил сигарету и встал. Младший лейтенант не шелохнулся, ожидая, пока между нами образуется интервал.
Я попробовал позвонить Бушу, но никто не подошел. Я свернул в один переулок. В другой. Младший лейтенант следовал позади. В руках у него очутилась авоська. В ней свернутые в трубку газеты, какой-то кулек. Нет, в таком “оформлении” шляпа не нарушала типажа. Семья, дети. Воскресный день. Идет в магазин за продуктами. “Зря я к нему придрался”, — подумал я.
Я шел по городу.
“Если б Владимир Игнатьевич Малин остался тогда жив, этой прогулки не было бы”, — думал я.
Я поднимался по лестнице медленно: жара чувствовалась и здесь.
На площадке между первым и вторым этажами знакомая уже мне уборщица (“Пес такой! — вспомнил я. — Ущипнул меня…”) посыпала ковровую дорожку спитым чаем и мела веником. Выше, на ступеньках, играл оловянным солдатиком мальчуган лет девяти — наверное, ее сын.
— Добрый день, — сказал я.
— Вы с какого номера?
— Из триста пятого.
— А, у вас я прибрала. Я думала, с триста девятого: они ушли и ключ унесли.
— В нашем номере народ дисциплинированный, — сказал я. И пошел к себе.
Номер был заперт.
Я спустился на второй этаж.
Дежурная — дамочка с выщипанными бровями — подала ключ и сообщила:
— К вам приходили. Ждали вас, а потом ушли.
— Много человек? — удивился я.
— Зачем много? Один. Толстенький такой. Все глазами хлопает. Скажет слово — хлопнет, скажет — хлопнет.
“Буш”, — догадался я.
— Он здесь ждал?
— Нет, он ключ принес.
— Какой ключ? Вы бы по порядку рассказали.
— Ну от номера от вашего! Приносит ключ и дает мне. Я его спрашиваю: “Вы разве у нас проживаете?” А он говорит: “Нет, я молодого человека из триста пятого ждал, а больше ждать не буду, может, он только вечером придет, возьмите ключ”. Вы не беспокойтесь, ежели насчет вещей. Я его знаю. Он приходил тут к одному. Которого убили. Слышали?
— А где он ключ взял?
— Ему моряк оставил. Вот пьяница, прости господи!
“Завтра будет дежурить Быстрицкая”, — почему-то вспомнил я. И спросил:
— Толстенький ничего не передавал?
— Нет. Присел здесь, журнальчик вон полистал, а потом вздохнул, сказал: “Скушно жить на белом свете” — и ушел.
Я поднялся в номер.
Времени было час дня. Жара, воскресенье. Я решил взять плавки и махнуть на пляж: там я мог сейчас встретить почти всех, кто интересовал меня. Нужно было запастись деньгами.
Я выдвинул из-под кровати чемодан (он был у меня не заперт) и откинул крышку. Среди вещей чего-то не хватало. Чего? Я не сразу сообразил, что не было фотоаппарата. Нет, в тумбочку я его не клал. Вчера, когда я доставал бритву, он был на месте. Сегодня утром я его тоже видел. Украли?
Бумажник был цел.
— Очень странно, — сказал я вслух.
Моряк? Нет, конечно. Пухальский? Он не пойдет на кражу в номере. Остается Буш? Ерунда какая-то.
— Итак, потерпевшая сторона: студент. Что вам стоит провести следствие, товарищ старший лейтенант, и помочь бедному студенту? — опять сказал я вслух. — Помогите, пожалуйста.
Я закурил. Придется бежать к дежурной и, размахивая руками, делиться несчастьем. “Все-таки я крепко “вошел в образ”, — подумал я. Мне очень не хотелось привлекать к себе внимание, но для студента фотоаппарат — целое состояние.
Я опять спустился на второй этаж.
Когда я шел по коридору, то чуть не упал на сваленные у стены доски: на туфле развязался шнурок, а я наступил на него. Я нагнулся. Между досками что-то лежало. Я слегка приподнял верхнюю доску. Под ней лежала моя “Смена-2” в расстегнутом футляре из кожзаменителя. Так! Я сразу подвинул доску на место. Не я положил сюда аппарат, не мне брать. Столик дежурной отсюда не виден: коридор заворачивает вправо. Значит, она тоже не могла ничего увидеть.
Я завязал шнурок и снова поднялся в номер. Лег на койку.
Кто-то украл фотоаппарат. И спрятал. Но какой же вор будет так нелепо прятать украденную вещь? Взял — и уноси подальше. Помешали? Чепуха. Если уж ты вынес фотоаппарат из номера и спустился на второй этаж, то самое правдоподобное: притвориться, что аппарат твой.
Я лег поудобнее и стал думать дальше. А если кто-то хотел убедить меня в том, что совершена кража? Я должен был обнаружить пропажу фотоаппарата. И только. Мне просто повезло. Здорово повезло. Но опять — почему аппарат спрятан в досках? Сегодня воскресенье. Завтра могут прийти рабочие. Ладно. Пока остановимся на гипотезе: вор не был вором. А зачем эта инсценировка? Кто-то написал анонимное письмо, чтобы отвлечь наше внимание. Тут все ясно. Но при чем тут я, московский студент, посторонний человек?
“Кто-то сомневается в том, что я студент”, — подумал я. Зачем кража? Чтобы проверить, как я буду реагировать. А как я могу реагировать? Очень просто: либо подниму шум, либо не подниму шума. Если студент — подниму. Но если я очень молодой (моя внешность могла обмануть кого угодно) и неопытный работник следственных органов, то могу сделать ошибку. Не захочу привлекать к себе внимание. Так? Так. Это была моя первая мысль, когда я обнаружил кражу. Но странный способ проверки. Какой-то примитивный. Надо выяснить, должны ли прийти завтра рабочие. Если нет, кому об этом может быть известно.
Ладно. Иду вниз и делаю заявление о пропаже.
И тут меня осенило. Фотоаппарат лежит за досками. Я этого не знаю. Если я заглотну наживку, что предпримет он? Ведь эту проверку он устраивал не из простого любопытства, он понимает, что рано или поздно должен попасть в поле нашего зрения. Самая пассивная реакция: будет опасаться меня, а не всего мира. Второе — скроется. Но я его хорошо знаю, а круг таких людей ограничен. И Валдманис будет настороже. Третье. Если я, по его предположениям, на верном пути и стал опасен, он может попытаться убрать меня. Хм, новое убийство — новые улики. Такой вариант мог быть ему полезен только в одном случае: если все удастся обставить так, что подозрение падет на кого-то другого. Тогда и убийство Ищенко будет приписано не ему. С другой стороны, он, может быть, думает, что я уже знаю: он — это он. Он считает, что чем-то выдал себя. Тогда он может пойти на все, предполагая, что я еще не поделился ни с кем своими подозрениями, — ведь он на свободе, — а хочу прежде окончательно во всем убедиться. “Это, в общем, нереально, — прикидывает он. — Но это единственный шанс”. Для него что одно убийство, что два: “вышка” обеспечена. Да еще старые “грехи”. Тут мне стало на момент страшно. Не за себя. Нет. По улицам городка ходил человек, готовый убить в любую минуту. Но если я раскроюсь, у меня есть шанс ускорить расследование. Так не стать ли мне приманкой? Козленком, которого привязали к дереву? Козленком — и одновременно охотником. Вызвать огонь на себя и засечь противника. Так? Только не спешить. Обдумать все по порядку. “Законсервируйся, как болгарские помидорчики, — сказал мне на прощанье начальник отдела Шимкус. — Расшифровка “в крайнем случае”. Может быть, это тот самый случай? Чем я рискую? Ничем.
Почти ничем.
Потому что, если у него есть пистолет или обрез, он может стрелять вечером в спину. Вряд ли он пойдет на это. Но если пойдет, моим товарищам придется начинать все сначала. Я не имею права рисковать в одиночку. Значит, опять-таки не обойтись без Валдманиса. “Если я ошибся, мне не дадут прохода в комитете”, — машинально подумал я. Впрочем, Шимкус всегда говорил: “Не бойтесь ошибаться, не ошибаются бездельники. Умейте исправлять ошибки”. Так или иначе, сейчас Кентавр находится в “состоянии покоя”, говоря языком физики. “Открыв” во мне работника КГБ, он должен будет прореагировать на это открытие. А я должен буду уловить его реакцию. Просто, как в задачнике. “Мне придется быть чем-то вроде сейсмографа, — подумал я. — Или мишенью”.
Я принял решение. Потушил в пепельнице окурок и встал с койки. Вышел в коридор.
В коридоре было пусто.
Я попробовал открыть 309-й номер своим ключом: уборщица говорила, что там никого нет. Если я смогу войти туда, то войти в 305-й номер мог кто-то и посторонний. Не Буш, не Пухальский и не моряк. Замок не поддавался. Я подошел к 307-му и прислушался. За дверью стояла тишина. Дверь заперта, а ключа в скважине нет. В крайнем случае скажу, что ошибся номером. Я вставил ключ. Нажал. Ключ повернулся!
Я спустился к дежурной.
— Послушайте, долго еще такая грязь будет? Начали ремонт, а потом бросили!
— Рабочие в среду придут.
“Так”, — подумал я.
— Но ведь безобразие!
— Конечно, конечно. Вы уж извините… Директор в исполком звонил, а они уперлись: только в среду дадим рабочих обратно. Нам, дескать, надо — это они говорят — веранду для танцев в городском саду открывать, сезон начался, а она не крашена, и столбы погнили.
— Порядочки! — Я не очень любил говорить в таком тоне с людьми, но сейчас это было нужно для дела.
— Сегодня ваш сосед уже учинил скандал: наткнулся на козлы и стал меня ругать. Я директора позвала. Тот говорит: “В среду, дорогой товарищ, начнем”. А он кричит: “Меня в среду, может, уже не будет. А ногу я или кто другой вполне свободно можем до среды поломать”. Ну, директор велел козлы в подвал снести.
— Мудро. Это какой же сосед — в очках?
— Моряк. В очках — тот тоже шел по коридору. Но он постоял молча, взял ключ и ушел наверх.
Выходит, про среду знали все, кроме меня. Н-да!
В вестибюле я чуть не налетел на директора гостиницы.
— Стоп! — он ткнул меня в грудь указательным пальцем. — Почему не заходишь, дорогой? Я тебя приглашал. Как делишки, москвич?
Черт! Он умел встречаться удивительно не вовремя. Я очень вежливо сказал ему, что обязательно зайду, и как-нибудь мы с ним отлично проведем время, но сейчас мне недосуг.
— Люблю, понимаешь, культурную беседу! — сказал он. — Давеча с артистом выпивал, он в сто седьмом остановился. Он в кино немецкого полковника играет. Та-ак умеет зубами скрипеть! Талант!
Опять мне показалось, что он умнее того, что говорит. У него были насмешливые, искушенные глаза и рот кривился в усмешке. Какое-то несоответствие формы и содержания, как говорят литературоведы.
— Но я же не артист!
— Я знаю, — отвечал Иван Сергеевич. — Но ты бойкий парень. Язык у тебя как бритва. Студент. Очень уважаю таких. Только насчет Айвазовского ты ошибочку допускаешь…
Я отвязался от него и вышел на улицу.
Автомат за углом не работал.
Пришлось пройти по бульвару. Весь город был на море, и на бульваре я увидел только двух стариков в кепках: они играли в шахматы в тени под развесистым тополем. Наконец я нашел исправный автомат и набрал номер.
К телефону подошел начальник горотдела: у него тоже сейчас не было выходных. “Мальчик много читает. — сказал я. — При большой нагрузке можно испортить зрение”. Догадка, которая мелькнула у меня на площади, теперь вовсе не казалась мне стоящей — фотоаппарат все перевернул, — но я привык быть добросовестным. “Он не носит очков, — возразил Валдманис. — Янкаускас не упустил бы такой детали в докладе”. — “Но родители не обращают на него внимания”. — “А в школе?” — “Он может сидеть на первой парте… Если он близорук, Черкиз мог смешаться с толпой шоферов в таких же синих куртках, как на нем, исчезнуть с площади, а мальчику казалось, что он видит его по-прежнему”. — “Гм, остроумно, — с сомнением сказал Валдманис. — Ладно, попробуем”. Я подумал: “Интересно, что ты скажешь, когда услышишь про фотоаппарат?” — и сказал: “Меня смущает достаток в доме Генриха Осиповича. Он живет не по средствам. Откуда деньги? Проверьте, пожалуйста”. — “Уже”, — сказал Валдманис. “Что уже?” — “Проверил. Все очень просто. Он был раньше отличным краснодеревцем и теперь изредка подрабатывает по этому делу”. — “Что ж, — сказал я. — Тогда все в порядке”. Я нарочно тянул время. Ладно, решил я. В нескольких словах я рассказал Валдманису историю с фотоаппаратом. “Проверьте уборщицу”, — попросил я. “Ее зовут Марта?” — спросил Валдманис. “Да”. — “Я ее знаю. Она нам как-то помогла. Абсолютно честный человек”. Я хотел попросить начальника горотдела поинтересоваться директором гостиницы Иваном Сергеевичем. Но передумал. И ничего не сказал. “Может, вы перемудрили и это простая кража?” — спросил Валдманис. “Почему украден только фотоаппарат? Почему он спрятан в досках?” — возразил я. “Вот это меня и смущает”. — “Ставка на мою неопытность. Другого варианта не вижу”. Теперь я рассказал о своей затее. “Ладно. Где вы находитесь?” — спросил Валдманис. Я сказал, что сейчас еще рано: мне должно быть дано время на обнаружение пропажи. “Лучше подстраховаться, — твердо сказал Валдманис. — Где вы?” Я объяснил. “Пришлю Красухина, — сказал он. — Вы его знаете. Он встречал вас в первый раз”. — “Хорошо”. — “Но вообще что-то тут не так. Я сомневаюсь”. Я и сам сомневался. “Поживем — увидим”, — бодро сказал я. И повесил трубку.
Через десять минут на соседнюю скамейку опустился Красухин. Он был в соломенной шляпе. “Он слишком выделяется, — мельком подумал я. — Молодые парни таких шляп теперь не носят”. Я бросил сигарету и встал. Младший лейтенант не шелохнулся, ожидая, пока между нами образуется интервал.
Я попробовал позвонить Бушу, но никто не подошел. Я свернул в один переулок. В другой. Младший лейтенант следовал позади. В руках у него очутилась авоська. В ней свернутые в трубку газеты, какой-то кулек. Нет, в таком “оформлении” шляпа не нарушала типажа. Семья, дети. Воскресный день. Идет в магазин за продуктами. “Зря я к нему придрался”, — подумал я.
Я шел по городу.
“Если б Владимир Игнатьевич Малин остался тогда жив, этой прогулки не было бы”, — думал я.
Глава 25. “Козленок, привязанный к дереву”
 Я шел по городу, и у меня было такое ощущение, будто я нахожусь на сцене: я ярко освещен театральными прожекторами и хорошо виден, а он сидит в зрительном зале и неразличим для меня. Потом я подумал, что тот, кто взял фотоаппарат, должен был приладить к чемодану какое-нибудь контрольное устройство вроде нитки, чтобы знать: лазил я туда или нет. Я хотел вернуться в гостиницу и проверить, но передумал. Сейчас это уже не имело значения.
В окне частной сапожной мастерской рядом с геранью я увидел деревянную копию нотр-дамской химеры. Дьявол, показывающий язык времени. Это была не обычная копия. Я простоял перед ней минут пять. Этот дьявол не походил на парижского. Какой-то лукавый и вместе с тем надменный. Он не был равнодушен. Он знал свою силу.
Я зашел в мастерскую. Небритый сапожник в белой рубашке с галстуком сказал мне, что это единственная память о брате-скульпторе, замученном в гестапо.
— Он был партизаном? — спросил я.
И услышал в ответ:
— Да.
— Из местного отряда?
— Да.
Значит, он убил и этого человека. Он. Тот кто, возможно, уже шел по моему следу.
— А Малина вы случайно не знали? Владимира Игнатьевича? — осторожно спросил я. — У нас был такой друг семьи, Малин. Он тоже был убит гестаповцами в этом городе.
— Нет. Я жил до войны в Каунасе. — объяснил сапожник.
Я и не надеялся на удачу. Просто так спросил. “А Суркин жил до войны в Радзуте, — без всякой связи подумал я, — и потом переехал сюда. Ищенко же, наоборот, жил здесь, служил полицаем в Радзуте, снова вернулся сюда и вступил в партизанский отряд. Что-то слишком много они путешествовали… А-а, ерунда. Я хватаюсь за что попало. Здесь нет криминала, здесь вообще ничего нет…”
— Жаль. Ваш брат был очень талантлив. Он был бы знаменитым скульптором.
— Да, — сказал небритый сапожник.
Я вышел от него и свернул на мощенную булыжником улицу-кривулю. Сюда почти не попадало солнце. От каменных стен несло погребной сыростью. Возле подъездов на чугунных столбах висели старинные фонари. Почти на каждом доме чернела чугунная доска: “Памятник архитектуры”. “Тогда тоже были войны”, — подумал я. Были свои герои и свои предатели. И были люди, искавшие этих предателей. Но, наверное, многие предатели доживали до старости, скрывая в глубокой тайне свое прошлое. Они становились добропорядочными, почтенными гражданами. “А ты не скроешься, — зло подумал я. — Не будет тебе спокойной старости…” Улочка неожиданно вывела меня к реке, названием которой как-то интересовался Пухальский. Я пошел над водой — быстрой, не по-городскому чистой.
Берег порос крапивой. Она нагрелась на солнце и остро пахла. На другой стороне лепились на обрыве домики. Во дворах сушилось на веревках белье. Воскресная стирка. Где-то заорал петух. Это был уже не город, а пригород. Высоко вздымая в небо свои башни, над ним громоздился тевтонский замок.
Я оглянулся. Лейтенант шел далеко позади.
Я посмотрел вперед.
И тут я увидел директора гостиницы, который шествовал со свертком под мышкой по противоположной стороне переулка, выходящего к реке. В какой-то точке впереди наши пути должны были пересечься. “Странно, — подумал я. — Он же только что был в гостинице. Хотя сегодня воскресенье. Но когда он успел?”
В этот момент он увидел меня. А может, видел раньше и делал вид, что не замечает.
— Ага! От меня никуда не уйдешь! — весело закричал он. — Не скроешься! Нас судьба сводит! От нее, как от водки, не уйти!
— Точно. Не ожидал вас здесь встретить.
— Меня-то что! Здесь вечерком с девкой хорошо ходить! Никого нет, благодать! А ты где с ними ходишь? Девка-то есть? А? Ты что не на море? Самое время! Где вечер с милой будешь коротать? — Он был очень шумлив. И как-то неприятно суетился, дергался. — Река какая! Облака! Вон гляди, замок-то какой, а! — Замок был у меня за спиной. И он показывал рукой как раз туда. — Нет, ты погляди! Обернись! — настаивал он.
Он тыкал в воздух левой рукой, а в правую взял сверток Хотя сверток, кажется, не был тяжелым. Но все равно я вовсе не хотел поворачиваться к Ивану Сергеевичу затылком. Из-за поворота вышли двое мужчин.
И тут же я рассмеялся. Правда, немножко нервно это получилось.
А директор гостиницы Иван Сергеевич подозрительно спросил меня:
— Ты чего смеешься?
— А вы на чичероне похожи!
— К-как?
— Не обижайтесь, пожалуйста. Это по-итальянски “гид”. Вы так свой город хвалите! Вы отсюда родом?
— Раньше в Радзуте жил. Все-таки райцентр. И сейчас часто наведываюсь: там у меня престарелые родители проживают.
Ужасно мне захотелось спросить: “А третьего или пятого вы не ездили туда?” Но такой вопрос выглядел бы по меньшей мере странно. И поэтому я только поинтересовался:
— Здесь поблизости живете? Или по делу забрели?
Мимо нас прошла женщина с сумками.
— Я-то? Живу, — он неопределенно махнул свободной рукой. — Рядом. Ну, я пошел. Спешу.
Странно, в гостинице он тащил меня к себе чуть не силой. А сейчас и не подумал предложить зайти. “Впрочем, я опять к нему придираюсь, — подумал я. — Может быть, у него больна жена. Или собрались друзья и ждут его. Да мало ли почему человек не хочет приглашать к себе в дом!”
— Na schön, dann auf Wiedersehen*["14], — неожиданно для самого себя сказал я.
— Wir treffen uns itn Hotel. Mach’s gut*["15], — ответил он на хорошем немецком языке, даже не удивившись.
— Komme ich auf diesem Wed zur Stadtmitte?*["16]
— Ja*["17].
И он поспешил своей дорогой.
Та-ак.
Я вытер выступивший на лбу пот. И снова побрел вдоль реки. “У Малина был ключ к тому преступлению, — думал я. — Малин знал предателя, поэтому он был убит. Ищенко тоже знал предателя. Он тоже убит”.
Я свернул налево. Ушел от реки.
Я увидел решетчатые ворота с вывеской “Зоосад” и направился туда. В основном здесь были птины и обезьяны. “Дар команды БМРТ “Пушкин” — висело на клетке с попугаями какаду.
Я вообше люблю зоопарки и очень обрадовался, когда увидел льва, каким-то чудом попавшего сюда. Он был старый, облезлый но все равно лев со светлыми человеческими глазами. На него падала тень от решетки. Он глядел мимо людей. Было что-то несправедливое в том, что он сидит в клетке в чужой стране.
Морячок, стоявший рядом со мной, нагнулся. Нашел на земле камешек, запустил им сквозь прутья.
Лев не шевельнулся.
— У, падло! — сказал морячок. — Выпусти тебя в город, всех сожрешь!
И опять бросил камень.
Лев заворчал и презрительно-косо посмотрел на морячка Он сидел в клетке давно и знал, что того не достать. Я тронул морячка за плечо и постучал по жестяной дощечке: “Кормить, дразнить зверей воспрещается”.
— Читай.
— В упор не вижу. Он что, твой дядя? Ты что за него волнуешься?
— Он же в клетке.
“Что-то здесь все-таки не так, — думал я. — С фотоаппаратом…”
— Ну и что?
— Ничего. Ты дразни тех, кто на воле. Меня можешь, например.
“Что-то не так…” — думал я.
— Да? — заинтересовался морячок.
— Полный назад, — предупредил я. Он ухмыльнулся.
Но в это время неожиданно, то есть туча давно уже набежала на солнце, вокруг потемнело, но все равно как-то сразу хлынул дождь. Мы оба стали под навес возле клетки, теснясь друг к другу, и это примирило нас. Младший лейтенант Красухин устроился по соседству. Около клеток с обезьянами.
— Слыхал, как вчера “Спартак” в Киеве продулся? — спросил морячок. — Три — один. Я т-тебя умоляю!.. Воронов такой пас прохлопал!
— Дожили, — сказал я.
Ливень закрыл зоосад мутно-белой стеной. Я протянул руку: ctdvh были тяжелые. Они секли ладонь, как прутья. Лужа возле ног кипела.
— У, черт, наяривает! — сказал морячок.
Лев поднялся на ноги и смотрел на дождь, нервно нюхая влажный воздух. На нас он по-прежнему не обращал внимания.
Мы с морячком закурили.
А через минуту дождь сразу, будто его выключили, прекратился. Вышло солнце. Все вокруг заблестело — деревья, трава, крыши клеток. Земля дымилась.
Мне вдруг стало спокойно. Я перестал нервничать. Я нашел автомат и снова набрал телефон Буша. На этот раз он подошел. Мы договорились встретиться на остановке трамвая. “На пляж?” — спросил я. Плавки у меня были в заднем кармане. “Можно”, — сказал Генрих Осипович. “Неужели он?” — думал я.
Я шел по городу, и у меня было такое ощущение, будто я нахожусь на сцене: я ярко освещен театральными прожекторами и хорошо виден, а он сидит в зрительном зале и неразличим для меня. Потом я подумал, что тот, кто взял фотоаппарат, должен был приладить к чемодану какое-нибудь контрольное устройство вроде нитки, чтобы знать: лазил я туда или нет. Я хотел вернуться в гостиницу и проверить, но передумал. Сейчас это уже не имело значения.
В окне частной сапожной мастерской рядом с геранью я увидел деревянную копию нотр-дамской химеры. Дьявол, показывающий язык времени. Это была не обычная копия. Я простоял перед ней минут пять. Этот дьявол не походил на парижского. Какой-то лукавый и вместе с тем надменный. Он не был равнодушен. Он знал свою силу.
Я зашел в мастерскую. Небритый сапожник в белой рубашке с галстуком сказал мне, что это единственная память о брате-скульпторе, замученном в гестапо.
— Он был партизаном? — спросил я.
И услышал в ответ:
— Да.
— Из местного отряда?
— Да.
Значит, он убил и этого человека. Он. Тот кто, возможно, уже шел по моему следу.
— А Малина вы случайно не знали? Владимира Игнатьевича? — осторожно спросил я. — У нас был такой друг семьи, Малин. Он тоже был убит гестаповцами в этом городе.
— Нет. Я жил до войны в Каунасе. — объяснил сапожник.
Я и не надеялся на удачу. Просто так спросил. “А Суркин жил до войны в Радзуте, — без всякой связи подумал я, — и потом переехал сюда. Ищенко же, наоборот, жил здесь, служил полицаем в Радзуте, снова вернулся сюда и вступил в партизанский отряд. Что-то слишком много они путешествовали… А-а, ерунда. Я хватаюсь за что попало. Здесь нет криминала, здесь вообще ничего нет…”
— Жаль. Ваш брат был очень талантлив. Он был бы знаменитым скульптором.
— Да, — сказал небритый сапожник.
Я вышел от него и свернул на мощенную булыжником улицу-кривулю. Сюда почти не попадало солнце. От каменных стен несло погребной сыростью. Возле подъездов на чугунных столбах висели старинные фонари. Почти на каждом доме чернела чугунная доска: “Памятник архитектуры”. “Тогда тоже были войны”, — подумал я. Были свои герои и свои предатели. И были люди, искавшие этих предателей. Но, наверное, многие предатели доживали до старости, скрывая в глубокой тайне свое прошлое. Они становились добропорядочными, почтенными гражданами. “А ты не скроешься, — зло подумал я. — Не будет тебе спокойной старости…” Улочка неожиданно вывела меня к реке, названием которой как-то интересовался Пухальский. Я пошел над водой — быстрой, не по-городскому чистой.
Берег порос крапивой. Она нагрелась на солнце и остро пахла. На другой стороне лепились на обрыве домики. Во дворах сушилось на веревках белье. Воскресная стирка. Где-то заорал петух. Это был уже не город, а пригород. Высоко вздымая в небо свои башни, над ним громоздился тевтонский замок.
Я оглянулся. Лейтенант шел далеко позади.
Я посмотрел вперед.
И тут я увидел директора гостиницы, который шествовал со свертком под мышкой по противоположной стороне переулка, выходящего к реке. В какой-то точке впереди наши пути должны были пересечься. “Странно, — подумал я. — Он же только что был в гостинице. Хотя сегодня воскресенье. Но когда он успел?”
В этот момент он увидел меня. А может, видел раньше и делал вид, что не замечает.
— Ага! От меня никуда не уйдешь! — весело закричал он. — Не скроешься! Нас судьба сводит! От нее, как от водки, не уйти!
— Точно. Не ожидал вас здесь встретить.
— Меня-то что! Здесь вечерком с девкой хорошо ходить! Никого нет, благодать! А ты где с ними ходишь? Девка-то есть? А? Ты что не на море? Самое время! Где вечер с милой будешь коротать? — Он был очень шумлив. И как-то неприятно суетился, дергался. — Река какая! Облака! Вон гляди, замок-то какой, а! — Замок был у меня за спиной. И он показывал рукой как раз туда. — Нет, ты погляди! Обернись! — настаивал он.
Он тыкал в воздух левой рукой, а в правую взял сверток Хотя сверток, кажется, не был тяжелым. Но все равно я вовсе не хотел поворачиваться к Ивану Сергеевичу затылком. Из-за поворота вышли двое мужчин.
И тут же я рассмеялся. Правда, немножко нервно это получилось.
А директор гостиницы Иван Сергеевич подозрительно спросил меня:
— Ты чего смеешься?
— А вы на чичероне похожи!
— К-как?
— Не обижайтесь, пожалуйста. Это по-итальянски “гид”. Вы так свой город хвалите! Вы отсюда родом?
— Раньше в Радзуте жил. Все-таки райцентр. И сейчас часто наведываюсь: там у меня престарелые родители проживают.
Ужасно мне захотелось спросить: “А третьего или пятого вы не ездили туда?” Но такой вопрос выглядел бы по меньшей мере странно. И поэтому я только поинтересовался:
— Здесь поблизости живете? Или по делу забрели?
Мимо нас прошла женщина с сумками.
— Я-то? Живу, — он неопределенно махнул свободной рукой. — Рядом. Ну, я пошел. Спешу.
Странно, в гостинице он тащил меня к себе чуть не силой. А сейчас и не подумал предложить зайти. “Впрочем, я опять к нему придираюсь, — подумал я. — Может быть, у него больна жена. Или собрались друзья и ждут его. Да мало ли почему человек не хочет приглашать к себе в дом!”
— Na schön, dann auf Wiedersehen*["14], — неожиданно для самого себя сказал я.
— Wir treffen uns itn Hotel. Mach’s gut*["15], — ответил он на хорошем немецком языке, даже не удивившись.
— Komme ich auf diesem Wed zur Stadtmitte?*["16]
— Ja*["17].
И он поспешил своей дорогой.
Та-ак.
Я вытер выступивший на лбу пот. И снова побрел вдоль реки. “У Малина был ключ к тому преступлению, — думал я. — Малин знал предателя, поэтому он был убит. Ищенко тоже знал предателя. Он тоже убит”.
Я свернул налево. Ушел от реки.
Я увидел решетчатые ворота с вывеской “Зоосад” и направился туда. В основном здесь были птины и обезьяны. “Дар команды БМРТ “Пушкин” — висело на клетке с попугаями какаду.
Я вообше люблю зоопарки и очень обрадовался, когда увидел льва, каким-то чудом попавшего сюда. Он был старый, облезлый но все равно лев со светлыми человеческими глазами. На него падала тень от решетки. Он глядел мимо людей. Было что-то несправедливое в том, что он сидит в клетке в чужой стране.
Морячок, стоявший рядом со мной, нагнулся. Нашел на земле камешек, запустил им сквозь прутья.
Лев не шевельнулся.
— У, падло! — сказал морячок. — Выпусти тебя в город, всех сожрешь!
И опять бросил камень.
Лев заворчал и презрительно-косо посмотрел на морячка Он сидел в клетке давно и знал, что того не достать. Я тронул морячка за плечо и постучал по жестяной дощечке: “Кормить, дразнить зверей воспрещается”.
— Читай.
— В упор не вижу. Он что, твой дядя? Ты что за него волнуешься?
— Он же в клетке.
“Что-то здесь все-таки не так, — думал я. — С фотоаппаратом…”
— Ну и что?
— Ничего. Ты дразни тех, кто на воле. Меня можешь, например.
“Что-то не так…” — думал я.
— Да? — заинтересовался морячок.
— Полный назад, — предупредил я. Он ухмыльнулся.
Но в это время неожиданно, то есть туча давно уже набежала на солнце, вокруг потемнело, но все равно как-то сразу хлынул дождь. Мы оба стали под навес возле клетки, теснясь друг к другу, и это примирило нас. Младший лейтенант Красухин устроился по соседству. Около клеток с обезьянами.
— Слыхал, как вчера “Спартак” в Киеве продулся? — спросил морячок. — Три — один. Я т-тебя умоляю!.. Воронов такой пас прохлопал!
— Дожили, — сказал я.
Ливень закрыл зоосад мутно-белой стеной. Я протянул руку: ctdvh были тяжелые. Они секли ладонь, как прутья. Лужа возле ног кипела.
— У, черт, наяривает! — сказал морячок.
Лев поднялся на ноги и смотрел на дождь, нервно нюхая влажный воздух. На нас он по-прежнему не обращал внимания.
Мы с морячком закурили.
А через минуту дождь сразу, будто его выключили, прекратился. Вышло солнце. Все вокруг заблестело — деревья, трава, крыши клеток. Земля дымилась.
Мне вдруг стало спокойно. Я перестал нервничать. Я нашел автомат и снова набрал телефон Буша. На этот раз он подошел. Мы договорились встретиться на остановке трамвая. “На пляж?” — спросил я. Плавки у меня были в заднем кармане. “Можно”, — сказал Генрих Осипович. “Неужели он?” — думал я.
Глава 26. Второй Семен
 Буш был недоволен жизнью, хмур. Скорей всего в этом была виновата Клавдия Николаевна Ищенко. Но, может быть, не только она? Я все время помнил, что анонимка написана на машинке мебель ной фабрики.
— Слушайте, Генрих Осипович, не хочется мне что-то на общий пляж, — сказал я. — Там сейчас яблоку упасть негде. Дождь их, конечно, не разогнал. Может, на дюны поедем, найдем какое-нибудь глухое местечко?
— Давайте, — охотно согласился Буш.
“Слишком охотно, — отметил я. — Он любит компанию, шум. Один — ноль не в его пользу”. На дюнах — я знал эти места — не было ни павильонов с водой и бутербродами, ни скамеек. Берег был усеян сучьями, водорослями и всякой дрянью, вынесенной морем. Хотя любители янтаря бродили по мелководью и там, но местность была пустынная.
— Там ведь, наверное, малолюдно?
— Никого нет, — подтвердил Буш. — Я бы бутылочку взял, — сказал он с вопросительной интонацией.
— На жаре-то пить? “Кентавр любил выпить.
Буш был на фронте. А Суркин прятался от Буша…” — как калейдоскоп, мелькало у меня в голове.
Буш поморгал глазками.
— Ну не буду.
Мы влезли в подошедший трамвай. Прошли вперед на свободные места. Сели рядом. Я закинул руку на спинку деревянного (трамвай был старенький) сиденья и спиной подался к окну: устроился так, чтобы видеть лицо Буша.
— Вы ко мне по делу заходили? — спросил я.
— Откуда вы знаете, что я был? — ответил он вопросом на вопрос.
— Мне дежурная описала. Вылитый вы, Генрих Осипович. Я сразу узнал.
— Просто так, — сказал Буш задумчиво. — Просто так заходил.
Народу в трамвае с каждой остановкой убывало. Охотников купаться в дюнах бывает не так уж много.
— Не знаете. нашли убийцу? — Я решил взять быка, за рога.
Буш почти незаметно вздрогнул.
— Вы кого имеете в виду?
— Мне рассказали, что муж Клавдии Николаевны был убит. А вы, кстати, ни словом об этом не обмолвились, — пожурил я его.
— Кто рассказал?
— Да, господи, весь город гудит! Я уж не помню кто Так нашли или кет?
— Вам лучше знать, — вдруг сказал Буш. И хитренько подмигнул мне.
Трах-тах!
— Помилуйте, откуда я могу знать?
А у самого мелькнуло: “Провокация в стиле истории с фотоаппаратом? Наивняк. Он? Глупо”.
— Вы его сами видели, — сообщил Буш.
— Кого?
— Убийцу. — Буш понизил голос и оглянулся.
Я тоже оглянулся — в вагоне мы остались почти одни — и громко засмеялся. Я уже понял, в чем дело.
— Ну вы даете, Генрих Осипович! Розыгрыш первого класса!
Студент остается студентом.
— Я не шучу. Тараса Михайловича убил Суркин. Вы сами видели вчера, как его везли. Наверное, в тюрьму в райцентр.
— Ерунда какая-то!
— Нет. Не ерунда. Суркин не ночевал дома. Сегодня утром вернулась из Смоленска его жена. Хватилась Суркина, туда-сюда… Стала звонить в морг, в милицию. Ей бац: ваш супруг арестован. Она — в истерику. Ее Клавочка отпаивала, а ведь она-то родная жена убиенного. (Он так и сказал: “убиенного”.) Представляете?
Мы специально договаривались с Валдманисом, что если кто-то будет наводить справки о Суркине, не сообщать: за что он арестован. Значит, жене Суркина не могло быть ничего известно об Ищенко. Бушу — тоже.
Буш сидел, довольный произведенным эффектом.
Я потер щеку и твердо сказал:
— Не верю. Это ваши выдумки.
— Он же арестован. Милиция знает, что делает.
— Там тоже не боги. Могут ошибиться.
— Конечная, — сказал в микрофон водитель.
В вагоне оставались только мы. Да еще Красухин сошел: сбил шляпу на затылок, расстегнул рубашку и блаженно вздохнул, — сразу было видно, что человек дорвался наконец до “природы”.
За деревянными домиками начинался сосновый лес. Море было близко: слышался равномерный шум. Воздух стал совсем другим, пахло солью и хвоей. “А снег пахнет арбузом”, — почему-то вспомнил я где-то вычитанное, а потом проверенное. Я опять вспотел. Мне представился снег, блестящий на солнце. Только почему-то я видел искусственный снег, который нарастает в холодильниках на радиаторе.
Мы вступили в лес.
Я решил пока переменить тему разговора.
— Клавдии Николаевне опять нездоровится? Лежит?
— Гуляет-с, — тоненьким голоском ответил Буш.
— Что ж вы ее не взяли? Мне показалось, что она к вам привязана и дорожит вашим обществом.
— Что ей в моем обществе! — с горечью сказал он. — Я старый. Ей свой-то драндулет как надоел! Ну, Тарас Михайлович… А я чем краше?
Мы перевалили через песчаную гряду и увидели море. Ровное, белесое. Солнце, как это бывает после дождя, пекло теперь еще сильней. Я сразу разулся: по песку было приятно идти босиком. На берегу не было ни одного человека.
— Помнится, вы говорили, что она переживает смерть супруга, — сказал я. — Очень переживает. С виду весела, как птичка, а на деле…
— Э, — сказал Генрих Осипович. Он потрогал листья на кустарнике.
— Просохли? — спросил я.
— Это они в момент. Это они могут, просохнуть-то, — сказал Генрих Осипович по-прежнему с горечью. Он снял рубашку, повесил на ветки и стал раздеваться дальше. — А вы почему не разоблачаетесь?
— Спину вчера сжег, — объяснил я. И безжалостно продолжал: — Так я не понял насчет Клавдии Николаевны?
— У нее нет принципов.
Если б было можно, я бы засмеялся. Но вообще-то мне стало жалко Буша: он здорово запутался.
— Разве это так плохо? — спросил я легкомысленно.
Буш промолчал.
А я стал думать, зачем ему было так спешить с анонимным письмом. Ведь его никто не трогал. Ну, вызвали в милицию на допрос. Так всех вызывают в таких случаях. Хотел подкрепить алиби? Лучше рано, чем поздно? Или отводил внимание от Клавдии Ищенко?.. “Но и быть уверенным на сто процентов, что написал анонимку он, тоже нельзя, — подумал я. — Бушу никто не говорил, что Суркин арестован по подозрению в убийстве. Но оно у всех на уме. Суркина “взяли”, и Буш мог связать одно с другим”.
— На что она теперь будет жить? — спросил я. — Она работает?
— Нет. Она вроде той стрекозы из басни Крылова: “Лето красное пропела…” Помните?
— “…а зима катит в глаза”. Как же!
— Она получит большую сумму денег по страховке, — задумчиво сказал Буш. И мне показалось, он хотел что-то прибавить, но опять промолчал.
“Ладно, — решил я. — Сделаем следующий ход”. И сказал без всякого перехода:
— Жалко, фотоаппарата нет. Сейчас бы пощелкал видики.
Буш воззрился на меня. И сам пошел навстречу:
— А что, увлекаетесь?
— Немножко. Но… — я сделал паузу: стал возиться со спичками.
И Буш спросил:
— Что “но”?
— Сперли у меня аппаратик. “Смена-2” был, хороший.
— Как вас понимать?
— В прямом смысле.
— В номере?
— Ага. Полез сегодня в чемодан, а его нет.
— Вы в милицию сообщили?
— Не сообщил.
— Но почему?
— Не хочу.
— Глупости какие, а! Кто же мог украсть? Соседей я ваших знаю, по-моему, солидные люди. Не могли они пойти на такое!
Фу ты, черт! А я ведь уже было подумал, что он — это Буш: так мне спутала карты эта кража. Бушу в голову не пришло, что он мог быть вором. Насколько я его изучил, такое поведение говорило в его пользу. Если б он горячо заговорил, что эдак и на него можно подумать, что он тоже был в номере, тут бы я еще усомнился.
— Не знаю, не знаю, — сказал я.
— Слушайте, вот сволочи! — непоследовательно сказал Генрих Осипович. — Уж вас обкрадывать! И так у вас денег нет.
— Не в этом дело. Просто обидно.
В это время рядом зарычал мотор. Я уже давно слышал его гуденье, но тут автомобиль выкатился на песок, подминая кустики. “Москвич”. Остановился. За рулем сидела женщина. Я узнал ее.
— Нашего полку прибыло, Боря, — сказал Буш. — Тоже загорать будут.
Через переднюю дверцу вылез мужчина в шортах. И опять меня поразило его плоское лицо. Это были постояльцы Евгении Августовны Станкене.
Выпорхнула супруга.
— Сема! Как здесь чудненько! Никого нет! — Она мельком взглянула на нас с Бушем и отвернулась.
— Я ж тебе говорил, мамочка. Здесь прелестное место. Но только ты опять переводишь сцепление рывком. Васильев откажется чинить.
— Выжига он, твой Васильев!
“Мамочка” вытащила из машины плед. Расстелила его на песке Снова нырнула в машину. Достала какие-то пакеты. “Сема” разлегся на пледе волосатым пузом вверх и стал жевать.
А я вдруг вспомнил, что они приехали из Радзуте. Опять Радзуте! Они появились здесь одновременно со мной. Его звали Семеном. Может быть, Ищенко собирался говорить вовсе не с маленьким Семеном, влюбленным в Быстрицкую?
По теории вероятностей, такое совпадение было почти невозможно. Но в нашей работе часто бывает: а вдруг? “Контрразведчик обязан обладать живым воображением”, — любит повторять Шимкус. Но у меня не было никаких данных за это “а вдруг”. Мало ли кого зовут Семеном! “Интересно, сколько Семенов по статистике приходится на тысячу человек?” — подумал я. Но этот Семен приехал из Радзуте. Таких Семенов значительно меньше. Во всяком случае, стоило его “прощупать”.
— Что-то припекает. Пошли в воду? — предложил я Генриху Осиповичу.
— Пошли. — Он встал и подтянул свои длинные “семейные” трусы.
Вновь прибывшая чета расположилась к воде ближе, чем мы. Когда мы поравнялись с ними, я громкЗ сказал:
— Кто же все-таки убил Ищенко?
Буш удивленно покосился на меня. Я продолжил игру в расчете на тех двоих:
— Он был вашим другом. Неужели вы никого не подозреваете?
— Суркина.
— Суркин не мог этого сделать. Буш пожал загорелыми плечами.
— Следствию видней. Я оглянулся.
Тот, кого звали Семеном, перестал жевать и смотрел мне в спину. Он сразу отвел взгляд. Может быть, это вполне объяснимое любопытство на “убил”?
— Попей из термоса горяченького, — донеслось да нас.
Мы вошли в воду.
— Знаете, он мне тоже нравился. (“Нравился, а не — нравится, — механически отметил я. — Прошедшее время”.) Мы все-таки соседи, давно знакомы. Жили дружно. И жена у него отзывчивая такая… Но убил-то он, — твердо закончил Буш.
— Откуда у вас такая уверенность? Ведь это не шутки: убийство.
— У меня есть основания. Боря… Смотрите, как дымит пароход. Сколько угля — на ветер!
Черт! Долго он будет вертеть вола за хвост? Вызвать бы его в горотдел! Нет. Нельзя… Мне показалось, что про Суркина он говорил искренне. Говорил то, что думал. Странно. Автор анонимного письма должен знать, что это заведомая ложь. Откуда такая уверенность? Или он не писал письма? Почему же тогда он связывает арест Суркина с убийством?.. Думай, голова, картуз куплю.
Мы немного поплавали и вышли из воды. Возле “Москвича” я задержался, а Буш пошел к нашим вещам.
Я присел на корточки, мельком отметив, что по правому боку машины тянется свежезакрашенная царапина.
— А я вас вчера где-то видел, — обратился я к Семену. — У вас еще в руках был бинокль. Постойте, вы снимаете комнату у старушки… в конце улицы Прудиса… как же ее зовут?
— Евгения Августовна. Так, мамочка? — Он не имел ничего против разговора.
— Так, — подтвердила она и вопросительно посмотрела на меня.
— Я ж и говорю! — обрадовался я. — Значит, я вас там видел. Вы извините, что я так запросто, — продолжал я с “милой непосредственностью”, — все-таки пляж, здесь без смокингов. Без церемоний. Вы ничего не имеете против? А здесь так скучно! Может, пулечку распишем?
Обычно люди теряются от такого напора и на все соглашаются. А “Сема” даже оживился:
— О, вы играете в преферанс!
И сразу сник, потому что вмешалась его супруга:
— Карты? Никаких карт! Терпеть их не могу! Мы сюда приехали отдыхать, а не сидеть ночами напролет и накуриваться до одури, — она враждебно взглянула на меня.
— Так сейчас день. А преферанс чудесно помогает убивать время, — улыбнулся я ей.
— Я тут проиграл какую-то мелочишку, вот мамочка и взъелась.
— Да мы без денег! — замахал я руками. — Так! Тренировки для. И время препровождения. И на солнце так легче высидеть.
— Не допущу! — отрезала “мамочка”. — Я тебе решительно запрещаю играть в карты, Семен. А если тебе плевать на мои слова… Что ж, я сейчас уеду. Сяду в машину и уеду.
У Семена глаза сбежались к переносице. Он вздохнул.
— Да у меня карт нет, — признался я. — Я думал, завтра вот… Вы напрасно сердитесь, ей-богу!
— Вот и хорошо, — не унималась она.
Я посмотрел вбок. Генрих Осипович брел к дальним кустам: вероятно, отжимать мокрые трусы.
— Здесь вот был один товарищ, так он не расставался с картами, — придумал я. — Всегда при себе носил. По фамилии Ищенко, Тарас Михайлович, — я внимательно глядел на “Сему”. — Но с ним случилось несчастье. Его убили несколько дней назад.
— Кто ж его так? Братья-преферансисты? Я почувствовал, как он напрягся.
— Я не шучу. Это загадка. Местные детективы с ног сбились.
— При каких обстоятельствах?
— Ударили по голове. И все.
— Убийство с целью грабежа?
— О господи! Даже здесь нельзя спрятаться от этих ужасов, — опять вступила в разговор мадам.
— Ну что ты, мамочка! Зачем же так? Вот катавасия… Я работаю в киевской адвокатуре, — добродушно пояснил он.
— Простите, как ваша фамилия?
— Лойко, — чуть помедлив, сказал он.
— Я потому спрашиваю, что у меня там приятель работает.
— А как его? — в свою очередь, спросил Лойко.
Я назвал первую попавшуюся фамилию.
— Не знаю такого, — он покачал головой.
— Man kann ja nicht alle Menschen auf der Welt kennen. Außerdem ist Ihre Gattin sehr streng. Und er ist geselliger Kerl*["18], — сказал я, подмигивая.
— Dagegen haben wir nichts*["19].
— Тогда все в порядке.
— Мне тоже так кажется, — сказал он с довольной усмешкой.
— Что, что? Немецкий? Семочка прелесть как немецкий знает. Только не любит почему-то показывать.
— Опять ты, мамочка, ставишь меня в неловкое положение, — нахмурился адвокат. — Ты же знаешь, я не люблю ничем кичиться.
— Вы давно на взморье? — спросил я.
— Две недели.
— Чувствуется по загару. Все время здесь? Хотя у вас же машина! Разъезжали, наверное?
— Да.
— Ну, вообще-то с машиной всегда возни много. Это умаляет ее достоинства. Вы, наверное, оба водите?
— Я-то вожу… А мамочка — через пень-колоду, — досадливо сказал он.
— Где ж вы были?
— В Риге, — быстро сказал адвокат.
“Очень любопытно”, — подумал я. И похвалил Ригу:
— Н-ну, там чудесно… Больше никуда не ездили?
— Нет.
— Вот Радзуте, говорят, хорошее местечко. Не очень далеко отсюда. Райцентр. Не собираетесь?
Теперь я смотрел на “мамочку”, и мне показалось, что она вздрогнула. Во всяком случае, она быстро переглянулась с супругом.
— Нет-нет. Мы больше никуда не хотим ехать. Мы здесь поживем.
— Жаль. А то я думал напроситься к вам в компанию. Говорят, там берег лучше, в этом Радзуте. Чище и песок помельче.
— Хотите кофе? — спросила она. Видно, ей так не нравилась тема “Радзуте”, что она готова была стать приветливой и хлебосольной. — Мы его в термосе возим.
Теперь все было правильно. Теперь она говорила как надо. Но почему она вздрогнула?
— Спасибо большое. Слишком жарко для горячего кофе.
— Азиаты, между прочим, сидят в сорокаградусную жару в ватных халатах и дуют кипяток. Это помогает переносить высокую температуру, — заметил адвокат Семен Лойко.
— Все равно у меня нет ватного халата, — улыбнулся я. Пора было закругляться, чтобы не пересолить. — Я, пожалуй, пойду к своему компаньону. Он там заскучал. Неудобно. Вы что сегодня вечером собираетесь делать?
— Мы рано ложимся спать, — быстро сказала “мамочка”. — У нас режим.
— Жалко. Завтра вы здесь будете?
— Будем, будем, — сказал адвокат. Но по его голосу я понял, что как раз здесь завтра их наверняка не будет.
— Значит, завтра увидимся, — сказал я. — Всего хорошего.
Генрих Осипович лежал ничком на песке и грелся. Я лег рядом. Так мы лежали довольно долго.
— Забавная пара. Он у нее под каблуком, — сказал я.
— Гм, — неопределенно ответил Генрих Осипович.
“Интересно, — думал я, — слышал ли он мой разговор с Лойко?” Сейчас супруги говорили между собой, но слов разобрать было нельзя. Мне показалось, что они спорят. “Вероятно, им есть о чем поспорить”, — подумал я.
Моя тревога росла. Я по-прежнему чувствовал себя мишенью. Что-то подсказывало мне: дело идет к развязке. В нашем отделе это называлось “верхним чутьем старшего лейтенанта Вараксина”. Вернее, говорили не “Вараксин”, а называли мою настоящую фамилию. “Но фотоаппарат? Правильно ли я рассчитал все с фотоаппаратом?..” — думал я.
Адвокат говорил по-немецки очень чисто. Его звали Семеном. Евгения Августовна сказала, что они приехали из Радзуте. “Жаловались, что там много народу”, — вспомнил я. Интересно, они сами сообщили Станкене про Радзуте или она случайно приперла их к стенке со своей проницательностью? Сейчас они утверждают, что были в Риге. Очень любопытно. Не могла же Станкене все это придумать…
Тут я заметил, что солнце стоит уже довольно низко. В косых лучах над нами вилась мошкара. “Первый раз вижу мошек возле моря, — подумал я. — Наверное, их всегда уносит ветер. А здесь рядом лес”. Генрих Осипович спал. Я потряс его за плечо.
— А? — Он рывком сел.
Я засмеялся и погрозил ему пальцем.
— Что-то у вас совесть нечиста, Генрих Осипович! Вы просыпаетесь как по боевой тревоге.
— Что? Ах. это… Я старенький, Боря. Вот пригрелся на солнышке и заснул. Мне что-то хорошее снилось, а вы меня за плечо — хвать. Тут каждый вскочит.
— Оправдываться будете в милиции, — сказал я. — Скоро похолодает, едемте в город.
— Ага. В ресторан “Маяк”.
В “Маяк”? Там я еще не был, а заглянуть стоило. “Там сегодня будет Быстрицкая”, — вспомнил я. Кроме того, я сообразил, что сегодня еще не обедал, и у меня сразу засосало под ложечкой.
— В “Маяк” так в “Маяк”.
Мы оделись. На прощанье я помахал рукой чете Лойко, но они сделали вид, что не видят. Когда мы уже порядком отошли, послышался шум мотора. Вскоре “Москвич” обогнал нас. “Мамочка” сидела за рулем и напряженно смотрела перед собой. Адвокат забился на заднее сиденье. “А во всем виновато коротенькое слово “Радзуте”, — подумал я. Поэтому по дороге в город я ухитрился позвонить дежурному. Валдманиса не было. Я попросил навести справки о киевском адвокате Семене Лойко, и прежде всего сделать это в Радзуте.
Буш был недоволен жизнью, хмур. Скорей всего в этом была виновата Клавдия Николаевна Ищенко. Но, может быть, не только она? Я все время помнил, что анонимка написана на машинке мебель ной фабрики.
— Слушайте, Генрих Осипович, не хочется мне что-то на общий пляж, — сказал я. — Там сейчас яблоку упасть негде. Дождь их, конечно, не разогнал. Может, на дюны поедем, найдем какое-нибудь глухое местечко?
— Давайте, — охотно согласился Буш.
“Слишком охотно, — отметил я. — Он любит компанию, шум. Один — ноль не в его пользу”. На дюнах — я знал эти места — не было ни павильонов с водой и бутербродами, ни скамеек. Берег был усеян сучьями, водорослями и всякой дрянью, вынесенной морем. Хотя любители янтаря бродили по мелководью и там, но местность была пустынная.
— Там ведь, наверное, малолюдно?
— Никого нет, — подтвердил Буш. — Я бы бутылочку взял, — сказал он с вопросительной интонацией.
— На жаре-то пить? “Кентавр любил выпить.
Буш был на фронте. А Суркин прятался от Буша…” — как калейдоскоп, мелькало у меня в голове.
Буш поморгал глазками.
— Ну не буду.
Мы влезли в подошедший трамвай. Прошли вперед на свободные места. Сели рядом. Я закинул руку на спинку деревянного (трамвай был старенький) сиденья и спиной подался к окну: устроился так, чтобы видеть лицо Буша.
— Вы ко мне по делу заходили? — спросил я.
— Откуда вы знаете, что я был? — ответил он вопросом на вопрос.
— Мне дежурная описала. Вылитый вы, Генрих Осипович. Я сразу узнал.
— Просто так, — сказал Буш задумчиво. — Просто так заходил.
Народу в трамвае с каждой остановкой убывало. Охотников купаться в дюнах бывает не так уж много.
— Не знаете. нашли убийцу? — Я решил взять быка, за рога.
Буш почти незаметно вздрогнул.
— Вы кого имеете в виду?
— Мне рассказали, что муж Клавдии Николаевны был убит. А вы, кстати, ни словом об этом не обмолвились, — пожурил я его.
— Кто рассказал?
— Да, господи, весь город гудит! Я уж не помню кто Так нашли или кет?
— Вам лучше знать, — вдруг сказал Буш. И хитренько подмигнул мне.
Трах-тах!
— Помилуйте, откуда я могу знать?
А у самого мелькнуло: “Провокация в стиле истории с фотоаппаратом? Наивняк. Он? Глупо”.
— Вы его сами видели, — сообщил Буш.
— Кого?
— Убийцу. — Буш понизил голос и оглянулся.
Я тоже оглянулся — в вагоне мы остались почти одни — и громко засмеялся. Я уже понял, в чем дело.
— Ну вы даете, Генрих Осипович! Розыгрыш первого класса!
Студент остается студентом.
— Я не шучу. Тараса Михайловича убил Суркин. Вы сами видели вчера, как его везли. Наверное, в тюрьму в райцентр.
— Ерунда какая-то!
— Нет. Не ерунда. Суркин не ночевал дома. Сегодня утром вернулась из Смоленска его жена. Хватилась Суркина, туда-сюда… Стала звонить в морг, в милицию. Ей бац: ваш супруг арестован. Она — в истерику. Ее Клавочка отпаивала, а ведь она-то родная жена убиенного. (Он так и сказал: “убиенного”.) Представляете?
Мы специально договаривались с Валдманисом, что если кто-то будет наводить справки о Суркине, не сообщать: за что он арестован. Значит, жене Суркина не могло быть ничего известно об Ищенко. Бушу — тоже.
Буш сидел, довольный произведенным эффектом.
Я потер щеку и твердо сказал:
— Не верю. Это ваши выдумки.
— Он же арестован. Милиция знает, что делает.
— Там тоже не боги. Могут ошибиться.
— Конечная, — сказал в микрофон водитель.
В вагоне оставались только мы. Да еще Красухин сошел: сбил шляпу на затылок, расстегнул рубашку и блаженно вздохнул, — сразу было видно, что человек дорвался наконец до “природы”.
За деревянными домиками начинался сосновый лес. Море было близко: слышался равномерный шум. Воздух стал совсем другим, пахло солью и хвоей. “А снег пахнет арбузом”, — почему-то вспомнил я где-то вычитанное, а потом проверенное. Я опять вспотел. Мне представился снег, блестящий на солнце. Только почему-то я видел искусственный снег, который нарастает в холодильниках на радиаторе.
Мы вступили в лес.
Я решил пока переменить тему разговора.
— Клавдии Николаевне опять нездоровится? Лежит?
— Гуляет-с, — тоненьким голоском ответил Буш.
— Что ж вы ее не взяли? Мне показалось, что она к вам привязана и дорожит вашим обществом.
— Что ей в моем обществе! — с горечью сказал он. — Я старый. Ей свой-то драндулет как надоел! Ну, Тарас Михайлович… А я чем краше?
Мы перевалили через песчаную гряду и увидели море. Ровное, белесое. Солнце, как это бывает после дождя, пекло теперь еще сильней. Я сразу разулся: по песку было приятно идти босиком. На берегу не было ни одного человека.
— Помнится, вы говорили, что она переживает смерть супруга, — сказал я. — Очень переживает. С виду весела, как птичка, а на деле…
— Э, — сказал Генрих Осипович. Он потрогал листья на кустарнике.
— Просохли? — спросил я.
— Это они в момент. Это они могут, просохнуть-то, — сказал Генрих Осипович по-прежнему с горечью. Он снял рубашку, повесил на ветки и стал раздеваться дальше. — А вы почему не разоблачаетесь?
— Спину вчера сжег, — объяснил я. И безжалостно продолжал: — Так я не понял насчет Клавдии Николаевны?
— У нее нет принципов.
Если б было можно, я бы засмеялся. Но вообще-то мне стало жалко Буша: он здорово запутался.
— Разве это так плохо? — спросил я легкомысленно.
Буш промолчал.
А я стал думать, зачем ему было так спешить с анонимным письмом. Ведь его никто не трогал. Ну, вызвали в милицию на допрос. Так всех вызывают в таких случаях. Хотел подкрепить алиби? Лучше рано, чем поздно? Или отводил внимание от Клавдии Ищенко?.. “Но и быть уверенным на сто процентов, что написал анонимку он, тоже нельзя, — подумал я. — Бушу никто не говорил, что Суркин арестован по подозрению в убийстве. Но оно у всех на уме. Суркина “взяли”, и Буш мог связать одно с другим”.
— На что она теперь будет жить? — спросил я. — Она работает?
— Нет. Она вроде той стрекозы из басни Крылова: “Лето красное пропела…” Помните?
— “…а зима катит в глаза”. Как же!
— Она получит большую сумму денег по страховке, — задумчиво сказал Буш. И мне показалось, он хотел что-то прибавить, но опять промолчал.
“Ладно, — решил я. — Сделаем следующий ход”. И сказал без всякого перехода:
— Жалко, фотоаппарата нет. Сейчас бы пощелкал видики.
Буш воззрился на меня. И сам пошел навстречу:
— А что, увлекаетесь?
— Немножко. Но… — я сделал паузу: стал возиться со спичками.
И Буш спросил:
— Что “но”?
— Сперли у меня аппаратик. “Смена-2” был, хороший.
— Как вас понимать?
— В прямом смысле.
— В номере?
— Ага. Полез сегодня в чемодан, а его нет.
— Вы в милицию сообщили?
— Не сообщил.
— Но почему?
— Не хочу.
— Глупости какие, а! Кто же мог украсть? Соседей я ваших знаю, по-моему, солидные люди. Не могли они пойти на такое!
Фу ты, черт! А я ведь уже было подумал, что он — это Буш: так мне спутала карты эта кража. Бушу в голову не пришло, что он мог быть вором. Насколько я его изучил, такое поведение говорило в его пользу. Если б он горячо заговорил, что эдак и на него можно подумать, что он тоже был в номере, тут бы я еще усомнился.
— Не знаю, не знаю, — сказал я.
— Слушайте, вот сволочи! — непоследовательно сказал Генрих Осипович. — Уж вас обкрадывать! И так у вас денег нет.
— Не в этом дело. Просто обидно.
В это время рядом зарычал мотор. Я уже давно слышал его гуденье, но тут автомобиль выкатился на песок, подминая кустики. “Москвич”. Остановился. За рулем сидела женщина. Я узнал ее.
— Нашего полку прибыло, Боря, — сказал Буш. — Тоже загорать будут.
Через переднюю дверцу вылез мужчина в шортах. И опять меня поразило его плоское лицо. Это были постояльцы Евгении Августовны Станкене.
Выпорхнула супруга.
— Сема! Как здесь чудненько! Никого нет! — Она мельком взглянула на нас с Бушем и отвернулась.
— Я ж тебе говорил, мамочка. Здесь прелестное место. Но только ты опять переводишь сцепление рывком. Васильев откажется чинить.
— Выжига он, твой Васильев!
“Мамочка” вытащила из машины плед. Расстелила его на песке Снова нырнула в машину. Достала какие-то пакеты. “Сема” разлегся на пледе волосатым пузом вверх и стал жевать.
А я вдруг вспомнил, что они приехали из Радзуте. Опять Радзуте! Они появились здесь одновременно со мной. Его звали Семеном. Может быть, Ищенко собирался говорить вовсе не с маленьким Семеном, влюбленным в Быстрицкую?
По теории вероятностей, такое совпадение было почти невозможно. Но в нашей работе часто бывает: а вдруг? “Контрразведчик обязан обладать живым воображением”, — любит повторять Шимкус. Но у меня не было никаких данных за это “а вдруг”. Мало ли кого зовут Семеном! “Интересно, сколько Семенов по статистике приходится на тысячу человек?” — подумал я. Но этот Семен приехал из Радзуте. Таких Семенов значительно меньше. Во всяком случае, стоило его “прощупать”.
— Что-то припекает. Пошли в воду? — предложил я Генриху Осиповичу.
— Пошли. — Он встал и подтянул свои длинные “семейные” трусы.
Вновь прибывшая чета расположилась к воде ближе, чем мы. Когда мы поравнялись с ними, я громкЗ сказал:
— Кто же все-таки убил Ищенко?
Буш удивленно покосился на меня. Я продолжил игру в расчете на тех двоих:
— Он был вашим другом. Неужели вы никого не подозреваете?
— Суркина.
— Суркин не мог этого сделать. Буш пожал загорелыми плечами.
— Следствию видней. Я оглянулся.
Тот, кого звали Семеном, перестал жевать и смотрел мне в спину. Он сразу отвел взгляд. Может быть, это вполне объяснимое любопытство на “убил”?
— Попей из термоса горяченького, — донеслось да нас.
Мы вошли в воду.
— Знаете, он мне тоже нравился. (“Нравился, а не — нравится, — механически отметил я. — Прошедшее время”.) Мы все-таки соседи, давно знакомы. Жили дружно. И жена у него отзывчивая такая… Но убил-то он, — твердо закончил Буш.
— Откуда у вас такая уверенность? Ведь это не шутки: убийство.
— У меня есть основания. Боря… Смотрите, как дымит пароход. Сколько угля — на ветер!
Черт! Долго он будет вертеть вола за хвост? Вызвать бы его в горотдел! Нет. Нельзя… Мне показалось, что про Суркина он говорил искренне. Говорил то, что думал. Странно. Автор анонимного письма должен знать, что это заведомая ложь. Откуда такая уверенность? Или он не писал письма? Почему же тогда он связывает арест Суркина с убийством?.. Думай, голова, картуз куплю.
Мы немного поплавали и вышли из воды. Возле “Москвича” я задержался, а Буш пошел к нашим вещам.
Я присел на корточки, мельком отметив, что по правому боку машины тянется свежезакрашенная царапина.
— А я вас вчера где-то видел, — обратился я к Семену. — У вас еще в руках был бинокль. Постойте, вы снимаете комнату у старушки… в конце улицы Прудиса… как же ее зовут?
— Евгения Августовна. Так, мамочка? — Он не имел ничего против разговора.
— Так, — подтвердила она и вопросительно посмотрела на меня.
— Я ж и говорю! — обрадовался я. — Значит, я вас там видел. Вы извините, что я так запросто, — продолжал я с “милой непосредственностью”, — все-таки пляж, здесь без смокингов. Без церемоний. Вы ничего не имеете против? А здесь так скучно! Может, пулечку распишем?
Обычно люди теряются от такого напора и на все соглашаются. А “Сема” даже оживился:
— О, вы играете в преферанс!
И сразу сник, потому что вмешалась его супруга:
— Карты? Никаких карт! Терпеть их не могу! Мы сюда приехали отдыхать, а не сидеть ночами напролет и накуриваться до одури, — она враждебно взглянула на меня.
— Так сейчас день. А преферанс чудесно помогает убивать время, — улыбнулся я ей.
— Я тут проиграл какую-то мелочишку, вот мамочка и взъелась.
— Да мы без денег! — замахал я руками. — Так! Тренировки для. И время препровождения. И на солнце так легче высидеть.
— Не допущу! — отрезала “мамочка”. — Я тебе решительно запрещаю играть в карты, Семен. А если тебе плевать на мои слова… Что ж, я сейчас уеду. Сяду в машину и уеду.
У Семена глаза сбежались к переносице. Он вздохнул.
— Да у меня карт нет, — признался я. — Я думал, завтра вот… Вы напрасно сердитесь, ей-богу!
— Вот и хорошо, — не унималась она.
Я посмотрел вбок. Генрих Осипович брел к дальним кустам: вероятно, отжимать мокрые трусы.
— Здесь вот был один товарищ, так он не расставался с картами, — придумал я. — Всегда при себе носил. По фамилии Ищенко, Тарас Михайлович, — я внимательно глядел на “Сему”. — Но с ним случилось несчастье. Его убили несколько дней назад.
— Кто ж его так? Братья-преферансисты? Я почувствовал, как он напрягся.
— Я не шучу. Это загадка. Местные детективы с ног сбились.
— При каких обстоятельствах?
— Ударили по голове. И все.
— Убийство с целью грабежа?
— О господи! Даже здесь нельзя спрятаться от этих ужасов, — опять вступила в разговор мадам.
— Ну что ты, мамочка! Зачем же так? Вот катавасия… Я работаю в киевской адвокатуре, — добродушно пояснил он.
— Простите, как ваша фамилия?
— Лойко, — чуть помедлив, сказал он.
— Я потому спрашиваю, что у меня там приятель работает.
— А как его? — в свою очередь, спросил Лойко.
Я назвал первую попавшуюся фамилию.
— Не знаю такого, — он покачал головой.
— Man kann ja nicht alle Menschen auf der Welt kennen. Außerdem ist Ihre Gattin sehr streng. Und er ist geselliger Kerl*["18], — сказал я, подмигивая.
— Dagegen haben wir nichts*["19].
— Тогда все в порядке.
— Мне тоже так кажется, — сказал он с довольной усмешкой.
— Что, что? Немецкий? Семочка прелесть как немецкий знает. Только не любит почему-то показывать.
— Опять ты, мамочка, ставишь меня в неловкое положение, — нахмурился адвокат. — Ты же знаешь, я не люблю ничем кичиться.
— Вы давно на взморье? — спросил я.
— Две недели.
— Чувствуется по загару. Все время здесь? Хотя у вас же машина! Разъезжали, наверное?
— Да.
— Ну, вообще-то с машиной всегда возни много. Это умаляет ее достоинства. Вы, наверное, оба водите?
— Я-то вожу… А мамочка — через пень-колоду, — досадливо сказал он.
— Где ж вы были?
— В Риге, — быстро сказал адвокат.
“Очень любопытно”, — подумал я. И похвалил Ригу:
— Н-ну, там чудесно… Больше никуда не ездили?
— Нет.
— Вот Радзуте, говорят, хорошее местечко. Не очень далеко отсюда. Райцентр. Не собираетесь?
Теперь я смотрел на “мамочку”, и мне показалось, что она вздрогнула. Во всяком случае, она быстро переглянулась с супругом.
— Нет-нет. Мы больше никуда не хотим ехать. Мы здесь поживем.
— Жаль. А то я думал напроситься к вам в компанию. Говорят, там берег лучше, в этом Радзуте. Чище и песок помельче.
— Хотите кофе? — спросила она. Видно, ей так не нравилась тема “Радзуте”, что она готова была стать приветливой и хлебосольной. — Мы его в термосе возим.
Теперь все было правильно. Теперь она говорила как надо. Но почему она вздрогнула?
— Спасибо большое. Слишком жарко для горячего кофе.
— Азиаты, между прочим, сидят в сорокаградусную жару в ватных халатах и дуют кипяток. Это помогает переносить высокую температуру, — заметил адвокат Семен Лойко.
— Все равно у меня нет ватного халата, — улыбнулся я. Пора было закругляться, чтобы не пересолить. — Я, пожалуй, пойду к своему компаньону. Он там заскучал. Неудобно. Вы что сегодня вечером собираетесь делать?
— Мы рано ложимся спать, — быстро сказала “мамочка”. — У нас режим.
— Жалко. Завтра вы здесь будете?
— Будем, будем, — сказал адвокат. Но по его голосу я понял, что как раз здесь завтра их наверняка не будет.
— Значит, завтра увидимся, — сказал я. — Всего хорошего.
Генрих Осипович лежал ничком на песке и грелся. Я лег рядом. Так мы лежали довольно долго.
— Забавная пара. Он у нее под каблуком, — сказал я.
— Гм, — неопределенно ответил Генрих Осипович.
“Интересно, — думал я, — слышал ли он мой разговор с Лойко?” Сейчас супруги говорили между собой, но слов разобрать было нельзя. Мне показалось, что они спорят. “Вероятно, им есть о чем поспорить”, — подумал я.
Моя тревога росла. Я по-прежнему чувствовал себя мишенью. Что-то подсказывало мне: дело идет к развязке. В нашем отделе это называлось “верхним чутьем старшего лейтенанта Вараксина”. Вернее, говорили не “Вараксин”, а называли мою настоящую фамилию. “Но фотоаппарат? Правильно ли я рассчитал все с фотоаппаратом?..” — думал я.
Адвокат говорил по-немецки очень чисто. Его звали Семеном. Евгения Августовна сказала, что они приехали из Радзуте. “Жаловались, что там много народу”, — вспомнил я. Интересно, они сами сообщили Станкене про Радзуте или она случайно приперла их к стенке со своей проницательностью? Сейчас они утверждают, что были в Риге. Очень любопытно. Не могла же Станкене все это придумать…
Тут я заметил, что солнце стоит уже довольно низко. В косых лучах над нами вилась мошкара. “Первый раз вижу мошек возле моря, — подумал я. — Наверное, их всегда уносит ветер. А здесь рядом лес”. Генрих Осипович спал. Я потряс его за плечо.
— А? — Он рывком сел.
Я засмеялся и погрозил ему пальцем.
— Что-то у вас совесть нечиста, Генрих Осипович! Вы просыпаетесь как по боевой тревоге.
— Что? Ах. это… Я старенький, Боря. Вот пригрелся на солнышке и заснул. Мне что-то хорошее снилось, а вы меня за плечо — хвать. Тут каждый вскочит.
— Оправдываться будете в милиции, — сказал я. — Скоро похолодает, едемте в город.
— Ага. В ресторан “Маяк”.
В “Маяк”? Там я еще не был, а заглянуть стоило. “Там сегодня будет Быстрицкая”, — вспомнил я. Кроме того, я сообразил, что сегодня еще не обедал, и у меня сразу засосало под ложечкой.
— В “Маяк” так в “Маяк”.
Мы оделись. На прощанье я помахал рукой чете Лойко, но они сделали вид, что не видят. Когда мы уже порядком отошли, послышался шум мотора. Вскоре “Москвич” обогнал нас. “Мамочка” сидела за рулем и напряженно смотрела перед собой. Адвокат забился на заднее сиденье. “А во всем виновато коротенькое слово “Радзуте”, — подумал я. Поэтому по дороге в город я ухитрился позвонить дежурному. Валдманиса не было. Я попросил навести справки о киевском адвокате Семене Лойко, и прежде всего сделать это в Радзуте.
Глава 27. Вечером
 В ресторане было самое “пустое” время. Обед по чекам кончился, а вечер с музыкой и вином, когда воздух становится синим от дыма и щиплет глаза, когда все говорят громче обычного, еще не начинался. Официант смотрел на нас как на неизбежное зло и обслуживать не спешил. Я потихоньку отщипывал кусочки от нарезанного ломтями белого хлеба. Буш понюхал цветочек в бокале и встал.
— Минуточку, — обронил он и исчез впроходе, ведшем, вероятно, на кухню.
Я лениво обвел глазами пустой зал. В углу сидел Красухин. Шляпы и авоськи не было в помине. Он был причесан на прибор, строг и сосредоточен. Рубашка на нем была другой расцветки. Так вот что лежало в авоське! “Толково работает”, — определил я.
Вернулся Буш. За ним шел метрдотель во фраке, что-то дожевывая на ходу. Он вытер рот платком, который достал из заднего кармана брюк, задрав фалду, потом выпрямился и стал величественным. Поманил к себе официанта. Буш сел за столик и довольно кашлянул. Метрдотель кончил выговаривать официанту, кивнул головой Бушу, а Генрих Осипович сделал ему ручкой, как хорошему знакомому.
— Вы имеете здесь вес, — заметил я.
— Кое-что, — не без гордости отвечал Буш. “Откуда у него эта любовь к “изящной” жизни?” подумал я.
— Что будем брать? — нагнулся к нему подскочивший официант.
— Вы здесь, кажется, недавно? — снисходительно спросил Генрих Осипович.
— Так точно. Второй день. Раньше в привокзальном работал.
— Там всегда скатерти грязные… Я думаю так, Боря, — обратился он ко мне, — мы сейчас пообедаем, а уходить не будем. Займем места, подождем вечера. Здесь будет весело. А?
Я немного подумал и согласился. Буш сделал заказ (он уже подмигнул официанту, стал звать его на “ты” и вообще чувствовал себя здесь как дома) и уткнулся в воскресные газеты, которые купил по дороге. Интересно, как человек трансформируется в зависимости от обстановки. Я машинально чертил вилкой на салфетке узор и думал, чем я располагаю.
Первое. Ищенко служил в полиции города Радзуте, а затем очутился в партизанском отряде. То и другое он тщательно скрывал. Значит ли это, что он был Кентавром? Нет. Чего же он опасался? Настоящего Кентавра? “Стоп! Как вы изволили выразиться, старший лейтенант? — перебил я самого себя. — Настоящего Кентавра? А Ищенко был Кентавром мнимым? Но, может быть, он всю жизнь опасался того, что его сочтут настоящим…” Это было похоже на правду. “Он не хотел быть на виду”, — вспомнил я слова Клавдии Николаевны.
Дальше. Ищенко уцелел, в то время как все погибли. Значит, он должен был знать о гибели отряда то, чего никто не знал. И за это знание поплатился жизнью. Я иду по следам Кентавра. “Или он идет по моим”, — подумал я. Войтина по линии Кентавра я исключал. Буш и его отношения с Клавдией Ищенко? Здесь скорее комедия, а не трагедия. Что могло бы заставить его написать анонимное письмо? Может быть, кто?
Я искоса взглянул на Буша. Он сидел, уткнувшись в развернутый газетный лист. Нет. Никто из них не должен быть убийцей по моим расчетам. Но мне все смешала история с фотоаппаратом… Тут раздались резкие, неприятные звуки. Я вздрогнул. Это музыканты настраивали инструменты на круглой эстраде.
— Эге, батенька! У вас нервы тоже не ахти, — заметил Буш, складывая газету.
Официант принес заказ. Он шел “на полусогнутых”, держа в вытянутой вперед и несколько в сторону руке поднос.
— Приступим?
— Приступим.
“Пройдусь по деталям”, — решил я. Прежде всего, кастет. Вернее, два кастета. Имел ли их в виду автор анонимного письма, когда обвинял Суркина? Если да, он убийца. На бумаге нет отпечатков пальцев. Значит, если Буш — автор, он ничего не скажет: уж очень старательно он отрезал возможный путь следствия к себе. А если не автор, ему будет нечего сказать. В обоих случаях допрос ничего не даст. “А может, даст?..” — подумал я.
— Что же вы пиво не пьете? — спросил Буш. — Замечательное пиво.
— Не люблю.
Если бы Ищенко был решительнее и не порвал тот листок бумаги — свою записку, все могло бы сложиться иначе. Он взвесил в тот вечер, что страшнее: правда или Кентавр. И ошибся. За эту ошибку он заплатил самой дорогой ценой. А Кентавр снова опустился на дно и затаился. Ест, пьет, спит. Может быть, ходит в кино, если любит. И готов убить всякого, кто помешает ему делать все это.
— Хороший борщ варят, — сообщил Буш. Он обсосал мозговую косточку и положил ее обратно в тарелку. — Не жирный, а наваристый такой, густой. Здешний шеф Петр Константинович был поваром на флагманском корабле. Адмиралов кормил. Школа!
— Адмиралы знают толк в борщах, — рассеянно подтвердил я.
Последние косые лучи солнца били мне в глаза. Я передвинулся вместе с креслом вбок. И увидел в темном углу зала носатого, чернявого — он вовсе не походил на литовца — начальника уголовного розыска капитана Сипариса. Я помнил его по допросу Буша, когда заглядывал в окошечко (Буш сейчас тоже заметил его и отвернулся). Он сидел под пальмой со скучающим видом, подперев голову рукой с дымящейся сигаретой. Попал сюда случайно? Я обвел глазами зал. За несколько столиков от капитана, ближе к эстраде, расположился знакомый мне молодой человек. Вчера он был в темных очках-консервах и беспрестанно вертел ключ на цепочке. Местный “фарцовщик”. И к нему, пересекая зал, направлялся Пухальский. Пожалуй, Николай Гаврилович стал неосторожен.
— Мой сосед, — кивнул я на него головой. — Тоже в триста пятом живет.
— А, Николай Гаврилович, — сказал Буш, взглянув.
— Знакомы?
— Он приехал из Саратова к нам на фабрику и как-то был у меня в гостях. Деловой мужик, с хваткой!
Прикрывшись рукой, я внимательно наблюдал за столиком Пухальского. По тому, как Пухальский разговаривал с молодым человеком, похоже было, что они в размолвке. “Вот почему он предлагал мне вчера везти чемоданчик, — подумал я. — Кстати, не опасается ли Пухальский своего компаньона? Может быть, поэтому он просил вчера запереть на ночь номер?..”
— В каком смысле? — спросил я.
— Во всех смыслах. Умеет жить, черт…
— Он, между прочим, очень сокрушается об Ищенко.
— Кто, Николай Гаврилович? Они у меня пили и сцепились насчет оккупации. Спорили, спорили! У покойного Тараса Михайловича даже глаза кровью налились. Что-то про полицию выясняли.
— Откуда ж Николаю Гавриловичу про полицию знать? Он вроде молодой.
— Он где-то в этих местах жил, насколько я понял. Во время войны. Так что вкусил все прелести.
— А Ищенко?
— Да не знаю я! Можете у Николая Гавриловича спросить, если интересуетесь.
— Я просто так.
Новая деталь. Как ее оценить?
Зажглись люстры под потолком, и сразу грянула музыка. В зале стало как-то просторнее. Я опять огляделся. Народу заметно прибавилось. Недалеко от нас устроилась Быстрицкая. Она кивала мне головой. Рядом сидел Семен. Все шло чудесно. Я помахал им рукой.
— Заказывайте себе коньячок, Генрих Осипович, — подмигнул я Бушу. — А то он кончится. Глядите, как густо народ повалил.
— Айн секунд.
— Я сейчас вернусь.
Я прошел вплотную мимо столика капитана. Он наверняка знал меня по фотографии. Он видел меня, но не шелохнулся. Я вышел в вестибюль, уставленный пальмами с волосатыми стволами, — в этом городе вообще любили пальмы. Я закурил, немного постоял. Капитан не появлялся. Значит, я ему не был нужен. Я вернулся в зал. Оркестр только что начал играть танго, и между столами к эстраде пробирались пары. Поэтому я быстро прошел расстояние, отделявшее меня от столика Быстрицкой, и чопорно ей поклонился.
— Раечка, станцуем? Вы разрешите, Семен?
Сначала мы топтались с краю, а потом протиснулись в середину толпы.
— С кем это вы сидите? — полюбопытствовала Быстрицкая.
— Некто Буш, Генрих Осипович. Нравится?
— Ха, он старый! А потом я его видела: он к Ищенко приходил… Вы хорошо ведете.
— Спасибо.
— Нет, я серьезно.
Чувствовалось, что она выпила. Еще до прихода в ресторан, потому что появились они совсем недавно. И поэтому я решился.
— Раечка, я изнываю от безделья. Я заполняю всякие анкеты, пишу заявления. Я жду выхода в море. Я обязательно добьюсь своего. Но мне нужно запастись терпением. Сейчас я лежу утром в кровати до одиннадцати. Потом болтаюсь по городу. Мне скучно. Мне не дает покоя загадка: кто убил Ищенко? Почему? Я живу на его месте — случайное совпадение. Я хочу распутать это дело. Давайте вместе, а? Раечка!.. — Я шел напролом.
— При чем тут я? — слабо возразила она.
— Рая, вы мне верите?
Она посмотрела на меня долгим, значительным взглядом и опустила ресницы. Она выпила слишком много Она, по-моему, даже не все понимала, что я говорил.
— Верю.
“Охо-хо”, — подумал я.
— Я не про то, Рая… Вы что-то знаете. Расскажите мне. Моряк, который живет в моем номере, сказал, что Ищенко накануне смерти что-то писал. Потом порвал записку и выбросил. Мне кажется, что его кто-то преследовал. Он боялся, понимаете? Он хотел сообщить куда следует, и… тут его стукнули.
Танец кончился. Эх, как не вовремя! Может, вывести ее на улицу? Разговор предстоит серьезный. Нет, нельзя. Перемена обстановки может сбить ей настроение. Мне нельзя давать ей ни секунды передышки. Только вперед!
— Подождите! Сейчас они опять заиграют.
“Только б они не устроили перерыв”, — весь сжался я. Я почти гипнотизировал ее, так мне хотелось, чтобы она сейчас все выложила. Я рисковал многим, но, кажется, все шло нормально.
— Вы не думаете, что Сема будет ревновать? — прищурилась она.
Черт бы ее побрал с ее кокетством!
— Простит. Так чего он боялся, Раечка?
— Не знаю… Он просил меня… — она замолчала. Музыканты снова ударили в литавры. Запела труба.
— Ну же!
— Я тут с одним журналистом из Ленинграда… ну, он поцеловал меня на бульваре. А Ищенко видел. Он и Семена знал, часто болтал с ним, когда тот приходил ко мне на дежурство. Он с ним так добродушно разговаривал! А Сема, он лапоть… И Ищенко пригрозил, что все расскажет Семе, если я не выполню его просьбы. Он был очень подлый человек, а я к Семе хорошо отношусь, больше, правда, как… ну, по-матерински, что ли. А он ревнует ко всем, вы знаете. Я не хотела скандала. Только вы ничего ему не говорите, вы обещаете?
— Обещаю.
— Я даже не знаю, зачем я вам все это рассказываю.
Вокруг толкались танцующие пары, и я наклонялся к самому лицу Быстрицкой. Ее волосы щекотали мне щеку. Она говорила шепотом.
— Просьба была очень странная… Он разыскал меня на пляже и сказал, что ему нужно, чтобы я шла за ним. Почти рядом, но за ним. Он объяснил, что должен встретиться с одним человеком. И чтоб я стояла неподалеку. На виду. А если они пойдут куда-то, то чтобы следовала за ними.
“Неужели все так просто? — подумал я. — И все сейчас выяснится?”
— Как он это объяснил?
— Он сказал, что тот человек должен ему деньги. Крупную сумму. И не хочет отдавать. И что он может затеять драку, а я буду свидетельницей. Мне очень не хотелось идти, но он… Ну, словом, то, что я вам говорила…
“Нет, все совсем не просто, — подумал я. — Ищенко хранил свою тайну как зеницу ока”.
— Что было дальше?
— Мы пошли. Он торопился и поглядывал на часы: наверное, опаздывал. Я еле поспевала за ним. Так мы прошли центр.
— Дальше.
— Дальше все. Около проходного двора меня остановил Сема, он шел по улице навстречу. Он спросил, куда я спешу. Я сказала: “Не твое дело”. Он стал спрашивать, почему у меня такое расстроенное лицо. Я совсем не хотела, чтобы он увязался за мной. Я стала ему грубить, но он не отставал. И я не свернула во двор за Ищенко, потому что думала: он там остановился и поджидает меня… И все.
— Вы стояли с Семеном возле проходного двора?
— Да.
— Кто-нибудь свернул в него после Ищенко?
— Полминуты спустя. Мужчина. “Суркин”, — решил я.
— Вы бы его узнали?
— Да. У него одна рука больная какая-то, он ее наотлет держит.
“Он, — подумал я. — И все благополучно накладывается на его показания”.
— Больше никто не проходил мимо вас?
— Нет. Я еще машинально следила. Только этот с рукой прошел.
“Все точно, убийца двигался навстречу”, — подумал я.
— Вы не заходили потом во двор?
— Нет.
— Где была назначена встреча?
— На площади. Там, где стоянка автобусов. Я потом пошла туда кругом, по улице, потому что Сема не отставал от меня, но Ищенко там не было.
Вот где была ошибка в моих расчетах. Не во дворе, а на площади. Значит, убийца встретил его на пути к месту свидания. Напрашивался еще один вариант: Ищенко шел на встречу, но не с Кентавром, а Кентавр помешал ей осуществиться, потому что от нее зависела его судьба. Но откуда он мог знать о встрече? Да и, судя по всему, Ищенко боялся именно того человека, к которому шел… Потом я вспомнил, что последние дни Черкиз приводил автобус на несколько минут раньше расписания. Если он Кентавр и ему надо перехватить Ищенко на пути к остановке, все совпадает. “Но фокус с фотоаппаратом он проделать никак не мог, — подумал я. — Мимо”. Потом вдруг без всякой связи с предыдущим у меня мелькнула мысль: “Суркин коллекционировал военные регалии, каски и всякую дрянь. И у него могло быть два одинаковых кастета…” Но здесь я снова упирался в фотоаппарат. “Ладно, — зло подумал я. — Хватит играть в угадайку. Мне нужны факты. Фа-акты!”
— Проходным двором ведь ближе идти? — спросил я.
— Ага. Все местные им пользуются, если идут из этой части города. А курортники, я заметила, так не ходят, они всегда в обход. Редко кто знает. Он длинный, как переулок, — ворота, и сразу поворот такой: приезжие думают, что двор глухой. Тупик.
— Понятно, Раечка… А почему вы в милицию не заявили?
— Но я ж толком ничего не знаю. Того человека я не видела. Да и боюсь я, на меня и так косо смотрят… Прицепятся, все надо будет рассказывать, и про журналиста… и до Семы дойдет. Не хочу, не хочу!
Вот дуреха. Боится. А ведь знает о работе милиции не понаслышке: все-таки гостиница.
— Поймите, Раечка, убийца гуляет на свободе. Ваш рассказ может помочь следствию.
— Чем?
— Не знаю. Но там разберутся… Между прочим, отличные джазисты в этом ресторане. Мы уже четыре танца станцевали и не заметили.
— Устали?
— Что вы! Просто Семен там один скучает.
— Ну, идемте, — неохотно сказала она.
Семен сидел хмурый и прикуривал одну сигарету от другой. Он старался не смотреть на меня.
— Не сердись, Сем! Мы ж с тобой договорились, что я не играю в эту игру.
— Может, к нам пересядете? — предложил Семен, решивший быть мужчиной.
— Спасибо, я к своему Бушу пойду, а то он обидится.
Буш держал в руке рюмку.
— Милая девочка, — сказал он. — С которой вы танцевали.
— Плохих не держим.
И тут же я подумал: “Почему Буш сказал “айн секунд”, когда я предложил заказать коньяк? Он же не знает немецкого языка… Впрочем, я становлюсь слишком подозрительным. Это довольно распространенное выражение”.
— Познакомите?
Тут я заметил, что он пьет из второго графинчика, а первый уже пустой. Ого! Третья космическая.
— Застолблена.
“Так, — думал я. — Их всех можно исключить. Человеку незачем ходить на свидание с соседом по номеру. И Буша. Он сказал правду про третье число”.
— Ваше здоровье! — сказал Генрих Осипович.
— Ага.
“Исключить? А фотоаппарат?..”
В ресторане было самое “пустое” время. Обед по чекам кончился, а вечер с музыкой и вином, когда воздух становится синим от дыма и щиплет глаза, когда все говорят громче обычного, еще не начинался. Официант смотрел на нас как на неизбежное зло и обслуживать не спешил. Я потихоньку отщипывал кусочки от нарезанного ломтями белого хлеба. Буш понюхал цветочек в бокале и встал.
— Минуточку, — обронил он и исчез впроходе, ведшем, вероятно, на кухню.
Я лениво обвел глазами пустой зал. В углу сидел Красухин. Шляпы и авоськи не было в помине. Он был причесан на прибор, строг и сосредоточен. Рубашка на нем была другой расцветки. Так вот что лежало в авоське! “Толково работает”, — определил я.
Вернулся Буш. За ним шел метрдотель во фраке, что-то дожевывая на ходу. Он вытер рот платком, который достал из заднего кармана брюк, задрав фалду, потом выпрямился и стал величественным. Поманил к себе официанта. Буш сел за столик и довольно кашлянул. Метрдотель кончил выговаривать официанту, кивнул головой Бушу, а Генрих Осипович сделал ему ручкой, как хорошему знакомому.
— Вы имеете здесь вес, — заметил я.
— Кое-что, — не без гордости отвечал Буш. “Откуда у него эта любовь к “изящной” жизни?” подумал я.
— Что будем брать? — нагнулся к нему подскочивший официант.
— Вы здесь, кажется, недавно? — снисходительно спросил Генрих Осипович.
— Так точно. Второй день. Раньше в привокзальном работал.
— Там всегда скатерти грязные… Я думаю так, Боря, — обратился он ко мне, — мы сейчас пообедаем, а уходить не будем. Займем места, подождем вечера. Здесь будет весело. А?
Я немного подумал и согласился. Буш сделал заказ (он уже подмигнул официанту, стал звать его на “ты” и вообще чувствовал себя здесь как дома) и уткнулся в воскресные газеты, которые купил по дороге. Интересно, как человек трансформируется в зависимости от обстановки. Я машинально чертил вилкой на салфетке узор и думал, чем я располагаю.
Первое. Ищенко служил в полиции города Радзуте, а затем очутился в партизанском отряде. То и другое он тщательно скрывал. Значит ли это, что он был Кентавром? Нет. Чего же он опасался? Настоящего Кентавра? “Стоп! Как вы изволили выразиться, старший лейтенант? — перебил я самого себя. — Настоящего Кентавра? А Ищенко был Кентавром мнимым? Но, может быть, он всю жизнь опасался того, что его сочтут настоящим…” Это было похоже на правду. “Он не хотел быть на виду”, — вспомнил я слова Клавдии Николаевны.
Дальше. Ищенко уцелел, в то время как все погибли. Значит, он должен был знать о гибели отряда то, чего никто не знал. И за это знание поплатился жизнью. Я иду по следам Кентавра. “Или он идет по моим”, — подумал я. Войтина по линии Кентавра я исключал. Буш и его отношения с Клавдией Ищенко? Здесь скорее комедия, а не трагедия. Что могло бы заставить его написать анонимное письмо? Может быть, кто?
Я искоса взглянул на Буша. Он сидел, уткнувшись в развернутый газетный лист. Нет. Никто из них не должен быть убийцей по моим расчетам. Но мне все смешала история с фотоаппаратом… Тут раздались резкие, неприятные звуки. Я вздрогнул. Это музыканты настраивали инструменты на круглой эстраде.
— Эге, батенька! У вас нервы тоже не ахти, — заметил Буш, складывая газету.
Официант принес заказ. Он шел “на полусогнутых”, держа в вытянутой вперед и несколько в сторону руке поднос.
— Приступим?
— Приступим.
“Пройдусь по деталям”, — решил я. Прежде всего, кастет. Вернее, два кастета. Имел ли их в виду автор анонимного письма, когда обвинял Суркина? Если да, он убийца. На бумаге нет отпечатков пальцев. Значит, если Буш — автор, он ничего не скажет: уж очень старательно он отрезал возможный путь следствия к себе. А если не автор, ему будет нечего сказать. В обоих случаях допрос ничего не даст. “А может, даст?..” — подумал я.
— Что же вы пиво не пьете? — спросил Буш. — Замечательное пиво.
— Не люблю.
Если бы Ищенко был решительнее и не порвал тот листок бумаги — свою записку, все могло бы сложиться иначе. Он взвесил в тот вечер, что страшнее: правда или Кентавр. И ошибся. За эту ошибку он заплатил самой дорогой ценой. А Кентавр снова опустился на дно и затаился. Ест, пьет, спит. Может быть, ходит в кино, если любит. И готов убить всякого, кто помешает ему делать все это.
— Хороший борщ варят, — сообщил Буш. Он обсосал мозговую косточку и положил ее обратно в тарелку. — Не жирный, а наваристый такой, густой. Здешний шеф Петр Константинович был поваром на флагманском корабле. Адмиралов кормил. Школа!
— Адмиралы знают толк в борщах, — рассеянно подтвердил я.
Последние косые лучи солнца били мне в глаза. Я передвинулся вместе с креслом вбок. И увидел в темном углу зала носатого, чернявого — он вовсе не походил на литовца — начальника уголовного розыска капитана Сипариса. Я помнил его по допросу Буша, когда заглядывал в окошечко (Буш сейчас тоже заметил его и отвернулся). Он сидел под пальмой со скучающим видом, подперев голову рукой с дымящейся сигаретой. Попал сюда случайно? Я обвел глазами зал. За несколько столиков от капитана, ближе к эстраде, расположился знакомый мне молодой человек. Вчера он был в темных очках-консервах и беспрестанно вертел ключ на цепочке. Местный “фарцовщик”. И к нему, пересекая зал, направлялся Пухальский. Пожалуй, Николай Гаврилович стал неосторожен.
— Мой сосед, — кивнул я на него головой. — Тоже в триста пятом живет.
— А, Николай Гаврилович, — сказал Буш, взглянув.
— Знакомы?
— Он приехал из Саратова к нам на фабрику и как-то был у меня в гостях. Деловой мужик, с хваткой!
Прикрывшись рукой, я внимательно наблюдал за столиком Пухальского. По тому, как Пухальский разговаривал с молодым человеком, похоже было, что они в размолвке. “Вот почему он предлагал мне вчера везти чемоданчик, — подумал я. — Кстати, не опасается ли Пухальский своего компаньона? Может быть, поэтому он просил вчера запереть на ночь номер?..”
— В каком смысле? — спросил я.
— Во всех смыслах. Умеет жить, черт…
— Он, между прочим, очень сокрушается об Ищенко.
— Кто, Николай Гаврилович? Они у меня пили и сцепились насчет оккупации. Спорили, спорили! У покойного Тараса Михайловича даже глаза кровью налились. Что-то про полицию выясняли.
— Откуда ж Николаю Гавриловичу про полицию знать? Он вроде молодой.
— Он где-то в этих местах жил, насколько я понял. Во время войны. Так что вкусил все прелести.
— А Ищенко?
— Да не знаю я! Можете у Николая Гавриловича спросить, если интересуетесь.
— Я просто так.
Новая деталь. Как ее оценить?
Зажглись люстры под потолком, и сразу грянула музыка. В зале стало как-то просторнее. Я опять огляделся. Народу заметно прибавилось. Недалеко от нас устроилась Быстрицкая. Она кивала мне головой. Рядом сидел Семен. Все шло чудесно. Я помахал им рукой.
— Заказывайте себе коньячок, Генрих Осипович, — подмигнул я Бушу. — А то он кончится. Глядите, как густо народ повалил.
— Айн секунд.
— Я сейчас вернусь.
Я прошел вплотную мимо столика капитана. Он наверняка знал меня по фотографии. Он видел меня, но не шелохнулся. Я вышел в вестибюль, уставленный пальмами с волосатыми стволами, — в этом городе вообще любили пальмы. Я закурил, немного постоял. Капитан не появлялся. Значит, я ему не был нужен. Я вернулся в зал. Оркестр только что начал играть танго, и между столами к эстраде пробирались пары. Поэтому я быстро прошел расстояние, отделявшее меня от столика Быстрицкой, и чопорно ей поклонился.
— Раечка, станцуем? Вы разрешите, Семен?
Сначала мы топтались с краю, а потом протиснулись в середину толпы.
— С кем это вы сидите? — полюбопытствовала Быстрицкая.
— Некто Буш, Генрих Осипович. Нравится?
— Ха, он старый! А потом я его видела: он к Ищенко приходил… Вы хорошо ведете.
— Спасибо.
— Нет, я серьезно.
Чувствовалось, что она выпила. Еще до прихода в ресторан, потому что появились они совсем недавно. И поэтому я решился.
— Раечка, я изнываю от безделья. Я заполняю всякие анкеты, пишу заявления. Я жду выхода в море. Я обязательно добьюсь своего. Но мне нужно запастись терпением. Сейчас я лежу утром в кровати до одиннадцати. Потом болтаюсь по городу. Мне скучно. Мне не дает покоя загадка: кто убил Ищенко? Почему? Я живу на его месте — случайное совпадение. Я хочу распутать это дело. Давайте вместе, а? Раечка!.. — Я шел напролом.
— При чем тут я? — слабо возразила она.
— Рая, вы мне верите?
Она посмотрела на меня долгим, значительным взглядом и опустила ресницы. Она выпила слишком много Она, по-моему, даже не все понимала, что я говорил.
— Верю.
“Охо-хо”, — подумал я.
— Я не про то, Рая… Вы что-то знаете. Расскажите мне. Моряк, который живет в моем номере, сказал, что Ищенко накануне смерти что-то писал. Потом порвал записку и выбросил. Мне кажется, что его кто-то преследовал. Он боялся, понимаете? Он хотел сообщить куда следует, и… тут его стукнули.
Танец кончился. Эх, как не вовремя! Может, вывести ее на улицу? Разговор предстоит серьезный. Нет, нельзя. Перемена обстановки может сбить ей настроение. Мне нельзя давать ей ни секунды передышки. Только вперед!
— Подождите! Сейчас они опять заиграют.
“Только б они не устроили перерыв”, — весь сжался я. Я почти гипнотизировал ее, так мне хотелось, чтобы она сейчас все выложила. Я рисковал многим, но, кажется, все шло нормально.
— Вы не думаете, что Сема будет ревновать? — прищурилась она.
Черт бы ее побрал с ее кокетством!
— Простит. Так чего он боялся, Раечка?
— Не знаю… Он просил меня… — она замолчала. Музыканты снова ударили в литавры. Запела труба.
— Ну же!
— Я тут с одним журналистом из Ленинграда… ну, он поцеловал меня на бульваре. А Ищенко видел. Он и Семена знал, часто болтал с ним, когда тот приходил ко мне на дежурство. Он с ним так добродушно разговаривал! А Сема, он лапоть… И Ищенко пригрозил, что все расскажет Семе, если я не выполню его просьбы. Он был очень подлый человек, а я к Семе хорошо отношусь, больше, правда, как… ну, по-матерински, что ли. А он ревнует ко всем, вы знаете. Я не хотела скандала. Только вы ничего ему не говорите, вы обещаете?
— Обещаю.
— Я даже не знаю, зачем я вам все это рассказываю.
Вокруг толкались танцующие пары, и я наклонялся к самому лицу Быстрицкой. Ее волосы щекотали мне щеку. Она говорила шепотом.
— Просьба была очень странная… Он разыскал меня на пляже и сказал, что ему нужно, чтобы я шла за ним. Почти рядом, но за ним. Он объяснил, что должен встретиться с одним человеком. И чтоб я стояла неподалеку. На виду. А если они пойдут куда-то, то чтобы следовала за ними.
“Неужели все так просто? — подумал я. — И все сейчас выяснится?”
— Как он это объяснил?
— Он сказал, что тот человек должен ему деньги. Крупную сумму. И не хочет отдавать. И что он может затеять драку, а я буду свидетельницей. Мне очень не хотелось идти, но он… Ну, словом, то, что я вам говорила…
“Нет, все совсем не просто, — подумал я. — Ищенко хранил свою тайну как зеницу ока”.
— Что было дальше?
— Мы пошли. Он торопился и поглядывал на часы: наверное, опаздывал. Я еле поспевала за ним. Так мы прошли центр.
— Дальше.
— Дальше все. Около проходного двора меня остановил Сема, он шел по улице навстречу. Он спросил, куда я спешу. Я сказала: “Не твое дело”. Он стал спрашивать, почему у меня такое расстроенное лицо. Я совсем не хотела, чтобы он увязался за мной. Я стала ему грубить, но он не отставал. И я не свернула во двор за Ищенко, потому что думала: он там остановился и поджидает меня… И все.
— Вы стояли с Семеном возле проходного двора?
— Да.
— Кто-нибудь свернул в него после Ищенко?
— Полминуты спустя. Мужчина. “Суркин”, — решил я.
— Вы бы его узнали?
— Да. У него одна рука больная какая-то, он ее наотлет держит.
“Он, — подумал я. — И все благополучно накладывается на его показания”.
— Больше никто не проходил мимо вас?
— Нет. Я еще машинально следила. Только этот с рукой прошел.
“Все точно, убийца двигался навстречу”, — подумал я.
— Вы не заходили потом во двор?
— Нет.
— Где была назначена встреча?
— На площади. Там, где стоянка автобусов. Я потом пошла туда кругом, по улице, потому что Сема не отставал от меня, но Ищенко там не было.
Вот где была ошибка в моих расчетах. Не во дворе, а на площади. Значит, убийца встретил его на пути к месту свидания. Напрашивался еще один вариант: Ищенко шел на встречу, но не с Кентавром, а Кентавр помешал ей осуществиться, потому что от нее зависела его судьба. Но откуда он мог знать о встрече? Да и, судя по всему, Ищенко боялся именно того человека, к которому шел… Потом я вспомнил, что последние дни Черкиз приводил автобус на несколько минут раньше расписания. Если он Кентавр и ему надо перехватить Ищенко на пути к остановке, все совпадает. “Но фокус с фотоаппаратом он проделать никак не мог, — подумал я. — Мимо”. Потом вдруг без всякой связи с предыдущим у меня мелькнула мысль: “Суркин коллекционировал военные регалии, каски и всякую дрянь. И у него могло быть два одинаковых кастета…” Но здесь я снова упирался в фотоаппарат. “Ладно, — зло подумал я. — Хватит играть в угадайку. Мне нужны факты. Фа-акты!”
— Проходным двором ведь ближе идти? — спросил я.
— Ага. Все местные им пользуются, если идут из этой части города. А курортники, я заметила, так не ходят, они всегда в обход. Редко кто знает. Он длинный, как переулок, — ворота, и сразу поворот такой: приезжие думают, что двор глухой. Тупик.
— Понятно, Раечка… А почему вы в милицию не заявили?
— Но я ж толком ничего не знаю. Того человека я не видела. Да и боюсь я, на меня и так косо смотрят… Прицепятся, все надо будет рассказывать, и про журналиста… и до Семы дойдет. Не хочу, не хочу!
Вот дуреха. Боится. А ведь знает о работе милиции не понаслышке: все-таки гостиница.
— Поймите, Раечка, убийца гуляет на свободе. Ваш рассказ может помочь следствию.
— Чем?
— Не знаю. Но там разберутся… Между прочим, отличные джазисты в этом ресторане. Мы уже четыре танца станцевали и не заметили.
— Устали?
— Что вы! Просто Семен там один скучает.
— Ну, идемте, — неохотно сказала она.
Семен сидел хмурый и прикуривал одну сигарету от другой. Он старался не смотреть на меня.
— Не сердись, Сем! Мы ж с тобой договорились, что я не играю в эту игру.
— Может, к нам пересядете? — предложил Семен, решивший быть мужчиной.
— Спасибо, я к своему Бушу пойду, а то он обидится.
Буш держал в руке рюмку.
— Милая девочка, — сказал он. — С которой вы танцевали.
— Плохих не держим.
И тут же я подумал: “Почему Буш сказал “айн секунд”, когда я предложил заказать коньяк? Он же не знает немецкого языка… Впрочем, я становлюсь слишком подозрительным. Это довольно распространенное выражение”.
— Познакомите?
Тут я заметил, что он пьет из второго графинчика, а первый уже пустой. Ого! Третья космическая.
— Застолблена.
“Так, — думал я. — Их всех можно исключить. Человеку незачем ходить на свидание с соседом по номеру. И Буша. Он сказал правду про третье число”.
— Ваше здоровье! — сказал Генрих Осипович.
— Ага.
“Исключить? А фотоаппарат?..”
Глава 28. Войтин пишет письмо
 Генрих Осипович остался в ресторане. И Пухальский был там со своим “фарцовщиком”, когда я уходил.
На улице было темно. Фонари, как нарочно, горели вполнакала. Красухина я не видел, но знал, что он на расстоянии следует за мной. Мы кружили по городу. Я садился на скамейки, подолгу простаивал возле освещенных витрин. Хвоста не было.
Когда я стоял у окна часовой мастерской (внутри горел свет, а вдоль стен выстроились часы различных систем в футлярах в человеческий рост, в них качались начищенные медные маятники, вспыхивая в свете электрической лампочки под потолком, — часы жили своей механической жизнью в отсутствие человека, и это производило жутковатое впечатление), а младший лейтенант стоял, скрывшись в густой тени дерева (я видел его боковым зрением), — в этот самый момент из переулка вынырнул пошатывающийся парень и пошел на меня.
— Сигаретки нету?
— Есть.
Я вынул пачку. Непослушными пальцами он выудил из нее сигарету.
— Корову бы надо с подойничком.
— Под “подойничком” подразумеваете спички?
— Ага. Кругло говоришь.
— В школе научили.
Я стоял вполоборота к нему и продолжал глядеть в окно мастерской, но был весь как пружина.
— Грабануть хочешь?
— Что?
— Ничего… А то смотри милицию крикну. У нас тут быстро.
Я засмеялся, но по-прежнему был готов поймать любое его движение. Он прикурил. Погремев спичками, вернул коробок. И отвалил: спотыкаясь, пошел своей дорогой. Уф!
Возле гостиницы я напился газировки из светившегося изнутри автомата.
— У вас трехкопеечной монеты нет? — окликнул я младшего лейтенанта, остановившегося невдалеке. — У меня одни копейки, а хочется с сиропом.
Он приблизился.
— Ступайте отдыхать, — тихо сказал я, перебирая монеты у него на ладони. — Сегодня уже ничего не будет.
— А в гостинице?
— Там мне бояться нечего. Идите.
Перед тем как войти, я оглянулся: он стоял возле автомата и провожал меня глазами.
Я пересек вестибюль и поднялся по лестнице на второй этаж. Зеркала на площадках были глубокими и таинственными. В пустом полутемном коридоре возле досок я уронил платок, закурил и нагнулся, подсвечивая себе спичкой. Фотоаппарата не было. Я отодвинул доску. Пусто. “Что за фокусы? — подумал я. — Моя “Смена” появляется и исчезает когда ей вздумается. Вернее, когда кому-то вздумается. Мистика, спиритизм!” Я тщательно отряхнул платок, спрятал его в карман и свернул по коридору к столику дежурной.
Навстречу мне с кожаного диванчика поднялась уборщица. “Ее зовут Марта”, — вспомнил я В руках у нее был какой-то предмет, завернутый в газету.
— Можно вас на минуточку?
— Хоть на десять, тетя Марта.
— Нет. Пожалуйста, отойдемте. — Она оглянулась на дежурную: та, положив голову на руки, дремала.
— Хорошо.
Она сунула мне в руки сверток.
— Нате!
— Не понимаю.
Лицо ее покрылось красными пятнами: это было заметно даже в полутьме коридора.
— Все мой подлец, Пашка!.. Оставить его дома не с кем, крутится день-деньской на улице. Я ему всегда наказывала: не смей ничего у постояльцев трогать…
Я вспомнил мальчика, игравшего на лестнице оловянным солдатиком. “Господи, какой же я осел! — подумал я. — Какой мохнатый, длинноухий, безнадежный осел! Почему я не обратил внимания на то, что футляр аппарата был расстегнут. Конечно же, Пашка спрятался в коридоре, играл им, а потом сунул под доски”.
— Я у вас в номере-то прибирала, вышла с мусором, а он вот… полез под кровать и вытянул его из чемодана. Уж вы извините! Он его под доски в коридоре затолкал А вечером пришли домой, он мне признался. Я бегом сюда, запыхалась, гляжу: лежит целехонек. Слава богу! Уж как я обрадовалась!.. Я ему лупки дала, подлецу. На скору руку, но дала… Он-то ведь увидал, что из чемодана ремешок торчит, и вытащил за него. Вы чемодан запираете?
— Нет.
— Ну, не врет, значит. И то легче… Он еще маленький, не понимает, что творит. Вы уж не сердитесь!
— Я не сержусь, тетя Марта. Я теперь чемодан запирать буду, а вы его не бейте.
— Да уж отодрала! И еще добавлю! Его в понятие привести надо, чтоб запомнил, а то пойдет по кривой-то дорожке. Ну, такой хитрый, ну, я ничего не заметила: он его хвать — и под рубашку. А потом боком, боком… Только я вас очень прошу, прямо я вас умоляю, не заявляйте! У нас так строго насчет этого, а я никогда ничего…
— Не волнуйтесь, пожалуйста, тетя Марта. Все останется между нами.
— Уж такое спасибо вам! Прямо не знаю, как благодарить.
— Идите спать, тетя Марта, а го вы не выспитесь. И не надо лупить Пашку, он неплохой мальчуган.
— Да я уж…
Я поднялся на третий этаж.
Итак, все стало на свои места. Какого же дурака я свалял! А не упомянуть обо всем этом в отчете я не имел права… “Будьте мужчиной, старший лейтенант, — сказал я себе. — И зарубите на носу, что мистика и спиритизм — обман. Просто бывают умные старшие лейтенанты, а бывают пентюхи”.
Мне совсем не хотелось снова спускаться, было поздно, коридор был пуст, и поэтому я прошел в темный конец коридора, сел возле телефона на кожаный диван и набрал номер. “Пухальский спекулянт, — раздраженно думал я. — Может быть, валютчик. Скорей всего в газете была валюта. И черт с ним. Надо рвать лишние нити. Пусть с Пухальским возится Сипарис. Ищенко зачем-то взял его пиджак, а Пухальский, когда ему предложили опознать труп, растерялся. Испугался вопроса: почему ваш пиджак оказался на убитом. Не хотел привлекать к себе внимания. Ничего не знаю, моя хата с краю. Он не рассчитал, что подозрительным покажется как раз то, что он не признал своего пиджака. А ведь следствие рано или поздно должно было обнаружить, что пиджак на Ищенко с чужого плеча. Пухальский понял это с большим запозданием. Все было так. И никак иначе, — уговаривал я себя. — И Буш тут ни при чем. Хватит играть в жмурки…” “Алле”, — ответил усталый голос дежурного. “Передайте Пухальского Сипарису, — сказал я, направляя звук ладонью в трубку. — Он все равно ходит за ним по пятам. Завтра до работы перехватите Буша и прижмите его. Насчет анонимки. Что он знает? Вытрясите из него детали, может быть, они что-то дадут. Возьмите подписку о неразглашении. Сопровождение снимите — Красухин больше не нужен. История с фотоаппаратом оказалась липой. Все. Спокойной ночи”.
Я медленно пошел к себе.
В номере сидел Войтин и что-то писал. Лампа- с жестяным козырьком бросала круг света на стол, тень Войтина горбилась на стене. Он вздрогнул, когда я рывком распахнул дверь: иногда бывает полезно войти вот так неожиданно. Он прикрыл лист бумаги локтем. “Наверное, так же писал свою записку Ищенко, — почему-то подумал я. — А потом его убили…”
— Физкультпривет!
— Нагулялся? — отечески спросил Войтин.
— Так точно. Теперь с вашего позволения располагаю спать-с. До утра, с вашего разрешения.
— Вольно, студент. Ты не знаешь, когда первый раз вынимают письма из почтового ящика?
— Часов в семь. А что?
Он что-то подсчитал в уме, шевеля губами.
— Разучись спрашивать: “А что?” Ничего.
— Как вашему превосходительству угодно. Но если вы хотите, чтобы его вынули с утра, пойдите и опустите сейчас.
— Нет.
Я сел на койку. Он сунул бумагу в конверт. Заклеил его. Написал адрес. Какой-то короткий адрес.
— Не видел, камера хранения еще открыта?
— Открыта. А вы свои фамильные драгоценности там держите?
— Там, студент.
Он вышел, держа в руках конверт. А когда вернулся через несколько минут в номер, конверта у него не было. Почтовый ящик висел на улице возле подъезда. Из гостиницы Войтин не выходил: я смотрел в окно. На нем были пижамные брюки без карманов. Значит, он оставил конверт в камере хранения. В чемодане. Письмо самому себе?.. Тут я вспомнил про ключ, который нашел на остановке.
— Я организовал бюро находок, между прочим, — сообщил я. — Фирма “Вараксин и сыновья”.
— Ну и что?
— С огорчением констатирую, что вас это не интересует. Вы ничего не теряли?
— Нет, — отрезал Войтин.
— А это? — Я раскрыл ладонь.
— Где ты нашел? — с волнением спросил он. — Я даже не знал, что потерял его.
— Может, не ваш?
— Другого такого нет. — Он забрал у меня ключ.
— Лежал рядом со ступеньками автобуса, пришедшего из Радзуте.
— Вот как? — Войтин зорко взглянул на меня. — Тебя трудно выносить в больших дозах, студент… Ключ я спрячу. Спасибо. Серьезно, спасибо… Мне было бы очень больно его потерять: я его всю войну носил на себе. Думал, вернусь и открою дверь. Тысячу раз это видел. Эх! — Он стиснул зубы. — Даже в госпитале он лежал в тумбочке рядом со мной… Спасибо!
— Не за что. Жалко, что вы мне не сказали, что собираетесь в Радзуте. Я бы тоже поехал.
Он промолчал.
— Говорят, там католические соборы красивые?
— Я не специалист, — сухо сказал Войтин. — Давай спать, Борис… как тебя по отчеству?
— Андреевич.
— Так вот, спи, Борис Андреевич. Дрыхни. И не приставай ко мне.
— А в шахматишки не желаете?
— Нет.
Но сам он долго не мог заснуть: я слышал, как он ворочается в кровати. Я курил в темноте и, затягиваясь, глядел на рдеющий огонек сигареты: он быстро тускнел, подергиваясь пеплом.
“Вот так и истина, товарищ Вараксин, — сказал я себе. — Огонь под пеплом… Зачем Войтин ездил в Радзуте? Почему он так упорно не хочет об этом говорить? Что за письмо он писал? И что связывает с Радзуте киевского адвоката Лойко? Семена Лойко?..”
Генрих Осипович остался в ресторане. И Пухальский был там со своим “фарцовщиком”, когда я уходил.
На улице было темно. Фонари, как нарочно, горели вполнакала. Красухина я не видел, но знал, что он на расстоянии следует за мной. Мы кружили по городу. Я садился на скамейки, подолгу простаивал возле освещенных витрин. Хвоста не было.
Когда я стоял у окна часовой мастерской (внутри горел свет, а вдоль стен выстроились часы различных систем в футлярах в человеческий рост, в них качались начищенные медные маятники, вспыхивая в свете электрической лампочки под потолком, — часы жили своей механической жизнью в отсутствие человека, и это производило жутковатое впечатление), а младший лейтенант стоял, скрывшись в густой тени дерева (я видел его боковым зрением), — в этот самый момент из переулка вынырнул пошатывающийся парень и пошел на меня.
— Сигаретки нету?
— Есть.
Я вынул пачку. Непослушными пальцами он выудил из нее сигарету.
— Корову бы надо с подойничком.
— Под “подойничком” подразумеваете спички?
— Ага. Кругло говоришь.
— В школе научили.
Я стоял вполоборота к нему и продолжал глядеть в окно мастерской, но был весь как пружина.
— Грабануть хочешь?
— Что?
— Ничего… А то смотри милицию крикну. У нас тут быстро.
Я засмеялся, но по-прежнему был готов поймать любое его движение. Он прикурил. Погремев спичками, вернул коробок. И отвалил: спотыкаясь, пошел своей дорогой. Уф!
Возле гостиницы я напился газировки из светившегося изнутри автомата.
— У вас трехкопеечной монеты нет? — окликнул я младшего лейтенанта, остановившегося невдалеке. — У меня одни копейки, а хочется с сиропом.
Он приблизился.
— Ступайте отдыхать, — тихо сказал я, перебирая монеты у него на ладони. — Сегодня уже ничего не будет.
— А в гостинице?
— Там мне бояться нечего. Идите.
Перед тем как войти, я оглянулся: он стоял возле автомата и провожал меня глазами.
Я пересек вестибюль и поднялся по лестнице на второй этаж. Зеркала на площадках были глубокими и таинственными. В пустом полутемном коридоре возле досок я уронил платок, закурил и нагнулся, подсвечивая себе спичкой. Фотоаппарата не было. Я отодвинул доску. Пусто. “Что за фокусы? — подумал я. — Моя “Смена” появляется и исчезает когда ей вздумается. Вернее, когда кому-то вздумается. Мистика, спиритизм!” Я тщательно отряхнул платок, спрятал его в карман и свернул по коридору к столику дежурной.
Навстречу мне с кожаного диванчика поднялась уборщица. “Ее зовут Марта”, — вспомнил я В руках у нее был какой-то предмет, завернутый в газету.
— Можно вас на минуточку?
— Хоть на десять, тетя Марта.
— Нет. Пожалуйста, отойдемте. — Она оглянулась на дежурную: та, положив голову на руки, дремала.
— Хорошо.
Она сунула мне в руки сверток.
— Нате!
— Не понимаю.
Лицо ее покрылось красными пятнами: это было заметно даже в полутьме коридора.
— Все мой подлец, Пашка!.. Оставить его дома не с кем, крутится день-деньской на улице. Я ему всегда наказывала: не смей ничего у постояльцев трогать…
Я вспомнил мальчика, игравшего на лестнице оловянным солдатиком. “Господи, какой же я осел! — подумал я. — Какой мохнатый, длинноухий, безнадежный осел! Почему я не обратил внимания на то, что футляр аппарата был расстегнут. Конечно же, Пашка спрятался в коридоре, играл им, а потом сунул под доски”.
— Я у вас в номере-то прибирала, вышла с мусором, а он вот… полез под кровать и вытянул его из чемодана. Уж вы извините! Он его под доски в коридоре затолкал А вечером пришли домой, он мне признался. Я бегом сюда, запыхалась, гляжу: лежит целехонек. Слава богу! Уж как я обрадовалась!.. Я ему лупки дала, подлецу. На скору руку, но дала… Он-то ведь увидал, что из чемодана ремешок торчит, и вытащил за него. Вы чемодан запираете?
— Нет.
— Ну, не врет, значит. И то легче… Он еще маленький, не понимает, что творит. Вы уж не сердитесь!
— Я не сержусь, тетя Марта. Я теперь чемодан запирать буду, а вы его не бейте.
— Да уж отодрала! И еще добавлю! Его в понятие привести надо, чтоб запомнил, а то пойдет по кривой-то дорожке. Ну, такой хитрый, ну, я ничего не заметила: он его хвать — и под рубашку. А потом боком, боком… Только я вас очень прошу, прямо я вас умоляю, не заявляйте! У нас так строго насчет этого, а я никогда ничего…
— Не волнуйтесь, пожалуйста, тетя Марта. Все останется между нами.
— Уж такое спасибо вам! Прямо не знаю, как благодарить.
— Идите спать, тетя Марта, а го вы не выспитесь. И не надо лупить Пашку, он неплохой мальчуган.
— Да я уж…
Я поднялся на третий этаж.
Итак, все стало на свои места. Какого же дурака я свалял! А не упомянуть обо всем этом в отчете я не имел права… “Будьте мужчиной, старший лейтенант, — сказал я себе. — И зарубите на носу, что мистика и спиритизм — обман. Просто бывают умные старшие лейтенанты, а бывают пентюхи”.
Мне совсем не хотелось снова спускаться, было поздно, коридор был пуст, и поэтому я прошел в темный конец коридора, сел возле телефона на кожаный диван и набрал номер. “Пухальский спекулянт, — раздраженно думал я. — Может быть, валютчик. Скорей всего в газете была валюта. И черт с ним. Надо рвать лишние нити. Пусть с Пухальским возится Сипарис. Ищенко зачем-то взял его пиджак, а Пухальский, когда ему предложили опознать труп, растерялся. Испугался вопроса: почему ваш пиджак оказался на убитом. Не хотел привлекать к себе внимания. Ничего не знаю, моя хата с краю. Он не рассчитал, что подозрительным покажется как раз то, что он не признал своего пиджака. А ведь следствие рано или поздно должно было обнаружить, что пиджак на Ищенко с чужого плеча. Пухальский понял это с большим запозданием. Все было так. И никак иначе, — уговаривал я себя. — И Буш тут ни при чем. Хватит играть в жмурки…” “Алле”, — ответил усталый голос дежурного. “Передайте Пухальского Сипарису, — сказал я, направляя звук ладонью в трубку. — Он все равно ходит за ним по пятам. Завтра до работы перехватите Буша и прижмите его. Насчет анонимки. Что он знает? Вытрясите из него детали, может быть, они что-то дадут. Возьмите подписку о неразглашении. Сопровождение снимите — Красухин больше не нужен. История с фотоаппаратом оказалась липой. Все. Спокойной ночи”.
Я медленно пошел к себе.
В номере сидел Войтин и что-то писал. Лампа- с жестяным козырьком бросала круг света на стол, тень Войтина горбилась на стене. Он вздрогнул, когда я рывком распахнул дверь: иногда бывает полезно войти вот так неожиданно. Он прикрыл лист бумаги локтем. “Наверное, так же писал свою записку Ищенко, — почему-то подумал я. — А потом его убили…”
— Физкультпривет!
— Нагулялся? — отечески спросил Войтин.
— Так точно. Теперь с вашего позволения располагаю спать-с. До утра, с вашего разрешения.
— Вольно, студент. Ты не знаешь, когда первый раз вынимают письма из почтового ящика?
— Часов в семь. А что?
Он что-то подсчитал в уме, шевеля губами.
— Разучись спрашивать: “А что?” Ничего.
— Как вашему превосходительству угодно. Но если вы хотите, чтобы его вынули с утра, пойдите и опустите сейчас.
— Нет.
Я сел на койку. Он сунул бумагу в конверт. Заклеил его. Написал адрес. Какой-то короткий адрес.
— Не видел, камера хранения еще открыта?
— Открыта. А вы свои фамильные драгоценности там держите?
— Там, студент.
Он вышел, держа в руках конверт. А когда вернулся через несколько минут в номер, конверта у него не было. Почтовый ящик висел на улице возле подъезда. Из гостиницы Войтин не выходил: я смотрел в окно. На нем были пижамные брюки без карманов. Значит, он оставил конверт в камере хранения. В чемодане. Письмо самому себе?.. Тут я вспомнил про ключ, который нашел на остановке.
— Я организовал бюро находок, между прочим, — сообщил я. — Фирма “Вараксин и сыновья”.
— Ну и что?
— С огорчением констатирую, что вас это не интересует. Вы ничего не теряли?
— Нет, — отрезал Войтин.
— А это? — Я раскрыл ладонь.
— Где ты нашел? — с волнением спросил он. — Я даже не знал, что потерял его.
— Может, не ваш?
— Другого такого нет. — Он забрал у меня ключ.
— Лежал рядом со ступеньками автобуса, пришедшего из Радзуте.
— Вот как? — Войтин зорко взглянул на меня. — Тебя трудно выносить в больших дозах, студент… Ключ я спрячу. Спасибо. Серьезно, спасибо… Мне было бы очень больно его потерять: я его всю войну носил на себе. Думал, вернусь и открою дверь. Тысячу раз это видел. Эх! — Он стиснул зубы. — Даже в госпитале он лежал в тумбочке рядом со мной… Спасибо!
— Не за что. Жалко, что вы мне не сказали, что собираетесь в Радзуте. Я бы тоже поехал.
Он промолчал.
— Говорят, там католические соборы красивые?
— Я не специалист, — сухо сказал Войтин. — Давай спать, Борис… как тебя по отчеству?
— Андреевич.
— Так вот, спи, Борис Андреевич. Дрыхни. И не приставай ко мне.
— А в шахматишки не желаете?
— Нет.
Но сам он долго не мог заснуть: я слышал, как он ворочается в кровати. Я курил в темноте и, затягиваясь, глядел на рдеющий огонек сигареты: он быстро тускнел, подергиваясь пеплом.
“Вот так и истина, товарищ Вараксин, — сказал я себе. — Огонь под пеплом… Зачем Войтин ездил в Радзуте? Почему он так упорно не хочет об этом говорить? Что за письмо он писал? И что связывает с Радзуте киевского адвоката Лойко? Семена Лойко?..”
Глава 29. “Вышли в цвет”
 Когда я проснулся, Войтин уже был одет.
— Не спится? — спросил я, опуская ноги на пол.
— Я ранняя пташка, студент.
— Морская привычка?
— Во-во. Моряк без моря.
— Слушайте, а вы в высшие инстанции обращались?
— Насчет чего?
— Когда вас на берег списали.
— Как же… Разбил чернильницу на столе начальника управления экспедиционного лова.
— А результат?
— Он сказал, что такие вопросы решает отдел кадров. Он доверяет своим работникам. И что лично он считает: у моряка должны быть крепкие нервы, а бить чернильницы в кабинете начальника — распущенность.
— Суровый мужик.
— Куда там!
— Теперь вы должны на берегу работать? В порту?
— Должен… Я расчет взял.
Тут я заметил, что он как-то лихорадочно возбужден. Уже “зарядился”? Непохоже.
— Вы выглядите неважно.
— А, — он мотнул головой.
— Нет, серьезно. У вас лицо какое-то бледное.
— Что я тебе, барышня?
Проснулся Пухальский. На меня он не глядел. Когда Войтин осведомился, как ему спалось, он буркнул в ответ что-то невразумительное. Сдернул со спинки кровати полотенце и вышел.
— Что-то наш генерал не в настроении, — заметил Войтин. — Не с той ноги встал.
— Почему генерал?
— Держится солидно: брюхом вперед ходит… Зарядку свою он, между прочим, делать сегодня вроде не собирается. Из ряда вон.
— Сегодня понедельник — день тяжелый.
“Что-то сегодня все взбудоражены”, — подумал я.
Было девять часов утра, а из открытого окна уже несло зноем. День обещал быть на редкость жарким. Я подождал, пока из туалета вернется Пухальский, потом пошел принял холодный душ. Надел чистую рубашку, спустился в вестибюль и вышел на улицу.
До часа связи оставалось тридцать пять минут.
Я вошел в телефонную будку за углом (автомат уже починили) и позвонил. Подошел Валдманис. Он поднял трубку сразу, как будто ждал моего звонка. “Есть что-нибудь новое?” — спросил я. “Да”, — сказал он. И сообщил, что в результате проверки, которую я просил сделать, мы вышли на Кентавра. Кентавр под наблюдением. “Вышли в цвет, как говорят “клиенты” капитана Сипариса, — радостно гудел в трубке голос начальника горотдела. — Вы были правы. Я эту линию не принял всерьез, а вы рассчитали точно. Ювелирно точно…” Я прислонился плечом к стене будки. “Давно все выяснилось?” — “Час назад”. — “Обувь проверили?” — “Утром, когда он вышел из дому, устроили лужу возле бочки с квасом. Он наступил…” На сырой земле за контейнером для мусора в свое время был обнаружен четкий след. Он был под трупом Ищенко, поэтому его не затоптали. Его мог оставить только убийца, когда затаскивал труп: никому в голову не придет просто так лезть за контейнер, это был след взрослого человека. Обувь всех подозреваемых была проверена в начале следствия. Это ничего не дало… “Совпало со слепком?” — спросил я. “Совпало”. — “Порядок, — сказал я. — Порядочек”. — “Вам пришло сообщение из республиканского комитета. Ларионов, судя по всему, провернул громадную работу. Старался выяснить, не связан ли Кентавр в настоящее время с иностранной разведкой”. — “Ну?” — “Похоже, не связан” — “Значит, берем сегодня”. Мы обсудили детали. “В одиннадцать машина будет там”, — уточнил Валдманис. Я сказал, что подойду к горотделу в пол-одиннадцатого — это рядом, от горотдела пойдем пешком — и повесил трубку.
“Так, — сказал я себе. — Та-ак, сеньор Вараксин”. И стал насвистывать. Мне хотелось заорать во весь голос, или пройтись на руках по тротуару, или отколоть еще какую-нибудь штуку. “Спокойно, старший лейтенант, — сказал я себе. — Еще спокойней. Это чисто нервное. Сейчас пройдет”.
Я вернулся в гостиницу и едва избежал встречи с Иваном Сергеевичем Увидев его, я встал за колонну. Он меня не заметил и прошел в свою комнату. Он вовсе не походил на седоусого юнкера, хозяина гостиницы, который на момент возник в моем воображении в день приезда. Я стал подниматься по лестнице. “Не ушел, — думал между тем я. — Не ушел, подлец. И не мог уйти. Странную ему дали кличку: Кентавр. Человек с туловищем коня”.
В коридоре я столкнулся с Пухальским. Он молча посторонился. Я вошел в номер и сел на подоконник. Внизу, возле входа в гостиницу, бродили по асфальту голуби. Когда Пухальский вышел, они взлетели. А человек в серой кепке, надвинутой на глаза (он сидел неподалеку на бульваре), поднялся и пошел в ту же сторону, что Пухальский. “Хватит вам заниматься темными делишками, гражданин Пухальский, — подумал я. — Хорошего понемножку”.
— Передай газетку, я почитаю, — попросил Войтин. Он лежал, закинув ноги в туфлях на спинку кровати.
— Пожалуйста.
— Слушай… — сказал он и замялся.
— Что?
— Нет, ничего.
И опять мне показалось, что он какой-то странный сегодня: как будто его бьет озноб. Глаза у него лихорадочно блестели.
— Питаться пойдете?
— Нет. Не хочу. Есть не хочется, а то бы пошел.
— На нет суда нет.
Я снова спустился вниз и побрел по бульвару. Это было теперь труднее всего: протянуть время до одиннадцати часов. На другой стороне я увидел книжный магазин — он был уже открыт — и зашел. Я люблю копаться в книгах. “Ты как Карл Маркс”, — обычно иронизирует по этому поводу Тамара. В магазине царила полутьма, пахло клеем и типографской краской от новых книг. На прилавке лежал Катаев — “Маленькая железная дверь в стене”, последняя повесть Бакланова, стихи А.Имерманиса. Все это я уже купил дома. Я взял сборник рассказов Льва Толстого: там были “Холстомер” и “Отец Сергий”.
В кафе, ожидая заказа, я листал книгу. Меня всегда поражало в “Сергии” то место, когда бывшему блестящему красавцу офицеру, а теперь нищему лысому старику, проезжие подают милостыню. Они говорят между собой по-французски — о нем, он все понимает, а делает самое простое: берет двадцать копеек. Всю жизнь он боролся со своей гордыней. Всю жизнь обманывал себя. А теперь не только все понял рассудком, но и стал другим: ясным и кротким человеком. “А Войтин тоже горд, — почему-то подумал я. — Очень горд…”
Вернувшись в гостиницу, я поднялся на второй этаж. Сегодня дежурила Быстрицкая. Она слегка смутилась, увидев меня.
— Раечка, привет! — сказал я, устраиваясь на диванчике рядом с ее столом. — Я вам подарок принес.
— Мне? Ой, спасибо! А какой?
— Вот. — Я протянул ей Толстого.
— Спасибо большое, — сказала она не особенно уверенно.
— Сейчас что! Скажете, когда прочтете.
— Прочту обязательно. Как ваши успехи, товарищ детектив.
Хм!
— Насчет Ищенко-то? — переспросил я.
— Да.
— Обдумал ваше сообщение, товарищ Рая Быстрицкая.
— И?
— Ничего не могу понять.
— Может, тот его из-за долга убил?
— Может быть. А с Семеном вам надо быть честной. Он, мне кажется, всерьез любит вас.
— Да? — сказала она и поправила прядку на лбу.
— Да.
— Но он такой ску-учный. Сидит и молчит все время.
— Эх, Раечка! — сказал я. — Погубят вас трепачи.
— Не погубят. Я хитрая.
Сегодня она была совсем в другом настроении, чем вечером. Ох, женщины, женщины!
— Дай-то бог!
— Вы сейчас на Ищенко очень похоже сказали. Между прочим, он, по-моему, в бога верил.
— С чего вы взяли? — спросил я. Для следствия уже не имело значения: верил Ищенко в бога или нет. Но мне было просто по-человечески любопытно.
— Когда он спешил на то свидание, мы проходили мимо церкви. У нас тут только одна православная, остальные для католиков… Так он. на нее перекрестился
— Напрасно, — сказал я. — Наукой доказано, что бога нет. Есть мы — люди…
Когда я поднялся в номер, Войтина я уже не застал. Он ушел.
Когда я проснулся, Войтин уже был одет.
— Не спится? — спросил я, опуская ноги на пол.
— Я ранняя пташка, студент.
— Морская привычка?
— Во-во. Моряк без моря.
— Слушайте, а вы в высшие инстанции обращались?
— Насчет чего?
— Когда вас на берег списали.
— Как же… Разбил чернильницу на столе начальника управления экспедиционного лова.
— А результат?
— Он сказал, что такие вопросы решает отдел кадров. Он доверяет своим работникам. И что лично он считает: у моряка должны быть крепкие нервы, а бить чернильницы в кабинете начальника — распущенность.
— Суровый мужик.
— Куда там!
— Теперь вы должны на берегу работать? В порту?
— Должен… Я расчет взял.
Тут я заметил, что он как-то лихорадочно возбужден. Уже “зарядился”? Непохоже.
— Вы выглядите неважно.
— А, — он мотнул головой.
— Нет, серьезно. У вас лицо какое-то бледное.
— Что я тебе, барышня?
Проснулся Пухальский. На меня он не глядел. Когда Войтин осведомился, как ему спалось, он буркнул в ответ что-то невразумительное. Сдернул со спинки кровати полотенце и вышел.
— Что-то наш генерал не в настроении, — заметил Войтин. — Не с той ноги встал.
— Почему генерал?
— Держится солидно: брюхом вперед ходит… Зарядку свою он, между прочим, делать сегодня вроде не собирается. Из ряда вон.
— Сегодня понедельник — день тяжелый.
“Что-то сегодня все взбудоражены”, — подумал я.
Было девять часов утра, а из открытого окна уже несло зноем. День обещал быть на редкость жарким. Я подождал, пока из туалета вернется Пухальский, потом пошел принял холодный душ. Надел чистую рубашку, спустился в вестибюль и вышел на улицу.
До часа связи оставалось тридцать пять минут.
Я вошел в телефонную будку за углом (автомат уже починили) и позвонил. Подошел Валдманис. Он поднял трубку сразу, как будто ждал моего звонка. “Есть что-нибудь новое?” — спросил я. “Да”, — сказал он. И сообщил, что в результате проверки, которую я просил сделать, мы вышли на Кентавра. Кентавр под наблюдением. “Вышли в цвет, как говорят “клиенты” капитана Сипариса, — радостно гудел в трубке голос начальника горотдела. — Вы были правы. Я эту линию не принял всерьез, а вы рассчитали точно. Ювелирно точно…” Я прислонился плечом к стене будки. “Давно все выяснилось?” — “Час назад”. — “Обувь проверили?” — “Утром, когда он вышел из дому, устроили лужу возле бочки с квасом. Он наступил…” На сырой земле за контейнером для мусора в свое время был обнаружен четкий след. Он был под трупом Ищенко, поэтому его не затоптали. Его мог оставить только убийца, когда затаскивал труп: никому в голову не придет просто так лезть за контейнер, это был след взрослого человека. Обувь всех подозреваемых была проверена в начале следствия. Это ничего не дало… “Совпало со слепком?” — спросил я. “Совпало”. — “Порядок, — сказал я. — Порядочек”. — “Вам пришло сообщение из республиканского комитета. Ларионов, судя по всему, провернул громадную работу. Старался выяснить, не связан ли Кентавр в настоящее время с иностранной разведкой”. — “Ну?” — “Похоже, не связан” — “Значит, берем сегодня”. Мы обсудили детали. “В одиннадцать машина будет там”, — уточнил Валдманис. Я сказал, что подойду к горотделу в пол-одиннадцатого — это рядом, от горотдела пойдем пешком — и повесил трубку.
“Так, — сказал я себе. — Та-ак, сеньор Вараксин”. И стал насвистывать. Мне хотелось заорать во весь голос, или пройтись на руках по тротуару, или отколоть еще какую-нибудь штуку. “Спокойно, старший лейтенант, — сказал я себе. — Еще спокойней. Это чисто нервное. Сейчас пройдет”.
Я вернулся в гостиницу и едва избежал встречи с Иваном Сергеевичем Увидев его, я встал за колонну. Он меня не заметил и прошел в свою комнату. Он вовсе не походил на седоусого юнкера, хозяина гостиницы, который на момент возник в моем воображении в день приезда. Я стал подниматься по лестнице. “Не ушел, — думал между тем я. — Не ушел, подлец. И не мог уйти. Странную ему дали кличку: Кентавр. Человек с туловищем коня”.
В коридоре я столкнулся с Пухальским. Он молча посторонился. Я вошел в номер и сел на подоконник. Внизу, возле входа в гостиницу, бродили по асфальту голуби. Когда Пухальский вышел, они взлетели. А человек в серой кепке, надвинутой на глаза (он сидел неподалеку на бульваре), поднялся и пошел в ту же сторону, что Пухальский. “Хватит вам заниматься темными делишками, гражданин Пухальский, — подумал я. — Хорошего понемножку”.
— Передай газетку, я почитаю, — попросил Войтин. Он лежал, закинув ноги в туфлях на спинку кровати.
— Пожалуйста.
— Слушай… — сказал он и замялся.
— Что?
— Нет, ничего.
И опять мне показалось, что он какой-то странный сегодня: как будто его бьет озноб. Глаза у него лихорадочно блестели.
— Питаться пойдете?
— Нет. Не хочу. Есть не хочется, а то бы пошел.
— На нет суда нет.
Я снова спустился вниз и побрел по бульвару. Это было теперь труднее всего: протянуть время до одиннадцати часов. На другой стороне я увидел книжный магазин — он был уже открыт — и зашел. Я люблю копаться в книгах. “Ты как Карл Маркс”, — обычно иронизирует по этому поводу Тамара. В магазине царила полутьма, пахло клеем и типографской краской от новых книг. На прилавке лежал Катаев — “Маленькая железная дверь в стене”, последняя повесть Бакланова, стихи А.Имерманиса. Все это я уже купил дома. Я взял сборник рассказов Льва Толстого: там были “Холстомер” и “Отец Сергий”.
В кафе, ожидая заказа, я листал книгу. Меня всегда поражало в “Сергии” то место, когда бывшему блестящему красавцу офицеру, а теперь нищему лысому старику, проезжие подают милостыню. Они говорят между собой по-французски — о нем, он все понимает, а делает самое простое: берет двадцать копеек. Всю жизнь он боролся со своей гордыней. Всю жизнь обманывал себя. А теперь не только все понял рассудком, но и стал другим: ясным и кротким человеком. “А Войтин тоже горд, — почему-то подумал я. — Очень горд…”
Вернувшись в гостиницу, я поднялся на второй этаж. Сегодня дежурила Быстрицкая. Она слегка смутилась, увидев меня.
— Раечка, привет! — сказал я, устраиваясь на диванчике рядом с ее столом. — Я вам подарок принес.
— Мне? Ой, спасибо! А какой?
— Вот. — Я протянул ей Толстого.
— Спасибо большое, — сказала она не особенно уверенно.
— Сейчас что! Скажете, когда прочтете.
— Прочту обязательно. Как ваши успехи, товарищ детектив.
Хм!
— Насчет Ищенко-то? — переспросил я.
— Да.
— Обдумал ваше сообщение, товарищ Рая Быстрицкая.
— И?
— Ничего не могу понять.
— Может, тот его из-за долга убил?
— Может быть. А с Семеном вам надо быть честной. Он, мне кажется, всерьез любит вас.
— Да? — сказала она и поправила прядку на лбу.
— Да.
— Но он такой ску-учный. Сидит и молчит все время.
— Эх, Раечка! — сказал я. — Погубят вас трепачи.
— Не погубят. Я хитрая.
Сегодня она была совсем в другом настроении, чем вечером. Ох, женщины, женщины!
— Дай-то бог!
— Вы сейчас на Ищенко очень похоже сказали. Между прочим, он, по-моему, в бога верил.
— С чего вы взяли? — спросил я. Для следствия уже не имело значения: верил Ищенко в бога или нет. Но мне было просто по-человечески любопытно.
— Когда он спешил на то свидание, мы проходили мимо церкви. У нас тут только одна православная, остальные для католиков… Так он. на нее перекрестился
— Напрасно, — сказал я. — Наукой доказано, что бога нет. Есть мы — люди…
Когда я поднялся в номер, Войтина я уже не застал. Он ушел.
Глава 30. Кентавр
 Было двадцать минут одиннадцатого, когда я вышел из гостиницы “Пордус”. Небо над черепичными крышами побелело от жары. Ни малейшего дуновения ветерка не чувствовалось на бульваре. Город вымер.
Совсем недавно, в такой же вот светлый и жаркий день, по времени приблизительно через полчаса, был убит Тарас Михайлович Ищенко. Сегодня через час его убийца будет сидеть напротив следователя по другую сторону стола и отвечать на положенные вопросы: “Ваша фамилия? Имя? Отчество? Год рождения?..” И он будет просить разрешения закурить. Или он не курит? “Курит”, — вспомнил я.
Идти на задержание мне было совсем не обязательно: ребята Валдманиса отлично справились бы без меня. Но это был логический конец моей работы здесь, и мне было приятно самому поставить точку.
На первый взгляд казалось, что возле горотдела никого нет. Но в скверике напротив подъезда сидели несколько человек. Среди них я узнал Виленкина и младшего лейтенанта Красухина. Когда я подошел, все не торопясь двинулись по переулку. От подъезда отделился Валдманис и на ходу пристроился ко мне.
— Порядок? — спросил я, глядя перед собой.
— Да. За ним следует машина радзутского горотдела. Передадут нам с рук на руки.
— Не опаздываем?
— Нет, нормально… Буш сделал заявление, что анонимное письмо написал он.
— А где второй экземпляр?
— У него.
Я покрутил головой.
— Человек типа “а вдруг?”, — пояснил Валдманис. — Потому так вел себя на допросе.
— А почему он решил, что убийца Суркин?
— Тот был взволнован, когда увидел Ищенко в гостях у Буша. Странно вел себя. Утром расспрашивал Буша об Ищенко. Потом “протек” на Буша. Он не сразу вернулся домой в тот злополучный день, Буш столкнулся с ним у крыльца. “Где пропадали?” Суркин растерялся, сказал, что только что вышел из дому. Но Буш же к нему стучался… Потом Буш узнал на допросе, когда Ищенко был убит, и сразу подумал о Суркиие.
— Почему сам не пришел?
— Говорит: “Береженого бог бережет. Таскали бы потом на допросы…”
— Клавдия Ищенко, конечно, об анонимке не знала?
— Нет. А про кастет он не подозревал. Совпадение.
— Ясненько, — сказал я.
Мы свернули в переулок. Мы оба были напряжены и вздрогнули, когда на башне тевтонского замка часы пробили без четверти. Потом взглянули друг на друга.
— Фамилия у него, конечно, чужая, — сказал я.
— Вероятно, — сказал Валдманис. Мы помолчали.
— Знаете, я вам завидую, — сказал Валдманис. — С мальчиком. Насчет близорукости.
— У меня был товарищ в школе, — пояснил я. — Ему как-то удалось миновать врачебные осмотры. Он до четвертого класса был уверен, что все люди видят предметы, как он сам: такими же расплывчатыми. А когда первый раз надел очки, остолбенел от удивления.
Мы снова повернули и пересекли круглую площадь.
— Сюда, — сказал Валдманис. — Здесь ближе.
— Знаю я этот двор, — проворчал я. — Я здесь каждый сантиметр облазил.
Мы свернули под арку. “Так же и Ищенко сворачивал в тот раз, — машинально подумал я. — У него, наверное, сильно билось сердце”.
Впереди за углом послышались какое-то топтанье, возня: звуки множились в гулких стенах. Раздался короткий сдавленный вскрик. Мы бросились вперед. За поворотом на земле, сцепившись, катались двое. Еще один человек бежал с другой стороны.
— Янкаускас, — сквозь зубы сказал начальник горотдела. — Он ждал на остановке… Ни черта не понимаю!..
Но я уже понял. Ах, Войтин, Войтин! Он все хотел сделать сам.
Противникам удалось подняться. Они сделали это одновременно. У бывшего помощника капитана рыболовного траулера Войтина текла по лицу кровь. Но он держался молодцом. Даром, что его противник был, судя по всему, намного сильнее: ему ведь не надо было глушить отчаянье вином, как это ежедневно делал Войтин. Но Войтин висел на нем, как клещ. Тот не мог размахнуться для удара. Все это я машинально отмечал, подбегая. “Быстрее. Еще быстрее”, — думал я. Но мы опоздали. Увидев нас, тот, второй, изловчился и ударил Войтина коленом в низ живота. Войтин упал. Он лежал, скрючившись, на земле. А тот выпрямился. Это был плотный лысый человек в синей холстинной куртке: он водил радзутский автобус. Владимир Пантелеймонович Черкиз. Вчера я прикуривал у него на остановке.
Было двадцать минут одиннадцатого, когда я вышел из гостиницы “Пордус”. Небо над черепичными крышами побелело от жары. Ни малейшего дуновения ветерка не чувствовалось на бульваре. Город вымер.
Совсем недавно, в такой же вот светлый и жаркий день, по времени приблизительно через полчаса, был убит Тарас Михайлович Ищенко. Сегодня через час его убийца будет сидеть напротив следователя по другую сторону стола и отвечать на положенные вопросы: “Ваша фамилия? Имя? Отчество? Год рождения?..” И он будет просить разрешения закурить. Или он не курит? “Курит”, — вспомнил я.
Идти на задержание мне было совсем не обязательно: ребята Валдманиса отлично справились бы без меня. Но это был логический конец моей работы здесь, и мне было приятно самому поставить точку.
На первый взгляд казалось, что возле горотдела никого нет. Но в скверике напротив подъезда сидели несколько человек. Среди них я узнал Виленкина и младшего лейтенанта Красухина. Когда я подошел, все не торопясь двинулись по переулку. От подъезда отделился Валдманис и на ходу пристроился ко мне.
— Порядок? — спросил я, глядя перед собой.
— Да. За ним следует машина радзутского горотдела. Передадут нам с рук на руки.
— Не опаздываем?
— Нет, нормально… Буш сделал заявление, что анонимное письмо написал он.
— А где второй экземпляр?
— У него.
Я покрутил головой.
— Человек типа “а вдруг?”, — пояснил Валдманис. — Потому так вел себя на допросе.
— А почему он решил, что убийца Суркин?
— Тот был взволнован, когда увидел Ищенко в гостях у Буша. Странно вел себя. Утром расспрашивал Буша об Ищенко. Потом “протек” на Буша. Он не сразу вернулся домой в тот злополучный день, Буш столкнулся с ним у крыльца. “Где пропадали?” Суркин растерялся, сказал, что только что вышел из дому. Но Буш же к нему стучался… Потом Буш узнал на допросе, когда Ищенко был убит, и сразу подумал о Суркиие.
— Почему сам не пришел?
— Говорит: “Береженого бог бережет. Таскали бы потом на допросы…”
— Клавдия Ищенко, конечно, об анонимке не знала?
— Нет. А про кастет он не подозревал. Совпадение.
— Ясненько, — сказал я.
Мы свернули в переулок. Мы оба были напряжены и вздрогнули, когда на башне тевтонского замка часы пробили без четверти. Потом взглянули друг на друга.
— Фамилия у него, конечно, чужая, — сказал я.
— Вероятно, — сказал Валдманис. Мы помолчали.
— Знаете, я вам завидую, — сказал Валдманис. — С мальчиком. Насчет близорукости.
— У меня был товарищ в школе, — пояснил я. — Ему как-то удалось миновать врачебные осмотры. Он до четвертого класса был уверен, что все люди видят предметы, как он сам: такими же расплывчатыми. А когда первый раз надел очки, остолбенел от удивления.
Мы снова повернули и пересекли круглую площадь.
— Сюда, — сказал Валдманис. — Здесь ближе.
— Знаю я этот двор, — проворчал я. — Я здесь каждый сантиметр облазил.
Мы свернули под арку. “Так же и Ищенко сворачивал в тот раз, — машинально подумал я. — У него, наверное, сильно билось сердце”.
Впереди за углом послышались какое-то топтанье, возня: звуки множились в гулких стенах. Раздался короткий сдавленный вскрик. Мы бросились вперед. За поворотом на земле, сцепившись, катались двое. Еще один человек бежал с другой стороны.
— Янкаускас, — сквозь зубы сказал начальник горотдела. — Он ждал на остановке… Ни черта не понимаю!..
Но я уже понял. Ах, Войтин, Войтин! Он все хотел сделать сам.
Противникам удалось подняться. Они сделали это одновременно. У бывшего помощника капитана рыболовного траулера Войтина текла по лицу кровь. Но он держался молодцом. Даром, что его противник был, судя по всему, намного сильнее: ему ведь не надо было глушить отчаянье вином, как это ежедневно делал Войтин. Но Войтин висел на нем, как клещ. Тот не мог размахнуться для удара. Все это я машинально отмечал, подбегая. “Быстрее. Еще быстрее”, — думал я. Но мы опоздали. Увидев нас, тот, второй, изловчился и ударил Войтина коленом в низ живота. Войтин упал. Он лежал, скрючившись, на земле. А тот выпрямился. Это был плотный лысый человек в синей холстинной куртке: он водил радзутский автобус. Владимир Пантелеймонович Черкиз. Вчера я прикуривал у него на остановке.
 Мы еще не успели вмешаться, а только как бы ненароком стали в круг: в центре круга лежал Войтин и стоял шофер. Он выставил правое плечо вперед и прыгнул между Виленкиным и Красухиным. Виленкин подставил ногу. Шофер споткнулся, его перехватил Красухин.
— Ну что вы, ребята, вяжетесь? — плаксиво завел шофер. — Ну, подрались мы, это наше дело, верно? Я его стукнул, а он меня: гляди, кровь идет. Я в больницу побегу. Пустите! А то милиция ведь прицепится, по судам затаскают. Пошли, я угощу. Ребята, а?
— Вы, может быть, человека убили, — сказал Красухин, кивнув на лежащего без движения Войтина.
— Und überhaupt, machen Sie keine Dummheiten, Zentaur*["20], — сказал я.
Он дернулся. Наверное, двадцать с лишним лет назад нервы у него были лучше: он был молодой и сильный. В этот момент на руках у него защелкнулись наручники. Начальник горотдела облегченно вздохнул и вынул руку из кармана.
— Янкаускас, подгоните машину, — приказал он тому, что подбежал с другой стороны. — Что случилось?
— Автобус пришел не по расписанию. На десять минут раньше. Он всю дорогу гнал как сумасшедший. (“Ага, — вспомнил я. — И это не в первый раз…”) А потом он стоял здесь за углом и ждал. Моряк шел с той же стороны, что и вы, — из центра города.
— Я ничего не знаю! — закричал шофер фальцетом. — Пустите меня! Вот суки! Пустите… Гра-абют!
— Тихо! — сказал начальник горотдела. — Не пугай, а то мы испугаемся.
— Вы в этом дворе потеряли кастет, Кентавр. Пятого числа. Вы же не могли его бросить нарочно — никелированный кастет с дубовым листком. Он выпал через дыру в кармане куртки. А сзади слышались шаги, у вас нервы сдали…
“Я очень многословен”, — подумал я. И попросил:
— Проверьте, пожалуйста, Красухин.
Он вывернул карман синей холстинной куртки.
— Заплата, товарищ старший лейтенант. Карман замаслен, а она чистая.
Я не почувствовал никакого удовлетворения. Наоборот. Прошло напряжение, и на меня навалилась усталость. Я взглянул на часы. Было без трех минут одиннадцать. “Сейчас бы снова душ принять”, — как-то отстраненно подумал я.
Подъехала оперативная машина.
Черкиза сунули в нее.
Войтин, над которым хлопотал Виленкин, зашевелился. К нему наклонился Валдманис.
— Все в порядке, — сказал Валдманис. — Порядок. Почему вы ничего не сказали нам, Войтин?
— Сам хотел, — сквозь зубы ответил Войтин.
— Что же вы собирались делать дальше?
— Бить этого негодяя. Долго-долго бить. А потом сдать вам.
— Голубчик, это же мальчишество.
— Знаю, — сказал Войтин, поморщившись. — Но я хотел видеть его страдание… Понимаете, физическое страдание.
— Ищенко знал вашу историю? — помедлив, спросил Валдманис. — Вам не трудно говорить?
— Нет. Он не знал.
— Как вы вышли на Кентавра?
— Какого Кентавра?
— Ну, этого. — Валдманис кивнул в сторону машины.
— Записка.
— Которую разорвал Ищенко? — быстро спросил Валдманис.
— Да. Мы вместе выходили утром из гостиницы, и я запомнил, куда он ее бросил. В траву за скамейкой. Я тогда ничего не подумал. Но когда узнал об убийстве, решил найти и отдать вам. Дождя не было. Она не пострадала. Я собрал обрывки…
— В записке стояла фамилия?
— Ищенко не дописал записку. Там было, что человек, выдавший подполье, работает шофером на радзутской линии. Я стал встречать автобусы. Даже ездил в Радзуте. Я никого не расспрашивал: хотел наверняка.
— Как вы попали сегодня сюда?
— Шел на площадь… Когда я понял, что это Черкиз: возраст, работал в день убийства, настороженность такая, знаете, — я завел с ним окольный разговор. Намекнул, что знаю кое-что о его прошлом…
“Представляю, как наивно это выглядело”, — подумал я.
— Предложил встретиться, обстоятельно поговорить Он согласился. Он сказал: “На площади. Потом на бульвар пойдем посидим. Я, — говорит, — не понимаю, чего ты имеешь в виду, но отчего не покалякать”.
— Понятно, — сказал Валдманис. — Один момент мы подозревали в убийстве Ищенко вас. Чтобы спуститься в ларек за папиросами, нужно три минуты, вы отсутствовали двадцать.
— Внизу “Беломор” был сухой. Табак высыпался. Я прошел до следующего ларька… Я на всякий случай оставил вам письмо. В чемодане. На адрес КГБ. Вы ведь КГБ?
— Да, — сказал Валдманис. — Только хорошо, что не случился этот “всякий случай”. Вам повезло.
— Ничего, я сам, — кряхтя, сказал Войтин, отпихивая Виленкина, который поддерживал его.
— В машину его, — тоном приказа сказал Валдманис. — Доставите в больницу. Мы пойдем пешком. — Он взял меня под руку.
— Кстати, вы выяснили, почему пятого сменщик просил подменить его? — несколько запоздало спросил я.
— Сегодня докопались. Черкиз сказал ему, что хочет на следующей неделе съездить на свадьбу племянника в Вильнюс. Сменщик по доброте душевной предложил Черкизу выйти на линию пятого с тем, чтобы отработать за него потом. И сам разговаривал с начальством, не входя в подробности.
— Точно работал Черкиз. Пассажиром не поехал.
— Не хотел расспросов: зачем едет в неурочный день. На попутке тоже рискованно, шоферы все друг друга знают.
— Само собой.
— Да, вы просили навести справки о постояльце Евгении Августовны Станкене, киевском адвокате. Так вот, номер его машины: 89–32. А из Радзуте пришло сообщение, что на загородном шоссе “Москвич” зацепил велосипедиста. Номер “Москвича” оканчивался на “32”. Машина не остановилась За рулем сидела женщина.
— Велосипедист-то цел?
— Отделался парой синяков… Из Киева сообщили, что в прошлом году Лойко был исключен из коллегии адвокатов за недобросовестное ведение дел. Он влиял на свидетелей… А Станкене поняла, что они приехали из Радзуте, увидев у них в машине очень редкий сорт сирени, который выращивает в Радзуте один садовник на продажу. Она бывает только там. Им пришлось подтвердить Евгении Августовне, что они действительно из Радзуте, и мотивировать свой отъезд тем, что там очень многолюдно.
— Спасибо вам большое, товарищ майор.
— Зовите меня Отто Рудольфовичем, — сказал он.
— Спасибо вам, Отто Рудольфович, — повторил я. — У меня есть к вам еще однамаленькая просьба, Отто Рудольфович. Нажмите на начальника рыбного управления… Войтин — моряк божьей милостью. На него дали блестящую рабочую характеристику. Пьет? Надо выручать человека, а не топить его дальше.
— Сам знаю, — буркнул начальник горотдела. — Займусь.
Мы еще не успели вмешаться, а только как бы ненароком стали в круг: в центре круга лежал Войтин и стоял шофер. Он выставил правое плечо вперед и прыгнул между Виленкиным и Красухиным. Виленкин подставил ногу. Шофер споткнулся, его перехватил Красухин.
— Ну что вы, ребята, вяжетесь? — плаксиво завел шофер. — Ну, подрались мы, это наше дело, верно? Я его стукнул, а он меня: гляди, кровь идет. Я в больницу побегу. Пустите! А то милиция ведь прицепится, по судам затаскают. Пошли, я угощу. Ребята, а?
— Вы, может быть, человека убили, — сказал Красухин, кивнув на лежащего без движения Войтина.
— Und überhaupt, machen Sie keine Dummheiten, Zentaur*["20], — сказал я.
Он дернулся. Наверное, двадцать с лишним лет назад нервы у него были лучше: он был молодой и сильный. В этот момент на руках у него защелкнулись наручники. Начальник горотдела облегченно вздохнул и вынул руку из кармана.
— Янкаускас, подгоните машину, — приказал он тому, что подбежал с другой стороны. — Что случилось?
— Автобус пришел не по расписанию. На десять минут раньше. Он всю дорогу гнал как сумасшедший. (“Ага, — вспомнил я. — И это не в первый раз…”) А потом он стоял здесь за углом и ждал. Моряк шел с той же стороны, что и вы, — из центра города.
— Я ничего не знаю! — закричал шофер фальцетом. — Пустите меня! Вот суки! Пустите… Гра-абют!
— Тихо! — сказал начальник горотдела. — Не пугай, а то мы испугаемся.
— Вы в этом дворе потеряли кастет, Кентавр. Пятого числа. Вы же не могли его бросить нарочно — никелированный кастет с дубовым листком. Он выпал через дыру в кармане куртки. А сзади слышались шаги, у вас нервы сдали…
“Я очень многословен”, — подумал я. И попросил:
— Проверьте, пожалуйста, Красухин.
Он вывернул карман синей холстинной куртки.
— Заплата, товарищ старший лейтенант. Карман замаслен, а она чистая.
Я не почувствовал никакого удовлетворения. Наоборот. Прошло напряжение, и на меня навалилась усталость. Я взглянул на часы. Было без трех минут одиннадцать. “Сейчас бы снова душ принять”, — как-то отстраненно подумал я.
Подъехала оперативная машина.
Черкиза сунули в нее.
Войтин, над которым хлопотал Виленкин, зашевелился. К нему наклонился Валдманис.
— Все в порядке, — сказал Валдманис. — Порядок. Почему вы ничего не сказали нам, Войтин?
— Сам хотел, — сквозь зубы ответил Войтин.
— Что же вы собирались делать дальше?
— Бить этого негодяя. Долго-долго бить. А потом сдать вам.
— Голубчик, это же мальчишество.
— Знаю, — сказал Войтин, поморщившись. — Но я хотел видеть его страдание… Понимаете, физическое страдание.
— Ищенко знал вашу историю? — помедлив, спросил Валдманис. — Вам не трудно говорить?
— Нет. Он не знал.
— Как вы вышли на Кентавра?
— Какого Кентавра?
— Ну, этого. — Валдманис кивнул в сторону машины.
— Записка.
— Которую разорвал Ищенко? — быстро спросил Валдманис.
— Да. Мы вместе выходили утром из гостиницы, и я запомнил, куда он ее бросил. В траву за скамейкой. Я тогда ничего не подумал. Но когда узнал об убийстве, решил найти и отдать вам. Дождя не было. Она не пострадала. Я собрал обрывки…
— В записке стояла фамилия?
— Ищенко не дописал записку. Там было, что человек, выдавший подполье, работает шофером на радзутской линии. Я стал встречать автобусы. Даже ездил в Радзуте. Я никого не расспрашивал: хотел наверняка.
— Как вы попали сегодня сюда?
— Шел на площадь… Когда я понял, что это Черкиз: возраст, работал в день убийства, настороженность такая, знаете, — я завел с ним окольный разговор. Намекнул, что знаю кое-что о его прошлом…
“Представляю, как наивно это выглядело”, — подумал я.
— Предложил встретиться, обстоятельно поговорить Он согласился. Он сказал: “На площади. Потом на бульвар пойдем посидим. Я, — говорит, — не понимаю, чего ты имеешь в виду, но отчего не покалякать”.
— Понятно, — сказал Валдманис. — Один момент мы подозревали в убийстве Ищенко вас. Чтобы спуститься в ларек за папиросами, нужно три минуты, вы отсутствовали двадцать.
— Внизу “Беломор” был сухой. Табак высыпался. Я прошел до следующего ларька… Я на всякий случай оставил вам письмо. В чемодане. На адрес КГБ. Вы ведь КГБ?
— Да, — сказал Валдманис. — Только хорошо, что не случился этот “всякий случай”. Вам повезло.
— Ничего, я сам, — кряхтя, сказал Войтин, отпихивая Виленкина, который поддерживал его.
— В машину его, — тоном приказа сказал Валдманис. — Доставите в больницу. Мы пойдем пешком. — Он взял меня под руку.
— Кстати, вы выяснили, почему пятого сменщик просил подменить его? — несколько запоздало спросил я.
— Сегодня докопались. Черкиз сказал ему, что хочет на следующей неделе съездить на свадьбу племянника в Вильнюс. Сменщик по доброте душевной предложил Черкизу выйти на линию пятого с тем, чтобы отработать за него потом. И сам разговаривал с начальством, не входя в подробности.
— Точно работал Черкиз. Пассажиром не поехал.
— Не хотел расспросов: зачем едет в неурочный день. На попутке тоже рискованно, шоферы все друг друга знают.
— Само собой.
— Да, вы просили навести справки о постояльце Евгении Августовны Станкене, киевском адвокате. Так вот, номер его машины: 89–32. А из Радзуте пришло сообщение, что на загородном шоссе “Москвич” зацепил велосипедиста. Номер “Москвича” оканчивался на “32”. Машина не остановилась За рулем сидела женщина.
— Велосипедист-то цел?
— Отделался парой синяков… Из Киева сообщили, что в прошлом году Лойко был исключен из коллегии адвокатов за недобросовестное ведение дел. Он влиял на свидетелей… А Станкене поняла, что они приехали из Радзуте, увидев у них в машине очень редкий сорт сирени, который выращивает в Радзуте один садовник на продажу. Она бывает только там. Им пришлось подтвердить Евгении Августовне, что они действительно из Радзуте, и мотивировать свой отъезд тем, что там очень многолюдно.
— Спасибо вам большое, товарищ майор.
— Зовите меня Отто Рудольфовичем, — сказал он.
— Спасибо вам, Отто Рудольфович, — повторил я. — У меня есть к вам еще однамаленькая просьба, Отто Рудольфович. Нажмите на начальника рыбного управления… Войтин — моряк божьей милостью. На него дали блестящую рабочую характеристику. Пьет? Надо выручать человека, а не топить его дальше.
— Сам знаю, — буркнул начальник горотдела. — Займусь.
Глава 31. Кто есть кто
 В следствии я участия не принимал. Совсем было ни к чему, чтобы тот же Буш, встретив меня потом где-нибудь на улице, толкал приятеля в бок и говорил: “Знаешь, где этот парень работает?..”
Но на допросах Кентавра я присутствовал.
Они проходили не в той симпатичной комнате с круглыми сводами, напоминавшими арки, и с пейзажами на стене: за его спиной стоял вооруженный конвоир, а табуретка была привинчена к полу. Сначала он устраивал истерики, кидался на следователя. После психоэкспертизы замолчал, а когда его приперли к стенке уликами, стал тихим, слезливым и во всем каялся.
Он был агентом гестапо. В сорок четвертом году его перевели из Минска в Радзуте. Потом сюда. Он везде работал платным осведомителем.
“Почему вы не ушли с немцами?” — был задан ему вопрос. “Я попал под бомбежку и был ранен, гражданин следователь, долго лежал в госпитале, в себя пришел уже при наших, но не в этом дело, я их, фашистов, душегубов проклятых, всегда ненавидел, — заявил Кентавр. — А против Советской власти я ничего не имел, гражданин следователь, наоборот даже, я Родину люблю как родную мать. Вы поймите, пожалуйста, я же был поставлен в такие условия… у меня не было выбора… под пыткой у меня вырывали признания эти изверги в обличье человеческом, под пыткой…”
До двадцати девяти лет его звали Малиным Константином Константиновичем. Среди людей, которых он предал, был его двоюродный брат. Тоже Малин. Он нарушил требование конспирации: не поставил в известность членов подпольного комитета о том, что в пустующем отапливаемом сарайчике, оборудованном под мастерскую, прячет родственника, бежавшего от немецкой мобилизации (так объяснил ему свое появление Кентавр). Кентавра вывел на подполье Малин. Его убили в первую очередь, чтобы устранить малейшую возможность расшифровки агента.
“Брат выправил через знакомого документы. — рассказывал Кентавр. — Я смог спокойно ходить по городу, не выглядя в его глазах слишком смелым. Так я встретился с Ищенко. Он был напуган встречей, потому что был в поношенной цивильной одежде, а я знал, что он работает в радзутской полиции. Он сказал, что выполняет особое задание. Я ему поверил. Я сам выполнял такое задание. Мы пошли в забегаловку. Выпили. Много. Я намекнул, что ему не удастся составить капитальца на этом деле (я думал, он вынюхивает подпольщиков), потому что на днях с ними будет покончено, и я играю здесь не последнюю скрипку. Он знал, что если я говорю, так оно и есть. Он кое-что знал про меня… Через два дня я снова его встретил. В это утро начались аресты. Мне выдали аванс за работу мою, так сказать, я ж на краю пропасти ходил, гражданин следователь. Мы опять выпили…”
Хозяева дали ему точную характеристику: всем хорош, только много болтает, когда выпьет. При немцах Кентавр больше не встречал Ищенко. Позже он узнал, что Ищенко дезертировал из полиции за несколько месяцев до их встреч.
Косвенно Ищенко был виновен в гибели патриотов, потому что боясь за свою шкуру, никого не предупредил. Потом сообразил, что его самого могут обвинить в предательстве. Во всяком случае, наверняка зададут вопрос: “Как вам удалось уцелеть?” Всю жизнь он боялся этого вопроса.
Осталось неясным, зачем Ищенко понадобилось надевать пиджак Пухальского. Может быть, его знобило? Но у него был свой пиджак, правда довольно похожий на пиджак Пухальского, — возможно, он перепутал их в спешке, а возвращаться уже не было времени. И второго мы никогда не узнаем. Почему он приехал сюда? Сентиментальность пожилого человека: потянуло в знакомые места? Надеялся, что никого из тех, кто знал его по полицейскому управлению и партизанскому отряду, не осталось в живых?.. Ответить на это мог бы только он сам.
Всю свою жизнь он провел как бы в проходном дворе. Все было для него временным, потому что постоянным было чувство страха. Детей ни в первом, ни во втором браке у него не было. “Он боялся иметь их, — сказала Клавдия Ищенко. — Теперь я понимаю почему…” По иронии судьбы Ищенко погиб как жил: в проходном дворе. Кривом и пустынном. Он верил в бога, в рай и ад. Наверное, он надеялся, что платный осведомитель Кентавр будет гореть в аду.
До самолета оставалось два часа, и мне захотелось выпить: я же не монах. Это можно было бы сделать со многими. С Войтиным, который уже вышел из больницы. С Раей Быстрицкой и Семеном. С осторожным и не очень-то счастливым Генрихом Осиповичем Бушем. С начальником горотдела Валдманисом… Но я взял две бутылки “Напареули” и четыреста граммов любительской колбасы — совсем она не подходила к этому вину, но больше ничего в продмаге за углом не было — и отправился к директору гостиницы — в комнату с надписью “Служебная”. Я чувствовал себя виноватым перед ним, потому что подозревал и его, хотя у меня не было для этого никаких оснований. Но я нервничал и не мог объяснить себе некоторых его поступков.
— Дела идут, контора пишет, — приветствовал меня Иван Сергеевич. — А студенты гуляют.
Мы выпили и обстоятельно поговорили о трудностях работы в гостинице, о ремонте, о жаре, которая стоит вот уже две недели.
— Вы здорово немецкий знаете, — сказал я. — Вы меня тогда просто ошарашили.
— Я, дружок, в плену был. С начала войны. Попал в окружение под Киевом… Освободили в Штутгофе. Я очень много говорю, ты не думай, что я болтун, это после лагеря у меня, вроде травмы какой… — и он вдруг улыбнулся виноватой, тревожной какой-то и очень подкупающей улыбкой. — Да, ты меня извини, я тебя в гости не позвал. Ну, когда мы на улице встретились, в воскресенье. Я, понимаешь, в баньку торопился. Взял мочалку, мыло там и пошел. В гостинице только душ, ну его к богу! Никакого удовольствия. Я баню люблю… Потом я поднялся попрощаться с Быстрицкой.
— Я-то думала, вы сильный человек, — разочарованно сказала она. — А вы уезжаете, не добившись своего. Вы же в море хотели, матросом.
— Не получилось, Раечка. Долго ждать визы, каникулы кончатся… А насчет “сильного человека” — ищите ближе. По-моему, Семен стоящий парень. Только с ним надо быть честной.
— Да-а? А “Холстомер” мне ужас как понравился. Я даже ревела, когда читала… Ах, вы же не знаете потрясающей новости: убийцу поймали!
— Какого убийцу? — спросил я.
— Ну вот! Который Ищенко убил! Вы еще хотели все разгадать, только у вас и это не получилось, — уколола она.
Следователь в ходе допроса спросил Кентавра: “Вы встретились с Ищенко первый раз третьего числа?” — “Да”. — “Расскажите подробнее”. — “Мы столкнулись на площади у автобуса, я только что вылез из кабины, и одновременно узнали друг друга. Он понял, что я работаю шофером на этой линии. Мне стало ясно, что он донесет на меня. Но не сразу. Он трус, боится прошлого, будет раздумывать. Мне пора было ехать обратно. Я сказал, что мы должны встретиться и все обсудить. Как люди, а не как твари неразумные. Сказал, что давно хочу признаться, пороху не хватает… Потом я не спал ночью, все боялся: он настучит на меня раньше, чем…” — “Почему вы назначили для встречи площадь, а не какое-нибудь более укромное место?” — “Он… боялся”, — глухо ответил Кентавр. “Вы встретили его в проходном дворе?” — “Да. Я помнил, что до войны он жил здесь. Значит, пойдет через проходной. Так все местные ходят, если из центра. В одиннадцать часов уже жарко. Город пустеет. Я рассчитывал на это… Но поймите, гражданин следователь, что мне оставалось делать? Я после войны стал другим. Все понял. Я крови больше не хотел, я ушел от всей этой политики. Я стал честным человеком. Я хотел все забыть, поймите…” Когда в проходном дворе реконструировались детали убийства, Малин — Кентавр всхлипнул. “Нервы сдают”, — объяснил он и провел ладонью по глазам и небритой щеке. Он был страшен.
— Но ведь поймали же его, — сказал я Быстрицкой.
— Знаете, я была в милиции.
— Ну и как? Не съели?
— Мне здорово влетело, что я не пришла раньше. Но там хорошие ребята. Все поняли по-человечески.
— Я же вам говорил: ничего страшного нет.
Потом я поехал на аэродром.
Я чувствовал себя как рыба, вытащенная из воды, когда поднимался по трапу, хотя было утро, а я был выбрит, и на мне была свежая рубашка. Я поднимал ноги медленно, даже слегка шаркал подошвами о пупырчатые ступени. В руке я держал старенький “студенческий” чемодан, и меня никто не провожал, я сам просил, это было хорошо, потому что никого я не хотел сейчас видеть и мне было бы трудно поддерживать самый незначительный разговор. Я разрешил себе расслабиться. Я перестал быть студентом Вараксиным, я даже не был сейчас старшим лейтенантом госбезопасности Бучинскасом, а просто тридцатилетним мужчиной, который сработал трудное дело, ну вроде как построил дом, и ничего больше теперь не хочет, как отдохнуть.
По трапу я поднимался один.
Несколько пассажиров еще только лениво брели через летное поле, поросшее травой, поэтому я остановился на верхней площадке трапа и огляделся. Крыша домика аэровокзала — двухэтажного, с балкончиком и двумя пожарными лестницами по бокам — мокро блестела. “Вот дождь прошел”, — подумал я. Обычная для нашей республики погода: дождь, через полчаса жара, потом ливень и снова — солнце и чистое небо. Вдали тянулся город, в котором я провел семь дней. Четыре дня, а потом еще три, пока все до конца не было выяснено.
Я вдохнул полной грудью сырой воздух и, пригнувшись, шагнул в низкий проем двери самолета.
В следствии я участия не принимал. Совсем было ни к чему, чтобы тот же Буш, встретив меня потом где-нибудь на улице, толкал приятеля в бок и говорил: “Знаешь, где этот парень работает?..”
Но на допросах Кентавра я присутствовал.
Они проходили не в той симпатичной комнате с круглыми сводами, напоминавшими арки, и с пейзажами на стене: за его спиной стоял вооруженный конвоир, а табуретка была привинчена к полу. Сначала он устраивал истерики, кидался на следователя. После психоэкспертизы замолчал, а когда его приперли к стенке уликами, стал тихим, слезливым и во всем каялся.
Он был агентом гестапо. В сорок четвертом году его перевели из Минска в Радзуте. Потом сюда. Он везде работал платным осведомителем.
“Почему вы не ушли с немцами?” — был задан ему вопрос. “Я попал под бомбежку и был ранен, гражданин следователь, долго лежал в госпитале, в себя пришел уже при наших, но не в этом дело, я их, фашистов, душегубов проклятых, всегда ненавидел, — заявил Кентавр. — А против Советской власти я ничего не имел, гражданин следователь, наоборот даже, я Родину люблю как родную мать. Вы поймите, пожалуйста, я же был поставлен в такие условия… у меня не было выбора… под пыткой у меня вырывали признания эти изверги в обличье человеческом, под пыткой…”
До двадцати девяти лет его звали Малиным Константином Константиновичем. Среди людей, которых он предал, был его двоюродный брат. Тоже Малин. Он нарушил требование конспирации: не поставил в известность членов подпольного комитета о том, что в пустующем отапливаемом сарайчике, оборудованном под мастерскую, прячет родственника, бежавшего от немецкой мобилизации (так объяснил ему свое появление Кентавр). Кентавра вывел на подполье Малин. Его убили в первую очередь, чтобы устранить малейшую возможность расшифровки агента.
“Брат выправил через знакомого документы. — рассказывал Кентавр. — Я смог спокойно ходить по городу, не выглядя в его глазах слишком смелым. Так я встретился с Ищенко. Он был напуган встречей, потому что был в поношенной цивильной одежде, а я знал, что он работает в радзутской полиции. Он сказал, что выполняет особое задание. Я ему поверил. Я сам выполнял такое задание. Мы пошли в забегаловку. Выпили. Много. Я намекнул, что ему не удастся составить капитальца на этом деле (я думал, он вынюхивает подпольщиков), потому что на днях с ними будет покончено, и я играю здесь не последнюю скрипку. Он знал, что если я говорю, так оно и есть. Он кое-что знал про меня… Через два дня я снова его встретил. В это утро начались аресты. Мне выдали аванс за работу мою, так сказать, я ж на краю пропасти ходил, гражданин следователь. Мы опять выпили…”
Хозяева дали ему точную характеристику: всем хорош, только много болтает, когда выпьет. При немцах Кентавр больше не встречал Ищенко. Позже он узнал, что Ищенко дезертировал из полиции за несколько месяцев до их встреч.
Косвенно Ищенко был виновен в гибели патриотов, потому что боясь за свою шкуру, никого не предупредил. Потом сообразил, что его самого могут обвинить в предательстве. Во всяком случае, наверняка зададут вопрос: “Как вам удалось уцелеть?” Всю жизнь он боялся этого вопроса.
Осталось неясным, зачем Ищенко понадобилось надевать пиджак Пухальского. Может быть, его знобило? Но у него был свой пиджак, правда довольно похожий на пиджак Пухальского, — возможно, он перепутал их в спешке, а возвращаться уже не было времени. И второго мы никогда не узнаем. Почему он приехал сюда? Сентиментальность пожилого человека: потянуло в знакомые места? Надеялся, что никого из тех, кто знал его по полицейскому управлению и партизанскому отряду, не осталось в живых?.. Ответить на это мог бы только он сам.
Всю свою жизнь он провел как бы в проходном дворе. Все было для него временным, потому что постоянным было чувство страха. Детей ни в первом, ни во втором браке у него не было. “Он боялся иметь их, — сказала Клавдия Ищенко. — Теперь я понимаю почему…” По иронии судьбы Ищенко погиб как жил: в проходном дворе. Кривом и пустынном. Он верил в бога, в рай и ад. Наверное, он надеялся, что платный осведомитель Кентавр будет гореть в аду.
До самолета оставалось два часа, и мне захотелось выпить: я же не монах. Это можно было бы сделать со многими. С Войтиным, который уже вышел из больницы. С Раей Быстрицкой и Семеном. С осторожным и не очень-то счастливым Генрихом Осиповичем Бушем. С начальником горотдела Валдманисом… Но я взял две бутылки “Напареули” и четыреста граммов любительской колбасы — совсем она не подходила к этому вину, но больше ничего в продмаге за углом не было — и отправился к директору гостиницы — в комнату с надписью “Служебная”. Я чувствовал себя виноватым перед ним, потому что подозревал и его, хотя у меня не было для этого никаких оснований. Но я нервничал и не мог объяснить себе некоторых его поступков.
— Дела идут, контора пишет, — приветствовал меня Иван Сергеевич. — А студенты гуляют.
Мы выпили и обстоятельно поговорили о трудностях работы в гостинице, о ремонте, о жаре, которая стоит вот уже две недели.
— Вы здорово немецкий знаете, — сказал я. — Вы меня тогда просто ошарашили.
— Я, дружок, в плену был. С начала войны. Попал в окружение под Киевом… Освободили в Штутгофе. Я очень много говорю, ты не думай, что я болтун, это после лагеря у меня, вроде травмы какой… — и он вдруг улыбнулся виноватой, тревожной какой-то и очень подкупающей улыбкой. — Да, ты меня извини, я тебя в гости не позвал. Ну, когда мы на улице встретились, в воскресенье. Я, понимаешь, в баньку торопился. Взял мочалку, мыло там и пошел. В гостинице только душ, ну его к богу! Никакого удовольствия. Я баню люблю… Потом я поднялся попрощаться с Быстрицкой.
— Я-то думала, вы сильный человек, — разочарованно сказала она. — А вы уезжаете, не добившись своего. Вы же в море хотели, матросом.
— Не получилось, Раечка. Долго ждать визы, каникулы кончатся… А насчет “сильного человека” — ищите ближе. По-моему, Семен стоящий парень. Только с ним надо быть честной.
— Да-а? А “Холстомер” мне ужас как понравился. Я даже ревела, когда читала… Ах, вы же не знаете потрясающей новости: убийцу поймали!
— Какого убийцу? — спросил я.
— Ну вот! Который Ищенко убил! Вы еще хотели все разгадать, только у вас и это не получилось, — уколола она.
Следователь в ходе допроса спросил Кентавра: “Вы встретились с Ищенко первый раз третьего числа?” — “Да”. — “Расскажите подробнее”. — “Мы столкнулись на площади у автобуса, я только что вылез из кабины, и одновременно узнали друг друга. Он понял, что я работаю шофером на этой линии. Мне стало ясно, что он донесет на меня. Но не сразу. Он трус, боится прошлого, будет раздумывать. Мне пора было ехать обратно. Я сказал, что мы должны встретиться и все обсудить. Как люди, а не как твари неразумные. Сказал, что давно хочу признаться, пороху не хватает… Потом я не спал ночью, все боялся: он настучит на меня раньше, чем…” — “Почему вы назначили для встречи площадь, а не какое-нибудь более укромное место?” — “Он… боялся”, — глухо ответил Кентавр. “Вы встретили его в проходном дворе?” — “Да. Я помнил, что до войны он жил здесь. Значит, пойдет через проходной. Так все местные ходят, если из центра. В одиннадцать часов уже жарко. Город пустеет. Я рассчитывал на это… Но поймите, гражданин следователь, что мне оставалось делать? Я после войны стал другим. Все понял. Я крови больше не хотел, я ушел от всей этой политики. Я стал честным человеком. Я хотел все забыть, поймите…” Когда в проходном дворе реконструировались детали убийства, Малин — Кентавр всхлипнул. “Нервы сдают”, — объяснил он и провел ладонью по глазам и небритой щеке. Он был страшен.
— Но ведь поймали же его, — сказал я Быстрицкой.
— Знаете, я была в милиции.
— Ну и как? Не съели?
— Мне здорово влетело, что я не пришла раньше. Но там хорошие ребята. Все поняли по-человечески.
— Я же вам говорил: ничего страшного нет.
Потом я поехал на аэродром.
Я чувствовал себя как рыба, вытащенная из воды, когда поднимался по трапу, хотя было утро, а я был выбрит, и на мне была свежая рубашка. Я поднимал ноги медленно, даже слегка шаркал подошвами о пупырчатые ступени. В руке я держал старенький “студенческий” чемодан, и меня никто не провожал, я сам просил, это было хорошо, потому что никого я не хотел сейчас видеть и мне было бы трудно поддерживать самый незначительный разговор. Я разрешил себе расслабиться. Я перестал быть студентом Вараксиным, я даже не был сейчас старшим лейтенантом госбезопасности Бучинскасом, а просто тридцатилетним мужчиной, который сработал трудное дело, ну вроде как построил дом, и ничего больше теперь не хочет, как отдохнуть.
По трапу я поднимался один.
Несколько пассажиров еще только лениво брели через летное поле, поросшее травой, поэтому я остановился на верхней площадке трапа и огляделся. Крыша домика аэровокзала — двухэтажного, с балкончиком и двумя пожарными лестницами по бокам — мокро блестела. “Вот дождь прошел”, — подумал я. Обычная для нашей республики погода: дождь, через полчаса жара, потом ливень и снова — солнце и чистое небо. Вдали тянулся город, в котором я провел семь дней. Четыре дня, а потом еще три, пока все до конца не было выяснено.
Я вдохнул полной грудью сырой воздух и, пригнувшись, шагнул в низкий проем двери самолета.
Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер Часы для мистера Келли. Двое среди людей
Часы для мистера Келли
«…Мистер Уильям Келли, вице-президент компании «Тайм продактс лимитед», которая ввозит в Англию часы из Швейцарии, Франции, Западной Германии, Японии и СССР, заявил вчера корреспонденту газеты «Таймс», что русские часы дешевы потому, что советские заводы организованы по принципу крупного производства. Он не знает в Швейцарии ни одного завода, который работал бы в масштабах, похожих на русские. Вице-президент сказал, что у русских более совершенная, чем в западных странах, система массового производства. Вместо того, чтобы цепляться за протекционистскую политику тридцатилетней давности, английским часовым фирмам нужно улучшить свои методы, чтобы выдержать конкуренцию русских. Не удивительно, сказал мистер Келли, что русские часы производятся более эффективными способами. Английский импортер часов отметил также их высокое качество и надежность…»Газета «Таймс», 11 февраля 196* года. Лондон
ЧАСТЬ I Порфирий Коржаев — тихий человек
Пузырек из-под валокордина
Переходя улицу, Порфирий Викентьевич Коржаев мельком взглянул направо. Рядом с собой он увидел тупой горячий капот «Волги», надвигавшийся неотвратимо и беззвучно, как в немом кино. Он даже не успел испугаться, а только подумал почему-то: «До чего же некстати…», и все погрузилось в вязкий сумрак беспамятства… Спросите у любого орудовца — и он вам категорически заявит, что основная масса зевак исчезает с места происшествия одновременно с машиной «Скорой помощи». Лишь наиболее упорные еще некоторое время мешают милиции. Когда капитан милиции Приходько садился в машину, чтобы поехать в больницу, куда отвезли полчаса назад Коржаева, на месте оставалось всего несколько человек, настоящих энтузиастов — любителей уличных драм. — Послушайте, Подопригора, вы здесь были буквально через две минуты после наезда, — обратился Приходько к растерянному белобровому старшине милиции. — Неужели вы не нашли в толпе ни одного человека, который бы заметил номер «Волги»? — Так если бы он его на середине улицы ударил, а то гражданин прямо из-за табачной будки побежал через дорогу. Тут «Волга» его крылом шмяк — тут же за угол, на Госпитальную, и исчезла. Ее и в глаза никто не видел… Дежурный врач, вытирая вафельным полотенцем мускулистые, поросшие рыжими волосами руки, усмехнулся: — Жив ваш старичок. Машина его только отбросила… Испугался сильно — глубокий обморок. Ушибы, конечно, но переломов нет. Если хотите, можете с ним побеседовать. Мы его на всякий случай пока оставим. Все-таки возраст — шестьдесят семь лет! Вот посмотрите, кстати, опись его вещей. Приходько молча кивнул, взял опись и сел сбоку от стола. Инспектор ОБХСС Приходько автотранспортными происшествиями вообще-то не занимался, но сегодня трудный день, а он дежурил по городу, вот и пришлось выехать…«Пропуск в Центральное конструкторское бюро на имя Коржаева П. В.; часы «Победа»; 2 рубля 76 копеек; пузырек из-под валокордина, наполненный металлическими предметами».Он механически прервал чтение и спросил у врача: — А где пузырек? — Какой пузырек? — Из-под валокордина? — Пожалуйста. — Врач подошел к двери и крикнул в соседнюю комнату. — Даша, принесите вещи Коржаева! В мутном стекле пузырька, переливаясь, сверкала какая-то масса, похожая на ртуть. Да и по весу — чистая ртуть. Приходько осторожно отвернул пробку и на чистый лист бумаги стряхнул несколько сверкающих микроскопических булавочек… — Дайте, пожалуйста, пинцет. Врач с интересом следил за пальцами Приходько, потом спросил: — А что это такое? — Мне и самому любопытно. Впрочем, это сейчас неважно, потом спросим у потерпевшего. Коржаев лежал у окна, и его длинные худые ноги высовывались из-под байкового одеяла. Шевеля седыми, щеткою, усами, он обстоятельно рассказывал Приходько, как все произошло. — Нет, любезный друг, я и не пытаюсь говорить, что совсем не виноват! Нет-с. Конечно, перебегал я дорогу в неуказанном месте, но ведь вот так давить людей — это же бандитизм! При этом он закрывал глаза, и веки-шторки тоненькими пленками укрывали зрачки, и Приходько казалось, что Коржаев видит его сквозь веки. — Скажите, а цвет машины вы тоже не разглядели? — Цвет? По-моему, это была светлая «Волга». Знаете, цвет «само»? А может быть, нет… Все так сверкало на солнце.. Бестолковый, испуганный старичок с фиолетовыми пятками. Приходько стало ясно, что ничего путного он у него не узнает. Уже в конце разговора вспомнил, протянул старику пузырек: — Что это такое? — Простите? Не понимаю-с, — старик близоруко щурился. — Полагаю, что это сердечное лекарство. — Нет, это не лекарство. Посмотрите внимательнее. — Приходько дал ему пузырек в руки. Удивленно, высоким фальцетом Коржаев сказал: — Однако, я не понимаю, молодой человек, почему вы меня спрашиваете об этом? Я сей предмет вижу впервые.
Где ты откопал Креза?
Приходько вернулся в Управление милиции и вновь с головой окунулся в бесконечную сутолоку дежурной части. Непрерывный перезвон телефонов, сообщения, проверки, запросы: куда мог деться мальчик семнадцати лет, которому родители не велят ездить без них купаться; почему техник-смотритель считает, что за протечку водопровода должен отвечать жилец, который понятия не имел, что на трубах левая резьба, а он крутил втулку направо: и так далее, и так далее… Ей-богу, тяжело поддерживать порядок в большом городе! Отправляясь с опергруппой на очередной выезд (кража со взломом, улица Бебеля, 7), Приходько полез в карман за сигаретами и нащупал там пузырек из-под валокордина. Тяжелый. Ничей. Бегом поднялся в научно-технический отдел. Эксперт Сеня Рапопорт колдовал за своим столом над микроскопом. Приходько протянул ему пузырек. — Сеня, будь другом, посмотри-ка, что это может быть? — Пожалуйста, справки — бесплатно. — Эксперт подкинул бутылочку на ладони. — Ого! Он вытряхнул несколько деталек на стол, вынул из ящика мощное увеличительное стекло. — Тэк-тэк-тэк. А где взял? — У пострадавшего изъяли. Что это такое? — Похоже на часовые детали. Хотя точно сказать не могу. — Видишь ли, я-то в этом деле ни черта не понимаю. Мне почему интересно стало: владелец от них категорически отказался. Однако медперсонал приемного покоя утверждает, что пузырек вынули из кармана пострадавшего. — Хорошо, к вечеру позвоню. Рапопорт позвонил около девяти. — Слушай, Сергей, а бутылочка-то твоя интересная! — Какая бутылочка? — В сутолоке дня Приходько успел забыть о пузырьке. — Ну, знаешь!.. — обиделся Семен. — Прости, дорогой, закрутился я тут совсем. Так что же? — А то, что в бутылочке — аксы. Оси баланса от часов. Без этой маленькой булавочки можешь подарить свои часы бабушке. Эти аксы — от новейшей модели часов «Столица». Прекрасные часы, должен тебе сказать! Высокого класса. Толщина — как две сложенные трехкопеечные монеты. Высоко ценятся за границей. Я тут навел справки: оказывается, в розничной продаже аксы не бывают. Завод поставляет их как запчасти только в мастерские. Но наши мастерские еще ни разу их не получали. И это еще не все: аксы в твоей бутылочке не запчасти. — Почему? — Это абсолютно кондиционный товар, идущий только в производство. Аксы закаленные, полированные, с закругленными краями. Меня заверили — товар прямо с завода, транзитом. — А сколько стоит акс? — Двадцать копеек. В этой бутылочке их не меньше десяти тысяч. На две тысячи рублей… Интересно, где ты откопал Креза, который не моргнув отказывается от двух тысяч рублей? — В приемном покое горбольницы… Приходько сразу же позвонил в больницу. Дежурная сестра ответила сонным голосом: — А Коржаева у нас уже нет. Он на такси домой уехал.Штучки Хромого
Коржаев притворил за собой дверь, и давно не смазанная петля противно заскрипела. Он вздрогнул и оглядел свою комнату, пыльную, захламленную, чужую. Сел на старый, продавленный стул и долго задумчиво смотрел перед собой. Хаос, хаос. И вокруг — хамы, сплошные хамы. Сердце больно, с шумом шевелилось в груди. Порфирий Викентьевич сварил на спиртовке кофе и, закутавшись в махровый халат, улегся на тахту. Комната, освещенная небольшим самодельным торшером, была погружена в полумрак. «Погорел, погорел. Погорел, — думал Коржаев. — Растерялся как молокосос зеленый. Чего, спрашивается? Ну, мои детальки. Для работы, для нового оборудования, мол. Что врачишка этот, что милиционер — много они в аксах понимают? Сказал бы «мои» — и все тут, конец. Отвязались бы. Господи, господи! Отказался, отказался, дурак! Конечно, подозрительно. Не психи же они — своими руками товарец-то вынули. И погорел. Теперь вся надежда, что мент, растяпа, пузырек в больнице оставил. А то сидеть мне на нарах. Теперь Хромого надо предупредить. Мало ли что получиться может. Пусть к любым гостям будет готов. На него-то наплевать. А если его за штаны, да он — в раскол? Тогда как? Да-а, видать, стар я становлюсь. Ай-яй-яй, столько лет по краю ходил, и ничего, и ничего… А тут все сразу… И пес этот на «Волге». Господи боже, за что караешь? Две тыщи — как корова языком…» Коржаев встал, охая, подошел к старому, рассохшемуся письменному столу, долго копался в ящиках, наконец нашел почтовый конверт и мятый, пожелтевший лист бумаги. Аккуратным, каллиграфическим почерком написал: «Джага, Фуражкин случайно снял последнюю перелетную дичь. Но псы след не взяли. Не знают, откуда нюхать. Скажи Хромому, чтобы на охоту не ходил. Пусть ждет сезона». Долго вспоминал что-то, потом вывел на конверте: «Москва, Большая Грузинская улица, дом 112, квартира 7, Мосину Ю.». Послюнил языком край конверта, заклеил, провел еще раз по нему рукой. Задумался. Невеселые размышления Коржаева прервал короткий звонок в уличную дверь. «Один звонок. Это ко мне. Кого бы еще в такую поздноту нелегкая принесла?..» Коржаев положил письмо в карман халата, вышел в коридор и открыл дверь. На лестнице стоял красивый, хорошо одетый молодой человек в очках. — Мне Коржаева Порфирия Викентьевича, — негромко сказал посетитель. — Это я. — Из ОБХСС. Разрешите войти. — Молодой человек небрежным движением выдвинул из верхнего кармана пиджака красную книжечку и направился в квартиру. — П-пожалуйста, — проговорил, холодея, Коржаев. «Вот оно, не кончилось, значит, с аксами-то…» — пронеслась торопливая мысль. — Я из ОБХСС, — повторил, войдя в комнату Коржаева, молодой человек. — На основании ордера прокурора мне поручено произвести в вашей квартире обыск. Оружие, ценности, отравляющие вещества предлагаю выдать добровольно. — Да какое у меня, старика, оружие? — пролепетал Коржаев. — Да и ценностей никогда у меня, милостивый государь, не было, вы хоть весь дом переверните… — «Очкарик проклятый, пес, вынюхал все-таки…» Коржаев с ненавистью посмотрел на посетителя… — Это все вы так поначалу говорите, — отрубил молодой человек. — А как начнут облигации да бриллианты сыпаться, так сразу «ах!», да «ох!», да «не мое это все, бабушка в наследство оставила», — а бабушка-то до войны умерла; какие у нее трехпроцентные облигации? — Да нет у меня облигаций никаких, — повторил Порфирий Викентьевич. — Ищите-с. — Распишитесь вот здесь, на протоколе, да и начнем. Дрожащими руками Коржаев расписался на бланке, и «очкарик» приступил к обыску. Спокойно и методично, быстрыми, ловкими движениями молодой человек открывал ящики шкафа, стола, шифоньера, выкидывал их содержимое на тахту, осматривал и небрежно запихивал вещи обратно. Было тихо. Коржаев постепенно приходил в себя. Он был напряжен, как человек, который хочет вспомнить что-то давно знакомое, реальное и все же неуловимое. Мысли гремели в голове торопливо и бестолково, как медяки в копилке. Память, словно патефонная игла в заезженной борозде, заела на какой-то дурацкой блатной песенке: «Дело сделал свое я, и тут же назад, а вещи к теще, в Марьину рощу…» Какие вещи, к черту? Господи, спаси и помилуй! К теще — в Марьину рощу… Почему в Марьину рощу? Я жил в Москве на Пушечной улице. Да, в маленькой комнате на Пушечной улице, уютной и спокойной, как бомбоньерка. К теще, к теще… Почему к теще? Жена. Да, жена сидит в мягком кресле, а я стою около письменного стола. И так же, как сейчас, в комнате идет обыск. Так же, как сейчас. Так же, как сейчас. Так же? Нет, не так… Вспомнил, вспомнил! Не было тишины! В комнате был шум: с соседкой-понятой громко разговаривала дворничиха; другая соседка — тоже понятая — часто и шумно вздыхала: «Надо же, надо же!..» Пожилой следователь беседовал с оперуполномоченным… Вот, вот что он пытался вспомнить! Во время обыска были люди, много людей, и перед обыском следователь дал ему прочитать бумагу, в которой было ясно написано, почему, за какие грехи производится обыск. А сейчас? Понятых нет, и следователя нет, и бумаги никакой! И еще — он вспомнил это четко — был бланк протокола обыска. Бланк! Бланк, а не бумага, отпечатанная на машинке. Нет, тут что-то не так! Он прокашлялся, хрипло спросил: — Позвольте узнать, молодой человек, за что у меня делают обыск? — А то вы сами не знаете! Нечего прикидываться. — Да я и верно не знаю. Вы уж мне скажите — это по закону полагается! — Ишь ты, законник! Не мешай работать. Про закон вспомнил. Ты лучше припомни, где ворованные часовые детали лежат! — Опять же без понятых ищете, гражданин. Непорядок… — Понятых? Что ж, давай соседей позовем. Я же для тебя, дурака, старался. От соседей стыда потом не оберешься! — Ничего, стыд не дым, а вы уж мне свой документик-то покажите, уважаемый начальник. А то искать ищете, а кто ищет — неизвестно. — Сколько раз тебе повторять, из ОБХСС я. И нечего тебе о моих документах думать, о себе лучше подумай! «Жулик, точно жулик. И в какой момент подгадал! Сволочь. Это Хромого номера! — Старика захлестнула волна острой ненависти к проходимцу. — Хотел воспользоваться растерянностью, ограбить, отнять кровное…» — Ладно, — твердо сказал Коржаев, — хватит комедию-то ломать! Давай документ, или я сейчас милицию позову! — Ты что, дед, с ума сошел? Или ты милиции что-нибудь про часики рассказать хочешь? — сказал «очкарик» и шагнул к Коржаеву. — Стой, жулик! — обезумев от ярости, захрипел старик. — Я сейчас людей, соседей позову. Я тебе, негодяй, покажу, как честных людей грабить! Сознание своей правоты перед законом по сравнению с этим проходимцем опьянило Коржаева. Теперь он уже был твердо уверен, что это штучки Хромого. Лихорадочно выкрикивая угрозы, он пошел навстречу грабителю… — Стоп! — неожиданно спокойно и негромко сказал тот. — Вот мой документ. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, резко вынул ее, и боль, оглушительная, палящая, ударила в глаза Порфирию Викентьевичу, в переносицу, отдалась в затылке, перевернула весь его мир и куда-то ушла, забрав с собой и незнакомца, и комнату, и все мысли и заботы…СВОДКА о происшествиях по городу за 22 июня 196* года П. I. Убийство В квартире 112 дома № 77 по улице Чижикова в 7 часов 20 минут соседями обнаружен труп гр. Коржаева Порфирия Викентьевича, 1898 года рождения. На место происшествия выезжали опергруппа дежурного по городу и судебно-медицинский эксперт. Установлено, что смерть гражданина Коржаева наступила в результате сильного удара тяжелым предметом в область переносицы. Денег и ценностей не обнаружено. Сохранность имущества Коржаева проверяется через его соседей и знакомых. С места происшествия изъяты: 1) Настольные часы со свежим пальцевым отпечатком, отличающимся по типу папиллярных узоров от пальцевого отпечатка Коржаева. 2) Зашифрованное письмо, адресованное гражданину Мосину Ю. в Москву. По заявлению соседки потерпевшего — Осовец О. А. — в 23 часа 30 минут у него находился посетитель, мужчина, голос которого она слышала. Приметы посетителя неизвестны. По факту убийства Коржаева возбуждено уголовное дело, следствием принимаются срочные меры к розыску убийцы…
Самое дорогое
«…Я, капитан милиции Приходько, допросил в качестве свидетеля гражданку Осовец Ольгу Андреевну, которая по существу поставленных перед ней вопросов показала следующее: «С покойным Коржаевым я проживала в одной квартире. Поскольку он был одиноким, договариваться о его похоронах по просьбе остальных соседей поехала я. Я приехала на Новое кладбище, где в прошлом году Коржаев похоронил свою жену. С комендантом кладбища я договорилась о том, чтобы Коржаева похоронили рядом с могилой его жены, в той же ограде. Потом я с рабочими пришла к этой ограде. На могиле стояло небольшое надгробие с портретом покойной и табличкой: «Здесь я оставил самое дорогое в жизни. Незабвенной Анне». Когда рабочие снимали надгробие, они отодвинули каменный цветничок, а под ним оказался железный ящик серого цвета. Рабочие открыли ящик и нашли в нем целый клад: много советских и иностранных денег, золотые монеты, бриллианты. Потом приехали работники милиции, составили об этом протокол, и мы все в нем расписались…»»
В Управление милиции гор. Одессы тов. Приходько С. В. На Ваш запрос Управление гострудсберкасс и кредита сообщает, что Коржаевым П. В. в московских сберкассах сделаны вклады по четырем лицевым счетам на общую сумму 7888 рублей.
В Управление милиции гор. Одессы СПРАВКА На Ваш запрос Центральная справочная картотека сообщает: Коржаев Порфирий Викентьевич, 1898 г. р., уроженец гор. Ростова, судим: 1) В 1935 г. — Магаданским горсудом за скупку самородного золота. 2) В 1954 г. — Мосгорсудом за спекуляцию часовой фурнитурой…
ПРИКАЗ № 803 24 июня 196* г. 22.6.6* г. неизвестным преступником убит в своей квартире Коржаев Порфирий Викентьевич, 1898 года рождения. Коржаев, ранее неоднократно судимый, располагал крупными валютными ценностями и значительными денежными средствами. У него обнаружены похищенные часовые детали московского производства и зашифрованное письмо в Москву. Для выявления преступных связей Коржаева и работы по установлению его убийцы командировать в гор. Москву старшего инспектора капитана милиции Приходько С. В. Срок командировки — двадцать дней.Зам. начальника управления Горчаков
ЧАСТЬ II Земные тяготения
Крот
Он сидел возле иллюминатора и боялся закрывать глаза. Как только он опускал веки, перед ним всплывало лицо убитого старика, и все, что было в его жизни раньше, сейчас, как только он закрывал глаза и видел убитого старика, казалось ему маленьким, далеким и пустячным. И он понимал, что все, случившееся в Одессе сломало тот ритм, которым он жил все свои тридцать лет. Он понимал, что, лишив старика жизни, он навсегда лишил себя покоя. «Стоп… — остановил он себя на этой мысли. — Теперь или я — всех, или все — меня. Об этом стоп. Хватит. Иначе свихнусь». Он заглянул в иллюминатор, посмотрел на землю и заставил себя думать о чем угодно, только не о том, что было. «…Смешно будет, если весь этот ИЛ вдруг загремит на землю. Вот шум бы поднялся! Всю самолетную службу в уголовку затаскают. И за меня будут тоже отвечать. Как за всех остальных. А если бы мне кто-то просто так дал по черепу и доставил им мой молодой труп? Наверное, медаль получил бы? За охрану какого-то там порядка. Образцового, что ли? Или общественного? Только этот номер не пройдет. Лучше я сам вперед дам кому-нибудь по черепу… И с милицией больше не играю. Я теперь Хромого за горло возьму. Пусть он сейчас крутит шариками — я свое сделал. Мне надо отлеживаться на дне. Тихо-тихо. Я свое сделал. Все. А долю у него вырву. Теперь мне нужны деньги. Много денег, или заметет меня уголовка как миленького. А с деньгами прожить можно. С деньгами я их всех имел в виду. Уеду куда-нибудь в Сибирь, годика на три, пока все не засохнет, а там всплывем. Сибирь, она большая! Ищите мальчика! И поживем еще, Генка, поживем! Или в Самарканд поеду. Теплый город, круглый год можно кишмиш с урюком трескать. Лизку с собой возьму. А впрочем, какого черта за собой хвост таскать? Она же дура. Не по подлости, так по глупости запродаст. Так что, уважаемая невеста, Елизавета Алексеевна, придется вам остаться соломенной вдовой!..» На табло загорелись слова: «Не курить», «Пристегнитесь к креслу ремнями!» Из пилотской кабины вышел летчик и, поглядывая по рядам, не спеша пошел в хвостовой отсек. И сразу же в груди резиновым мячом прыгнул страх, ударил под ложечку, в сердце, застрял в горле. «Радировали из Одессы пилотам на самолет. Сообщили об убийстве старика. Тут взять хотят. Ну, это еще посмотрим…» Выворачивая шею, Крот повернулся лицом к иллюминатору. Внизу бежали смехотворно маленькие машины по серым жилам дорог. От напряжения ему казалось, что с затылка, со спины сняли кожу и он может одними оголенными нервами видеть и чувствовать все, что происходит позади. А там ничего не происходило. Снова щелкнула дверь, раздался смех, и краем глаза он увидел, что летчик, поддерживая стюардессу под руку, вернулся в свою кабину. Крот выпрямился в кресле, устало закрыл глаза. Нет, так он долго не выдержит. Инсульт будет. Или инфаркт? А вообще-то один черт! Не в этом дело. Так он сорвется. У самого финиша… Крот видел, как к борту подкатили трап, с шумом открылась дверь и пассажиры, расталкивая друг друга, устремились к выходу. Крот не спешил. Спешить теперь вообще было некуда. Некуда и опасно. Этого не может быть, чтобы проклятая уголовка его перехитрила. Если он проиграет эту партию, то все. Хоть и в перчатках «шарил» комнату Коржаева, но наследить где-то мог. Ведь надел их потом, уже после ЭТОГО, на всякий случай. А если где-то пальчики все-таки оставил — тогда можно писать завещание. От дактилоскопии не открутишься, а за «мокрое» дело — вышка. Это как пить дать. Крот внимательно осмотрел через иллюминатор поле. Нет, вроде бы никого. Пассажиры, носильщики. В салон заглянула стюардесса, длинная, гибкая, плавно очерченная форменным мундирчиком, чем-то похожая на гоночную лодку. Крот прикрыл глаза, делая вид, что задремал. — Гражданин, просыпайтесь! Москва… Он провел ладонью по лицу, хрустяще потянулся всем своим мускулистым телом. — Спасибо. Уютно спать в самолете. Кстати, вам никто не говорил, что вы похожи на Лючию Бозе? Девушка усмехнулась: — А что, действительно похожа? Крот подумал: «Взять бы ее сейчас с собой в кабак, выпить, поесть шампиньончиков, привести домой, оставить ночевать. У нее потрясающе длинные ноги. А утром бросить ей небрежно трешку и сказать: «Пошла отсюда…»» Сказал: — Сходство поразительное. У меня глаз профессиональный, в кино не первый год. Может быть, вы мне подскажете, как вам позвонить вечерком? Мы бы очень мило отдохнули… Она мягко засмеялась, видно было, что не хочет его обидеть. — Благодарю вас, но я давно замужем… Крот снова взглянул в иллюминатор. Около самолета уже никого не было. Он встал и сухо спросил: — Ну и что? Стюардесса пожала плечами. Крот еще раз оценивающе осмотрел ее. «Хорошая баба, но, видно, дура. Черт с ней!» И лениво бросил через плечо: — Дело хозяйское… Прежде чем ехать в город, он решил здесь же, в аэропорту, зайти в кафе и не спеша все обдумать. Занял пустой столик в углу у стены, заказал коньяку, сигарет, кофе. Официантка пошла выполнять заказ. И, глядя ей вслед, Крот подумал: здесь ему сидеть не стоит, это ошибка. «Если старого хрыча уже хватились, могут перекрыть вокзалы и аэропорты. Надо подрывать отсюда…» Официантки не было видно. Он встал и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях и зияющую пустоту под сердцем. Стараясь идти медленнее, Крот прошел между столиками, сокращая расстояние к выходу, и как он ни твердил себе шепотом: «Тише! Шагом! Стой!» — ноги не слушались его, и у дверей он почти бежал. Невероятным усилием воли остановил себя уже в огромном длинном вестибюле, вышел на площадь. Смеркалось. Непрерывно подъезжали и уезжали такси, люди суетились с детишками, цветами и чемоданами. И каждый из этих людей мог оказаться сыщиком. Они источали опасность, потому что их было слишком много, и каждый мог вдруг подойти и сказать: «Вы арестованы!» Они все были опасны, и Крот был против них всех. И это будет всегда, пока… Крот не стал додумывать, сел в подъехавшее такси и хрипло выдохнул: «В Москву…» Крот остановил такси за квартал до Лизкиного дома. Он шел вразвалочку, не спеша, останавливался прикурить у встречных и быстро оборачивался. Нет, вроде бы никого на хвосте не тащил. И все-таки вошел не в Лизкин подъезд, а в соседний. Поднялся в лифте на шестой этаж, перешел по чердачной площадке в следующее крыло и спустился на четвертый. К двери подошел неслышно, опираясь на пятку и мягко перекатывая ступню на носок. На лестнице было тихо. Он припал ухом и ладонями к двери, как будто обнимая ее. Из глубины квартиры раздавались тихая музыка и шум воды в ванной или на кухне. Похоже, что до засады еще далеко. Нервы проклятые! Он открыл дверь своим ключом. В коридоре снял плащ, повесил его и так же бесшумно вошел в кухню. Лизка стояла у плиты и в такт радиоприемнику подпевала: «Ах, капель, ах, капель… Ты как солнечный зайчик…» Крот оперся плечом о косяк и смотрел ей в спину. Волосы на ее шее скручивались в кольца, и Лизка любила, когда он наматывал эти прядки на свои пальцы. Крот стоял за ее спиной в двух метрах, и она не слышала его. Он с удовольствием и испугом подумал о том, что начал приобретать навыки зверя. Крот нагнулся и ударил ее легонько ребром ладони под коленки. Захлебнувшись криком, Лизка упала к нему на руки. — Дурак ты, Генка! Ну, что за шутки? У меня мог быть разрыв сердца! Потом притянула к себе его красивую крупную голову и стала жадно целовать пересохшие губы… Уже под утро ему приснился сон, когда-то пережитый им наяву и от этого становившийся в вялом дремлющем сознании еще более страшным. …Мороз. Страшный, ломающий, гудящий. Не меньше сорока. Свет прожекторов над зоной, вспыхивающий голубым пламенем иней. Он уже почти пересек «мертвую полосу» — бесконечное поле за проволокой — и рядом тайга. Ну, еще немного, еще сто метров… Глухо поплыл в стылой морозной тишине надсадный вой сирены над колонией — побег! Побег! Прожектор обшаривает поле. И Кроту кажется, что его свистящее дыхание заглушает вой сирены и гул ветра, и конвой возьмет его не на след, не на запах, а на этот жуткий, разрывающий легкие свист. А луч прожектора ползет за ним, как щупальце спрута. И берет его. Крот бежит по узкой световой дорожке, проложенной ему прожектором, и ждет пулю меж лопаток… Ужас так раздавил, что даже нет сил шарахнуться в сторону. Все равно бесполезно, сейчас конвойный вложит ему в спину всю обойму. Даже две обоймы. Его удивляет, что он думает об этом и что конвой не стреляет. Хотя за ним уже бегут. Потом раздается выстрел — один, другой. Но свиста пуль не слышно, и Крот понимает, что это предупредительные, вверх. Он бежит еще быстрее, ударяя себя кулаками по каменеющему лицу, навстречу тайге, навстречу придуманной свободе, навстречу вечному страху. И убегает… Он хрипел и кричал со сна, слезы лились по лицу, глаза вылезали из орбит, и испуганная Лизка колотила его ладонями по щекам, чтобы он пришел в себя. Потом он отдышался, размазывая кулаками слезы, уткнулся лицом в теплую мягкую Лизкину грудь и, чувствуя под прокушенной саднящей губой ее тонкую кожу, еле слышно сказал: — Все. Остался последний шанс. Или я — всех, или все — меня…Кто не может танцевать в балете?
Поезд уже почти затормозил, и вагоны медленно, по одному, втягивались в огромный, просвеченный солнцем дебаркадер Киевского вокзала. «Как патроны в обойму», — подумал Приходько и спрыгнул на платформу. — Сережка! Сережка! Черт глухой! — услышал он за спиной. Обернулся — перед ним стоял бывший университетский сокурсник Стас Тихонов. — Стас! Я ж тебя сто лет не видел! — и ударил его по плечу. А тот его — в брюхо. Оба — по спинам. Потом обнялись. — Стасик! Вот так совпадение! Если бы не эта случайность, еще десять лет могли не увидеться! — Знаешь ли, старик, случайность не более, чем непознанная необходимость. — Да ну тебя, философ несчастный! Ты-то что тут делаешь? — Будете смеяться, сэр, — встречаю одного старого знакомого из Одессы, — Тихонов заглянул в телеграмму. — А прибыть он должен именно этим трансконтинентальным экспрессом. — Забавно. Может быть, знаю — кто? — Не исключено. — Тихонов наклонился к уху Сергея и сказал испуганным шепотом: — Старшего инспектора ОБХСС капитана Приходько. — Ты?! — Я. Разрешите представиться, товарищ капитан: старший инспектор московской милиции Тихонов. А теперь извольте-ка поступить в мое распоряжение… На Петровке, 38, в кабинете у Тихонова, Приходько, отодвинув от себя пепельницу, откашлялся и закончил: — Таким образом, мы имеем два кирпича той печки, от которой, мне кажется, надо танцевать: адрес Мосина-Джаги, которому Коржаев написал письмо. И аксы, изъятые у Коржаева. Тихонов дописал что-то в своем блокноте. — Интересное совпадение, — сказал он, щурясь от сигаретного дыма. — На днях мы возбудили одно уголовное дело. И я о нем сразу подумал, когда ты сказал про аксы. С часового завода дерзко похитили большую партию корпусов для часов марки «Столица». Сработало жулье довольно чисто: по существу, никаких следов они не оставили. И корпуса и аксы — одной модели. Когда мы беседовали с людьми на заводе, выяснилось, что и раньше пропадали мелкие детали к «Столице», но значения этому как-то не придавали. — Совпадение-то интересное, — флегматично улыбнулся Приходько. — Только скорее всего оно случайное. — Не скажи. Случайность, как мы с тобой уже выяснили на вокзале, — просто непознанная необходимость. Ты ведь знаешь, что в хищениях всегда есть свои скрытые закономерности… — Тихонов поднялся и подошел к большому коричневому сейфу в углу кабинета. — Точно, — скучным голосом сказал Приходько. — Жулики обычно тащат детали к ходовым маркам часов. Их потом сбыть легче. Есть такая закономерность. А тут — «Столица». Ее еще и в продаже-то не видели. Опять же — украли корпуса, которые вообще из строя редко выходят, значит, и спросом они не пользуются. «Закономерности…» — «Наука сокращает нам опыт жизни быстротекущей», — сказал Тихонов, открывая дверцу сейфа и бегло просматривая какие-то папки. — Не спешите с выводами, капитан, я вам кое-что поведаю. Приходько закурил сигарету, струей дыма погасил пламя спички, откинулся на стуле. — Отставить выводы. И чего?.. Тихонов взглянул на него, усмехнулся. — А вот чего. Года три назад с часового завода и из ремонтных мастерских стали пропадать корпуса, платины [платина — основание часового механизма], стекла. Дальше пошли мелкие, в том числе и совсем недефицитные детали. Помню, нас это очень удивляло. А потом в скупки и на рынки хлынул поток беспаспортных часов. Тогда-то все и объяснилось: часы расхищались с завода по частям. Жулики их собирали и выбрасывали на рынок по дешевой цене. Им это все равно было выгодно: для них любая цена была выше «себестоимости», а покупали часы быстро. — И ты думаешь, здесь такая же история? Тогда было бы непростительно дать им развернуться, — покачал головой Сергей. — Вот поэтому вместе с первоначальными версиями надо будет отработать и эту. — Тихонов достал из сейфа тоненькую папку. Четким почерком на обложке было выведено: «Дело № 1831 по факту хищения часовых деталей». Тихонов сел за стол, раскрыл папку. — Давай-ка подведем баланс. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, иногородний владелец аксов Коржаев. Почуяв опасность, он срочно сигнализирует Джаге. Просит особо предупредить Хромого. Личность Джаги мы выявим без труда, благо имеем его адрес. Интуиция мне подсказывает, что Хромой, по-видимому, важная фигура в деле, раз его требуется предупредить отдельно. Не претендуя на роль ясновидца, я могу с большой долей вероятности предположить, что Хромой имеет непосредственное отношение кпроизводству или ремонту часов. Отсюда давай прокладывать каналы: установим личность Джаги и внимательно выявим все его связи. В особенности надо присмотреться к тем, кто уже в балете танцевать не может, — сиречь к хромым. Тот Хромой, о котором так грубо и бестактно писал Коржаев, скорее всего действительно имеет этот небольшой физический недостаток. Верно? — Верно, поскольку другими данными о Хромом мы пока не располагаем, — засмеялся Приходько. — Придется его искать именно по этому признаку. Я думаю, начнем с того, что присмотримся к хромым на часовых заводах и в мастерских. Изучим личность Джаги… — Беру на себя любителей поторговать «случайными» вещами около бывшего магазина часовой фурнитуры на Колхозной, — сказал Тихонов. — Кроме того, я проверю, нет ли сейчас в районных следотделах чего-нибудь интересного по фурнитуре. Вот, пожалуй, пока все.Балашов
— Это соусированный табак. Поэтому такой тонкий вкус у сигарет… Алла равнодушно покрутила в руках изящную пачку. — А мне все равно, что твой «Кент», что «Памир». — Деточка, я бы не хотел, чтобы тебе даже это было все равно. Из таких мелочей, как привычка к хорошим сигаретам, формируется своеобразие женщины. Во всем должно быть свое единство стиля. Ты могла бы не курить вообще, но ежели ты куришь, то в сумочке у тебя должен быть «Кент», «Марльборо», «Пэл-мэл», но никак не «Памир». — А мне кажется, что все это ерунда. И то и другое — яд. Еще неизвестно, что хуже. — Алла чиркнула блестящей зажигалкой и глубоко затянулась. — Я тебе иногда завидую, а чаще всего жалею, — Балашов налил из серебряного молочника сливок и аккуратно намазал масло на хлеб. — Это еще почему? — Алла подняла бровь. Балашов прислушался, не заглох ли мотор разогревающейся около ворот «Волги». Мотор ровно и глубоко рокотал. — Ты не способна к проникновению в природу вещей. Когда нечего курить, то и «Памир» — находка, это верно. Ты вот, например, до двадцати двух лет для извлечения огня пользовалась элементарными спичками фабрики «Маяк», розничная цена 1 копейка. Ты и знать не знала, что существуют зажигалки «Ронсон», одну из которых ты с таким удовольствием крутишь в руках. А ведь за эту зажигалку я отдал Бобу-фарцовщику пятьдесят рублей. Несложный подсчет убеждает нас в том, что за указанную сумму мы могли бы приобрести пять тысяч коробок, в которых лежало бы триста семьдесят пять тысяч спичек… Алла давно знала удивительную способность мужа перемножать в уме любые цифры, но тут невольно улыбнулась. — Ты напрасно улыбаешься, — продолжал серьезно Балашов. — Полагаю, что эта зажигалка не даст и одной трети их тепловой мощности. Но зажигалку я купил и получаю от нее огромное искреннее удовольствие, потому что она красива. И все же это только прелюдия. Зажигалка — источник моего наслаждения главным образом потому, что я мог себе позволить купить ее. По той же причине я курю «Лорд» за тридцать пять копеек, выпущенный фирмой «Филипп Моррис», а не «Памир» фабрики «Ява» за десять. — Если тебе нравится тратить деньги, может быть, имеет смысл раздавать их нищим? — ухмыльнулась Алла. — Заявление, которое свидетельствует, по крайней мере, о трех вещах: о справедливости моего первоначального обвинения, о твоей политической отсталости и о полном непонимании моих запросов и потребностей. Первое я уже обосновал. Второе: надо читать газеты, и ты узнаешь, что у нас нет нищенства, ибо оно лишено социальной почвы. И третье: я не просто люблю тратить деньги. Я люблю их тратить на себя. И на тебя. Я немало сделал, чтобы развить у тебя настоящий вкус к вещам, но, видимо, мне еще предстоит немало поработать. — Спрашиваешь еще! Твоя девичья фамилия Макаренко? — откровенно засмеялась Алла. — Мадам, не нажимайте на хамство, — невозмутимо ответил Балашов. — Ты знаешь, что мой бумажник всегда к твоим услугам. Но я бы хотел, чтобы ты научилась испытывать удовольствие, покупая вещь, не только от нее самой, но и от сознания, что ты это можешь себе позволить. И тогда ты познаешь радость, несравнимую с радостью самого обладания. Алла раздавила в пепельнице окурок, посмотрела в окно и неожиданно сказала: — Иногда мне кажется, что, лежа со мной в постели, ты именно об этом и думаешь. Балашов засмеялся, обошел стол и поцеловал ее в затылок. Каким-то неуловимым движением она отодвинулась. Но он заметил. Подумал и сказал: — Не заостряйся. Мы очень нужны друг другу, — и пошел по лесенке вниз.У Балашова и раньше были машины, но ни одна из них не нравилась ему так, как эта «Волга». Черно-лаковая, мягко закругленная, строгая, как концертный рояль. Семьдесят пять лошадиных сил, спрятанных в компактном моторе, были послушны и злы, как призовой скакун. Балашов нажал на акселератор, и машина, прижимаясь к шоссе, запела низкую, гудящую песню дорог. Ночью шел дождик, асфальт еще не совсем просох, и лучи утреннего солнца так сияли на нем, что дорога казалась откованной из золотых плит. Балашов надел темные очки с зеркальными фильтрами, и за окнами сразу все окрасилось мягкими зеленовато-голубыми тонами. Он взглянул на спидометр — красный дрожащий язычок стрелки впился в цифру 110. Далеко впереди показался переезд. Балашов перевел ручку на нейтраль и, слушая ласковый сытый шепот мотора, счастливо улыбался. Машина плавно затормозила у опущенного шлагбаума; почти тотчас же с запада донесся утробный рев тепловоза, и через переезд защелкали длинные зеленые коробки вагонов экспресса «Берлин — Москва». Балашов, прищурясь, смотрел на окна вагонов и думал: «Не исключено, что мой клиент сейчас с таким же безразличным любопытством глазеет через одно из этих окон на меня…» — и сердце его затопила радость, что он уже бессознательно называет Гастролера своим клиентом. Еще вчера дрожали руки, когда он разрывал склейку телеграммы: «Папа выздоровел совсем. Все порядке скоро буду дома Маша». «Маша! Охо-хо! Молодец Крот! Этот парень начинает постигать основы серьезной, хорошо конспирированной работы. Правда, он стал наглеть. Но это все пустяки. Если он однажды где-то перейдет указанную черту, его надо будет просто убрать, и точка. Хотя и жалко. Другого такого не скоро сыщешь себе на подхват. Этот бандюга ничего не боится. Но, с другой стороны, если его сейчас случайно задержат хотя бы из-за какого-нибудь скандала в общественном месте, он прямым ходом схлопочет из-за старого сквалыги высшую меру. Поэтому он теперь у меня в руках, как воск, будет». Шлагбаум уже поднялся, и сзади нетерпеливо засигналили подъехавшие машины. Балашов усмехнулся: «Успеете, успеете… После меня», — включил скорость и дал газ.
Рабочий день Балашова расписан, как нотный лист. Чтобы в любой момент можно было себе сказать, как дирижер сыгравшемуся оркестру: «Итак, с 17-го пункта до-минор начали!»
9.00
— Товарищи, на этой оперативке я должен перед вами со всей остротой поставить вопрос: план второго квартала под угрозой, время берет нас за горло, и дай бог к тридцатому вытянуть на девяносто семь — девяносто восемь процентов. Мы тут посоветовались треугольником, и есть у нас такое мнение: если коллектив поддержит, не считаясь с личным временем, организовать всех работников на трудовую вахту. Нам отступать с завоеванных позиций не к лицу. Ну и, естественно, не стоит забывать, что можем лишиться прогрессивки!9.30
— Галочка, у меня с вами будет неприятный разговор. Вы, как секретарь комсомольской организации, в первую очередь ответственны за работу «Комсомольского прожектора». Ласточка моя, так ведь нельзя. Как вы участвуете в движении за культуру производства? Никак. Как ведется работа по обязательной технической учебе? Слабо, из рук вон слабо. А Женя Ермилов вообще школу бросил. Как отреагировала ваша организация? Обсудила, решение вынесла. А ему помочь надо, и делом, а не словами. Парнишка он трудный, но ведь и коллектив у нас не какой-нибудь — передовой, здоровый! Так что давайте займитесь «прожектором», пусть светит на полную мощность!10.00
— Николай Семеныч, так дело не пойдет! Будем ссориться, и, честное слово, крепко ссориться. Для вас, бухгалтера с двадцатилетним стажем, такие накладки непростительны. Нет, нет и нет! Не возражайте! Я понимаю, ни умысла, ни корысти у вас не было, но как же можно было не оформить эти счета? Правильно, это все нераспорядительность ваша. Но согласитесь, что, вкладывая всю душу в коллектив, я и сам могу претендовать на то, чтобы вы дорожили моей репутацией в глазах руководства! Ну ладно, ладно, сочтем этот инцидент исчерпанным, если вы дадите мне слово, что это в первый и в последний раз. Вы же знаете мой принцип: в бухгалтерии должен быть полный ажур, как в вычислительной машине.11.00
— Друзья! Вот сейчас я слушал на производственном совещании выступления товарищей, и мне кажется, что все они упустили из виду одну важную деталь. Обсуждая вопросы повышения бдительности в связи с обнаружившимися на заводе хищениями запчастей, мы все должны задать себе вопрос: а все ли я сделал, чтобы эти позорные факты…12.00
— Василий Гордеич, как там насчет моей туристской путевочки в Швецию? Я характеристику-то уже два месяца как сдал… Ага… Ясно. Да нет, я готов, чего мне собирать-то: ноги в руки — и поехал. Галине Ивановне кланяйся. Пока… Спасибо, дорогой, спасибо!Уголовное дело № 1831 ОБЗОРНАЯ СПРАВКА (по двум уголовным делам в отношении Мосина Юрия Федоровича, 1920 г. р., по кличке «Джага») Первое дело — о мошеннических действиях Мосина по продаже медных обручальных колец под видом золотых. По второму делу Мосин осужден за спекуляцию большим количеством часовой фурнитуры в разных городах страны. Вместе с Мосиным, как организатор этого преступления, осужден гражданин Ланде Генрих Августович, известный также как Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич. Хотя материалами уголовного дела Мосин был полностью изобличен, он ни на следствии, ни на суде виновным себя не признал. В 1963 году Мосин освобожден из мест заключения по отбытии назначенного ему срока наказания.Старший инспектор УБХСС Тихонов
Встреча
Крот появился около часа. Он позвонил по телефону, и Балашов, слушая его спокойный невыразительный голос, почувствовал в нем какие-то новые ноты. Он спросил: — Ты у своей мадам? — Да. — Ну, сиди тогда. Я у тебя через полчаса буду. Балашов позвал заместителя и сказал, что поедет в банк посоветоваться насчет дополнительных ассигнований — возможно, сегодня не вернется. Он вышел на улицу. Июльский полдень кипел суетой и шумом. Но Балашов уже не видел яркого солнца и веселых лиц вокруг. Натренированным, выработанным годами шестым чувством — чувством близкой опасности — он видел тучки, которые не зарегистрировало ни одно бюро погоды. Эти тучки могли закрыть его собственное солнце — до того солнца, что светило для всех остальных, ему дела не было. Он почуял эти тучки в голосе Крота. Пока они за горизонтом. Сейчас надо собраться для хорошего рывка. На то он и Балашов! Он сумеет то, что недоступно пока еще всей гидро-метеослужбе! Он умеет не только заранее замечать грозящие ему тучи, но и вовремя их разгонять… На то он и вел годы, бесконечные годы, эту незатухающую, тайную, невидимую войну с ненавистным ему строем. Один — против огромного мира, который и не знал, что с ним воюет Балашов. Но он воевал грамотно и аккуратно, жадно вырывая свой кус каждый раз, как только это удавалось. И до сих пор удавалось! До сих пор это было целью его крошечных тайных побед. Засыпались «великие» деятели подпольного бизнеса; прокурор требовал строгого наказания для валютчиков; перегнувшись через барьер, советовались с адвокатами стриженные наголо «трикотажные миллионеры»; заложив руки за спину, уходили из зала суда под конвоем пойманные за руку взяточники. Балашов же бывал — очень редко — в этих залах всегда только зрителем. Компаньоны — жалкие, напуганные, растерянные — напрасно пытались поймать его поддерживающий взгляд или получить ободряющую записку — они уже для него умерли. И заходил он сюда не из боязни, что они начнут болтать, — он знал, что их языки крепко связаны страхом. И не жалость звала его сюда. Он приходил, чтобы лишний раз продумать и понять: где и когда была ими сделана ошибка? И этих ошибок он не повторял. Он был один против ненавистного ему строя. Среди людей этого строя у него не могло быть друзей, а своим он не доверял, не уважал их и рассматривал только как вещи разового пользования. Никогда в новые дела он не брал старых своих людей. Когда он читал в газетах, что кого-то привлекли к ответственности за пособничество иностранным шпионам, он весело и радостно хохотал: «Так этим болванам и надо! Я бы их вообще без суда стрелял! Продавать кому-то свою свободу, жизнь — за грошовые подачки!» Он вспоминал, как однажды у него «бегали в шестерках» два сопляка-фарцовщика. Разговорившись с ними, он с глубоким удивлением заметил: эти кретины полагали, что там, за кордоном, земля обетованная. Захлебываясь, они пели про шикарные машины, потрясающих женщин, совершенно сумасшедшие тряпки. Да, там все это есть. Но для него, для Балашова, а не для этих ленивых дегенератов, которых выгнали за двойки из института. Ради этого он столько лет рисковал, продумывал дела до секунды, проверял документы до последней запятой. И всегда выигрывал! А эти ничтожества посягали на его мечту. Пускай это у них от глупости, от безделья, но прощать этого дармоедам было нельзя. Он их прогнал, а потом сообщил анонимкой в милицию, что они уже два года не работают, занимаясь фарцовкой. Загремели оба как тунеядцы… Да, эти Кроту не ровня. Крот был, несомненно, большой находкой. И он много сделал для того, чтобы Балашов теперь вплотную подошел к своему коронному делу. Это будет последним делом Балашова, и он уйдет с ринга непобежденным. Не будет фанфар и салюта, но будут толстые пачки денег, которые там можно будет превратить в салюты и фанфары. Это дело могло бы украсить музей криминалистики, но Балашову известность такого рода не нужна. За последние пятнадцать лет это первое дело, в которое Балашов вошел младшим компаньоном. Старичку-покойничку надо отдать должное — у него была отличная голова, и это он, Коржаев, нашел Гастролера и задумал нынешний великий бизнес. Только у него, у Балашова, голова еще лучше, и не надо было старичку так жадничать. Уж очень здоровые куски хватал, вот и подавился. Ну ладно, старичок вроде верующий был, вот Балашов ему в Париже, в русской церкви, хорошую свечку поставит. Авось успокоится хоть на небеси его грешная душа. Очень грешная душа была у Коржаева. Особенно по части жадности. Балашов прошел за угол, где всегда оставлял машину, и «Волга», рывком взяв с места, понеслась к Преображенке.— Ну, здравствуй, Геночка! Рассказывай, хвались своими подвигами. — Здрасьте, Виктор Михалыч! Сделал все, как говорили. — Все? — Все! — Как старичок принял великий час? Не кричал, не плакал? — Не успел. — Пришел с нашей легендой? — Как договорились. — А почему там столько просидел? — Его дома три дня не было. — Не было? Странно. Где бы это ему таскаться по три дня? — Не знаю. Мне об этом милицию запрашивать не с руки было. Балашов напряженно думал. Он даже не обратил внимания на наглый тон Крота. «Может быть, у старика были дочерние предприятия? Или еще агентура? Дел он никаких сейчас не вел, в этом я почти уверен. Где же он мог шататься по три дня?» — Ты там не наследил? — Как вам известно, Виктор Михалыч, я свои визитные карточки на кончиках пальцев ношу, а оперативнику при обыске вроде бы неудобно щеголять в перчатках. — Ну и что? — Что, что… Перчатки-то надел уже после этого. Мог за что-нибудь и голой рукой схватиться. — Помнить надо было! — Оно, конечно, отсюда советики давать да сейчас мне экзамен устраивать — это просто. Каждый горазд на чужом хребте в рай въехать… — Не груби! — А я и не грублю! Только кто в первый раз ночку после этого переживет, тот на десять лет старше становится. — Послушай, Крот, ты мне истерик не закатывай. Если эта работа для тебя слишком нервная, поищи себе другую… Может, тебя возьмут воспитателем в детский сад, там будешь нянечек своим мужеством удивлять. А мне сопливые не нужны — выгоню! — Глядите, Виктор Михалыч, пробросаетесь. Меня ж ведь и подобрать могут. Кому-то, может, теперь понадобятся не только мои руки, но и голова. Здесь, — он постучал себя по лбу, — есть много интересного. Так что политику с позиции силы предлагаю сменить на тактику взаимовыгодных переговоров… — Так-так-так, — пробормотал Балашов. — Это действительно становится интересным… В квартире никого не было. Чтобы убедиться в этом, Балашов, как только пришел, взял стакан и прошел на кухню, вроде бы напиться. Сейчас он развалился в кресле и внимательно смотрел на Крота, покачивающегося верхом на стуле. Подбородок Крота лежал на спинке. Глаза были у него страшные: пустые, выключенные, со злой пьяной слезой. Балашов подумал о том, что все-таки диалектика права, утверждая спиральный ход развития событий. Здорово только вырос разворот спирали. Крот всплыл два года назад…
Весьма срочно! В Центральную справочную картотеку Прошу навести справку о судимости и местонахождении гражданина Ланде Генриха Августовича (он же Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич). Одновременно сопоставьте прилагаемый снимок пальцевого отпечатка с дактилокартой Ланде.Старший инспектор капитан ТихоновМосква, Петровка, 38
Возвращение в историю (старик Коркин)
Крот всплыл два года назад. К Балашову пришел Джага и предложил услуги готового на все человека. Крот отбывал срок по одному делу с Джагой. Но тот свое отбыл, а Крот, не досидев четырех лет, бежал из тюрьмы. Добравшись до Москвы, разыскал Джагу. Балашов сначала с ним встречаться не стал, а подробно проинструктировал Джагу, как его проверить. Когда Балашов увидел Крота впервые, он понял, что положение у того отчаянное. Нет денег, документов, нет жилья и всегда — непроходящий ужас поимки. С тех пор Крот выполнял самые опасные поручения своего шефа. В деревянном домике старого Останкина он снял койку у одинокой старухи. Балашов достал для него ворованный паспорт с искусно протравленными надписями, но настоящими печатями, штампами прописки и места работы. Потом от жены он узнал, что молоденькая парикмахерша Лиза, которая обслуживала Аллу, получила недавно однокомнатную квартиру. Он ловко навел на нее Крота, и, видимо, у девушки недостало сил устоять перед молодым, красивым и перспективным работником внешней торговли (Кроту почему-то нравилось выдавать себя за работника внешторга или кинооператора. То и другое казалось ему, наверное, очень «интеллигентным»). Крот заметно раздобрел и приобрел некоторую изысканность в дакроновых и териленовых костюмах, которые он доставал в комиссионках из-под прилавка. Он мог себе это позволить — Балашов хорошо оплачивал рискованную работу. Крот запомнил одно раз и навсегда: если его когда-нибудь «заметут» — о Балашове ни гугу. Он или же со следствия, или же из колонии выручит. В это Крот верил твердо. Потом началась эпопея с Коржаевым. Старик был осторожен, как дьявол. Даже Балашов знал о нем только то, что он из Одессы и зовут его Порфирий Викентьевич Коркин. Коркин скупал большие партии фурнитуры к новой модели часов «Столица». Но чутьем опытного коммерсанта Балашов ощущал, что обычной спекуляцией здесь и не пахнет. У Балашова не было в руках никаких фактов, и все-таки он смело пошел навстречу этой авантюре, потому что верил своей интуиции. Четыре месяца он вел игру с Коркиным, делая вид, что заинтересован лишь в сбыте похищенных с завода и из его мастерской часовых деталей. Балашов не знал, где останавливается Коркин, приезжая в Москву. Своих координат Коркин ему не давал, а звонил по телефону и назначал встречу всегда на улице. При этом он выбирал такие места, которые хорошо просматривались издали. Видимо, Коркин был травленый волк и боялся, чтобы Балашов, производивший впечатление этакого голубого воришки, не привел кого-нибудь на хвосте. Они встречались на видовой площадке у Ленинских гор, у Северного входа ВДНХ, на Большом Каменном мосту, Центральной аллее Лужников. Отчаявшись, Балашов уже решил было пустить по его следу Крота, чтобы тот встретил его где-нибудь в переулке и посмотрел документы. Но риск был слишком велик — старик мог напугаться и вообще соскочить с этого дела. И Балашов решил проверить свою версию в работе — все равно других вариантов не оставалось. Исходил он из простых соображений: старик одет скорее бедно, чем скромно, а деньги у него есть, и, надо полагать, немалые. У таких старичков-одуванчиков конспирация по линии одежды идет скорее от чувств, чем от разума. Вероятнее всего, старик просто жаден, и, если версия Балашова окажется правильной, Коркин клюнет на его приманку, как щука на живца, с заглотом. Ни за что не удержится, чтоб не сорвать хороший куш. Смущаясь, отворачиваясь в сторону, Балашов сказал ему при очередной встрече: — Порфирий Викентьевич, у меня к вам дело конфиденциального характера. — Что такое? — Я вот получил от вас в оплату товара довольно значительную сумму. — Разве она не соответствует договоренности? — Нет, что вы, что вы, — замахал руками Балашов. — Конечно, соответствует. Я не об этом. — Так в чем же дело? — теряя терпение, спросил Коркин. — Не помогли бы вы мне обратить их в более твердый капитал? — выпалил, испуганно оглядываясь, Балашов. — Что вы имеете в виду? — Ну, зелененьких бы купить, или фунтов, что ли… — Вы имеете в виду доллары, полагаю? — холодно спросил Коркин. В груди Балашова замерло. — Если это только возможно… — Не знаю, не знаю, — неопределенно забормотал Коркин. — Надо спросить у знакомых. А на какую сумму вы хотели бы приобрести?.. Сердце Балашова сделало толчок, другой и забило барабанную дробь. — Собственно, если это возможно, то на всю сумму… — Но вы знаете, что они идут по пятикратному курсу? — Дороговато, конечно, — притворно вздохнул Балашов, — но уж если нельзя дешевле… — Вы мне, любезный друг, одолжений не делайте. Я же к вам ни с какими просьбами не обращался. А если дорого, то как знаете — дело хозяйское, — сухо отчеканил Коркин. — Порфирий Викентьевич, я же к вам не только претензий не имею, но и испытываю чувство благодарности, — сказал заискивающе Балашов. — А что касается моего замечания, так это безотносительно к личностям действительно дорого. Нельзя ли по четвертному курсу? Балашову было наплевать, по какому курсу покупать, хоть по десятикратному — потом он свое возьмет. Но он правильно играл свою партию. Слишком поспешная сговорчивость и такая уж показная хрестоматийная глупость могли вызвать у этого старого змея подозрения. Его надо было «оттянуть на себя», в привычное для Коркина русло горлохватских сделок. И зубы старого проныры уже клацнули, захватывая подброшенного Балашовым отравленного живца. — По четвертному нельзя, — отрезал он. Затем, вроде бы смягчаясь, сказал: — Может быть, мне удастся договориться с людьми по четыре с половиной. Но это, что называется, из чувства личной симпатии к вам. Я вам позвоню послезавтра, сообщу о результатах… — взял обратно только что врученную Балашову пачку денег и ушел. Если бы Коркину могло прийти тогда в голову, что своими устами он вынес себе приговор! Если бы он только знал!.. Утром Балашов вместе с Кротом носился на машине из гостиницы в гостиницу с одним и тем же вопросом: не останавливался ли в этой гостинице их знакомый по фамилии Коркин Порфирий Викентьевич? К вечеру, объехав все московские гостиницы, завернув даже для верности в мотели, они убедились, что или Коркин живет у кого-то «на хазе», или никакой он не Коркин. На другой день Крот вылетел в Одессу с таким расчетом, чтобы вернуться в Москву вечерним самолетом. В адресном бюро он запросил место жительства Коркина П. В. И вот тут-то и произошел афронт, который убедил Балашова, что он на верном пути. «Указанное лицо в Одессе не проживает», — дали Кроту ответ. Все эти сведения Крот сообщил ему прямо во Внуковском аэропорту, где Балашов встречал своего курьера. «Указанное лицо-то проживает, но, видимо, под другой фамилией», — усмехнулся Балашов. Высадив Крота на Ленинском проспекте, он поехал на Софийскую набережную, где в девять часов ему назначил свидание Коркин. Еще издали он увидел одинокую тощую фигуру старика. Невольно засмеялся: «Молодчина, старик. На километр и в ту и в другую сторону видно. Попробовал бы я только Крота за собой подтянуть, сразу засек бы! Ну, ничего, дедусь, мы тебя, родненького, и так закатаем!..» Балашов притормозил «Волгу» около Коркина и окликнул его. Старик остро зыркнул налево, направо, юркнул в открытую дверь и кинул: «Поехали». По дороге Коркин несколько раз оглядывался, долго смотрел на заднее стекло: проверял, не тянется ли кто-нибудь следом? Балашов помалкивал. Когда вдоволь накрутились по улицам Москвы, старик, откашлявшись, сказал: — Так вот, любезный друг, я вашу просьбу выполнил-с. В этом конверте двести пятьдесят английских фунтов и восемьсот долларов. Балашов быстро прикинул: «На пятьдесят долларов все-таки обжал, старая сволочь. Ну, подожди, кровью отхаркаешь за этот номер». Вслух произнес: — Я вам весьма, весьма обязан за вашу любезность, Порфирий Викентьевич. Но вы ведь тратили время, годы ваши немолодые по моим поручениям бегать. Это должно быть оплачено… — Да полно вам, о чем разговор? Мы же ведь интеллигентные люди — всегда договоримся. А с друзей комиссионных не беру. Так-с… — Мгновение подумал и не удержался: — Разве что так, пустячок какой-нибудь, сувенирный презент-с. Назавтра Балашов вручил ему золотые запонки и по радостному оживлению Коркина понял, что тот остался подарком весьма доволен. А через месяц старик сам, напролом, полез в сети, которые ему так долго и старательно вязал Балашов. То ли Коркин решил больше не показываться на старой явке, то ли там кто-то попался, а может быть, еще что-то произошло, о чем Балашов так и не узнал, но однажды старик попросил подыскать ему в Москве квартиру, где бы он мог останавливаться во время своих краткосрочных приездов. При этом квартира должна быть отдельная и минимально населенная. Сдерживая в пальцах дрожь, Балашов задумчиво ответил: — С учетом того, что квартира должна принадлежать исключительно надежным людям, задача эта не из легких. Но я думаю, что мне удастся вам помочь. Если к следующему вашему приезду я назову вам адрес, сможете там располагаться как дома… — А вам ввиду особенностей ваших финансовых интересов это тоже будет довольно выгодно, — пообещал Коркин.ТЕЛЕФОНОГРАММА Москва, Петровка, 38 Старшему инспектору тов. Тихонову Комплексом оперативно-следственных мероприятий установлен виновник наезда на Коржаева — шофер Горстройтреста Павлюк Д. М. Управляя автомашиной в нетрезвом состоянии, он не отреагировал на грубую неосторожность Коржаева, шагнувшего с тротуара на проезжую часть в одном метре от «Волги», и легко задел его боковой поверхностью правого переднего крыла. Эти данные подтверждаются автотехнической экспертизой. Испугавшись ответственности, Павлюк с места происшествия скрылся. Мерами оперативной и следственной проверки установлено, что Коржаев и Павлюк знакомы не были, каких-либо косвенных связей между ними не выявлено. Копии материалов высылаем почтой.Подписал следователь АрефьевПередал дежурный Самсонов
Возвращение в историю (ставят сети)
«А вам ввиду особенностей ваших финансовых интересов это тоже будет довольно выгодно», — пообещал тогда Коркин. После этого Крот целую неделю «работал» с Лизкой. Он сумел так заморочить ей голову, что под конец она совершенно четко запомнила только следующее: его друг и начальник Виктор Михайлович приведет к ней жить на несколько дней одного человека, весьма высокопоставленного. Для пользы дела она будет считаться дальней родственницей Виктора Михайловича. Гостя ни о чем не надо спрашивать, стараться аккуратно выполнять все, что он просит. Обо всем она будет утром, встречаясь с Кротом перед работой, подробно ему рассказывать. Лизу смутило это странное поручение, но отказать в чем-то Геночке было выше ее сил. Встреча была подготовлена по высшему разряду. И наконец, она состоялась. Коркин был доволен всем: отдельная квартира, далеко от центра, хозяйка, видимо, туповатая, молчаливая и нелюбопытная. На его вопрос, сможет ли он останавливаться здесь по нескольку дней и впредь, изъявила согласие. И, что особенно приятно, отказалась от платы. «Разве что продукты будете покупать», — меланхолически добавила она — этому ее научил Крот. События стремительно нарастали. Ровно через сутки Крот принес такую весть, что Балашов испуганно схватился за сердце: он слышал, что у людей от радости тоже бывает инфаркт. А произошло вот что: утром Крот встретил Лизу, и та, между прочим, сказала, что Коркин трижды спросил ее, когда она вернется домой. Когда она была уже в дверях, старик как-то нерешительно, но с выражением сказал, что если у нее есть какие-то дела в городе, то пусть она не торопится — с обедом он подождет. — Ну ладно, Лизок, вечером увидимся, — Крот поцеловал ее в щеку и махнул ей вслед рукой. Затем, убедившись, что она свернула за угол, не спеша пошел по направлению к ее дому. «Видно, старый хрыч кого-то хочет принять дома. Интересно было бы взглянуть, кого затянет этот паучок…» Крот вошел в хорошо знакомый подъезд и поднялся в лифте на четвертый этаж. Взглянул на Лизкину дверь и поднялся этажом выше. Он неслышно прижал дверь лифта и спустился на лестничную площадку. Сел поудобнее на подоконник, так, чтобы видна была сверху Лизкина дверь. Закурил. Курил не спеша, со вкусом, понимая, что сидеть здесь придется долго. Проезжавшие в лифте видеть его не могли, а если кто-то спускался по лестнице, Крот вставал, брался рукой за перила, делая вид, что отдыхает на площадке. Дождавшись, когда шаги внизу затихали, снова неслышно усаживался на подоконник. Время тянулось дремотно, тягуче. Крот думал о себе, о Лизке, о Балашове, о старике, которого надо будет хорошенько «обуть». Он не совсем отчетливо понимал, зачем шефу так нужен этот старый хитрый черт. Но Крот уже отлично узнал повадки Балашова и чувствовал, что если тот так присосался к этому Коркину, то дело игры стоит. Замок в двери звякнул в половине второго, и чуть слышный звук напомнил Кроту щелчок взводимого затвора. Он соскользнул с окна и прижался к стене. Было слышно, как старик потоптался на площадке, прокашлялся, захлопнул дверь и, громко шаркая по ступенькам ботами «прощай молодость», пошел вниз. Крот был готов поклясться свободой, что он слышал, как Коркин мурлыкал себе под нос: «И вот мой час настал, теперь я умираю…» «Ну-ну-ну, старичок, не ври! Такие жилистые хрычи по сто лет живут, ни черта им не делается», — подумал Крот. Когда все стихло, он одним прыжком спустился к двери и открыл ее своим ключом. Старик пошел, наверное, звонить. Туда, да обратно, да пока поговорит, верных двадцать минут пройдет. А больше и не надо — все в лучшем виде будет осмотрено, и Крот сделает дедушке Порфише ручкой! Надо будет только, уходя, взглянуть на гостя старика. Крот вытащил из-под тахты фибровый чемодан и легко бросил его на стол. Замки заперты. «Смешной народ все-таки. Вот зачем, спрашивается, делают эти замки на чемоданах? Фраер и в открытый не полезет, а мне его отпереть — занозу трудней дернуть. Эх, фраера…» Крот аккуратно покрутил в замке длинной отверточкой с нарезками и пропилами на конце. Щелкнули петли, он откинул крышку и стал потрошить чемодан. Под застиранным бельишком лежало довольно много денег. «Эх, взять бы сейчас эти пять кило фаршированной деньгами фибры и отвалить на край света. Но нельзя. Шеф не простит мне такой финт. Обязательно уголовку наведет. А может, побоится, что буду на следствии болтать? Ну, нет, он не из таких, чтобы бояться. Да и что я про него сказать могу? Махинатор он крупный, это верно. Но милиция точные факты любит, а у меня их нету. Так что придется еще поработать на него до удобного случая. А там поглядим. Ага, вот и его паспорт, так-так…» Когда Крот закрывал крышку чемодана, он услышал, что на лестничной клетке остановился лифт. Кинув взгляд на часы — прошло четырнадцать минут, — он щелкнул замками, точно вставил в отверстия — в одно, в другое — свою хитрую отвертку, повернул и беззвучно запихнул чемодан под тахту. В дверном замке уже елозил с металлическим скрипом ключ. Крот затравленно озирался. «Надо же в такую банку влипнуть! На своей хате попасть, как сопливому домушнику! Хромой за это теперь не побалует!» — прогрохотала в мозгу, как экспресс по мосту, мысль. Взгляд задержался на приоткрытой двери стенного шкафа. Там у Лизки висят платья. Из прихожей раздался голос: — Ну, вот мы и пришли, господин Макс… «Э, была не была! Терять теперь нечего…» — Крот на носках перебежал комнату и скользнул за тонкую дверцу в груду тряпок, пахнущих духами, пудрой и нафталином.«…Мистер У. Келли, вице-президент компании «Тайм продактс лимитед», которая ввозит в Англию часы из Швейцарии, Франции, Западной Гармонии, Японии и СССР, заявил вчера корреспонденту газеты «Таймс», что русские часы дешевы потому, что советские заводы организованы по принципу крупного производства… Английский импортер отметил также высокое качество советских часов и их надежность…»Газета «Таймс», 11 февраля 196* года, Лондон
Возвращение в историю (Гастролер)
…Там, за дверцей, в комнате, двое не спеша усаживались за стол, шаркали подошвами, скрипели отодвигаемые стулья. Коркин говорил что-то о плохой погоде, жаловался на нездоровье. Потом спросил: — Чайку-с не желаете? Организуем мигом… И тут Крот впервые услышал голос неожиданного гостя: — Вы, наверно, думаете, что я приехал в Москву за чай? Вы знаете, какой продакт меня интересовать… Голос был холодный и скользкий, как прилавок рыбного магазина. И хотя Крот не видел обоих, он сразу почувствовал, что Коркин смутился, голос его стал еще более заискивающим: — Да, да, конечно, любезный друг, как вам угодно-с, я просто думал, как лучше… — Будет лучше, если мы не теряем время и будем начинать деловой разговор… «Как-то странно он говорит, не по-людски», — подумал Крот. — К сожалению, я не смог обеспечить на сегодня всю номенклатуру оговоренных товаров. Возникли задержки с поставками деталей, но я гарантирую вам, господин Макс, что к следующему вашему визиту все будет подготовлено, — сдавленно, с придыханием сказал старик. Крот почувствовал, что Коркин чего-то боится. — Это очень плохо. Как говорят у вас, дорогая ложка к обеду. Вы должны, наконец, понимать, — что я не могу вывозить большие партии продакт. А в следующий раз я должен возить самые крупные предметы… «Елки-палки, ведь он же иностранец, — с изумлением подумал Крот. — Ай да старичок-паучок! Это же надо! Контрабанду гонит, да еще как! Ну и хрыч!» — Клянусь вам Христом-богом, что это не в моих силах было. Я только совсем недавно вышел на оптового поставщика, поэтому я и смог обеспечить условленные партии колес, трибов, волосков и вилок. На все остальные уже есть договоренность. — За это я буду снижать часть вашего гонорара. Я тоже не могу верить без гарантий. Мы деловые люди, и вы должен это понимать. — Но ведь уже есть договоренность! Все детали через полгода будут. Я даю вам слово благородного человека! — Меня слова не интересуют. Это есть эмоций. Я могу повторить: каждый мой визит сюда стоит не только много деньги. Он стоит много страха и нервы. Это тоже есть эмоций. В этой сфера мы с вами имеем баланс. Но-о… в делах берут к учет только три фактор: продакт, деньги или гарантий. У меня есть деньги, у вас нет продакт. Может, вы имеете гарантий? — Бог мой, мы же должны доверять друг другу! — Никогда. Доверие в делах подобно червь в дерево — оно кушает его из середины. Доверие помножить на гарантий — может давать выгода обе сторона. — Но ведь вы постарайтесь понимать: моя не будет обмануть вас, моя не имеет резона, — от волнения Коркин перешел на ломаный язык. Крот усмехнулся: «Ишь, старается, старый черт! Хочет, чтоб его поняли лучше. Только, видать, у этого гада не очень-то разживешься. Ну и волки, это ж надо, как грызутся!» Крот с таким напряженным вниманием слушал все происходящее в комнате, что уже забыл про свой испуг. Теперь он только боялся пропустить что-нибудь важное в их разговоре. Крот отлично понимал, что, если он выскочит отсюда живым, Балашов дорого даст за его рассказ. Крот был твердо уверен — у этого закордонного Гастролера наверняка есть пистолет. «Если он засечет меня, станет мне этот шкаф саркофагом — это уж как пить дать! Что в его пушке есть — все в меня вложит». А Гастролер в это время смеялся: — Вы, наверно, думаете, что плохой русский язык я понимаю лучше? Это есть неправильно. Я плохо разговариваю, но я могу хорошо понимать. В ваша страна я бывал не только как коммерсант, я тут жил с сорок первый до сорок третий год. Но это к делу не относится. Я сказал конечное слово: вы получаете только тридцать процент гонорар. Остальное — при окончательный расчет. Коркин, видимо, понял, что уговорить партнера не удастся, и разговор покатился под гору. В конце Гастролер сказал: — К первый июль весь продакт должен быть комплектован и готов. Я приеду в Москву от двадцать до тридцать июля. На этот адрес присылаю вам из гостиница посткарт — как это… — Открыточку? — Да, открытку. Адрес назад будет любой, но номер дома значит день наш рандеву, а квартира — час, когда вы ожидает меня здесь. Все. Да, напишите мне адрес эта квартира. Вы уверены, она надежна? — Абсолютно. Коркин скрипел карандашом по бумаге, потом они вышли в прихожую, и через минуту хлопнула дверь. Крот прильнул к дверце: в квартире не раздавалось ни звука. Видимо, старик пошел провожать Гастролера на улицу. Крот звериным плывущим шагом вышел в прихожую, прислушался у двери. Все тихо. Беззвучно открыл и затворил за собой дверь, мгновенно взбежал на площадку, устроившись на насиженном с утра подоконнике. Старик вернулся через пять минут. Стук захлопнувшейся за ним двери прозвучал для Крота салютом. Он спустился по лестнице, перепрыгивая через целые марши. Выбежав на улицу, забыл привычную, хранящую его сдержанность и заорал навстречу зеленому огоньку: — Такси, сюда!«Юрка? Жулик!»
Стас Тихонов постоял на углу, раздумывая, куда поехать сначала. Несмотря на то, что стрелки на часах в конце Страстного бульвара только начали свое неспешное путешествие к одиннадцати, было уже жарко. Тихонов подошел к киоску и попросил стакан воды с двойным сиропом. Он стеснялся своей любви ко всякого рода сластям и позволял себе такую роскошь, как двойной сироп, только когда был один. Стрелка на часах прыгнула на четверть одиннадцатого, и Тихонов решился: «Пойду сначала к Мосину домой». Накануне он говорил с участковым, битый час пытаясь от него узнать что-то о Джаге. Однако участковый, исполненный готовности быть полезным, ничего интересного сообщить не мог. Уже в конце разговора он вспомнил, что в одной квартире с Мосиным живет Нина Павловна Захарова — пенсионерка, общественница и «вообще отличная старуха». — Может быть, она что-то скажет? Она же ведь лучше его знает, — заключил изнемогающий от жары толстяк участковый. — А где он работает? — спросил Стас. — Не знаю, — сокрушенно развел руками участковый. — Давеча, когда звонили, пошел в ЖЭК, а там даже справки с его работы нет… Стас дважды постучал в дверь старого двухэтажного дома на Грузинской улице. Кто-то закричал в глубине квартиры: «Сейчас, сейчас, подождите, а то молоко сбежит…» Дверь Тихонову отворила седая, аккуратно причесанная женщина с энергичным, подвижным лицом. — Нина Павловна? — Да. — Здравствуйте. Я как раз вас и разыскиваю. — Здравствуй, коль не шутишь. А искать меня нечего. Идем в комнату, побеседуем… Садись, садись, молодец, — усадила она Тихонова в кресло. — Рассказывай, с чем пожаловал. Ко мне ведь много народу ходит, — продолжала она, — у каждого свои заботы. Старушка зорко глянула на Тихонова. — Да ты из какого дома? Что-то я тебя и не припоминаю… — Моя фамилия Тихонов, Нина Павловна. Я из милиции. Пришел к вам по государственному делу, за советом. Поможете? — Вон что-о! — протянула Захарова. — И старуха понадобилась для дел-то государственных? — Прямо уж и старуха! — льстиво сказал Тихонов. — Вам шестидесяти-то, наверное, нет! — Ты мне турусы не подкатывай, — засмеялась Захарова. — Ишь, кавалер нашелся! Показывай документ свой да и выкладывай, зачем пришел? Тихонов предъявил Захаровой удостоверение и попросил рассказать все, что ей известно, о Мосине. — Юрка? Жулик, — убежденно сказала Захарова. — Я о нем участковому не раз говорила, а он все одно: «Проверим, проверим…» — А почему вы думаете, что Мосин жулик? — осторожно спросил Тихонов. — Да как тебе сказать, — задумалась Нина Павловна. — За руку я его, конечно, не ловила. Только «не пойман — не вор» — это жулики сами себе поговорочку придумали, — так же убежденно продолжала она. — Сидел он дважды? Сидел. А теперь что? К людям гости ходят как гости, а к нему: «Юр, выдь на минуту!» Пошепчутся на лестнице минут пять — и до свидания. Да и названье себе бандитское взял — Жиган, что ли? — Джага? — подсказал Тихонов. — Во-во, Джага, он самый. Теперь еще: семья их — пять человек, работает Юрка один, а как пришел из тюрьмы, все новое домой тащит: и костюм, и пальто, пианину привезли, холодильник новый, другуювсякую всячину. А тюрьма, сам знаешь, не заграница. Откуда, спрашивается, барахло-то? Факт, жулик! — непреклонно закончила Захарова. — Нина Павловна, а не заметили вы случайно, не было среди его гостей хромых? — спросил с надеждой Тихонов. — Хромых? Нет, чего не видела, того говорить не буду. Хромые к нему вроде не приходили. — А вы не знаете, где Мосин сейчас работает? — Как не знать! Знаю. На часовом заводе не то монтером, не то слесарем. Дуська, его сестра, на кухне говорила. Прощаясь, Тихонов оставил Захаровой свой телефон. — На всякий случай. Если вам что-нибудь интересным покажется или хромой пожалует, звякните нам. — Да уж чего, — ответила Захарова. — Конечно, звякну, труд небольшой, а телефон у меня личный… «Умная старуха, — спускаясь по лестнице, думал Тихонов. — И тактичная какая: даже не спросила, в чем, мол, дело».Возвращение в историю (третий — лишний)
Да, от радости тоже может быть инфаркт. Бледные щеки Балашова покрылись неровным пятнистым румянцем. Он смотрел, не поднимая головы, в полированную крышку стола и, чтобы не было заметно дрожания его пальцев, разглаживал бумажку, исписанную круглым падающим почерком Крота: «П. В. Коржаев, 1898 года рождения, русский, постоянно прописан в городе Одессе, улица Чижикова, д. 77, кв. 112». «…Все, раскололи старика. До исподнего. Значит, я был прав. Точно угадал. Молодец, Балашов, молодец. Хорошо, что не выдал Коржаеву уже приготовленный товар. Так-так, этот гость хочет вывезти полный комплект деталей нескольких тысяч «Столиц». Все понятно. Там, у себя, Гастролер их соберет и беспошлинно сбудет. Да по тройным ценам. Вот это бизнес! Он же хапнет на операции не меньше четверти миллиона! Часики-то советские у него из рук расхватают, за две недели уйдут. Дешевле швейцарских гнать будет. А что швейцарские? Красиво? Так наши не хуже. И паблисити отличное — русская икра, русские часы, русские спутники! Да что там говорить — их в СССР сотнями тысяч закупает самая солидная фирма на Западе — «Тайм продактс лимитед». Мистер Уильям Келли знает, что и где покупать… Но этот-то змей! Какой размах, фантазия какая! Вот это партнер! Теперь надо вывести из этой игры Коржаева. Судя по информации Крота, Макс держит старика за горло. Ну, это от стариковской темноты, от дикой жадности Коржаева. Все-таки старичок при всей его ловкости типичный анахронизм. Этакий Гобсек с Малой Арнаутской. Выпал из времени лет на сто. Не понимает, что он для Гастролера дороже матери родной, что Гастролер ему крошки сухие с жирного пирога бросает. Гастролер с ним в правильном ключе работает — в строгости держит. А этот старый дуралей боится, что иностранец к кому-то другому переметнется. Дурак! Этот закордонный волк его наверняка не один год искал, пока нашел. Но старичок-то каков, орел — грудь куриная! На моих, на балашовских, плечах хотел устроиться, дурашка…» — Ну ничего, скоро тебе там станет неуютно… — Что? — спросил Крот. Балашов так задумался, что не заметил, как последние слова произнес вслух. — Мы с тобой одно целое: я — голова, ты — руки. До тех пор пока руки будут слушать голову, им ничего не грозит. Понятно? — Не совсем. — А вот сейчас поймешь совсем. Ведь ты, Крот, очень хотел бы избавиться от меня и жить как хочешь? А? — Да почему же? — притворно возмутился Крот. — По кочану и по кочерыжке. Потому. Хотел бы — и точка. И не ври. Только без меня ты ни на шаг. Деньги тебе даю я, документы тебе достал я, где жить — тоже нашел я. Но самое главное — это деньги. Деньги могут дать все: удовольствия, независимость, наконец, свободу. А тех денег, что я тебе даю, может в лучшем случае хватить только на удовольствия. Свобода, брат, она до-орого стоит! А раздавать деньги просто так не в моих принципах. Поэтому деньги — выкуп за свободу — ты должен заработать. — Какая же может быть свобода, когда у меня каждый мент в глазах двоится? — У меня есть врач, который полностью изменит твою внешность. Сделает пластическую операцию. А кожу на пальцах он тебе сожжет кислотой и пересадит новую шкуру. Я достану железные документы, и с приличными деньгами ты осядешь где-нибудь на глубинке, пока на тебя какая-нибудь амнистия не свалится. Ну, что, красиво? — Куда как… — Но это все надо заработать, потому что я не собес и благотворительностью не занимаюсь. — Что же, мне свою душу за это продать вам, что ли? — Нужна мне больно твоя душа. Я гнилым товаром не торгую. Я тебе уже сказал: мне нужны твои руки, ловкость и смелость. — Ну и что? — Через пару месяцев поедешь в Одессу и уберешь старика. — Как это? — Вот так. Совсем. Начисто! — Да вы что, Виктор Михалыч? Шутите? — Шутками пусть занимаются Штепсель и Тарапунька, а у меня дела не ждут, шутить некогда. Ну как, хватит у тебя духу купить себе свободу? — Виктор Михалыч, это же мокрое дело. За него вышку дают! — Дают дуракам. А я предпочитаю с дураками дела не иметь. Умно сработаешь — тебе наши замечательные пинкертоны только соли на хвост насыплют… — Но ведь старика можно просто вышвырнуть из дела! У нас же теперь все козыри в колоде. А если вздумает фордыбачить — прищемлю его где-нибудь, так он сюда дорогу забудет! — Эх, мальчишка ты еще, Крот, право слово… Балашов напряженно думал: приоткрыть ли Кроту немножко карты или играть втемную? Крот парень вострый. Он может почувствовать в колоде крап. Тут можно переиграть, и Крот просто сбежит. Решился. — Слушай меня, Гена, внимательно. Большое мы с тобой дело накололи. Если сделаем его как следует — надолго можно будет успокоиться. Но ошибки в нем быть не может, иначе оба сгорим дотла. И все-таки дело того стоит. Ты слышал, о каких деньгах они договаривались? — Слышал. О долларах вроде. — Вот именно. О долларах и английских фунтах. Есть еще у нас кое-где троглодиты, надеются, что Советская власть не вечная, вот они за большие деньги валюту эту покупают. Не знаю, как им, а нам с тобой, Геночка, видать, до этих времен не дожить. Вот мы деньги Гастролера им переплавим — пусть идиоты их по кубышкам гноят. Мы-то с тобой и на советские отлично поживем. Улавливаешь? — Чего уж тут не улавливать. — Так вот, старика из дела мы выпихнуть не сможем. Если послать его сейчас к черту, то он сможет по своим каналам связаться с Гастролером и перенести встречу — только мы его и видели. Если мы их накроем во время встречи, то получим с этого гроши: во-первых, переговоры будет вести старик, а он уже впал в детство и не сможет с этого залетного сорвать даже трети того, что смогу я. Во-вторых, придется делиться этим немногим с ним — и получим мы за все наши страхи, за весь риск, да и за товар-то за наш собственный кукиш с маслом. Но это все колеса. Самое главное в другом. А что, если старик со зла донесет на нас? А? Как тебе нравится переодеть дакроновый костюм на лагерный бушлат? Вот такие пироги. Так что, думай — и поскорее. — А когда ответ давать? — Ну, времени у тебя, Крот, полно. Ответ мне можешь дать через… через… минут пять. Достаточно? — Сколько? — тихо переспросил Крот. — Пять. Пять минут! Наш с тобой старый контракт действует еще пять минут, после чего или автоматически пролонгируется, или навсегда — я это подчеркиваю — навсегда расторгается. — За горло берете? — Дурачок. Зачем же так грубо? Просто поворачиваю тебя лицом к солнцу. Думаю, что тебе есть смысл согласиться. Это по-дружески. — А что мне еще остается? — Да, скажем прямо, выбор у тебя небогатый. Так как же? — Хорошо. Я согласен. Сколько? — Вот это уже деловой разговор. Только о деньгах беседовать сейчас бессмысленно. Ты знаешь — я тебя никогда не обижал. — Это верно… В это мгновение Крот тоже подписал себе приговор. Ему невдомек было, что Балашов и не думает перепродавать валюту. Балашов сам ею распорядится. И там, куда он собирался податься, ему такой компаньон, как Крот, был не нужен.ВЕСЬМА СРОЧНО! Москва, Петровка, 38 Старшему инспектору тов. Тихонову Центральная справочная картотека сообщает, что проверяемый Вами гражданин Ланде Генрих Августович (он же Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич), отбывая срок наказания по приговору Мосгорсуда за спекуляцию часовой фурнитурой, 19 декабря 1963 года совершил побег из мест заключения и в настоящее время объявлен во всесоюзный розыск. Пальцевый отпечаток на представленном Вами снимке идентичен отпечатку среднего пальца правой руки Ланде — Орлова — Костюка (дактилокарта Ланде, архивный № 78162).— Красиво! — Тихонов положил на стол голубой листочек справки. — В нашей разработке появляются все новые звенья. Ну, а ты что обо всем этом полагаешь, Сережа? — Мне ясно пока одно: связь Джаги с Коржаевым — явление не случайное, — пожал плечами Приходько. — Я не могу еще это доказать, но уверен, что между ними стоял Ланде — Костюк, который, очень возможно, и отправил Коржаева к праотцам. Но вот зачем? Почему? Непонятно. И какова здесь роль Хромого? — Видишь ли, то, что эти два прохвоста и раньше промышляли часами, снова наводит на мысль о Хромом как о деятеле часовой промышленности. Уж очень заманчиво поверить, что мы его найдем где-то на циферблатной ниве… — Попробуем…Справку наводила Архипова
Возвращение в историю (Снова пузырек из-под валокордина)
«Это верно», — сказал тогда Крот. Деваться все равно некуда. Балашов держит его так за горло, что не пикнешь. Бежать из Москвы? А куда? Ткнуться не к кому. А с его паспортом куда-то пристроиться работать и думать нечего. Сразу возьмут на казенный харч. Да и что он может работать-то? Сроду специальности не имел. Шофером бы пойти к какому-нибудь начальнику на персональную. Водит машину он отлично. Так персональных машин мало. На самосвал? За полторы сотни в месяц? Ну это пусть у них робот за полторы сотни баранку крутит. Не дождутся. Обратно же, права шоферские надо получать в милиции, а он с нею дела иметь не желает. Так что выхода никакого. Впрочем, есть еще один выход — пойти на Петровку, 38 и поколоться. Сдать дочиста Балашова, сказать, что осознал, мол, хочу искупить вину, вон какую крупную птицу вам доставил. «Хорошо, — скажут они, — а что он за птица?» Тырь-пырь, а сказать-то нечего! Ничегошеньки я серьезного про него не знаю. А сам Балашов не из того теста, чтобы колоться. Скажу, — допустим, что возил какие-то пакеты в разные города. Кому возил? А черт их знает! На вокзалах и в аэропортах встречали, пакеты забирали и отдавали пакеты поменьше — с деньгами. Тут Балашов и скажет: «Кому вы, дорогие товарищи менты, верите: мне, честному, ничем не опороченному человеку, или этому беглому каторжнику, которого я первый раз в глаза вижу?» Покалякают с ним, побалакают и отпустят: сейчас ведь демократия настала — без доказательств ни-ни-ни! А я поеду свой старый срок отсиживать, да с новым довеском. Вот те и все дела. Нет, некуда мне деваться. Придется через пару месяцев поехать в ласковый город Одессу и выписать старику путевку в бессрочную командировку. Только Балашов зря полагает, что я лишь для него туда поеду. Уж если заскочу на хату к старому хрычу, заодно его бебехи пошарю. Не может того быть, чтоб он не держал каких-нибудь алмазов пламенных в своих лабазах каменных. Глядишь, пофартит, так, может быть, мне Балашов со всем своим делом на черта сивого не нужен будет…» Крот не знал, что Коржаев свои алмазы в комнате не держит. Он не знал даже, что старик снова вернулся в Москву и договаривается сейчас по телефону с Балашовым о встрече…— Виктор Михайлович! Это я, Коркин, здравствуйте! — Дорогому Порфирию Викентьевичу мой привет и уважение! Вы где сейчас? — На вокзале. Могу ли я ехать к той любезной девушке? — Я же вам сказал, что это жилье покуда прочно зарезервировано за вами. — И великолепно-с. Я сейчас же туда направляюсь и надеюсь вскоре видеть вас там. Как с нашими делами? — Поговорить надо. — А что, возникли осложнения? Я уж было позаботился об интересующих вас вещах… — Ну, это не по телефону! Скоро приеду. — Балашов усмехнулся: «Закрутился, милый». — Буду ждать. С нетерпением-с. Балашов положил трубку и с тревогой подумал: «Как бы он там на Крота не наткнулся. Я, правда, запретил Кроту там сейчас появляться, но с этого барбоса всего хватит». После визита Гастролера в дом Лизы Балашов велел Кроту вернуться обратно на старое жилье, в Останкино. Кроту это было явно не по душе, но он подчинился. Дверь Балашову открыл Коржаев: — Подумайте, какая жалость, девушка Лиза только что ушла по своим делам. Здороваясь со стариком, Балашов невольно подумал: «Врет, конечно, сволочь. Сам ее отправил. Обвык здесь, уже распоряжается, как хозяин. И все это за мои же деньги. Погоди, ты все эти счета оплатишь». Коржаев достал из саквояжа бутылку вина. Балашов усмехнулся: «Ишь, гуляет! На бутылку «Червоне» за 77 копеек расщедрился. Интересно, сколько за эту гнусную бутылку он постарается с меня содрать? Но твоя карта, родной, бита! Ничего ты больше с меня не возьмешь». — У меня неприятности, Порфирий Викентьевич. Сейчас проводится большая ведомственная ревизия. Винтика вынести нельзя. Боюсь, как бы не докопались до моих прежних дел. Коржаев истово перекрестился на фотографию Марчелло Мастроянни в углу. — Господи, спаси и помилуй! Что же делать, Виктор Михайлович? Если вы мне не обеспечите товар по оговоренному списку к пятнадцатому июля, вы меня без ножа зарежете! — Почему? — простовато удивился Балашов. — Вот бог даст, пройдет ревизия благополучно, к концу лета весь товарец в полном объеме я вам и представлю. — Да к какому, к черту, концу лета! Вы что, спятили? Мне нужен товар к пятнадцатому июля, а иначе выкиньте его хоть на помойку! — Прямо уж на помойку, — продолжал удивляться Балашов., — Наши детальки круглый год нужны для мастеров-леваков. — Да какие там леваки, что вы мне ерунду городите!.. Балашов даже привстал на стуле. Но Коржаев уже спохватился и с прежним возмущением продолжал: — Я с солидными людьми дело имею и не могу их дурачить, как мальчишек. Если было обещано к пятнадцатому, значит должно быть к пятнадцатому. Я им ваши ревизорские ведомости вместо деталей не могу предложить! Я их даже предупредить не смогу! Сейчас они были похожи на двух боксеров, сильных, но боящихся друг друга. Здесь можно выиграть одним ударом. Но удар этот должен быть нокаутом. Они легонько молотили друг друга, уклонялись, делали выпады, отходили, и каждый наливал руку злобой, чтобы ударить наповал. Балашов построил уже свою схему атаки: если старик категорически откажется от поставки в конце лета, значит, у него других каналов связи с Гастролером нет. Тогда вариант с его убийством надо придержать. Хотя Крот — это Крот, но все равно уж очень опасно. Шум большой может быть. Попробуем подработать что-нибудь попроще. А если согласится, значит он может связаться с закордонным купцом еще каким-то способом. Тогда старику надо будет умереть. Коржаев не был подготовлен к этому бою и на ходу готовил контратаку. «Максу я передал приблизительно одну четверть всего товара. Он уже вложил приличные деньги в это дело, не считая поездок сюда, и вряд ли так легко откажется от всего. Но заработок мой он порежет наверняка. Только знать бы заранее: на сколько? Так, чтобы с этого проклятого осла снять сумму вдвое. Процентов двадцать снимет Макс, а? Дождусь его здесь в июле и перенесу окончательную встречу на сентябрь. Пожалуй, если хорошо поторгуюсь, еще заработаю на этом…» — Что же, так вы мне ничего и не передадите сейчас? — сварливо спросил Коржаев. Балашов думал одно мгновение. — Вот только эти десять тысяч аксов. Я их снял еще до ревизии, — сказал он, протягивая Коржаеву пузырек из-под валокордина, наполненный крошечными металлическими детальками. — Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок, — уже откровенно грубо заявил старик. — Вы своей несобранностью поставили меня перед непреодолимыми трудностями. Да-с! Я вынужден буду выплатить своим контрагентам огромную неустойку. И все из-за вас! — Но при чем здесь я? — развел руками Балашов, напряженно размышляя: «Откладывает встречу, значит каналы связи могут быть». — Ведь не я же назначил в своей мастерской ревизию… — Ох господи помилуй, да когда же вы станете деловым человеком? Никого ваши объективные причины не интересуют. Они входят в естественные издержки коммерческого риска. Поэтому вы вместе со мной должны будете разделить тяжесть неустойки. — А сколько это будет? — настороженно спросил Балашов. Коржаев на минуту задумался. Пошевелил губами: — Половина вашего гонорара. — Что-о? Да мне же получать тогда нечего будет! — А мне будет чего?.. По-вашему, выходит, что я, в мои-то годы, должен из-за вас мотаться по всей стране задаром? Заметьте, что мне суточных и проездных никто не платит. — Ну, треть, я еще понимаю… — Минимум — сорок пять, иначе все придется отменить. — Помилосердствуйте, я же еле расплачусь со своими людьми. — Хорошо. Сорок процентов, и давайте кончим этот разговор. Балашов тяжело вздохнул: — Давайте… Коржаев отпил глоток теплого мутного вина и сказал: — Обо всех возможных у меня изменениях я вам напишу. Балашов мгновенье подумал. — На мой адрес лучше не надо. Видите ли, у меня молодая и ревнивая жена, обладающая скверной привычкой читать мою корреспонденцию. А поскольку я ее не посвящаю в свои дела, то ей лучше ничего и не знать. Запомните такой адрес: «Большая Грузинская улица, дом сто двенадцать, квартира семь, Мосину Ю.». Он мне сразу же передаст. — А он не любопытный? — Все, что захотите передать мне, пишите ему. Это абсолютно надежный, мой человек. Я вам как-то говорил о нем. Это Джага. В письме к нему так и обращайтесь, я буду знать точно, что оно от вас. Тогда и подписывать вам не надо будет. — Хорошо, в случае чего я буду иметь в виду этот почтовый ящик. Коржаев проиграл бой окончательно. Когда он затворил за Балашовым дверь, его одолели неясные сомнения. Этот человек хоть и лопух, но какой-то уж очень скользкий. Непонятно почему, но он вызывает подозрение. Нет, надо быть с ним осторожнее. Коржаев только не знал, что у него почти не осталось на это времени. Той же ночью он вылетел в Одессу. А Балашов сидел в это время у Крота в Останкине. — Осталось мало времени. Сегодня я говорил со стариком, и мне кажется, что он уже не сможет предупредить Гастролера. Хоть он и ничего не сказал мне, но вот тебе голову на отсечение, если я ошибаюсь: к приезду Гастролера он вернется сюда, чтобы его встретить. Видимо, он не может сидеть здесь и дожидаться его. — И что? — Ничего. Просто давай обсудим, как лучше с ним кончать. Ты вообще-то готов? Или как? — Готов, — безразлично сказал Крот…
По-латыни обозначает…
На Петровку Тихонов явился к вечеру. Бегом, через две ступени, взбежал он на второй этаж и без стука влетел в кабинет своего начальника майора Шадрина. — Борис Иваныч! Имеем новые сведения! — Ладно. Ты присядь, отдохни, — усмехнулся Шадрин. — Нет, я же на полном серьезе вам говорю, Борис Иваныч! Пока фортуна стоит к нам лицом! — закипятился Стас. Шадрин откинулся на стуле, не торопясь достал сигарету, закурил. На его длинном худом лице не было ни восторга, ни нетерпения. Спокойное лицо занятого человека. — Ну что ж, давай делись своими голубыми милицейскими радостями. — Так вот. Наш друг — Мосин-Джага, оказывается, работает на часовом заводе. Для меня это был первый приятный сюрприз: вот они откуда берутся — винтики, колесики, аксики! Поехал я на завод — поинтересоваться Джагой поближе. Порасспрошал людей про некоторых, ну и про Джагу в том числе. Насчет боржома — неизвестно, а вот водочкой мой «подопечный» балуется крепко: в бухгалтерии по повесткам вытрезвителя уже дважды у него штрафы высчитывали. А на водочку нужны знаки… — Какие знаки? — удивился Шадрин. — Ну какие? Денежные… Характеризуют Джагу, прямо скажем, не ай-яй-яй. Правда, сам он ни разу в кражах не попадался, но подозрения на него бывали. — Это какие же подозрения? — Обыкновенные. Как в римском праве: пост хок, эрго проптор хок! — Как, как? — переспросил Шадрин. — Ну, это по-латыни. Обозначает: «Из-за этого, значит поэтому», — небрежно бросил Стас. — Так вот, пропадут в одном, другом цехе какие-нибудь детальки, тут все давай вспоминать — то да се… А потом всплывает: Юрка-монтер в обед у станков ковырялся, провода смотрел. Раз, другой, потом его самого по-рабочему — за лацканы. Он, конечно, в амбицию: «Вы меня поймали? Нет? Ну и катитесь!» Тем пока и кончалось. Шадрин громко расхохотался: — Слушай, Тихонов, ну, отчего ты такой трепач? «Пост хок» твой несчастный обозначает «после этого, значит поэтому»! И это не из римского права вовсе, а из курса логики. И является примером грубой логической ошибки. Ясно? — Ясно, — не смущаясь, сказал Тихонов. — Тем более. Вы лучше дальше послушайте. Оказывается, на участке, где корпуса пропали, работает Кондратьева Зинаида, родная племянница Джаги. — Все это очень интересно, — сказал Шадрин. — Так что ты предлагаешь теперь? — Да это ж слепому ясно! — У меня зрение неплохое, но мне еще не очень ясно. Так что уж подскажи. — Надо бы Джагу сегодня же посадить, — сказал Стас. Шадрин сделал испуганные глаза и надул щеки. — Уф! Прямо-таки сегодня? — А что? В этом есть свои резоны. — Позволь уж поинтересоваться, дорогой мой Тихонов, а за что мы его посадим? — Кого это вы тут сажаете? — спросил вошедший Приходько. — Заходи, Сережа. Я вот предлагаю Джагу окунуть в КПЗ. А Борис Иваныч с меня саржи рисует. Давай вместе думать. Ведь Джага — явный преступник. Кому Коржаев блатное письмо адресовал? Джаге! Если мы его здесь сутки подержим, он, как штык, разговорится. Прижмем письмом — расскажет про Коржаева. Потом сдаст Хромого, возьмемся за племянницу — выяснится насчет корпусов… — Светило! Анатолий Федорович Кони — да и только. Просто изумительный пафос обвинителя, — сказал Шадрин, невозмутимо покуривая свою «Шипку». Приходько покрутил в руках карандаш, потом поднял на Стаса глаза: — Не, старик. Что-то ты… того, загнул… — Это почему? — А ты умерь свой оперативный зуд. Сейчас это во вред. — Да бросьте вы менторствовать! — разозлился Стас. — Не заводись. Противника надо уважать. Или хотя бы принимать в расчет, если это такая сволочь, как наши клиенты, — улыбнулся Сергей. — Давай, давай. Будем уважать. Только зачем? — А затем, что среди жуликов дураков уж никак не больше, чем среди порядочных людей. — Вот именно, — сказал Шадрин. — Представь себе: какой-то растяпа-прокурор дал нам санкцию на арест Мосина. Ну и были бы мы круглыми дураками, если бы его взяли. Ты с Мосиным хоть раз говорил? — Нет. — И я не говорил. И Сергей не говорил. Так чего это мы вдруг должны уверовать, что он заведомо глупее нас? Болваном был бы он, если б вдруг раскололся. Улик-то практически нет против него никаких. А на испуг я брать не люблю. Это, я тебе скажу, не показание, которое с испугу дано. Нам надо, чтобы он не только дал правдивые показания, но сам же их и закрепил — пусть награбленное выдаст, покажет документы, секретные записочки, назовет соучастников. Подскажет слабые их места. А для этого против него нужны факты, а не эрзацы. Есть они у тебя, эти факты? Письмо, штраф, племянница! Факты! Разве это факты? Возьми хотя бы письмо. Заметь себе, что Джаге оно только адресовано. Но оно ему не отправлено. И не получал он его. Теперь, работает он на часовом заводе. Ну и что? Да там тьма людей работает. Водку пьет? Так она всем продается, и пьют ее не только жулики. Сообщу по секрету: и аз грешен — случается, вкушаю. Племянница? А разве доказано, что именно она похитила корпуса? Нет, не доказано. Хотя это и не исключено. — Кроме того, есть в этом деле еще один интересный штрих, — сказал Приходько. — Вы хорошо помните текст письма Коржаева? Шадрин кивнул. — Хорошо, — пробормотал Стас. — Даже если бегло просмотреть его, станет ясно — Джага здесь фигура вспомогательная. И вернее всего, он лишь у Хромого на подхвате. А ты, Стас, Хромого знаешь? — Нет, — прищурился Тихонов. — Вот об этом речь, — сказал Шадрин. — Я к тому же клоню. Ни роль Хромого, ни кто он такой, нам неизвестно. А ведь очень возможно, что и он здесь не самый главный. Я думаю, что Джага — это так, мелочь, плотва. Если подсечем его сейчас, уйдут наши щуки глубоко — только мы их и видели. Так что не сажать нам надо Джагу, а холить и лелеять, да нежно, чтобы он и не заметил этого. Вот тебе моя позиция. На сегодняшний день, конечно… — Ладно, убедили, — засмеялся Тихонов. — Сломали меня, растерли в прах и пепел, которым и посыпаю свою грешную голову. Сдаюсь. И предлагаю другой план…В историю больше не возвращаемся (Нет, никак не снести Боливару двоих…)
«Готов», — сказал тогда устало Крот. И столько было в его глазах животного страха, подавленности и ненависти, что в душе у Балашова шевельнулось даже что-то похожее на жалость. Но он раздавил этот отголосок давно умершего чувства, как давят в пепельнице окурок, — привычно, не задумываясь. Тогда Крот его боялся, и еще как боялся! А сейчас Крот, убрав старика, заявляет наглые требования. Балашов вспомнил О'Генри: «Боливару не снести двоих…» — Глядите, Виктор Михалыч, пробросаетесь. Меня ж ведь и подобрать могут. Кому-то, может, теперь понадобятся не только мои руки, но и голова. Здесь, — он постучал себя по лбу, — много интересных сведений лежит. Так что предлагаю политику с позиции силы сменить на тактику переговоров… — Так-так-так, — пробормотал Балашов, — это действительно становится интересным… И Балашов твердо решил: нет, никак не снести Боливару двоих. Правда, пока что нужно только нейтрализовать Крота, чтобы он не путался под ногами. Опустил голову, постучал пальцем по подлокотнику. — Эх, Гена, потерять друга — раз плюнуть. А искать его потом годами надо. Особенно таким людям, как мы с тобой. — Что же мне, за дружбу подарить вам свою долю? — Да кто говорит об этом? Чего ты заостряешься? Если ты помнишь, я тогда снял с обсуждения вопрос о деньгах. Это было несвоевременно. А сейчас настала пора его обсудить. Сколько ты хочешь? — Половину. — Сколько-о? — Балашов, который вообще ничего Кроту давать не собирался, все равно ахнул от такой наглости. — Вторую долю. Половину. И ни одной копейки меньше. — Ну, Гена, это уж ты меня грабишь. Ты-то ни черта не вложил в это дело, а я скоро из-за него штаны сниму. — Вам без штанов не страшно — все равно в «Волге» катаетесь, никто и не заметит. — Ты, Крот, не забывай, что мы делим шкуру неубитого медведя. Денежки-то надо еще взять. — Мне доллары ни к чему, а вы на перепродаже еще вдвое против меня наживетесь, что я вас — проверю? — Знаешь, без доверия мы с тобой далеко не уедем. — Когда меня в «шестерках» держали, что-то вы меня не очень в доверенные брали. «Хам. Наглый глупый хам, — спокойно подумал Балашов. — Полагает, что он сейчас что-то стал значить. Навести на него уголовку анонимкой, что ли? Да нет, рановато еще, может от злости наболтать. Пускай подыхает как знает, без меня. Надо ему сейчас кость бросить…» — Ты в философию не вдавайся и гонор свой не показывай. Постарайся не забывать, что из нас двоих деньги достать могу пока что только я. А ты в крайнем случае можешь лишь поломать это дело. Но это и не в твоих интересах. Так что давай по-деловому: даю тебе двадцать процентов.. — Сорок. — Двадцать пять. — Сорок. — Вот что: бери третью долю или катись к чертовой матери! — Часть наличными сейчас. — На. Пока хватит. Крот взял из его рук толстую пачку денег и, не считая, засунул в карман пиджака. — А на эти деньги напиши мне расписочку, — сказал Балашов. Он решил придать их отношениям видимость солидности. — Зачем? — удивился Крот. — А затем, что ты у меня больше не служащий, а компаньон, и деньги эти пойдут в зачет при окончательном расчете. — Виктор Михалыч, а зачем же расписка все-таки? — развеселился Крот. — Вы с меня долг через нарсуд, что ли, взыскивать будете? — Суд не суд, а порядок должен быть. — Ну, пожалуйста. Только какой из моих фамилий расписку подписывать? Какая вам нравится больше: Костюк, Ланде, Тарасов или Орлов? — А мне все равно. Когда Крот написал расписку, Балашов аккуратно сложил ее и положил в бумажник. Потом сказал: — Жарко сегодня. Принеси водички с кухни. Только слей из крана побольше. Как только Крот вышел, Балашов разогнулся в кресле, выпрямился и, стараясь не скрипнуть половицей, балансируя на одной ноге, дотянулся до пиджака Крота. В мгновение он обшарил карманы и вытащил из внутреннего самую дорогую для Крота вещь — его фальшивый паспорт. Пистолета, который дал ему Балашов перед поездкой в Одессу, в пиджаке не было. Когда Крот вошел со стаканом в комнату, Балашов сидел в прежней позе в кресле и обмахивался газетой. Воду пил долго, со вкусом, обдумывая, как бы забрать у Крота пистолет. Потом встал. — Ну, договорились, Геночка. Теперь сиди и жди открытки. Должна быть скоро. — Посижу. — Кстати, давай я заберу пушку. Ненароком Лизка наткнуться может, пойдут вопросы — зачем да почему. — А вы не бойтесь, не наткнется. Я ее теперь все время при себе ношу, — и он похлопал себя по заднему карману брюк.Гвоздь не от той стены
Тихонов стряхнул с плаща дождевые капли и небрежно бросил его на стул. Усаживаясь на край своего стола, спросил Сергея: — Можете дать новые показания по делу подпольного концерна «Джага энд Ко»? — Судя по выражению лица, ты такими показаниями тоже похвастаться не можешь, — хитро прищурился Приходько. — Не говори уж, отец. Давно я так сильно не загорал. — А все-таки? — А все-таки? — задумчиво переспросил Тихонов. Потом грустно усмехнулся: — Если бы твоя тощая грудь была закована не в мундир, а в жилет, я бы, ей-богу, оросил его своими слезами… Они ходили по тонкому льду шуток, подначивали друг друга, ехидничали, и Приходько видел, что Тихонов ужасно устал за эти дни. — Если понадобится что-нибудь из дефицитной часовой фурнитуры, прошу ко мне, — сказал Тихонов. — Дружу с широким коллективом мелких спекулянтов. — Среди них хромых нет случайно? — Нет. Но мне кажется, что нашего Хромого там ни случайно, ни нарочно не найдешь. — Это почему? — А вот почему. Я же ведь не только знакомился там со спекулянтами. Я еще много беседовал с ними потом. Прямо жутко, аж скулы болят. Все это мелочь, бакланы. По штучке торгуют — украл, купил, перепродал. Но состав у них очень ровный: пьянчужки жалкие какие-то. И откуда они у нас только берутся? Прямо как василиски из заброшенных колодцев. Я уверен, что никто из них такой операции — украсть и перепродать большую партию деталей — не может. Да там о таких количествах и слыхом не слыхали. И я убежден, что эта линия — вообще гвоздь не от той стены. Эту версию, считай, мы уже отработали. — Ну, а Джага как себя проявляет? Ты ведь собирался глаз с него не спускать. — А как же! Бдим неукоснительно… денно и нощно… Я даже дневничок на него завел, — Тихонов приподнял со стула мокрый плащ, встряхнул его и извлек из бокового кармана записную книжку. — Можешь полюбоваться на моего подшефного. Сергей раскрыл дневник.«Вторник, 7 час. 30 мин. М. вышел из дому и приб. на раб. В 15 час. 30 мин. вышел с завода. На площ. Белорус. вокзала у нов. метро встретился с двумя неизв. мужч., с котор. приобрел в угловом «Гастр.» бутылку водки и тут же, около газировщицы, распил водку, после чего пошел на Б. Грузин. ул. Во дворе своего дома около 30 мин. играл в домино с соседями, потом вчетвером купили одну бут. водки и четвертинку, распили. В 18 час. М. ушел к себе домой и больше на улицу не выходил».
«Среда. 7 час. 30 мин. М. из дому напр, на завод. После работы выпивал на троих в угловом «Гастр.», потом играл в домино… и т. д.»
«Четверг…»
«…потом играл в домино…»— Да-а, прямо скажем, насыщенно живет наш клиент, позавидуешь, — Приходько улыбнулся и покачал головой. — А какой поток информации о его связях! Каждый день новые люди из числа случайных собутыльников, и, как на грех, ни одного хромого… И все-таки, Стас, ты его из поля зрения не выпускай…
Думай, голова, картуз куплю
К вечеру снова пошел дождь. Щетки на лобовом стекле неутомимо сметали брызги, но, покуда они делали следующий взмах, вода опять заливала стекло. Негромко мурлыкал приемник. Балашов покосился на Джагу: — Спишь, что ли? — Да что вы, Виктор Михалыч! Думаю. — Думай, думай, голова, картуз куплю. Если придумаешь что-нибудь толковое. — В том-то и закавыка, что ничего толкового в голову не приходит. Балашов добро улыбнулся: — В такую голову — и ничего не приходит! Поверить трудно. — Да вы не смейтесь, Виктор Михалыч, там сейчас действительно пылинку не пронесешь. После собрания этого вахтеры прямо озверели. «Нашу, — говорят, — профессиональную честь задели!» Вот дурачье, какая у них там профессия! — У тебя зато богатая профессия. Без меня, наверное, ходил бы и побирался. Если уж такая у них плевая профессия, ты вот придумай, как их обмануть. — Да разве в них дело-то, Виктор Михалыч? — А в ком? В дяде? — Так в том-то и дело, что после собрания весь народ на заводе взбаламутился. Контроль этот самый, народный, организовали. Учет ввели по операциям. Потом борьба там у них за отличное качество, так смена у смены не только по количеству, но и по кондиции детали принимает. Прямо беда! Близко подойти боязно! — Ты, Джага, с точки зрения Советской власти, явление, увы, не только вредное, но и редкое. Весь твой завод на вахте стоит, а для тебя беда! — Смеетесь? — Уж куда серьезней! — Чего же вы тогда себе на подхват ударника ком-труда не приспособите? Раз уж я такое вредное явление? — Так это ты для Советской власти вредное явление, а для меня — ничего. Ленив только очень. И трусоват. — А кому в тюрьму охота садиться? Вы-то там не были, а я тюремной баланды да рыбкиного супа нахлебался за милую душу. Вон все зубы от цинги выпали, — показал Джага два ряда металлических зубов. — Мне-то хоть не ври. Я же не иностранный корреспондент — на такую дешевку не клюю. Зубы ты не от цинги и не в тюрьме потерял, а вышибли их тебе разом по пьянке у Хрюни-скокаря. — А откуда вы знаете? — изумился Джага. — Раз говорю, значит знаю. Так ведь дело было, а? — засмеялся Балашов. Джага хитро улыбнулся, провел пятерней по лысине: — Не в этом дело, Виктор Михалыч, вот со стеклами как быть? — Это я у тебя хотел узнать, дружище… — А никак нельзя спихнуть эту партию без стекол? — Ты что, милый, обалдел? — Почему? Предложим вместо стекол такую же партию циферблатов — у нас же лишек есть. Не все ли равно этим барыгам, чем торговать? — Ох, Джага, дикий ты человек все-таки! В паспорте часов «Столица» написано черным по белому на русском и английском языках: «Противоударные, пыле-влагонепроницаемые, антимагнитные». Ты как полагаешь, сохранят они все эти свойства без стекол? Или, может быть, не совсем? — А нам-то какое дело? — Я тебя уже призывал беречь честь твоей заводской марки! И объяснял, что мне нужен полный комплект деталей к «Столице» по каталогу. А зачем, это ты верно заметил, — не твое дело. — Ну, не мое так не мое. Думайте тогда сами. — Не груби мне, старый нахал. — Я и не грублю. Не знаю я, где стекла взять. — А племянница твоя, Зинка Кондратьева? — Что вы, Виктор Михалыч, она и говорить со мной сейчас боится! Как вынесли тогда корпуса — конец! Заикнулся я было, а она — в рев. «Впутал, — говорит, — меня в грязные дела, посадят вас всех и меня заодно. Не подходи ко мне больше». Вот те на! «Скажи спасибо, — говорит, — что меня замарал до ушей, а то бы пошла в милицию, первая на тебя заявила». — Да-а, интересные дела, — присвистнул Балашов. — Ты ей мои деньги все передал? — А как же? — Что-то я уверенности в твоем голосе не слышу. Ну-ка посмотри мне в глаза! — стеганул хлыстом голос Балашова. — Ты что юлишь? Неужто ты надул меня, свинья? — Виктор Михалыч, кормилец, без вины я, как бог свят! Все отдал… Из-за поворота вынырнул самосвал, ослепив их палящими столбами дальнего света. Это спасло Джагу. Балашов вперился вперед, в мутную сетку дождя, просвеченную огнями фар. За эти мгновенья Джага успел прийти в себя, забормотал обиженным голосом: — Зря землите меня, Виктор Михалыч! Вы же знаете, как я ценю вашу доброту. Через вас, можно сказать, жизнь увидел, так нешто я позволю себе вас обманывать… — Смотри, гад, узнаю, что деньги Зинке не отдал, тогда пощады не жди. Джага подумал: «Хе-хе, узнаешь! Ты Зинку и в глаза не видел. А деньги все-таки надо перепрятать. С него станется, придет домой, все обыщет. А если она, дура, денег не берет, решила в честные податься, что ж мне, деньги ему назад нести? Мне они тоже лишними не будут». И в это время его вдруг осенило: «Ой-ой-ой! Деньги сами в руки прут! Пресс же стекольный старый списали недавно, вчера на задний двор выбросили! Если его с металлоломом вывезти? А пуансоны в цехе взять можно!» — Виктор Михалыч! — Что тебе? — А если мы сами отштампуем стекла? — Чем? Может, башкой твоей лысой? — Зачем башкой? Башка еще нам понадобится. Я лучше придумал. — Давай излагай. Может быть, действительно понадобится. — У одного моего знакомого есть пресс для штамповки стекол. А пуансоны я достану. Пресс небольшой, как настольная швейная машинка. И работает негромко. Установим у вас на даче и за несколько дней я вам все недостающие стеклышки отштампую. Сырье-то у нас есть. — Слушай, видать, что башка твоя еще действительно понадобится. Только варит она уж больно медленно. О чем раньше-то думал? — Вспоминал все, как найти его. — Вспомнил? — Вроде вспомнил. — А сколько он хочет за пресс? Джага почувствовал подвох и развел руками. — Так кто его знает? Он же тогда и не думал продавать. Но, думаю, сотни за три я его уговорю. Балашов прищурился. — Двести за глаза хватит. Договаривайся. Но смотри: к концу недели чтобы пресс с пуансонами был на даче. Усек? — Постараюсь… — Вот сюда прямо его и привезешь. «Волга» въехала в ворота дачи. Отворилась дверь веранды, и в освещенном проеме появилась женская фигура. Прикрывая голову зонтом, Алла помахала рукой. — Быстрее, ужин стынет!.. Через несколько дней из ворот часового завода выехала трехтонка, груженная металлоломом. Агент показал вахтеру пропуск: «На базу вторчермета». В кузове сидел Джага, изъявивший вдруг желание подработать на сверхурочных…Куда уходят поезда метро!
Тихонов и Приходько уселись на мраморную скамейку в конце платформы. Из черного жерла туннеля дул влажный прохладный ветер, чуть пахнущий резиной. Где-то, в самой утробной глубине, еще слабо светились красные концевые огни поезда, с ревом унесшегося мгновение назад. Сергей достал из кармана пачку сигарет, ловко подбросил одну пальцем и, когда она описала высокую дугу, поймал губами. — Здесь нельзя курить, — сказал Тихонов. — Метро, техника безопасности, сам понимаешь. — Жаль, сейчас бы на холодке самый раз, — усмехнулся Сергей. Он погремел коробком спичек и положил его обратно в карман. Потом серьезно спросил: — Стас, ты никогда не думал, куда уходят поезда метро на конечных станциях? — Куда? В депо, наверное, — пожал плечами Тихонов. — Наверное. Я еще когда совсем маленьким был, ужасно интересовался этим вопросом. Забавно было бы посмотреть, где они там ночуют, как разворачиваются. Мальчишкой я раз пять пытался туда проскочить — не выходил из вагона. Дежурные всегда засекали. Так и не посмотрел, жалко. — В тебе еще не завершилась мутация. Детство в одном месте играет. — Эк ты, брат, научно выражаешься. Тебя бы в лекторы-популяризаторы. — Это я у своего шефа нахватался. Любит он иногда важное словечко завернуть. Обратно же, не зря университеты кончали. Латынь даже учили. И вообще, сколько экзаменов сдавали — жуть вспомнить. Помнишь старика Перетерского: «Английский король сидит на троне, получает жалованье и занимается боксом». — Приличное, видимо, жалованье у короля. — Король умер. Там королева давно. — Знаю. Жалованье-то, наверное, меньше не стало. — А ты, Сергей, деньги любишь? — Деньги? — задумался Сергей. — Наверное, люблю. Пристраститься, правда, не успел — ни разу у меня их в избытке не было. Я вот сейчас вспомнил, как был в комнате Коржаева после его убийства. Поверишь, мне старика даже жалко стало — нищета прямо самая настоящая. А потом, когда открыл его тайник, — ахнул! Представь себе в одном сундуке всю свою зарплату и пенсию до самой смерти. И все у такого нищенького, сирого старика. — Ладно. Оставим эти приятные воспоминания до следующего раза. Условный перекур закончен. Как мы дальше этих хромых вылавливать будем, не думал еще? — спросил Тихонов. — Думал. Есть предложение. Большинство работающих на заводе — женщины. Отбрасываем их сразу, потому что все-таки, мне кажется, Коржаев имел в виду хромого мужчину. Завод работает в две смены. Пересменка — в четыре часа. Без четверти мы с тобою сядем в обеих проходных и отсчитаем всех работников завода, которые, как отмечалось, в балете уже танцевать не могут. Годится? — Отпадает. — Это почему? — Технически затруднительно: надо будет отдельно выяснять потом фамилии, — это раз. А во-вторых, люди обязательно обратят внимание на двух новых моложавых вахтеров интеллигентного вида. — Переоцениваешь, — засмеялся Приходько. — Кого? Воров? — Свою интеллигентность. — Я имел в виду тебя. — Ну, спасибо, отец. — Не стоит.Предлагаю встречный план. С твоей интеллигентной внешностью ты не вызовешь ни малейших подозрений в качестве врача-общественника из гор-здравотдела. Я могу претендовать на должность мед-брата или, если позволишь, на какого-нибудь фельдшера. Вот в этом качестве мы сейчас придем в санчасть завода и проведем обследование медицинских карточек. Отберем, стараясь не привлекать особого внимания, сначала карточки мужчин, а из них выберем хромых. Годится? — Принято. Ты это Колумбово яйцо долго вынашивал? — Прямо на этой лавочке… Они вышли из метро к вокзалу и, повернув налево, через путепровод пошли к заводу.Мужчины с дефектом!
«Оперативным путем установлено, что на московских часовых предприятиях, в ремонтных мастерских, в магазинах, торгующих часами, — занято 96 человек, имеющих те или иные дефекты ног, вызывающие хромоту…»Приходько встряхнул авторучку и сказал: — Давайте, Борис Иваныч, еще раз пройдемся по кандидатам. Шадрин чинил лезвием цветные карандаши. Перед ним лежал длинный, аккуратно разграфленный список. Около фамилий были проставлены разноцветные значки: крестики, кружки, зеты и бесконечные прочерки. Шадрин сдул со стекла красную грифельную пыль. Итак, на заводе — пятеро хромых… Водолазов — мастер механического цеха. Бобков — слесарь. Никонов — кочегар котельной. Сальников — сборщик главного конвейера. Вахтер Никитин. Трое из них явно не подходили на роль сообщника Джаги. Водолазов был заводской общественник, инвалид Отечественной войны, депутат райсовета. Кочегар Никонов независимо от своих личных качеств совершенно не имел доступа в производственные помещения. Сборщик Сальников стал инвалидом совсем недавно, попав под трамвай. Естественно, что Коржаев не мог его знать под кличкой «Хромой». Остались двое — Бобков и Никитин. В тот же вечер Тихонов «принес» хромых часовщиков из ремонтных мастерских: часовых мастеров Сеглина и Шаронова, и заведующего мастерской № 86 Бродянского. — …Товарищ Бобков, извините за беспокойство. Всего вам наилучшего!.. — …Вот видите, товарищ Никитин, мы у вас и отняли-то всего полчаса. До свиданья… — …Итак, товарищ Сеглин, вы в полном объеме удовлетворили мой любительский интерес. До новых встреч, большое спасибо… — …Давайте, товарищ Шаронов, ваш пропуск, я подпишу его на выход. Если сломаются часы, ремонтировать их приду только к вам… Приходько устало плюхнулся на стул и забарабанил карандашом по столу. Эти четверо ни с одного боку к делу не пришиты. Сколько сил зря потрачено! Было бы интересно иметь какой-нибудь счетчик умственной энергии. К концу дня взглянул: ага, потрачено 20 тысяч мыслесекунд. Пора отдыхать! И в постель. А в общем, это ни к чему. Обязательно какой-нибудь Архимед придумал бы для него делитель, чтобы он отсчитывал мысли через косинус фи — только полезную нагрузку. Он тебе, глядишь, насчитал бы за сегодня ноль целых, ноль десятых. Так бы от досады и выпивать начал. Короче, одна надежда на Тихонова — может, он из этого Бродянского что-то толковое выудит.
Что за человек есть!
А у Тихонова, похоже, прорисовывалось кое-что интересное. Он сидел в тесной конторке 86-й мастерской, просунув меж столов длинные ноги в невероятно острых мокасинах. Вокруг суетились, а Тихонов, листая журналы, спокойно дожидался прихода заведующего Бродянского. Иногда он что-то негромко насвистывал и широко улыбался. А в кармане у него лежал аккуратно сложенный вчетверо акт планового снятия остатков, которое закончилось в мастерской вчера. И написано было в нем, что ревизор обнаружил излишек часовых деталей ни много ни мало — на 360 рублей. А излишек — это ЧП. Если он не является результатом бухгалтерской ошибки, то это либо обман клиентов, либо мастерская получает товар без документов, «левый», как его между собой называют дельцы. Бродянский пришел около четырех. Когда Тихонов, встав ему навстречу, сказал, что он из УБХСС, лицо Бродянского как-то болезненно сморщилось: — Ну, что же, я ждал, что вы придете. Сильно припадая на левую ногу, он провел Тихонова в свой крошечный кабинетик и показал на стул рядом со своим столом: — Прошу вас. Тихонов внимательно разглядывал Бродянского. Это был немолодой уже человек, с очень бледным, болезненным лицом. В глазах его, больших и растерянных, Тихонов уловил страх. Худые длинные пальцы Бродянского нервно комкали какие-то бумажки на столе. — Мне надо допросить вас по уголовному делу, — начал Тихонов. — А что, уже есть уголовное дело? Так быстро? — пролепетал Бродянский. Тихонов понял, что Бродянский имеет в виду обнаруженные у него излишки, иначе вряд ли он задал бы такой прямой вопрос. Однако это следовало проверить. Тихонов негромко сказал: — Вы мне расскажите, пожалуйста, абсолютно все, что вам известно по делу… Бродянский ненадолго задумался, потер лоб и вдруг заторопился: — Я не знаю, собственно, что и рассказывать-то. У меня ведь такой случай впервые в жизни! Излишки, да еще на три с гаком тыщи, по-старому — уму непостижимо! Честно, откровенно, говоря, если бы на эти деньги у нас «дырка» открылась — ну, недостача, по-нашему, — я бы в сто раз меньше удивился. С недостачей все может быть: и ученики товар поломали, и в квитанцию клиенту недописали, в худшем случае, может, кто из мастеров присвоил, хотя такого у нас никогда не было. Однако все может случиться! А излишки — это, извиняюсь, уму непостижимо! Вы меня спросите — почему? А я вам отвечу — потому. Потому, что недостачу мне в мастерской любая мышка может сделать: хочешь — мастер, хочешь — уборщица, хотя упаси бог на них подумать! А излишек, извиняюсь, я только сам себе могу сделать, шахер-махер всякий! «Четко формулирует, — размышлял Тихонов, внимательно глядя в глаза Бродянскому. — И не путает, не прячется, на себя все оттягивает. А ведь лазейки есть, и он их не хуже меня знает. Значит, что-то не то с излишками этими…» А Бродянский горячо продолжал: — Я от себя вину не отвожу, мне мой борщ чужая тетя с улицы не пересолила! Но только где я ошибся, на чем — ей-богу, пока не знаю, хоть из пушки в меня стреляйте, извиняюсь! …Договорившись с Бродянским о том, что он еще раз внимательно проверит всю документацию вместе с вызванной из отпуска бухгалтером Васильевой, Тихонов поехал на Петровку. Шадрин слушал с большим интересом. Подвел итоги: — Бродянский испуган, расстроен, явно боится следствия. Однако меня смущает, что все его страхи сконцентрированы вокруг этих несчастных излишков. Ни о чем другом он и не думает. Ну что ж, завтра еще раз проанализируем его бухгалтерию. Надо посмотреть, что именно из товара у него лишнее, а там уж будем решать окончательно… В этот момент зазвонил телефон. — Бюро пропусков, Борис Иваныч. Тут двое спрашивают Тихонова. Он не у вас? — У меня. А кто там, Анечка? — Бродянский и Васильева. Пропустить? — А кто эта Васильева? Спросите у них. — Из бухгалтерии, говорит. — Хорошо, выдайте им пропуска. — Твои, — сказал Шадрин. — Не иначе как новости в клювах несут, если с такой спешностью. Посетители действительно принесли новости. Волнуясь и поминутно вытирая слезы, Васильева, молоденькая, симпатичная женщина, торопливо говорила: — Вы понимаете, товарищи, убить меня мало, ведь это я во всем виновата, Михаил Семеныча под такой удар поставила, он волнуется, переживает… — Минуточку, успокойтесь и давайте по порядку… — Я и говорю по порядку! — с этими словами Васильева открыла сумочку и вытащила из нее какой-то измятый, обтрепавшийся по краям документ. Шадрин взял его и увидел, что это накладная на получение мастерской номер восемьдесят шесть от гарантийной мастерской часового завода в счет фонда третьего квартала различных часовых деталей и инструмента на сумму триста шестьдесят два рубля одиннадцать копеек. — Посмотри, как ларчик открывается, — протянул Шадрин накладную Тихонову. Из дальнейшего сбивчивого рассказа Васильевой они поняли, что в конце прошлого месяца она получила в гарантийной мастерской различную фурнитуру. Но Васильева так торопилась в отпуск, что не сдала в бухгалтерию накладную. Из-за этого полученный по накладной товар оказался как бы излишним… Отпустив Бродянского, Тихонов записывал показания Васильевой. Время от времени он задавал ей короткие точные вопросы: когда она получила товар, какой именно, по каким основаниям, кто выдавал. Васильева с неожиданной злостью сказала: — Кто, кто! Конечно, сам заведующий, черт колченогий! Из-за него все и случилось. Мне ведь на поезд шестичасовой надо было, а он вечно волынит, каждую пружинку своими руками считает! Вот и задержал меня до пяти часов. Я в сумку накладную сунула, сажусь с Васей, шофером, в машину, поехали. Когда мимо метро проезжали, я подумала: опоздаю на поезд! «Знаешь, — говорю Васе, — отвези ты это хозяйство сам, а я там после распишусь». Ну и выскочила из машины, а накладная в сумочке осталась. Сегодня утром ко мне от главбуха приехали, тут я про нее и вспомнила. А то совсем из головы вон. Что мне теперь за это будет? — Премию, надо полагать, дадут, — хмуро сказал Тихонов. Потом добавил: — А вообще-то нехорошо пожилого человека колченогим обзывать! — Да он и не пожилой вовсе, заведующий-то, да и зло меня взяло, хромал там целый день по подсобке, как черепаха, из-за этого и неприятность вся вышла!.. …Тихонову показалось, что уши у него растут, вытягиваясь, как у овчарки…— Нехорошо, Сергей получилось, — сказал Тихонов полчаса спустя. — Хвастались все: такую сетку соорудили, такую сетку! Ею и в аквариуме немного наловишь! Как же так получилось, что Балашов под нашу сетку поднырнул? — Как, как! — Приходько чувствовал, что здесь они здорово промазали, и от этого ершился. — Мы ведь инвалидов по медкарточкам санчасти выявляли, а гарантийные мастерские обслуживаются, оказывается, районными поликлиниками. Вот и причина вся. Ну, уж теперь допроверим все досконально. — Хорошо. Значит, заведующим гарантийной мастерской по нашей «анкете» интересуемся. Что за человек есть?
А вы у таксиста спросите!
Возвращаясь с обеда, Приходько и Тихонов еще в коридоре услышали телефонный звонок за дверью своей комнаты. Приходько торопливо повернул ключ в замке и подбежал к столу. — Да, да, есть такой, пожалуйста, — он протянул трубку Стасу и сказал: — На. Тебя какая-то женщина спрашивает. Стас удивленно поднял брови. — Тихонов слушает. — Здравствуй, Тихонов. Это тебе Захарова телефонит. — А-а, Нина Павловна! День добрый. — Чего же это ты мне нумер свой дал, а на месте не сидишь? — Дел много, вот и бегаю все время. Нас, как волков, ноги кормят. — Уж не знаю, чего вас там кормит, только я со вчерашнего дня тебе раз пять звонила. — А что, интересное что-нибудь есть? — Не знаю, может быть, тебе интересно, а может, нет. Ты и решай. Юрка вчера под вечер домой мешок какой-то принес, на кухне около своего столика в нишу запихал. Пока он обедал, я мешок потрогала — железки там какие-то. Тяжелые — поднять не смогла. Ну, пообедал, помылся, переоделся — и мешок на плечо. Я с балкона глядела — Юрка свистнул, остановил такси, погрузился — и пошел. Я давай тебе звонить — никто не отвечает. Вот только сейчас и дозвонилась. — Спасибо большое, Нина Павловна, за хлопоты, конечно, нам все это очень интересно. Жалко только, неизвестно, куда он с этим мешком делся… — А вы у таксиста спросите! — Да где ж мы его возьмем-то? — Так я номерок на случай записала: ММЛ 04–61… — Какая же вы умница, Нина Павловна! Большое спасибо вам! — Да брось ты! Если чего еще увижу, позвоню. Только ты больше на месте сиди. — Кстати, Нина Павловна, не заметили — таксист Юрке не знаком? — Не думаю… Машина посередке шла, Юрка свистнул и рукой замахал, только тогда таксист и повернул, круто так… — Ну, спасибо. Будьте здоровы… Приходько что-то сосредоточенно писал за своим столом. Сдерживая торжество, Тихонов сказал равнодушным голосом: — Могу сообщить номер такси, на котором Джага вчера увез какой-то тяжелый мешок с металлическими предметами. Приходько поднял голову: — Захарова звонила? — Да. Не исключено, что он увез ворованные корпуса и платины. — Очень возможно. — Хотя я и сомневаюсь, чтобы он стал их завозить домой даже ненадолго. Сейчас разыщу таксиста, может быть, их маршрут нам подскажет что-нибудь. Тихонов позвонил в таксомоторный парк: — Не поможете ли вы по номеру машины найти ее шофера? — Простите, а в чем дело? — Видите ли, я приезжий, в Москве первый раз. И вчера меня довольно долго возил очень вежливый, хороший водитель. Я только потом сообразил, что нужно его поблагодарить — хотел вам письмо написать, да забыл спросить фамилию. Только номер «Волги» запомнил — 04–61. Она, по-моему, такого серого цвета, что ли. — Нет, она не серого, а кофейного цвета. Вчера на ней работал Евгений Латышев. — Большое спасибо. А когда он будет снова работать на линии? Может быть, я завезу письмо сам, заодно и повидаю его. — Он работает во вторую смену. Значит — с четырех дня. Тихонов посмотрел на часы: половина четвертого. — Сережа, у меня к четырем вызваны люди. Придется тебе заняться с таксистом. — Давай займусь. Без десяти четыре Сергей устроился около телефонной будки в пятидесяти метрах от ворот таксомоторного парка. В три минуты пятого из ворот выехала кофейная «Волга» с номером 04–61. Приходько сошел с тротуара и проголосовал. Машина притормозила. Сергей хлопнул дверцей и сказал: — В центр. Молодой крепкий парень, сидевший за рулем, засмеялся: — Ну, быть мне сегодня с планом. Прямо около парка почин сделал. Приятная неожиданность. — Один мой знакомый говорит, что всякая случайность — это непознанная необходимость, — откликнулся Приходько. — Дело в том, что мы с вами, товарищ Латышев, не так уж неожиданно встретились. Я вас тут дожидался. Шофер удивленно посмотрел на него: — Меня-я? А откуда вы меня знаете? — Вот уж случилось так, что знаю. Моя фамилия Приходько, я с Петровки, тридцать восемь. Латышев недоуменно сказал: — Тут, наверное, недоразумение. Нарушений я не делал, правила все выполняю. За три года ни одной дырки в правах не имею… — Видите ли, Женя, я не сотрудник ОРУДа, как вы, похоже, полагаете. Я инспектор БХСС и поговорить хочу с вами вовсе не о нарушении правил движения, а как со свидетелем по уголовному делу… — Опять же ошибка! Я никакому уголовному делу свидетелем не был! — А вот этого вы можете и не знать! — засмеялся Приходько. — Попробуйте вспомнить до мелочей ваш вчерашний рабочий день и расскажите мне все подробно. Давайте вот здесь остановимся у тротуара и посидим, побеседуем. Латышев пропустил поток машин, аккуратно перестроился и встал напротив здания СЭВ. С минуту он что-то соображал, морща лоб, затем сказал: — Так. Вчера я днем начал работать с трех часов. Выехал из парка — на Дорогомиловской двух пассажирок взял до Кунцева, привез их в мебельный магазин. Просили подождать. Купили там торшер, и я отвез их на Бережковскую набережную, около ТЭЦ. Там минут пять покурил, старичок в машину сел, до университета. Потом… Кто же потом-то ехал? А, вспомнил! Мужчина в синем халате повез со мной бланки какие-то, пачек пять — на Маросейку, там во дворе разгрузились. После этого я на Дзержинской в автомате перекусил и с двумя иностранцами поехал на Белорусский вокзал. На стоянке там задерживаться не стал — машин полно было свободных, поехал к центру. На Грузинской опять пассажир попался — мужик такой здоровый, лысый, с мешком. «Поехали, — говорит, — в Жаворонки». Ну, в Жаворонки так в Жаворонки, туда по Минскому шоссе проехаться одно удовольствие, да и для плана такая ездка — подарок. Отвез его, вернулся в Москву, у Кутузовской женщину пожилую посадил, на Пресню ей надо было… — Так, так, — перебил памятливого Женю Приходько. — В общем, я вижу, память у вас отличная, профессиональная, так сказать… — Не жалуюсь, — зарумянился Латышев, — склерозом пока не страдаю. — Ну, а жаворонковского пассажира хорошо запомнили, с мешком который? — Нормально запомнил. Через недельку-другую, может, и забыл бы, народу все-таки много встречаем каждый день, а сейчас хорошо помню: мордастый такой, и вся челюсть железная. — А место, куда его привезли, помните? — Факт, помню. Пока разворачивался, он в калитку вошел. Я еще там на траве забуксовал немного. А вот улицы название, извините, не знаю, просто не посмотрел. Но это неважно, если потребуется, я тот дом сразу найду. — Пожалуй, потребуется, — весело сказал Приходько, легко переходя на «ты» с новым знакомым. — Не скрою, я от тебя, товарищ Латышев, много интересного узнал. А ты еще сомневался — «недоразумение». Сергей достал из кармана пачку фотографий, отсчитал пяток и протянул таксисту: — На, посмотри, нет здесь твоего пассажира с мешком? Латышев внимательно осмотрел их все, потом посмотрел еще раз и твердо сказал: — Нет, здесь его нет. Тогда Сергей дал ему еще три. — Вот же он! — искренне удивился таксист, возвращая фотографию Джаги. — Этот вчера и ездил в Жаворонки. — Женя, а что, если мы сейчас повторим твой вчерашний маршрут? Латышев почесал в затылке. — Эх, друг ты мой ситный, видать, я погорячился, когда насчет плана обрадовался. Сгорит он сегодня у меня синим пламенем… — Понимаешь, Женя, это очень важное дело. И самое главное, срочное. До завтра ждать нельзя — можем опоздать. А путевку я тебе отмечу — среднесдельная обеспечена. Шофер махнул рукой: — Эх, где наша не пропадала! Поехали, — он выключил счетчик и хитро подмигнул: — Смотри, если орудовцу попадемся, будешь меня выручать… Машина остановилась, не доезжая сотню метров до дачи, где вчера Латышев высадил Джагу. Они прошли калитку. Здесь на траве еще остались широкие рваные шрамы от буксующих колес. Неторопливо пошли дальше, вдоль забора. На участке, за воротами, стояла черная «Волга». В гамаке перед домом покачивалась молодая красивая женщина. Она разговаривала с кем-то не видимым с улицы, сидевшим на террасе. Так же не спеша они дошли до перекрестка. Сергей протянул Латышеву руку: — Большое тебе спасибо, Женя. От всего сердца. Ты сегодня сделал очень много для нас. Об одном тебя попрошу: ты насчет нашей поездки не распространяйся… Если ты еще понадобишься, мы тебе позвоним. — Понял, звони. А в город не подбросить тебя? — Нет, дорогой, тут у меня еще дела кое-какие есть. А ты и так горишь с планом. — И не говори. Ну, пока. Желаю удачи. — И тебе того же… Когда Приходько садился в вагон электрички, на платформу упали первые дождевые капли. От Одинцова, набирая силу, дождь бежал к Москве наперегонки с поездом. Стоя в тамбуре, Сергей смотрел на мокнущие под дождем деревья, разорванные клочья туч на горизонте. Все, что он узнал сегодня, сумбурно перемешалось в голове, и никак не мог он из этих сведений построить четкую логическую схему. В поселковом Совете ему сообщили, что дом номер девять по Майской улице принадлежит солидной пожилой женщине, пенсионерке Викторине Карловне Пальмовой. Когда-то она была учительницей музыки. Участок приобрела два года назад и в прошлом году выстроила новый дом… Красивая дамочка в гамаке явно не относится к людям пенсионного возраста… Приходько достал блокнот и записал: «Выяснить: 1) Кто живет на даче. 2) Кому принадлежит черная «Волга» номер МОИ 11–94. 3) Попробовать установить, что может связывать Вик. Кар. Пальм. с Джагой». Черт побери, какой же срочный и ценный груз привез Джага к ней в мешке, не пожалев денег на такси, когда он мог преспокойно за тридцать копеек доехать на электричке?Плох он совсем
Страх перестал быть чувством. Он превратился в какой-то живой орган, который, ни на секунду не замирая, жил в Кроте так же яростно и сильно, как сердце, легкие, печень. Даже во сне он не давал ему покоя, и это было особенно ужасно, потому что во сне Крот был перед ним совершенно беспомощен. Проснувшись ночью в поту, с трясущимися руками, Крот тихонько, чтоб не разбудить Лизку, вставал, шел на кухню и долго пил прямо из крана теплую, пахнущую железом воду. На балкон выйти боялся. Садился около открытой балконной двери прямо на пол и курил одну сигарету за другой, бросая окурки в раковину. Когда в подъезде раздавалось сонное гудение лифта, бесшумно скользил в комнату и вынимал из пиджака пистолет. Его холодное рукопожатие давало какую-то крошечную уверенность. Лифт проезжал, и Крот, прижимая пистолет к горячему влажному лицу, думал: «Глупости это все. Если за мной придут, разве пушка поможет? Уйду, допустим. А потом? Потом что будет?» Так проходили ночи. К утру, измученный, Крот засыпал. В этот день, проснувшись около двенадцати, Крот почувствовал: надо что-то предпринимать. Пока Гастролер появится, он тут от страха сдохнет. А все Балашов! Он, иуда, украл из пиджака паспорт — больше некому! И нигде Крот паспорта не терял, он его как зеницу ока берег. Надо сходить к Джаге — посоветоваться. Джага все-таки свой, не продаст. Сколько вместе натерпелись! Правда, Балашов запретил выходить на улицу, но Крот о себе как-нибудь уж сам позаботится. Ах, какая же сволочь этот Балашов! Еще рассчитывал взять его за горло… Да, его, пожалуй, возьмешь — скорее без рук останешься! Теперь уж не до жиру. Получить бы с него обещанный новый паспорт да хоть какую-нибудь долю — и бежать отсюда подальше… Время тянулось мучительно долго. Длинный пустой день. Крот решил идти вечером: во-первых, темно — труднее узнать, а во-вторых, он не знал, в какое время приходит с работы Джага. Вышел часов в девять. Где-то в Банковском переулке остановил такси, зашел в «Гастроном» и купил две бутылки коньяка «Кизляр». Когда ехали по улице Горького, Крот рассеянно посмотрел на оживленную гуляющую толпу и мрачно подумал: «Я как с другой планеты…» Мысль понравилась, и он, наслаждаясь своей «необычностью», раздумывал об этом до самого дома Джаги. Расплачиваясь с таксистом, неожиданно для самого себя спросил: — Слушай, отец, может, мне на другой планете было бы лучше? Шофер мельком взглянул на него и сказал: — Наверняка не скажу, но, вероятно, вряд ли. Неуживчивым нигде медом не намазано… Поднимаясь на второй этаж, Крот ругал себя за болтливость. Вдруг таксист его заприметил? Вот дурак же! Потом позвонил. Дверь открыл Джага. Удивленно закруглели глаза. Настороженно улыбаясь, показал два ряда металлических зубов: — Ты-ы? — Я. Не ждал? Ладно, прикрой варежку, хватит железом хвалиться! Может, в дом все-таки позовешь? — Конечно, заходи, заходи. Я один.В комнате было неопрятно, везде лежала пыль, по углам валялись какие-то тряпки. На столе возвышались пустая водочная бутылка, остатки закуски. Разведя руками, Джага сказал: — Вот к водочке ты опоздал, а закусить — пожалуйста, чем бог послал. Криво усмехнувшись, Крот поставил на стол бутылки с коньяком. — Ничего не попишешь, всю жизнь я попадаю в кино только на вторую серию. Джага радостно засуетился, забегал по комнате, ловко нося перед собой брюхо: — Сейчас мигом все соорудим по всем правилам. Крот брезгливо щелкнул пальцами: — Собери со стола эти помои. — Все сейчас сделаем, родной мой… Будет как в ресторане. Крот выбрал стул почище, уселся, положил ногу на ногу, закурил. — Ну что, Джага? Спекулируем помаленечку? Как говорится, даст бог день, даст бог тыщу? — Что ты, родной мой! Заработка за последнее время никакого. Копейки свободной нет. — Не в деньгах счастье, — весело сказал Крот. Джага удивленно посмотрел на него: — Ну, это ты брось. А в чем же еще? — В свободе духа, — засмеялся Крот. — Но этого тебе не понять. — Где уж, — согласился Джага. — В случае чего в тюрьму-то плоть мою заключат… — Уж прямо так и заключат? — остро сощурился Крот. — У нас же хозяин — умнейший человек, ты же сам говорил, а? Ведь не допустит? — Конечное дело, Виктор Михалыч — умнейшая голова, так ведь фарт, знаешь, иногда и от умных к дуракам бежит. — От него к нам не прибежит — это я тебе точно говорю. — А кто знает? — Джага вымыл в мисочке тарелки, расставил их на столе и внимательно посмотрел Кроту в глаза. Крот подумал: «Интересно, знает, что это я убрал старика в Одессе? Если знает, он со мной вместе играть против Балашова не станет. Ему такой подельщик не нужен». Взял бутылку и резко ударил ладонью в дно. Пробка вылетела, и золотистая жидкость плеснула на стол. Крот достал из верхнего кармана белый платок и протер край своего стакана. — Пей, родной, не брезгуй, — улыбнулся Джага. — От поганого не треснешь, от чистого не воскреснешь! — Не морочь мне голову, — поморщился Крот. — Послушай лучше, что я тебе скажу. Мы с тобой старые знакомые, и я тебе верю, что не продашь… А если продашь — ты меня знаешь… — Окстись, что ты мелешь, — обиженно пробурчал Джага. — Тогда давай выпьем. Выпили, закусили лимоном. Крот уселся поудобнее. — Хочу я тебе рассказать одну байку. А ты подумай, к чему она… Сидят на маленькой станции трое, пьют пиво и дожидаются поезда. У одного — документы, билет и деньги в кармане, у других — вошь на аркане и блоха на цепи. И вот первый, фраер, сидит философствует: «Ничего, ребята, я вот жду поезда, и вы ждите, может, вам удастся проехать зайцами под вагоном. Ничего страшного, мол, вы же бродяги». — Ну? — Чего, ну? — Проехали? — Проехали. Перед самым поездом пошли вместе в сортир, отняли у фраера билет и деньги, а его там заперли… — Ты, что ли, ехал? — Может, я, а может, не я. Неважно. Смекаешь? — Бродяги — это мы. Только Виктор Михалыч не фраер. Его в сортире не запрешь. Да и скажу тебе по-честному, нет мне резона с ним расставаться. Умнеющий человек! — А если он сам с тобой вдруг расстанется? Возьмет вот так, в одночасье, и рожей об забор… Джага выпил еще стакан, сморщился, махнул рукой: — Пускай его! Кое-какую денежку я себе сбил, независимость имею. Крот смерил его презрительным взглядом, с издевкой протянул: — Независимость! Бо-ольшой ты человек стал! Раньше вон какой был, — он показал рукой на уровне табуретки, — а теперь как поднялся! — и Крот приподнял ладонь сантиметров на пять. — Геночка, родной, ты меня с собой не равняй. Ты молодой, здоровый, девки тебя любят, тебе жить красиво охота, денег много надо. А мне зачем? На бабах я крест поставил. Старею… — Да ладно уж прибедняться! Деньги ему не нужны! Тоже мне Христос-бессребреник отыскался. Дал бы лучше чего-нибудь пожрать. — Ей-ей, кроме того, что на столе, ничего нет. Я же ведь, почитай, дома никогда не ем… Крот зло усмехнулся: — Что, только закусываешь? — Точно, точно, Геночка, — Джага выпил еще стакан и облизнулся красным, длинным, как у овчарки, языком. Крот посмотрел на него с отвращением. Встал, судорожно вздохнул: — Ох, тяжело, душа вспотела! — Ты пойди освежись, — ласково посоветовал Джага. — А то придешь домой на бровях, мадама твоя будет недовольна. — А ты и про нее знаешь? — неприязненно спросил Крот. — Знаю, Геночка, знаю. Как не знать? — Много ты, Джага, знаешь. Это иногда вредит. Смотри, по проволоке ходишь. — А что поделаешь, Геночка? Всю жизнь без сетки работаю, — и засмеялся неожиданно трезвым смехом. Крот сидел и чувствовал, что опьянел, что разговора не получилось, что Джага окончательно продался Балашову. И такая невыразимая тоска его душила, что Кроту хотелось заплакать. «Как я их ненавижу! Всеми фибрами души. Фибровая душа, фибровый чемодан. Не будь я таким болваном, подорвал бы тогда с чемоданом Коржаева! Были бы деньги, документы, и не было бы за мной мокрого дела, и этого непрерывного страха расстрела…» — Слушай, Джага, а ты не знаешь, как расстреливают? — равнодушно спросил Крот. — Бог миловал! Правда, мне один мазурик на пересылке рассказывал, что приговоренных к расстрелу держат в одиночке. А за два часа до казни зажигается в камере красный свет, и каждые пятнадцать минут бьет гонг… — Замолчи! Замолчи, гад! Джага вздрогнул и степенно сказал: — Что ты орешь, как марафонская труба! Не психуй, по нашим делам расстрел не полагается. Крот встал, взглянул в мутное зеркало. Увидел в своих глазах страх и тоску. Подумал: «Поеду-ка я в свою берлогу и надерусь до чертей. А завтра будет снова долгий пустой день, тупая тишина, тоска и страх — без конца», — он повернулся к Джаге, крикнул: — Как я вас всех ненавижу! — и выбежал из комнаты… Хлопнула входная дверь. Джага походил по комнате, поглядел в окно, допил прямо из бутылки остатки коньяка, потом вышел на улицу. На углу в телефонной будке набрал номер и, прикрывая трубку рукой, сказал: — Виктор Михалыч? Это я. Да-да. Крот у меня был сейчас. Плох он совсем.
Выстрел по последней клетке
В это утро Тихонов решил подвести баланс. Они взяли на себя большую ответственность, решив искать Хромого среди часовщиков. По всем тогдашним данным это был единственно правильный путь. А вдруг ошибка? Вдруг Хромой хоть и крупный спекулянт фурнитурой, но по роду своей повседневной деятельности не имеет никакого отношения к часовому производству или ремонту, как, например, Коржаев? Установить связь Хромого с Джагой не удалось, Крот-Костюк бесследно исчез. Кроме подозрительной поездки в Жаворонки, за Джагой ничего предосудительного замечено не было. Но преступная шайка существовала, и то, что в ней подвизались вместе и Джага, и Крот, и безвестный Хромой, — было несомненно. После того как Тихонов побывал у следователя прокуратуры Сахарова, который вел последнее дело Джаги, он окончательно убедился в том, что Джага в этом деле одна из последних фигур. Сахаров утверждал, что уже в то время, когда Крот с Джагой проходили по первому делу, Мосин был полностью в подчинении у Костюка. Сахаров рассказывал, что Мосин человек неумный, но хитрый и упрямый, как осел. Костюк умен и расчетлив. Выдержка у него отличная, и всей коммерческой частью их воровского предприятия он руководил самостоятельно. Джага попросту выполнял его поручения, и выполнял, как видно, безоговорочно. Но сейчас, судя по всему, и Крот здесь вовсе не первая фугура. Нет, нет, нет! Надо найти Хромого. Вот где ключ к этому делу. Хотя нельзя утверждать, что и Хромой здесь главный. Но от него-то уж, во всяком случае, можно оттолкнуться в решении всей этой шарады. Однако Хромого пока нет. Если сегодня Приходько не найдет ничего нового о Хромом, надо собраться с мужеством, отступить на исходные позиции и начать работу над новыми версиями, но уже глубже прорабатывая связи Джаги. Тихонов вспомнил, как в детстве играл в «морской бой». В ста клетках поля биты почти все «корабли» противника, но где-то затерялась одна клеточка — «подводная лодка», и без нее игру не выиграешь. Еще несколько неудачных «выстрелов» — и враг уйдет непобежденным. Но тогда была игра, а сейчас враг был настоящий, не ограниченный сотней клеток поля, и мог он уйти с добычей навсегда. По последней клетке выстрелил в этот день Приходько. — Ты понимаешь, Стас, — возбужденно рассказывал он. — Посмотрел я медкарточку заведующего гарантийной мастерской, там сказано, что он инвалид III группы, пенсионер. Ладно, думаю, погляжу его пенсионное дело. Приезжаю в собес, смотрю — батюшки родные! — в прошлом году Балашов этот семь месяцев подряд не являлся за пенсией! И получил ее только после напоминания из собеса… При этом — заметь себе — он тогда не работал, а про «единственный источник существования» забыл. И заработки у него всю жизнь скромные. Однако поговорил с людьми — оказывается, ездит Балашов на новенькой «Волге», летом в городе не живет; видно, дачка своя у него есть. Жена его не работает и не работала никогда… — А номер «Волги»? — спросил Тихонов. — Как же, МОИ 11–94, — усмехнулся Сергей. — Интересное кино… — сказал Тихонов, внимательно разглядывая выписку из пенсионного дела. Приходько сказал: — Но самое интересное, кажется, только сейчас начинается. Ну-ка, возьми мой рапорт о поездке в Жаворонки с таксистом Латышевым! — Взял. — А теперь посмотри справку поселкового Совета к этому рапорту. — Так. «Дом номер девять по Майской улице принадлежит гражданке Пальмовой Викторине Карловне». Пальмовой? Викторине… Постой! Ведь в выписке из пенсионного дела сказано, что мать Балашова — Пальмова Викторина Карловна?! Неужели нашли? — сказал Тихонов. — Если сопоставить еще с тем, что вчера вечером я видел на даче Викторины Карловны «Волгу» с номером МОИ 11–94, то похоже, что мы произвели сбойку наших туннелей точно. — Это уж факт! Но понимаешь ли ты, дерево бесчувственное, что мы вышли не просто на хромого мужчину, а на Хромого, которого ищем?! — Догадываюсь, — невозмутимо кивнул Приходько. — Нет, от тебя помереть можно! Ведь теперь ясно, к кому на Майскую, девять прибыл Джага! Ой-ой-ой, старик, как мы теперь развернемся! — Развернемся на всю катушку! — не выдержав, захохотал Сергей. — Правда, предстоит еще кое-какая работенка: пока ребята в Одессе разбираются с убийством Коржаева, нам надо раскрыть здесь всю шайку. — Похоже, что мы вышли на финишную прямую, — поднялся Тихонов. — Для начала мастерскую его пропусти через мелкое сито. Без лишнего шума, конечно. Во-вторых, надо сделать так, чтобы с сегодняшнего, самое позднее — с завтрашнего дня Балашов шага не ступил без нашего ведома, особенно в нерабочее время. Мне сдается, что он свое трудолюбие главным образом в это самое время и проявляет…Бухгалтерская симфония
Использовав недоразумение с мастерской Бродянского, Приходько договорился с директором часового завода о проведении плановой инвентаризации в гарантийной мастерской. — Результаты мы можем вам представить в двух вариантах, — сказал ревизор-инвентаризатор, энергичный молодой человек с университетским значком. — В суммовом выражении это будет гораздо быстрее. Либо по позициям товаров — это нас недельки на полторы задержит… — Сделайте, как быстрее, — с легкомысленным видом ответил Приходько. — Нам, знаете ли, поскорей в восемьдесят шестой мастерской закончить надо, а без вашего акта это невозможно… Про себя Приходько подумал, что вовсе незачем афишировать свою глубокую заинтересованность делами Балашова. «Пусть они считают, что мы выполняем пустую формальность, — размышлял Приходько. — А уж сличительную ведомость по позициям товаров мы и сами быстренько сделаем, если у нас будут результаты инвентаризации…» Порядок в мастерской Балашова был отличный, и поэтому уже через два дня работники центральной бухгалтерии вручили Приходько инвентаризационную ведомость. «Полный ажур», — гласил вывод ревизоров. Действительно, по общей сумме расход часовой фурнитуры в мастерской копейка в копейку совпадал с его приходом. — Ну и прелестно! — говорил Приходько, рассаживая в просторном кабинете группу опытных ревизоров. — А теперь мы над этой цифирью самостоятельно поколдуем. Посмотрим сейчас, что за этими умилительными суммами скрывается! Он отлично знал, что анализ «суммового благополучия» зачастую приводил следствие к ошеломляющим результатам, когда за стройными колонками равнодушных цифр открывались волнующие картины… «Ну, какая разница, — иронически говорил в таких случаях Приходько, — то ли один тигр, то ли сотня кошек?! Ведь стоимость-то у них одна, и все мяукают…» — Вот вы все шутить изволите, — сказал однажды Сергею матерый жулик, директор промтоварной базы, — а ведь и верно, какая разница? Ну, девчонки-кладовщицы не так товар записали. Ведь государство-то на этом не пострадало, всю выручку до копейки получило… — Оно вроде бы и так, милейший Алексей Иваныч, — весело возразил Приходько, — только чем объяснить, что в наличии у вас все лежалый товарец больше, а не хватает ходового, дефицитного? Например, ватников на четыре тысячи рублей больше, чем должно быть, а кофточек шерстяных на ту же сумму не хватает? Директор базы недоуменно пожал плечами: — Действительно, откуда бы? — А вы не смущайтесь, Алексей Иваныч, я вам эту загадочку помогу подразгадать… Ватники-то вы со швейной фабрики у заворуя Шуры Терехова за треть цены взяли, без документиков, слева, так сказать. А кофточки шерстяные спекулянтам через подсобку сбыли с наценочкой, в одну неделю. Товару на базе было на сто тысяч и осталось на сто тысяч, а вам двойной дивиденд — и суммовой ажур, и растратчиком никто не назовет! И мы вас, — жестко закончил Приходько, — не назовем растратчиком. Есть такое слово «расхититель». Хищник, просто, по-русски говоря… Приходько отключился от всех оперативных дел. С утра он вместе с ревизорами раскладывал ведомости на столе, вынимал из шкафа арифмометр и счеты — и начиналось! Вычитали, перемножали, складывали. Сергей что-то записывал, вычеркивал, линовал для себя какие-то листы, заполняя их постепенно колонками цифр. Приходили ребята из отдела, здесь же на плитке кипятили чай, подшучивали. Тихонов серьезно спрашивал: — Сереж, а у тебя пистолет вообще-то есть? Может, ты в кобуре под пиджаком арифмометр носишь? Сергей лениво лягался: — Хорошо, что у меня хоть такое оружие есть. Жаль, нам по форме кортики не полагаются, а то бы ты язык мог в ножнах носить. — Нет, Серега, ну, серьезно, какой из тебя оперативник? Тебе бы в бухгалтеры-ревизоры, незаменимый был бы ты человек. — Это мы еще посмотрим, кто из нас нужнее как оперативник… — Да тут и смотреть нечего. Приемов самбо не знаешь, пистолет, сам признавался, в сейфе у Шадрина держишь. — Отстань, пустомеля! Ну, зачем мне пистолет? Я жуликов из арифмометра лучше, чем ты из автомата, отработаю. — А если тебе серьезного жулика брать придется, то как? Тоже с арифмометром? — Для нашего серьезного жулика арифмометр страшнее пистолета! И снова шутили. Но все знали, что Приходько делает сейчас главное. И Приходько считал. Считал днем, вечером. Стихали шаги и разговоры в бесконечных коридорах управления. Звякал арифмометр, носились, гремя, как кастаньеты, костяшки счетов. Приходько шевелил губами, считал, считал… — Великая вещь — бухгалтерия, — самодовольно сказал Приходько, входя через несколько дней вместе с Тихоновым в кабинет Шадрина. В руках у него было несколько вкривь и вкось исписанных, испещренных цифрами листов бумаги. — Посмотрите, Борис Иваныч, это черновик сличительной ведомости по мастерской Балашова. Намазано тут, правда, но результат достоверный, трижды проверили… Обычная выдержка изменила Шадрину. — Не томи душу! Какие результаты? — быстро спросил он. — Результаты? — улыбнулся Приходько. — Результаты… Результаты — они вот какие: только за последние три месяца набрался у гражданина Балашова излишек разных деталей на четыре тысячи семьсот восемьдесят девять рублей! — Ничего поднакопил! — гордо сказал Тихонов. — Но это еще не все, — продолжал Приходько. — На эту же сумму у него других деталей не хватает… — К каким маркам часов не хватает? — напряженно спросил Шадрин. — Однообразная картина, — хитро прикрыв один глаз, тихо ответил Приходько. — Все недостающие детали предназначены для «Столицы»!Детям нужен свежий воздух
Электричка протяжно заревела, звякнула во всех своих металлических суставах, поехала. Немногочисленные пассажиры быстро растеклись по платформе, и под большим белым трафаретом с надписью «Жаворонки» остались двое: молодая женщина с курносой девчушкой лет восьми. Женщина крепко держала девочку за руку, а та все время старалась заглянуть ей в глаза: — Мам, ну скажи, за что? — Подожди, егоза, дай посмотреть хоть, куда нам идти надо. Вот сюда, по-видимому, направо. Они спустились с платформы, перешли пути и пошли по узкому шоссе в сторону дачного поселка, начинавшегося сразу же за полем в небольшом лесочке. — Мам, а мам! Ну, скажи, за что? Женщина смеялась: — А ты угадай сама. — За пятерки? Да? За то, что помогаю? Да? За то, что сама пришила воротничок к форме? Женщина сделала серьезное лицо. — Вот если догонишь, тогда скажу, — и она вдруг побежала по шоссе. На ходу она сбросила кофточку и осталась в пестром сарафане из модного набивного сатина. Девчушка на минуту растерялась, а потом кинулась за матерью. Скоро она догнала ее, и они побежали вдвоем, взявшись за руки. У леска мать остановилась. — Давай приведем себя в порядок, а то таких растреп никто к себе не впустит. Ты похожа на клоуна. — А ты на матрешку! Черные вьющиеся волосы девчушки, собранные с трудом в две косицы, теперь выбились из бантиков и приклеились потными колечками ко лбу. Мать причесала девочку. Потом собрала в аккуратный узел на затылке свои густые русые волосы, и они отправились дальше. — Ну, мам, — не унималась девочка, — ведь говорила же сама, что поеду в лагерь. Говорила? А теперь сама отпуск взяла, да со мной на дачу. Ты что, меня нарочно так разыграла? Да? За то, что я себя хорошо веду? — За то, что не просила на станции мороженое, а то опять бы простудила горлышко и отпуск не удался бы. — Да я готова его никогда не есть! Я даже не люблю его вовсе! — тараторила без умолку девочка. По левую сторону улицы начались дачи. Женщина рассматривала их, читала объявления на заборах. — Мам, а где будет наша дача? — Сейчас поищем. Нам ведь с тобой одна комнатка нужна. — Мам, и два дерева, где гамак повесить. Папа тебе написал ведь, чтоб мне гамак в подарок купила, а он еще качели привезет. Навстречу им пожилая женщина неторопливо толкала детскую коляску, читая на ходу толстую книгу. — Бабушка, а где сдается только одна комната и два дерева? — спросила девочка. Женщина остановилась, весело взглянула на них: — Нет, милые, здесь никто не сдает. Тут в основном живут многосемейные, зимние. А вы дальше пройдите, там можно найти комнату, — она неопределенно махнула рукойв сторону поселка. Они прошли еще несколько дач и остановились у синего забора с красивыми резными воротами и калиткой. Участок был хороший, тенистый, аккуратные дорожки вели к дому и каменному гаражу в глубине двора. За домом была видна какая-то временная пристройка. Женщина постояла, подумала, потом взяла девочку за руку и направилась к соседней даче. У калитки позвонили. К ним вышла высокая толстущая тетка, смерила строгим взглядом. Женщина сказала: — Простите, у вас здесь не сдается? Девчушка спряталась за мать, а тетка вдруг сказала глухим басом: — Ежели девчонка глаза с мылом вымоет, чтобы не были такими черными, то пущу в комнату на втором этаже. А зовут-то тебя как, чернушка? — Аленка. — А меня Марья Фоминична, — сказала хозяйка дачи и повернулась к женщине. — Девочка у вас уже большая, ей даже интересно будет по лестнице прыгать, зато вещей перевозить — всего ничего. Разве что бельишко. Одна кровать там стоит, могу дать еще раскладушку, а посуды у меня в кухне тьма — бери, что хошь. А если муж приедет, тоже чего-нибудь придумаем. — Вряд ли он приедет, — покачала головой Валя. — Он в дальней командировке. — Вот видишь, все куда-то ездят. Одна я, как пень, всю жизнь на месте просидела. И мои-то бесенята на юг укатили, моря, вишь, захотелось, не нравится им здесь. Ну ладно, твоя чернушка мне заместо внучки на месяц будет. Только ежели глаза отмоет, — у моей ведь светлые, — повернулась она к Аленке, по-прежнему стоявшей из осторожности за спиной матери, и вдруг состроила ей рожу, да такую смешную, что девочка захохотала, а потом сделала ответную рожу. Знакомство состоялось. Переезд наметили на завтра. — Здравствуйте! Меня зовут Алла. — Дачница, лежавшая в гамаке, подняла голову и увидела за легкой изгородью кустов красивую смуглую женщину в коротких кожаных брюках и нейлоновой рубахе-гавайке. — Здравствуйте. А меня зовут Валя. — Теперь будем соседями. Это наша дача, — она кивнула на дом. — Вы наверняка хорошо устроитесь у Марьи Фоминичны, она чудесный человек. Жаль, что мы не сдаем второй этаж: мне так скучно здесь! Теперь заживем с вами повеселее. — Да я больше в гамаке поваляться люблю, — усмехнулась Валя. — Ничего, я вас расшевелю, — сказала Алла и побежала на кухню, а Валя взяла книгу и блаженно потянулась. «Приятное с полезным», — подумала она и стала читать. Аленка обнаружила в саду у Марьи Фоминичны трех кроликов и уже не отходила от них. То и дело раздавался ее звонкий голосок. День протекал неторопливо, сонно, бездумно. Обычный дачный день. Часов около семи — к соседней даче подъехала черная «Волга». Валя увидела, как Алла бросилась открывать ворота. «Волга», фыркнув, вкатилась на участок, мотор взревел и смолк. Хлопнула дверца, из машины вылез мужчина средних лет с легкой, почти незаметной сединой. Одет был скромно, но с большим вкусом. — Сам приехал, — пробасила над ухом Марья Фоминична. — Солидный мужик, заботливый, хозяйственный, не пьет, Аллу никогда не обидит. Жаль, детишек у них нет, а надо бы… Балашов скоро вышел из дому в красивой пижаме, уселся в глубокое кресло с маленьким транзистором в руках. Над дачей плыла джазовая музыка, одуряюще пахли грядки табака, и даже издалека было видно, какое усталое и напряженное лицо у Балашова. Потом они обедали с Аллой в зеленой беседке. Балашов сказал: — По-моему, у нас еще есть «Камю»? Налей мне рюмочку. Что-то я устал сегодня. И сделай кофе покрепче. — Что это ты на ночь глядя? Уснуть же не сможешь. — Ничего, я хочу немного очистить мозги от дневного мусора. Балашов, откинувшись в кресле, маленькими глотками потягивал коньяк, золотистый, жгучий, пахнувший облетевшей дубовой листвой. — Кто эта женщина? Алла подняла голову: — Какая? — Там, у старухи. — А-а, это новая дачница у Марьи Фоминичны. Очень милая женщина, с девочкой. — Не люблю я дачников. Алла задумчиво посмотрела на него: — Скажи, Витя, а кого ты вообще любишь? — Тебя, например. Еще вопросы есть? Алла не ответила и только покачала головой. Балашов встал: — Завтра сюда приедет мой механик Юрка. Ты его знаешь, он со мной приезжал и станочек привозил. Он пробудет здесь несколько дней. Надо закончить срочную работу… Валя встала с гамака, поднялась к себе наверх. Набегавшаяся за день Аленка со вкусом чмокала губами во сне, иногда сердито бормотала: «Не лезь, хуже будет…» Валя укрыла ее одеялом и пошла к хозяйке. Старуха пила чай и одновременно гадала на картах. — Марья Фоминична, мне надо сходить на станцию, позвонить домой, узнаю, нет ли писем от мужа. — Сходи, голубка, сходи. — Вы, пожалуйста, присмотрите за Аленкой… Я через полчаса вернусь. — Ступай, ступай, все будет в порядке… Так прошел первый день их отдыха.Волшебные очки
Утром Валя снова читала, лежа в гамаке. Вдруг она услышала мужской голос. Подняла глаза — на участке Балашовых подметал дорожки, собирая граблями мусор и старые листья, какой-то высокий полный мужчина. Он стоял спиной к Вале. Она видела его почти лысую круглую голову, чуть прикрытую какими-то остатками серых волос, заросшую жирную шею. Мужчина сгреб весь мусор в кучу в глубине двора, туда же бросил сухой валежник, щепки и ушел в дом. Валя снова углубилась в чтение. Вечером Балашовы ужинали в беседке со своим гостем. Там, видимо, разгорелся острый спор. Алла бросила на стол салфетку и решительным шагом ушла на кухню. Немного погодя встал Балашов. Гость остался в беседке один. Он докурил сигарету, налил в чайный стакан остатки водки, которую, наверное, стеснялся выпить при хозяевах. Выпил, смачно крякнув. Сходил в дом и принес большой бумажный пакет. Постоял, подумал, обогнул дачу и бросил пакет в кучу мусора, собранную утром. Стоя на корточках, громко сопел, чиркал спичками, дул в разгорающееся пламя. Почесывая грудь, смотрел в огонь, потом плюнул и ушел спать. В тихом вечернем воздухе над дачами поплыл синий дымок с острым, неприятным запахом… За завтраком на следующий день Марья Фоминична недовольно ворчала: — Черт лысый, нажег вчера какой-то падали, дым аж глаза разъел. Отмел бы к забору, он там и перегниет, мусор-то, ведь земле от него польза. Да они ничего не сажают, им земля что? А здоровущий какой да страшный! Ты хоть видела его-то? Зубы все железные, как мой самовар, блестят! Уж я страшная, все дети боятся, а такую образину не каждый день увидишь! — Бабушка, вы не страшная, я вас очень люблю, — вмешалась Аленка. — А дай честное пионерское, что любишь? Или октябрятское? Даешь? — Даю! — Ну, тогда прими от бабы-яги костяной ноги волшебный подарок. — Она улыбнулась и протянула девочке какой-то предмет, похожий на очки, — лист тонкого стекла с ровными круглыми дырками. — Через эти очки сразу видно: кто правду говорит, а кто — врет. А это маме такие же, чтобы ты ее никогда не обманывала, — и старуха извлекла из бездонного кармана своего фартука еще одни «очки». — А где вы такие достали, бабушка-ежечка? — спросила Аленка. Бабка показала кулаком в сторону соседней дачи: — У идолища отобрала! — Правда, Марья Фоминична, где вы такие потешные раздобыли? — Поднялась чуть свет, а мне все дым вчерашний чудится. Думаю, неужели еще дымится куча проклятая? Пошла разобрать ее, так около пепла и нашла несколько этих забавинок… И еще один день прошел…Вечерний визит
И еще один день прошел. Под вечер Валя качала Аленку в гамаке, а та, как всегда, тараторила, ни на минуту не замолкая. — Мамуля, тетя Алла красивая, ведь правда? Но ты все равно красивее. Мам, ну, отрежь волосы, как у тети Аллы, а то носишь пучок, как старая старушка. Мам, отрежешь, а? Валя погладила девочку по голове: — В кого ты у меня такая болтушка? Как птица какаду: бормочешь все время без остановки. Соседи — Балашов и Алла — пили в беседке чай. Их знакомый давно ушел в дом. — Мам, а сшей себе такой блестящий халат, как у тети Аллы. Мам, а когда я вырасту, ты мне купишь такие брюки, как у нее? Нет, нет, туфли, как вон у той тети, и сумку такую же. А, мамуля? И такую курточку… Валя посмотрела в том направлении, куда показывала ручонкой дочь. От калитки к даче Балашовых шла высокая миловидная девушка. «Наверное, подруга Аллы», — подумала Валя. Девушка подошла к беседке, поздоровалась. Балашов сразу поднялся и увел ее в дом. Алла осталась пить чай. Минут через пять они вышли с веранды. Гостья еще несколько минут поговорила с Аллой, но Балашов даже не предложил ей сесть, и она стала прощаться. Отворяя калитку, Балашов отчетливо сказал; — Ладно, до завтра, передайте ему, что буду… — запер калитку и вернулся в беседку. Валя взглянула на часы: без четверти девять. — Марья Фоминична, присмотрите, пожалуйста, еще сегодня за Аленкой. Хочу снова сходить позвонить — я что-то беспокоюсь: целую неделю никаких вестей. — Ты же знаешь, что все будет хорошо. Не подведешь меня, чернушка? — спросила у Аленки старуха. — Если будет сказка, то прямо сейчас иду в постель, — лукаво сказала девчушка. — А ну-ка, бегом наверх!..Приближаясь к станции, Валя ускорила шаг. Перрон был почти пуст. Несколько человек сидели на скамейках в ожидании поезда и вели неспешную беседу. Валя зашла в автомат, набрала номер. Частые короткие гудки. Занято. Она снова набрала: опять занято. А ведь так хорошо было бы сейчас поговорить — около телефона никого нет. Наконец раздался протяжный басовитый гудок, и в трубке щелкнуло. — Борис Иваныч! Здравствуйте! Докладывает Радина, — она еще раз оглянулась. — Ну, хорошо, хорошо, Валя говорит. Как вы все там живете? Я соскучилась. Вы не скучаете? Вот видите! А как там мои очки? Пригодились? Даже очень? Ох, как я рада! А то лежи и отдыхай, как на курорте. Что? Все по-старому. Знакомые наши все на месте. Что? Нет, нет, больше не жгли. Валя еще раз оглянулась. Рядом никого не было. — Сегодня появилась занятная дама, — и Валя подробно рассказала все о вечерней гостье. — Да, так и сказал: до завтра, передай, мол, что буду. По-моему, это что-то срочное. Ладно. Аленка? Спит. Хозяйка попалась чудесная. Что? Да бросьте, все у нас хорошо, не волнуйтесь. А Виталий приехал? Звонил? Как он там без меня? Голодный, наверное. Скажите ему, приеду — откормлю. Аленка, скажите, очень скучает без него и ждет, что он привезет ей качели. Есть отдыхать дальше, товарищ… Ну, хорошо, хорошо, Борис Иваныч! Спасибо ребятам за приветы, передайте и им от меня привет… Ну, раз так, то до свидания. Вот. Валя спустилась с перрона и, не торопясь, пошла по узкому шоссе через поле…
Купцов не прозевать!
«Заключение судебно-технологической экспертизы Я, эксперт-технолог часовой промышленности Соболева А. Д., образование высшее, специальность — технолог по пластмассам, стаж работы — 19 лет, об уголовной ответственности за дачу ложного заключения предупреждена, — произвела исследование представленных на экспертизу образцов пластмассы. …В результате применения методики, изложенной в исследовательской части настоящего заключения, экспертиза приходит к выводу о том, что образцы представляют собой прямоугольные куски листового органического стекла с парными отверстиями в форме правильных кругов, образовавшихся в результате выдавливания с использованием разогретой металлической формы (пуансона). Толщина органического стекла в сочетании с диаметром и своеобразной формой высечки свидетельствуют о том, что исследуемые предметы являются отходами после изготовления кустарным способом стекол — к мужским наручным часам модели «Столица»…»— Вот это молодец, Валюша! — сказал Приходько. — Торопись, старик, а то все лавры расхватают, — толкнул его в бок Тихонов. Шадрин постучал карандашом о пепельницу. — Что же мы теперь знаем? Давайте-ка рассмотрим факты. Во-первых, коржаевские аксы, — Шадрин двинул на середину стола пепельницу. — Во-вторых, кража корпусов на заводе, — он пододвинул к пепельнице карандаш. — Дальше — недостача разных деталей у Балашова. Наконец, изготовление часовых стекол Джагой. — Рядом с карандашом на стол легли авторучка и зажигалка Шадрина. — На первый взгляд это разрозненные факты, — продолжал Шадрин. — Ничего общего между ними не видно. И все же вы разглядели, что и аксы, обнаруженные у Коржаева, и корпуса, похищенные на заводе, и запчасти, недостающие в мастерской Балашова, — все это детали часов «Столица». Как вы только что слышали, часовые стекла, которые делает Джага на даче Балашова, — тоже к «Столице». — Короче, полный набор для детского конструктора «Сделай сам», — вставил Тихонов. — Вот именно, — кивнул Шадрин. — Выходит, что первоначальное предположение Стаса о том, что наши подопечные готовятся собирать часы определенной марки, полностью оправдалось. И марка эта «Столица». — Между прочим, — сказал Тихонов, — стеклышки-то по-кустарному штампуют. А почему? Очень просто — с корпусами получилось неаккуратно, там сейчас народ взбудоражен, иголки стащить не дадут, не то что стекла. Вот им, беднягам, и приходится руками поработать… — Видимо, операция эта для них очень важна, — сказал Приходько. — И в каком масштабе она проводится! Ведь, обратите внимание, не на десятки штук, не на сотни, — на тысячи счет идет! И не только в Москве — вон к нам, до Черного моря добрались! Я думаю, Костюк у нас не зря там наследил. Очень может быть, что старый дружок Джаги искал у Коржаева аксы, да опоздал немного. — Значит, ясно, — сказал Шадрин. — Преступная шайка любой ценой, всеми доступными им средствами комплектует большую, судя по всему, партию товара. В то же время сбыт этого товара не производится ни с рук, ни через комиссионки. Это Тихонов установил точно. Значит, жулики намерены продать детали оптом. А поскольку ни дома, ни на даче Балашов товар долго держать не может, значит, развязка их операции не заставит себя ждать. Мы должны быть к этому готовы. — Чтоб купцов не прозевать, — засмеялся Приходько. Вот в этот-то момент и позвонила Радина, сообщив о неожиданном и, видимо, очень спешном визите вечерней гостьи Балашову. Оперативники притихли, прислушиваясь к разговору. — А события-то назревают! — глядя на напряженное лицо Шадрина, шепнул Приходько Тихонову. — Борис Иваныч, не забудь от нас Валюше привет передать, — подсказал Тихонов. Шадрин подмигнул — показал, что помнит. Когда положил трубку, в комнате еще мгновение висела тишина. — Полчаса назад к Балашову приехала женщина, поговорила с ним десять минут и уехала. Прибыла она, несомненно, с каким-то поручением, потому что, провожая ее, Балашов обещал завтра где-то обязательно быть. Очень возможно, что это гонец от того самого оптового купца. По всей обстановке, это весьма похоже на истину. Ну что ж! Посмотрим, с кем завтра встретится Балашов.
ЧАСТЬ III Самый длинный день в году
Восемь часов утра
Изуродованная нога заболела остро, невыносимо, и это было последнее тяжкое ощущение в сумбурном путаном сне. Балашов мучительно сморщился, застонал спросонья и окончательно проснулся. В темных шторах затерялась маленькая дырочка, и сейчас ее отыскал тонкий луч солнца, повисший поперек спальни. Луч дымился крошечными пылинками, и от этого казался горячим. «Сегодня будет, наверное, жарко, — подумал Балашов и рассмеялся. — Ничего себе, каламбурчики я с утра придумываю», но от этого настроение сразу улучшилось. Он повернулся на другой бок, осторожно перекладывая руками больную ногу. Алла лежала к нему спиной, прикрыв рукой голову. Балашов легонечко провел рукой по ее спутанным черным кудрям, но Алла, не просыпаясь, оттолкнула руку, сердито пробормотала что-то со сна. — Беда-а, — ухмыльнулся Балашов. — Мир требует свободы. Народы Африки требуют, жены требуют. А зачем она им, эта свобода? Смешно… Он сел на постели, осторожно спустил ногу, потом оперся на здоровую, резко встал. Эх, некстати будет, если нога разболится сегодня. Сегодня ничего не должно мешать, потому что такой день бывает раз в много лет. Как великое противостояние. А может быть, и раз в жизни. Балашов, стараясь ступать неслышно, вышел на веранду и прикрыл глаза от яркого света солнца. «Очень жарко будет сегодня», — подумал он вновь и пошел в душ. Завязывая перед зеркалом галстук, взглянул на часы — времени оставалось в обрез. «Ладно, позавтракаю в городе», — сказал он себе, и ему ужасно захотелось пойти в спальню, обнять Аллу, сказать ей, что он, может быть, не прав и не стоит ссориться: она же единственный близкий ему человек во всем мире. Потом раздумал. Пускай перебесится, нечего баловать. Пока прогревался мотор, Балашов, прищурясь, смотрел на небо, быстро выцветавшее от зноя, неопределенно хмыкал. Затем включил первую скорость. Машина выехала из ворот, моргнув красным глазом мигалки, повернула налево и умчалась.На работе он пробыл ровно пять минут. Заперев двери кабинета, выдвинул ящик письменного стола и на задней стенке нашел небольшое углубление, заклеенное изоляционной лентой. Сорвал ленту и вынул десяток маленьких записочек, исписанных затейливым, витиеватым почерком Коржаева. Отдельно лежала записка Крота: «Порфирий Викентьевич Коржаев, русский, 1898 года рождения, проживает…» Балашов вновь все их внимательно перечитал, сколол скрепкой и положил в бумажник. Усмехнулся: «Вот и все, что осталось от человека. Знал бы он, что я сейчас встречусь с его купцом! Эх, жизнь наша куриная…» Отворил дверь и заглянул к заместителю: — Федор Игнатьевич, я тут по делам отъеду часика на два, если кто будет спрашивать, скажите — в Моссовете!.. Заместитель понимающе улыбнулся: — Поезжайте, Виктор Михалыч! Все будет в порядочке! Влившись в плотный поток автомобилей, черная «Волга» помчалась в сторону Преображенской площади. Балашов был сосредоточен и не обратил внимания на то, что серое такси, остановившееся рядом с ним у светофора на Кировской, и такси, тащившееся где-то далеко позади на Комсомольской площади, и ехавшее впереди него на Красносельской улице — одно и то же… Верный своей привычке, Балашов не стал подъезжать к самому дому. Он оставил машину за углом и отправился пешком, опираясь на трость. Подходя к парадному, остановился; чуть отвернувшись от легкого жаркого ветерка, прикурил сигарету, оглядел переулок. Позади — пусто. Навстречу торопливо шагал какой-то парень в железнодорожной фуражке. Балашов вошел в подъезд.
Девять часов тридцать минут
Когда Балашов открывал дверь лифта, его окликнули сзади: — Не закрывайте! Он обернулся и увидел, что сзади идет тот парень в фуражке. Зажав чемоданчик под мышкой, он на ходу рассматривал какую-то разлинованную тетрадь. Балашов посторонился, пропустил его в кабину. — Вам на какой? Парень сдвинул на лоб фуражку, почесал в затылке. — А черт его знает! Это у меня новый участок… Тихонов судорожно отсчитывал: «В доме шесть этажей. На втором лифт обычно не останавливается. Значит, остается четыре этажа. Лучше всего выбрать пятый. Скорее всего он должен сойти или на четвертом, или на пятом. Он, конечно, может сойти и на третьем. Тогда с пятого этажа я не разгляжу квартиры, в которую он войдет. Но на три верхних этажа шансов приходится больше. Рискну. Так, на первом этаже квартира слева — под номером шестнадцать. Три квартиры на каждой площадке. Значит, на пятом должна быть…» Тихонов заглянул в свою тетрадь: — В тридцатую квартиру мне надо. Наверное, пятый этаж… — внутренне замер: «А вдруг ему туда же?» Балашов разглядел, что на парне не железнодорожная, а связистская фуражка. «Большой человек, строитель коммунизма. За свои девяносто рублей, как бобик, бегает целый день по этажам. Наверное, соображает сейчас, у кого бы сшибить на бутылку…» Он отвернулся и нажал кнопку «4 эт.». Когда он вышел, парень несколько раз нажал кнопку, но лифт не трогался. Связист отворил дверь шахты и с грохотом захлопнул ее. Кабина медленно поползла вверх, и Балашов, уже нажимая на пуговицу звонка, услышал, как монтер заорал ему: — Дверь за собой закрывать надо!.. Балашов даже удивился: «Вот щенок наглый!» И повторил, как было условлено, звонок: три коротких, один длинный. Дверь отворил Крот, бледный, неряшливо одетый, заросший рыжеватой щетиной. В квартире было накурено, душно. — Здравствуй, Геночка! Что-то ты сегодня не блещешь импозантностью… — Здрасьте. А с чего же это мне блистать? Я ведь не в Сочах на пляже. Вы ж мне еще путевку в санаторий металлургов не достали. — Зачем же это буду делать я? Вот получишь свою долю и достанешь сам. Только мне кажется, что тебе сейчас светиться на золотых пляжах противопоказано. Ты в нынешнем году уже в одном курортном городе побывал. — Это вы мне как врач говорите? — Как врач. Социальный. Лечащий язвы общества. По характеру заболевания тебе надо лечиться где-нибудь в средней полосе или за Уралом, в Сибири. Это я тебе по-дружески, ей-богу. Ну, давай… — Что это вы такую заботу обо мне проявляете? Боюсь, как бы вы мне туда бесплатную путевку не организовали. С казенным проездом в спальном вагоне с решеточками. — Ну, это у тебя от лукавого… — Прямо уж от лукавого! Вы человек сильный, умный. Вам может показаться, что мне там будет лучше. Только я ведь тоже не вчера родился. Я так думаю: вы никому заботу о моем здоровье не передоверяйте. Берегите меня пуще глаза. А то, если меня начнет лечить уголовка, придется и вам встать на учет в этот диспансер. — А ты меня не пугай. Я же ведь не нервный. Ты лучше подумай о спасении души, — криво улыбнулся Балашов. — Мне о душе думать поздно. Ее теперь не спасешь. Я все больше о своем теле сейчас подумываю. Вот так! — Ну ладно, хватит языком трясти. Давай открытку. Крот, не сводя с Балашова глаз, залез во внутренний карман, достал обычную почтовую открытку. Взглянул на нее и с видимым сожалением протянул Хромому. Балашов, не торопясь, стал читать вслух: — «Здравствуйте. Я снова в Москве. Может быть, заходить к вам». — Засмеялся, взглянул на обратный адрес: «Ул. Козлова, д. 31, кв. 10». — Вот чук! Улица Козлова! Слушай, Крот, по-моему, в Москве такой улицы нет даже? — Черт ее знает! Что я вам, избач — все знать? — Советский человек должен знать и любить родной край. — Мой родной край Арзамас. — Ну-у! Земляк Аркадия Гайдара? — Вы Гайдара не трожьте. — Это почему еще? — Потому что, если есть на свете человек, которого я уважаю, то это Аркадий Гайдар. — Ай да Крот! Вот это номер! Сколько времени тебя знаю, а ты каждый раз открываешься мне новой стороной своего дарования. Я ведь и не предполагал, что ты ценитель героической романтики в литературе… Да и вообще, что ты книги читаешь. — Вам этого не понять. — Где уж мне! Я ж ведь лаптем свою сборную соляночку хлебаю. Ты мне объясни только, почему заурядные уголовники всегда сентиментальны? — Чего мне вам объяснять? Вы и так всех умнее. Давайте лучше о деле поговорим. — Давай, не возражаю. Побеседуем. — Вы с ним один будете говорить? — А ты полагаешь, что без тебя эта экономическая конференция состояться не может? — Я этого не знаю. Только я бы хотел быть в курсе дела. — В дипломатических и торговых отношениях есть такое понятие — уровень встречи. — А вам мой уровень не подходит? — Мне вполне. Ему вряд ли. Поэтому представителем нашего концерна буду выступать я. А ты сыграешь роль закулисного советника, эксперта, секретаря и даже личной охраны твоего торгпреда. — Это как? — А вот как: ты займешь первоначальную свою позицию в этом благословенном шкафу. Пушка при тебе? — Всегда. — Очень хорошо. Я посажу его спиной к тебе, чтобы ты его все время видел сквозь щелку. Это такой гусь, что с него всего станется. Возражений нет? — Хорошо. — Ну, спасибо за доверие. — Если он клюнет, вы договоритесь здесь товар передавать? — И ты еще претендуешь на участие в секретных экономических переговорах! Горе моей седой голове, боль моим старым костям!.. — Да бросьте, Виктор Михалыч. Мне ведь плохо очень, честно-то говоря… — Ты, Крот, дурачок! Как это ты себе представляешь: он понесет отсюда чемоданы с деталями в руках? А если его участковый у подъезда остановит? Или прикажешь ему их доставить через Мострансагентство? — Но я хочу быть при передаче… — Чего? Товара? — Товара. И денег. — Ах, тебя волнуют деньги! Такова се ля ви! Судьба товара его не интересует. Его интересуют деньги. До чего же четко у нас разделены функции! Я, как мул, горблю, чтобы этот товар достать, купить, украсть, наконец, сделать, черт побери, а потом его спихнуть Гастролеру. А ты, естественно, озабочен одним — как с меня сорвать деньги! — Если бы не я, фиг знали бы вы про Гастролера. И старичок бы сейчас в этом кресле сидел вместо вас, если бы не я. — Вот я и оценил твой труд в третью долю. Поэтому уж не мешай мне довести дело до конца. А насчет денег — придется тебе положиться на мою порядочность. — Придется… — Да не трясись ты. Пойми: раз я оставляю тебя здесь, значит, я играю на равных. Так будет и дальше. Встряхнись. И верь — я тебе друг. Только я умнее тебя и старше. Ну, хватит! Время — без пяти. Он обещал быть в десять, а люди они точные. Давай полезай в шкаф…Десять часов
Балашов положил перед собой часы. Его охватила какая-то внутренняя дрожь, и ему казалось порой, что все внутри звенит от напряжения. Он жадно затянулся табачным дымом — это здорово помогает в ожидании. Ох, какая духота нестерпимая! И нервы, нервы. Сдают? Если бы их можно было подстраивать колками, как струны на скрипке! Чтобы можно было взять их в одном ключе на любую нужную ноту… А-аа, все это колеса… Крот сидел в шкафу совершенно неслышно. «Вот зверь, — подумал Балашов, — я себе представляю, как он там задыхается. Ничего, ничего, пусть попарится». Звонок резанул, как теркой по коже. Все. Началось. Хромой встал, посмотрел на себя в зеркало. Волосы в порядке, узел галстука на месте, уголок платка торчит из кармана ровно на два сантиметра. Погасил в прихожей свет — пусть сначала, после улицы, ничего не будет видно. Интересно, как его фамилия? Щелкнул замком: — Заходите, господин Макс… На пороге стоял высокий худой человек в сером твидовом пиджаке. Жесткий воротничок полосатой сорочки резал жилы на красной морщинистой шее. Большой хрящеватый кадык прыгнул — вниз, вверх. — Я хотел видеть Порфирий Коржаев. — Я готов с вами беседовать от его имени. — Но меня интересует он сам. — Я думаю, что беседовать о наших делах, стоя в коридоре, не совсем удобно. — С вами я не имею ни о чем беседовать. — Как раз наоборот! Именно со мной вам предстоит впредь иметь все дела. — Очень интересно. Пожалуйста, я буду заходить, — он вошел в квартиру, внимательно глядя на Балашова. Не вынимая руки из кармана, стараясь не поворачиваться к Балашову спиной, прошел в комнату. На его серой пергаментной коже от жары и напряжения выступили капельки пота. Элегантный пиджак на Гастролере сидел превосходно, и все-таки в его движениях была заметна какая-то механическая угловатость, которая остается у кадровых военных на всю жизнь. «Прилично по-русски говорит, — подумал Балашов. — Наверное, змей, у нас во время войны научился». Он небрежно развалился на стуле, предложил гостю кресло напротив. Тот, оглядевшись, сел. Балашов, не вставая с места, протянул руку и достал из серванта бутылку «Двина». Налил себе рюмку коньяку, подвинул бутылку иностранцу. — Угощайтесь, господин Макс. Этот напиток не уступает «Мартелю». Иностранец не шевельнулся, процедив: — Спасибо. Я не желаю — на улице очень жарко. Балашов пригубил, поставил рюмку на стол. — Как угодно. Дело в том, что наш общий компаньон — Порфирий Викентьевич Коржаев — умер две недели назад от инфаркта. Макс молча смотрел на него. Его круглые глаза без ресниц, не моргая, уперлись в лицо Балашова. — Покойный Коржаев выполнял в нашем деле функции коммерческого директора. Поэтому мы с вами не были даже знакомы… по вполне понятным вам причинам. Гость, не меняясь в лице, молчал. — В связи с его неожиданной кончиной мне пришлось взять инициативу в свои руки, чтобы довести дело до конца. Именно поэтому я здесь, и думаю, что весьма печальный факт смерти Коржаева не помешает нам успешно завершить начатое. Макс не проронил ни слова. Духота становилась невыносимой. Балашов чувствовал, как по шее текут капли пота. Горло пересохло. — Итак, я к вашим услугам… И вдруг Гастролер засмеялся. Тихо, спокойно, одними губами, обнажив два ряда фарфоровых вставных зубов. Его взгляд по-прежнему неотступно был привязан к какой-то точке на лбу Балашова, и от этого смеха Хромой вдруг почувствовал на влажной горячей спине холодок. Макс наклонился к нему и спросил своим невыразительным, безразличным голосом: — Вы должен быть близкий человек Коржаеву? — Да, конечно. Мы же вместе вели дело, были лично дружны. — Вы, наверно, располагаете муниципальный бланк-документ про смерть вашего друга? Балашов на мгновение потерял голос, но быстро взял себя в руки: — Нет, мне он был ни к чему. Но у меня есть более ценные свидетельства — его записки, по которым он брал у меня товар для вас, — Балашов достал из портмоне сколотые скрепкой бумажечки и протянул их Гастролеру. Не дотрагиваясь рукой, Макс кинул на них быстрый взгляд и встал: — Я буду скорбеть о смерти такой хороший человек. Однако здесь есть ошибка. Я не тот, про который вы думаете. Это есть ошибка. Я должен покланяться, — и снова тихо засмеялся. — Откланяться, — механически поправил его Балашов, почти в истерике думая: «Провал, провал! Не поверил, гад!» — Прошу меня простить — откланяться, — повторил Макс и направился к дверям. Нет, Балашов так легко не сдается! — Послушайте, господин Макс! Иностранец обернулся. — Присядьте. Если вас не удовлетворят мои объяснения, вы сможете уйти — задерживать я вас не собираюсь. — Я слушаю. — Вы явно не верите в то, что я преемник дел Коржаева и принимаете меня за кого-то другого. Однако это предположение лишено здравого смысла, поскольку я-то знаю точно, кто вы такой. — Но я — нет. Не знаю. — Я могу вам продемонстрировать полную осведомленность во всех наших делах, — от количества и номенклатуры товара до суммы, которую вы мне должны уплатить. Я отдаю должное вашей выдержке, но если вы из-за этой сверхосторожности расторгаете нашу сделку, вы понесете огромные убытки. — А вы? — Мне это тоже принесет известные неудобства. Но убытков я не понесу никаких — завтра же распродам товар по частям здесь, у нас, спекулянтам. Правда, я заинтересован скорее в валюте. Что-то дрогнуло в лице Макса, и Хромой почувствовал, что в твердой решимости Гастролера появилась крохотная трещинка. И все-таки тот сказал: — Я вас не знаю. — Это верно. Но я располагаю сведениями, которых человек посторонний знать не может. — Может. Это все может знать работник КГБ, который арестовал Коржаева. — Ну, это уже совсем смешно. Будь я чекистом, я бы не стал тут с вами толковать. Сейчас мы были бы у вас в гостинице и делали обыск. — За какое преступление? Обыск можно делать за преступление, а вы сказали, что Коржаев уже мертв. Вот тут уже захохотал от души Балашов. — Уж не надеялись ли вы, господин Макс, что я вам детали за красивые глаза отдам? Вы должны заплатить за них твердой валютой и в сумме весьма значительной. Поэтому второе дно вашего чемодана, или где уж вы их там провозите, забито до отказа зелеными купюрами. Это раз. — Дальше. — А что дальше? Вот открытка. Судя по стилю, она написана вами. Экспертиза по заданию КГБ легко подтвердила бы ваше авторство. Наконец, ваше присутствие здесь. Дальше делаем у вас обыск и за нарушение советского закона арестовываем. — Нихт. Нет. Нельзя. Я есть иностранец. Хромой снова торжествующе засмеялся. — Вы уж мне-то не морочьте голову. Иммунитет распространяется только на дипломатов. Вы же, по-видимому, не дипкурьер? Гастролер промолчал. — Вот что я бы сделал, будь я сотрудником КГБ, — продолжал Балашов, — но я не чекист. Я коммерсант и заинтересован в их внимании не больше, чем вы. Я вас убедил? — Нет. Где гарантии, что вы со мной мирно беседуете, а на кухне или в этот… шранк… — Шкаф? — Я, я, шкаф… в шкаф не записывает наш разговор агент? — Опять двадцать пять. Встаньте и посмотрите. — Хорошо. Я вам немного доверяю. Вы можете мне сказать, когда я встречал последний раз Коржаева? — Это было между пятнадцатым и двадцатым марта. Точно не помню день, но он передал тогда партию колес, трибов и волосков. Да бросьте вы, господин Макс, меня проверять. Я же ведь вам уже доказал, что, если бы я был из КГБ, мы бы продолжали нашу беседу не здесь, а на Лубянке. — Может быть… — И я вам вновь напоминаю: отказавшись, вы потеряете больше, чем я… В комнате было уже невозможно дышать. Пот катился по их распаренным лицам, их душила жара, злость и недоверие. Гастролер не выдержал: — Я вас готов слушать… Балашов вдохнул всей грудью. — Я приготовил вам весь товар, который должен был передать Коржаев. Но его неожиданная смерть меня сильно подвела. Поставщики, воспользовавшись срочностью наших закупок, содрали с меня за детали двойную цену… — Меня это не будет интересовать… — Очень даже будет интересовать, поскольку вы мне должны будете уплатить еще тридцать пять процентов. — Никогда! — Обязательно заплатите. Я не могу один нести все расходы. — У нас был договор. — Даже в расчеты по клирингу вносятся коррективы, исходя из коммерческой конъюнктуры на рынке. — Это невозможно. Я буду отказаться от сделки. Балашов про себя засмеялся: «Врешь, гад, не откажешься. Если ты КГБ не испугался, то лишних несколько тысяч тебя не отпугнут…» Они долго договаривались о месте и способе передаче товара. — Деньги я буду давать на товар. — Пожалуйста. Правда, как вы понимаете, на месте деньги я пересчитывать не смогу. Но я уверен, что деньги будут полностью. Вам же придется еще целые сутки ехать до границы — так что во избежание конфликтов на таможне… — Я вас понимаю. Кто гарантирует мне, что вы давали весь товар, а не половину? — Перспектива наших отношений. Вы, несомненно, после реализации этой партии еще раз захотите вернуться. И я не откажусь от сотрудничества с вами. Сейчас готовятся к выпуску часы новой модели экстра-класса, и они пойдут через мои руки. Так что… — Вы кусаете за горло, но вы настоящий бизнесмен. Хорошо. До завтра… Было без четверти двенадцать, когда из парадного вышел человек. На его сухом красном лице с глубокими, будто резаными морщинами застыло выражение спокойного презрения ко всему окружающему. Вынув из кармана темные очки, человек надел их и не спеша, не глядя по сторонам, направился к Преображенской площади. Пройдя квартал, он свернул за угол. Метрах в ста от перекрестка стоял у тротуара белый лимузин «мерседес-220». Так же неторопливо человек сел в машину, включил двигатель и уехал… Парень в связистской фуражке равнодушно поглядел вслед великолепной машине, над задним бампером которой был укреплен необычный длинный номер «ВН 37149». Потом снял фуражку, вытер носовым платком пот со лба, остановил проезжавшее мимо такси — серую потрепанную «Волгу»…Полдень
Балашов захлопнул дверь, вернулся в комнату. — Вылезай! Крот не откликнулся. Хромой подошел к шкафу, распахнул дверцу. Крот сидел между платьев на каком-то тюке, неестественно закинув голову. — Ты что, заснул? — Балашов толкнул его, и Крот так же неестественно-покорно подался, тупо, словно тяжелая ватная кукла, выпал из шкафа. Хромой вздрогнул и невольно отшатнулся. Несмотря на жару, лицо у Крота было землисто-зеленое и между тусклыми волосками бороды застряли капли липкого пота. — Елки-палки, у него обморок! Балашов взял со стола графин с теплой водой и выплеснул всю ее на голову Крота. Белые, с тонкими голубыми прожилками веки задрожали, изо рта вырвался тяжелый вздох: — О-ох! Балашов сел в кресло. «Ну и дела! До хороших времен дожил ты, Балашов, если твои уголовники-подхватчики падают в обморок, как институтки. От жары, видимо, скис. Там же совсем дышать нечем. Вот зараза, чуть все дело не провалил. Хорош был бы я, если бы он на Гастролера из шкафа выпал. Но, молодец, собака, обмер там, но не пикнул. Жажда жизни, ничего не поделаешь. Он надеется тоже проехать на этом коньке. Шутишь, дорогой мой Крот, дела твои швах! Боливару не снести двоих. Мне даже не денег тебе жалко, дурачок. Ты правильно заметил в прошлый раз, что очень много знаешь. Слишком много…» Крот открыл пустые, бездумные глаза, уставился в потолок. — Вставай, Аника-воин, хватит отдыхать. Выпей коньячку, согреешься. Крот повернул к нему голову, слабо улыбнулся: — Очень жарко было, дышать нечем, нафталина нанюхался и сомлел. — Вижу, что не воспарил. На, выпей. — Не хочется, дышать тяжело. Воды хочу со льдом. — Ананас в шампанском не желаете? Пей, говорят тебе, — сразу полегчает. Крот, морщась, стуча зубами о край стакана, хлебнул обжигающую жидкость. — Как, очухался или еще не совсем? — Вроде бы в порядке. — Когда Лизка придет? — Она до восьми, по-моему. — А что ты ей говоришь, почему, мол, на улицу не выходишь? — Отпуск, говорю. Обидели меня на работе — понизили. Вот и переживаю дома свою беду. — А она что? — Утешает. «На юг, — говорит, — давай поедем, отдохнешь, развлечешься». Ей-то и невдомек, что у меня за развлечения… — Ну ладно. Договорился я с ним на завтра. Ты сиди здесь, как гвоздь в стене, — не шевелись. Завтра к вечеру заеду, расскажу, как и что. — А деньги когда? — Опять ты про свое! Я тебе сказал уже: недели две понадобится, чтобы их сплавить. Ты сиди здесь, никуда не выходи, читай книги: ты же вон какой, оказывается, библиофил. — Паспорт новый достанете? — Э, брат, за него надо будет много денег заплатить. Если завтра все провернем успешно, куплю тебе недельки через две паспорт. А все, что останется от твоей доли, — доставлю на блюдечке с голубой каемочкой… — Любите вы меня, Виктор Михалыч, ласкаете… Боюсь, заласкаете насмерть! — А ты не бойся — целее будешь. Короче, сиди здесь и не рыпайся. До завтра! — Ни пуха… — Иди к черту!Балашов шагнул на улицу, как в кузнечный горн. Раскаленные камни дышали жаром, асфальт продавливался под каблуками. Не подходя к машине, он завернул в будку уличного телефона-автомата и набрал номер своей мастерской. — Федор Игнатьевич, это я, Балашов. Мне сообщили, что неожиданно заболела моя Алла — температура, рвота. Я сейчас с врачом к ней еду, вы уж там без меня как-нибудь… — Будьте спокойны, Виктор Михалыч, я все обеспечу. Желаю Алле Матвеевне выздоровления! — Спасибо. Если у нее что-то серьезное, я, вероятно, завтра задержусь немного… Бросил трубку на рычаг и, обливаясь потом, выскочил из будки. Черный автомобиль раскалился так, что было больно дотронуться. Балашов открыл дверцу, и в лицо ему ударила волна горячего воздуха. Он с места рванул машину, и, набирая скорость, черная «Волга» полетела в сторону центра города. Лавируя между машинами, вклиниваясь в каждый свободный участок дороги, Балашов вел машину напряженно и расчетливо, почти не задерживаясь у светофоров, изредка вырываясь на резервную зону улицы. Остался позади центр, промелькнули дома Кутузовки, Панорама, новостройки Кунцева и Сетуни. Впереди — широкая серая полоса Минского шоссе. Акселератор нажат до отказа, мотор звенит от громадных оборотов, шины с шипением отталкиваются от асфальта. Деревья, домики по обочинам дороги слились в непрерывную пестро-зеленую ленту. На лице Балашова застыла кривая усмешка…
Тринадцать часов
Белый «мерседес» стоял у подъезда. Тихонов бросил взгляд на номер и, не задерживаясь, вошел в вестибюль. В гостинице было немного прохладнее, чем в раскаленном пекле улицы. Тихонов закинул пиджак на плечо и направился в бюро обслуживания. Здесь был настоящий рай — три вентилятора поворачивали во все стороны свои гудящие лопасти, разгоняя по залу волны прохлады. Яркие плакаты на стенах предлагали летать только на самолетах «Эйр Индиа», посетить Париж весной, полежать на пляжах Мамайи. Пальмы, яхты, загорелые красавицы, элегантные молодцы. Красота! Молоденькая переводчица, умирая от жары, переписывала какую-то длинную ведомость. Тихонов приготовил для нее самую свою обворожительную улыбку. «Сейчас бы придумать какие-нибудь шуточки, — с огорчением подумал он, — ничего ведь не получится иначе. Мозги от духоты растопились». — Простите, это вы распоряжаетесь всеми этими удовольствиями? — Тихонов указал на плакаты. Девушка вяло улыбнулась. — Просто обмен туристской рекламой на основах взаимности. Тихонов уже прочно устроился в кресле у ее стола. — Я вот посмотрел на этот плакат, и мне снова захотелось съездить в Париж весной. — А вы что, там были уже? — Нет, но в прошлом году я тоже хотел… Переводчица засмеялась. — Такая древняя «покупка», что я ее даже забыла. — Это не довод. Все новое — это основательно забытое старое, как говорит один мой друг. — Это не ваш друг, это Сократ говорил. — Тем более. Сократ ведь тоже был начитанный парень. — Людям, способным шутить на такой жаре, я бы давала медаль. — А у меня есть медаль. — За шутки? — За храбрость. — Я так и подумала. — А вы бы сами попробовали шутить, когда на улице восемьдесят градусов. — Только что передавали по радио, что всего тридцать восемь. — А я — по Фаренгейту. Так внушительнее. — Я вижу, вы любите приукрасить. — А что это вы меня все время порицаете? — А за что вас поощрять? Стас горестно покачалголовой. — Все вы такие. Вот если бы вы видели, на каком великолепном белом «мерседесе» я приехал, то, наверное, снисходительнее отнеслись к моим маленьким слабостям. Девушка засмеялась: — Вас зовут Макс Цинклер? — Нет. А что? — А то, что я как раз сегодня оформила выездные документы Максу Цинклеру из Бремена, которому принадлежит стоящий у подъезда великолепный белый «мерседес», на котором вы приехали… — Подумаешь тоже. Не белый «мерседес», так голубой «Москвич». Не влияет. Так что поедем весной в Париж? — Заезжайте следующей весной — поговорим. Тихонов помахал ей рукой и вышел в вестибюль. Несколько индусов в чалмах сидели в креслах и спокойно покуривали черные сигареты. От палящих лучей солнца огромные стекла-витрины светили яркими прожекторами. Тихонов покосился на индусов и подумал: «Ставлю рупь за сто, что у них в чалмах спрятаны пузыри со льдом…» — и, размахивая пиджаком, пошел на улицу.Четырнадцать часов
«В квартире 25 проживает гражданка Куликова Елизавета Алексеевна». Хм, проживает! Она-то проживает, это факт. Если бы знать только, кто еще здесь проживает? Тихонов постоял перед дверью с табличкой «25» и, поборов соблазн, вернулся к двери на другой стороне площадки. Рубашка совершенно взмокла и прилипла к лопаткам. Свою замечательную фуражку с буквами МГТС он носил уже под мышкой. Да, жаркий денечек выдался сегодня. Тихонов позвонил в двадцать седьмую квартиру. — С телефонного узла… — Заходь, заходь. Капитан дальнего плавания Стеценко был дома один. Он ходил по квартире в трусах, выглядевших как плавки на его огромном туловище. — Тебя, часом, не смущает мой наряд? А в общем-то, чего тебе смущаться, я же не баба! Это в ту квартиру — напротив — заходи аккуратно, спроси сначала: «Можно?» — А что в той квартире? — У-у, там отличная дивчина живет — первый сорт! — Ладно, тогда спрошу, — охотно согласился Тихонов. — А что, кроме нее, там некому открывать, что ли? — Нет. Она одна живет. — Вот мне давно надо к такой девушке с квартирой посвататься — жениться пора. — Тут ты опоздал — к ней такой парень ходит, что ай-яй-яй! Пижон! Красавец! — Ничего, я, хотя и не красавец, по части девушек тоже не промах. — Да, парень ты хоть куда! Так ты мне скажи, жених: ты насчет телефона или о девушках пришел спрашивать. Тихонов обиделся: — Про девушек вы первый начали… А я — насчет телефона. — Так у меня и нет его вовсе! — Вот я и пришел вам сказать, что будет! — А когда? «Черт знает, когда телефоны им поставят. Видит бог, что я-то насчет девушки пришел… Но больше спрашивать не стоит…» — подумал Тихонов и уверенно сказал: — После монтажа оборудования… Квартале в четвертом. В двадцать шестой квартире долго не открывали, потом послышался мальчишечий голос: — Кто? — С телефонного узла. — А нам мама не велит открывать дверь, когда ее нет дома. — А цепочка у вас есть на двери? — Есть. — Ты ее одень, открой дверь и говори со мной через щель. Тихонов почувствовал, что если сейчас не напьется холодной воды, то просто помрет. За дверью было слышно, как два голоса совещались шепотом. Потом неожиданно щелкнул замок. — Заходите… В прихожей стояли два белобрысых мальчугана лет по девяти, такие одинаковые, будто их отштамповали на печатной машине. Тихонов засмеялся: — Вы что, близнята? — Да. Меня зовут Борис, а братана — Женька. Как братьев Майоровых. — А в хоккей вы играете? — У-у, еще как! Только мы на «гагах» катаемся. Мама обещала купить в этом году «канады», а все не покупает. И еще — у нас нет своего Старшинова, а то бы мы всем показали! А так нас ребята из дома тринадцать все время несут… — Возьмите меня за Старшинова, — предложил Тихонов. — Так вы же большой уже, — сказал тоненьким голоском Женька, отступая на всякий случай за спину брата. — Ну и что? — удивился Тихонов. — Большие тоже в хоккей играют! — Так вы не с нашего двора, а подставных нельзя включать, — с сожалением отказался Борис. — Ребята, дайте попить чего-нибудь, умираю от жары, — попросил Тихонов. — Идемте на кухню, у нас там в холодильнике есть квас, — взял его за руку Женька. Окно в кухне выходило на север, и здесь было почти прохладно. Холодный квас, пахнувший черным хлебом, имел вкус счастья. Тихонов присел на белую табуретку, положил руку на плечо Бориса. — А вы возьмите в команду того дядю, который ходит к вашей соседке — тете Лизе. — Да он, наверное, играть не умеет. Он, по-моему, как дядя Стеценко — моряк. — Почему? — Я у него на руке видел якорь нататуированный. А потом он в тенниске за газетой вниз выходил — у него вся грудь разрисована: парусник целый выколот. Ух, здорово! Только я его уже недели две не видел. — Что, не приходит? — Он болеет, — неожиданно сказал Женька. Борька посмотрел на него удивленно: — Почем ты знаешь? Мучительно наливаясь краской, сгорая от собственной решительности, Женька сказал запальчиво: — Да, болеет! Когда я ночью просыпаюсь и хожу пить, слышно через стенку, как он по кухне ходит: туда-сюда, туда-сюда. И сегодня ночью слышал. — Э, дружок, может быть, это вовсе тетя Лиза ходит? — спросил Тихонов. — Не-е, он тяжелый, паркет под ним так и скрипит. — Какой же он тяжелый, когда он на меня похож? — пожал плечами Тихонов. — Ха! Сказали тоже! Вы белобрысый, как мы с Борькой, а он черный, с черными глазами, и на голову вас больше! — Ну, может быть, ты и прав. В общем, маме скажите, что приходили с телефонного узла, смотрели проводку… — Так вы ж и не смотрели даже! — Для специалиста, Боря, одним глазом глянуть достаточно. Лучше скажите, почему вы в такую жару не за городом, а в духоте этой сидите? — А мы через два дня в лагерь на третью смену уезжаем. — Вместе? — Конечно. Мы всегда вместе. — Вот это отлично. Спасибо вам, ребята, за квас, за гостеприимство и вообще за все. — Не стоит! — дружно гаркнули мальчишки. Женька добавил: — Приходите еще, про хоккей поговорим. — Есть, товарищ Женя. Но впредь, прежде чем впускать незнакомых в квартиру, вы все-таки взгляните через цепочку. — А-а, ерунда! — махнул Борька рукой. — Мы-то никого не боимся, это мама велит… Тихонов постоял в задумчивости на площадке, жадно вдыхая пыльный жаркий воздух подъезда. Подошел к двери двадцать пятой квартиры, прислушался. Потом нажал кнопку звонка. Ему показалось, что он услышал короткий, мгновенно стихший шелест. За дверью плавало длинное безмолвие. Он приложил ухо к обивке. Ни звука. А с другой стороны к двери приник Крот. Он слышал за дверью чужого. У Лизки есть ключ. Хромой и Джага так звонить не станут. Там стоял чужой. Оглушительно громко билось в груди сердце. Крот стоял, скорчившись у двери, судорожно сжимая горячую рукоятку пистолета. Может быть, шарахнуть прямо через дверь? Чужой потоптался, еще раз загремел над головой звонок… Мгновение, и шаги застучали вниз по лестнице, прочь…Пятнадцать часов
— Что? Нет, нет, этот вопрос мы решили своими оперативными средствами. Какой? Да, да, человека для связи пришлете вы, мы его обо всем проинформируем… — Шадрин прервал разговор по телефону, вопросительно взглянул на вошедшего в кабинет Тихонова. — Прошу прощения за опоздание! Задержался в доме Куликовой. Есть интересные сведения: в ее квартире без прописки живет молодой, примерно лет тридцати, мужчина, высокий, сильный, черноглазый брюнет. На груди и руке татуировка. По имеющимся данным, вот уже две недели из квартиры Куликовой не выходит. Человек он, судя по всему, необщительный, никто из соседей с ним не знаком! — Ну и?.. — Приходько вопросительно посмотрел на Тихонова. Все думали об одном и том же. — Ну и то, что по приметам очень этот человек похож на Крота! — закончил Тихонов свою мысль. — Дельно, — одобрил Шадрин. — Принимаем как рабочую версию. Похоже, пора засучить рукава! — До локтей! — отозвался Тихонов. — Кто тут по купцам тосковал? Ты, Сергей? Так купец, кажется, есть. Да такой, что закачаешься! — Подожди, — вмешался Шадрин. — Давай по порядку. — Ради бога. Вчера некая молодая интересная дамочка посетила Балашова на его даче и, видимо, передала ему какое-то спешное сообщение. Сегодня утром Балашов приезжает домой к этой даме. Кто дама? Устанавливаем: парикмахерша Куликова Елизавета Алексеевна. Через полчаса там всплывает еще один, уже совсем новый для нас человек. Балашов, значит, беседует с ним около двух часов. Тут-то и начинается самое интересное! Оказывается, этот деятель разъезжает на белом «мерседесе» с заграничным номером! — Он и сам заграничный, — спокойно сказал Шадрин. — После того как ты позвонил и сообщил номер, я навел некоторые справки. Это Макс Цинклер, коммерсант, представитель крупной бременской торговой фирмы по сбыту часов и точных приборов. Есть сведения, что он хищник крупного полета. У нас бывал неоднократно по делам, а сейчас прикатил автотуристом. Виза его в СССР истекает послезавтра. Выехать он должен через пограничный пункт в Бресте… — К сказанному могу добавить, — заметил Тихонов, — что после беседы с этим Цинклером Балашов куда-то позвонил из автомата, сел в свою «Волгу» и на бешеной скорости помчался на дачу — километров сто тридцать — сто сорок жал! Под видом приятеля я позвонил на работу к Балашову. Мне там говорят: у Виктора Михалыча серьезно заболела жена, и он срочно уехал домой. — Черта с два, — вмешался Приходько. — По нашим сведениям, жена его вполне здорова. — Значит, имеем мы следующее, — сказал Шадрин. — Балашов долго собирает большую партию товара, но не сбывает его — ждет оптового купца. Вчера его срочно вызывают на рандеву с Цинклером, после которого он бросает работу и мчится домой, где сидит Джага. С другой стороны, Цинклер должен выехать не позже завтрашнего утра — это тоже объясняет спешку Балашова. Незаметно передать в Москве большую партию товара сложно и опасно. Поэтому, думаю, встретятся они где-то в пути. Единственно неясно еще, где Крот и что он делает во всей этой операции. — Тут надо сначала выяснить позицию Куликовой, а там уж решим по обстановке, — сказал Тихонов. — Резон. Этим займись ты. А сейчас пора приступать к разработке плана на сегодня и завтра. — Вполне согласен, — сказал Приходько. — Ну что ж, давайте готовить операцию. Наши силы я бы предложил расставить так…Семнадцать часов
Над костром дымился солнцем медный таз. Ягоды, отдав весь свой сок, тихо млели в сахаре, и, заглушая запах дыма и цветов, в густом обжигающем воздухе поднимались волны вишневого аромата. — Самое главное — это аккуратно косточки из вишни вынуть. Тогда у варенья вкус другой совсем, и каждую ягодку хоть на витрину ставь, — Марья Фоминична, сложив щепотью свои толстые пальцы, наглядно показала, какие красивые получаются ягодки. Аленка засмеялась: — Тетя Маша, у вас такие толстые пальцы, что я бы могла ваше кольцо надеть как браслет. Старуха подмигнула ей. — Руки мои захватущие, пальцы мои загребущие… — Охота вам в такую жарищу вареньем этим себе голову морочить, — сказала Алла. — Вы его ведь в жизни столько не съедите. — Э-э, нет, — не согласилась старуха. — А гости? Такое варенье гостям подать — одно удовольствие… Валя дремала в шезлонге под деревом, Марья Фоминична сосновой веткой отгоняла от варенья гудящих пчел. — Это лето необычное какое-то: то дождь, то жара. Ишь, как распарило сегодня. Гроза, видать, нынче хорошая вдарит, — старуха сняла с варенья пену. — И вишен-то такого урожая не упомню. Алла чесала у Аленки за ушами, как у кошки, и девочка довольно повизгивала и урчала. — Ты моя тезка? — Тезка. Марья Фоминична встала со своей табуреточки. — Я в дом пойду, а вы, тезки, смотрите, чтоб не перекипело. Щепок не подкладывайте больше, на углях дойдет. Алла кивнула: — Есть, товарищ градоначальник! Плыла жаркая сонная летняя одурь… Вдруг Алла спросила: — Валюша, скажите, пожалуйста, вы счастливы? Валя бросила на траву газету, которой прикрывалась от солнца. — Как вам сказать, Алла? Понятие счастья относится, наверное, к очень сложным, туманным категориям. Но жизнью своей я довольна. — А это не переходит иногда в самодовольство? — Нет. Я просто не хотела бы начинать жизнь заново. — А я совсем потеряла всякие ориентиры в жизни. И мне бы так хотелось начать все сначала! — Почему? — Нет, лучше вы мне ответьте: что делает вашу жизнь счастливой? — Ее полнота. У меня есть муж, которого я не просто люблю, а считаю человеком, по-своему совершенно удивительным. И это уважение помогает мне переступать через мелкие, но неизбежные семейные недоразумения. Алла сказала: «Раз», — и загнула палец. — У меня есть работа, которую я считаю своим призванием, несмотря на все ее трудности и неудобства. И тот интерес, который я испытываю к своему делу, рождает, несмотря на сильную усталость порой, огромное моральное удовлетворение. — Два, — сказала Алла и загнула еще один палец. — У меня есть друзья. Это очень интересные люди, и почти о каждом из них можно было бы написать книгу, которой бы зачитывались все. И в трудную минуту жизни они уже доказали, какие они настоящие большие люди и какие верные друзья! — Три, — сказала Алла и загнула еще один палец. — Ну, и Аленка, конечно, — засмеялась Валя. — Четыре, — сказала Алла… — Аллочка, здесь счет вовсе не арифметический. Но уж если считать, то эти точки — полюса, которые создают в нашей жизни необходимое всем нам напряжение… — Ах, Валюта, милая, какая разница в счете — арифметический, физический он или моральный! Важно, что вам есть, что считать. А мне что считать? Тряпки свои? Или банки с французским кремом? Да пропади это все пропадом! — и она совершенно неожиданно, глухо, без слез, зарыдала. Аленка испугалась и стала гладить ее по волосам, по лицу, по рукам: — Тетя Аллочка, ну, миленькая, не плачь, ты же знаешь, что мы с мамой твои друзья… — Знаю, деточка, знаю, — Алла уже справилась с собой и глядела на Валю сухими блестящими глазами. — Что делать? Что делать? Это же бред какой-то, а не жизнь. Ведь мы не любим, не уважаем друг друга, не понимаем ни слова, хотя вроде оба говорим по-русски. Вот сегодня у него отгул — заперся с этим пьянчугой и о чем-то полдня шу-шу-шу да шу-шу-шу. Ни одного знакомого приличного — все рвань, подонки какие-то. Когда-то были у меня друзья. Всех до единого отшил. «Не пара они тебе, ни к чему они тебе, одна зависть да сплетни будут только!» Вот так зависть! Они уже все врачи да инженеры давно, а я — прислуга в орлоновом костюме. И чему завидовать? «Волге» экспортной? Так на кой черт она мне нужна, когда я больше пешком люблю ходить. Не могу больше! Надо что-то делать. Ведь мне двадцать пять лет уже! Все проморгала, везде к настоящей человеческой жизни опоздала. — Эх, Алла, если двадцать пять лет — это конец всего, то мне в свои тридцать пять что говорить? Вы добрый, неглупый и по природе своей здоровый человек, у вас еще так много всего впереди!Восемнадцать часов
Сегодня должна прийти беда. Какая? Откуда? Неизвестно. Но беда придет обязательно. Это Лиза знала точно. Она проснулась с ощущением беды. Даже не так. Это чувство пришло еще раньше. Она запомнила время — половина четвертого ночи. Лиза проснулась от духоты, и еще в дремоте привычно протянула руку к Генкиному лицу. Но рука повисла в воздухе, потом упала на пустую прохладную подушку. Лиза села рывком на постели — Генки рядом не было. В квартире тихо. Она встала и, не зажигая света, пошла на кухню. В рассветном голубом сумраке она увидела Генку. Он сидел на полу, прислонившись спиной к холодильнику, по-турецки скрестив под собой ноги. Голова свесилась на грудь Сначала ей показалось, что Генке плохо. И почти в то же мгновение увидела, что у него в руке тускло поблескивает черной сталью пистолет. Ей стало жутко. Она подошла к нему на цыпочках, надеясь, что это ей в темноте показалось. Нет, ей не показалось, это был самый настоящий пистолет. Такой был когда-то у отца, и она неожиданно вспомнила, что он называется «вальтер». «Боже мой, что же это? — в ужасе подумала она. — Неужели он из-за служебных неприятностей хотел покончить с собой? И откуда у него пистолет?» Она присела рядом с ним, и ею овладела такая же растерянность, как пятнадцать лет назад, когда она в один день потеряла родителей. Что же делать? Разбудить его и спросить? Но о таких вещах не спрашивают… Крот спал тяжело, ему снились какие-то кошмары. Он стонал и скрипел зубами во сне. И Лиза с горечью подумала, что дворника Степана Захаровича она знает лучше, чем самого дорогого ей человека. Чем он живет, чем занимается, где бывает — ничего ей не известно. Иногда ей казалось, что он вовсе не внешней торговлей занимается. Однажды бессонной ночью она вдруг подумала, что Генка контрразведчик. И так считала довольно долго, никогда не задавая вопросов. А потом эта мысль ушла как-то сама собой. У нее не было знакомых контрразведчиков, но она почему-то думала, что они совсем другие. Это должны быть твердые, убежденные люди. А Генка — нет, у него нет никаких убеждений. И твердости мужской тоже нет. Это она точно знала, хотя он и вел себя очень уверенно, даже нагло иногда. Лиза представляла себе, что он и на работе ведет себя так же и все считают его человеком очень твердым и решительным. Но она женщина, и она знает лучше всех. Не дай бог ему попасть в серьезные жизненные передряги: он их не вынесет. Слишком много сил уходит на показуху, ничего на фундамент не остается. В таких передрягах Генка может что угодно плохое сделать. И она должна уберечь его от этого, потому что она его любит и она его гораздо сильнее. Она это поняла давно. Вот, видно, и сбывается то, что она обдумывала долгими бессонными ночами. Пришли передряги. Она погладила его рукой по голове. — Геночка, тебе плохо? — А? Что? — встрепенулся Крот, глаза его смотрели бессмысленно. Он медленно приходил в себя. — Тебе плохо, Гена? Он повернулся к ней боком, стараясь незаметно засунуть «вальтер» в карман. — Что с тобой, Геночка? — Плохо мне, Лизок, плохо. Со здоровьем плохо — бессонница мучает, всю ночь по квартире болтался. — И все? — Все. А тебе этого мало? — По уши хватает. Поедем, Гена, на юг, в дом отдыха. Ты же извелся весь. Тебе надо отдохнуть, развлечься немного, и пройдут все твои неприятности. Крот обнял ее за голову. — Эх, Лизок, Лизок! Погоди немного. Еще недельку — и поедем. И все отлично будет… — Гена, а что за открытку ты получил для Виктора Михалыча? Крот задумался на мгновение. — Понимаешь, это дело весьма тонкое, и я бы не хотел его обсуждать. Меня и тебя это не касается. — А зачем у тебя дома пистолет? Крот посмотрел ей в лицо, и она увидела, как в его черных глазах заблестели светлые огоньки злобы. — Раз есть — значит надо. Так надо. — Это не ответ. — Ответ. Я тебе говорю, что ответ. — Потом отвел глаза и сказал: — Ты же не маленькая, должна понимать, что есть вещи, о которых никому не говорят. Никому. — Жаль. Тогда идем спать, здесь для этого не самое удобное место… Она не поверила ни одному его слову и пролежала до света без сна. Потом коротко, тревожно задремала и, когда проснулась, почувствовала: сегодня придет беда… Лиза работала в этот нескончаемый жаркий день, как всегда, аккуратно, вежливо, но без блеска, который делает хороших мастеров художниками. Она накручивала пряди волос, ловко надевала бигуди, промывала эти пряди в едком красителе, сухо щелкали в руках ножницы, вырастали холмы и бастионы сложных дамских причесок, она расписывалась в карточке и, кажется, беспрерывно говорила: «Следующая… следующая…» — и ожидала, задыхаясь от жары и непонятного страха, когда следующей войдет беда. И когда заведующая вышла в зал и сказала: «Лиза, загляни ко мне на минуточку…», она поняла — вот она, пришла. В маленьком кабинетике она увидела высокого парня. Заведующая сказала: — Вот это наша Лизочка Куликова, — извинилась и вышла, плотно затворив за собой дверь. — Присаживайтесь, Елизавета Алексеевна, — подвинул ей парень стул. — Спасибо, я постою. Рассиживаться некогда — у меня народ! — Видите ли, у нас разговор важный будет, так что лучше присесть — в ногах, как говорится, правды нет. А нам с вами одна правда нужна сейчас. И мне и вам. — А кто ж вы такой, чтобы я с вами только по правде говорила? — Я с Петровки, тридцать восемь. Инспектор Тихонов. Не слыхали? — Нет, — растерянно ответила Лиза и, еще не понимая, что к чему, подумала: «Вот оно!» — Ну вот, будем знакомы, — и Тихонов улыбнулся так белозубо-широко, что Лиза невольно ответила слабой вымученной улыбкой. — Елизавета Алексеевна, беседа у нас с вами будет большой, и я бы очень хотел, чтобы она получилась сердечной. — А зачем это вам? — Это не мне. Это нужно закону. И закон стоит за нас всех и за вас тоже. Мы с вами почти ровесники. Можно, я буду называть вас Лизой? — Да, конечно… — Мне надо, чтобы вы, Лиза, ответили на несколько вопросов. И давайте сразу договоримся: пусть у нашего разговора будет один пароль — правда! Идет? — Идет, — кивнула Лиза. — Вы знаете человека по фамилии Балашов? — Нет. — Лиза! — Я, честное слово, не знаю никакого Балашова! — Хорошо. Посмотрите тогда на эти фотографии, может быть, какое-то из этих лиц вам знакомо? Лиза посмотрела три фотографии и сразу же протянула Тихонову фото, на котором был изображен Балашов. — Это Виктор Михалыч! — Кто он? — Начальник моего Гены. Тихонов уже булькнул горлом, но вовремя затолкал обратно чуть не вырвавшийся вопрос. — Так, отлично. Это и есть Балашов. — Но я этого действительно не знала! — Я вам верю. Скажите, в каких вы с ним отношениях? Лиза пожала плечами: — Да я его видела всего раза два. — Вы знакомы семьями, бываете друг у друга в гостях? — Видите ли, товарищ Тихонов, я хорошо знаю его жену — она моя постоянная клиентка. А потом случайно обнаружилось, что он Генин начальник. Как-то раз он был у меня дома по делу. — Давно это было? — Весной еще. По-моему, в марте. — Что он у вас, Лиза, делал дома? — Он привел ко мне пожить на несколько дней их общего знакомого. — Знакомый после этого бывал у вас? — Да. Месяц назад. Пробыл один день. — Как он выглядел, этот знакомый? Постарайтесь поточнее вспомнить его внешность. — Пожилой, лет за шестьдесят, седой, с усиками щеткой, высокий, очень худой. Продолговатая голова, прическа с прямым пробором, глаза у него, по-моему, серые… — Прямо готовый словесный портрет! — воскликнул весело Тихонов. — Я же парикмахер, у меня взгляд профессиональный, — объяснила растерянно Лиза. — Лиза, вы не запомнили, как его звали? — Фамилию я вообще не знаю. А звали его Порфирий Викентьевич. — Взгляните, пожалуйста, может, вы его опознаете на этих фотографиях? Лиза безошибочно показала на фото Коржаева. — Так. Дальше. Вам известно имя Макс Цинклер? — Нет, никогда не слышала даже. — Это точно? — Мы же договорились! — Верно. Прошу прощения. А когда вы видели последний раз Балашова? — Вчера вечером. — В связи с чем? — Днем Геннадий получил какую-то открытку. Он плохо себя чувствует, поэтому попросил меня съездить к Виктору Михалычу на дачу и сказать, что письмо он получил. И попросил еще передать, чтобы он обязательно был завтра на каком-то совещании. — Ясно. Значит, Балашов с самой весны у вас дома не был? — Нет. Во всяком случае, я этого не знаю. — То есть как не знаете? Разве он мог без вашего ведома… — Но он мог приходить к Геннадию, когда я была на работе. — Геннадий — это ваш муж? — как-то между прочим, безразлично спросил Тихонов. — Да-а, — поколебавшись, ответила Лиза. — А он что, прописан у вас? — Нет. Мы с ним не зарегистрированы. — А как его полное имя? — Геннадий Александрович Тарасов. Он работает в Министерстве внешней торговли. — Раз уж у меня в кармане целый альбом, потрудитесь еще, пожалуйста, Лиза, взгляните, нет ли в нем вашего мужа? — Тихонов протянул ей фотографию Крота. Он задыхался. Засунув палец за воротник рубашки, Стас хотел отстегнуть верхнюю пуговицу, но пуговица не вылезала из размокшей петли, и он просто оторвал ее. — Он?! — Да, это Гена, — прошептала Лиза, держа в руках фотографию Крота. Она поняла: произошло что-то ужасное, и Генка имеет к этому отношение. Но как спасти его — она не знала. Врать? А что врать, когда она не знает, может быть, от вранья всем будет хуже! И ее Генке, и ей, и этому белозубому оперативнику, и всем, всем на свете! — Скажите, Лиза, ваш муж сейчас в Москве или, может быть, он в командировке? — Послушайте, товарищ Тихонов, я понимаю, что произошло что-то очень неприятное. Но я вас уверяю, что Геннадий здесь ни при чем. Он сейчас в отпуске и из-за того, что плохо себя чувствует, вообще не выходит на улицу уже две недели… — Лиза, мы условились говорить правду. Так знайте, что сегодня утром Балашов с преступными целями встретился у вас дома с неким гражданином. Поэтому мне нужно увидеться с вашим мужем, а в квартире сделать обыск.— Вот и пришла, — упали у Лизы руки на колени. — Что? — Нет, это я так, про себя… — Подождите меня здесь минуту, — Тихонов вышел в соседнюю комнату, оставив открытой дверь — чтобы видеть коридор. Набрал номер. — Борис Иванович? Я, Тихонов. Вышли на Крота, высылайте туда опергруппу. Пусть ждут меня около дома…
Девятнадцать часов
Солнце перевалило через крышу и яростно бросилось в окно. И настенные часы, будто разбуженные его лучами, вдруг заскрипели и надтреснуто ударили: бам-м! Крот вздрогнул, посмотрел на темный циферблат. Ой, как долго ждать еще! Хромой должен прийти завтра в это же время. Надо ждать еще сутки. Двадцать четыре часа. Тысяча четыреста сорок минут. А секунд — не счесть! Какие вы тяжелые, вязкие, минуты, без конца. «Будет там тюрьма или нет, а пока что мне Хромой одиночку организовал. Ох, како-ой змей! Заиграет он меня, как есть заиграет. Не дать долю просто так побоится: знает, что я пришью за это… Придумает что-нибудь. Но обманет обязательно! Да черт с ней, с долей! Дал бы только паспорт приличный и на дорогу, уехал бы отсюда на кулички куда-нибудь. От уголовки, от ОБХСС подальше, выбраться бы только из этой однокомнатной берлоги! А что толку? Милиция везде есть. Что же делать? Ох, тоска какая!» Крот взял в серванте оставленную Балашовым бутылку «Двина». Налил в стакан, морщась, большими глотками выпил. Нашел зеленое морщинистое яблоко, укусил раз, но есть не хотелось, и он выплюнул прямо на паркет. Завалился на тахту, закрыл глаза, и все мягко заколыхалось перед ним. Как задавила его эта хромая собака! Уж очень он умен, Хромой, нехорошо умен! Крот вспомнил свой первый разговор с ним. Сидел перед Хромым тогда тихонько, протирал платком стекла очков. Хромой остро глянул: — Ты зачем очки носишь? — Как зачем? — растерялся Крот. — По близорукости… — Врешь, — спокойно сказал Балашов, небрежно пояснил: — Маскируешься плохо. У близоруких людей без очков вид глуповатый, а у тебя — ишь какая хищная рожа! Ты, наверное, жаден очень? — Да нет… — Снова врешь. Да ты не смущайся. Мне такие люди нужны. — Потом сказал, и Крот не понял, всерьез или шутя: — Простые стекла в оправе тоже улика. Ты бы еще синие очки надел, как Паниковский… Давно было. Сколько воды утекло после того разговора. И вроде был уже момент, когда он мог прижать Хромого лопатками к полу. Да вот, гляди ж ты, — сам лежит, чуть жив, как милости, ждет подачки Хромого. Это свою-то долю! Кровно заработанную! А эта сволочь еще выкаблучивается: захочет — даст, не захочет — пошлет к черту. Дожил ты, Крот, до хорошей жизни… Не было сил злиться, орать, бесноваться. Он боялся думать о том, что будет, и думал только о том, что было и чего уже не вернешь. Зачем он согласился тогда ехать в Одессу? Ну разве можно быть таким идиотом? Не поеду — и все! Ну, поймали бы, допустим, — отсидел свой пятерик и вышел. Он молодой еще, здоровый. Женился бы на Лизке или на другой какой, прожил бы как-нибудь. Занялся бы прежним делом, коль работать не хочется. Не даром же он свою кличку носит. Крот вспомнил, как давным-давно он получил ее: чтобы не попасть на глаза милиции, как лицо без определенных занятий, заключил договор с конторой по заготовке пушнины. Все приятели завистливо хохотали, когда он показывал свой мандат, — где назывался «уполномоченным по отлову кротов». Не шутка же — факт! И дела свои потихонечку делал… «А сейчас — все! Особо опасный преступник! Если наследил у старичка в Одессе, каждый милиционер на улице меня теперь в лицо знает. Ой, что же я наделал! Как меня этот гад связал! На улицу выйти нельзя. Что же мне теперь — сгнить тут, что ли?» — Крот в возбуждении вскочил с тахты, пробежал по комнате. Налил еще стакан коньяка, жадно выпил. Эта вспышка обессилила его, он снова лег на тахту. «А почему Хромой меня так уговаривал никуда отсюда не выходить? А что, если он сюда уголовку наведет? Анонимкой. Мол, сидит беглый каторжник сейчас по такому адресу, пока все вы ушами хлопаете… Он же понимает, что я про него не заикнусь — иначе обязательно Одесса всплывет. А он пока что сдаст товар этому проклятущему Максу и нырнет куда-то на дно. Что же это я, совсем пропал? А вдруг все-таки наследил у старика и мне суд предложит принять девять граммов? Советский суд, он и жуликов не разрешает давить самовольно! Ах, хромая гадина, что же ты со мною сделал? Как заплел насмерть — вздохнуть нельзя! Словами своими закрутил. Липкие они у него, умные, много их — не вырвешься! Как это он любит говорить: «Главный твой порок, Крот, в отсутствии высоких принципов. Ты же ведь и девятую заповедь рассматриваешь только в свете сто сорок шестой статьи Уголовного кодекса»… Никого, никого не осталось! Джага, гад, кусошник, если бы не я, сдох бы в лагере! Я же его откормил ворованными пайками. И этот помоешник сейчас мне поет: «Независимость имею…» Ах, гнида несчастная! Дай мне бог только выкарабкаться отсюда — кровью плеваться будете, заплатите мне сполна за эту одиночку, на всю жизнь Крота запомните! …Лизка одна на всем свете меня любит. Больше ни один человек. Да и она-то наверняка какую-нибудь мыслишку при себе имеет. Думает, наверное, что я большой внешторговский босс, собирается со мной за границу ехать. А кукиш не хочешь? В тюрьму, в Потьму, со мной не желаете, дорогая невеста? Ах, не желаете! Вы, оказывается, вовсе собирались со мной в Монреаль, на Всемирную выставку? Так нате, выкусите! Вы, наверное, полагаете, что у меня в МИДе задержка с заграничным паспортом? Извините! В заграничном паспорте графа «фамилия» узкая — мои шесть фамилий туда не влезут. Вот так! Угодно? Нет? Катитесь тогда…» Крот прямо из горлышка допил остатки коньяка. «Нет, дорогой друг мой и компаньон, гражданин Хромой! Если вы уже отправили анонимочку, то милиция здесь найдет от мертвого осла уши. Вот так, уважаемый Виктор Михалыч! Уходить надо. Скорее. А если уже дом оцепили? Если у дверей возьмут? И за Коржаева?.. Красный свет зажигается за два часа и гонг…» Крот обессиленно упал на стул. Он был совершенно мокрый и чувствовал такое же головокружение, как утром в шкафу. Сейчас упадет в обморок… — Нет, врете, не упаду! Мне не хочется смотреть на красный свет, не хочу слышать гонг. Я жить хочу. Жи-ить! — заорал он. — Я не хочу умирать, а они чтобы все жили! Я не хочу умирать! — и вдруг, разорвав воротник рубашки, истерически зарыдал. Слезы текли по грязным небритым щекам, смешиваясь с каплями пота, оставляя в бороде темные потеки. — За что мне умирать? Я молодой, жи-ить, жи-ить! Тряслись руки, лицо, и он катался головой по столу, повторяя визгливым шепотом одно слово: «Жи-ить! Жи-ить!» Потом встал, обвел мутными красными глазами комнату. Стены были залиты кровавым багрянцем заката. «Уходить! Уходить отсюда скорее! Хромого потом по телефону найду. К старухе надо ехать в Останкино! Туда никто дорожки не знает». Он надел пиджак, взглянул на часы. Двадцать две минуты восьмого. Потом подумал, что так нельзя выходить на улицу: в таком виде, с бородой, с разорванной рубахой, он будет привлекать внимание. Побежал в ванну и, вырывая клочья волос, торопливо водил электробритвой по лицу. Умылся, пригладил волосы, надел чистую рубашку. Из шкафа достал чемоданчик, положил в него пачку бумажек, еще пару рубах, носки. А-а, черт с ними! Некогда. Надо написать пару слов Лизке. Но под рукой не было карандаша. Ладно, потом позвоню в парикмахерскую… Уже дошел до двери, вернулся. А что, если она испугается и заявит в милицию, будто он пропал? Снова начал шарить по карманам, но ручка куда-то запропастилась. Зажег спичку и обгорелым концом нацарапал на листе бумаги:«Я ушел. Позвоню. Гена».— Все, теперь все…
Девятнадцать часов тридцать минут
— Здравствуй, Шарапов, — сказал Тихонов. — Вы здесь давно? — Только что прикатили, — круглолицый, невысокого роста оперативник со спокойными голубыми глазами, взглянул на часы: — Ехали четырнадцать минут. Ребят послал посмотреть, нет ли черного хода. — Нет. Я уже узнавал. Но на шестом этаже есть чердачный переход. — Ясно. Пошли! — Пошли, отец. — Интересно, у него пушка есть? — Вы имеете в виду огнестрельное оружие, майор Шарапов? В переводе с жаргона?.. — Не язви, сынок, с моей клиентурой и не к тому привыкнешь. Это вам хорошо: клиент у вас интеллигентный, хоть про литературу с ним во время обыска беседуй. — Между прочим, клиент, к которому ты идешь с протокольным визитом, проходит по линии ОБХСС… — Ведомственные споры — это сейчас не актуально. — А я не спорю. Просто напоминаю, что вы мне приданы в усиление. И войду туда первым я. Шарапов покачал головой: — Не-е. Он в нашем розыске. — Ну, хватит, — твердо сказал Стас. — Я тебе сказал уже. Все. Он незаметно пощупал задний карман, в котором лежал пистолет. — Пошли. Тихонов подошел к машине, вытер с лица пот ладонью, открыл дверь. — Идемте, Лиза. И не волнуйтесь. Лизу трясло, хотя влажная духота на улице была уже нестерпима. Она взяла Тихонова за руку: — Что будет? Тихонов хотел улыбнуться, пошутить, но улыбка получилась кривая, и он сказал грустно: — Не знаю, Лиза. Это все очень сложно. — Потом подумал и спросил: — У него оружие есть? Лиза вспомнила холодный мерцающий блеск «вальтера» и заплакала. — Он совершил преступление? — По-видимому, да. И очень тяжкое. Она заплакала сильнее, и на шее у нее прыгал маленький комочек, и она никак не могла задушить своих слез, давилась ими. Тихонову казалось, что сердце у нее прыгает и рвется в горле и она не выдержит этой духоты, горя и напряжения. Он обнял ее за плечи и вошел с ней в подъезд. Сзади стоял, не глядя на них, Шарапов, и по его широкоскулому лицу было видно, что настроение у него отвратное. — Скажите, Лиза, я вас снова спрашиваю: у него есть оружие? — Не могу я, не могу! Ведь я его люблю! И это предательство… — Это не предательство, — сказал Тихонов, — это человеческая честность. Хотя бы потому, что я могу через минуту получить пулю в живот. И если это случится, то потом его расстреляют. Лиза молчала. Стас отпустил ее и повернулся к товарищам: — Топаем наверх, Шарапов. Открой только дверь лифта, чтобы кто-нибудь не вызвал сверху. Когда они уже были на площадке второго этажа, Лиза свистящим шепотом сказала: — Стойте. Стойте, Тихонов! Стас перегнулся через перила, холодно спросил: — Что? — У него пистолет есть. «Вальтер». И он, наверное, с ним никогда не расстается. Я видела его… Тихонов обернулся к Шарапову. — Во-о, дела-то! А, отец? Лиза бежала за ними по лестнице. — Подождите! Я пойду с вами. Я сама открою дверь. Я не хочу, я не хочу, чтобы его расстреливали… Я его дождусь… — Не ходите с нами, — остановил ее Тихонов. — Стойте здесь. Дайте мне ключ. Оставайтесь на месте, вы можете все испортить. Сейчас подойдут наши товарищи, вы обождите нас вместе с ними… — Потом спросил: — У вас цепочка на двери есть? — Нет. Они поднялись еще на один этаж. Постояли. — Что это ты так тяжело дышишь? — спросил, усмехаясь, Шарапов. — Жара. А ты? — А мне страшновато, — просто ответил Шарапов и негромко засмеялся. — Шарапов, ты ли это говоришь, старый сыщик? — Он, между прочим, приготовил нам для встречи вовсе не шампанское. Эта штука не только хлопает, она и бьет неплохо… — Ну, а?.. — Вот тебе и «ну»! Не боятся пуль только те, кто под пулями не бывал. Да чего тебе рассказывать, ты ведь сам штопаный?! — Поди-ка, чего шепну на ухо, — Тихонов подтянул его за рукав и сказал отчетливо: — Знаешь, Володя, мне тоже малость того… не по себе. Ну, не то, что я его боюсь! Не его! Очень жить еще охота! Внизу хлопнула дверь. Шарапов перегнулся и посмотрел вниз, в шахту: — Все, сынок, пошли. Там наши. Посмотрели друг на друга, и Шарапов пожал Стасу руку выше локтя: — Давай… Бесшумно поднялись на четвертый этаж, остановились перед дверью с табличкой «25». По телевизору, видимо, передавали футбол, потому что из двадцать шестой квартиры доносился гомон и неожиданно раздался мальчишеский крик: — Пенальти! Пендаля им! Тихонов достал из заднего кармана пистолет и переложил его в левую руку. В правой он держал ключ. Поплевал на него — чтобы не скрипел в замке. А может быть, на счастье. Вставил в скважину и неслышно повернул. Шарапов толкнул дверь плечом, и они вбежали в квартиру. Было тихо, сумеречно, пусто… — Ушел, гад! — простонал Тихонов. — Ушел только что! Вон сигарета в пепельнице еще не догорела… Оперативники заканчивали обыск. Дворничихи-понятые тяжело вздыхали, томились. Тихонов сидел перед Лизой, равнодушной, серой, безразличной. «Как зола в печке…» — подумал Тихонов. — Скажите, Лиза, — протянул он ей листок с черными каракулями, — куда он вам собирается звонить? — На работу, наверное. — А сюда он может вернуться? — Может. Только вряд ли. — Он свои вещи все забрал? — Нет. Вон его костюмы висят. — Володя, ты смотрел его вещи? Ничего нет? — обернулся он к Шарапову. — Как щеткой вычищено. Вот только в плаще посадочный талон на самолет. — Ладно, внеси в протокол, потом разберемся. — Лиза, как же вы не знаете, где он живет? — Так вот и не знаю. Не интересовало это меня. Мне важно было, чтобы он рядом… — У него свое жилье в Москве или он снимал? — По-моему, снимал комнату. — Ну район хотя бы знаете? — В Останкине где-то. Кажется, он говорил, что на Мавринской улице. Да-да, на Мавринской. Мы как-то в Ботанический сад ходили, и он сказал, что здесь неподалеку живет. — А номер дома или квартиры? — Не знаю. Помню только, что в старом домишке жил… — Почему вы думаете, что в старом? — Он жаловался всегда, что нет ванной, а он привык каждый день принимать. — Ладно, и на этом спасибо. Подошел Шарапов. — Ну, Владимир Иванович, что-нибудь интересное есть? — Ничего. — Оставляй засаду — и поехали…Двадцать один час
Стемнело сразу. Солнце провалилось в тяжелые клубящиеся облака, как монета в прореху. Но прохладнее все равно не стало. И оттого, что тягучий низкий голос Эдиты Пьехи из динамика страстно твердил: «Только ты, только ты…», дышать было, казалось, еще тяжелее. Валя села в кресле у окна, щелкнула зажимом на задней стенке проигрывателя. Изящная тонкая пружинка с грузиком на конце, незаметно прижавшись к подоконнику, свесилась наружу. За окном ярко вспыхнула зарница, похожая на далекую молнию. Настраиваясь на нужную волну, Валя вставила в ухо крохотный наушник и негромко, но внятно произнесла в маленький микрофон: — Луна, Луна, я Звезда, я Звезда… Прием. Повторила. В наушнике раздался треск. Валя пробормотала: «Вот черт! Разряды сильные… Гроза будет». После нескольких мгновений тишины раздался далекий, но отчетливо слышный голос: — Звезда, я Луна, вас слышу. Прием… — Докладываю. К наблюдению приступила, запрашиваю график связи… Прием. — Вас понял. Имеете непрерывную связь с оперативным дежурным. Прием. — Вас поняла. Отбой…Двадцать два часа
— Хошь сверху бросайся, — показал Тихонов на ажурный стакан строящейся телевизионной башни. Машины с визгом прошли поворот, фыркнули на последней прямой и влетели в ворота 138-го отделения. — Брось гудеть. Найдем, — ответил Шарапов. — Думаешь? — А чего там думать? Факт, найдем, — расплылся круглым своим лицом Шарапов. — Ты думаешь, он тебе только нужен? Мы его полтора года ищем, ищем, и вот он только первый раз всплыл. В дверях Тихонов пропустил Шарапова вперед, и они вошли в дежурную часть, жмурясь от света. Разомлевший от жары немолодой лысоватый дежурный говорил какому-то пьянчужке: — Давно тебя пора лишить родительских прав, раз навсегда совсем. Ну, какой ты ребятам родитель? Горе им от тебя одно. Вот и поставим этот вопрос перед комиссией, раз навсегда совсем… Пьяница горестно икал. Оперативники подошли к барьеру. — А, товарищ Шарапов! — уважительно сказал дежурный. — Здравия желаю. Что приключилось? — Поговорить надо. Дежурный встал, позвал из соседней комнаты старшину: — Быков! Замени меня, я с товарищами побеседую. Если этот, — он кивнул на пьянчужку, — будет проситься домой, не пускай покуда, пусть подумает о своем поведении, раз навсегда совсем… В маленькой комнатке устоялся тяжелый запах ружейного масла, сапожной ваксы и крепкого табака. Дежурный открыл зарешеченное окно. — Слушаю вас, товарищ Шарапов! Шарапов коротко объяснил, что им надо.Дежурный задумался. — Книг домовых-то у нас нет. В ЖЭКе они раз навсегда совсем. А паспортный стол давно закрыт. Прямо беда! Постойте, сейчас мы найдем Савельева, оперативника, это его территория, он ее как свои пять пальцев знает. Он вам сразу скажет, где можно искать. Поедет с вами, и возьмете того… — Раз навсегда совсем? — спросил серьезно Тихонов. — Что? — растерялся дежурный. — А, ну да!.. — Все ясно, — встал Шарапов. — Так что, звонить Савельеву? — спросил дежурный. — Он живо будет… — А где он живет? — поинтересовался Тихонов. — Да здесь же, на Третьей Останкинской. Подождете? — Некогда, — отказался Шарапов. — Вы нам дайте человека. Мы поедем к Савельеву домой, чтобы сразу тронуться — времени терять нельзя. А вы ему пока позвоните, чтобы собрался. Они вышли в дежурную часть. Быков читал «Вечерку», в углу тихо бубнил закипающий на плитке медный чайник. Пьяница сочно похрапывал на деревянной скамье. — Хорошо, Тихонов, а? Благодать? — Куда как. Ладно, поехали. Дежурный сказал Быкову: — Поезжай с товарищами к Савельеву. Покажешь квартиру… Машины рванулись на улицу. Тихонов повернул ветровик на себя и расстегнул рубашку. Тугая резиновая струя теплого ветра ударила в грудь. Тихонов жадно вдыхал его и не мог надышаться, потому что там, внутри, под сердцем, что-то пронзительно тонко, сверляще болело. «Набегался сегодня по жаре», — подумал он. Шофер неодобрительно покосился на него: — Прикройте окошко, товарищ Тихонов, а то вам насифонит… — Ерунда, дядя Коля, на улице сейчас, наверное, не меньше тридцати. — Ну да! Я по себе знаю эту паскудную погоду. Весь мокрый — как подует, так насморк готов. Как в аптеке. — Ничего, дядя Коля. Я здоров как бык. Сзади зашевелился тщедушный Быков: — Вот уж мне-то не повезло с фамилией. Прямо насмешка какая-то! При моей фамилии такую сложению щуплую иметь? — Сложение, Быков, пустяки, — сказал Шарапов. — Ты духом силен, наверное. — «Отличника милиции» имею, — гордо отозвался Быков. — А ты еще про сложение толкуешь, — засмеялся Тихонов. Машины выехали на площадь. В прожекторах холодно сияла кривая титановая игла — обелиск космонавтов. — Из титана весь. Самый прочный и тугоплавкий металл в мире, — показал на него Быков. Шарапов чиркнул спичкой, задымил папиросой. — На, Стас, закури. — Спасибо. Еще не научился. Шарапов затянулся, помолчал, потом сказал: — Я бы с ней поменялся на сегодня этими достоинствами… — С кем? — не понял Быков. — С иглой, — ответил Стас за Шарапова. Звонили в дверь долго. Ни звука. — Что же, нет его дома? — удивился Быков. — Он сменился с дежурства только, сказал, что спать идет. Может, спит так крепко? Позвонили еще раз. Открылась дверь соседней квартиры, вышла толстая немолодая женщина с дюжиной бигуди под капроновой косынкой. — Чего трезвоните? Нет их никого дома. — А Саша не заходил сегодня? — шагнул вперед Шарапов. — Заходил. Взял из холодильника продукты и поехал к теще. Ко мне заглядывал перед уходом, деньги оставил — за квартиру уплатить. — А вы не знаете случайно, где теща живет? — А кто вы такие будете? — В этот момент она увидела Быкова в форме, незаметного за широкими плечами Шарапова. — С работы, наверное? — Да. Он очень срочно нужен, — сказал с нажимом Тихонов. — Срочно! А у вас «несрочно» бывает? — сварливо сказала соседка. — Какая-то бесова работа — ни днем ни ночью покоя нет. Все добрые люди спят, а Сашке чуть не через день: «Вставай, срочно!» — Его для того и поднимают среди ночи, чтобы все добрые люди спать могли, — улыбнулся Тихонов. — Да куда вы на ночь глядя тещу его поедете искать? — Некогда нам утра ждать. Вы же сами говорите, что у нас в милиции всегда срочно, — подлизнулся Шарапов. — Не знаю я, где его теща живет. Точно не знаю. Только помню, что Сашка как-то говорил, будто его теща в одном доме с моей дочерью живет. — А как зовут его тещу? — Не знаю. Жену Галей зовут. — А вашу дочку? — Ксения Романовна. В Марьиной роще они живут, в Шестом проезде, дом восемь, квартира пятнадцать. — Спасибо большое… Садясь в машину, Тихонов задумчиво пробормотал: — Идет время, идет. Как бы Крот не надумал двинуться куда-нибудь… — Вокзалы, аэропорты и автостанции заблокированы. — Так. Ты, Быков, поедешь с нами. Ты у нас, — кивнул на его форму, — самый представительный сейчас… Оперативные «Волги» неслись в Марьину рощу. Нажимая кнопку звонка, Шарапов молча показал Тихонову на часы — без десяти одиннадцать. — Кто? — Откройте, пожалуйста. Из милиции. В освещенном дверном проеме стоял молодой человек в пижаме, с рейсшиной в руке. Другой рукой он поправил очки. — Проходите. Чем, простите, обязан? — Прежде всего просим прощения за беспокойство. Мы нуждаемся в помощи вашей супруги. В прихожую вышла женщина в коротком красивом халате. — Ксения Романовна? — Да. В чем дело? — Здравствуйте. Нас адресовала сюда ваша мама. Она живет рядом с нашим сотрудником, который находится сейчас в этом доме у своей тещи. Не знаете ли вы ее — дочку зовут Галя? — спросил Тихонов. — Мне кажется, что это Галя Степанова. Она в третьем подъезде живет, на четвертом или на пятом этаже. — Большое спасибо. И еще раз извините. — Ничего, ничего… Да, квартира их на площадке слева… Когда шли вдоль длинного, как пассажирский пароход, дома, Шарапов сказал: — Чувствуешь, ветерок подул? — Ветерок! Ты посмотри на небо лучше, какие тучи идут. Гроза будет. Самое время для Крота сейчас рвануть отсюда… Вошли в подъезд. Тихонов подергал замок на лифте. — Вот скажи мне, какой это идиот придумал лифты на ночь запирать? — Позвони в гортехнадзор. Наверное, надо так. — Кому надо? — Откуда я знаю? Наверное, чтоб детишки одни не катались. — Какие детишки? Ночью? — Слушай, придумай мне вопросы полегче. Я и так от этой духоты погибаю. Рубаху хоть выкручивай. На четвертом этаже позвонили. — Сашу Савельева можно видеть? — Здесь нет никакого Саши, — сердито ответили через дверь. Позвонили на пятом. Кто-то прошлепал по полу босиком, щелкнул замок. Перед нами стоял заспанный рыжий парень в трусах. — Вот он! — облегченно выдохнул Быков. — Здравствуй, Савельев. Ну и зарылся ты, я тебе скажу, — протянул руку Шарапов. — Здравствуйте, товарищ майор. Раньше морячки говорили: «Если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте». Заходите пока на кухню, а то мои нестроевые улеглись уже… Тихонов пустил из крана воду, долго ждал, пока сольется. Поискал глазами стакан, но на столике было так же чисто и пусто, как во всей кухне. Нагнулся и долго пил прямо из крана тепловатую воду, а жажда все равно не проходила. В груди притаилась боль, и Тихонов подумал: «Ладно, пустяки. Завтра отосплюсь, и все пройдет. Устал здорово». Савельев вошел в кухню, светя красными кудрями, как нимбом. Он был уже в брюках и рубашке. — Что, сам сообразил? — усмехнулся Шарапов. — Не в гости же вы пришли, — хмуро ответил Савельев. — Понятно, не в гости. В гости мы бы к тебе пораньше заглянули, — и без всякого перехода спросил: — Ты Крота помнишь, по сводке? Костюка Геннадия? — Да-а. Припоминаю… А что? — А то, что он на твоей территории окопался. Бледное лицо Савельева скривилось: — Вот чума! — Эмоции придержи. Давай подумаем, где он может жить на Мавринской улице. Дом старый, без ванны. — Сейчас, — Савельев вышел из кухни и вернулся минуту спустя с двумя стульями. — Садитесь, товарищ, — сказал он Тихонову, жадно вдыхавшему воздух из окна. — Это Тихонов, из управления БХСС. Они, собственно, на Крота и вышли, — представил Шарапов. Сели к столу. — Мавринская улица — пограничная полоса массовой застройки, — сказал Савельев. — Вся левая сторона — новые дома. Старые дома — только справа. Есть на правой стороне и новые. Старых домов у меня там… подождите, подождите… семь. Номера четвертый, шестой, десятый, четырнадцатый, шестнадцатый, двадцатый и двадцать восьмой. Так. Все они относятся к ЖЭКу номер восемь. Если хотите, давайте поедем сейчас к Берковской, она нам здорово может помочь. — Кто это? — Берковская? Ну, эта дама — целая эпоха Останкина-Владыкина. Она здесь всю жизнь прожила и лет двадцать работает в ЖЭКе. В новые дома много народу сейчас вселилось, за эти я вам не ручаюсь, а в старых домах она всех людей до единого знает. — Давай собирайся, поедем. — Голому собираться — только подпоясаться. Пошли. Подождите только — своим скажу. Оперативники вышли, дробно забарабанили каблуками по лестнице. Внизу их догнал расстроенный Савельев: — Жена к черту послала. «Житья, — говорит, — нет с тобой никакого». — Это она зря. Можно сказать, и без ее пожеланий туда направляемся, — бросил Тихонов. Шарапов захлопнул дверцу «Волги», весело сказал Савельеву: — Это, милый, пустяки. У тебя стажа еще маловато. От меня жена два раза уходила. Ничего! Возвращаются. Поехали!.. Дверь открыла девочка с длинненьким тонким носиком, с грустными черными глазами: — А мамы нет дома… — Где же Анна Марковна, Женечка? — спросил Савельев. — Она с тетей Зиной в кино пошла. — Тьфу, напасть какая, — разозлился Тихонов. Савельев только вступил в игру, у него сил было больше. — А в какое кино? — В парк Дзержинского. — Женечка, не знаешь, на какой сеанс? — На девять часов. — Странно, — взглянул на часы Шарапов, — если на девять, то она уже должна быть дома. — Не знаю, — пожала девочка худенькими плечиками. — А может быть, там две серии? Ты не заметил, когда проезжали, что идет? — спросил Тихонов у Шарапова. — Нет. — Давайте так: оставим здесь Быкова. Как придет Анна Марковна, пусть они вместе идут в отделение. А мы поедем к кинотеатру, может быть, картина действительно в две серии, — тогда сразу ее перехватим, — предложил Савельев. — Дело, — одобрил Шарапов. — Сколько же мне сидеть здесь? — взмолился Быков. — Часок посиди. Пока, — махнул рукой Савельев. Машины, шипя, рванулись к Останкинскому валу. — Ну и вечерок, накатаемся досыта, — хмыкнул Тихонов. — За это имеешь тридцать суток отпуска, — подмигнул Шарапов. — Боюсь, что он мне понадобится прямо завтра. — То-то, будешь знать нашу МУРовскую работу, — съехидничал Шарапов. — Конечно, работа, мол, только у вас. У нас — курорт… Паланга… Машины развернулись и встали около входа в парк. Савельев уверенно шел по сумрачным аллеям к кинотеатру. Когда перед ними вырос огромный плакат «Безумный, безумный, безумный мир», Тихонов облегченно вздохнул. Сквозь тонкие дощатые стены летнего кинотеатра доносились выстрелы, грохот, вопли, хохот зрителей. — Объявляется перекур. А ты, Савельев, пойди разведай, как там и что. Уселись на скамейку. Шарапов глубоко, со вкусом затягивался папиросой. Внезапно сильной тяжелой волной подул ветер. Дружно зашелестели листья над головой. Тихонов поглядел вверх: в небе вспыхивали и быстро гасли отсветы молний. Он вытер платком пот со щек, шеи, лба и подумал: «Как было бы хорошо, если б стреляли только в кино!» Спросил: — Как ты думаешь, Владимир Иваныч, мир действительно безумный? — Не-а, мир разумен. И добр. Нужно только уничтожить все, что плодит зло. — Ничего себе, простенькая работенка! — Была бы простенькая, не держали бы таких орлов, как мы с тобой, — засмеялся Шарапов. Вынырнул из темноты Савельев. Рядом с ним шла женщина. — Ты посмотри! — ахнул Тихонов. — Он вроде ее из кино выудил! — Здравствуйте, ребята, — просто, как со старыми знакомыми, поздоровалась женщина. В руках у нее была пачка вафель. — Сейчас мы с Савельевым подумаем, в каком доме это может быть, а вы пока погрызите, — протянула она оперативникам вафли. — Спасибо, — растерялся Шарапов. Анна Марковна о чем-то спорила с Савельевым, тот не соглашался, она напористо предлагала какие-то варианты. Потом Савельев сказал: — Анна Марковна уверена, что снимать комнату он может только у старухи Ларионихи. В других местах везде отпадает: или жить негде, или просто не сдают… Вновь ударил сильный порыв ветра. Он сорвал с какого-то динамика мелодичный звон, принес его сюда, напомнил: бьют куранты. Полночь. Начинается новый день. А Крот в это время…Полночь
Шадрин, стоя у открытого окна, прислушивался. — Слышишь? — повернулся он к своему заместителю Кольцову. Кольцов подошел к окну. Бам-м… — разносилось в теплой тишине летней ночи. — Куранты бьют, — задумчиво сказал Кольцов. — Полночь. Давай еще раз посмотрим план… Затихла музыка в «Эрмитаже», разошлись, поглядывая на грозовые тучи, последние посетители кинотеатра, шум откатился куда-то в глубь домов и переулков. Тихо. Изредка лишь на своей «Волге» прошелестит по улице бодрствующий таксист. Тихо и в большом здании на Петровке. Погасли бесчисленные окна на фасаде. На стене матово поблескивает белая табличка с цифрами «38». По тротуару, вдоль узорной решетчатой ограды прохаживается постовой милиционер. А со стороны переулка ярко светятся большие зеркальные окна помещения дежурного по городу. Здесь не спят. Виден свет и в двух окнах углового кабинета на пятом этаже. Здесь ждут важных новостей. Над шахматной доской склонился Приходько. Он играет с молодым инспектором УБХСС Толмачевым. Болельщики — сотрудники МУРа Ульянов и Воронович — внимательно следят за игрой и наперебой дают советы Приходько. Его шахматные порядки изрядно потрепаны. Впрочем, он не слишком этим огорчается, благосклонно выслушивает противоречивые советы болельщиков и охотно следует им в порядке поступления. К добру это не приводит: Толмачев собирает своих коней вблизи вражеского короля, плотно запертого собственными пешками. Он делает еще один ход, флегматично произносит: — Предлагаю сдаться. — Обойдешься. Это с твоей стороны некорректно. Мы еще повозимся, — собирается сражаться до последнего Приходько. — Ну-ну… Сергей, наморщив лоб, напряженно всматривается в позицию. Неожиданно Ульянов говорит: — Недолго мучилась старушка в злодея опытных руках… — «Матильдой» звали, — довольно ухмыляется Толмачев. Приходько, наконец, обнаруживает, что последним ходом коня Толмачев поставил ему «матильду». — Конечно, — оправдывается Сергей, — когда все тут бормочут в уши всякое разнообразное… Давай следующую! — А уговор? Приходько кряхтит, морщится, закуривает. Остальные молча, с интересом смотрят на него. Понимая, что здесь уж не отвертишься — уговор дороже денег! — Сергей выходит на середину кабинета, становится в позу оратора и лихо декламирует: — Я жалкое шахматное ничтожество! Мне бы в бабки играть да с мальчишками по улицам гонять собак, а не садиться с мастерами за шахматы! Громкий хохот покрывает последние слова неудачливого гроссмейстера. Оторвавшись от коричневой папки уголовного дела, Шадрин и Кольцов завистливо смотрят на ребят. — Оружие, технику проверили, орлы? — спрашивает, улыбаясь, Кольцов. — Курево, бутерброды запасли? — Не извольте беспокоиться, товарищ майор, — отвечает за всех удобно устроившийся Толмачев. — Укомплектованы, как маршевая рота. Лично проверял. Партнеры начинают расставлять шахматы снова. Однако эту партию Приходько не суждено проиграть… Зазвонил телефон, Шадрин поднял руку, и все разом смолкли. — Шадрин. Да-да, слушаю, Стас. Нашли? Ты думаешь, он там? А кто эта Берковская? Понятно. Шарапов согласен? Так. Хорошо, хорошо, сделаю. Проводника с собакой вышлю. Ладно, ладно, у нас все нормально, Связь имеем. Ну давай, Стасик, желаю удачи. Слушай… Ты ведь у нас большой гусар, смотри, Стас, не лезь напролом. Ну ладно, не буду… Давай, Стасик, счастливо… Ждем тебя!.. Брякнула трубка на рычаге. — Стас с Шараповым пошли брать Крота. У этого негодяя есть «вальтер», и неизвестно, сколько у него патронов. Приходько сдвинул доску в сторону. На пол упала пешка. Сергей сухо хрустнул пальцами…Час ночи
В наступившей тишине ветер хлестнул с неожиданной силой. Стукнула рама. — Прикрой, — сказал Балашов. Джага встал, кряхтя и тяжело посапывая, подошел к окну. — Гроза будет, Виктор Михалыч… — Это хорошо. А еще лучше, если бы она утром зарядила, да надолго. — Уж чего хорошего, — вздохнул Джага. — Ты что, грозы боишься? — Да не боюсь, а как-то не по себе: дьявольская это сила. — Ты, может быть, в бога веришь? — Как вам сказать: верить не верю, а с почтением отношусь… — Это почему? — А вдруг он есть, бог? Или что-нибудь в этом роде? А потом спросится за все, а? — Хм, коммерческий подходец у тебя ко всевышнему! — А как же? Обратно ж, в нашем деле удача все решает… — Тоже мне джентльмен удачи! — зло засмеялся Балашов. — Не. Я не жентельмен. Я человек простой, но свое разумение имею. — Какое же это у тебя разумение? — Я так полагаю: когда господь бог, если он есть, делил человеческий фарт, то нарезал он его ломтями, как пирог. А народу много, и все свой кусок отхватить хотят. У кого, значит, голова вострее, а локти крепче, те первыми к пирогу и протолкались. Посочней ломти, с начинкой разобрали. А те, кто головой тупее да хребтом слабее, при корках и крошках остались. — Ты эту библейскую политэкономию сам придумал? — От батяни слышал. — Твой батяня, видать, крупный мыслитель был. Кулак, наверное? — Почему ж кулак? — обиделся Джага. — Не кулак. А хозяин справный был. Разорили. Дочиста разорили, босяки. Когда погнали лошадей на колхозный двор, думал, батяня кончится — почернел аж. — А где ж была твоя вострая голова тогда да крепкие локти? — Ну-у! Они ж миром всем грабили. Обчеством, погибели на них нет! — Подался бы в банду… — Не. Вот батяня подался тогда. Через месяц притащили, перед сельсоветом бросили — дырка от уха до уха. — А ты? — А чего я? Я жить хочу… — Значит, созидаешь общество, против которого шел твой батяня? — Я им насозидал, как же! Дня не работал на месте, где украсть нельзя… — Так ты ж полжизни в тюрьмах провел! — Это факт. Не любят, они, когда мы того… Да уж тут ничего не сделаешь. Сила солому ломит. Потому и вас нашел… — А я тебе Христос Спаситель? — Не. У вас голова острая, а у меня локти крепкие. — А если на Петровке найдется голова повострее да локти покрепче? — Риск — благородное дело. И опять же — кто смел, тот и съел. — Ты у меня прямо сказитель народный… — сказал Балашов. Подумал: «Нет, не должно быть головы вострее. Все продумано до секунды, до детальки мельчайшей. Этот кретин по-своему прав: их сила в том, что все они — миром. Никогда бы им не сыграть со мной один на один. Но они все вместе. А я один. Совсем один. И некому даже рассказать, похвастаться, как один человек обыграл огромную машину. Интересно, Джага догадывается, что я замыслил? Вряд ли. Об этом знают еще два человека на свете — Макс и Крот. За Макса можно быть спокойным. А вот Крот? С Кротом надо как-то разобраться… Ах, если бы только завтра все удалось! Должно, должно, должно удаться! Крот свое дело сделал, и его необходимо убрать. Его не должно быть теперь. Опасен, знает очень много. И в милиции сильно засвечен. Даже если потом найдут его почтенный прах, вряд ли директор Новодевичьего кладбища станет искать ему участок. Беглый вор — решат, что с уголовниками-подельщиками не рассчитался… Кому он нужен — искать концы? Вычеркнут из розыска и спасибо скажут. Значит, решено. Теперь с Джагой. Завтра, тьфу-тьфу, не сглазить, возвращаюсь с операции, даю куш в зубы — и пошел к чертовой матери! С семи часов тридцати минут он из фирмы уволен. Раз и навсегда. Он пьяница и рвань. Обязательно сгорит на каком-нибудь деле. Это он тут такой философ-молодец, а на Петровке ему язык живо развяжут. Поэтому больше с ним — ни-ни-ни. Если не будет Крота, Джага — единственный свидетель. Допустим, засыплется на чем-то и его зубры с Петровки «расколют». А дальше что? Доказательства? Никаких. И все тут. На одном показании дело в суд не пошлешь. Надо позаботиться, чтобы к завтрашнему вечеру в доме винтика, стрелочки не осталось. И вообще, пора кончать с часовой деятельностью. Время уже поработало на меня неплохо…» Джага спал в кресле, свистя носом. Толстая нижняя губа отвисла, на подбородке показалась струйка слюны. «Свинья, — подумал Балашов. — Дай ему хутор, пару лошадей, так его от счастья понос прохватит. Хотя он уже так развращен, что его даже на себя работать не заставишь. Вот украсть — это да! Тут он мастак. Ох, как вы мне надоели, мерзкие рыла! Смешно, что мы с ним рядом толкаемся в очереди за жирными пирогами… …Только бы вышло завтра! Только бы вышло! Всех, всех, всех обмануть, вывернуться, уйти! И пусть, пусть никто не увидит, как вырву себе свободу…» Он сидел в кресле долго, неподвижно, пока не задремал…Два часа ночи
Они вылезли из машины, и Стас поразился тишине, которая повисла над Останкином. Ветер сник, но духоты уже такой не было. Тихонов поднял вверх лицо, и сразу же ему попала в глаз большая капля. Вторая ударила в лоб, в ухо, щекотно скользнула за шиворот. Пошел теплый тяжелый дождь. Голубая змеистая молния наискось рассекла темноту, и Тихонов увидел, что Шарапов тоже стоит, подняв лицо вверх, и открытым ртом ловит капли дождя. Глухой утробный рокот за горизонтом смолк на мгновение, и вдруг небо над ними раскололось со страшным грохотом. От неожиданности Савельев даже вздрогнул и съежился. — Рано ежишься, — толкнул его в бок Шарапов. — Ты грозы не бойся, она нам сейчас на руку. — А я и не боюсь, — мотнул головой Савельев. Шарапов сказал: — Ты кепку надень. — Зачем? — удивился Савельев. — У тебя волосы в темноте, как светофор, горят. Савельев и Тихонов негромко засмеялись. Подъехала «пионерка». — Вот и проводник с собакой, — сказал Шарапов, и все облегченно вздохнули, потому что ждать в таком напряжении было невмоготу. Они стояли за квартал от дома Ларионихи. Подошли еще два оперативника. Дождь размочил папиросу Шарапова, и он бросил ее в быстро растекавшуюся лужу. Снова раздался чудовищный удар, и в неверном дрогнувшем свете молнии Тихонов заметил, что у Шарапова очень усталое лицо и тяжелые мешки под глазами. — Внимание! — одним словом Шарапов выключил всех из прошлого, из забот, из всего, что сейчас могло отвлечь и что не входило в короткое режущее слово «операция». — Внимание! Окна в доме открыты. Все они выходят на фасад. Черного хода нет. К двери идут Тихонов и проводник Качанов с собакой. Ты ей, Качанов, объясни на ее собачьем языке, чтобы она, упаси бог, не тявкнула. Савельев, Аверкин и Зив занимают место под окнами в мертвой зоне — если будет стрелять из комнаты, он в них не попадет. Я на машине подъеду одновременно с вами и наведу прожектор на окна. Включаю и выключаю прожектор по команде Тихонова. В окна прыгнете все сразу. Тихонов подумал, что он зря так настаивал на том, чтобы идти первым. Шарапов оставил себе самое опасное место — под прожектором, он все время на свету будет. Но теперь уже поздно рассуждать. — Все ясно? — переспросил Шарапов. — Пошли! Снова ударил гром. Шарапов легонько хлопнул Тихонова ладонью по спине, и из мокрого пиджака в брюки ливанула вода. — Давай, Стас. Ты счастливчик, я верю… Дождь взъярился, как будто мстил за весь иссушающий знойный день, который начался когда-то очень давно и все еще не кончился, и конца ему не было видно, и будет длиться он, наверное, вечно. Стас пошел через стену дождя и заорал Савельеву во весь голос, потому что вокруг все равно шумело, трещало и ревело: — Не торопи-ись смотри! Прыгнете, когда кри-икну! До дома было сто шагов. И Тихонов прибавил шагу, чтобы быстрее дойти и не думать о том, что болит где-то в груди и что Крот будет из темноты стрелять, гад, как в тире. И почему-то не было звенящего внутри напряжения, как в парикмахерской, когда говорил с Лизой, а в голове продолжала обращаться вокруг невидимой оси одна мысль: «Возьмем, возьмем, возьмем! Не убьет, не убьет, не убьет!» Потом подумал: «А почему их надо живьем, гадов, брать, когда, они в тебя стреляют?» Махнул оперативникам рукой и, нагнувшись, пробежал к крыльцу через палисадник. Тяжело топотнул вслед Качанов, и неслышной тенью скользнула собака. «Тише», — зло шепнул Тихонов, оступился в глинистую лужу и подумал некстати: «Пропали мои итальянские мокасы». Грохнуло наверху с такой силой, что у Тихонова зазвенело в ушах. Молния судорогой свела небо, и Стас увидел, что «пионерка» беззвучно подъехала к палисаднику. Ну, все, можно. Стас нажал на дверцу сенцов, и она со скрипом подалась. От этого мерзкого скрипа замерло сердце, но тотчас же снова загрохотал гром, и море этого шума поглотило все другие звуки. В сенцах было тише, но густая беспорядочная дробь на железной крыше отбивала тревогу, не давая вздохнуть, остановиться, повернуть назад. Тихонов мазнул фонариком по сеням, и мятый желтый луч вырвал из мглы ржавые ведра, банки, тряпье, доски и лом. «Когда-то я очень любил стук дождя. А лом — это хорошо», — подумал Стас и заколотил в дверь. На улице гремело уже без остановки, и Тихонову казалось, что это он выбивает из старой дощатой двери гром… …Гром ударил над самой крышей, как будто огромной палкой по железу, и Крот открыл глаза. Гром. И стук. Нет, это не гром! Это стучат в дверь. Он лежал одетый на диване. Стук. Стук. Шарканье и шепот: «Господи Иисусе, спаси и помилуй… Святой Николай-заступник…» Он распрямился, как сломанная пружина, и прыгнул на середину комнаты. Старуха перекрестилась на желтый, тускло мерцавший под лампадой киот и направилась к двери. Крот схватил ее за кацавейку, но старуха уже громко спросила: «Кто?» — Откройте, из милиции! Старуха не успела ответить и полетела в угол. Она шмякнулась тяжело, как старый пыльный мешок, и в ее белых, выцветших от старости глазах плавал ужас. Она повернула голову к иконе и хотела еще раз перекреститься, но сил не хватило, и она только смотрела в холодные бесстрастные глаза бога, и по ее серой сморщенной щеке текла мутная слеза… — Откройте, Евдокия Ларионовна! Крот перебежал через комнату и, подпрыгнув, задул лампадку. Все погрузилось в мрак, и только дождь, разрываемый глухим треском, неистовствовал за окном… В окно, только в окно! Держа в руке «вальтер», Крот отбросил раму, и тотчас же в глаза ударил палящий сноп голубоватого света. Свет рассек дождевую штору, и в нем плясало много маленьких дымящихся радуг. Крот выстрелил навскидку в свет, что-то хлопнуло, и свет погас. Но Крот уже рванулся от окна — там хода нет! Дверь затряслась, и он услышал злой, дрожащий от напряжения голос: — Крот, открой дверь! — Ах, падло, я тебе сейчас открою! — прохрипел Крот и два раза выстрелил в дверь — тра-ах! тра-ах! Тихонов почувствовал соленый вкус на языке, и сразу же заболела губа. Черт! Прикусил от злости! Вот, сволочь! Стреляет. Но в дверь можешь стрелять до завтра — эти номера мы знаем… Стоя за брусом дверной коробки, он подсунул в щель под дверью лом. — Евдокия Ларионовна! — закричал он. — Лягте на пол! Крот снова метнулся к окну. И снова в лицо ударил свет, злой, безжалостный, бесконечный. Он отошел в угол комнаты. «Вот тебе Хромой и отвалил долю. Полную, с довеском. Девять граммов на довесок. Ну, рано радуетесь, псы, так меня не возьмете!» Свет прожектора заливал комнату призрачным сиянием. Отсюда стрелять по нему нельзя. Подойти к окну — застрелят. В углу всхлипывала и хрипела старуха. — Костюк, я тебе последний раз говорю: сдавайся! Крот закрыл лицо ладонями. «Господи, что ж я, зверь? Загнали, загнали совсем…» Дверь заскрипела натужно, пронзительно, и Крот снова выстрелил в нее. Полетели щепки. Пуля звякнула по лому. Тихонов почувствовал, что все его тело связано из железных тросов. Зазвенела жила на шее, и дверь с грохотом упала в комнату. Качанов прижался к стене, держа овчарку за морду. Тихонов, стоя с другой стороны, поднял руку и, набрав полную грудь воздуха, закричал: «Гаси-и!» Тотчас же погас прожектор. Качанов, наклонившись к собаке, шепнул: «Такыр, взять!» В неожиданно наступившем мраке Костюку показалось, что он ослеп, но ужас подсказал ему, где опасность, и, не разобрав даже, что это, выстрелил навстречу метнувшемуся на него серому мускулистому телу. Овчарка успела ударить его в грудь, и, падая, он выстрелил еще раз в рослую тень в дверях, но Савельев уже перепрыгнул через подоконник в комнату. Полыхнула молния, и Савельев увидел на полу в квадрате света неловко повернутую кисть с пистолетом, и эта кисть стремительно приближалась, росла, и Савельев всю свою ненависть, все напряжение сегодняшней ночи вложил в удар ногой. Пистолет отлетел под стол. Аверин схватил Крота за голову, заворачивая нельсон. Металлическим звоном брякнули наручники… Кто-то включил свет. Тихонов сидел на полу, зажав лицо руками. К нему подбежал Шарапов: — Ты ранен? — По-моему, этот гад выбил мне глаз… Шарапов отвел его руки от лица, внимательно посмотрел. И вдруг засмеялся: — Ничего! Понимаешь, ничего нет! Это тебя пулей контузило немного. Тихонов болезненно усмехнулся: — Мне только окриветь не хватало… Врач делал укол старухе. Суетились оперативники, понятые подписывали протокол обыска. Тихонов, закрыв ладонью глаз, перелистывал четыре сберегательные книжки на имя Порфирия Викентьевича Коржаева… — Посмотри, что я нашел, — протянул ему Шарапов тяжелый, обернутый изоляционной лентой кастет. — В пальто его, в шкафу лежал. Тихонов подкинул кастет на руке. — Ничего штучка. Ею он, наверное, Коржаева и упокоил. Савельев сказал: — Столько нервов на такую сволоту потратили. Застрелить его надо было. Тихонов хлопнул оперативника по плечу: — Нельзя. Мы не закон! Закон с него за все спросит… Крот, в наручниках, лежал на животе как мертвый. Тихонов наклонился к нему, потряс за пиджак: — Вставай, Костюк. Належишься еще… Дождь стал стихать. Шарапов сказал: — Ну что, сынок, похоже, гроза кончилась… — У нас — да. Было три часа ночи…Три часа ночи
…Балашов просыпается не сразу. Он открывает глаза. И сразу же раздается оглушительный треск. Небо за окном озаряется голубым светом. Из открытого окна в комнату хлещет дождь. Джага сонно сопит в кресле напротив. «А гроза сейчас кстати. На двести километров вокруг ни души, наверное». Толкнул ногой Джагу: — Вставай, тетеря! — А-а? — В ухо на! Вставай, пошли… На веранде Балашов накинул плащ на голову, раздраженно спросил: — Ну, чего ты крутишься? Идем! — Накрыться бы чем, ишь как поливает, — неуверенно сказал Джага. — Боишься свой смокинг замочить? Ни черта тебе не будет! — и шагнул наружу, в дождь… …Момента, когда отворилась дверь балашовской дачи, Валя не заметила. Только когда хлопнула крышка багажника тускло блестевшей в струях дождя «Волги», она увидела две серые тени с канистрами в руках. Громыхнул еще раскат, и тотчас же, как будто ставя на нем точку, с легким звоном захлопнулся багажник. Двое растворились в дверях дачи. Снова вспыхнула молния, и снова грохот…Половина четвертого
— До самой границы Цинклера все равно брать не будем, — сказал Кольцов. — Толмачев уже сообщил в Брест. Там нас будут ждать. — Надо только не спугнуть его по дороге, а то он живо груз сбросит. Шадрин открыл пачку сигарет — пусто. Он достал из ящика новую, распечатал. — Это какая уже за сегодня? — спросил Кольцов. — Ишь ты, за сегодня! Наше сегодня началось вчера. А кончится когда — еще неизвестно. — Самый длинный день в году, — усмехнулся Кольцов. — Мы Цинклера трогать не будем, пока не заполнит таможенную декларацию. Тут ему уже игры назад нет. Взят с поличным. — За ребят наших волнуюсь — там, с Кротом… И сразу же зазвонил телефон: — Товарищ Шадрин? Докладывает дежурный сто тридцать восьмого отделения Трифонов. Ваши товарищи уже взяли Костюка и выехали на Петровку, минут через пятнадцать будут. — Пострадавших нет? — Нет. Промокли только сильно и синяков, конечно, парочку схватили… — Спасибо большое! — Шадрин радостно засмеялся. — Ульянов, зови Приходько скорее, он по коридору ходит, нервничает. И снова звонок. В наступившей тишине был слышен голос оперативного дежурного, бившийся в мембране телефона: — Товарищ Шадрин! Сообщение от Звезды: десять минут назад ваши клиенты в темноте, под дождем, вынесли из сарая и погрузили в машину четыре канистры с бензином, после чего вернулись домой. В помещении темно. Ваши распоряжения? — Продолжать работу. В район наблюдения выходит спецмашина. Все. — Интересно, что это Балашов так бензином загрузился? — сказал Шадрин Кольцову. — Неужели в дальний путь собрался? Как-то маловероятно, ведь он же должен быть на работе. Тогда зачем ему столько бензина? — Непонятно пока. Ладно, на месте разберемся, Борис, со мной поедет Толмачев. Я хочу сам присмотреть за Балашовым. А ты минут через пятнадцать посылай ребят перехватить Цинклера… Провожая вторую группу, Шадрин напомнил Приходько: — Цинклер распорядился разбудить его в пять тридцать. Не исключено, однако, что эта старая лиса может вылезти из норы раньше. Так что смотрите не прозевайте. Ну, ни пуха… — Эх, жалко, хотел Стаса повидать, — сказал Приходько. — Ничего, отложим вашу встречу до завтра. — Вы имеете в виду — до сегодня, до утра. — А, черт. Конечно. Сегодня уже идет полным ходом. Удачи вам, ребята… Распахнулись ворота. Оперативная машина стремительно вылетела в переулок. На повороте пронзительно заскрипели покрышки. Еще дымился мокрый асфальт, на улицах гасли фонари. Откуда-то издалека донесся короткий тревожный вскрик сирены оперативной машины…Четыре часа утра
Крот сидел на стуле боком, глядя в окно. Тихонов подошел к выключателю, повернул его, и, когда в комнате погас свет, стало видно, что утро уже наступило. — Вот мы и встретились, наконец, гражданин Костюк, он же Ланде, он же Орлов… — Я к вам на свидание не рвался. — Это уж точно. Зато мы очень хотели повидаться. Вот и довелось все-таки. — А чего это вам так не терпелось? — нагло спросил Крот, пока в голове еще умирала мысль: «Может быть, не все знают…» — Во-первых, Костюк, должок ваш перед исправительно-трудовой колонией не отработан… Крот перехватил вздох. — А во-вторых, есть у меня еще один вопрос к вам. — Это какой же еще вопрос? Стас перегнулся через стол и, глядя Кроту прямо в глаза, спросил тихо: — Вы за что Коржаева убили? Крот отшатнулся и медленно, заплетаясь языком, сказал: — К-какого К-коржаева? — Одесского Коржаева. Вашего с Хромым да с Джагой компаньона. — Я не знаю никакого Коржаева! — закричал визгливо Крот. — Что вы мне шьете, псы проклятые! Не видел, не знаю никакого Коржаева. Пушку держал, за это отвечу, а чужого не шейте! А-а!!! Тихонов сидел, спокойно откинувшись в кресле, чуть заметно улыбался. Крот заходился в крике. Тихонов вдруг резко хлопнул ладонью по столу, и Крот от неожиданности замолк. Стас засмеялся: — Вот так, Костюк. И не вздумай мне устраивать здесь представление. Мне с тобой сейчас некогда возиться. Может быть, когда Балашов тебе расскажет, зачем ты ездил в Одессу две недели назад, ты вспомнишь, кто такой Коржаев. — Вот и спрашивайте у того, кто вас послал ко мне. — Глупо. Нас послал закон. И ты сам себе отрезал пути к отступлению, потому что единственное, на что ты еще мог рассчитывать, — это снисхождение суда за чистосердечное раскаяние. — Я никого не убивал, — упрямо сказал Крот. — Это Хромой на меня со злобы настучал. Он сам вор. — Ты мне отвечай на мои вопросы. О Хромом я не меньше тебя знаю. Последний раз я тебя спрашиваю: за что ты убил Коржаева? — Никого я не убивал. Тихонов посмотрел на него испытующе: — Я и раньше знал, что ты вор и убийца. Но я думал, что ты не глуп. Смотри, — Тихонов открыл стол, достал оттуда кастет и сберегательные книжки. — Вот этим кастетом ты проломил Коржаеву череп. А это сберегательные книжки, которые ты у него украл после убийства. А мы их нашли за батареей на твоей хазе в Останкине. Ты собирался получить вклады по этим книжкам, подделав подпись Коржаева, но побоялся сделать это сейчас, дожидаясь, пока дело немного заглохнет. Так? Да вот, видишь, не заглохло. Будешь теперь говорить? — Не знаю я ничего и говорить ничего не буду. — Смотри, дело хозяйское. Я к тебе, честно скажу, никакого сочувствия не испытываю. Но мой долг тебя предупредить еще раз: нераскаявшихся преступников суд не любит и отмеряет им полной мерой за все их делишки. — Из заключения бежал — это было. А остальное — вы еще докажите, что я преступник. — А тебе мало? — Мало. Никакого Коржаева я не знаю, а книжки вчера нашел в Останкинском парке. Тихонов подошел к открытому окну, облокотился на подоконник, внимательно посмотрел на Крота. Несмотря на утренний холодок, у Крота струился по лицу липкий пот. Глаза покраснели, вылезая из орбит, тряслись губы, пальцы, дрожали колени. «Какая же они все-таки мразь», — подумал брезгливо Стас. — Испытываешь мое терпение, Костюк? — Не виноват я. Вы докажите… Это ошибка. — Ладно, допустим, хотя все, что ты говоришь, — низкопробная трусливая ложь. Час назад ты стрелял в меня и в моих товарищей, а сейчас требуешь юридических доказательств того, что ты преступник. Хорошо, я тебе их приведу. Отвечай: когда ты был последний раз в Одессе? — Никогда вообще не был. — Снова врешь. Тогда я тебе это расскажу. Всю первую декаду июля шли дожди. И когда ты поехал в Одессу, ты взял на всякий случай плащ-дождевик. Шестнадцатого числа, в день твоего отлета из Одессы, там моросил дождь. Оформив на посадке билет, ты положил его в этот бумажник, в карман пиджака. На перронном контроле ты предъявил посадочный талон и засунул его по рассеянности в карман плаща. В Москве самолетный билет ты сразу выбросил, а про посадочный талон со штампом Одесского аэропорта позабыл. Поскольку ты эти две недели на улицу не вылезал, твой плащ преспокойно висел в шкафу у Елизаветы Куликовой. А в плаще не менее спокойно лежал твой посадочный талон. Устраивает тебя такое доказательство? — А может быть, я просто так не хотел говорить, что я был в Одессе? Я туда лечиться, может, ездил? — И по пути заглянул к Коржаеву? — Не знаю я никакого Коржаева. — Эх ты… Смотри, вот дактилоскопическая пленка с отпечатком указательного пальца правой руки, который ты оставил на настольных часах Коржаева. Ясно? — Не виноват! Не винова-ат я! — закричал истошно Крот, захлебываясь собственным воплем. — Хромой, собака, заставил! — Замолчи! — крикнул Тихонов. — Даю тебе последний шанс: где встречается Хромой с иностранцем? — На сто восьмом километре Минского шоссе. Я сам сказал, я сам, запомните!..Пять часов утра
— …Альфа, Альфа! Я Луна, я Луна! Прием, — Шадрин по привычке, как в телефонную трубку, подул в микрофон и сразу же услышал в наушниках далекий, измененный шумом и расстоянием голос Кольцова: — Я Альфа, я Альфа. Прием. — Луна. Вношу уточнения по новым сведениям. Встреча объектов состоится через два часа на сто восьмом километре Минского шоссе. Подтвердите слышимость. — Я Альфа. Вас слышу отлично. Благодарю… — Вега, Вега! Я Луна, я Луна! Прием… Голос Приходько метнулся в комнату мгновенно, как будто он стоял за дверью: — Я Вега! Прием. — Я Луна. Ваш объект направится в сторону Минского шоссе. Встреча намечена на сто восьмом километре. Предлагаю поблизости от точки рандеву выпустить его вперед. Подтвердите… — Я Вега. Хорошо слышу. Вас понял. Это что, уже Крот толкует? — не удержался Сергей. — Я Луна! Все в порядке, не нарушайте график связи, — улыбнулся Шадрин. — Отбой…Половина шестого
— Счастливого пути! Приезжайте к нам снова, — сказала дежурная. Макс Цинклер шел гостиничным коридором и думал о том, какой же это все-таки дурацкий народ. Чего ради, спрашивается, его гак сердечно провожает эта дежурная? В хороших отелях Европы прислуга вышколена не хуже, но их сердечность оплачивается чаевыми. А эти же и чаевых не берут! Может быть, это идет от их традиционного гостеприимства? Нет, так не бывает. Только деньги порождают обязательства. Он предпочитает иметь дело с такими, как этот хромой разбойник. Сонный швейцар вынес к машине его чемодан, помог уложить в багажник. — Счастливого пути! — приложил руку к зеленой фуражке. Цинклер протянул ему полтинник. Швейцар улыбнулся: — Вот этого не надо. Провожать гостей входит в мою обязанность. Цинклер ничего не ответил, сел в машину, зло захлопнул дверь. «Дурацкая голова! Страна дураков! Пожалуй, приеду снова на следующий год. Договорюсь с Балашовым и приеду…» Мотор вздрогнул, зарычал. Упали обороты — вздохнул, ласково зашелестел. Цинклер посмотрел на часы: 5.35. Пора трогаться. Он посмотрел налево, направо. Улица еще безлюдна и тиха. Отпустил педаль сцепления — баранку налево, включил мигалку, — баранку направо, выехал на Ботаническую улицу. «С нами бог!..» — Давай поехал, — сдавленным голосом сказал Приходько. Сзади, метрах в пятистах от них, стремительно спускался по Ботанической улице белый «мерседес». Но оперативная «Волга» уже набирала обороты, и расстояние сокращалось очень медленно. Потом скорости сравнялись, и они пошли с одинаковым интервалом, впереди — серая «Волга», сзади — белый «мерседес». Мелькнул слева Шереметьевский музей, вход в Останкинский парк. Дымящийся утренний туман зацепился за телевизионную башню. — Вот здесь где-то Стас брал Крота, — сказал Приходько. Впереди ехала одинокая «Волга». «Наверное, в центр едет, надо тянуться за ней, а то еще запутаюсь в этих поворотах, — подумал Цинклер. — Ничего, с нами бог…» — …Ну-ка нажми посильнее, — сказал Сергей. — Он теперь никуда не денется. «Волга» проскочила путепровод, с шелестом и свистом пошла по Шереметьевской. С поворота было видно, как на путепровод влетел «мерседес». — Луна, Луна! Я Вега, я Вега! Прием! — Я Луна. Прием. — Я Вега. Веду за собой объект на дистанции полкилометра. На Садовой собираюсь выпустить вперед. — Добро, — голос Шадрина звучал немного надтреснуто. — Вы устали, наверное, Борис Иваныч? — Ладно, не отвлекайся. Вот тут Стас — желает вам удачи… — Спасибо. Привет ему. Отбой. «…Они неплохо водят свои коляски. Я еду за этой «Волгой» уже одиннадцать километров и не могу обогнать, хотя мой «мерс» вдвое сильнее. Интересно, собрался уже этот хромой разбойник или еще чешется? Свинья. Только бы он не напакостил чего-нибудь, а уж за себя я спокоен», — Цинклер выбросил в окно окурок и поднял стекло.Шесть часов утра
Балашов повернул ключ зажигания и подумал, что впервые сам идет на реализацию задуманного дела. Раньше для этого существовали Крот, Джага. Да мало ли их было, людей на подхвате! Сам он этим не занимался. Он придумывал, организовывал, учил, но руками ни к чему не прикасался, — это делали другие. А теперь надо самому. Да, он придумал такое дело, что никто не должен даже догадываться. Только Крот знает. Но о нем мы позаботимся… Джага протер замшей лобовое стекло, подошел ближе: — Виктор Михалыч, мне вас здесь дожидаться? — А чего тебе здесь дожидаться? Поезжай домой, я вечером тебе позвоню. Тогда рассчитаемся. — Хорошо. Если Крот позвонит, что сказать? — Пошли его к черту. Скажи, пусть со всеми вопросами ко мне обращается. — Ладненько. Вы не в город едете? — А твое какое дело? — Да я не к тому… С вами хотел на машине доехать. — Перебьешься. На электричке прекрасно доедешь. — Да я что? Я так! Я думал, может, помочь надо будет или еще чего… — Поменьше думай, здоровее будешь. Иди ворота открой! Машина пролетела мимо Джаги, обдав его грязью из глинистой лужи под колесами. Джага стер с лица мутные капли, стряхнул с брюк комья жидкой глины, посмотрел вслед исчезающей в туманном мареве «Волге»… «Сволочь хромая!» — плюнул и пошел в сторону станции. — …Луна, Луна! Альфа, Альфа! Я Звезда, я Звезда… Черная «Волга» ушла в сторону Минского шоссе. Второй направился в сторону станции. Организуйте встречу… — Я Луна! Вас понял… — Я Альфа! Сообщение принял. Отбой…Шесть часов пятьдесят пять минут
«Хорошо, что на запад, — подумал Балашов. — Солнце в затылок, не слепит…» Впереди неторопливо тряслась старенькая «Волга». Через полминуты Балашов догнал ее, требовательно заревел фанфарой. Машина послушно отвалила к обочине. Нажал до отказа на акселератор. Легко, безо всякого усилия, черная «Волга» резко набрала скорость, обогнала «старуху». Сбоку на столбе мелькнула табличка «100 км». Через несколько минут старая машина исчезла где-то позади… — …Вега, Вега! Я Альфа. Только что меня обогнал Балашов. Идет на скорости сто двадцать. Нахожусь на девяносто девятом километре. Прием. — Вас понял. За вами на дистанции пять километров идет «мерседес». Скорость сто — сто десять. Жду указаний. Отбой…Семь часов
На сто седьмом километре Балашов выключил двигатель. Стихла бешеная сутолока поршней, замолк ровный могучий гул. Только шуршал под колесами чуть слышно асфальт, и от этой внезапной тишины, от грохота крови в висках, от судорожного боя сердца Балашов оглох. Машина катилась по инерции еще километр. Миновав столб с загнувшейся табличкой «108», он свернул на обочину, затормозил. Руки тряслись, и он никак не мог зажечь сигарету — ломались спички. Вспомнил про автомобильную зажигалку, махнул рукой, бросил сигарету на пол — некогда. Вышел на шоссе, открыл багажник, вытащил на асфальт четыре канистры. Сзади приближалась знакомая старая «Волга»… — …Вега! Я Альфа. Балашов остановился на сто восьмом километре, вынул из багажника четыре канистры. Прием. — Альфа! Я Вега. «Мерседес» прошел сто третий километр. Они должны встретиться через три минуты. Прием. — Высылаю наблюдение. Перед сто седьмым километром непросматриваемое закругление шоссе. Остановитесь там. Отбой… …«Волга» проскрипела мимо, ушла дальше, исчезла за поворотом. Балашов достал из багажника домкрат, приладил к подножке, оглянулся, рывком нажал на вороток. На противоположной стороне шоссе, зашипев пневматическими тормозами, с лязгом остановился самосвал. — Эй, загораешь? — крикнул, высунувшись из окна кабины, водитель. — Помочь, что ли? — Да нет, спасибо, друг, у меня запаска есть, — спокойно ответил Балашов. Фыркнув, самосвал умчался. «Чтоб вас черт всех побрал, доброхоты проклятые!» — подумал Хромой. …Цинклер, не снижая скорости, перегнулся назад и достал из саквояжа на заднем сиденье большой сверток, плотно упакованный пергаментной бумагой и перевязанный шпагатом. Подержав в руке, тяжело вздохнул и положил на сиденье рядом с собой. Потом опустил окно правой дверцы… …Оперативная «Волга», не отворачивая к обочине, притормозила за поворотом. Толмачев выскочил из машины, перебежал ленту асфальта, сильным прыжком преодолел кювет и скрылся в высоких придорожных кустах. Он мчался, не разбирая дороги, по перелеску, продираясь сквозь густые заросли орешника, перепрыгивая через пеньки и муравьиные кучи. Успеть, только успеть сейчас. Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Пот заливает глаза. Успеть. И не разбить кинокамеру с телеобъективом. Быстрее!..Семь часов три минуты
Балашов поднял голову и увидел, что к нему стремительно приближается белый «мерседес». Он разогнулся и махнул рукой. Заскрипели тормоза, и машина, гася скорость, стала прижиматься к асфальту, как напуганная собака. Не съезжая с проезжей части, «мерседес» замер рядом с черной «Волгой». Цинклер крикнул: — Кладите их прямо на… декке… на криша, в багажник!.. — А вы разве не выйдете? — Быстро, черт вас забирай! Быстро, шнель!.. Балашов попытался забросить на крышный багажник сразу две канистры, но не смог — тяжело. Пришлось одну поставить обратно на асфальт. — Доннерветтер! — красные щеки Цинклера тряслись. — Еще один канистр наверх, еще один, еще… — Деньги! Цинклер протянул в окно сверток. — Здесь все? Никакой ошибки нет? — Идите к черту! Я вам будут написать… «Мерседес» рванулся и, с визгом набирая скорость, исчез за поворотом. …Толмачев судорожно открывал защелку камеры — кончилась пленка…Семь часов шесть минут
— Вега, Вега! Я Альфа. Только что прошел «мерседес». На крышном багажнике — четыре канистры. Полагаю, что детали в них. Балашов, по-видимому, на месте. Можете его брать. Я следую дальше за «мерседесом». Прием. — Вас понял. Отбой…Семь часов восемь минут
Балашов смотрел еще мгновение вслед «мерседесу», прижав к груди сверток. «Ничего, у меня скоро такой же красавец будет», — подумал он. Потом положил сверток в машину и стал опускать домкрат. Рядом остановилась «Волга». «Ох, уж эти мне помощники, бог вам смерти не дает!» — и зло сказал подходящим к нему парням: — Не надо, мне ничего, не надо! Езжайте себе своей дорогой! Приходько усмехнулся: — А наша дорога как раз к вам и ведет. Вы арестованы, гражданин Балашов…Семь часов пятьдесят пять минут
Джага посмотрел на небо и подумал: «Сегодня, слава богу, хоть не так жарко будет! Выдрыхнусь за всю эту ночь проклятущую». Он вошел в свой подъезд, и почему-то от темноты и запаха псины на лестнице его охватила тревога. Он шел заплетающимся шагом по ступенькам, тяжело вздыхал и негромко матерился. Повернул ключ в замке, открыл дверь, и сердце сбилось с ритма, застучало, больно заерзало в груди. — Гражданин Мосин? — Д-да, то есть н-нет… — Вы арестованы…Восемь часов ровно
— Прямо после обыска везите его сюда, — сказал Шадрин и положил трубку на рычаг. Подошел к окну, легко и радостно засмеялся, разогнав морщины по углам лица. — Вот и кончился самый длинный день…ЧАСТЬ IV Поединки
Каков удельный вес бензина?
— Заполните декларацию, — таможенник протянул Цинклеру бланк. Офицер в зеленой фуражке внимательно читал его паспорт. Лицо пограничника было спокойно, вежливо, непроницаемо. «С нами бог! Все будет в порядке. Это способ, проверенный на самых жестких западных таможнях…» Достал «паркер», написал в декларации фамилию, имя. Ручку заело. Он посмотрел на свет золотое перо, резко стряхнул его. Ручка не писала. Он взглянул снова на свет и увидел, как перед окном таможни остановилась зеленая «Волга». «Где-то я ее видел», — подумал Цинклер и сразу же забыл о ней. Стряхнул еще раз ручку, аккуратно вывел во всех графах подряд — оружие, валюта, драгоценности — «не имею». Затейливо, с росчерком и завитушками, расписался. Таможенник о чем-то разговаривал с двумя мужчинами. Цинклер нетерпеливо постучал перстнем в полированную доску барьера: — Я есть готов. Прошу выполнять формальность. — Пожалуйста. Покажите мне содержимое вашего чемодана. Цинклер одновременно щелкнул замками чемодана. — Можете все видеть. — Освободите чемодан от вещей. Пограничник подошел ближе. Двое, приехавшие на зеленой «Волге», сидели в углу за журнальным столиком, негромко переговаривались и смеялись. Цинклер сшил сухую прорезь рта в одну нитку, рывком перевернул чемодан на досмотровой стол. Таможенный контролер бегло осмотрел его вещи, взял чемодан в руки. Пальцы прошлись по швам обивки, замерли в углах. Потом ослабли, чемодан аккуратно лег на стол. Таможенник сдвинул фуражку на затылок, мгновение подумал и достал из кармана небольшую отвертку. Дно чемодана было закреплено восемью фигурными кнопками. Таможенник подсунул под шляпку отвертку — и первая легко выскочила. — Вы имеете ломать чужой вещь, — сказал, не меняясь в лице, Цинклер. — Что вы, ломать! Соберем обратно — и видно не будет, что кто-то трогал. Последняя кнопка вылетела из гнезда и зазвенела на мраморном полу. Таможенник поддел отверткой картон и легко вынул его. Под ним синело нейлоновым брюхом второе дно. — Сантиметра четыре второе дно-то, а? — сказал Цинклеру, весело улыбаясь, таможенник. — Это есть точно. Четыре сантиметр. Но я знаю, что два дно в чемодан — не есть запрещено. Это есть мое личное дело. — Да, конечно, если во втором дне через границу ничего запрещенного не перевозится, это можно. Только уж простите за профессиональное любопытство — зачем вам этот тайник? — Я могу объяснить. Я много ездить по Европе с коммерческие дела. Прислуга в отелях часто интересоваться тем, что лежит в чемодан. Поэтому я возить здесь деловые документ. Вы понимаете? — Вполне. Давайте теперь осмотрим ваш автомобиль… Заглянув в кабину, таможенник попросил открыть багажник. Инструментальная сумка, запасное колесо, четыре ровно поставленные канистры. — Ничего себе, запаслись вы бензином, — удивился таможенник, вынимая одну канистру. Крякнул. — Однако! Цинклер засуетился: — Ваш бензин есть очень дешевый. Мне ехать в далекая дорога, мне хватит до дома. Контролер засмеялся: — Отлично! А на каком сорте бензина ездите? У вас же машина капризная, наверное? — и открыл горловину канистры. Цинклер затравленно обернулся. Сзади стояли невозмутимый пограничник и те двое, что подъехали позже. — Сорт? Не помню. Высокий сорт… Таможенник наклонил канистру, и из нее плеснула, разливаясь на асфальте радужным пятном, струйка бензина. — Господин Цинклер, вы не помните случайно удельный вес бензина? — Я вас не понимайт… — Я про удельный вес говорю. Это физическая единица, равная весу одного кубического сантиметра вещества. Помните? — Да-а, — растерянно сказал Цинклер. Его красные склеротические щеки медленно серели. — Так каков же у бензина удельный вес? — Я это не знаю. — Я тоже точно не помню. По-моему, он немного меньше удельного веса воды. Но это неважно. Предположим, что он одинаковый. Предположим? — Предположим. Но я не понимаю, почему вы об этом говорите? — Цинклер снова обернулся и понял, что эти двое стоят здесь и с улыбкой слушают их разговор совсем не случайно. Ему стало тяжело дышать. — Сейчас поймете, — продолжал таможенник. — Вы же коммерсант, наверняка должны уметь быстро считать. Вот перемножьте: один кубический сантиметр воды весит один грамм. В литре тысяча кубических сантиметров, в этой канистре двадцать литров. Сам он весит два килограмма. Сколько она должна весить полная? — Двадцать два килограмма, — автоматически ответил Цинклер. — Вот-вот! И я так же полагаю. А эта канистра — готов поспорить — весит не меньше сорока. Что же отсюда следует? Цинклер, хрипло сопя, с ненавистью смотрел на улыбающегося контролера. — А следует отсюда, что в канистре есть еще что-то, кроме бензина. Так? Молчите? Тогда давайте вместе взглянем, — он сел на корточки и засунул в горловину прутик. Прутик влез сантиметров на десять и уперся во что-то. Таможенник поводил им в баке, встал и развел руками: — Что-то мелковата ваша канистра. — Потом сказал пограничнику: — Женя, не в службу, а в дружбу, дай ведерочко. — Да вот, пожалуйста, — сказал один из приезжих — тот, что помоложе, — и достал ведро из своей машины, стоявшей рядом. — Спасибо. Продолжим наши опыты по курсу занимательной арифметики, господин Цинклер. Это обычное ведро стандартной емкости — десять литров. Канистра ваша полна до горловины, значит, ее содержимое должно заполнить два таких ведра. Посмотрим, как это у нас получится. — Контролер перевернул бак над ведром. Бензин с шумом ринулся сквозь узкое горло, зашипел и иссяк, едва налив ведро. — Имеем новую загадку — уже не весовую, а емкостную. И решение ее сводится, я полагаю, к тому же ответу: в канистре что-то есть. Так, господин Цинклер? — Так. Но вы не имеете права… — Имеем, — уверенно вмешался молчавший до сих пор Кольцов. — И вам бессмысленно устраивать комедию, господин Цинклер, хотя бы потому, что валюта, которую вы везли в двойном дне вашего чемодана, уже изъята у вашего сообщника. Давайте лучше распаивать канистры…«Как, Балашов, правильно я говорю?»
— Я вас уверяю, что вы дорого заплатите за этот произвол! Вам никто не позволит безнаказанно шельмовать честного советского человека! Перед самыми высокими инстанциями вы будете отвечать за то, что незаконно задержали меня! Тихонов сел поудобнее, с откровенным интересом разглядывая Хромого. — Вы ошибаетесь, гражданин Балашов… — Я не ошибаюсь! Я знаю, чем вы и ваши приспешники руководствовались, подбросив мне в машину пакет с иностранными деньгами! Это провокация! Я требую вызова прокурора! — Все-таки, Балашов, вы ошибаетесь, — засмеялся Тихонов. — Вы не задержаны. Вы арестованы. Законно. Вот постановление о вашем аресте. С санкции прокурора. — Я найду, кому пожаловаться и на прокурора! Хотя, вероятнее всего, прокурор был просто введен в заблуждение… Тихонов откинулся на стуле, побарабанил пальцами по столу: — Слушайте, Балашов, вы опытный и деловой человек. Но вы, судя по всему, полагаете, что имеете дело с простаками. Напрасно. Здесь ваши номера не пройдут. Постарайтесь это понять. — Вы меня не запугивайте! — Зачем же? Просто я вам помогаю уяснить обстановку. А вся эта ваша истерика недорого стоит. У нас здесь и не с такими заявлениями выступали. Я, честно говоря, предполагал, что вы придумаете что-нибудь поновее. А это все я уже слышал. — Вот это минутное сознание своего могущества вам дорого обойдется. — Уже было. В самом начале вы об этом говорили. — И повторять буду до тех пор, пока не восторжествует справедливость. — Мне смешно вас в чем-то разубеждать. Вы же сами не верите в то, что говорите. Но в одном позвольте заверить: «справедливость» в вашем понимании не восторжествует. Нет. И вообще, время для светской беседы истекает. Давайте перейдем к делу. Ведь все ваши «протесты» — обыкновенный пробный шар. Вам сейчас очень любопытно, что я знаю. Случайно вас взяли или это результат нашей операции? Все эпизоды знаю или только кусок ухватил? Известны мне соучастники или нет? Ну и конечно, кто из них гуляет на воле, а кто сидит в соседней комнате? Как, Балашов, правильно я говорю? — Ну, допустим. Я бы хотел знать по крайней мере, в чем меня обвиняют… — Вы, конечно, меньше всего рассчитываете на мою откровенность. А вот я вас удивлю, Балашов. Я расскажу вам сейчас историю одного любовно задуманного, тщательно организованного и лихо совершенного преступления. — Что ж, давайте. Послушаю опус из милицейской фантастики, — криво усмехнулся Балашов. — Это не милицейская фантастика. Это наши будни. А чтобы нам не углубляться в дебри уголовной фантастики, я по ходу рассказа буду зачитывать показания Макса Цинклера, устраивать вам очные ставки с Геннадием Костюком, предъявлять детали, похищенные и изготовленные по вашему указанию Юрием Мосиным… Тихонов подошел к сейфу, достал толстую коричневую папку. — Вот оно, дело номер тысяча восемьсот тридцать один, — указал Балашову глазами на обложку, — по обвинению Балашова, Костюка и других…Эпилог
«…Объявляется посадка на самолет ТУ-104, следующий рейсом № 506 по маршруту Москва — Одесса…»— Ну, Стас, это меня вызывают, — сказал Приходько. Тихонов допил кофе, поставил чашку на мраморный столик. Чашка слабо звякнула. Точка. Пронзительно закричал сиреной электрокар. Целый поезд тележек двигался к огромным грузовым самолетам, грохотавшим на краю аэродрома. На тележках возвышались аккуратные контейнеры. Тихонов посторонился, пропуская поезд, и увидел четкую надпись на крашеном дереве обивки:
«Осторожно! Не кантовать! Часы «Столица». Сделано в СССР, Получатель м-р Уильям Келли, «Тайм продактс лимитед» Лондон»
Двое среди людей
Повесть, основанная на фактах и документах
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Злодеяние
Владимир Лакс
— Сейчас налево, — сказал на Андроньевской Альбинас. — Да ты что, друг! Здесь же «кирпич» — проезд закрыт, — рассыпал целую пригоршню картавых горошин таксист. — Объедем через следующий квартал. Я как-то судорожно вздохнул и оглянулся. Сзади, в сумраке кабины, размазалось светлым пятном бледное лицо Альбинаса. Его русые волосы казались мне сейчас совсем черными, и длинная прядь на лбу повисла над глазом, как повязка у слепых. Альбинас положил подбородок на спинку переднего сиденья и сказал: — Тогда давай направо… Я взглянул на щиток, часы показывали сорок три минуты первого. «Волга» фыркнула на повороте и въехала в Рабочую улицу. Проезжую часть загораживал строительный тамбур. — А, черт побери! — заругался таксист. — Снова перегородили… Он часто ругался, но оттого, что очень смешно картавил, раскатывая во рту букву «р», будто этот один большой звук дробился о зубы на добрую дюжину маленьких круглых звучков, руготня его получалась несерьезной и совсем не злой. Он притормозил машину: — Посидите, ребятки, минуту, я взгляну, можно ли проехать. А то здесь на мусоре баллон в два счета проколешь. — Может, мы здесь выйдем? — сказал Альбинас, прижимая мне локтем руку. — Ведь рядом… Я отодвинул руку и отвернулся: — Нет, поедем дальше. Устал я. В крайнем случае объедем. — Как хотите, — пожал плечами таксист. — Я тогда выйду посмотрю. — Давай, — кивнул я. Таксист оставил фары зажженными, и тихая зеленая улица просвечивалась белым мертвенным светом далеко, почти до конца. И фигура таксиста казалась от теней громадной, расплывчатой, очень сильной. — Ты что, сдрейфил? — хрипло выдохнул Альбинас. — Ты его куда везешь? — К дому, — резко обернулся я. — Ты дурак. Смотри, людей еще полно на улице. Не было на улице никаких людей. Я почувствовал, как у меня остро заболел живот, защемило, заныло под ложечкой. — Не, Володька. Испугался ты, — покачал головой Альбинас. На скулах у меня набухли тяжелые соленые желваки, и все время набегала слюна, и сколько я ни сплевывал, она заполняла рот густой противной пеной. — Я? Ладно, посмотрим сейчас. Только ты не лезь, я сам с ним толковать буду. Чтоб все культурненько. — Я достал из кармана нож и переложил в рукав пиджака. — Приставь ему перо к лопатке и сиди молча. Шофер уже шел назад, и по асфальту тащилась за ним огромная и неуклюжая тень. Тогда у меня и мелькнула мысль, даже не мысль, а скорее ощущение, похожее на предчувствие, что, когда я наставлю нож на таксиста, он вырастет до размеров своей тени и просто задушит, раздавит, раздробит меня. Но шофер уже выходил из освещенной полосы дороги, и тень становилась все меньше, пока не исчезла совсем, и я позабыл об этом предчувствии. Потому что я очень испугался: таксист посмотрит мне в лицо и поймет все. Все, что мы задумали. И я больше не хотел делать то, что мы задумали. Я очень боялся этого таксиста, хотя он был такого же роста, как я, и гораздо меньше Альбинки. И худощавый. Но дело было совсем не в этом. Он был веселый, беззаботный, хороший парень, и мы за эти полтора часа с ним от души наговорились. И я боялся, что когда наставлю на него нож, то он даже не поймет, чего я хочу, а только засмеется и скажет: «Ты чего, дурачок?» — и снова начнет раскатывать во рту картавые горошинки. А мне, наверное, надо будет орать на него и требовать, чтобы он отдал деньги, или сказать тихим звенящим голосом: «Сейчас убью», — и его наверняка снова рассмешит моя шепелявость, и все это получится глупо, трусливо, нелепо. Я уже был уверен, что не смогу его испугать и тогда — конец всему. Было бы здорово, если бы Альбинка заговорил с ним сейчас. О чем-нибудь, о чем угодно, только бы таксист не говорил сейчас со мной, потому что в этот момент я мог закричать, ударить его по голове, в лицо, чтобы не видеть его светлых, веселых, добродушно моргающих глаз. Если бы можно было сейчас убежать! Но Альбинка сидел тихо, будто умер. Урчал ласково мотор, и счетчик еле слышно бормотал: тики-тики-тики-так, потом цокнул, и в окошечке выскочила следующая цифра — пять рублей шестьдесят три копейки. Таксист рывком открыл дверь и сказал: — Порядок, ребята. Проедем. Закатим один колесик на тротуар и проедем… И снова рассыпал много-много маленьких мягких «р-р-р». Он въезжал правыми колесами на тротуар очень осторожно, видимо, боялся побить новую резину, и я делал вид, что мне страшно интересно, аккуратно он въедет на тротуар или нет, хотя мне было наплевать на его колеса, и покрышки, и всю эту проклятую машину, и я только хотел, чтобы он со мною не разговаривал и не рассыпал своих горошинок. Потому что, уж не знаю почему, он разбивал этими картавыми горошинками стену ненависти, которой, я хотел окружить его, чтобы появилась у меня, как перед дракой, лихая озорная злость, когда все просто и все можно. Но злость не приходила, а был лишь тоскливый щемящий страх, от которого где-то под сердцем повисла тошнотная мерзкая пустота. И страх этот был вовсе не перед милицией или судом — об этом я тогда вообще не думал. Было очень страшно напасть на человека… Машина спрыгнула с тротуара и покатилась по улице, набирая скорость, и деревья по сторонам тоже запрыгали, замелькали и не казались мне больше неподвижно-спящими, и я тогда точно знал, что деревья — это существа одушевленные. Кое-где в незрячих коробках домов светились воспаленные абажурами окна. Но люди на улице уже совсем не встречались. Только на углу стояли двое парней с маленьким приемником в руках. Таксист притормозил, спросил, высунувшись из окна: — Ребята, мы тут на Трудовую проедем? И снова, снова эти рокочущие горошинки. Один из парней, крутивший ручку транзистора, сошел с тротуара и сказал: — Налево, потом направо и снова налево. Из приемника доносился бесстрастный голос диктора — «Корреспондент ТАСС Евгений Кобелев передает из Ханоя: сотни обожженных напалмом вьетнамцев…» Порыв ветра подхватил и унес конец фразы. Первая скорость, налево, вторая скорость, прогазовка, третья, тормоз, вторая скорость, направо, разгон, прогазовка, третья, притормаживает — здесь мокрый асфальт, заверещала пружина сцепления, вторая, налево, нейтраль. И счетчик все время: тики-тики-тики-так. Цок — пять рублей семьдесят три копейки. Такси подтормаживает у тротуара. Никого нет, и только ветер ударил по деревьям — заметались, зашумели, задергались. Шофер устало провел рукой по пушистым светлым волосам. — Ну, вот и приехали, ребята, на вашу Трудовую… Сыплются картавые горошинки, сыплются, смешные и ненавистные. Тяжело дышать, и горло сдавило, будто огромная тень уже душит меня. Сзади нетерпеливо ворохнулся Альбинас. Я поворачиваюсь лицом к таксисту, и его глаза, большущие светлые глаза, прямо передо мной. Если бы я подул ему в лицо, зашевелились бы ресницы. Я больше всего боялся этого мгновенья, потому что знал: придет же этот миг, и я посмотрю этому парню прямо в глаза, и он все поймет, и этот миг накоротко замкнет, сожжет и навсегда выключит всю мою прежнюю жизнь, пускай глупую и никчемную, но все-таки обычную, простую, вместе со всеми. Ту жизнь, которую я ненавидел, которой тяготился и убежал от нее, чтобы сейчас острее всего на свете захотеть вернуться в эту обычную, скучную жизнь. Но таксист ничего не понял. Он устало улыбнулся и сказал: — Намотался я чего-то сегодня. Как-никак — двадцать восьмая ездка за день. Хотел домой заскочить часиков в семь — пообедать, да вот засуетился и не успел. Есть очень охота… И засмеялся. И ни одной горошины не упало. Он протянул руку к счетчику, но я придвинулся к нему и быстро сказал: — Постой! Таксист повернулся ко мне, и я навсегда запомнил его удивленные глаза. Потому что в следующий момент я увидел, как Альбинас наклонился вперед и взмахнул рукой и в ней тускло и равнодушно блеснуло лезвие ножа…Константин Попов
— Сейчас налево, — сказал парень с заднего сиденья. Он все больше помалкивал и слушал, о чем мы болтали со вторым. Иногда только наклонится вперед, подбородок положит на спинку моего сиденья, и смотрит, и молчит. Серьезный парень. Сказал, что шоферские права получить хочет. Эх, шоферы, на «кирпич» поворачивают. Я засмеялся: — Да что ты друг! Здесь же «кирпич». Проезд закрыт. Объедем через следующий квартал. Парень помолчал застенчиво и сказал: — Тогда давай направо… Это он зря, конечно, смутился. Дорожные знаки, они хоть и единые, но в новых местах даже опытный шофер, пока оглядится, пять раз нарушит. А ребята — приезжие, эти места плохо знают. Вот тебе, пожалуйста: позавчера здесь ездил, а сегодня уже перегородили улицу. От досады я даже ругнулся. Это же надо, чушь какая — снова перегородили. Сначала для теплосети копают траншею, трубу проложили — заасфальтировали. Потом газовики приходят, все раскопают, опять в мостовой ковыряются, снова асфальтируют. Потом телефон, потом водопровод — и все без конца. Хозяева! А это же не только в езде помехи, это ж ведь денег стоит, и каких! Вон, пока лагерь пионерский построили, сколько мы там навкалывались. А ведь за один такой дурацкий ремонт улицы можно, наверное, целый лагерь соорудить. Я остановил машину и сказал ребятам, что схожу посмотрю, можно ли там дальше проехать. Тот парень, что сидел сзади, хотел расплатиться и выйти здесь. А второй, рядом со мной который, не захотел: — Нет, поедем дальше. Устал я. Он, видать, и впрямь устал. Забавный он паренек. Всю дорогу мы с ним весело трепались, рассказал он мне массу всякой чепуховины. Ну, а я ему про Москву рассказывал, про улицы, про дома, которые знаю. А знаю я их много. Все-таки шесть лет открутить баранку в такси — это тебе не шуточки шутить. Гидом мог бы работать. Вот беда только — картавых в гиды, наверное, не берут. Я вышел из машины и удивился, какая нынче ночь тихая, теплая. Улица была темная, далеко высвеченная белыми столбами фар, и по бокам дремали старые липы, и небо густо, ярко вызвездило, прямо по-южному. А на востоке синеву уже размывало, слегка засвечивало близким рассветом, и плыли там рядами маленькие, похожие на ягнят облака. И я вспомнил, что сегодня начинается солнцестояние, что сегодня самая короткая ночь. Скоро погаснут фонари, улицы зальет фиолетово-синий сумрак, и наступит тот недолгий час, когда в город придет тишина. Издали будут перемаргиваться светофоры, с ласковым шипеньем проползут, раздувая серебристые усы, машины-поливалки, дворники зашаркают метлами по асфальту, появятся первые прохожие, будет еще во всем тихая сонная одурь ночи, но утро уже придет. А когда приеду домой, на кухне будет совсем светло. За долгие годы мы с Васькой научились бесшумно входить в квартиру. Васек, брат, работает со мной в одной колонне. Мы почти всегда уходим на работу вместе, а приходим — кто когда. Обычно, когда приезжаем поздно, мы неслышно отпираем входной замок, снимаем в прихожей ботинки и ходим в носках. И никто не просыпается, кроме матери. Я думаю, что она просто не засыпает, пока мы не приходим. Мы сердимся на нее за это, так она не выходит на кухню, пока мы ужинаем или завтракаем — какой в три часа ужин? Но я слышу, как она ворочается, скрипит ее матрас, потом она не выдерживает, выходит и притворно протирает глаза: «Ох, чего-то не спится мне сегодня, Костик. Вон спозаранку подняло…» Мы пьем вместе чай и тихонько разговариваем. Она не спеша рассказывает свои небольшие, но очень важные новости, советуется о чем-то, хотя мои советы ей совсем ни к чему и она привыкла обходиться без чьей-то помощи. Считай так, что она одна вырастила нас с Васьком. А глаза — будто песка насыпали. Веки тяжелеют, ресницы слипаются, и в ушах — глухой мерный шум. Как волны по камням шуршат. Материн тихий голос еще убаюкивает. — Зина на тебя сердилась, — слышу я, как издалека. Зина — моя жена, и мать ее очень любит, Поэтому, если Зина на что-нибудь сердится, мать сразу становится на ее сторону: Зина, мол, зря сердиться не станет. — Чего ж это она сердилась? — спрашиваю я сонно. — Снова, говорит, документы в техникум не подал. Со дня на день, говорит, откладываешь, только бы время протянуть. Зина — инженер в проектном институте. Она меня уговорила, заставила, доказала, что надо учиться дальше. Конечно, девять классов — это тебе не фонтан знаний. Но, если честно говорить, учиться мне не очень охота. Старый я уже для учебы — осенью тридцать стукнет. А потом, я ведь про себя точно знаю — автомобиль без колес мне не выдумать. Ну, а по части вождения — тут, пожалуйста, можем потягаться с кем угодно: как-никак, первый класс! А Зина сердится и говорит, что это нормальная обывательская трусость, закутанная в мягкие словечки. Смешно, ей-богу. Кроме того, если все таксисты пойдут учиться на техников-автомехаников, то кто же людей возить будет? Этот мой вопрос больше всего злит Зину. А вообще-то, конечно, она права. Надо будет завтра заехать, сдать документы. Как говорит наш начальник колонны Израиль Соломонович Солодовкин: «В карете прошлого далеко не уедешь». Но все-таки, если учиться, я бы лучше пошел в историко-архивный… Я улыбаюсь: — Маманя, не волнуйся, мы с Зиной семейно стираем грань между трудом умственным и физическим. Мать качает головой и тяжело вздыхает… Я задумался, стоя на мостовой под светом фар, которые вынесли из-под моих ног огромную тень. Проехать дальше можно. Я шагнул к машине, и тень задрала длинную ногу. Почему-то без всякой связи с предыдущим я подумал, что все наши поступки совсем не похожи на нашу тень, потому что, совершившись, они начинают жить абсолютно независимо от нас. И мы не можем изменить их так же, как нельзя наступить на свою тень. Я сел в машину и сказал: — Порядок, ребята. Проедем. Они сидели какие-то грустные, расстроенные, что ли. Будто поссорились. Особенно тот, что рядом со мной, пригорюнился. Или устал он сильно? Мне даже показалось, что его в сон кинуло. Ладно, пускай подремлет, сейчас уже приедем. За день по Москве намотались до упору, глаза высмотреть можно. Я включил первую скорость, тонко зазвенела пружина сцепления, «Волга» тронулась и аккуратно вкатилась правыми колесами на тротуар. Но парнишка этот все-таки проснулся, тряхнул головой и потер лицо руками. На углу я притормозил и спросил у проходивших по улице ребят, как проехать на Трудовую. Один из них, с транзистором в руке, показал: налево, направо, снова налево. По радио передавали о том, что большинство раненых вьетнамцев обожжено напалмом. Говорят, что напалм — это смесь алюминиевого порошка с бензином. Надо же, чушь какая! Пользовались люди сколько времени алюминием и бензином, прекрасными и нужными вещами, а потом какой-то мудрец соединил их, и получилась такая жуткая штука. Иногда и среди людей такое случается: живут себе поврозь два обычных человека — и все вроде нормально, а соединились они вместе, искра попала и тут черт те что натворить могут. Воюют еще люди много. Дня, пожалуй, не проходит, чтобы где-то на земле в кого-то не стреляли. Завтра двадцать шесть лет будет, как война началась. Мне тогда еще четырех не было. Сколько мать с нами намучилась, елки-палки. А отец совсем молодой мужик был, когда умер: от ран оправиться не мог, а тут еще туберкулез его согнул. Был бы жив отец, мы бы с Васьком, наверное, институты уже окончили. Сына заводить надо… Я выглянул в окно. На доме напротив четко светился номерной знак: «Трудовая улица, дом 7». Остановил машину, потянулся: — Ну, вот и приехали, ребята, на вашу Трудовую… Пассажир мой справа посмотрел на меня, и глаза у него были совсем шальные от усталости — круглые, без блеска. И я почувствовал, как сам устал за день. И очень сильно есть хотелось. Ладно, через час уже буду дома. И документы сегодня не завез в техникум. Ведь мог же — двадцать восемь поездок было за день, всю Москву исколесил, мог завернуть. Мать будет шептать: «Зина сердится…» Я засмеялся: — Ох, намотался чего-то сегодня! Как-никак, двадцать восьмая ездка за день. Хотел домой заскочить часиков в семь — пообедать, да вот закрутился и не успел. Есть очень охота. Я взглянул на таксометр, а он себе выстукивает: тики-тики-тики-так. Пять рублей семьдесят четыре копейки. Взялся за ручку счетчика, чтобы выключить, но парнишка рядом со мной вдруг сказал сорвавшимся голосом: — Постой! Я удивился и посмотрел на него. Стал он какой-то взъерошенный, испуганный и злой. Я захотел…Альбинас Юронис
— Сейчас налево, — сказал я. Я знал, что налево нет поворота. Но я думал, что таксист этого в темноте не заметит. По всему переулку слева не горели фонари. И все-таки подальше от дома. Я вообще не понимал, зачем Володька тащит его прямо к дому, но спорить с ним сейчас уже было поздно. Да и опасно. Он чего-то здорово сник, наверное боится сильно. Не надо было сажать его вперед. Нервный он, все испортить может. А назад все равно уже дороги нет — на счетчике пять с полтиной. Этот таксист — даром что веселый парень, знаю я таких. На глотку его не возьмешь. Такие вот веселые, они легко не пугаются. — Да ты что, друг! Здесь же «кирпич» — проезд закрыт, — сказал таксист. Он как-то смешно прикартавливал, как маленький. Но водил машину он здорово. — Объедем через следующий квартал. Ну что ж, дороги назад все равно нет. Этот картавый таксист обязательно привезет нас в милицию, если Володька испугается. А там уж обязательно всплывет Паневежис. Деньги нужно взять сегодня. Я наклонился вперед, положил подбородок на спинку сиденья и сказал: — Тогда давай направо… У него на «Волге» был хороший движок. Она с места принимала на всю катушку. Только улица эта правая, Рабочая она называется, была перегорожена. Я знал об этом еще с утра, когда ходил за водкой, и все осматривался тут. Таксист ругнулся и остановил машину. Фары хорошо освещали улицу. Никого не было видно, только в самом конце гулял с собакой какой-то пижон. До ближайшего фонаря метров пятьдесят. — Может, тут выйдем? — сказал я, прижимая локтем Володьке руку. — Ведь здесь рядом… Но Володька отодвинул руку и отвернулся к окну: — Нет. Устал я. В крайнем случае объедем. — Как хотите, — пожал плечами таксист. — Я тогда выйду посмотрю. — Давай, — кивнул я. Таксист хлопнул дверью. — Ты что, сдрейфил? — сказал я Володьке. — Ты куда его везешь? — К дому! — рванулся, прямо бросился на меня Володька. — Ты дурак! Смотри, людей еще полно на улице. Испугался Володька. Тоже придумал — людей полно! Один-единственный человек, который с собакой. Да видеть Володька его не мог. Я его сам еле разглядел, а у меня зрение не ему чета. Сильно я разозлился, что Володька вдруг стал командовать, а я ничего не могу сделать. Ругаться с ним сейчас глупо — оба пропадем. И я должен тащиться за ним и слушать все эти его школьные глупости. Но разваливаться мы сейчас не могли. Ну, просто никак не могли. Я решил — черт с ним, потом разберемся, кто из нас должен командовать. Но все-таки сказал: — Нет, Володька, ты испугался… — Я? Я? — Володька зло крутанул головой. — Ладно, посмотрим сейчас. Только не лезь, я с ним сам толковать буду. Чтобы все культурненько… Володька достал из кармана нож и переложил в рукав. Но даже в слабом свете приборного щитка я видел, как у него тряслись руки. Рассуждать смелый был. Очень тоскливо мне стало. Я и сам боялся, что все получится не так, как задумали. Ведь говорил же Володьке, не торопись, не гони картину, давай высмотрим таксиста. Надо старого брать. Слабее он, да и вообще старые сейчас молодежи боятся. От одного только испуга старого паралик хватить может. Так нет, вперся в первую попавшуюся машину. А теперь мы с ним навозимся. Он хоть и сухопарый, а плечи у него будь здоров! — Приставь ему перо к лопатке и сиди молча, — сказал Володька. Усики у него от страха запрыгали. — Давай, давай распоряжайся, потом посмотрим на твои штанишки. Ладно, я погляжу, как и что. В крайнем случае у тебя разрешения спрашивать не стану. Таксист уже возвращался назад, волоча за собой длинную тень. Я откинулся на спинку сиденья. Подумал, что хорошо бы было вырасти до такого роста, как тень. Можно было бы поступить в сборную по баскетболу. Наверняка бы взяли — без труда закладывал бы мячи в корзину, стал бы заслуженным мастером. Зарплата у них громадная, а работы — никакой. За границу ездил бы все время. Купил бы форд «тандерберд», прикатил в Паневежис. Поговорили бы мы тогда с Нееле по-другому. Запрыгала бы тогда, наверное, забегала — ах, Альбинка, ты такой необычный, на других непохожий, я тебя просто не понимала!.. Таксист сел в машину, захлопнул дверь и сказал: — Порядок, ребята. Проедем… Зря он захлопнул дверь. Может быть, я это потом придумал, но вот тогда мне казалось, что, если бы он не захлопнул дверь, возможно, ничего бы и не случилось. Ехал бы с открытой дверью. Не было бы этого металлического стука, будто затвором щелкнули, и все это развернулось бы, наверное, по-другому. Но он хлопнул дверью. И как будто эта дверь меня в спину толкнула — давай, хватит трястись. Ведь Володька пошел со мной на дело только потому, что знает: я ничего и никогда не боюсь. И мне все время ему надо это доказывать. А я уже сильно устал от всего этого цирка. Потому что я часто делаю какие-то мне самому непонятные вещи от испуга и отчаяния, а вовсе не от смелости. И те истории, которые я ему рассказывал про себя, большей частью я придумал или слышал от Ваньки Морозова. Глупо, что за мной волочится длинная тень каких-то идиотских подвигов. Еще с самой школы. А совершал я их потому, что уроков никогда не знал. Надо было и себе и другим создать эту легенду, чтобы не думали, будто я просто малоумный дурачок, порочный, мол, я ребенок, незаурядный объект воспитания. Я боялся, но шкодил, нахальничал с учителями и от страха дрался со старшеклассниками. Самое смешное, что от дерзости и наглости побеждал их. И учителям это, наверное, нравилось. На любом педсовете про меня можно было сказать: «Это же Юронис — сами понимаете…» И всем девчонкам родители запрещали дружить со мной: «Ты с ума сошла — это же отпетый бандит!» Если бы Володька знал, что я часто плакал по ночам от страха, он наверняка не пошел бы со мной на эту затею. А плакал я потому, что совсем запутался, закрутился. Мне было очень страшно жить дальше. Ведь я совсем ничего, ну, ничегошеньки не знал. Я писать-то еле-еле могу, хоть и оставался трижды на второй год. Я очень долго мечтал зажить по-новому. Стать знаменитым, как старший битл Джон Леннон. Или чемпион мира по автогонкам Вольфганг фон Трип. Тогда бы все изменилось. Но для этого надо было сначала уехать из проклятого Паневежиса. Там все для меня было постоянной болью и унижением. Потому что в этом треклятом крошечном городишке не бывает ни от кого секретов, и все живут как на ладошке друг у друга. А я уже весь изоврался, все в моей жизни стало непрерывным враньем и липой, все в городе знали, какой я плохой. Только никто не догадывался, что мне это ненавистно. И я бы хотел жить по-другому, но только не так противно-скучно, как они все. Потому что любой человек живет на земле очень мало, и жить должен ярко и интересно. А у нас в городке никто, наверное, не живет так, как живут в кинофильмах. И чтобы жить красиво, нужно много денег. Столько денег, что во всем нашем городке нет. Поэтому надо было уехать туда, где тебя никто не знает и где есть много денег. Но в этом большом и интересном мире все деньги были не наши. А заработать мы их не хотели и не могли. Для этого надо много времени и много всяких знаний, которых у нас тоже не было. Да и невозможно столько денег просто заработать. И вообще, у нас былошестьдесят три рубля и наши планы. Поэтому я взял с собой ножи. Я знал, что скоро наши шестьдесят три рубля кончатся и деньги надо будет у кого-то отнять. Вот и получилось так, что деньги вчера кончились. И сейчас нам нужно отнять эти деньги у таксиста. Деньги! У него и денег-то рублей тридцать-сорок, не больше. Тоже мне невидаль. Не в этом дело. Просто надо же когда-нибудь начинать. Рано или поздно, раз мы решили. Вот это, видно, самое трудное — начать. Испробовать себя и свои ножи. Главное — первый шаг. Вроде как с вышки первый раз в воду прыгнуть. Страшно, руки-ноги дрожат, но ты уже взобрался на вышку, все смотрят, и не прыгнуть нельзя. Позор до смерти. Сердце замирает, совсем останавливается, в ушах — шум какой-то, но ты заставляешь непослушные ноги оттолкнуться от настила и летишь вниз, в пропасть… Надо заставить себя сделать этот один-единственный шаг. Надо быть смелым, отчаянным, злым — не таким, как все остальные людишки. Неважно, что у него денег мало, потом мы добудем больше… Он неплохой парень, этот таксист. Но, видно, так уж распорядилась судьба. Она все знает, и от нее все равно никуда не уйдешь. Да и не искать же специально плохого человека, чтобы отнять у него деньги. Люди ведь не ходят с этикетками на пузе: «Хороший человек», «Средний человек», «Совсем паскудный человечишка». Да и неизвестно еще, что за птица наш таксист — может быть, он и есть распоследний негодяй, только маскируется. Во всяком случае, не надо было ему хлопать дверью. От этого стука у меня что-то в мозгу щелкнуло, и я точно понял, что пятиться назад теперь уже глупо. Не захлопни он дверь, может быть, все еще как-то разрядилось бы. Не знаю, может быть. Но ведь машины не ездят по улицам с открытыми дверцами… «Волга» покатила по тихой пустынной улице. Я смотрел на сжавшуюся, ставшую очень маленькой спину Володьки и чувствовал, как ему сейчас невыносимо страшно. И от этого сам пугался еще больше. А ведь я знал наверняка, что нас не поймают. Вернее, просто прогнал эту мысль. Не думая больше о том, что есть милиция, что может встрянуть кто-то из прохожих. Щелкнуло что-то у меня в голове, когда таксист захлопнул дверь. Я знал, что назад вертеть не придется. На углу двое ребят слушали транзистор. Шофер притормозил около них и спросил, как проехать на Трудовую. В шелестящей тишине ночи быстро тараторила дикторша: «Корреспондент ТАСС Евгений Кобелев передает из Ханоя…» Опять про войну. Я бы хотел побывать на войне. Там все проще. Там сразу все ясно — кто чего стоит. На самые тяжелые места бросали штрафные батальоны. Я бы мог себя там показать. Не то, что Володька, дурак, сам попросился, чтобы отчислили из военного училища. Эх, даже родиться мне не повезло — через четыре года после войны вылупился. Чепуха это, что в жизни всегда найдется место для подвига. Смелого человека рождают обстоятельства. Я вдруг подумал, что изо всех сил стараюсь не замечать таксиста. Как будто его и нет здесь. Когда я смотрел на его русый кудрявый затылок с каким-то совсем детским вихром, на его широкие плечи, еле вмещавшиеся в черный поношенный пиджак, меня заливала волна противной тошнотной слабости. И я даже не пытался яриться на него, я знал — бесполезно это. Очень я радовался, что мне не надо смотреть ему в лицо. Даже если Володька испугается, я все равно уже никогда не увижу его лица, его противно-добродушные веселые глаза. Конечно, будь он мерзким парнем, все стало бы проще. — Ну, вот и приехали, ребята… — сказал таксист. Будто подал сигнал о том, что все началось. Все, о чем мы столько трепались с Володькой. Будто таксист с нами был в сговоре и специально подыгрывал нам, чтобы мы были увереннее. Он как будто проверял нас. И все это было не в самом деле, а понарошку, как в школьной самодеятельности. Но это было не понарошку, а в самом деле, все уже началось, остановить этого нельзя. А может быть, наоборот, здесь все кончилось. Но так уж получилось, что все трое мы жили до этой минуты столько лет, и у каждого была своя судьба и своя жизнь. Пока мы не сошлись на крошечном пространстве душной кабины такси. Разойтись просто так, как мы встретились с этим таксистом два часа назад, мы уже не могли. Правда, что-то еще могло измениться, если бы таксист оказался трусливее, чем Володька. Но я в это не верил. Мне показалось, что счетчик тикает оглушительно громко: тики-тики-тики-так. Все, нужно действовать. Но у Володьки от страха, видно, все затормозило. Это было хуже всего. Нельзя было дать таксисту насторожиться. Но он совсем был какой-то тюлень, или, может быть, ему это и в голову не приходило, или раздумывал он о чем-то о своем. Он потянулся и сказал: — Намотался я чего-то сегодня. Как-никак, двадцать восьмая ездка за день, — и чего-то он еще говорил. Но я просто не помню, потому что я как будто окунулся в плотный красный туман, забивший глаза, уши, ноздри. И откуда-то издалека, будто с соседней улицы, я услышал голос Володьки: «Постой!..» Но я знал, что он уже все провалил, испугался до конца, и мы приехали на финиш. Я плотнее сжал в левой руке деревянную рукоятку ножа. Я левша и правой рукой только ем, а дерусь всегда левой. Рукоятка была липкая и влажная от пота. И от этого, от трусости своей, я почувствовал какое-то остервенение, размахнулся и изо всей силы ударил шофера ножом в спину. Я еще боялся, что мокрая ручка выскользнет из ладони, но нож вошел легко, мягко, ну, как в мыло, например. Я это почувствовал, потому что мой кулак по инерции ударил его в спину…Константин Попов
— Постой! Я удивленно посмотрел на него. Стал он какой-то взъерошенный, испуганный, злой. Я захотел… Боль. Жуткая, нечеловеческая боль вдруг пронзила все тело, будто меня проткнули насквозь раскаленным пылающим прутом. Я еще ничего не понял, но боль, страшная, разламывающая меня на куски, рвущая, пылающая, вопящая в каждой моей клеточке нестерпимой мукой затопила, захлестнула, поволокла меня куда-то. И во всей этой боли передо мной тускло маячило синее лицо парня с круглыми от ужаса глазами. Тогда я понял, что это лицо смерти, что на меня смотрит человек, который убил меня. Я хотел ударить кулаком в его лицо, отогнать его, чтобы кончился вдруг страшный сон, проснуться, но эти жуткие глаза куда-то уплыли в сторону сами, а боль снова бросилась на меня с ревом и визгом, испепеляя меня дотла. Из машины надо, вон из машины, скорее. Это, наверное, взорвался бензобак, и я весь горю, скорее из машины! Но меня что-то цепко держало за плечи, и последним невероятным усилием, в которое я вложил все уходящие силы, я вывалился из кабины и побежал по улице. А боль неистовствовала, у нее был голос, и она грохотала на всю улицу так долго и так страшно, пока я не понял, что это я кричу сам. Асфальт ожил под ногами. Он выгибался, прыгал и проваливался, и, как на чертовом колесе, я видел его то перед самыми глазами, то неожиданно он вздыбливался, и я бежал на крутую гору, а он стремительно заходил все выше и выше, пока не заслонял небо, и снова, перевернувшись, вдруг падал резко вниз, и я не мог никак на нем удержаться и скользил, как по льду, и мостовая с тусклым отсветом фонарей приближалась быстро и бесшумно, и я падал лицом в эти желтые отсветы, которые сталкивались и вспыхивали сияющим фейерверком, а я все удивлялся, что мостовая совсем не жесткая, а мягкая, теплая, слабо пахнущая бензином и увядшей черемухой. Боль уже утихла, на меня напала сонливость, и мне совсем не хотелось вставать, но я был уверен, что обязательно надо встать, быстрее встать и бежать куда-то, хотя я и сам не знал, куда и зачем мне надо бежать. Руки уже отнялись у меня, но я все-таки поднялся и очень удивился, что вокруг уже нет никаких домов и куда-то пропали деревья. Я слышал только сильный ветер, и вокруг плавали какие-то дымные клочья тумана, и лишь в стороне, где-то далеко, горел неярко огонек. И я решил бежать на этот огонек и с сожалением подумал, что не запер машину. Но возвращаться сейчас не имело смысла, потому что я должен сначала добраться до этого огонька. Обязательно надо было… Я хотел бежать, но двигался как-то плавно-неуклюже, будто брел по стоячей воде. Я очень боялся упасть, потому что знал наверняка — больше я не встану. Но снова ожила боль, заполыхала во всем теле, задергалась, забилась судорожно, закричала, и вместе с ней опять ожил асфальт, заплавал, задрыгал под ногами, и я почувствовал, что я очень устал, что эта боль сильнее меня. Я споткнулся о тротуар, и он прыгнул мне навстречу, как голодный зверь. Я ударился лицом, но мне было не больно, потому что эту маленькую боль бесследно растворила в себе та ужасная мука, что поселилась у меня в спине. Я перевернулся на спину, стараясь придушить, прижать к мостовой, раздавить свою боль. И мне стало легче. Открыл глаза и сквозь сизую пелену удушливого тумана увидел над собой большие тяжелые звезды. Их было очень много, и меня удивило, что они совсем не мерцают, а застыли светло и неподвижно, как на фотографии. Пока одна вдруг не сорвалась и, косо чертя горизонт, полетела на рассвет, к утру. «Человек родился», — подумал я лениво. И плыли не спеша какие-то разрозненные мысли, громоздкие, бесформенные, равнодушные, похожие на стадо дремлющих слонов. Потом звезды стали меркнуть, и я подумал, что наступает рассвет. Так они и пропадали поодиночке, пока я не понял, что это я умираю. Что меня убили…Владимир Лакс
И когда Альбинас выдернул нож, то лезвие больше не блестело, оно было все покрыто чем-то черным. Таксист даже не вздрогнул, продолжая смотреть мне прямо в лицо. А я будто окаменел, потеряв вообще способность двигаться. Но все это продолжалось одно мгновение, потому что таксист закричал. Боже мой, сколько жить еще буду, запомню этот крик! Я никогда ничего подобного не слышал. Я и предположить не мог, что человек способен так кричать. Собственно, это и крик-то был не человеческий, столько муки, невыносимой боли было в нем! И пока длился этот ужасный крик, он все время смотрел мне прямо в лицо остекленевшими от страдания глазами, и я понял, что передо мной та самая великанская тень, которая сейчас убьет меня, и каждая клеточка тряслась во мне от животного мерзкого страха, который был страшнее всего того, что мне еще пришлось потом испытать и перенести. Я не знаю, сколько прошло времени, наверное, совсем немного, но таксист рванулся и стал открывать свою дверь, чтобы выскочить. И все время он кричал. Альбинка схватил его за плечи, стараясь не выпустить из машины, потому что если бы он убежал, то вся эта затея вообще утратила бы смысл, и все страхи, которых мы натерпелись, были бы совсем ни к чему. — Держи!.. — хрипло крикнул Альбинка. Но я боялся дотронуться до него. Не знаю, чего уж я тогда боялся, но дотронуться до него я бы ни за какие деньги не согласился. — Держи, падла… — взвизгнул еще раз Альбинас, но таксист, вдруг судорожно дернувшись, вырвался из его рук и вывалился на мостовую. Все, это был конец. Таксист поднялся с асфальта и побежал по улице в сторону Андроньевской. Мы его могли легко догнать, но нам это даже в голову не пришло. Как бы это объяснить — когда мы были в машине, мы были вроде бы одни, а когда он выбежал на улицу, он как будто снова вернулся к людям, и они уже стали заодно против нас. Таксист бежал медленно, тяжело, заплетающимся шагом, и, если бы не этот ужасающий вопль, его можно было бы принять за пьяного. Он выписывал ногами какие-то нелепые кренделя, то нагибался зачем-то, то снова выпрямлялся, и бежал он по мостовой ломаными зигзагами, как бегут по открытому простреливаемому пространству. Может быть, он служил в армии, или в нем сработал инстинкт, но ведь по нему никто не стрелял. Да и не из чего нам было стрелять… Около перекрестка он упал и лежал неподвижно, наверное, целую минуту. Очень долгой была минута, потому что мы так же неподвижно замерли в машине, глядя в заднее стекло. Он лежал лицом вниз и разводил руками по мостовой, как будто собирался куда-то плыть. — Ты его ранил… — разлепил я наконец губы. — Нет, — покачал Альбинка головой. — Я его убил. И от этих слов я как проснулся. — Бежим! — открыл дверь, чтобы припустить изо всех сил. Но Альбинка по-прежнему сидел в такси, разыскивая что-то на полу. — Ну, что ты ковыряешься, гад! — Нож, нож потерял, — потом он тоже выскочил из машины, и мы одновременно оглянулись назад, в сторону перекрестка. Таксиста на мостовой не было. Но почти сразу же из-за угла снова разнесся этот страшный хриплый крик. Нет, он не убил его. Мы побежали мимо нашего подъезда вниз по улице, в сторону новых домов. Крик постепенно затухал где-то там, далеко сзади, и тишина ленивыми волнами вновь смыкалась над сонной улицей. Только топот Альбинкиных башмаков и его шумное дыхание гудели на пустом тротуаре. — Тише… — на бегу бросил я через плечо. — Не могу — дыхалки не хватает. Я оглянулся и увидел, что он бежит с ножом в левой руке. — С ума сошел! Нож спрячь! Мы разом перепрыгнули через невысокий забор вокруг строящегося дома и, тяжело дыша, присели на бетонную плиту. Надо было немедленно решать, что делать дальше…Альбинас Юронис
В таком тупом оцепенении мы сидели несколько минут. Было совсем тихо. Ветер только шуршал в верхушках деревьев, и где-то совсем далеко завизжал колесами трамвай на повороте. — Ну что? — спросил Володька. И в этом коротком вопросе мне почудилось, что он хочет дать понять, будто мы уже сами по себе. Он со своими делами сам по себе, а я — сам по себе. Но я сделал вид, что ничего не заметил и вообще, мол, это меня не касается, безразлично мне, мол, это. — Уходить отсюда надо. Пока еще тихо, — сказал я. — А если там уже ментов полно? — Да ты что? Откуда? — От верблюда! От его крика небось весь район проснулся… — Вещи все равно надо забрать. Идем, пока не поздно, — и, не дожидаясь его ответа, пошел вдоль забора к выходу со стройплощадки. Трудное было мгновенье. Я боялся, что Володька не пойдет за мной и я останусь один, совсем один. Сначала было тихо, только камни сыпались у меня из-под ног. Когда я дошел до ворот, я был почти уверен, что Володька остается. Но вот сзади раздались шаги, и сразу на душе стало легче. Володька сказал: — Слушай, Альбинка, выбросим здесь ножи? Я покачал головой: — Ты что? Они еще нам могут понадобиться. Володька испуганно взглянул на меня. Я положил ему руку на плечо: — Не бойся. В крайнем случае выкинем их где-нибудь подальше… Но я не собирался их выкидывать. Ведь нам надо было как-то жить дальше. Мы вышли на улицу. Такую же тихую, сонную, спокойную, как и пять минут назад. Будто ничего здесь не произошло, да и произойти ничего не могло. Я подумал, что если бы таксист не закричал, то его бы вообще до утра не хватились. А может быть, и сейчас не хватятся. Глухая улица, здесь с курами спать ложатся. Такси с зажженными подфарниками стояло по-прежнему против нашего подъезда. Одинокая брошенная машина, совсем ничья. И меня даже удивило, что на улице по-прежнему никого нет. Что нас никто не видел. Мы вбежали в парадное и поднялись к дверям Баулина. Володька долго шарил в карманах ключ. Наконец нашел и стал отпирать квартиру. Но замок противно скрипел, трясся и не открывался. — Дай я попробую, — сказал я Володьке. Он зло ощерился: — Ты что, ловчее меня, что ли? Не видишь, замок сломался? Он продолжал трясти и дергать замок, но ключ все равно не проворачивался. Табак дело, придется звонить. Я дважды сильно нажал кнопку звонка. По коридору кто-то зашаркал ногами. Мне показалось, будто я слышу стук Володькиного сердца. На лестнице пахло кошками и какой-то гнилью. Я подумал, что очень уж паскудно будет, если все закончится сейчас на этой грязной вонючей лестнице. Я дернул Володьку за руку, чтобы рвануть вниз, но дверь отворилась, и в освещенном проеме появился студент, тоже квартирант. Затюканный он какой-то, целые ночи напролет сидит и зубрит. Он уже не молодой, ему, по-моему, за тридцать. Работает где-то на периферии и приезжает сюда сдавать экзамены в заочном институте. У него и сейчас в руке была какая-то толстая тетрадь. — А, это вы, гуляки, — сказал он добродушно и прищурился на нас поверх своих окуляров. Когда люди в очках смотрят вот так, у них сразу становится хитровато-глупый вид. — Вы не видели, кто это дрался около дома? — Дрался? — спросил я. И с ужасом заметил, что голос мой дрожит. — Ну да! — кивнул студент. — Кто-то жутко кричал под окном. — Н-не знаем, — растерянно сказал Володька, и, взглянув на него, я понял, что мы пропали. Если нас милиция возьмет просто по подозрению, он расколется сразу. Он прямо дрожал весь. Но в коридоре было довольно темно. Да и студенту, видимо, было совсем не до нас, так он врос в свои несчастные формулы. Он что-то пробормотал и пошел к себе. Мы отворили дверь, вошли в баулинскую комнату и зажгли свет. И хотя здесь ничего не могло измениться — мы ведь ушли последними часа два назад, — я осматривался, будто попал сюда впервые. Светлые обои с нелепыми цветами в грязных, жирных пятнах. Стол, замусоренный объедками, уставленный грязными стаканами и чашками, пачка «Ароматных», пустая водочная бутылка. Старенький, подслеповато глядящий на нас своим серым экраном телевизор КВН. Везде пыль, грязь, запустение. Быстрее отсюда, прочь, скорее. Мы схватили свои чемоданчики, выскочили в коридор и тихо притворили дверь. Володька на цыпочках пошел к выходу. — Постой, надо нож вымыть, — шепнул я ему. Володька открыл замок и так и стоял в дверях, наверное не решаясь снова вернуться в квартиру. Я вошел в кухню и пустил воду из крана. Потом достал из-за пояса нож и подставил его под булькающую ржавую струйку. Здесь наверняка уже все трубы соржавели, и мне всегда было противно пить воду, мутноватую, с неприятным металлическим привкусом. А кровь на ноже уже засохла и почернела. Слабый напор воды не смывал ее с лезвия. Потом я провел пальцами по ножу, и это было неприятно, будто я снова дотронулся до таксиста. Потому что кровь вроде бы ожила и, растворяясь в воде, стала стекать с клинка. Она падала в раковину розовыми блеклыми каплями, светлая, нестрашная, как слабый раствор марганцовки… Я вытер чистый нож о полу пиджака и вышел на лестницу. Володька уже спустился вниз и выглядывал из подъезда. — Никого нет, — сказал он даже с каким-то удивлением. Я подошел и тоже выглянул на пустынную улицу. Казалось, что время умерло и только мы одни действуем в этой ненормальной дохлой тишине, где нет людей, и нет времени, и нет звуков. Не то чтобы я сильно тосковал тогда по людям — лишние свидетели мне были не нужны. Но это безмолвное такси с горящими подфарниками на оглохшей и онемевшей улице, и ни одного прохожего, и цепочка почерневших пятен крови на мостовой — все это было похоже на какой-то скверный сон. Хотелось заорать во все горло от тоски и страха. — На машине поедем, — сказал я Володьке. — Куда? — Поехали, поехали. Там посмотрим. Только отсюда надо быстрее… Мы перебежали через дорогу. Дверь такси так и была открыта. Я сел за руль, Володька влез с другой стороны, на то же место, где он сидел раньше. Ключ торчал в замке зажигания. Я глубоко вздохнул, чтобы хоть немного остановить бешеный бой сердца. И тут я услышал стук счетчика — он все это время был включен. Пять девяносто пять. Тики-тики-тики-так. Тики-тики-тики-так. Он все еще считал, и тикал, и считал. Он все это время тикал и считал. Я схватился за ручку и несколько раз повернул ее по часовой стрелке. Цок — и в окошечке выскочили нули. Все нули. Открываем новый счет. Загоревшийся фонарик показывал нам зеленый свет. Володька достал нож и перерезал проводки, зеленый огонек погас. — Давай, — сказал он. Я выжал сцепление, повернул в замке ключ. Мотор глухо рокотнул, набирая постепенно обороты. Включил первую скорость, но резко бросил сцепление, машина прыгнула вперед, и мотор заглох. Снова крутанул стартер, мотор заурчал. Плавно отпустил педаль, поехали. Включил вторую скорость, разогнался — третью. Дал большой свет. Зашелестели, запели баллоны. Красный язычок спидометра уперся в 100. Заметались опять, запрыгали деревья по сторонам. Теперь посмотрим еще. Теперь — одни нули. Новый счет открыт. Вдруг Володька негромко ахнул: — Альбинка, рюкзак у Баулина забыли! — Теперь возвращаться поздно. Плевать… Впереди засветили огни какой-то большой площади. А людей по-прежнему было не видать…Телефонограмма В 33-е отделение милиции гор. Москвы 21 июня в 0 часов 48 минут в Центральный пункт «Скорой помощи» поступило по телефону сообщение, что у подъезда № 1 дома № 23 по Большой Андроньевской улице обнаружен труп мужчины в возрасте около тридцати лет. Машина «Скорой помощи» выслана.— Быстренько, ребята, к дому двадцать три по Андроньевке, — сказал дежурный. — От, шпана проклятая! Давайте аллюром, опергруппа сейчас подъедет… Мы вышли из прокуренной, задымленной дежурки, и Василенко сказал, ни к кому не обращаясь: — Теплынь, тишь какая, а людям все спокоя нету. Я рванул ногой подножку кик-стартера, и мотоцикл клокотнул, как рассерженный индюк, застучали, забились поршни, пыхнул дымок над выхлопами, и ровное тарахтенье разломало сонную тишину. Движения на улицах уже почти не наблюдалось. В начале Андроньевки обогнали пустой и от этого особенно ярко освещенный трамвай. Он плыл в ночи важно, не спеша, как ледокол. — Одерживай, одерживай, — сказал Василенко. — Это здесь должно быть… Я еще издали увидел убитого. Он лежал на тротуаре, вытянувшись во весь рост, на спине, в нескольких шагах от освещенного подъезда. Я тогда подумал почему-то, что он из этого дома и, наверное, хотел дойти до своего парадного, но не хватило сил. Около убитого никого еще не было. Я перегнал мотоцикл на другую сторону улицы и сказал Василенко: — Я пойду огляжусь, а ты постой тут. Может, вернутся. Парень был одет в черный пиджак, темные брюки и шерстяную рубашку, не то серую, не то коричневую — в темноте не разглядел. Глаза у него были открыты, и он все смотрел на меня, будто спрашивал: «Ну, чего теперь будешь делать?» А что я мог делать? Принимать меры к задержанию преступников «по горячим следам»? Пожалуй, найдешь сейчас этих преступников! Хоть бы опергруппа из МУРа скорей приехала. От ног убитого на мостовую убегала дорожка черных пятен. Я включил фонарик и сошел на дорогу. Мятый желтый круг света плясал на асфальте, высвечивая кровавые пятна и затеки, которые выходили на самую середину проезжей части, на рельсы, потом снова приближались к тротуару, собирались на перекрестке в подсохшую лужицу и резко сворачивали на Трудовую, уходили вниз по улице. Я шел по следу, пока не столкнулся с каким-то парнем, идущим по этому же следу с другого конца. — Ну-ка, постой! Ты кто такой? — Я Денисов! — сказал парень так, будто я наверняка мог знать, что Денисов есть один-единственный на свете, что все о нем слышали и вот он-то как раз и есть тот самый Денисов. — А что ты тут делаешь, Денисов? — Вот кровь… — показал он на мостовую. Потом посмотрел на меня. — А вы чего тут ищете? — Часы в драке потеряли, там, — махнул я рукой назад. — Ты не видел драки? — Нет, я на крик прибежал, а здесь уже никого нет. Вот кровь только. — Ладно, идем со мной. Капли крови исчезли на середине мостовой. Справа — высокий деревянный забор, слева — дом № 7. Непонятно, что они, посреди улицы дрались, что ли? — Пошли назад, Денисов, расскажешь, что знаешь. Я услышал за углом шум мотора, и почти сразу же рокот еще одной подъехавшей машины. Когда мы вернулись на Андроньевку, у дома двадцать три стояли «Скорая помощь» и оперативная «Волга». Следствие началось. Я взглянул на часы — было без трех минут час.Дежурный врач Центрального пункта «Скорой помощи» ПоповаПатрульный милиционер Александр Леготкин
Евгения Курбатова
— Это следователь из Ждановской прокуратуры, — услышала я, выходя из машины. Двое молодых парней в штатском разговаривали с милицейским старшиной. Я тоже узнала их — оперативники из тридцать третьего отделения милиции. Мы уже встречались по другим делам. Я подошла, поздоровалась и вспомнила, что блондина зовут Саша. — Приступим? — спросила я. Саша кивнул. — Ножевое ранение в спину. По-моему, один удар. Видимо, драка. Следы крови ведут за угол, на Трудовую. Подрались они, наверно, там. Идемте вместе, посмотрим. Мы пошли с ним по этой дорожке, протоптанной одним человеком, только для себя, и только в одну сторону. Я шла и безотчетно считала про себя шаги. 16… капли, 21… лужица, 27… целая полоса, 31… капли, капли, 33… капли, 37… брызги, 46… капля. Последняя. Вернее, наоборот, первая. Тут он начал умирать. Я подумала тогда, как коротка была эта дорога из жизни в смерть, всего 46 шагов. Потом мы прошли по ней обратно, так, как бежал или шел этот человек, пока у него не кончились силы. Я наклонилась над ним. Открытые глаза смотрели прямо на меня, и все его лицо выражало огромное удивление, неприятие всего происходящего вокруг, как чего-то пустякового, несерьезного и в то же время недостойного. Не помню, сколько я простояла так, пока кто-то не тронул меня за плечо: — Подвиньтесь, пожалуйста, Евгения Георгиевна, мне надо снять его с разных точек. — Это начал работать эксперт. Я отошла к краю тротуара и подумала, что сегодня я прямо на удивление не в форме. Меня охватила какая-то тупая апатичность, тяжелая, парализующая. Наверное, так случается со спортсменами — перед трудной, ответственной игрой от нервного напряжения сводит все мышцы, мысли становятся вязкими, бесформенными, клейкими. Чушь какая-то! Сейчас-то как раз важнее всего реактивность, цепкость, потому что, если здесь есть какие-нибудь следы или свидетели, их надо найти немедленно — завтра они могут кануть навсегда. Я даже головой затрясла, пытаясь сбросить это мучительное оцепенение, вслушаться в слова старушки, которую откуда-то привел Саша. — Погодина моя фамилия, да, Погодина Прасковья Даниловна. В складе я работаю, вон в доме напротив, сторож я. Ну да, это я в «Скорую помощь» и звонила, потому как сразу крик его услыхала. Страшный крик был, будто душа на свободу просилась. Вышла я из тамбурчика своего и вижу — бежит он прямо по мостовой. Я, грешным делом, подумала сначала, что пьяный он, — так его из стороны в сторону мотало. Нажрались винища, думаю, окаянные, и давай кулаками ширять. А на перекрестке он упал. Хотела я подойти, да поначалу побоялась — вдруг те снова придут и опять драться зачнут промеж себя. А меня-то, старую, долго ли зашибить, хоть и ненароком? — А потом что было, Прасковья Даниловна? — А чего было — сама видишь. Я, старая, жива и тебе вот все рассказываю, а он, молодой, жить бы ему да жить, — мертвый лежит. — Понятно. Так когда упал он на перекрестке, он что, до этого места дополз? — Зачем? Встал он. Встал, а бежать боле не мог, нет, шел как-то кругами, и все его назад выворачивало, будто жжение у него в спине было. До этого места дошел и лег здеся. Вижу — не шевелится, я страх свой перемогла и побегла звонить в «Скорую»… — Его зовут Константин Михайлович Попов, — сказал Саша. Я обернулась к нему и увидела в его руках пачку денег, какой-то разграфленный лист и водительские права. — Звали, — сказала я. Эта бестактность получилась у меня вполне сознательно: я не хотела больше думать о том, что этот парень был десять минут назад еще жив, что несколько незримых мгновений назад вместе с ним умер целый человеческий мир, потому что он уже умер, — маленький, но громадный мир одного человека со всеми его радостями, горестями, любовями и враждами, мечтами, планами. Все это навсегда теперь зачеркивалось одним маленьким, острым, похожим на крысу словом «смерть», и слово это обязывало теперь говорить о Константине Попове только в прошедшем времени — его звали, он был, он собирался, он работал… И вместо слова «жена» надо теперь говорить «его вдова», а в протоколе осмотра не напишешь: «Костя Попов одет в черный пиджак». Выработанная годами форма требует писать: «На убитом черный пиджак». И то, что до этого момента я думала и говорила о нем, как о живом, будто просто случилась с ним неприятность, что он сейчас встанет, и все нам расскажет, и поможет найти бандитов, которые дерутся по ночам на тихих улицах ножами, — все это мешало мне сосредоточиться и понять, что мне уже никто ничего не скажет, что я должна из клочков информации сама восстановить все происшедшее здесь несколько минут назад, найти и покарать убийц. Просто надо было мне первой усвоить, что Константин Попов уже мертв. — Звали, — кивнул Саша. Он показал мне разграфленный лист. — Это путевой лист шофера пятого таксомоторного парка. Вот здесь написано, что выехал он на линию в 8.30, а отметки о возвращении в парк нет. Кроме того, они, по-моему, должны сдавать путевку в диспетчерскую парка. — Подожди, подожди. А когда ты вышел снова, такси уже не было? — Это второй оперативник «вытрясал» сведения из молодого паренька, которого привел патрульный милиционер. Саша внимательно прислушался к разговору и подошел к ним. — Ну в том-то и дело! — парень размахивал руками, как вентилятор. — Попрощался я с Галкой и побежал к себе. Ну, ясное дело, все спят, а я на кухне устроился и пельмени ем. Вдруг слышу крик. Я подумал, что кто-то дерется, решил побежать посмотреть. Но пельмени все-таки доел. Выбегаю на улицу — тихо, никого не видать. Только такси стоит около дома семь с включенным счетчиком — фонарик зеленый не горел. А в машине никого нет, это я точно знаю, потому что я в кабину заглядывал. Я даже на счетчик посмотрел — там пять рублей с копейками нащелкало. Ну вот, значит, вижу я, никого нет, хотел уж домой бежать, а потом подумал, что Галка наверняка еще не спит, и припустил к ее дому. Вбежал во двор, вижу, свет у них на кухне горит. Ну, я свистнул, значит, она знает, как я свищу — у нас свой сигнал есть. Ничего. Я еще раз свистнул. Смотрю, дверь на балкон открывается и выходит Валерка — сосед ихний. Ну и мой он знакомый парень, конечно. Мы тут на улице все друг друга знаем. «Ты чего?» — спрашивает. Ну конечно, неудобно мне про Галку говорить, я ему сказал, что сигареты кончились, пусть, мол, покурить бросит. Он пошел в комнату за сигаретами, а тут Галка на балкон выходит и говорит, чтобы я домой бежал, а то мать ее увидит, даст ей тогда по мозгам. В это время и Валерка появляется и сигарету мне со спичками сбросил. А Галке он говорит: «Постой здесь со мной». Ничего, мол, страшного, мать не увидит. «Я ведь знаю, — говорит, — за каким он огоньком прибежал». Ну, осталась Галка, конечно, на балконе. Так вот мы постояли вместе — они на балконе, а я внизу — и потрепались про всякое, про разное. Валерка говорит: «Слушай, а кто это кричал недавно, ты не видел?» Ну, я ему, конечно, говорю, что не видел. В общем, потолковали еще немного, и Галка велела мне — домой отправляться. Побежал я домой. Выскочил на улицу, смотрю — такси нет. Я сначала-то и внимания не обратил. А когда домой прибежал, прямо как будто толкнуло меня чего-то. И я опять побежал на улицу. Прибег на то место, где машина стояла, — глядь, а на асфальте кровь. Прямо дорожкой идет. Ну, я, конечно, пошел по этому следу. А тут смотрю — и старшина мне навстречу топает. Сошлись мы с ним, потолковали и пошли сюда вместе… Он выпалил все это одним духом, и я почему-то очень объемно, как в стереокино, представила себе его беготню. Видимо, ходить обычным шагом он вообще не умел, просто не знал, что можно передвигаться не обязательно бегом. — Боюсь, Саша, что Попов был водителем этого такси, — сказала я и повернулась к пареньку: — Как ваша фамилия? — Так я же говорил! Денисов я! — Вот что, Денисов, не можете вы припомнить номер этого такси? — Номер? Такси? А зачем? — Нам это важно знать. Постарайтесь вспомнить. — Номер? Номер? Нет, не помню. Не помню я номер. Помню, что светлая машина была, вроде кофейного цвета, что ли. Или бежевая. Похоже, что от него мы больше ничего не добьемся. Я сказала Саше: — Давайте разделим сферы. Я буду писать протокол осмотра места происшествия, а вы вернитесь на Трудовую и посмотрите, в каких окнах вблизи дома семь еще горит свет. Нам, видимо, надо будет пройти по этим квартирам и поговорить с жильцами: может быть, кто-то видел, что там произошло. Саша взял милиционера и ушел на Трудовую. Я положила на капот бланк протокола и стала писать: «Я, старший следователь прокуратуры Ждановского района, Курбатова Е. Г…»Владимир Лакс
Мы вылетели на какую-то большую площадь, и я увидел, что Альбинка заерзал — он не мог разобраться, на какой свет куда ехать. Но растерялся он только на мгновенье, дал полный газ и помчался наискосок через площадь. Справа отчаянно зазвенел трамвай, я обернулся и понял, что мы сейчас обязательно с ним столкнемся — наша «Волга» и красный гремящий вагон неотвратимо сближались под острым углом. Альбинка заметил это, взял чуть левее и до отказа нажал акселератор. Трамвай с визгом тормозил, из-под колес сыпались искры. Мы проскочили прямо под носом у него, баллоны глухо забились, загудели по рельсам, и по нервам остро, как напильником, резанул сзади милицейский свисток. Я посмотрел на Альбинку, его длинный нос навис над рулем, прямые волосы спадали на глаза. Он покосился на меня, подмигнул: — Не бойся, уйдем. С таким мотором нам не страшно… Мы уже выскочили из поля зрения того милиционера, что свистел нам вслед, когда с тротуара вдруг соскочил какой-то пьяный и побежал через дорогу к трамвайной остановке. От неожиданности Альбинка резко выжал сцепление и ударил по тормозам. Колеса замерли на мокром, только что политом асфальте, но тяжесть машины тащила нас вперед, а колеса все не крутились, и тогда нас самих, всю машину, стало вертеть на асфальте, будто детский волчок. Альбинка уцепился за руль, забыв, что его надо подворачивать против вращения машины, — он здорово испугался. У меня тоже душа в пятки ушла. Да и не мудрено — мы могли за здорово живешь разбиться сейчас насмерть. Нас развернуло раза три, наверное, и, когда нас еще первый раз поворачивало носом назад, к площади, которую мы только что миновали и где был тот самый милиционер, что пытался нас остановить, — я увидел, как с той стороны мчится к нам какая-то «Волга». Если на ней тот самый орудовец… Раздался оглушительный удар — наша машина врезалась в фонарный столб. Мы еще сидели неподвижные, оглушенные, когда рядом с нами затормозила «Волга». Я ощупал себя, цел ли, взглянул на Альбинку — он был очень бледен, но тоже невредим. Бежать сможем. Мы одновременно открыли двери, и в той машине тоже открылась дверь. Мы выскочили на дорогу и тут увидели, что машина рядом — такси. Шофер высунул голову из кабины: — Что случилось, ребята? Альбинка тяжело дышал, у него, видать, даже сил не было, чтобы ответить, так сильно он испугался. Потом он криво усмехнулся: — Да вот, занесло на мокром асфальте… Таксист вышел из машины, подошел к нам. Мы вместе осмотрели разбитый зад нашей «Волги». Вмят бампер, продавлен багажник, согнут номерной знак, и разбилась лампочка над номером. — Н-да, на литр слесарям дать придется, — сказал таксист. — Помочь не надо? Альбинка покачал головой: — Спасибо, не надо… Таксист уехал. Мы сели в машину. У Альбинки так тряслись руки, что он никак не мог прикурить сигарету — ломались спички. — Давай заводи, — сказал я. — Я тебе прикурю. — Ладно, — кивнул Альбинка. — Ты не бойся. Нам такой номер даже кстати — по заказу хуже не сомнешь. Но я-то видел, что он боится больше меня. Мы поехали дальше. Гудел мотор, шины шуршали по мокрой мостовой, и мелкие капельки влаги садились на лобовое стекло. Улица здесь быстро спускалась. Где-то далеко внизу ее пересекала тяжелая арка путепровода. Мне ужасно хотелось узнать, куда мы едем, потому что это тоже пугало — вот так ехать в неизвестность, и непонятно было, сколько времени и километров нам надо мчаться вперед, чтобы уйти от погони, которая должна вот-вот начаться. И может быть, эта погоня придет как раз оттуда — из темноты чужого, незнакомого шоссе. Машина ухнула под мост путепровода, загудела в его металлической коробке, и я успел разглядеть, что на боковине моста прикреплен огромный транспарант: «Слава советской молодежи». Альбинка быстро спросил: — Чего там было написано? И я почему-то разозлился: — Езжай, езжай быстрее. Это не про нас.Евгения Курбатова
Через час небо начало светлеть, и вдруг все фонари разом погасли. Синева небосвода быстро линяла и стекала в темные длинные ущелья улиц. Здесь еще затаился сиреневый дымный туман, который размывал углы и грани, и лица в нем были особенно бледны, и движения людей выглядели ненастояще-плавными, как у мимов. Я протерла глаза и увидела, что ко мне идет Саша с какой-то женщиной. — Это Зоя Зайцева, она здесь живет, — сказал Саша, пропуская женщину вперед и подмигивая мне за ее спиной — мол, давай, можно расспрашивать. Женщина в легком платье с шерстяной кофточкой на плечах была обута в домашние тапочки. И по этим тапочкам с цветным помпончиком я видела, как она взволнована — суконные тапочки непрерывно выстукивали на асфальте какой-то ритм, и помпончики дергались в разные стороны. — Я такого крика сроду не слышала. Он показался мне особенно страшным оттого, что я уже задремала. И тут раздался этот ужасный крик. — Она прижала руки к горлу, как будто ей снова слышался этот крик. — Сначала я подумала, что мне со сна почудилось, но крик не прекращался. Я встала и подбежала к окну. На улице никого не было, только под окнами стояло пустое такси. — Простите, Зоя, вы уверены, что оно было свободно? — Я и не говорю, что оно было свободно. Я говорю, что в нем в этот момент никого не было. Это я точно знаю, потому что машина стояла прямо напротив моих окон и мне со второго этажа было очень хорошо видно… Она замолчала, прижимая руки к горлу, и все так же дергался на тапочке помпончик.: — А потом? — Потом? Потом эти ребята перебежали через дорогу и сели в машину. — Какие ребята? — Одну минутку, — перебил ее Саша. — Я тут выяснил у соседей, что один из жильцов, Баулин, держал у себя постояльцев, двух молодых ребят. А вот Зоя говорит, что видела, как двое ребят выбежали из их подъезда и сели в машину. — Да, сели в машину. У них в руках были маленькие чемоданчики. Я баулинских жильцов не видела, но, если бы мне показали этих ребят, что сели в такси, я бы их наверняка узнала. Я их хорошо запомнила, они все время были под фонарем — на свету. Тот, что повыше, худой парень с длинной челкой, сел за руль, а второй, поменьше ростом, по-моему, он с небольшими усиками и длинной прической, вроде той, что эти битлы носят, так вот, второй сел рядом с ним. Шофер завел мотор, и они сразу поехали. Только, по-моему, он не настоящий шофер… — Почему вы так думаете? — Очень машина у него дергалась. Один раз она даже заглохла. Потом он снова ее завел, и они поехали в сторону Заставы Ильича. — Вы не заметили, сколько было времени? Она растерянно развела руками: — Я так испугалась, что даже на часы не посмотрела. Да и со сна я была все-таки… Саша внимательно посмотрел на меня: — Так что? Я пожала плечами: — Идем к Баулину домой. Этот вариант надо проверить сразу. Если его ребята дома, то будем думать, что и как, а если их нет… Мы вернулись на Трудовую и поднялись на второй этаж по грязной зашарпанной лестнице. Саша мягко, но очень уверенно, как о вещи, не подлежащей обсуждению, отодвинул меня плечом от двери и резко позвонил несколько раз в дверной звонок. Я шепотом спросила: — А куда окна… — Все в порядке. Я там милиционера поставил. В глубине квартиры раздались шаги, и чей-то сонный голос спросил: — Кто там? Саша легонько толкнул меня, и я сказала: — Откройте, телеграмма Баулину. Дверь отворилась, и заспанный, близоруко щурящийся молодой человек сказал: — Телеграмму я приму, но Баулина нет… Мы вошли в квартиру, и Саша быстро спросил: — А где же сам-то Баулин? — Он, по-видимому, ночует у своих родителей. Простите, но я не понимаю, в чем дело. Кто вы такие? — Мы из уголовного розыска, — сказал Саша и протянул человеку свою продолговатую красную книжечку. — А теперь давайте ближе познакомимся. Кто вы такой? Человек совсем растерялся. — Я снимаю здесь жилье на время экзаменационной сессии. Я дважды в год приезжаю в Москву сдавать экзамены в заочном институте… — Ваша фамилия? — Хейсон, Юрий Григорьевич Хейсон. — У вас, конечно, есть документы? — Да, естественно. Но в чем дело? Проживание мне здесь разрешено, я предупреждал участкового. Саша взял разговор с ним полностью в свои руки. — Это прекрасно, что вам разрешено проживание. Вы живете здесь один? — Нет, здесь живет мой товарищ по институту, Завердяга, он из Одессы. — Где сейчас находится ваш товарищ Завердяга? Хейсон удивленно посмотрел на него: — Вот здесь, в нашей комнате, спит. Но в чем дело, я не понимаю? — Пустая формальность, — вежливо улыбнулся Саша. — Скажите, Юрий Григорьевич, а что, Баулин все время здесь не живет? — Слушайте, товарищ сыщик, не крутите мне голову! Из-за пустых формальностей в наше время людей не будят среди ночи! Если вас что-то интересует, так вы мне прямо скажите, что вас интересует, а я вам скажу, что я знаю! — Меня как раз и интересует Баулин, — усмехнулся Саша. — Так что, Баулин здесь совсем не живет? — Почему же? — взмахнул Хейсон руками. — Он все время здесь живет и только последние три ночи уходит спать к родителям. После того как вернулся от жены. — Так, так. Почему же он уходит, не знаете? — То есть, как почему? Где же ему спать? На полу, что ли? У него же там люди! — Простите, не понял, какие люди? — Жильцы же у него сейчас! Ребят этих двое! Саша быстро взглянул на меня и, не подавая виду, сказал: — Так, так, это мы знаем. А что, ребята эти дома? — Конечно! Я им сам дверь открывал не так давно. — Прекрасно, прекрасно, — бормотал себе под нос Саша, потом неожиданно резко повернулся к Хейсону, тихо, будто штампуя слова, спросил: — А что, ребята пришли после крика на улице? Или до него? А? Хейсон задумался, и тут по его лицу я поняла, что он, наконец, всесвязал в одну цепь. — Подождите… Так что же это… Подождите… Этот крик… Конечно, они пришли позже… Конечно! Я еще спрашивал у них об… Саша прижал палец к губам: — Тихо, тихо. Их дверь эта? Хейсон молча кивнул. Саша подошел к двери, засунул руку в карман пиджака, прислушался. Во всей квартире наступила такая тишина, что я отчетливо слышала бормотание водяной струйки в раковине на кухне. Саша на мгновенье задумался, и я поняла, что он не может решить, как ему быть, — стучать или ворваться в комнату. Потом он взялся покрепче за ручку и рванул изо всех сил дверь на себя. Она распахнулась безо всякого сопротивления — не заперто. Саша взглянул в комнату. — Пусто, они удрали. Они удрали на такси… Мы вошли. Саша высунулся в окно и сказал: — Леготкин, берите дворничиху, она, наверное, знает, где живут родители Баулина, и езжайте за ним. Побыстрее, здесь нам надо сделать обыск…Альбинас Юронис
Еще раз мне засвистел орудовец, чтобы я остановился, уже на выезде из Москвы. Но я только сильнее нажал на газ. Я никогда до этого времени не задумывался над тем, что значит «никогда». Всегда всему полагался свой срок. А вот теперь я понял, что есть «никогда». Есть вещи, которые не повторяются, не возвращаются. Есть этот простой и страшный барьер «никогда». Я не жалел, что вся прежняя жизнь умерла, и неизвестно, какой будет новая. Важно, что никогда она не будет такой, как она была раньше. Я никогда не вернусь в старую жизнь. Никогда не будет того, что было раньше, что все время повторялось со мной почти восемнадцать лет. Серая дорога все бежала и бежала навстречу и сразу же навсегда пропадала сзади, и она была барьером, мостом через «никогда». И мне от этого было очень тоскливо и боязно. Говорят, что тонущий человек в последний момент перед смертью успевает увидеть четко, как в кино, всю свою жизнь. Не знаю, может быть, это и так, но только за один миг всю жизнь не увидишь. Какая бы ни была она маленькая и неинтересная. Потому что в ней полно очень важных мигов, которые и на память-то сразу не придут. Никогда ты сразу не решишь, какой из них определил твою жизнь. И в самое долгое мгновенье их все не запихаешь. Я все время вспоминал на этом темном пустынном шоссе, что, сидя с Володькой в ресторане на вокзале Даугавпилса, мы представляли себе все по-другому. Смешно, что люди иногда могут заглядывать в свое будущее. Но они видят только куски и поэтому ни за что не могут понять, как же там, в будущем, хорошо или плохо? Тогда, на вокзале, мы пили водку и настроение у нас было веселое, беззаботное. Я сказал Володьке: «Погоди, малыш, мы с тобой еще будем гнать на отличном моторе, а не на каком-то паршивом грузовике. Будем жать на сто двадцать, и бояться, малыш, нам с таким мотором будет совсем нечего». Так и получилось, что мы с Володькой мчимся через ночь на сто двадцать. Но оба здорово боимся. Хотя я и сам не понимаю, чего нам сейчас бояться. Там, в ресторане на вокзале, пока мы дожидались московского поезда, было все просто. Как жить — тоже было ясно. Поживем в Москве, а потом поедем на юг, к морю. Проживем как-нибудь. Володька сказал, что если кончатся деньги, то мы их у кого-нибудь отнимем. Можно у какой-нибудь бабы отнять сумку или часы. А еще надо отнять транзистор — с транзистором веселее. Тогда я сказал, что лучше ограбить таксиста. «Как это?» — спросил Володька. «Очень просто», — сказал я. Был такой колоссальный фильм — «Особняк на зеленой улице». Таксистов грабили и убивали. Но, по-моему, они засыпались не потому, что их там ловко выследили, а потому что сидели они все время на одном месте. Оттого и сгорели. А мы бы сразу укатили куда-нибудь далеко. «Поедем в Одессу?» — спросил я. А Володька сказал, что в Одессу так в Одессу, ему без разницы. Из Одессы можно будет поехать в Сочи или в Сухуми. Хорошо, если бы можно было ехать до Сухуми на этом такси. Только опасно, его где-нибудь придется бросить по дороге, не сейчас, конечно. Пока там хватятся таксиста да сообщат, — сколько времени еще пройдет! Кроме того, нужно еще знать, куда сообщать о нас. Мы пока что и сами не знаем, куда едем. Наверное, милиция нарочно распускает сказки о том, как ловко и бойко они работают, — чтобы боялись больше. Посмотрим, как это они нас найдут. Им для этого надо до Баулина докопаться вперед. Кроме него, о нас в Москве вообще никто не знает. Но сколько я ни думал вот так, все равно не проходила тревога. Володька все время молчал. Может быть, он тоже думал о Баулине? Поэтому я сказал: — Давай подумаем, как быть дальше…Евгения Курбатова
Я повернула выключатель, и в комнате загорелся свет, тусклый, какой-то неприятный. На столе валялись объедки, в беспорядке выстроились грязные чашки, захватанные жирными пальцами стаканы, открытая банка килек, всякий мусор. И до сих пор здесь скверно пахло дешевой выпивкой и табачным дымом. Светлые обои с уродливыми цветами, старые стулья и древний телевизор КВН. Здесь все было замусорено, запущено, запылено, и вид у комнаты был нежилой, хотя люди и ушли отсюда совсем недавно. Тут вещей было — раз, два и обчелся, но вся комната завалена ими, и все переворошено и разбросано так, словно кто-то в спешке, в тревоге бежал отсюда. Впрочем, так оно, вероятно, и было. Я восемь лет работаю следователем, но никак не могу привыкнуть к тому, что часто вхожу в чужие дома неожиданно, не спрашивая хозяев, нравится ли им это и приготовились ли они к встрече. Они обязаны меня принимать, хочется им этого или нет, и вся штука в том, что я не сама по себе — Женя Курбатова — прихожу к ним, а вместе со мной приходит закон, который обязателен для всех, и хочешь не хочешь, а принимай. Но я и закон — это все-таки не одно и то же, потому что закон, он и есть закон, а я ведь просто человек, женщина, и прихожу я всегда к людям, когда они испытывают или горе, или страх, или злобу, или стыд. И от этого мне иногда очень тяжело жить, потому что нельзя разделить жизнь, как листок бумаги, пополам — здесь работа, а здесь отдых, и в нем нет чужого горя, страха, злобы или стыда. Потому что я не закон, а только человек, и, заканчивая обыск или запирая свой служебный кабинет, я уношу с работы часть боли, и боязни, и ненависти, и раскаяния этих людей, и она постепенно растворяется во мне, и я больше всего боюсь, чтобы все эти чувства когда-то не выпали во мне горьким осадком озлобления. Тогда получилось бы, что моя жизнь прожита зря, так как на моей работе можно многого навидаться и проще всего разозлиться на людей, но тогда надо побыстрей уходить с этой работы и заняться чем угодно, только не работать с людьми вместе. Черт возьми, за восемь лет у меня было время подумать о моей работе, но всякий раз, когда я снова сталкиваюсь с человеческой жестокостью, я хочу ответить хотя бы себе — почему я здесь? Ведь это только в ненавистных мне детективах будущий сыщик решает раз и навсегда: мое жизненное призвание — карать зло, и я посвящу себя ему всего до остатка, пока бьется сердце, дышат легкие, в общем, работает весь этот ливер. В жизни оно проще и в тысячу раз сложнее. Потому что даже если предположить, что ты такой молодец и в двадцать лет можешь точно определить свое жизненное призвание, остается маленькая закавыка, совсем пустяковая, да только от нее не избавишься, и, даже если ты о ней забудешь, она тебе скоро сама напомнит о себе: можешь ли ты карать зло? Ведь хотеть этого мало, надо еще мочь. Тут в чем штука? На работе нашей мы пропускаем через себя человеческое горе, как провод электрический ток. Может быть, это слишком красиво или, может быть, сложно сказано, только, во-первых, я бы этого вслух говорить не стала, а во-вторых, это действительно так. Причем принимаем мы этот токовый удар на себя первыми: семья Кости Попова через несколько часов после меня узнает, что он погиб. А из-за того, что ток человеческого горя попадает в нас первых, это самая способность карать зло должна быть в нас как предохранитель в электрической цепи — слабый человек сгорит сразу, а от слишком сильного человека толка тоже будет не много: он легко пропустит через себя простое людское горе. В общем, я запуталась совсем, но только я думаю, я знаю это наверняка, что никак не может работать у нас озлобленный человек, потому что преступник всегда тоже человек, и, для того чтобы изобличить его, надо чувствовать всю ту меру боли и горечи, которую он причинил кому-то. И еще: я много видела преступников, я разговаривала с ними — с сотнями, но я ни разу не встретила среди них счастливого человека. Даже самые удачливые из них никогда не были счастливы, и это не только потому, что мы встречались, когда пришло им время отвечать за все, что было раньше. Они и до этого не были счастливы. Я знаю это не потому, что мне бы этого хотелось, а потому, что это действительно так, на самом деле так. Я, конечно, не говорю, что, если хочешь стать счастливым, иди в следователи. В нашей работе настоящей радости тоже немного, потому что трудная это работа, нервная, злая, она должна быть для тебя всем на свете. Тогда приходит радость, какая-то уверенность в твоей человеческой нужности. Иногда на это уходит целая жизнь, и все равно я знала многих счастливых. А вот счастливого преступника я не встречала ни разу. Наверное, тоже потому, что он человек и стал преступником он не враз, а всю жизнь его гнетет страх, стыд или раскаяние, и никогда он себе не находит утешения ни в деньгах, ни в любви, даже в азарте он не находит утешения, а все остальное для него закрыто. Мне доводилось много раз видеть, как преступники встречали арест чуть ли не с радостью — так невыносимо для них было бесконечное ожидание возмездия. А ведь они ждут его всегда, даже если тысячу раз уверены, что их не поймают. Тут уж ничего не поделаешь, физиология. Поэтому я думаю и о тех, кого должна арестовать, хотя заботиться об их душевном спокойствии мне и не приходится. Но я всегда боюсь, что ко мне дважды попадет один и тот же преступник — значит, я не сделала чего-то очень важного, что-то я не довела до конца, значит, я тоже виновата. Вот так я сидела и раздумывала обо всем, чего решить не могла, и ответов всех дать не умела, и дожидалась, когда привезут хозяина этой грязной, запущенной комнаты, Баулина. Человека, у которого нашли приют возможные убийцы Кости Попова. Протарахтел на улице мотоцикл и, фыркнув, замолк у парадного. Через минуту в коридоре тяжело затопали шаги и ввалился Баулин. На щеке у него еще багровел рубец от подушки, и сам он был толстый, небритый, похмельный. Не дожидаясь вопросов, он сразу забубнил: — А че? А че? А ребятчки-то где? Где они, а? А че? Ну, пустил пожить! Ну, в поезде познакомились! А че? Нельзя, что ли? Так я без корысти! Я так! По доброте душевной! А че? Я молча, не перебивая, смотрела на него, и Баулин постепенно увядал, пока совсем не замолк. Тогда я сказала: — Расскажите, пожалуйста, Баулин, все, что вам известно о ваших жильцах.Владимир Лакс
Город кончился сразу — исчезли многоэтажные дома, и сразу с обеих сторон дороги побежал лес. Встречных машин почти не было, и наша «Волга», располосовав темноту столбами клубящегося света, с шипеньем мчалась по шоссе. На табличке километрового столба две цифры — шестьдесят два и шестьсот семьдесят четыре. Шестьдесят два — это понятно, это мы проехали от Москвы. А вот шестьсот семьдесят четыре — это докуда? Неизвестно. Так мы и ехали, не зная куда и сколько нам еще ехать, потому что город, который должен быть там, на шестьсот семьдесят четвертом километре, мог как раз оказаться в том направлении, что в анекдоте — «и вообще мы не в ту сторону едем!». Я думал, что мы едем куда-то на восток или на юго-восток, — прямо по носу машины светлело все быстрее. Лампочки на приборном щитке чуть освещали лицо Альбинки, худое, острое, с длинной светлой прядью, спадающей на глаза. Закусив губу, не отрываясь, он смотрел вперед, на шелестящее полотно шоссе. И все время мы молчали. Говорить не хотелось, да и не о чем было сейчас говорить. Я закрыл глаза, пытаясь хоть немного задремать, но сон не приходил, и только вязкое оцепенение сковывало, будто меня всего засыпало землей. Потом Альбинка сказал: — Давай подумаем, что будем делать дальше. Дальше? Глупо как-то получается, ведь мы раньше не задавались даже таким вопросом — настолько было ясно, что надо делать дальше. Интересно, весело жить, и все. И почему-то я сам поверил, что, если мы пойдем на это, все решится как-то само по себе, ведь тогда будут деньги. А денег нет, но зато есть за нами убийство, и вообще не очень понятно, что же все-таки делать дальше. Допустим, поедем мы в Одессу, а потом в Сухуми. Но сначала надо выяснить, куда ведет это шоссе. Если оттуда надо возвращаться через Москву, то я — пас! Я через Москву ни за какие коврижки не поеду. Может быть, вся милиция там на ноги уже поднята. А может быть, и нет. Найти нас могут только через Баулина. Глупость, конечно, сделали, что привезли таксиста под самые окна. Но я до самого конца надеялся, что обойдется, что Альбинка его только попугает, я ведь не знал, что он такое вдруг отмочит. Предположим, они найдут Баулина. Что может рассказать о нас Баулин? А действительно, что он знает про нас? Вдруг Альбинка сказал: — Смотри, заяц!.. Перед машиной, в яркой струе света, катился по асфальту серый клубочек. Зайчишка, видимо, хотел перебежать через шоссе, но попал в свет фар и, оглушенный настигающим грохотом машины, ослепленный электрическим заревом, изо всех сил пытался оторваться от «Волги», а Альбинка все круче нажимал педаль акселератора. — Зайцы от света шалеют, — спокойно сказал он. — Теперь он никуда из освещенной полосы деться не может… Машина уже мчалась на сотню, а маленький серый клубочек все катился перед нами. Меня вдруг охватил азарт погони. Но потом я резко нагнулся и выключил ручку света. Альбинка зло дернулся в мою сторону и крикнул: — Ты с ума сошел? Зачем? — и включил свет снова, но зайца на дороге уже не было. Я ничего не сказал Альбинке, потому что он сам этого еще не понимал и знать это ему было еще не надо: шоссе было для нас как раз той самой световой дорожкой, по которой мы бежали очертя голову, два перепуганных до смерти зайца…Евгения Курбатова
Я слушала Баулина, и у меня не проходило ощущение досады: прямо обидно, до чего глупый человек. Это уж просто физический недостаток — будто без ноги родился. Я совсем сбилась, запуталась в его «бутылках», «полбутылках», «на троих взял», «стакан вложил», «красненького принял маленько». А он без этого никак не мог, потому что «полбутылки» были для него основными событийными и хронологическими ориентирами. И все бубнил он и бубнил: — …Да-а, значит, вонзил я два стакана и пошел. А с деньгами — беда-а! — С деньгами ничего, — перебила я. — Без денег — беда. Вот вы бы пили поменьше — и беды бы не было. — Не-могу, — он жалобно смотрел на меня круглыми глазами, а толстые щеки мелко дрожали, — Это как болезнь у меня. Всю свою жизнь через это могу погубить. И жена из-за этого ушла. Тут все как раз и началось. — Вот давайте с этого момента и начнем. Значит, восемнадцатого числа вы возвращались от своей жены из Советска? — Так точно. Из Советска я ехал, калининградским поездом. Два дня там провел, Зинку не уговорил и решил возвращаться… Да-а… Выпил, выпил, конечно… — Много выпили? Он застенчиво посмотрел в сторону: — В лоскуты. Ни копеечки не осталось. Хорошо, билет вперед купил, а то и не знаю, как бы уехал. В общем, как сел в поезд — не помню. Только проснулся, пошарил в карманах — пусто, голова трещит с опохмелюги, курить охота и красненького хорошо бы маленько — поправиться. Только денег, конечно, ни шиша. Я ведь все по правде говорю, как было, вы же сами просили, так ведь? — Ну-ну, рассказывайте дальше. — Да-а… Вышел я, значит, в тамбур, смотрю, двое парнишек стоят курят. Ну, стрельнул я у них сигаретку, покурил, вроде полегчало. Разговорились. Они, значит, в Одессу едут отдыхать — отпуск у них. И Москву хотят посмотреть. Ребятки вежливые такие. Ну, я им и предложил пожить пока здесь, у меня, — им хорошо, и мне компания. Они согласились. Вот и все. — Нет, не все. Расскажите, что было дальше. — Дальше? А дальше сошли мы с поезда, купили бутылку и поехали сюда. — Кто купил бутылку? — Ребятчки, ребятчки купили. — А кто предложил купить? Баулин замялся: — Ну, как кто? Вместе предложили. За знакомство-то надо было дернуть? Вот и взяли пузырек беленькой… — Так. Значит, знакомство состоялось. Кто же были ваши новые знакомые? — Я ж говорю — ребятчки из Литвы. Одного Володя зовут, а другого — Альбинас. — Что вам еще о них известно? Фамилии? Место жительства? Чем занимаются? Баулин напряженно думал, долго думал, потом сказал: — Да-а… Из Литвы они… Володя и Альбинас. Да-а… А больше я не знаю. — Немного вы знаете, прямо скажем. — А зачем мне, товарищ следователь, посудите сами. Я же не участковый, что мне узнавать про них? — Ну ладно. Дальше. — Дальше? Ладно, — невольно передразнил меня Баулин. — Выпили мы, значит, закусили. Сало у ребятчек было хорошее. Шпиг настоящий — закусочка лучше не придумаешь. Поздно уже было, они и легли спать. Да-а, спать легли. А я к старикам своим ушел — спать-то мне здесь негде — и утром вернулся. — Это было уже девятнадцатого. Так? — Ага, ага. Бутылочку взяли… — И что? — Что — что? Выпили. Потом пошли в парк, гуляли. — Не пили больше? — Пили, — грустно кивнул Баулин. — Взяли бутылку и еще маленькую, пришли во двор и с соседями выпили. — На чьи деньги купили водку? — На их. То есть на мои. — Так на их или на ваши? — Я и говорю: на мои. Одолжил я у них пятерку, а то неудобно было все время на их… — А деньги отдали? — Не. Пока не отдавал. Получки у меня еще не было. — А деньги за жилье вы с ребят этих брали? — Зачем? — обиженно приподнялся Баулин. — Я ведь их не из корысти пустил, а так, по доброте душевной. «Убила бы я тебя за доброту твою душевную, алкоголик несчастный», — подумала я со злостью и сказала: — Ну, добрались мы, наконец, до двадцатого июня. Что было в этот день? — Вчера, значит? Да-да… Зашел я к себе, ну, договорились с ребятами. — О чем? — О чем, о чем? Выпить. Купили портвею две бутылочки, зашли к Кольке Гусеву, выпили. Потом скинулись, еще две бутылочки красненького взяли. У меня в комнате и выпили. Потом я собрал пустые бутылки, пошел в магазин, сдал их и сообразил на троих. Потом еще с кем-то выпил, а потом домой ушел — спать. А ребятчек, как ушел часов в восемь, так более не видел. В углу, под стулом, валялся грязный рюкзак. Я спросила Баулина: — Это чей мешок? Он долго смотрел на него, будто припоминая что-то, потом важно сказал: — Не мой. Чей — не знаю, врать не буду, но не мой. Это точно. — Может быть, это ребята оставили рюкзак? — Ребятчки? А че? А че? Может. Может, и ребятчки оставили… Я достала из-под стула рюкзак, отстегнула ремешок. В мешке лежали грязная рубаха, майка, газета из города Паневежиса за 16 июня и фотоаппарат «Зоркий». Вошел Саша, который рядом в комнате допрашивал Гусева, соседа и собутыльника Баулина. — Саша, по-видимому, фотоаппарат принадлежит этим парням. Его надо как можно быстрее отправить в НТО и проявить пленку. На ней могут оказаться самые неожиданные и весьма полезные нам кадры. Оперативник кивнул: — Допускаю. Кстати, я связался с пятым таксопарком. Машина 52–51 из рейса не возвращалась. — Слушайте, Саша, у меня есть идея. Пока суд да дело, поезжайте на Петровку, тридцать восемь и свяжитесь с Министерством внутренних дел Литвы. Надо выяснить через уголовный розыск, нет ли сведений об исчезновении двух парней шестнадцати-семнадцати лет. Предположительнее всего — из Паневежиса…Сводка-ориентировка «21 июня в 0 часов 43 минуты в Москве на Трудовой улице, дом семь двое неизвестных нанесли смертельное ножевое ранение в спину шоферу пятого таксомоторного парка Попову Константину Михайловичу, сели в его автомашину ММТ 52–51 («Волга» бежевого цвета) и скрылись. Пострадавший вышел на Большую Андроньевскую улицу и у дома № 23 скончался. В совершении убийства подозреваются приезжие из города Паневежиса Литовской ССР по имени Альбинас и Владимир, в возрасте 17–18 лет. …Принять меры к обнаружению автомашины и задержанию преступников. Розыск ведет 33-е отделение милиции города Москвы…»
Альбинас Юронис
Уже совсем развиднелось, хотя солнце еще не было видно над горизонтом. Впереди я рассмотрел огромную стрелу, показывающую налево. Через минуту мы притормозили около стрелы. Я прочитал надпись: «Горький». Чуть подальше стоял указатель — «До Владимира 2 километра». Так, значит, мы едем в сторону Горького. Эта стрела указывает объезд вокруг Владимира в направлении Горького. Ну что ж, во Владимире нам делать нечего. Надо ехать дальше. Надо вообще как можно дальше уехать от Москвы, пока нас не хватились. — Бензин скоро кончится, — сказал я. — Надо где-нибудь заправиться. А не то сядем на дороге куковать. — А на какие шиши заправляться будем? Ни одной монеты нет, — сказал Володька. — Хорошо бы, кто проголосовал. — Ночь еще, рано. Пешеходы двинутся через час, другой. Нам на столько езды бензина не хватит. — Знаешь что, — сказал Володька, — давай съедем куда-нибудь в лес и часа два поспим. Нам это вообще не помешает — еще неизвестно, когда спать придется сегодня, а с другой стороны, действительно люди появятся на дороге — глядишь, заработаем на горючее. Мы проскочили вокруг Владимира по объездному кольцу и выехали на Горьковское шоссе уже далеко за городом. Промчались несколько километров, пока не нашли удобный пологий съезд с шоссе. Въехали в лес, и я, наконец, выключил мотор. Здесь еще было сумеречно, очень тихо и очень свежо. Птицы чирикали, и я подумал, что уже давно не слышал пения птиц, все как-то не приходилось. Мы вышли из машины, размялись, подышали. Я почувствовал, что этот жуткий страх, который охватил меня тогда, понемногу стал проходить. Мы все-таки умудрились далеко умчаться. А в таких делах это первое дело. Да и времени уже прошло не меньше двух часов. Улеглась невыносимая дрожь. Из-за нее я не мог собраться с мыслями, все спокойно обдумать и принять какое-то одно правильное решение. Сейчас поспим немного и войдем в форму. Можно будет делать что-то дальше. Володька улегся на заднем сиденье, я пристроился впереди. Но лечь удобно никак не удавалось — ноги длинные. А потом налетели комары. Они, гады, звенели тонко, как пикировщики. И уснуть из-за них никак не удавалось. Я лежал на узком кожаном сиденье и против воли все вспоминал про Паневежис. Наверное, лучше всего было бы все-таки вернуться туда. Только боязно было из-за этого самосвала. Дернул нас черт тогда с Володькой угонять этот паршивый грузовик. На кой черт он нам сдался, если подумать! И удовольствия-то мы толком от езды не получили. Прокатились и бросили. А теперь, если узнали, что это наша с Володькой работа, то и не вернешься из-за него. Старая судимость сразу всплывет. Да если подумать, то какая она старая? В феврале судили только, полгода еще не прошло, И тоже за угон грузовика. Прибавят тот условный срок, и глядишь — два года, как в аптеке, пропишут. А если не в Паневежис, то куда деваться, спрашивается? Нам сейчас с таксистом этим болтаться просто так не годится. Под первую проверку где-нибудь попадешь — и с концами. Разве что если еще раз попробовать, но только не так дурацки и чтобы деньги были… Может быть, податься до Сухуми на поезде без билета, зайцами? Я сказал: — Володь, ты спишь? — Нет. Комары кусают. А что? — Слушай, может быть, дальше тронем? Мы почти час отдохнули, а комары все равно спать не дадут…Евгения Курбатова
Я твердо знаю, что люди действительно рождаются для лучшего. Но в долгих жизненных лабиринтах где-то происходит незаметный поворот, и человек становится могильщиком, или палачом, или ассенизатором. А почему? Ведь ни один ребенок не планирует стать палачом, скажи об этом любому мальчишке — он просто обидится. И сколько бы мне ни объясняли, что любой труд почетен, я никогда не поверю, будто рыть могилы или вывозить дрянь — самое обыкновенное занятие. Конечно, сразу ткнут в меня десятком укоризненных пальцев: а кто же должен заниматься этим? Да не знаю я; машины, наверное… Около шести утра отпечатали фотографии с пленки из фотоаппарата, забытого у Баулина. Я долго внимательно рассматривала их, пытаясь среди многих лип на нечетких размытых отпечатках угадать лица тех, что, как и все, родились для лучшего, а сами убили человека, и теперь их ждет тюрьма. Судя по всему, фотографировалась компания во время пьянки. На столе бутылки, стаканы, какие-то пьяные рожи. Потом появилось изображение Баулина. Хмельное блаженство морем разливалось по толстой физиономии. Вот тоже, наверное, человек создавался для чего-то выше, чем отсчитывать бутылки, четвертинки, стаканы «красноты». Чушь какая, всю жизнь будто под наркозом. Он сразу опознал своих постояльцев. — Вот Володька, с усиками, а этот Альбинас! — А был такой эпизод, когда вы вместе фотографировались? — А как же! Позавчера. Я только думал, что Володька снимает так, для виду, на пустую пленку. Но все равно было забавно, вот мы и щелкались. — Кто изображен на других кадрах? — Сейчас посмотрю, сейчас. Так, это Колька Гусев, мой сосед. Это Сашка Андрюшин, Симка Макаркин, Толька Алпатов — дружки мои. — Ладно, с ними мы поговорим отдельно… Я отдала размножить фотографии Владимира и Альбинаса, чтобы срочно разослать их по фототелеграфу. Если убийство их рук дело, то они сделали буквально все, чтобы ускорить свою поимку…Владимир Лакс
Я сел, протер глаза и сказал: — Поедем, пожалуй. А то комары прямо осатанели. Я сказал насчет комаров и протирал глаза, чтобы он не подумал, будто я от волнения не могу уснуть. Я не хотел, чтобы Альбинка думал, что я трус. Иногда, когда волнуешься или боишься, надо себя превозмочь, пересилить, заставить не бояться. Вот, когда мы перед отъездом в Паневежисе угнали грузовик, я здорово боялся сначала. Но Альбинка начал выпендриваться передо мной, будто у меня молоко на губах не обсохло, а он огни и воды прошел. Я ему так и сказал тогда: ладно, не трусливей тебя, только неохота мне, мол, потому что глупо это. Я и на легковых-то не слишком люблю ездить, а тут грузовик какой-то грязный, подумаешь, много радости. А он сказал, что это ерунда, покатаемся немножко, а потом поставим. Будут же у нас когда-нибудь свои машины, нам, мол, практика необходима, а то разучимся водить. И снова завел ту же песню — не бойся, не бойся, никто и не узнает. А я сказал, что ладно, черт с тобой, поедем. Вот и получилось, что про угон все равно узнали, и пришлось нам из Паневежиса удирать по-быстрому. С отцом страшно говорить было, он ведь такие штуки вообще не понимает. Если бы сказал, он бы заставил пойти в милицию. Поэтому и пришлось убежать потихоньку, да еще денег у него спереть. Письмо я ему из Даугавпилса отправил, чтобы не волновался. Мне его тогда почему-то очень жалко было, не везет ему как-то в жизни все время. Но я боялся, что Альбинка будет смеяться надо мной за слюнтяйство, поэтому, когда мы выпивали в ресторане на вокзале, я сказал, что пойду в уборную, а сам выскочил в почтовое отделение, здесь же, на вокзале, и купил открытку. Я написал тогда: «Здравствуй, батя! Я убежал из города. Извини, что не пришел попрощаться. Поезд уходил очень поздно, и я чуть не опоздал. Почему я убежал, напишу в следующем письме. Володя». Но письма я ему пока не написал, да, собственно, еще и некогда было. Времени-то — неделя не прошла. А кажется, будто сто лет прожил. Тогда на вокзале все было легко и просто — я первый раз был по-настоящему свободен. Никто мной не мог командовать: ни отец, ни учителя, ни воспитатели. Можно было делать что хочешь и жить как хочешь. Это было так здорово — знать, что у тебя нет никаких обязанностей, а есть только права. И даже то, что Валда, видимо, вычеркнула меня теперь навсегда, меня как-то не так огорчало. Вон Альбинаса его Нееле тоже не любит, он же от этого не собирается топиться. Он, наверное, прав, что за так просто никто никого не любит. Женщины любят настоящих мужчин — сильных и смелых, победителей. И богатых. А я, если в общем-то по-честному разобраться, довольно трусоватый и совсем не сильный. Победителем мне еще надо только стать, потому что до сих пор я проигрывал все партии, в которых участвовал. И в этой партии, что мы сейчас заварили, никакой победы не видно… Альбинка, черти бы его взяли, надумал все это. Теперь, если поймают, даже не знаю, что будет. Он тогда все распинался: есть такой фильм, «Особняк» какой-то, мол, там все точно показано, что и как надо делать, беспроигрышная партия. Там, мол, по собственной глупости эти налетчики попались. Вот те, кто придумал всю эту басню про разбойничий особняк, сидят себе дома спокойненько при своих деньгах, что они за эту придумку получили, а мы как угорелые несемся черт его знает куда. Зря, конечно, я ввязался в это дело. Вдруг отыщут нас? Вот тогда нам уж точно особняк обеспечат. Хотя найти нас, если рассуждать не от страха, а по-умному, не должны. Нас там никто не знает. Баулин знает только имена, да и вообще кому-то надо еще сообразить, что это наша работа. Ах, как было бы хорошо, если бы этой истории не было совсем! Ну, просто не было бы, и все. Не знать бы о ней ничего, не вспоминать, не помнить. Не помнить, не помнить, будто ничего не было. — Слушай, Альбинка, нам надо будет вернуться домой. — Когда? — насторожился Альбинас. Он даже руки снял с руля, и машина сразу же выписала крутой зигзаг на шоссе. — Когда? — Я и сам задумался. — Не знаю я, Альбинка, когда надо домой возвращаться — мы ведь и там за собой хвосты оставили. Но домой надо возвращаться, иначе мы с тобой попадемся. — А как же наши планы? — спросил растерянно Альбинас. — Да брось ты эту чепуху! Забудь! И вообще давай забудем об этой истории, как будто ее не было вовсе. — Ха! Забудь! Я-то забуду, а вот… — Вот поэтому забудь ее. Навсегда. Не было этого ничего. Все мы придумали, поболтали, пофантазировали, и конец. Теперь надо это забыть. Тогда, может быть, это все присохнет как-нибудь… — Допустим… А что сейчас будем делать? — Давай доедем до Горького, бросим машину и сядем зайцами на любой поезд до Ленинграда. Там разыщем кого-нибудь из моих товарищей по училищу, скажем, что отправились путешествовать и остались без денег. Помогут наверняка, они хорошие, добрые парни. Может быть, как-то пристроимся пока в Ленинграде. Хорошо бы там с полгодика пооколачиваться. А потом надо назад возвращаться в Паневежис. Больше нам деваться некуда. Альбинка задумался. Он думал долго, уж не знаю, чего он там прикидывал, но я твердо решил дураком больше не быть и у него на поводу не идти. Ясное дело, неохота ему возвращаться в Паневежис, боится он, что все угоны эти всплывут и его посадят. Только я решил, что мне плевать. Если я его не заставлю сейчас согласиться, то тогда конец всему. Загремим вместе за убийство. Я-то хоть и не убивал таксиста, да ведь понятно, что и меня по головке за это не погладят. А так вернемся потихоньку, время прошло, все уже забыли про нас, устроюсь куда-нибудь, так это и растворится помаленьку. Справа мелькнула табличка с названием деревни, которая была уже хорошо видна впереди, — «Илевники». На обочине стояла бабка с девочкой и мальчишкой. Она вышла на дорогу и махала нам рукой. — Давай, Альбинка, решай быстрее, при них говорить нельзя будет… Альбинка стал подтормаживать, пока совсем не остановил машину около этих людей. Потом повернулся ко мне и сказал сквозь зубы: — Ладно. Я согласен… Бабка наклонилась к окошку и спросила: — До станции Чигирево подбросите? — А сколько дашь? — спросил Альбинка. — Рупь дам, цена известная, — сказала бабка. Мы катили и катили по этому бесконечному шоссе, где-то заправлялись и снова ехали, ехали. Потом сошла бабка с ребятами, я даже не взглянул на них, когда они растворились в придорожной пыли позади машины, и только много времени спустя я узнал, что бабку зовут Евдокия Ивановна Фенина, что ей семьдесят один год, а внучке Тамаре — четырнадцать лет, а внуку Сереже — пять. Они-то меня рассмотрели лучше. Все-таки когда везешь за плечами убийство, дорога в четыреста километров даже по пустынному рассветному шоссе — это слишком долгий путь…Радиограмма № 3 «Пост на 348-м километре. 8 часов 37 минут. Только что в сторону Горького со скоростью 100 км/час проследовало такси — «Волга» бежевого цвета. Багажник машины разбит, номер смят, и установить его не удалось. В машине двое парней, на мой приказ остановиться не реагировали. Начинаю преследование такси, организуйте его задержание на въезде в город.Инспектор дорожного надзора Дзержинского ГОМ лейтенант Сабанцев».
Альбинас Юронис
Да, видать, другого выхода не остается. Надо будет бросить около Горького машину и двинуть в Ленинград. Только побираться у Володькиных товарищей я не намерен. Авось, пока нож в кармане и руки не отсохли — не пропадем. Потом вернемся в Паневежис, и снова потечет эта мутная жизнь. Пока не представится случай начать все сначала. Володька, трепач, испугался. А то и сейчас еще можно было бы чего-нибудь придумать. Только одному оставаться страшновато. А его уговорить явно не удастся. Да и предложить мне нечего. Ладно, как-нибудь все само устроится. Проскочили указатель — «До Дзержинска — 18 км, до Горького — 60 км». Я сказал Володьке: — В Горький въезжать нет смысла. Надо бросить такси, не доезжая… — А потом пехом переть? Да ну! Доедем до окраин, поставим около какого-нибудь дома и пойдем. Бросать в лесу опаснее — как только найдут, это сразу вызовет подозрение: откуда в лесу под Горьким московское такси? — Пожалуй, — я помолчал, потом сказал: — Слушай, Володька, я тебе хотел сказать на всякий случай… Ну, если там случится чего и нас задержат. Мало ли что бывает. Так ты запомни: мол, стояло на улице такси, пустое, мы сели и поехали кататься. Понял? — Угу, — мотнул Володька головой. Мы проехали еще километра три, и двигатель стал чихать. Я сначала не сообразил даже. Потом взглянул на бензомер — стрелка завалилась за ноль. Все, кончился бензин. Мотор фыркнул еще раз и заглох. Я переключил скорость на нейтраль. Мы катились по инерции, наверно, еще с полкилометра, пока колеса не замерли на обочине. Я вылез из машины. Закурил сигарету и стал смотреть на шоссе, дожидаясь какого-нибудь грузовика. Дорога была совсем пустынной. Господи, какая стояла в это утро необыкновенная тишина! Сколько времени прошло с той минуты, но больше я ни разу не слышал такой тишины. Потому что с тех пор я всегда нахожусь на людях. Со мной всегда много людей. Я никогда, совсем никогда, не бываю один. А тогда даже кузнечики не гомонили, и жаркая ласковая тишина расплывалась волнами над задремавшими от зноя полями. Так и стоял я на пустой дороге. Не спеша покуривал, будто набирался тишины надолго впрок. Потом показался грузовик, который быстро приближался со стороны Москвы. Но и он щадил эту необыкновенную тишину — еще долго не было слышно гула мотора. Я вышел на середину шоссе и поднял руку. На правом крыле у него заморгал подфарник. Я понял, что он останавливается. Грузовик притормозил. Из кабины высунулся веснушчатый рыжий парень. — Что случилось? — Выручи, друг, бензинчиком! Не хватило чуть-чуть. Вот и загораем здесь. — А во что тебе налить? Канистра есть? Или ведро? — Да в том-то и дело, что нет! Шофер сплюнул через окно, покачал головой: — Эх, таксеры, шофера, ядреный лапоть! — Он спрыгнул на асфальт, достал привязанное под кабиной ведро, открыл крышку бака, посмотрел на нашу «Волгу». — Здорово приложился ты, паря! Бензин булькнул и ударил звонкой золотистой струйкой из шланга в ведро. Несколько капель упало на дорогу. Они сразу закипели, расплылись радужными веселыми пятнами. Потом ведро наполнилось, я взял его аккуратно за дужку и пошел к машине. Володька, положив голову на спинку сиденья, дремал. Я поставил ведро на землю, открыл лючок бензобака, вставил шланг. Потом выпрямился. И увидел, что прямо против нас, с другой стороны шоссе, стоит «Волга»…Старший инспектор дорожного надзора Иван Турин
Жаркий денек предстоял. Было еще совсем рано, но жара уже надвигалась на город, как туча, — тяжелыми плотными клубами. В дежурке прямо дышать было нечем, хотя время только подползало к восьми. Я из-за этого прослушал начало ориентировки. — Чего, чего? — спросил я шепотом у Калинина. — Таксиста ночью в Москве убили и угнали его машину, — сказал Калинин Вячеслав. — Ты слушай, наверное, скоро всех бросят на патрулирование… У меня в комнате было попрохладнее — окна на север выходят. Я сел за стол, достал пистолет, разобрал его и смазал. Масла в бутылочке совсем на донышке — надо будет взять еще, а то как раз с нечищеным оружием попадешь под строевую проверку, сраму не оберешься. Проверил затвор, посмотрел ствол на свет — зеркальце, щелкнул пару раз и вставил в магазин. И тут позвонил телефон — на выезд. Это Сабанцев уже передал радиограмму. Я поехал с Калининым на горотдельской «Волге» — она без опознавательных цветов милиции. Калинин Вячеслав сидел за рулем в форме, а я — в штатском. За три минуты мы проскочили весь Дзержинск и выехали на Игумновскую дорогу. Дорога эта, конечно, неважная, булыжник с битым асфальтом, но так мы срезали большой кусок и выходили сразу на Московское шоссе. У села Дворики пересекли магистраль и потихоньку двинулись в сторону Москвы. Убийцы должны были ехать нам навстречу. Мы их проглядеть никак не должны — движение небольшое. Так, не спеша, и проехали километров пять. Здесь Калинин говорит — зрение у него как у кошки: — Слева на обочине машины стоят. Проехали еще немного, и я их тоже разглядел — грузовик ГАЗ-51 и перед ним — «Волга». И люди рядом копошатся. Калинин выключил двигатель, и мы тихо, по инерции, подъезжаем вплотную. Вижу — высокий парень с длинной челкой собирается заливать бензин в бак. А «Волга»-то — такси. Такси с московским номером — ММТ 52–51. Я почему-то шепотом — сердчишко тоже колотнуло — говорю Калинину: — Стой! Это они.Владимир Лакс
Я не спал тогда, просто меня охватила какая-то полудрема, когда все теряет вокруг свою обычную четкость, законченность, и сон все смягчает и будто закрашивает серым, но все равно сознание бодрствует, и ты отчетливо слышишь, что происходит рядом. Поэтому я сразу подскочил, услышав тонкий, будто задавленный, крик Альбинки: — Володька-а! Напротив нашей машины стояла «Волга», за рулем которой был милиционер. Человек в штатском уже вылез из машины, и я увидел у него в правой руке пистолет. Этот пистолет — он как заворожил меня. Потому что я впервые в жизни понял, что пистолет — это не только забавная штука, которой можно хвастаться, играть или пугать. Из пистолета можно стрелять, понял я в это мгновение. И сейчас из него будут стрелять в меня. Я почему-то был уверен, что он нас сейчас застрелит. Я оглянулся и увидел, что Альбинка уже перепрыгнул через кювет и бросился бежать по полю. Я рванулся, уже не помня о пистолете, вылетел из машины пробкой и припустил за Альбинкой, перепрыгивая с удивительной легкостью через кочки и ямины. И где-то, далеко за спиной, раздался крик, злой, громкий, вроде щелчка бичом: — Стой! Стой! Стреляю! «Стреляю, стреляю», — ввинчивались буравами в мозг слова, но я не мог остановиться и бежал, бормоча себе под нос: — Мамочка, мамочка, дорогая, да что это такое, мамочка, ведь он не имеет права стрелять, не имеет… И вся моя спина превратилась в одно огромное ухо, чутко ловившее тяжелый топот сзади, а передо мной бежал, вжимая голову в плечи и нелепо взбрыкивая ногами, Альбинка. Топот смолк, и я всей кожей почувствовал толчок воздуха, и только потом прилетел звук: пу-о-ах! Боже мой, он стрелял. Он стрелял в нас! Он стре… Пу-о-ах!! И тоненький зловещий свист, как пение комаров, что жалили нас сегодня ночью: вз-и-ить, вз-и-ить!..Рапорт Начальнику Дзержинского горотд. от ст. инспектора дорнадзора ст. лейтенанта милиции Турина И. К. «…но потом они увидели в машине Калинина в форме и бросились бежать в поле. Я перебежал через дорогу и крикнул им, чтобы остановились, но они продолжали убегать. Тогда я сделал два предупредительных выстрела и навел пистолет в цель…»
Альбинас Юронис
Я совсем ополоумел от страха. Хотя сначала я не боялся, что он нас застрелит. Мне и в голову не приходило, что он может стрелять в нас. Я просто озверел от страха, поняв, что мы попались. И одна-единственная надежда оставалась у меня — убежать. Он не сможет догнать. Он уже старый, ему ведь не меньше тридцати. Я бежал так, как никогда еще не бегал в жизни. Я бежал, не обращая внимания на его крик: «Стреляю!» Потому что он не имеет права в нас стрелять. Стрелять можно только в тех, кто нападает на него. А мы на него не нападали. Мы убегали от него. Он не мог в нас стрелять. Мы ведь никакой опасности для него не представляли! Он не будет стрелять, что он, зверь, что ли? И вдруг раздался выстрел. Я даже не сразу понял, что это выстрел, так нелепо, неуместно прозвучал он в этой кромешной тишине. Но где-то высоко над головой взвизгнула пуля. И этот тонкий злой визг будто под колени ударил. Ноги сразу сбились с ритма, стали ватными, тяжелыми, непослушными. Сердце провалилось куда-то вниз, в живот, и замерло там. «Он сейчас убьет меня», — подумал я вяло. Снова бабахнул выстрел. Я почувствовал, что сейчас пуля вопьется мне в спину. Она продырявит меня насквозь, вылетев впереди вместе с куском мяса. Горячая дымящаяся кровь хлынет из меня двумя струями. Я буду валяться здесь на поле, пока вся кровь не вытечет из меня, медленно впитываясь в сухую серую землю. Некому будет мне даже помочь. Я умру один, совсем один. «Все кончено, все, совсем все», — подумал я. Нет, нет, это невозможно, я хочу жить! Он не имеет права! И я остановился…Владимир Лакс
Альбинкаостановился и, еще ниже вжимая голову в плечи, стал поворачиваться назад. Тогда остановился и я, но повернуться назад боялся. Милиционер подбежал, тяжело дыша, и крикнул: — Руки за голову! Я медленно, через силу, поднял руки и понял, что со старой жизнью покончено навсегда. Так поднимают руки вверх только пленные фашисты и шпионы в кино. А меня брал в плен свой, советский. Как фашиста. Свело плечи, и я чуть не завыл в голос от ужаса, но не было сил, во мне будто все умерло. Слабо шевельнулась мысль, что они про таксиста не знают, а задержали нас за угон машины. И сразу исчезла. Милиционер, стоя у меня за спиной, быстро провел рукой по карманам моих брюк, пощупал за поясом, слегка подтолкнул меня дулом пистолета и сказал: — Пять шагов вперед! Я отошел, и он так же ловко и быстро обыскал Альбинку. И все время этот милиционер бормотал сквозь зубы: — Паршивые сукины дети! Дурацкие сукины сыны! Я услышал сзади треск мотоцикла, который взревел и смолк. — Кругом! Марш! — Милиционер развернул нас и повел к шоссе. Я удивился еще, как мало мы успели пробежать от нашей «Волги». Рядом с ней стоял милицейский мотоцикл, и запыленный потный инспектор сказал: — Двенадцать километров гонюсь за ними — правый цилиндр отказал… — Ладно, хватит разговоров, — сказал милиционер в штатском, который бежал за нами. Он кивнул на меня мотоциклисту. — Сними с него брючный ремень и свяжи ему руки… — Зачем? — разлепил я ссохшиеся губы. — Мы и так никуда не собираемся убегать. — Убийц полагается возить в наручниках, — сказал он зло, потом добавил: — Чтобы ножами было махать несподручно. — Мы никого не трогали, — с трудом проговорил Альбинка дрожащим голосом. — Мы только взяли машину покататься… — Вот и хорошо, — сказал инспектор, деловито связывая мне руки. — Сейчас приедем в город, вы там все расскажете, как и что было. Подъехало несколько легковых машин, и нас сразу обступили со всех сторон милицейские офицеры, они о чем-то оживленно переговаривались. Один смеялся, тот, что задержал нас, негромко разговаривал с молодым подполковником, и я старался изо всех сил что-нибудь уловить в этом гомоне, разобрать какие-нибудь слова, но все слова вдруг потеряли для меня смысл и форму, будто очень быстро завертелась патефонная пластинка или они говорили на заграничном языке, и остались только звуки, и они больно били по барабанным перепонкам, и я больше всего хотел, чтобы это скорее все закончилось. Потом подполковник сказал: — Ну рассаживайте их по машинам, и поедем, пожалуй… Альбинку провели и посадили в наше такси, кто-то уселся за руль, машина тронулась, и я увидел, что Альбинка, обернувшись в заднее стекло, что-то кричит мне, но что, я так и не понял. Меня повели в милицейскую «Волгу», и тут я заметил, что шофер грузовика, который дал нам бензину, всеми забытый в суматохе, по-прежнему стоит на обочине, судорожно прижимая руками к груди свое ведро, и широко открытыми от удивления и испуга глазами смотрит на меня. Мне показалось, что он один здесь сочувствует мне, и я, собравшись с силами, улыбнулся ему и подмигнул. Но он вдруг бросил ведро на землю и плюнул в мою сторону…Альбинас Юронис
Я твердо решил: ничего не скажу, хоть на куски разорвите. Ни слова от меня, как дело было, не узнаете. Хоть сто часов допрашивайте, все равно буду стоять на своем. Только бы Володька не раскололся. А я-то выдержу. Но меня никто вообще не допрашивал. Какой-то человек в штатском, наверное следователь, посадил меня в маленькой комнате с решеткой на окне и сказал: — Вот тебе ручка и бумага. Садись за этот стол и подробно напиши, кто ты такой, откуда ты взялся, как вы попали в такси и каким образом заехали в наши края. — Мы просто хотели покататься… — Вот ты и напиши. А вообще-то лучше пиши все по правде — врать нет смысла. Можешь не спешить, продумай все. А я пока поговорю с Москвой, нам надо кое-что уточнить про вас. Он захлопнул дверь, щелкнул снаружи ключ в замке. По его спокойствию я понял, что о нас уже известно все. Или почти все. А может быть, он только прикидывается таким спокойным? Да нет, он же совсем не спешит. Но меня он все равно с толку не собьет. Нас никто не видел, и я ни за что не признаюсь. Я взял бланк с надписью «Объяснение» и стал писать нашу легенду. Только бы Володька все подтвердил! Прошло, пожалуй, не меньше часа, пока вернулся следователь. Он спросил: — Написал? — и по голосу его было ясно, что ему безразлично, что я там написал. Потому что он все равно ни одному моему слову не верил, да и не нужно ему было это, раз он знал гораздо большее. Я протянул ему исписанный лист. Следователь быстро просмотрел его и бросил на стол, потом задумчиво сказал: — Да, милейший, с грамматикой у тебя дело швах. Как будто мы здесь сидим на диктанте, и все другие мои дела замечательны, а вот с грамматикой я подкачал. И прямо неизвестно теперь, принимать меня в тюрьму с плохим знанием грамматики или отправить еще подучиться. Но я ничего не сказал. Я боялся, как бы он не увидел, что я состою сейчас всего из двух чувств. Ненависти и страха. Но, видать, ему это было тоже безразлично. Он убрал листок с моим объяснением в ящик. И стол стал пустой и чистый, как вся эта маленькая неуютная комната. От этого не на чем было задержать, зацепить, затормозить взгляд. Я чувствовал, что мои глаза предательски шарят по всей комнате, они выдавали меня каждую секунду, потому что я никак не мог посмотреть ему в лицо. Да ему этого и не надо было. Он ведь все равно все знал. Вот мы и сидели с ним и молчали. И в этом молчании я слышал, как течет время. Оно размывало мою твердость, мою решимость не признаваться, быть до конца мужчиной. — Как ты думаешь, Юронис, какое по закону полагается наказание за убийство? — спросил он неожиданно. Я пожал плечами: — Понятия не имею. Меня это не интересует. — Не интересует — не надо. Как хочешь. Я просто подумал, что всякий человек должен знать, что его ждет впереди. Я сказал нагло, с ухмылкой: — И что же ждет меня? Он посмотрел мне в лицо и сказал негромко: — Смерть. Если бы он орал на меня, или, может быть, бил бы меня, или злорадствовал, что они меня поймали, я бы, наверное, ему не поверил. Решил, будто он запугивает меня или просто изгаляется. Но он сказал это грустно, вроде бы даже пожалел, и никакого злорадства в его голосе не было. И я опешил. Я облился весь потом, потому что понял: мне уже ничего в жизни не будет, кроме следствия, суда и смерти. За эти несколько часов с момента убийства таксиста я столько вещей узнал сразу, что вот это, последнее, прямо убило меня. Как будто на меня скала обрушилась. И ничего во мне не осталось теперь старого. Кроме жуткого желания выжить во что бы то ни стало, любой ценой. Чтобы дышать, двигаться, шевелить пальцами, увидеть еще людей и деревья. Чтобы когда-нибудь, хоть через двадцать лет, вернуться в Паневежис, чтобы хоть еще совсем немного пожить, пожить… И я закричал, завизжал чужим, как во сне, голосом: — За что? За что смерть? Я никого не убивал! Я никого не убивал! Не убивал! Не хочу… — Не валяй дурака, — сказал он спокойно, тихо. И я понял, что ничего уже изменить нельзя, этого никто не может изменить. И этот тихий, спокойный следователь тоже ничего не может. Все уже произошло. Мне бесполезно пытаться что-либо изменить, как если бы я вздумал плечом спихнуть с рельсов паровоз. И я замолк. Следователь помолчал, потом задумчиво сказал: — Вот что, Юронис, ты можешь ничего не говорить или рассказывать мне детские сказки вроде той, что ты написал сейчас. Но дело ведь не в этом. Дело-то в том, что вы с Лаксом убили человека. Я не знаю пока, кто нанес удар ножом — ты или Лакс, — но сейчас это в общем-то и неважно. Важно то, что вы оба, понимаешь, оба, убили человека. И нам с тобой сейчас спорить об этом бесполезно. Потому что нас с тобой в комнате двое, и мы оба знаем, что таксиста Попова убили вы. Но вслух я говорю, что это так, а ты говоришь, что это не так. Ты пойми только одну вещь: твоя позиция, может быть, и помогла бы тебе, если бы я хоть немного сомневался в том, что именно вы убили Попова, и хоть самую малость верил тебе. Но я не сомневаюсь в том, что именно вы убили таксиста, а тебе не верю совсем. Ты надеешься на то, что мы не все знаем. Так я этого и не скрываю: мы еще многого не знаем. Например, за что вы его убили, при каких обстоятельствах. Но сейчас не это важно, важно, что мы знаем, кто убил Попова. А остальное мы еще узнаем. Ты это понимаешь? Я механически кивнул. Да, это он правильно сказал: и он и я знали, что таксиста убили мы с Володькой. Ему ведь надо только доказать это по их законам. И он наверняка докажет. И напишет, что у меня не было чистосердечного раскаяния. Тогда меня расстреляют. Володька ведь все свалит на меня. Даже если и не свалит, меня все равно расстреляют. Я умру, и ничего не будет. Совсем ничего не будет никогда! Никогда! Никогда! А я жить хочу. Господи, как я хочу жить! Как мне еще хочется пожить! Ведь я еще ничего не видел! Когда я буду умирать, мне даже вспомнить нечего будет — приятного или хотя бы интересного. Я не хочу умирать! За что мне умирать? Я ведь не по злобе убил таксиста. Я ведь не знал его даже! Я просто не подумал, я не хотел его убивать! Если бы он сам отдал деньги, я бы никогда не ударил его ножом! Мне ведь все равно было! Они же не поверят; что я не хотел его убивать. Я не хочу умирать. Я бы всю жизнь работал на семью этого таксиста. Пусть только меня не убивают тоже. Это ведь глупо было убивать его, я не думал в этот момент ни о чем. Пусть только оставят мне жизнь, я никогда этого больше не сделаю. Никогда не буду! Я забыл, что сижу против следователя, а слезы безостановочно бежали у меня по щекам… — Пишите, я все скажу. Я, честное слово, никогда больше не буду…Записка по ВЧ Дзержинский ГОМ. Исх. № 139 В Управление московского уголовного розыска «Сегодня в Дзержинске Горьковской области в автомашине-такси ММТ 52–51 задержаны Лакс Владимир и Юронис Альбинас, объявленные в розыск, сводкой № 17 от 21 июня 1967 года. Задержанные сознались в угоне автомашины и убийстве Попова. Высылайте конвой либо постановление на арест и этапирование».
Владимир Лакс
В голове оглушительно громко гудело, все время сохли губы, глаза резало от яркого солнечного света, и не проходило ощущение, будто я много-много дней не спал. Я тяжело, как пьяный, ворочал языком, односложно отвечая на все вопросы — да, нет. Запираться не было смысла — они нас задержали не за угон машины. Они нас задержали как убийц. И я уже все рассказал. Сквозь усталость и отчаяние проскальзывало у меня удивление: как смогли они так быстро и так четко сработать? Да вот сумели, теперь об этом раздумывать нечего. Вечером нас, по-видимому, повезут назад, в Москву. Там будет тюрьма, следствие, суд. На суд вызовут отца. От этой мысли вся моя сонливость пропала. Я подумал о том, как мне придется посмотреть ему в глаза, и у меня мороз по коже прошел. Для него вся эта история со мной — конец, он слишком простой, обычный человек, чтобы пережить такой позор, который для него тяжелее горя. Боже мой, что же я наделал?! — Прочитайте, Лакс, ваши показания и подпишите их, — сказал милицейский капитан. Я смотрел на плотно исписанный лист, и буквы, слова, строчки прыгали перед глазами, сливаясь в неразборчивую головоломку. Из соседней комнаты через неплотно прикрытую дверь доносился чей-то голос, диктовавший протокол: — «…Во внутренних карманах пиджаков, обнаруженных в такси, лежали паспорт на имя Юрониса Альбинаса Николаевича и профсоюзный билет на имя Лакса Владимира Ивановича…» А строчки допроса прыгали, сливались, сливались:«Мыселивтаксинатаганскойплощадиоколоодиннадцатичасов…»— «…темные очки-светофильтры…»
«наулицебылотемноилюдейсовсемневидно…»— «…Значок американской выставки, эмалированный с надписью «иЗА-59».
«мыуженаездилиоколошестирублейаденегнебы л осовеем…»— «…Записная книжка в ледериновой обложке…»
«мыобэтом договорил исьещевдаугавпилсе…»— «…железнодорожные билеты Даугавпилс — Москва…»
«яположилножврукавпиджака…»— «…нож хозяйственный с металлической ручкой длиной 16 см…»
«таксисгпобежалпоулицеистрашнокричалвсеврем я…»— «…на стойке и стекле водительской двери затеки и капли крови». — Правильно все? — спросил капитан. Я кивнул. — Тогда напиши внизу: «Записано с моих слов верно», — и распишись. Готово? Ну, все. Собирайся, поедешь в Москву…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Возмездие
Евгения Курбатова
Сон был стремительный, шумный, как поезд в туннеле метро, и промчался он так же, как поезд, бесследно, оставив в голове тяжелый звенящий гул. Я открыла глаза и пыталась вспомнить, что мне снилось, но все расплывалось, просачивалось, уходило неуловимо быстро. Только два лица еще слабо маячили перед глазами, и, уже почти вдогонку, я узнала их — Лакс и Юронис. И хотя сон не припомнился, я теперь точно знала, что эти два лица все время присутствовали во сне и были все время неподвижны, потому что я видела не живых людей, а только фотографии. Я встала, пошла в ванную, долго, со вкусом чистила зубы, потом умылась холодной водой, причесалась, но ощущение разбитости, какого-то надсадного утомления не проходило. Из комнаты рванулась, в голос завопила джазовая мелодия. Это пришел с работы отец и принес очередную эстрадную пластинку. На все свободные деньги он покупает пластинки и накручивает их на радиоле без остановки. Это его хобби. Сейчас стало модным иметь хобби. Правда, в данном случае не папа следует за модой, а мода — за ним. Он, помнится, любил джаз даже в те времена, когда считалось, что квакающую музыку могут любить только тунеядствующие стиляги, а маленькие человеческие привязанности еще не назывались хобби. Я помню, меня всегда смешили статьи, где джаз был обязательным атрибутом времяпрепровождения папенькиных сынков. Потому что папа и тогда любил джаз, а я не знаю более работящего и трудолюбивого человека. Я вошла в комнату. Отец сидел в кресле с сигаретой в руках и с мечтательным выражением слушал музыку. Он приложил палец к губам и сказал шепотом: — Это классические вариации Телониуса Монка… Я пожала плечами, села за стол и стала писать запросы в иногородние органы прокуратуры. Писала долго, потом незаметно потеряла мысль и стала прислушиваться к музыке. Ах, как хорошо играл пианист! Уж на что я ничего в этом не понимаю, и то дыхание захватывало. Стремительными аккордами уходил он от оркестра и вел мелодию сам, широко и решительно. Он будто боялся, что оркестр догонит и поглотит мелодию, которую он придумал один, и мелодия исчезала в хрустальном, прозрачном, но почти непроходимом лабиринте импровизаций, а от оркестра выходил с ним на поединок, рассыпая громадные звенящие шары, саксофон, но ему было не справиться с этой мелодией, сильной и светлой, и тогда саксофону помогали кларнет и тромбон. И контрабас пытался остановить ее, вбивая колышки контрапункта. И все вместе они ее тоже не одолели, мелодия вырвалась, запела… Я тряхнула головой и стала писать дальше, но почему-то не ладилось, и не хотелось думать о смерти и убийцах, когда на свете есть такая красота и доброта. Что-то растравил меня сегодня мой старик. Я старалась сосредоточиться, но не могла, пока не кончилась пластинка. Отец долго молчал, затем спросил: — Жека, ты работаешь? Я посмотрела на него с улыбкой и серьезно сказала: — Не-а. На велосипеде катаюсь. — Грустная ты сегодня, Жека. Хоть и шутишь с отцом непочтительно. — Загрустишь. Дело очень плохое у меня. — Трудное? Не получается? — Да нет, вопрос не в этом. — А в чем? — Не могу я объяснить своего настроения, но это дело ужасно угнетает меня. Двое ребят убили молодого парня — шофера такси. Вот и все. — И вы не можете поймать их? — Да что ты! Их уже взяли, сегодня привезут в Москву. Но завтра их отправят в тюрьму, в Матросскую Тишину, а таксиста похоронят на Даниловском кладбище. В один миг пропало три молодых человека. В один миг… Зазвенел телефон. Я сняла трубку: — Слушаю. — Товарищ Курбатова? Арапов говорит. Из МУРа. Привезли ваших ребят… — Хорошо, спасибо. Я скоро буду, Владимир Павлович. Я стала собираться. Отец задумчиво смотрел на меня. — Жека, я понимаю, о чем ты говоришь. Но ведь они преступники… — А ты думаешь, я им мандарины и шоколадки сейчас повезу? Отец встал и посмотрел мне в глаза: — Но тебе их жалко, Жека. — Мне их не жалко. Они убийцы. Но убийцами они стали не в тот миг, когда вогнали таксисту нож в спину. Они дозревали до этого долго. Вокруг было много-много людей. И никто им не мешал. А в тюрьму этих паршивых сопляков буду сажать я. Вот в этом и дело…Альбинас Юронис
Меня вели по каким-то коридорам, переходам, бесконечным лестницам. Несмотря на поздний вечер, по коридорам ходило много людей. В штатском и милицейской форме. Я подумал, что меня привезли в тюрьму. Ведут в камеру. Сначала я все волновался, что люди, которые шли навстречу, будут останавливаться и глазеть на меня. Ведь не каждый день увидишь человека в наручниках. Но никто не обращал на меня внимания. У всех были озабоченные, безразличные или усталые лица. Все они, по-видимому, были заняты своими делами. Сначала это радовало меня. А потом стало обидно, что я всем так безразличен. Ведь, можно сказать, жизнь моя кончалась в этот момент. А всем вокруг хоть бы хны. И от этого хотелось плакать. — Куда меня ведут? — спросил я конвоира на всякий случай. Хотя знал уже наверняка, что меня ведут в камеру. Тюрьма была не такой страшной, как я ожидал. — К следователю, — сказал конвоир. — Давай, давай, шагай быстрее. Я не успел даже обдумать его ответ, как меня ввели в комнату. После сумрака коридора я зажмурился от яркого света большой лампы под потолком. Потом огляделся и увидел девушку с красивой рыжей прической. То есть волосы у нее были не рыжие, а как старая тусклая медь. Года двадцать три — двадцать четыре ей на вид было, не больше. А глаза серо-голубые, как у рыси, и злые. Она сидела сбоку от стола. Положила ногу на ногу и, покачивая в воздухе лаковой туфлей, читала какие-то бумаги в тонкой картонной папке. Я понял, что конвойный наврал мне. Никакого следователя не было. Но он почему-то гаркнул над ухом так, что я вздрогнул: — Юронис. Вызывали?! Не поднимая глаз от бумаг, она кивнула. Потом внимательно посмотрела на меня. Будто припоминая мое лицо. Хотя припоминать ей нечего было. Мы ведь раньше не встречались. — Здравствуй, Юронис. Моя фамилия Курбатова. Я старший следователь прокуратуры Ждановского района и буду вести ваше с Лаксом дело. Я просто обомлел. Не обманул, значит, конвойный. Вот уж, когда не повезет, так до конца. Я еще от Ваньки Морозова слышал, что хуже следователей, чем бабы, не бывает. Они самые дотошные. А эта еще молодая в придачу. Она особенно будет выпендриваться. Когда же это она старшим следователем успела стать? Вот чего непонятно. На улице за студентку принял бы. Ну, она теперь мне даст жизни! Потом вспомнил, что я уже сам все рассказал. Эх, перетрусил тогда, не стоило так раскисать. Да теперь уж нечего, назад не попрешь. Я сказал: — А мне все равно. Старший, младший, вы или другая… Она усмехнулась: — Тебе-то все равно. А мне — нет. Я с тобой буду разбираться долго и всерьез. И ты мне не хами. Ты со мной вежливо разговаривай. Понял? Я кивнул головой и тихо сказал: «Понял». Потому что глаза у нее потемнели, потяжелели, как свинцом налились. Я почувствовал в этой девчонке что-то такое, что спорить с ней и грубить сразу расхотелось. А она как ни в чем не бывало сказала: — Ну, вот и познакомились. Садись, Юронис. Я осторожно уселся на краешек табурета. Она снова усмехнулась. Я заметил, что пугаюсь ее усмешки. — Ты уж садись как следует, прочно. У нас разговор не минутный. Она взяла ручку, обычную школьную ручку с перышком «86», и я увидел, что на указательном пальце у нее синяя клякса. Ручку в чернильницу она так и не обмакнула. Подержала, подержала и, видно позабыв, что собиралась писать, положила снова на стол. Она задумчиво смотрела в распахнутое, четко расчерченное решеткой окно. Там догорал поздний летний закат. А я для нее не существовал, как будто я испарился. Потом резко обернулась: — Ты знаешь, где находишься сейчас? Я кивнул: — В тюрьме. И снова она усмехнулась: — Нет, это не тюрьма. Тюрьма тебе еще только предстоит. Ты сейчас в МУРе, на Петровке, тридцать восемь. Слышал о такой организации? — Слыхал. — А про музей имени Пушкина слышал? Или про консерваторию? Я пожал плечами. — Не слышал? Я осторожно промолчал. Она, наверное, какую-нибудь пакость мне готовит. Что-нибудь в музее этом сперли, так она мне пришить хочет. А я там сроду не был. И не слыхал про него. Но она как будто забыла свой вопрос и внимательно смотрела мне в лицо. — Сколько тебе лет? — Семнадцать. Не заглядывая в бумаги, она поправила: — Семнадцать лет, десять месяцев, двенадцать дней. Это ведь немало, а? — Да, немало, — сказал я. — А ты понимаешь, чувствуешь, что вы с Лаксом натворили? — Понимаю, но я не хотел, я ведь не думал, — уныло забубнил я, боязливо посматривая на нее. Я хотел сообразить, что ей надо: чтобы я каялся, что ли? А она замолчала и смотрела на меня спокойно и строго. Я испугался ее взгляда. Будто она меня на рентген брала. Она долго молчала, потом спросила: — Ты к Лаксу хорошо относишься? — Конечно. Он же мой друг. — А вот представь себе, что кто-то воткнул ночью Володьке в спину нож. Тебе его было бы жалко? И я сразу почему-то увидел, как Володька, обливаясь кровью, бежит со страшным криком по пустынной ночной улице. Я даже глаза закрыл и сказал быстро: — Не надо, не надо. Конечно, жалко, — и понял, что она меня поймала. Но она ничего не стала записывать. Вообще, не такое у нее было лицо, будто она меня подлавливает. — Жалко… — сказала она, все глядя на меня и вроде решая: верить мне или нет. — А ведь у Кости Попова было очень много друзей. Ты ведь и в них всадил свой нож…Евгения Курбатова
Он сидел на краешке стула, испуганный, наглый и злой. И мне было ясно, что он плохо осознает масштаб случившегося. Я спросила: — Скажи, Юронис, вы зачем взяли нож с собой, когда уже убили Попова? Он подумал, помялся, потом сказал: — Не знаю… Так… — Что значит «не знаю»? Ты можешь не знать, почему я взяла сюда свою сумку. А зачем вы взяли нож, ты наверняка знаешь. Юронис пожал плечами, тряхнул длинной челкой: — Не знаю. Все равно не знаю. — Тогда я тебе помогу. Взять ножи вы могли только по трем причинам. Первая — забыли, что они у вас с собой. Вы забыли? — Да, забыли, — охотно сказал он. — И, забыв, ты долго мыл свой нож под краном на кухне? Так? Он заерзал на стуле, промолчал. — Значит, все-таки не забыли, а взяли сознательно. Вторая причина — вы хотели скрыть орудие убийства. Говорили вы с Лаксом об этом? — Нет, мы вообще об этом не думали, — сказал Юронис. И я охотно поверила ему. Они действительно не думали даже об этом. Мне пришло в голову, что они вообще очень мало думали обо всем связанном с убийством. До и после. Мне кажется, они не понимают, что убийство человека влечет за собой громадные моральные и юридические последствия. Тогда я спросила: — Значит, ты взял нож, чтобы использовать его еще раз, или еще несколько раз — уж как там придется? Он молчал долго, потом кивнул: — Да. Как там придется… Я допрашивала его не меньше двух часов. Он подробно рассказал снова, как все произошло, и говорил устало, ничего не скрывая, обстоятельно, и у него был вид человека, которому ужасно надоело без конца рассказывать одну и ту же скучную историю. Потом спросил: — А вы учтете, что я сам во всем признался? И я вместо ответа сказала: — Тебе Костю Попова жалко? Юронис пожал плечами: — Ну, жалко. Может, он был неплохой парень. Но так уж получилось… Так получилось. Я механически рассматривала вчерашнюю «Вечерку», забытую кем-то в кабинете. Как много событий происходит за один день!.. Эстафета журналистов прибыла в Злату Прагу… «Сегодня они стали инженерами» — группа уже немолодых людей, застенчиво улыбаясь, смотрит в объектив. Они защитили дипломы в вечернем металлургическом институте на Люблинском литейно-механическом заводе… «Американские агрессоры применяют напалм», — сообщает корреспондент ТАСС Евгений Кобелев из Ханоя. Гастроли Венского бургтеатра начались в Москве. Летнему цирку «Шапито» требовались шоферы, а в кинотеатре «Варшава» шел фильм «Он убивать не хотел»… Так получилось. Почему, почему же получилось так, что он не защищал в этот день аттестат зрелости, чтобы через несколько лет написали: «Сегодня он стал инженером»? И не пошел в военкомат проситься добровольцем против агрессоров, применяющих напалм. И не попробовал устроиться в цирк «Шапито» шофером. А вечером не захотел пойти на спектакль Венского бургтеатра. И не смотрел кино, в котором кто-то не хотел убивать. А вот он-то убил. Так получилось… И в этих безразличных округлых словах чувствовалось такое равнодушие к чужому горю! Юронис действительно жалел, что так получилось. Но он жалел, что так получилось с ним, а вовсе не с Костей Поповым, который мертв, навсегда мертв и завтра будет похоронен. Юронис жалел — я видела это по его лицу, — что окончена его жизнь, его былая привольная жизнь без забот и обязательств, и пока еще он совсем не думал о конченной навсегда жизни Попова. Ему совсем было не жалко Костю Попова. И от этого меня стала разбирать злость, неистовая, палящая. Этот совсем маленький еще человечек, Юронис, жалел только себя. И в его сожалении о случившемся тоже была только жалость к себе. Сейчас уже вышло из употребления это понятие, но по-другому я бы и сказать не смогла: он совсем не чувствовал, что взял страшный грех на душу… И теперь самое главное для меня — понять, как все это произошло.Владимир Лакс
Еще в Дзержинске я твердо решил ничего не скрывать и рассказать все, как было, потому что твердо знал: если я вытащу все из себя наружу — станет легче. Из-за того, что мысли обо всем происшедшем, испуг и сожаление, все, что надо было скрывать от всех, грохотали в голове с такой силой, что я боялся — разлетится череп. И следовательно я тоже рассказал все подробно: как мы решили это дело окончательно, как взяли на Таганской площади такси, как ездили по Москве и шофер нам рассказывал разные истории об улицах, где мы ездили, как объезжали тамбур на Рабочей и как виднелось сзади бледное Альбинкино лицо, про быстрый блеск ножа и страшный крик… Но легче все равно не становилось, не проходило напряжение, может быть, потому, что я не могу объяснить ей самого главного, а она все время задавала какие-то пугающе-неожиданные непонятные вопросы, которые совсем не относились к делу. Она спросила: — А что он вам рассказывал об улицах? Я лихорадочно пытался вспомнить, что рассказывал таксист, но ничего не всплывало в памяти, кроме этих его картавых горошин, веселого смеха и доверчивых светлых глаз. Хотя все это было только вчера, но мне казалось, будто я прожил за последние сутки целую жизнь. Да и не очень-то внимательно я слушал тогда, что он говорил. Ага, про Чистые пруды… — Про Чистые пруды он говорил. Что их князь Меншиков сделал или очистил, не помню уж сейчас. И про бассейн на набережной он рассказывал. Что они зимой туда с женой его ходили. Мол, можно купаться в этом бассейне в любые холода, потому что вплываешь в него из раздевалки через туннель. Еще он про «Балчуг» что-то рассказывал и о Валовой улице, но что именно — не помню. Что жена его плавать не умела, и он ее в бассейне через этот туннель на буксире тащил… Я чувствовал, что от волнения говорю слишком быстро и от этого сильнее шепелявлю. Она, наверное, многого не понимает, но все равно не мог затормозить себя. А я очень хотел, чтобы она поняла, может быть, потому, что она была совсем мало похожа на следователя, во всяком случае, я себе совсем не так представлял следователя. И вообще, здесь все было очень буднично, обыденно: затерханный, старый письменный стол, стулья, лампа в обычном стеклянном плафоне. Я думал раньше, что следователь сидит в полутемном кабинете, направив в глаза арестанту яркий луч настольной лампы, и ты его не видишь, а только слышишь его металлический голос. Но она говорила тихим голосом, усталым, она не орала на меня и только задавала безобидные пугающие вопросы: — А в Одессе вы не собирались устроиться матросами на корабль? — Нет, не собирались. А зачем? — Да, похоже, что вам это незачем было… — сказала она, и мне послышалась в ее голосе грусть. — Вот ты начитанный парень, слышал такое слово «романтика»? — Да. А что? — Тебе никогда не хотелось романтики? Настоящей? Я махнул рукой: — Это бывает только в книжках. — Эх ты-ы! — сказала она горько. — Как ты себя обокрал! Сам, сам обокрал… И мне стало до слез жалко своей погубленной молодости, всей жизни, которая так глупо и нескладно пошла наперекос. Я сказал: — Теперь моя романтика по колониям, да по тюрьмам возить меня будет. До самой смерти, — и я услышал, как дрожит мой голос. Следователыша засмеялась, и смех у нее был неприятный, злой, жестяной какой-то, скребущий: — Давай, давай, Лакс, пожалей себя, пожалей. Пуще пожалей. Несчастненький ты, неудачливый. Ведь вы всего-то навсего человека убили, а злые дяди и тети вас за это в тюрьму сажают. Так ты запомни: романтики в тюрьмах и колониях не бывает. Понял? Не бывает! Колония исправительной называется потому, что ты, прежде чем выйти на свободу, исправиться должен. И романтики этой знаменитой, уголовной, не будет. Будет строгий режим, работа и учеба. Обязательная учеба, имей в виду. Потому что тюрьма не санаторий, там ты за свое преступление должен у людей прощение заработать. Понял? — Понял.Евгения Курбатова
Я смотрела на прыгающие от страха усики Лакса, на нелепые битловские патлы, в его круглые, как у кота, глаза, залитые слезами, и сердце у меня разрывалось от ненависти, боли и жалости. Ну, где бы достать машину времени, чтобы раскрутить ее хоть на сутки назад, воскресить Костю Попова, остановить руки этих дурацких сукиных сынов, которые пойдут сейчас в тюрьму! И сейчас я говорю ему совсем не то, ведь не в работе дело, надо ведь, чтобы его раскаяние было искренним, чтобы он понял, какой ужас сотворили они. Если бы машину времени вернуть на сутки назад, то… А впрочем, и это, наверное, бесполезно: машина работала бы только во времени — ведь изменить события она была бы бессильна. Но это ужасно, и этого не должно быть…Альбинас Юронис
Нас было четверо в «черном вороне». И два милиционера сидели у дверей, отгороженные от нас решетками. В двери было маленькое окошко. Со своего места я видел кусок расчерченной на квадраты улицы, мокрый асфальт с дымящимися голубыми фонарями, прохожих на перекрестке. Там была свобода. Я уже знал, что свобода как вода. Никогда не ценишь, если ее вволю. Рядом со мной сидел совсем молодой парень, наверное, мой ровесник. Сбоку — двое парней постарше. Их везли из суда. Как я понял, они фарцовщики. Спекулировали, значит, заграничным барахлом. Им дали по два года. Они были очень взволнованы, но не хотели показать, что боятся. И все время очень громко хохотали и говорили на каком-то непонятном мне языке. Один рассказывал другому: «Пошел я к фирмачу клоузы брать, а там сплошной дерибас. Отобрал я такешник-стейтс и…»*["21] И так далее, в том же роде. Гады, выкаблучиваются еще! Но смех их звучал нервно, голос у того, что говорил, все время срывался. Машина притормозила и повернула налево. В решетчатое окошко сзади в последний раз я увидел улицу. Ехал по ней троллейбус, желтый, светящийся, большой и мирный, как дирижабль. И исчез, потому что «воронок» въехал в ворота. В окошко я еще увидел, как тяжело сомкнулись громадные железные створки. Все, началась тюрьма. Машина катилась вдоль кирпичной стены по пологому спуску. Наконец стала. Один фарцовщик сойдет здесь, со мной. Другой поедет куда-то дальше. Снаружи громко сказали: — Сидоренко, Юронис, выходите! Фарцовщики быстро обнялись, и тот, что выходил со мной, сказал: — Кто первый вернется, сразу — на Главпочтамт. Там оставишь открытку до востребования… Надо будет решать, как жить… Голос у него был уже не наглый, а тихий, слабый какой-то, и говорил он на простом языке, по-человечески. Мы спрыгнули на асфальт. После темноты фургона здесь было очень светло от прожекторов. Я увидел у него на щеках слезы. Нас ввели в просторное помещение с высоким сводчатым потолком. Там уже было довольно много народу — судя по всему, арестованных. У дверей стоял раскосый конвойный солдат, похожий на киргиза. У него была перевязана бинтом шея. Наверное, от этого он все время держал голову набок и выражение лица было грустное. На стене висел большущий плакат: «Чистосердечное признание является смягчающим вину обстоятельством». Из-за стеклянной перегородки вышел немолодой лейтенант в очках. Очки у него были старомодные, круглые, в железной оправе. А на кителе много военных орденских колодок. Он быстро проверял наши данные по карточкам. Дошел до меня: — Юронис Альбинас Николаевич, тысяча девятьсот сорок девятого года рождения, уроженец Паневежиса, статья сто вторая… — Он внимательно посмотрел на меня: — Убийство?.. — и покачал головой. Ввели в длинный зал, похожий на крытую железнодорожную станцию. Только с обеих сторон перрона не стальные пути, а два бесконечных ряда дверей под номерами. Много женщин-надзирательниц — все крупные, в форме. Все с перманентом, как будто это тоже входит в форму. И все время лязг ключей, гулкие выкрики, команды, хохот, хлопающие двери, мерный топот, шум где-то льющейся воды, чей-то плач. Тяжелый, давящий мозг шум. Я вспомнил тишину на шоссе. И не мог поверить, что это было совсем недавно. Еще сегодня. Сегодня утром. Надзиратель спросил: — Юронис — ты? — и, не дожидаясь ответа, сказал: — На первую «сборку», марш! На первой «сборке» — полутемной комнате с окном под потолком — было уже много народу. Половина людей сидели в трусах — через боковую дверь отсюда выходили на осмотр к врачу. Никто не обратил на меня внимания. Верхом на лавке у стены устроился здоровенный толстый парень. Он был очень хорошо одет — в красивом темно-сером костюме, замшевых коричневых туфлях и белой нейлоновой рубашке. Как будто попал в тюрьму со свадьбы. Только галстука и шнурков на ботинках не было. Меня еще рассмешило тогда, что в верхнем карманчике пиджака у него торчал белоснежный платочек. Вокруг парня сидели на корточках несколько человек. Он что-то говорил им, а они внимательно слушали. Я еще не опомнился толком, но расслышал его слова: «Важно оставаться человеком везде, даже здесь…» Его кто-то перебил: — Слушай, Жорка… — и сразу все загомонили, зашумели, а он спокойно курил длинную дорогую сигарету. Только очень бледный он был. Небольшой жилистый парень, весь покрытый синими узорами татуировки, размахивал у него перед лицом руками. Тогда толстый сказал негромко: — Сядь, не мелькай… — и татуированный утих. Мне захотелось узнать, за что сидит этот Жорка, как попал сюда, но у дверей крикнули: — Юронис, на медосмотр!.. Больше я его никогда не видел. Пожилая женщина-врач заполнила на меня бланк. Осмотрела, завернула веки, заглянула в рот. Не страдал, не болел, не наблюдалось… — Венерических болезней не было? — Нет, — сказал я и смутился. Откуда они у меня возьмутся? Я стоял на коврике, переступал с ноги на ногу, ежился. Мне было очень стыдно, что я голый. Я и до этого бывал на медосмотрах. Но сейчас, хоть и понимал, что это вещь обычная и обязательная, я испытывал мучительное унижение. Меня осматривали, казалось мне, как инвентарь, как имущество. Не заразный ли я, не опасен ли для других. — Все, на стрижку! Везде темно-зеленый и темно-синий кафель. Тусклый желтый свет. Наверное, здесь специально все сделано так, чтобы подчеркнуть безвыходность. Напомнить, что ты не дома, что ты в тюрьме. Цыкала, стрекотала машинка-нулевка. Волосы падали на колени, на пол длинными прядями. Я даже не мог увидеть, как я выгляжу стриженым. Зеркала не было. Первый раз в жизни меня стригли, и я не видел в зеркале своего отражения. Здесь в нем нет нужды. Парикмахера не интересует, понравится ли мне стрижка. Мое мнение вообще никого не интересует. Да и фасон стрижки здесь один — наголо. — Аксененок, Вахрушев, Юронис, — и еще несколько фамилий, — на вторую «сборку»! Длинный, глубокий, со сходящимися стенами зал, полутемный, как туннель. Я сел на лавку. Подумал, что нахожусь в каком-то оцепенении. За все время я ни разу не вспомнил о Володьке. А ведь он, наверное, где-то рядом. Может быть, через стенку. Но это теперь уже неважно. Не в этом дело. Вокруг ходили, сидели, разговаривали какие-то похожие друг на друга люди. Постепенно я стал прислушиваться к их словам, различать их между собой. Татарин Файзрахман идет со стационарной психиатрической экспертизы из института Сербского. Седой короткий ежик, коричневое лицо в шрамах и рытвинах, с поразительно яркими сильными глазами. Не присаживаясь ни на минуту, он все время мечется, что-то шепчет, заламывает руки. Сейчас он узнает свою судьбу: если отправят в следственный корпус, значит экспертиза признала его вменяемым, расследование продолжится. А если на этап — значит все — на принудлечение. Сектант, убивший жену, одутловатый, отечный, весь жидкий какой-то, с огромной шишкой на глазу. Он ни с кем не разговаривает. Несмотря на лето, одет в зимнее пальто. Забившись в угол, жует хлеб, который отщипывает маленькими кусочками прямо в кармане. Мерцает, как у зверя, глаз из-под шишки. Длинный худой человек в соломенной шляпе и черном плаще внакидку ходит по «сборке» и охотно объясняет, кому сколько дадут. Весь уголовный кодекс он знает наизусть. За хорошие характеристики с работы сбавляют в приговоре год. Сам он арестован за хулиганство в пьяном виде. Подошел ко мне: — У тебя какая статья? — Сто вторая. Он удивляется: — Подрасстрельная? Я вздрогнул — так он деловито-удивленно и просто спросил. — А сколько лет тебе? — Через полтора месяца — восемнадцать. — А-а, малолеток! Тогда ничего. Десятку дадут. Я посмотрел на него с надеждой. Он успокаивающе сказал: — К несовершеннолетним смертная казнь не применяется. — А за полтора месяца суд успеют провести? Он засмеялся: — Это не имеет значения. По закону учитывается возраст, когда совершалось дело, а не когда суд. Вот если б ты через полтора месяца убил, тогда бы уж точно тебе «шлепка» была… Мне захотелось заорать, заголосить истошно, ударить его по кадыкастой длинной шее. Как же он может так говорить о моем горе! Но я только привалился к стене и закрыл глаза. Господи, за что же мне такое досталось…Владимир Лакс
«Альбинка, наверное, где-то здесь рядом», — подумал я, когда меня ввели в фотографию. Самую обычную фотографию, с белыми экранами и жестяными коробками софитов, раздвижным деревянным фотоаппаратом с мехами, похожим на сломанный баян. Только на окне была решетка и на стуле — специальный захват, который закреплял голову лишь в двух положениях: лицом к объективу и в профиль. Фотографировала нас женщина в форме, с погонами сержанта. Она все время посматривала на часы, видно, торопилась и боялась опоздать на метро. Передо мной фотографировался какой-то губастый наглый парень, и он все время давал ей советы: выдержку надо увеличить, диафрагму поменьше, софит чуть назад сдвинуть… Она сердито взглянула на него: — Да замолчите вы, наконец! Не на выставку вас снимают! Я отвернулся и на стене увидел картину — море, кипарисы, лунная дорожка. Паршивая картина, но ведь где-то же есть настоящее море, и кипарисы, и лунная дорожка. И всего этого я не увижу многие, многие годы. А может быть, и никогда. У меня ведь плохое здоровье… Потом повели на личный обыск. В очень светлой комнате, отделенной от надзирателя длинным, обитым цинком столом, я быстро раздевался и подавал ему свои вещи на этот стол, а он, как будто в комиссионном магазине за прилавком, ловко ощупывал их, осматривал и одну за другой бросал на деревянную скамейку позади себя. — И трусы тоже? — спросил я. Надзиратель вместо ответа кивнул на объявление: «Напоминание. За не сданные на обыске вещи и деньги заключенный подвергается строгому наказанию». Потом спросил: — Деньги с собой имеются? — Вот, — протянул я случайно затерявшийся в кармане пятак. — Возьмите себе. Или можно выкинуть. Он усмехнулся, и я увидел в его глазах нескрываемое презрение. — Очень мне нужны твои деньги. А чтобы выкидывать их, ты сначала научись зарабатывать!.. И аккуратно вписал в квитанцию, в графу «Наличные деньги»: «Пять копеек». — Проходи одевайся…На второй «сборке», которую бывалые называли вокзалом, было людно. Я снова подумал, что Альбинка наверняка где-то здесь неподалеку. Хорошо бы с ним увидеться, потолковать, обсудить наши с ним неважные дела. Да только теперь до суда мы не увидимся. А вокруг — все чужие люди. У всех свои горести, волнения, страхи. Но я вдруг подумал, что мне их почему-то не жаль, никого. Уж не знаю почему, но только не жаль, и все! У них и горести и страхи были какие-то злые, дикие. И тут я с ужасом понял, что ведь меня самого тоже никто не пожалеет. Что этого таксиста, наверное, будут жалеть разные люди, потому что он им сделал много хорошего. А я никому и ничего хорошего сделать не успел. И если меня жалеть, так только за то, что я еще молодой. За то, что я не успел сделатьничего хорошего? Или не смог? Или просто не подумал, что можно делать хорошее? Долго, долго сидел я на скамейке у стены, чужой этим людям, и они мне были чужие. Я устал так быстро учиться жизни, нельзя так много узнавать за один день. Мне бы на многие годы хватило того, что я передумал за одни только сутки… Если это не живет в тебе самом, то, наверное, очень не скоро, не легко человек может понять, как невыносимо быть одному, совсем одному. И то, что мы с Альбинкой были все время вдвоем, — тоже не в счет. Потому что убивали мы вместе, а отвечать перед судом, и перед людьми, и перед собой будем в одиночку. Шли часы. Скоро, наверное, займется рассвет. Но здесь этого было не понять. Тут круглые сутки горит электрический свет и время измеряется не часами, а режимом. Вместо утра — завтрак, вместо заката — отбой. Потом я заснул нервным, беспокойным сном и не сразу понял, когда громыхнул тяжелый затвор двери и подали команду: — Встать! Вста-ать! Строиться! Андреев, Барберов, Мешков, Лакс… — на выход! Нас вывели в перегонный коридор. Впереди была видна растворенная дверь, через нее сочился серый рассвет. Дул слабый ветерок. Строили по двое. Спросонья, от холодка, тоски, неизвестности меня стало трясти так, что застучали зубы. Я старался раздавить, размять в скулах дрожь, чтобы никто не заметил, как я трясусь. И это было даже хорошо, потому что я ни о чем, кроме этого, не думал. — Марш! Вывели во двор, такой чистый и безлюдный, как бывает, наверное, только в инфекционных больницах и тюрьмах. Надзиратель у дверей отсчитывал нас парами: — Два… четыре… десять… шестнадцать… Потом снова: железная дверь, переход, лестница вверх, переход, лестница вниз, переход, тамбур, лестница… И все время впереди надзиратель, который непрерывно постукивает ключом по металлической пряжке на поясе. Где-то по дороге запахло ласковым добрым теплом свежеиспеченного хлеба. Потом была баня, после дезинфекции отдали вновь одежду. В стене открылась деревянная ставня, и каждому выдали жидкий тюфяк, мешок-наматрасник, крошечную подушку, полотенце, алюминиевую ложку и кружку. Кладовщик предупредил: — Ложки не терять! Рыбкин суп руками есть неловко… И повели по камерам. В каком-то коридоре разминулись со встречной колонной — это шли на этап. Мы издалека услышали тяжелый топот ног и бряканье надзирательского ключа о пряжку. Нам скомандовали: — Смирно! Лицом к стене! Молчать! Из колонны крикнули: — Кто попадет в «стодвадцатку», скажите, что Ваське Гоминдану сунули трешник! — Молчать! Снова тишина, разминаемая тяжелым топотом. Меня подвели к дверям камеры. Последний вход в новую для меня жизнь. В коридоре уже прыгали по кафельному полу солнечные лучи. Надзиратель щелкнул замком, легонько подтолкнул меня в спину — давай заходи. Железная дверь лязгнула сзади, будто ударила по затылку. Грязно-зеленые стены, невысокий закуренный потолок, окно забрано густой решеткой и стальным частым жалюзи. Тишина, желтый размытый сумрак двух электроламп, тяжелый запах пота и табачного дыма. Арестанты спали. Я положил свой тюфяк на пол, присел к столу и так, опершись на руки, сидя, заснул. Прошел час или два, но мне показалось, будто я только закрыл глаза, когда раздалась команда: — Подъем! Я вскочил, испуганно озираясь, не соображая, где я, как сюда попал, что делаю здесь, пока не разошлись круги взбаламученного сна. Я вспомнил — в тюрьме. И никогда не было в моей жизни горше пробуждения…
Фекла Михайловна Попова
Вот и нет тебя больше, Костик, Костик, серенький котик. Кончилось все. Умер ты, Костик, сыночек мой любимый. Теперь и мой черед пришел. Все, устала я очень, Костик. Ах, кабы узнать, что ничего этого не было, приснилось мне все это. Проснуться, узнать, что приснилось, — и умереть сразу. Потому что неправильно это, когда ты вперед меня умер. Ты не подумай только, что я горя испугалась, мне ведь к горю не привыкать. Только нехорошо это, что я живу, что я хоронить тебя буду. Старые должны вперед молодых помирать. Ведь ты только жить начал. Хорошо жить начал, приятно… Хотя ты и раньше хорошо жил, только трудно очень. В бедности жили мы. Ты уж прости, Костик, мало мы с отцом смогли дать вам. Мы ведь чуть грамотные и только одному-то и старались вас научить — честности. Завидовали мне на сыновей. В какой нужде выросли, на одних моих плечах, считай, а учились оба, работали хорошо, кроме ласки да почтения, ничего от вас не видала. Совсем разные вы с Васенькой-то были. Он хоть и старший, а всегда за тобой, за коноводом, ходил. Тихий Вася, застенчивый, спокойный. А ты — шумный, веселый, заводной. Все смешки да песни у тебя были. И работал ты с песнями и шутками. Когда ремесленное окончил, один из всего выпуска получил главный токарный разряд. Да вот беда — маленький ты росточком был еще тогда. Мастер Сергей Иваныч тебе около станка пустой ящик подставлял, ты на нем стоял, две нормы в смену делал. Вспоминаю сейчас и думаю: когда же ты, Костик, в игры свои детские играл? Чего не вспомню — все у тебя с работой связано. Как же так, Костенька? Моя это вина, сынок, не смогла я больше. Когда отец совсем плох стал, пошла я дворником, чтобы от дома не отлучаться. Легкими болел он тяжко, после ранений. Кормить его надо было хорошо, и нас трое. Взяла я два участка. А зимы после войны снежные были… В четыре часа встану тихонько, чтобы вас не разбудить. А ты, Костик, уже голову поднимаешь. Вася, он поспать любил, сопит в подушку. Растолкаешь ты его, Костик, и за руку тянешь на улицу. А там — ночь, зима, холод. Вот с четырех до семи намашемся лопатами-движками, поедим, что там найдется, и бежите вы в школу. Первый раз ты ослушался меня, когда ушел из седьмого класса. Плакала я, поколотить тебя грозилась. Только спорить с тобой совсем нельзя было, по тому что хоть и мягкий и добрый был ты, но если решил чего — все, как камень. «Мама, впереди жизнь еще большая, — говорил ты, — успею еще вдоволь научиться». После ремесленного стал работать, как большой, а лет тебе было пятнадцать. Во вторую смену работал, допоздна задерживался, а я все волновалась. Чтобы с плохими ребятами не связался, водку бы не распробовал, худому бы не научили. Вроде бы знаю, что на заводе ты должен быть, а все сердце неспокойно. Оденусь, бывало, бегу к проходной, час вахтера уговариваю, пока пропустит. Приду к тебе в цех, гляжу, ты на ящике своем стоишь. Ко мне: «Ты как сюда попала, мама?» А я каждый раз придумываю что-нибудь. От тети Маруси шла, из гостей, мол, вот и заглянула к тебе, как, мол, тут работается. А ты сердишься и смеешься «Как же ты без пропуска на территорию прошла?» — «Да вахтер, — говорю, — знакомый». А ты, Костик, смеешься и картавишь: «Не пр-ридумывай, не пр-ридумывай, тетя Мар-руся в др-ругой стор-роне живет». Прости меня, сыночек, что не доверяла тебе тогда. Я ж ведь простая, совсем темная баба, я ведь и не понимала твердости твоей человеческой. Я очень, очень хотела добрым, хорошим человеком тебя увидеть, Костик. А ты все работал и работал, всегда ты работал. Всю жизнь проработал. И вырос добрым и веселым. И неугомонным. Вместе с Васей стали в такси машины водить. Так за Васю я почему-то никогда не беспокоилась. Он рассудительный, спокойный, пять раз подумает, пока скажет. А ты как порох, до всего тебе дело. Вася даже сердился: «Чего ты к каждой бочке затычкой лезешь?» Вы-то промеж собой дружили, потому что разные совсем были. Вася и женился рано, а ты до двадцати восьми в женихах ходил. Я ведь знаю, Костик, что тебя девушки любили. После армии, как пришел, так и началось. Да и мы-то тебя не узнали: ушел малыш малышом, по ночам плакала, что ты последним в ряду там стоишь. А вернулся — на голову вырос, громадный, здоровенный, гирю-двухпудовку, что я на кадку с капустой ложила, по утрам раз двадцать поднимал выше головы. Вот после твоего прихода из армии как-то сразу зажили мы хорошо. Все мы работали: и ты, и я, и Вася с женой, с Ниной. Жилье хорошее получили. Мебель, как стекло, блестящую, лакированную, купили, телевизор, холодильник. Вы с Васей на первый класс шоферов сдали. Нина внучку мне родила, Натальюшку. Нина все над тобой подшучивала, что бобылем останешься. А потом ты познакомился с Зиной и привел ее к нам в гости. Первый раз ты привел домой девушку, и я поняла, что это серьезно. Через месяц вы поженились. Какая у вас была веселая свадьба, какой ты счастливый был! Целую ночь под окном гудели такси — это твои друзья, что работали, залетали на минуту-другую, чтоб поздравить, обнять, расцеловать вас с Зиной. Всего-то год прожили. Как хорошо все было, и сердце мое пуганое, материнское тряслось от страха, чтобы не сломалось это, не кончилось. Слишком хорошо все это было, чтобы могло быть долго… А вчера с утра неважно я себя чувствовала, в боку болело, сердце щемило. Утро было светлое, яркое, все голубое. Ты, Костик, уходя на работу, прошел мимо моей кровати на цыпочках, но у дверей заметил, что я не сплю. — Маманя, что ты за мной одним глазом, как пограничник, следишь? Я засмеялась: — Сердце маленько давит, Костик… А ты подмигнул хитро и сказал: — Я вчера в газете прочел, что сердечные болезни бывают от недостатка положительных эмоций, то есть приятных ощущений. Хочешь положительную эмоцию? Сбросил ты пиджак на стул и начал выбивать на паркете чечетку, потом, напевая сам себе, ударился вприсядку, и по всей комнате прошел коленцами, и дробь ударил ладонями по полу. И солнце било тебе прямо в лицо, а ржаные кудри растрепались, светлые глаза веселились… — Про документы в техникум не забудь, клоун, — сказала я тебе строго, но не выдержала и тоже улыбнулась. — Зина сердиться будет. А ты поцеловал меня сухими, потрескавшимися губами в нос. — Маманечка, науку с производством надо соединять вдумчиво, без волюнтаризма… Ты всегда чуточку посмеивался надо мной, зная, что я этих мудреных слов не понимаю. Только такой уж ты всегда и был — над всеми и над самим собою всегда посмеивался… Хлопнула дверь, и через мгновение ты прошел перед открытым окном, напевая: «До станции Детство мне дайте билет…» Я стояла у окна и смотрела тебе вслед. Потом ты исчез в палисаднике за деревьями, но голос твой я еще слышала: «…туда билетов нет…» И не приехал обедать, как обещал, и в полночь тебя еще не было. В час приехал Вася, попил молока и лег спать. А в два часа я встала, оделась и, тихонько притворив дверь, вышла на улицу. Занималось утро, было очень тихо, даже листья не шумели. Я пошла к трамвайному кольцу, чтобы встретить тебя пораньше. На остановке я села на лавочку и стала ждать. Неслышно текло время, становилось все светлее. Тоненько звенели рельсы, не остывшие за ночь. Редко-редко проезжали машины. Я сидела и думала о тебе, о своей жизни, обо всем, и мысли текли потихоньку, хотя было мне как-то неспокойно. А потом я услышала треск мотоцикла, и уже не знаю почему, но стук его мотора заколотил в мое сердце вестью о беде. Я встала и увидела, что с Каширки приближается милицейский мотоцикл. Около меня он притормозил, и милиционер спросил: — Как к корпусу «Г» проехать? Я показала рукой на наш дом, но шевельнуть языком не смогла, и они поехали, дымнув в мою сторону бензиновой гарью. И тогда я побежала за ними что есть сил. Как в тумане, мелькали растерянные лица милиционеров, испуганные Васины глаза. Чей-то голос: — Скорее езжайте в тридцать третью милицию, ваш сын попал в аварию… Но они меня, Костик мой любимый, не обманули. Я уже знала, что тебя нет. И меня, Костик, тоже нет. Этот оборотень убил нас вместе, одним ударом…Евгения Курбатова
Мать Константина Попова я увидела на похоронах. Она стояла возле гроба, высокая, костистая, сухая, выключенная из времени и всего этого горестного гомона вокруг нее. Она держала сына за руку, широкую, крепкую, уже слегка пожелтевшую. И вообще, Костя был уже мертвый. Вот тогда, ночью, он лежал на тротуаре еще живой, теплый, волнующийся и страдающий, хотя сердце уже не билось. Теперь он был далеко от нас, успокоенный, чужой всему, что здесь происходило. А мать разговаривала с ним. Она все время беззвучно шевелила губами, иногда наклонялась к нему, будто сомневалась, расслышит ли ее мертвый сын в этом шуме. Гроб вынесли и установили на улице перед домом, потому что собралось огромное количество народу. На Загородном шоссе у трамвайного кольца стояло несколько орудовцев, и они не пропускали сюда такси. Но таксисты все равно проезжали к дому только им ведомыми проулками, и сейчас вокруг всего корпуса, в проездах, подворотнях, сбоку на пустыре стояли десятки разноцветных «Волг» с шашечками на дверях. Все подходили и подъезжали люди. Здесь были соседи, друзья, сослуживцы и наверняка мною незнакомых таксистов, спаянных особой дружбой их профессии, которые пришли попрощаться с товарищем. И все время несли цветы, цветы. Венков было совсем мало. Вокруг гроба складывали букеты полевых и садовых цветов. Какой-то таксист открыл багажник и стал передавать целые охапки тяжелой, еще влажной сирени. Было жарко, и вокруг меня в душном мареве плавали мокрые от слез красные лица, раскрытые рты, закушенные губы, сжатые до синевы кулаки. Потом подняли гроб, и над домом разом взлетел крик, забился, задергался женский плач, кто-то рядом судорожно-быстро стонал: «Ох-ох-ох!» Пронзительно, по-бабьи, заголосили, а молодая женщина в черной косынке, ухватившись за гроб, топала ногами и, заходясь в истерике, задыхалась собственным воплем: «Не пущ-щу! Не пущ-щу-у!» Загремел траурным маршем духовой оркестр. Один из таксистов нажал на сигнал, и сразу, будто пробудившись, заревел еще один, и еще, пока десятки волговских фанфар не слились в жутком прощальном кличе, поглотившем плач, и крики, и пыхтенье духового оркестра. И я вдруг поняла еще один смысл этого оглушительного тоскливого рева, вспомнив справку из таксопарка: «Водитель К. М. Попов выехал на машине 52–51 20 июня в 8.30 на линию. Из рейса К. М. Попов не вернулся». Из рейса не вернулся. Как самолет не возвращается на базу. А сигналы такси гудели, орали, тосковали по товарищу, павшему при исполнении служебных…Я приехала на работу, отперла сейф и достала папку с надписью: «Уголовное дело № 41092», Стала не спеша переворачивать листы. Телефонограмма «Скорой помощи» в милицию. Аккуратный штампик «Зарегистрировано в Книге учета происшествий за № 183». Глупо, наверное, что для человеческих горестей тоже есть регистрация и нумерация. Ничего не поделаешь. Потом достала из плотного коричневого пакета записную книжку в ледериновом переплете. Юронис и Лакс утверждают, что эта книжка лежала в перчаточном ящике такси и скорее всего принадлежала Попову. Я начала внимательно, с первой страницы, читать записи в книжке и как-то мимоходом, механически отметила про себя, что я читаю чужую записную книжку и что хозяин ее уже мертв. Обычная книжка, с обычными записями, ничего в ней интересного не было, и наверняка ее можно отличить от всякой другой только по номерам телефонов. Я и читала-то ее именно сегодня потому, что хотела позабыть, хоть ненадолго, о похоронах. До тех пор пока не перелистала очередную страницу и увидела запись, сделанную карандашом и, по-видимому, второпях — буквы прыгали и расползались. На клетчатом листочке было написано: «Дзержинск, Горьковской области, улица Парковая, д. 87, кв. 89. Воротников Фед. Евд».. Я отложила книжку и стала тереть лоб, чтобы собраться с мыслями. Подождите, подождите… Убийц взяли в Дзержинске. И адрес какого-то Воротникова тоже в Дзержинске, в записной книжке Попова. Неужели Юронис и Лакс врут, что поехали в сторону Горького случайно? И во всей этой истории участвует еще человек по фамилии Воротников? Какая же тут связь? Воротников — Попов — убийцы? Или Попов — убийцы — Воротников? Или Воротников — убийцы — Попов? Или?..
Прокурору гор. Дзержинска СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ в порядке ст. 132 УПК РСФСР «…Обнаружена записная книжка Попова с записанным в ней адресом Воротникова. Прошу вашего указания об установлении Воротникова и его допросе. В ходе допроса надлежит выяснить: знал ли Воротников Попова, либо Лакса, либо Юрониса, находился ли с ними в каких-либо отношениях, и в каких именно, а также — что ему известно по существу расследуемого дела? Одновременно прошу установить, где находился Воротников в ночь с 20 на 21 июня 1967 года».Старший следователь Курбатова
Альбинас Юронис
— Все, ты мне больше не нужен, — сказала Курбатова и вызвала конвой. Я сказал «до свиданья», и надзиратель повел меня в камеру. Я уже хорошо знал дорогу из следственного корпуса к себе в камеру. Тюрьма называется следственным изолятором. Я не понимал раньше, что значит «изолятор». Думал, что изолятор есть только в больнице. Собственно, нас здесь держат отдельно от всех людей, как заразных. Изолировали. В камере работает радио и дают каждый день газету. Я никогда раньше не читал газет. А сейчас читаю от корки до корки. И радио слушаю. Потому что все равно пока больше делать нечего. Я всегда не любил работать. Но на свободе, когда не работаешь, можно заниматься, чем хочешь. Здесь можно только думать. После суда пошлют куда-нибудь работать. А сейчас сидишь целый день и раздумываешь обо всем, что было. Разговаривать с другими заключенными мне неохота. Уже успели рассказать друг другу все о себе. Повторять все это в десятый раз стало неинтересно. И сидят-то они с пустяковыми делами — воровство, хулиганство, грабеж — сумку рвешь. Целый день считают, кому сколько дадут на суде, что в колонии делать будут. Но, самое главное, они каждую минуту прикидывают, что будут делать на свободе. Кто пойдет снова учиться, кто работать. Кто собирается учиться и работать. Это и понятно — они все скоро будут на свободе. Скоро — это через год, через два, ну, от силы, через три… А для меня свободы никакой не видно. Вот я и читаю газеты. Книги неохота читать. Не запоминаю я, что там происходит. Потому что происходит там много всякого и очень долго. В газете все коротко и просто. И главное — там написано, что сейчас происходит на воле. Хоть это меня не касается, но все-таки интересно. Ведь здесь — изолятор. Ничего нового ниоткуда, кроме как из газеты, не узнаешь. Сидишь, как муха под стеклянной банкой. Изоляция. Ничего не известно. Это, наверное, тоже входит в наказание. Жить вот так, не зная ничего, что там происходит Потому что здесь-то не происходит ничего. Совсем ничего. Вроде посадили тебя в черный ящик, и всего-то в нем одна дырочка, через которую я могу смотреть на мир. Когда Курбатова вызывает меня, я могу взглянуть в это крошечное отверстие и чуть-чуть увидеть. Пальцем прижмет кто-нибудь эту дырочку — и ни черта не видно. Вот сегодня целый день расспрашивала она меня про Воротникова. А что я ей скажу? Мне лишних дел не надо. Так ей и сказал. Не знаю его, говорю, и знать не хочу. Еще разговаривают заключенные о еде и особенно — о девках. Девки приносят им передачи. Колбасу, сгущенку, сахар. А у меня здесь нету ни одной девки знакомой, и передачи носить некому. Поэтому говорить мне не о ком, и вкусных вещей у меня нет и не будет. Конечно, я не голодаю, еды, в общем, хватает. А вот вкусненького чего-нибудь не бывает совсем. Ах, мне бы сейчас сюда тот ломоть сала, что я из Паневежиса взял! Или меду сотового! Э, да что вспоминать пустое! В Паневежисе много чего было, что сейчас не получишь. У меня там даже женщина была. Не их соплюхам чета. Эльза Спиридонова. Это настоящая женщина. Жаль, теперь она меня забудет. У нее теперь своя жизнь. Впрочем, я бы на ней все равно не женился. Она ведь старше меня на восемнадцать лет. Сейчас она, конечно, стоящая женщина. Но через двадцать лет мне и сорока не будет, а она будет старая старуха. Просто бабушка. Или совсем умрет от старости. Она ведь всему меня и научила, когда я жил у нее. Она мне сама говорила, что это большое счастье для парня, когда он такую женщину встретит. Она из него настоящего мужчину делает. Если бы моя мать не устраивала ей скандалы, я, наверное, у нее до сих пор бы жил. А готовила она как вкусно! Знала, что я люблю сладкое, всегда что-нибудь делала такое. Мать во всем виновата, шум на весь город подняла. В милицию жаловаться поперлась. Правда, ей там правильно ответили. Может быть, любовь у них, сказали ей в милиции, мы, мол, в это вмешиваться не можем. Но все равно после этого у нас как-то наперекосяк пошло с Эльзой. Испугалась милиции она, что ли. Мать во всем виновата. Хотя с нее и спрос небольшой. Она ведь совсем темный человек, дикий. Она тоже мне хорошего хотела, только ничего для меня сделать не могла. Она где-то застряла в прошлом времени. Вроде как если б для всех война давно закончилась, а она в том времени осталась. И по бедности, и по запуганности, никчемности какой-то. Да я на нее и не сержусь теперь. Чего там. Я ведь наверняка ее и не увижу больше. Когда я выйду из тюрьмы, она уже умрет. Квартиру заберут. И получится, что я вроде как на свет заново родился. С ноля начинать снова придется. К Эльзе можно было бы поехать, но она ведь совсем старая уже будет…Телеграмма Воротников категорически отрицает знакомство Поповым Лаксом Юронисом тчк Литве никогда не бывал Москве был проездом два года назад.Следователь Дзержинской горпрокуратуры Поляков
Зинаида Попова
Ну, а теперь что делать? Начинать жить сначала? А как? Как без Кости жить? Начинать, продолжать… А какой смысл что-то начинать, если моего мужа больше нет? Если его убили? Я вышла из прокуратуры, села на скамеечку в палисаднике. Куда идти? На работе участливые, сочувствующие глаза товарищей, плачущие подруги. А я плакать не могу. Засохло что-то во мне, спалилось. Нет больше Кости. Какие-то дураки бормочут: «Ах, как глупо! Какая нелепая смерть!» Смерть не бывает нелепой, а уж Костя-то глупо умереть не мог. Сволочные бандиты всадили в спину нож. Они говорят, что нож взяли только чтобы попугать. Не-ет, нож по ночам не носят, чтобы пугать. Да и не испугался бы их Костя, не такой он человек. Значит, все равно конец был бы этот. Нет больше Кости… И домой идти не хочется, там мать и ее громадное горе — без берегов. Ее надо бы поддержать, помочь ей. Но у меня самой нег больше сил. Я как мячик, из которого выпустили воздух. Никому я не могу быть поддержкой. Как жить дальше? Как жить без Кости? Мать говорит, что это божья кара. Но ведь если бы даже бог был, то нас не за что карать. За что бог мог покарать Костю? Чепуха это. Если бы бог был, он мог бы нас покарать только из зависти. Но если бы он был, ему не надо было бы завидовать нам… Стал накрапывать дождь, он становился все сильнее, а у меня не было сил встать и уйти. Да и зачем? Капли падали мне на лицо и стекали по подбородку, скатывались на грудь, платье постепенно намокало, прохладно липло к телу, а я все сидела, закинув голову, и капли больно били в глаза, а высоко надо мной неслись дымные рваные тучи. Пробежали мимо, накрывшись одним плащом, две девочки, и дождь барабанил по плащу, как по кровле. Одна задержалась, и плащ соскользнул с плеч второй, она тоненько взвизгнула, а первая спросила меня: «Вам плохо?» Я покачала головой, и они побежали дальше, и я услышала, как вторая, та, что намокла, сказала удивленно: «Пьяная, что ли?» Ах девчушки, милые мои, разве вы можете понять, как мне плохо! Разве можно сказать об этом? Если бы я и стала вам рассказывать, вы бы этого не поняли. То есть поняли, наверняка поняли, только почувствовать не смогли бы. Надо, видимо, много пожить и перетерпеть, чтобы научиться чувствовать цену наших потерь. Какое счастье, что вы не понимаете: я не пьяная, а просто у меня похмелье. Страшное, мучительное похмелье после самого прекрасного, светлого, счастливого опьянения в моей жизни. Оно длилось ровно четыреста дней. Как же это несправедливо! Ведь даже у Шехерезады была тысяча ночей. И еще одна. Четыреста три дня назад мы познакомились, Костя. Помнишь? В Лужниках. Помнишь? Три дня тебя уже нет. Но этого не может быть! Это неправильно, нехорошо, несправедливо. Четыреста раз ты говорил мне каждое утро: «Ну, здравствуй! Здравствуй, мой любимый, мой смешной, веселый человек!» Любви с первого взгляда не бывает — это точно установлено. Значит, я тебя полюбила со второго. Ты же не сердишься на меня за это? Ты же ведь никогда на меня не сердился, не сердись на меня и за то, что я целых две секунды соображала, пока поняла, что пришла моя судьба. И каждое утро с тех пор ты говорил мне: «Ну, здравствуй!» Как будто огорчался, что мы с тобой несколько часов проспали, не думали друг о друге, не виделись, и ты соскучился, и теперь рад, что, наконец, увиделись вновь. И впервые, три дня назад, я говорила тебе сутки подряд: «Ну здравствуй! Костик, здравствуй!», — а ты лежал равнодушный, холодный, безразличный, первый раз ты мне не ответил. Четыреста дней. Как много дней, как много дней! Один миг, один миг. Ты подошел тогда, в Лужниках, картавый, веселый, со своими немодными светлыми кудрями, и сказал: — Не правда ли, неудобно вот так, запросто, спрашивать имя у незнакомой девушки? Я пожала плечами и сказала: «Наверное», хотя и смотрела в твои глаза и знала, что тебе это удобно, и прилично, и хорошо, потому что с такими глазами нельзя сделать ничего плохого. А ты сказал: — Тогда скажите мне, пожалуйста, как ваше отчество? Я засмеялась и сказала: — Зиной зовут меня. А отчество мое вам не нужно… И началось это сладостное опьянение, прекрасный сон длиной в четыреста дней. Ах, боже мой, если бы можно было вернуться на четыреста три дня назад. Пускай бы потом ничего не изменилось, только бы прожить их вновь. Еще четыреста раз услышать: «Ну, здравствуй!», четыреста раз ненадолго расстаться с тобой, чтобы бежать, как сумасшедшей, тебе навстречу, четыреста раз почувствовать вновь тепло твоих добрых сильных рук, которые я так любила, и целовала их, когда ты спал, чтобы ты не видел. Меня некоторые подруги считали дурочкой. До того, как я вышла за тебя замуж, и после этого. Они смеялись надо мной, что я, мол, дикая, отсталая, несовременная, не умею жить в нашей жизни, которая прекрасна, но коротка. Они говорили, что я останусь старой девой, а черемуху в сентябре никто, мол, обрывать не захочет, и все волшебные принцы, мол, навсегда поселились в сказках и боятся оттуда отлучаться. А потом пришел ты в прекрасный вьюжный вечер седьмого февраля. Тебя привела судьба, потому что Нина, Васина жена, приказала тебе, когда ты собирался в Лужники: «Чтобы сегодня ты нашел, наконец, себе жену, а то из родственников уволю». Она сама мне потом рассказала. А через месяц мы поженились, и подруги снова стали хихикать: «Дождалась принца из таксомоторного парка. А сама инженер». Я никогда на них не сердилась, я их жалела. Если бы я сказала, что действительно встретила своего принца, они бы мне не поверили или испугались. Да и не нужно мне все это было, ведь я-то знала, что со мной самый настоящий принц. И мне было все равно, кем ты был — шофером, космонавтом, профессором или поэтом. Потому что в тебе было то, что не дается никакой профессией. Ты был настоящим мужчиной и человеком. Если бы ты сказал мне: «Пойдем сходим в Африку», — я бы только спросила, взять ли бутерброды или закусим по дороге. Я бы ни на секунду не задумалась, что это сложно, потому что с тобой все было просто. А теперь тебя нет. Как же мы теперь будем гулять с тобой, по ночным улицам? Кто будет летом воровать для меня цветы из соседних садиков? А зимой греть дыханием озябшие пальцы? Я боялась поднырнуть в туннельчик, который выходит в бассейн, и ты проплыл под водой с мужской половины и вытащил меня, а сам не высовывал лица из воды, чтобы женщины не подняли крик. И весна наша последняя кончилась, не будет у нас прошедшего мая, когда мы с тобою гуляли в Кузьминках на прудах. Дождь шел такой же, как сейчас, мы прятались под деревом, и по лицу твоему бежали крупные капли. Если бы я знала тогда, что отпущенные нам четыреста дней уже истекают! Что же делать теперь, Костик? Бандитов этих посадят в тюрьму или, может быть, расстреляют. А ты? А я? С нами-то что теперь будет, Костенька?.. Дождь все шел и шел, капли текли по щекам горячие, и я поняла, что это слезы, и удивилась, что я плачу, потому что о Косте плакать не надо, он очень не любил слез. Но все равно не могла остановиться, и плакала долго и бессильно, зная, что больше некому мне сказать: «Ну, здравствуй!..»Телеграмма Прокурору гор. Дзержинска следственное Прошу организовать проверку возможности знакомства родных и друзей Воротникова с Поповым или убийцами.Старший следователь Курбатова
Евгения Курбатова
Да, Зинаида Попова права: конец бы скорее всего был именно такой. Судьба скрестила пути Константина Попова и убийц именно в тот момент, когда они были готовы для выполнения своего страшного плана. Нелепого, дурацкого плана. Это же надо придумать такое: в наших условиях построить себе «на кончике ножа» фантастические виллы, разъезжать в роскошных лимузинах, сорить деньгами в кафе и ресторанах, зажить «сладкой жизнью». Интересно, что свою будущую разбойную деятельность они представляли себе еще меньше, чем эту «сладкую жизнь». Ведь со своей скудной фантазией, со своими хлебными ножиками дальше нападения на таких «богатых» клиентов, как таксист или женщина в темном переулке с десяткой в сумочке, они не шли. Не утруждая себя долгими размышлениями, они беззаботно заключили: «Э, главное — начать, а там покатится само собой, судьба дорогу укажет». Даже когда Лакс и Юронис садились в такси, твердое намерение отнять деньги перемешивалось у них с сомнениями: хватит ли духа напасть на человека, получится ли, и вообще спор между ними — «культурно обработать» таксиста или «прихлопнуть» его — еще не был решен. Но через два часа, когда на счетчике было шесть рублей, а в кармане только пятачок, положение стало безвыходным: или напасть, или оказаться в милиции. И они побоялись угрожать Попову — молодому, здоровому парню, который явно не испугался бы их и с которым им было не справиться, потому что он-то их не боялся. Вот Юронис и нанес шоферу неожиданный предательский удар. Но судьба посмеялась над ними до конца — они не смогли отнять деньги даже у мертвого Кости Попова… Мне казалось, что я знаю жизнь Юрониса и Лакса в последние дни не хуже их самих. И тут всплыл этот загадочный Воротников из Дзержинска, где закончился маршрут убийц. Они оба категорически и как-то испуганно отказываются от знакомства с ним; Воротников, в свою очередь, говорит, что не знает ни их, ни Костю Попова. Подозрительная личность этот Воротников — опустившийся пьянчуга. Родные Попова никогда не слышали о Воротникове, но сразу же и без сомнений опознали Костин почерк в записной книжке. Сам Костя уже никогда ничего объяснить не сможет. Поэтому придется копать глубже — я не могу позволить себе роскошь посчитать случайным совпадением то, что убийцы приехали в маленький районный городок, где проживает никому неизвестный Воротников, — с записью адреса этого Воротникова в книжке убитого. И замелькали, побежали дни, и в торопливой своей спешке они будто настигали время, остановившееся 21 июня. Разбухала папка уголовного дела от новых документов, потом я завела второй том, а бумаги все прибывали… Документы второго томаЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Попов К. М., 1937 года рождения, беспартийный, холост, категория учета — первая, состав — солдат, рядовой. Правительственных наград не имеет. Общий стаж работы — с 1952 года — 15 лет. Назначения и перемещения 1. Шофер — 2-я автоколонна. 2. Исключен из списка в связи со смертью…
ТРУДОВАЯ КНИЖКА (выписка) Лакс В. И., 1951 года рождения, беспартийный. Общий стаж работы — 9 месяцев 8 дней.Паневежисский автокомпрессорный завод
ХАРАКТЕРИСТИКА 1-й паневежисской восьмилетней школы на Юрониса А. Н. Ученик прибыл в 1963 году после удаления из школы-интерната. За два года отличился очень плохим поведением, был нечестным. Не выполнял указания учителей, пропускал уроки, плохо учился. Занимался воровством: отнимал у детей деньги, авторучки. Воровал в магазинах и на улицах. Альбинас с матерью не считался и совсем ее не слушал…
ХАРАКТЕРИСТИКА училища на воспитанника Лакса В. И. …В училище находился в течение четырех лет. Владимир — ученик слабоуспевающий, неряшливый, рассеянный. Замкнут, обособлен, ничем в училище не увлекался…
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА шофера 5-го таксомоторного парка Колесовой Анны Андреевны …Костя работал в нашем парке еще до ухода в армию, в токарном цехе, и одновременно учился на водителя. Он так много сил потратил на оборудование пионерлагеря нашего парка, хотя своих детей не имел. Вся жизнь Попова Кости прошла на наших глазах: это была хорошая, честная, рабочая жизнь. Мы все требуем сурового наказания преступникам…
ХАРАКТЕРИСТИКА Паневежисского завода автокомпрессоров на ученика Лакса В. И. …Дело осваивал без усердия, работал вяло. Нарушал трудовую дисциплину. Замкнут. В общественной жизни не участвовал. Обсуждался на товарищеском суде за хулиганство в городе…
СПРАВКА Осужденный к исправительным работам Юронис А. Н. наказания отбыл 23 рабочих дня.Начальник Паневежисской инспекции исправработ
ХАРАКТЕРИСТИКА на водителя 5-го т/моторного парка Попова К. М. …За время работы хорошо относился к вверенной ему технике, систематически выполнял государственный план. Участвовал в общественной жизни парка и колонны, являлся членом редколлегии стенгазеты, был общественным контролером…
Владимир Лакс
Я никак не могу сообразить сейчас — чем это мы так сильно были недовольны в Паневежисе? Зарабатывал я семьдесят пять — восемьдесят рублей. Конечно, это не сундук пиастров. Но ведь если честно говорить, то я же и этих денег ни разу не отработал. Я ведь и делать-то ничего, совсем ничего, не умею. К сожалению, это факт. Я тысячу раз давал себе клятву: проявить волю и побороть свою лень. И тысячу раз мне что-то помешало, пока я не махнул на все это рукой, решив, что, каким человек родился, таким он и помрет. Да и меняться не очень хотелось, потому что в конечном счете жилось-то нам не так уж плохо! Я часто вспоминаю здесь, как мы целыми вечерами сидели в кафе «Анжелюкас», потом шли в «Линялис», а когда были деньги, то отправлялись и в ресторан «Васерас». Какие это были прекрасные, шикарные кафе! С цветными светящимися витражами, бронзовыми чеканками на деревянных темных стенах. Если в Москве и есть роскошная жизнь, то она, наверное, проходит по какому-то другому счету. Здесь я не видел таких кафе. Во всяком случае, глядя в окна московских кафе, я не заметил, чтобы они были лучше тех, что в Паневежисе. Внутри-то мы не были, денег не хватило. Мы только пили водку с этими унылыми пьяницами, друзьями Баулина. В его грязной, паршивой комнате. И это было скучно и совсем неинтересно. А сейчас я все время раздумываю — в чем же она состоит, интересная и веселая жизнь? Вот если бы я был на свободе и у меня оказалось очень много денег, то я бы построил себе роскошный каменный особняк в Ниде. Или в Паланге, мне все равно. И купил бы кадиллак «эльдорадо Брогам». А потом женился на Валде. Если бы я к ней приехал на «эльдорадо», то она бы мне не влепила по морде, как в тот раз, когда я прижал ее на лестнице. Да-а, здорово было бы, конечно… Только все это дома надо бы; здесь, в Москве, скучно, и люди какие-то неинтересные — и Баулин, и дружки его — Серафим, Толька, Сашка, Николай…Свидетели по уголовному делу № 41092 (К ответственности по делу не привлечены)
Макаркин Серафим (из протокола допроса):…Я Макаркин Серафим. Мне двадцать четыре года, и я работаю грузчиком пятьдесят третьей базы…(Я даю показания, как свидетель и еще ничего не знаю о том, что через два месяца, в сентябре, сам буду сидеть в тюрьме за ограбление женщины.)
…Я приятель Баулина и ничего плохого о нем сказать не могу. …Числа 18–20 июня, вечером, я гулял по улице и встретил Баулина с двумя какими-то ребятами. Помню, что я уже был пьян. Но с Баулиным я решил выпить еще. Выпил. Водки. Поэтому все, что происходило потом, я помню смутно. Как в тумане. Я не помню: — кто платил за водку; — кто такие эти двое ребят; — что они говорили; — зачем они приехали; — были ли у них деньги, и сколько; — чем они занимаются; — какие у них планы; — выпивал ли с нами еще кто-нибудь. Все это мне было неинтересно.Записано с моих слов верно — свидетель Макаркин.
* * *
Алпатов Анатолий (из протокола допроса):…Я Алпатов Анатолий. Мне двадцать семь лет, и я работаю токарем Карачаровского механического завода. …Я знаю Баулина, но в дружбе с ним не состою. …За несколько дней до убийства я встретил Баулина на улице с двумя ребятами, которые жили у него в комнате. Я к тому времени уже был пьян. Но с Баулиным согласился выпить еще. У них была бутылка водки. Мы вошли в подъезд дома двадцать девять и там выпили… Кто покупал водку и на чьи деньги — не помню. Ничего о ребятах-литовцах — не знаю. Выпивал ли с нами кто-нибудь еще — понятия не имею.Записано с моих слов верно — свидетель Алпатов.
* * *
Андрюшин Александр (из протокола допроса):…Я Андрюшин Александр. Мне двадцать девять лет. Я не работаю. …Я знаю Баулина, но ничего сказать о нем не могу. …В июне я пришел к Баулину. У него было двое ребят — приезжих из Литвы, которые были выпивши. Они угостили меня водкой. Я, конечно, выпил. Потом дал денег — купили еще вина. Затем выпили. …Ничего о литовцах — кто они, зачем приехали, какие имели планы — знать не могу.Записано с моих слов верно — свидетель Андрюшин.
* * *
Гусев Николай (из протокола допроса):…Я Гусев Николай. Мне тридцать девять лет. Я не работаю. Я знаю Баулина, потому что он мой сосед. У Баулина жили чужие ребята. 20 июня в четыре часа дня меня вызвал Баулин и велел сходить купить красненького. Дал три рубля. Я сходил. Вино распили мы все вчетвером. Но как зовут гостей Баулина, я не знаю. Они сами не сказали, а я не спрашивал. Потом разошлись. Вечером встретились на улице. Опять договорились выпить. Баулин дал три рубля. Купили две бутылки вина и распили его у Баулина в комнате. Разошлись. Я еще хотел выпить, но денег нет. Пошел по соседям. Не дали. Пришел к баулинским ребятам. Дали сорок пять копеек. Я собрал пустые бутылки — семь штук — пошел в магазин. Баулин — со мной. Мы с ним пили… Потом спал, очень крепко. Даже милиционеры, когда пришли, еле меня разбудили… По именам я их не знаю. Внешность их запомнил плохо. Я на них особо и не смотрел: мне-то что? Я с ними выпил — и пошел… Узнать я их, может быть, смогу.Записано с моих слов верно — свидетель Гусев.
Евгения Курбатова
Девятого августа я вызвала Юрониса, чтобы допросить его и сообщить о результатах криминалистической экспертизы. Эксперт дал заключение, что их ножи не являются холодным оружием «…и относятся к хозяйственным ножам общего применения (для резки мяса, овощей, хлеба…)». — Что же ты, Юронис, не резал своим ножом овощи или хлеб? — спросила я его, заполняя бланк «Протокола допроса несовершеннолетнего обвиняемого». Он задумчиво посмотрел на меня и сказал: — А у меня завтра день рождения… Я отложила ручку в сторону: — Ну что ж, поздравляю тебя. Хотя и не стоило бы… — Я знаю, — сказал он. — Но все-таки… Правда, такое совершеннолетие не у всех бывает? — Да, к счастью. А ты что, гордишься этим, что ли? Я что-то не пойму… — Нет. Тоскливо мне сегодня. Поговорить совсем не с кем. — А о чем ты хотел поговорить? — Не знаю. Я ведь молчу все время. И думаю. — Ну? — У меня в Паневежисе друг был. Звали его Иван Морозов. Он в нашем доме жил. Намного он старше меня. Раз пять уже сидел, за разное — хулиганство, кражи, грабеж. — И что? — Он очень весело про тюрьму рассказывал, здорово. — Похоже? Юронис покачал головой: — Нет. Совсем в тюрьме не так. Врал Ванька. В тюрьме люди не должны жить. — А если эти люди убивают других людей? Где же им жить — на курорте? Он снова покачал головой: — Надо, чтобы не убивали. — Но ведь ты же убил? — Да, убил. Поэтому я в тюрьме, я понимаю. И я все время думаю о другом… — О чем же? — Зачем врал Ванька Морозов? Ну, зачем, например, говорить, что лучше всего фраера ограбить и убить — будет наверняка молчать? Теперь-то я знаю, что с убийством во сто раз быстрее попадешь, всю милицию на ноги поднимают, как на войну… И все, что он про тюрьму рассказывал, — вранье, подлое вранье… Все, что он рассказывал… — А он тебе рассказывал, что здесь хорошо? — Не в этом дело, — он досадливо махнул рукой. — Не говорил он, что здесь хорошо. Но так получалось у него, что сюда самые смелые попадают. Просто им немного не повезло. Но здесь их уважают… И среди заключенных есть свой закон. — Ну и как, нашел ты уважение в камере? Закон воровской понравился? — А-а, мне их уважение не нужно. Я и сам их не уважаю. Понимаете, не уважаю. Не за что уважать. Как животные, кто сильнее — тот умнее. А закона никакого воровского нет. Ерунда это, выдумки. Может, и был когда, а сейчас нет. Каждый за себя — вот и весь закон в камере… — Тебя что, в камере не любят? — Да нет, не в этом дело. Я еще не привык помнить, кто я такой. Я ведь относился к ним как к уголовникам, шпане. И медленно привыкаю, что я их не лучше. Они — воры, хулиганы, а я человека убил… Я подчеркнула в бланке протокола слово «несовершеннолетнего». С завтрашнего дня он просто обвиняемый. Я сказала: — Завтра ты пойдешь на психиатрическуюэкспертизу. Он кивнул, потом сказал, криво улыбнувшись: — В день совершеннолетия полезно узнать, сумасшедший ты или еще на что-то годишься. Это вообще не мешает. Даже тем, кто людей не убивает… Уж не гордится ли Юронис, что он не «уголовник, шпана, хулиган», что он «человека убил»? Что-то легко очень он эти слова повторяет…Альбинас Юронис
— Юро-о-нис! На вы-ыход!.. Я поднялся, еще сонный какой-то, пошел к двери. Я знаю — это меня тащат на «пятиминутку» — вчера предупредили. «Пятиминутка» — это амбулаторная психиатрическая экспертиза. Ребята в камере мне рассказали, что всех малолетних убийц на «пятиминутке» проверяют. Муртаза, маленький хитрый воришка с Трубной, который уже не раз сидел, а сейчас попал за грабеж, и по всем этим вопросам «в курсе дела», растягивая в улыбке толстые губы, сказал: — Пустое дело. Это все учителя да адвокаты воду мутят. Говорят, что если малолетка убил — то он, скорее всего, псих. Мол, обыкновенный пацан на это неспособный. Вот и таскают. Кой-кто «лепить» пробовал — все ж таки психов не судят, — не-а, не пролезло: правильные ответы знать надо. А-а, совсем пустое дело, — Муртаза махнул рукой и отвернулся к стене. Я иду, руки назад, по бесконечным коридорам и переходам тюрьмы. Надзирательница, толстенькая, задастая, громыхая здоровенными ключами, отпирает одну дверь за другой. Вот сильно запахло щами и еще чем-то кислым, точно как в Паневежисе, в фабричной столовой. Я знаю — теперь уже скоро. В длинном коридоре следственного корпуса на одном из кабинетов висит табличка: «Амбулаторная психиатрическая экспертиза. Прием по понедельникам и средам…» Я ее видел, когда меня водили на допросы к Курбатовой. «Лепить» я не собираюсь, бесполезно. Еще нажалуются врачи, что симулянт, в суде за это добавят. А потом, я думаю, в сумасшедшем доме еще хуже сидеть, чем в тюрьме. Ни к чему мне это… …Врачи сидят за столом, в белых халатах. Такие любезные все, добрые вроде. Один, с бородкой, в толстых очках, все улыбается, разговаривает как с первоклассником. Вопросы задает. Вопросы-то легкие, обыкновенные совсем: — Сколько лет?.. — Где родился?.. — Где жил?.. — Как учился?.. — Курил?.. — Чем болел?.. — В какие игры играл?.. — Пил?.. — Головой не ударялся?.. — Пьяницы среди родных были?.. Совсем обыкновенные вопросы, легкие. Курбатова задает куда труднее… — Расскажите, как было дело? Рассказал. Как на допросе, только покороче. — Как вы относитесь к происшедшему? Как отношусь. Дураки были, конечно. Да и Володька сдрейфил. Объясняй теперь. Опустил глаза, сказал: — Дурак был. Теперь жалею…Кандидат медицинских наук Рубин Я. И
Он опустил глаза и сказал: — Дурак был, теперь жалею… И непонятно было, о чем он жалеет: о том, что был дураком, о том, что убил человека, или о том, что попался? Вопроса этого он не ожидал, задумался, и видно было, что ему трудно ответить. Но память услужливо подсказала стереотип: «Дурак был». Взрослые, те чаще говорят стыдливо: «Пьяный был…» «Дурак был». А сейчас умный стал? Оттого, что в тюрьме? А если бы не попался? Не нравится мне такое «раскаяние», сколько лет я с преступниками работаю, и даже удивительно, до чего однообразно они оправдываются: «Дурак был», «Пьяный был», «Глупо, конечно, все получилось», «Сам не знаю, что со мной сталось». И так далее. И все это большей частью люди, которые прекрасно отдают себе отчет во всех своих действиях: мы же видим — и по уголовному делу, и по их ответам комиссии, и по анемнезу. А как доходит до объяснения преступного факта — сразу: «Сам не знаю…» Все знает, кроме этого. В этой формулировке обычно таится подсознательный жалостный намек, что вот, дескать, не волен он был в своих поступках, «не в себе» был, произошло с ним что-то этакое «таинственное». А мы, психиатры, должны эту «таинственность» учесть и дать ему скидку. Вот и этот, Юронис. Думает медленно, расчетливо, отвечать не спешит. Вопросы наши понимает, ответы дает точные. А как последний вопрос услышал — запнулся, задумался надолго, что-то в уме высчитывает. Сказать, что глубоко раскаивается, не может: инстинктивно чувствует, что не найдет тех нужных и искренних слов, которые бы заставили нас, врачей, ему поверить. Сказать правду не хочет, он знает, что его ответ может попасть в уголовное дело. Поэтому лицо его из деловито-озабоченного вдруг становится смущенным, грустным, он опускает глаза и перекладывает всю дальнейшую ответственность за свою судьбу на нас: — Дурак был, теперь жалею…Акт № 660 …Освидетельствован Юронис Альбинас Николаевич. В школе Юронис учился слабо, дублировал 1, 4 и 5-й классы… Часто менял места работы и специальности, нигде подолгу не удерживался… …По физическому развитию соответствует возрасту. Со стороны психики: сознание ясное. Все виды ориентировки сохранены. Держится развязно, груб, на вопросы отвечает с раздражением. Понимает цель обследования и сложившуюся для него ситуацию. На память не жалуется. Обеспокоен предстоящей ответственностью… Комиссия приходит к заключению, что Юронис душевным заболеванием не страдает и в отношении инкриминируемых ему действий является вменяемым…
Евгения Курбатова
Жена Воротникова — Лидия Михайловна — оказалась молодой интересной женщиной с бледным нервным лицом. Почти год как уехала от мужа и живет теперь одна. Шестилетняя дочка находится у ее матери до тех пор, пока она окончательно не устроится. К мужу возвращаться не думает. — Вы не знаете, какой это ужас, когда муж каждый день пьян. Теперь с этим покончено навсегда. Решиться трудно было, а теперь уже все нормально. Людочку только жаль, без отца ей придется расти. Но лучше вообще отца не иметь, чем иметь отца-алкоголика. Это ведь не только горестно, это же ведь еще и стыдно. — Скажите, Лидия Михайловна, а никто из знакомых или родных в Москве не мог дать Попову адрес вашего мужа в Дзержинске? — Я уже думала об этом, но ничего путного в голову не приходит. У меня здесь живут только сестра с мужем, так они с Воротниковым никаких связей не поддерживают. — А в Прибалтике у вас нет родственников или знакомых? Женщина на мгновение задумалась. — Дело в том, что у меня была подруга — Алла Окк. Она сама латышка, а вышла замуж не то за эстонца, не то за литовца, точно не помню. Это было лет пять назад. Потом она уехала жить в Прибалтику к своему мужу, и мы утратили связь. Если я вас правильно поняла, вы хотите узнать, не могла ли она дать адрес убийцам? — Вот именно. — Не думаю. Она с моим мужем даже не была знакома, и адреса нашего у нее, по-моему, не было. — А где она сейчас живет, вы знаете? — Конечно… В тот же день я получила из Паневежисской милиции характеристику на Юрониса. Это был воистину замечательный документ. «Юронис состоит на учете в детской комнате с 5 ноября 1966 года, — было сказано в первых строчках характеристики, — за систематическую кражу велосипедов». Потом слова насчет кражи велосипедов были небрежно зачеркнуты, и оставалось неясным — за что же состоит подросток на учете в детской комнате милиции.«15 января 1966 года — проведена беседа в отношении устройства на работу».Ясно. Только не видно, какие плоды дала эта беседа.
«3 марта — проведена беседа во время рейда с родителями».Беседа во время рейда. Какая беседа, о чем, во время какого рейда?..
«16 ноября — угнана легковая машина, но был задержан, потому что машина забуксовала…»Тут я не выдержала и вслух засмеялась, до того эта запись смахивала на старый анекдот, потому что не легковую машину угнал Юронис, а грузовую, и не забуксовала она, а сжег он мотор, и вообще он «ехал не в ту сторону». Точность этих записей демонстрировала то внимание, с которым относилась к трудному подростку детская комната. «Проведена беседа в детской комнате, взято объяснение». Беседа на какую тему? Объяснение в чем? И снова, с монотонной унылостью:
«15 декабря — беседа на дому с родителями… Январь 1967 года — доставлен в вытрезвитель, беседа с родителями… 2 марта 1967 года — во время рейда беседа с несовершеннолетним и его родителями… 27 июня 1967 года — проведена беседа с родителями в отношении плохого поведения их сына…»
* * *
27 июня с родителями была проведена беседа о плохом поведении их сына. Замечательно! В этом документе было все замечательно. И то, что несчастная одинокая старуха называется «родителями», и то, что с «ними» регулярно проводят беседы о поведении сына, который плевать на «них» хотел, и то, что воспитание несовершеннолетнего уголовника носит рейдовый характер, и то, что последнюю беседу провели, когда он уже неделю сидел в тюрьме. Правда, начальник милиции капитан Стасюнас не знал, что на этот раз поведение Юрониса было совсем плохое. Он просто человека убил. Надо было ехать в Паневежис…Евгения Курбатова
Я приехала в Паневежис дождливым осенним днем. Не заходя в прокуратуру, я отправилась домой к матери Юрониса. Тесный маленький двор, старый дом с залитыми водой подслеповатыми окошками. Я постучала в дверь, обитую рваной клеенкой. — Кто там? — спросил за дверью надтреснутый женский голос. — Следователь из Москвы, — сказала я и потянула за ручку. Дверь послушно растворилась. Седая морщинистая женщина с испугом смотрела на меня. И мне на мгновение вдруг стало совестно, что я еще молодая и совсем здоровая. Такая была эта женщина немощная, серая, усталая. Вся она состояла из одних суставов, будто позвоночник, все прямые кости из нее вынули, и только одна дряблая, слабая оболочка невесть как держалась вертикально. — Да, это я мать Альбинаса, — сказала она, хотя я ее даже не успела спросить. — Вы проходите в комнату, пожалуйста… Голос у нее был тихий и такой же, как она вся, дряблый и серый. В комнате было пустовато и очень чисто. На стене висела фотография Альбинаса. Я присела к столу и достала из портфеля бумагу и ручку. — Вы, может быть, чаю попьете? — спросила она робко. Я быстро сказала: — Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь, я в поезде пила, — и поймала себя на мысли, что брезгую пить в этом доме. И от этого разозлилась на себя. — Казимира Петровна, мне надо задать вам несколько вопросов. — Да-да, я понимаю, я привыкла уже, — и в голосе ее была необычайная покорность, полное подчинение судьбе и всем людям, кто захотел бы только приказать. Потому что от жизни она уже вообще ничего не ждала — это видно было по ее лицу и совершенно мертвым, бессильным рукам. Ничего хорошего все равно не могло произойти, а хуже, чем произошло, уже не могло случиться. — …Я сначала боялась соседей встретить, в глаза не могла посмотреть, а потом привыкла. Ко всему человек привыкает: и к горю, и к позору. Все тут сразу на меня… Она говорила негромко, и речь ее была как стоячая вода: бросил камень, разошлись круги, и снова замерла. Я слушала ее, и у меня все время перед глазами было лицо матери Кости Попова. Сухое, сильное, с крупными чертами, какие вырезал на своих портретах Эрьзя, нестертое и нераздавленное даже этим безмерным горем. — …Вы и меня поймите: для всех он убийца, а для меня — сын. А много я ему в жизни дать могла? Я же ведь неграмотная, уборщицей работаю. Мать Кости Попова работала дворником, потом — в пекарне. Людей хлебом кормила, а своих ребят не всегда могла накормить досыта. Голова у меня болит что-то, в висках ломит. Да, о чем это я? Мать Попова тоже не могла дать своим сыновьям многого. И вспомнила почему-то слова своего отца: «Беда в том, что мы ищем точные подобия. А мир фрагментарен. Надо искать сходство в деталях». — …Не слушался он, ушел из школы. «Работать я буду», — сказал. Но и на работе у него не получалось, очень он нервный. Менял работы часто… Константин за пятнадцать лет работы сменил всего одно место. Сначала токарем на «Красном пролетарии», потом шофером. «Первый раз меня Костя ослушался, когда ушел из седьмого класса. До станка не доставал, маленький он был, работал, стоя на ящике, две нормы выполнял». Голова очень болит что-то. — …Мы скрывали от соседей, когда Николай приезжал сюда, что он отец Альбинаса. Говорили, что это дед. Он ведь старый совсем, а жить с нами все равно не хотел. «Деревенщина ты была, деревенщиной помрешь», — всегда укорял он меня. В Каунасе он живет, конюхом там работает. И денег мне на Альбиночку не давал никогда. Может, сын поэтому такой злой, нервный вырос… «Легкие у мужа были прострелены на фронте, от этого и умер, когда Косте пятнадцать лет минуло. Долго болел он перед этим, трудно нам было». Глаза у меня режет сильно. Я, наверное, простудилась. — …Меня в сорок шестом году бандиты ранили. Жили мы тогда в деревне Молайни, и пришли они ночью, «зеленые братья» эти самые, будь им пусто, и давай в дом ломиться. Хотели, чтобы брат мой опять с ними в лес ушел, а я дверь не открывала. Вот они из автоматов и начали строчить. А две пули в меня попали, с тех пор я инвалидом стала… Не слушался меня Альбиночка… Ругался на меня, что я его жизнь погубила… А что я могла сделать? Курил он и водку пил лет с пятнадцати. С осени прошлой и дома не бывал, все у шлюхи у этой… Опоила она его чем-то… А в милиции говорят: «Не наше дело… Может быть, любовь…» Придут скажут: «Вы на сына повлияйте…» А как же я повлияю? Он ведь и дома не бывает… и не слушает меня совсем… Я совсем сломалась, тяжело гудело в голове, и я с досадой думала о том, как некстати все это. Голос старой женщины, которая и живет-то по инерции, совсем меня добивал. Я достала из портфеля ножи: — Вам эти ножи знакомы? — Конечно, конечно, — обрадовалась она. — Вот этот нож я из Латвии привезла еще до войны, при Сметоне было еще. Очень он хороший, этот ножик, я им всегда капусту шинковала, и хлеб им резать удобно… Она радовалась ножу, как ребенок радуется случайно найденной вещи, которую потерял, и уже смирился с утратой, и вдруг неожиданно нашел вновь. — Овощи им хорошо резать, я-то ведь каждую вещь берегу… Ей и в голову не приходило, что ее сын зарезал этим ножом человека…На лице старшины сверхсрочной службы Ивана Яковлевича Лакса замерло навсегда выражение испуганного удивления. Он говорит, как, наверное, командуют новобранцами на плацу — коротко, четко. Но из-за этого удивленного выражения лица его слова звучат так, будто он сам в них не верит. — Владимир был послушен, но не дисциплинирован. — Это как понять? — Обещания давал, но не выполнял их. — А вы проверяли? — В силу возможности. Мне было трудно, потому что моя жена, мать Владимира, умерла, когда мальчику было семь лет. А я очень занят на службе, и он часто оставался без надзора. — Перед отъездом Владимир украл у вас из кителя шестьдесят рублей… — Да. Но я бы не хотел, чтобы вы рассматривали это как кражу. Ведь я же ему отец. И в этом вопросе претензий к нему не имею. — А в каких вопросах вы имеете к нему претензии? Лакс начал тяжело краснеть, болезненный, плитами, багрянец заливал шею и медленно полз к затылку. — Вы понимаете, что ваш сын участвовал в убийстве? Что вы тоже несете за это моральную ответственность? Нелепая, случайная улыбка замерла у него на лице, и только по глазам было видно, как он страдает. — Я… этому… его… не учил, — сказал он медленно, с запинками. — Да что вы говорите! Кто же из родителей учит своих детей убивать? Он посмотрел на меня совсем невидящими глазами и сказал: — Володя собак очень любил… В гостинице я взяла у дежурной градусник и легла, накрывшись двумя одеялами. Но согреться все равно не могла, так сильно трясло меня. Очень хотелось спать, но как только я закрывала глаза, то рядом со мной присаживалась на стул Казимира Юронис и говорила своим серым, дряхлым голосом: «Он… ведь… совсем… не слушал… меня». И вдруг ее перебивал сиплый бас отца Лакса: «Был… послушен… но… не выполнял… без надзора… его… этому… не учил». Их расталкивал начальник милиции Стасюнас и разводил руками: «Может, любовь… Не можем… вмешиваться…» Директор школы без лица чеканил, размахивая портфелем: «Отличался очень… плохим… поведением…» Я открывала глаза, но потолок кружился наперегонки с уродливой люстрой. Медленно, постепенно набирая скорость, вращалась кровать, а я держалась за спинку, чтобы не слететь с нее, как с карусели. Я затрясла головой, и бег немного утих. Ртутный столбик в градуснике прыгал перед глазами. Нельзя сейчас болеть. Надо ехать в Москву и заканчивать дело. Все ясно, кроме Воротникова. Нужно узнать, как попал его адрес в книжку Попова. А дело пора кончать и передавать в суд. Все уже ясно. А что ясно? Два молодых человека убили третьего. Безо всякой злобы, трезвые, просто нужно было поехать в Одессу или Сухуми, погулять, а денег не было, поэтому взяли и убили, чтобы отобрать у него совсем немного денег. Юронис и Лакс будут много-много лет сидеть за это в тюрьме. Наше общество потеряло в один миг трех молодых, полных сил людей. Вернее, в один миг мы потеряли Костю Попова. А Юрониса и Лакса мы начали терять давно. Но никто этого не заметил. Они ведь не родились убийцами, они родились обычными людьми, а стали убийцами. Когда же это началось? Ведь они не были тихарями, они еще в школе обратили на себя внимание взрослых. Тот же Альбинас. Он был отчаянный парень, он досаждал взрослым хулиганством, дерзостью своей. Но и у него была мечта — водить автомобиль. Знали об этой мечте? Нет, наверное. Но ведь могли же, должны же были узнать о ней, когда он первый раз угнал грузовик! И вместо душеспасительных бесед, вместо рейдов, вместо «исправительных» работ (здорово они его за двадцать три дня «исправили»!) посадить его — с инструктором — за руль автоклубовской машины, увлечь любимым делом, направить его «отчаянность» по правильному руслу, отклеить ярлык «пропащего», в который он уже и сам поверил… Но с ним «проводили» лишь плановые и даже сверхплановые «мероприятия», а он отбывал их и бежал к Ваньке Морозову. Смешно и страшно, что Ванька Морозов был единственным взрослым, который относился к Альбинасу серьезно, разговаривал с ним доверительно и на равных. Это, наверное, очень поднимало мальчишку в собственных глазах. И понятно, что он, как губка, впитывал увлекательные басни старого уголовника, прохвоста, негодяя, о том, что преступниками становятся самые смелые, самые сильные, басни об их мифическом героизме и невероятных приключениях, о том, что тюрьма — это жутко интересное место, и так далее, и так далее, и так далее. Все болело, кружилась голова, шумело в висках, мысли путались, сталкивались, дребезжа, как жестяные кружки. Началось в семье. Чтобы не запутаться, я загнула палец. Потом появились ваньки морозовы. Я загнула еще палец. В школе… В милиции… В городе… На людях… Люди! Разве мы можем такое допускать?.. Я закрыла глаза, и снова обступили меня все эти лица. Ночь. Жар. Кричащая тишина. Помогите мне, люди!
Евгения Курбатова
Я проболела больше месяца. По вечерам отец садился рядом с моей кроватью, и мы не спеша и подолгу беседовали с ним. О жизни, о людях, об этом моем деле. Мне не давала покоя мысль о Воротникове, потому что я не люблю случайности и не верю в совпадения. Я думаю, что в самых случайных вещах должна быть своя внутренняя логика. Мы отмахиваемся от нее порою, потому что не можем разглядеть ее. Но отец в своих рассуждениях идет еще дальше меня из-за того, что воспринимает расследуемые мною дела как канонические детективы. Он говорит: — Воротников наверняка сыграл какую-то роль в этой истории. Не может быть по-другому. Помнишь, у Чехова — если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Мне интересно его поддразнивать, и я серьезно отвечаю: — Совсем не обязательно. — А как же иначе? — удивляется отец. — А так же. Брехт тоже кое-чего соображал в драматургии, так он считает, что ружье может вовсе и не стрелять. — А зачем тогда оно висит? — А оно и стреляет тем, что висит. Так и висит этот Воротников на стене, и я не могу сообразить, как же он может выстрелить. Я уж совсем было утратила веру в систему Брехта, но ружье выстрелило. Люда, наш курьер из прокуратуры, принесла мне домой почту, и среди всяких официальных бумаг было письмо из города Воскресенска от Марии Васильевны Троицкой.Мария Васильевна Троицкая
«Здравствуйте, товарищ Курбатова! Вчера к нам с Людочкой приехала моя дочь Лида и рассказала, что вы ее вызвали на допрос в связи с тем, что адрес ее мужа был обнаружен в записной книжке убитого шофера такси. А вы никак не можете узнать, откуда у него этот адрес взялся. Мне кажется, что я смогу вам помочь. Как вам известно, Лида разошлась с Воротниковым около года назад. Он плохой человек, и мне даже не хочется писать о нем, но уж придется. Поскольку Людочка очень привязана ко мне, то мы решили, чтобы внучка пожила со мной, пока Лида не устроится на новом месте, ибо из Дзержинска она уехала в Москву. Числа девятнадцатого или двадцатого июня (сейчас я точно не помню) мы с Людочкой поехали в Москву, к моей сестре в гости. Лида не могла нас встретить, потому что в эти дни была в иногородней командировке. Мы с Людочкой сошли с поезда на Курском вокзале и сели в такси. И как только мы тронулись, я обнаружила, что забыла дома новый адрес сестры — она недавно переехала в новую квартиру на Звенигородском шоссе. Я пришла в отчаяние, потому что помнила только номер дома, но там — я помнила это из письма сестры — четыре или шесть огромных корпусов. На наше с Людочкой счастье, нам попался удивительно милый и добрый человек — шофер таксомотора. Я лелею надежду, что несчастье случилось не с ним. И хотя всякого человека жалко, мне было бы бесконечно больно узнать, что столь отзывчивого и чуткого человека могли убить. Насколько я помню (простите, если я что запамятовала — ведь уже прошло почти пять месяцев), он был высокий блондин, с вьющимися волосами, и немного, очень мило, он картавил. Так вот этот молодой человек успокоил меня и сказал, что поможет мне в розысках. Не скрою, я была настолько бестактна, что обещала оплатить его хлопоты. Он ничего не ответил, только покосился на меня, и я заметила, что ему не понравились мои слова. Несмотря на это, мы разговорились, и Людочка стала ему рассказывать о нас, и неловкость прошла как-то сама собой. Хотя все бабушки считают своих внуков выдающимися детьми, я беспристрастно должна отметить, что Людочка — очень красивый и сообразительный ребенок, и за долгую дорогу она очень подружилась с этим молодым человеком. Не знаю уж как это получилось, но я рассказала ему о драме в нашей семье. Ведь я здравый человек и отдаю себе отчет в том, что как бы девочке ни было у меня привольно, но растет она фактически сиротой. Я запомнила, что этот молодой человек, наш шофер, сказал в сердцах: «Как же можно такого ребенка оставить!» Наконец мы приехали на Звенигородское шоссе и, наверное, целый час мыкались среди этих корпусов, пока разыскали квартиру моей сестры. Здесь мы распрощались с нашим шофером. Он уже стал уходить, потом вернулся и попросил дать ему адрес Воротникова. Я удивилась, но он сказал: «Напишу ему завтра письмо, попробую с ним по-мужски поговорить. Знаете, слово постороннего человека иногда сильнее трогает». Или что-то в этом роде, но по смыслу именно это. Он записал адрес Федора и ушел. Больше я его никогда не видела. Все, что я вам написала, — чистая правда. Я прошу вас простить мне некоторое многословие, но я считала своим долгом изложить известные мне факты самым подробным образом.С уважением — Мария Васильевна Троицкая, пенсионерка».
Альбинас Юронис
Курбатова протянула мне ручку. Я написал: «Признаю себя виновным полностью». Она аккуратно промокнула мои неровные буквы, закрыла папку, положила на два других тома. — Скажи, Юронис, тебе Костя Попов никогда не снится? — Нет, — сказал я. — Не люблю я покойников. И боюсь их. Она долго смотрела на меня, молчала. Потом сказала: — Когда ты выйдешь из тюрьмы, через много лет, ты еще будешь моложе, чем я сейчас… И я понял, что она жалеет. Только кого? Таксиста? Меня? Или себя? Суд назначили на восьмое января. И чем меньше дней оставалось, тем сильнее я сжимался. Я уже не мог дождаться этого дня. Мне очень надоело, я устал ждать свою судьбу. А дни остановились. Седьмого вечером я лег пораньше с одной мечтой: заснуть скорее, и когда я проснусь, уже будет завтра. Затихла постепенно камера, урчала вода в умывальнике, горели тусклые лампы. А сон не шел. Как крысы, выползали разные воспоминания. Я не хотел их, они были мне противны. Я гнал их, они неохотно прятались и приходили вновь. Так и пролежал я почти до утра. А когда задремал, приснился мерзкий сон. Будто мы с Володькой снова приехали на Трудовую на том же такси. Вышли из машины, видим, сидят посреди улицы на корточках какие-то дикие люди, жгут костер. Я сообразил, что это они нас дожидаются с недобрым. Хочу бежать, а ноги как будто вросли в асфальт. Встает один из них, старый, лоб бритый, серьга длинная в ухе. А в руке копье. «Иди сюда, — говорит, — мы тебя судить будем». От голоса его мой столбняк прошел, и бросился я бежать по улице. Засмеялся он громко и метнул копье мне вслед. Бегу изо всех сил и слышу визг копья, настигает оно меня, в спину вонзилось. Заорал я истошно и проснулся. А в дверях надзиратель. Это петли немазаные в дверях железных визжали: — Юронис! Собирайся, через час на суд! Я встал, умылся, налил в кружку кипятка и запил им пшенную кашу. Пайку хлеба завернул в газету и спрятал в карман. Неизвестно, когда суд кончится, а кормить будут не скоро. Постучал в «волчок» и сказал надзирателю: — Я готов…Сергей Высоцкий СРЕДА ОБИТАНИЯ Сборник
ВЫСТРЕЛ В ОРЕЛЬЕЙ ГРИВЕ Повесть
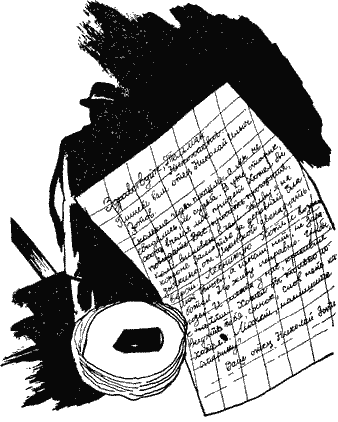
1
Утром к подполковнику Корнилову зашёл старший инспектор уголовного розыска капитан Белянчиков. Сел молча и пробарабанил пальцами по облезлой коже кресла какую-то затейливую, ему одному известную мелодию. Корнилов мельком взглянул на капитана и понял, что у него есть новости. Игорь Васильевич уже давно научился безошибочно определять состояние своего ближайшего помощника: Белянчикова всегда глаза выдавали. Пристальный, иногда до неприятности пристальный его взгляд становился в таких случаях чуточку рассеянным. — Сиди, сиди, — пробормотал Игорь Васильевич, — может быть, что и высидишь. Только не повышение по службе… — и уткнулся в свои бумаги. — Вы, товарищ подполковник, всё доклады пишете? — не выдержал наконец Белянчиков. — И опять небось о профилактической работе среди подрастающего поколения? А настоящих преступников за вас будут ловить учителя географии? — Он сделал паузу. — Таких, например, как Санпан… Корнилов резко вскинул голову: — Что Санпан? Задержан? — Задержан? — пожал плечами Белянчиков. — Да разве это возможно, когда уголовный розыск профилактикой занимается? — Да что ты заладил: профилактика, профилактика! — вспылил Корнилов. — Всю душу вымотал. Что про Санпана известно? Санпан — Александр Панкратьевич Полевой, опасный вор, — два года тому назад при попытке ограбить квартиру убил старика. В квартире нашли отпечатки его пальцев да финку с наборной ручкой. Её потом опознали два Санпановых «приятеля» по прежним делам. Но самого Полевого задержать не удалось. Всесоюзный розыск объявили, а не нашли. Белянчиков привстал с кресла и, облокотившись на стол, быстро сказал: — Только что звонил Белозеров из Луги. Санпан живёт на Мшинской. — Взяли? — Нет. Его опознал по расклеенной на вокзалах фотографии рабочий лесхоза. Сегодня рано утром этот рабочий приезжал в Лугу, приходил в отдел… Корнилов встал из-за стола, сгрёб все бумаги и, открыв сейф, небрежно свалил их в кучу. Достал пистолет. — Сам поедешь? — спросил Белянчиков, хотя ему и так всё было ясно. — Ты готов? — Игорь Васильевич подошёл к столу и стал набирать номер телефона. — Углев за баранкой? Белянчиков кивнул. Углев был лучшим водителем управления. — Михаил Иванович, Корнилов докладывает, — сказал Игорь Васильевич в трубку. — Александр Полевой под Лугой объявился… Нет, нет, никаких ЧП. Его рабочий лесхоза опознал. Разреши мне выехать. Я его проворонил, мне его и задерживать… Что?.. К чёрту! Корнилов нажал на рычаг и снова набрал номер. — Мама, к ужину не жди. Буду, наверное, поздно. Он надел пальто, сунул в карманы по пачке сигарет. — Ты, Юра, за недооценку профилактической работы с подростками, наверное, ещё один выговор получишь, — пообещал Игорь Васильевич Белянчикову. — Но то, что Углев с нами поедет, — это хорошо. Душевный ты человек!.. Когда машина отъехала от управления и Углев, молодой широкоплечий парень с флегматичным лицом, перестал ворчать на то, что опять как на пожар, а дорога скользкая и шипованной резины не допросишься, Корнилов сказал: — Юрий Евгеньевич, давай подробности! — Да какие подробности, Игорь Васильевич? — удивился Белянчиков. — Я тебе почти всё уже доложил. Корнилов нетерпеливо дёрнул головой. — Живёт Санпан в пятнадцати километрах от станции. Деревня домов пять. Владычино, что ли… — Память сдавать стала? — Владычкино. Живёт у какой-то женщины. Я не стал Белозерова подробно расспрашивать, — сказал Белянчиков. — Тут время дорого. — Да, конечно, — согласился Корнилов. — А морочить мне голову у тебя время нашлось. Не вспугнут они там Полевого? — Нет, это исключено. Белозеров будет ждать нас на Мшинской с тремя сотрудниками… Заметив недоуменный взгляд подполковника, Белянчиков пояснил: — На станции-то надо будет своих оставить? На всякий случай. — Эх, не ушёл бы! — вздохнул Игорь Васильевич, посмотрев в окно. На улице мела метель. — В Луге тоже снег, — сказал Белянчиков. — А из Владычкина уйти только к станции можно. К Мшинской. Там, Белозеров говорит, как тайга. Леса. Они помолчали. Потом Белянчиков спросил: — Ты не замерзнёшь в своём драпе? Ехать-то часа три, не меньше. Сам он щеголял в новенькой дублёнке. …До Мшинской они доехали за два часа. Свернули с шоссе. Машина шла, натужно гудя, по заснеженной пустынной Вокзальной улице, и Белянчиков вглядывался в номера домов, разыскивал тридцать седьмой — в этом доме жил участковый. Там и должен был ожидать их Белозеров. Дома в посёлке были большие, многие — свежерубленые, ещё не отделанные вагонкой. Корнилов подивился маленьким, подслеповатым окошкам. «В таких домиках да окна бы большие, чтоб свет да простор», — подумал он. Дом участкового инспектора был старый, потемневший, какой-то уж совсем неприютный. Перед ним ни деревьев, ни кустов, ни даже палисадника. «Временный жилец товарищ участковый, — решил Корнилов, вылезая из машины. — Небось в сторону города смотрит». Ноги у него одеревенели от холода и неподвижности и плохо слушались, всё время съезжали с узкой тропинки в сугроб. — Где же они машину поставили? — удивился Белянчиков, оглядываясь вокруг. — Да, может, он и не приехал ещё, твой Белозеров, — сказал Корнилов. В управлении всем было известно, что Белянчиков с Белозеровым вместе учились в университете и были большими друзьями. — Наш Белозеров, — нажимая на «наш», ответил Белянчиков, — не мог не приехать, товарищ подполковник. А машину, наверное, где-нибудь в гараже поставили. Чтоб не маячила тут… В доме их заметили. Со скрипом открылась дверь, и на покосившемся крыльце появился в клубах морозного пара Белозеров — широкоплечий, краснолицый, с озабоченным лицом. Корнилов знал его несколько лет и привык всегда видеть с доброй улыбкой. «Уж не сбежал ли Санпан?» — подумал он. — Здравия желаю, товарищ подполковник! — Белозеров молодцевато подтянул начинающий уже расти живот. — Здравствуйте, Белозеров! Что тут у вас случилось? — спросил Игорь Васильевич, пожимая ему руку. — ЧП, товарищ подполковник. — Он раскрыл двери в дом, пропустил Корнилова и Белянчикова в сени. В сенях пахло кислой капустой, хлебом. У дверей в комнату стоял молодой парень в лейтенантской форме. — Участковый Рыскалов! — громко, волнуясь, отрапортовал он. Корнилов кивнул ему и прошёл в комнату к большому дощатому, чисто выскобленному столу. Отодвинул стул, сел на него и, сняв шапку, поискал глазами, куда бы её положить. Комната была просторная, оклеенная простенькими, в голубой цветочек, обоями. Кроме стола в углу стоял большой комод, божница над ним, старая ножная зингеровская машина под кружевной накидкой. На неё Игорь Васильевич и положил свою шапку. Белянчиков сел рядом, распахнув дублёнку. Белозеров остановился перед Корниловым, а участковый так и остался в дверях. — Ну что, капитан, — сказал Корнилов скучным голосом, — докладывай, какое у тебя ЧП. — Такая история, товарищ подполковник: в полутора километрах от Владычкина, — он на секунду замялся, — это где Санпан живёт… — Ну, ну… — заторопил его Корнилов. — …На тропке, что со станции ведёт, сегодня утром владычкинские бабы убитого нашли, — продолжал Белозеров. — Утром, ещё в потёмках, к поезду шли и наткнулись. Лыжник. Уже и снегом подзамело. За спиной у Корнилова кто-то кашлянул. «Кого это я тут не приметил ещё?» — подумал он, оборачиваясь. Рядом с окном, утонув в глубоком кресле, сидела старуха в чёрном платке и вязала, не обращая на них никакого внимания. «Что это я старуху не заметил? — подосадовал Корнилов. — Сыщиком называюсь!» Перехватив взгляд подполковника, Белозеров сказал: — Это хозяйка, товарищ подполковник. У неё участковый комнату снимает. Он ведь у нас совсем новый. Третий месяц как заступил… А старуха глухая, вы на неё внимания не обращайте. — Порядочки! — проворчал Корнилов и посмотрел на участкового. Тот густо покраснел и даже голову наклонил, как провинившийся школьник. «Ни на какой город он, оказывается, не смотрит, — решил Корнилов. — Новичок. Ещё успеет обзавестись собственным домом». — Садитесь, лейтенант. И вы, Александр Григорьевич, чего стоите? — Лейтенант там побывал. На месте происшествия, — доложил Белозеров, усаживаясь на стул. Стул заскрипел под его грузным телом. — Пусть он и рассказывает. — Давай, Рыскалов, — кивнул Белозеров участковому, — доложи всё, что видел! — Следователя из прокуратуры вызвали? — перебил Корнилов. — Он уже там. С двумя нашими сотрудниками, — ответил Белозеров. И добавил озабоченно: — Да и нам бы надо ехать. До Пехенца на «газике», а там пешком доберёмся… «Газик» сейчас вернуться должен. Сбиваясь и всё время краснея, начал рассказывать лейтенант. Корнилов сразу уловил, что участковый не такой уж беспомощный, каким показался с первого взгляда. У него были, судя по рассказу, внимательный взгляд и цепкая память. …Сегодня утром две женщины шли из Владычкина к поезду и наткнулись на занесённого снегом мужчину. Подумали сначала, что замёрз какой-то пьянчуга. Расстегнули на груди куртку и увидели пропитанный кровью свитер. Во Владычкино возвращаться женщины не стали, пошли в Пехенец. А там уже с почты разыскали по телефону участкового. Лейтенант позвонил в райотдел, а сам успел съездить к убитому, оставил дежурить около трупа дружинников. Корнилов слушал внимательно, не перебивая, только один раз нетерпеливо спросил: — Ну, а Санпан-то, Санпан? — Товарищ Корнилов, Санпан сейчас во Владычкине. Пьёт. Мы установили наблюдение. — Наблюдение — дело хорошее, — с сомнением сказал Корнилов. — Да только два года назад мы даже дом окружили — мыши не проскочить, а Санпан ушёл. — Он пьёт, товарищ подполковник, — вставил Белозеров, с каким-то особым значением нажимая на слово «пьёт». — С кем пьёт-то? — Один. — Ну ладно, — махнул рукой Корнилов. — Рассказывайте дальше… Что удалось установить? Чем убит? — Рана огнестрельная. «Ну вот, одно к одному! — забеспокоился Корнилов. — У Санпана должен быть пистолет». — Никаких документов у убитого не нашли, — продолжал участковый. — В нейлоновой куртке железнодорожный билет Ленинград — Мшинская, несколько автобусных и трамвайных билетов, сто тридцать рублей денег. А в небольшом вещмешке бутылка армянского коньяка, две банки шпрот, коробка конфет. — Странная поклажа, — сказал Корнилов. — В глухую деревню с бутылкой коньяка не всякий гость поедет… — Да, он не местный, товарищ подполковник. Интеллигентный человек… — Это вы по коньяку определили? — с ехидцей поинтересовался всё время молчавший Белянчиков. Лейтенант стушевался: — Нет, не только в коньяке дело… Лицо у него… Ну да не берусь объяснить. Может быть, мне так показалось. В это время на улице просигналила машина. Белозеров встрепенулся: — Наш «газик». Может, поедем, товарищ подполковник? — Поедем. — Корнилов встал. Взял со швейной машины шапку. — Только поедем во Владычкино. Санпана брать. Подробности обсудим в машине. А потом на место происшествия… — В лесу ждут, — нерешительно сказал капитан. — И Санпан ждёт? — раздражаясь, спросил Корнилов. — Вы что, думаете, нас по головке погладят, если он опять уйдёт? Да ещё что-нибудь натворит? Белянчиков нахлобучил Белозерову шапку и подтолкнул к дверям. Они молча вышли, провожаемые любопытным взглядом поднявшей голову от своего вязанья старухи. Молча сели в «газик». И только после того как Белозеров коротко бросил шофёру: «Во Владычкино», Корнилов спросил: — А чего это убитый по лесу шёл? Дорога-то на Владычкино есть? — Есть, товарищ подполковник, — ответил участковый. — Но она кругаля даёт, а по тропке ближе, прямее. — Значит, лыжник места знал? — Наверное, знал, — согласился участковый, — или спросил у кого на станции. Тропинка глухая. По ней из чужих редко кто ходит. Зимой снегом сильно заносит. Летом топко. Да и побаиваются… — Забоишься тут у вас… Следы какие-нибудь обнаружили у трупа? — За ночь снега намело — следов не разобрать, но показалось мне, что потоптались около трупа. Потоптались. Это точно. — Ты, Юрий Евгеньевич, вместе с лейтенантом возьми потом на себя станцию, — повернулся Корнилов к Белянчикову. — Вас как величать-то, лейтенант? — Василь Василич. — Вы, Василий Васильевич, с капитаном Белянчиковым поедете на станцию. Выясните, с какого поезда сошёл этот лыжник. Установите людей, приехавших тем же поездом… Народу ведь в будни, наверное, немного из Ленинграда приезжает… Впрочем, капитан у нас дока по этой части. С ним не пропадёте… — Корнилов подмигнул Белянчикову. Лейтенант слушал внимательно, всё время кивал. — Ты, Юрий Евгеньевич, позвони в Ленинград. Может, есть там что новое. Пусть обратят внимание на случаи с применением огнестрельного оружия. Передай все данные об автобусных билетах. Бугаеву передай, пусть выяснит, что за маршруты, примерное время… — Он помолчал, рассеянно глядя в примороженное оконце. Мелькали занесённые снегом, будто увязшие в сугробах ёлочки. Дорога то ныряла в лес, то выскакивала на поле. Низкие хмурые облака висели неподвижно, словно примёрзли к вершинам елей. «Сейчас бы остановить „газик“, — вздохнул Корнилов, — стать на лыжи да махнуть по этим полям и перелескам…» — Василий Васильевич, лыжник, значит, во Владычкино шёл? Или там ещё деревни есть? — спросил он, не отрываясь от окна. — Там, товарищ подполковник, деревень больше нет. Болота на много километров тянутся. Среди болот Вялье озеро. Местные иногда рыбалят, да редко. Так что эта тропка только во Владычкино. Ну ещё к леснику Зотову, — сказал он с некоторым сомнением. — Да, пожалуй, к егерю. Я ещё с ним не познакомился. И фамилию не запомню никак. — Значит, или во Владычкино, или к леснику, или к егерю? И точка? Участковый кивнул. — В деревне сколько дворов? — Шесть всего. — В какой же из шести шёл лыжник? Придётся взяться и за эти дома. После того как Санпана в Лугу отправим, — сказал Корнилов и подумал: «На место происшествия мне самому непременно надо съездить. Посмотреть, не упустили ли чего…» Минут десять они ехали молча. Наконец участковый сказал тихо: — До деревни километр остался… Не боле. — Притормозите, водитель, — попросил Корнилов, дотронувшись до плеча шофёра. «Газик» остановился. Рядом с дорогой шумел тёмный, припорошенный снегом еловый лес. Слышались заливистый собачий лай и далёкое тарахтенье трактора. — Лес трелюют, — прошептал участковый. — Проверьте оружие. — Корнилов внимательно посмотрел, как его спутники вынимали пистолеты. — Вы, Василий Васильевич, расскажите, в каком доме Полевой живёт. — Первая изба, как в деревню въедем. С правой стороны… Да там всего-то три избы по праву руку. В избе напротив наш сотрудник дежурит. — Кто с Полевым в доме живёт? — спросил Белянчиков. — Женка его, Главдя Сестеркина, и сынишка годовалый… — Вы сами-то из местных, лейтенант? — спросил Корнилов. Он уже несколько раз слышал, как лужане вместо Клавдии произносили Главдя. — Так точно, товарищ подполковник. Из Стругов Красных. В армии служил, а потом школа милиции. — Санпан, значит, зазнобу себе здесь нашёл. А сын его? — Его, товарищ подполковник. Только они ведь незарегистрированными живут. Корнилов усмехнулся: — Ну ещё бы! У Санпана небось и паспорта нет. «Королева» его дома сейчас? Участковый кивнул. — Сколько там выходов? — Два. Один через терраску, другой во двор. Там ворота открыть можно. Да ведь нынче в снегу утопнешь… — Белянчиков, ты берёшь на себя ворота. Вы, Александр Григорьевич, под окнами станете. И оперативник с вами, когда подойдёт. А мы с Василь Василичем в дом нагрянем. Правда, лейтенант? — Корнилов обернулся к участковому, положил ему руку на плечо. — Он ведь здешних мест хозяин. Ему положено. Участковый расплылся в улыбке. Чувствовалось, что емулестно идти с подполковником. — Не вспугнём мы Санпана? — засомневался Белозеров. — Подъедем прямо к дому, переполоху наделаем. — А мы без переполоху, — отрубил Корнилов. — Подъезжаем на скорости. Мы с участковым садимся ближе к дверцам — и быстро в дом… Если верить местной милиции, Полевой в загуле, гостей не ожидает. Но учтите, этот волк и во хмелю стреляет без промаха. — И, взглянув на участкового, на его сосредоточенное, отрешённое лицо, добавил: — Пальбы не открывать. В доме ребёнок. Крыльцо избы покосилось, доски подгнили. Казалось, топни покрепче — и развалится. «Как в доме участкового», — почему-то пришла Корнилову мысль, но он тут же забыл об этом и, нажимая на ручку, успев шепнуть участковому, чтобы тот оставался в дверях, подумал: «Ну вот, гражданин Полевой, и пришло время нам свидеться». В комнате за столом сидела женщина. Каштановые густые волосы её были распущены по плечам. Женщина повернула голову на лёгкий скрип двери, и Корнилов увидел, что лицо у неё горестное, заплаканное. Ни удивления, ни испуга при виде постороннего. Игорь Васильевич окинул быстрым взглядом большую неопрятную комнату, и сердце у него ёкнуло. Комната была пустой. — Гражданин Полевой здесь проживает? — спросил он, не спуская взгляда с грязноватой пёстренькой занавески на дверном проёме. По рассказу лейтенанта, там была кухня. Женщина непонимающе посмотрела на него, пожала плечами. — Где хозяин? — переспросил Корнилов. — Муж ваш где? — Муж-то? Бона разлёгся, — зло сказала женщина, кивнув куда-то за стол. Лицо её стало замкнутым, отчуждённым. Корнилов сделал шаг и тут только заметил, что за столом, у стенки, прямо на полу постелен матрас. На грязном одеяле, в одежде, в сапогах лежал человек. По чёрным как смоль волосам догадался, что это Санпан. Не вынимая руки из кармана, Корнилов подошёл к нему и тихо сказал: — Гражданин Полевой, здравствуй! Спящий не отзывался. Тогда он нагнулся и быстро сунул руку под подушку. Там было пусто. — Полевой! — взял Корнилов его за плечо. — Полевой! Проснись! Гости пришли. Мужчина с трудом повернулся на спину и открыл глаза. Если бы пятнадцать минут назад Корнилову сказали, что он увидит Санпана беспомощным, с дрожащими руками и бессмысленным выражением глаз, он бы ни за что этому не поверил. Жёстокий, смелый до отчаянности ворюга, сколько доставил он неприятных минут уголовному розыску! И в довершение всего убийство старика и побег с «малины», когда, казалось, ловушка уже захлопнулась. — Полевой, узнаёшь меня? — спросил подполковник, брезгливо рассматривая небритое, опухшее лицо Санпана. В ответ раздалось какое-то нечленораздельное бормотанье. Корнилов подозвал участкового, всё ещё стоявшего в дверях в напряжённой позе: — Обыщи, будь другом! В это время за занавеской заплакал ребёнок. Жалобно, с надрывом. Женщина медленно, нехотя встала и пошла к занавеске, но Корнилов осторожно придержал её за руку. Зашёл первым. Здесь и впрямь была маленькая кухня. Такая же неопрятная и грязная, как и вся изба. Только было теплей… Корнилов вышел на улицу, вдохнул полной грудью свежего морозного воздуха. — Игорь Васильевич, ну что? Нету? — тревожно крикнул из огорода Белянчиков. Он стоял там у поленницы дров, чуть не по пояс утонув в снегу. — Ты что там, Юрий Евгеньевич, делаешь? — притворно удивился подполковник. — Или потерял чего? — И засмеялся. — Поди в дом, полюбуйся на Санпана. За ним из вытрезвителя надо было присылать, а не уголовный розыск… Есть, оказывается, средство посильнее нас с тобой! Но когда участковый и Белозеров с трудом вывели из дома мычащего бессвязно Санпана, Корнилов, словно вспомнив что-то, крикнул: — Белозеров, ты на всякий случай наручники-то ему надень! Санпана усадили на заднее сиденье между Белозеровым и подошедшим из соседнего дома оперативником. — Участковый пусть останется со мной, — сказал Корнилов. — А ты, Юра, — обратился он к Белянчикову, — поезжай в Лугу, свяжись с управлением. Действуй, как договорились. Машина отъехала, поднимая лёгкую снежную пыль. Её тут же подхватил ветер, понёс вдоль стоящих у дороги сиротливых, промёрзших тополей. Начиналась вечерняя позёмка. — Ну что смотришь, лейтенант? — улыбнулся Корнилов, в упор разглядывая притихшего участкового. — Водка и не таких губила! Эх, да если бы только таких… — Он поднял воротник пальто, — мороз начинал-таки пробирать. — Только вот что, давай на пять минут зайдём к вашей Главде. Сестеркина сидела всё так же у стола, кормила ребёнка грудью. На их приход она не обратила никакого внимания. Не спросила ничего, не предложила сесть. Корнилов сел напротив, спросил тихо: — Клава, как отчество ваше? Она посмотрела на него равнодушно. Сказала: — Тихоновна. — Клавдия Тихоновна, вы нас извините за это вторжение, но квартирант ваш… — Он хотел сказать «сожитель», но просто не смог выговорить это слово. — Квартирант ваш — опасный преступник. — Надо было вам пораньше за ним приехать, — со злостью сказала Сестеркина. — Мои вещи хоть остались бы целы. Всё распродал, алкаш… — Клавдия Тихоновна, вам придётся ещё поговорить со следователем. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Так вы никуда из деревни не отлучайтесь. Кроме работы, конечно… Никуда за пределы не выезжайте. — Пускай другие за пределы выезжают, — равнодушно сказала женщина. — А у меня только два вопроса к вам. Оружие у Полевого вы видели? Где оно? — Это Сашка-то — Полевой? — На лице Сестеркиной впервые мелькнуло удивление. — А мне он Ивановым сказался… — Она помолчала немного, словно осознавая услышанное, потом сказала: — Финка вон на кухне лежит. На столе. Корнилов кивнул участковому. Тот встал, прошёл за занавеску и тут же вернулся с большим, изящно сделанным ножом с наборной ручкой. На тонком потемневшем лезвии был слой хлебной мякоти — так бывает, когда хлеб плохо пропечён. — Ну а пистолета у него вы не видели? — с мягкой настойчивостью продолжал выспрашивать Корнилов. — И пистолет был, да сплыл. Кузнецу из Пехенца за бутыль самогона отдал. Левашов, что ли, его фамилия, — со злорадным смешком ответила Клавдия. — Оформите протокол на изъятие оружия, лейтенант, — тихо сказал Корнилов. Участковый поспешно полез в карман за бумагой и авторучкой. — И ещё один вопрос, Клавдия Тихоновна: в последние дни он никого в гости не ждал? — Ждал. Все уши прожужжал: «Вот кореш приедет, тугрики привезёт. Одену тебя, Клавдия!» Как же, одел!.. — сорвалась было она на крик, но тут же взяла себя в руки и только всхлипнула несколько раз. Корнилов молчал, смотрел на неё выжидающе. Сестеркина поняла, что от неё ещё чего-то хотят, пожала плечами. — Как зовут, не сказывал. Говорил только — из Питера. Вчера встречать ходил. До трёх и не пил ничего… Корнилов встал. Надо было засветло побывать на месте происшествия. — Далеко? — спросил он, когда они вышли из дому. — Около двух километров, товарищ подполковник. — Участковый с сомнением посмотрел на ботинки Корнилова. — Да ведь снег, застынете. — Вы на мои ботинки не смотрите, лейтенант, они тёплые, финские. По большому блату доставал. Пройдя метров триста по дороге, они свернули в поле, на еле заметную стёжку тропинки, которая вела к тёмной кромке леса.2
Лишь поздно вечером попал Корнилов в маленький уютный номер лужской гостиницы. Белянчиков пошёл ночевать к своему старому приятелю Белозерову. Подполковника они не звали — знали, что шеф строго придерживается правила: у подчинённых никогда не ночевать и не столоваться. Корнилов расстелил постель, но не лёг. Сидел у стола, курил. Рассеянно глядел в окно, где в красновато-жёлтом свете уличных фонарей крутилась шальная снежная заверть. Дело, ради которого они примчались сюда из Ленинграда, закончено. Но этот убитый на лесной тропинке… Нет, Корнилов не мог себе позволить уехать, не организовав розыск убийцы. На вопрос Белянчикова, не думает ли он, что убийство — работа Полевого, Корнилов только руками развёл. С одной стороны, Санпан вчера, приблизительно в то же время, когда был убит лыжник, ходил встречать какого-то кореша. Но якобы не встретил. А может быть, встретил? И всадил этому корешу пулю? Ради чего? Ведь даже деньги не взял. Старые счёты? Поехал бы этот кореш в такую глушь на свидание с Санпаном, если бы между ними чёрная кошка пробежала? Белянчиков, настаивая на версии «Санпан», говорит, что, застрелив человека, Полевой не ограбил его только потому, что испугался. За лыжником кто-то шёл: Санпан мог услышать и убежать. Логично? Логично-то логично. Но мог ли Полевой предполагать, что в кармане у лыжника лежат сто тридцать рублей? Белянчиков твердил: — Санпан спился. Стопроцентный алкаш. Такой может и за рубль человека прикончить. Лишь бы на бутылку собрать. А может, всё-таки ухлопал знакомого? Счёты свёл? — Над этими версиями надо работать, — соглашался Корнилов. — Но только как над одними из многих. Не очень-то верится мне, что Полевой убил. И второй человек… Куда он делся? Проверка на станции показала, что с поезда, который прибыл на Мшинскую в пятнадцать часов, сошло человек двенадцать. Но только двое двинулись по тропе к лесу. Один на лыжах, другой пешком. Кто был этот второй? Местный? Приезжий? Кузнец Левашов из деревни Пехенец, у которого вечером провели обыск, заявил, что никакого пистолета у Иванова не покупал. И слыхом не слыхал о том, что у него есть оружие. Значит, пистолет у Полевого? Значит, он был вооружён, а только обманывал Сестеркину? «Дело довести до конца должен я, — решил наконец Корнилов. — Утром позвоню начальству, доложу обстановку. Попрошу разрешения остаться ещё на день. Вместе со следователем организую розыск». Он встал, закурил. Ему вдруг отчётливо представилось тупое, бессмысленное лицо Полевого. «Водка, она и из бандитов верёвочки вьёт». И тут же он подумал об убитом. Вот ещё одна трагедия!.. Нет человека. Кто он? Какие земные дела его остались невыполненными? За долгие годы работы в уголовном розыске Корнилов так и не привык воспринимать чужую смерть спокойно. Он научился лишь сдерживаться, не показывать окружающим, что каждый раз переживает её как личную трагедию. И он никогда не позволял себе даже думать о погибшем как о неудачнике. От сочувственно произнесённого слова «бедолага» Корнилова коробило. Он относился к смерти серьёзно. …Днём, когда они с участковым пришли из Владычкина к лесу, туда, где был убит лыжник, следователь прокуратуры уже закончил осмотр места происшествия, тело было отправлено в районную больницу. Лишь на опушке у большого костра сидели на поваленной ели двое мужчин, что-то жевали. Увидев Корнилова с участковым, они поднялись, подошли. — Товарищ подполковник? — спросил хрипловатым голосом один из них, крепыш в овчинном полушубке. — Он самый! — Старший оперуполномоченный Клюев, — отрапортовал крепыш. И кивнул на второго: — Оперуполномоченный Чернышов. Корнилов пожал им руки. — А следователь с экспертом уехали, — сказал, словно бы извиняясь, Клюев. — Просили передать, что стреляли из винтовки или карабина. Пулю извлекли. Сняли слепки следов. Каликов говорит: женские. — Он запнулся. — Каликов — это следователь, товарищ подполковник. — Понял, — мрачно сказал Корнилов. — Не густо. Участковый показал место, где лежал убитый. Вокруг было очень натоптано. — Что они тут, хороводы водили, что ли? — рассердился Корнилов. — Большие учёные они у вас. Он пошёл по тропе. Поискать, нет ли окурка, не зацепилась ли где за кусты нитка от одежды… В лесу было мрачновато — уже начинало темнеть. Корнилов прошёл с полкилометра, ничего не заметил и повернул назад, и, по мере того как приближался к опушке, им овладело неприятное состояние: казалось, вот сейчас он шагнёт из-под тёмных крон на свет — и раздастся выстрел. «Почему убийца не стрелял в лесу? — мелькнула у него мысль. — Ведь что, кажется, проще и удобней — стрелять в лесу?» — Василь Васильевич, — окликнул он участкового, шептавшегося с Клюевым. — Ты окрестности-то осматривал? — Осматривал, товарищ подполковник. — Вид у участкового был понурый, и Корнилов подумал о том, что лейтенант, наверное, переживает и за то, что убийство произошло на его участке, и за то, что раньше не знал ничего о Санпане, проживавшем у него под носом. «Похоже, что он и за следователя переживает». — Пойдём пройдёмся ещё разок там, где ты ходил, лейтенант. — Игорь Васильевич обнял его дружески за плечи. — Посмотрим, пока совсем не стемнело, что тут и как. Они двинулись по старому следу, глубоко проваливаясь, цепляясь за маленькие ёлочки. Круг получился довольно большой, но, как ни всматривался Корнилов, снег лежал девственный, нетронутый. Только в одном месте напетлял заяц. — Да, не видать тут никаких следов, — сказал он, когда они снова вышли на тропу и отряхивались. Участковый приободрился: — Товарищ подполковник, я вам точно говорю: в лесу и в поле следов нет, а у тропы, когда я утром пришёл, были. Не только женские. Мужские следы. Словно кто-то обошёл вокруг убитого пару раз. Их метелью запорошило, но я разглядел. — Хорошо, лейтенант. Это мы берём на заметку. А теперь веди нас к машине… Сейчас, припоминая все свои действия при осмотре места преступления, Корнилов никак не мог отделаться от такого чувства, будто упустил там, в лесу, что-то очень важное. В городе было проще: комната, квартира, улица — замкнутое пространство, которое надо было исследовать, изучить. А здесь лес, поле, открытое всем ветрам… «Специалист-то я, выходит, однобокий, — усмехнулся он. — Ярко выраженного городского типа… Как же эта болезнь называется — боязнь открытого пространства?..» Он сел за маленький столик, записал в блокноте: «1. Убитый??? 2. Попутчик. Опросить всех жителей Владычкина, лесника, егеря. 3. Полевой. Оружие?» Что ещё? Он вспомнил начинающий голубеть вечерний снег, маленькие густыеёелочки, утонувшие в нём, следы зайца и дописал: «4. Охотники». А ночью ему снились горы. Он стоял на кромке ледника, вглядываясь в голубеющие вершины, и пел.3
На следующий день Корнилов проснулся рано. Ещё не было и семи. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим, бодрым. «Вот что значит лес», — подумал он. Позвонил в горотдел, попросил дежурного вызвать к восьми Белозерова. В маленьком гостиничном буфете съел стакан сметаны, выпил бледного, чуть тёплого чаю с кусочком засохшего сыра — больше разжиться было нечем. Пошёл в горотдел пешком. На улице ещё не начало светать. На автобусных остановках стояли длинные очереди. Во многих домах топили печи, ветер прибивал дым к земле. Мороз жалил зло и колюче. Белозеров с Белянчиковым были уже на месте. Сидели нахохлившись — видно, ещё не совсем проснулись. Начальник лужского угро крутил ручку старенького радиоприёмника. — Капитан, а вы по утрам не бегаете трусцой? — спросил Корнилов, поздоровавшись. Белозеров отрицательно покачал головой. — А зря. Поэтому вы такой вялый. Рекомендую. Очень способствует. — Чему способствует? — не понял Белянчиков. — Жизнерадостности. — Да мы долго за шахматами сидели, — стал объяснять Белозеров, но Корнилов перебил его, спросив будничным, деловым тоном: — Где Полевой? — Здесь, в КПЗ. — Скажите, пусть приведут. …Привели Санпана. Щетина на щеках, всклокоченные волосы на голове, запёкшиеся губы делали его похожим на тяжелобольного. Корнилову показалось даже, что глаза у него ещё больше налились кровью. Однако сегодня в них можно было уловить искорку мысли. — Садись, Полевой, — сказал он Санпапу. Всегда и во всём скрупулезно соблюдавший порядок, Игорь Васильевич не мог пересилить себя и обратиться к Санпану на «вы». — Узнаёшь? Санпан сел и, повернув лицо к Корнилову, чуть-чуть оскалился. Словно хотел сказать: «Чего уж тут не узнать…» — Капитан, ведите протокол, — попросил Корнилов Белозерова. — Кого в последние дни в гости ждал? Санпан минуты три молчал, сжав руки коленками и медленно потирая ладонь о ладонь. На его лице с низеньким, похожим на гармошку лбом заходили все мышцы, словно он что-то с трудом пытался разжевать. Наконец выдавил: — Витьку Косого ждал. Срок у него закончился. Долю должен был привезти. Корнилов аж присвистнул: — Витьку Косого! Виктора Безбабичева, значит. Подвёл тебя Косой, подвёл! Как только в Ленинграде появился — за старое взялся. У нас он. Уже у нас. — А про себя подумал: «Косого-то спрашивал я про Санпана. Сказал — весточек не имею. Крепкий орешек. Придётся и с ним повозиться. И доля ещё какая-то». — Ладно, о Косом потом. Где твой пистолет? Санпан снова долго молчал, набычившись, шевеля губами. — Кузнецу из Пехенца отдал. За самогон. Левашову. — И, словно бы оправдываясь, добавил с тоской: — В загуле был, гражданин Корнилов. А хрустов нема. За литр отдал, сявка! — Когда это было? — Не помню уж. Месяца два назад. — Безбабичева ходил встречать? — Ещё чего, — проворчал Полевой. — Я ж не знал, в какой день он явится. — А твоя жена утверждает, что вчера в три часа ты ушёл встречать дружка… Полевой осклабился: — Да я так… Чтоб крик не подымала. В Пехенец ходил. Выпить с мужиками. — С кем? — С кем пил-то? — Санпан нахмурился. Лицо у него опять напряглось. — Да я… Зашёл к Левашову, а его не было. Жена у него дурная. Орать стала. В магазине взял бутылку «Солнцедара». А потом не помню. — Кто отпускал тебе вино? — Тоська рыжая. Да она там одна и торгует, гражданин начальник. — Дружки навещали? — Нет. Боялся, вас наведут… Корнилов усмехнулся: — Не договариваешь ты, Полевой! Санпан пожал плечами. — Про Безбабичева как узнал? Что у него срок закончился и деньги привезёт? Святой дух подсказал? Санпан вдруг поднял голову и пристально, не мигая, посмотрел на Корнилова. Куда только девалось его тупое безразличие и подавленность! Взгляд стал осмысленным, дикая злоба сверкнула в глазах. — Не шути, начальник, — сказал он с вызовом. — Ладно, Полевой, на сегодня достаточно. Мы ещё наговоримся. Санпана увели. — Капитан, — попросил Корнилов Белозерова, — пишите мотивированное постановление на обыск у Левашова и у Сестеркиной. Потом у прокурора утвердим. — Он посмотрел на часы. Было девять. — Сейчас позвоню Михаилу Ивановичу. Попрошу разрешения на день задержаться. Белозеров повеселел. На помощь подполковника он очень рассчитывал. «Что же мы имеем на сегодняшний день? — думал Корнилов, прохаживаясь по кабинету Белозерова в ожидании, пока тот принесёт данные судебно-медицинской экспертизы. — Санпан за решёткой… Может, он и совсем спился, да и такой не менее опасен. И вот за несколько часов до его ареста на опушке леса находят убитого человека. Ни имени, ни фамилии. Просто „убитый“. Говорят, не местный. Но кто же это отправляется в дорогу, не взяв с собой хотя бы удостоверения или пропуска? Без документов идёт в соседнюю деревню местный житель. Зачем они ему? А убитый не местный. …Коньяк… Может быть, в магазине ещё не продавали водку, и пришлось его купить. Коньяк-то продают чуть ли не круглосуточно. План делают! — Игорю Васильевичу надоело ходить, всё время задевая за мебель, — кабинетик у начальника угро города Луги был совсем крошечный, — и он сел на стул у окна. — Нет, лыжник специально покупал коньяк, поезд-то у него вышел из Ленинграда после одиннадцати! Если бы захотел, мог уже и водку купить. А местные вряд ли коньяк пьют. А может быть, случай особо торжественный? Когда водку и приносить неприлично?» Эта мысль понравилась Корнилову, и он сказал про себя: «Неплохо, товарищ подполковник, неплохо!» «…Деньги. Многовато при нём денег, многовато! В гости с такими деньгами не ездят. Может, долг отдавать шёл? Или, как Витька Косой, долю кому-то нёс?.. Предположим, охотники. Ну, конечно, проще всего представить случайный выстрел. Загон на лося. У кого-то есть карабин или винтовка. Может быть, даже с войны припрятана. Что ж, тоже версия. А что касается Санпана, то следователь всё досконально уточнит, это нелишне, но тут, сдаётся мне, не Санпановых рук дело». Пришёл Белозеров, принёс данные экспертизы. «Пулевая рана. Оружие нарезное, калибр 7,62. Прострелено лёгкое. Смерть наступила от большой потери крови приблизительно в 20–22 часа». «А стреляли в него не позже шестнадцати часов, — подумал Корнилов. — Поезд приходит на станцию в пятнадцать… Если на лыжах идти, до владычкинского поля не больше сорока — пятидесяти минут. Значит, несколько часов лыжник был ещё жив. И приди кто-нибудь на помощь — могли спасти. Если стреляли охотники, да издалека, раненого могли и не заметить. Прошли где-то стороной. А вот попутчик? Тот, что шёл вслед за лыжником по тропе от станции? Он-то должен был на него наткнуться? — Корнилов вздохнул. — Вопросы, вопросы!.. Надо поручить Белозерову провести следственный эксперимент: установить направление выстрелов. И выяснить, в порядке ли были лыжи. Ведь если шёл на исправных, то никакой пешеход его не догнал бы!» — Вот, может, поинтересуетесь! — Белозеров положил на стул перед ним несколько фотографий. Корнилова поразило выражение глаз на простоватом, тронутом тенью щетины лице убитого. Казалось, они продолжали жить и ждали ответа: кому это понадобилось стрелять в него, кому он помешал? Вздохнув, Корнилов сложил фотографии и передал капитану. — Вот что, Александр Григорьевич, — сказал он, помолчав, — вы сами-то что думаете по поводу убийства? Может быть, охотники? — Мы с Юрием Евгеньичем прикидывали эту версию. Случайный выстрел? Возможно! На лося, правда, охота уже закрыта, но браконьеры пошаливают. Может, и ходил кто-то с винтовкой, баловался. — Ну вот и проверьте всех охотников, с общественными инспекторами потолкуйте. — Игорь Васильевич говорил всё это не слишком уверенно, потому что его смущала одна деталь, никак не укладывавшаяся в вариант «охота»: попутчик. Не мог он пройти мимо убитого и не заметить его! Значит, заметил и скрылся. Ну, может быть, и не скрылся, да молчит. Почему? Чего испугался? А может быть, он не только попутчик?.. — Александр Григорьевич, лыжи какой марки? — неожиданно спросил он капитана. — У убитого, что ли? — Ну да. У кого же ещё?.. — У него лыжи очень хорошие, товарищ подполковник, гоночные. Финские. Марка «Карху». «Медведь», значит. — Хорошо смазаны? Белозеров только руками развёл: — Не поинтересовался, даже не подумал, что понадобится. — У вас есть опись вещей убитого? Белозеров протянул листок. Опись была составлена толково — точно и очень подробно. Корнилов обратил внимание, что среди денег была сторублевая бумажка. Такими деньгами только долг отдавать! Ведь в деревенском магазине могут и не разменять, если за покупками пойдёшь. В карманах убитого не обнаружили ни спичек, ни сигарет. Вообще, кроме носового платка и ключей, не было самых обыденных мелочей, которые, как правило, можно обнаружить в карманах у каждого. Так случается, если человек собрался в дорогу неожиданно. Схватил, что было под рукой, переоделся — и в путь. — Вот ещё что надо проверить, Александр Григорьевич, — не было ли вчера или позавчера во Владычкине выдающихся событий: свадеб, крестин, похорон. Похоже, что лыжник внезапно получил какое-то известие, собрался за пятнадцать минут, сунул в карман деньги, бутылку коньяка — и в путь… — Умереть — так никто не умер, — наморщив лоб, ответил Белозеров. — А насчёт рождений и свадеб — это я проверю… — Он усмехнулся: — Да жениться там некому. Одни старухи. «Чего он всё время лоб морщит? — подумал Корнилов. — И так старше своих лет выглядит. Надо будет ему как-нибудь сказать об этом. В шутку. Чтоб не обиделся». Белозеров позвонил на Мшинскую участковому Рыскалову. Оказалось, что никаких примечательных событий во Владычкине не произошло. Участковый по своей инициативе побеседовал со многими мшинскими охотниками и с председателем охотничьего общества: было похоже, что охотников в эти дни в лесу не видели. — Ладно, хватит штаны просиживать, — поднялся Корнилов. — Еду во Владычкино. Сколько там до егеря и лесника? — Километра три. Лыжи мы вам приготовили. Рыскалов ждёт на Мшинской.4
— Здесь Надежда Григорьевна Кашина живёт, — сказал участковый Корнилову, когда, приехав во Владычкино, они остановились у первого дома. — Древняя старуха. Может быть, с кого другого начнём? — Вот с древней и начнём. Кстати, почему все говорят: «у нас во мхах», «к нам во мхи»? Эта деревня ведь Владычкино называется? — Да как вам сказать, места такие — болота, мхи. И станция Мшинская. Мхи да мхи. Деревня выглядела пустынно. Лишь кое-где из труб вился еле заметный дымок. В морозном воздухе плавали едва уловимые запахи только что выпеченного хлеба. Откуда-то издалека, наверное со станции, ветер донёс гудок паровоза. «Какая тишина тут», — подумал Корнилов. Они поднялись на крылечко. Возле дверей стоял веник, и Корнилов обмёл снег с ботинок. Передал веник лейтенанту. Тот обметал валенки долго, старательно. Участковый постучал. — Не заперто! — крикнули в глубине дома. Голос был звонкий, и Корнилов решил, что кричит ребёнок. Натыкаясь друг на друга, они прошли через тёмные сени. В избе было тепло, кисловато пахло квашнёй. Корнилов ещё с порога заметил слабенький огонёк в розовой лампадке перед иконой. — Будьте добреньки, заходите! Навстречу им шла чистенькая старушка в тёмном платье и белом, синими горошинами платочке. — Какие мужички-то в гости ко мне пожаловали, — ласково сказала она. — Да никак один-то городской. Ай, да никак второй с погонами, военный! — Здравствуйте, Надежда Григорьевна, — поздоровался Корнилов и подумал: «А старушка-то общительная. Наверное, мно-о-ого знает. Если не ханжа». Ему иногда встречались старушки, которые ни о чём другом, кроме своих старых обид, говорить не могли. — Вон вы какие проворные, — удивилась старушка. — И как величать меня, знаете! Глаза у Надежды Григорьевны были добрые и какие-то, как показалось Корнилову, снисходительные. Словно бы она знала о твоих грехах и слабостях и заранее прощала тебя. Старуха показала им, где раздеться, и усадила на большую лавку около русской печки, а сама осталась стоять. Маленькая, сухонькая, она смотрела на гостей внимательно и заинтересованно. Оттого что она стояла, а они сидели перед ней, словно школьники перед учительницей, Корнилов почувствовал неловкость. — У нас разговор к вам, Надежда Григорьевна, — сказал он. — Посидим, поговорим… — Ты говори, милой, говори, — замахала рукой старушка. — Я стоя-от лучше разумею. Да и насиделась я в жизни, насиделась… — Да садитесь вы, садитесь, — с лёгким раздражением сказал участковый, но Игорь Васильевич неодобрительно посмотрел на него, и лейтенант замолчал. — Мы с Василием Васильевичем из милиции. Хотим кое о чём порасспросить вас. Надежда Григорьевна кивнула: — Василя-от я знаю. Со Струг он. Полины Рыскаловой сынок. Моей свояченицы. Лейтенант заёрзал на скамейке, хотел что-то сказать, но не сказал. — Самого-от я впервой вижу, но слыхала, слыхала, что он нонесь у нас в чинах. А ты, милой, отчего в пиджачке? Без погон-то? Агент? Она сказала с ударением на «а». Корнилов засмеялся и кивнул головой: — Агент, агент. Из розыска я, уголовников ищу. Надежда Григорьевна понимающе улыбнулась. — Насчёт Сашки Иванова небось? Ох и питух, не приведи господи. Всех у нас во мхах перезюзил. И Главдю испортил. Она хоть и сиделица, а девка была хорошая. Передовка в лесхозе. От тюрьмы да от сумы грех зарекаться… А этот зюзюкало и её к вину приохотил. Говорила Надежда Григорьевна забавно — будто ручей журчал. Всё время на одной ноте, без остановки. Приходилось постоянно вслушиваться, чтобы разобрать каждое её слово. — Возле Орельей Гривы парня-от он порешил? — вдруг спросила она. — Где, где? Надежда Григорьевна широко улыбнулась и, словно боясь обидеть гостей, прикрыла рот коричневой сухой ладонью. — Да у леса, милой, у леса. Мы так горку называем — Орелья Грива. — Она наконец села на табуретку и повторила: — Сашка убил-от? — Кто — мы не знаем. Не знаем даже, к кому шёл убитый, — ответил Корнилов. — Вы что же, Надежда Григорьевна, одна живёте? — Одна, товарищ хороший, не знаю, как зовут тебя. Одна. — Игорь Васильевич меня зовут. — Я уж десять лет как одна, — стала рассказывать старуха. — Сын-то с дочкой в городе. Хорошо устроились. В прошлом годе Верка, дочь-то наша, приезжала. Нарядная. Гостинцев мне навезла… — Надежда Григорьевна вздохнула, словно вспомнились ей дочкины гостинцы. — Да я и сама-то хорошо живу. Хо-ро-шо. Пенсию каждый месяц двадцать один рубль получаю. Да сын присылает. Когда пять рублей, когда боле. К Новому году десятку прислал… — А сын не приезжает? — Не. Скучно ему тут. Приятелей нет. И девок не осталось. Всё меня зовёт. В город-от. — Да, народу у вас во Владычкине совсем мало, — согласился Корнилов. — Заскучаешь. — Из молодых-от кто? — стала прикидывать старуха. — Главдя-сиделица? С зюзюкалой связалась. Имени-то его и слышать не хочу! Федотовы. Сестрицы. Да Вовка, Верки Федотовой сын. Так ему ещё и шашнадцати нет. За прогоном бабка Калерия. Она с печки не встаёт. Я ей поесть когда сготовлю, она и сыта неделю. А остальные навроде старой Кавалерии, — она хихикнула. — Это я так старуху зову. Шучу над старухой. Игорь Васильевич улыбнулся, подумал: «Какая же старая должна быть эта бабка Калерия, если Надежда Григорьевна по сравнению с ней себя молодой считает!» — Но родные-то, наверное, есть у каждого? Ездит кто из города? — спросил он. — Да ведь и Луга под боком. — В Луге-от есть наши. Пустили там корешки. Так они сюда носа не кажут. Городскими себя считают. И в Питере наши живут. Как же, там родня есть! Да ведь редко ездют. Уж рази что летом. Зимой-то не ездют. У бабки Калерии сынок инженер. И сам уж лет пять не является, да хоть бы к празднику пятёрку прислал матери. Тю-тю! Не то что мой. — А ведь у вас такие леса вокруг! — сказал Корнилов. — Грибов, ягод, наверное, тьма. И дичь! Охотники-то приезжают? — Не приезжают, милой. Разве что к егерю. А у нас во Владычкине Вовка Фёдотов один палит по воронам. Отцова берданка ему досталась, вот и палит. — Выходит, что не густо у вас с населением, — улыбнулся Корнилов. — И родственники про Владычкино позабыли. От станции далековато. Старуха помолчала. — Ну а егерь с лесником, наверное, бирюками живут? Попробуй-ка до них добраться? — А чего до них добираться? — удивилась старуха. — Не велик и крюк. Версты на две подале нас. Егерь-то с семейством живёт. С жёнкой. Трое у них — мал мала меньше. Болыпенький, правда, в школу бегает. — Она засмеялась, опять, как в начале разговора, прикрыв рукой рот. — Волков не пугается… Ильич, лесник-от, один проживает. Одинокий. Ни детей, ни жёнки. Хотя кто его знает… Не мшинский он, не нашенский, но мужчина добрый, обходительный. — Да ведь он здесь с незапамятных времён живёт, — вставил молчавший всё время участковый. — С запамятных, с запамятных. Давно живёт, да не наш. Не из Мхов, — строго сказала Надежда Григорьевна и, оборотясь снова к Корнилову, продолжала: — Он, Ильич-от, с пятьдесят шестого здесь. Аль на годок ране. Степан Трофимыч, старый лесник, умер, — Надежда Григорьевна перекрестилась. — Наш был братец. Ильич-то и приехал на его место. Надежда Григорьевна задумалась, рассеянно глядя в замёрзшее оконце. Корнилов не торопил её, ждал, когда сама заговорит. — Степан-от тоже одинокий был, — наконец заговорила старуха. — Уж такой одинокий! Никого ему, окромя леса, не надо. Вот охотник-то был. У меня подушки пером набиты — всё он, брат. Дичи настреливал! Ружьё у него большое, да-а-алеко стреляет. С подзорной трубой… Игорь Васильевич внимательно слушал Надежду Григорьевну, стараясь представить себе по её рассказу всех обитателей деревни, их возраст, интересы. Ведь к кому-то из них направлялся этот человек… И Санпан прожил здесь, во Владычкине, долгое время. Ходил, наверное, к кому-то в гости, говорил о жизни. Был на виду. В такой деревушке от людских глаз не скроешься… Участковый всё время ёрзал на лавке, поглядывал на часы. Корнилов чувствовал, что ему не терпится идти дальше, говорить с другими людьми, что-то предпринимать. Неторопливая беседа со старухой, похоже, раздражала лейтенанта. Ему хотелось действовать. И только когда старуха упомянула про ружьё, он замер вдруг, словно пойнтер, почувствовавший дичь. Перестал ёрзать и сидел совсем тихо, стараясь не упустить ни одного слова из разговора. Игорь Васильевич внутренне усмехнулся, искоса взглянув на лейтенанта. — А Ильич-то после него, после Стёпки, основался, — продолжала старуха. — Говорят все — одинокий, а мне одна баба сказывала: сын у него был. Только сызмальства поссорился с отцом. С войны. — И что ж, сын к леснику не ездит? — поинтересовался Корнилов. — Не ездит, батюшка, Да ведь и он про сына молчит. Одинокий, говорит, я. А баба-от, ну та, что про сына мне рассказывала, сама зайцовская. С-под Сиверской. Знает его. Чегой-то там у них вышло, а чего — не помню. — А где живёт эта женщина? — Зайцовская, говорю, она. Полиной зовут, а фамилии я не помню. — Тётя Надя, а к егерю да к леснику гости-то ездят? — хмуро спросил участковый. — Ходют люди, — сказала Надежда Григорьевна. — А гости или по делу — не скажу, откуда мне, старухе, знать. Вот что родственников у них нет, об этом я сказывала. У лесника-от гатчинский один часто бывает. Лесхозовское начальство. Тот ездит. Дружки, что ли. Форсистый такой. — Молодой или старый? — спросил Корнилов. — Помоложе, чем сам Ильич. Корнилов посмотрел вопросительно на участкового. — Леснику за шестьдесят, товарищ подполковник, — ответил тот. — А вы, Надежда Григорьевна, видели этого дружка? Как он одевается? — Что-то я и не скажу. Помню, плотный, форсистый, а как одет… Нет, не припомню. На голове вот малахай рыжий… — Чего? — Шапка, говорю, большая, мохнатая, рыжая-рыжая… Да что мы все гутарим да гутарим, — спохватилась она. — Давайте почаёвничаем. Я счас, быстро. — Старуха встала, пошла к печке. Корнилов тоже поднялся. — Нет, спасибо, хозяюшка. В другой раз чайку попьём. Вы нас не ругайте, что от дела оторвали. — Да какие у меня дела? — искренне изумилась старуха. — Поболтать — вот самое первое у меня дело. — Надежда Григорьевна, — спросил Игорь Васильевич, надевая пальто. — А ружье-то вашего брата, с подзорной трубой, оно кому досталось? — Ружье-то? — задумалась старуха. — Да никому не досталось. Никому. Стёпка-то, видать, или потерял его перед смертью, или продал. После смерти не нашли ружья. Сын-то мой, Славик, переискался. Думал, от дядьки в наследство останется. — А не могло это ружьё к зюзюкале попасть, к Клавдиному дружку? — Ах, к этому-то! — закивала Надежда Григорьевна. — Да ведь он у нас пришлый. А братец мой давно уж помер. — Она задумалась. — Рази что через Главдю… Неужели Стёпка её отцу ружьишко-то подарил? Они ведь тоже братья, только двоюродные. — А что, отец Клавы жив? — спросил Корнилов. — Помер. Года три как помер, — старуха перекрестилась. — Был бы жив, рази допустил к себе в дом эту чучелу? Уже в дверях он спросил старуху: — Надежда Григорьевна, вы не вспомнили, как лесникова дружка-то звать? Того, что из Гатчины ездит. — Так ты, миленький, и не спрашивал меня, как зовут-то. Всё про одёжу говорил. Мокригиным его зовут. В лесхозе он какая-то шишка. Корнилов вышел вслед за участковым на улицу и зажмурился от яркого света. — Закурим, что ли? — сказал он лейтенанту. — Так курить захотелось — спасу нет. — Он достал сигареты, протянул участковому. Тот начал было нерешительно: — Да я, товарищ подполковник… — но тут же потянулся к пачке. — Что? Ещё не научился? — усмехнулся Корнилов и отдёрнул пачку. — И не тянись. Не поддавайся, не давай слабины, а то мало ли ещё какой начальник приедет — пить научит… Участковый смутился и стоял, не зная, что сказать. — Счастливый ты человек, Василий, — сказал Корнилов, глубоко затягиваясь. — Если можешь, держись. Ну что, к кому теперь в гости? — И, улыбнувшись, подмигнул. Участковый тоже улыбнулся. Улыбка у него была добрая, чуть застенчивая. — Так пойдём к старику Байбикову, товарищ подполковник. Он не мене, чем старуха, знает… Корнилов засмеялся: — Ну что, Василий Васильевич, считаешь, что и древних старух бывает полезно послушать? А? Участковый смущённо развёл руками. Они тихонько пошли по дороге, махнув шофёру, начавшему заводить мотор, чтобы ждал. Накатанная санями дорога слегка поскрипывала под ногами. Воробьи трепали клочки сена, — видать, недавно перевозили с поля стога. Корнилов шёл и думал про винтовку, о которой рассказала Надежда Григорьевна, и о лесниковом друге, франтоватом, в мохнатой рыжей шапке. Убитый лыжник был тоже в рыжей шапке… — Товарищ подполковник, сюда, — дотронулся участковый до руки Корнилова. — Пришли. Они остановились у небольшого красивого дома, окрашенного яркой красно-коричневой краской, с белыми вычурными наличниками. К дому вела узенькая — двоим не разойтись — тропка. «И здесь не густо с населением», — подумал Корнилов и остановился, разглядывая старую лыжню, перечёркнувшую крест-накрест садик перед домом. В ярких лучах солнца лыжня проступала отчётливо и зримо, словно на фотобумаге, опущенной в проявитель. А ведь густой пушистый снег, валивший всю прошлую ночь, толстым слоем запорошил её. «Солнце низкое, тень даёт на малейшей неровности, — подумал Корнилов. — Старые следы всегда проступают в яркую солнечную погоду. А что, если на то место, где лыжника убили, посмотреть сверху? С вертолёта? Охватить взглядом всю поляну?..» — Товарищ подполковник… — Сейчас, лейтенант, сейчас! — Корнилов обернулся, взглянул из-под руки на солнце. Оно было предательски низко. Но стрелки часов ещё только приближались к двенадцати. — Василёк, когда нынче солнце заходит? Участковый растерянно пожал плечами. — Эх ты, голова садовая! — усмехнулся Корнилов. — В пять уже темки, товарищ подполковник, — сказал лейтенант. «А если с высоты не просто взглянуть, а провести аэрофотосъёмку? — думал Корнилов. — Все следы проступят. Ведь там, где след, снег уплотнённый. Надо с экспертом посоветоваться. Должны же быть следы, чёрт возьми!» — Знаешь что, Василий, — сказал он. — Ты иди один, а я поеду в Лугу… Надо мне туда срочно. — А как же розыск? — недоумённо посмотрел на Корнилова участковый. На лице его отразилось разочарование, словно у мальчишки, которого в самую решительную минуту покинул товарищ. — Ты и сам всё сделаешь в лучшем виде. Помни только о главном: у кого есть друзья, родные в Ленинграде? К кому могли бы приехать или приезжали в эти дни? И осторожно расспроси о том, кто бывает у егеря, у лесника. Но осторожно! Понял? — Корнилов на секунду задумался. — Поговори с ними о том, о сём. Не ждали ли кого. Ружьишко увидишь на стене — спроси, зарегистрировано ли. Нет ли ещё оружия. Будь с людьми попроще, не выспрашивай, а разговоры говори… И не торопись, а то потом больше времени потеряем. Вон одна только Надежда Григорьевна сколько полезных вещей нам с тобой наговорила! Участковый согласно кивал головой. Этот немолодой, хмуроватый подполковник всё больше и больше нравился ему, и лейтенанту было жалко, что Корнилов уезжает в Лугу, а не пойдёт вместе с ним по другим деревенским избам. — Машина, Василий Васильевич, за тобой часика через три вернётся.5
Всю дорогу от Владычкина до Луги Корнилову казалось, что машина еле двигается, и он уговаривал Углева поднажать. — Да вы что, Игорь Васильевич, не чувствуете, что юзом то и дело прём? Хотите быстро ездить — хлопочите у Набережных шипованную резину. (Майор Набережных был начальником хозяйственного управления.) Нормально никто ездить не хочет, — ворчал Углев. — Всегда горит, всегда пожар. А ты хоть пропади! — Углев вдруг обернулся к Корнилову и сказал: — А я, товарищ начальник, должен теперь себя беречь. Женюсь первого марта. — Поздравляю, — улыбнулся Корнилов. — Женишься, придётся тебя на продуктовую машину переводить. — Ну уж, — обиженно протянул шофер. — Рано ещё Сашу Углева в обоз списывать! — И дал такого газу, что Корнилов вцепился в поручень и сказал: — Хороший ты водитель, Саша, да с норовом. И поворчать любишь… Белозеров, увидев подполковника входящим в кабинет, вскочил, глядя на него во все глаза, и изумлённо сдвинул брови. — Вопросы потом, — сказал Корнилов, на ходу сбрасывая пальто и шапку. — Пошли машину во Владычкино за участковым. И срочно поручи кому-нибудь выяснить, есть ли у вас в Луге вертолёты или «кукурузники», приспособленные к аэрофотосъёмке. — К аэрофотосъёмке? — ещё больше удивляясь, переспросил Белозеров. — Давай, давай! И если есть, пусть попросят разрешения подняться и сфотографировать район Владычкина. А меня срочно соедините с Гатчиной, Финогеновым. А потом с Ленинградом. С нашим управлением. Сначала дали Гатчину. Когда Корнилов, переговорив с начальником уголовного розыска Гатчинского райотдела Финогеновым, положил телефонную трубку и с наслаждением закурил, вернулся капитан, выходивший распорядиться насчёт машины для участкового и вертолёта. — Товарищ подполковник, машину за участковым послал, про авиацию сейчас доложат. Заму поручил связаться… — Потом он сел напротив Корнилова и уставился на него. Всем своим видом он давал понять, что ему не терпится узнать, почему Корнилов так скоро вернулся из Владычкина и зачем ему понадобилась вдруг авиация. Но подполковник не торопился с новостями и только спросил: — Из управления не звонили? — Бугаев звонил. Просил сказать, что один автобусный билет — свежий, за тринадцатое января. С десятого маршрута. Они пытаются установить, не пропал ли где-нибудь в районе следования «десятки» человек… — Белозеров неодобрительно хмыкнул. — Ищут иголку в стоге сена!.. — Что ж, по-твоему, сложа руки сидеть? — недовольно произнёс Корнилов. — Может, ты новостями порадуешь? Белозеров поскучнел: — Ничего нового, товарищ подполковник. Санпан твердит одно и то же. Пистолет, говорит, продал кузнецу из Пехенца. — Не густо, — вздохнул Корнилов. — А про винтовку он ничего неговорил? Белозеров встрепенулся: — Про винтовку? Нет, ничего. А что, нашли? — Ничего не нашли, — махнул рукой Корнилов. — Просто одна старуха рассказывала, что много лет назад у старого лесника винтовку с оптическим прицелом видела. — Участковый там про эти винтовки всё вызнает, — успокаиваясь, сказал начальник уголовного розыска. — А вы чего же так рано вернулись, Игорь Васильевич? Случилось чего? Корнилов хотел ответить, но в это время как сумасшедший зазвонил телефон — дали управление. — Соедините меня с Васильчиковым из НТО, — попросил Корнилов у телефонистки. Васильчиков отозвался сразу же. Телефон почему-то всегда искажал до неузнаваемости голос эксперта, и трудно было отделаться от чувства, что с тобой разговаривает женщина с грудным контральто. В управлении смеялись над Васильчиковым: «Телефон обнажает твою истинную суть». А на самом деле голос у Васильчикова был низкий, с басовыми нотками, и в самом эксперте, крупном, чуточку неуклюжем, не было ничего женственного. — Марлен Александрович, срочно нуждаюсь в твоей консультации. — Это ты, сыщик? — спросил Васильчиков. Он всегда так звал Корнилова. — Мог бы и зайти. — Я из Луги, — сказал Корнилов. — Дело срочное, слушай внимательно. Можно ли с помощью фотоаппаратуры снять на снегу старые следы? — Что значит старые? — удивился Васильчиков. — Ну не очень старые… Вчерашняя лыжня. Потом был снег, и её замело, но ведь снег под лыжами уплотнился, понимаешь? Плотности-то разные! — Так-так-так, — неожиданно быстро пропел Васильчиков. Корнилов искоса взглянул на Белозерова. Тот, видать, всё понял и, весь подавшись к телефону, с напряжением ждал окончания разговора. — Вы же восстанавливаете выбитые на машине, а потом спиленные номера по принципу изменения структуры металла, разной его плотности. И здесь так же, — сказал Корнилов. — Разная структура снега. — Так же, так же! — недовольно проворчал Васильчиков. — Ты же не повезёшь ко мне в лабораторию свой прошлогодний снег со следами. А я, естественно, не повезу к тебе свою стационарную аппаратуру. — А что, нет какого-нибудь простого способа? — с надеждой спросил Корнилов и заговорил настойчиво и увлечённо: — Ты понимаешь, Марлен, этот старый след я и так увижу. Если смотреть против низкого солнца, он всегда проступает слабой тенью, но мне его сфотографировать надо. Понимаешь? Сфотографировать! — Чего-то интересное говоришь, — отозвался Васильчиков. — Но пока не соображу… Таких экспериментов мы ещё не проводили. В космическом масштабе. — Эх, ты! — подосадовал Корнилов. — Тугодум. Попробую без тебя обойтись. — Попробуй обойтись без меня, но с поляризационным фильтром, — сказал Васильчиков. Корнилов положил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. Уже докладывал Финогенов из Гатчины: Григорий Иванович Мокригин, главный бухгалтер лесхоза, жив-здоров. В данный момент у себя на работе. Одинок. Живёт на Пролетарской улице. — А что ещё интересует? — спросил Финогенов. — Жив-здоров, значит? — переспросил Корнилов. — Это, собственно, и хотел узнать… — Он помедлил в раздумье и увидел, как дверь кабинета растворилась и вошёл Селуянов, заместитель Белозерова. Заметив, что подполковник разговаривает по телефону, Селуянов на цыпочках прошёл через кабинет, сел рядом с Белозеровым и что-то зашептал ему на ухо. «Договорился он с авиацией или нет?» — с тревогой подумал Корнилов и сказал Финогенову: — Ну всё. Спасибо. — Положив трубку, Корнилов обернулся к Селуянову: — Как авиация? — Всё в порядке, товарищ подполковник, прогревают моторы, — сказал тот, широко улыбаясь. — Насилу отыскали с аппаратурой. У землеустроителей. «Кукурузник». А вертолётов нет. — Летим, летим, — весело пробормотал Игорь Васильевич и схватился за пальто. Белозеров тоже вскочил со стула, с удовлетворением потирая руки. Глаза его блестели. — Это вы здорово про самолёт! — гудел он. — Я опытный лыжник! Не раз замечал, что старая лыжня сквозь порошу темнеет. Если против солнышка глядеть. А ближе к весне, чуть солнышко пригреет, все старые лыжни проступят, словно паутиной снег затянули. — Давай, «опытный лыжник», поворачивайся! — поторопил его Корнилов. — Не то солнышко тю-тю. И лыжня тю-тю! Они радовались, как дети; перебрасывались шуточками, пока одевались. Селуянов смотрел на них с недоумением. Он не слышал разговора Корнилова с экспертом и никак не мог понять, зачем подполковнику понадобился вдруг самолёт. — Витя, оставайся в отделе за старшего, — сказал Белозеров Селуянову, который так ничего и не понял. — Распоряжайся тут. Мы скоро. На заснеженном поле стояли в ряд зелёные АН-2 с большими баками по бортам. Один, без баков, какой-то франтоватый, может, из-за того, что окраска у него была не густо-зелёная, а блекло-голубая, расположился поодаль. Пропеллер у него бешено крутился, вздымая облако искрящихся на солнце снежинок. Корнилов вылез из машины. За ним, покряхтывая, выбрался Белозеров. Из небольшого вагончика, в каких обычно живут строители, только полосатого, спустился по лесенке мужчина и неспешно пошёл им навстречу. Видно, заметил машину из окошка. Подойдя, спросил: — Вы из милиции? — Из милиции, из милиции, — нетерпеливо проговорил Белозеров, постукивая ботинком о ботинок. — Скоро полетим? Мужчина улыбнулся: — Сейчас и полетим. Мотор, как видите, уже запущен. — Он протянул руку: — Разрешите представиться. Главный инженер землеустроительной экспедиции Спиридонов Иван Степанович. Лицо у Спиридонова, широкоскулое, с редкими волосинками на подбородке, было покрыто красноватым деревенским загаром. А глаза-щёлочки из-под сильно прищуренных век смотрели с такой весёлой хитрецой, что Корнилову вдруг захотелось подмигнуть инженеру. — Погоня? — спросил Спиридонов, когда они пошли к самолёту. И, не дождавшись ответа, спросил снова: — А зачем съёмочная аппаратура? — Нам следы сфотографировать нужно, — ответил Корнилов. — Следы на снегу. — Где снег, там и след, — многозначительно усмехнулся Спиридонов. — Аппаратура у нас, правда, для других целей… Но попробуем. — Товарищ Спиридонов, а поляризационный фильтр у вас есть? — А как же, найдётся. — А снимать вы будете? — с сомнением спросил Белозеров. — Мы будем снимать, — спокойно ответил Спиридонов. — Какие ещё вопросы? — И опять так хитро сощурился, что Корнилов чуть не рассмеялся. — Далеко лететь-то? — поинтересовался главный инженер. Он шёл не торопясь, то и дело оглядываясь то на Корнилова, то на Белозерова, будто хотел их получше рассмотреть и запомнить. — Да недалеко. На Мшинскую. Только поскорей, поскорей. Какие, к лешему, в потёмках следы, если промешкаем? — И-и, на Мшинскую! — разочарованно протянул Спиридонов. — Я думал, куда подальше. В салоне самолёта молоденький механик что-то оживлённо обсуждал с пилотом, тоже молодым, с небольшой чёрной бородкой и усами. — Ераксин, всё готово? — крикнул Спиридонов. — Всё в ажуре, — механик поднял руку. — Ладно, Игорь, вернёшься, обсудим, — сказал он пилоту и, с интересом оглядев пассажиров, важно прошествовал к дверям. — На Мшинскую, борода! — крикнул Спиридонов пилоту. — Там съёмку делать будем. Белозеров достал из кармана помятую карту и стал было раскладывать, но пилот вытащил из планшета свою, большую. Сунул ему карандаш, спросил: — Найдёте? — Найду! — буркнул тот и, отыскав Владычкино, обвёл на карте небольшой кружок. Через несколько минут самолёт резко дёрнулся, помчался по полю, жёстко подскочив на ухабах, оторвался от земли и, слегка покачиваясь, пошёл над домами. Корнилов с интересом смотрел в иллюминатор. Тень от самолёта всё время бежала впереди, словно лоцман, указывающий путь. — Нам лёту минут десять, — сказал Спиридонов, чего-то подкручивая в своей аппаратуре. — Вы места-то хорошо знаете? — Знаем места, — весело ответил Белозеров, тоже прилипший к иллюминатору. И вдруг пропел красивым, сочным баритоном:6
Около семи вечера вся группа собралась в кабинете начальника угро. Корнилов разложил на столе ещё чуточку сыроватые фотографии. Спиридонов, видать, специально передержал их в проявителе, и снимки получились очень контрастные. Следователь прокуратуры, ведущий дело, сидел напротив Корнилова, пытаясь придать лицу безучастное выражение. Но это у него плохо получалось. Подполковник краешком глаза видел, как время от времени Каликов исподтишка разглядывал его и бросал любопытные взгляды на фотографии, пока непонятные ему. «Неопытный ещё парень, — подумал Корнилов, — со своими, лужскими, знает, как себя держать, а тут ленинградское начальство пожаловало. Хоть и чужое, а начальство». Участковый примостился на стуле у батареи, всё время грел руки, наверное, промёрз, пока ходил к егерю и к леснику. — Давайте начнём, — сказал Корнилов. — Обменяемся новой информацией. Только коротко. У вас нет возражений, товарищ Каликов? — обернулся он к следователю. Тот кивнул головой. — Юрий Евгеньевич, начни ты! Белянчиков вытащил из нагрудного кармашка крошечный кусочек бумаги и положил перед собой. — Я ещё раз осмотрел убитого, его одежду. Убитый, по-видимому, художник. Мне показались странными его ногти — как будто цветная грязь под ними… В лаборатории исследовали, говорят: краска. Гуашь. А в кармане я нашёл вот это… — Белянчиков вытянул из кармана целлофановый пакетик, в котором лежал маленький красный осколок, похожий на осколок школьного мелка, только потоньше. Участковый поднялся со своего стула, пытаясь через голову Юрия Евгеньевича разглядеть, что там он выложил на стол. — Василь Василич, — сказал Корнилов, — подгребай к столу, а то шею свернёшь. Рыскалов покраснел и, неловко громыхнув стулом, пересел к столу. Следователь тоже смотрел на пакет, уже не скрывая любопытства. — Эта сангина, — невозмутимо продолжал Белянчиков. — Кроме как у художников, её вряд ли у кого найдёшь. Я тут проконсультировался с одним здешним живописцем… Это сангина французская. Очень хорошего качества. У нас только через Худфонд её распределяют. — Он сделал паузу и сказал сердито: — Если бы огрызок сангины нашли вчера утром, мы сегодня уже знали бы имя убитого. Корнилов посмотрел на Белозерова. У того уши сделались пунцовыми, а следователь заёрзал на стуле. — Я передал в управление, чтобы выяснили в Союзе художников, у кого могла быть французская сангина… Звонил ещё раз Бугаев. Сообщил, что по номеру билета определили не только маршрут, но и приблизительное место, где художник садился в автобус. Это на Петроградской. Между улицами Попова и Введенской. Да, и вот ещё что: крепление на одной из лыж сломано. Скорее всего, что часть дороги лыжи на этом художнике ехали, а не он на них… У меня всё, — закончил Белянчиков и, насупившись, уставился на следователя своими немигающими глазами. — Есть вопросы к капитану? — спросил Корнилов. Все молчали, и только участковый поднял было, как школьник, руку и тут же отдёрнул. Видно, хотел что-то спросить, да застеснялся. — Что дал дополнительный опрос на станции? — нарушил тишину Белозеров. — Ничего нового. С пятнадцатичасового поезда в сторону Владычкина пошли двое. Один с лыжами, другой без. Дежурный по станции говорит, что мог бы опознать человека, шедшего без лыж. Установить людей, которые приехали этой же электричкой, пока не удалось. — Очень важно, что дежурный сможет опознать пассажира, — сказал Корнилов. — Некого только предъявить ему на опознание… — невесело ответил Белянчиков. — Скажите, а вы оформили процессуально найденные вещественные доказательства? — поинтересовался следователь. Корнилов видел, как заиграли на скулах у Белянчикова желваки, и почувствовал, что запахло порохом. — Ну а как же, товарищ Каликов, — сказал он примирительно. — Об этом даже и говорить не стоит… Белянчиков, усмехнувшись, глянул на Корнилова и покачал головой. — Василий Васильевич, а что дал ваш поход? Участковый хотел встать, но Корнилов остановил его: — Сидите, сидите. — Товарищ подполковник, егерь Вадим Аркадьич утверждает, что у лесника наверняка винтовка есть, — торопясь, начал участковый. — На Николу он лося свалил… — Ты давай поточней, — сердито сказал Белозеров, — числа называй. А то «на Николу»! — Девятнадцатого декабря, — поправился участковый. — Только егерь сам винтовку не видел, а нашёл лося. Уже освежёванного. По ране определил — из винтовки стреляли. И жёнка егерева подтверждает — она рану видела. Все засмеялись. — Ну раз жёнка видела, тогда дело в шляпе, — сказал Белянчиков. — А почему он думает, что это лесникова работа? — Следы, товарищ капитан. К самому кордону. Лесниковы, говорит, широкие лыжи. — Акт составил? — строго спросил следователь. — Не составил, — тихо сказал участковый, будто сам и был виноват в том, что акт не составлен. — Пожалел он его. По-соседски, видать. Следователь, недовольно покрутив головой, легонько стукнул ладонью по столу. Получилось это у него немного картинно, наигранно. Он и сам, видать, почувствовал это, смутился. — Ты у лесника был? — тревожась, спросил Корнилов. — Был, товарищ подполковник. Только он, наверное, выехатчи. Запертый дом. Одна собака в сенях воет. — Интересно, интересно, — глубокомысленно произнёс Белозеров и посмотрел на подполковника. — Молодец, участковый, — похвалил Корнилов и спросил у Белозерова: — У вас, Александр Григорьевич, по версии «Санпан» есть что-нибудь новенькое? — Есть, Игорь Васильевич, — ответил начальник уголовного розыска. — Наши только что произвели ещё один обыск у кузнеца Левашова. Жена показала, где у него спрятан пистолет. В бочке с капустой держал, товарищ подполковник. Закатал в полиэтилен. Придётся дело заводить! — Экспертизу уже провели, — сказал следователь. — Из пистолета очень давно не стреляли. Моё мнение: версия «Санпан» отпадает. Многие люди подтвердили, что в день убийства Полевой был в Пехенце, напился до бесчувствия и на попутке отвезён домой… — Что касается охотников, — продолжал Белозеров, — то и эта версия отпадает. По оперативным данным, за последнюю неделю не было в том районе охотников. И местные мужики на охоту не выходили… Корнилов слушал Белозерова и невольно сравнивал его с Белянчиковым. Вместе учились, наверное, одногодки, а как небо и земля. Юрий Евгеньевич подтянутый, сосредоточенный, в чёрных волосах ни одного седого волоска. Вот только угрюмоват. А Белозеров располнел, голова совсем седая… Говорит — руками машет, словно мельница. Да и следы неряшливости заметны. Нет, что ни говори, работа в большом, слаженном аппарате заставляет человека следить за собой, подтягивает. Хотя работник Александр Григорьевич и хороший, но уж какой-то очень домашний. А может быть, это и неплохо, что не сухарь? Когда Корнилов, раздав каждому из присутствующих по фотографии, сделанной Спиридоновым, рассказал о своих предположениях, в кабинете стало совсем тихо. — Неужели заметённая снегом лыжня так хорошо видна? — удивился следователь Каликов, первым нарушив молчание. — Не так уж и хорошо, — сказал Корнилов. — Но разглядеть можно. — Да, похоже, что к леснику один след ведёт, — со вздохом произнёс участковый. — Значит, ой. А ведь все говорят, хороший мужик. Я вот беседовал… — Да, это уже кое-что значит! — прервал его Корнилов. — Версия, пожалуй, самая перспективная. Завтра утром надо пойти по следу и провести следственный эксперимент на месте убийства. И взять разрешение на обыск и задержание лесника. Если он появится. Ну, это уже ваше дело. Справитесь теперь без нас. А мы с Юрием Евгеньевичем поедем в Ленинград. — Он посмотрел на Белянчикова. Тот оживился: — Конечно, поедем. Ехали-то на день, а сидим вторые сутки! Несмотря на настойчивые уговоры Белозерова, Корнилов отказался даже поужинать. — Нет, нет, не уговаривай, — сказал он начальнику розыска, когда они спускались по лестнице к выходу, — я устал, спать хочу. А ужинать и вам, капитан, не советую. Будете стройным, как кедр ливанский… — А я думал, вы дождётесь результатов, — уныло пробормотал Белозеров. — Сами не маленькие, — усмехнулся Корнилов. — Дело-то сделано! Чего же нам тут торчать? Мне шеф до утра срок дал. — И вдруг неожиданно вспылил: — Хватит! Ты что же, считаешь, что мы двужильные? — Он перевёл дыхание и сказал уже тихо, с укором: — Ты меня спроси, сколько вечеров за последние два месяца я дома провёл? Да не больше десяти… — Корнилов хотел ещё сказать, что книги ему приходится читать по ночам, но сдержался. «Белозеров-то тут при чём? — подумал он. — Сам небось минуты свободной не имеет». Белозеров шёл за Корниловым понурый, лицо у него было расстроенное. «Чего это разошёлся шеф, — думал Белянчиков, — нервы сдавать стали, что ли?» Таким раздражённым он видел Корнилова редко. Они уже вышли на улицу, к машине, когда Белозеров робко попросил: — Вы, может быть, участкового подбросите до Мшинской? Электричка не скоро… — Пусть едет! — махнул рукой Корнилов. Он с Белянчиковым сел на заднее сиденье, посадив участкового рядом с Углевым. Белянчиков сразу как-то съёжился в своём углу, поднял воротник дублёнки и через несколько минут стал похрапывать. А Корнилов и хотел заснуть, да никак не мог. Его всегда одолевало такое чувство, что стоит ему закрыть в машине глаза, задремать, как сразу что-нибудь случится, произойдёт авария, катастрофа. И как бы он ни хотел спать, пересилить себя и заснуть никак не мог. «Зря я распалился, — пожалел он. — Обидится Белозеров теперь!» Им овладела вдруг апатия, безразличие ко всему на свете — и к тому, чем он занимался здесь, в Луге, двое суток, и к лыжне, которую он отыскал. «Ну и что? Очередное дело, — думал он. — Сколько их было! И сколько будет. А всё одно и то же, одно и то же. Мельтешишься, суетишься, а годы идут, и на свете столько всего интересного, но не для тебя. Всё мимо, мимо. Грубеть я стал, явно грубеть. Вбили себе в голову, что стараемся дни и ночи для людей, а ведь и сами мы люди. Себя забываем, для себя не стараемся. А для кого мы старались эти двое суток? Для кого? Для убитого художника, которого даже, как звать, не знаем? Ему ведь уже всё равно». Потом Корнилов вспомнил о том, что ему предстоит ещё неприятное дело — писать отзыв на одну диссертацию. Диссертация слабая. Повторение старых прописных истин. Чего стоит хотя бы эта врезавшаяся в память фраза: «Совершая преступление, преступник во многих случаях старается согласовать свои действия с конкретной обстановкой». Да ведь это каждому известно ещё со студенческой скамьи! Зачем же толочь воду в ступе, ради чего выдавать банальность за открытие? Ради прибавки в жалованье? За такие диссертации надо бы лишать права заниматься научной работой! Но шеф просил поддержать. Он официальный оппонент, неудобно устраивать погром. Придётся писать уклончиво, хитрить. — Товарищ подполковник, — вдруг тихо сказал участковый, нарушив его невесёлые мысли. — А почему вы так поспешили уехать из Владычкина? После разговора со старухой Кашиной? Корнилов вздохнул, ему не хотелось ничего вспоминать, вообще не хотелось говорить, но в голосе участкового была такая искренняя заинтересованность, что он не смог промолчать. — Она, лейтенант, про лесникова дружка говорила, помнишь? Видный, говорит, мужчина, в большой рыжей шапке. Я и вспомнил — убитый тоже был в большой шапке. Фигуристый… Решил позвонить, проверить… — Понятно, — сказал участковый. — А нас в школе учили, что надо всё последовательно делать. Проверять все версии. — Правильно вас учили. Только надо ещё вовремя за самую перспективную ухватиться. А то увязнешь в этих версиях, как в сугробе… А тебя одного я решил оставить, когда заметил на снегу против солнца старую лыжню. Попытаю, подумал, счастья. И видишь — повезло. Да ты, лейтенант, и без меня прекрасно справился. Про карабин — бесценные сведения. Тебе в уголовный розыск надо переходить. — Ну уж! — смущённо пробормотал участковый и спохватился: — Надо бы остановиться. Мне выходить. Тут только Корнилов заметил, что они, проскочив центр Мшинской, едут уже по окраине. — Ты чего же не сказал, что приехали? — удивился он. — Саша, давай развернёмся, подбросим лейтенанта до центра. — Да что вы, что вы! — запротестовал участковый. — Мне тут десять минут. До свидания, товарищи! Корнилов протянул ему руку: — Будь здоров, Василий! Научись ещё со старухами говорить, буду в угрозыск рекомендовать. — Чего таким сосункам в розыске делать? — проворчал Углев, когда они тронулись дальше. — Пускай тут самогонщиц гоняет. Корнилов усмехнулся, но промолчал. Ему лень было разговаривать, объяснять. Хотелось ехать, ехать бесконечно, смотреть по сторонам на заснеженный лес, на редкие, плохо освещённые деревеньки и не думать ни о чём.7
На следующий день утром, просматривая у себя в кабинете оперативную сводку происшествий за день, Корнилов подумал о том, что же скажет лесник, когда к нему нагрянут Каликов с Белозеровым. Сам ли он стрелял или кто-то пришлый, какой-нибудь гость или охотник, вышел с кордона, чтобы всадить пулю в лыжника? Значит, ждали того человека. С трёхчасового поезда ждали. Всё время звонил телефон. «Два дня не посидел в управлении — сразу всем понадобился!» Из гороно напоминали, что через пять дней его доклад перед директорами школ о профилактике преступности. Девушка из общества «Знание» просила выступить с лекцией на заводе имени Ломоносова. Позвонил Белянчиков. Доложил, что находится в Худфонде, пытается узнать, кто мог купить через магазин Худфонда французскую сангину. — Ты очень-то не надейся, — сказал ему Корнилов. — Если у них такое же снабжение, как и везде, то дефицитные краски и сангину скорее всего у спекулянтов достают. Потом позвонил Грановский, главный режиссёр театра «Балтика». Просил завтра прийти на репетицию. Он ставил пьесу «Полночный вызов» по роману Сорокина «Бармен из „Астории“». Пьеса об уголовном розыске, и Корнилова пригласили консультантом. Да какое там пригласили! Грановский просил начальника управления порекомендовать опытного сотрудника, и Владимир Степанович назвал Корнилова. — Дружочек, — позвонил Игорю Васильевичу месяца полтора тому назад режиссёр, — вы назначены ко мне консультантом. Репетиции начнутся через неделю. Будьте добреньки полистать пьесу… Игорь Васильевич слегка опешил от такого напора и от «дружочка», но сказал твёрдо: — Увы, Андрей Илларионович, пьесу полистать не смогу, уголовные дела листаю. Кого-нибудь другого поищите. И рад бы в рай… — Ну-ну, — только и произнёс Грановский и повесил трубку. «А в общем-то было бы интересно побывать на репетициях, познакомиться с театральной кухней, — с некоторым даже сожалением подумал Корнилов. — Но время, время…» Однако прошло не больше пяти минут, и загудел прямой телефон начальника управления. — Товарищ подполковник, — сказал Владимир Степанович, — вы что же меня подводите? Я вас любителем Мельпомены представил, а вы известному режиссёру от ворот поворот? — Товарищ генерал, со временем туго… — начал было Корнилов, но Владимир Степанович перебил его: — У нас в управлении бездельников нет, со временем у всех туго. Беритесь за дело. Я давно хочу с театрами дружбу завести. Пусть побольше спектаклей про милицию ставят. Корнилов ещё не успел положить телефонную трубку, как зазвонил городской телефон. Снова Грановский. — Так я напоминаю, Игорь Васильевич, первая репетиция через неделю. В двенадцать. Куда адресовать вам пьесу? — Пришлите в управление. Грановский оказался на редкость приятным человеком: молодым — ему было не больше сорока, — красивым, чуть располневшим блондином. Корнилов обратил внимание на очень мягкие, немного женственные черты лица режиссёра. Могло даже показаться, что Грановский слишком мягок, безволен. Но его глаза время от времени поблёскивали из-под больших очков холодными голубыми льдинками так пронзительно, что наблюдательный человек сразу отбрасывал всякие мысли о безвольности режиссёра. И в то же время он был мягким, обходительным… …Переговорив с режиссёром и пообещав обязательно побывать на репетиции, Корнилов пригласил Бугаева. — Как с поисками, Семён? — спросил он старшего инспектора. — Ты райотдельцев привлёк? — Конечно. Они и сегодня ищут. Я, как узнал, что убитый скорее всего художник, позвонил им. Сказал, чтобы в первую очередь за художников взялись. Вчера-то я не знал этого! — сказал он недовольно. — В два счёта бы нашли. Теперь взяли в Союзе художников адреса проживающих в районе. Да ведь, может, он не член союза! — Хвастун, — усмехнулся Корнилов. — Давай держи связь с райотделом. Варя, техсекретарь Корнилова, приоткрыла дверь, сказала чуть раздражённо: — Опять этот Гусельников звонит. Требует приёма. Корнилов вздохнул. Гусельников осаждал его уже месяц. Сначала прислал длинное и вежливое письмо. Чувствовалось, что у автора дрожат руки — буквы были большие и волнистые. Гусельников жаловался на то, что уже два года, как уголовный розыск установил у него в квартире, в настольной лампе, подслушивающее устройство и следит за каждым его словом. «Нельзя преследовать человека всю жизнь, — писал Гусельников. — Я уже давно стал честным человеком. Три года назад сотрудники стадиона имени Сергея Мироновича Кирова с почётом проводили меня на пенсию. Подарили телевизор и оставили постоянный пропуск на стадион. И вот теперь я снова на подозрении. Почему? Стыдно травить старого, больного и ныне беспредельно честного человека». Заканчивалось письмо просьбой убрать магнитофон из квартиры. «Что за бред? — подумал Корнилов. — Какой магнитофон, какая слежка? Этот Гусельников явный псих!» Он повертел письмо в руках, не зная, что с ним делать, а потом написал на нём: «В архив». Но Гусельников продолжал писать. Начальнику управления, в горком партии, в Министерство внутренних дел. И все письма стекались к Корнилову. Он попросил сотрудников райотдела навести справки о К. Гусельникове. Оказалось, что он действительно болен. Несколько лет страдает психическим расстройством. Мания преследования. А двадцать лет тому назад был приговорён к десяти годам заключения за крупные взятки — он работал в отделе учёта и распределения жилплощади. Отсидел он семь лет и все последние годы проработал сторожем на стадионе… И вот теперь просится на приём… Что ему сказать? Как объяснить ему, что никакие магнитофоны уголовный розыск никому не подключает? Как разговаривать с больным? Не принимать? Но он опять будет писать во все концы. — Ну так что ему сказать? — спросила Варя. — Пусть приходит! — решился Корнилов. — Позвони, чтобы пропустили ко мне. Варя удивлённо посмотрела на своего начальника и хотела уже закрыть дверь, но Корнилов остановил её: — Нет, Варя, он больной человек, ещё заблудится в наших коридорах. Сходи-ка за ним сама… — И-и-и-горь Васильевич, — недоумённо протянула Варя. — Иди-иди! Через десять минут Гусельников сидел в кресле перед Корниловым и быстро-быстро моргал длинными белесыми ресницами. Он был высок, тощ, как дистрофик, и вся кожа у него — на лице и на руках — пестрела от крупных рыжих веснушек. Корнилов ожидал увидеть дёргающегося психа с шалыми глазами, готового забиться в падучей, но Гусельников смотрел на него осмысленно и спокойно, и походил он скорее на старого доктора, чем на больного. — Я вас слушаю, — сказал Корнилов. Гусельников поёрзал в кресле, наморщил и без того морщинистый лоб и, весь подавшись к Корнилову, сказал тихо, просительно: — Уберите магнитофон, товарищ начальник, перед вами как на духу — расквитался я сполна за грехи. Честно живу на свою кровную пенсию… — Он хотел что-то ещё сказать, но в это время дверь отворилась и снова вошёл Семён Бугаев. — Разрешите, Игорь Васильевич? — он подошёл к столу. — Что-нибудь срочное у тебя? — спросил Корнилов. Бугаев пожал плечами: — Мне Варя сказала зайти к вам. Корнилов усмехнулся. «Варюха, видать, решила, что с сумасшедшими надо разговаривать вдвоём». Сказал Бугаеву: — Садись, поговорим вместе. — И, обернувшись к Гусельникову, отрекомендовал: — Это наш работник — старший уполномоченный Бугаев. Я думаю, он нам поможет… Бугаев удивлённо поднял брови. — Товарищ Гусельников пришёл к нам с жалобой на действия уголовного розыска. Обижается, что мы до сих пор следим за ним… Вмонтировали в настольную лампу магнитофон. — Подполковник в упор смотрел на Бугаева. Лицо у Корнилова было серьёзное, и только глаза смеялись. — Товарищ Гусельников много лет назад совершил преступление, но стал честным человеком, сейчас на пенсии… — Истинно так, — кивнул головой Гусельников, — доживаю свой век честно и праведно. Любим сослуживцами. Бывшими сослуживцами. — Н-н-да, — произнёс нерешительно Бугаев и стал медленно потирать подбородок. — Н-н-да, — повторил он, глядя то на Корнилова, то на Гусельникова. — Поймите, — Гусельников придвинулся вместе с креслом к сидящему напротив Бугаеву, — поймите, молодой человек. — Он положил свои длинные веснушчатые ладони на колени старшему инспектору угрозыска. — Расходовать магнитофонную ленту на мои старческие разговоры с такими же никчемными стариками, как я, — непозволительная роскошь для уголовки… Игорь Васильевич улыбнулся, видя растерянность Бугаева. А про Гусельникова подумал: «Интеллигент, интеллигент, а прошлое ещё напоминает о себе — вот как он про нас: „уголовка“». — Я пришёл к выводу, товарищ Бугаев, — сказал Корнилов, — что наблюдение за Корнеем Корнеевичем Гусельниковым надо полностью прекратить. Полностью и навсегда, — повторил он с нажимом. Бугаев сидел с каменным лицом. — Семён, ты пойдёшь сейчас с товарищем Гусельниковым и заберёшь передающее устройство. У тебя есть ко мне вопросы? Бугаев вдруг усмехнулся и отрицательно покачал головой. По тому, как блеснули его глаза, Корнилов догадался, что Бугаев наконец всё понял… — Товарищ начальник, — сказал Гусельников радостно. — Товарищ начальник… Я так благодарен, что вы мне поверили. Я старый, по гроб жизни честный человек… — Корней Корнеич, — Корнилов встал, — не будем терять время. Садитесь в машину вместе с сотрудником и поезжайте. — И, обернувшись к Бугаеву, сказал: — Семён, одна нога там, другая здесь. Ты мне будешь нужен. — Товарищ Корнилов! — двигаясь к дверям, причитал Гусельников с умилением. — Какой человек, какой человек! Как только они ушли, Корнилов вызвал секретаршу. — Варвара Григорьевна, — начал он строго, — это вы прислали ко мне Бугаева? Варвара покраснела: — Игорь Васильевич, сумасшедший же… Мало ли что! — Старик ведь, — уже мягче сказал Корнилов. — Всё равно, — упрямо сказала Варвара. — Вон в Москве сумасшедший с ножичком ходит… — Эх ты, Варвара, в уголовном розыске работаешь, а слухами пользуешься! Варвара вдруг засмеялась: — Приходится, товарищ начальник. Вы ведь всё секреты секретничаете. Корнилов махнул рукой: — Тебя переубеждать — себе дороже. А Семёна ты, Варя, подвела. Дал я ему ответственное заданьице — шизофреника Гусельникова излечить. Варвара недоумённо уставилась на Корнилова. — Редкий случай — человек свихнулся на почве своих старых преступлений. Мания преследования. «А что? — подумал Корнилов, когда Варя ушла. — Вдруг этот псих поверит нам и вылечится? И перестанет писать свои дурацкие письма!»8
И в машине Гусельников продолжал бубнить себе под нос, какой чуткий человек товарищ Корнилов. Жил он на Петроградской, и, когда ехали по Кировскому, Бугаев вспомнил, что как раз вчера исходил в этом районе все улицы, расспрашивал в ЖЭКах, не пропал ли за последние дни кто-нибудь из жильцов. — Корней Корнеич, так вы в каком доме живёте? — спросил он заинтересованно, обернувшись к Гусельникову. — Профессора Попова, дом тридцать восемь. Я уже докладывал вам, — ответил старик и, неожиданно хихикнув, погрозил Бугаеву пальцем: — А вы все хитрые ребята в угро! Шустрики. — Да, да, говорили, — пробормотал Бугаев, — это я так, засмотрелся по сторонам, забыл. Бугаев вспомнил: он был в этом доме. Разговаривал в ЖЭКе с паспортисткой. С дворником. Колоритный такой дворник — огромного роста, с большой бородой. Бугаев ещё подумал: «Наверное, до революции были такие дворники. Сидели у ворот с свистками и помогали жандармам выслеживать революционеров…» Машина остановилась у большого грязно-серого дома. «Да был же я здесь, точно», — подумал Бугаев, вылезая из «Волги». — Товарищ Бугаев, нам во вторую парадную, — тронул его за руку старик. Они пошли через маленький садик. Дорожка была хорошо расчищена, посыпана песком, и Бугаев снова вспомнил про дворника. — Наш дворник ужасный человек, — сказал неожиданно Гусельников, будто подслушал мысли Бугаева. — Всегда за всеми наблюдает. Вон и сейчас борода в окошке торчит! — Бугаев и правда увидел в окне первого этажа наблюдавшего за ними дворника. — Он ведь, наверное, у вас служит? — спросил Гусельников. «Этому маньяку уже ничто не поможет», — подумал Бугаев, начиная злиться, и спросил: — Народ тут у вас хороший живёт? — Народ разный, — хитро сощурился Гусельников, открывая перед Семёном двери парадной. — Всё больше хитрецы да соглядатаи. Но есть и душевные люди. На втором этаже Гусельников показал на дверь, обитую чёрной клеенкой: — Вот здесь живёт, например, хороший человек. Мой сосед. — Он достал из кармана связку ключей и с тревогой посмотрел на Бугаева. Лицо у него напряглось, он нерешительно оглянулся, словно потерял что… — Что, пришли? — спросил Бугаев. — Да, но видите ли… — Да открывайте вы свою квартиру, я отвернусь! — Бугаев понял, что старик не хочет показать ему свои секреты. Гусельников долго возился с дверью, гремя ключами и рассказывая: — Сосед мой — хороший человек, только совсем неопытный. Простуха. Я ему рассказываю, что меня подслушивают, а он смеётся: «Не те сейчас времена, Корней Корнеич!» А при чём тут времена? Это всегда было и будет… — Он наконец открыл дверь и первый вошёл в квартиру. Зажёг свет. На Бугаева пахнуло затхлостью. — Разоблачайтесь, товарищ! Шапочку вот сюда, пальто на вешалочку. Не очень-то тепло вас в угро одевают. Не балуют. А если под окном где-нибудь простоять ночь придётся? Замёрзнете ведь. — Он так и сыпал, так и сыпал словами. Так медленно и значительно говорил в кабинете у Корнилова, а тут словно прорвало. Они прошли в большую комнату, обставленную очень скромно, и Бугаев сразу же увидел эту злополучную настольную лампу, с большим зелёнымабажуром, какие нет-нет да ещё встречаются в некоторых богом забытых учреждениях. Сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, Бугаев подошёл к ней. Гусельников перестал болтать и молча следил за Семеном. — У вас есть запасная лампочка и патрон? Старик кивнул. — Принесите. И какую-нибудь коробочку. Я их увезу… Гусельников принёс лампочку и маленькую картонную коробку из-под шалфея. — Только давайте договоримся твёрдо, — сказал Бугаев. — Никому ни слова! Секрет! — А сам подумал: «Всё равно болтать будет. Понесёт уголовный розыск моральные издержки. Лучше взял бы да выбросил эту лампу, чем жалобы писать!» — Мой сосед приходил, крутил лампу. «Ничего нет», — говорит. Да что он понимает, неопытный в этих делах. А художник хороший, — болтал Гусельников. — Художник? — задумчиво спросил Бугаев. — Он сейчас дома? — Уехал. Наверное, на этюды за город. — Когда уехал? — перебил старика Бугаев. — Да недавно… — Ну вот что, — Бугаев быстро вывинтил лампочку с патроном, положил в коробку, коробку сунул в карман. — Ну вот что, товарищ Гусельников, аппаратуру я снял, заберу с собой. Живите спокойно. А сейчас поговорим… — Он сел на стул, напряжённо глядя на старика. — Художнику сколько лет? Гусельников испуганно таращил глаза. — Да садитесь вы, Корней Корнеич. Это очень важно. Гусельников сел. Лицо его напряглось. А губы расплылись в какой-то совершенно неестественной улыбке. «Да он ведь действительно псих, — испугался Бугаев. — Как бы не было приступа!» — Художник молодой, — выдавил наконец Гусельников. — Тельманом зовут. — Молодой? — переспросил Бугаев. — Да не то чтоб уж очень, — замялся старик. — Года сорок два — сорок три… — Когда вы его в последний раз видели? Гусельников пошептал немного, загнул три пальца и улыбнулся: — Дня три назад. «Совпадает, — подумал Бугаев. — Уж не тот ли самый?» — И сказал: — А время, время! В какое время он уехал? — Да как вам сказать, — задумался старик. — Я ещё не пообедал. Я в столовке обедаю. Тут рядом, через три дома. Погано кормят, но дешёво. — Он снова задумался. — Ну вот, туда я и собирался. Вышел из дому. А впереди Тельман с лыжами. В спортивной куртке. «Ну и ну, — волнуясь, слушал Бугаев. — Не было бы счастья…» — И тут же остановил себя. — Ну и что? — Что значит «ну и что»? — рассердился старик. — Это ведь вы меня расспрашиваете. Значит, вам интересно. Всё ещё психом меня считаете? Бугаев вздрогнул. Его охватило неприятное чувство оттого, что Гусельников опять будто читал его мысли. — Ради бога, простите. Но то, что вы рассказали, так меня ошеломило… Этот ваш художник очень похож на одного человека… Он заблудился в лесу и замёрз. То, что старик разозлился на его дурацкое «ну и что», навело Бугаева на мысль, что Гусельников не такой уж сумасшедший. «Ну бывает же у человека бзик!» — Неужели вы думаете?.. — испуганно спросил Гусельников. — А тут его кто-то искал целый день. Какой-то дикий дед. — Да нет, всё ещё неясно. Это какое-то совпадение, — сказал Бугаев. — Мы проверим. Да, может быть, он уже дома, ваш Тельман. Вы сегодня к нему не заходили? — И правда! — оживился старик. — Не заходил. Надо заглянуть. — Он вскочил со стула, но тут же в нерешительности остановился и с сомнением поглядел на Бугаева. «Боится меня одного оставить», — подумал Бугаев и тоже встал. — Как фамилия вашего знакомого? — Тельмана? Алексеев Тельман Николаевич, — сказал Гусельников и вдруг громко рассмеялся: — Как хорошо! Впервые я могу у себя дома говорить свободно. Эх вы! Столько лет следили за стариком. Всё думали, что я про денежки проговорюсь? Как бы не так! Нету денежек. Тю-тю! — И он снова рассмеялся. Ехидным, дребезжащим смехом. «Ох и жук же ты, Корней!» — мелькнула у Бугаева мысль. — Зайдёмте к художнику! — А чай? — круто переходя от ехидства к умильности, сказал старик. — Я хотел напоить вас чайком с малиновым вареньицем. Я хоть и бедный пенсионер, но вареньице всегда имею… — В следующий раз, Корней Корнеич, — остановил его Бугаев. — Пошли к художнику. Они долго звонили у дверей — никто не отзывался. — Наверное, загостился, — сказал Бугаев и распрощался с Гусельниковым. Внизу он заглянул в почтовый ящик четырнадцатой квартиры. Было видно, что уже несколько дней оттуда не вынимали газеты. Выйдя из дома, Бугаев помчался в домоуправление. Управдом, худенький старичок в морской шинели и фуражке, видать из отставников, запирал дверь своего кабинета. Вид у него был встревоженный. — Вы ко мне? — спросил он Бугаева и, не дожидаясь ответа, сказал: — Позже, позже. Я очень занят. — Мне на два слова, — попросил Бугаев и вытащил из кармана служебное удостоверение. — Я из уголовного розыска. — Что? — искренне удивился старичок. — Вы уже здесь? Я ведь только что трубку повесил… Это вы товарищ Сазонкин? Сазонкин был старшим инспектором уголовного розыска районного управления. «Запахло жареным», — подумал Бугаев и сказал: — Я капитан Бугаев. Так получилось, что мы не сговорились… Старик посмотрел на него подозрительно и теперь уже сам протянул руку за удостоверением. Прочитал его внимательно, сверил фотокарточку с оригиналом и только тогда вернул. — Товарищ Сазонкин просил взять понятых и ждать его у четырнадцатой квартиры. Вы тоже по поводу Тельмана Николаевича Алексеева? Бугаев кивнул: — Да, я хотел кое-что уточнить. Он ведь художник? По дороге управдом позвал за собой молоденькую паспортистку. Они поднялись на второй этаж, туда, где Бугаев только что расстался с Гусельниковым. Управдом с сомнением посмотрел на дверь его квартиры и тихо сказал: — Этого в понятые брать нельзя. Убогий. — Он покрутил пальцем у виска и вздохнул. — Подождём. Сейчас должен товарищ Сазонкин прибыть. Бугаев хотел было порасспросить управдома, но в это время хлопнула дверь парадной, послышались энергичные шаги, и на лестнице показался Сазонкин. Он совсем не удивился, увидев Бугаева, деловито поздоровался со всеми за руку и спросил управдома: — Алексей Алексеевич, а слесарь? — Должен в тринадцать ноль-ноль прибыть, — сказал управдом и посмотрел на часы. — Ещё две минуты… «Морская косточка, — подумал Бугаев. — Симпатяга дед». И действительно, внизу снова хлопнула дверь. Пришёл молоденький паренёк с чемоданчиком. Удивлённо посмотрел на целую толпу собравшихся перед дверьми квартиры. Спросил: — Чего делать-то, Алексей Алексеевич? — Что товарищ скажет, — кивнул управдом на Сазонкина.9
Когда Корнилов, вызванный звонком Бугаева, приехал на Петроградскую, дверь в квартиру художника была уже открыта. Подполковника встретил сотрудник районного управления внутренних дел Сазонкин, провёл в комнату. На огромной тахте восседали старик и молодая женщина, а Бугаев стоял у маленького письменного стола и листал какой-то толстый альбом. Первое, что бросилось в глаза Корнилову в этой огромной светлой комнате, — большое неоконченное полотно на мольберте. Как раз напротив дверей. Безбрежная белая равнина, сливающаяся на горизонте с белесым холодным небом. Слева два утонувших в сугробах домика, кусты сирени с прихваченными морозом зелёными листочками и небольшой дубок поодаль, ярко-жёлтый, словно вызов холодам и метели. А среди снегов — крошечная фигурка человека, уходящего вдаль, к горизонту, по ещё не обозначенной художником дороге. От картины веяло холодом. — Товарищ подполковник, смотрите, — Бугаев протянул Корнилову две фотографии — ту, что была сделана с мёртвого лыжника, и другую, видимо найденную в альбоме. Но подполковник и так всё понял: на стене среди других картин висел, наверно, автопортрет художника. Корнилов сразу узнал в изображённом на нём человеке убитого лыжника. Узнал по чуть утолщённому переносью и косой морщинке, перечеркнувшей лоб, будто глубокий шрам. Художник смотрел пристально, с вызовом. На втором плане, за его спиной, в хрустальной вазе стояло несколько веток спелой рябины. Картина была яркая, какая-то торжественная, насыщенных тонов. Широкие, рельефные мазки. — Значит, правильно предположил Юрий Евгеньевич. Убитый — художник? Бугаев кивнул: — Тельман Алексеев! Странное имя, да? — Странное. А как нашли адрес? — Да вот так совпало, товарищ подполковник, — развёл руками Бугаев. — Я ведь сюда, в квартиру напротив, привёз вашего психа. — Корнилов посмотрел на Бугаева сердито, тот осёкся и оглянулся на прислушивающихся к разговору понятых. — Гусельников стал рассказывать про соседа-художника. А я же вчера весь этот район перепахал. Автобусный билетик-то! Ну вот и поинтересовался. Пошёл искать управдома, а он уже из районного управления гостей ждёт. Встретились с товарищем Сазонкиным у дверей. Сазонкин кивнул: — Мы, товарищ подполковник, получив задание, выяснили в союзе адреса всех художников, проживающих в нашем районе. Стали обзванивать. К тем, у кого телефона нет, просили домоуправов заглянуть. А я с Алексеем Алексеевичем Талызиным разговаривал, просил справиться, дома ли художник Алексеев. Подтянутый старик, сидевший на диване, слушал внимательно, кивал головой. — Он позвонил в квартиру, в почтовый ящик заглянул — почту несколько дней не вынимали… Я и решил проверить. — Молодчина, майор, — сказал Игорь Васильевич. — Позвоню Рудакову, попрошу, чтоб отметил вас. (Рудаков был начальником райуправления.) Корнилов снова подошёл к неоконченному зимнему пейзажу, остановился перед ним, и ему невольно вспомнились заснеженные поля и тёмный, холодный лес вокруг одинокой деревеньки Владычкино. И представилось, что маленькая фигурка, затерявшаяся в белой замети, это и есть сам художник, идущий навстречу выстрелу. «Куда же шёл этот Тельман? К кому? Нет, не случайно оказался он около Орельей Гривы… Кстати, какое красивое название: Орелья Грива! Орлы, кони. Почему эта маленькая горка так называется? Эх, не в этом дело!» Корнилов вздохнул и полез в карман за сигаретами. Но их там не оказалось. Наверное, второпях забыл в кабинете. — Зачем понадобилось леснику стрелять в художника? — сказал он тихо. — Вы уверены, что убийца — лесник Зотов? — спросил Бугаев, продолжая внимательно рассматривать бумаги, вынутые из письменного стола. — Я не исключаю, что убийца — лесник. — Корнилов посмотрел на часы. Было без пятнадцати пять. — Думаю, что скоро мы будем всё знать точно. Лесник ли стрелял или кто-то посторонний. Посторонний, но скорее всего известный Зотову. Ведь, судя по лыжне, не мог убийца миновать кордон лесника. Ладно, подождём! Белозеров, наверное, уже закончил свои поиски… Он отошёл от мольберта и стал внимательно рассматривать картины, развешанные на стене. В основном это были деревенские пейзажи, несколько женских портретов. Портреты не понравились Корнилову — они оставляли впечатление какой-то застылости, статичности. У всех людей были неживые, белесые глаза. А пейзажи радовали. Светлые, лиричные. «У них и краски будто бы горячие». Ему показалось: приложи ладонь — ощутишь тепло нагретых солнцем трав, бревенчатых домиков. Одна из стен этой большой комнаты, служившей, очевидно, и мастерской и жилищем художника, была увешана иконами, старинными прялками, потрескавшимися изразцами с причудливыми рисунками. Бугаев закончил разбирать бумаги в столе. — Не густо, товарищ подполковник. — Он протянул Корнилову диплом об окончании института имени Репина, маленькую книжечку Союза художников. На фотографии Алексеев был совсем молодым, с длинной чёлкой — совсем не похож на того, что глядел с портрета. — А документы, письма? Бугаев покачал головой: — Сейчас возьмусь за шкаф. Небольшой, красного дерева, старинный книжный шкаф с бронзовыми завитушками стоял в углу рядом с диваном. — Он что же, один жил? — спросил Корнилов у Сазонкина. Тот посмотрел на управдома и сказал: — Алексей Алексеевич, вы-то уж, наверное, знаете… — Что, что? — растерянно переспросил старик, поднимаясь с дивана. Он, видать, задумался и не расслышал вопроса. — У Алексеева есть семья? Жена, дети? — Да, есть. Жена. — Управдом посмотрел на Корнилова виновато. — Я не помню её имени. Она у него переводчица, сейчас за границей. Мне Тельман Николаевич рассказывал. В Финляндию уехала. А детей у них нет. Живут вдвоём. — Надо ведь сообщить жене? — нерешительно произнес Сазонкин. — Надо, — вздохнув, ответил Корнилов. — Возьмите это на себя. Узнайте, где она работает, переговорите с руководством. Вы с товарищем Сазонкиным продолжайте осмотр, — обратился он к Бугаеву. — Оформите протокол, а я поехал. Узнаю, как дела у Белозерова. — Он попрощался с понятыми, тихо сидевшими на диване, и пошёл было уже к дверям, но вернулся: — Семён, если найдёшь письма или документы какие, сразу звони.10
Когда Корнилов вернулся в управление, секретарша, перечислив всех, кто звонил или заходил во время его отсутствия, добавила: — Лужский начальник розыска раза четыре уже трезвонил. Просил, как вы вернётесь, чтобы я сразу его вызвала. — Белозеров? Варвара кивнула. — Так вызвать? Или обойдётся на сегодня? — Срочно, Варя! Корнилов едва успел снять пальто, как секретарша, приоткрыв дверь, доложила: — Белозеров! — Товарищ подполковник, капитан Белозеров докладывает. — Слышно было прекрасно, будто звонили с соседней улицы. — Операция, можно сказать, закончена! — Так закончилась всё-таки или нет? — Полная ясность, товарищ подполковник. — Подождите, — перебил его Игорь Васильевич, — я включу магнитофон. Докладывайте всё по порядку. Белозеров недовольно крякнул. Не так давно в управлении завели порядок: наиболее важные телефонные разговоры записывать на магнитофонную ленту, чтобы потом можно было проанализировать, детально обсудить сообщение. — Давай, капитан, рассказывай, — сказал Корнилов и с интересом подумал: «Подтвердилась моя догадка или нет?» — Ваше предположение по поводу лесника Зотова оказалось верным. Сейчас у следствия есть все доказательства. — Он чуть-чуть помедлил. — Начну по порядку. Мы со следователем Каликовым восстановили позу убитого на тропинке… — Я тебя перебью, Александр Григорьевич, лесник признался? — Это как посмотреть, — сказал Белозеров. — Порешил он себя, Игорь Васильевич. Мы его из петли холодного вынули. — Ещё того не легче, — пробормотал Корнилов, а сам подумал: «Зачем же ему художника убивать-то понадобилось, если сам в петлю полез? А может быть, его как свидетеля устранили?» — Чудно получается… Нелогично. Оружие-то у него нашли? — Нашли, товарищ подполковник. Миноискатель помог. В бревне прятал. Трофейный карабин. Экспертиза подтверждает — из него лыжника убили. — Но откуда такая уверенность, что именно лесник стрелял? Может быть, карабин подбросили? А с ними с обоими расправились? — Товарищ подполковник, — с обидой сказал Белозеров. — Да ведь всё сходится. По следу мы прошли, как вы и советовали. След хоть и петляет по лесу, но ведёт на кордон. А в лесу участки незаметённые есть. Следок как новый. От лесниковых лыж. Егерь ещё раз подтвердил, что у старика была винтовка. Да и самоубийство само за себя говорит — никаких признаков борьбы. И на карабине отпечатки только лесниковых пальцев. Вы меня слышите, товарищ подполковник? — спросил Белозеров, видимо обеспокоенный долгим молчанием Корнилова. — Слышу! Но с выводами я бы не торопился. Докладывайте теперь по порядку. — По ране эксперт определил направление полёта пули. Даже угол наклона определил. Рана у него справа, как раз с той стороны, где мы с вами с самолёта лыжню видели. Мы знаете что использовали? Теодолит! Точность исключительная! Метеорологи подтвердили: в тот день в шестнадцать часов видимость позволяла разглядеть человека на расстоянии более четырёхсот метров. Ну уж тогда мы весь снег вокруг горстями перелопатили. Разыскали гильзу! — с подъёмом произнёс Белозеров. — Потом я с группой сотрудников отправился к леснику. Да поздно… — Записки никакой не нашли? — спросил Корнилов. — Нет, ничего не оставил. Действительно, непонятная история. И чего он этого парня застрелил? Не узнали, кто он? — Художник Тельман Алексеев, — сказал Корнилов. — Художник всё-таки, — огорчился капитан. — Вот те на! — Судмедэксперт исследовал труп Зотова? Нет подозрения на убийство? На отравление, например? — Это исключено, Игорь Васильевич. Всё досконально исследовали. Переговорив с Белозеровым, Корнилов долго сидел в раздумье. Он прослушал ещё раз запись разговора, стараясь оценить сообщенные капитаном факты, прикидывая, не упустили ли чего там, на месте. Нет, пожалуй, и он действовал бы так. «Ну что ж, можно считать дело законченным!.. Но достаточно ли улик против мёртвого лесника?.. В конце концов, пусть прокуратура решает — закрывать дело или нет, — думал он. — Да закроют. Что им остаётся? Попробуй теперь узнать, что и почему. Мёртвые молчат!» Но дело всё же очень тревожило его. «Ладно, — наконец решил он, — утро вечера мудренее. Надо будет на свежую голову пройтись по всему делу. От начала до конца. А конец-то! Ну и конец!» Но и дома мысли о драме в Орельей Гриве не выходили из головы, беспокоили, словно лёгкая, только-только проклёвывающаяся зубная боль. Поздно вечером, уже собираясь ложиться спать, Корнилов взял из шкафа словарь. Поискать, что же такое Орелья Грива. «Орелка, рель, гривка — сухая полоса холмов или гребней среди болот», — было написано там. «И всего-то? — подумал Корнилов. — А я-то думал, что-нибудь красивое, возвышенное». Но тем не менее он стал думать об этой Гриве, о вековых елях и снежных полянах вокруг. Ему вдруг очень захотелось туда, в лес. В трудные минуты жизни, в пору душевного смятения, острой неудовлетворённости собой, своими поступками Корнилову всегда хотелось быть в лесу. Идти легко, без устали, глухими, позабытыми тропинками, смотреть с крутого берега, как тёмный поток лесной реки несёт и крутит первые тронутые багрецом листья; слушать далёкую перекличку тянущихся к югу ястребов; вдыхать терпкий аромат заросшей вереском и клюквой мшары. Тогда уходят, отодвигаются куда-то на второй план мелкие житейские невзгоды и заботы. Ясность и стройность приобретают мысли. То, что ещё недавно видел словно в тумане, становится четким, выпуклым… Телефонный звонок вывел Корнилова из задумчивости. Он вздохнул и с неохотой взялся за трубку. Звонил Бугаев. Голос у него был взволнованный: — Товарищ подполковник, разыскал я документы Алексеева. Ну, знаете, всего ожидал… Волнение Бугаева передалось Корнилову. — Да говори, что стряслось? — нетерпеливо сказал он. — Документик один зачитаю. Слушайте: «Дубликат свидетельства о рождении. Выдан Орлинским сельским Советом. Зотов Тельман Николаевич. Родился шестого мая 1926 года в деревне Зайцово». — Бугаев передохнул: — Ну это мы ещё в домоуправлении выяснили. А вот главное: — «Родители: Зотов Николай Ильич и Алексеева Василиса Леонтьевна». Корнилов молчал, потрясённый. — Судя по вашему молчанию, товарищ подполковник, вам всё понятно, — сказал Бугаев. — Мы тут с Сазонкиным обалдели. Вот какие делишки. — Он вздохнул и добавил: — Ну и ещё тут разные бумаги. Ничего особо интересного. Он их в кухонном буфете держал. Мы потому и провозились долго. На кухню пришли в последнюю очередь. — А в письмах не нашли приглашения от отца приехать? Или телеграммы? — приходя в себя, спросил Корнилов. — Нет, Игорь Васильевич… Все письма старые. От женщины. От жены, видать. От отца нету. «Многовато событий для одного дня, — подумал Корнилов. — Отец — сына?» Он повесил трубку и в замешательстве прошёлся по комнате. Корнилов всего ожидал. Но чтобы связь этих людей оказалась такой близкой, такой трагической… Отец — сына? В это не хотелось верить. «Чтобы на убийство решиться, ох какое зло на сердце надо держать! — думал он. — Да и человечье обличье потерять… Ну, предположим, дикая ссора между ними вспыхнула. По причине, нам неизвестной. Но для этого им надо было встретиться!»- А всё известное Игорю Васильевичу о преступлении в Орельей Гриве свидетельствовало: лесник и художник в тот день не могли, не имели возможности сказать друг другу даже двух слов. А уж какая-то ссора между ними, вспышка в часы, предшествовавшие убийству, напрочь исключалась. А раз не было ссоры в тот день, значит, отец заранее готовил убийство? Нет, тут что-то не так… Сто раз бы одумался! Остыл! Слишком жестокое это преступление, чтобы поверить в него. Даже если выводы экспертов и все известные факты свидетельствуют об этом. Все известные факты… Все известные… А все ли факты известны? Корнилов ходил по комнате, стоял у окна, глядя на белую Неву, слегка освещённую пригашенными фонарями, прислушивался к шуму редких машин. Он пришёл к твёрдому убеждению — преступлением в Орельей Гриве следует заняться снова. Не мог он поверить в это убийство.11
Николай Ильич проснулся оттого, что рядом с домом призывно пропел пионерский горн. Зотов открыл глаза и лежал, прислушиваясь: не протрубит ли снова? Но за окнами стояла глухая тишина. «Приснилось, что ли?» — подумал он и нащупал на полу коробок спичек. Чиркнул. Поднёс спичку к часам. Было уже шесть. Зимой Николай Ильич вставал в семь. Спичка погасла, догорев почти до конца. Зотов даже не почувствовал огня, — кожа на пальцах так загрубела, что он, когда надо было, спокойно брал раскалённый уголек и прикуривал от него. Тикали часы, да позванивало где-то стекло от ветра. «На чердаке, — прислушавшись, определил Зотов. — Надо бы залезть да пару гвоздиков всадить». Тут он вспомнил, что и крышу давно пора латать: весна придёт — опять потечёт. И кусок рубероида его дружок Гриша Мокригин ещё с осени из Гатчины приволок. Но не лежала нынче душа у Николая Ильича к хозяйству, руки не поднимались сделать что-то по дому. И прибаливать он стал чаще, да и просто обрыдло ему всё здесь, в лесу. И эта труба пионерская… Вдруг прогремит среди ночи, разбудит, и уже не заснуть никакими силами. И лезут в голову невеселые мысли. «Сдурел я, что ли, в этой глухомани? — подумал Николай Ильич. — Или со слухом у меня болезнь приключилась? Дудит вдруг в ушах ни с того ни с сего». Началось это прошлым летом. В тот день Николай Ильич возвращался на кордон по крутому берегу Ящеры. Стояла середина июня. Лето пришло раннее, жаркое. В густой траве кровенели капли созревающей земляники. И подберёзовики уже попадались в сыром глубоком мху на границе болота и леса. Всё было знакомо в этом лесу: глухой шум сосен, гомон почувствовавших вечернюю прохладу птиц, крепкий, настоянный смолой воздух. Внезапно Зотов услышал резкий, непривычный для уха звук. Ему сначала показалось, что хрипло протрубил лось. Но звук повторился, и Николай Ильич понял, что это не лось. Да и какой лось трубит в середине июня? Звук затих, и несколько секунд ничего не было слышно. И тут же лес отозвался эхом, нанесённым порывом ветра. Теперь Зотов понял, что пела труба. Но кому здесь, в глухомани, понадобилось трубить? Он прибавил шагу. Трубили в стороне кордона, и Николай Ильич подумал: «А может быть, кто-то из мшинских или владычкинских мужиков приехал и, не застав меня, решил потрубить — авось услышу?» Потом Зотов вспомнил ещё и о том, что не раз встречал развозчика керосина, который, проезжая по деревням, давал знать о себе хозяйкам, извлекая хриплые, отрывистые звуки из старенькой трубы. Зотов шёл торопливо, спотыкаясь об узловатые сосновые корни, и скоро запыхался. Да и нога короткая давала о себе знать. Когда-то, в молодости, он и не вспоминал о ней, ходок был хоть куда, а нынче, приустав, начинал спотыкаться. Наконец, перейдя по старенькому, полуразрушенному мостку через Ящеру, Николай Ильич взобрался на пригорок и увидел оттуда сквозь поредевший лес свой кордон, а чуть поодаль, на лугу, десятка два ребятишек с красными галстуками. — Так вот кто трубил! — прошептал Николай Ильич. — Пионеры пожаловали… И Дружок не лает, — удивился он. Обычно собака облаивала каждого, кто проходил поблизости от дома. Несколько мальчишек устанавливали палатки. Рядом уже вился дымок от костра, и девочки гремели посудой. Когда Зотов подошёл к дому, его заметили. — Вера Васильевна! Вера Васильевна! — закричал один из мальчиков. — Лесник пришёл! С травы поднялась невысокая полная женщина, одетая в такую же зелёную, как и у ребят, форму, и тоже с пионерским галстуком. Увидев Зотова, она приветственно помахала ему рукой. Подошла. Ребята, побросав все свои дела, тут же обступили Николая Ильича. Поздоровавшись, почтительно трогали его двустволку. Были все они загорелые, с облупившимися от солнца носами. — Вы товарищ Зотов? — спросила Вера Васильевна. — Он самый. Зотов Николай Ильич. Здешних лесов хозяин. — А мы к вам на практику. Лес расчищать, шишки собирать. У нашей школы договорённость с лесхозом. — Вера Васильевна вдруг спохватилась и протянула Зотову руку. Представилась: — Пахомова. Учитель шестой гатчинской школы. Она достала из кармана куртки листок бумаги и, развернув, подала Николаю Ильичу. Это было письмо директора лесхоза с просьбой оказать школьникам помощь, отвести участки леса для расчистки. — Ну вот и хорошо. Вот и прекрасно. Мне, старику, веселее будет. Вон сколько помощников! — обрадовался Зотов и обнял двух мальчишек, стоявших рядом. Те доверчиво приникли к нему, а один спросил: — А вы нас на Вялье озеро сводите? На рыбалку? — И на озеро свожу, и лес покажу. Всё вам будет. А сейчас айда ко мне, харчишко вам выдам. Он у меня небогатый, но кое-что есть. Картошка, лук, брусника мочёная. — Брусника? Вот здорово! — закричал белобрысый мальчишка. Но учительница одёрнула его строго: — Без эмоций, Козлов. — И, обернувшись к Зотову, сказала: — Ну что вы, Николай Ильич, у нас с собой всё есть. Крупа, консервы, хлеб… — Да на каше соскучишься скоро. Разве это еда? У нас тут воздух такой — как ни корми, всё есть хочется. А у меня картошка не с магазина. Своя. Рассыпчатая. — И он подтолкнул мальчишек к дому. Вечером Зотов сидел в избе, прикидывал, куда бы отвести назавтра ребятишек, когда на улице заиграла труба. Нехитрая пионерская мелодия. Николай Ильич вышел на крыльцо. Около палаток стоял белобрысый мальчишка, что давеча обрадовался, услышав про бруснику, и, запрокинув к небу голову, трубил в горн. Трубил он неумело, звуки неслись хрипловатые, нестройные, но Зотов смотрел на мальчишку затаив дыхание и чувствовал, как легонько защемило у него сердце. Из лесу, с реки сходились к горнисту пионеры. Оживлённо переговаривались, смеялись. А Николай Ильич слушал звуки горна и видел, отчётливо видел других пионеров… Это было перед войной. Он отправлял в первый колхозный пионерский лагерь на Череменецкое озеро своего сына Тельмана. Неясные, отрывочные, почти заглушенные временем образы прошлого вдруг сложились в яркую картину: на деревенском прогоне стоит колхозная полуторка, а в кузове сидят праздничные, все в белых рубашках, с красными галстуками зайцовские ребятишки. И его Тельман машет рукой, а сам с трудом сдерживает радостную улыбку, весь в предчувствии дороги, новых впечатлений. Рядом с Зотовым в толпе односельчан жена, утирающая глаза платочком, расстроенная первой долгой разлукой с сыном. Тельман и сейчас стоит перед глазами как живой, а вот лицо жены, словно в тумане, расплывается, прикрытое платочком… Пионеры уже давно улеглись спать, выпросив у Зотова разрешение забрать с собой Дружка, а растревоживший себя воспоминаниями Николай Ильич то бесцельно слонялся вокруг дома, то принимался зачем-то перебирать приготовленные для постройки плоскодонки доски. Светлая, без тени облачка, белая ночь царила над утихшим лесом. Только где-то очень далеко, в стороне Вялья озера, тревожно кричал козодой. И неспокойно было на душе у Николая Ильича. В ту ночь Зотов впервые так остро почувствовал своё одиночество. Наутро он повёл ребятишек на озеро. По тропинке, вьющейся вдоль крутого красного берега Ящеры, заросшей ельником, прошли они до мызы Каменка. Здесь, на зелёном взгорке, усеянном цветами купальницы и зверобоя, в обрамлении вековых лип когда-то высился большой барский охотничий дом. Сейчас остался только один фундамент. Николай Ильич показал ребятам остатки деревянного водопровода, а в роднике они набрали в свои фляжки ледяной, отливающей серебром, вкусной воды. И пошли с песнями дальше. Через большую поляну с липовыми аллеями, через еловый лес с черничником, а потом по зыбкой тропинке сквозь болото. И Зотов всё рассказывал им про окрестные леса, про зверей, которые здесь обитают, про больших вялых окуней, которых можно выловить на озере. Он воодушевлялся, забывал об усталости, о своей больной ноге, видя, с каким вниманием его слушают. Накануне того дня, когда пионеры должны были, закончив работу в лесу, уехать в Гатчину, учительница спросила Зотова: — А почему к вам, Николай Ильич, никто на воскресенье не приехал? Ни жена, ни дети. — Одинок я, Вера Васильевна, — с виноватой улыбкой ответил Зотов. — Некому ко мне наезжать… Да и воскресений я тут не замечаю. Какие в лесу воскресенья, особенно если выбраться некуда? — Да ведь есть же, наверное, родственники? — сочувственно удивилась учительница. — Не может же человек один… Но Зотов посмотрел на неё с такой грустью, что она осеклась и, растерянно улыбнувшись, замолчала, слегка порозовев. Видать, поняла, что попала в самое больное место. …Нынешняя зима выдалась для Зотова особенно тяжёлой. По утрам нелегко было встать с постели, растопить печь. Он лишь с трудом мог нагнуться и накидать в топку дров. Иногда ему казалось, что он уже не сможет разогнуться, закостенел навечно. Николай Ильич вспомнил школьного завхоза из далёкого детства — тот ходил согнутый пополам каким-то недугом. Как его звали, Николай Ильич не помнил, — горбач и горбач. «Вот и мне пришло время в горбачи записаться, — горестно подумал он. — Шестьдесят пять — они о себе знать дадут». А начальство, как назло, выделило в эту зиму на его участке несколько делянок мшинским мужикам. Надо было таскаться с ними, клеймить лес, следить, чтобы не прирубили лишку. Народ на Мшинской лихой — сто первый километр! Хорошо ещё, Гриша Мокригин не забывает — заглядывает. То поможет по хозяйству, то продуктов привезёт, — на картошке да на грибах особо не разбегаешься в лесу. А уж если баню поможет истопить — считай, что праздник. После жаркой бани, после веничка дубового и спине легче, на неделю-полторы боль отпускает. С полчаса он ещё лежал в постели, курил, думал о всякой всячине. Потом, тяжело покряхтывая, сел, натянул штаны. Пол был стылый, влажный. Николай Ильич, принёс дров из сеней, затопил печь. Гриша помог летом наготовить да распилить. Для этого дома дров не напасёшься, кидаешь, кидаешь, как в прорву. С Гришей Николай Ильич познакомился в колонии, когда в сорок седьмом получил восемь лет за растрату в колхозной кассе. Гриша вышел на год раньше Николая Ильича, устроился на работу в Гатчине, в лесхозе. Он потом и Николая Ильича в лесники пристроил: — Зачем тебе, Колюн, в свою деревню вертаться? Ни кола ни двора. Да и мужики народ злопамятный. Николаю Ильичу и впрямь не хотелось возвращаться, — неудобно было перед земляками. Чувствовал он до сих пор вину перед ними: пустил кассу по ветру, а год-то был нелёгкий. Хоть и денег-то в кассе пустяк был — ну какие в те годы у колхоза деньги, — а лежали они на душе чёрным камнем. Собрали колхозники по тридцатке — хотели тянуть в Зайцово электричество. Жена у Зотова умерла перед самой войной, а сын, Тельман, затерялся в годы оккупации. Поссорились они с сыном, с мальчишкой. Так поссорились, что вышло — на всю жизнь. Временами казнил себя Николай Ильич лютой казнью, что не смог удержать своего Теля, не нашёл таких слов, чтобы понял сын — не мог он иначе поступить в то жуткое время. Но и простить сына долгое время не хотел. И потому горевать горевал, а не разыскивал. Обида мешала. Да и жизнь мешала. Из тюрьмы несподручно этим заниматься. И месяца не проработал после отпуска Николай Ильич, как Гриша привёл к нему покупателя, разбитного экспедитора из кубанского колхоза. У него и документы были в порядке, и разрешение лесничего имелось. Только на ольховые дрова. А экспедитору нужен был строевой лес… Поздно вечером, после ужина, когда экспедитор уже основательно захмелел, Николай Ильич вышел с Мокригиным в сени. Сказал твёрдо: — Гришка, ты меня в это дело не впутывай. Хватит, насиделся. — Да ты что, Колюн? — заюлил дружок. — Дело-то пустяшное — двадцать кубиков. И верняк ведь, комар носа не подточит. — Нет, Гриша, — стоял на своём Зотов. — Не уговаривай. Чую я, чем пахнут эти кубики. — А я-то, тюха, думал, дружка имею. На место пристроил, — с презрением растягивая слова, проговорил Мокригин. — Вот она, благодарность… — И зашептал вдруг горячо: — Колюн, Христом-богом прошу, обещал я этому фрайеру. И задаток уж взял, да загулял вчерась. Мне же ему отдать нечем. Ну, как пойдёт он, настучит? Что же мне, Колюн, кончать его здесь, в лесу? А? Может и вправду кончать? Николай Ильич похолодел, почувствовал противную, тошнотворную слабость. Он хорошо знал, на что способен Гриша. — Да ты сдурел? — выдохнул Зотов, вцепившись ослабшими от страха руками в пиджак приятеля. — Сдурел, да? Ведь знают, что он с тобой приехал. Гриша зловеще молчал, будто собирался с духом, чтобы принять окончательное решение. — Сколько денег-то? — пугаясь ещё сильнее, спросил Зотов. — У меня рублей пятьсот найдётся. Мокригин стряхнул с себя руки Николая Ильича. — Да чёрт с тобой, Гришка! Пускай забирает он свои кубики. Чёрт с тобой! Завтра отведу его на делянку, — чуть не плача, запричитал Зотов. — Я знал, старик, что ты не подведёшь, — только и сказал Мокригин. Но вскоре Григорий опять явился с покупателем. И когда Николай Ильич стал отказываться продать лес и, не внимая угрозам, упрямо твердил: «Нет, Гриша, не быть тому! Не возьму грех!» — Мокригин неожиданно размахнулся и, злобно выругавшись, ударил Зотова в подбородок. Николай Ильич охнул и осел на стоявшую сзади лавку. Он избил бы Зотова до полусмерти — Николай Ильич хорошо знал Гришины повадки, да тут в дом вошёл покупатель… Несколько месяцев после этого они не видались. Николай Ильич посчитал, что расстались они навсегда. И хотя тосковал, оттого что порушилась у них с Григорием давняя дружба, временами чувствовал такое облегчение, будто хомут у него с шеи сняли. Но Гриша всегда умел быть нужным… Он появился на кордоне, когда Зотов тяжело простудился и лежал один-одинёшенек в холодной, нетопленой избе, не в силах встать с постели и напиться воды. Мокригин оставался на кордоне три дня. До тех пор, пока Зотов не оклемался. Кормил его с ложки, поил брусничным соком. Сходил в Пехенец, в аптеку. Принёс горчичники. Николай Ильич лежал в постели слабый, но умиротворённый. Чувствовал, что дело идёт на поправку, и с одобрением следил, как хозяйничает Мокригин. Думал уже без злости: «Ну что ж, Гриша всегда был на руку скор. Вспыльчив. Да ведь никому, окромя его, я не нужен. Никто даже не спроведал. А Гриша пришёл. Сердцем, видать, почувствовал…» И снова всё завертелось по-прежнему, покатилось своим чередом. Выздоровев, Николай Ильич махнул на всё рукой. Решил с горечью: «Не сложилась жизнь…» К старым деревенским друзьям пойти не мог. Стыдился. Думал, что не простят ему подлости, совершённой в трудное время. По себе знал — не простят. А новых друзей Зотов заводить боялся. Мокригин не советовал: «С новым другом выпьешь, отмякнет душа — проболтаешься. Тут же донесёт». Так и жил Николай Ильич, стараясь не думать о будущем. Пока был здоров — пил. Но в последний год Зотов всё чаще и чаще вспоминал с тоской своё родное Зайцово. Несколько раз он встречал в поезде зайцовских баб. Однажды даже заговорил с Полиной Аверьяновой, что жила в Зайцове через дом от него. Аверьянова с трудом признала Николая Ильича и всё охала, жалостливо вглядываясь в его лицо: «Эко жизнь поломала человека! Ведь и не узнать тебя, Коля, не узнать». Николая Ильича раздосадовали её причитания. «На себя бы посмотрела, кочерыжка», — подумал он. На расспросы Аверьяновой, где он нынче осел, Николай Ильич ответил туманно: «Да есть тут одно местечко…» Желание выспрашивать односельчанку у него пропало. «Почему бы и не съездить туда самому? — думал он иногда. — Что было, то быльём поросло. Может, и забыли мои грехи. Не век же в клеймёных ходить. Да и не один я из деревенских забран-то был!» Он начинал вспоминать, кто ещё из зайцовских мужиков сидел в ту пору и за что, но утешения от этого было мало. Двоих взяли за злую драку, конюх Антоша сел за то, что пьяный спалил конюшню. Все были виноваты перед законом, но никто так не провинился перед односельчанами, как Зотов. …Позавтракав, Николай Ильич разогрел вчерашнего супа собаке, старой лайке Дружку. Потом вынул из шкафа свой парадный костюм — купил его лет пять назад в Ленинграде, да почти совсем не надевал. Куда в лесу костюм? А в Лугу и в Ленинград Николай Ильич наведывался редко. К Грише в Гатчину он ездил в робе. Сегодня повод надеть костюм был. Гриша пригласил отпраздновать день рождения. «В ресторан пойдём, Коля, — сказал. — Что мы, не заслужили или в карманах у нас совсем уж пусто?» Съездить в Гатчину надо было и по другой причине. Вызывал директор лесхоза. Чего уж там стряслось, Зотов не знал, но под ложечкой тревожно сосало. Костюм был как новенький. Коричневый, с красной искоркой. Из ткани с громким названием «ударник». Николай Ильич хорошо помнил, что отдал тогда за костюм сто тридцать рублей, а пятьсот, оставшиеся от очередной продажи леса, они пропили с Гришей. «Не стал ли узок? — с тревогой подумал он, надевая брюки. Костюм и впрямь был чуток узковат. — Огруз я, огруз». Николай Ильич надел пиджак и подошёл к зеркалу. На него смотрел лохматый седой старик с широким морщинистым лицом, заросшим седой щетиной, с впалыми тревожными глазами, под которыми залегла нездоровая желтизна. «Надо в Гатчине в парикмахерскую забежать, — решил он. — Чегой-то вид у меня смурной, глаза вон как у дохлой рыбы». Он снял костюм и сложил аккуратно в вещевой мешок. На себя натянул старый. Вышел в сарай, погладил жалобно заскулившего Дружка, взял широкие самодельные лыжи. На дворе уже светало. Николай Ильич запер дом, закинул за плечи мешок. Надев лыжи, глубоко проседая в снежной целине, скатился с пригорка вниз, оглянулся на утонувший в снегу дом с примороженными окнами и покатил дальше по еле заметной лыжне. Два километра он шёл лесом, кое-где сбиваясь со старой лыжни и утопая в снегу, потом пересёк большую поляну, оставив справа деревню Владычкино, и вышел наконец на тропинку, ведущую к станции. В лесу Николай Ильич снял лыжи, оглянулся и, шагнув с тропинки в сторону, сунул их в снег, обломав у большой елки лапу — для памяти. Где-то наверху стрекотала сорока. Николай Ильич проворчал: «Стрекотуха чёртова, только и знает, что подглядывать!» В Гатчине Зотов был в десять. Гриша уже ждал его — на столе весело посвистывал чайник, лежала всякая снедь: колбаса, сыр, большой кусок студня. — Здорово, старче, — обрадовался Гриша. — Выбрался из своих лесов, прикатил колёса. Давай раздевайся, чайку попьём, погутарим. Я и с начальством договорился прийти попозже. При упоминании о начальстве у Николая Ильича на лице появилась кислая гримаса. Он скинул ватник, разул ноги, кивнул на рюкзак: — Там в мешке грибы… Беленьких тебе приберёг. — Ай да Коля, золото ты у меня, а не кореш, — радовался Гриша, доставая большую банку с грибами. — И костюмчик новенький прихватил! И корочки. Да мы тебя женим, Колюня, женим. Заживёшь ты у себя в лесу припеваючи. Такую маруху найдём! Николай Ильич, улыбаясь, слушал болтовню друга. — Ну что у тебя, Григорий, за бардак на столе, — сказал он, усаживаясь и оглядывая приготовленную Мокригиным закуску. — Что у тебя, тарелок нет? Всё на газете, на клеёнке! Словно междусобойчик в зоне. — Приехал чистюля из мшинских лесов, — усмехнулся Мокригин. — Подавай ему серебряную посуду. — Смеясь и балагуря, он достал из серванта красивые тарелки, вынул из холодильника бутылку водки. — По рюмашечке хватим, Коля, для затравки. Артподготовочка перед генеральным наступлением. — Мне ведь к директору идти, — сказал со вздохом Николай Ильич. — Чего ему, чёрту, от меня надо? Для доброго дела ведь не вызвал бы. — Забежишь к нему, забежишь. По магазинчикам потом пройдёмся. Всюду поспеем, — ответил Гриша. — Ты у меня заночуешь. Заночуешь ведь, Коля? Никто там без тебя лес не покрадёт? — И громко засмеялся. Николай Ильич поднял стакан: — Ну, Гриша, с днём рождения тебя. Дай бог тебе здоровья! Живи и здравствуй! Гриша встал, подошёл к Зотову, чмокнул молча в лоб. …Потом они пошли по городу. Николай Ильич чувствовал себя не очень уютно. Вид у него был нелепый — на костюм пришлось надеть ватник, пиджак торчал из-под него, и рукава всё время вылезали. — Ты уж, Григорий, пройди по магазинам один. Купи мне, как всегда, отдельной колбасы батона три, селёдки. Чаю поищи индийского. Ну и сам знаешь, — сказал Зотов Грише. — А я заверну в парикмахерскую и в контору. Там встретимся. В парикмахерской работал всего один мастер, надо было ждать. Николай Ильич сел в кресло у маленького столика с газетами и журналами. Один из журналов был раскрыт на цветных вкладках. Что-то показалось Николаю Ильичу знакомым в деревенском пейзаже с маленькой белой электростанцией. Он притянул к себе журнал и долго-долго рассматривал картинку. Крутой песчаный берег с нависшими над обрывами соснами, заросшая кувшинками гладь реки и серые, крытые дранкой домики среди цветущей сирени… — Клиент, вы стричься или читать пришли? — прозвучал у него над головой капризный голосок. Зотов вздрогнул от неожиданности и вскочил. Перед ним стояла молоденькая парикмахерша и смотрела на него с пренебрежительной усмешечкой. — И стричься, и бриться, милая, — сказал он торопливо. — Да вот засмотрелся… — Садитесь уж, — милостиво разрешила парикмахерша. — Как стричь? — Она ходила раздражающе медленно то за машинкой, то за простынёй, то ещё за чем-то. Николай Ильич смирился. Сидел, размякнув, всматриваясь в своё отражение в зеркале, и тёплая волна жалости к самому себе постепенно накатывала на него. «И впрямь глаза как у дохлой рыбы, — думалон. — Старый, больной старик. Никому не нужный. Так и сдохну у себя в лесу, а сын никогда и не узнает, где моя могила. Гришка вон закопает…» Парикмахерша постригла его, небрежно стряхнула на пол копну седых волос. Потом долго мылила ему лицо пенистым горячим кремом. Николай Ильич зажмурил глаза. Ему вдруг нестерпимо захотелось спать. Сидеть бы здесь и сидеть, ощущая, как ловко колдуют над твоим лицом женские пальцы. Он вспомнил вдруг картинку из журнала, которую только что видел. Она стояла у него перед глазами словно наяву. «Так это же наше Зайцово! — подумал он. — Ну до чего же похоже!» — Клиент, вы что дёргаетесь? — привёл Николая Ильича в чувство голос мастерицы. — Заснули? Я ведь так и порезать могу! «Эх, надо бы журнальчик этот попросить у них, — подумал он. — Надо бы попросить. Рассмотрю на досуге. Нарисовал же кто-то!» На душе у него сделалось радостно. И когда парикмахерша спросила, делать ли компресс, он сказал весело: — Давай, милая, делай. И компресс, и одеколоном побрызгай. После бритья и стрижки Николай Ильич почувствовал необычное облегчение, какую-то приподнятость. В зеркало на него смотрел уже будто другой человек, помоложе годков на десять и чуток благообразней. И глаза не такие скучные. «Эх, живём ещё, живём! — подумал Николай Ильич. — Гульнём сегодня с Гришей. Такому-то, как я, не грех и бабу приглядеть. Почаще надо из лесу-то выбираться». Даже мастерица, видать, подивилась, как преобразился под её руками клиент. Она уже не смотрела так откровенно пренебрежительно, а спросила с заискивающей ноткой, всем ли доволен гражданин. А может, просто чаевые получить хотела… Николай Ильич расплатился, дал ей двадцать копеек на чай и пошёл одеваться. Принимая из рук гардеробщика свой ватник, он спросил его шёпотом: — Ты не уважишь меня, дядя, не разрешишь журнальчик забрать, а? Позарез нужен. — Вы что, гражданин, — бесцветным голосом сказал гардеробщик, пожилой инвалид. — Если каждый клиент будет по журнальчику уносить… И так все порастащили. — Да я не бесплатно, я заплачу, — заторопился Николай Ильич. Полез в карман и, вынув рубль, сунул инвалиду. Тот проворно спрятал рубль в карман и молча кивнул на столик с журналами. В контору Зотов пришёл в хорошем настроении. И даже долгое ожидание в приёмной не испортило его. Директор лесхоза, молодой ещё мужчина, кряжистый, хмуроватый, долго смотрел на Николая Ильича. Видать, тоже почувствовал в старике перемену. Потом сказал, посуровев: — Жалуются, Зотов, на тебя. По два, по три раза ходят на кордон люди, чтоб ты им делянку отвёл. То на месте тебя нет, то занемог. С Мшинской ведь дорога не ближняя… Николай Ильич сделал смиренное лицо, но от сердца отлегло — боялся он, не прознал ли директор про лося. Стукнул он лосиху перед Николой зимним. — Ну что ж молчишь, Зотов? — недовольно спросил директор. — Да ведь что сказать-то, Анатоль Тарасыч, что сказать? Ясно дело, жалуются. На каждого не угодишь, — развёл руками Николай Ильич. — Я ведь на кордоне не сижу. Всё по лесу шастаю. У нас ведь глаз нужен — недоглядишь, живо машину с лесом налево вывезут. А мшинские-то все строятся. Где лесина плохо лежит, всё норовят к делу приладить… — Ну ты не загибай, Зотов, — перебил его Анатолий Тарасович. — По-твоему выходит, все там жулики да воры. Уж я-то знаю, сколько мшинские у нас леса покупают. И ты знаешь. Всё чин по чину. — Так опять же ёлки к Новому году рубали, — вставил Николай Ильич. Но директор махнул на его замечание рукой: — Станут в такую глушь за ёлками ездить! Я вот о другом думаю: не надоело ли тебе, Зотов, в лесу одному бирючить? Работаешь спустя рукава. — Он помолчал, глядя на лесника, и спросил уже более мягко: — Сколько уже стукнуло-то? — Шестьдесят пять, Анатоль Тарасыч. Годы мои и правда немалые. Только всё это напраслину на меня возводят. Анатоль Тарасыч, я, конечно, не тот, что прежде. Да ведь старый конь борозды не портит. — Николай Ильич сказал это чуть обиженно, с просительной ноткой. А сам подумал: «Вот идол, в сыновья мне годишься, а тыкаешь! Что мы с тобой, водку вместе пили?» — Ну ладно, ладно. Закончим на этом. Но ты себе сделай заметку. Будут опять жаловаться — по-другому разговор пойдёт. Он расспросил Николая Ильича о том, как приживаются посадки, на какой площади сделана санитарная рубка. Не сохнет ли лес от подсочки, там, где берут живицу. В конце разговора Николай Ильич, хитро улыбнувшись, сказал: — У меня, товарищ директор, с осени берлога примечена. Лежит мишка — проверяю всё время. Не выберетесь? Анатолий Тарасович оживился: — Берлога, говоришь? Это дело. Ох хорошее дело! А не вспугнут? — с неожиданной тревогой спросил он. — Не, не вспугнут. Я только один и знаю, даже с егерем не поделился. Приезжайте, дело верное, место глухое. По следу приметил я — большой мишка! Может, и с медвежонком. Только вы поспешите. — Поспешу, поспешу. — Директору явно пришлось по душе приглашение Зотова. — До берлоги-то далеко? — Да не так чтоб уж и далече, Анатоль Тарасыч. У меня и лыжи широкие есть. Для вас. Такую шкуру дома повесите! Директор полистал календарь. Вздохнул: — Всё дела, дела… За приглашение спасибо. Как-нибудь выберусь. Лады, Зотов! — Анатолий Тарасович поднялся из-за стола. Крепко пожал леснику руку. — Вы весточку только дайте, — прощаясь, сказал Николай Ильич. — Али я сам позвоню вам через пяток дней? — Позвони. Выберусь обязательно. …К Грише Зотов пришёл улыбающийся, довольный. — Ну и дела! — покачал головой Григорий. — Ты и впрямь никак жениться решил, жеребец? Тебя ведь такого стриженого и Дружок не узнает. — Смотри! — развернул Николай Ильич журнал. — На мое Зайцово похоже. Как две капли! Гришка взглянул на картинку. Сказал со вздохом: — Было Зайцово твоим когда-то… Чего о нём вспоминать. Я уж думал, ты давно его из головы выбросил. — Да ведь как выбросишь, — разочарованный реакцией друга, вяло протянул Николай Ильич. — Родные края. — В краях этих родных мужички да бабы подумали о тебе, когда решили под суд отдать? Простить отказались! Вспомнил о тебе кто-нибудь, когда ты на Севере зону топтал? Родные края… Эх ты! Нету у нас с тобой родных краёв. И родни нету, — в сердцах бросил Гриша. — Да уж что верно, то верно, — прошептал лесник, — прости они мне тогда, вся жизнь у меня бы по-другому повернулась. — Он сложил журнал вчетверо и запихал в мешок. Весь вечер они провели в ресторане. Здесь было шумно, дымно от курева, пахло пережаренным мясом. У Николая Ильича с непривычки разболелась голова. А Гриша чувствовал себя здесь как дома. К их столику несколько раз подходили какие-то незнакомые Зотову люди, здоровались дружески с Гришей. Иных он усаживал рядом, приглашал выпить. — Пятьдесят пять лет не каждый год человек справляет! — кричал он громко. Николай Ильич с удивлением отметил, что Гришу здесь многие знают. И официант, молодой прилизанный парнишка с тонкими усиками, называл его почтительно по имени-отчеству: Григорий Иванович. «А говорит: „Как и ты, бирюком живу — ни друзей, ни знакомых“». Николаю Ильичу было неприятно и немного грустно оттого, что у его старого друга Гриши есть какие-то иные, свои интересы, что он здесь бывает в ресторане, да и ещё, наверное, в разных местах. «Может, даже веселится в компаниях, — подумал Николай Ильич, но тут же отогнал эту завистливую мысль. — Так ведь ему без этого не обойтись. Клиентов на лес искать надо, застройщиков всяких. А такие дела где закрепляются? В ресторане». — Коля, кореш ты мой. — Гриша уже изрядно захмелел, глаза у него сделались маленькими, блестящими. — Коля, старые мы с тобой хрычи. Окурки. Никому-то мы не нужны. Ну, ничего, сами за себя постоим… Годика через три заимеем домик на тёплом море, участочек свой. Заживём другим на зависть… Отогреем старые кости. — Да уж ты-то чего в старики записываешься, — не соглашался Николай Ильич. — Пятьдесят пять лет для мужика — самый цвет! Вот только облысел ты изрядно. А помню, в колонии я тебя приметил… Молодой ты ещё был. И злой. Ровно зверь. А вот приглянулся мне чем-то! И сам не знаю чем. — Эх, Колюн! Не вспоминай, старик, не трави душу, друг ты мой меченый. Выпьем давай за дружбу… Тут опять станичник приезжал, — перешёл он на шепот. — Нужно ещё сто кубов. Документы в полном ажуре. Если эти кубики мы сварганим, считай, что полдома у нас в кармане. Отвесят они нам косуху. — Много сто кубиков-то, — встревожился Николай Ильич. — Ведь это ж не воз ольхи, сколько я тебе твержу. Тарификация будет — и дурак заметит. Кончать надо с этим. Нету моей мочи. — Документики, документики у станичника в ажуре, дурья голова, — буркнул Гришка. — Я всё это проведу через лесхоз. Ну как ты понять не можешь: ведь законно всё, законно. — Чего же они тогда косуху отвалить обещают, — устало сказал Николай Ильич, — ежели законно! Ты мне-то не крути. Я и сам бухгалтерией занимался. А куда попал? — Да ведь просто фондов у них нет, у этих станичников. Не отпущены фонды на этот год. Да и лес строевой не положено им продавать. А мы оформим. Чудило! Это не то что в прошлые разы. Чистое дело. Я тебе, Коля, не зря толкую, будет у нас домик на тёплом море. И на книжке деньжата будут… Иметь домик на тёплом море — это была давнишняя их мечта. В колонии, на лесоповале в Архангельской области, укрывшись износившимся, совсем негреющим одеялом, прижавшись друг к другу, мечтали они морозными ночами о том, как, закончив срок, уедут в тёплые края, на Чёрное или Азовское море, купят маленький домик, разведут огород и заживут тёплой и сытой жизнью. Когда Гришка из колонии выходил, сговорились они, что поедет он на Кубань, будет присматривать недорогой домик. Но вскоре Николай Ильич получил от него весточку из Гатчины. Друг звал туда. «Домики, Коля, нынче в цене, — писал он. — Да и поиздержался я в дороге. Надо подкопить деньжат, а там уж и двинем». На Кубани обзавёлся Гриша нужными знакомствами, обещал кое-кому помогать по части леса. Нужда в лесе всегда большая. …Они пили много. Гриша заказал ещё и шампанского, и Николай Ильич, прислушиваясь к звукам музыки, любуясь на танцующих, вспоминал о своём лесе как о чём-то совсем-совсем дал-ком и почти нереальном. Он чувствовал себя молодым, сильным, уверенным в себе. «Пригласить потанцевать, что ли, кого?» — подумал он, приглядываясь к женщинам, сидящим за соседним столиком. Но не решился. Шутка ли — не танцевал лет двадцать пять. — Что, старик? Мы ещё гулять можем? — подливая себе в шампанское водки, бормотал Григорий. — Нас, Колюн, ещё рано в расход пускать! Он выпил залпом и вдруг, глянув в глаза Зотову, сказал: — Эх, Колюн, пристань ты моя зимняя! И что я буду делать, когда ты загнёшься? Ведь стар, скотина! — Лицо его сморщилось. Он весь напрягся, сжал кулаки и неожиданно завыл, закусив нижнюю губу: — У-у-у, гады… Николай Ильич перепугался и судорожно вцепился Григорию в руку. Он ещё по колонии знал, что в такие минуты от Мокригина добра не жди — того и гляди начнёт драться и крушить всё подряд. — Гришуха, Гришуха, остынь! Замри! — увещевал Николай Ильич, ощущая, как набухла мускулами Гришина рука. Люди за соседними столиками начали оглядываться. Мокригин обмяк и навалился грудью на стол, сцепив руки на затылке. — Эх, Колюн, гады кругом, гады, — зашептал он громко. — Так и рыщут, так и рыщут. Только ты, старик, и остался у меня. — Он поднял голову, налил водки и выпил залпом. — А ведь и мы, Колюн, в людях ходили! И у нас от кирюх отбою не было! — Ладно, Гриша, ладно, — ласково уговаривал Мокригина Николай Ильич. — Чего ерепениться! Наше дело такое — возок-то с ярмарки. Откукарекали своё. — Ты, может, и откукарекал, петух, а я ещё своего не взял, понял? Мокригин выпил ещё рюмку и совсем запьянел. Глаза у него сделались бессмысленные, он начал приставать к соседям, и Николай Ильич с трудом увёл его из ресторана.12
Утром Николай Ильич едва встал. Во рту было горько и противно, словно эскадрон казаков ночевал. Голова кружилась. Гриша уже ушёл на работу. Оставил на столе записку: «Коля, шамовка в холодильнике. Забирай подчистую». Николай Ильич собрал свой вещмешок, вытащил из холодильника закупленные Гришей продукты. Есть ему не хотелось. Налил только водки из початой бутылки и, крякнув, выпил. Но легче не стало. Уже одевшись, он прошёлся по комнате. Постоял у серванта, разглядывая фужеры, рюмки. «Эко накупил Гришка Собачник! Кто бы подумал». В колонии Мокригина звали Собачником за то, что однажды на лесосеке он подманил коркой хлеба собаку, видать отставшую от охотников, и, убив ударом топора, варил в своём котелке целую неделю. В вагоне Зотов вспомнил про журнал и с трудом разыскал его среди пакетов с продуктами. Теперь уж он повнимательнее рассмотрел все картинки. Их было четыре. И на одной была деревня, очень похожая на его Зайцово. Только подпись какая-то чудная: «Т. Алексеев. Воспоминание о прошлом». На других картинах были изображены незнакомые места — живописные домишки на песчаном берегу моря. А подпись под всеми одна — Т. Алексеев. Николай Ильич стал листать журнал и вдруг остолбенел: с маленькой фотографии на него смотрел сын, Тельман! — Да как же это? — прошептал старик. — Тельман, сынок. Откуда? Он хотел прочитать, что там было написано, но глаза застилала пелена, и он ничего не мог разобрать. Буквы рассыпались, расплывались, и, как ни тёр Николай Ильич глаза, ничего не мог разобрать. Наконец он немного успокоился, пришёл в себя. Повернув журнал ближе к свету, начал медленно читать. Небольшая заметка называлась «Дороги художника Алексеева», а речь шла о его Тельмане, о Тельмане Зотове! «Ну почему же здесь написано „Алексеев“? — недоумевал Николай Ильич. — Вот ведь даже и отчество — Николаевич. Да и под картинами тоже стоит: „Т. Алексеев“». И вдруг понял: фамилию-то материну взял. Не захотел Отцову носить. Не простил!.. Жгучая обида душила его. Не хотелось ни думать, ни двигаться — вот так бы все ехать и ехать, ни с кем не разговаривая. На Мшинской он вышел как в полусне. На платформе с ним кто-то поздоровался, Николай Ильич кивнул машинально, даже не посмотрел, кто это был. Он шёл по знакомой, тысячи раз исхоженной тропинке, не глядя под ноги, и то и дело оступался в глубокий снег. Ветер глухо гудел в вершинах елей. Постепенно привычный шум, и мерцающие снега вокруг, и поскрипывающая под ногами тропинка успокоили его. Обида его поутихла. А на место её пришла горькая мысль: а не сам ли он виноват в том, что разошлись они, разлетелись они с сыном по разным дорогам? Ну поссорились, крепко поссорились они в августе сорок первого. Да что из того? Разве это на всю жизнь — ссора отца с подростком сыном? Ведь добра же, добра хотел он Тельману. От смерти уберечь хотел! Что было, то прошло. Так почему же потом, после войны, не разыскал он сына, единственного на всём белом свете родного ему человека? Не разыскал, не посмотрел ему в глаза, не попросил у него прощения. Ведь сын простил бы. Простил бы, это Николай Ильич твёрдо знал. Родная кровь! Как много могло измениться тогда! И жизнь могла пойти совсем не так, как пошла. Да разве попал бы он в тюрьму, если сын стоял бы рядом? Сын — опора, надежда. Смысл жизни. Николай Ильич вдруг опять вспомнил, как провожал Тельмана в пионерлагерь. Он уж тогда был ему помощником! Нет, не зря они с матерью назвали его в честь Эрнста Тельмана! «А может быть, и не со зла поменял Тельман фамилию, может, жизнь заставила? В жизни каких только передряг не случается — можно и имя своё забыть, не только фамилию. Отчество ведь сын не сменил? Николаич ведь, Николаич!» Эта мысль успокоила его и утвердила в решении узнать в справочном бюро адрес и послать ему письмо. Ответ из адресного бюро пришёл быстро: «Алексеев Тельман Николаевич проживает постоянно в городе Ленинграде, улица Профессора Попова, дом тридцать восемь, квартира четырнадцать».13
Через несколько дней неожиданно приехал Гриша Мокригин. «Что-то случилось, — испугался Николай Ильич, вглядываясь в хмурое лицо друга. — Ох, не ровен час, о продаже леса дознались?! Не собирался ведь он так скоро». А Гриша болтал о разных лесхозовских мелочах и сплетнях как ни в чём не бывало, будто только ради этого и приехал. Но глаза смотрели тревожно. Так тревожно смотрели глаза, что Николай Ильич не выдержал и, сам заражаясь тревогой, спросил: — Да не тяни ты, чёрт! Чего стряслось-то? — Чего у нас может стрястись? Соскучал — вот и прикатил. Невмоготу мне. С утра до вечера только и слышишь: рубли, проценты, выполним — перевыполним. Тошно. К тебе в лес приеду — душу отвожу. Будто снова народился. — Он подмигнул Зотову, вытащил из мешка бутылку водки. Но Николай Ильич чувствовал: неспокойно у друга на душе. Хорохорится для вида. Уж он-то Гришу знает — не первый год знакомы. «Ну да ладно, поиграйся, надоест — сам расскажешь», — подумал он. Достал из подпола грибков, поставил картошку варить. Они сидели допозна, балагурили о том о сём. Вспомнили свою жизнь в колонии. Колония была строгого режима, магазин — один раз в месяц. Посылок ни Зотову, ни Мокригину никто не присылал. Бывало, раскурят одну на двоих самокрутку, сядут на поваленную сосну да размечтаются: «Эх, сюда бы картошечки горячей, рассыпушечки, да кусок хлеба…» — «Да шмат сала», — подскажет кто-нибудь. А уж если совсем разойдутся, то и солёные грибы помянут. Это уж высший смак. Предел мечтаний. Домечтаются до спазм в желудке, пока не крикнет бригадир: «Кончай ночевать. На-ва-а-лись!» Николай Ильич постепенно успокоился, а может, водка подействовала. Только решил: знать, и вправду ничего не приключилось. Мало ли чем Григорий был расстроен поначалу. Когда они легли спать и Зотов задул лампу, Мокригин сказал мечтательно: — Хорошо тут у тебя, Коля, ей-богу, хорошо. Так сердце успокаивается. А ты Зайдово вспомнил! Картинки увидел! Да разве ты жил в Зайцеве в таком спокое? Николай Ильич вдруг спохватился: «Что же это я про Тельмана Грише ничего не сказал? Вот ведь гусь! Всё думаю, дай скажу, дай скажу, а не сказал». Сказать-то хотел, сразу хотел сказать, едва Григорий порог переступил, да медлил. Словно кто останавливал его. Николай Ильич поворочался на кровати и, наконец решившись, сказал: — Гриша, а ведь те картинки, ну что в журнале я тебе показывал, — их Тельман рисовал. Сын. Мокригин молчал. — Ты слышь, Григорий? — позвал Николай Ильич. — Слышу, — как-то отрешённо ответил Мокригин. — Сыскался, значит. — Вот ведь как жизнь-то распорядилась, — сказал задумчиво Николай Ильич. — Я думал, загинул он. С войны ведь, с сорок первого, ни одной весточки не было, а он в художники вышел. Недаром мальчонкой рисовать любил. Только фамилия у него другая, Гриша. Не Зотов он. Гриша вдруг расхохотался. — Да с чего ты, старик, взял, что это твой сын? Мало ли Тельманов на свете. И почудней имена есть! А ты заладил: сын, сын! Рассусоливаешь мне про него… Николаю Ильичу было обидно слушать Гришин смех. Он сказал: — Мой это Тельман, Гриша. Портретик там есть. Точно мой. Да и написано: Тельман Николаевич. Только Алексеев. Материну фамилию взял. Может, чего случилось? Пятнадцать ему было, когда с пленными солдатами от немцев бежал. — Зотов тяжело вздохнул. Воспоминания его одолевали. Горькие старческие воспоминания. Он долго ворочался, потом снова заговорил: — Вот что мне интересно — женат он или нет? Да уж конечно! — сам же себе ответил Зотов. — Сорок пять в нонешнем мае будет. Дак ведь я, Григорий, наверняка дед! — оживился он. — Дед я, Григорий. А может быть, и прадед даже. А что? Ежели он, как и я, в девятнадцать поженился. Тельман-то у нас с Василисой рано появился, ой как рано. Ой, гуси-лебеди, прадед! Слышь, Гриша? Прадед. Мокригин молчал. — Я, Гриша, решил написать ему и адрес уже разузнал. Что старое вспоминать? Жить-то всего ничего осталось. Заснёшь когда-нито и не проснёшься. — Забыл, значит, ты все обиды, забыл, как тебя из-за сына твоего, щенка, фрицы чуть в расход не пустили? — неожиданно зло рявкнул Мокригин. — Он от тебя убёг, на смерть оставил, а ты… Он тридцать лет о себе знать не давал! Сам ведь мне столько раз плакался. Ты что думаешь, не знал он, что папаша у него по тюрьмам да колониям восемь лет от звонка до звонка отышачил? Держи карман шире! Как миленький знал. Уж он-то в Зайцово твоё распроклятое не раз, видать, съездил. И не хотел бы, дак землячки твои всё ему рассказали. В лучшем виде. «Чего он так злится? — удивился Николай Ильич. — Чудак человек!» Словно спохватившись, Мокригин смолк. Потом сказал уже спокойно: — Я, Коля, тебе и вчера говорил: выбрось из головы эти фокусы-покусы. Деревенька моя — ах, ах!.. Сынок теперь сыскался… Прожил полжизни без земляков и без сына — и ещё проживёшь. Без друга — никогда. Нет жизни без верного кореша. Нет опоры. А землячки, детки — фить, разлетелись в разные стороны, кричи — охрипнешь! Он заворочался в кровати так, что пружины застонали. Достал со стула папиросы. Закурил. — Я вот, Коля, в детдоме вырос. А где родился — не знаю. И не интересуюсь. Без роду, Коля, я и без племени. Сколько себя помню — всё с места на место кочевал. Из детдома в детдом. И никуда меня не тянет. Знаешь, как говорится, рос мал, вырос пьян, ничего не знал. — Григорий громко, натужно захохотал. — А спросят меня, откуда я, — «отовсюду», — отвечу. Потом они долго лежали молча. Николай Ильич курил, думал. И, уже совсем засыпая, сказал мечтательно: — Нет, Гриша, что ты ни говори, а напишу я сыну письмо. Мокригин не ответил. «Наверное, уже спит, — подумал Николай Ильич. — Ну да бог с ним. Проспится — отойдёт. И чего он разошёлся?» Но утром Григорий встал хмурый. Молча поел картошки, поджаренной с лосятиной, выпил полстакана водки. А когда оделся и собрался уходить, сказал: — Ты вот что, Коля, поступай как знаешь. Только я тебя родным считал. Надеялся, что друг за друга держаться будем. А ты… — Он посмотрел на Зотова долгим тяжёлым взглядом. — Смотри, Колюн, не прогадай. Ты меня знаешь… Пошлю письмо прокурору, а сам слиняю. Я-то крышу везде найду. А вот как ты с сынком встретишься? Сдохнешь в тюряге. Тебе и трёх лет хватит. Повернулся и ушёл, хлопнув дверью и пнув в сенях подбежавшего приласкаться пса. — У-у, разбойная рожа, — прошептал Николай Ильич, глядя из окошка на удаляющуюся фигуру Мокригина. «Сдурел мужик. Будто белены объелся. „Я тебе друг, я тебе друг!“ А как поперёк что скажешь, того и гляди в рожу заедет. И откуда он свалился на мою голову? И чего ярится?» Зотов долго сидел не двигаясь, тяжело навалясь на стол. Глядел пустыми глазами сквозь замерзающее оконце на тёмный ельник, где только что скрылся Григорий. Ледяные мохнатые веточки незаметно, будто сами собой, рисовались на стекле, сплетались в причудливые узоры, постепенно закрывая от Николая Ильича белую поляну с небольшим стожком и синеющий в рассветной мгле лес. «Не доведут меня до добра мои думы, — вздохнул Зотов, оторвав наконец взгляд от заледеневшего окна. — Делом надо заняться». Он убрал со стола и сел подшивать валенки: давно собирался, да всё было недосуг. Николай Ильич принёс из кладовки кусок войлока, вар, дратву. Сапожный нож оказался туповат, и старик долго точил его на бруске. Ему вспомнилось, как он познакомился в колонии под Архангельском с Гришей. Гриша только что прибыл из пересыльной тюрьмы и сразу же проигрался в карты. Наутро он отправился на работу в лес, напялив на себя несусветное тряпьё. На ногах у него болтались голенища от валенок, а на ступни были намотаны прикрученные верёвкой тряпки. Вечером Николай Ильич стал свидетелем того, как, прижав в углу барака совсем молоденького плачущего паренька, Мокригин сдрючивал с него старенькие валенки. Зотову стало жаль мальчишку, и он сказал Грише: — На что позарился? Через два дня будешь голыми пятками сверкать… А из твоих голенищ я фартовые валеночки слеплю. Сноса не будет. Мокригин глянул на него зверем. Спросил: — Сколько паек? — За так сделаю, — махнул рукою Зотов и за вечер смастерил Грише из голенищ приличную обувку. Батина школа пригодилась — Илья Куприянович Зотов был лучшим сапожником на всю волость. Николай Ильич подшивал валенки и вспоминал про колонию, про то, как сошлись они с Гришей. Тогда разница в годах была особенно заметна. Это сейчас она почти стёрлась, не чувствуется. А в то время Мокригин против Николая Ильича совсем мальчишкой выглядел. Зотов подумал о том, что в первое время их знакомства, глядя на Гришу, всё сына вспоминал. И нет-нет да рождалась тревожная мысль: ну как и сын по кривой дорожке пошёл? Так же, как этот Гриша Собачник, сидевший за грабёж. Только раньше злость на Тельмана все другие мысли пересиливала. Вспомнит, погорюет, да и снова забудет надолго. Чего уж стал покровительствовать ему Гриша, Николай Ильич в толк взять не мог. Да и задумываться не хотелось. Сдружились — и ладно. Может, оттого, что родителей Мокригин не знал? А может, из-за того, что Николай Ильич всегда был ровным, спокойным, не обижался на злые Гришины выходки. Он подумал об этом, и сейчас жалость к Мокригину шевельнулась в нём, но тут же погасла. «Женился бы и жил спокойно», — подумал Николай Ильич, хотя раньше любая мысль об этом вызывала в нём лёгкое чувство ревности.14
Николай Ильич всю ночь не находил себе места. Вставал, закуривал и, накинув на плечи телогрейку, ходил бесконечно по комнате, вздрагивая от скрипа половиц. Дружок, чувствуя, что хозяин не спит, жалобно повизгивал в сенях. Под утро он затопил печь, чтобы хоть как-то занять время, отвлечься. И долго сидел у огня, глядя, как пожирает пламя сухие берёзовые поленья, машинально подбирая отскочившие угольки и бросая их снова в топку. «Ну что же делать? Что делать? — никак не мог решить он. — Писать Тельману или нет? Ведь Гриша такой — на всё способен!» Чуть занялся рассвет, Николай Ильич надел лыжи и отправился в Пехенец, на почту. Купив конверт с маркой, он уселся за маленький столик, забрызганный чернилами и замазанный клеем, и долго сидел над чистым листом бумаги, пока наконец не вывел: «Здравствуйте, Тельман Николаевич…» Он написал письмо, заклеил конверт и поинтересовался у почтальонши, когда отправка. Оказалось, что через полчаса машина увезёт почту на Мшинскую. «Что ж, завтра-послезавтра, должно быть, получит Тельман», — прикинул Зотов и подумал: а не позвонить ли Грише? Может, отмяк его друг-приятель? Николай Ильич заказал разговор с Гатчиной и долго ждал, пока соединят. Кроме него, на почте не было ни одного посетителя. Сонная тишина стояла в комнате. Время от времени начинал стрекотать телеграф, да вполголоса обсуждали какую-то Люську телефонистка и ещё одна востроносая очкастая девица, наверное, завпочтой. Резкий звонок заставил Николая Ильича вздрогнуть. Телефонистка молча протянула ему из-за барьера трубку. — Кто? — отрывисто прозвучало в трубке. Это был голос Мокригина. Он всегда говорил по телефону деловито и важно. Николай Ильич никак не мог привыкнуть к этому и молчал, растерянно соображая, чего бы ему ответить. Вот и сейчас он помолчал чуток, потом спросил, сдержанно кашлянув: — Григорий? — Говорите, — буркнул Мокригин. Видать, не признал Зотова. — Григорий, это я, Николай. — А-а, Колюн! — наконец узнал Мокригин. — Здравствуй! Он сказал это с растяжечкой, и Николай Ильич уловил недобрые нотки в голосе друга. «Сердится», — подумал Зотов и вздохнул. — Ты чего молчишь, Колюн? — спросил Мокригин. — Как дела? — Да всё нормально, — скучным голосом ответил Николай Ильич. Он уже жалел, что позвонил. — Сыну вот письмо отправил… Мокригин несколько секунд молчал, будто собирался с духом, наконец выдавил сиплым голосом: — Не послушал, значит, друга. Я тебя предупреждал, Колюн. Спокойной жизни не жди! Сыночку расскажу про твоё житьё-бытьё: откудова денежки у бати завелись под старость. И ещё кой-куда стукнуть могу. За мной не задолжится… — Он вдруг осёкся. Видать, кто-то вошёл в комнату. И продолжал уже спокойным, даже весёлым голосом: — Так нам, дружище, есть о чём поговорить. Ты меня послезавтра жди с трёхчасового. Жди! Погутарим. И повесил трубку. Николай Ильич грустный поплёлся к себе на кордон. Эти дни он делал всё машинально, словно в полусне. Отвёл двух лужских мужиков на делянку, пометил, что рубить. У мужиков был выписан наряд на строевой лес. Потом спохватился: а вдруг приедет Тельман, а на кордоне запустение, разор. И так в холостяцком доме никогда порядку не было, а последнее время он и вовсе не занимался своим хозяйством: на кухне грязь, гора неделями не мытой посуды. В комнате всё валяется как попало, пол грязный, заплёванный. Николай Ильич согрел ведро воды, вымыл, выскреб ножом полы, убрал всю лишнюю, накопившуюся годами рухлядь в кладовку. В доме стало сразу уютнее, и у Николая Ильича посветлело на душе. Он снова и снова думал о сыне. Представил, как сядут они с Тельманом за стол и будут говорить о врозь прожитых годах. Сколько же им надо вспомнить! А потом он поведёт сына в лес, покажет самые заповедные, самые красивые уголки. И на медведя они сходят вместе. Подумаешь, директору пообещал! Обойдётся. Поводит его по лесу, поводит — нету, ушёл мишка. Мало ли кто вспугнул?! А уж с сыном-то они достанут косолапого. Весной отвезёт он Тельмана на Вялье озеро, где на маленьком островке токуют тяжёлые сторожкие глухари, покажет Орелью Гриву и тетеревиные тока за Владычкином. Как они бурлят ранним весенним утром, когда лес и поляны ещё скрыты густым туманом. Полюбится здесь сыну, ей-богу, полюбится! Эх, только бы он ответил на письмо. Только бы не держал на сердце зло. Отец же он ему, родная кровь! Получил ли сын письмо? И о чём подумал?.. А может быть, Тельман женат и у него дети, семья? Ну и что же, что семья? И внукам нужен дед. Он был бы добрым, заботливым дедом. Как весело стало бы летом у него на кордоне, поселись здесь Тельман с детьми! Он, Николай Ильич, водил бы ребят в лес, а Тельман сидел бы где-нибудь в самом заветном местечке, рисовал. Вон какие красивые его картины напечатали в журнале! Заглядишься. Да и не всякого небось печатают в журнале. Наверняка не всякого. Ну и зачем им старое вспоминать? Зачем? Кто старое вспомянет… Да и жизнь прошла, и Тельман не мальчик, время ли в прошлом копаться? Думал так Николай Ильич, и на душе у него теплело. Но потом вдруг вставало перед ним злое лицо Мокригина, и все светлые мечты расплывались, и оставалась одна горечь и тревога. И тревога эта с каждым часом усиливалась и усиливалась. В тот день, когда обещал приехать Мокригин, Николай Ильич совсем упал духом. Временами он чувствовал такую слабость, что мутилось в голове. Хотелось лечь, закрыть голову подушкой и не шевелиться, не вставать, не думать ни о чём. Ну что ему, Гришке, Тельман? В дом, что ли, просится? Что плохого, если у твоего друга нашёлся вдруг сын? Почему не радоваться вместе? Ведь у них-то ничего не изменится. Почему, спрашивается, Гришка так разозлился, когда узнал, что Николай Ильич хочет разыскать сына и помириться с ним? Может, думает, что не смогут они теперь лес на сторону продавать? Так ведь давно уже сказал Николай Ильич: последний раз уступил ему — и амба. Не тот возраст, чтобы снова в тюрьму. «Ах, Гришка, Гришка! — вздыхал Николай Ильич. — Неужели решил ты, что наши общие денежки делить я с тобой буду? Тьфу, денежки. Если бы Тельман весточку прислал, если бы выпало такое счастье — зачем мне эти денежки? Прожил бы я вместе с сыном и без них. Да и о чём разговор — вилами ещё всё на воде писано, не откликнулся сын и, может так статься, не откликнется. — Но тут же одёргивал себя: — Нет, нет, такого быть не может! Разве оттолкнёт он старого, больного отца? А Гришка-то хорош: „Всё твоему сыну выложу, всё. И про то, что сидел, и про то, как сидел! И о том, что лес воруешь долгие годы“. Ну, положим, что сидел — зачем скрывать? От тюрьмы да от сумы грех зарекаться. А коли и вправду он про лес скажет? Нужен Тельману такой отец? Сын человек известный, уважаемый, ему грехи отцовы не медаль на грудь. Да ведь Гришка-то окаянный, лихой человек, он и прокурору заявит. Подкинет письмишко, а самого ищи-свищи. Денежки наши общие в карман, а сам в края далёкие. И откуда этот цепной пёс на мою голову свалился? Бухгалтер чёртов! У него небось и четырёх классов не кончено. А сумел пристроиться. Меня так ближе сто первого к Питеру не подпустили, а Гришка в Гатчине осел, — со злостью думал Николай Ильич. — Чего он всех ненавидит? Чего таким злым уродился? Жизнь с ним зло поступила? Несправедливо? Ну, рос без отца, без матки… Да ведь мало ли сиротства на белом свете?! Вон после войны сколько сирот осталось! А ведь людьми выросли… Нет, тут что-то другое у Гришки. Может, оттого, что слабый в детстве был и каждый им помыкал? А потом нож в руки взял и увидел, что боятся? Силу почуял. Эх-ха-ха! Вот она, жизнь, что с человеком делает. И ведь отмяк он нынче, отмяк. Поглаже стал. А тут снова! Ну что ему Тельман? Ровно как кость в горле». Голова раскалывалась от этих дум. Временами ему казалось, что он напрасно послал письмо сыну. Может быть, и впрямь не стоило писать? Прожил же он столько лет без Тельмана. Скоротал бы с Гришей Мокригиным и те немногие годы, что остались. Вон сам Гриша — один как перст. А не горюет. И не зря говорит ему, Николаю Ильичу, что ни друзей, ни близких, кроме него, нет. Но такие мысли приходили и уходили, а осталась одна жгучая боль под сердцем. Да зрела злость на того, кто встал на пути к сыну. В полдень, когда до приезда Мокригина остались считанные часы, Николай Ильич вдруг понял, что Гришка не отступит от задуманного. Он вспоминал долгие годы своего знакомства с ним, мелкие, на первый взгляд ничего не значащие случаи из их житухи в колонии, всю их последующую вольную жизнь, и чувство беззащитности перед Мокригиным охватило всё его существо. Нет, Гришка никогда не отступался от задуманного. Что-то в нём было такое, что заставляло людей подчиняться ему. Николай Ильич считал, что только ему повезло на дружбу с этим суровым, может быть, даже жестоким человеком, но сейчас ему показалось, что и его дружба с Мокригиным была лишь цепочкой уступок, уступок его воле, его желаниям. Он опять вспомнил историю с собакой, и ему стало страшно, оттого что не послушался, поступил, может быть, в первый раз по-своему. Да ведь как иначе-то поступить? Сын же, сын родной отыскался! …Николай Ильич посмотрел на часы. Половина второго. Мокригин приедет трёхчасовым поездом. Он всегда был верен своему слову. Николай Ильич надел телогрейку, вышел в сарай. Там, в ловко выдолбленном трухлявом бревне, он прятал старенький трофейный карабин, купленный по случаю несколько лет тому назад у одного заезжего мужика. Он даже и не купил его, а поменял на десяток добрых брёвен. Изредка, лишь в самых крайних случаях, он доставал карабин, чтобы завалить лося. Да и то когда был уверен, что егерь в отъезде. Вот только с патронами последнее время было плохо. Негде достать. Николай Ильич проверил обойму — оставалась последняя. Начиналась метель. Низкие белесые тучи медленно разворачивались над лесом, а за ними темнели другие. На небе не было видно ни одного просвета. Холодный ветер пронизывал насквозь, и Николай Ильич почувствовал, что его начинает бить мелкая дрожь. Он прибавил шагу, но лыжи утопали глубоко, и идти было трудно. Зато он скоро согрелся. Николай Ильич не беспокоился сейчас о том, что будет. Ему казалось, что теперь всё образуется. И Мокригина ему было не жаль, совсем не жаль. И хорошо, что метель. Небось к ночи такая разыграется, что никаких следов не останется. Но он не пошёл напрямик к той тропе, что вела со станции к Владычкину и по которой всегда ходил Мокригин. Время ещё имелось в запасе, и от кордона он уклонился в сторону, старался идти по открытым местам: быстрее занесёт следы. Делал он это не задумываясь, как будто даже ненамеренно. Шёл и шёл, останавливаясь передохнуть, и минута от минуты росла в нём злость на Мокригина, из-за которого приходится вот тащиться по глубокому снегу, вместо того чтобы ждать письма от сына, сидя в тепло натопленном доме… Впереди, метрах в пятистах, чуть заметной серой полоской выбегала из лесу тропинка, ведущая со станции во Владычкино. Ходили по ней редко. Да и кому ходить-то? В деревне осталось всего несколько домов, и только две-три владычкинские бабы торили тропинку к станции. Да и то не всегда. Когда повезёт, предпочитали добираться с попутной машиной, что приезжала то за сеном, то ещё по каким делам. Времени было без пятнадцати четыре. Мокригин ходил быстро, Николай Ильич со своей короткой ногой с трудом поспевал за ним, когда они ходили вместе. Он стал за маленькой ёлкой, осторожно отвёл затвор, загнал патрон в патронник. Он был уверен в себе — стрелял всегда без промаха. А там пусть думают-гадают. Мало ли по лесу охотников шастает. Пуля — дура. Николай Ильич почувствовал, сердцем почувствовал, что Мокригин вот-вот появится из бора. Перехватило дыхание и чуть дрогнула рука, когда он поднял карабин примериться. Но справился с охватившим его ознобом, глубоко вздохнул и тут же увидел идущего, Гришину мохнатую рыжую шапку. Еловый подрост почти скрывал фигуру Мокригина. Николай Ильич видел только голову да успел разглядеть вещевой мешок за спиной. «Небось продуктов несет своему дружку Коле», — мелькнула злорадная мысль, и он нажал на курок. …Он пришёл из лесу в потёмках, совсем обессиленный. Спрятал карабин. Но на душе у него было спокойно. Словно стрелял не сам он, а кто-то другой: понял его страдания и горе и сжалился над стариком, открыл ему дорогу к сыну. И он, спаситель, и грех на душу взял. Николай Ильич не сомневался в том, что Гриша Мокригин мёртв. Ну и что ж, что он не видел его мёртвым. Случись это, ему, может быть, и тошно стало, и совесть его начала бы мучить. А так — был Гриша, и нету. Только выстрел отдался эхом по перелескам. А что Тельман ещё не написал, так это не страшно. Ещё напишет. Да и сам он, Николай Ильич, съездит к сыну. Непременно съездит. Завтра же. У него теперь время есть. Уж они-то вдвоем разберутся во всём, уж они-то найдут дорожку друг к другу. А Гриша теперь не помешает. Впервые за несколько дней Николай Ильич хорошо спал. На следующее утро он зашёл в Пехеиец на почту. Письма опять не было, и Николай Ильич отправился на Мшинскую, на электричку. О Грише он и не вспоминал, только, когда проезжал Гатчину, кольнуло сердце тревогой. Но он успокоил себя. Вот и в Пехенце никто ничего пока не знает: где-где, а на почте-то уж наверняка знали бы. Он ехал к сыну с твёрдой уверенностью, что всё у него устроится. Нет, хватит терзаться в одиночестве. Что он за размазня такая? Надо же решиться! Не может такого произойти, чтобы не признал его сын. Не может.15
…Тельмана дома не оказалось. Сколько ни звонил Николай Ильич, за дверью было тихо. Он решил где-нибудь перекусить и зайти позже. «В крайнем случае с последней электричкой уеду. К ночи-то небось вернётся, — успокаивал он себя. — Мало ли какие дела! На службе задержался». Он долго ходил по городу, останавливаясь у красивых витрин магазинов. Нарочно оттягивал время, чтобы прийти уж наверняка, обязательно застать сына. На Неве, у Петропавловской крепости, Николай Ильич приметил художника с мольбертом и долго стоял поодаль, разглядывая, чего он там рисует. Город был затянут сырым, противным туманом, и на холсте у художника слоился туман, а в просветах намечались зыбкие контуры Зимнего дворца. Николай Ильич стоял молча, затаив дыхание, боясь привлечь внимание художника и рассердить его. Он с какой-то затаённой гордостью думал: «Вот и мой Тельман художник и так же, наверное, стоит где-нибудь, рисует, а люди почтительно рассматривают его картины. И наверное, Тельман хороший художник, коль пропечатали его картины в журнале да ещё написали такие тёплые слова». Николай Ильич вздрогнул, когда у него за спиной, где-то за Кировским мостом, запела звонко труба. «Опять дудит! Ну что за наваждение?» Но здесь песня трубы была иной, не такой отрывистой и хриплой, как у пионерского горниста в лесу. Она лилась над Невой красиво и раздольно. И оборвалась так же неожиданно, как и началась. На крейсере «Аврора» играли вечернюю зорю. Но Николай Ильич этого не знал. Уже совсем стемнело, когда художник сложил мольберт и краски и искоса взглянув на Николая Ильича, пошёл прочь. Николай Ильич тоже пошагал по Кировскому проспекту. Он продрог и, найдя маленькое кафе, где не надо было раздеваться, взял чай с пирожками и сидел там до самого закрытия. К дому он подошёл около десяти часов. И опять много раз звонил, но опять никто не отзывался. Из квартиры напротив высунулся какой-то всклокоченный старик и подозрительно поглядел на Николая Ильича. Николай Ильич хотел спросить старика, не знает ли тот, где его сын, но не успел, — старик быстро захлопнул дверь и долго гремел запорами. Николай Ильич сел на ступеньки. Ему стало до слёз жаль себя, так обидно было, что не сбылась надежда сегодня же увидеть сына. Надо было возвращаться к себе на кордон, ждать следующего дня и опять волноваться. Николай Ильич устал, ему даже двигаться не хотелось. «Вот если бы в Гатчине остановиться!» — подумал он по привычке и вдруг вздрогнул от внезапной мысли, что Гришу Мокригина он больше уже не увидит. Электричка была почти пустая. Николай Ильич, усталый, намёрзшийся, всю дорогу продремал. Когда, сойдя с перрона на Мшинской и поёживаясь от ночного мороза, он свернул на лесную тропу, его окликнули: — Ильич, нешто ты? Погодь, догоню. Он оглянулся и разглядел, несмотря на темноту, что его догоняет женщина. Это была молодая баба из Владычкина, Верка Усольцева. — Вот подвезло-то мне, вот подвезло, — весело затараторила она. — А я смотрю, наших-то никогошеньки. Одной боязно. Дай, думаю, ленинградскую электричку подожду. Может, кто приедет. — Дождалась, значит. Тебе бы кого помоложе, — с усмешкой сказал Николай Ильич. — Скажешь тоже, старый чёрт! — хохотнула Усольцева. — Не до жиру… Тут у нас такие страсти! Хоть на Мшинской почуй. Мужика-то вчерась убили. Прямо перед деревней. Николай Ильич насторожился. Сказал, стараясь быть равнодушным: — Небось опять сбрехнул кто! — Слово тебе даю! — горячась, ответила Верка. — Убили, убили. Настя Акимова и ещё ктой-то из наших баб утром наткнулись. Да и снегом уже замело. Милиции понаехало! Сашку Иванова забрали. Клавкиного хахаля. Да он вовсе и не Ивановым оказался, а ещё какой-то. Не запомнила фамилию. Только Клавка говорит: Сашка-то ни при чём. Ей так и в милиции сказали. Его по другому какому-то делу. — Усольцева передохнула и, всё время оборачиваясь кНиколаю Ильичу, шедшему следом, сказала: — Милиция всех спрашивает, интересуется. Я вот у егеря была, долг отдавала, так сама слышала, милиционер обо всём расспрашивал. И про тебя, дядя Коля, интересовался. Ружьё у тебя какое-то там навроде есть. Николай Ильич похолодел. — Да не путайся ты под ногами, Верка! — прикрикнул он на Усольцеву. — И так всё слышно. Некоторое время они шли молча. «Как же так, как же так? — лихорадочно думал Зотов. — Почему они про меня расспрашивали? Оно конечно, знают в деревне, что Гришка ко мне заезживал. Да ведь он и в Пехенце бывал по делам. Мало ли? Но при чём тут ружьё? Неужели егерь знал, что у меня винтовка?» Верка не выдержала и снова стала рассказывать: — А убитый-то не наш, чужой. Его никто и не признал. Настюха говорит — симпатичный, светленький. Молодой мужик… — Симпатичный? Светленький? — тревожно переспросил Николай Ильич. И вдруг понял, что вовсе и не Гришу Мокригина застрелил он вчера, а какого-то случайного прохожего. Не Гришу, не Гришу! Он шёл будто во сне, не понимая, о чём ещё толкует ему Верка Усольцева, и только повторял про себя: «Не Гришу, не Гришу!..» В конце леса, уже на подходе к владычкинскому полю, он нашёл свои лыжи, спрятанные в ёлках, и, буркнув Усольцевой «до свидания», медленно пошёл через перелески в сторону кордона. Выглянула неяркая луна с бледным, чуть заметным венцом. Тени от елей легли на белые снежные поля. «Вот так, значит, всё обернулось, — шептал Николай Ильич, — жив мой дружок, живёхонек, а человека я зазря положил, убивец». Странно, но его совсем не мучила совесть, пока он считал, что убил Григория, своего давнего друга. И только узнав, что застрелил чужого человека, почувствовал себя убийцей. К прошлому, к сыну, пути теперь не было. Занесло, занесло этот путь метелями и невзгодами, ни пройти, ни проехать. Залаял пёс, услышал хозяина, и вдруг издалека, от Вялья озера, послышался протяжный волчий вой. Но Николай Ильич не обратил на вой внимания. Не услышал.16
Корнилов шёл на работу, уже отчётливо сознавая, что в деле об убийстве художника Тельмана Алексеева есть обстоятельства, которые во что бы то ни стало следует выяснить. Прежде всего мотивы, извечный вопрос: зачем? Старуха Кашина говорила, со слов некой тёти Поли, что у отца с сыном была давным-давно ссора. Отношений друг с другом, судя по всему, не поддерживают. Местные жители никогда не слышали от Зотова, что у него есть сын. А самоубийство лесника? Разве нет в нём ничего странного? Почему, например, повесился он лишь на третий день после убийства? А сами обстоятельства убийства? Кто-то ведь шёл по тропинке от станции следом за Алексеевым, кто-то потоптался вокруг него. В то время, когда Алексеев, может быть, был ещё жив… Кто? «Нет, нет, не так все просто. В архив дело ещё рано отправлять!» Всё утро Корнилову хотелось хоть на час остаться одному и ещё раз обдумать события вчерашнего дня, но, как назло, надо было проводить совещание, выслушивать сотрудников, принимать решения. А без пятнадцати одиннадцать словно что-то кольнуло его — он вспомнил про обещание быть на репетиции. Подосадовав, что опрометчиво пообещал Грановскому обязательно приехать, он вызвал машину. …Впервые в жизни он шёл по пустому театру, по сумрачному холодному фойе. Два-три бра отбрасывали тусклые блики на портреты актёров, развешанные по стенам. Было тихо, только откуда-то издалека неслось приглушённое гудение пылесоса. Корнилов в нерешительности остановился, не зная, куда идти, потом решил заглянуть в зрительный зал. В зале тоже стоял полумрак, лишь сцена была ярко освещена. В первых рядах сидело несколько человек. Среди них — Грановский. Он оглянулся на скрип двери, узнал Корнилова. — А вот и товарищ Пинкертон! — радостно закричал он. — Давайте сюда, дорогой! Сидевшие рядом с режиссёром люди тоже обернулись и бесцеремонно рассматривали приближавшегося Корнилова. Ему было неловко от этой бесцеремонности. Грановский познакомил его со всеми, но Корнилов даже не запомнил фамилий. Кроме одной. Фамилию актрисы Разумовой он знал ещё раньше: недавно у неё была украдена «Волга», и работники уголовного розыска довольно быстро отыскали её в Прибалтике. — Продолжим, мальчики, — сказал Грановский. — Танцульки в квартире Аллочки… Все занятые — на сцену! Корнилов следил за тем, что происходило и на сцене и в зале. Ему было интересно не то, как разворачивались действия по ходу пьесы, а поведение режиссёра, его реплики актёрам, бурная реакция по какому-то незначительному поводу. Некоторые сцены Грановский заставлял повторять по два, три раза. Внимательно приглядываясь ко всему, что происходило вокруг него, Корнилов подсознательно, помимо своего желания, всё время возвращался и возвращался ко вчерашнему дню. Каких только преступлений не приходилось ему раскрывать за время работы в угрозыске! Но убийство художника Тельмана задело его очень сильно. Прежде всего потому, что он не мог его объяснить. Он не верил — сердцем не мог принять! — что убийцей был отец. А ведь всего несколько дней назад он, именно он, Корнилов, вывел работников Лужского уголовного розыска на лесника Зотова! Ещё в мастерской Алексеева, когда подполковник рассматривал картины художника, у него появилось смутное ощущение того, что между старым отшельником, коротавшим свои дни в глухих мшинских лесах, и ленинградским художником существует какая-то связь. Почему возникло это ощущение, Корнилов не смог бы объяснить. Может быть, потому, что пейзажи, развешанные на стенах мастерской, чем-то напомнили ему окрестности Владычкина? Но они, эти пейзажи, были так типичны для юга Ленинградской области! …На сцене произошла заминка. Актёр Борис Стрельников, игравший молодого парня со смешной кличкой Варежка, слишком взволнованно, с некоторым надрывом объяснялся со своей подружкой Леной, которую играла Разумова. А всего час или два назад этот же Варежка всадил нож в живот другой своей приятельнице. Таясь и заметая следы, Варежка прибежал в квартиру Лены, надеясь отсидеться у неё, а заодно и «закрутить любовь». Метания Стрельникова прервал. Грановский, громко захлопал в ладоши. — Нет, нет! Что вы делаете, Боря? — Грановский сорвался с места, легко взбежал на сцену. — Ну что вы делаете, миленький? — плачущим голосом сказал он. — Вы же не рефлектирующий Раскольников, а тупой убийца… Откуда такой разумный взгляд? Ваша совесть глуха, никаких сожалений, никаких раскаяний. Ткнуть человека ножичком для вас — раз плюнуть! Грановский сморщился, словно вспомнил что-то очень неприятное. — Сначала, повторим эту сцену сначала. Актёры медленно, словно нехотя, занимали свои места. Борис Стрельников взял со столика рюмку и подошёл к дивану, на котором полулежала Леночка. Лицо у него было сумрачным, растерянным. — Начали! — сказал Грановский. Стало тихо. Только из фойе доносилось приглушённое бархатными шторами гудение пылесоса. Уборщицы готовили театр к вечернему спектаклю. — Нет, не могу, — сказал Стрельников и поставил рюмку на столик. — Андрей Илларионович, мне нужен ещё день… Я не готов играть равнодушного убийцу. Грановский смешно надул губы, совсем как обиженный мальчик, и минуту стоял в нерешительности. — Андрей Илларионович, — тихо сказала Разумова. — Ну дайте ему денёк, он с ножичком порепетирует. Все засмеялись, а Стрельников зло посмотрел на актрису. — Ладно, ладно, — Грановский поднял успокаивающим жестом руки к груди. — Я тебя понимаю, Боря. Отложим эту сцену. Нечего смеяться, Разумова! Я буду рад, если ты станешь так же серьёзно думать о своих ролях. На сегодня всё кончено. Он сделал несколько шагов, но внезапно круто развернулся и быстро подошёл к Стрельникову. — Ты, Боря, в суд сходил бы, что ли. На убийцу поглядеть… — начал он энергично, но вдруг замолчал, словно какая-то новая мысль, несогласная с высказанной, пришла ему в голову. Досадливо сморщившись, Грановский махнул рукой и оглянулся по сторонам. Увидев Корнилова, он спустился со сцены, подхватил его под руку и провёл к себе. В кабинете главного режиссёра было тепло и уютно. Большая бронзовая нимфа грациозно держала над головой светильник. На стенах висели потускневшие от времени афиши. — По рюмке коньячку? — спросил Грановский, открывая старинный, красного дерева бар. — Спасибо. Я должен в управление ехать, — отказался Корнилов. — А я выпью с вашего разрешения. Что-то разволновался сегодня. — Он налил себе в хрустальную рюмку, сел напротив подполковника. — Ну что вы скажете, дружок? Недовольны? У вас такой хмурый вид… Корнилов улыбнулся: — Не обращайте внимания. Дела заели. Да и человек я скучный. Улыбаюсь редко. — А ваше мнение о пьесе, об актёрах, товарищ скучный человек? — О пьесе мы с вами уже говорили, Андрей Илларионович, — ответил Корнилов. — С точки зрения уголовного розыска — всё в ажуре. — Ох и хитрец же вы, товарищ подполковник! — Грановский выпил коньяк и поставил рюмку на стол. — А если серьёзно? — Если серьёзно, то пока говорить ещё рано. — Корнилов виновато улыбнулся. — Мне время на раздумья требуется. Театрал-то я аховский. — Ну а всё же? — настаивал Грановский. Корнилов молчал, внимательно разглядывая афиши. Андрей Илларионович ждал, нервно сцепляя и расцепляя ладони. — Пьеса неплохая, — неторопливо начал подполковник. — Сюжет лихо закручен. Публика у нас такое любит. Аншлаг на год обеспечен… Грановский хотел что-то возразить, но Корнилов предостерегающе поднял руку. Режиссёр улыбнулся и промолчал. — Неплохая пьеса, Андрей Илларионович, — продолжал Корнилов. — Идея нужная: сколь верёвочка ни вьётся… Но таких пьес можно сотни состряпать. Сотни! И сюжеты ещё закрученнее придумать. Да вы к нам в уголовный розыск приходите — мы вам такого порасскажем. — Так за чем дело стало? — весело спросил Грановский. — Ну а дальше-то что? — как-то вяло отозвался Корнилов. — То есть как это: дальше что? — удивился режиссер. — А так… Посмотрел я эту пьесу — ничего нового. С чем пришёл, с тем и ушёл. — Да чего вы хотите от театра, от пьесы? Какого нового? — В голосе Грановского чувствовалось лёгкое раздражение. Корнилов уловил это и засмеялся. — Вы, Андрей Илларионович, не обращайте внимания на мои умствования. Я предупреждал о своей некомпетентности. Но знаете, когда идёшь в театр или книжку раскрываешь, всегда хочется что-то новенькое о себе узнать… А в общем-то пьеса нормальная. Мне показалось только, что герои в ней слишком одноцветные… — Ну давайте, давайте! Топчите, — уже незлобиво проворчал Грановский. — Сам напросился. — Правда, одноцветные. А ведь в каждом человеке и доброе и злое уживается. — Это уж достоевщина пошла. — А достоевщина — это плохо или хорошо? Молчите? Я вам, Андрей Илларионович, хочу засвидетельствовать: мой опыт общения с людьми подтверждает, что в одном человеке могут соседствовать и доброе и недоброе… — Перед вашим опытом я снимаю шляпу, — сказал Грановский. — Вы бы рассказали про свои дела. — Наши дела как сажа бела. — Да уж это-то воистину так! С такими подонками небось приходится дело иметь! Я одного не понимаю, — горячо заговорил Грановский. — Ну что мы нянчимся с ними? Читаешь в газете: человек убийство совершил, а ему — восемь лет. Что же это такое, дружок? Где же карающая рука закона? Корнилов замолчал. — Ну что вы молчите? Сказать нечего? Вот то-то же! — словно бы обрадовался режиссер. — По глазам вижу: согласны со мной. — Согласен, согласен, — поднял руки Игорь Васильевич. — Законы наши нуждаются в совершенствовании. Не всегда, правда, в сторону ужесточения наказаний… — Вы мне скажите, Игорь Васильевич, как на духу скажите, — спросил вдруг режиссёр, внимательно заглядывая в глаза Корнилову, — какое преступление вам лично, вам как человеку, наиболее омерзительно? — Взяточничество, — твёрдо сказал Корнилов. — Лихоимство всех мастей… — Взяточничество? — разочарованно переспросил Грановский. — Но есть же более мерзкие вещи. — Самое мерзкое — лихоимство, — горячо запротестовал Игорь Васильевич. — Вот — чудище обло, огромно… Это чудище может прикинуться самой невинностью, а заражает всё вокруг. Учёные провели недавно такое исследование: предложили большой группе людей оценить по степени тяжести десять преступлений. И знаете, какой результат? У всех опрошенных групп дача взятки оказалась на последнем месте… А ведь это порождает двойную мораль… — Так! — Грановский сделал энергичный жест рукой, нацелив длинный палец на Корнилова. — Но если говорить вообще, то меня больше пугает не само преступление, — сказал Игорь Васильевич, — а готовность некоторых людей совершить его… — Заметив недоумённый взгляд Грановского, Корнилов добавил извиняющимся тоном: — Может быть, это я слишком упрощённо? — Он прищурился, будто пытался разглядеть что-то далёкое. — Да нет, пожалуй, именно это я и хотел сказать. Меня пугает, что некоторые люди больше боятся карающего меча закона, чем голоса собственной совести, собственного разума. — Он заговорил с необыкновенной горячностью: — Вот представьте себе — иное существо может прожить долгую жизнь, не совершив ни разу не то что преступления — проступка не совершив. Всю свою долгую жизнь такое существо аккуратно покупало в трамвае билет, не брало чужого. А почему? Только из-за страха быть пойманным! Человечишка этот не украл ни разу только потому, что боялся — посадят! И не убил поэтому! Понимаете? Грановский протестующе поднял руку, но Корнилов опять остановил его: — Понимаете, понимаете! Только согласиться не можете, потому что привыкли думать по-другому. Привычка вам мешает. И вот живёт такой человечишка, вечно готовый к подлости, к преступлению. Ждёт своего часа. И час этот может прийти. Такой час, когда наконец он увидит, почувствует: бери, никто никогда не увидит, убей — не дознаются! И украдёт, и убьёт, и предаст! Вот кого я боюсь больше всего. С таким человечишкой я, может быть, годы бок о бок живу, и он меня в любое время предаст, совершит какую-нибудь пакость. Когда почувствует, что останется безнаказанным. — Вы это всё всерьёз? — удивленно спросил Грановский. — Или на вас полемический стих нашёл? — Всерьёз. — Корнилов сел в кресло, устало откинулся на спинку. — А вы, конечно, со мной не согласны? — Нет, я не могу утверждать, что не согласен, — растерялся режиссёр и развёл руками. — Всё, что вы говорите, очень занятно. — Занятно? — Простите, ради бога. Словцо не к случаю, — Грановский улыбнулся смущённо. — А как же «души прекрасные порывы»? Ум, сердце, чувство долга, наконец! Уж не считаете ли вы, что чувство долга — подневольное чувство? Продиктовано страхом перед ответственностью. — Что за привычка укоренилась в нашей жизни! — раздражаясь, сказал Корнилов. — Всё толкуется, как говорит наш брат юрист, расширительно! Андрей Илларионович, я лишь одно хочу сказать… Нет, нет, я просто утверждаю: существуют в нашей жизни человеки, не совершившие преступления только из страха расплаты. Даже нет! Они не столько боятся расплаты, сколько быть узнанными. С преступниками мы справимся. Рано или поздно мы их вылавливаем всех. Но как распознать человечишку с ограниченной совестью? Молчите? А я так думаю, что в некоторых случаях не распознать! — Он замолчал и несколько секунд сидел задумавшись. Грановский тоже молчал. Неторопливо набивал трубку уминая табак большим пальцем. — Расскажу вам один страшный случай, — снова заговорил Корнилов. — Страшный не самим преступлением, а тем, какой человек это преступление совершил. Представьте себе: март сорок второго года. Ленинград только-только начал оправляться от страшной зимы. Очищают улицы. Добровольцы-сандружинницы ходят по квартирам — помогают больным, увозят мёртвых. И одна из этих немолодых женщин, пока подруги уносят мёртвую старушку, раскрывает стоявшую на столике металлическую коробку из-под чая и находит в ней драгоценности. И кладёт их в карман. Кладёт, потому что никто не видит, кладёт, потому что знает: из всех обитателей квартиры в живых никого не осталось — старушка была последней… А эта женщина слыла добропорядочной, её уважали друзья и сослуживцы, почитали ученики… У неё были ученики! И она их, наверное, добрым делам учила. — Вот что делает с людьми жадность, — подал голос Грановский. — Жадность-то жадность… Но не все жадные — воры. И не все злые — хулиганы. И не все лгуны — лжесвидетели. Правда? Режиссёр промолчал. — Если человека с раннего детства воспитали так, что честность и неприятие всякого зла стали главными чертами его натуры, никакие соблазны ему не страшны, — продолжал Корнилов. — Поступки этого человека продиктованы его пониманием добра и зла, а не боязнью наказания. Такие люди умирают, ни разу в жизни не взяв в руки Уголовный кодекс. А эта женщина… Ну что ж, вот вам пример человека с двойной моралью. Не подвернись ей тогда случай, жила бы честно. До следующего. Но искушений-то в жизни много! — А как же её поймали? — удивился Грановский. — Это уже дело десятое… Через пятнадцать лет пришла продавать золотой браслет. А браслет уникальный, ещё до войны был взят на учёт государством. Его старушка завещала музею. — Судили? — Нет. Срок давности истёк. Да разве только в этом дело? Кем она к старости пришла? Воровкой… Я на каждом углу кричу: профилактика, профилактика! Но не такая, как её понимают некоторые: имеет подросток пять приводов в милицию — закрепляют за ним шефа с завода, и на этом всё кончается. Нет, братцы! Профилактика начинается с родителей. У них ещё и ребёнок не родился, а мы должны знать: смогут ли они правильно своё дитя воспитать? И научить их этому искусству. И вмешаться, когда увидим, что не смогут родители настоящего гражданина вырастить. И вмешаться не тогда, когда парень попробует чужие велосипеды угонять, а раньше, когда он в ползунковом возрасте каждый день пьяного отца или мать будет видеть. — А у вас дети есть? — улыбаясь, поинтересовался Грановский. — Нету, — помрачнев, ответил Корнилов. — Я вдовец. Вот женюсь снова — обязательно заведу. Вы не смотрите, что я старый. Ещё и пятидесяти нет. — Он помолчал. — Ну что вы на меня так смотрите? Я кажусь вам скептиком? Наверное, даже мизантропом? Нет, дружочек. — Корнилов досадливо махнул рукой: — Ваш лексикой! Он закурил сигарету. Грановский, зажав в зубах свою потухшую трубку, задумался. — Это страшно. То, о чём вы сейчас говорили, — заметил он после некоторого молчания. — Но я чувствую, что вы правы. Среди честных, великодушных, чистых душой живут и подлецы… — Нет, не о подлецах я, — перебил Корнилов. — Да, да. Я понимаю. Вы говорите о людях, которые способны совершать подлость. Это не одно и то же. Да. Но оттого, что именно они рядом, особенно страшно. Они помолчали. — Андрей Илларионович, — лениво-ласково сказал Корнилов. — А ведь ваш Боря Стрельников никогда не сыграет бандита Варежку. — Что? Не сыграет? — удивился Грановский. — Почему это не сыграет? — повторил он недовольно. — Он человек, видать, очень чистый. Наивный чуть-чуть. Ему просто характер этого персонажа, с позволения сказать, будет не понять. — Но ведь он актёр! Вы упрощённо мыслите, дружочек! Для того, чтобы сыграть леди Макбет, совсем не надо быть чудовищем. — Но Стрельников всё-таки не сыграет. Хорошо не сыграет. Он ещё слишком молод и неопытен, чтобы понять характер Варежки, а чтобы интуитивно почувствовать, у него консистенция другая. А про леди Макбет — это вы зря… Грановский стал сердито раскуривать трубку. Спички у него ломались, и он ожесточённо бросал их на пушистый ковёр. Раскурив наконец, режиссёр ворчливо сказал: — Ну и подсунули мне консультанта. Не приведи господи. Спектакль сорвёт. — Он снова выпил и подмигнул Корнилову: — Ну уж дудки. Я из Бори Стрельникова сделаю этого бандюгу. — И тихо добавил: — А потом посмотрим… Когда Корнилов уходил, Грановский задержал его руку в своей и спросил строго: — Значит, заветный ключик — дети? — Да, дети, — сказал Корнилов. — Надо с раннего детства воспитывать в человеке отвращение к разной мерзости. А вы разве с этим не согласны? Корнилов ушёл, а Грановский долго ходил по кабинету, попыхивая трубкой. «Хм, как это я так легко согласился с этим ершистым подполковником, — думал он. — Странный человек, немолодой, угрюмоват, и вдруг такой задор! Мыслит он интересно, но спорно, спорно… Целая философская система. Нет, нет! Уж, во всяком случае, спорно его утверждение, что не совершивший преступления, но способный его совершить опаснее, чем настоящий преступник… Нет, дружочек!» И вдруг почему-то подумал о своём бывшем приятеле Пастухове… «Тьфу, чёрт! — выругался Андрей Илларионович. — Так можно далеко зайти!»17
— Послушай, Игорь Васильевич, ну что ты маешься? — спросил Белянчиков, глядя в упор на Корнилова своими чёрными немигающими глазами. Разговаривали они в кабинете Корнилова после того, как из Луги позвонил Белозеров и сообщил, что следователь дело об убийстве Алексеева и самоубийстве лесника Зотова собирается закрывать. — А мне непонятно, Юра, почему ты не маешься, — ответил тот. Он встал, прошёлся по кабинету, глядя себе под ноги, хмурый, сутулый больше, чем всегда, словно его придавила эта история на станции Мшинская. Белянчиков молчал, сосредоточенно барабаня пальцами по столу. Он в общем-то чувствовал, почему мается шеф. Слава богу, за четырнадцать лет он изучил его характер! Но ему было досадно, что Игорь Васильевич не может успокоиться из-за этого дела. Уж здесь-то все точки расставлены… Художника Тельмана Алексеева убил его родной отец, старик Зотов. Зачем? Кто теперь сможет ответить на этот праздный вопрос? Нет, не праздный, конечно… Но ответить-то на него некому! Отец убил сына и повесился сам. Страшно. Господи, каких только не бывает на свете трагедий! Но они-то, они, работники розыска, что ещё могут сделать? Заняться поисками мотивов? Ах-ах, мы не простые сыщики, мы глубокие психологи! Смотрите, мы не только нашли преступника, но докопались ещё, почему он стал убийцей да ещё и сам повесился! Мы и до этого докопались. Месяц потратили, но докопались. А кто будет в это время Витю Паршина, по кличке Кочан, искать? Взломщика и бандита. А участников ограбления в Приморском парке? — Ты, Игорь Васильевич, лучше меня знаешь, что мы сделали всё, что положено по закону нам сделать, — твёрдо сказал Белянчиков. — Был бы Зотов жив, суд выяснил бы мотивы убийства. А так… Следователь дело собирается прекратить. Прокурор, думаю, утвердит его решение. — Утвердит, утвердит, — говорил недовольно Корнилов. Он подошёл к Белянчикову и спросил: — А ты можешь мне ответить, кто шёл вместе с художником со станции? Кто топтался возле его тела? Участковый-то видел следы?! И почему этот кто-то не попытался оказать ему помощь? Ведь Алексеев не сразу умер? И тебя не грызли сомнения, когда ты узнал, что отец убил сына, которого не видел почти тридцать лет? — Откуда нам знать, виделись они или нет? Может, и встречались? — Ну, во-первых, мы кое-что всё-таки знаем, — начиная раздражаться, сказал Корнилов. — Участковый инспектор не зря пороги обивал по всем окрестным деревням. А обыск у отца и сына тебя ни в чём не убедил? Ни одного письма, ни одной строки переписки… — Он вдруг заметил, как Белянчиков подтянул брюки на коленях и осторожно расправил складку. Белянчиков всегда так делал. Но сейчас этот машинальный жест капитана вывел Корнилова из равновесия. С трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить, он сказал: — Да и вообще, Юра, голова и сердце на то и даны человеку, чтобы сомневаться. Хотя бы время от времени. Хотя бы в таких трагических случаях. — У тебя есть сомнения в том, что Алексеева убил отец? — с вызовом спросил Белянчиков, уловив раздражение и укор в словах Корнилова. — Известные нам факты говорят, что лесник Зотов убил Алексеева, — сказал Корнилов, упирая на слово «известные». — Но прежде чем подвести черту под этим делом, я должен найти ответы на некоторые известные и тебе вопросы. Ты не допускаешь, что произошла какая-то трагическая случайность? — Даже если ты ответишь на все свои вопросы, ничего не изменится! Убийцей как был лесник, так он и останется, сообщников ты не выявишь — их нет. Во имя чего же затевать новые поиски? Виновный на свободе не гуляет. — Истина гуляет где-то, — почти крикнул Игорь Васильевич. «Ну чего я горячусь? Белянчикова всё равно не переубедишь. Сомнения не в его характере», — подумал он и добавил устало: — Сухой ты человек, Юра! — Ну-ну, — обиженно протянул Белянчиков и встал. — Я, пожалуй, пойду. Нам с Семёном Бугаевым надо на Острова ехать. Там третье ограбление подряд. Что-то райотдел медленно раскачивается. Он подошёл к двери, но не открыл её, а обернулся к Корнилову. — Знаешь, Игорь, даже если ты узнаешь что-то новое, какую-то новую истину установишь, она бесплодной будет. Ты её практически никак не сможешь использовать. Не в каждом колодце воду найдёшь, как глубоко ни копай. Это, между прочим, народная мудрость. — И вышел, осторожно прикрыв дверь. «А не напрасно я маюсь? — оставшись один, с горечью подумал Корнилов. — Вечно пытаюсь все точки расставить. „Не в каждом колодце воду найдёшь…“ Эх, Белянчиков, и поговорки-то по своему размеру подбираешь! Теоретик. „Бесплодная истина“. Что за чушь! Не может быть истина бесплодной». Корнилов закурил. Неприятный осадок от разговора с Юрием Евгеньевичем мешал сосредоточиться. «Ладно, потом обдумаю слова Белянчикова. Сейчас не время собственными комплексами заниматься. Даже если не выясню ничего нового, найду подтверждение тому, что известно. А этого разве мало? Ошибка следствия очевидна — они отнеслись к этому делу как к рядовому убийству. А произошла трагедия, из ряда вон выходящая!» Он подошёл к столу, снял телефонную трубку: хотел позвонить матери, сказать, что едет. Но передумал. Машинально крутанул ручку сейфа: закрыт ли. Оделся. Погода выдалась промозглая. Прошлой ночью подул южный ветер, распустил снег, и люди шагали по жидкой снежной кашице, шарахаясь от автомашин, из-под которых веером разлетался, снег с водой. Над городом висел туман, и свет от фонарей был тусклым и безжизненным. Корнилов вышел на Кутузовскую набережную и зашагал к Кировскому мосту. Этот путь был чуть длиннее, но он специально выбрал его: хотел до прихода домой успокоиться, привести в порядок мысли. У него сразу же промокли хвалёные финские ботинки, и он пошёл не разбирая дороги. Стоял конец января, а Корнилову вдруг почудился в воздухе лёгкий запах корюшки, маленькой невской рыбёшки, которую так любят ленинградцы и которой в конце апреля пахнет на улицах, когда её продают на каждом углу. Её запах нельзя спутать с запахом другой рыбы. Ленинградская весна всегда пахнет корюшкой. «Ну откуда корюшка, просто от воды пахнуло свежестью, — подумал Корнилов. — Но всё равно весной пахнет. Весной». Он стал думать о весне, о том, как поедет отдыхать в Крым. Он решил ехать в отпуск в апреле. И обязательно в Крым, когда всё там цветет. Думать об этом было приятно, и Корнилов пришёл домой повеселевший. Но утром он проснулся очень рано — ещё шести не было. И проснулся с мыслью об этой проклятой бесплодной истине. Он долго лежал и думал о Белянчикове. Сначала думал о нём с некоторой даже завистью. Позавидовал его умению быстро переключаться на новые дела, не выматывать себе душу сожалениями о чём-то ускользнувшем, не выясненном до конца. Потом вдруг вспомнил, что Белянчиков никогда не брался за дела о самоубийствах. Говорил неприязненно: пустая трата времени. Живыми надо заниматься. Корнилов вспомнил об этом и осудил Белянчикова. Выяснить, что привело человека к трагедии, — ведь это так важно! Для будущего важно. А значит, и для живых. И не всегда предсмертная записка, даже если она и была, правильно объясняла мотивы. Ну разве мог человек, находясь в таком состоянии, логично оценить поступок, который готовился совершить? А сколько раз бывало, что причина самоубийства — живые, здравствующие люди, заниматься которыми и призывал Белянчиков. Нет, не всё так просто! Корнилов знал, что Белянчиков, его старый сослуживец и друг, — честный и умный человек. И добросовестный. Он никогда не позволял себе верхоглядства. И умел быстро отключаться от прошедших дел и отдавать все свои силы новым. А Корнилов не умел. Прошлое всегда цепко сидело в нём. …Придя на работу, он провёл ежедневную оперативку, — начальник уголовного розыска был в командировке, а в его отсутствие оперативки всегда вёл Корнилов. Сводка была неспокойной: несколько краж в новостройках, изнасилование в Парголове. — Семён, через полчаса зайди ко мне. Расскажешь, что вы там собираетесь делать в Невском районе, — сказал Корнилов Бугаеву, заканчивая оперативку. — Я бы хотел доложить тебе по вчерашнему ограблению, — попросил Белянчиков. — Есть кое-что новое… Преступников взяли. — Я к тебе загляну сам… Попозже. — Корнилов нетерпеливо постучал по столу пальцами. Когда все разошлись, он снял трубку прямого телефона к начальнику управления. Тот не отвечал. «Вроде бы с утра был на месте», — подумал Корнилов. Положил трубку, поднялся и нервно заходил по кабинету. В это время загудел зуммер телефона. — Вы звонили, товарищ Корнилов? — спросил Владимир Степанович. — Я по смольнинскому телефону разговаривал. — Да, товарищ генерал. Разрешите зайти? По одному делу… — Заходите. Когда Корнилов открыл дверь в кабинет, генерал опять разговаривал по телефону. Игорь Васильевич хотел было подождать, но генерал увидел его, махнул рукой, показав на кресло. — Ну что, товарищ Корнилов? — спросил Владимир Степанович, закончив разговор и положив трубку. — Как поживают сыщики? Уж не хотите ли вы сказать о том, что задержаны вчерашние грабители? — Задержаны. Мне только что доложил капитан Белянчиков, сегодня их взяли. — Этот ваш Белянчиков опытный работник. Быстро умеет закрутить розыск, — уважительно сказал генерал. — Да, способный сыщик. Очень организованный человек. Генерал согласно покивал головой, сказал уже буднично: — Так что ж, какие дела? — Товарищ генерал, — Корнилов на мгновение замялся, подумав: «А не зря ли всё-таки я затеваюсь?» — Владимир Степанович, дело об убийстве на станции Мшинской прокуратура собирается закрывать из-за смерти убийцы… Я вам докладывал, помните, отец и сын? Генерал кивнул. Он слушал внимательно, давно уже привыкнув к тому, что подполковник, один из лучших специалистов уголовного розыска, по пустякам не тревожит. — Но есть в этом деле несколько белых пятен, — продолжал Корнилов. — Ну, как бы сказать поточнее? — Он помедлил секунду. — Дополнительный розыск может и не оказать никакого влияния на конечный результат уже проведённого расследования. Всё останется по-прежнему… Я очень путано говорю? — Корнилов виновато улыбнулся. Генерал улыбнулся тоже: — Не путано, Игорь Васильевич. Мне только непонятно пока, к чему вы клоните. — Владимир Степанович, из-за того, что лесник Зотов покончил с собой, сложилась необычная ситуация. — Корнилов вдруг нашёл нужные слова. — Знаете, как у экспериментаторов иногда бывает: открытие сделали, конечный результат есть. Но ведь надо ещё обосновать это открытие, исследовательскую работу провести, которая дала бы ключ к пониманию первопричин открытия… — Причинно-следственные связи не выявлены? Корнилов кивнул: — Вот именно. Причинно-следственные связи! Они ведь в первую очередь для нас важны. И я только тогда окончательно поверю в то, что Зотов сына убил, когда эти самые причинно-следственные связи выясню… — Вы что же, не уверены в том, что Алексеева убил отец? — спросил Владимир Степанович. В его словах чувствовались нотки недоумения. Корнилов непроизвольно поморщился. Словно услышал, как по стеклу ножом поскребли. — Я знаю, что лесник Зотов застрелил художника Алексеева, — ответил он. — И следствие располагает серьёзными доказательствами. Они так и посчитали: главное, дескать, сделано, убийца найден, но на свободе не гуляет. Но ведь мы ничего не знаем о причинах… — Эх, кабы нам всегда причины знать! — задумчиво проговорил генерал. — Случай, Владимир Степанович, уж больно серьёзный. Надо попытаться ясность внести. Правда, один мой товарищ сказал: «Даже если до истины ты докопаешься, она будет бесплодной, твоя истина. Ты её никуда не приложишь. Только собственное любопытство удовлетворишь». Но я с этим не согласен. — Ну и что же, хотите собственное любопытство удовлетворить? — спросил генерал, и Корнилов не понял, то ли он пошутил, то ли осудил его. — Нет, я хочу только, чтобы в каждом деле была полная ясность, — твёрдо ответил Корнилов. — Нельзя считать дело закрытым, если есть вопросы без ответов… — Я тоже за полную ясность. — Владимир Степанович задумался, глядя куда-то мимо Корнилова. Лицо его стало пасмурным, озабоченным, словно он вспомнил что-то тревожное и досадное. — Я тоже за полную ясность… — Он хотел ещё что-то добавить, но не добавил, а откинулся на спинку кресла и неожиданно улыбнулся доброй, какой-то простодушной улыбкой. — Вот ещё с флота помню штурманскую мудрость: всякий случай должен быть изложен в сжатой, но ясной форме, не допускающей каких-либо сомнений или неправильного толкования! — отчеканивая каждое слово, продекламировал он. — Так в капитанском справочнике записано. Все в управлении знали, что генерал в молодые годы был штурманом, ходил в загранку. Видно, с той поры осталось в нём пристрастие к чёткости и порядку, удивительный лаконизм, так полюбившийся всем сотрудникам. И лёгкий налет франтоватости, какого-то едва уловимого морского шика, которому многие стремились подражать. — Так зачем же вы ко мне пришли? Обсудить теоретические вопросы? Судя по всему, вы для себя их давно решили. Значит, хотите получить от меня разрешение самому заняться этим делом? Корнилов кивнул. — А вы, подполковник, сегодняшнюю сводку видели? — Я уже проводил в своём управлении оперативку. — Ленинградцев хвалят и хвалят на всех совещаниях… И за то, что преступность среди подростков снижается, и за связь со школой, и за опорные пункты. А в те минуты, когда вы сводку читаете, у вас не создаётся впечатление, что нас перехваливают? — Нет, Владимир Степанович. Генерал покачал головой: — Однако с самокритикой в уголовном розыске явно не всё в порядке. — Потом подумал и сказал: — Игорь Васильевич, я разрешаю лично вам заняться мшинским делом. Три дня. Но не скрою, у меня уже не первый раз появляются сомнения: а не слишком ли часто вы берёте на себя конкретные операции, вместо того чтобы решать вопросы общего руководства? Вы ведь заместитель начальника управления розыска. Ваш опыт и знания надо более рационально использовать… Корнилов вспыхнул. Сказал тихо: — Я обдумаю ваше замечание, товарищ генерал. Разрешите идти? Владимир Степанович добродушно рассмеялся: — До чего у вас в уголовном розыске народ обидчивый! Это что, Игорь Васильевич, профессиональная болезнь? Идите, идите! И можете ничего не обдумывать — я ведь знаю, что вы потом без ложной скромности скажете мне: я сыщик, у меня это получается лучше, чем общее руководство, прошу вас… и так далее. Генерал говорил это так весело и добродушно, что и Корнилов не выдержал, улыбнулся. Придя к себе в кабинет, он позвонил в Лугу, попросил начальника уголовного розыска Белозерова срочно прислать в управление подробную справку по делу об убийстве Алексеева. Потом зашёл к Белянчикову. Тот сидел и читал какие-то бумаги. На столе у него лежали новенький стартовый пистолет и небольшой изящный наган с ручкой, отделанной перламутром. — Ого! — удивился Корнилов. — Целый арсенал. Откуда? — Вчерашние грабители. Я тебе и хотел рассказать после оперативки… — Я ходил по начальству. — У Владимира Степановича был? Ну что? Разрешил заняться мшинским делом? — Разрешил. Дал три дня. — Корнилов вздохнул. Лицо его сделалось замкнутым. — Короче говоря, это дело я доведу до конца, — сказал он. — Или, как ты считаешь, до середины. — Белозерову звонить? — спросил Белянчиков. — Нет, не надо. Я уже позвонил. — Корнилов взял со стола наган. — Что-то я такой модели не припомню. — Вот-вот! Даже ты не припомнишь, а тут и припоминать нечего, ведь это пугач. Но сделан-то как! И представь себе старушку, когда из кустов на неё с таким шутильником парни выходят! Везут папеньки своим деткам из заграничных вояжей! — Быстро ты вышел на грабителей. — Да разве это грабители? Сопляки! — сказал Белянчиков с ненавистью. — Обе потерпевшие рассказали, что у парней пистолеты… А мальчишки молодые — откуда у них настоящее оружие? Вот мы и опросили во всём районе ребят, дворников, не видели ли у кого пугачи, стартовые пистолеты… — И добавил без перехода: — Упорный ты, Игорь Васильевич! Всегда на своём поставишь. — Осуждаешь? — поинтересовался Корнилов. Белянчиков пожал плечами. Несколько мгновений сидел молча, сосредоточенно разглядывал бумаги, разложенные на столе. Потом сказал: — Я к обеду закончу оформление. Могу подключиться. — Не-е-ет! — покачал головой Корнилов. — Когда берёшься за дело, надо иметь представление, ради чего. А для тебя уже всё ясно. Ты считаешь, что дело пора в архив. — И добавил: — Бесплодными-то, Юра, истины от людского равнодушия становятся. Корнилов произнёс это зло и тут же пожалел о резкости. Белянчиков вскочил со стула, глаза его недобро сузились. Стало заметно, как краска проступила на его смуглом лице. — Ты сиди, сиди, Юрий Евгеньевич! Не скачи. Закончишь свои дела, займись наконец подготовкой совещания по профилактике. Тебе поручили готовить, а ты пока палец о палец не ударил… А Бугаев! Дал мне свою справку для доклада — стыдно читать. Ни анализа, ни одной свежей мысли. Окрошка газетных статей. А язык!.. Я сейчас уезжаю, — добавил он уже спокойнее. — Буду через два-три дня. Чтобы к этому времени с совещанием была, полная ясность. Понял? — Слушаюсь, — тихо ответил Белянчиков, глядя в сторону.18
Первое, с чего начал Игорь Васильевич, — съездил на улицу Герцена, в Союз художников, расспросил об Алексееве. Здесь, однако, о личной жизни Тельмана Николаевича не знали почти ничего. — Кажется, женат, — сказал секретарь правления. — Да ведь к нам уже приезжали от вас — И, пожав плечами, словно извиняясь за свою неосведомлённость, грустно добавил: — А про отца ничего не знаю. Алексеев работягой был — в союзе редко появлялся. Не то что некоторые, — он неопределённо кивнул на дверь и пренебрежительно усмехнулся. — Пробивальщики. — Он замолчал и некоторое время сидел задумавшись, хмурясь. Будто вспомнил о чём-то неприятном и неизбежном. Потом сказал строго: — Тельман вкалывал… Несколько лет на Севере пропадал. С весны до поздней осени. Да вы, наверное, знаете — мы в прошлом году его персональную выставку устраивали. В газетах о ней много писали. Потом Корнилов зашёл в отдел кадров, полистал личное дело Алексеева. Кроме пожелтевшего листка по учёту кадров да старой характеристики, выданной для поездки в Италию, там ничего не было. И в анкете, и в характеристике значилось, что отец Тельмана Николаевича Алексеева — Николай Ильич Зотов — пропал без вести в годы оккупации… «Неужели Алексеев только сейчас узнал о том, что отец жив?» — подумал Игорь Васильевич. Это было похоже на правду. Судя по свидетельству жителей Владычкина, сын никогда к леснику не приезжал. Никто даже не знал о его существовании! Никто, кроме старухи Кашиной. Да и она слышала лишь о том, что когда-то у Зотова был сын… Был! А 13 января 1971 года Тельман Алексеев, писавший в листке по учёту кадров, что его отец пропал без вести, поспешно собрался, схватил лыжи и сел в поезд, отправившись на свидание к отцу! «И был убит!» — сверлила навязчивая мысль, но Корнилов сказал себе: «Не торопись! Разберись по порядку… Кто кого разыскал? Сын отца или отец сына? Это важно? Наверное, важно». Прямо из отдела кадров союза он позвонил в городское справочное бюро. Попросил выяснить, не разыскивал ли кто-нибудь за последний месяц Алексеева Тельмана Николаевича. Ему ответили через пятнадцать минут. Да, адрес Алексеева запрашивали в начале января. Корнилов попросил у прокурора разрешение ещё раз осмотреть квартиру Алексеева. Он уже уверился в том, что найдёт там письмо или телеграмму от отца. Ведь в карманах убитого ничего подобного не обнаружили. В квартире Алексеева царило запустение. Вид после обыска был такой, словно хозяин второпях собирался куда-то уезжать и никак не мог найти что-то очень нужное ему в дорогу: вещи лежали в беспорядке, ящики у письменного стола выдвинуты. Повсюду валялись книги, какие-то папки. Игорь Васильевич вдруг представил, как возвращается из командировки жена Алексеева, и сокрушённо покачал головой. Понятые, снова приглашённые им, сидели, тихо переговариваясь о каких-то своих делах. Прежде всего Корнилов не торопясь, дотошно осмотрел костюмы и пальто. Ничего интересного он там не нашёл, кроме небольшого блокнота с беглыми зарисовками. Игорь Васильевич перелистал его страница за страницей — никаких записей: головы девушек, ребят, контуры каких-то причудливых пейзажей… Книги. Теперь следовало внимательно перелистать книги. Художник мог сунуть письмо в книгу. Книг было много, и Игорь Васильевич начал с тех, что лежали на письменном столе. Его поразило обилие богато иллюстрированных книг по истории средневековья. Все они были часто переложены закладками, но писем среди этих закладок не было. Но зато уже в первой из книг, взятых с дивана, Корнилов нашёл свёрнутый вдвое тетрадный листок в косую линейку. Это было письмо. «Здравствуйте, Тельман Николаевич. Пишет Вам отец Николай Ильич Зотов. Сколькие годы прошли, а мы не свиделись, не судьба. Я уже старик, скоро время моё придёт. Хотел бы повидать Вас, просить прощения, коли виновен в чём. Живу я на кордоне Замостье за деревней Владычкино, от Мшинской двенадцать вёрст. Лесникую. Хоть и возраст мой вышел, а пенсии нет, не заработал. Но живу исправно. Грибы, ягоды. И места у нас — красивше не найти. Хотел бы только повидать тебя, сынок, слов нет, как хотел. Может, напишете старику? Ваш отец Николай Зотов». Игорь Васильевич спрятал письмо в карман и рассеянно посмотрел на книгу, вкоторой оно лежало. Это были письма Ван Гога. Корнилов прочитал на раскрытой странице подчёркнутые строки: «Движение вперёд напоминает работу шахтёра: она не идёт так быстро, как ему хотелось бы и как того ожидают другие, но, когда принимаешься за подобную работу, нужно запастись терпением и добросовестностью». Когда он приехал в Лужскую прокуратуру, чтобы рассказать о своих сомнениях следователю, то застал Каликова в растерянности: прокурор возвратил дело на доследование. Не заезжая в управление, Корнилов отправился в Зайцово, к «зайцовской Поле», которая, по рассказам Надежды Григорьевны Кашиной, знала про какую-то давнюю ссору лесника Зотова с сыном. Отыскать эту женщину было делом совсем нетрудным. В Зайцове жила всего одна Поля — Полина Степановна Аверьянова, и в правлении колхоза Игоря Васильевича отправили в школу: Аверьянова работала там нянечкой. Она оказалась высокой костистой женщиной с крупными чертами лица, с большими руками. В школе была перемена, и Аверьянова расхаживала по коридору, наполненному бегающими, кричащими, дерущимися ребятишками, то и дело кого-то останавливала, заправляла мальчишкам рубахи, выехавшие из штанов. Вот она заметила, как один из мальчишек хочет кинуть в урну бутерброд. Схватила за руку, припёрла в уголке и, поставив рядом с собой большой колокольчик, заставила немедля съесть бутерброд. Толстый паренек с трудом жевал, набив рот, и умоляюще смотрел на нянечку. Корнилов стал в сторонке, облокотившись о подоконник большого окна, ждал, когда закончится перемена. «А у этой Поли добрый характер. Ребятишки её любят», — подумал он, наблюдая за Аверьяновой. Нянечка посмотрела на часы и пошла по коридору, названивая в колокольчик, больше похожий, правда, на коровье ботало. И звук у него был глухой. Ребята нехотя разошлись по классам. Полина Степановна, ворча что-то под нос, с трудом наклоняясь, начала собирать оставшиеся в коридоре после ребятни бумажки, огрызки яблок. Корнилов подошёл к ней: — Полина Степановна, мне бы надо поговорить с вами… Женщина медленно распрямилась, посмотрела на него внимательно. — Я из милиции… В ее глазах мелькнул испуг. — Ай набедокурил кто? Он поспешил успокоить женщину: — Нет, нет, ваши питомцы в порядке. Я по другому делу. Где бы нам присесть? — Идёмте в учительскую. Там сейчас никого. Они уселись за маленький письменный стол, на котором лежали груды тетрадок, и Корнилов спросил без всяких предисловий: — Полина Степановна, что вы мне можете рассказать о Зотове? — О Николае Зотове? — В голосе Аверьяновой он уловил заинтересованность. — О нём, Полина Степановна. — Ай бедолага! Опять небось что-то приключилось? Вот уж невезучая судьба у мужика. — Невезучая? Нянечка скорбно поджала губы: — А как ещё назвать-то? Жёнка рано умерла. Чахоточная, упокой господи рабу божию. — Она перекрестилась. — Приятели подвернулись пропивущие. А он и так от рождения малахольный какой-то. Убитый горем… Кто громче позовёт, к тому и побежит. Покойница-то держала его в порядке, а тут — покатился. — Аверьянова тяжело вздохнула. — Признали и у него чахотку. А может, доктор только пристращал. Только перестал пить Николка. Перестал. — Кем он работал? — спросил Корнилов. — В молодости на стекольном заводе. На ванной белого стекла. Стеклодув. У них лёгкие-то у всех больные. А перед войной бухгалтером работал у нас в колхозе. — А с сыном что у них приключилось? Почему рассорились? Полина Степановна задумалась. Большая костистая рука её машинально перебирала кисточки чёрной косынки, завязанной на груди узлом. — С сыном-то? — повторила она, собираясь с мыслями. — Что-то такое случилось. Имя у него немцам не понравилось. А уж почему — и не помню. Хотели они мальчонку перекрестить. А ведь он упрямый рос — не приведи господи. Упёрся — и ни тпру ни ну. Отец его и порол, сказывали… А сын стрекача дал — уж как Николку фрицы мордовали, как мордовали! Да вы к Тельманову дружку, к Алёхе Маричеву зайдите. На чугунке путевым обходчиком работает. Там и живёт. Тоже бузила был, не приведи господи. Его и нынче Алёха Буйная Головушка кличут. Они были дружки с Тельманом. А я не помню, как тогда всё повернулось. — Николай Ильич почему из деревни уехал? — Нужда заставила. Не по своей воле. Связался с какой-то бабой. С города на сенокос её прислали. Молодая. Пустил Коля денежки колхозные на гулянку. Мало ему своих зайцовских баб. Ведь какие бабы вдовыми остались! Ну а как отсидел — носа не кажет. Видать, совесть осталась. Нонесь я в поезде с ним встренулась. Поколотила его жисть, поколотила, — с сочувствием сказала нянечка. — Еле признала я Колю Зотова. «Уж не имела ли ты сама, Полина Степановна, виды на Николая Ильича? — мелькнула мысль у Корнилова. — Больно жалеешь его. — Но тут же отогнал её, взглянув на доброе лицо женщины. — Такая для любого хорошие слова найдёт, любого пожалеет». — Полина Степановна, а как вы думаете, если бы Зотов с сыном сейчас встретился да поссорились они снова, мог бы Николай Ильич, ну, к примеру, выстрелить в Тельмана? — Ну что ты, хороший человек! Зотов, он на такое зло неспособный. — Она покачала головой: — Нет, неспособный он на это… Он попросил Аверьянову рассказать, как найти Алексея Маричева. Полина Степановна вызвалась показать ему дорогу. — До переменки ещё успею, — сказала, взглянув на часы. Корнилов чувствовал, что ей очень хочется узнать, отчего это он всё выспрашивал про Зотова, но спросить, видать, стеснялась. «Судя по всему, в деревне ещё не знают о его смерти», — подумал он.19
Машину пришлось оставить в деревне: к домику путевого обходчика вела лишь узенькая тропинка — двоим не разминуться. Полина Степановна вывела Корнилова на деревенские задворки, к длинному, под черепичной крышей зданию скотного двора. — По этой вот тропке пойдёте, не заблудитесь. Как раз к чугунке приведёт, к Лёхиному домику. Это он и протоптал. В лавку часто бегает. Поблагодарив Полину Степановну, Корнилов пошёл по тропе, петлявшей среди стылых кустов по краю глубокого оврага. Потом кончились и кусты и овраг, и тропинка пошла по полю. Корнилов увидел маленький, жёлтого цвета домик путевого обходчика. Слева от тропы у большого стога стояла лошадь, запряжённая в сани. Две женщины укладывали на воз сено. Спокойный, тихий день, безмолвные поля, какая-то умиротворённость, словно пропитавшая морозный воздух, вдруг напомнили ему детство. Светлые и наивные мечты о будущем. Неужели эти мечты ни у кого так и не сбываются? На всю жизнь остаются лишь несбывшимися мечтами, придающими минутам воспоминаний лёгкий привкус горечи? Неужели никогда уже не ощутить вновь того, что было? Того, что когда-то уже пережил в детстве? Вот этот снег… Корнилов смотрел на белые поля, на одиноко торчавшие среди снегов стожары и чувствовал, как холодок начинает проникать под одежду. Всюду холодный колючий снег. И только. А Корнилова временами беспокоило непонятное, тревожное чувство — нестерпимо хотелось вновь пережить одно, пожалуй, самое яркое, детское ощущение: только что выпал на тёплую ещё землю парной снег. Мать везёт его на санках, и он, лёжа на животе, смотрит на этот снег, такой свежий, такой белый, и земля, проступающая кое-где, кажется тёплой и чистой. И пахнет чем-то свежий снег, и земля пахнет. А чем пахнет, Корнилову сейчас не вспомнить. И это самое мучительное. Кажется, что всё такое же, как и в детстве: и земля, и снег, и погода. А сладостное чувство, тогда испытанное, вновь не приходит. Оно неуловимо, Корнилову часто снится этот сон из детства. Он просыпается с радостным ощущением — ну вот теперь-то, вот сейчас он поймёт, почувствует и запах снега, и запах земли. Но это не возвращается. «С годами мы не только приобретаем, — думал Корнилов, — но и утрачиваем многое. Приобретаем опыт, знания, характер. Утрачиваем что-то тоже очень важное, утрачиваем особое, не детское, нет, свежее восприятие мира. Между „было“ и „есть“ такая лежит граница, такая преграда, которую перейти невозможно. А наши воспоминания лишены плоти. В них солнце светит, но ты не можешь ощутить его тепла. Видишь заросшее кувшинками озеро, но не слышишь, как всплеснула рыба. Ветер воспоминаний не принесёт с полей запахов свежескошенной травы… Это прошлое. А будущее? Ну что же мы можем сказать о своём будущем? Оно тоже без звуков, без запахов, всего лишь плоская умозрительная схема, словно макет нового города, запечатлённый на чёрно-белой фотографии». …Яростный лай собаки вывел Корнилова из задумчивости. Большой чёрный пёс метался на снегу около дома. «Ну и псина, — подумал он. — Хорошо ещё, что на цепи». Из комнаты сквозь подмороженное окошко глянул мужчина. Через минуту он уже стоял на крыльце и, прикрикнув на собаку, с интересом поглядывал на приближавшегося Корнилова. Был он крепкого сложения, круглолиц. На голове непокорный вихор рыжеватых волос. «Вот он какой, Алёха Буйная Головушка», — вспомнив, как назвала Алексея Маричева Полина Степановна, усмехнулся Корнилов. Алёха был в одной тельняшке. — Здравствуйте, хозяин, — поприветствовал его Игорь Васильевич, остановившись у крыльца. — И вам здравствуйте, — весело отозвался Маричев. — Вы ко мне? Заходьте, гостем будете. Ой провёл его через крошечные сени в комнату, предложил раздеться. Корнилов сел на большую лавку около печки, огляделся. Комната была просторной, светлой, но совсем неубранной, неухоженной. На столе ералаш из грязной посуды, закопчённая кастрюля. Перехватив взгляд Корнилова, Маричев засмеялся: — Ох, извиняйте! Приборочку не успел сделать. Не сдогадался, что гость из города пожалует. Своих-то зайцовских не робею… Продолжая похохатывать, Лёха достал из шкафа новенький пиджак, надел его прямо на тельняшку. Посмотрев на себя в зеркало, поплевал на ладонь и дурашливо пригладил вихры. Потом сел на стул напротив Корнилова и, нагнав на лицо сосредоточенность и строгость, сказал: — Ну что, товарищ хороший, дело есть? — Если нет возражений — поговорим? Ему этот Лёха понравился с первого взгляда. Такие у него были чистые, ничем, не замутнённые голубые глаза с какой-то дьявольской смешинкой, что Корнилов сразу подумал: «Недаром зовут его Лёха Буйная Головушка. Вот уж, наверное, доставил он забот своим родителям. Да и деревенским девчонкам!» — Я из Ленинграда к вам, из уголовного розыска, — начал Игорь Васильевич. — Во! Была охота ездить! — неожиданно завопил Маричев и, вскочив со стула, забегал по комнате. — Ну дура баба! Совсем спятила, старая карга! Такую дорогу человека заставила проехать! — Алексей Павлович! — сказал Корнилов, удивлённо глядя на всполошившегося хозяина. — Чегой-то вы разбегались! Никто меня не заставлял к вам ехать, никто не жаловался на вас. Лёха моментально смолк и остановился около Корнилова: — Не жаловались? А Лампадка Маричева, тётка моя, не жаловалась? — Да не знаю я никакой Лампадки! — пожал плечами Корнилов. — Успокойтесь вы, ради бога. Чем вы ей досадили? — Ха! Чем? — вздохнул Маричев и снова сел. — Эта Олимпиада — трехнутая совсем. Вам в деревне каждый скажет. Вбила себе в голову, что я у ней осенью все яблоки в саду слямзил. На машине ночью приехал и снял. «Чужой бы кто крал, — говорит, — так Полкан бы залаял. А раз не лаял, значит, Лёха. Боле некому!» А мне эти яблоки — тьфу! Оскомина от них. — Он улыбнулся. — Я их в детстве переел. Сейчас больше огурчики солёные уважаю. А что собака не лаяла — так откуда мне знать? Такая же старая, как тётка. — Он совсем успокоился, махнул рукой, будто отогнал все эти неприятные воспоминания. — Собаки-то меня и правда никогда не трогают. Даже незнакомые. Аж смешно… Вот выдумала Лампадка! Скоро новые яблоки вырастут, а она всё грозится. — И без перехода спросил: — Так вы-то по каковскому делу ко мне? — Алексей Павлович, вы Тельмана Зотова знали? — Ну а как же! Знал. Корешили с ним в детстве. Не разлей вода были. — А когда вы его видели в последний раз? — И-и! В последний-то раз? — Алексей задумался. — Да, пожалуй, сразу после войны. В конце сорок пятого. — Говорили с ним? — Да так… «Жив-здоров Иван Петрович!» Всё на ходу. Встретиться сговорились. Ну и концы в воду… Ведь он теперь художник известный. Знаменит! В деревню нашу не заглядывает. Чего ж я набиваться буду? Приедет — приму как родного. «Значит, и он не знает, что произошло, — подумал Корнилов. — Может быть, это и хорошо, расскажет всё беспристрастно». — Алексей Павлович, я вас очень прошу подробно рассказать мне всё, что вы знаете о Тельмане и о его отце. О том, что произошло между ними в первые месяцы войны. Это очень важно… Маричев пожал плечами: — Столько времени прошло… — Потом вдруг забеспокоился: — А что случилось? Не секрет? Мужик-то он добрый. Мухи не обидит, не то что я… Игорь Васильевич положил ему руку на колено и тихо, но настойчиво попросил: — Расскажите, Алексей Павлович. По порядку… Я вам всё объясню. — Какой уж там порядок. — Леха как-то странно улыбнулся. — Прямо не знаю, с чего и начать. — Он встал со стула и заходил по комнате. Корнилов не торопил. Сидел, приглядывался к Маричеву. Ему, видать, уже немало лет — много за сорок, а он подвижный, словно ртуть, энергичный. Удаль чувствуется во всех его движениях, в неспокойных глазах. Лёха вытащил из шкафа чекушку водки, два стакана. Поставил на стол. Виновато посмотрел на Корнилова: — Эх, товарищ начальник, как вспомню то время, аж вот тут жжёт. — Он стукнул себя кулаком в грудь. — Не откажитесь! У меня такие огурчики… Корнилов нерешительно пожал плечами. Лёха вихрем метнулся в кухню. Там загремели кастрюли, что-то упало, а через минуту он уже ставил на стол тарелку с огурцами, хлебом, толсто нарезанным салом. — Вы мне только самую малость, — попросил Корнилов, увидев, как решительно взялся за чекушку Маричев. — Понятно! — весело сказал Алексей. — Это мы понимаем. И что ломаться не стали, за то уважаем. — Всё в общем-то из-за его имени тогда началось, — сказал Маричев после того, как они выпили. — Назвали Тельманом. Отец и назвал-то. В честь Эрнста Тельмана. Ну, мы, мальчишки, его всё Телем звали. Тель да Тель. Я ведь с Телем в одном классе учился. Корешки, Тель без матери рос. Умерла его матка ещё до войны от какой-то болезни. Вот такие дела… А фрицы пришли, едри их в корень, тут и началось. — Лёха сморщился, будто от зубной боли, и начал со злостью тереть себе затылок. — Да ведь мы и не ждали их так рано! Всё думали — пока сквозь наши леса продерутся! А они туточки. Да ещё не с той стороны, откуда должны были, — от Сиверской припылили. Я с Телем как раз на прогоне, на брёвнах сидел: всё советовались, куда податься. Мой батя служил, а Николка Зотов, Тельмана отец, — хромоножка, его в армию не взяли. Так он никуда уходить из деревни не хотел. Всё баял: не задержатся фрицы до зимы. Ну а мы с Телем хотели в Питер рвануть. Одни… Сидим. Вдруг на прогон мотоцикл с коляской вылетает. Как дал на тормоз, аж занесло, только пыль столбом. Я гляжу: какие-то странные солдаты, головы будто пришлёпнутые, ну прямо вровень с плечами. Ничего понять не могу, а Тель мне как саданёт в бок. «Немцы, — говорит, — тикаем». Брык с брёвен. Я за ним, да в бузину и напролом. А фрицы чегой-то заорали и с пулемёта садить! Какой кросс мы выдали! Куда там Валерию Борзову! Отсиделись в гумне за деревней. Всё боялись домой возвращаться, думали: а вдруг приметили нас фрицы. А ведь дома и корзинки со жратвой были собраны в дорогу. К вечеру потихоньку огородами пришли в дом к Телю, а там немцы. Ну, угодили! Дядя Коля в кухне стоял, а рядом офицер. Как сейчас помню, держал он в одной руке бутылку. С вином, наверное, а в другой — тарелку с горячей картошкой. Пар от неё шёл. Мы, как немца увидели, с порога назад. А отец возьми и крикни: «Тельман, сынок!» — Маричев закурил папиросу, глубоко затянулся. — Мы бы удрали, да наткнулись в сенях на солдата. Привёл он нас в горницу, поставил посередине. А офицер расхаживает по горенке. За половики чепляет. Лицом-то добрый, улыбается. И шпарит по-русски. «Вы, — говорит, — мальчики или зайчики?» Шкура! «Зачем, — говорит, — так быстро бегаете, боитесь немецкого офицера?» Мы стоим сопим. Ну прямо как во сне! Свалился этот шпендрик на нашу голову! Хоть и ждали, а всё же поверить было трудно. Дядя Коля тут же стоит. Бледнющий — лица на нём нет. А немец говорит: «Кого это из вас Тельманом зовут? Или мне послышалось?» Дядя Коля тихо отвечает: «Послышалось, господин офицер. Сынка моего Тишей звать». Быстро он, однако, его в господина произвёл. Офицер как захохочет! Чего уж ему смешно стало? Пальцем показал на Теля: «Этот? — И спрашивает: — Как зовут тебя, мальчик? Тишей?» А Тель как зыркнул на отца, ровно волчонок, и отрезал: «Тельман!» — Маричев вздохнул тяжёло и задумчиво сказал: — Нас ведь, товарищ начальник, весной в комсомол приняли! Ну и понесло офицера. Чего он только не говорил! И о том, что Тельман — имя плохое, не русское и не немецкое. Что это и не имя совсем. Да всё с улыбочкой. Я стою, смотрю на стол, где картошка дымится, — жрать охота! Думаю, чёрт лысый, картошка остынет, отпустил бы поскорей. Шиша с два! Спрашивает он дядю Колю: «Поп у вас в деревне есть?» Тот кивает, есть, мол. Отец Никифор. «Вот, — говорит, — по русскому обычаю мы и перекрестим вашего сынка в Тишу. Нельзя, чтобы с таким именем мальчишка жил». Так, дескать, зовут врага всех немцев и русских. А Тель возьми да брякни: «Я в церкви не крестился». А я-то знаю, что в церкви крестили его родители. Нас, деревенских, почти всех в те годы крестили. Мне мать рассказывала. Офицер смеётся пуще прежнего: «Ну вот и хорошо. Будешь крещёным». А Тель знай твердит: не буду да не буду. Тельман я. Офицер посмотрел на свою остывшую картошку и уже зло говорит дяде Коле: «Не должно быть мальчика с таким именем. Это непорядок. Вас я накажу особо за то, что его так назвали, но вдвойне накажу, если вы сынка не перекрестите в Тишу, — и повторил, скосорылившись: — Мальчика с таким именем быть не должно! — Отчеканил и посмотрел на дядю Колю так, что у того руки затряслись. — Забирайте его и порите, пока не скажет: „Я — Тиша“». — Ох что было потом! Вспоминать неохота, — виновато улыбнувшись, сказал Маричев. — Завёл дядя Коля в кладовку Теля. Сначала уговаривал: «Застрелит ведь немец и тебя и меня. Хорошо, — говорит, — этот ещё добрый попался. Другой бы и чикаться не стал». Но Тель упёрся. Ревёт. Тогда дядя Коля сказал ему: «Сейчас пороть буду. Ты, сынок, кричи погромче». А меня вытурил. Ну да я всё равно никуда не ушёл. Во дворе на сеновал залез. Слышал возню в кладовке. Отец ему, видать, крепко поддал, а Тельман не пикнул. — Ну а потом-то что? — спросил Игорь Васильевич. — Чем всё кончилось? — Рассказ Маричева потряс его. — Потом мы всё-таки драпанули, — с удовлетворением ответил Маричев. — Тель ночью, а я утром. Немцы вечером деревню прочесали, всех мужиков и мальчишек в церковь согнали и заперли на ночь. Видать, дюже боялись. А дядю Колю оставили. Понадобился он им зачем-то. Посадили для начала всех нас на каменный пол, велели снять кепки, у кого были. Троих стриженых сразу забрали. Два красноармейца были. Попали в окружение. Бабы их переодели. А третий — Витя-китаец. Наш, зайцовский. С лужской тюрьмы пришёл. Так и пропал с тех пор. Может, расстреляли… Потом закрыли немцы двери. Часового поставили. Тот всю ночь постреливал с автомата да пел гнусавым голосом. Чтоб не заснуть, наверное. Вот и куковали мы в этой церквухе. Я так и остался без жратвы. Злой был — страсть! Ну, думаю, выйти бы только — я им такую козу устрою! Корнилов засмеялся. Столько злости и удальства было в словах Лёхи Маричева, что он не удержался, спросил: — Ну и устроили? — Э-э! — весело отозвался Маричев. — Отлились волку овечьи слёзы! Я ведь потом к партизанам попал. Ну да это всё другой сказ. А уж раз вы про Тельмана интересуетесь, так я доскажу. Сидим мы в церкви, кукуем. Мне даже страшно стало. А тут ещё поп с нами. Немцы и его заперли. Отца Никифора. Зажёг он лампаду перед иконами, стал на колени, молится. На иконах святые будто живые. Глядят со всех сторон. Огонёк у лампадки мечется. Да ещё ветер на улице поднялся. И слышно, как на колокольне колокола позванивают. А отец Никифор антихриста на все корки разносит. Жуть. Тут один из мужиков ему говорит: «Ты бы, батя, не рвал душу, кончил бы причитать». Поп и вправду молиться перестал, подошёл к Телю, голову ему потрогал. «Крепись, — говорит, — свистулька». Принёс откуда-то мокрую тряпку, положил ему на фингал, сел рядом. «Каяться, — спрашивает, — будешь?» Тель брыкается. А отец Никифор всё пристает с покаянием. «Яблочки с церковного сада таскал? Покаялся бы. — И смеётся. — Хороши яблочки? Ничего, свистулька. Не переживай. Сказано в Священном писании: „Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы“». — Вот ведь как наш поп сказанул тогда. Я до сих пор помню! Наверное, придумал. По ходу дела, — усмехнулся Маричев. — Не может быть, чтобы в Священном писании так сказано было. Правда ведь? — Не знаю, — ответил Игорь Васильевич. — Мне такого не попадалось. Они закурили, посидели, помолчали. Потом Маричев продолжил: — Отец Никифор Телю сказал: «Как, — говорит, — я твоего отца отговаривал, чтоб не называл тебя Тельманом. Нету такого имени в святцах! Настоял, упрямый козёл. И согрешил я — записал тебя Тельманом. Мне потом отец благочинный выволочку делал. Да я и сам хотел уйти. „Пишша плохая, лапти сносились — давай рашшот!“» — пропел он дурашливо. Все рассмеялись, и Тель улыбнулся. Понял, что шутит поп. А отец Никифор говорит: «Тут среди нас, приметил а, чужих двое. Думаю, что переодетые. Завтра фрицы уже не по волосам проверять будут. Дознаются, кто вы такие. Не зря же вы переодевались. Надо бы вам тикать отсюда. Да и мальца с собой прихватить. Не ровен час…» Все молчат. Потом тот мужик, что молиться попу не дал, говорит зло: «Ты что же, смеёшься, что ли? Как из твоей церквухи выберешься? Ровно тюрьма. Сам-то небось тоже сидишь!» «Раз господу угодно вас от пули спасти, найдёт он путь праведный, — проворчал отец Никифор. — Церковь эта со словцом поставлена». Подошёл он к мужику, пошептались они о чём-то. Потом ещё с одним мужичком пошептались. Прихватили Теля и ушли куда-то за иконостас. Через маленькую дверцу. А поп вернулся. Хотел и я с ними рвануть, да не взяли. «Сиди, — говорят, — тебе бояться нечего». Ну вот и вся история. А Теля я потом только после войны встретил. — А священник? — спросил Корнилов. Маричев нахмурился: — Попа немцы повесили. На колокольне. Неделю висел рядом с колоколами. С нами пастух колхозный сидел. Дурачок. Он и проболтался… Да и его потом немцы застрелили. Они всех юродивых стреляли, как собак. Неполноценные, мол. — А чего ж он с теми не пошёл? — Корнилов никак не мог понять, почему поп остался. — Я его тоже спросил об этом, — как-то нехотя ответил Маричев. Сказал он мне: «Сердце мудрых в доме плача, сын мой». Не очень-то я это понял. А жалко мужика. — Алексей Павлович, не угостите ли чайком? — попросил Корнилов. — Вы никуда не торопитесь? — Не, у меня «отгулы за прогулы». Выходной я. Сей момент чайку сварганим. Он ушёл на кухню. Корнилов сидел и думал о том, что услышал от Маричева. Лёха принёс две чашки с блюдцами и варенье в маленькой эмалированной мисочке. Сказал гордо: — Черноплодка с яблоками. Хозяйкина гордость. Корнилов посмотрел на часы и спохватился: он сидел у Маричева уже около трёх часов и даже не заметил, как потемнело на улице. — Алексей Павлович, — сказал он. — Ещё несколько вопросов, да бежать надо. Время подгоняет. А что ж Зотов-то? Отец? Ему немцы ничего не сделали? — Сделали, — ворчливо ответил Алексей. — Двое суток мутузили. И мне малехонький отлуп по утрянке дали. За дружбу, наверное. Еле выкарабкался. — А потом? — Потом? — рассеянно отозвался Маричев. — Потом, когда фрицев туранули, они полдеревни за собой угнали. И дядю Колю. Он, пожалуй, самый последний и вернулся в конце сорок шестого. Думали, уж совсем сгинул. Кто-то из зайцовских его в Германии чуть не при смерти видал. — Алексей Павлович, а с сыном Зотов не встречался? — Не знаю. Когда Тель в Зайцово после войны приезжал, ничего не известно было об отце. Все считали, что погиб в Германии дядя Коля. Тельман и уехал. Да и жить было негде. Дом-то сгорел… — А если бы Тельман с ним встретился? — Ну и что? — удивился Алексей. — Не мог он ему грозить? Ударить, например? — Кто? Тельман? Ну что вы! — отмахнулся Маричев. — Простить, может, и не простил бы, но чтоб руку поднять?! Нет! — И, чуть подумав, добавил: — Да, наверное, и простил бы… Я бы простил. Отец всё-таки. — А почему Тельман потом отца не разыскал? — Откуда я знаю? Наверное, думал, что погиб. А может, уже и разыскал. — Ну а Зотов? — А он-то что? Не-ет. Когда со мной говорил, плакал. «Нет, — говорит, — мне прощения». Ещё бы. А почему вы всё про это спрашиваете? — Да потому, что Тельмана нашли убитым недалеко от того места, где жил старик. Маричев вскочил, бледнея: — Тельмана убили? Какая же падла? «Нет, не буду говорить, что отец. Всей правды ведь не объяснишь», — подумал Корнилов. — Вот хочу докопаться, как это всё произошло. — Такое выдюжил парень, а тут… — Маричев замолк, растерянно глядя на Корнилова.20
С тревожным чувством отправился на следующий день Корнилов в дирекцию лесхоза, чтобы повидать бухгалтера Мокригина. Он уже не сомневался в том, что именно Мокригин шёл вслед за художником в день убийства. Дежурный на станции Мшинская опознал на одной из предъявленных ему Белозеровым фотографий человека, приехавшего пятнадцатичасовой электричкой. Этим человеком был Григорий Мокригин. Но нет, не признается бухгалтер, что ездил на Мшинскую. Не захочет отвечать на опасный вопрос, почему убежал из леса, оставив на произвол судьбы истекающего кровью Алексеева. Ведь не обмолвился он ни словом об этой поездке, когда беседовал с работниками уголовного розыска, узнавшими о его дружбе с лесником. Но, несмотря на свои сомнения, Корнилов шёл в лесхоз и надеялся на успех. Он специально не стал приглашать Мокригина в райотдел, — ему хотелось застать бухгалтера врасплох, неподготовленным. Поставленный перед необходимостью отвечать сразу же, немедленно, он может допустить промах, неточность, может растеряться. «Почему этот Мокригин не пошёл за помощью в деревню? — думал Корнилов. — Испугался, что могут и его убить? Вздор! Тогда бы он прибежал хоть в милицию. Побоялся, что могут заподозрить в убийстве его самого? Нет, честный человек сначала окажет помощь раненому, а уж потом подумает о себе. Честный человек… Но ведь бухгалтер в прошлом уголовник. Мог подумать: „Первое подозрение — на меня. Попробуй потом отмойся“. И повернул домой, даже к дружку своему не пошёл в тот день. А почему же не был потом? Почему не пришёл на похороны лесника? Они же были друзьями. Об этом и в лесхозе знают, и во Владычкине. Что-то за всем этим кроется более серьёзное… Знал ли Мокригин, кто идёт вместе с ним по лесной тропе? Нет, скорее всего не знал. Ведь и лесник не встречался с сыном тридцать лет…» Дирекция размещалась недалеко от вокзала в старом, видать, купеческом доме. Первый этаж у него был каменный, обшарпанный, с обвалившейся кое-где штукатуркой, второй — деревянный, из тёмных, тронутых трухлявинкой мощных брёвен. Около дома стояло несколько «газиков» и «Победа». В ней было битком набито людей, из-за приспущенного стекла валил дым, слышался смех — похоже, шоферы обсуждали какую-то весёлую историю. Корнилов вошёл в дом. В коридоре, стены которого были густо заклеены объявлениями, приказами, сводками, курили двое мужчин. У обоих поверх пиджаков были надеты меховые безрукавки. — Где мне найти бухгалтера? — спросил Корнилов. — Григория Ивановича Мокригина. Один из мужчин молча показал на лестницу в конце коридора. Корнилов поднялся на второй этаж и отыскал дверь с надписью «Бухгалтерия». «Если там будут посетители, я подожду», — решил он. Вообще-то в бухгалтерии работали двое: старший бухгалтер Мокригин и ещё одна женщина. Ещё накануне Корнилов уговорился с работниками ОБХСС, и они вызвали её в это время на беседу. Корнилов приоткрыл дверь и сразу увидел Мокригина. Бухгалтер сидел за большим столом и сосредоточенно считал на арифмометре. На вошедшего не обратил никакого внимания, даже лысой головы не поднял. Корнилов подошёл к его столу и сел, положив на колени шапку. Мокригин продолжал крутить ручку, беззвучно шевеля губами. Верхняя его губа была тонкая, злая, а нижняя — пухлая и отвислая. Закончив считать, он записал на бумажке какие-то цифры и только тогда поднял голову. — Вы ко мне? Бровей у него почти совсем не было, и оттого лицо казалось каким-то бесцветным, блеклым. — Да, я к вам, Григорий Иванович. — Корнилов достал удостоверение, представился. Мокригин хотел что-то сказать, но только облизнул вдруг свою толстую нижнюю губу. В лице у него ничего не изменилось, не дрогнуло. Он замер. — Григорий Иванович, я пришёл к вам поговорить о леснике Зотове. Мне сказали, что вы были с ним друзьями… Бухгалтер по-прежнему был спокоен. Никаких признаков паники. Только сузились глаза, стали маленькими точками зрачки. «Он давно ждал, что к нему придут, — подумал Корнилов. — Успел приготовить себя». — А что бы вы хотели узнать о Зотове? — Мокригин явно не собирался распространяться о своей дружбе с лесником. — Вы, наверное, знаете, Григорий Иванович, что Зотов убил сына и сам повесился. — Корнилов сказал это нарочито спокойно, буднично. — Мне хотелось бы знать об их отношениях. Мокригин неопределённо пожал плечами: — Что ж рассказывать? Я не знаю. — Он посмотрел на Корнилова чуть-чуть прищурившись. — Вы лучше задавайте вопросы. Я отвечу. «Ого, да он тёртый калач, — подумал Корнилов. — Школа видна. Такого голыми руками не возьмёшь», — и спросил: — С Зотовым вы давно знакомы? — Давно. — А вы неразговорчивы, Григорий Иванович. С вами трудно, — улыбнулся Корнилов. Бухгалтер пожал плечами, машинально крутанул ручку арифмометра. «Так мы будем разговаривать неделю, — подумал Корнилов. — Интересно, надолго ли ему хватит выдержки?» — Вы были знакомы с Тельманом Алексеевым, сыном Зотова? — Нет. «Отвечает не задумываясь. На лице ни один мускул не дрогнет». — А знали о его существовании? — Знал. — Они были в ссоре? Мокригин усмехнулся: — Так… расплевались однажды. Сын-то тогда от горшка два вершка был! Они же с войны не виделись. О покойниках плохо не говорят, но сынок его свинья свиньёй оказался. Даже не подумал разыскать старика, помочь ему… — Лицо бухгалтера стало злым. — А Зотов просил его о помощи? — С какой стати?! Он и не искал сына. Случайно узнал о нём! — неожиданно выкрикнул Мокригин. — Чего ему унижаться перед «чистеньким» сыном! Я, я только и помогал старику, — сказал он с необычной горячностью. — И деньгами, и по хозяйству. Да мало ли! — Он с какой-то безнадёжностью махнул рукой и замолк, словно испугался своего порыва. — А как узнал старик о сыне? — В журнале портрет увидел. В «Огоньке». — И решил его разыскать? — Откуда я знаю? — проворчал бухгалтер. — Он мне не докладывал. «Наверняка знает, что старик разыскивал сына, — решил Корнилов. — Только зачем скрывает?» — А где вы познакомились с Зотовым, Григорий Иванович. Бухгалтер вдруг посмотрел на Корнилова с откровенной ненавистью. — Там и познакомились. Будто не справились… — И сказал с вызовом: — Кто ещё у бывшего зека другом может быть? Такой же зек, как и он. Вот мы со стариком и держались друг друга. — Вы правы. Я наводил справки: в одной колонии отбывали наказание. «Старый друг лучше новых двух, — вдруг вспомнилась Корнилову поговорка. — Старый друг лучше новых двух…» И какая-то совсем смутная догадка мелькнула у него, скорее не догадка, а предчувствие, что за этой неожиданной горячностью бухгалтера, за его словами о старой дружбе отверженных обществом людей и кроется разгадка трагедии. — Вы, Григорий Иванович, не женаты? — спросил Корнилов. Он всегда так вёл беседы, перескакивал с одного вопроса на другой, лишая своего собеседника возможности понять, что же интересует полковника больше всего. — Нет, — отчуждённо ответил Мокригин. — А у вас есть родные? — Какое это имеет значение? Вы ведь хотели узнать о Зотове, а не обо мне? — Простите, если задал неприятный вопрос, — дружелюбно сказал Игорь Васильевич. — Я не хотел вас обидеть. Бухгалтер смотрел на Корнилова с ненавистью. — Да, да! Нет у меня родных! Не знал никогда о них и знать не хочу! — А друзья? — Что вы ко мне в душу лезете? «Одиночество, одиночество его мучает!» — подумал Корнилов. — А зачем Зотов убил сына? — Откуда я знаю? — закричал бухгалтер. Веко на правом глазу у него задёргалось. От его несокрушимого спокойствия не осталось и следа. — Что вы не даёте покоя старику? Он умер! Умер! И никто не узнает, зачем он убил сына. Корнилов подождал, пока бухгалтер успокоится, и примирительно сказал: — Ладно, оставим в покое Зотова, начнём с другой стороны… Он достал из папки стопку бумаги, авторучку. И вдруг почувствовал, как напрягся Мокригин. Лицо у него стало каменным, только зрачки ещё больше сузились. — Григорий Иванович, — сказал Корнилов. — У меня есть поручение следователя допросить вас по делу об убийстве Тельмана Алексеева. По вновь открывшимся обстоятельствам… Мокригин молчал. — Когда вы виделись с Зотовым в последний раз? — Пятого января… На день рождения он ко мне приезжал. — А вы? — Что я? — не понял бухгалтер. — Вы когда у него были? У Зотова. — Сразу после Нового года. Съездил, по хозяйству помог. — Как вы праздновали день рождения? Много было гостей? — Нет, никого не было, кроме Коли. Посидели в ресторане — и домой. — В каком ресторане? Мокригин осклабился: — И этим интересуетесь? В «Радуге». — Где вы были тринадцатого января с часу дня и до двенадцати? — Ездил в Ленинград, — нехотя процедил Мокригин. — На электричке в тринадцать тридцать. — Расскажите мне последовательно, где вы были в Ленинграде. Бухгалтер недобро усмехнулся: — Если это так необходимо… Попробую вспомнить. — И начал перечислять магазины. Он врал умно, с оглядкой. Корнилов мысленно проследил его путь по городу — все магазины выстраивались по маршруту третьего трамвая. — Ни один из этих магазинов не был закрыт на переучёт? — Корнилов заметил, как на скулах Мокригина вздулись желваки. — Нет, на переучет закрыты не были, — медленно ответил он. — Правда, в каком-то из них отдел не работал… Только не помню в каком. «Интересно, почему Мокригин не спрашивает меня, для чего этот допрос и в чём он провинился? — подумал Корнилов. — Хочет показать своё безразличие?» — Вы что-нибудь купили себе? — Нет. Искал пальто на меховой подкладке, да не повезло… «Ещё бы! Такое пальто и летом по большому блату не достанешь. А уж то, что его зимой в магазинах не бывает, в этом-то, голубчик, ты уверен. Беспроигрышно играешь». — Значит, ничего не купили? — Ничего. — Когда вы приехали в Ленинград, какая там была погода? — Пасмурно. Снежок шёл, — сказал Мокригин, и Корнилов вдруг увидел, как его лоб внезапно покрылся мелкими капельками пота. Бухгалтер заёрзал, стал вдруг перекладывать с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе. Корнилов помнил, что по сводке метеобюро пасмурная погода со снегом была на Мшинской, а в Ленинграде днём было ясно. Светило солнце. Он почувствовал резкий запах мужского пота. — Григорий Иванович, а когда вы уезжали из Ленинграда? Время? Погода? — Не помню, — отрывисто бросил Мокригин. Похоже, что нервы у него совсем сдали. — Когда пришли домой? — В двенадцать. — Это вы на фото? — Корнилов вынул из кармана фотографию Мокригина, которую по его просьбе сделали гатчинские оперативники. — А вы что, не видите? — огрызнулся бухгалтер. — И что это за допрос?! Я в чём-то виноват? Вы даже не потрудились мне объяснить! — Служащие станции Мшинская, Григорий Иванович, опознали в этом мужчине пассажира, который сошёл с трёхчасового поезда и направился по лесной тропе в сторону деревни Владычкино… — Я был в Ленинграде, — упрямо сказал бухгалтер. — С этого же поезда сошёл и Алексеев, — продолжал Корнилов. — У него были лыжи. Он ушёл вперёд, но на одной сломалось крепление. — Мокригин уже не мог справиться с собой. Лицо его перекосила какая-то странная гримаса. Он весь подался к Корнилову, впился в него взглядом. — Да, забыл одну деталь — у Тельмана Алексеева была такая же шапка, как у вас. — Он повернулся к вешалке, на которой висели пальто и рыжая мохнатая шапка бухгалтера. И тут его обожгла шальная мысль: «А не бухгалтеру ли предназначалась пуля? Ведь у него и у художника не только шапки похожие. И фигуры тоже одинаковые. Оба широкоплечие, высокие…» Мокригин молчал. Тогда Корнилов наклонился к нему и сказал, положив свою руку на руку бухгалтера: — А ведь это вам приготовил старик пулю, Григорий Иванович. За что? Мокригин резко вскочил, уронил стул. Несколько секунд он молча смотрел на Корнилова, словно не зная, что предпринять, а потом вдруг громко, горячёчно зашептал: — Не докажете, не докажете! Не мог он в меня. У него и был-то один друг на свете — Гриша Мокригин! Один! Все от него отвернулись, все! И Тельман этот тридцать лет не знался, а тут нате, попёрся к папочке. Кому он нужен, Павлик Морозов! Говорил я деду: доживай свой век без чистеньких. Не послушал — умереть ему прощёным захотелось! Тьфу! — Мокригин плюнул и, будто опомнившись, спросил, пристально глядя в глаза Корнилову: — А я-то, я в чём виноват, товарищ хороший? Мне-то вы зачем о прошлом напоминаете? Мало ли в кого стрелял старик. Он и расчёлся. Не я ведь стрелял! — И снова закричал: — Что вы мне душу терзаете, всё старых грехов забыть не можете? Вам дай волю — клеймо бы на лбу выжгли! Дверь в комнату приоткрылась, и заглянула испуганная женщина. Мокригин посмотрел на неё со злостью, и женщина моментально исчезла. — Вы садитесь, — спокойно, но настойчиво попросил Корнилов. Так мучивший его все последние дни вопрос, зачем убил старый лесник своего сына, перестал быть вопросом. — Я не о старом пришёл напоминать. — Мокригин сел. Веко у него всё дёргалось, а руки не находили покоя. Он хватался то за лицо, то за шею. — Дело ведь вот в чём, Григорий Иванович: бросили вы Тельмана Алексеева в беспомощном состоянии. Умирать в лесу. А его спасти можно было, если бы вы сходили за помощью. — Мёртвый он был, мёртвый, — упавшим голосом пробормотал бухгалтер. — Старик без промаха бил. — Мокригина передёрнуло, словно от холода. — Экспертиза свидетельствует — несколько часов жил. Вот за это преступление вам отвечать придётся. Оно доказуемо… — Мёртвый он был, — опять сказал Мокригин. Вид у него был затравленный. «Опытный дядя, — думал Корнилов, разглядывая бухгалтера, — а нервишки подводят. Эк он распсиховался, когда я сказал, что пуля ему предназначалась!» И быстро спросил ещё раз: — Григорий Иванович, а за что всё-таки хотел убить вас лесник? Неужели не догадываетесь? Мокригин шумно набрал в лёгкие воздуха, лицо его сделалось таким багровым, что Корнилов испугался, не хватит ли бухгалтера удар. — А если и догадываюсь, — наконец выдохнул он, — вам-то какая с этого корысть? К делу не пришьёте! — Мокригин неожиданно улыбнулся, улыбнулся дико и зловеще. Глаза у него блеснули. Корнилову даже показалось, что как-то гордо блеснули. — Боялся меня Николка, — сказал бухгалтер. — Своего прошлого боялся. Сыну хотел чистеньким представиться. А меня, значит, побоку?! Рылом в чистенькие не вышел? Курва! — Он так же внезапно погасил свою жуткую улыбку и замолк. Остальная часть допроса пошла спокойно. На все вопросы Мокригин отвечал безучастно и односложно: «да», «нет». Он подтвердил, что услышал выстрел перед тем, как выйти из леса на поляну, и через несколько минут наткнулся на тело лыжника. Думал якобы сначала, что выстрел случайный, что поблизости охотники. Боясь, что могут выстрелить ещё, он спрятался за ель и только тогда увидел справа на горке спину удалявшегося человека. Это был Зотов. О лыжнике Мокригин всё время твердил: «Он был мёртвый, лыжник-то. Мёртвый. Я ничем не мог помочь». О том, что это был Тельман Алексеев, сын лесника, Мокригин узнал только вчера от директора лесхоза. Но когда Корнилов снова спросил бухгалтера, за что всё-таки хотел его убить лесник, он заложил руки за спину и молчал, стиснув зубы. Корнилов понял: на этот вопрос ответа не получить. Он сел за соседний столик, где стояла большая пишущая машинка, и начал печатать протокол допроса. Бухгалтер сидел понурый, время от времени исподлобья поглядывая на него. Когда протокол был готов, Корнилов мельком перечитал его и дал Мокригину. Ознакомиться и подписать. Бухгалтер спокойно взял листки и, глядя прямо в глаза Корнилову, разорвал протокол на мелкие кусочки. В лице у него ничего не дрогнуло, ни один мускул. — Ничего не докажете. Можете хоть сто опознаний делать. — И бросил бумажки на пол. Корнилову стоило большого труда, чтобы не показать бешенства, которое им овладело. «Ох какой подонок, какой подонок», — подумал он, ощущая нестерпимое желание ударить. — Вы можете сколько угодно рвать бумажки, но от ответа вам не уйти, Мокригин! Возвращаясь в райотдел, Корнилов думал о том, что же могло связывать этого злобного бухгалтера и лесника Зотова. Бухгалтера и лесника. Сидели вместе? Верно, сидели. Но раскаявшиеся-то преступники на свободе избегают друг друга. А уж если объединяются, то закоренелые. На дурное. Наперекор пословице: «В счастье — вместе, в горе — врозь». Бухгалтер и лесник. Правил без исключений нет, но необязательно ведь эта пара — исключение. Нет, недаром держались они вместе столько лет. Лесник и бухгалтер лесхоза. Что же их связывало? Лес? Воровали лес? Слишком на поверхности… В райотделе Игорь Васильевич рассказал обо всём начальнику уголовного розыска Финогенову. — Берите дело в свои руки. Свяжитесь с Лужской прокуратурой. У них делом об убийстве следователь Каликов занимается. Но стерегите бухгалтера. Сбежать может. Сердцем чую. Попросите обэхээссэсовцев —пусть займутся лесхозом. Что-то тут нечисто. Бухгалтер и лесник — улавливаете? Сидели вместе. Я вам свою точку зрения не навязываю, но посмотрите, разберитесь. Я так думаю, что если человек мог одну подлость совершить, он и на другую способен. У подленького за душой не один грешок найдётся. …Дня через два после всех этих событий Корнилова остановил в коридоре управления Белянчиков… — Всё забываю тебя спросить, Игорь. Когда ты понял, что лесник не в сына стрелял? — Белянчиков немножко слукавил — они с Корниловым встречались постоянно, на дню по нескольку раз. И давно бы он мог спросить, да просто дулся за тот разговор. Белянчиков обиды долго помнил. — На репетиции в театре. — При чём здесь театр? — удивился Белянчиков. — Да как тебе сказать, — задумчиво начал Корнилов. — В двух словах не расскажешь. Они подошли к окну, Корнилов закурил. — Пригласили меня консультировать одну пьесу. На нашу тему. Там в третьем действии молодой парень убивает свою знакомую. Бежит к другой подружке и в любви ей объясняется, пьют вместе вино как ни в чём не бывало. А на репетиции заминка произошла: не получается эта сцена у молодого актёра, и всё тут. «Дайте, — говорит, — мне ещё время в образ вжиться». Я сначала решил — не под силу актёру роль. А потом, когда подумал всерьёз да всю пьесу вспомнил, другое понял. Это не актёра вина. Он-то молодчина. Фальшь уловил. Интуитивно почувствовал, что его герой не мог совершить это преднамеренное убийство, да ещё тут же с новой милашкой объясняться! — Что значит «не мог»? — спросил Белянчиков. — Ну конечно, в жизни всё бывает: случай, пьянка, вспышка гнева. А чтобы преднамеренно — нет! Этот герой не мог, понимаешь? Логика характера не позволяет. Уж таким сотворил его автор. А потом ссамовольничал. Белянчиков засмеялся: — Ну ты чудишь, Игорь! Это уж дело автора, как повернуть… — Ничего смешного не вижу. Я с тобой как с другом… — Корнилов сердито поглядел на Белянчикова. — Не могу я тебе объяснить, что уж там автор думал… — Ну а к чему ты мне всю эту историю рассказал? Я ж тебя о другом спросил. — С логикой у тебя слабовато, Юра. Логикой тебе подзаняться не мешало бы. Да, наверное, поздно. Чему Ваня не выучился, тому Ивана не обучишь… А если говорить серьёзно, то слишком уж страшное это преступление — сыноубийство. Да особенно если совершено оно так расчётливо, обдуманно. Для этого ох какие основания иметь надо! А Зотов полжизни врозь с сыном прожил, даже не встречался. — Ну и довод у тебя, — тихо сказал Белянчиков. — Не слишком профессиональный. — Логичный довод, — сказал Корнилов. — Простой, человеческий. Да ведь ещё и шапки у Мокригина и у Тельмана Алексеева одинаковые были. Мне это сразу в глаза бросилось. Вот так-то, товарищ капитан. А всё-таки бесплодных истин не бывает!
1975
КРУТОЙ ПОВОРОТ Повесть

1
Вечером небо затянулось тучами. В стороне залива долго громыхало, и наконец на город обрушился ливень. Горин испугался — в десять он должен был заехать за Верочкой. Они сговорились встретиться у Таврического сада. Юрий Максимович нервничал, то и дело смотрел на часы и, подходя к окну, с тоской разглядывал опустевшую улицу, по которой хлестали струи дождя. Над асфальтом, за день раскалённым июльским солнцем, призрачной полосой висел туман. Ливень продолжался минут сорок и внезапно закончился. Юрий Максимович распахнул окно и, вдохнув свежего воздуха, с облегчением улыбнулся. Подумал: «Дождь как по заказу. Смыл всю пыль и вовремя перестал. А на даче хорошо будет!» Он снял с антресолей чёрную сумку с надписью «Аэрофлот» и стал собираться. Вынул из бара бутылку джина, бутылку коньяка. Из холодильника достал две банки апельсинового сока, белый бидончик, в котором мариновалось мясо для шашлыка, завёрнутую в целлофан зелень. Постоял несколько минут, не закрывая дверцу холодильника, прикидывая, что бы ещё взять с собой. С продуктами на этот раз у него не густо: жена уже вторую неделю как уехала к тяжело заболевшей матери в Нальчик, и оставленные ею припасы поубавились. Потом Горин открыл книжный шкаф и, вытащив с одной из полок несколько книг, достал спрятанный в глубине небольшой пакетик. Он развернул яркую фирменную бумагу и открыл красивую, чёрную с золотым вензелем коробочку. Чуть утопленное в голубую шёлковую подкладку, как в волны неспокойного моря, в коробке лежало золотое кольцо с бриллиантом, сияющим среди лепестков золотой розы. Несколько секунд Юрий Максимович задумчиво смотрел на кольцо, наконец губы его дрогнули и расплылись в удовлетворенной улыбке. Он отстранил от себя коробку с кольцом и чуть склонил голову, любуясь живым блеском камня. Горин смотрел на кольцо минуту, а может быть, даже две, потом плавно надавил пальцем на крышку, и коробочка захлопнулась с лёгким щелчком. Горин положил её во внутренний карман куртки, разорвал обёртку на мелкие кусочки и выбросил в мусоропровод. Поставив книги на место, Юрий Максимович прошёлся по комнатам, вспоминая, не забыл ли что. Взял с письменного стола недочитанный номер «Иностранной литературы», подержал в руке и положил обратно. «С Верочкой не почитаешь… А вот про плавки и забыл! — подумал он. — Погода-то прекрасная, завтра на залив съездим». Гараж был рядом, в соседнем дворе. Горин осторожно, чтобы не запачкать замшевую куртку, открыл его, вывел «Волгу».Несмотря на поздний час, на улицах было полно народа. Белые ночи хоть и шли на убыль, но не потеряли ещё своей чарующей силы. Горин вёл машину не спеша, осторожно переезжая оставшиеся после ливня лужи, стараясь не забрызгать прохожих. Опустив боковое стекло, он подставил лицо свежему ветру, радуясь, что сейчас увидит Веру, что они вместе поедут на дачу и будут там вдвоём не час, не два, а целых три дня! И никуда не надо будет торопиться, и никто не сможет им помешать. И за эти три дня они наконец обо всём договорятся, всё решат… У Таврического сада он притормозил и тут увидел Верочку. Долговязый блондин неопределённого возраста стоял рядом с ней и что-то говорил улыбаясь. Наверняка набивался в знакомые. Чёрт знает что! Стоит ей где-то появиться одной, как тут же кто-нибудь привязывается. У Горина от одной мысли о том, что какой-нибудь пижон пристаёт к Вере, становилось темно в глазах. А вот к её мужу он относился спокойно. Даже позволял себе иногда, в те редкие часы, когда им удавалось быть вместе, задавать такие вопросы, от которых Верочка краснела. Может быть, это происходило из-за того, что Вериного мужа, Евгения Николаевича Шарымова, он знал уже много лет. Даже учился вместе с ним в мореходке. Юрий Максимович остановил машину, открыл дверцу. Верочка заметила его и помахала рукой. Долговязый тоже обернулся. Он глядел, как Верочка садилась в машину, с явным сожалением. — Что ещё за тип? — спросил Горин. Вера засмеялась и, положив голову ему на плечо, ласково потёрлась. — Знакомый? — Знакомый. Две минуты назад познакомились. — Она вынула из сумочки зеркальце, посмотрелась. — Ты, Юрка, страшно ревнивый. Не знаю я эту версту коломенскую и знать не хочу. Примитив: «Как вас зовут, кого вы ждёте?» — Ну а ты? — Юрий Максимович понимал, что ведёт пустой разговор, но остановиться не мог. — Юра, оставь. — Она снова положила ему голову на плечо. — Мы сможем побыть на даче только день. Я боюсь, что Женя раньше времени приедет. Он всё время нервничает. — Ну вот, начинается, — недовольно проворчал Горин. Настроение у него испортилось. — Ничего. Зато целый день наш, — ласково сказала Вера. — На-аш! Они пересекли улицу Воинова, проехали по набережной, заполненной гуляющими, свернули на Литейный мост. Горин удивился, что в такое позднее время здесь много машин. Двигались они еле-еле, а на середине и совсем остановились. Прошло пять минут, десять. Машины запрудили весь мост. — Что за пробка?! — в сердцах сказал Юрий Максимович. — Добро бы в час «пик». А тут… Посмотреть, что ли? — Сиди. — Верочка была спокойна. Прижавшись к нему, она задумчиво смотрела на Неву, на старинные здания на набережной Выборгской стороны. — Нет, я всё-таки пойду взгляну, — сказал Горин. Но дверцу открыть не смог — слева вплотную к «Волге» стояла белая машина «скорой помощи». Чтобы выпустить Горина, пришлось вылезать и Вере. Они поднялись на тротуар, стараясь разглядеть, что произошло впереди. Какой-то парень, проходя мимо, остановился и сказал: — Надолго застряли! Асфальт после дождя скользкий. Троллейбус занесло. — Что же его не уберут? — недовольно спросил Горин. Ему показалось, что парень чересчур бесцеремонно разглядывает Верочку. — А-а… — прохожий махнул рукой. — Там такое нагорожено! Несколько машин ударились. — И пострадавшие есть? — Не знаю. «Скорая» стояла. — Парень пошёл дальше. — Психуй не психуй, — сказал Горин, — а только загорать нам здесь придётся долго. Назад уже не вывернешь. Хоть бы гаишники вмешались. Неужели они не видят, что здесь затор? Они забрались в машину, и Верочка, устроившись поуютнее, снова прижалась к нему, расстегнула пуговицу на рубашке и положила руку на грудь. Юрий Максимович вдруг почувствовал лёгкое раздражение. Ему стало неприятно, что Верочка так спокойно отнеслась к тому, что раньше времени может приехать её муж, к этой дурацкой непредвиденной остановке на мосту. Он так стремился в лес, на свою дачу — уютную, красивую! Так стремился отгородиться от всего света, побыть вдвоём, и вот — нате! Глупое неожиданное препятствие. Выехали бы на пятнадцать — двадцать минут раньше — уже приближались бы к Новой деревне! «А если бы да пять минут раньше? — подумал он вдруг. — Рядом с тем троллейбусом!» Горин закрыл глаза и ясно услышал скрип тормозов, скрежет металла, сирену «скорой»… И почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Вот ещё! Чего это я завожусь?» — подосадовал Юрий Максимович, но тревога не проходила. Мысли, одна несуразней другой, лезли в голову, и он никак не мог совладать с собой. Верочка почувствовала его состояние и, чуть отодвинувшись, спросила: — Что с тобой, Юра? — Я в порядке. — Горин попытался улыбнуться. Ему было невыносимо торчать здесь, на мосту, когда следовало спешить, спешить. Футляр с кольцом жёг ему грудь. Казалось, что он слишком долго лежал в безвестности за пыльными забытыми книгами в шкафу. Юрию Максимовичу хотелось поскорее раскрыть футляр перед Верой, увидеть, как яркий свет бриллианта отразится в её больших карих глазах. Увидеть в этих глазах радость, любовь, благодарность… Неожиданно Вера спросила: — Чего ради ты затеял эту историю с письмами? Горин напрягся, лицо его сделалось замкнутым и отрешённым. — Ты уже знаешь? Конечно, надо было сказать ей о письмах заранее. Но Юрий Максимович боялся показаться смешным. Ведь тогда пришлось бы рассказать и о том унижении, которое испытал он в разговоре с капитаном Бильбасовым. — Ещё бы не знать! Евгений прожужжал мне все уши об этих письмах. Ты не поторопился? — Нет! — твёрдо сказал Горин. — Мне уже давно надоели безобразия, которые творятся на судне. Ты знаешь, что за отношения были у меня с кэпом. Жили душа в душу… Но есть предел. Мастер зарылся. Мало того, что он распустил лодырей и пьяниц, он подставляет ножку порядочным людям! Верочка вздохнула. — Ты что, не одобряешь? — с беспокойством спросил он. — Я просто боюсь. Ты можешь повредить себе. Тебя же обещали назначить капитаном? А Бильбасов авторитет. Мой Евгений день и ночь кипятится: «Владимиру Петровичу не страшны комариные укусы!» — Посмотрим, — сердито сказал Горин. — Только капитанские прихвостни уже прячутся в кусты. Стармех первым залёг в больницу. Не забывай, что я великий реалист… Юрия Максимовича задели слова Веры. Он смутно почувствовал в них недоверие, неуверенность в его силах. Такого он от Верочки не ожидал. Тем более что уже давно между ними существовал уговор — как только Юрий Максимович становится капитаном, они решают все свои семейные проблемы. Он взглянул на часы. Без пятнадцати одиннадцать. Толпы гуляющих двигались мимо застывших автомобилей. Шли старшеклассники с песнями, шли иностранцы. Шум, крики — весёлый аккомпанемент белых ночей — всё это сейчас не трогало Горина, казалось ему нелепым и чуждым. Словно из какого-то другого мира. «Не хватало ещё обрушиться в Неву, — зло думал он, озираясь по сторонам. — Прочность моста ведь тоже имеет свои пределы. Неужели милиция не может растащить эту пробку?» Он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. В «скорой помощи», стоявшей рядом, было опущено белое стекло, и оттуда пристально смотрел на Горина какой-то мужчина. Юрий Максимович успел только заметить, что лицо у него очень худое и небритое. «Больной, что ли? — подумал Горин. — В этой пробке человек и умереть может. Даже „скорой“ не пробиться». — Какие красивые русалки. Посмотри, Юра, — Верочка показала на решётки моста. Юрий Максимович повернул голову и вздохнул: — Эти перила здесь со времён царя Гороха. — А я их не видела, — Верочкин голос зазвенел от обиды. — Ну ладно, ладно, пусть будет так, — он притянул Верочку к себе и обнял. — Не будем ссориться. — Он гладил её волосы, мягкие, шелковистые, чуть-чуть пахнущие какими-то хорошими духами, а сам никак не мог отрешиться от непонятного чувства страха. Неожиданно кто-то сказал рядом, чуть ли не над ухом у Горина. — Вот они, психи-то! В машинах, все в машинах. Их бы и вязали. Юрий Максимович обернулся и встретился глазами с небритым мужчиной, сидевшим в «скорой помощи». — Да-да! Не смотри на меня так удивлённо, — продолжал небритый. У него был неприятный, хрипловатый голос. — Это я про вас, автомобильщиков! Куда гоните? Куда? У вас же пассажиров тьма! — человек взглянул куда-то сквозь Горина, да так жутко, что Юрию Максимовичу сделалось не по себе, и он оглянулся. Словно хотел удостовериться, что, кроме Веры, в машине никого нет. «Сумасшедший, что ли?..» — подумал он. А небритый вдруг сказал спокойно и осмысленно: — А жена-то с ним чужая. Из кабины «скорой помощи» высунулся мордастый флегматичный санитар и с интересом посмотрел на Верочку. — Да как вы смеете! — крикнул Горин и стал лихорадочно поднимать стекло. И тут же подумал, что не следовало вообще отвечать. Вера испуганно покосилась на небритого человека и ещё теснее прижалась к Юрию Максимовичу. — Как я смею? Как я смею! — завопил мужчина. — Да ведь она потаскушка! Чужая жена! Это ж сразу видно. — Да скажи ты ему, чтоб заткнулся! — Верочка чуть не плакала. — Ну что же ты? Мужчина продолжал орать. Около «скорой» собиралась толпа. Какие-то молодые парни, смеясь, заглянули в машину и отошли с шуточками. Юрий Максимович их не слышал. Он не мог прийти в себя от бешенства и несколько минут сидел в каком-то оцепенении, несмотря на то что Верочка дёргала его за руку и, всхлипывая, повторяла: — Скажи ему, Юра, скажи… Наконец он стал открывать дверцу, забыв, что «скорая» совсем рядом, и стукнул по ней. Надо было опять вылезать в ту сторону, где сидела Вера. — Ой, господи! — почти простонала она. — Как я сейчас выйду? Здесь же толпа людей… — Но всё-таки, открыв дверцу и втянув голову в плечи, выбралась из машины. Горин выскочил вслед за ней и кинулся к орущему. — Как вы смеете… — Он сорвался на визг и тут увидел, что этот небритый человек одет в какую-то странную серую одежду, а длинные рукава завязаны у него за спиной. Горин растерянно оглянулся, начиная понимать, что его гнев и любые слова здесь бессмысленны, и в это время услышал, как в «скорой» хлопнула дверца. — Не обращайте внимания, — подходя к Горину, сказал рослый детина в белом халате, наверное, санитар. Это был тот человек, который выглядывал из кабины. Он продолжал флегматично жевать, отламывая от зажатого в руке батона. — Не обращайте внимания, — повторил он. — Это сумасшедший, — погрозил орущему огромным волосатым кулаком. Тот сразу смолк. — Алексей Петрович, — обратился санитар к кому-то сидящему в «скорой», — подними стекло. А то он тут всех перепугает. Устроил цирк! Он осмотрел место, куда ударил дверцей Юрий Максимович, и, густо нахмурив брови, с неудовольствием потрогал металл рукой. — Да я маленько стукнул! — сказал Горин извиняющимся тоном и обернулся к своей машине. Веры там не было… Он выскочил на тротуар и стал озираться по сторонам, пытаясь разглядеть её в толпе. В это время поток машин медленно, словно нехотя, сдвинулся. Сзади засигналили. — Идиот! — крикнул Юрий Максимович сигналившему. Но загудели и другие автомобили. Горин вне себя закричал: — Вера! Из толпы кто-то отозвался дурашливым голосом. Юрий Максимович быстро сел в машину, с силой хлопнул дверцей и резко дал газ…
2
— Неприятное это дело, — поморщившись, сказал Кондрашов и смешно, по-детски почмокал оттопыренными губами. — Ты можешь считать, что я чересчур субъективен… Не знаю, не знаю. Корнилов был знаком с Василием Сергеевичем уже лет двадцать — учились в одной группе на юрфаке. Они не были близкими, закадычными друзьями, но всегда относились один к другому с симпатией, хоть и пикировались часто. Судьба устроила так, что после окончания университета они шли параллельным курсом, словно корабли в открытом море. Начинали в одном районе: Корнилов участковым инспектором, Кондрашов — помощником прокурора, потом один стал начальником уголовного розыска, другой — районным прокурором. Корнилова перевели в Главное управление внутренних дел, Кондрашова в городскую прокуратуру следователем. Был, правда, один период, когда Василий Сергеевич круто отклонился в сторону — ушёл в аспирантуру, защитился и стал преподавать административное право в одном ленинградском институте. Но никто из бывших сокурсников этому не удивился. Все были уверены, что рано или поздно Кондрашов уйдёт в науку — в нём всегда жил ярко выраженный интерес к теории. Удивило другое — через два года он снова попросился на практическую работу. — Неприятное это дело, — повторил Василий Сергеевич и похлопал своей мягкой, похожей на женскую рукой по серой папке. — Ты, Вася, меня не агитируй, — Корнилов усмехнулся. Потянулся за папкой. — Приятное, неприятное — что за определения? Вот почитаю, скажу, какое оно, твоё дело. Только ты, Василий Сергеевич, должен бы знать — для уголовного розыска те дела неприятные, которые раскрыть не удалось. Кондрашов поморщился: — Брось, брось… Читай лучше. Игорь Васильевич раскрыл папку. В ней было всего несколько страничек. Корнилов начал читать справку ГАИ: «Третьего июля 1976 года около двенадцати часов ночи на сорок девятом километре Приморского шоссе автомобиль „Волга“, номерной знак ЛЕК 36–99, по неустановленной причине съехал на повороте с дорожного полотна и ударился в стоящее на полосе отвода дерево». «По-видимому, скорость была большая, — подумал Корнилов. — После удара машину развернуло ещё раз и боком стукнуло о другое дерево». «От удара автомобиль загорелся, взорвался бензобак. Владелец автомашины Горин Юрий Максимович…» Игорь Васильевич недоумённо посмотрел на следователя. — Читай, читай, Игорь. «…Владелец автомашины Горин Юрий Максимович, старший помощник капитана теплохода „Иван Сусанин“, погиб…» Дальше следовал акт судебно-медицинской экспертизы. Повреждений, полученных старпомом, хватило бы на троих. Лицо сильно обгорело, но близкие опознали Горина. Признаков алкогольного опьянения не обнаружено. За час-полтора до происшествия прошёл очень сильный дождь, шоссе было мокрое, водитель вёл машину на большой скорости и на повороте не справился с рулевым управлением… Игорь Васильевич дочитал, посмотрел фотографии смятого обгорелого автомобиля, положил папку на стол. — Ну, а теперь выкладывай, почему эта папка оказалась на столе у следователя прокуратуры, а не у нас в ГУВД? — Да потому, что неделю тому назад прокуратура получила от старшего помощника капитана Горина большое письмо о преступных действиях капитана теплохода Бильбасова и некоторых других членов экипажа. Такое же письмо старпом послал в пароходство. И вдруг — наехал на дерево и сгорел! Не правда ли, подозрительное совпадение? — Но ведь ты не считаешь, что заявитель застрахован от случайностей? — Нет, не считаю… — Тогда выкладывай остальное. Аргументы! Аргументы! Кондрашов медлил, смотрел загадочно, словно хотел, чтобы Корнилов сам высказал предположение. Игорь Васильевич принял вызов. Они любили иногда задавать друг другу задачки на сообразительность, подвергая одновременно проверке на прочность собственные гипотезы. — Куда ехал старпом в столь поздний час? — спросил Корнилов. — Мог ехать на свою дачу в Рощино. Но никто не знает точно. В день катастрофы его жена была в Нальчике, у больной матери. — Я думаю, магнитные мины и прочие эффектные средства из кинодетективов можно оставить в стороне? — Можно! — кивнул Кондрашов. — Хотя для верности мы исследовали эту сторону дела. — Если бы по автомобилю стреляли, незачем было бы загадывать загадки. Ведь на нём не обнаружены пулевые пробоины? И огнестрельных ранений на трупе нет… Василий Сергеевич улыбнулся, пожал плечами, словно говоря: «А как же? Мы тоже не лыком шиты!» — Старпома мог «прижать» какой-нибудь грузовик. Или даже другая легковушка… На кузове царапин нет? Других царапин? — Корнилов нажал на слове «других», заметив, как улыбнулся следователь. — Нет. — Опрашивали инспекторов ГАИ, дежуривших на трассе? Время ведь позднее, машин мало. — Опрашивали. Машин действительно было мало, и на посту ГАИ в Солнечном обратили внимание на «Волгу» 36–99. Водитель гнал как сумасшедший. Инспектор даже позвонил в Зеленогорск, чтобы его там задержали и сделали предупреждение. Машина Горина шла одна. От Солнечного до места происшествия девять километров. На большой скорости — четыре-пять минут… — Но какой-нибудь автомобиль мог выехать на Приморское шоссе и после Солнечного… В центре посёлка Репино, например? — Здесь нам повезло. Мы почти уверены в том, что в момент катастрофы на отрезке Солнечное — граница Зеленогорска других автомашин не было. Инспектор ГАИ в Зеленогорске, получив предупреждение из Солнечного, ждал нарушителя и внимательно следил за дорогой. Машин не было. Минут десять. И водитель первой появившейся после этого перерыва машины — зеленогорской продуктовой — сказал инспектору, что на сорок девятом авария. Разбилась и горит «Волга». Он также сказал, что несколько шофёров с подъехавших автомашин пытаются погасить огонь и уже вызвали «скорую помощь». Представляешь теперь поле битвы? — Представляю, — вяло сказал Игорь Васильевич. — Только уж больно не нравится мне одно ваше словечко, товарищ следователь. — Что за словечко? — насторожился Кондрашов. — «Почти». Маленькое словечко «почти» приводит иногда к большим казусам. — Ну, извини! — усмехнулся Василий Сергеевич. — Мы в прокуратуре не боги. Нам до угрозыска далеко. Корнилов не обратил внимания на язвительный тон Кондрашова и сказал задумчиво: — Значит, если предполагать умысел… — Он вдруг замолчал, словно потерял нить рассуждения, и нахмурился. — А не могли ему перед выездом из города дать сильную дозу снотворного? — Могли, — сказал прокурор. — Но не дали. Экспертиза установила бы. — Может, залепили ему кирпичом в ветровое стекло? — Горячо, Игорь! Именно — залепили. Только не кирпичом, а булыжником, — сказал Василий Сергеевич. — Когда проводили повторный осмотр автомобиля, обратили внимание на камень в салоне. Он тоже закоптился при пожаре. В первый раз этому не придали значения. Камень и камень! Может быть, подумали, что Горин возил его с собой, — он засмеялся. — Зря иронизируешь! — рассердился Корнилов. — Водитель действительно мог везти его с собой. — На всякий случай? — Да, на всякий случай. Может быть, и для обороны — ехал-то почти ночью. Может, чтобы подложить под колесо, если что-то с машиной случится. — Молодец, молодец… — Кондрашов поднял ладони над столом. — Я потому и пришёл, чтобы все твои «может быть» выслушать. Прокурор города специально просил твоего шефа подключить подполковника Корнилова к этому делу. — Увидев, что Игорь Васильевич хочет что-то возразить, Кондрашов сказал мягко, почти ласково: — Игорёк, не ерепенься. Шутки шутками — дело по твоей части. Я, когда о тебе думаю… — Думаешь всё-таки? — Думаю, подполковник, думаю. И не так уж редко. И всегда представляю, как тебе трудно служить в уголовном розыске. По каждому делу ты ставишь перед собой столько вопросов, стараешься залезть так глубоко, что я просто диву даюсь: почему вдобавок к этому ты ещё и быстро справляешься? Как правило… — А ты что ж, считаешь, надо работать по-другому? — заинтересованно спросил Корнилов. — Ну-ка, ну-ка, разоблачайтесь, товарищ следователь! — Я считаю, что может быть разный стиль работы. Люди-то ведь разные. Один может глубоко пахать, другой не может, зато быстро бегает. — Пусть учится. Все должны и пахать глубоко, и бегать быстро. — Вот именно! Поэтому я и думаю, что тем, кто с тобой работает, ещё труднее, чем тебе самому… — Ну ты философ! — покачал головой Корнилов. — Чувствуется научная подготовка… А что, мои сотрудники жалуются? Или ты дедуктивно определил? — Дедуктивно, — сказал Кондрашов. — Займёшься делом? Ох, как не нравится мне оно! Вот почитаешь заявление Горина — призадумаешься! Знаешь, мне чисто по-человечески неприятно было с ним знакомиться. Такой у них на теплоходе бедлам. Серьёзные обвинения покойный старпом выдвинул. И главное — убедительные. Особенно в отношении капитана. Их, конечно, проверять надо — искать подтверждения. Но мы найдём. Не сомневаюсь! — Он вздохнул и украдкой посмотрел на часы. Чуть оттопырил нижнюю губу. — Вообще-то, если быть до конца принципиальным, такие обвинения надо публично предъявлять. На общем собрании. Люди бы поддержали. И всё сразу стало бы ясно. — Ну, знаешь, не в каждом коллективе вылезешь на собрании правду-матку резать. Кое-где и заклевать могут. — Верно, верно, — согласился Кондрашов и снова покосился на часы. — Ты что ёрзаешь? — усмехнулся Корнилов. — Адмиральский час подходит? Кондрашов виновато покрутил головой. — Да знаешь… Старая язва… Мне врачи предписали строго по часам есть… — Он поднялся. — Меня эта история за живое задела, Игорь. Понимаешь, приходит письмо с такими обвинениями… — Василий Сергеевич замялся, не находя нужного определения. — Ну как тебе объяснить… Грубо говоря, тюрьма капитану и его компании не грозит, хотя чем чёрт не шутит! Может, потом и выявится что-то ещё более серьёзное… А старпома убивают. Что ж это за люди, а? Ну, ну, не спорь, — сказал он, почувствовав, что Корнилов не согласен с ним. — Я специально беру самую крайнюю версию. Ведь именно её тебе предстоит проверить. — Я, Вася, всегда все версии проверяю, — сказал подполковник хмуро. — Пора бы тебе привыкнуть! — Ну и ершисты вы, товарищ подполковник! Стареем, что ли? Всё ворчишь, ворчишь! — Кондрашов поднял со стола папку с делом. — Ты, Игорь, попроси копию с заявления Горина снять — оригинал я себе оставляю. Нам он для проверки необходим. Корнилов вызвал секретаря. — Варя, срочно отпечатай. — И ещё нельзя забывать про хулиганов, — сказал Кондрашов, прощаясь. — Напился какой-нибудь хам и швырнул камнем. Круши частных владельцев, — он протянул руку. — Привет! Будем держать друг друга в курсе… Корнилов кивнул. «Да, похоже, дело непростое. Если только это не случайная авария, — подумал он, когда следователь ушёл. — Но ведь и её, случайность, надо доказать. Чтоб не висела тень над людьми…»3
Днём Игорь Васильевич заехал на полчаса домой. Пообедать. Это случалось редко, и мать была рада. Она села напротив него и, глядя, как он с аппетитом ест борщ, рассказывала, что с утра ходила на Сытный рынок. Уже продают скороспелку. Но дерут, не приведи господь. По рублю. И пучок зелени — рубль. Дешевле рубля ничего но купишь, сокрушалась мать. Эдак никакой зарплаты не хватит. — А ты, мама, в магазинчик, в магазинчик, — улыбался Корнилов. — Или Оле позвони в поликлинику. Она пойдёт с работы и принесёт что нужно. — В магазинчик! — проговорила мать. — А ты сам хоть раз за последний год заходил в магазинчик? «А ведь она права!» — подумал Игорь Васильевич. — От твоей магазинной картошечки больше половины в помои идёт. Её не натаскаешься. Ты у меня большой придумщик, — продолжала мать. — Это ж надо — позвони Оле! Да если после службы по магазинам ходить — вечера не хватит. Игорь Васильевич лениво отбивался от нападок, а сам нет-нет да и вспоминал про разговор с Кондрашовым. Неужели этого старпома убили из-за его жалобы в прокуратуру? А может быть, несчастный случай? Ведь не бандиты же члены экипажа «Ивана Сусанина»?! Наверное, люди проверенные. В загранку ходят. «В загранку ходят… В за-гран-ку, — Корнилов словно споткнулся об это слово. — Здесь есть что-то такое, в этой самой загранке, — подумал он. — Что-то есть. Или мы просто привыкли: если загранка — то уж и подозрительные связи, контрабанда, валюта… Нет, нет, сначала дело — домыслы потом». Но уж слишком несоизмеримыми казались ему причина и следствие. Человек написал жалобу на капитана и его помощников, а его, этого человека, убивают. Но письмо-то уже написано! От него не отмахнёшься, не спишешь в архив после смерти заявителя. Наоборот! Те, кто это письмо получил, будут внимательнее и строже во сто крат! Живого можно уговорить, убедить взять письмо назад, если он ошибается. В конце концов он и сам может одуматься. А бумага? Она подшита, имеет номер. Она хоть и всё стерпит, но на неё надо ответить, даже если заявитель мёртв. Корнилов встал из-за стола и подошёл к телефону. — Ты что, уже? — изумилась мать. — А я-то радовалась, думала, аппетит хороший. — Хороший, мама. Хороший. Сейчас всё уплету и добавки попрошу. Только хорошему человеку позвоню. Он набрал номер Кондрашова. — Вася, один вопрос. Члены экипажа знали о том, что старпом обратился с заявлением в прокуратуру и пароходство? — А-а!! — весело пропел следователь. — Чую, что ты уже вживаешься в образ! Так, кажется, говорят киношники и работники угрозыска? — Не морочь мне голову. У меня обед стынет, — буркнул Корнилов. — Знали, товарищ подполковник. Все знали. Ещё за несколько дней до катастрофы.…Приехав после обеда в управление, Корнилов прежде всего взялся изучать заявление Горина в прокуратуру. Старпом с «Ивана Сусанина» писал о том, что плавает на судне уже двенадцать лет. Начинал четвёртым штурманом, старшим помощником ходит последние пять лет. «Интересно, — подумал Игорь Васильевич, — от четвёртого штурмана до старпома за семь лет — нормальный рост или нет? А пять лет старпомом? Если сравнивать с нашими продвижениями по службе, то даже слишком стремительно. А как там у них, в пароходстве, надо узнать». Он сделал пометку на листке бумаги. Злоупотребления, в которых Горин обвинял капитана Бильбасова, старшего механика Глуховского, пассажирского помощника Коншина, штурмана Трусова и директора ресторана Зуева, были серьёзными, и Корнилов подивился той лёгкости, с которой Вася Кондрашов заявил, что тюрьма им не грозит. Прежде всего, конечно, Бильбасов… За последние годы, писал старпом, капитан перестал считаться с экипажем, окружает себя подхалимами. От людей принципиальных, хороших штурманов избавляется, боясь конкуренции. Не раз допускал грубые нарушения судового устава, этики и даже законности. В 1975 году во время перехода из Пирея в Никозию, будучи в нетрезвом состоянии, избил иностранного пассажира, американца Арчибальда Бримана. Дело удалось замять только после того, как этому пассажиру преподнесли дорогой подарок. В том же году в Неаполе, капитан на целый час задержал теплоход, выручая из полиции старшего механика Леонида Глуховского, попавшего туда за пьяный дебош. В 1973 году во время круизного рейса вокруг Европы Бильбасов устроил большую попойку, справляя день рождения. Подарками, сделанными экипажу различными туристскими фирмами и советскими предприятиями, капитан распоряжается по своему усмотрению… Взял лично себе очень дорогой сервиз и телевизор… Одной пассажирке подарил из судового музея большого плюшевого медведя… — дальше шло перечисление капитанских бесчинств такого же рода. «Из заграничных поездок капитан возит вещи для перепродажи. Это же делают Трусов, Глуховской и Зуев. О моральном облике Бильбасова говорит хотя бы один такой факт — он трижды был женат. Привлекался к уголовной ответственности, но скрыл это от руководителей пароходства. Пассажирский помощник, близкий друг капитана, вместе с ним пьёт, имеет обыкновение во время рейсов заводить знакомства с женщинами. Груб с обслуживающим персоналом…» — О, господи помилуй! — вздохнул Корнилов. — Чего только не бывает на белом свете. Со стороны кажется: капитан дальнего плавания обязательно красивый и подтянутый — воплощение корректности, высоких понятий о чести, а тут… «Ну да ладно, мы своё дело сделаем, а разбираться со всей этой бытовщиной придётся прокуратуре, — подумал он с некоторым облегчением. — И разбираться не один месяц. А как же очередные рейсы? С такими обвинениями в дальнее плавание не пошлют!» И снова сделал пометку на листе бумаги. Игорь Васильевич никогда не писал в блокнотах. Брал лист хорошей белой бумаги, складывал его пополам и записывал всё необходимое своим не слишком крупным и не слишком разборчивым почерком. На листке бумаги получалось нагляднее, можно было все вопросы охватить разом, единым взглядом. Сопоставить их, сравнить. А в записной книжке, казалось ему, всё дробилось, расплывалось по страницам. К тому же на каждое дело не будешь заводить записную книжку, а путать одно с другим Корнилов не любил. Так и хранились у него в сейфе пачки сложенных пополам листков бумаги. Каждый листок — дело. «Доживу до пенсии, — шутил подполковник, — начну по этим листкам писать мемуары». Он опять подумал о заявлении покойного старпома и поморщился: «Хорошо всё-таки, что я работаю в уголовном розыске, а не занимаюсь разбором жалоб и служебных проступков!» Корнилов всегда считал, что копаться в мелких и гнусных делишках людей посложнее, чем работать с откровенными преступниками. «Никогда не знаешь до конца, с кем имеешь дело, — думал Корнилов. — Но „клиентов“-то поставляют нам они! Колеблющиеся». Он вызвал Варвару, секретаря отдела. Спросил: — У тебя, Варюха, как с гражданским правом? Варвара училась на юрфаке. На вечернем отделении. — Зачётку показать? — улыбнулась она. — Мы, Варюха, строим свои отношения с сотрудниками на доверии. Следовало бы давно усвоить. — По гражданскому праву у меня трёшник. На последней сессии схватила, — вздохнула Варя. — Н-да-а, — огорчился Корнилов. — А я-то хотел с тобой проконсультироваться. Ну да ладно, обойдусь. Варвара, иронически поджав губы, смотрела на подполковника. Но глаза у неё улыбались. — Да, а морское право изучают нынче в университете? — поинтересовался он. — Изучают. Факультатив. У меня пятёрка! — Ух ты! Поздравляю. А кто у вас главный специалист? — Профессор Малинин. — Ну ладно, Варя. Ты меня ещё проконсультируешь по гражданскому праву. Когда пятёрку будешь иметь. А сейчас предупреди Бугаева и Лебедева, чтобы зашли ко мне через полчаса. В шестнадцать ноль-ноль. Варвара была уже в дверях, когда он спросил е-: — А с криминалистикой как у тебя? — Пятёрка! — Смотри! Чтобы здесь было всё в порядке. Закончишь университет, зачислим в отдел. Не морским же правом тебе заниматься. — А почему бы и нет? — спросила Варвара с вызовом. — Вы меня здесь опять чай заставите на совещаниях готовить. Корнилов погрозил ей пальцем. «Жаль, что Белянчикова нет, — подумал он, когда за Варварой закрылась деверь. — Его бы к этому делу подключить!» Юрий Евгеньевич уже неделю как загорал и купался в Прибалтике. Только что получил наконец майора. Успели перед отпуском отметить. Белянчиков был колючим и трудным человеком, иногда чересчур упрямым, но споры с ним, как ни странно, помогали подполковнику или укрепляться в собственном мнении, или быстро находить свою ошибку. К тому же Юрий Евгеньевич был до предела собран. Они с Корниловым были совершенно разные. Некоторые черты характера Юрия Евгеньевича даже раздражали подполковника, но с годами он научился не обращать на них внимания. Относился как к неизбежному злу. Главное, что человеком Белянчиков был надёжным. Надёжным во всех отношениях… В оставшееся до совещания время Игорь Васильевич наметил первоочередные дела. На листке появились новые записи: «Куда ехал Горин? Узнать дома, у соседей». «Съездить на место катастрофы». «Это я, пожалуй, сделаю сам, — решил Корнилов. У него было твёрдое правило — место происшествия он должен был знать досконально. — Может быть, там поблизости есть дома? Похожу, людей порасспрошу. И на Карельском перешейке я давно не был. Там сейчас красота! А не лукавите ли вы, товарищ подполковник? Может, потому и решили сами съездить, что озона глотнуть захотелось? — Но тут же он успокоил себя: — Нет, не лукавлю. Дело есть дело». «Познакомиться с характеристиками всех, кого обвинил старпом в своём письме. Выяснить всё, что знают о них в пароходстве. Выяснить, где был в тот вечер каждый, о ком говорится в письме». Игорь Васильевич задумался. Ну что же, ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а надо определить круг причастных к этому делу лиц. И те, кого обвинил Горин, — первые в этом круге. Ровно в шестнадцать часов пришли Бугаев и Лебедев. Уселись поудобнее. Бугаев, как всегда, придвинул к себе стопку чистой бумаги, начал рисовать смешные угловатые рожи. Лебедев сидел настороженно, словно ожидал, что его будут за что-нибудь ругать. — Семён, как продвинулось дело с квартирными кражами? — спросил подполковник. — Продвинулось очень далеко, Игорь Васильевич, — с наигранной бодростью ответил капитан. — Вот как? Чего же мне не докладываете? Вместе бы порадовались. Насколько я помню, в конце прошлой недели на Заневском проспекте обворовали две квартиры. — Сегодня утром ещё две кражи. Но уже в Гатчине. Почерк тот же. — Бугаев с ожесточением принялся зачёркивать только что нарисованную рожицу. Корнилов вздохнул. — Вы соседей запрашивали? Нет у них похожих краж? — Квартирные кражи уже неделю не давали подполковнику покоя. Бугаев кивнул. — Запрашивал. Там тихо. — А нам тут ещё одно дело подбросили. Прокуратура ведёт. Подозрение на убийство… Игорь Васильевич подробно пересказал сотрудникам всё, что узнал у Кондрашова о гибели старпома. Дал почитать дело и заявление Горина. — Ну и шуточки! Лихим надо быть человеком, чтобы на такое решиться! — покачал головой Бугаев. — Это знаете ли… Я бы сказал, некоторое безрассудство. — А ты, Саша, почему молчишь? — обратился Корнилов к Лебедеву. Он всегда очень внимательно следил за первой реакцией своих помощников на события. Лебедев пожал плечами. Он был неразговорчив. Производил даже впечатление тугодума и увальня, но в деле был скор и очень приметлив. Мельком увидев фотографию человека, он узнавал его даже через несколько лет, в толпе. — Ну, роди чего-нибудь. — Родить-то нечего. Какое-то несуразное дело, — выдавил наконец Лебедев, и Корнилов обрадовался тому, какое точное слово нашёл инспектор. Он был не согласен со следователем, который назвал дело неприятным. Приятных дел ни в прокуратуре, ни в угрозыске не бывает. — Несуразное, несуразное! — повторил он. — Ты в самую точку попал. И тем не менее нам им придётся заняться. — Если люди непричастны к катастрофе — это легко проверяется, — сказал Лебедев. Ободрённый похвалой Корнилова, он вдруг разговорился: — Проверяем, кто где находился в это время, выясняем алиби каждого… — И делаем вывод, что никакого убийства не было. Несчастный случай? — ехидно спросил Бугаев. — Ну знаешь, не проверять же алиби их родственников и друзей! — Но можно сделать и другое предположение, — задумчиво сказал Корнилов. — Кто-то из экипажа испугался, что начнётся большая проверка и вскроются его неблаговидные дела, о которых Горин знал, но почему-то не написал… — В этом что-то есть! — пробормотал Бугаев, и Лебедев кивнул головой, соглашаясь. — Идти будем с разных концов, — Корнилов пододвинул, к себе листок с записями. — Лебедев поедет в пароходство. Ты, Семён, выяснишь всё о капитане… Отпустив сотрудников, Корнилов пригласил секретаря, поручил запросить сводку погоды за третье июля в районе Репина и Зеленогорска. «Одно дело разговоры про дождь, другое — точная справка, — решил он. — Если сегодня будет похожая погода, сгоняю на сорок девятый километр. Посмотрю, как там всё выглядит в сумерках». Корнилов взглянул на календарь. Белые ночи-то идут на убыль! Сегодня пятое… Старпом разбился третьего. На сколько же день убавился? По календарю выходило, что на восемь минут. «Поеду пораньше, — подумал подполковник. — А может быть, взять с собой Олю? Совместить приятное с полезным. Она ведь тоже на Карельском давно не была». Корнилов обрадовался возможности съездить с женой, но тут же и отверг идею. Ему нужно быть внимательным, собранным. Люди в таких случаях мешали ему, отвлекали. Не только разговорами, репликами. Даже просто своим присутствием. Однако без помощи одного человека Корнилов обойтись не мог. Он позвонил начальнику ГАИ полковнику Седикову и попросил разыскать автоинспектора, который первым прибыл на место катастрофы. Седиков уже знал, что аварией на Приморском шоссе занялся угрозыск. — Пусть инспектор подъедет на сорок девятый, — сказал Игорь Васильевич Седикову. — Но не сейчас, а к двадцати трём. — Что-то ты на ночь глядя собрался? — удивился полковник. — На белую ночь глядя! — засмеялся Корнилов. — Хочу побывать на месте. Понюхать, чем морской воздух пахнет. — Мазутом нынче пахнет, Игорь Васильевич, — ответил Седиков. — А вообще-то вы, сыщики, неглупый народ, — сказал он с уважением. — Зря ничего не делаете.Может, и мне подъехать? — Отдыхай, товарищ начальник. Набирайся сил для борьбы за звание города самых дисциплинированных водителей! — Чтоб тебе!.. — Седиков беззлобно выругался и повесил трубку. Варвара принесла метеосводку. Третьего июля в Зеленогорске от двадцати одного тридцати до двадцати двух пятидесяти — проливной дождь, гроза. Температура воздуха двадцать один, температура воды девятнадцать, влажность девяносто один процент… — Ну а после дождя-то что? — прочитав сводку, спросил Корнилов. — Облачно? Ясно? Варя пожала плечами. — Больше у них ничего нет. — Ну ладно! — Он махнул рукой. — Я вот к Васе Алабину хочу заехать. У нас в буфете апельсинчиков или яблок нет? — Какие сейчас апельсины? — засмеялась Варя. — А в яблоках давно никаких витаминов нет. Да и не любит их Алабин. Уж если что покупать — надо на рынок за черешней ехать. Корнилову сразу вспомнился разговор с матерью за обедом. — А ты откуда знаешь, что Алабин любит? — спросил подполковник и внимательно посмотрел на Варю. — Знаю. Зато вы, Игорь Васильевич, хоть и заместитель начальника угрозыска, а многого не знаете. — Ну-ну-ну! — искренне удивился Корнилов. — Я, кажется, опять узнаю новости последним! Он и правда обо всех управленческих обыденных новостях узнавал в последнюю очередь. Так уж получалось, что сотрудники, даже те, с которыми он проработал долгие годы, стеснялись рассказывать ему о том, у кого и что происходило дома. О предстоящей свадьбе или о рождении ребёнка он узнавал только тогда, когда Варвара, заходя с деловым видом к нему в кабинет, сообщала: «Игорь Васильевич, у капитана Никонова сын родился. Мы тут собираем по трёшке…» — Значит, ты на Василии остановилась? Варвара покраснела: — Игорь Васильевич! — Ну это, знаешь, ещё как начальство посмотрит! — продолжал Корнилов, не обращая внимания на её смущение. — Алабин парень хоть куда, жених завидный, а тебе ещё надо над собой работать. У тебя характерец… Даже мне грубишь. — Игорь Васильевич! — снова с укором сказала Варвара. — Рынок Некрасовский открыт? — спросил он. — Да. — Ну, слава богу. Он тут недалеко. А то небось служебную машину попросила бы, а я не дам. — Он достал десятку. — Купи ему черешни. Побольше. — Обойдётся двумя килограммами, — сказала Варя. — Завтра я ещё принесу. Значит, машину не дадите? Корнилов развёл руками.
4
Василий Алабин, бывший сотрудник Управления уголовного розыска, проработал вместе с Корниловым недолго. Молодой, способный, он был назначен заместителем начальника угрозыска в Василеостровский район и, участвуя в прошлом году вместе с подполковником в задержании опасного преступника, был тяжело ранен. Больше месяца он лежал в реанимации, трижды его оперировали, и выжил он чудом. Поправлялся Василий медленно, и все уже считали, что вернуться на работу он не сможет, так и останется пенсионером. Но после двух месяцев, проведённых в Кисловодске, Алабин ожил. Вечером, уезжая из управления к старшему лейтенанту, Корнилов поинтересовался, не возвратились ли Бугаев и Лебедев. Обоих ещё не было. Алабин сидел дома, разыгрывал партию Карпов — Портиш. Он выглядел уже не таким дистрофиком, как в первые дни после выхода из больницы, но цвет лица у него был землистый. Приходу подполковника Василий обрадовался, засуетился, порываясь приготовить ужин, но Корнилов его остановил: — Вася, ты же знаешь, что меня жена всё равно заставит дома ужин съесть, голоден я или сыт. Так что давай по кофейку… — Он пошел следом за Алабиным на кухню, положил пакет с черешней на стол. — Это тебе секретариат прислал. — Чегой-то она? — удивился Василий. — Я ещё вчерашнюю не съел. — Ты, Вася, поднажми. Завтра она новую принесёт. — Корнилов ещё раз посетовал на свою невнимательность. Алабин даже не удивился, когда он передал ему черешню от имени Вари. Вероятно, все в управлении знают, что скоро свадьба, и Алабин считает что начальство тоже в курсе. — У твоей Варвары, — пустил подполковник ещё один пробный шар, — видать, своя теория, что лечить надо с помощью черешни. — А чего меня лечить? — улыбнулся Алабин, выключая кофеварку. — Мне врачи уже сказали: через месяц комиссия — и шагай на службу. — Поздравляю. Пора уже. А то ты чего-то толстеть начал. Они сели пить кофе. Алабин вынул из холодильника половину торта. «Видимо, тоже Варвара принесла, — подумал Корнилов, — или, наоборот, он её тортами кормит». Вася опять за чем-то полез в холодильник, пошарил там и, ничего не достав, захлопнул. Вид у него был немного смущённый. — Не переживай, Василий, — усмехнулся Игорь Васильевич. — Тебе, наверное, врачи ещё не разрешили, а с кофе я только коньяк пью. — Да у меня коньяка-то как раз и нет, — слегка порозовев, сказал тот. — А водку… К кофе-то… — И чтобы замять этот неловкий разговор, стал рассказывать, как приходили к нему два старичка из совета ветеранов. — Что они, чокнутые, что ли? Даже если б меня вчистую списали, какой я им ветеран? Заседать с ними в стариковской команде? Дудки! — Ну это ты, Василий, зря. — Корнилову стало чуточку обидно за стариков, и он подосадовал на старшего лейтенанта. — Ветераны нам очень много помогают. Не знаешь, не берись судить! — Лекции читают школьникам и домохозяйкам? — не сдавался Алабин. — Да ты что ж, не знаешь, что они по оперативной части много делают? Среди них знатные специалисты своего дела есть! — Может быть, и помогают, — нехотя согласился Алабин. — Только я-то тут при чём? — Ты у нас уже ветеран! — сказал Игорь Васильевич. — Не у каждого же нашего работника медаль «За отвагу» есть. — Ну, а как там наши? — засмущавшись, спросил Василий. — Живут наши. Да чего тебе рассказывать. У тебя ведь, наверное, побольше моего информации. Только вот о последнем деле, наверное, не знаешь… — Игорь Васильевич рассказал старшему лейтенанту про аварию на сорок девятом километре. Он пробыл у Алабина час, заехал домой, поужинал и в десять часов выехал по направлению к Зеленогорску…Подполковник сразу увидел место катастрофы. Метрах в десяти за указателем «сорок девятый километр» был расщеплен и основательно закопчён ствол огромной сосны. На земле чернело огромное пятно, словно кто-то разлил бочку с мазутом. Корнилов вылез из машины, посмотрел на часы. Без десяти одиннадцать. Рассеянный, чуть розоватый свет, казалось, исходил от золотистых сосновых стволов, подчёркивая голубоватые тени, залегающие в глубине леса. Пройдя шагов триста по обочине шоссе, Игорь Васильевич вернулся к месту происшествия, внимательно осмотрел каждый метр. Ещё на одной сосне зияла свежая рана, лохмотьями висела кора, и веером торчали щепки. Обильно сочилась, заживляя больное место, смола. «Сюда он ударился вначале, — подумал подполковник. — Его развернуло и припечатало к той сосне. Около неё он и горел. Наверное, ехал с сигаретой? Но ехал он… — Корнилов покачал головой. — Скорость, наверное, была весьма приличная!» Неподалёку, на маленьком сухом взгорке, проросшем жиденькой травой, лежало толстое короткое бревно. Игорь Васильевич присел на него и вынул сигарету, но закуривать не стал. Пожалел дымить на таком благодатном, морском, настоянном на хвое воздухе. Шофёр включил в машине радиоприёмник. Тихая, неназойливая музыка поплыла среди сосен. Изредка, вздымая упругие волны нагретого за день воздуха, словно стремительные жуки, проносились мимо машины. Корнилов встречал и провожал взглядом каждую. …Ослепить фарами старпома не могли. Совсем светло. И через полчаса ещё не стемнеет. Поворот здесь хоть и крутой, но вот что странно, подумал подполковник: если кто-то поджидал старпома с булыжником в руке, Горин должен был бы его видеть. Этот человек скорее всего стоял в центре излучины, отсюда кинул камень, шофёр инстинктивно зажмурился, не вывернул руль и… Машину ещё пронесло метров тридцать. Да, каждому водителю, едущему из Ленинграда, хорошо был бы виден человек, кидавший камень. С другой стороны шоссе он стоять не мог — не видел бы сам, в кого бросать. И этот человек знал, что Горин поедет здесь поздним вечером… На ярком милицейском мотоцикле с коляской подъехал инспектор. Свернул с шоссе, поставил мотоцикл рядом с «Волгой». Спросил что-то у шофёра. Тот кивнул на Корнилова. Подполковник взглянул на часы. Было ровно одиннадцать. Прошло всего десять минут, как он здесь, а казалось — часы. Старший лейтенант Коноплев пересказал Игорю Васильевичу всё, что увидел, прибыв на место аварии. Подполковник, вспомнив его справку, прочитанную в деле, мысленно похвалил Коноплева за то, как точно и чётко она была составлена. — Вы помните, Коноплев, кто был здесь, когда вы приехали? — А как же, товарищ подполковник! В протоколе указаны четыре водителя… — Это я читал. Но, может быть, кто-то торопился уехать. Да всех и невозможно в протокол внести. — Нет. К моему появлению только четыре машины стояли… — Каких-нибудь пьяных пешеходов не видали поблизости? — Людей в это время немало гуляет. Особенно молодёжи. Но пьяных… Ну, таких, чтобы в глаза бросались, не видел. — Старший лейтенант задумался, словно пытался ещё что-то припомнить. Лицо у него было круглое, обожжённое морозами и солнцем, загорелое. Только у самых волос на лбу светлела полоса. От шлема. — А что вдруг такой интерес к аварии? — спросил он. — Прокуратура тут была, вы теперь. Если не секрет? — Врагов погибший себе много нажил. Вот и проверяем. А вы-то сами что думаете? Старший лейтенант пожал плечами. — Несчастный случай — ясное дело. Ведь у него скорость-то какая была?! Да что! Гнал как леший. Да я ж его сразу на заметку взял. В Солнечном дежурил — смотрю, идет с превышением. Я в Зеленогорск позвонил. А то, что он загорелся… — Инспектор на секунду задумался. — Редко, но бывает. — Он вздохнул. — Я тут на трассе всякого насмотрелся. — Давно в ГАИ? — В январе второй червонец разменял. Как с армии демобилизовался, так в органы… А этот случай простой. Может, кто впереди выскочил… Вы вот на пьяного пешехода намекали. Вынырнет внезапно из кустов на проезжую часть… Это дело обычное, но в таком разе тормозил бы погибший. А тормозного следа-то нету? Нету, товарищ подполковник. — Он смешно развёл своими крупными ладонями. — Вам видней. Теперь уже время прошло… — Не было его. После того как пожар потушили и «скорая» пришла, я перво-наперво посмотрел. Не было. Покойник так с налёту и вбухался. Может, с рулём что… — С рулём полный порядок. Экспертиза проверила. — Ну зазевался, асфальт мокрый. И понесло. — Всё правильно говорите, старший лейтенант. Только откуда камень в салоне? Коноплев огорчённо потёр щеку. — Да, про булыжник мне говорили. Я-то ведь не заметил. Его после отыскали, когда весь автомобиль распатронили. Булыжник непонятный, товарищ подполковник. С собой-то кто ж в машине его повезёт? Одна грязь от него. — Ну ладно, — сказал Корнилов. — Можете ехать. Я тут ещё посижу немного. Если что в голову интересное придёт — позвоните. Старший лейтенант уехал. Какой-то пожилой мужчина, оглянувшись по сторонам, перешёл дорогу. Мужчина внимательно посмотрел на Корнилова, на машину, стоящую поодаль, и пошёл по дороге в глубь леса, туда, где среди деревьев виднелось несколько дач. — Товарищ, — негромко позвал подполковник. — Вы не смогли бы уделить мне несколько минут? — Я? — удивился мужчина. — Пожалуйста. — Он подошёл к Корнилову. Посмотрел на него вопросительно. — Подполковник Корнилов из уголовного розыска, — представился Игорь Васильевич. — Присаживайтесь, не стесняйтесь. — Очень приятно, — машинально отозвался мужчина. — Иван Александрович Панов. Преподаватель экономики. Кого-нибудь ищете? У нас тут дача, от дачного треста. Мы уже несколько лет снимаем. Ничего, спокойно. — Не курите? — предложил ему сигареты Игорь Васильевич. Панов закурил. — У вас тут авария произошла… — Да, неприятная история, — отозвался Иван Александрович, — водитель погиб. Вечером сильный ливень прошёл, дорога мокрая, а они ведь гоняют как шальные. — Ливень-то за полтора часа до аварии пролился, — сказал Корнилов. — А здесь залив рядом. Ветерком всё-таки обдувает асфальт. Сохнет быстрее. Панов неопределённо пожал плечами. — Вы сами, Иван Александрович, не видели, как это произошло? — Нет. Я уж с прогулки домой пришёл. — Он смущённо улыбнулся. — Я, знаете ли, закоренелый пешеход. Каждый день прохожу не меньше пятнадцати километров. Иван Петрович Павлов ходил, знаете ли… — Он махнул рукой. — Ой, да вы, конечно, всё это знаете. Ну вот… — А вы в тот вечер куда ходили? — У меня маршрут один: сорок девятый километр — Зеленогорск и обратно. — Машин много было? — Нет. Как раз обратил внимание, что шоссе почти пустое. Как сейчас. Ну вот, когда я услышал удар, а затем взрыв, — продолжил наконец свою мысль Иван Александрович, — то оделся и выбежал… И сын выбежал за мной. Студент. Машина горела. Там были уже люди. Стояло несколько автомобилей. Люди тушили огонь. Из огнетушителей. Мы с сыном сбегали за лопатами, пытались гасить землёй. Очень быстро приехала милиция. Стали доставать водителя… Я ушёл. — Иван Александрович, а номера автомобилей, которые стояли рядом с местом аварии, вы не запомнили? Корнилов хотел уточнить, всех ли водителей, приехавших первыми, запомнил автоинспектор. — Нет, не помню, — сказал Панов. — В таких случаях главное внимание пострадавшим. — Да, да, — согласился подполковник и задумался на секунду. — Вы, значит, услышали сначала удар и сразу взрыв. — Не сразу. Взрыв чуть позже. Ну через минуту… Но удар был очень сильный. Гулкий. Я сказал: что-то случилось. Мы стали одеваться, и тут взрыв. — А тормоза? — Что тормоза? — не понял Панов. — Скрипа тормозов не слышали? Они же так резко скрипят. — Тормозов я не слышал, — покачал головой Иван Александрович. — А когда вы бежали из дому к месту катастрофы, никто не шёл вам навстречу? Никого не видели? — Никого. Дорога была пустая. — Панов посмотрел на заросший травой проселок, словно вспоминал, и повторил: — Нет, никого не встретил. А вы думаете, кто-то неожиданно перебегал шоссе? «Вот эту же мысль и инспектор мне подсказывал, а самому она мне почему-то не пришла в голову! — досадуя на себя, подумал Игорь Васильевич. — Камень меня всё время отвлекает». — Может быть, — сказал он, — или какой-нибудь хулиган камень бросил. — Вы думаете, и такое возможно? — В голосе Панова чувствовались скептические нотки. — Иван Александрович, а соседи ваши, из других дач, не приходили? — Корнилов кивнул на почерневшую сосну. — Нет, они спать рано ложатся. Подполковник поблагодарил Панова, и тот ушёл. Вид у него был несколько озадаченный. Неожиданно он вернулся с полдороги и сказал: — Вы на меня только, пожалуйста, не обижайтесь, но хочу дать один совет. У вас лицо немножко отёчное и бледное. Ходите побольше пешком. Станете настоящим пешеходом — восемьдесят лет гарантирую. — Спасибо. Попробую, — усмехнулся Корнилов и долго смотрел вслед удалявшемуся прыгающей походкой Панову. Небо чуть поблёкло, исчез розоватый отсвет, всё вокруг словно поголубело. Но было ещё вполне светло. Игорь Васильевич нашёл сухую длинную палку и очень внимательно, дотошно ворошил этой палкой всякий хлам на том месте, где горела «Волга» старпома: мелкую гальку, шишки, чёрные маслянистые тряпки, обрывки каких-то бумаг, крупу автомобильного стекла. Почва была здесь песчаная, сухая, с редкими травинками. Подцепив одну из тряпок, Корнилов почувствовал, что она тугая и тяжёлая. Он попробовал растрепать её и вдруг увидел что-то яркое. Нагнувшись, он осторожно двумя пальцами взял её и развернул. Это был обгоревший японский зонтик. Женский складной зонтик с крупными красными цветами на розовом поле. Игорь Васильевич принёс его к машине, завернул в газету. — Есть поживка, товарищ подполковник? — пожилой шофёр смотрел на зонтик с любопытством. — Есть, — удовлетворённо ответил Корнилов. — Теперь надо только узнать, имеет ли он какое-нибудь отношение к машине. И к делу. Когда возвращались в Ленинград, Корнилов спросил шофёра: — Дмитрий Терентьич, ты сколько лет машину водишь? — Да уж скоро двадцать пять, — ответил тот с гордостью. — Ты мне вот что скажи: если тебе какой-то обалдуй камнем в стекло запустит? Запустит так, что ты невольно глаза зажмуришь, — твоя первая реакция? — На тормоз, товарищ подполковник. Тут уж нога сама сработает. Иначе крышка. — Вот-вот! — согласно кивнул Игорь Васильевич. — А в протоколе осмотра указывалось на отсутствие тормозного следа… Проехали Лисий нос, Лахту. Вдали в белых сумерках светились огни города.
5
Утром к Корнилову пришли Бугаев и Лебедев. — Был я в отделе кадров пароходства, — докладывал Лебедев. — Посмотрел характеристики. С такими характеристиками можно каждого хоть в министры морского флота. А ими угрозыск и прокуратура занимаются… — Без лирики, — строго сказал подполковник. — Заслуживают внимания такие факты, — будничным тоном произнес Лебедев. — Погибший старпом Горин плавал с капитаном Бильбасовым двенадцать лет. Бильбасов всё время капитаном, а Горин начинал при нём четвёртым помощником. — Вырос товарищ, — неопределённо сказал Бугаев. — Остальные тоже подолгу с Бильбасовым плавают. Один только директор ресторана новый, Зуев. Но и он третий год ходит. — А почему теплоход не в рейсе? Выяснил? Сейчас же самое горячее время? — Месяц назад в Бискайском заливе они попали в сильный шторм. Обнаружились какие-то неполадки в машине. Работы на несколько месяцев. — Ну что ж, нам времени хватит, чтобы разобраться, — проворчал Игорь Васильевич. — Поручают тоже дельце… Бугаев засмеялся. — Чего смешного, Семён? — Да как же не смеяться? После того, о чём старпом написал, вряд ли кто из этих мореплавателей ещё раз в загранку выйдет. — Ты лучше доложи, что выяснил. — Начну с капитана. Так вот: его третьего июля в городе не было. Ни днём, ни вечером, ни ночью. Ни в пароходстве, ни дома. И до сих пор нет! Собственно, в пароходстве я на всякий случай узнавал — он сейчас на бюллетене. — Куда же он пропал? — насторожился подполковник. — Никто не знает. — А жена? — Жены тоже нет. Она на курорте отдыхает. — Может быть, он к ней и отправился? — Нет, не отправился. Я с ней разговаривал по телефону, с Аллой Алексеевной. Говорит, найдётся муж. — Ещё какие у тебя чудеса? — Старший механик Глуховской лежит с приступом стенокардии в больнице. — Давно лежит? — Лёг за несколько дней до гибели старпома. После того как узнал о письме в прокуратуру. Пассажирский помощник Коншин и штурман Трусов вместе с жёнами провели весь вечер в ресторане «Метрополь». Отмечали какую-то дату. — Надолго никуда не отлучались? — Нет. Только каждые полчаса ходили звонить какому-то своему приятелю. Он тоже должен был быть с ними, но почему-то не пришёл. — Так и не разыскали они его? — Не разыскали. — Ну, кто там у нас ещё? — спросил подполковник, раздражаясь от того, что никакого просвета в этом «несуразном» деле не намечалось. — У нас ещё директор ресторана. Зуев Пётр Петрович. Человек пожилой, тихий и во всех отношениях положительный. Сидел, как и положено честному труженику, весь вечер дома, смотрел телевизор. В кругу семьи. — Ладно, не будем время терять, — сказал Игорь Васильевич. — Ясности пока никакой. Надо хотя бы такую малость разыскать, как Бильбасов. Соседей не спрашивали? — Спрашивали — отозвался Бугаев. — Никто не знает, где он. — Выясните у сослуживцев! Осторожно, тактично, но очень быстро. Ты займёшься, Семён. Бугаев кивнул. — И сразу звони. Понял? А то вчера вечером от вас ни слуху ни духу. — Нечем было порадовать, — сказал капитан. — А попусту не хотелось дома беспокоить. — Что-то я раньше за тобой такой деликатности не замечал, — усмехнулся Корнилов и обратился к лейтенанту: — А ты, Лебедев, вызови в управление на завтра четверых водителей, которые первыми подъехали к месту катастрофы. Бугаев и Лебедев ушли. Игорь Васильевич чувствовал себя скверно. Вся эта история с катастрофой никак не стягивалась в единый узел. Временами Корнилов склонялся к тому, что причина её — несчастный случай. Но существовало письмо Горина в прокуратуру и полученные позже две анонимки о том, что со старпомом хотят разделаться. Как ненавидел подполковник анонимки! Не раз схватывался с начальством на совещаниях и на партийных собраниях, доказывая, что анонимщик — уже преступник. Послав анонимное письмо, он совершает преступление против нашей морали и нравственности: прямота и честность в отношениях между людьми подобны свежему воздуху. Анонимщик отравляет этот воздух подозрительностью и недоверием. А кто на таком балу правит? Вот старпом Горин! Не побоялся поставить свою фамилию под заявлением. Бросил тяжёлые обвинения зарвавшимся коллегам и собирался доказать свою правоту. Можно было, как говорит Кондрашов, и на открытом собрании, в коллективе стукнуть кулаком по столу. Но мы не знаем, может, уже стучал, доказывал, а капитана и его дружков прошибить не смог! А тут анонимка! «Хотят разделаться!» — пишет безымянный трус. Бросить бы такое письмо в корзину, но начальство считает, что за каждой анонимкой — живой человек. Он, может быть, честен, да трусоват, и тут что поделаешь! Не каждый Дон Кихот! И потому — извольте проверять анонимные сигналы. Как было бы приятно услышать от своих помощников о том, что все люди, названные в жалобе старпома, сидели в тот поздний час дома или хотя бы в ресторане, думал Корнилов. Считай, полдела сделано! В конце концов доискались бы, откуда в машине оказался камень. А с зонтиком проще. Он, конечно, из машины выпал, когда пожар тушили. Горин мог взять с собой зонт жены! Дождь же лил! Предъявим для опознания зонтик вдове, и всё с ним будет ясно… Но в том-то и закавыка, что не все сидели дома! Капитан Бильбасов ведь куда-то подевался! И придётся проверять, где он пропадал, этот капитан, который, судя по письму Горина, главный виновник всех безобразий на судне. Придётся проверять. Может быть, только для того проверять, чтобы доказать его полную непричастность к смерти старпома. И, как ни жаль было Корнилову тратить время, не проверять он не мог. Корнилов позвонил Кондрашову. — Василий Сергеевич, придётся беседовать с Бильбасовым. — Что, нашёлся капитан? — Нет, не нашёлся. — Побеседуй, у меня нет возражений. Если отыщешь… — Спасибо, Вася, век не забуду, — иронически поблагодарил Корнилов. — А вы уже закончили проверку по заявлению? — Ну… ты понимаешь, у нас тоже дел хватает, — стал мямлить Кондрашов. — Только развернулись всерьёз. — А результаты? — Да какие ж тебе результаты? — обиделся следователь. — Это тебе не взломщика искать. Здесь доскональная проверка идёт. Мы специалистов привлекли… — Ещё раз спасибо, Вася. Всё ты мне разъяснил. Буду ждать, что скажут твои специалисты. — Тебе-то зачем? — настороженно спросил Кондрашов. — Проверка может долго продлиться. А нам поскорее надо знать, не помог ли кто старпому на тот свет отправиться. Корнилов повесил трубку. Бугаев приехал в управление часа через два, хмурый и недовольный. Не балагурил, как обычно, сел молча в кресло и закурил. — Ничего? — спросил Корнилов, хотя и так всё было ясно. Спросил, чтобы нарушить тягостное молчание. Бугаев мотнул головой. «Неужели среди знакомых капитана нет ни одного человека, который бы знал, где он находится? — подумал Игорь Васильевич. — Смешно. Просто мы не можем этих людей отыскать…» Ему и в голову не могла прийти мысль, что Семён упустил хоть малейшую возможность найти капитана. В управлении работало несколько человек, на которых он полагался во всем. Бугаев был в их числе. Это далось не сразу и нелегко. И дело было вовсе не в Бугаеве, или Белянчикове, или ещё в ком-то из сотрудников. С ними Корнилов проработал не один год и прекрасно знал их способности, а главное — их надёжность. Как ни странно, загвоздка была в нём самом, в подполковнике Корнилове. Ему с трудом удалось приучить себя к мысли, что Бугаев и Белянчиков, например, могут провести розыск не хуже, чем он сам, что они, его ученики, хотя и такие различные и по характеру, и по взглядам, и по методам, смогут добиться результата, которого добился бы и он. Ему казалось — особенно если розыск складывался неудачно, — что будь на месте преступления он, уж какую-то зацепку удалось бы найти, на чём-то глаз обязательно бы задержался. Его глаз. Но ведь нельзя было заставить людей смотреть на мир его глазами… — Ни сослуживцы, ни соседи ничего не знают, — сказал Бугаев. — Утром в день катастрофы капитан был дома. Ему звонили из пароходства. Из отдела кадров. Он сам звонил жене в Сочи. А вечером телефон молчал. — Кто ему звонил? Бугаев вытащил из кармана блокнот и раскрыл его. — В шесть часов звонил Коншин. Около восьми жена стармеха. Она пришла из больницы от мужа и сразу же позвонила. Как всегда. «Старик» просил поблагодарить капитана за письмо и фрукты, которые тот посылал ему… — «Дед» просил… — Что? — не понял Бугаев. — «Дед» просил поблагодарить, — усмехнулся Корнилов. — На флоте стармеха называют «дедом», а не «стариком». — Какая разница?! — сердито сказал Семён. — Если скажешь так при генерале, он тебя уволит из органов. Он так же, как и я, любит точность и вдобавок сам бывший моряк. — Он меня и так уволит. — Бугаев наконец-то улыбнулся. — Но кое-что я всё же узнал! Этот Бильбасов, наверное, ловит рыбку. Или делает вид, что ловит. — Выкладывай, — заинтересовался Корнилов. — Ну… во-первых, он заядлый рыбак. Это все говорят. А во-вторых, одна соседка видела, как он уходил из квартиры с удочками. — Время? — В этом-то и загвоздка! — в сердцах стукнул себя кулаком по колену капитан. — Время она помнит, а день — нет! Без двадцати семь, говорит, выскочила на улицу, мужу «маленькую» купить, а капитан удочки в машину укладывает… — Какая машина? — «Жигули». Тётка время запомнила — торопилась в магазин, боялась — «маленькую» до семи не успеет купить, а день не помнит. — А муж? Может, он помнит, в какой день его жена угощала? Бугаев безнадёжно махнул рукой. — Да… «Жигули», семь часов, рыбалка, — пробормотал озабоченно Игорь Васильевич. — Рыбалка, рыбалка. Он где живёт, капитан? — На бульваре Профсоюзов. Дом пятнадцать… Корнилов мысленно прикинул расстояние ближайшего к бульвару Профсоюзов магазина, где продавали бы любимую всеми рыбаками наживку — мотыля… Уж если он действительно заядлый рыболов, то за мотылём-то заехал! — Фотография Бильбасова есть? Бугаев вытащил из кармана и протянул Корнилову фото. — Имеем шанс, — хитро улыбнулся подполковник. — Да ведь я с ребятами в его доме все квартиры обошёл, в ЖЭКе был… — обиделся Бугаев. — Ну и самомнение у вас, капитан! Как будто не числится за вами грешков. — А за кем их нет, товарищ подполковник? Но сегодня… — Некогда мне по квартирам ходить, вашу работу проверять, — сказал Игорь Васильевич. — У меня другая идея появилась. Только тебе не понять, ты рыболов липовый. В тебе заядлости нет…6
Но осуществить свою идею подполковнику удалось лишь на следующий день. Как только Бугаев вышел, Корнилову позвонили из приёмной, сказали, что с ним хотела бы встретиться вдова Горина, Наталья Николаевна. Игорь Васильевич чуть было не сказал, чтобы её направили к следователю, но передумал: «В конце концов она кстати… Не придётся посылать к ней Бугаева, выясню про зонтик сейчас. Только что ей-то нужно от уголовного розыска? Или она тоже подозревает, что с аварией дело нечистое?» Через несколько минут вошла невысокая миловидная женщина, одетая в серый лёгкий костюм, хорошо сшитый, но неброский. И сама она выглядела очень скромно. Ничего яркого — ни зелёных или синих теней на веках и под глазами, ни яркой помады. Однако во всём её облике, в кажущейся простоте одежды чувствовались большой вкус и достоинство. Ничто не выдавало постигшего Горину несчастья. Только глаза, погасшие, казалось, потерявшие всякий интерес к жизни. — Я завтра возвращаюсь в Нальчик — мама тяжело больна… — тихо сказала Наталья Николаевна. Корнилов кивнул. — Перед отъездом решила поговорить с кем-нибудь из милиции… Мне сказали, что занимаетесь этим делом вы… Какое-то странное совпадение, — она помедлила, будто подбирая слова. — Я вчера съездила к нам на дачу. В Рощино. Вы знаете, там замок сломан. Кто-то был. И, наверное, не воры — ничего не украдено. А Юрин стол письменный взломан. И все бумаги разрыты. — Что ж вы сразу не сказали нам? — с мягким укором сказал Корнилов. — Может быть, в Рощине милицию предупредили? — Нет. Понимаете… — Она опять помолчала. И Корнилов почувствовал, что не слова она подбирает, а ей просто тяжело говорить. — Как-то не об этом всё думалось. И вот ещё, — она достала маленькую чёрную коробочку, очень красивую, но помятую. — Я нашла в Юриной замшевой куртке. Подкладка разорвалась… — Наталья Николаевна открыла коробочку. Там на голубом шёлке сверкало кольцо с золотой розочкой, в центре которой был вделан крупный бриллиант. — У нас таких вещей никогда не было. Я подумала, что Юра привёз мне из последнего рейса красивую подделку. Попросила подругу показать в комиссионном. Кольцо оценили в шесть тысяч рублей. Значит, оно чужое. Наверное, Юра должен был его передать кому-то, рано или поздно этот человек найдётся и предъявит на кольцо свои права… — Вы уверены, что это чужое кольцо? — спросил Корнилов. — Может быть, муж хотел сделать вам сюрприз? — Я же сказала: это кольцо не наше. Такое кольцо не могло быть нашим… — Да, да. Раз вы настаиваете… Мы сейчас составим акт. На лице Натальи Николаевны промелькнула гримаса недовольства. Разговор её утомил, а предстояли ещё формальности. Корнилов попросил секретаря вызвать Бугаева, а сам лихорадочно соображал, что же делать с зонтиком. Предъявить для опознания обгоревший зонтик показалось теперь ему безжалостным. Это значит снова вызвать в душе женщины смятение и ужас, только что пережитые. «Что же делать, что же делать?» — думал он и неожиданно для себя спросил: — Наталья Николаевна, у вас есть японский зонтик? Складной, с красными цветами на розовом поле? Она посмотрел на подполковника как на сумасшедшего, но выдержка и здесь ей не изменила. — Есть, но не такого цвета. Я не переношу слишком яркие вещи. — Простите за назойливость, муж никогда не привозил вам зонтик именно такого цвета? — Нет, нет. Он хорошо знал мой вкус. Корнилову показалось, что она вот-вот расплачется от его вопросов, но в это время вошёл Бугаев. Они составили протокол о передаче кольца с бриллиантом, подписали. Игорь Васильевич спросил у Гориной: — У вашего мужа было много друзей? Она неопределённо повела плечами. Посмотрела на Корнилова с укором. Подполковник видел, что ей больно говорить сейчас о муже… — Я понимаю, что это не праздное любопытство. Только зачем всё это? Человека нет… — Вы знали, Наталья Николаевна, что он написал жалобы на капитана и некоторых других сослуживцев? — Ах, это?! Ну да, я со своими бедами совсем забыла о чужих. Извините. — Корнилов чувствовал, что Горина говорит очень искренне, без тени сарказма. — Мне муж говорил. Он даже… — Она хотела добавить что-то, но передумала. Махнула рукой. — У него было мало хороших друзей. Не могу объяснить точно почему. Юрий Максимович человек непростой. Безусловно, честный… Ему трудно всё доставалось. Учёба, продвижение по службе, какие-то житейские мелочи, которые другим достаются походя, становились для него неразрешимой проблемой. Если бы не Владимир Петрович Бильбасов, он до сих пор плавал бы каким-нибудь последним помощником. Юре даже жена досталась трудно. — Горина чуть виновато улыбнулась. — Моя мама говорила, что Юра меня «выходил». А брак наш, как видите, не удался. «Что она имеет в виду? — подумал Игорь Васильевич. — Жили они плохо, что ли? Или смерть мужа?» Бугаев сидел молча, украдкой внимательно разглядывал Горину. — Да, с друзьями у него как-то не получалось… — продолжала Горина задумчиво. — Ни с кем долго не дружил. А старался. Он был очень самолюбив, хоть и прятал самолюбие глубоко в себе. Старался казаться рубахой-парнем, вечно организовывал самодеятельность, сам пел, придумывал какие-то аттракционы… Но его уязвляли лёгкие успехи других, он тяжело переживал это, прятал от всех свои переживания. Только ведь люди чувствуют это. Но и врагов у него не было. Так, разойдутся незаметно, без злости… — Она неожиданно поднесла руку к глазам и всхлипнула. — Простите. — Вы меня, Наталья Николаевна, извините. Не вовремя я со своими расспросами, — сказал Корнилов смущённо. — Мы теперь должны поехать к вам на дачу. — Да, конечно, — кивнула она, вытирая глаза платочном. — Я ведь из-за неё и пришла. Может быть, у Юры хранились там в столе важные бумаги и кто-то решил воспользоваться? — Она порылась в сумочке и, достав связку ключей, положила на стол. — Адрес я сейчас напишу… — Наталья Николаевна, — мягко сказал Корнилов. — Нам нужно ехать вместе. — Что вы, это невозможно. У меня билет на самолёт. Вылет рано утром. Надо собраться. Нет, нет, я не смогу поехать. — Вы не беспокойтесь. На машине мы обернёмся очень быстро. Потом доставим вас домой… — На машине? — в её голосе явственно сквозил страх. «Сколько ей лет? — подумал подполковник. — Двадцать пять? Тридцать? Выглядит совсем молодо. Такие женщины, наверное, до старости выглядят молодо». — Я вас очень прошу. — Ну что ж, раз это обязательно… — обречённо вздохнула Горина. — Вы посидите пять минут в приёмной. Мы с капитаном вызовем нужных людей, машину… Когда Горина ушла, подполковник в двух словах объяснил Бугаеву ситуацию. — А теперь вызывай машину. И эксперта-криминалиста захвати. Предупреди шофёра, чтобы ехал по верхнему шоссе, вдоль железной дороги. Незачем ей по Приморскому ехать. И быстро, быстро! Бугаев ушёл. Игорь Васильевич внимательно осмотрел коробочку с кольцом. Шесть тысяч — дорогая штучка. Кольцо, женский зонтик в машине… Он спрятал кольцо в сейф, посмотрел на часы. Было без двадцати четыре. «Часам к восьми вернёмся», — подумал он. Позвонил Бугаев: — Машина у подъезда, товарищ подполковник. Они спустились вниз, и Корнилов молча распахнул перед Гориной обе дверцы вишнёвой «Волги» — впереди и сзади. Она села впереди. Подполковник с Бугаевым и экспертом Коршуновым сели на заднее сиденье.…Дача стояла на окраине посёлка среди сосен. Небольшой финский домик, недавно покрашенный в густой зелёный цвет. — Калитка на замок не закрывается? — спросил Игорь Васильевич, когда они вышли из машины. — Закрывается. И вчера была закрыта, — Наталья Николаевна просунула руку с ключом между реек калитки и открыла маленький замочек, висевший на щеколде. По красивой, засаженной штамбовыми розами тропинке они подошли к дому. — Осторожно, — попросил Корнилов хозяйку. — Мы сначала с экспертом осмотрим. — Он с досадой подумал о том, что с ними нет служебной собаки. Проводник-кинолог райотдела уехал в питомник за новой овчаркой. — Эта дверь в порядке. Сломали другую, на веранде. — Наталья Николаевна повела их вокруг дома. Дверь на веранде была взломана самым примитивным способом — отжата лопатой. Старая лопата валялась тут же. — Лопата ваша? — спросил Игорь Васильевич. Наталья Николаевна кивнула. — Ищи не ищи, на этой лопате никаких отпечатков не найдёшь, — сказал эксперт. Потом он обработал ручку, дверь с веранды в комнату. Корнилов прошёл в дом. Комнаты выглядели уютно и красиво. Совсем не ощущалось налёта сезонности, так характерной для дачи. Хозяева сделали всё, чтобы чувствовать себя как в городской квартире. Сразу угадывалось присутствие моряка. Окно в одной из комнат, сооружённое из старинного штурвального колеса, морской хронометр на стене, модели парусников на шкафу. И большая цветная фотография красавца теплохода на фоне какого-то экзотического города с пальмами. Игорь Васильевич подошёл поближе и прочитал название лайнера: «Иван Сусанин». Подробный осмотр дома дал кое-что интересное. Два ящика письменного стола были взломаны, бумаги, хранившиеся там, ворохом валялись на столе и на полу. Остальные ящики, по словам Натальи Николаевны, муж никогда не запирал. Но и там всё было перерыто. Не требовалось особой наблюдательности, чтобы увидеть беспорядок и в небольшом книжном шкафу. Некоторые книги, снятые с полок, лежали на шкафу, другие были перевёрнуты. Но самой интересной находкой оказались окурки сигарет в большой раковине, служившей пепельницей. Раковина эта стояла на маленьком столике рядом с креслом. Окурков было много, и все от сигарет «Филипп Моррис». А по утверждению Гориной, её супруг курил только «Новость». — Мы жили очень экономно, — сказала Наталья Николаевна. — Долго откладывали деньги на «Волгу», потом Юра решил как следует обставить квартиру и дачу. Корнилов промолчал. Горина, наверное, истолковала его молчание как недоверие к её словам и добавила: — Вы не подумайте, что я ввожу вас в заблуждение. Дача досталась мне от папы. Юра хоть и зарабатывал немало, но ему очень хотелось создать комфорт. Даже вещи, которые он привозил из плавания, мы сдавали в комиссионный… «То-то она от кольца отказалась. Даже представить не может, что такая дорогая вещь принадлежит её мужу. Но кому же?» — Да, «Филипп Моррис» — хороший подарочек, — радовался Бугаев. — Это вам не «Беломорканал»! Но столько накурить! Хорошему курильщику — и то не меньше двух-трёх часов понадобилось бы! — Из друзей и знакомых Юрия Максимовича никто не курил такие сигареты? — спросил Игорь Васильевич Горину. — Не знаю. Я не обратила внимания. — А капитан курит? — Курит. — А Юрий Максимович много курил? — Да, больше пачки в день. «Значит, курильщик „Филиппа Морриса“ дымил здесь один, — решил Корнилов. — Может, и не один, но без хозяина». Они вышли из дому. — Ну вот, сейчас отправим вас, Наталья Николаевна, в Ленинград. Вместе с Дмитрием Терентьевичем. А мы с товарищами побродим по окрестностям, подышим воздухом. — А как же вы доберётесь? — спросила Горина. — У местного начальства машину позаимствуем! — сказал Корнилов. — А вам большое спасибо. На этот раз Наталья Николаевна села на заднее сиденье. Машина тронулась, и Игорь Васильевич вдруг увидел, как она закрыла лицо руками и, по-видимому, заплакала. Но взревел мотор, и её рыданий не было слышно. — У вас нет, товарищ подполковник, такого предчувствия, что окурочки эти приведут нас к интересному человеку? И что вообще кое-какая логика начинает проявляться… — удовлетворённо сказал Бугаев. — Все эти штучки, — он кивнул на дачу, — сплошное любительство. А сигаретки… — Сигаретки всякие могут быть, — возразил Корнилов, — помнишь «автомобильное» дело? Федяша Кашлев специально чинариков чужих принёс. — Ну-ну! — насмешливо откликнулся Бугаев. — Целую пепельницу чинариков «Филиппа Морриса» не каждый додумается припереть! Где их насобираешь? — Да я разве возражаю? — проворчал Игорь Васильевич. — Серьёзные улики. Серьёзные. Но нельзя же так сразу и согласиться! Может быть, кто-то некурящий принёс с собой пачку, чтоб следствие по ложному пути направить. — Два часа дымил? — Отставь. Давай делом займёмся. Корнилов огляделся. Неподалёку стояла ещё одна дача, большая, двухэтажная, крашенная коричневой краской. А за соснами, метрах в пятистах, виднелся голубенький домик. — Давай, Семён, пойдём спросим соседей. Может, видели кого-нибудь возле дачи Гориных, узнаем, давно ли он сам приезжал. А про сигаретки нам Иван Иванович завтра всё разобъяснит. — Корнилов подмигнул эксперту, сидевшему на лавочке у забора. — Разобъясню, — лениво отозвался Иван Иванович. — И не только про сигаретки, но и про «пальчики», которые на письменном столе нашёл. Вот только когда сегодня мы домой попадём? Я даже жену не предупредил. — А если не попадёшь — не беда, — засмеялся Бугаев. — У меня тут, в Рощине, такие девчонки есть знакомые… — Эх, Семён! — осуждающе сказал Корнилов. — Если бы ты работал так же, как болтал. Давай двигайся. Я пойду в этот дом, — он кивнул на двухэтажный, коричневый. — А ты подальше. Всё-таки молодой, тебе пройтись полезно. В саду большого дома играли в бадминтон два мальчика. Один лет десяти, а другому, наверное, было не больше шести. Оба белесые — таких в деревне называют сивыми, оба усыпанные веснушками. Увидев Корнилова, старший спросил: — Вы, дяденька, к папе? — Угу, — ответил Игорь Васильевич. — Он дома? — Дома! — ответили ребята хором. — Проводите к нему? Маленький взял Корнилова за руку, а старший шёл впереди, открывая двери. Дом был просторный и добротный. Внутри нештукатуренный, некрашеный. Так хороши были чуть потемневшие струганые брёвна стен, дощатый, покрытый лаком потолок, что подполковнику пришла неожиданная мысль: «Имел бы я дачу, сделал бы так же». — Папа, к тебе дяденька пришёл! — сказал старший сын, отворяя двери в одну из комнат. — Это ты, Петро? — спросил мужчина, сидевший за большущим столом, и обернулся. Корнилов сразу понял, что мужчина слепой. Его широкое скуластое лицо было всё изборождено шрамами и синими рябинками. «Он него, конечно, многого не узнаешь, но, может быть, жена дома…» — Нет, я из милиции, — сказал подполковник. — Хотел просто кое о чём вас спросить. Меня зовут Игорь Васильевич. — Из милиции? — слепой сказал это так удивлённо, как будто к нему пришли из миланской оперы. — Да садитесь, садитесь, — он развернулся на своём крутящемся кресле. — А вы, други, давайте гулять. Потребуется помощь — призовём. Старший спросил: — Пап, морсу можно? — Конечно. Мальчик ушёл, а младший смирненько уселся на широкой тахте и, казалось, старался даже не дышать. — Алёха, а ты чего затаился? — спросил отец. — Давай, мил друг, смывайся. Потом всё обсудим. Алёха вздохнул и покорно пошёл к двери. В дверях он обернулся и, с интересомпосмотрев на Корнилова, два раза обоими глаза моргнул ему. — Их у меня пятеро, — сказал слепой. — Один уже работает. Другой университет кончает. Третий, Филипп, сейчас с матерью в Ленинграде. Вы извините, не представился. Кононов Егор Алексеевич, профессор математики. Да вы, наверное, знаете, коль из, милиции ко мне пожаловали. Ваше дело — всё знать, — он улыбнулся доброй, располагающей улыбкой. И его лицо, изуродованное синими шрамами, преобразилось. — Так чем обязан? Корнилов рассказал о гибели Горина. Егор Алексеевич кивал головой, иногда что-то переспрашивал, но подполковнику показалось, что на лице профессора нет ни тени сочувствия. — Вы не были знакомы с Юрием Максимовичем? — поинтересовался Корнилов. — Соседи всегда хоть чуть-чуть да знают друг друга. А с Гориными мы живём бок о бок уже много лет. Правда, Юрий Максимович постоянно плавал, но, когда бывал на даче, захаживал. А Наталью Николаевну я знаю хорошо. Она достойная женщина. Жаль, как говорится, что бог детей не дал. — В ту ночь, когда произошло несчастье, кто-то взломал дверь на даче Гориных. Украсть ничего не украли, а рылись в письменном столе, в бумагах. Вы ничего не слышали? — Подполковник чуть было не сказал «видели». — Слышал. Корнилов замер и чуть подался к профессору. — Часа в два… — Кононов ухватился ладонью за крутой подбородок. Подумал немного. — Да, часа в два ночи мимо нас проехала машина «Жигули». Я даже подумал, что это другой наш сосед, Пётр Александрович Жариков. У него тоже «Жигули». Но эта прошла мимо его дома, мимо дома Гориных и остановилась… — Лицо у Кононова вдруг стало хитрющим, он покачал головой и спросил: — Не верите? Тут ошибки быть не может — у меня слух с детства прекрасный. Природа знала, что делала. — Это у вас с войны? — С войны. Мальчишками собирали по лесам всякие боеприпасы. Интересовались, что там, внутри… Так вот, остановились «Жигули» в сосняке, — продолжал профессор. — К нам вы по просёлку ехали? От шоссе? — Да. — Дом Гориных на просёлке последний, дальше начинается сосняк. Мы с ребятами туда гулять ходим. Машина остановилась там. А когда уехала — не знаю. Заснул. — Спасибо вам большое, Егор Алексеевич, — поблагодарил Корнилов. Подумал: «Сейчас обшарим весь сосняк. Вдруг да повезёт!» Но уходить ему почему-то не хотелось. Хозяин — слепой профессор математики, просторная, с высокими потолками комната, вся обитая тёсом, заставленная стеллажами с книгами, пишущая машинка на маленьком столике — всё это было так необычно, требовало разъяснения. — Жаль Наталью Николаевну, — сказал Кононов. — Правда, и с мужем ей несладко приходилось. — Они ссорились? — Да нет, наверное… — в голосе Егора Алексеевича сквозило сомнение. — Может быть, я излишне субъективен. То есть несомненно субъективен. Но Юрий Максимович меня постоянно раздражал. В те редкие минуты, когда нам приходилось общаться. — Чем же? — Трудно даже определить чем. Скорее всего приблизительностью своих суждений. Непонятно? Корнилов обратил внимание на то, как говорит Кононов, — голос у него был удивительно красивый, бархатный. Таким голосом он, наверное, хорошо умел убеждать студентов. И никакой жестикуляции. Руки спокойно лежали на столе. — Он жил понаслышке, — продолжал Кононов. — Там услышит, тут услышит. Поэтому всё, о чём он говорил, страдало приблизительностью. Даже то, что он видел сам, в его пересказе почему-то искажалось. Он всегда чуть подыгрывал собеседнику, а это неприятно. Не правда ли? — Да, да, — согласился Корнилов. — Никогда не знаешь, что же думает человек на самом деле. — Кононов помолчал, обратив своё широкое лицо с большим лбом к подполковнику, словно хотел разгадать, действительно ли разделяет собеседник его суждения. Наконец заговорил снова: — Но самая большая его беда — Юрий Максимович жил в постоянной суете, насколько я могу судить… Он постоянно чего-то добивался, чего-то хотел. Перейти на другое судно, стать капитаном, купить новую машину, достать старинный камин для дачи. Так же нельзя жить! Это самоубийство. Смешно думать, что все желания исполнятся, — такого времени никогда не наступит. Я как-то процитировал Юре Эпикура: «Если ты хочешь сделать Пифокла богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания». Посмеялся… Но ведь мы примеряем мудрые мысли древних не к себе, а к нашим знакомым… Вы, наверное, удивлены, что я про покойника так говорю! Я ж математик. Я люблю точность. — Егор Алексеевич, один вопрос, не относящийся к делу, — сказал Корнилов. — Вы математикой с детства увлекаетесь? — Нет, товарищ. Я к ней, родимой, не сразу пришёл. Мечтал, между прочим, сыщиком стать. Ходить вот как вы, в сложности жизни разбираться. И ещё была у меня задумка… — Он улыбнулся чуть-чуть смущённо. — Да, собственно, не только была. Вы о письмах Наталии Пушкиной слышали? — Слышал, — ответил Корнилов. — Они во время революции пропали и до сих пор не найдены. — Они пропали значительно позже. В двадцать втором году. Из Румянцевского музея в Москве. Очень загадочная история! Их готовили к печати, и вдруг… И ещё кое-что интересное пропало. Был случай, когда там сторожа закололи кинжалом… Вот бы вы взялись расследовать, а? — горячо проговорил Кононов. — Вам поколения людей спасибо сказали бы. Я бы с вашим начальством поговорил, чтобы всё официально… Меня послушают! Я почётный член пяти академий. — Он добродушно засмеялся. — Это интересно, — загораясь, отозвался Игорь Васильевич. — Очень заманчиво. Но ведь то Москва. Не будут же они ленинградцев приглашать. — А вы им подскажите. Пусть они займутся. Дело-то святое — неважно кто распутает. Эх, был бы я сыщик, — вздохнул профессор. — Или вот убийство, Пушкина! Не верю всем версиям, вместе взятым. Там посерьёзнее дела. Он ведь историей Пугачёва в последнее время занимался. Только ему одному разрешили в архивах копаться. Нашёл, наверное, Александр Сергеевич в этих архивах чего-то взрывоопасное. Ох, нашёл! Ну да ладно, заговорил я вас. Чувствую, что по возрасту мы близки. Сколько вам? — Сорок девять. — А мне сорок восемь… Я когда зрение потерял, мир мой сузился. Многое стало недоступным, и вот повезло, проявилась склонность к математике. Как говорят нынче, доминанта прорезалась. Игорь Васильевич поднялся, стал прощаться. — Найдёте выход? А то я сыновей позову. — Найду, найду, — отозвался Корнилов. — Спасибо вам. Извините за беспокойство. — Наталье Николаевне пенсию назначат? — спросил Кононов. И сам себе ответил: — Нет, наверное. Она же служит. А вы, Игорь Васильевич, если в этих краях будете — милости прошу. Поговорим о том о сём. Ко мне интересные люди захаживают. В шахматы вы играете? — Играю, — подполковник улыбнулся, — люблю эту работу. — Ну вот и посидим, — обрадовался Кононов. — Заходите. А зимой я в городе. В академическом доме имею честь жить, на набережной Лейтенанта Шмидта. Там вам каждый скажет. — Он протянул Корнилову огромную ручищу и осторожно пожал протянутую подполковником. — Да, — вдруг словно что-то вспомнив, оказал профессор и нахмурился. — А всё-таки жаль Юрия Максимовича. Кажется, только что сидел здесь человек, печатал на машинке… — Он сделал слабый взмах в сторону маленького столика, на котором стояла пишущая машинка. — Он печатал на вашей машинке? — насторожился Корнилов. — Да. Заходил, наверное, неделю тому назад. Что-то ему срочно нужно было напечатать. — А кто обычно печатает у вас? — спросил подполковник. — Жена. — Когда она печатала в последний раз? Кононов улыбнулся. Пробормотал: — Понимаю, понимаю… После Юрия Максимовича она не печатала ни разу. Вы это хотели узнать? — Да, Егор Алексеевич. Если вы позволите… — Конечно. Может быть, что-то интересное для вас… Корнилов осторожно отстучал на листке бумаги несколько фраз, положил его в карман вместе с листом копирки и, ещё раз пожав руку хозяину, вышел. «Сколько интересных людей встречается нам в жизни, — думал он, проходя через просторные сени. — Зря всё-таки пишут, что мы с одним лишь сбродом возимся. Нет, братцы! Какая в этом Кононове внутренняя сила чувствуется. Человечище! И сколько таких хороших, честных людей повстречаешь за свой век! И у каждого чему-нибудь научишься. И будешь их помнить всю жизнь». Бугаев и эксперт уже поджидали его, медленно прохаживаясь по дороге вдоль палисадника. — Ничего интересного, Игорь Васильевич, — Семён был явно удручён. — Мы все окрестные дачи обошли. Никто ничего не знает, посторонних людей тут шляется — дай боже! А у вас? — спросил он уныло. — Засиделись вы там. Чаи небось распивали? — Морс из шиповника пил, — ответил подполковник. — И общался с приличными людьми. Что-то подозрительно мне, Семён, твоё настроение. Давай-ка быстро к тому лесочку. Ходите тут как неприкаянные, а по этой дороге, может быть, преступник прогуливался. — Конечно, прогуливался. Не на вертолёте же он прилетел, — отозвался Бугаев. Они двинулись к сосняку, раскинувшемуся за дачей Гориных. Чуть приметная колея — с десяток машин прошло, не больше — вилась по чахлой, засоренной обрывками бумаги и консервными банками траве среди молодых сосенок. Кое-где дёрн был разбит, и колея проходила по песку. Но какие на сухом песке следы?! Бугаев чуть ли не ощупал каждый метр колеи, но нигде не было хоть мало-мальски сносного отпечатка протектора. — Ничего, товарищи, ничего, — шептал он, опустившись на корточки. — Ладони мои чувствуют тепло, оставленное шинами. Немного терпения — и мы у цели. Игорю Васильевичу всегда нравилась азартность Семёна. Не мимолетные вспышки в настроении игрока, а напряжённый азарт исследователя, который ни перед чем не остановится, пока не добьётся успеха. Колея вела их дальше, туда, где уже начинался густой лес и сосны стояли вперемежку с берёзами. Земля здесь была сырая, и Бугаев сразу же наткнулся на чёткий вдавленный след протектора. Машина стояла долго — следы обозначились хорошо. — Иван Иванович, задача для студента. — Бугаев засмеялся, обрадованно потирая руки. — Раствор-то сумеешь приготовить или помочь? Иван Иванович спокойно, не обращая внимания на шутки Бугаева, занялся делом: нашёл несколько прутиков — арматуру для гипсового слепка, приготовил раствор… Корнилов отослал Бугаева за понятыми, внимательно, шаг за шагом осматривал поляну и недалеко от места, где стояла машина, обнаружил два окурка от сигарет. Это был опять «Филипп Моррис»!
7
…Около зоомагазина толпилось несколько барыг. Один предложил Корнилову японскую леску, другой — какие-то особые поплавки. Протискиваясь между ними к дверям, подполковник подумал о том, что давно пора бы прикрыть эту частную лавочку. Он всегда так думал, когда заходил сюда, но потом за другими, более серьёзными делами забывал об этом. А если вспоминал, то раздражался, ругал себя последними словами за забывчивость, звонил в районное управление, но дела до конца не доводил. Времени не хватало. А ведь понимал, что эти «мелочи» — питательный раствор для преступности. Нутром чувствовал, что среди барыг, спекулирующих привозной леской и торгующих краденным на заводах инвентарём, созревают его будущие «клиенты». Да ещё «пасут» молодняк. В магазине торговали три продавца: две совсем молодые девчонки и пожилой, лет пятидесяти пяти, мужчина. Сколько знал Корнилов этот магазин, мужчина всё время работал в нём. Звали его Тарас Петрович. Подождав, пока продавец освободится, Корнилов остановился напротив него и, перегнувшись через прилавок, тихо сказал: — Тарас Петрович, мне бы с вами словечком перемолвиться. С глазу на глаз… Тот нерешительно пожал плечами: — А что, собственно, вы хотели? — Совет ваш нужен. Тарас Петрович провёл Корнилова в крошечную комнатку, где стояли маленький письменный столик и три стула. Игорь Васильевич сразу заметил в углу рядом с сейфом свою голубую мечту — несколько складных удилищ, которых днём с огнём не найдёшь. Продавец не растерялся, не оробел, услышав, что Корнилов из уголовного розыска, хотя подполковник по опыту знал как теряются иногда люди в таких случаях. — Думаю, что постоянных своих клиентов вы, Тарас Петрович, хорошо знаете… — Если народ серьёзный, то хорошо. Игорь Васильевич достал фотографию капитана Бильбасова. — А-а! — улыбнулся продавец. — Капитан! Владимир Петрович. Знаю, знаю, рыбак отменный. Только редко меня навещает, всё по морям, по волнам. Зато уж всегда чего-нибудь привезёт из заморских стран. То леску тончайшую, то чудную катушку. — Он сказал и неожиданно насупился, видать, только сейчас понял, что уголовный розыск попусту человеком не заинтересуется. — Когда он был у вас в последний раз? Продавец нахмурил лоб, вспоминая. Лицо у него было широкоскулое, загорелое, до черноты. «Небось тоже рыбак, — подумал Корнилов. — Ещё в марте на зимней рыбалке загорел». — Знаете, — нерешительно произнес Тарас Петрович. — В этом году он ещё не был. Наверное, в плавании… — А в прошлый четверг вы тоже были в магазине? — Ту неделю я работал всю. — Может быть, капитан приходил, но покупал у девушек? — с надеждой спросил Игорь Васильевич. — Нет, так не бывает, — улыбнулся продавец. — Он обязательно подошёл бы ко мне. У нас всегда есть о чём поговорить. Случилось что-то такое? — Он наконец поборол свою стеснительность. В голосе его не чувствовалось любопытства, только тревога. Корнилову это понравилось. Он решил не разочаровывать продавца. — Нет, с капитаном всё в порядке. Мне нужно было навести у него кое-какие справки… Срочно. А он уехал на рыбалку. Придётся подождать. — Если срочно, так его можно найти… — На рыбалке?! Вы знаете, Тарас Петрович? — почти ласково спросил Корнилов. Этот загорелый крепыш нравился ему всё больше и больше. — Ну да. Он же всегда в одно место ездит, — уверенно сказал продавец. — На Орлинское озеро. Это за Гатчиной. У капитана там какой-то дед. Не то родственник, не то знакомый. — Значит, на Орлинское озеро?! — радуясь удаче, повторил Корнилов. — Вот спасибо, Тарас Петрович. Помогли вы мне. Закончу дела, приеду к вам за мотылем. Я ведь тоже рыбак. — Я вас помню, — сказал продавец. — Только вы очень редко бываете. Заходите, милости прошу. — Он вдруг оглянулся на складные удилища, стоявшие в углу комнаты. — Завезли вот. Прекрасная вещь. Не желаете? — Спасибо. Сейчас некогда, но как-нибудь загляну. — Корнилов крепко пожал руку продавцу и вышел из магазина. Девушки-продавщицы проводили его любопытными взглядами. Вернувшись в управление, подполковник позвонил в Гатчину, начальнику уголовного розыска Федору Сергеевичу Финогенову, попросил завтра утром отрядить кого-то из сотрудников в село Орлино. — Пускай выяснит, у кого остановился Владимир Петрович Бильбасов. Приехал на «Жигулях», номерной знак ЛЕА, четыре пятёрки. — Назвав Финогенову номер бильбасовской машины, Корнилов подумал о том, что настоящий преступник никогда не возьмёт своему автомобилю такой приметный номер. Только тщеславные частники почему-то правдой и неправдой стараются выцарапать себе такие. Думают, что ГАИ реже останавливать будет, что ли? — Только всё очень осторожно. Предупреди об этом строго! Я приеду утром, пусть ждёт меня у сельсовета. — Наблюдение установить? — спросил Финогенов. Корнилов задумался, потом сказал: — Установить. Но этого Бильбасова может там и не оказаться. Если так — пусть сотрудник срочно звонит в управление. Даже ночью. — Будет сделано. — Ты кого пошлёшь, Федор? — Макеева. — Это рыженький, что ли? — Корнилову уже приходилось несколько раз встречаться с молоденьким и стеснительным младшим лейтенантом Макеевым. Похожий на девушку, тонкий и стройный, он тем не менее очень хорошо проявил себя на службе. — Он самый, — сказал Финогенов. — А если этот Бильбасов будет уезжать? Задерживать? — Ни в коем случае. Пускай Макеев проследит куда он поедет. — Значит, Макееву машину придётся давать, — вздохнул Финогенов и тут же добавил: — Игорь Васильевич, с транспортом ой как плохо! Ты же знаешь. Мы три рапорта написали — ни ответа, ни привета. Ты бы хоть поддержал, похлопотал у генерала. — Корнилов молчал. — Ну уж если дополнительно нельзя выделить, так пусть хоть старые сменят. Ведь это ж курам на смех — позавчера на операцию выехали, а «газик» посреди улицы встал и ни с места. Одна мигалка работает. Поддержишь, а? — Поддержу, поддержу, — пообещал Корнилов. — Только ты сегодня Макееву приличную машину дай.…Корнилов выехал из дому в пять утра. За рулём сидел Саша Углев. Игорь Васильевич немало поколесил с ним по Ленинградской области. Углев был хмуроват, неразговорчив, и Корнилов любил с ним ездить — можно, не боясь, что тебя неожиданно отвлекут праздным вопросом, спокойно поразмышлять, удобно устроившись на заднем сиденье, рассеянно оглядывать проносящиеся мимо леса и деревни. По Киевскому шоссе он давно не ездил. Около года, а то и больше. А когда-то Киевское шоссе было его любимой дорогой. Автобусом с Сенной площади он ехал через Рождественно в Батово, к брату Кеше. Кеша, Кеша… Незатихающая сердечная боль. Разве ж это по-человечески, когда родные братья год не виделись, а если так и дальше пойдёт, вразнотык, не увидятся никогда? Ссора не ссора, а не углядел Игорь Васильевич за младшим, не заметил, как затянули его лёгкие денежки. Лёгкие ли? Нет, конечно, не лёгкие. Кто ж назовёт лёгкими деньги, полученные от овощей да ягод со своего огорода и сада, от своей коровушки? Большие — да. Но не лёгкие. А итог-то один — заслонили они от Иннокентия белый свет. Всё больше, больше хотелось. На трудные — лёгкие решил нажить, всё норовил побольше облигаций трёхпроцентного займа скупить, с картёжниками спутался. Мать обузой стала — потихоньку от старшего брата в дом для престарелых отправил. Ну а когда человек во что бы то ни стало разбогатеть хочет, обязательно выпачкается. Не рукавом, так спиной. И сам не заметит как… Вот и Кеша выпачкался. С шулерами связался… День обещал быть жарким. Несмотря на раннее время, солнце уже стояло высоко, на блёкло-голубом небе не виднелось ни одного облачка, а над асфальтом дрожало лёгкое прозрачное марево. За Никольским они обогнали несколько мальчишек с большими корзинами. — Неужто за земляникой с такими корзинами? — удивился Корнилов. — Грибам, пожалуй, ещё рано. — Почему же рано? — отозвался Углев. — Сейчас колосовики пошли. В «Вечерке» снимок пропечатали — один умелец нашёл килограммовый боровик. И при нём два поменьше. Целое семейство при одном корне. «А всё же за Кешу надо было бороться. Так проще всего — дал пощёчину и отрезал раз и навсегда. Брат же, родная кровь. Кеша с женой уж как мать обидели — в богадельню отправили, а мать? Через три месяца всё забыла — тайком ездит к Иннокентию. Говорит к подруге. Как же, как же… От меня скрывает, а с Олей делится. Да, характер у вас, товарищ подполковник, — врагу не пожелаешь! Вобьёте себе что-нибудь в голову, так уж навсегда! И кажется, что только вместе с головой избавитесь от своей идеи. Правда, последнее время поотмякли, сентиментальнее стали. Откуда это? Годы берут своё или присутствие любимой женщины? Три года назад, наверное, и не вспомнили бы о Кеше, напрочь выбросили из сердца, а сейчас вот едете по знакомой дороге и отмякли, самоанализом занялись. Нет, хватит! Не до Кеши сейчас. Третий день смертью старпома Горина занимаемся, а сдвигов никаких. И этот кэп с „Ивана Сусанина“ какой-то шальной. Сидит на больничном, прокуратура его разыскивает, а он на рыбалку уехал. На рыбалку ли? Уж больно много совпадений — он один из тех, кто может быть заинтересован в смерти старпома, — раз! Исчез накануне катастрофы, не был дома — два. Взломщик приехал на дачу Горина на „Жигулях“! У Бильбасова „Жигули“ три. Ну-ну! — остановил себя подполковник. Тут я зарываюсь. Машина ещё ни о чем не говорит. Правда, перед рыбалкой Бильбасов всегда к Тарасу Петровичу за мотылём заезжал, а нынче нет. Терпение, терпение. Скоро буду в Орлине, всё выясню… Ловко я про магазин вспомнил! Серьёзные рыболовы такие магазины стороной не обходят! А лицо у него на фото приятное. Располагает. Был, наверное, красавцем мужчиной и сердцеедом…»
— Вон его лодка! — сказал старик, у которого остановился на ночлег Бильбасов, показывая на другую сторону озера. Корнилов прикрыл ладонью от яркого солнца глаза и увидел около камышей небольшую голубую лодку и человека в ней. — Это капитан удит. Его любимое место. Он рыбак сурьёзный, — в голосе старика сквозило уважение. Пока Игорь Васильевич усаживался в плоскодонку и вставлял вёсла в уключины, дед всё рассказывал ему: — Летом редко наезжает. Всё по океанам шастает. А вот поздней осенью заглядывает. И зимой бывал, после Николы. Я только одного не пойму — всю жизнь на воде проводит, а на рыбалку сюда приматывает? Ведь в морях какая рыба-то! Не чета нашей. Ведь чтоб судака или леща взять — это ого-го! Корнилов оттолкнулся веслом от мостика. Сделал первый гребок. — Ты поосторожней, — напутствовал дед. — Он не любит, когда ему мешают… — Ладно, дедушка, — пообещал подполковник. Он сделал несколько сильных, резких гребков и, держа вёсла над водой, с удовольствием следил, как легко и послушно разрезает водную гладь плоскодонка. Слабый ветер приносил с полей запах подсыхающего свежего сена. Чуть-чуть пахло водорослями. Стрекоза на секунду села на весло и тут же полетела дальше. «Хорошо-то как», — подумал Корнилов и начал грести, время от времени оборачиваясь на рыбака, чтобы не уклониться в сторону. Минут через пятнадцать он уже был совсем рядом и, помня наказ деда, сбавил ход, грёб, едва касаясь вёслами воды, без единого всплеска. Только слабо поскрипывали уключины. Бильбасов был одет в красиво простроченную брезентовую курточку и такую же кепочку. С его лодки свешивалось несколько длинных удилищ. Время от времени он посматривал на приближавшегося Корнилова и, когда увидел, что тот гребёт прямо к нему, крикнул, приглушая голос: — Куда тебя несёт, дядя! Рули в сторону! Убедившись, что гребец не думает сворачивать, Владимир Петрович привстал со скамейки, держась одной рукой за борт, и сказал возмущённо: — Да ты что… — Но в это время на одной из удочек здорово клюнуло, и он, не закончив фразы, быстро нагнулся, сильно качнув лодку, ловко подсёк, а через минуту вытащил прекрасного судака. «Какой красавец, килограмм потянет», — с завистью подумал Корнилов. Пока Бильбасов снимал судака с крючка и препровождал его в садок, Игорь Васильевич успел опустить якорь — какое-то железное, неимоверно тяжёлое колесо на верёвке. Течение слегка развернуло лодку, и она стала метрах в трёх от бильбасовской. Увидев, что Корнилов расположился рядом, Бильбасов на несколько секунд потерял дар речи. Он глядел на Игоря Васильевича, и на лице его настолько ярко, по-детски сменялись выражение обиды, гнева и, наконец, крайнего недоумения, что подполковник расхохотался. — Или я ничего не понимаю, — сказал Бильбасов, — или вам от меня что-то нужно… Вы из рыбоохраны? Так я… — Я из уголовного розыска, — перебил его Корнилов. — Приехал побеседовать с вами, Владимир Петрович. Из Ленинграда приехал. Зовут меня Игорь Васильевич. Бильбасов нахально, как показалось Корнилову, присвистнул. Игорь Васильевич краем глаза заметил, что один из поплавков, дёрнувшись несколько раз, ушёл под воду. «Ну и везёт же ему! — ревниво подумал он. — А я вот возьму и не скажу…» Однако Владимир Петрович и сам не зевал. Он опять ловко подсёк и спокойно, казалось бы, даже равнодушно вытащил ещё одного судачка. Такого же, как первый. Но Корнилов заметил, как удовлетворённо дрогнула у капитана пухлая нижняя губа. — Значит, кроме прокуратуры, мною ещё и уголовный розыск занимается? — И уголовный розыск тоже, — весело подтвердил Корнилов, ловя себя на мысли, что испытывает некоторое удовольствие от того, что подпортил Бильбасову прекрасную рыбалку. «А я, оказывается, ещё и мелкий завистник!» — подумал он. Бильбасов ему понравился. Открытый взгляд когда-то, наверно, ярко-голубых, теперь чуть повыцветших глаз, в которых не чувствовалось ничего затаённого, и лицо живое и очень выразительное. И ещё понравилось Корнилову что и здесь, на рыбалке, капитан хорошо выбрит и подтянут. Прямо хоть на капитанский мостик. — Вот что способен один подлец наделать! — раздражённо посетовал Бильбасов. — Человек на законном бюллетене не может спокойно половить рыбу! — Вы кого имеете в виду? — поинтересовался подполковник. Один из поплавков снова ушёл в воду. — Кого же я ещё могу иметь в виду? У вас, кажется, таких людей называют заявителями. Вот о нём и речь. — У вас давно клюет, капитан, — не выдержал Игорь Васильевич и кивнул на удочки. — Сейчас в камыши уведёт. — Какая уж теперь рыбалка! — проворчал Бильбасов. Но судака снова вытащил профессионально. Правда, судачок теперь был помельче. — А, собственно, моя-то персона зачем вам потребовалась? Или вскрылись мои новые злодеяния? — Так… Побеседовать, — неопределённо хмыкнул Корнилов. Узнав от оперуполномоченного Макеева и от старика, что Бильбасов уже три дня ловит здесь рыбу и никуда не отлучался, он хотел сразу рассказать ему о смерти старпома, но сейчас передумал. — А всё же? Меня любопытство заело! — насторожился капитан. — Не рыбачить со мной за компанию вы ведь приехали? — В прокуратуру пришло несколько писем о том что с Гориным хотят разделаться… — Письма, конечно, анонимные? — Анонимные. — И пишут о том, что готовит расправу с Гориным капитан Бильбасов? — В письмах ваша фамилия не называется. — Ну естественно! Понятно и так — не кок же будет списывать с судна старпома. — Он небрежно махнул рукой. — Пусть делают со мной что хотят, но плавать я с ним не буду. Это уж точно. «Что верно, то верно, — подумал Игорь Васильевич. — Это, пожалуй, единственное, что и я знаю точно». — Вы, Владимир Петрович, не так меня поняли. В письмах говорится, что Горина хотят убить. — Убить? — капитан рассмеялся. — Это что-то новое. Да вы поймите, товарищ… — Корнилов, — подсказал подполковник. — Вы поймите, товарищ Корнилов, эти письма наверняка сам Горин и писал. Чтобы набить себе цену. Уж если вы всерьёз хотите разобраться во всей галиматье, которую понаписал старпом… — Да нет, Владимир Петрович. Я ведь не занимаюсь разбирательством заявления вашего старпома. Это дело прокуратуры. Я к вам приехал, чтобы задать один-единственный вопрос: где вы были вечером третьего июля? Правда, на этот вопрос мне местные жители уже ответили. Теперь вроде и спрашивать не о чем… Бильбасов смотрел на подполковника очень пристально и сосредоточенно. Наконец спросил с сомнением: — Неужели только за этим и приехали? — Мы проверяли, где находились третьего июля вечером вы и другие люди, о которых написал в своей жалобе старпом. — И только обо мне ничего не знали? Корнилов не ответил. — Крепко заштормило, — покачал головой капитан. — Прямо аварийная ситуация. — А вы что же, в город возвращаться не собираетесь? — поинтересовался Игорь Васильевич. — С бюллетёнем-то надо дома сидеть. Вам, вместо того чтобы судаков таскать, следовало бы давать объяснения в прокуратуре по поводу обвинений, выдвинутых вашим бывшим старпомом… — Я здесь обдумываю, как мне его писать, это объяснение, — засмеялся вдруг Бильбасов. — А что, завидуете? Хороши судачки? — Завидую, — признался Корнилов, и оба рассмеялись. — Я сразу почувствовал в вас рыбака. Со мной разговариваете, а сами всё на поплавки коситесь и встали правильно. Он смотал удочки, положил в лодку садок с рыбой. Корнилов заметил, что, кроме судаков, там есть несколько крупных окуней. Бильбасов достал банку с червями и, чуть помедлив, словно раздумывая о том, пригодятся они ещё или нет, выбросил их в воду. Потом высыпал прикормку. Подняв якоря, они погребли к берегу. Всю дорогу гребли молча, только раз Бильбасов не выдержал. Крикнул: — Неужели из-за одного вопроса приехали? Или ещё что есть? — Этот вопрос был главным, — отозвался Корнилов и больше ничего не стал говорить. Потом Бильбасов почистил рыбу, они соорудили на берегу небольшой костер, сварили уху. Когда уха была готова, капитан принёс хлеб, бутылку водки. Постучал по ней ногтём. — Как, допускается? — Нет, — отказался Игорь Васильевич. — Почки. В начале года его разок тряхнула почечная колика. Врач сказал — камни. Прописал диету. А по поводу водки выразился неопределённо, дескать, немного можете. Болезнь больше никак не проявляла себя, Корнилов забыл и думать о диете, но, когда не хотел пить, всегда ссылался на камни. Бильбасов в некотором раздумье подержал бутылку в руке и, тихо пробормотав: «Какая ж уха без водки?» откупорил бутылку и налил полстакана. Они ели уху, беседуя о рыбалке, красоте здешних мест, жаркой погоде. Капитан время от времени поглядывал на Игоря Васильевича долгим, изучающим взглядом, словно подтолкнуть хотел: чего тянешь спрашивай задавай свои «второстепенные» вопросы! — Владимир Петрович как вы считаете, среди экипажа «Ивана Сусанина» есть такие люди, которые из ненависти к старпому могли бы решиться на крайний шаг? — Чего ради? — пожал плечами капитан. — Кто за хотел бы пачкать руки об эту дрянь! Простите о заявителях не положено говорить плохо? — Говорите, что думаете, — махнул рукой Корнилов. — Нам истину выяснить надо. — Нет, нет. Самое большее — публичная пощёчина, — убеждённо сказал Бильбасов. — Ему и мне… Я в этой истории главный виновник. Стыдно признаваться на старости лет… — Ну а если по-другому поставить вопрос. Написал Горин заявление, я читал — не скрою, много серьёзных обвинений. Но вот начинается доскональная проверка, и при этом всплывает кое-что посерьёзнее. Тяжёлое преступление. Старпом о нём не написал по каким-то соображениям, но знал, что в ходе проверки это обнаружилось бы обязательно. И кто-то, неизвестный ни Горину, ни вам, почувствовал, что пахнет жареным. Очень жареным. И задумал от вашего старпома избавиться. Можно сделать такое предположение, как вы считаете? — Ах, товарищ Корнилов, я устал доказывать — всё в его заявлении блеф, всё натяжки… — Не надо, не надо! — запротестовал Игорь Васильевич. — Не будем об этом. Хотя я думаю, что натяжек не может быть на пустом месте. Они всегда бывают к чему-то, эти натяжки. Но тут уж не моя компетенция… Меня другое интересует. А вы… — Это другое нельзя понять, не зная главного. Только вы не подумайте, что я собираюсь оправдываться, — говорил Бильбасов спокойно, уверенно. — Я виноват в большем, — продолжал он. — Горин об этом не написал и не напишет никогда. Ведь это я создал старпома Горина! Я, собственными руками! Добро бы — только сам и пострадал. Но вместе со мной страдают другие люди. Честные, заслуженные. Юрий Максимович — типичный представитель нашего отечественного конформизма. Вы знаете, что такое конформизм? — Капитан, не слишком ли много вопросов? — внезапно раздражаясь, сказал Корнилов. — Мы тоже живём не в безвоздушном пространстве. Всякого повидали. — Простите. Не учёл. Судя по годам, вы не рядовой сотрудник? — Не рядовой. Замначальника угрозыска. — И приехали ко мне? Спрашиваете меня, главного обвиняемого? — Я спрашиваю, а вы мне не отвечаете. Бильбасов вздохнул. Сказал жёстко, раздельно: — У нас на «Сусанине» никаких серьёзных и несерьёзных преступлений не совершалось. И даже пять проверок ничего не смогут установить. — И добавил уже обычным тоном: — На теплоходе служат хорошие, честные ребята. Если и случались неприятности, мелкие неприятности, так где их не бывает! Обычное разгильдяйство. Но утверждать, что ни у кого из экипажа не было причин для ссоры со старпомом я не могу… — А какие причины могли возникнуть? — Ух! — зло бросил Владимир Петрович и стал остервенело сгребать деревянной кочережкой полуобгорелые поленья в середину костра. Чуть-чуть успокоившись, сказал: — Я вам всё-таки должен набросать портрет своего старпома. Несколько штрихов… — Валяйте. — Корнилов посмотрел на часы. — Может, сигаретку выкурите? — Он протянул пачку Владимиру Петровичу. Тот отмахнулся. — Спасибо, у меня свои. Привык уже. — Он вытащил из нагрудного кармана пачку «Филиппа Морриса» и вздохнув, закурил. — Не знаю, что буду делать, когда плавать перестану. Пенсионерам-то валюту на курево не выдают. Придётся бросать совсем. Он налил из котелка в стакан ещё не остывшей ухи, добавил туда водки и выпил. Посмотрел на Корнилова и, заметив на его лице брезгливую гримасу, сказал: — Не морщитесь. Прекрасный напиток. Так вот, с Юрой Гориным я познакомился… — Бильбасов на секунду задумался, затянулся глубоко. — Пятнадцать лет назад. Да, именно пятнадцать. Был в моей жизни такой период, когда я несколько лет преподавал кораблевождение в мореходке. Жена заела: или я, или море. Вот такие пироги. Мы тогда ещё молодые были… И учился у меня курсант Юра Горин, худенький, шустрый блондинчик… Учился уже теперь и не помню как, но парень был ласковый и предупредительный. Всегда о чём-то расспрашивал меня после лекций, стал бывать дома. Жене он почему-то не понравился. Бабы, они такие — за версту чуют, чего от человека ожидать можно. А я относился к нему хорошо. Его услужливость за преданность принимал. Теперь-то я понимаю — ему ледокол был нужен. — Чего, чего? — удивился Корнилов. — Ледокол. Знаете, чтобы вперёд сквозь льды двигаться, надо вес большой иметь. А у Юры тоннаж в то время маловат был, даже тонкий лёд не одолеть. Ну и шёл он за мной в кильватере по чистой воде. Бильбасов посмотрел на подполковника и улыбнулся. — В преподавателях я долго не высидел — комфорт не тот. Привыкаешь на море к размеренной жизни. А на берегу на работу добираешься в переполненном трамвайчике, в магазины жена заставляет ходить, а там очереди. Ну и прочие мелочи быта, о которых на судне ни сном ни духом не ведаешь. Попросился снова в море. Горин к этому времени мореходку закончил. Проплавал он у меня год стажёром, потом четвёртым штурманом и так далее. Парень он в то время был покладистый, в рот смотрел. Я с ним горя не знал. — Удобный помощник! Капитан как-то совсем по-детски, виновато улыбнулся, и Корнилов почувствовал неловкость за свою фразу. Ему стало неприятно оттого, что этот сильный человек, уже совсем пожилой, вынужден вот так жалко улыбаться. — Удобный. Он тогда… как бы это сказать помягче, очень стремился по службе двигаться. Выступал на собраниях, предлагал всякие новшества, за любую общественную работу брался — смотрите, дескать, вот он я! Ему всегда можно было поручить то, за что другие бы не взялись. А на какие-то штришки в его поведении я старался не обращать внимания. Считал, что неэтично вмешиваться в личные дела. Скандалов ведь не было… — Что же это за «штришки»? — спросил Корнилов. — Штришки неприятные, — поморщился Бильбасов. — С товарищами он плохо ладит. И по женской части… Приходили ко мне официантки, жаловались. Но это уж в последнее время. Вот так он и рос на «Сусанине». Первым серьёзным уроком для меня стал такой случай: Юрий Максимович пришёл ко мне и потребовал место старпома. Нашего старого назначили капитаном на большой сухогруз. Состоялось крупное объяснение. Я Горину отказал, а на следующий день меня пригласил начальник управления кадров пароходства. Попросил за Юру. Способный-де человек, в пароходстве его хорошо знают. «Ты ж, — говорит, — сам два года назад представлял его к ордену! Раньше Горин был хороший, неужели так быстро испортился?» Я сдался. — Бильбасов закурил. Он теперь не вынимал сигареты изо рта, прикуривая одну от другой. — Да как же вы могли! — в сердцах бросил Игорь Васильевич. — Вместо того чтобы разоблачить карьериста, вы писали на него хорошие характеристики! Я сам читал. А теперь к ответственности могут привлечь вас! Ведь если вы рассказали мне правду… — Он покачал головой. — Правду, товарищ следователь, — спокойно сказал Бильбасов. — Я не следователь. С ним вы ещё наговоритесь. И не думаю, что эти беседы будут вам приятны. Сами виноваты. Владимир Петрович, казалось, не обратил на слова Корнилова никакого внимания. — Не так давно в пароходстве надумали выдвинуть Горина капитаном на другое судно. Но я сказал: баста! Станет капитаном — таких дров наломает, не приведи господи. Мелкий человек. А потом какой-нибудь дурак вроде меня начнёт его двигать дальше… — Представляю себе гнев карьериста, у которого срывается очередное назначение, — сказал Корнилов и подозрительно спросил: — А может быть, вы просто не хотели лишиться его поддержки и его услуг? — Нет, не то, — отмахнулся Бильбасов. — Знаете, с вами хочется быть откровенным. Наверное, в уголовный розыск специально таких людей подбирают? Так вот… Не могу сказать, что я хороший психолог. Но я догадывался, что старпом карьерист, нечистоплотный человек и начал бы пакостить ещё давно, если бы не рассчитывал двигаться при моей поддержке… И я его двигал, стараясь не вникать в мелочи. Я был слишком занят работой, вещами более серьёзными, чем личность старпома. Да и что я в конце концов, сыщик, что ли? Он старался делать своё дело, ну и… Не хотел я влезать! — сказал капитан раздражённо. — Инстинкт самосохранения? — Может быть, может быть… Но когда я увидел, что его честолюбие приняло угрожающие размеры, у меня хватило твёрдости остановить Горина. Я написал объективную характеристику… — Но было поздно? Его уже другие двигали? — Да, вы схватили самую суть! Мне даже сказали, что я написал плохую характеристику, испугавшись за своё место. Решил, дескать, что Горина сделают капитаном «Сусанина», Теперь в пароходстве не верят ни одному моему слову об этом человеке! Корнилов слушал внимательно. Злость на Бильбасова прямо клокотала в нём. Вот из-за таких добреньких и вылезают из щелей всякие проходимцы, карьеристы. Проглатывают своих «благодетелей» — да если бы только их! Сколько людей потом страдает от их возвышения! Бильбасов виновато развёл руками: — Ну что же поделаешь? Горин уже приглянулся кое-кому в пароходстве. Они-то, я уверен, тоже ему цену знают. Это секрет на весь свет… А рассуждают так же, как я когда-то: пусть послужит, человек верный. Мы, дескать, знаем его возможности, его «потолок». Но «потолок» у них уже другой… Вот и получается: ты выдвинул дурака или проходимца — в тот момент под рукой хорошего человека не оказалось, а он и пошагал. — Вы целую систему философскую придумали. Теорию первого толчка… — А вы, Игорь Васильевич, разве ни разу не погрешили? Ни разу проходимцу ходу не дали? — Нет, не дал, — покачал головой подполковник. — Ну? Преклоняюсь, — в голосе Бильбасова чувствовалась ирония. — Но верю вам с трудом. Извините. Внимательно приглядываясь к Бильбасову, к его манере разговаривать, ко всему его облику, полному достоинства, притягивающей внутренней обаятельности, Игорь Васильевич вдруг вспомнил один из пунктов обвинения, брошенного Гориным капитану: драку с каким-то американцем по имени Арчибальд Бриман. — Вы зачем дрались-то на судне? — спросил он. — Да ещё с американцем. Разрядку срываете. Бильбасов ухмыльнулся, глаза его озорно блеснули. — Удивились, да? Старый человек, да ещё капитан — и дерётся. — Он согнул руку в локте и гордо пощупал бицепс — А что, есть ещё порох в пороховницах! Этот Бриман, я вам скажу, свинья и алкоголик. Впервые встретил такого дурошлёпа. Мы шли из Пирея в Латакию. Пассажиры разношёрстные, несколько американцев. Юристы. Чего-то изучали в Греции. Бриман — шериф из Северной Каролины. Напился до положения риз, по-моему, со страху — в тот вечер штормило прилично. Стал ко всем приставать. Щипнул молодую гречанку. Муж заступился — он его по шеям. Сами же американцы вахтенного позвали. Он и вахтенному врезал. Оказалось, что и русский язык знает. Кричит: «Русские ублюдки!» Вот сволочь! — Капитан с остервенением плюнул. — А наши ведь знаете как с иностранцами — пылинки сдувают, всё международного скандала боятся. Да мы сами так и воспитываем… В общем, бушует Арчибальд Бриман — спасу нет. Услышал я шум, спускаюсь на палубу. Руку к козырьку. Говорю по-английски: «Господин хороший, вы на советском судне, извольте успокоиться». Он вылупился на меня, глаза красные, бессмысленные. «Я американский шериф, а ты свинья». И размахивается. Ну, думаю, товарищ Бильбасов, на тебя вся Европа смотрит и половина Америки. Увернулся я от удара и врезал ему от души в скулу. Свалился Бриман, вахтенный с боцманом его скрутили, а он плюётся, орёт, из носа почему-то кровища хлещет. Ужас! Подошли американцы. Говорят: «Господин капитан, ему только холодный душ может помочь. Не жалейте воды». Отвели мы его в укромное место и окатили как следует. Так на следующее утро он всё ходил извинялся, кричал, что русские — самые лучшие парни в мире. И хотел мне свою шерифскую бляху подарить. Да я его выгнал. А когда в Латакии на берег сходил, сунул вахтенному матросу бутылку виски. Тот у него на глазах её в море бросил. А Бриману хоть бы что — смеётся, прощальные поцелуи шлёт. Корнилов покачал головой. — Что головой качаете? Думаете, наш международный авторитет от этого пострадал? — Я поступил бы так же. — Правда? — обрадовался Бильбасов. — Вот видите! А на вас бы жалобу! — Он помолчал немного и махнул рукой. — Да ну их!.. Надоели. Мне три года до пенсии осталось. Буду здесь ловить рыбу — проживу хоть лет на пять дольше! — Всё это интересно, — задумчиво сказал Корнилов и закурил. — Но меня сейчас факты интересуют. В экипаже теплохода есть такие люди, которые крупно ссорились со старпомом, ненавидят его? — Его все ненавидят! — буркнул капитан. — Кроме двух-трёх лодырей, которых пора списывать за непригодность. — Я человек терпеливый, — сказал Корнилов. — Один и тот же вопрос могу по пять раз задавать. — Простите. Злобы на них не хватает. — Капитан задумался, лицо стало пасмурным, будто тучка средь солнечного дня набежала. — С ним были в ссоре штурманы Трусов и Данилкин. Из-за его ехидства, стремления подставить под удар. Наш дед Глуховской, стармех, его просто ненавидел. У того были свои причины! — Бильбасов вздохнул. — Там из-за женщины. Горин однажды сделал гнусное предложение его жене исхлопотал по физиономии. А жена вдобавок рассказала Глуховскому… — У Глуховского было объяснение со старпомом? — перебил Корнилов капитана. — Было, конечно. Но это длинная история. Горин ходил ещё вторым помощником. А нынешний второй штурман тоже ненавидит старпома. — Трусов? — Шарымов. Трусов — третий. Я о нём уже говорил. «Шарымов, Шарымов, — вспоминал подполковник. Его Горин в письме не называл. — А мы не проверяли…» — Всё это не пустячки, я понимаю, но никто из названных людей не стал бы угрожать старпому. Тем более анонимно! Не та закваска. — А из-за чего ненавидит Юрия Максимовича Шарымов? — Вы у него и спрашивайте, — неожиданно помрачнев, отрезал Бильбасов и поиграл желваками. — Штурман Шарымов — прекрасный парень. Честный, искренний… — Вам придётся ответить, капитан, — серьёзно сказал Корнилов. — Третьего июля Юрий Максимович Горин погиб. — Погиб? — Игорь Васильевич почувствовал, что Бильбасов ошеломлён. — Что значит погиб? Застрелился? — Попал в автомобильную катастрофу. — Какой ужас! На своей машине? Корнилов кивнул. — Один? — Один. Жена уезжала к больной матери. — Столкнулся с кем-то? Кто виноват? — Кто виноват… Если б знать, я не докучал бы сейчас вам своими вопросами. — Подполковник требовательно смотрел на Бильбасова. — Он ездил всегда очень осторожно. Быстро, но осторожно. Не лихачил — уж я-то знаю! Немало поездил с ним! В лучшие времена. — Заметив взгляд Корнилова, Владимир Петрович вздохнул. — Ну да… Вы ждёте ответа, Женя Шарымов… — Он снова вздохнул. Корнилов видел, что у Бильбасова язык не поворачивается отвечать. Что-то сковывало капитана, мешало ему. Он поморщился, словно раскусил клюкву. — Личные дела. Говорить о них так неприятно. Несколько дней назад Евгений узнал, что старпом ухаживает за его женой. Что они встречаются, чёрт возьми! На капитана было жалко смотреть. Он совсем расстроился. — Когда об этом узнал Шарымов? Вы не помните поточнее? — Да только что! — упавшим голосом отозвался Бильбасов. — Вот ведь скотина старпом, прости, господи, мне эти слова! Такому парню жизнь испортил! — А поточнее, поточнее! Капитан задумался. Наконец сказал встревоженно: — Я уехал из Ленинграда третьего. Женя мне рассказал об этом первого… Вздор! Он тут ни при чём. И анонимные письма не стал бы писать… — Письма пришли раньше. — Вот видите? — оживился Владимир Петрович. — Шарымов был расстроен? — Ещё бы! Потрясён! Евгений так любит эту дуру. — Он не собирался мстить? — Мстить? Слово-то какое! Думаю, что набил бы морду. — Думаете так или Шарымов сказал вам об этом? — Сказал, сказал! А вы бы на его месте что сделали? Корнилов поднялся: — Я должен срочно позвонить… И ехать в Ленинград. Вы поедете со мной? — Если это необходимо… — неуверенно сказал Бильбасов. — Конечно! Вам необходимо быть в Ленинграде, а не рыбачить здесь в тихой заводи… Вас могут в любую минуту пригласить в прокуратуру. Они шли по тропинке среди густых кустов тальника. Пахло водорослями, рыбой. Откуда-то тянуло дымком. Время от времени тропинка выскакивала из кустов на крутой берег, и Корнилов с сожалением смотрел на сверкающую гладь озера. — Мне что ж, с вами ехать? — поинтересовался Владимир Петрович. — Я ведь на «Жигулях». — На своих «Жигулях» и возвращайтесь. Вы мне сейчас не нужны. Только звонок в управление сделаем. — Это вы зря, сразу звонить, — буркнул Бильбасов. — Выбросьте из головы. Евгений дал бы старпому по физиономии — и всё. Ну не всё, конечно… Горин бы затягал его по судам… — Он закурил. — Владимир Петрович, — спросил Корнилов, — а штурман Шарымов курящий? Бильбасов пожал плечами: — Да у нас все курящие, кроме Глуховского… — И все на курево валюту расходуют? Бильбасов хмыкнул: — Да нет, находят ей более полезное применение… — Шарымов какие сигареты курит? Капитан показал коробку «Филиппа Морриса».
Макеев и Углев лежали на траве около машины, о чём-то тихо разговаривали. Дверцы машины были открыты. Несколько мальчишек сидели поодаль в тени большого тополя, внимательно следя за происходящим. Увидев Корнилова, Макеев вскочил, а Углев, окинув любопытным взглядом Бильбасова, лениво спросил: — Едем, товарищ подполковник? — Летим, а не едем! — сказал Корнилов, усаживаясь в машину. Через минуту Углев уже сидел за баранкой. — Владимир Петрович, товарищ Макеев, — пригласил Корнилов. — Присядем на несколько минут… Бильбасов и инспектор уселись на заднем сиденье. Корнилов взялся за трубку телефона. Мальчишки заметили это и тихонько придвинулись поближе к машине. Усмехнувшись, Игорь Васильевич поднял боковое стекло, а Углев погрозил им пальцем. Подполковник секунду помедлил, решая, кому звонить: дежурному по управлению или Бугаеву? Семёна могло не оказаться на месте — дел у него было невпроворот. Позвонил всё-таки ему, и Бугаев отозвался. — Семён, записывай адрес… — Корнилов начал диктовать. — Кировский проспект, дом двадцать шесть — двадцать восемь, квартира шестьдесят три. Шарымов Евгений Николаевич. Живёт в коммунальной квартире. Жена… — Вера Сергеевна. — Бильбасов настороженно следил за Игорем Васильевичем. — Где у него гараж? — Женя счастливчик — во дворе и тёплый! «Счастливчик, счастливчик! — подумал Корнилов, передавая Семену данные о Шарымове. — Что этот счастливчик делал всю ночь на даче у Горина?» — Вы что же, всерьёз Женю подозреваете? — спросил капитан. Голос у него был испуганный. Корнилов не ответил. Сказал в трубку Бугаеву: — Я через час буду… А ты вместе с группой отправляйся к Шарымову. Пускай объяснит, где был вечером и ночью третьего. «Разуйте» его «Жигули», колёса нам, думаю, потребуются. Могут быть сюрпризы. Понял? Сюр-при-зы. Бильбасов тяжело вздохнул. Вид у него был потерянный. — Всё понял? — спросил подполковник Бугаева. — Понял. — Сразу же поставь в известность дежурного по городу. Ещё позвоню с дороги. Шофёров всех ко мне Лебедев пригласил? — Всех, Игорь Васильевич. — Пускай сидят ждут, если я чуть-чуть опоздаю. Варваре скажи, чтоб чаем их напоила. На них я больше всего надеюсь. — Отработанный пар, — бросил Бугаев. — Чую, что к Шарымову не зря меня посылаете. — Ладно, меньше слов… — отрезал Корнилов и положил трубку. Сказал ворчливо: — Тоже мне, доберман-пинчер. Чует, видите ли! А вам, Владимир Петрович, собраться, наверное, надо? — спросил он Бильбасова. — Да, надо… — неуверенно отозвался тот. — Ну вот и хорошо. Через часик, наверное, выедете? Наш сотрудник вас подбросит на вашей же машине… А то вы ведь выпили? Правда? — Пускай подбросит! — хмуро согласился Бильбасов. Он в некотором раздумье посмотрел на Корнилова, на Сашу Углева, смешно пожевал губами и наконец сказал: — Ну я пойду, пожалуй, соберусь. Вы дом-то знаете? — обернулся он к Макееву. — Знает, знает! — покивал головой Корнилов. Когда Бильбасов вылез из машины и грузной походкой пошёл к деревне, подполковник сказал Макееву: — Для пользы дела, думаю, вам полезно с капитаном проехаться. Привезёте его прямо на Литейный. Не то он ещё какую-нибудь рыбалку себе найдёт. А свою машину отпустите потихоньку — у вас в Гатчине, говорят, напряжённо со спецтранспортом.
8
Услышав от подполковника фамилию Шарымов, Семён Бугаев мысленно обругал себя идиотом: ну почему он решил проверить только тех, кого обвинял в своём письме погибший старпом «Сусанина»? Разве не мог швырнуть ему булыжник в ветровое стекло один из дружков капитана? Если верить письму Горина, на теплоходе удалая шайка-лейка подобралась! А писал он только о главном, о тех, кто задавал тон. Вот и выходит: логика логикой, а нужно быть готовым ко всему. «Могут быть сюрпризы… — думал капитан, набирая номер дежурного по управлению. — Шеф что-то серьёзное разнюхал. Вот так всегда — если вцепится, так только мёртвой хваткой». Уже спускаясь по лестнице вниз, к машине, Бугаев вспомнил: подполковник просил предупредить секретаря отдела Варвару, чтобы не отпускала приглашённых на три часа шофёров. «На кой ляд только он снова шофёров собирает? — недовольно подумал Семен. — Уж сколько раз с ними беседы беседовали. И ГАИ, и прокуратура, и наши ребята!» Не дожидаясь лифта, он взбежал на четвёртый этаж и, почувствовав, что запыхался, с сожалением вспомнил, что уже третий месяц не ходит в бассейн. Увидев Бугаева, Варвара разочарованно ойкнула: — Сенечка, вы чего? Пути не будет! Как-то так уж повелось с давних пор, что в уголовном розыске не то чтобы верили приметам, но любили при случае сослаться на некие особые обстоятельства. На одном из совещаний начальник Главного управления назвал это явление особым видом пижонства. — Типун тебе на язык, Варвара! — пробурчал Бугаев. — В три шеф собирает шофёров. Ты их тут позанимай чем-нибудь, если подполковник опоздает. Он уже выехал из Орлина… — Чем же я их занимать буду? — недовольно сказала Варвара, но капитан уже захлопнул дверь приёмной. В машине сидели эксперт Коршунов и Саша Лебедев. — Далеко ли, милый Сеня? — спросил Коршунов, устроившийся со своим чемоданчиком на заднем сиденье. Бугаев вспомнил, что Коршунову, спокойному, чуть даже флегматичному крепышу, всегда выпадало ездить с ним куда-нибудь в область. Последний раз аж в Лодейное Поле гоняли, на ограбление магазина. Усмехнувшись, Бугаев сказал: — На этот раз в Выборг, Иван Иваныч. Такая уж у нас планида — я тут ни при чём… — Понятно, — ответил эксперт. — В Выборге хоть прилично кормят на вокзале, а то я опять без бутербродов. — Он поёрзал на сиденье, устроился поудобнее и закрыл глаза, собираясь вздремнуть. Но при выезде с улицы Воинова на Кутузовскую набережную шофёр так круто и на такой большой скорости сделал поворот, что всех прижало сначала к левой, а потом к правой стороне. — Коля, мы так никуда не попадём! — сказал Бугаев. — Попадём, попадём! — сердито огрызнулся шофёр. — Диспетчер белены, что ли, объелся? Сказал ведь на Кировский, а тут в Выборг пили! Бугаев засмеялся: — Шуток не понимаешь. Это Иван Иванович в Выборг, а мы на Кировский. Дом двадцать шесть — двадцать восемь. — Всё шутишь, Сенечка! — беззлобно проворчал эксперт. — Пора бы и остепениться… Бугаев неожиданно сник, словно у него завод кончился, и, обернувшись к Коршунову, сказал погрустневшим голосом: — А-а… Иван Иванович, жисть такая… — И всю дорогу, пока ехали до места, молчал, отрешённо поглядывая на толпящихся на набережных и на Кировском мосту людей, на белесое дымное небо, прорезанное у горизонта кранами торгового порта. Кировский проспект был перекрыт — устанавливали новые канализационные трубы, пришлось объезжать по Пушкарской. Машина, проехав несколько мрачных дворов-колодцев, остановилась около подъезда, на котором висела табличка «Жилищно-эксплуатационная контора Петроградского района». — Саша, жми к начальству, узнай, где гараж Шарымова, — приказал Бугаев Лебедеву. — И понятых возьми. А я за хозяином. Поймав вопросительный взгляд эксперта, он сказал, снова улыбнувшись: — А вы, Иван Иванович, посидите пока. Расскажите Коле пару историй — он страсть как их любит. Шестьдесят третья квартира, в которой жил Шарымов, была на четвёртом этаже. Бугаев поднялся на стареньком лифте. Лифт шёл медленно, подёргиваясь и скрипя, и Семён невольно подумал о том, что в нём немудрено и застрять. На двери рядом со звонком была прибита табличка с длинным списком фамилий жильцов. Против фамилии Шарымова стояла цифра 4. Надо было звонить четыре раза. Бугаев позвонил и долго прислушивался, когда в коридоре за дверью раздадутся шаги. Он знал: квартиры в этом доме огромные, на десять — двенадцать просторных комнат, с двумя кухнями и коридором, по которому было можно ездить на велосипеде. Дверь не открывали, и Бугаев позвонил ещё четыре раза. «Дома нету, что ли?» — подумал он и позвонил один раз. Цифра 1 стояла против фамилии «Горюнова Н. В.». И сразу же за дверью послышалось движение, скрипнула дверь, и испуганный женский голос спросил: «Кто здесь?» — Откройте, пожалуйста! — попросил Бугаев. — Мне нужно видеть Шарымова. Дверь отворилась, и Семён увидел старую женщину, совсем седую, в накинутой на яркий халат большой белой шали. Женщина напряжённо вглядывалась в Семена, и Бугаев понял, что она чем-то очень расстроена. — Простите, а Шарымова нету дома? — мягко спросил Семен. — Я звонил несколько раз… На лице женщины отразилась мучительная нерешительность. — Я не знаю, что вам и сказать… Вы его товарищ? — Он мне нужен по срочному делу. — Очень не вовремя, — расстроенно прошептала женщина. — Он дома, но… И тут Бугаев услышал несущиеся откуда-то из глубины квартиры раздражённые, злые голоса. Мужской и женский. Поняв, что пришелец услышал эти голоса, женщина беспомощно развела руками, словно хотела сказать: «Вот видите, Шарымову сейчас не до вас!» — Я должен его увидеть, — твердо сказал Бугаев. — Покажите мне его комнату. Женщина покорно впустила его в квартиру, пробормотав: — А может, это и к лучшему. Ведь который час уже ссорятся. Она зажгла свет в коридоре и подвела Семена к обитой красной кожей двери, вздохнув, сказала: — Эта. У них две комнаты. — И пошла в глубь коридора, время от времени оглядываясь. Бугаев постучал. Сейчас из-за дверей был слышен только женский плач… Прошло несколько секунд, прежде чем из глубины комнаты раздражённо крикнули: — Нина Васильевна! Я просил оставить меня в покое! Видать, соседка пыталась вмешаться в семейные дела Шарымовых. — Откройте! — требовательно сказал Семен. — Что вам надо? — спросил мужчина, и в его голосе Бугаев уловил истерические нотки. — Капитан Бугаев из уголовного розыска. Мне нужен Евгений Николаевич Шарымов… На некоторое время за дверью наступила тишина, прекратился даже женский плач, и вдруг дикий, душераздирающий крик оборвал тишину. Бугаев на миг отпрянул от двери и, спружинившись, вышиб её плечом. Грохот распахивающейся двери не заглушил выстрела. Думая, что стреляют в него, капитан резко склонился влево, выхватив пистолет. И увидел оседающего на большой вишнёвый диван мужчину в белой, распахнутой на груди рубашке. Небольшой, незнакомой Бугаеву системы пистолет с перламутровой рукояткой валялся на ворсистом ковре. «Могут быть сюрпризы», — мелькнула в голове у Семена фраза, сказанная подполковником. …Маленькая ранка на виске почти не кровоточила, только потемнели вокруг неё вьющиеся светлые волосы. «Это от пороховых газов», — машинально отметил Бугаев и подумал, что медицинская помощь этому красивому блондину уже не понадобится. Он оглянулся, ища телефон, и тут только заметил в кресле молодую женщину с опухшим, заплаканным лицом и остановившимися глазами. Закусив кулак, она уже не плакала, а только дрожала мелкой дрожью, и время от времени из её груди вырывался протяжный стон. — Где у вас телефон? — спросил её Бугаев, но женщина не слышала его. — Телефон только у соседей. В квартире напротив, — раздался голос у Семёна за спиной. Обернувшись, он увидел соседку, которая открывала ему дверь. Лицо у неё было белое и словно сведённое судорогой. — Дайте воды, успокойте как-нибудь, — попросил её Бугаев, кивнув на жену Шарымова, а сам вышел на лестницу и позвонил в соседнюю квартиру. Вызвал «скорую», следователя и судмедэксперта из управления. Вернувшись в комнату и переборов чувство брезгливости, от которого он так и не избавился за все годы работы в угрозыске, Семен взял повисшую плетью руку Шарымова. Пульс не прощупывался. Соседка стояла рядом с Шарымовой, гладила её по плечу, что-то шептала. Пахло валерьянкой. Шарымова, сжавшись в комок и раскачиваясь, тихо, как-то по-детски пристанывала. Тёмно-каштановые волосы закрывали почти всё её лицо, но Бугаев разглядел всё же, что Шарымова красива, что у неё очень правильные черты бледного матового лица и даже потёки от туши не портят его. И ещё капитан заметил лёгкую припухлость и красноту на скуле, что-то похожее на кровоподтёк от удара, но длинные волосы мешали разглядеть точнее. «О господи, — подумал растерянно Бугаев, глядя на Шарымову. — Её не скоро в сознание приведёшь. Такое пережить…» И вдруг, совсем неожиданно для себя, ощутил какое-то чувство раздражения, даже недоверия к этой убитой горем женщине. «Если муж у тебя на глазах пускает себе пулю в лоб… Нет у меня к таким женщинам жалости. Нет!» Эта мысль, как ни странно, помогла Семёну преодолеть минутное замешательство, он вдруг вспомнил, что совершил ошибку: не зайдя во вторую комнату, сразу кинулся звонить в «Скорую». Осторожно отворив дверь, он осмотрелся. Вторая комната была спальней, очень красиво, с большой изобретательностью обставлена. Семён невольно вспомнил дачу Горина. И здесь и там было много таких вещей, которые свидетельствовали, что хозяева долгие годы ездят за границу, — красивые фарфоровые настольные лампы на резных, чёрного дерева подставках, причудливые деревянные маски на стенах, цветной хрусталь. В спальне царил беспорядок: смятая широченная постель и раскрытый чемодан на ней, клетчатый плед на полу, разбросанное женское бельё. Почти одновременно приехали «скорая» и следователь с судмедэкспертом. Заключение врачей было единодушным — смерть Шарымова наступила мгновенно. Пришёл Саша Лебедев. — Мы ждём, ждём внизу. Я и понятых привёл, и гараж Шарымова нашёл, а тебя всё нет, — говорил он вполголоса, искоса поглядывая, как врачи возятся с трупом. — Ну, думаю, что-то случилось, надо подняться, а тут «скорая» и наша машина. Спросил — куда, говорят — в шестьдесят третью. И давно? — он кивнул на Шарымова. — Считай, что у меня на глазах, — хмуро ответил Бугаев. — Только постучал… — Машину-то будем смотреть? — Для этого и приехали, — вздохнул Семен и отозвал в коридор соседку. Спросил: — Нина Васильевна, где Шарымовы хранят ключ от гаража? — Ой, да разве ж я знаю? У Верочки бы спросить, так она не в себе. Меня не узнаёт… Семён прошёл в спальню, огляделся. Пиджак Шарымова валялся рядом с чемоданом на кровати. Капитан осмотрел карманы. Вытащил ключи от машины на красивом брелоке из слоновой кости — маленький плоский будда таращил красные пронзительные глазки. Большущий хитроумный ключ от гаража он нашёл на гвозде у дверей в первую комнату. У лифта они столкнулись со следователем прокуратуры. — Наши уже там! — кивнул Бугаев на дверь. — Самоубийство. Я сейчас займусь автомобилем Шарымова. Корнилов подозревает, что именно он взломал дачу Горина. На улице Бугаев вздохнул полной грудью. Даже здесь, в этом мрачном дворе-колодце, дышалось легче, чем в квартире. Иван Иванович и шофёр Коля вылезли из машины, смотрели на капитана вопрошающе. Семён устало махнул рукой. — Что, несчастье? — спросил эксперт. — Опоздали? Бугаев только пожал плечами. Подумал: «Опоздали? А если бы приехали на час, на два раньше, что бы изменилось?» Сказал: — Тут надолго опоздали. И не мы с вами. Этот Шарымов застрелился… — Понятно, — пробормотал Коршунов. — Где твои понятые? — спросил Бугаев, обернувшись к Лебедеву. — Во втором дворе. На лавочке сидят. Около железного, изрядно помятого гаража уже толпились люди, тихо переговаривались, что-то выспрашивали у понятых — пожилого, при полном параде — в тёмном пиджаке и галстуке — мужчины, чем-то напоминавшего Бывалова из «Волги-Волги», и крашеной тусклой блондинки неопределённых лет. «И как это люди чужую беду чуют? — невесело подумал Бугаев. — Ведь никому ничего не сказали — попросили только понятых подойти к гаражу, а вот уж и толпа собралась». В гараже стояли болотного цвета «Жигули» Бугаев осмотрел ветровое стекло. Оно рябило от больших и маленьких пятнышек так обычно бывает после загородных поездок, особенно на приличной скорости. Сотни жуков и мошек находят себе смерть, разбившись о стекло. Да и вся машина была пыльной, колпаки на колёсах запачканы засохшей глиной. — Иван Иванович! — попросил Бугаев эксперта, снимавшего колёса с «Жигулей». — Вы возьмите на пробу грязь с подкрылков. — Сам знаю, — огрызнулся Коршунов. — Если ты, Сеня, такой умный, зачем меня с собой берёшь? Бугаев открыл дверцу, сел на место водителя. Несколько минут сидел молча. Осматривался. Выстрел, прогремевший в квартире Шарымовых, всё ещё отдавался у него в ушах. Семён недовольно поднёс руку к уху, словно хотел избавиться от этого звона. «Могут быть сюрпризы», — снова вспомнил он слова Корнилова. «Вот так сюрпризы, — подумал он. — Сейчас Иван Иванович снимет с „Жигулей“ колёса, поедет в управление, сделает прокатку протекторов, сравнит с теми слепками, что взяли около дачи Горина, и всё сразу станет на свои места…» Бугаев не сомневался, что именно Шарымов побывал у Гориных. А значит… Он вдруг так явственно услышал любимую фразу своего шефа: «А это пока ещё ничего не значит, это ещё доказать надобно!» — что невольно улыбнулся. Он открыл крышку ящичка, именуемого всеми автомобилистами почему-то «бардачком», и первое, что увидел, — надорванный блок сигарет «Филипп Моррис». Бугаев открыл пепельницу — в ней тоже были окурки. Он осторожно вынул несколько штук, завернул в бумагу и положил в карман. Но что же произошло между мужем и женой Шарымовыми? Обычная семейная ссора — и только? А застрелился он после того, как услышал, что пришла милиция?.. Скорее всего так. Если бы все семейные ссоры заканчивались самоубийством, народонаселение сильно поубавилось бы. Семён невольно подумал о Шарымове с уважением. Наделал дел — так хоть хватило решимости самому их закончить. Но при чём здесь жена? Чем оправдать такую жестокость — застрелиться у неё на глазах? Отправив Коршунова в управление исследовать окурки и сравнивать протекторы шин, Бугаев снова поднялся в шестьдесят третью квартиру. Труп Шарымова уже увезла «скорая». Следователь прокуратуры Кондрашов о чём-то тихо беседовал с Ниной Васильевной в первой комнате. Дверь в спальню была закрыта. Увидев Бугаева, он поднялся ему навстречу и, легонько обняв за плечи, увлёк за собой в коридор. Вид у него был озабоченный. — Шарымову допрашивать сейчас бесполезно, — вполголоса сказал он Семёну. — Да и нельзя. Врач с ней занимается. Соседка позвонила её матери. Вот-вот должна приехать. Отложим беседы на вечер. Вы останьтесь, скоро придут с работы другие соседи, а я поеду. Бугаев промолчал. Он и сам знал, что дел у него здесь хватит. — Да-а, коллега, — нахмурившись и многозначительно покачав головой, сказал Кондрашов. — Какая-то фатальная история. — Кошмар! — поддакнул ему Семён, но Кондрашов почему-то посмотрел на капитана подозрительно, замолк и, вяло пожав ему руку, ушёл. Бугаев посмотрел на часы. Без пятнадцати три. Подполковник, наверное, уже приехал. Он набрал номер. Трубку сняла Варвара. — Шеф у себя? — У себя, Сенечка. С шофёрами беседует. А я твоё указание выполнила, чаем их всех напоила… — Умница, — сказал Бугаев, — ты выполнила указание шефа. Соедини-ка меня с ним. Корнилов взял трубку сразу же. — Семён, как дела? — С сюрпризами. — Бугаев коротко доложил о самоубийстве штурмана. Несколько секунд Корнилов молчал. Потом спросил: — Что ещё? — Протекторы, похоже, его «Жигулей». Коршунов уже поехал в управление. Минут через сорок доложит вам. И сигареты «Филипп Моррис». В «бардачке» целый блок. Я по прикусу вижу — это он в Рощине курил. — Так. С женой говорил? С Верой Сергеевной? — У неё истерика. — Что же, истерика у неё целый день, что ли? — сердито спросил подполковник. — Врач у неё, не могут в себя никак привести. Даже Кондрашов потолкался тут и уехал. — Потолкался! Он что тебе… — Корнилов, видно, хотел что-то добавить хлёсткое, но сдержался. — Вы не приедете? — спросил Семён. — Нет. Мы с товарищами водителями толкуем. Ты уж сам доводи дело до конца. — Голос у подполковника помягчел. — Только выясни ещё такие детали: где была Шарымова в день аварии и какой у неё зонтик? Да, и поищи в квартире письма… — Какие письма? — Любовные письма, Сеня. Её письма к мужчине, письма ей от мужчины. Понял? Я сейчас попрошу в прокуратуре санкцию на арест корреспонденции. Бугаева немного обескуражил разговор с шефом. Капитану казалось, что они наконец вышли на виновника гибели Горина. Он не верил, что действовали разные люди: один бросил камень в машину старпома, а другой после этого взломал его дачу и перевернул всё вверх дном. И когда к нему на квартиру пожаловал уголовный розыск — пустил себе пулю в лоб. «Конечно, имей мы дело с обычными уголовниками, всего можно было бы ждать, — думал он. — Но тут-то совсем другое дело… Нет, нет, версия с Шарымовым похожа на правду! А подполковник опять с шофёрами толкует». Бугаев в раздумье прошёлся по широкому, захламлённому старой мебелью коридору, заглянул в неуютную грязноватую кухню. Там было пусто. «Ну что же, поговорим о зонтиках», — решил он и постучал в комнату Горюновой. Нина Васильевна сидела за круглым столом, накрытым пёстрой клеенкой, и ела с большой сковородки жареную картошку с луком. Рядом на тарелочке лежало несколько солёных огурцов и стояла начатая чекушка водки. Женщина не ожидала увидеть постороннего и смутилась. Краска залила её лицо, она растерянно поднялась, бормоча извинения, подставила ещё один стул. — Вы меня извините, Нина Васильевна. — Бугаев и сам почувствовал себя неловко. — Я чуть попозже загляну. — Что вы, что вы. У вас дела, я понимаю. Вы не обращайте внимания… — сказала Горюнова. — Такое несчастье. Перехватив взгляд Бугаева, Нина Васильевна опять покраснела и, потупившись, разглядывая свои красные, с чуть припухшими суставами руки, прошептала тихо: — Такое несчастье. Пригубила вот за помин души. Она сморщилась, слёзы потекли по щекам. Нина Васильевна отвернулась, вытерла глаза кончиком белой шали. Потом убрала со стола в буфет огурцы и чекушку, унесла на кухню сковородку. Бугаев оглядел комнату. Жила Горюнова небогато. Старинные буфет и шкаф, когда-то, наверное, соседствовали в одном гарнитуре. Красного дерева, с красивыми бронзовыми накладами, на которых были изображены орнаменты из полевых цветов, они выглядели чуть-чуть чопорно. Старым был и круглый стол. Только зелёная кушетка, дитя массового производства, казалась в этой комнате вещью случайной и недолговечной. Обои на стенах были самые простенькие и давно выцветшие. Над кушеткой висел портрет морского офицера и под ним потускневший от времени кортик. Моряк был молодым и улыбчивым. «Сын или муж? — подумал Бугаев. — Судя по старому кортику — муж…» Он так и не решил для себя этот вопрос — с кухни пришла хозяйка и, молча сев за стол, внимательно посмотрела на Семена. Она успела чуть-чуть подкрасить губы и припудриться, и только красные пятна, проступавшие на щеках сквозь пудру, выдавали её состояние. — Нина Васильевна, я хотел бы задать вам несколько вопросов… — сказал Бугаев. Она согласно кивнула головой. — У Шарымовой есть складной японский зонтик? — Зонтик? — Нина Васильевна, наверное, никак не ожидала услышать такой вопрос. На лице у неё отразилось удивление. — Японский зонтик? — повторила она. — А как же. Есть. Женя ей привозил. Да вот в прошлом году осенью он привёз два одинаковых. Вера Сергеевна один продала мне. — Горюнова встала, открыла шкаф и достала оттуда яркий — розовый, в красный цветочек — зонтик. — Вы не могли бы его раскрыть? — попросил Семен. Нина Васильевна послушно раскрыла зонт. Это был точно такой же зонт, какой нашли на месте катастрофы. «Интересно, — подумал Бугаев. — Значит, шеф об этом догадывался. Зря он ни о чём говорить не будет…» И сказал: — Спасибо, спасибо. — Женя много красивых вещей привозил, — рассказывала Горюнова, убирая зонт в шкаф. — Вера Сергеевна иногда предлагала мне купить, да только не для моего достатка эти вещи. А за зонтик она с меня только пятнадцать рублей взяла. Так я думаю, что Женя велел. Они же, зонтики, дорогие. А Женя иногда и дарил мне что-нибудь. Банку кофе, платочек… — Вы на лето никуда не выезжаете? — Нет, всё время в городе. Я хоть и на пенсии, а каждое лето подрабатываю. Кассиром в гастрономе. — Вечером третьего июля вы дома были? — Нет, до десяти работала. — А когда пришли? — Около одиннадцати. Выручку сдала и пришла. Гастроном же рядом. — Вера Сергеевна была дома? — Нет. Женя ко мне заглядывал, тоже про неё спрашивал. Он к своим родственникам в Новгород ездил. Примчался, а жены нету. — Когда Шарымов к вам заглядывал? — Я только вошла в комнату — и он стучит. — А поточнее вы не могли бы вспомнить время? Нина Васильевна задумалась, на лбу у неё легли резкие складки. — Нет, точнее не могу… Около одиннадцати. — Но не после одиннадцати? — Нет, нет. — Что же делал Шарымов потом? — Ушёл. Он уже тогда не в себе был. Весь какой-то нервный, вздрюченный. Входной дверью так хлопнул. — И когда вернулся? — Сегодня утром. — Сегодня? Горюнова кивнула: — Два дня пропадал, а как вернулся, так и началось у них… — А когда вернулась Вера Сергеевна? Нина Васильевна пожала плечами. — В тот вечер я чаю попила и сразу спать легла. За день так устаёшь — только бы до постели добраться. — И ничего не слышали? Хозяйка мотнула головой. — Из-за чего же они поссорились? — задумчиво сказал Бугаев, решившись наконец задать этот вопрос впрямую. — Кто знает?! Чужая душа — потёмки. Недружно они жили. Недружно. Особенно последний год. А ведь Женя такой мягкий, такой ласковый мужик-то был. — Горюнова тяжело вздохнула.9
Проходя через приёмную в свой кабинет, здороваясь с ожидавшими его шофёрами и автоинспектором Коноплевым, Корнилов сразу почувствовал, что они недовольны очередным вызовом в управление. Только автоинспектор, наверное, спокойно дремал в ожидании начальства — вид у него был заспанный. — Что, ворчат мужчины? — спросил Игорь Васильевич у Вари, устремившейся вслед за ним в кабинет. — Ворчат. Я уж и чаем их поила, и разговорами занимала. — Зови, зови их, Варвара. Буду извиняться. — Он прочитал на листке, положенном на стол секретарём, фамилии звонивших в его отсутствие людей. Похоже, что ничего срочного. Приглашённые вошли, неторопливо расселись, с любопытством оглядывая кабинет. — Ну что, товарищи, затягали мы вас? — улыбнувшись, спросил Корнилов. — Никак в покое не оставим? — Вот-вот, товарищ начальник! — ворчливым басом отозвался загорелый здоровяк с огромными волосатыми ручищами, видневшимися из закатанных по локоть рукавов шерстяной рубашки. — Сколько раз давал себе зарок — подальше от происшествий, так нет… Это был зеленогорский шофёр с хлебного фургона Владимир Орлюков. — Нам ведь эти вызовы — один убыток, — вставил пожилой чернявый шофёр с самосвала Павлищин. — По среднему-то не заплатят. А мы уж четвёртый заход делаем. То в ГАИ, то в прокуратуру. «Ну, ты-то своего не упустишь», — подумал подполковник: в тот поздний вечер Павлищин на своём самосвале халтурил — возил дрова какому-то дачнику в Репино. — И правда, товарищ Корнилов! — подал голос седой пижонистый мужчина, владелец «Жигулей», композитор Макаров. — Который раз мы пересказываем одно и то же. Человек погиб, ему теперь не поможешь… — Макаров пожал плечами, достал из коричневой кожанки пачку сигарет «Филипп Моррис», но не закурил, видно, постеснялся. «Ну вот, и этот „Филипп Моррис“ курит, — про себя усмехнулся Игорь Васильевич. — Нельзя думать, что у дачи Горина обязательно кто-то из команды курил. Интересно, где композитор их достаёт? Спросить неудобно, ещё подумает чёрт-те что!» — Вы курите, товарищ Макаров, — сказал он и сам достал пачку «Столичных». Композитор закурил. Достал «беломорину» и Павлищин. — Вы бы нам объяснили, чего от нас ждёте, — пуская колечко дыма, сказал Макаров. — Может быть, вас интересуют какие-то определённые детали? Проще было бы вспомнить. Все водители внимательно слушали, что говорил композитор. Орлюков после каждого его слова согласно кивал головой. Корнилов улыбнулся. — Мы хотим от вас только одного: чтобы вы подробнее вспомнили всё, что произошло в тот вечер на сорок девятом километре. Постарайтесь вспомнить последовательно, не забывая ни одного своего действия, ни одной мелочи. Кто где стоял, как пытались достать водителя, как гасили пламя… Для нас всё важно. И прошу вас: не думайте, что мы сомневаемся в том, что говорилось раньше. Нам хочется знать побольше деталей… «А скажи вам о том, чего мы хотим узнать, — вы живо нафантазируете». — Он раздал всем бумагу, усадил за большой стол. — Э-хе-хе! — проворчал Павлищин. — Плакали наши денежки. — Наверное, вы преувеличиваете убытки! — усмехнулся Макаров, сидевший рядом. — Вам бы по тарифу платили, вы бы не улыбались. Небось зарплата регулярно идёт! Макаров насупился и ничего не ответил. — Потерпите, товарищи, — примирительно сказал Корнилов. — Дело серьёзное. От того, насколько точно вы всё вспомните, возможно, зависит судьба человека… — Что ж эта «Волга», из ремонта только вышла? — тихо спросил до сих пор молчавший Ламанский, директор большого мебельного магазина, владелец «Волги». — Ведь теперь на станцию обслуживания грешить начнут. Может, что с тормозами? Довольно крупный мужчина, Ламанский как-то совсем потерялся в кабинете Корнилова среди других водителей. Сидел в уголке и занимал так мало места, что подполковнику показалось, что директор уменьшился в размерах. — Экспертиза дала заключение, что машина технически была исправна, — ответил Корнилов. Он нажал кнопку селектора и спросил у секретаря: — Варя, Бугаев не звонил? — Нет ещё, Игорь Васильевич. — Кто с ним из экспертов? — Коршунов. — Если позвонит, сразу соединяй. Он только успел выключить селектор, как Варвара сказала: — Бугаев звонит. — Семён, как дела? — спросил Игорь Васильевич, спросил чуть более торопливо, чем ему хотелось в присутствии посторонних. Водители посерьёзнели. Кто уже писал, исподволь прислушиваясь к разговору, кто сидел хмуро над листком бумаги, ещё раз переживая события того вечера. Закончив разговор, Корнилов долго сидел молча, легонько постукивая пальцами по столу и пытаясь сосредоточиться. Известия, полученные от Бугаева, были полной неожиданностью. Совсем не о таком сюрпризе предупреждал он Семёна… «Теперь многое зависит от того, что скажет жена Шарымова, — думал подполковник. В том, что у дачи старпома стояла его машина, Корнилов не сомневался. — А вот гибель Горина… Вспомнят ли свидетели ещё что-то новое?» …Прочитав последние показания, Игорь Васильевич понял, что вызов шофёров ничего не дал. Кое-кто из них вспомнил новые детали, но никакого намёка на то, откуда взялся в салоне автомашины камень, не было. Оставались только две версии: или этот камень был зачем-то нужен старпому и он подобрал его по дороге, или… Или кто-то, скорее всего Шарымов, швырнул его Горину в ветровое стекло. И все-таки, прежде чем отпустить свидетелей, Корнилов опросил их, не было ли на месте происшествия ещё людей, которых почему-либо не пригласили в свидетели. Водители, пожимая плечами, оглядывали друг друга, словно увиделись впервые. — Да нет, кажется, больше никого не было, — не совсем уверенно сказал Макаров. Он встал, прошёлся по кабинету. — Вот здесь лежала машина… — Макаров показал рукой в угол. — Товарищ Орлюков сыпал песок… — А по-моему, был ещё один! — воскликнул Павлищин. — Был! Тоже, как и вы, жигулёвец! — Нет, больше никого не было, — возразил инспектор. — Я же всех записал… — Не все дураки вроде нас, — махнул рукой Павлищин. — Этот, видать, вовремя смылся. Я припоминаю, мельтешил там. Гоношистый. Корнилов молчал, с интересом поглядывая то на одного, то на другого. — Нет, «Жигули» только одни были. Мои, — не согласился Макаров. — Как же, как же! Вы просто рассеянный, — упорствовал Павлищин. — Вот скажите, на вашей машине что на заднем стекле? — Ничего, — пожал плечами композитор. — А у того — красная ладонь! Знаете, стиляги себе привешивают, — обратился он к Корнилову. — Едет, а ладонь болтается! Я бы им!.. — Павлищин сжал кулак. — Только раздражают. — А номер вы не запомнили? — спросил Игорь Васильевич. — Нет. Номер не запомнил, — развел руками шофёр. — Но был он, жигулёвец, был, товарищ начальник. Позвонил Коршунов. Проведённая им трассологическая экспертиза подтвердила, что отпечатки протекторов, оставленные неизвестным автомобилем возле дачи старпома Горина, совпадают с протекторами «Жигулей» Шарымова. — Вы довольны, товарищ подполковник? — спросил Коршунов. — Ваш Бугаев, по-моему, поставит мне бутылку коньяка — очень уж хотелось ему таких результатов. — Я был бы доволен… — Игорь Васильевич хотел сказать: «Если бы мог предъявить эти результаты Шарымову», но при шофёрах не стал. Сказал только: — Спасибо, Ваня. Будущее покажет. Ещё раз позвонил Бугаев: — Зонтик, похоже, Шарымовой. Тут одна соседка, думаю, опознает. А сама дамочка молчит. Сейчас у неё доктор, укольчики делает, никого не подпускает. Следователь поручил мне дождаться, поговорить с ней… По тому, как Бугаев назвал Шарымову «дамочкой», Игорь Васильевич догадался, что он узнал о ней нечто не слишком лестное. — Сиди там до победного, — сказал он Семёну. Больше никто из свидетелей не подтвердил показаний Павлищина, но Корнилов почувствовал, что Павлищин не только хваткий мужичок, но и внимательный. Эти два качества чаще всего соседствуют. «Чем чёрт не шутит, — решил Игорь Васильевич. — Если поискать неизвестного „жигулиста“, может, и повезёт. Шарымов не Шарымов тут виноват, а полная ясность никогда никому не вредила». Распрощавшись с шофёрами, Корнилов заглянул к следователю Гурову, специалисту по автодорожным происшествиям. Накануне подполковник попросил провести повторную экспертизу и с нетерпением ожидал ответа на поставленные перед экспертами вопросы. Гуров был у себя, сидел, согнувшись над столом, и вычерчивал какой-то план. Окно кабинета выходило во двор, и даже днём на столе у майора горела лампа. Второй стол в комнате пустовал уже несколько месяцев — его хозяин, молодой следователь Богов, разбился, поставив свою машину под удар грузовику с пьяным шофёром. Все знали, что Богов уже не вернётся на службу, но место его пока не занимали… Увидев Корнилова, Гуров отложил в сторону чертёж, погасил лампу. — Картинки рисуете? — усмехнулся подполковник, усаживаясь в старенькое, скрипучее кресло. — Рисуем, товарищ подполковник, — весело отозвался Гуров и, неожиданно нахмурившись, сказал: — А вообще-то писанина заела. У меня вон на пальце мозоль. — Он показал Корнилову запачканную чернилами руку. — Жена смеётся: «Ты у меня, отец, наверное, не в милиции, а в поликлинике работаешь». Она участковый врач — две трети времени на истории болезней уходит! — Печатайте на машинке, — сказал Корнилов. — Начальник ХОЗУ Набережных нам в каждую комнату по машинке купил. Ребята все печатают. Заметив, что Гуров смотрит на него недоверчиво, Игорь Васильевич улыбнулся: — Не сомневайтесь, Никита Андреевич, загляните к Белянчикову, когда он из отпуска вернётся… — Может быть, может быть, — всё ещё недоверчиво покачал головой майор и спросил: — А вы уже за ответом? Корнилов молча развёл руками. Гуров достал из стола тоненькую папку, раскрыл её и передал Корнилову. Лицо у майора стало скучным. «Проведёнными по делу автотехническими исследованиями установлено. — Корнилов бегло просмотрел описательную часть экспертизы. — 3 июля 1977 года около 23 часов гражданин Горин Юрий Максимович, управляя технически исправным автомобилем ГАЗ-24 номер 36–39 ЛЕК, следовал по Приморскому шоссе, по влажной проезжей части…» — Игорь Васильевич перелистал бумаги, отыскивая то, что интересовало его в первую очередь. Гуров вздохнул, заметив это. — Ничем новым порадовать не могу. «…Комплексной экспертизе, в которой участвовали автотехник, трассолог и судебный медик, был поставлен вопрос: могли ли возникнуть технические повреждения, обнаруженные на левой передней стойки и на теле потерпевшего от удара камнем, брошенным не установленным следствием человеком в ветровое стекло автомашины… — Корнилов почувствовал, что волнуется, читая эту сухую, написанную забубенно-протокольным языком бумагу. — …Повреждения, обнаруженные на левой передней стойке, не совпадают с характерными царапинами на камне. Вместе с тем на камне обнаружены микрочастицы стекла, применяемого на автомашинах ГАЗ-24, и царапины, которые могли быть получены в результате удара о стекло…» Заметив, что подполковник поморщился, Гуров сказал: — Если бы ему в ветровое стекло залепили — тормознул бы резко, а тормозного следа нет… Дождь, дождь всё спутал! Бывает, что после сильного дождя тормозного следа и не видно! И про осколки ветрового стекла категорично ничего нельзя сказать! Они на асфальте найдены, но за день до этого там новая «Волга» и «Москвич» столкнулись. На этом же самом месте. Корнилов сказал недовольно: — Ну вот, уже появились оговорки. А раньше не было. — Вы же сами сказали, что случай особый. Эксперты учли все возможности. — Я думал, что у экспертизы каждый случай особый… Гуров не ответил. Несколько минут они сидели молча. Подполковник снова и снова перечитывал акт экспертизы. — На трупе есть повреждения, характерные для автотравмы, — сказал Гуров. — Но эксперт не исключает возможности повреждения от удара камнем. Камень мог и не попасть в него. Хорошенькое дело — человек мчит на большой скорости, и вдруг булыжник влетает в стекло. Мгновенная растерянность, рывок… — Значит, полной уверенности, что это несчастный случай, у вас нет? — помолчав, в упор спросил Корнилов. — Полной уверенности нет, — развёл руками Гуров. — Могли и камень бросить. А может быть, перед машиной внезапно выскочил на дорогу человек… Тоже нельзя исключить. — Да ведь Горин нажал бы на тормоз, а вы говорите, тормозного следа нет! — Нет. В дождь такое случается… Вы чтоже, не доверяете нашей экспертизе? — Доверяю, — устало вздохнув, сказал Корнилов. — Но вы сами-то прикиньте, сколько совпадений! Старпом пишет в прокуратуру и пароходство. Обвинения, я вам скажу, куда какие серьёзные! А тут катастрофа. Жена его приходит ко мне, говорит, что взломана дача, всё перевернуто вверх дном. А мы устанавливаем, что сделано это в ту ночь, когда Горин разбился. Мы ищем человека, побывавшего на даче, — подозрение падает на штурмана Шарымова. Приезжаем к нему домой, а он прямо под дверью пускает себе пулю в лоб… — Наверное, крупно поссорившись с женой? — спросил Никита Андреевич. — Да бросьте вы! — рассердился подполковник. — Если все стреляться после ссор будут… — Ссоры разные бывают. — Ни-ки-та Андреевич! — Да это я так! — махнул рукой следователь и улыбнулся. — Как говорится, из окаянства. Уж если она перед мужем в чём-то серьёзном провинилась, так он не себя, а её застрелил бы. Корнилов промолчал, но подумал: «Причина-то серьёзная — дальше некуда. Жена шлюха. Да всё равно трудно предположить, что Шарымов только из-за этого застрелился. В такой узел всё завязалось!» — А что же Шарымова говорит? — спросил Никита Андреевич. — Её допросили? — Молчит. У неё шоковое состояние. Врач к ней пока никого не пускает. Опасается за последствия. Такое потрясение. — Знаете, Игорь Васильевич, на Востоке самая страшная месть — прийти к дому обидчика и на крыльце вспороть себе живот. Наверное, эта дамочка прилично насолила штурману. — Прилично. Судя по рассказу капитана Бильбасова, Шарымов на днях узнал, что она любовница Горина. — Вот это да! Чего же вы молчали? — Никита Андреевич вскочил со стула, взволнованно прошёлся по кабинету. — Но ведь мы с вами не на Востоке живём. А не сказал я, потому что хотел ещё раз выслушать ваше непредвзятое мнение, — пробурчал подполковник. — А то ещё начнёте строить свои теории. А теорий у нас хватает… — Ну и ну! — Гуров все не мог успокоиться и расхаживал по кабинету, на мгновение останавливался возле Корнилова и снова продолжал шагать как маятник. Наконец он сел и, в упор уставившись на подполковника, спросил: — Так вы думаете, что Шарымов… — Никита Андреевич, то, что мы с вами думаем, годится лишь псу под хвост! Важно, что мы знаем. А знаем мы мало… — Не так уж и мало, Игорь Васильевич. — Гуров вдруг осёкся, какая-то мысль остановила его. Он с минуту молчал, будто прислушивался к чему-то, и наконец сказал: — Я вам говорил о том, что причиной несчастья мог быть внезапно выскочивший перед «Волгой» человек. Но нельзя исключить и машину, идущую в лоб или на повороте прижавшую к краю «Волгу» потерпевшего. Резкий поворот руля… — Вот видите, могло быть одно, могло быть второе… А откуда всё-таки камень в салоне? — Корнилов почувствовал, что раздражается, и сказал как можно спокойнее: — Вы, товарищ майор, одно поймите — пока, мы с вами не узнаем, как он в машине оказался, нам спать спокойно нельзя. Я вовсе не сторонник версии об убийстве, но уж если исключать её, то с полным основанием. На сто процентов, хоть вы и боитесь такой категоричности. А пока… — Он недоговорил и тяжело поднялся с кресла.10
Семён позвонил Корнилову только вечером, домой. — Успехов ноль, товарищ подполковник. — Голос у него был усталый. — Беседа прошла в обстановке корректности и лицемерия. Никакого стремления к сотрудничеству. — А поконкретнее нельзя? — Нельзя, Игорь Васильевич. Из автомата звоню, а на очереди суровая женщина. — Твои на даче? — спросил Корнилов. — Приезжай ко мне, накормим куриными котлетами. Через пятнадцать минут повеселевший Бугаев уже сидел за столом в квартире Корниловых. — Я так понимаю приглашение вашего сурового супруга, Ольга Ивановна, — говорил он жене подполковника, накрывавшей на стол, — отныне в Ленинградском уголовном розыске наступила новая эра. Для особо отличившихся сотрудников начальство устраивает персональные приёмы. Корнилов только головой покачал. Он хотел сначала услышать доклад о деле, но жена воспротивилась: — Человек весь день без корки хлеба. А тебе только бы о своих мазуриках поговорить. — Если бы о мазуриках, — вздохнул Корнилов. — Так что же всё-таки Шарымова? — не утерпел он, когда Бугаев расправился с тарелкой борща. — А-а! — помрачнев, махнул рукой Семён. — Сфинкс, а не женщина. Но красива, я вам скажу, Ольга Ивановна. Карие глаза в меня вперила, словно в гляделки играть собралась… — Сеня, вы же сами оказались свидетелем её трагедии, — укорила Бугаева Оля. Она уже знала от Корнилова о происшествии. — У хорошей жены муж стреляться не будет. В тот вечер Шарымова куда-то исчезла, и, судя по рассказу соседки, муж, не застав её дома, уехал на поиски. Спросите: куда? Он знал куда! Небось Иван Иванович подтвердил, что около дачи Горина следы от его машины обнаружили? И «пальчики», обнаруженные в доме, его?! Корнилов кивнул. — А почему зонтик Веры Сергеевны у старпома в машине оказался? — Погоди, погоди, — остановил Бугаева Игорь Васильевич. — Надо ещё опознание провести. — Не сомневайтесь в результате, — горячо сказал Семён. — Интересно, почему только один зонтик там был? Куда она сама делась? Уж лучше бы… — Семён, поменьше эмоций! — сказал Корнилов. — Намёк понял, товарищ подполковник. Только когда я Веру Сергеевну про зонтик спросил, она заявила, что все её зонтики дома. И показала мне штуки три… Барахольщица! — Вот с какими сотрудниками мне приходится работать, — мрачно сказал Корнилов. — У них эмоции забивают всё остальное. Оля засмеялась: — А Юра Белянчиков? Уж такой рационалист! — Это я в домашней обстановке расслабился, — улыбнулся Бугаев. — Но если уж говорить без эмоций, так Вера Сергеевна на вопрос о том, из-за чего произошла у них с мужем ссора, отвечать не стала. «Это касалось только нас двоих», — она твердила эту фразу в течение всей беседы. А вечером третьего июля у неё разболелась голова, и до двенадцати ночи она гуляла по городу. Одна. — Откуда у мужа пистолет? Ты не спросил? — поинтересовался Корнилов. — О пистолете она ничего не знала. Впервые увидела. А марка — браунинг. Заглядение, а не машинка, — сказал Бугаев и поёжился. Больше они этой, темы не касались. Корнилов рассказал о том, как вчера побывал у Васи Алабина. — Что-то я замечаю, Варвара над ним усиленное шефство взяла? Уж не к свадьбе ли дело? — У них уже год как дело к свадьбе катится, — усмехнулся Бугаев. — Да вот ранение… А вы будто не знаете? — Ну почему же не знаю? — слукавил Игорь Васильевич. Ему не хотелось признаваться, что он раньше ничего не замечал. — Знаю, но не думал, что так всерьёз. Бугаев посмотрел на него с недоверием. Вошла в комнату мать. Увидев Бугаева, разулыбалась. Всех сослуживцев сына она хорошо знала. — Как живёте, Сенечка? Здоровы? — А что нам сделается? — Семён поднялся, поздоровался за руку. — Семейство на даче. Я один процветаю. Борщ, правда, некому приготовить. Так вот начальство позаботилось. Старушка посидела минут пять в кресле, пожаловалась на погоду, пожелала всем спокойной ночи и ушла к себе. — Ну что, товарищ доктор, — сказал Игорь Васильевич жене. — Может быть, ты нам и по сигаретке разрешишь выкурить? Она махнула рукой, включила телевизор. Корнилов с Семёном сели друг против друга в кресла, закурили. — А вы почему меня к Шарымову послали? — поинтересовался Бугаев. — И про зонтик просили выяснить… Капитан? Корнилов кивнул. — Они друзья. Шарымову только что кто-то рассказал про его жену и Горина. А капитан с рыбалки никуда не отлучался. Это сразу сняло подозрение, хоть и у него «Жигули», и курит он «Филипп Моррис». Я сопоставил всё, решил Шарымова проверить. — Да… — сокрушённо покачал головой Бугаев. — Проверочка получилась, я вам скажу… Не проверка, а разведка боем. — Давай теперь в подробностях, Семён. С самого начала. Бугаев стал рассказывать, стараясь не упустить ни одной мелочи. Корнилов, как обычно, требовал все детали: как вела себя соседка, открывшая дверь, где были остальные жильцы, во что был одет Шарымов, не нашёл ли Бугаев каких-нибудь писем? — Каких всё-таки писем? — Ну мало ли… — пожал плечами подполковник. — Я думаю, Шарымов но зря на даче у старпома всё перерыл. Может быть, нашёл что-то, письмо жены, например… — Вы думаете, он после того, как Горина ухлопал, стал письма искать? — удивился Семён. — Оправдательные документы? — Кто тебе сказал, что он старпома ухлопал?! Дачу взломал — это мы знаем. И застрелился. А Горин?.. — Корнилов стукнул себя кулаком по колену. — Да и некому, выходит, было убивать старпома, — Игорь Васильевич развёл руками. — Мы же всех проверили. Капитан рыбачил, никуда не отлучался, стармех в больнице, директор ресторана сидел дома у телевизора, пассажирский помощник и один из штурманов были в ресторане… — С собственными жёнами, заметьте, — вставил Бугаев. — Но остаётся ещё один — штурман Шарымов. Где он был в одиннадцать вечера — никому не известно. — Сенечка, — задумчиво сказал Игорь Васильевич, — ты самый непоследовательный человек в уголовном розыске. Не могу отрицать, что иногда у тебя проскальзывают умные мысли. Но ты не можешь делать из них правильные выводы. — Игорь Васильевич, почему так сурово? И несправедливо. — Ты только что удивился, зачем понадобилось Шарымову, устроив катастрофу старпому, ехать к нему на дачу и взламывать её? Ну действительно, зачем? Искать письма жены? Подтверждения её измены? Если уж он решился убить Горина, так считал, что оснований у него на это достаточно… — Логично, — согласился Бугаев. — Но всё равно: ехать взламывать дачу из-за писем?! Да почему они обязательно должны быть, эти письма? Можно и без них прекрасно обходиться. — Ты прав. Я думаю, что Шарымов предполагал застать свою жену с Гориным. И убить старпома. Иначе браунинг зачем? Не дождался их — взломал стол. Может быть, нашёл письма… Дома объяснения, скандал! А тут уголовный розыск явился. — Что ж, выходит, приди я в другое время — несчастья бы и не случилось? — с беспокойством спросил Бугаев. Корнилов не ответил. — Игорь Васильевич! — настаивал Семён. — Вы и правда так считаете? — А кто, Семён, знает, что бы произошло? Раньше пришёл, позже… Гадать на кофейной гуще не входит в наши обязанности. Опоздай ты — может, Шарымов и жену бы застрелил… — Да уж лучше бы! — буркнул Бугаев. Он был явно расстроен словами шефа. Корнилов заметил его состояние. — Милый Семён, выброси всё это из головы. Ты тут ни при чём. Слишком много навалилось на этого молодого штурмана — измена жены, предательство Горина, взлом дачи… — Корнилов сказал так, а сам подумал: «И я бы мучился. Знал, что не виноват, но мучился». — Когда с живыми людьми дело имеешь, никогда не знаешь, как всё обернётся, — сказал он Бугаеву. — Поступки наши иной раз никакой логике не поддаются. А с Шарымовым, по-моему, всё ясно. Его намерение расправиться со старпомом — лучшее алиби. Если бы он Горину в машину камень запустил, тогда не торчал бы всю ночь на его даче…11
Шёл четвёртый день с того момента, как Корнилову поручили проверить обстоятельства смерти старпома Горина. Утром Игорю Васильевичу позвонил Кондрашов. — Самоубийство Шарымова всё осложнило, — посетовал он. — Я тебе сразу сказал: неприятная история. А жена штурмана — вот уж крепкий орешек! Я её только что допросил — ни слова о причинах скандала, об отношениях с Гориным. — Помолчав, поинтересовался: — Вы когда закончите? — Сегодня, Во второй половине дня готов встретиться. Моё начальство тоже любопытствует. Доложусь, а потом к тебе. Идёт? Вот уж навели панику с этим Гориным. А капитан, между прочим, на меня хорошее впечатление произвёл. — Знаешь, — как-то виновато сказал Кондрашов, — дело приобрело слишком большой общественный резонанс. Старпом, оказывается, и в министерство письмо отправил. — Он вздохнул и посвистел тихонько, как свистел всегда, раздумывая о чём-нибудь неприятном. Потом сказал: — Я к вам в управление сегодня загляну. Часам к четырём. Тогда обо всём и расскажешь… Приготовься. За вами глаз да глаз нужен. И, кроме старпома, дел хватает по вашему ведомству! — Ладно, разберёмся, — усмехнулся Корнилов. — Приедешь, поговорим. Заходи прямо к Михаилу Ивановичу, я вам обоим и доложу. Закончив разговор с Кондрашовым, подполковник позвонил в радиокомитет. Поинтересовался, не отозвался ли кто в ответ на прочитанное по радио объявление. Его передавали трижды: в семь, в восемь и в половине девятого. Корнилов решил, что если интересующий его автомобилист не услышит обращения утром, перед уходом на работу, то обязательно — слушая последние известия в машине, когда будет ехать на службу. Если только он вообще слушает последние известия! Никаких звонков в радиокомитет пока не было. Оставался выпуск теленовостей в восемнадцать часов, когда обращение должны были повторить. Корнилов раскрыл папку с почтой. Среди сводок и писем ему бросился в глаза аккуратно запечатанный пакет, на котором красивым размашистым почерком были написаны адрес управления, его, Корнилова, фамилия и маленькое слово «лично». «Интересно, что за женщина пишет мне? — подумал подполковник, разглядывая конверт. — У неё ровный, спокойный характер, сильная воля сочетается с мягкостью… — Игорь Васильевич по привычке потеребил мочку уха и покачал головой. — Что-то слишком разноречивые признаки». …Это была его любимая игра — составить по почерку представление о человеке. Ещё в университете, изучая основы почерковедческой экспертизы, он перечитал десятки книг знаменитых и доморощенных графологов (так они тогда именовались) прошлого и пришёл к выводу, что под всей наносной этой шелухой есть рациональное зерно. Современное почерковедение основывается только на одной аксиоме: почерк каждого человека неповторим. Но если неповторим, индивидуален, то эта индивидуальность должна отражать черты характера человека! Со временем Корнилов отказался от мысли всерьёз заняться почерковедением — работа в уголовном розыске оставляла мало свободного времени. Но он постоянно развивал в себе способность видеть за плавными или скачущими буквами характер человека. В управлении никто не знал об этой маленькой причуде подполковника, и только дома, в присутствии жены или матери, Игорь Васильевич позволял себе, как он говорил, «поколдовать»… Корнилов разрезал пакет и достал из него почтовый конверт и маленькую записочку, написанную тем же красивым размашистым почерком, что и адрес на пакете. «Уважаемый товарищ Корнилов. Перед отъездом в Нальчик я вспомнила наш разговор о покойном муже, о его отношениях с товарищами. Может быть, письмо, которое я посылаю, поможет Вам правильнее оценить конфликт Юрия Максимовича с капитаном. Мне показалось, что Вы человек, которому можно довериться. Почитайте письмо, возвращать его не надо. Только, ради бога, не надо оставлять ни в каких архивах. Лучше сожгите. Наталья Горина». — Любопытно, — пробормотал Корнилов, откладывая записку. — Зря она письмо не прислала бы. — Он осторожно раскрыл красивый продолговатый конверт, достал сложенный вчетверо лист бумаги. — Что она имеет в виду, когда пишет о доверии? Надеется, что я не использую письмо во вред покойному? Или рассчитывает с помощью письма поддержать обвинения, брошенные старпомом капитану? Маловероятно. В прошлый раз она говорила о Бильбасове с сочувствием. Вот женская логика! Игорь Васильевич развернул письмо. «Здравствуй, мать! Посылаю тебе письмо с оказией. В Марселе на борту был наш консул. Через день летит в Москву. Спасибо за радиограмму. Тридцать пять хоть и не круглая дата, но для меня рубеж — полжизни прошло! Дожить бы до семидесяти, посмотреть, что там будет, в третьем тысячелетии. День рождения отмечали в Мессинском проливе, между Сциллой и Харибдой. Всё было бы хорошо, если бы не выкинул номер кэп. Сказал свой заздравный тост, ты знаешь, он любитель поговорить, и, сославшись на головную боль, смотался. Такого ещё не бывало. Я сидел как оплёванный. Да и тост был вялый. Давно уже я заметил, что мастер переменился ко мне. Всё ломал голову — почему? А сегодня всё разъяснилось. Он сам разговор затеял. Сказал, что в пароходстве намечают меня на „Шипку“ капитаном. Это я и без него знаю. В кадрах говорили. Так вот он, Бильбасов, считает, что я не дорос до капитана и не подпишет мне характеристику. Аргументы? Меня до сих пор колотит от злости. Одна демагогия. Но это ещё не вечер! Решат и без него. В пароходстве есть товарищи, которые знают нелюбовь мастера к людям принципиальным. Что же это? Обида? Да ведь я никогда не давал ему повода для такой обиды. Ничего не делал без совета и одобрения. Но он, наверное, чувствовал, что во многом я его перерос. Только дело не в этом. Обычная примитивная ревность — вот где собака зарыта. Когда он достиг капитанства? В сорок два! А мне только тридцать пять. Тут и кончается вся его широта, помноженная на доброту и передовые взгляды. Ему тоже дорога карьера, а начальником пароходства он отказался стать, потому что понял — не потянуть. Разве я не прав, мать? Ты знаешь, сколько сил положено, чтобы не утонуть в толпе, не остаться заурядностью, знаешь, что даже после мореходки долбил я по ночам науки. У меня выбора нет — если я сейчас не постою за себя, ярлык карьериста, приклеенный Бильбасовым, останется на всю жизнь. Капитан слишком легко идёт по жизни, он думает, что мы все служим ему, Бильбасову, а не делу. Кого хочет, он милует и двигает, кто не по нраву — берегись! В Неаполе дед Глуховской на час опоздал к отходу. Докладывает, что вступился на улице за нашу туристку с „Казахстана“, который ошвартовался рядом. У неё, дескать, пьяные парни хотели сумочку отобрать. Пьяные парни! Да у него у самого рожа пьяная и два синяка. Подрался, скотина. Я спросил, где туристка. Даёт показания в полиции, а его якобы отпустили. Всё это легко проверить — в полицию, конечно, соваться не стоит, но запросить „Казахстан“ следовало непременно. Но кэп заупрямился. Смешные аргументы: стыдно, дескать, перед коллегами, подумают, что мы своим людям не доверяем. А мне кажется, что это тот случай, когда нечего стесняться, — проступочек-то не рядовой! Всё больше и больше он раздражает меня. Есть в нём какая-то лёгкость в отношениях с людьми, нежелание поглубже разобраться в человеке. Он старается ни с кем не портить отношений. Теперь я понимаю, что дисциплина и порядок на нашей посудине строятся на стремлении угодить капитану. Или из боязни его. Знаешь, мать, с этим надо кончать. О всех безобразиях я поставлю в известность министерство и прокуратуру. Пусть кто-то считает меня склочником и сутягой, пусть обижаются друзья. Может быть, в чём-то я и не прав, несправедлив в частностях. Но в главном я прав. Есть высшая справедливость. Пишу тебе обо всём этом, чтобы ты была готова. Скоро они забегают, как крысы, начнут и тебе звонить. Обо мне небылиц наслушаешься». Голос секретаря оторвал Корнилова от чтения. — Игорь Васильевич, из радиокомитета… Корнилов поспешно взял трубку. Приятный женский голосок сообщил, что на переданное объявление откликнулся один из свидетелей аварии на сорок девятом километре. — Он у вас? — спросил подполковник. — Нет. Звонил сию минуту. Оставил свои координаты. Данилов Пётр Сергеевич… — Девушка продиктовала телефон. — Спасибо, милая, — поблагодарил Игорь Васильевич. — Вы нам очень помогли! Он нажал на рычаг, набрал записанный номер. Из трубки долго неслись длинные тягучие гудки, наконец глухой мужской голос лениво произнес: «Слушаю». — Пётр Сергеевич? — спросил Корнилов. — Он самый. — С вами говорит подполковник Корнилов из милиции. Вы только что звонили на радио… Вы были на сорок девятом? — Да, был. — Не могли бы сейчас приехать к нам? Скажите адрес, я пришлю машину. — Слишком много чести, — хохотнул Данилов. — И сослуживцы перепугаются. У меня своя «карета». Корнилов рассказал ему, куда ехать. Потом вызвал Варвару, попросил заказать Данилову пропуск. «Ну что ж, — удовлетворённо подумал подполковник, потянувшись так, что хрустнули суставы в плечах, — имеем шанс последнюю точку поставить для успокоения души». Он посмотрел на письмо старпома. Одна мысль не давала Корнилову покоя: откуда раздобыл Горин валюту на колечко с бриллиантом? Ведь оно чёрт знает сколько долларов стоит! На наши деньги оценили в шесть тысяч! Кому он его купил? Явно не жене — в письме о кольце ни слова. Он вызвал Бугаева. Через минуту капитан сидел у него в кабинете. Корнилов уже давно заметил, что Семён стал тщательно следить за собой, одевался без особого шика, но красиво. Сегодня на нём были пепельная замшевая куртка и широкий тёмно-синий галстук с какими-то чёрными витиеватыми огурцами. — Ого! — сказал подполковник. Эту куртку он видел впервые. Бугаев расплылся в улыбке. Спросил с ноткой самодовольства: — Нравится, товарищ подполковник? — Неплохо. Что-то, Сеня, ты стал последнее время пижонить. Семья на даче, сам в одиночестве… Кольцо обручальное почему-то снял. — Да я его никогда не ношу! — горячо возразил Бугаев. — Не нравятся мне мужики с кольцами. Подполковник и сам скептически смотрел на тех мужчин, которые носят обручальные кольца. А щеголей с перстнями презирал и вовсе. — Нет, правда, товарищ капитан, уж очень вы за своей персоной следить стали. Раньше проще были. — Игорь Васильевич, это вы виноваты. — Лицо у Семёна стало лукавым. — Жена мне сколько раз говорила: посмотри, каким пижоном твой начальник ходит, а ты у меня вечно расхристанный. Я и внял голосу народа. Корнилов едва не поперхнулся дымом от сигареты. Хотел что-то сказать, но только головой повертел. Чуть отойдя, спросил ворчливо: — Где это твоя жена меня видела? На концерте по случаю Дня милиции? Тоже мне, нашла пижона… Ладно, мы с тобой ещё разберёмся. Ты вот что скажи: кольцо, принесённое Гориной, где? — Передал следователю. — Эх, поторопился, — огорчённо сказал Корнилов. — Надо было ещё со специалистами посоветоваться: где оно могло быть куплено? Бугаев вытащил из кармана записную книжку, раскрыл её и быстро прочёл: — Куплено скорее всего в Греции. Афины или Пирей. Фирма «Кастропулос и К°», фирма по продаже драгоценностей. Стоимость от трёх с половиной до четырёх тысяч долларов. Могу и в драхмах… Подполковник, улыбаясь, махнул рукой. — В драхмах не надо. Молодец, сам догадался. А я, похоже, очень постарел за последнее время. Совсем забыл тебе сказать об этом. Бугаев сиял. — Ну и как ты думаешь, Семён, откуда у советского старпома могут быть четыре тысячи долларов? Бугаев улыбнулся. — Будто сами не знаете! — Скупал валюту? Как рядовой спекулянт… — Не рядовой, товарищ подполковник, — ехидно сказал Семен. — Тут уж квалификацией пахнет. Скупка валюты — раз, — он загнул палец. — Тайный провоз её через границу — два. О таком колечке-то в таможенной декларации ведь не напишешь. Вот вам и три. — Правильно, правильно! — поморщился Корнилов. — Я не хуже тебя законы знаю. О другом хочу сказать — Горин вон какое серьёзное письмо в прокуратуру написал! А сам? Неужели так мелко плавал? Не верится. Игорь Васильевич никак не мог отделаться от какого-то двойственного чувства к погибшему старпому. Постепенно, штрих за штрихом, вырисовывалось перед ним малопривлекательное лицо этого «правдолюбца», но Корнилов привык выносить свой окончательный приговор лишь после того, как имел возможность посмотреть человеку в глаза, встретиться с ним, а встрече с Гориным не суждено было состояться. Бугаев молчал. На лице у него застыла такая презрительная гримаса, что было сразу видно его мнение о покойном старпоме. Корнилов усмехнулся. Подумал о том, как изменился за последние годы Семён. Порывистый, непоседливый, резкий в своих суждениях, он стал более внимательным и последовательным. Он хоть и остался таким же горячим, но научился не торопиться со своими выводами и скоропалительными суждениями, всегда искренними и не всегда точными. А вот лицо его выдавало. Особенно глаза. Если Бугаев осуждал кого-то, они сразу суживались, становились злыми. — Непойманный — не вор, Сеня, — сказал Игорь Васильевич, словно отвечая на невысказанное суждение Бугаева. — Да разве же я возражаю? — меланхолично отозвался капитан. — Только вот деталька одна: он третьего июля куда ехал? На дачу. И колечко с ним. А жена — в Нальчике. Если б он жене кольцо привёз — давно бы подарил. В первый день, как из плавания вернулся. — Бугаев безнадёжно махнул рукой. — Ну вот… Вёз он колечко… А кто с ним в машине? Зонтик-то чей обнаружили? Веры Сергеевны? Ей он и хотел колечко подарить. У себя на даче… — Тебе бы ворожбой заниматься. — А что, не логично мыслю? — усмехнулся Бугаев. — Другого-то и не придумаешь. Когда эта дамочка заговорит — вспомните меня. — Ты же сам жаловался — крепкий орешек. — Когда-нибудь да заговорит! — Дело закроют — никто её и спрашивать ни о чём не будет. — А я бы спросил, хотя бы из любопытства. — И я бы, Сеня, спросил. Только… — Он недоговорил. Взял в руки письмо Горина. — У меня вот письмишко одно есть. Тебе из любопытства его прочесть было бы интересно. — Корнилов хотел дать письмо Семёну, но вспомнил о просьбе вдовы и, нахмурившись, положил на стол, подумав при этом: «А жаль, что она так написала, письмишко полезно всем ребятам почитать! Ох как полезно!» Капитан проследил за письмом, но ничего не сказал. — Ты чем сейчас занимаешься? — спросил его Корнилов. — Кражами, товарищ подполковник, — деловито сказал Бугаев. — Сейчас на Заневский поеду. — Ладно. Я в шестнадцать доложу начальству по сорок девятому и тоже подключусь. Хватит мореходами заниматься, пускай они сами в себе разберутся. — А свидетели, значит, ничего новенького не подкинули? — спросил Бугаев, глаза у него были хитрющие. Корнилов улыбнулся: — Подкинут, Сеня, не волнуйся. С минуты на минуту один человек подъедет…12
Корнилов пришёл к начальнику Управления уголовного розыска пораньше, перекинуться парой слов о текущих делах. В кабинете у Михаила Ивановича сидел Еленевский, руководитель одной из групп управления. Вид у него был взъерошенный, сердитое лицо покрыто красными пятнами. «Тут пахнет крупной выволочкой, — подумал Игорь Васильевич. — Наверное, по делу об ограблении пьяных». И не ошибся. — Вот полюбуйся, — кивнул полковник на Еленевского. — Степан Степанович теорией нынче по горло занят. На оперативную работу времени не остаётся. У нас по ночам пьяных обирают, а майор лишь теоретизирует, считает, что это даже полезно. Пить, говорит, меньше будут. И виноваты во всём, дескать, сами пьяницы, а не воры. Каков полёт теоретической мысли? — Михаил Иванович, мы же ведём поиски! — обиженно сказал Еленевский. — Люди которую ночь не спят. Но принимать заявление от каждого алкоголика… это же смешно! Накушался до свинства, а мы должны ноги мозолить, его часики, видите ли, разыскивать… — Товарищ майор! — перебил его полковник. — У вас в распоряжении два дня. Не тратьте время на разговоры. Не найдёте воров — поставлю вопрос о вашей профессиональной пригодности. Еленевский поднялся с кресла и, хмурясь, вышел из кабинета. — Неплохой мужик, но увалень! — Михаил Иванович покачал головой. — Днём с огнем такого другого не сыщешь. Всё сделает в конце концов, но уж очень долго раскачивается. — Его ребята самокатчиком зовут. — Самокатчиком? — Ну да. Он же на службу на велосипеде ездит. — Да брось ты! — отмахнулся полковник. — Придумаешь тоже! — Правда, Михаил Иванович. Обрати внимание: в раздевалке жёлтый с синим велосипед стоит. Его велосипед, Еленевского. И говорят, быстро ездит. — Но уж про жёлтый с синим ты присочинил! — Начальник управления смотрел на Корнилова недоверчиво. Корнилов засмеялся. — Правда, правда. Его велик все в управлении знают. Гаишники честь отдают. Да, Михаил Иваныч, — перестав смеяться, сказал подполковник. — Надо бы Семёна Бугаева на майора представить. Сроки уже вышли, человек он, сам знаешь, энергичный, оперативный, не в пример самокатчику. — Не возражаю, — согласился Михаил Иванович. — Он, кстати, дело с кражами на Заневском до конца так и не довёл? — Сейчас занимается. Ты же знаешь, я его на три дня отвлекал. И сам проваландался… История, я тебе скажу, неприятная. — Ну тебя хлебом не корми, только дай отвлечься. С самоубийством Шарымова всё чисто? Никаких неуклюжих действий не допустили? Не поторопились за него взяться? — Мы за него и взяться не успели. Бугаев приехал к Шарымову домой выяснить, что он делал на даче старпома. А там скандал… — Ну-ну, Бугаев, значит. Может, не торопиться со званием? — Да что ты, Михаил Иваныч! Семён здесь ни при чём. Не успей он — могло бы и хуже обернуться. Обстановка на теплоходе не сахар. Нервозность, подозрительность! Все взвинчены до предела. И всё один человек закрутил… — Ладно, с Бугаевым договорились, — полковник взглянул на часы. — Сейчас Кондрашов придёт, доложишь всё подробно. От новгородцев телекс получили. Предупреждают нас: неделю назад вернулся из колонии Николай Борисович Лящ. Слышал, наверное? Специалист по афёрам. — Помню, — кивнул Корнилов. — Он ведь и у нас динамо крутил. — В Новгороде Лящ уже успел причаститься. Двоих нагрел. Судя по некоторым данным, теперь подался к нам. Вот тут весь его послужной список, фотографии, — полковник подвинул Игорю Васильевичу папку. — Всё что нужно. Надо встретить. Секретарша предупредила, что пришёл Кондрашов. — Ну что, Василий Сергеевич, послушаем подполковника? — спросил начальник управления, когда они уселись за большой стол. — Он как, не затянул с поручением прокуратуры? Управился в срок? — Управился, товарищ полковник, — сказал Кондрашов. — Мы и рассчитывали на него. Звезда розыскной службы! — Следователь улыбнулся и подмигнул Корнилову. Игорь Васильевич отвёл глаза. Он не любил таких разговоров в служебной обстановке. Да и без Кондрашова себе знал цену. Подумал: «Чего это Вася? Не замечал я раньше в нём такой развязности». — Перед нами был поставлен прокуратурой вопрос, — начал он сухо и официально, — проверить оперативным путём, не имел ли кто-нибудь из членов экипажа теплохода «Иван Сусанин» отношения к аварии на сорок девятом километре… Корнилов подробно рассказал о том, что было сделано за эти дни. Временами посматривал на Кондрашова. Тот хмурил брови, записывал что-то очень быстро в блокноте, одобрительно кивал головой. — Сегодня можно твёрдо сказать, что авария автомашины и смерть Горина — несчастный случай. Сомнения, конечно, были… Серьёзные сомнения. Никто не мог объяснить — откуда взялся в машине камень. Большой, почти круглый булыжник. Но час назад я беседовал с одним свидетелем. — Заметив, что Кондрашов хочет что-то сказать, Игорь Васильевич положил руку на папку: — Письменные показания имеются… Михаил Иванович хитро улыбнулся. Он знал пристрастие Кондрашова к правильно оформленным документам. — Этот свидетель, Данилов Пётр Сергеевич, инженер конструкторского бюро, увидев, что дверцы заклинило, разбил камнем стекло. Струя воздуха раздула пламя, Данилов отскочил, а булыжник уронил в салон… Когда Игорь Васильевич кончил докладывать, Михаил Иванович спросил: — А причина самоубийства Шарымова так и не выяснена? — Чувствовалось, что это беспокоило его. Корнилов пожал плечами. — Мы провели дознание, поскольку наш сотрудник оказался на месте. А заниматься этим делом нам не поручали, — он посмотрел на Василия Сергеевича. — Люди, близко знавшие штурмана, показали, что человек он нервный, впечатлительный, — сказал Кондрашов. — Шарымов, может быть, и хотел этого Горина застрелить, когда узнал, что тот его жену соблазнил. Кто знает? Дачу-то взломал! И когда милиция к нему домой нагрянула — испугался. Подумал, наверное, что все шишки на него. И дача, и смерть старпома… — Всё может быть, — задумчиво проговорил Корнилов. — Ты считаешь, уточнять больше нечего? — Незачем. Теперь это уже никому не поможет. — А я бы не пожалел времени. Вопросов осталось немало. Где, например, был Шарымов после того, как уехал с дачи Горина. — Это ничего не изменит, — сказал Кондрашов. — А что говорит вдова Шарымова? — спросил начальник управления. — Ведь она, пожалуй, многое знает. — Молчит она, товарищ полковник. Женщина с характером. Замкнулась в себе и ни гугу. Да ведь её и понять можно — столько потрясений. Может быть, когда отойдёт, заговорит. Да что толку? — Василий Сергеевич сокрушенно вздохнул. — Ну вот, так сказать, итог, summa summum, как выражались в старину. — Ты, Игорь Васильевич, ничего добавить не хотел? Корнилов в раздумье посмотрел на Кондрашова, словно решая, что сказать. — Это, конечно, несущественно, но один вопрос я бы Шарымовой обязательно задал: каким образом её зонтик у старпома в машине оказался? — Мне бы твои заботы, — отшутился Кондрашов. — Да я, собственно, и так знаю. Но люблю точки над «и» ставить. Вы, кстати, с письмами Горина продолжаете разбираться? — Ну а как же? Я тебя информировал — старпом и в министерство написал. Да если бы не такой общественный резонанс, мы вас и не занимали бы этим делом. — А у меня, Василий Сергеевич, серьёзные основания считать старпома… Как бы помягче выразиться? Человеком, которому нельзя слишком доверять. В НТО провели почерковедческую экспертизу анонимок, в которых Горину угрожали расправой, и копирки, под которую он что-то печатал у соседа по даче. Одна и та же машинка. Грозил-то он сам себе! — Да уже его шашни с женой Шарымова чего стоят! — сказал полковник. — А тут ещё и анонимки… — Знаю. Всё знаю, — развёл руками Кондрашов. — Но существуют письма старпома, и в них конкретные обвинения! — Он улыбнулся и снова подмигнул подполковнику. — Платон мне друг, но истина дороже. Будем разбираться. Игорь Васильевич вспомнил вдруг изречение, которое привёл в своём дневнике старпом: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Вспомнил и улыбнулся. — Чего ты ухмыляешься? — спросил следователь. — От этого никуда не денешься. Или я наврал в латыни? — В латыни ты, Вася, ничего не наврал, — успокоил его Корнилов, специально назвав по имени, чтобы подчеркнуть, что всё сказанное им теперь носит неофициальный характер. — Только любим мы за цитаты прятаться. А цитаты — вещь обоюдоострая — одной и той же цитаткой идейные противники, случается, друг, друга глушат. Ты вот не думал, откуда у старпома доллары на кольцо с бриллиантами нашлись. Не сто, не двести — четыре тысячи? От трудов праведных? — Это штука серьёзная, — поддержал Корнилова Михаил Иванович. — Тут преступлением пахнет. — Мы, конечно, поинтересуемся, откуда у Горина была валюта. Выясним, не занимал ли он деньги, — не совсем уверенно сказал Кондрашов. Корнилов хмыкнул. — Да что вы, товарищи! — неожиданно взъерепенился Кондрашов. — Что ж, по-вашему, надо новое дело заводить? На покойного старпома? В конце концов заявление он написал, а не на него! — Не кипятись, Вася, не кипятись! — успокоил следователя Корнилов. — Мы же в порядке консультации тебя расспрашиваем. — Хорошенькие консультации, — не унимался Кондрашов. — Не оставлять же без внимания такие сигналы только потому, что заявитель погиб. Они теперь на контроле. У нас, в министерстве, в пароходстве… Ещё неизвестно, чем всё кончится. Может быть, сигналы и не подтвердятся. Но многое похоже на истину. — Так всегда и пишут доносы — чтобы было похоже на истину, — жёстко сказал Михаил Иванович. Он уже несколько раз поглядывал на часы. — Я ведь не прокурор. Я следователь, хоть и старший. Не я распорядился начать расследование. — А ты что ж, не можешь поспорить с начальством, доказать ему? — подзадорил Корнилов. Михаил Иванович покосился на него укоризненно. — Начальство есть начальство, — успокаиваясь, сказал Кондрашов и сделал лёгкий поклон в сторону Михаила Ивановича. А тот притворно вздохнул. — Завидую я, Василий Сергеевич, вашему начальству. С моими подчинёнными труднее — ужасные спорщики. Кондрашов чуть порозовел и стал прощаться. С работы Корнилов пошёл пешком. Набережная была пустынной, и подполковник поймал себя на мысли о том, что его радует и дождь, и отсутствие людей. Так редко удаётся пройти теперь по городу в одиночестве. Вечное многолюдье, суета, вездесущие туристы. Серые мокрые сумерки, чуть разбавленные неоновым светом, висели над горизонтом. Желтоватые блики подсветки мерцали в стороне Петропавловской крепости. Корнилов шёл и думал о Горине. Письмо старпома к жене никак не выходило у него из головы. Вот как бывает в жизни — человек строит планы, борется, расталкивает соседей локтями. И что? Мокрая от дождя дорога, крутой поворот, секундное замешательство… И конец. Он что ж, и вправду считал себя борцом за справедливость? Да полно, проживший полжизни должен отличать чёрное от белого. Иначе вёе человечество сорвалось бы с цепи. За справедливость можно, конечно, бороться и в одиночку. Но может ли быть справедливость для одиночек? Нет, нет. Такое уж это особое понятие — справедливость. Она полной гармонии требует. Не может справедливость быть неполной, как не может быть дюжины без одной единицы. И если что-то справедливо для всех, но несправедливо для одного — это уже не справедливость. И все разговоры про высшую справедливость — выдумки. Красивая ложь в собственное оправдание. Игорь Васильевич перешёл Кировский мост, свернул направо. В обычные дни здесь толпились рыбаки, но сегодня ловил только один, в зелёном офицерском плаще с надвинутым на голову капюшоном. Корнилов остановился у гранитного парапета. Рыбак ловил на донки. Маленькие колокольчики тихо позванивали от ветра. — Закурить не найдётся? — спросил рыбак у Корнилова, повернувшись к нему. Игорь Васильевич достал сигареты, помог прикурить. Рыбак был немолодой, широкоскулый, с красным загорелым лицом. — Что-то плохо клюёт сегодня, — кивнул он на колокольчики. — А вообще жаловаться не приходится. Появилась рыбка в Неве. Вода почище стала — она и появилась… — Часто ловите? — Часто. Хожу сюда как на работу. Вчера был, и позавчера… И сегодня, как видите. На завтра не загадываю. Дожить надо. «Пенсионер, — подумал Корнилов. — А ведь хорошо ещё выглядит. Получше меня. Уйти в рыбаки, что ли? Вот и капитан Бильбасов собирается». — Я с ранней весны тут рыбачу. Как в апреле на пенсию вышел — тут околачиваюсь. До осени половлю, наберусь силёнок — а там посмотрим. — Рыбак подмигнул Корнилову. — Я ещё кое-что полезное могу. Не каждый молодой угонится!.. А вы и сами, наверное, не прочь с удочкой побаловать? — поинтересовался он. — А то давайте в компанию. В хорошую погоду тут не протолкнёшься. Но мужички у нас приличные, подвинутся. — Спасибо. — Дождик усилился. Корнилов поёжился, поднял воротник. — Ни чешуи ни рыбы! — И вам желаю хорошего! — отозвался рыбак.
1977
СРЕДА ОБИТАНИЯ Повесть

1
Прохор Савельич Баланин, кладовщик совхоза «Орлинский», встал рано. В половине шестого он уже вышел из дома, выпустил кур из сараюшки и, зябко поёживаясь, пошагал по тропинке через запущенный парк. В совхозе началась копка картофеля, и Баланин торопился. В шесть к складу должны были подъехать машины за ящиками. Солнце с трудом пробивалось сквозь густой утренний туман, начинающая жухнуть трава серебрилась от росы. «И не выкосил никто, — пожалел Прохор Савельич. — Скотину люди не держат — коров по пальцам пересчитать можно». Склад помещался в старой церкви с разрушенным куполом. Закрыли церковь ещё в тридцатые годы. Всё хотели приспособить под клуб, да так и не дошли руки. После войны устроили здесь склад. Сначала хранили капусту и картошку. Несколько лет назад приезжала какая-то комиссия из района. Сказали, что от сырости здание разрушается. Овощи хранить запретили, и теперь там складывали ящики. У церкви было пусто — не подъехал пока ни один грузовик. Баланин, с трудом подняв лицо к разрушенному куполу, привычно перекрестился, — был Прохор Савельич от рождения горбат, а к старости и совсем скрючился. Ходил, глядя себе под ноги. Открыв огромный амбарный замок, кладовщик вошёл в церковь. «Пока они там чухаются, — подумал Прохор Савельич о шоферах, — я успею дюжину ящиков починить». И пошёл было за алтарь взять молоток с гвоздями, но едва не споткнулся о распростёртое на полу тело. Баланин хотел выругаться, подумав сначала, что запер с вечера на складе кого-нибудь из деревенских забулдыг, но увидел около головы лежащего лужицу запёкшейся крови. — Этого ещё не хватало, — прошептал старик и, опустившись на колени, попытался перевернуть лежащего на спину. Но всё его лицо было залито кровью, и Баланин испугался. Ему показалось, что у человека разбит череп. — Ох ты, господи, беда-то какая! — теперь уже крикнул Прохор Савельич и, поднявшись, побежал к выходу. К церкви как раз подъехал грузовик. Кинувшись к водителю, Баланин замахал руками и закричал: — Павлик, вылазь поскорее! Человека убили! Шофёр не спеша вылез из кабины и с недоверием глядел на старика. — Из наших, что ли? — Откуда я знаю. Весь в кровищи. Пойдём! — Прохор Савельич дёрнул шофёра за рукав ватника. Павлик шёл с неохотой, и старик всё время подталкивал его: — Давай, давай. Может, он жив ещё… Вместе они перевернули лежавшего навзничь. Это был молодой мужчина с маленькой бородкой и тонкими усиками. Из-под синего старенького халата, который был надет на нём, торчал воротник замшевой куртки. — Нет, не наш. — Павлик внимательно разглядывал мужчину. — Я его ни разу не видел… — Никак дышит, — сказал Прохор Савельич. — Ты, Павел, давай его в больницу вези. — Не надо трогать, — проворчал шофер, — умрёт в дороге, потом хлопот не оберёшься. Я счас «скорую» вызову. — К Филиппычу стукнись, — попросил Баланин. — Всё равно мимо поедешь. Филиппыч, старший лейтенант Владимир Филиппович Мухин, был участковым инспектором и жил в их деревне. Когда он приехал к церкви на своёммотоцикле, собралось уже довольно много народу — шофёры, несколько женщин, присланных из города в подшефный совхоз на уборку. — В больницу-то Пашка Гавриков спугался на своей машине везти, — сказал кладовщик, когда они вошли в церковь и старший лейтенант молча остановился около лежавшего на полу мужчины. — И правильно, — хмуро отозвался Мухин. — Сейчас приедут. Я тоже позвонил… Народу много потопталось? — обернулся он к старику. — Не. Только я да Пашка. И женщина одна, из городских. Объявилась, что доктор, а как посмотрела, так плохо ей стало. — Не наш, — сказал участковый, покачав головой. Совсем, как перед этим шофёр Гавриков. — Ты, Прохор Савельич, расскажи-ка, что и как? — Рассказывать тут нечего, — Баланин прислонился к ящикам. Ему было трудно смотреть снизу на рослого милиционера. — Замок открыл… — Замок был цел? — удивился Мухин. — Целёхонек. И засов задвинут. — А ты контрольку в замок ставишь? — Ставлю. Как же. Хоть и невелико богатство, а поживиться есть чем. Ты, Филиппыч, не сомневайся — всё в целости было. И замок и контролька. Я, как наткнулся на него, — старик кивнул на распростёртого мужчину, — подумал сперва, что из наших алкоголиков. Забрался с вечера да заснул… Но потом вспомнил — церковь я вчера днём закрыл — с полдня правление заседало… Приехала «скорая». Пожилой врач осмотрел лежавшего, покачал головой. Потом кивнул двум санитарам, стоявшим с носилками тут же. — Погодите минуту, — попросил старший лейтенант. — Может, документы при нём есть? — Он стал на колени, отвернул полы синего халата, осмотрел боковые карманы замшевой куртки. В них ничего не было. Потом сунул руку во внутренний карман, на мгновение замер и тут же вытащил большой чёрный пистолет. Один из санитаров присвистнул. — Ничегосеньки! — сказал старик Баланин. — А документа нету? Участковый несколько секунд смотрел на пистолет, потом вынул платок, завернул в него оружие и спрятал в сумку. Из другого кармана вытащил ключи на тонком колечке. Один — маленький, французский, другой — длинный, с какой-то очень сложной бородкой. — Больше ничего. Вы его везите. Я в больницу наведаюсь. Мужчину унесли. — Ну что, Андрей Петрович? — спросил участковый врача. — Тяжёлый случай. Не по нашим силёнкам. Тут, похоже, опытный нейрохирург требуется. Сейчас с Гатчиной свяжусь. Врач ушёл. Было слышно, как заурчал мотор, потом, уже издалека, несколько раз донесся вой сирены… — Как же он сюда попал? — задумчиво сказал инспектор, осматривая склад. Всюду высились горы ящиков, пустые бочки. — Другого хода нет? — Был, да его давно кирпичом заложили, — отозвался Баланин. — Всё же посмотрим. Осторожно обойдя темное пятно, расплывшееся на мраморных плитах пола, они прошли за иконостас. Когда-то там был вход, но дверной проём был прочно заделан кирпичной кладкой. Старший лейтенант для верности потрогал кирпичи рукой. — Ладно, Прохор Савельич, — сказал Мухин. — Похоже, дело серьёзное, надо начальству в район доложить. Давай-ка запрём храм божий, да поеду я названивать. — Не выйдет закрыть, — покачал головой Баланин, — надо ящики мужикам отдать. Мне директор башку открутит. Сам понимаешь — каждый день дорог. — Ладно, — согласился участковый, — ящики пускай забирают от дверей, а внутрь — чтоб никто ни ногой. Позвонив с почты в район, инспектор Мухин заехал в посёлок Дружная Горка, в больницу. Оказалось, что потерпевшего уже отправили в Гатчину. «Быстро они сработали, — с одобрением подумал Владимир Филиппович. — Бывает, „скорой“ часами ждать приходится, а тут…» Он заглянул в кабинет к главврачу, своему старому приятелю и верному товарищу по охоте. — Как живём, Иван Иванович? — Ты по поводу раненого? Увезли… — Знаю. В сознание не приходил? Главврач, нестарый ещё, но совсем лысый, с маленькими острыми глазами, мотнул головой: — Ты что! Довезут ли ещё? — Ударили? — Нет, Филиппыч, не ударили. Похоже, что он откуда-то упал. Пролом черепа и бедро сломано. — Упал он на мою шею, — сердито сказал Мухин. — А впрочем… Так, так, так. — Он хитро сощурился. — Упал, значит? Проверим. Иван Иванович смотрел на него с чуть заметной улыбкой. Он знал, что его приятель — мужик во всех отношениях основательный, но тугодум. — Ты мне, Иван Иваныч, скажи — ничего при нём не обнаружили? Я наспех посмотрел… Главврач открыл ящик стола и положил перед инспектором два ключа на брелоке в виде какой-то большой монеты. — Всё, и боле ничего. — Ни документов, ни записной книжки? — Ничего. Мухин взял ключи. Внимательно осмотрел их. Ключи были от автомобиля. — Ты мне, Иваныч, позвони, если будут новости. — Он поднялся. — А я поехал начальство встречать. Из уголовного розыска инспектор приедет. То, что пострадавшего не ударили, круто меняло дело. На участке Мухина уже несколько месяцев не было никаких серьёзных происшествий, и утренний вызов его огорчил. Теперь же появилась надежда, что произошёл несчастный случай. Правда, несколько странный несчастный случай — это инспектор понимал. У пострадавшего в карманах вместо документов, как должно быть у каждого порядочного гражданина, — пистолет ТТ. Ни паспорта, ни удостоверения личности, ни записной книжки. Ключи от дома, ключи от автомобиля. А где этот дом? Где автомобиль? Инспектор сделал ещё одну заметку на память. Подумал: нельзя скидывать со счёта и такой вариант — мужчине могли «помочь» упасть… Но у Владимира Филипповича имелась своя версия, и её следовала поскорее проверить. К тому времени, когда из Гатчины приехал инспектор уголовного розыска Гапоненко, Мухин ещё раз облазил церковь, долго, задрав голову, разглядывал разрушенный купол, шепча себе под нос: «Свалился он на мою голову. Как пить дать, оттуда свалился». Потом, распугивая кур и гусей, объехал на мотоцикле село, все его закоулки, дальние и ближние концы. Они сели с Гапоненко на брёвнах, рядом с церковью, закурили, и Мухин подробно рассказал инспектору о случившемся. Владимир Филиппович недолюбливал Гапоненко. Встречаться им приходилось нечасто, но даже из этих редких встреч Мухин вынес впечатление, что капитан — человек равнодушный. Главное, что раздражало Мухина, — так это то, как легко и быстро капитан делал выводы и как потом, легко отказывался от собственного мнения. Владимир Филиппович если делал после долгих раздумий какой-нибудь вывод, так стоял на этом до конца. Гапоненко чувствовал, что дружногорский инспектор его не жалует, и держался с ним настороженно. — Ну и что ты думаешь об этом? — спросил Гапоненко. — Думаю, что приехал человек пошарить — нет ли в церкви икон. Этих шаромыжников развелось много. Вон в прошлом году Рождественскую церковь обчистили… — Знаю. — Залез он через разрушенный купол. — Мухин поднял голову и показал на ржавый скелет купола. — Там и лестница валяется. Я проверил. Залезть-то залез, да сорвался… — Логично. Только почему же лестница валяется? Что он, залез, а лестницу спихнул? Или ветром сдуло? — Нет. Лестница здоровенная. Откуда он её только приволок? — Проверь, — строго сказал Гапоненко. — Видать, матёрый дядя. Пистолет в кармане, документов никаких. — Ты, Владимир Филиппович, протокол оформил? Мухин кивнул. — Всё чин чином? С понятыми? Мухин пропустил этот вопрос мимо ушей и продолжил: — Ключи от машины в кармане. А машины нет. Я всё объехал. Нету. В карманах у него никаких билетов нет. Значит, скорее всего на машине прибыл. — Машину будем потом искать, — сказал Гапоненко. — А сейчас давай займёмся делом. — Они встали с бревён и пошли к церкви…Вечером Мухину позвонил главврач дружногорской больницы. Потерпевший скончался, не приходя в сознание, по дороге в Гатчину. На следующий день утром мальчишки обнаружили в кустах у соседней деревни Лампово автомашину «Жигули» с ленинградским номерным знаком. Ключи, которые были в кармане пострадавшего, к автомашине подошли. В «бардачке» «Жигулей» лежали водительские права на имя Анатольева Дениса Петровича. Владимир Филиппович долго сравнивал фотографию, наклеенную в водительских правах, с фотографией погибшего и в сомнении качал головой. И борода и усы на карточках были одинаковые, и овал лица похожий, а люди были разные. А когда он, приехав в Ленинград и выяснив в Петроградском райотделе ГАИ адрес Анатольева, явился вечером на его квартиру с неприятным чувством, что он несёт родственникам печальное известие, Анатольев сам открыл ему дверь. Оказался он совсем не таким, как на карточке, — толстым, кучерявым и добродушным. — Права-то мои, голуба, — удивленно крутил он головой, рассматривая водительское удостоверение. — Скажу так — корочки мои, а физиономия чужая. Ну и личность! Какой-то типус-опус. — Анатольев вытащил из пиджака другое водительское удостоверение. На нём стоял штамп «дубликат», с фотографии смотрел сам Денис Петрович. Полтора года назад, по словам Анатольева, он остановился около магазина купить хлеба. Было жарко, пиджак висел в машине. Денис Петрович взял только мелочь из кармана. Вернувшись через несколько минут из магазина, машины на месте не обнаружил. Мухин, разглядывая улыбчивого и добродушного толстяка, почему-то неприязненно думал, что Анатольев не за хлебом ходил, а скорее всего пиво пил. Но к делу это никакого отношения не имело, и старший лейтенант спросил: — А машина у вас была «Жигули»? Третья модель? — Да, третья. Машину нашли через неделю на Таллинском шоссе, а пиджачок-с — увы. Вместе с правами, деньжатами и прочей полезной мелочью… Вперёд наука! — Нашли, значит, машину, — разочарованно сказал Мухин, уже выстроивший свою версию. — Да, целёхонькую. Даже приёмник не вытащили.
Экспертиза подтвердила, что фотография на украденном у Анатольева водительском удостоверении переклеена, печать подделана. Подделан и штампик о годовом техническом осмотре в техпаспорте. В тот же день в научно-техническом отделе Главного управления внутренних дел была произведена трассологическая экспертиза пистолета, найденного у разбившегося в Орлинской церкви мужчины. В пулехранилище Главного управления имелась пуля, которой две недели назад был убит научный сотрудник института литературы Николай Михайлович Рожкин.
2
К вечеру стало чуть прохладнее. Подполковник Корнилов почувствовал, как в открытое окно потянуло свежим ветерком, стих уличный гул, и только время от времени грохотали по Литейному трамваи, да с нарастающим шелестом проносились троллейбусы. Заглянул в кабинет франтоватый Бугаев. — Звонили из Сестрорецка, товарищ подполковник. Задержали там бродягу на пустой даче. Очень похож на Стёпку Прыгуна… — Степан Валерьяныч объявился? — Полной уверенности нет — молчит. Но похож… Ребята из Сестрорецка зря бы не побеспокоили… — Похож… похож… Это я уже слышал, — недовольно сказал Игорь Васильевич. — Ты мне сразу скажи, как только его опознают. А потом уж сам беседы с ним беседуй. — Будет сделано! — улыбнулся Бугаев. Степана Прыгунова, квартирного вора и пьяницу, Ленинградский уголовный розыск искал полгода. Корнилов даже подозревал, что Прыгунов окончательно спился и умер где-нибудь под забором. — Так я домой, Игорь Васильевич! — сказал Бугаев. — Мама сыночка ожидает… — Она же у тебя на даче? — спросил подполковник, подозрительно оглядывая с иголочки одетого капитана. — Всё верно! Через десять минут электричка. Ребята обещали до Финляндского подбросить. — Уже уходя, он сказал: — А у вас, Игорь Васильевич, наверное, борщ дома стынет? Ольга Ивановна заждалась. — Она у меня сегодня в поликлинике дежурит, — улыбнулся Корнилов. Потом зашёл Белянчиков. Они поговорили минут пять о делах на завтра. День прошёл без серьёзных происшествий, можно было со спокойным сердцем собираться домой. Корнилов закрыл окно, подёргал по привычке ручку сейфа. — Ты на машине или пешком? — спросил Белянчиков. — Пройдусь пешочком. Они вышли в приёмную. Секретарь отдела Варя Дудышкина уже давно ушла. В большом кресле, тяжело навалившись на подлокотник, дремал старший лейтенант, рядом с ним стоял толстый чёрный портфель… Светлые длинные волосы растрепались, упали на загорелое лицо. Загар у него был плотный, красноватый, и Корнилов подумал о том, что посетитель приехал из деревни. Услышав щелчок замка, старший лейтенант поднял голову и вскочил, убирая со лба волосы. — Вы ко мне? — спросил Корнилов. — Так точно, товарищ подполковник. Старший лейтенант Мухин из Гатчинского района. Из Орлина, товарищ подполковник. — Чего ж вы тут дремлете? — строго сказал Игорь Васильевич. Мухин смутился. — Девушка сказала, что вы заняты… чтобы я подождал. Ну и… — Ладно, заходите, — подполковник открыл дверь. Махнул на прощание Белянчикову. — Вы меня извините, товарищ подполковник, — извиняющимся голосом начал Мухин, входя в кабинет, но Корнилов перебил его: — Да чего уж, ладно. — Корнилов, пригласивший Мухина на шесть часов, решил, что тот сегодня уже не приедет. Из Орлина добираться не ближний свет, если нет машины. — Это наша секретарь виновата, заставила вас ждать, а сама ушла. Садитесь, докладывайте…Когда человек долгие годы занимается одним и тем же делом, вместе с опытом, с навыками, позволяющими работать лучше, быстрее, у него складывается стереотип мышления — повторяющиеся исходные ситуации подсказывают ему определённый конечный результат. Есть десятки и сотни профессий, где такой стереотип мышления — благо. Но только не в работе с людьми. Мотивы человеческих поступков при всей их кажущейся определённости не поддаются строгой классификации. Они, как папиллярные узоры на пальце, неповторимы. Долгий срок работы в уголовном розыске привёл подполковника Корнилова к мысли о том, что при расследовании преступления, особенно сложного, всякая попытка искать аналогии в уже раскрытых делах может завести в тупик. В работе уголовного розыска, считал он, самое страшное дело — утерять новизну восприятия. Поэтому, когда на следующий день на совещании в отделе майор Белянчиков начал вспоминать не слишком давнюю историю спекулянтов старинными иконами, перессорившихся из-за награбленных ценностей и пытавшихся убить своего же товарища, Игорь Васильевич остановил его: — Юрий Евгеньевич, пустая затея насаживать новое дело на старую колодку. — Он недовольно побарабанил по столу длинными пальцами. — Запутаемся. Давайте танцевать от печки. — У нас и печки-то нету, товарищ подполковник, — сказал Белянчиков. — Пустое место, ноль. — Лучше строить на пустом месте, чем потом разрушать старое! — Подполковник сказал это с нажимом, и все, принимавшие участие в оперативном совещании, поняли, что словесная разминка закончилась. — Лебедев, — обратился Корнилов к молодому блондину. — За последние два дня не было никаких заявлений об исчезновении людей? — Нет, товарищ подполковник. Даже дети не терялись. — Тогда ноль действительно абсолютный. Давайте распределим обязанности. — Игорь Васильевич развернул сложенный вчетверо лист бумаги, разгладил его. — Я осмотрел ключи, найденные у погибшего. Скорее всего это ключи от его квартиры. Один очень сложный. Не уверен, но думаю, что ключ и замок, который им открывается, делал очень хороший мастер. В магазине такие не продаются. Ты, Володя, займёшься ключами, — кивнул Корнилов Лебедеву. — На всякий случай проверь и в торговой сети. А потом постарайся найти умельцев, которые способны создать такие замки. Зайди, кстати, к Ерофееву, он большой специалист по замкам. Ерофеев работал в их управлении и слыл знатоком по части взломов. — Бугаев займётся автомобилем. Машина, наверное, краденая. Может быть, в розыске. Номера, я думаю, перебиты. Пускай в НТО проведут срочную экспертизу. — Да, попался нам субъект — ничего своего, всё чужое. Как в том анекдоте… — В каком ещё анекдоте, Сеня? — почти ласково спросил подполковник. — Про старушку, которая вставную челюсть в стакан опустила, после того как протез ноги сняла, — весело сказал Бугаев. — В следующий раз за такие анекдоты буду ставить на дежурство в выходные. А по машине чтобы завтра к вечеру была полная ясность. Понял? — Так точно, товарищ подполковник. — Юрий Евгеньевич, тебе придётся пойти к вдове Николая Михайловича Рожкина. С нею уже много раз беседовали. Не очень-то удобно опять её дёргать… — Корнилов поморщился. — Но выхода нет. В прокуратуре, кстати, недовольны тем, как расследуется это дело. И наши коллеги из Петроградского района не слишком расторопно действуют… — Понятно, — кивнул Белянчиков. И спросил: — А не стоило бы кому-то из нас в Орлино съездить? У этого человека могли сообщники из деревенских быть: откуда он про иконы узнал? — Местный участковый инспектор тоже так считает, — сказал Корнилов. — Он у меня вчера вечером был. Хорошее впечатление мужик производит. Жаль, что лет уже немало — я бы взял его в управление. Такой с виду увалень, а цепкий. Сорок лет — старший лейтенант. До капитана, конечно, дослужится. — Подполковник покачал головой. — Трудная у них служба, у деревенских инспекторов. — И у городских нелёгкая, — тихо сказал Бугаев и хитро глянул на Корнилова, но тот никак не отреагировал на его реплику. — Участковый инспектор подозревает, не работал ли погибший в совхозе на уборке. Среди тех, кого шефы в помощь присылают… Не обязательно в этом году. Мог и в прошлом работать. Заприметил иконы. До поры до времени не мог выбраться. — Тоже вариант, — согласился Белянчиков. — Шефы у совхоза постоянные — «Красный треугольник» и институт Гипрохим. Ты, Юрий Евгеньевич, поручи райотделу заняться. А в совхоз пока повременим ездить. Пускай там инспектор Мухин поработает. Да и некого пока туда послать. — Сказав так, Корнилов подумал о том, что неплохо было бы и самому съездить в Орлино. В прошлом году, разматывая историю гибели старшего помощника с теплохода «Иван Сусанин», он побывал в этом красивом селе на берегу озера. Всякий раз, когда представлялась возможность, подполковник выезжал на место преступления сам — ощущение реальной обстановки давало ему возможность более свободно строить свои гипотезы. — Какие ещё вопросы, сомнения, предложения? Нет? — Игорь Васильевич оглядел собравшихся. — Ну тогда ножками, товарищи. Ножками!
3
В те редкие дни, когда Юрий Евгеньевич Белянчиков не задерживался на работе, жена и сын ужинать без него не садились. У них даже сложился настоящий ритуал для таких случаев. Ирина Степановна накрывала ужин не на кухне, где они обычно ели на скорую руку, а в большой комнате, служившей им и гостиной, и спальней, и столовой. За едой почти не разговаривали. Вечерние беседы начинались за чаем. Костя Белянчиков докладывал отцу все свои школьные новости. Он учился в восьмом классе. Тут же, на импровизированном семейном совете, решались всевозможные спорные вопросы. Такие, например, как стоит ли обижаться на своего товарища Нахапетова, который поехал в Павловск, куда они давно собирались поехать вместе, не с Костей, а с двумя девчонками из их класса. Или сделать вид, что ничего не произошло? Права ли историчка Варвара Сергеевна, рассказавшая на уроке, что слова «И ты, Брут?» были сказаны Цезарем, когда он увидел Брута среди заговорщиков, напавших на него. А он, Костя, читал у Светония, что Цезарь воскликнул: «И ты, мой мальчик?» Потому что Брут якобы был его сыном. Дело в таких спорах обычно завершалось тем, что отец с сыном зарывались в книги, а мать уходила на кухню мыть посуду. Потом Юрий Евгеньевич играл с Костей в шахматы. Костя был очень самолюбив и азартен, не любил проигрывать, а отец считал, что поддаваться сыну, даже в игре, нельзя. Это может нежелательно сказаться на его характере, приучит Костю к лёгким победам. Дело иногда кончалось слезами, и Ирина Степановна выговаривала мужу, что он мог бы и поддаться. Подумаешь, игра, а ребёнок теперь разнервничался и будет плохо спать. Но Костя быстро отходил, возвращался из своей комнаты как ни в чём не бывало и спрашивал отца: — Пап, а всё-таки я тебя здорово прижал двумя конями. Если бы не зевнул ладью, то выиграл. Юрий Евгеньевич соглашался, и всё заканчивалось миром. Костя шёл спать, а Белянчиков выпивал ещё чашку чаю и выслушивал теперь все новости из конструкторского бюро, в котором работала Ирина Степановна. Потом он ложился на диван, читал «За рубежом» или «Наш современник». Иногда просматривал «Следственную практику». Но к этому журналу он относился с профессиональной пристрастностью, считал, что сложные дела расследуются там слишком гладко, замалчиваются неудачи и промахи, а все следователи выглядят тонкими психологами и прозорливцами. Если назавтра на службе не намечалось каких-то серьёзных дел, в одиннадцать Белянчиков ложился спать. Когда же такие события намечались, Юрий Евгеньевич удалялся на кухню, служившую ему одновременно кабинетом, и часто просиживал там за полночь. Он устраивался за кухонным столом, разворачивал толстую ученическую тетрадь за девяносто шесть копеек и детально продумывал каждый свой шаг, каждую фразу. И это повторялось всегда — готовился ли он к серьёзной операции по поимке преступника, или просто собирался встретиться со свидетелями, опросить потерпевших. Во-первых, Юрий Евгеньевич был педант, а во-вторых, он являл собой тот редкий экземпляр человека, который не только хорошо знает свои недостатки, но и по мере возможностей старается компенсировать их своими достоинствами. Среди недостатков Белянчиков числил за собой неспособность к мгновенной импровизации, качеству для сыщика немаловажному. Не то чтобы он совсем не мог действовать быстро при изменении ситуации. Просто каждый раз, когда срывался заранее намеченный план, ему стоило больших трудов перестраиваться и принимать новое, обязательно правильное, решение. Позже он находил единственно верный ход, но это было позже, а обстановка чаще всего требовала моментальных решений. Сидя на кухне, Юрий Евгеньевич заносил в свою тетрадку вопросы, которые следовало задать свидетелю, продумывал их последовательность. Даже намечал для себя, как он будет их задавать: вскользь, как бы между прочим, или не скрывая от собеседника свою заинтересованность. Корнилов, хорошо знавший про клеёнчатую тетрадь Юрия Евгеньевича, не раз пытался уговорить его рассказать молодым работникам о своём методе работы. Но Белянчиков был неумолим. — Ты что, хочешь, чтобы надо мной потешались? Вот, дескать, видали вы самоуверенного долдона из угрозыска? Нет, пусть Семён Бугаев опытом делится, он мужик хваткий, он и без всяких тетрадей распишет всё как надо. За педантизм и въедливость кое-кто в управлении считал Белянчикова службистом. Но Юрий Евгеньевич меньше всего думал о продвижении по службе. Таким уж он был скроен — дисциплинированным, чётким аккуратистом, врагом всяких недомолвок. Иначе он работать не мог. Служи он в бухгалтерии, на стройке или ещё в каком другом месте — он везде отдавал бы работе всего себя. В этот вечер, несмотря на то что поручение, которое ему предстояло утром выполнить, было совсем простое, Белянчиков тоже удалился на кухню, прихватив свою тетрадку. Всё, конечно, просто, если вдова Николая Михайловича Рожкина не опознает человека на фотографии, думал Белянчиков. А если опознает? Тут возникнет масса нюансов. Случайный ли это знакомый? Приятель? У вдовы тоже возникнут вопросы. Почему показывают фотографию мертвеца, какое он имеет отношение к ней? Всё это необходимо предусмотреть заранее, а потому сиди, Юра, сиди и думай. Но принятое им в конце концов решение было очень просто. Без обиняков показать фото.…Еще вечером Белянчиков позвонил Рожкиной и условился о встрече. Рожкина работала во вторую смену, с утра была свободна, и майор поехал к ней домой в Озерки. Жила Рожкина в большом панельном доме, недавно построенном среди деревянных особнячков. Вокруг стоял сосновый лес, невдалеке поблёскивало озеро, и было слышно, как где-то рядом проносятся электрички. Наталья Викторовна оказалась молодой ещё женщиной, с простым, не то чтобы красивым, но очень милым русским лицом. Тёмно-каштановые волосы были расчёсаны на прямой пробор и закрывали уши. Белянчикову показалось, что Рожкина чем-то похожа на одну известную балерину. Усадив Юрия Евгеньевича на диван в небольшой, очень светлой и чистенькой комнате, она спросила, не хочет ли он кофе. — Спасибо, Наталья Викторовна, — сказал майор. — Я ведь на минутку. Рожкина села напротив и закурила сигарету. Потом, спохватившись, пододвинула Юрию Евгеньевичу пачку «Столичных» и пепельницу. Белянчиков поблагодарил её кивком. Он не курил. — Нашли? — спросила Рожкина. Майор чувствовал, как она волнуется. — Нет, Наталья Викторовна. Не нашли. Не всё у нас получается так, как хотелось бы… — Он вытащил из кармана несколько фотографий, среди которых было фото мужчины, найденного в Орлинской церкви, и положил перед Рожкиной. — С этими людьми вам никогда не приходилось встречаться? Медленно перебирая карточки, она внимательно вглядывалась в лица. Долго рассматривала фото неизвестного из Орлинской церкви. Наконец, догадавшись, спросила: — Он мёртвый? Белянчиков неопределённо пожал плечами. Рожкина положила фотографии на столик, сделала глубокую затяжку и мотнула головой. — Нет, никого из них я не знаю. В первый раз вижу и, судя по всему, в последний. — Она посмотрела на фото мёртвого ещё раз. Потом взяла в руки и чуть повернула к свету. — Нет, нет… Больше майору Белянчикову делать у Рожкиной было нечего. Но он не мог просто встать и уйти. Ведь перед ним сидела женщина, у которой недавно убили мужа, а убийца до сих пор не найден. «А может быть, и мёртв», — подумал Юрий Евгеньевич, пряча фотографии. Но сказать пока об этом вдове нельзя. Если бы Белянчиков курил, то можно было бы, закурив сигарету, молча посидеть несколько минут, обменяться парой ничего не значащих фраз и откланяться. — Вы меня извините за то, что я побеспокоил вас, Наталья Викторовна, — сказал майор. — Побеспокоил, а ничего нового не сообщил. Рожкина кивнула. — Этот человек имеет отношение к убийству? — спросила она. И Юрий Евгеньевич понял, что Наталья Викторовна имеет в виду мёртвого мужчину. Женским своим чутьём выделила его фото из всех остальных. — Трудно сказать. Мы думали, кто-то из знакомых Николая Михайловича. Кстати, у него не было друзей среди коллекционеров старинных икон? — Наверное, были. Он ведь занимался историей России… Даже наверняка были. Как-то Коля мне рассказывал про большую коллекцию, — она покачала головой. — Кажется, он называл фамилию Замчевского. — Это кто? Рожкина пожала плечами. — Не знаю. Наверное, кто-то из его знакомых. — У вас нет телефона, адреса? Может быть, остались в бумагах мужа? Наталья Викторовна вздохнула. — Нет, не остались. Единственное, что пропало в тот день, — так это Колина записная книжка. — Пропала записная книжка? — удивился Белянчиков. Он читал материалы по делу, и там ничего не было сказано об этой пропаже. Наоборот, одной из особенностей убийства Рожкина как раз и являлся тот факт, что ничего не пропало. Ни деньги, ни часы, ни документы… — А вы говорили об этом следователю? — Нет. Я обратила внимание на пропажу много позже. Когда понадобилось разыскать телефон одного Колиного приятеля. Николай рассказывал мне незадолго до смерти, что наткнулся на следы старинной коллекции документов и книг, а какой — не сказал. Я думала, что об этом знает Флорентий Никифорович… А записную книжку могли обронить и в «скорой», и в больнице. Мало ли, что могло случиться. Пришлось звонить на Колину службу, узнавать телефон там. — Ну и что же ответил вам Флорентий Никифорович? — спросил Белянчиков. Он не любил безответных вопросов, даже в том случае, когда они никакого отношения к делу не имели. — Флорентий Никифорович ничего об этом не слышал. — Он не коллекционирует старинные иконы? — Нет. — Назовите, пожалуйста, его фамилию. — Лосев Флорентий Никифорович — известный учёный, специалист по фольклору. Коля очень любил его. — Рожкина замолчала и рассеянным взглядом обвела стеллажи с книгами. «Кому теперь нужны эти учёные записки? — с горечью подумала она. — Даже к букинистам не отнесёшь… А Коля был жив, и книги жили». — Наталья Викторовна, вам так и не удалось выяснить, что за коллекцию обнаружил Николай Михайлович? Рожкина развела руками. — Он не сказал об этом никому. Так странно… Коля был очень общительным человеком. Может быть, не был уверен, что всё удастся? Вы знаете… — Женщина как-то болезненно сморщилась, словно вспомнила что-то неприятное. — Коля последние дни ходил очень расстроенный. Белянчиков вдруг почувствовал острое сожаление оттого, что муж этой приятной и, судя по глазам, доброй и умной женщины погиб как раз в тот момент, когда обнаружил что-то интересное. Какую-то коллекцию книг и документов. Это обстоятельство волей-неволей давало определённый ход мыслям. И Белянчиков спросил: — Это документы времён войны? — Не знаю, — с сомнением ответила Рожкина. Она помолчала, вспоминая, при каких обстоятельствах рассказывал ей муж о находке. Потом покачала головой. — Нет, нет, к войне они относиться не могут. Коля сказал: «Мать, кажется, я наткнулся на что-то новое. Наш старик разинет варежку». — Наталья Викторовна грустно улыбнулась. — Коля любил шутку, острое слово. На самом-то деле он уважал институтское начальство. — Но почему вы решили… — начал Белянчиков. — Понимаете, Коля имел в виду академика Яцимирского. А он занимается Петровской эпохой… «Ну и что? — подумал Юрий Евгеньевич. — Одно другому не мешает. Яцимирский занимается стариной, а Рожкин мог найти документы, проливающие свет на чью-то деятельность в годы войны. И мог предположить, что академик разинет рот от удивления, узнав что-нибудь неприятное о своих сотрудниках». Но вслух сказал: — Почему же вы не сказали об этом следователю? — Это всё так далеко… — Но ведь, наверное, надо продолжить поиски? Пусть возьмутся коллеги. — А что искать? — тихо спросила Рожкина. — Он не оставил никаких записей. Никакого намёка. — А где он мог наткнуться на документы? — спросил Белянчиков. Он плохо представлял себе характер работы покойного. — Трудно даже предположить. Коля занимался архивами в самом институте, бывал в рукописном отделе Публички… В государственном архиве… — Она задумалась, припоминая, где ещё работал муж. — Ездил в Москву, в Институт мировой литературы. Был в экспедиции в Архангельской области. — Да-а, размах серьёзный, — вздохнув, сказал Белянчиков. — Вот видите! Даже предположить трудно. А ведь мог ещё кто-то из случайных знакомых рассказать. Или даже показать… Прощаясь, Юрий Евгеньевич сказал Рожкиной: — Вы уж извините, Наталья Викторовна, но, может быть, придётся вас ещё побеспокоить… Следователя наверняка заинтересует пропажа записной книжки. Рожкина молча пожала плечами. Лицо у неё было усталое и отрешённое.
4
Володя Лебедев нервничал. Прошло уже полдня, а результатов не было никаких. Старший лейтенант посетил управление хозторгами, побывал в большом хозяйственном магазине в Гостином дворе, объехал три колхозных рынка, где в захудалых будках пьянчужного вида умельцы чинили замки, делали ключи и выполняли ещё самую разную слесарную работу. Никто не признал тонкий изящный ключ с замысловатой бородкой. — Нет, наша местная промышленность ещё не доросла до таких сложных изделий, — покачал головой начальник отдела в управлении хозторгами, с удовольствием разглядывая ключ. — У нас недавно была выставка финских бытовых изделий. Много замков… Даже с дистанционным управлением. Но таких ключей я и там не видел. — А вы считаете, что этот ключ фабричного производства? Начальник отдела посмотрел на Лебедева с сожалением. — Я думаю, английская работа. Наверное, кто-то привёз замок из-за границы. Никакому кустарю это не под силу. На всякий случай старший лейтенант заглянул ещё в Гостиный двор. Продавщица из секции скобяных товаров скользнула по ключу равнодушными глазами: — Впервые вижу… Наверное, финский. Но до нас, до магазина, импортные товары не доходят. Их распродают на складе… Ближайшим от Гостиного двора был Сенной рынок. Туда уже без особого энтузиазма и поехал Лебедев. Небритый хмурый старик взял ключ, подкинул слегка в тёмной костистой ладони и тут же вернул Лебедеву. — Ну так что? — повторил старший лейтенант свой вопрос. — Не приходилось вам делать замки с такими ключами? — Сорок рублей и полбанки, — сказал старик. — Полбанки сейчас. — Вы что, делали такой замок? — У Лебедева появилась надежда. — Тебе-то что, делал — не делал! Иди за бутылкой. Я тебе посложнее сварганю. — Но вы можете мне ответить — делали замок под этот ключ? Или нет? Дед сердито крякнул и отвернулся. Теряя терпение, Лебедев достал удостоверение и сунул ему в окошечко: — Я вас серьёзно спрашиваю. Делали или нет? Взглянув на документ, старик отрезал: — Не делал. Чувствуя, что теперь от него ничего не добьёшься, Лебедев сказал почти ласково: — Вы поймите, папаша, я ведь к вам без всяких претензий. Нашли человека — машина сбила, — никаких документов. Только ключи. — Небось родственники объявятся, — усмехнулся старик. Потом нагнулся, достал ополовиненную бутылку пива, ловким щелчком большого пальца скинул пробку и одним духом выпил. Заметив, что Лебедев всё ещё стоит рядом с будкой, сказал ворчливо: — Да не делал, не делал я. А попросишь, смогу. Сорок рублей и бутылка. Бутылка сейчас. Лебедев вздохнул. Спрятал ключ в карман. — А вы походите по домам-то, — засмеялся старик. — Походите! Может, к какому замку и подойдёт. Я даже кино такое видел. Третий рынок, на котором побывал Лебедев, был Некрасовский. Ларёк металлоремонта был закрыт. Старший лейтенант зашёл к директору рынка, но тот ничего о мастере не знал. — Может, обедает. Они тут сами по себе: захотел — пришёл, захотел — ушёл. — Ну что, товарищ инспектор? — спросил шофёр, когда Лебедев молча сел рядом с ним. — Куда теперь? Может, на Охтенский? — На Андреевский. А потом на Сытный. — А я вот походил по рядам, посмотрел, — сказал шофер. — Рынки разные, а цены одинаковые. Картошка везде по тридцать. Яблоки по восемьдесят. Только цветы — как бог на душу положит. На Сенном три гладиолуса — четыре рубля, а здесь — пять. Ну и дерут, я вам скажу! — Да, дерут, — рассеянно согласился Лебедев, с тревогой думая о том, что шансов у него на успех совсем мало. Да, может, обойдётся всё и без ключа? Не может же человек исчезнуть бесследно. Время пройдёт — хватятся. Но эти мысли утешали мало. Задание оставалось невыполненным. Только на следующее утро Лебедев закончил свой объезд мастерских. Никто из опрошенных ключ не признал. Но это была капля в море. Замок мог сделать какой-нибудь мастер и дома, и в заводском цехе. Старик мастер с Сенного рынка не давал инспектору покоя. Перемена в его поведении после того, как он увидел милицейское удостоверение, настораживала. «Темнит старик, — думал Лебедев, — чует моё сердце, темнит». Он остро переживал свой неудачный разговор со стариком. Инспектор попросил шофёра ещё раз подъехать к Сенному рынку. Но за окошком мастерской сидел совсем другой человек — молодой, атлетического сложения парень. На вопрос, куда делся старик, он сказал: — Запил Никитич. Теперь неделю не появится. А то и больше. Считается, что мы вдвоём с ним мастерим. — А где он живёт? — Где-то в Гавани. Где, точно не знаю. Он у нас прижимистый. В гости не приглашает. А вам чего? Заказ ему давали? Лебедев вытащил из кармана ключ. Положил перед парнем. Мастер внимательно, оценивающим взглядом посмотрел на него. — Такой ключик я могу вам изобразить. Дня через три. Сейчас работы завал. И вся срочная. — А замок могли бы под такой ключ? — Нет. Придётся Никитича дожидаться. Это только он умеет. — Адрес его где можно узнать? Парень безнадёжно махнул рукой. — Пустое дело. Он сейчас не только напильник в руках не удержит — двух слов не свяжет. — Ну а всё же? — Идите в контору. На Владимирский. Там скажут. Пётр Никитич Гулюкин его зовут.5
Семён Бугаев с утра заехал в прокуратуру и попросил у следователя разрешение использовать автомашину потерпевшего. «Если я приеду на станцию технического обслуживания на этих „Жигулях“, — рассуждал он, — больше шансов, что кто-то вспомнит и владельца. Иной мастер лучше знает машину, с которой возится, чем её хозяина». Следователь замысел Бугаева одобрил. На станции капитан заглянул к директору, договорился, чтобы ему выписали документы на техосмотр, въехал во двор, но остановился поодаль от вереницы автомобилей, ожидавших своей очереди перед воротами цеха. Первым к нему подошёл мужчина в заношенной спецодежде с испитым почерневшим лицом. — Замок для запаски не нужен? Бугаев мотнул головой. — Ножной насос? — в голосе мужчины чувствовалась надежда. — Имеем свой. Мужчина сплюнул чуть ли не на ботинки капитану и, шаркая подошвами по асфальту, удалился. Потом из ворот цеха с деловым видом выскочил длинный тощий парень в синем берете и внимательно оглядел выстроившиеся колонной автомашины. Из кармана его спецовки торчали отвёртка и кронциркуль. Заметив Бугаева, он почти бегом пересек двор. — Вы от Роберта Максимовича? — Нет. — Странно, — сказал парень. — Кого ждём? — Вам эта карета не знакома? Парень посмотрел на машину. Пожал плечами. Бугаев поиграл ключами, у которых вместо брелока был американский серебряный доллар с изображением президента Кеннеди. Сказал: — Мой товарищ у вас тэо делал. Денис Анатольев… — Всех разве запомнишь, — поскучнев, сказал парень и отошёл. Потом опять внимательно оглядел двор. Одна машина, тоже белая, как и та, на которой приехал Бугаев, привлекла его. Капитан слышал, как он спросил владельца, тучного молодого мужчину в больших роговых очках: — Вы от Роберта Максимовича? Толстяк кивнул. Парень сел за руль его машины, толстяк — рядом, и машина, минуя очередь, скрылась за воротами цеха. Почему он не показал парню фотографию погибшего, Бугаев и сам не знал. Скорее всего не почувствовал к нему доверия. Такой сразу трепанёт товарищу, через полчаса об этом будут знать не только все слесари, но и их клиенты. Набравшись терпения, Бугаев ждал. Минут через пятнадцать из цеха вышел ещё один мужчина. Тоже в синем берете, из кармана спецовки тоже торчал инструмент. Достав сигарету, капитан подошёл к нему. Попросил прикурить. — Очередь у вас, не приведи господь… Мужчина скользнул взглядом по автомобилям. Озабоченно покачал головой. — Оформляют в конторе больше, чем мы пропустить можем. Покурить еле вырвешься, — он был уже немолод, с пышными, хорошо подстриженными тёмными усами. «Серьёзный товарищ», — подумал Семен и, достав ключи, стал раскручивать цепочку на пальце: — Эх, день у меня пропадет. С товарищем несчастье случилось. Попросил вместо него осмотр сделать. Продавать собирается… — Эту, что ли? — кивнул мужчина на «Жигули». — Ну да. У вас там кто командует? Начальник цеха? Поговорить с ним, что ли? — Я там старший, — сказал мужчина. — Бригадир. Сегодня запарка. А брелок такой я видел. С долларом… — У кого? — Делаю тут парню одному профилактику. — Не Денису Анатольеву? Бригадир удивлённо посмотрел на Бугаева. — Нет. Одному знакомому. Олежкой зовут. Бугаев вытащил из кармана фотографию. — Не этому? — Чего это он? Мёртвый? — Он? Олег? — быстро спросил Бугаев. Бригадир взглянул ещё раз. Уже более внимательно. — Да. — Вас как зовут? — переходя на деловой тон, спросил капитан. — Валерий Сергеич. — Валерий Сергеевич, я из уголовного розыска. — Бугаев показал удостоверение. — О нашем разговоре прошу никому… Валерий Сергеевич кивнул. И тут же оглянулся на ворота цеха. — Я вас недолго задержу, — сказал Бугаев. — Пойдёмте тогда в контору, — попросил бригадир. — А то неудобно перед цехом маячить без дела. Ребята скажут — бригадир лясы точит. Они пошли по двору. — С Олегом случилась беда. Погиб он… — Разбился? — Нет, не на машине. Машина его здесь. — Ну да. Я-то смотрю, вроде бы проходил этот «жигулёнок» через мои руки. Первая модель, а задние фонари от шестёрки. Приличная машина, ещё девочка… — Валерий Сергеевич, расскажите мне всё, что вы знаете об Олеге, — попросил Бугаев, когда они сели на диванчик в конторе. — Фамилию, где живёт, кем работает? Бригадир с недоумением пожал плечами. Хотел о чём-то спросить, но не спросил… — Да ведь что я знаю — Олег и Олег… Парень весёлый, при деньгах. За кордон часто ездит, как ни пригонит ко мне карету, всегда сувенир заграничный. Мне вот тоже такой брелок привёз, с долларом… — А фамилия? — Не помню. В накладной-то всегда пишется, да я не помню. Простая какая-то фамилия. «Ну, это всё можно будет выяснить по книге регистрации, — подумал Бугаев, но тут же спохватился. — Он ведь как Анатольев пишется. По краденым правам». — Ну хоть отчество? — попросил он Валерия Сергеевича. — Да мы с ним по имени… Олег и Олег. Он как-то раз своего знакомого привозил, доцента. Так тот его Олежкой звал. — А где жил Олег? — Не знаю. — Может быть, кто другой из ваших знает? Могли дома ремонт делать… — Нет, с Олежкой только я работал. — А этот его знакомый, доцент? Где работает? Бригадир улыбнулся. — Где работает, не знаю. Но человек серьёзный. На генерала похож. — А зовут как? — с надеждой спросил Бугаев. — Аристарх Антонович его зовут, — сказал Валерий Сергеевич, — чудное имя всегда хорошо запоминается. — А фамилия у него не чудная? — Нет, фамилия у него, как и у меня. Платонов. Бугаев вздохнул с облегчением. Расставаясь, он с чувством тряхнул руку Платонова. — Валерий Сергеевич, договорились? О нашем разговоре — ни слова! — Будет сделано, товарищ начальник. Приезжайте, тэо вам устроим по высшему классу. — Приеду, — пообещал Бугаев. — Когда меня машиной премируют. Захорошую работу…6
Участковому инспектору Мухину не давала покоя одна мысль — почему этот человек, разбившийся в церкви, оставил свои «Жигули» так далеко? За несколько километров от села. Да ещё загнал машину в такие кусты, из которых ночью не сразу и выберешься. Своими сомнениями Владимир Филиппович поделился с гатчинским следователем Гапоненко, но капитан только усмехнулся. — Что ж он, по-твоему, прямо у церковной стены их поставил бы? У всех на виду? — Мог бы всё же поближе. Тут с километр будет… — Видно, тёртый калач. Думал, что мы собаку пустим. А там — за ручьём. Прошёл по воде, и конец. Доводы капитана не успокоили Мухина. «Объяснить то всё можно, — думал он. — А вот если в шкуру этого субчика влезть? Он же не на экскурсию пришёл. За иконами! И тащить их в такую даль? А как ночью машину в кустах найти? Тут и свой, деревенский, заблудится, не то что дачник…» Всех городских Владимир Филиппович называл дачниками. Без иронии, без подковырки — просто по привычке. Выросший в деревне, он привык к тому, что в их избе, да и у соседей летом всегда жили дачники. Орлино — село красивое. Огромное озеро плескалось прямо за огородами. В каждом доме плоскодонка. Чуть снег осядет под мартовским солнцем — дачники уже тут как тут. Ходят от избы к избе, спрашивают, не сдаётся ли. Капитан Гапоненко уехал в Гатчину, оставив участкового один на один со своими сомнениями. Владимир Филиппович достал из письменного стола лист бумаги и в течение часа прикидывал, кто из односельчан чаще всего шляется по ночам. Первыми в список было занесено десятка полтора парней и девчат, два мужика, часто работавших на Дружной Горке в ночную смену, несколько доярок, совхозный сторож. Потом инспектор прикинул, кто мог оказаться ночью недалеко от церкви. Выходило, что все молодые. Рядом парк — их туда всё время тянет, будто мёдом намазано. Одна доярка жила неподалёку. И конечно, сторож, но с ним Мухин уже говорил. После того как список был составлен, инспектор сел на мотоцикл и поехал домой. Там он переоделся в штатское. Каждый раз, когда надо было поговорить с человеком по душам, неофициально, или Мухин предполагал, что его собеседник при виде милицейского мундира может потерять своё красноречие и забыть половину из того, что знал, он надевал штатский костюм. Разговор с молодёжью складывался до противности одинаково. Словно все они сговорились. — Коля, — обращался инспектор к детине, которому, казалось, тесно в комнате. — Ты третьего дня в парке не гулял? — А что, разве нельзя? — с наигранным удивлением спрашивал Коля. — Мне шестнадцать ещё по весне стукнуло. — По ночам люди добрые спят, — для порядка говорил Мухин. — Нет такого закона, — ухмылялся детина, и Владимир Филиппович, безнадёжно махнув рукой, переходил к главному. В разговоре с Любашей Федичевой инспектору повезло. Любаша, ученица десятого класса, приходилась Мухину дальней родственницей. Её мать была двоюродной сестрой инспектора. Когда он спросил Любашу, не гуляла ли она ночью в парке, девушка залилась краской и опустила голову. Прежде чем Мухин добился от неё путного рассказа, она успела поплакать. — Дядя Володя, вы только маме не говорите, — попросила Любаша. — Я ей сказала, что у подруги засиделась. У Таськи Зайцевой… Делать было нечего, и инспектор скрепя сердце пообещал держать Любашину прогулку в секрете. Любаша и рассказала ему, что когда проходили они с Толиком Ивановым мимо церкви, то видели легковую машину. Белую. Для того чтобы узнать имя Любашиного ухажера, Мухину пришлось ещё раз дать клятву не проболтаться родителям. — В котором часу машину видели? Любаша пожала плечами. — Домой ты когда пришла? — В два. — Хорошо помнишь? — Ещё бы! Мама мне такую истерику закатила. Мухин осуждающе покачал головой. — Когда машину увидали, шли в парк или уже из парка? — Из парка. Мы потом у озера посидели чуточку и домой. Толик меня до прогона только довёл. Вдруг бы мама встречать надумала. Инспектор прикинул: от церкви до озера — минут пять. Там ещё «чуточку» — значит, полчаса. От озера до Любашиного дома тоже минут десять. Выходило, что от часу до двух машина стояла у церкви. — Вы, дядя Володя, не подумайте чего плохого, — сказала Любаша. — У нас всё всерьёз. — Ладно, — помягчев, отозвался Мухин. — На свадьбу не забудь пригласить. Толик Иванов после недолгого запирательства подтвердил рассказ своей подружки. «Вот так-так, — размышлял участковый, шагая по вечернему селу домой. — Он, голубчик, в церкви лежал, а машина сама собой каталась? Или сначала он подъехал, осмотрелся, а потом машину в кусты отогнал. И всё пехом?» Действия потерпевшего, по мнению Мухина, не соответствовали здравому смыслу. В селе было тихо. Лишь под ногами шуршали листья. Кое-где в домах ещё горел свет, да дрожащие голубые отсветы в окошках выдавали, что хозяева смотрят телевизор. На дальнем конце села за кладбищем лаяли собаки. С озера тянуло прохладой, сыростью, запахом смолёных лодок. «Не буду я Гапоненке звонить, — думал участковый. — Толку от него мало. Лёгкий человек. Позвоню начальству, в Питер». С одной стороны, Мухин стеснялся беспокоить ленинградское начальство, но разговор с подполковником Корниловым оставил у Владимира Филипповича хорошее впечатление. Пожилой сухощавый подполковник хоть и выглядел хмурым, разговор вёл по делу, вопросы задавал точные, словно заранее знал мысли самого Мухина. Но больше всего понравилось инспектору то, что подполковник не стал строить никаких домыслов, не поучал его, как надо работать. Сказал, что дело сложное, на кофейной гуще гадать не надо, а побольше порасспрашивать людей. — Если появится что-то новое, звоните, — сказал он на прощанье. — Майору Белянчикову звоните. Его не будет — мне. Сейчас для нас каждая мелочь дорога. Владимир Филиппович и позвонил Белянчикову, но его номер не отвечал, и старший лейтенант, преодолев робость, позвонил Корнилову. Трубку подняла секретарша и, узнав, что звонят из Орлина, тут же соединила Мухина с Корниловым. — Старший лейтенант Мухин беспокоит, — сказал участковый. — Что у вас там нового? — Голос подполковника звучал требовательно и строго, и Мухин решил, что позвонил не вовремя. В трубке были слышны голоса, приглушённые низкие гудки другого аппарата. — По поводу «Жигулей» хотел доложить, — сказал Мухин, но подполковник перебил его: — Извини, другой телефон… Участковый слышал, как Корнилов произнёс: — Позвоните через полчаса, у меня совещание. Мухин совсем смутился и, когда подполковник снова сказал в трубку: «Але, продолжайте, Мухин!» — виновато спросил: — Может, попозже, товарищ подполковник? — Давайте, давайте, рассказывайте, не смущайтесь, — ободрил Корнилов. — Мы тут как раз и сидим по этому делу. Старший лейтенант доложил коротко и чётко. — Молодец, — похвалил Корнилов. Потом несколько секунд помолчал, обдумывая что-то. — На днях я приеду. Жди. — И повесил трубку.7
Аристарх Антонович Платонов, хоть и был, по словам своего однофамильца со станции обслуживания, похож на генерала, работал в конструкторском бюро старшим инженером. И, по словам сослуживцев, коллекционировал иконы. Корнилов решил съездить к нему сам. Жил Платонов на улице Зверинской, в большом старинном доме. Его квартира под номером шесть оказалась на третьем этаже. Корнилов лифт не вызвал, пошёл пешком, удивляясь, как легко подниматься по широкой старинной лестнице. «Ловко умели строить, — подумал он. — И этажи повыше раза в два, чем нынче, а поднимаешься, словно на эскалаторе». У дверей шестой квартиры лежал чистый половичок, на самой двери был привинчен красивый крючок, чтобы хозяйка могла повесить сумку с продуктами, а потом уже спокойно доставать ключи. Игорь Васильевич дотронулся до крючка и покачал головой. Просто и удобно. Надо бы перенять опыт. Он позвонил три раза. Он всегда звонил три раза. Куда бы ни приходил. Привычка эта осталась у него с детства, когда они с отцом и матерью жили в коммунальной квартире. На маленькой медной пластине, прибитой к дверям, было написано: «Бубновым — 2 зв., Корниловым — 3 зв.». Люди, имевшие общий интерес, звонили один раз. За дверью послышались неторопливые тяжёлые шаги и неразборчивое мурлыкание. Корнилову показалось, что человек напевает какой-то цыганский романс. Щёлкнул замок, дверь приоткрылась. На подполковника смотрел хитрый, сощуренный глаз. — Вам чего? — спросил довольно бесцеремонно обладатель хитрого глаза и наклонил голову так, что бы видеть Корнилова и вторым глазом. Голос у него был басовитый, с начальственными нотками. — Мне товарища Платонова. — По какому делу? — По общественному, — усмехнулся Игорь Васильевич. — А, наконец-то! — сказал Платонов и, сняв цепочку, впустил в прихожую подполковника. — Я уже трижды к вам заходил. Хочу поставить дополнительные батареи… Перед Корниловым в красно-голубом халате стоял невысокий кряжистый мужчина лет сорока пяти. Подполковника поразило лицо Аристарха Антоновича — всё в глубоких складках-морщинах, словно порубленное шашкой. Странное сочетание самодовольства и хитрости наводило на мысль о том, что с Платоновым надо держать ухо востро. — Аристарх Антонович, я из милиции. Подполковник Корнилов… Платонов чуть выпятил нижнюю губу и с недоумением снова начал разглядывать Корнилова. Потом произнёс в растяжку: — Вот как! Из милиции? А я-то думал… — О чём он думал, Платонов недоговорил. Игорь Васильевич протянул удостоверение. Аристарх Антонович предупредительно поднял руку. — Нет, нет! Что вы! Я вам верю. — И читать, что написано в удостоверении, не стал. Но Корнилов был готов поклясться, что Платонов и так успел разглядеть всё, что там значилось. — Вы надолго? Подполковник улыбнулся. На такие вопросы ему ещё не приходилось отвечать. — Да нет, надоесть вам не успею… — Я просто думаю, где нам удобнее поговорить, — сказал Платонов и обвёл глазами прихожую. Наверное, прикидывал, а нельзя ли ею и ограничиться. Но в огромной прихожей, завешанной иконами, кроме маленького стула да тумбочки, ничего не было, сесть было не на что. Корнилов ждал, разглядывая выразительное лицо Аристарха Антоновича, по которому можно было прочесть весь ход мыслей. Лёгкая гримаса растерянности сменилась кротким выражением озабоченности, потом напряжённого раздумья, решимости, и наконец Платонов показал рукой на дверь: — Пройдёмте, товарищ. В этом «пройдёмте» не было и намёка на шутку. Идя за хозяином в комнату, Игорь Васильевич успел решить, как ему держать себя с Аристархом Антоновичем: «О том, где погиб этот Олежек, рассказывать я ему не буду. Если узнает, что он в церковь за иконами залез, насторожится. Кто их знает, что за отношения у них были!» Комната, в которую привёл подполковника Платонов, была похожа на музей. Три стены её, как и в прихожей, были увешаны иконами. Только иконы здесь были красивее и, как показалось Игорю Васильевичу, более древние. — Прошу вас, — Аристарх Антонович кивнул на большое кожаное кресло. Корнилов сел. Платонов устроился напротив. — Аристарх Антонович, никого из этих людей вы не знаете? — спросил подполковник, раскладывая несколько фотографий на журнальном столике. Платонов чуть привстал с кресла и с любопытством наклонился над карточками. Потом стал брать по одной и, повернув к свету, внимательно и подолгу разглядывать. Подчёркнуто внимательно. Потом почмокал губами и, вернув фотографии на прежнее место, сказал: — Нет. Никогда не встречал. Никого. В это время зазвонил телефон. Аристарх Антонович встал, подошёл к письменному столу, на котором стоял аппарат. Плотно приложив трубку к уху, он молча слушал несколько секунд, потом проворчал чуть раздраженно: — Слушаю, слушаю. Ты не мог бы позвонить через полчаса? Наверное, звонившего не устраивала отсрочка, потому что Платонов сказал: — Позвони завтра утром. — И с гримасой недовольства обвёл комнату рассеянным, скучающим взглядом. Но неожиданно он преобразился. — Шестнадцатый век? — почти крикнул Аристарх Антонович в трубку. — Ты в этом уверен? Обязательно, обязательно! Приеду сегодня же. Я на тебя надеюсь. — Улыбнувшись, он положил трубку, и лицо его, только что выражавшее неподдельный интерес, опять окаменело. Он подошёл к креслу и хотел опять сесть. Но Игорь Васильевич встал и развёл руками: — Эти мужчины на фотографии — весь мой интерес, Аристарх Антонович. Простите за беспокойство… — А как же… — Платонов недоумённо пожал плечами. — Почему вы пришли ко мне? — Он справился со своим недоумением и спросил почти сурово: — Почему вы считаете, что я должен знать кого-то из них? — Эти люди подозреваются в спекуляции. В скупке и перепродаже произведений искусства. Вы, как человек, коллекционирующий иконы, могли с кем-то из них встречаться. — Кто это додумался прислать вас ко мне? Я не имею дело со спекулянтами. — Аристарх Антонович, — мягко сказал Корнилов, — ещё раз простите. Мы разговаривали со многими коллекционерами. И кто-то порекомендовал мне зайти к вам… Спускаясь по лестнице, Игорь Васильевич представил озадаченное лицо Аристарха Антоновича и почему-то испытал от этого удовлетворение. «Пускай думает. Пускай ломает голову. Не узнать своего приятеля он не мог!» Ему было совсем не жаль Платонова. Уж очень вызывающе самодовольным показался ему этот старший инженер. В машине Корнилов связался с управлением и попросил Бугаева выяснить, с кем будет встречаться сегодня вечером Аристарх Антонович: — У этого Аристарха вся квартира иконами завешана. Не исключено, что у него с погибшим не только общие автомобильные интересы были.8
В контору на Владимирской Лебедев опоздал. Там уже кончали работу. Ничего не оставалось, как ехать в управление и пытаться разыскать Петра Никитича Гулюкина через справочное. Не так, наверное, и много в Ленинграде Гулюкиных, да ещё живущих в Гавани, решил Лебедев. В половине восьмого у старшего лейтенанта уже имелся точный адрес старика — Шкиперская улица, тридцать один, квартира один. «Небось живёт Никитич на первом этаже. Подниматься не надо, — с удовлетворением подумал он. — Отправлюсь к Гулюкину через полчасика, а пока загляну в буфет. А то на голодный желудок тяжело будет с пьяным стариком разговаривать». Лебедев помнил слова парня из мастерской о том, что Гулюкин запил. Но всё обернулось иначе. Лебедев ещё доедал свою яичницу в буфете, когда динамик хрипло выдавил: «Старшего лейтенанта Лебедева к дежурному по городу». Лебедев залпом выпил стакан чая и с сожалением бросил взгляд на аппетитную ватрушку, оставшуюся на тарелке. — Говорят, вы мастерские металлоремонта объезжали? — спросил дежурный, майор Загладин. — Я, товарищ майор. Что случилось? — Из Василеостровского управления позвонили, к ним старик какой-то пьяненький пришел. Говорит, был у него в мастерской краснощёкий опер, про замок допытывался… Лебедев густо покраснел и насупился. — Так передали, — заметив это, сказал майор, пряча улыбку. — Вы, значит, были? Старик, похоже, хочет признание сделать. Поезжайте. Пётр Никитич сидел в комнате дежурного и что-то рассказывал лейтенанту и старшему сержанту. Судя по их улыбкам, что-то смешное. Он был явно подшофе. Увидев Лебедева, старик показал на него рукой и сказал: — Ну вот, явился — не запылился, а вы говорили. Поздоровавшись, старший лейтенант сел. — Может, в пустой кабинет пройдёте? — спросил лейтенант. — Да зачем нам пустой кабинет? — запротестовал Гулюкин. — У нас с молодым человеком секретов нет. «Ну и нахал дед», — подумал Лебедев, с обидой вспомнив, что тот окрестил его «краснощёким опером», но сказал весело, подыграв Гулюкину: — Нету, нету секретов. Здесь поговорим с дедушкой. — Пётр Никитич задушевный человек, — подмигнул Лебедеву лейтенант. — Столько нам нарассказал… — Ты на меня обиду не держи, товарищ, — сказал Гулюкин Лебедеву. — Я дед занозистый. Люблю, когда со мной душевно, а ты забубнил, как радио. Слышать тебя слышу, а не вижу. Не могу понять, что ты за человек… Лебедев вздохнул. Чего он мелет?! В присутствии сотрудников из района. Но приходилось терпеть. Не зря же пришёл дед в милицию? — Я думал, что ты насчёт левой работы придираться будешь. Ну бывает, бывает. Нам-то со старухой много не надо, а внукам хочется чего ни то прикупить. Штаны вон американские двести рубчиков стоят, а глядеть не на что. Купил я внучке, она их мочить стала, чтоб сели, так восемь раз воду меняла — всё линяли те штаны. Покрасить как следует не могут! — Дед развёл руками и скорчил уморительную гримасу. — Такие вот дела, товарищ опер. Замок-то я делал. Может, я не вспомнил бы, да заказчик один ключ потерял — приходил через полгода, просил запасной выточить. Я и запомнил. Ну а после наших с тобой переговоров загрустил я. Думаю, ведь без дела не спрашивал бы. Поехал домой. Выпил. Это было, скрывать не стану. Загрустил ещё боле. Ну прямо тоска заела. Со старухой поделился. У меня после семидесяти секретов от нее нет. Старуха и говорит: «Иди, Петя, в милицию, покайся. Больше десяти суток тебе не дадут за то, что нетверезый». Я и пошёл. Старуха у меня умная, голова что Дом Советов. — Старик посмотрел на Лебедева. Глаза у него были добрые, беспомощные, чуть слезились. — Как на духу. — Заказчика вы запомнили? — А как же! По всей форме. Молодой, красивый. Зовут Олегом. У Лебедева радостно ёкнуло сердце. — Ну а фамилию? Старик виновато мотнул головой. — Тот-то и оно. Я ему левый заказ делал, квитанций не писал, фамилий не спрашивал. Да на такие сложные замки у нас и расценок нет! — Эх! — не сдержав разочарования, выдохнул старший лейтенант. — Если хочешь, могу дом показать, — сказал старик. — Это я помню. Штаны-то американские Олег мне продал. Я с ним поделился внучкиными заботами, а он говорит: «Садись в „жигуль“, заедем ко мне — будут твоей внучке клёвые штаны». Фартовые то есть. Какой-то там супер. — Помните адрес? — Сказать не могу, а на глаз можно. Гдей-то в Парголове. Я ещё заметил — у него в саду яблоки осыпавши, и никто не собирает. — Поехали, Петр Никитич, — вскочил Лебедев. — Так меня выручите! — Сорок рублей и бутылка, — дурашливо сказал старик. — Бутылка сейчас! — и подмигнул Лебедеву. Лейтенант и старший сержант засмеялись. Заметив, что Лебедев нахмурился, Гулюкин улыбнулся и встал. — Не бери в голову, молодой человек. Это у меня присказка такая. Сказка будет впереди. Поехали, поехали. «Ничего себе присказка, — думал Лебедев, усаживаясь в машину. — Я уж подумал, придётся на коньяк раскошеливаться. Водку-то после семи не продают». Старик будто читал мысли старшего лейтенанта. — Башка моя болит от дум и разговоров! Ой, болит — словно у меня там трамваи ездят. Где бы это хоть пива выпить? — Выпьем, Петр Никитич, выпьем. Только дом покажите, найдём пиво.9
Бугаев остановил машину на Зверинской наискосок от большого серого дома, в котором жил Аристарх Антонович Платонов. На улице было тихо и пустынно. Только на скамейке рядом с маленьким садиком вели неторопливую, нескончаемую беседу четыре старухи. У кафе, привязанный к ограждению витрины, сидел, склонив голову набок, щенок эрдельтерьер. Наверно, он дожидался своего хозяина давно, потому что радостно кидался навстречу каждому выходящему, а потом разочарованно поскуливал. Близость кафе навела капитана на мысль о том, что сегодня он рискует остаться без ужина. Семён достал из «бардачка» полиэтиленовый пакет и, закрыв машину, пошёл в кафе. Эрдельтерьер с надеждой посмотрел на него. В пустом зале высокая стройная девушка в вельветовых брючках и кожаной куртке о чём-то шепталась с молодой буфетчицей. Бугаев взял из вазы, стоявшей на прилавке, две сдобные булочки и спросил у девушки: — Это не ваша собачка была привязана у дверей? Девушка резко обернулась. Глаза у нее были большие, голубые, чуть испуганные. — Почему это была? — В её голосе прозвучал вызов. — Собачка ушла в неизвестном направлении. — Ой, Галка! — вскрикнула девушка. — Микки опять перегрыз поводок! — И побежала к выходу. — Галя, — сказал, подавая буфетчице деньги, Бугаев, — получите за две сдобные. А Микки на месте. Мне просто стало его жаль. Буфетчица улыбнулась. В это время вернулась её приятельница. — Это что, новый способ знакомиться? — строго спросила она Бугаева. — Старый, совсем старый, — усмехнулся Семен. Девушка ему была симпатична, и он чувствовал, по чуть дрогнувшим уголкам её губ догадался: она готова простить ему шутку. На улице Бугаев остановился перед эрделем, отломил кусочек булочки и положил рядом. Но пёс, не обратив внимание на еду, проникновенно смотрел на Семёна и жалобно скулил. — Суровая у тебя хозяйка, — сказал капитан. Он сел в машину, опустил стекло и внимательно осмотрел дом, в котором жил Платонов. В окнах его квартиры на третьем этаже горел свет. В окошке рядом висела авоська с крупными красными яблоками. Бугаев вытащил из кулька мягкую ароматную булочку и, откусив, обернулся к эрделю. Укоризненно покачал головой. Такой булочкой пренебрёг. Из подъезда вышел мужчина с маленьким чемоданом в руке, посмотрел на часы и прыгающей походкой пошёл в сторону улицы Горького. Бугаев, с аппетитом уплетая булочку, рассеянно смотрел ему вслед. Его интересовал другой мужчина — «коренастый шатен с выражением на лице». Да уж умел подполковник Корнилов, не вдаваясь в долгие объяснения насчёт цвета глаз и формы подбородка, дать словесный портрет человеку, словно припечатать. Бугаев хорошо усвоил его характеристики, научился видеть людей глазами Корнилова и никогда не ошибался. Радостно тявкнул пёс. «Дождался свою хозяйку», — подумал Семен и бросил взгляд в сторону кафе. Эрдель радостно прыгал вокруг девушки. «Фигура-то какая. Ай-яй-яй. А я при деле». Девушка заметила Бугаева, улыбнулась и, наверное, тут же осудив себя за проявленное мягкосердечие, насупилась и гордо прошагала мимо. — Микки! — позвал Бугаев. Эрдель обернулся и натянул поводок. Девушка сердито посмотрела на Бугаева. — Я хотел его подкормить, — смиренным голосом сказал Семён, вылезая из машины. — А он у вас привереда. Ему, наверное, колбасу подавай. А колбасы я и сам бы съел. — На колбасу у вас денег не хватает? — сказала девушка. — Всё на машину потратили? — Конечно! Бензин-то нынче дорогой. — Бугаеву хотелось подольше задержать девушку. Поговорить с ней. Так было полезнее для дела. Кому придёт в голову, что любезничающий с девушкой мужчина торчит здесь по службе. Девушка помедлила, внимательно глядя на Бугаева, потом, словно решившись, вынула из сумки пакет молока. — Запейте. — Она протянула пакет Семену. — Или вы молоко не употребляете? — Употребляю, — весело отозвался Бугаев и тут увидел, как из подъезда вышел Аристарх Антонович. Шатен он или нет, капитан не разобрал, — на голове Платонова красовалась светло-серая шляпа, — но по сосредоточенному, смятому волевой гримасой лицу, по всему облику Бугаев понял, что не обознался. — Если вы ещё и улыбнетесь, — сказал капитан девушке, — я буду считать сегодняшний ужин самым счастливым. Девушка не выдержала и улыбнулась. «Какая у неё добрая улыбка», — отметил Семен. Платонов уверенной, самодовольной походкой подошёл к красным «Жигулям», достал из кармана светлого плаща ключи и открыл дверцу. Прежде чем сесть в машину, он оглянулся по сторонам. По тому, как он это проделал, Бугаев понял, что у Аристарха Антоновича оглядывание — обычный ритуал самодовольного человека. «Я сажусь в свои новенькие „Жигули“. Видят ли это прохожие?» Он заметил девушку и поклонился ей. А она ответила на приветствие небрежным взмахом руки. «Э-э, да они знакомы», — отметил капитан, ещё не представляя, хорошо это или плохо и как такой факт можно будет использовать в будущем. — Не предлагаю довезти вас до дому. За молоком не ездят в другой район, — сказал Бугаев девушке, внимательно следя за тем, как Платонов усаживается в машину, вставляет зеркало. — За угощение — спасибо. Завтра я верну шестипроцентным… Вашей подруге Гале. И у неё узнаю ваш телефон. Бугаев сел в машину, включил зажигание и, отпустив метров на двести вперёд красные «Жигули» Платонова, двинулся следом. Девушка с недоумением смотрела на отъезжающий автомобиль. Платонов ехал не спеша, соблюдая правила. Бугаеву даже показалось, что при виде инспекторов ГАИ он сбавляет скорость. Он проехал Большой проспект, свернул на Кировский. Машин было уже немного, и капитан, чтобы Аристарх Антонович не заподозрил недоброе, отпустил его довольно далеко вперёд. На Каменном острове Платонов остановился у телефонной будки. Проехав чуть вперёд, затормозил и Бугаев. Или нужный номер был занят, или Платонов долго говорил. Ждать пришлось порядочно. А когда Аристарх Антонович вышел из будки, подошёл к своим «Жигулям», его ожидал инспектор ГАИ. «Что он там нарушил? — с неудовольствием подумал Семен. — Такой дисциплинированный водитель». Платонов что-то долго объяснял инспектору, смешно жестикулируя, пока инспектор не отвёл его шагов на двадцать назад и не показал на какой-то знак. «Стоянка запрещена, — догадался Бугаев. — Сейчас и до меня очередь дойдёт». Искушать судьбу он не стал и, пока Платонов платил штраф, отъехал, поджидая его за Ушаковским мостом. Когда они миновали Поклонную гору, капитан забеспокоился. Похоже было, что Аристарх Антонович собрался на ночь глядя за город, а у Бугаева было меньше чем полбака бензина. Но в Парголове Платонов свернул с шоссе на тихую зелёную улицу. Выждав немного и выключив огни, Семен направился за ним. Габаритные огоньки платоновского автомобиля виднелись уже в конце улицы. Наконец мигнули тормозные. Видно, Аристарх Антонович прибыл на место. Бугаев тоже остановился, чуть не съехав в канаву, осторожно закрыл дверцу и легко побежал по тропинке туда, где только что светились огни автомобиля. Было совсем темно. Лишь редкие неяркие фонари высвечивали неровную, заросшую подорожниками дорогу. В редких домах светились окна, прохожих не было. Не доходя до машины, Бугаев остановился и прислушался. Шагов не было слышно. «Что же он, решил в машине заночевать? — подумал Семен. — Или уже зашёл в дом?» Но, приглядевшись как следует, Бугаев заметил, что Платонов поставил машину там, где никакого дома не было. Напротив пожарного водоема. Капитан решил не торопиться. «Не увидел, куда зашёл, увижу, откуда выйдет, а так спугнуть можно». Но в это время осторожно открылась дверь «Жигулей» и так же осторожно закрылась. Слышно было, как царапнули по металлу ключи, не попав сразу в замочную скважину. Потом послышались шаги. Бугаев тихо двинулся следом. Около одного из фонарей он разглядел Платонова. Тот шёл спокойной, уверенной походкой, держа в руке довольно большой чемоданчик-«дипломат», тускло поблескивающий металлической окантовкой. Мягко пружинила под ногами земля. Трава уже стала мокрой от росы. Лёгкий ветерок доносил из садов одуряющий запах цветущего табака и ещё каких-то сладко пахнущих цветов. Неожиданно Платонов остановился. Замер и Бугаев. Аристарх Антонович стоял минуты две, очевидно прислушивался. Потом Бугаев услышал шорох, негромкое дребезжащее постукивание — наверное, Платонов подёргал калитку. Семён придвинулся поближе, чтобы не пропустить, куда он войдёт. Теперь он различал тёмный силуэт Платонова, припавшего к забору и пытавшегося что-то сделать с замком. Похоже, что калитка никак не открывалась. Аристарх Антонович поднял над забором «дипломат». Бугаев услышал, как, скользнув по кустам, чемоданчик глухо ударился о землю. Громко сопя, Платонов полез через ограду. Семён затаился, ожидая, что штакетник обломается, но Аристарх Антонович ухитрился ничего не сломать и, грузно перевалившись через забор, стал шарить в кустах, отыскивая «дипломат». Потом кусты прошелестели в направлении к темневшему в глубине участка дому. Ни одного огонька не светилось в окнах. Бугаев осторожно подошёл к калитке и с трудом прочитал на проржавевшем номерном знаке: «Озерная ул., дом 6». Рядом висел почтовый ящик, в котором белели газеты. Собственно говоря, делать здесь Бугаеву было больше нечего. Он выполнил задание подполковника, выяснил, куда отправился на ночь глядя заинтересовавший уголовный розыск Аристарх Антонович Платонов. Но сомнительный способ, с помощью которого Аристарх Антонович проник на дачу, весьма заинтересовал капитана. «Тут что-то не то! — подумал он. — К себе на дачу люди через забор не лазают!» Он прошелся вдоль забора, слегка подёргав штакетины. В одном месте они свободно раздвинулись, открыв лаз, которым, наверное, пользовались местные мальчишки. «Могли бы вы, Аристарх Антонович, и поберечь свои штаны, не лазать через забор», — ухмыльнулся Бугаев. Его так и подмывало нырнуть в сад и проверить, чем там занят его подопечный, но это уже было нарушением закона. А если дача принадлежит самому Платонову и он просто забыл дома ключи? «Хорош же я буду, если он обнаружит меня в своём собственном саду». Но и уехать капитан не мог. Чтобы не маячить у забора, он перешёл на другую сторону улицы. Отсюда дом, куда приехал Платонов, был виден лучше: не мешали кусты, разросшиеся вдоль забора. Окна в доме были по-прежнему тёмные, но через несколько минут где-то в глубине дома появился свет, видно, включили лампочку в прихожей, а дверь в комнату оказалась приоткрытой. На мгновение света стало больше, в дверном проёме мелькнула фигура человека, и дверь плотно прикрыли. «Сейчас задёрнет занавески», — подумал Бугаев и не ошибся — скоро в двух окнах появились слабые отблески, пробивающиеся сквозь узкие щели плотных штор. За спиной у капитана с громким стуком открылось окно. — Позакрывала все окна! Не продохнуть! — донёсся ворчливый бас, а потом Бугаев услышал приглушённую музыку. И голос популярного актёра: «До чего точен этот плут! Приходится говорить осмотрительно, а не то мы погибнем от двусмысленности». «Который раз показывают эту картину…» — мелькнула у капитана мысль, и тут же резкий женский голос заставил его вздрогнуть: — Опять зарплату не принёс! Пьянь несчастная. Что пялишься? Залил глаза водкой! «Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио», — прошептал артист. Потом его слова утонули в бубнящем голосе мужчины. — Ты мне сердце не рви. Уймись! Хуже будет. Заплакал ребёнок, и тут Бугаев услышал шум приближающейся автомашины. Яркий свет фар высветил все колдобины и лужи на дороге. Недалеко от того места, где стоял капитан, машина остановилась. Хлопнули дверцы. — Где-то здесь, — сказал мужской старческий голос. — Темно как… — мужчина выругался. — Не могли до утра подождать. — Ничего, Пётр Никитич, — успокоил молодой звонкий голос. — Сейчас пройдёмся, вы и вспомните. Голос этот Бугаеву был хорошо знаком. «Володька Лебедев, — удивился капитан. — Чего он тут делает?» — Семён перепрыгнул через канаву и кинулся к машине. — Лебедев! — тихо позвал он. — Я, — отозвался молодой голос. — Кто здесь? — Да не ори ты! — одёрнул Бугаев. — Семён, ты? — узнал старший лейтенант. Бугаев подошёл к машине и сказал шофёру, выглядывавшему через опущенное стекло. — Свет выруби. Улица снова погрузилась во мрак. — Вы чего приехали? — спросил Семён у Лебедева. — Пётр Никитич ключ опознал, — прошептал Лебедев. — От дома погибшего… — Значит, сошлось. Платонов туда залез. — Какой… — начал Лебедев. — Аристарх. Ну что ж, теперь нам сам бог велел. Сажай своего Никитича в машину. Пусть сидит тихо и не вылазит, — скомандовал капитан. — А дом? — удивился старик. — Дом будем искать? — Садитесь и сидите молча. И не курить. — В голосе Бугаева старик почувствовал неоспоримую властность и, не проронив больше пи слова, полез в машину. Бугаев тихонько притворил за ним дверцу. — Давай за мной, — сказал он Лебедеву, и, перескочив через канаву, они подошли к забору. Семен нашёл лаз и нырнул в него. В боковом окне щель между шторами была побольше. Схватившись руками за наличник, Бугаев влез на уступ фундамента. Лебедев поддерживал его сзади. Комната была большая, плохо освещённая. Скорее всего Платонов включил только настольную лампу. Сам он стоял около стены, завешанной иконами, и, держа в руках, рассматривал одну из них. Потом потянулся вверх и повесил её на место. И тут же снял другую. Перевернув, он внимательно посмотрел на обратную сторону. Бугаеву даже показалось, что Платонов ласково провёл по ней рукой. Эту икону Аристарх Антонович осторожно поставил на пол. Семен заметил, что так уже стоят, прислонённые к стене, несколько икон. Аристарх Антонович между тем прошёлся вдоль стены, внимательно разглядывая иконы. Наверное, он что-то искал и не мог найти, потому что, скрывшись на несколько секунд из поля зрения капитана, появился, держа в руке маленькую настольную лампу, и стал светить на иконы. Косые лучи прыгали по ним, и казалось, что святые ожили — выражения их лиц судорожно менялись в игре света и тени. Наконец Платонов снял ещё одну икону и поставил лампу на место. Потом принёс «дипломат» и стал складывать туда иконы. «Сейчас выйдет, — подумал капитан. — Тут мы и возьмём его с поличным. Надо же — ведь самый настоящий ворище!» Он тронул Лебедева за плечо и осторожно слез на землю. — Будем брать на выходе. А то скажет, что влез из чистого любопытства, — прошептал Семен старшему лейтенанту. — Он тут крупно прибарахлился. Инспекторы затаились у крыльца, но в доме по-прежнему была тишина. — Что он там, спать улёгся? — сердито шепнул Бугаев и снова приладился к окну. Аристарх Антонович, открыв дверцу бара, наливал в стакан коньяк. Налив половину, он посмотрел на стакан, смешно оттопырив губы, и долил ещё. «Вот живоглот! — подумал Семен, глядя, как Платонов с удовольствием пьёт из стакана. — И коньяк-то марочный выбрал!» Платонов поставил пустой стакан на полочку, внимательно осмотрел бар, взял три пачки сигарет — Бугаев не разглядел каких — и закрыл бар. Потом, словно спохватившись, снова открыл и, вынув из кармана носовой платок, тщательно вытер им бутылку, стакан, потом дверцу бара. Бугаев спрыгнул и подошёл к Лебедеву, присевшему на крыльце. — Что там? — спросил старший лейтенант. — Цирк. Сейчас будет весь дом носовым платком обтирать. Но огонь в окне погас, негромко стукнула дверь в глубине дома. Платонов, неслышно ступая, появился на крыльце. Со света он не заметил сотрудников и, повернувшись к ним спиной, прикрыл дверь и сунул ключ в замок… — Гражданин Платонов! — строго сказал Бугаев. — А-а-ай! — дёрнулся Аристарх Антонович, словно ужаленный, и, пригнувшись, кинулся от дверей, угодив Лебедеву головой в живот. Каким-то чудом Володя удержался, а Платонов свалился с крыльца, ломая кусты.Понятыми пригласили старика Гулюкина и соседку, молодую женщину, которая и сообщила, что дом принадлежит Олегу Анатольевичу Барабанщикову. Лебедев сел писать протокол. Бугаев открыл на столе «дипломат» Платонова. Там лежали три небольшие иконы. Аристарх Антонович на вопросы отвечать отказался. — В чемодане «дипломат», изъятом при задержании гражданина Платонова Аристарха Антоновича, обнаружены три иконы с изображением святых, — продиктовал капитан Лебедеву. Гулюкин, с любопытством разглядывавший иконы, сказал: — «Георгий Победоносец», «Спас на престоле» и «Положение во гроб». — Вы точно знаете? — спросил Бугаев. — Точно, товарищ начальник. — Так и запишите, товарищ Лебедев, — официальным тоном сказал капитан. — Врёт! — вдруг подал голос Аристарх Антонович, пришедший в себя после испуга и сидевший с каменным лицом. — Старый человек, а врёт! Какой же тут «Спас на престоле»? Нечего приписывать мне чужие иконы. — Немой заговорил, — тихо, себе под нос, буркнул капитан и, повернувшись к Аристарху Антоновичу, спросил: — А что же это за икона? — Принадлежащая лично мне икона «Спас в силах». Гулюкин смущённо махнул рукой — пишите, мол, что хотите. Бугаев открыл второе отделение «дипломата» и вынул оттуда большой синий конверт. В конверте лежала старинная книга в бежевом, телячьей кожи, переплёте. — Библия, что ли? — Капитан раскрыл её и увидел, что жёлтые, кое-где истлевшие страницы исписаны красивой старинной вязью, а заглавные буквы раскрашены. — Библия толще, — вставил Гулюкин. — Э-э… — Аристарх Антонович издал какой-то нечленораздельный звук. — Вы хотите сделать заявление, гражданин Платонов? — поинтересовался Бугаев. У него никак не выходил из головы Платонов, пьющий чужой коньяк. Аристарх Антонович не сводил глаз с книги. — Нет, не хочу, — наконец выдавил он. — Запишем: старинная книга. — Бугаев сунул руку в конверт и достал оттуда железнодорожный билет с фирменным посадочным талоном на «Стрелу». — Поезд номер один, вагон шестой, место тринадцатое, — сказал он. — А поезд-то ушёл, Аристарх Антонович! Билет-то вчерашний! Что же вы не уехали? Неотложные дела задержали? Платонов молчал. — По каким делам вы оказались в доме гражданина Барабанщикова? — спросил Бугаев. — И откуда у вас ключ от чужих дверей? — Он положил на стол длинный ключ с заковыристой бородкой — чудо кустарного производства. Точно такой же, что нашли в кармане погибшего хозяина дома. — Моё изделие! — гордо сказал Гулюкин. — Точно. — И требовательно уставился на Аристарха Антоновича, словно хотел поскорее услышать, каким образом его произведение оказалось в руках Платонова. Но Платонов больше не произнёс ни слова. Он сидел с таким видом, словно всё происходившее в доме совсем его не касалось. Лицо Аристарха Антоновича снова приобрело выражение значительности и превосходства. Бугаев махнул рукой: — Ладно. Ещё наговоримся. Время будет. Понятые подписали протокол, дверь опечатали. В машине Гулюкин с сожалением, ни к кому не обращаясь, сказал: — Время позднее, пивком уже не разжиться. Ну да ладно. Вижу, и без меня бы вы обошлись, соколики…
10
На следующий день утром Лебедев выяснил в домоуправлении, что Олег Анатольевич Барабанщиков работал на станции Ленинград-Товарный, в военизированной охране. Начальник охраны, пожилой плотный мужчина, похожий на офицера-отставника, только что вскипятил чай и разложил на столе бутерброды, поэтому появление Лебедева его не слишком обрадовало. Он отвечал неохотно, хмурился, то и дело дотрагивался широкой загорелой ладонью до чайника, словно хотел намекнуть о необходимости поскорее закончить разговор. — Барабанщиков? Работает такой. Есть ли замечания? Замечаний нет. Всё у него тихо, никто не балует. — Как же вы говорите — работает, — не вытерпел Лебедев, — когда он три дня назад погиб. — Погиб? — удивился начальник и открыл серую, залапанную не слишком чистыми руками амбарную книгу, словно в ней должны были появиться сведения о гибели Олега Анатольевича. — Вот как?! Погиб, — шепнул начальник, выискивая что-то в многочисленных графах. Найдя, сказал: — Он сегодня в ночь должен выйти. Но, кажись, с кем-то ещё менялся дежурствами. Сейчас выясню. — Открыв дверь в соседнюю комнату, он спросил: — Григорьева, Барабанщиков ни с кем не менялся сменами? — Менялся, Пётр Петрович, — ответил приятный женский голос — С Брейдо он менялся. Говорил, в Москву надо. — В Москву, говорил, надо, — снова усевшись за стол, повторил начальник и приложил ладонь к чайнику. Наверное, чайник катастрофически остывал, потому что Пётр Петрович, вдруг решившись, сказал: — А вы, товарищ, может, со мной за компанию по чайку ударите? Ничего нет лучше для выяснения каких-либо обстоятельств, получения необходимых сведений, как серьёзное, с глазу на глаз чаепитие. Исчезают натянутость первых минут знакомства, настороженность. Ничего не значащие реплики, вроде «эх, чаёк, всем напиткам королёк» или сообщение друг другу «чайных» секретов, помогают найти общий язык и завести душевную беседу. Бутерброды Петр Петрович разделил по-братски, чай заварил со знанием дела. Да и беспокоился он напрасно — кипяток был ещё что надо. — У нас ведь народ сложный, товарищ Лебедев, — рассказывал он, с удовольствием прихлёбывая чай. — Из-за денег к нам не идут, зарплата с гулькин нос. Нанимаются лоботрясы, к любому другому делу непригодные, или те, кому время свободное нужно. Так что вахтёры наши на всяк манер. В душу-то человеку не залезешь, но я ведь чувствую — есть такие ловчилы! И калымят где-нибудь, и ещё чёрт-те чем занимаются. Лебедев слушал внимательно, не донимал Петра Петровича вопросами. Ждал, когда дело дойдёт до Барабанщикова. — Вот есть такой вахтёр — Плошников. Мужик двужильный. Так он в свободное время у себя в гараже машины чинит. Когда-то на станции техобслуживания работал. Мастер! Так этот Плошников на своей починке в десять раз больше заработает, чем у нас. Но человек он тихий, не запивает, не прогуливает. А есть и умственные люди. Два молодых парня-художника работают. Ну, не могу сказать, что известные. Но хорошие художники. — Он достал из стола книжку в зелёной суперобложке. Лебедев не успел прочитать название. Раскрыл. — Вот видите — оформление художника Бунчакова. Саня у нас работает… А вот Барабанщик… — Он машинально сказал «Барабанщик», так, наверное, как привыкли звать Олега Анатольевича между собой, но тут же поправился: — А вот Барабанщиков был мне мало понятен. Человек добрый, приветливый, для каждого нужное слово найдёт, но не мог я понять — в чём его стержень. Заглянет в контору — всё у него хиханьки да хаханьки. Кому среди зимы гвоздичку подарит, кому пачку сигарет американских. А начнёшь с ним про житьё-бытьё говорить, он словно налим, не даётся в руки. — Пётр Петрович вздохнул, потом спросил: — Он что ж, в аварию попал? — Нет. Ездил за город, проник в полуразрушенную церковь. Ну и… то ли с высоты сорвался, то ли ещё что. Разбился, в общем. — Вот так-так! — удивился начальник. — Чего это он полез в церковь? Такой осторожный человек. Лебедев промолчал. — Да, знал бы, где упасть, — покрутил головой Пётр Петрович. — Он дружил с кем-нибудь из сотрудников? — У нас особо не раздружишься. Отдежурил сутки и гуляй. Как собрание запланируем провести, прямо бедствие, аврал объявляем. Не соберёшь ведь наше войско. — Он подумал немного. — АБарабанщиков-то со всеми ласков был. Дружить не дружил, но ни с кем не ссорился. Подмениться был всегда готов. — Пётр Петрович вдруг неожиданно засмеялся и закрутил головой: — Не пойму только, почему его собаки не любили! Ведь сколько раз кусали. — Какие собаки? — удивился Лебедев. — Да наши. Сторожевые. Вахтёр, когда на дежурство идёт, собак во двор выпускает. Да и кормит их он. Приехав в управление, Лебедев на всякий случай поинтересовался в ОБХСС, не было ли за последние годы случаев воровства на станции Ленинград-Товарный. Ему ответили, что с тех пор, как там поменяли начальника охраны, хищения прекратились. «Молодец Пётр Петрович, — подумал Лебедев с теплотой, — наладил дело». И ещё одну новость узнал старший лейтенант в управлении. Олег Анатольевич Барабанщиков, сорокового года рождения, кличка Барабан и Фокус, дважды судимый, один раз — за мошенничество, второй — за покушение на убийство, значился в картотеке Министерства внутренних дел Союза.11
Вид у Аристарха Антоновича был насупленный. Четыре морщины на лбу залегли особенно глубоко. Не чувствовалось, что неожиданное задержание на чужой даче поколебало его самоуверенность. «Кого же он мне напоминает?» — подумал Игорь Васильевич, но вспомнить так и не мог. — Ну что ж, Аристарх Антонович, вчера я у вас гостил, сегодня вы ко мне с ответным визитом… Платонов шутки не принял, только сердито скосил на Корнилова холодные голубые глаза. — Вам, конечно, понятна причина задержания? — продолжал подполковник. — Нет. Совсем непонятна, — отрубил Платонов. — Я объясню ещё раз. Вы были задержаны в доме, принадлежащем гражданину Барабанщикову Олегу Анатольевичу, при попытке вынести оттуда три старинные иконы… — Корнилов перелистнул протокол задержания. — Ценность икон определит экспертиза… — Всё не так! — Вот и объясните, как было на самом деле. — Корнилов достал сигареты, закурил. Протянул пачку Аристарху Антоновичу. — Не хотите? — Тот мотнул головой. Несколько минут они сидели молча. Платонов то сдвигал брови, то выпячивал нижнюю губу, то принимался быстро-быстро барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Корнилов не торопил. Наконец Аристарх Антонович сделал глубокий вдох, как перед прыжком в воду, громко выдохнул воздух и сказал: — Вам известно, что я старший инженер конструкторского бюро? — Да, — кивнул Игорь Васильевич и включил магнитофон. — Это записано в протоколе задержания. — К тому же я кандидат технических наук. В кругу моих коллег — учёных и инженеров — мой арест вызовет недоумение… — Он на секунду замолк, подбирая слова. — И возмущение произволом… — Мы заинтересованы побыстрее разрешить все проблемы, — благожелательно сказал Корнилов. — Вы хотели объяснить, как оказались в чужом доме? — Ну хорошо, — согласился Платонов. — Объ-яс-няю: Барабанщиков — мой знакомый. Не приятель, не друг — просто знакомый. У-точ-няю: несколько раз он оказывал мне услуги — реставрировал иконы. У меня большая коллекция… Корнилов кивнул. — Вот-вот. Вы имели честь… Несколько месяцев назад я дал Барабанщикову на реставрацию три редких экземпляра. — Он подумал немного и добавил: — Нет, прошло уже больше времени. Больше года. Игорь Васильевич пометил на листке бумаги: «3 иконы?» — Вчера вы приходите ко мне и показываете фотографию Олега Анатольевича. Так сказать, мёртвого… — Он свёл морщины на лбу. Откашлялся. — Понимаю ваше недоумение, но на фото Барабанщикова я сразу не узнал. Потом, когда вы ушли, меня вдруг осенило… Я решил проверить — это так естественно. Не правда ли? — Продолжайте, продолжайте, — кивнул Игорь Васильевич. «Не прост, Аристарх Антонович, не прост! — подумал он. — Логично излагает». — Телефона у Барабанщикова нет. Я поехал на машине. Ключ от дома Олег мне дал давно. Иногда я приезжал в его отсутствие отдохнуть. Увидев, что дом пустой, — понял, случилось несчастье. Я не обознался — на фото Олег мёртв? Вы понимаете, товарищ… — Корнилов. — Товарищ Корнилов. Когда начинаешь волноваться, всегда делаешь ошибки. Олег умер, подумал я. Приедут родственники. Они живут у него в Пензе. Имущество разделят. Иконы выбросят или продадут. Как я докажу, что это мои иконы? Как? — Он развёл руками. — Ну вот! Я решил их забрать. Мои иконы. В это время приехали ваши товарищи. — Иконы отреставрированы? — Что? Ах да! Иконы. Уже отреставрированы. Я могу заплатить родственникам за работу Олега Анатольевича. — Аристарх Антонович, у вас с Барабанщиковым есть общие знакомые? — Кого вы имеете в виду? — Общих знакомых. Людей, которые бы знали и вас и Барабанщикова. — Есть, конечно. — Кому-то из них можно сейчас позвонить? — Сейчас? — Платонов посмотрел на часы. — Можно. Только я… Корнилов протянул ему записную книжку, изъятую во время задержания. Аристарх Антонович начал листать. — Вот, хотя бы Рассказов Пётр Горемирович… Доктор наук. Коллекционер. Вас соединить с ним? Платонов потянулся к телефону. Корнилов остановил его. — Звонить не надо. — Тогда зачем же… — удивился Аристарх Антонович. — Почему же вы вчера не позвонили Рассказову? Не поинтересовались у него, не случилось ли чего плохого с Барабанщиковым, а поехали сразу к нему домой. — Понимаете ли… — Аристарх Антонович опять выпятил губу, и Корнилов подумал, сдерживая улыбку: «За хороший крючок ты зацепился своей толстой губой, милый». — Всё-таки иконы мои! — выдохнул Платонов энергично. — Ну и хорошо. Ваши так ваши, — согласился Игорь Васильевич. — Вам хотелось потихоньку забрать свои иконы, — он нажал на слово «свои», — без лишней огласки. Платонов кивнул. — Но вот фотографии, которые сделали сегодня утром наши сотрудники в доме Барабанщикова, — он положил перед Платоновым несколько больших фотографий коллекции икон, развешанных на стене. Среди икон явно выделялось шесть пустых мест. В самом центре стены. «А, кстати, почему пустых мест шесть? — подумал подполковник. — Ведь в „дипломате“ их было три?» — Видите, Аристарх Антонович, не хватает шести икон. Там, где они висели, даже обои потемнее. Не выгорели. А по размеру как раз подходят те, что изъяли у вас. Неужели Барабанщиков развесил бы чужие иконы? И потом… Вы не знаете, куда делись ещё три иконы? Может быть, не только вы приходили за своим имуществом? — Он был бесчестным человеком, — упрямо сказал Платонов. — Он присвоил три моих иконы. Три я и взял! — Аристарх Антонович, не нужно ухудшать своё положение. Чем дальше в лес… А вдруг отыщутся люди, которые видели эти иконы у Барабанщикова? Я не исключаю, что найдём мы и людей, у кого он их купил. Вот с этим ключом тоже… — Игорь Васильевич взял в руку длинный ключ со сложной бородкой. — Вы говорите, что Барабанщиков дал вам его в пользование. Приезжай отдыхай… А ключ от калитки он почему вам не дал? Через забор-то неприлично старшему инженеру лазить. Платонов опустил голову на ладони, с силой провёл ими по лицу. Глаза у него сделались затравленные. Но Корнилов увидел и другое — напускное величие, многозначительность ушли с лица, оно разгладилось, стало как-то мягче, проще. Человечнее. Только четыре глубокие морщины так и остались на лбу. «Вот так-то лучше», — подумал Игорь Васильевич. — Дело дойдёт до суда? — спросил Аристарх Антонович. Корнилов пожал плечами: — Будущее покажет. — Всё пропало. Столько лет труда… А если чистосердечное признание? — с надеждой спросил Платонов. — Я дам подписку, что это никогда не повторится. Вы должны понять — я же старший инженер, учёный, интеллигентный человек. — У вас семья? — Да. То есть практически нет. Я в разводе. Жена с сыном живёт у матери, в деревне. Чувство жалости, шевельнувшееся было в душе подполковника, угасло. — Не знаю, как решит следователь, но даже в том случае, если вы докажете, что иконы принадлежали вам, вы, Аристарх Антонович, совершили преступление — проникли в чужой дом, — сказал он. — Конечно, будут учтены и обстоятельства преступления, и личность подсудимого… — Он хотел добавить: «и уровень его интеллигентности», но сдержался. — Если вы хотите помочь следствию, напишите подробно обо всём. Только честно. Неудобно человека, считающего себя интеллигентным, уличать во лжи… — Да, да. Я напишу, — кивнул Платонов. — Перечислите людей, которые знали Барабанщикова. Подробно опишите, что вы делали в ночь с третьего на четвёртое сентября. — А это зачем? — насторожился Аристарх Антонович. — Это важно для нас обоих. И обязательно напишите, как попал к вам ключ от дома погибшего. Платонов согласно кивал. — Теперь можете ехать домой. Завтра в десять я жду вас с подробными объяснениями. — Я могу уйти? — на лице Платонова мелькнула надежда. — Да. Следователь, который будет вести дело, избрал мерой пресечения для вас подписку о невыезде. Пока идёт следствие, вы не должны покидать город. — Корнилов подвинул Платонову лист бумаги, тот внимательно, слегка шевеля губами, прочёл и расписался красиво, с кудрявыми завитушками. Когда Аристарх Антонович подходил к двери, подполковник окликнул его. Платонов вздрогнул и обернулся. — Вы никогда не видели у Барабанщикова оружие? — Оружие? — Да. Пистолет, например? — Нет, не видел. «Спокойней было бы оставить его „погостить“ у нас, — подумал Игорь Васильевич, когда за Платоновым закрылась дверь, — но раз уж следователь так решил… Может быть, на доверие Платонов ответит откровенностью?» Правда, не очень-то верил подполковник в откровенность людей такого склада, как Платонов. Слишком много было в нём напускного, неискреннего. «Лицедей, — неприязненно думал Корнилов. — Только мои эмоции к делу не пришьёшь, как говорил когда-то Мавродин». Майор Мавродин, умерший в прошлом году, был первым наставником Игоря Васильевича в уголовном розыске.12
Телефонный звонок разбудил Корнилова в шесть утра. Дежурный по городу доложил, что ночью на Озёрной улице в Парголове сгорел дом Барабанщикова. Когда Корнилов приехал на Озёрную, пожарище ещё дымилось. Пахло мокрой золой и почему-то печёной картошкой. Трава, кусты, яблоки — всё было засыпано пеплом. Выгорело почти всё внутри дома. Стояли обгорелые стены да чудом не обрушившиеся стропила. Пожарные машины уже уехали, осталась только их красная «Волга» с экспертами. Несколько женщин стояли, перешёптываясь, и с любопытством разглядывали копавшихся на пепелище экспертов и следователя. Чумазый милиционер потерянно бродил рядом. — Вы дежурили ночью? — спросил у него Корнилов. — Я. — Милиционер почувствовал, что перед ним начальство, и совсем стушевался. — Кто же его знает, чего он вдруг загорелся. Тихо было совсем. Спокойненько. Вдруг — жах! Как полыхнёт. — Покажите, где вы были, когда заметили огонь? — попросил подполковник. Милиционер вышел из калитки на улицу. — Не надо было отпускать этого Аристарха! — сердито зашептал подошедший Бугаев. — Наверняка его рук дело! — Спокойно, капитан, — одёрнул Семёна Корнилов. — Лучше вспомни как следует, не оставили ли вы с Лебедевым включёнными электроприборы во время обыска. И как с куревом у вас было? — Всё в порядке, товарищ подполковник, — обиженно сказал Бугаев. — Что ж мы, в первый раз? Милиционер перешёл дорогу, остановился у скамеечки… — Вот здесь я и сидел. У Молевых на скамейке. Всё отсюда видно. Дом Барабанщикова как на ладони. Вдруг полыхнуло. Я калитку вышиб и к дому. Да куда там! Стёкла уже посыпались. Черепица ровно как пулемёт трещит. Побежал звонить пожарникам. Тут автомат на углу… — Хорошо, сержант. Всё сделали правильно, — сказал Корнилов. Они вернулись на пепелище. — Скорее всего, поджог. Эксперты, конечно, точнее всё доложат, но у меня сомнений нет, — сказал капитан из пожарной охраны. — Всё внутри дома было облито бензином. И канистра оставлена, поленились даже спрятать. — Он пнул ногой большую обгоревшую банку. — Из сарая притащена. Я место нашёл, где она стояла. А сарай взломан. — Собаку не пробовали пускать? — спросил подполковник у молодого капитана, следователя из районного отдела внутренних дел. — Пробовали, товарищ подполковник, не берёт. Всё вокруг пеплом засыпано. Видно, приличная тут жаровня была. Не хотите печёной картошки? Ещё горячая. В подвале испеклась. — Может быть, и картошкой придётся заняться, — без улыбки ответил Корнилов. — Если нужда придёт. А сейчас другие заботы есть. Бугаев! — позвал он Семёна. — Пройдёмся ещё разок по участку. С трёх сторон к дому Барабанщикова примыкали участки других хозяев. Забор стоял хлипкий, на «живую нитку». Кое-где подгнили столбы, и штакетник завалился. Лежал прямо на кустах. Позади участка в заборе зияла большая дыра. Корнилов внимательно осмотрел её. Свежая. «Только-только ломали», — определил он. — Не проверяли? — спросил подполковник у Бугаева и кивнул головой на дом за забором. — Проверяли. Когда начался пожар — соседи выломали. Вёдрами стали воду таскать, да куда там. — Если кто-то чужой хотел попасть к дому Барабанщикова незаметно, он скорее всего шёл здесь, — сказал подполковник. — При условии, что сержант с улицы никого не проворонил. — Ты с ним подробно беседовал? Бугаев кивнул. — С той скамеечки ему три дома как на ладони. А вот что на задворках творилось — он не видел. — Сейчас одна надежда — опросить всех соседей, не видали ли кого чужого, — сказал Корнилов. — Я ещё пройдусь по саду и поеду в управление. А ты с людьми беседуй, пока на работу не разъехались. Никого не пропусти. — Вы считаете, что это не Аристарх поработал? Кто-то другой? — Бугаев с сомнением смотрел на обгорелый дом. Подполковник промолчал, Семён покрутил головой и, вздохнув, пошёл через кусты к соседям. «Нет, это не Платонов, — думал Игорь Васильевич, внимательно, штакетину за штакетиной, осматривая забор. — Он своё уже взял. Хотел бы поджечь — поджог бы вчера. А возвращаться сюда, после того как тебя милиция задержала… Надо решительным человеком быть. А вся его решительность — одна видимость: четыре морщины на лбу да волевой подбородок». Осмотр ничего нового Корнилову не дал. Повсюду: на траве, в кустах, на заборе — валялось столько всякого хлама — каких-то тряпок, полуобгорелой бумаги, старых корзинок, обуглившейся мебели, что поиски здесь следов преступника теряли всякий смысл. «Бедлам какой-то, — раздражаясь оттого, что ничего не сумел прояснить, думал подполковник. — С чем приехали, с тем и уезжаете, товарищ начальник. Что о вас районные милиционеры подумают?» Он сел в машину и сразу же набрал номер управления. Ответил Белянчиков, которого подполковник, узнав о пожаре, посылал на квартиру Платонова. — Ну как там наш инженер? — спросил Корнилов. — Написал сочинение? — Платонов дома не ночевал, — доложил майор. — Соседи видели, как он поздно вечером погрузил в машину чемодан и уехал. — Этого ещё не хватало! — вырвалось у Корнилова. — Розыск объявили? — Объявили. В доме дежурит Степанов. «Ну и ну! Ну и Аристарх! — раздражаясь все больше и больше, думал Игорь Васильевич. — Преподнёс сюрприз. На что ж он надеется?! Удрал и все свои любимые иконы оставил!» Корнилов вдруг заулыбался. Шофёр покосился на него с тревогой. — Ничего, Саша, ничего. С ума я не сошёл, — продолжая улыбаться, успокоил его Корнилов. — Вспомнил я этого Аристарха. Никуда он не убежит, миленький. — Подполковник посмотрел на часы. Было половина десятого. Он снова набрал номер Белянчикова. — Ты, Юрий Евгеньевич, пропуск Платонову всё же закажи. Когда они подъезжали к Главному управлению, Игорь Васильевич попросил шофёра: — Заверни, Саша, на Каляева, к автомобильной стоянке. Красные «Жигули» Аристарха Антоновича, забрызганные подсыхающей грязью, красовались в сторонке. Корнилов удовлетворённо хмыкнул. Платонов, понурясь, сидел в приёмной. Увидев Корнилова, Аристарх Антонович встал, поздоровался, чуть наклонив голову. — Здравствуйте, товарищ Платонов. — Игорь Васильевич скосился на его ботинки — они тоже были в грязи. — Через две минуты я вас приму. В кабинете, усевшись за стол, Корнилов пробежал сводку происшествий за сутки и, включив селектор, сказал секретарю: — Варвара Никитична, пусть зайдёт гражданин Платонов. Лицо у Аристарха Антоновича было измученным, отечным. Под глазами залегли густые сине-зелёные тени. От вчерашней фанаберии и следа не осталось. — Не выспались, Аристарх Антонович? — Какой уж тут сон… — Далеко ли ездили? — Никуда не ездил. Корнилов снял трубку с телефонного аппарата. Набрал номер Белянчикова. — Снимите пост на Зверинской у дома тридцать три. Пусть Степанов возвращается в управление. Посмотрел внимательно на Аристарха Антоновича. Платонов отвел глаза. — Вы знаете, гражданин Платонов, — жёстко сказал подполковник, — дела ваши очень плохи. Очень. — Но объяснение я принёс. — Аристарх Антонович испуганно посмотрел на Корнилова. — Как договорились. Я всё написал… — Сегодня ночью сгорел дом Барабанщикова. Не просто сгорел — его подожгли. Мы подумали: qui prodest? Вы человек учёный, латынь, наверное, понимаете? — Нет, — мотнул головой Аристарх Антонович. — Что же вы так? А говорили мне вчера, что кандидат наук. Мы, кстати, проверили — никакой вы не кандидат. Не защитились. А теперь вас другая защита ожидает. Qui prodest — значит: «Кому выгодно?» Платонов не шелохнулся. Сидел бледный как полотно, ожидая, что ещё скажет подполковник. — Мы решили, что в первую очередь это выгодно вам. Приехали на Зверинскую, а вас нету дома. И соседи говорят — не ночевал. Машина у вас грязная, ботинки тоже… Что прикажете думать? Там, в Парголове, на Озёрной, грязи хватает. Платонов инстинктивно посмотрел на свои ноги. — А ведь вы, Аристарх Антонович, давали подписку о невыезде. И говорили мне хорошие слова об интеллигентности. Вы знаете, что по моему, милицейскому, разумению отличает человека интеллигентного? Чувство порядочности. — Корнилов смотрел, как розовеют большие, чуть оттопыренные уши Платонова. — То, что вы написали, я сейчас даже и смотреть не буду. Чтобы не ставить вас в неловкое положение. Мы вас задерживаем. По закону имеем право на семьдесят два часа. До того, как предъявлено обвинение. А новое объяснение я хотел бы получить от вас через час. Успеете? Платонов кивнул. Когда его увели, Корнилов вызвал секретаршу: — От Бугаева нет сообщения? — Нет, Игорь Васильевич. — Тогда попроси зайти Белянчикова. Вся история с погибшим в Орлинской церкви мужчиной получила неожиданный и зловещий поворот. Вначале Игорю Васильевичу казалось, что достаточно найти точки соприкосновения Николая Михайловича Рожкина, убитого из найденного у Барабанщикова пистолета, и самого Барабанщикова, как всё станет ясно. Отыщутся скрытые пружины убийства, найдутся люди, знавшие обоих, скрестятся интересы. Но обернулось всё по-иному. Существовал ещё один человек, решительный и осторожный одновременно, и потому вдвойне опасный, человек, которому не хотелось, чтобы милиция обыскивала дом Барабанщикова, копалась в его вещах. А может быть, это какой-нибудь маньяк или проходимец вроде Аристарха Антоновича? Человек, который решил уничтожить коллекцию погибшего? Чтобы не досталась ни государству, ни родственникам. Решился ведь Платонов залезть в чужой дом за иконами. Корнилов посмотрел на часы — приближался полдень. Подполковнику не терпелось поскорее узнать, что выходил в Парголове Бугаев, хотя он и подозревал, что никакой сенсационной информации капитан не привезёт. Всё там проделано опытной рукой. — Ну что? Пишет учёный? — спросил Игорь Васильевич у Белянчикова, когда тот вошёл в кабинет. — Пишет. Почерк, я вам скажу, у него каллиграфический. Нам бы его на полставки протоколы оформлять. — А по мне, так следовало ему в колонии месяцев шесть стенгазету выпускать «Солнце всходит и заходит», — проворчал Корнилов. — Только ничего ему не будет. Скорее всего он действительно свои иконы с Озёрной унёс. — Чьи бы ни были, а выходит, что он их спас, — сказал Юрий Евгеньевич. — Сгорели бы они за милую душу. — Это ты, Юрий Евгеньевич, правильно заметил, — усмехнулся подполковник. — Коловращение жизни, как писал О'Генри. — Игорь Васильевич, — спросил Белянчиков, — а почему ты решил, что Платонов не сбежал, а придет к нам? — Стереотип мышления… Увидел Аристарх у меня фотографию мёртвого Барабанщикова — воспользовался случаем и украл иконы. — Корнилов поморщился. — Свои не свои, но украл! Разницы-то почти никакой, — способ преступный. Поймали его с поличным. Платонов понял: не сумеет доказать, что иконы ему принадлежат, — попадёт под суд. Я ему на это намекнул. Ну и подумал Аристарх Антонович, а если посадят? Пропала коллекция! Или реквизируют, или кто-нибудь из «друзей» утянет. Он же наверняка и друзей по своей мерке меряет. А тут возможность подвернулась коллекцию «спасти» — отпустили домой. Я думаю, он свои лучшие иконы погрузил в машину и отвёз в надёжное место. Скорее всего в деревню. Я видел, машина у него вся в грязи. — Так это только твои догадки? — разочарованно протянул Белянчиков. — Догадки мои, товарищ майор, имеют реальное основание. Через час прочитаем опус Аристарха Антоновича — убедимся. А у тебя догадок никаких нет? — Думаю, что ты меня снова к Рожкиной пошлёшь. — Правильно думаешь. Её надо ещё раз подробно расспросить. И про Барабанщикова, и про Аристарха Антоновича. Белянчиков кивнул. — На фото она Барабанщикова не признала, а фамилию могла слышать… — Кстати, а где она живёт? — вдруг спросил подполковник. — В Озерках… Ну-ка, ну-ка! — спохватился Юрий Евгеньевич. — А Барабанщиков в Парголове. Соседи. — Вот видишь. Ещё одна деталь.13
Объяснительная записка, которую Аристарх Антонович положил на стол Корнилову, начиналась словами:«Серьёзно продумав своё поведение за последние сутки, я пришёл к выводу, что непреднамеренно совершил ряд неэтичных поступков. Прежде всего, воспользовавшись имевшимся в моём распоряжении ключом от дома гражданина Барабанщикова, я пытался забрать оттуда принадлежавшие мне редкие иконы XVII века. Кроме того, я нарушил данное представителям милиции слово о невыезде из города. Совершил я эти поступки, находясь в стрессовом состоянии, вызванном беспокойством о возможной утрате для общества уникальных произведений древнерусского искусства…» Подполковник читал объяснение Платонова со смешанным чувством удовлетворения и горечи. Удовлетворения от того, что он не ошибся в оценке характера этого человека, его действий. Платонов писал, что, опасаясь за свою коллекцию, решил отвезти иконы на сохранение к своей бывшей жене, в посёлок Вырица. И горечь испытывал Игорь Васильевич из-за неискренности, полуправды, стремления вывернуться, которыми дышало каждое слово в записке. «Сообщаю Вам, что всё случившееся явилось для меня горьким нравственным уроком. Готов понести любое моральное наказание».«Согласен только на моральное наказание, — усмехнулся подполковник. — А на большее не согласен. Ну и фрукт! Долго же придётся из него правду вытягивать». Дальше в записке Платонов опять писал о том, что он интеллигентный человек, пользуется уважением в НИИ и много делает для страны и народа. Сплошная лирика — как называл Корнилов такие пустые словоизвержения, и только один конкретный факт. Платонов указал фамилии и адреса двух человек, которые знают историю приобретения им икон, отданных на реставрацию и присвоенных Барабанщиковым. — Значит, инженер Кузовлев и реставратор Мокшин могут подтвердить, что иконы, изъятые из вашего чемодана, принадлежали раньше вам? — спросил Корнилов, закончив чтение объяснительной записки. — Да, — кивнул Платонов. — Я же написал. Они всё подтвердят. Мокшина я приглашал к себе домой, показывал иконы. Просил отреставрировать. — Он отказался? — Да, сказал, работы невпроворот. — А где вы приобрели их? Платонов насупился. — Аристарх Антонович, вы же обещали быть откровенным. — Я купил их у Барабанщикова. — За сколько? — Я уже не помню. — Откровенность у Аристарха Антоновича получилась урезанной, но Корнилов хотел узнать, на какой основе строились отношения этих двух людей — погибшего и ныне здравствующего. — Постарайтесь вспомнить. — Я купил иконы несколько лет назад, — морщась, словно у него разболелся зуб, стал рассказывать Платонов. — В то время я ещё не увлекался коллекционированием. Купил просто так. Олег предложил, я и купил. За двести рублей все три. — Почему он предложил их вам? — Он принёс импортные лезвия и джинсы. Открыл портфель — я увидел, что у него там иконы. Выглядели они как рухлядь. Я спросил, что он собирается с ними делать. Барабанщиков говорит — купите. Сейчас это модно. — А джинсы? Лезвия… Почему он их принёс? Вы просили? — Ну да! Этот Барабанщиков — типичный доставала. Его хаусмайором называют. — Как, как? — Хаусмайором. Ну… знаете, домашним майором. Он мог всё достать, все дефицитные вещи. Импортные сигареты, кассеты к магнитофонам, даже хорошие стереосистемы. Имел, конечно, свой интерес, но зато удобно — не надо гоняться по городу в поисках дефицита. Приносит прямо на дом… — Хаусмайор, — пробормотал Корнилов. — Действительно, удобно. А где же он доставал вам дефицит? Платонов пожал плечами. — И многие пользовались его услугами? — Многие. — Перечислите мне всех, кого знаете. Платонов поморщился: — Это, знаете ли, неудобно. Среди них есть мои друзья, солидные люди. Получится сплетня. — Называйте, называйте. Преступление уже получилось, чего вам бояться сплетен. Аристарх Антонович вздохнул и начал перечислять… Фамилии Рожкина среди названных не было. — Аристарх Антонович, а как вы всё-таки объясните, что в вашем «дипломате» оказались чужие билеты в Москву? И эта древняя книга? — Корнилов подвинул Платонову томик Евангелия, но Аристарх Антонович только искоса взглянул на него и отвернулся. — Это необъяснимо, — сказал он. Выражение значительности, так раздражавшее Корнилова вчера, снова мелькнуло на его лице. Мелькнуло и исчезло. — Я не знаю. Что вы от меня хотите?! Который уже час вы мучаете меня своими вопросами! Корнилов подумал: «Ну вот, он ещё истерику мне закатит», и сказал: — Ладно, прервёмся. А вы, Аристарх Антонович, время даром не теряйте. Думайте, думайте. Вспоминайте. От этого многое в вашей судьбе зависит. И время свободное у вас пока есть.
14
Бугаев приехал из Парголова злой. Корнилов не раз замечал, что когда капитан сердит, то голос у него садится, становится совсем глухим. — Маковой росинки с утра не перепало, — ворчал Семён. — Перепачкался, как чушка, а результатов — с гулькин нос… — Ничего, химчисток у нас настроили. Через сутки будешь как огурчик, — утешил его Корнилов. — И пообедать у тебя ещё время есть. — У меня сегодня свидание, товарищ подполковник, — поплакался Бугаев. — Я должен одной даме с собачкой пакет молока отдать. Позавчера, пока Аристарха Антоновича караулил, познакомился. Такая девушка… — Капитан, — прервал его Корнилов. — Ты мне дело докладывай. — Но, заметив, что Семён обиделся, он добавил: — Про девушку потом расскажешь. — Да я, кроме шуток, Игорь Васильевич, к девушке заехать хотел. Она с Платоновым знакома, когда Аристарх в машину садился, то с девушкой раскланялся. Хорошо бы побеседовать… — Сейчас бесед у нас будет — на год вперёд набеседуешься, — усмехнулся Корнилов. Сказав вначале, что результатов «с гулькин нос», капитан немного слукавил. Результат был, и очень серьёзный. Опросив человек пятнадцать соседей Барабанщикова и ничего не узнав нового, Бугаев наткнулся наконец на женщину — работницу прядильной фабрики «Возрождение», которая рассказала ему кое-что новое. Вчера, возвращаясь домой с вечерней смены, Евдокия Ивановна Певунова, так звали прядильщицу, увидела, как на Лесной улице из автомашины вышел мужчина и пошёл метрах в двухстах впереди неё. Шёл он довольно быстро. Евдокия Ивановна подумала, чего же он машину оставил, а сам пешком? Дорога-то у нас хорошая. И ещё подумала — к кому такой поздний гость? В это время мужчина остановился у забора, подтянулся на руках и был таков… — За забором этим живут Флорентьевы. Участок их задами соприкасается с участком Барабанщикова. — Бугаев взял лист бумаги и быстро начертил план. — Вот, видите, товарищ подполковник? Мы с вами здесь ещё у лаза стояли. Натоптано тут… Корнилов кивнул. — Евдокия Ивановна отнесла позднего визитёра на счёт младшей дочери Флорентьевых, Алевтины. Ну, знаете… У них там свои, женские счёты. Но когда я заглянул ещё раз к Флорентьевым да поподробнее порасспрашивал их, оказалось, что никто в эту ночь к ним не приходил. Верить им можно. А сама Алевтина, студентка гидрометинститута, не вернулась ещё с Ладоги, где проходит практику на метеостанции. Да и калитка в доме Флорентьевых на ночь не запирается. Незачем и лазать через забор… Евдокия Ивановна показала Бугаеву место, где она видела ночью автомашину. Там, на сырой земле, остались прекрасные отпечатки протекторов. — Отпечатки — высший класс, — сказал Семен. — И слепки сделали. И «живьём» кусок земли я привёз. — Какая машина? — «Волга» тёмного цвета. Двадцать четвертая модель. Судя по протекторам, резина совсем новая. А может быть, и машина новая…15
Корнилов часто повторял своим сотрудникам, что главное оружие сыщика — умение говорить с людьми. Даже закоренелому уголовнику, засевшему с оружием где-нибудь на чердаке, можно доказать, что ему некуда деться… Но только в том случае, если хорошо знаешь его психологию, тут же добавлял подполковник. Работа сотрудника уголовного розыска на восемьдесят процентов состоит из разговоров. С потерпевшим, со свидетелем, с экспертами и разного рода специалистами, с бывалыми людьми. С преступниками, в конце концов. И оттого, как направить беседу, какие найти слова, от уменья слушать часто зависит успех или провал операции. Эти принципы, не раз проверенные Игорем Васильевичем Корниловым за долгие годы службы в милиции, давно усвоили все сотрудники. Поэтому на совещаниях оперативных групп, когда прорабатывался план действий, Корнилову незачем было напоминать о них. Но сегодня подполковник сделал исключение. Во-первых, вся надежда была на то, что в разговорах с множеством клиентов Барабанщикова, которых назвал Аристарх Антонович, вдруг выплывет ещё один его знакомый — разъезжающий на «Волге». И во-вторых, беседовать предстояло с самыми разными людьми, вся «вина» которых состояла в том, что они были не слишком разборчивыми в выборе своего фуражира, хаусмайора Барабанщикова. Эти люди могли быть обидчивыми и неразговорчивыми, заносчивыми и хамоватыми. Могли быть снобами, могли быть лжецами. Но к каждому следовало найти подход, с каждым поговорить, не вызвав у них ни обид, ни раздражения. Обо всём этом Корнилов напомнил своим сотрудникам, давая им на завтра задание отправиться по адресам клиентов хаусмайора Барабанщикова. Когда, получив задания, все разошлись, Корнилов позвонил своему старому знакомому — художнику Новицкому. — Николай Николаевич! Милиция беспокоит… — Игорь Васильевич! — узнал Новицкий. — Рад тебя слышать, дорогой. — Голос художника был какой-то тусклый, усталый. — Забыл ты меня. Не интересуешься, жив ли, умер… — Вот видишь — звоню. Интересуюсь, — усмехнулся Корнилов. — Как жив-здоров? — Нету жизни. Одна работа. Вкалываю, как грек на водокачке, никто доброго слова не скажет… Игорь Васильевич знал Новицкого уже лет пять и всегда, когда звонил художнику или встречался с ним, слышал и про «грека на водокачке», и про то, что никто не говорит доброго слова о его работе. Это у Николая Николаевича было как заклинание, чтобы не сглазить успехи и то хорошее творческое состояние, в котором он находился. — Ну, коли одна работа, то не мешало бы и развеяться. Хочу пригласить тебя за город, в деревню… — Нет, нет! — энергично запротестовал Новицкий. — Какая деревня, мне надо на хлеб зарабатывать. Мне, как в милиции, за звёздочки деньги не платят. Мне надо продукцию выдавать. Осенью выставка, а в выставкоме бездарь окопалась, через них даже лауреату трудно пробиться… — Жаль, — сказал Корнилов. — А я думал, съездим с тобой в село Орлино, там старая церковь полуразрушенная, древний иконостас… — Знаю, знаю. Церковь Николы-угодника. Построена в конце девятнадцатого века. Ничего интересного иконостас представлять не может. — А вот грабителей иконостас заинтересовал. — Какие сейчас грабители. Шантрапа небось без понятия… — Серьёзные грабители, — на всякий случай сказал Игорь Васильевич. Уж очень хотелось ему вытащить Новицкого в Орлино. — А иконостас мог от старой церкви остаться. Ведь была же и раньше в Орлине церковь? Новицкий молчал. Раздумывал. «Думай, думай, — улыбнулся Корнилов. — Небось на такую приманку клюнешь. А там разберёмся». — Если б уж заодно там пару этюдов сделать, — наконец сказал Николай Николаевич. — Да ведь ты, наверное, всё впопыхах. С сиреной. — Два часа тебе хватит? — Два часа? Да это роскошь! Я… — Знаю, знаю, — перебил художника Игорь Васильевич. — Ты в цейтноте. Тебе на жизнь надо зарабатывать. Завтра в восемь заеду. Жди у подъезда. — Он нажал рычажок аппарата. Усмехнулся по-доброму. «Вот так с вами, с вольными казаками, надо. По-военному!» Прикинув, сколько потребуется времени на дорогу, Корнилов набрал номер управления, попросил дежурного связаться с орлинским участковым уполномоченным, предупредить, чтобы ждал в половине десятого у церкви. С Новицким Игорь Васильевич познакомился при обстоятельствах не слишком приятных. У художника украли новенькую — только что из магазина — «Волгу», и начальник Главного управления попросил Корнилова взять это дело под личный контроль. Как-никак народный художник, лауреат Государственной премии. «Волгу» нашли в тот же день. В лесу под Зеленогорском. В машине кончился бензин, и похитители, наверное, испугавшись кого-то, бросили её, даже не разграбив. Корнилов возил художника в лес, туда, где обнаружили машину. Новицкий был восхищён оперативностью милиции. — Надо же! Так быстро! — шептал он, внимательно осматривая «Волгу». Заглянул в багажник, в мотор. Особенно умилило его то, что в багажнике оказалась целой и невредимой коробка с красками. — Домой повезу я вас сам! — заявил он Корнилову, и как Игорь Васильевич ни отнекивался, пришлось ему сесть в машину Новицкого, попросив предварительно водителя своей машины одолжить художнику бензина. — Буду писать ваш портрет, — сказал Николай Николаевич, когда они выехали на Приморское шоссе. — У вас лицо характерное… — Характерное для милиционера? — усмехнулся Игорь Васильевич. — Ну почему же? — обернулся к нему Новицкий. — Прежде всего мне понравились глаза. Они у вас задумчивые и грустные… Что ещё понравилось художнику, Корнилов в тот раз не узнал, потому что их спасло только чудо. Художник, заговорившись, выехал на левую сторону дороги, и встречный самосвал, дико завизжав тормозами, съехал на обочину, подняв тучу пыли. Новицкий тоже затормозил и минут десять приходил в себя, понуро выслушивая отборный матерок водителя самосвала. Корнилов видел, как художник полез в карман и, наверное, предлагал водителю деньги, но тот замахнулся на художника кулаком и, зло сплюнув, пошёл к своему самосвалу. «Вот ведь как бывает, — отрешённо думал Игорь Васильевич, наблюдая за Новицким. — Нашёл человек машину и тут же чуть не расстался с жизнью. Да и я-то, дурак, дал себя уговорить. На своей давно уж был бы дома». До города они ехали молча. Лишь только Новицкий начинал разговор, подполковник показывал ему вперёд, на дорогу, и художник, сердито покрутив головой, замолкал. Вёл он машину плохо, рассеянно. То шарахался от обгонявших автомобилей, то сам принимался обгонять там, где это было опасно. — Вы меня у Петропавловской крепости высадите, — попросил Игорь Васильевич, когда слева мелькнули минареты татарской мечети. — Мне тут рядом. Прощаясь, Новицкий протянул подполковнику визитную карточку. — Буду рад показать вам свои работы. Заходите в мастерскую. И портрет я ваш сделаю. Не отступлюсь… — Николай Николаевич, я многие ваши работы знаю, — Корнилов задержал в своей руке руку художника. — Они мне по душе. Вот только… — Что только? — насторожился Новицкий. — Водить машину вам противопоказано, Николай Николаевич. Бросьте вы это дело. Слишком рассеянны — думаете за рулём на отвлеченные темы. — Спасибо за совет, — холодно ответил Новицкий. И, словно спохватившись, добавил мягче: — И за то, что машину нашли, спасибо. Через три дня Новицкий позвонил подполковнику на службу и весёлым голосом сообщил, что отвёз «Волгу» в комиссионный магазин. — Жена на радостях обещала купить мне ящик марочного коньяка. Пока не раздумала, жду вас в мастерской. С тех пор они подружились.— Миленький, разве ж я упомню всех, кто к нам ходит, — сказала Володе Лебедеву пожилая, ещё очень красивая дама, жена актёра Солодовникова. Актёр уже месяц пребывал на гастролях. Солодовникова усадила Лебедева в старинное кресло, а сама взобралась на маленький, тоже старинный, диванчик с затейливой изящной спинкой. — Когда Солодовников в Ленинграде, у нас не дом, а содом и гоморра! Всё время люди. И идут, и идут. И по делу, и без дела. Я только и знаю, что пою их чаем. Раньше в этой вазе, — она кивнула на огромный хрустальный ковчег, стоявший на круглом, красного дерева, столе, — всегда лежали шоколадные конфеты, но попробуй напасись на такую ораву. Теперь я покупаю карамель… Лебедев вежливо кивал, исподволь разглядывая огромную, с фонарём, комнату. Красивая старинная мебель, картины на стенах. Кажется, в этом доме иконы не коллекционировали. — Наталья Борисовна, — он вытащил из кармана несколько фотографий, — вы не помните фамилии всех, кто приходит в ваш дом, но, может быть, кого-то узнаете в лицо? — Как интересно! — улыбнулась Солодовникова. — Я так люблю смотреть детективы. Сколько раз говорила Солодовникову — уговори Пимена поставить Сименона. И сыграй комиссара Мегрэ. Пимен — это главреж Островерхов. Ах, ну конечно, я знаю Олежку, — воскликнула она с восторгом. — Ну, конечно, знаю. Очень, очень милый мужчина. Солодовников зовёт его хаусмайором. — Наталья Борисовна весело засмеялась, протягивая Лебедеву фотографию Барабанщикова, найденную Бугаевым в парголовском доме. — Что вы можете сказать о нём? — Милый, очень внимательный человек. С большими связями. Он так выручает меня с косметикой. Ну… понимаете, — Наталья Борисовна кокетливо улыбнулась, — я женщина немолодая, мне нужна хорошая косметика, французская. Да! — вспомнила она. — Когда Солодовников болел, Олежек доставал ему самые дефицитные лекарства. — И много он брал… так сказать, за комиссию? — не утерпел и спросил Лебедев, нарушив предупреждение шефа — не уклоняться от главного и не затрагивать до поры до времени щекотливые темы. — Ах, вы об этом? — Наталья Борисовна поскучнела. — Милый мой, кто же будет вдаваться в такие детали, когда человек приходит к вам в дом и приносит как раз то, чего вам так недостает? — Простите. Меня сейчас интересует другое. Этот Олежек. Его фамилия Барабанщиков. Солодовникова равнодушно пожала плечами, показывая, что фамилия ей незнакома. — Барабанщиков не предлагал купить иконы? — Нет. Он помог нам купить кое-что из мебели. Этот милый диванчик. — Наталья Борисовна нежно провела рукой по спинке дивана, на котором сидела. — И самое главное — муж не имел хлопот со своей машиной. Олежек устраивал ему все эти осмотры, проверки, запчасти, колёса. — Она взмахнула руками, словно хотела показать безбрежность автомобильных услуг, оказываемых Барабанщиковым. — У вас какая машина? — «Волга». — Стоит в гараже? — Нет. У дома. Вы, наверное, видели, когда шли к нам. Белая «Волга». А что, держать около дома опасно? Лебедев хотел сказать, что не опасно. Но язык не повернулся — вспомнил недавнее «автомобильное» дело. — Это как повезёт. — Ну вот, а Олег обещал нам подыскать гараж. Теперь вы им так заинтересовались, что я, наверное, долго его не увижу. — Барабанщиков погиб, — сказал Лебедев. — Несчастный случай. Этим и вызван мой интерес. Хотелось бы знать всех его знакомых, друзей. — Погиб, — искренне огорчилась Наталья Борисовна. — Бедный человече. Автомобильная катастрофа? — Нет. Упал неудачно. — Лебедеву не хотелось говорить подробно. — Кому-то из ваших друзей Барабанщиков тоже помогал? — Да, конечно. У зятя «Жигули» — Олег помогал ему с ремонтом. Приятелям мужа, актёрам, тоже кое-что доставал. — Она перечислила несколько фамилий. Лебедев записал, подумав, что перечню людей, связанных с Барабанщиковым, не будет конца. — Наталья Борисовна, когда вы видели в последний раз Олега, он не говорил вам, что собирается в Москву? — Нет. Вообще-то он в Москву часто ездил. — Он один… — Лебедев хотел сказать «занимался снабженческими делами», но сдержался и спросил: — У него не было помощников? — Не знаю. Никогда об этом не слышала, — холодно сказала Солодовникова. — Вы не выпьете чашечку чая? Лебедев понял, что ему пора уходить.
С Георгием Степановичем Озеровым, кандидатом филологических наук, старший лейтенант встретился только к вечеру. Встретился в институте, где Озеров состоял старшим научным сотрудником. Лебедев пытался дозвониться до него и утром и днём. Но всё было напрасно. Домашний телефон молчал, в институте трубку снимала всё время одна и та же женщина и скороговоркой отвечала: «Георгий Степанович на совещании у завсектором», «Георгий Степанович на совещании у директора», «Георгий Степанович проводит совещание». — Ну и дела! — удивлялся Лебедев. — Что они там, только и делают, что заседают? Только один раз дама сказала: «Георгий Степанович вышел в буфет». Это всё-таки был намёк на то, что Георгий Степанович — живой человек. А в пять трубку взял сам Озеров. На просьбу о встрече он заявил категорично: — Нет, нет! У меня вся неделярасписана! Только в следующий вторник. — Нам необходимо встретиться сегодня, — сказал Лебедев. — Любое время. — Как некстати, как некстати! — почти пропел Георгий Степанович. — Что-нибудь срочное? — Чрезвычайно срочное, — невольно подлаживаясь под тон собеседника, ответил старший лейтенант. — Я не стал бы вас беспокоить по пустякам. — В шесть у меня учёный совет, — в голосе Озерова появилась задумчивость. — Я мог бы сейчас, но вам до шести не успеть. — Успею. — Лебедев ковал железо, пока горячо. — Через двадцать пять минут я у вас. Полчаса нам хватит. — Я встречу вас в вестибюле, — обиженно сказал Озеров. Наверное, из-за того, что ему не оставили выбора. — У нас вахтёр очень строгая женщина. Лебедев приехал на пять минут раньше условленного времени. «Строгая женщина» оказалась маленькой добродушной старушкой. Оторвавшись от книги, которую она читала через большую лупу, старушка спросила Лебедева, к кому он пришёл. Услышав фамилию Озерова, сказала: — Поднимитесь на второй этаж, налево в конце коридора, шестая комната… — Я подожду, — махнул рукой Лебедев. — А то ещё разойдёмся. Старушка снова принялась водить лупой по строчкам, а старший лейтенант уселся в сторонке в старое удобное кресло. Высокий, с маленькой птичьей головкой мужчина быстро сбежал по красивой мраморной лестнице, остановился посреди вестибюля и огляделся по сторонам. Заметив Лебедева, он подошёл и спросил шёпотом: — Вы не из милиции? Лебедев поднялся. — Товарищ Озеров? — Они обменялись рукопожатием. — Очень хорошо, очень хорошо, — сказал Георгий Степанович. — Здесь можно и поговорить, — он показал на кресла. — У меня, понимаете, сутолока. Собираются на учёный совет, курят и прочее. Присядем. — И первый опустился в кресло, поставил рядом коричневый «дипломат» и подтянул привычным движением серые брюки. — Не пустила? — шепнул он, кивнув на старушку. — Я вам говорил — мегера. Ей всё равно, что министр, что милиция. Лебедев хотел сказать, что всё было наоборот, но Озеров ответа не ожидал, посмотрел на часы, озабоченно покачал головой. «„Сейко“ носит», — машинально отметил старший лейтенант и спросил о Барабанщикове. Георгий Степанович откинулся назад и несколько секунд задумчиво смотрел на Лебедева, медленно потирая руки. — Да, да, — наконец сказал он. — Я знаю Барабанщикова. Я даже знаю, что вы можете мне сказать об этом знакомстве. Но проблему надо рассматривать комплексно. Взвешивать все «за» и «против». Барабанщиков — дитя эпохи дефицита. Да, да! Именно! Мы не скрываем, что у нас есть дефицит: дефицит времени, дефицит некоторых товаров. Народ стал жить богато. Никто не хочет носить штиблеты фабрики «Скороход». Лебедев украдкой скосил глаз на свои скороходовские сандалии. — А вспомните, что было раньше — за ними гонялись! — Озеров снова посмотрел на часы. — Я занятой человек. Моя жена работает на полторы ставки в поликлинике. И у меня нет тёщи, которая стояла бы в очереди за штиблетами фирмы «Топман». А если бы и была — она не смогла бы отвезти мою машину на станцию техобслуживания и проторчать там целый день. Но вот ко мне домой приходит Барабанщиков… — Вам его кто-то порекомендовал? — прервал Лебедев Георгия Степановича. — Наверное. Но кто, не помню. Прошло уже года три. И вот приходит Барабанщиков и предлагает свои услуги. Приносит костюм, приносит импортные штиблеты, приносит кассеты для магнитофона. Он не рвач, он берёт лишнюю десятку-две, и все. Но ведь он выстаивает очереди! Он воюет с мастером на станции техобслуживания, чтобы тот как следует отремонтировал мою машину. Кто от этого выигрывает? И он, и я, и прежде всего государство. Я не теряю рабочий день… — Можно ведь потратить на свой автомобиль и субботу… — как бы между прочим сказал Лебедев. — Товарищ Лебедев, у вас есть автомобиль? — В голосе Озерова было столько иронии, что Лебедев понял — не стоит перечить, пускай высказывается. — Вот то-то! — Георгий Степанович молчание старшего лейтенанта понял по-своему. — Придёт время — Барабанщиковы исчезнут, как исчез в своё время нэп. Отомрут, как отомрёт само слово «дефицит». Но я с вами согласен, — продолжал он, хотя Лебедев ещё ничего не успел сказать. — Я с вами согласен, есть этическая сторона вопроса. Есть! Но как быть между этими Сциллой и Харибдой? Отказаться от услуг Барабанщикова и терять массу времени? Своего личного и служебного? «Ходить в скороходовских штиблетах, — подумал Лебедев, — очень даже неплохо. И не жмут, и лёгкие». Но высказываться уже поостерегся. Не хотел затевать спор — времени до учёного совета оставалось немного. — Или пойти на маленький компромисс? — почти задушевно сказал Озеров. — Барабанщиков не афиширует свою деятельность. Он оказывает услуги не каждому. Только хорошо знакомым ему людям. Можно сказать — своим друзьям. Ну, естественно, тем, кто имеет возможность чуть-чуть переплачивать. Вы знаете, как, например, строились наши с ним отношения? — Озеров стал потирать руки, словно они у него озябли на морозе. — Олег Анатольевич привозит мне цветной телевизор «Рубин-714». Тоже в некотором роде дефицит. Хорошая трубка и так далее. Привозит и тут же вручает мне чек. Чтобы ни-ни — всё только из магазина! И на хрустальную вазу чек, и на французские духи, жене ко дню рождения, тоже чек. Это же совсем меняет характер отношений. Стоимость вещи плюс оплата за хлопоты. Вы со мной не согласны? — Георгий Степанович, вы, может быть, всё-таки постараетесь вспомнить, кто познакомил вас с Олегом Анатольевичем? — Понимаю, что ваш приход вызван серьёзными обстоятельствами, — сказал Озеров. — Вы не рассказываете, у вас свои служебные секреты, но я догадываюсь, что Барабанщиков где-то перешёл грань закона. Да-да, я понимаю. — Он предостерегающе поднял ладони, словно хотел удержать Лебедева от разглашения служебной тайны. — Но вспомнить, как я познакомился с Барабанщиковым, не могу. На вопрос Лебедева, не коллекционирует ли он иконы или другие предметы старины, Озеров ответил отрицательно. — Сугубо бытовые услуги! Сугубо! И раз в год — техосмотр автомашины. Но это ведь тоже быт? — спросил он, улыбнувшись. У Георгия Степановича была «Волга». Стояла у дома. С гаражом обещал помочь тот же вездесущий Барабанщиков. Когда старший лейтенант спросил у Озерова, знает ли он кого-нибудь из клиентов Барабанщикова, Георгий Степанович задумался, чуть прищурив глаза, и сказал: — Ну как же, знаю! Аристарх Антонович Платонов… Кажется, инженер из какого-то кабэ. Раз или два встречались. Обедали в обществе Олега Анатольевича. Но уж как они там строят свои отношения, не знаю. Закончив говорить, Озеров вопросительно посмотрел на старшего лейтенанта. Как будто хотел спросить: ну что там ещё у вас? Есть вопросы? О том, почему интересуются Барабанщиковым, Георгий Степанович не спрашивал. «Из деликатности, что ли», — подумал старший лейтенант, но тут же отбросил эту мысль. Его собеседник не слишком-то деликатничал, развивая свою теорию о дефиците. Лебедеву показалось, что Озеров не только не хочет спросить его, чем вызван интерес к хаусмайору, но даже не хочет, чтобы он, Лебедев, рассказал ему об этом. Решив так, Лебедев почему-то с неприязнью подумал об Озерове: «Не хочешь знать и не надо. В мои обязанности не входит тебя знакомить». — Я бы с удовольствием встретился с вами и вечером, — сказал Георгий Степанович, прощаясь и долго не выпуская из своей руки руку Лебедева, — но после защиты, сами понимаете… товарищеский ужин. Хоть это и осуждается, но куда денешься? Традиция. А завтра опять уйма дел. В субботу — везу машину в ремонт, в воскресенье… — он недосказал, что за дела у него в воскресенье, и отпустил наконец руку Лебедева. Лицо его вдруг стало замкнутым. — Честь имею, — сказал Озеров холодно, словно ему вдруг стало неловко за предыдущую велеречивость, поднял с пола свой «дипломат» и удалился чуть прыгающей походкой. Подполковник Корнилов учил своих сотрудников анализировать не только факты, которые им удавалось выяснить в ходе розыска, в многочисленных беседах с людьми. Он учил их скрупулёзно анализировать ощущения, вынесенные из общения с человеком. «Интуиция не последнее дело в нашей работе, — говорил он. — Это хороший начальный импульс. Вам не понравился человек? Если бездумно с этим согласиться, получится пошлейшая предвзятость. Ей грош цена. От неё только вред. Но если вы постараетесь трезво и глубоко разобраться, почему он вам не понравился, какие черты его характера вас неприятно поразили, какие слова заставили насторожиться, вы на правильном пути. Отбросив шелуху — раздражение, несходство в образе мыслей или манере одеваться, — вы можете обнаружить такие чёрточки человека, такие детали, которые помогут судить о характере его поведения в экстремальных обстоятельствах». Старшему лейтенанту Озеров не понравился. Возвращаясь в управление и думая о Георгии Степановиче, он никак не мог отделаться от раздражения. Самое неприятное ощущение осталось у него от разительного контраста между бесконечным прощальным рукопожатием, которое, казалось бы, говорило, ну если и не о добром расположении, так о некоторой почтительности к представителю закона, и неожиданным холодным «честь имею». Так бывало у Лебедева не раз, когда кто-то, разговаривая с ним один на один, вдруг замечал приближение третьего — своего знакомого, при котором он не хотел даже вида подать, что может так почтительно или дружески разговаривать с милиционером. Но здесь никто не нарушил их интимной беседы — старушка дежурная по-прежнему была занята своей книгой, в вестибюле они стояли одни. Да и Озеров не походил на трусоватого недалёкого человека. В чём же причина такой резкой перемены в настроении? Лебедеву надо бы было отрешиться от своего раздражения и на холодную голову прокрутить всю беседу с Георгием Степановичем снова. «Может быть, я сам допустил какую-нибудь бестактность? Обидел чем-то учёного?» — думал он, но погасить раздражение полностью старшему лейтенанту не удавалось. Преклоняясь перед богатым опытом шефа, умом принимая его рекомендации, Лебедев не всегда мог справиться со своими чувствами. Он был молод. Ещё шесть лет назад, заканчивая политехнический, Володя Лебедев и думать не думал о работе в милиции. Уже состоялся разговор с представителем завода «Электроаппарат», он проходил там преддипломную практику, и Лебедева познакомили с начальником лаборатории, в которой ему предстояло работать. Но однажды в институтский комитет комсомола вместе с секретарём райкома приехали два парня из Главного управления внутренних дел. Лебедев был членом комитета, раньше занимался шефской работой, но на последнем курсе отошёл от общественных дел. И надо же было в тот час ему заглянуть в комитет. Один из работников управления оказался на редкость красноречивым. Рассказывая на факультетском бюро, куда его привёл Лебедев, о непростой, но интересной службе в милиции, он первым сагитировал пойти туда по комсомольской путёвке самого Володю. И вместо лаборатории «Электроаппарата» Лебедев оказался в научно-техническом отделе Главного управления внутренних дел. Принимая решение пойти служить в милицию, Лебедев надеялся на то, что ему придётся иметь дело с людьми. И конечно, свою роль сыграла особая романтика, которая в молодости присуща двум понятиям: «следствие» и «уголовный розыск». Ровно год понадобился ему для того, чтобы убедиться — особой разницы между работой в заводской лаборатории и в НТО ГУВД не существует. Лебедев написал заявление с просьбой перевести его в уголовный розыск. И как его ни уговаривал заместитель начальника Главного управления полковник Селиванов остаться в НТО, где его знания в области физики нашли прекрасное применение, Лебедев настоял на своём. «Тоже мне, деятель, — думал старший лейтенант о кандидате филологических наук Озерове. — Вот как всё вывернул — даже политэкономию приспособил к себе. Такой кого хочешь уговорит, заставит белое принять за чёрное. А что его пресловутый дефицит? Все эти дублёнки, батники да финские ботинки? Вопрос престижа и боле ничего! Добро какой-нибудь хапуга из мясного магазина так действовал — тогда понятно, ворованные капиталы пристроить надо. А то ведь учёный! Да и с его зарплатой особенно не пошикуешь». Тут он вспомнил про магнитофонные кассеты, о которых упоминал Озеров. «А на них какие чеки мог приносить Барабанщиков? Их ведь у жучков-перекупщиков добывать надо. Что-то, товарищ Озеров, у нас концы с концами не сходятся. История про чеки — для лопухов. Да и проверь теперь — требовал он от хаусмайора чеки или нет. Барабанщиков мёртв. Можно врать сколько влезет. Врать-то врать, — остановил себя Лебедев, — да ведь о его смерти я ни словом не обмолвился. Тут есть закавыка!»
16
В Управлении уголовного розыска Семёна Бугаева называли везунчиком. Не то чтобы у него всегда всё получалось, знал капитан и неудачи, но из-за его жизнерадостного, весёлого характера, умения подшутить над своей неудачей многие всерьёз считали, что ему просто везёт. На этот раз Семену действительно повезло. На совещании у Корнилова Бугаев вспомнил, что девушка, с которой он вчера познакомился, раскланялась с Платоновым. — Товарищ подполковник, в районе Зверинской улицы Аристарх никого не назвал? Корнилов заглянул в список. — Назвал. Фёдоров Пётр Иванович, доктор медицинских наук. Зверинская, дом тридцать семь. — Он внимательно посмотрел на Семёна. — Молодец, Бугаев. Сосед Платонова может знать о нём больше. Капитан про себя улыбнулся, но смолчал. Дом тридцать семь был совсем рядом с платоновским домом. Бугаев постоял несколько секунд в нерешительности возле подъезда, подумал, что неплохо бы захватить с собой пакет молока — эффект был бы стопроцентный, появись он с пакетом в руке перед той девушкой, но потом махнул рукой. Что, если там не живёт никакая девушка, а встретит его в дверях сам доктор медицинских наук? Хорош он будет с этим пакетом! Бугаев даже представил себе, как доктор съязвит: вам что, в уголовном розыске молоко дают за вредность? Когда Семен позвонил в дверь, залаяла собака. «Неужели совпало?» — успел подумать он. Дверь открылась. На пороге стояла та самая девушка. В лёгком сарафанчике она выглядела совсем по-домашнему. Эрдель тихо рычал у неё за спиной… Некоторое время девушка молча разглядывала Бугаева. У него даже шевельнулась тревога, что она его не узнала. Потом она покачала головой и тихо сказала: — Ну, Галка, трепуха! — И тут же крикнула эрделю: — Микки, перестань! Он принёс тебе молока. Бугаев развёл руками. — Ах даже так! Микки, он пришёл без молока. Собака опять громко залаяла. — Вот видите? — сказала девушка. — Он вас растерзает. — Молоко в машине. А я к вам по делу… — Это становится совсем интересно, — пробормотала девушка и посторонилась, пропуская Бугаева в квартиру. — Да не бойтесь. Микки никого не трогает. — Тем более что я однажды пытался кормить его булочкой, — сказал Бугаев. Они прошли в небольшую комнату, в которой стояли письменный стол, простенький стеллаж с книгами, старинный кожаный диван. Девушка села в крутящееся кресло у письменного стола, показала рукой на диван. Эрдель улёгся у ног Семёна, внимательно поглядывая на него. И тут Бугаев вдруг остро пожалел, что вызвался идти по этому адресу. Кто знает, как отнесётся девушка к его деловому визиту и расспросам? Отвёз бы вечером пакет молока её подруге Гале в кафе, и осталось лёгкое, тёплое воспоминание о стройной улыбчивой брюнетке с голубыми глазами. — Вы дочь Петра Ивановича? — спросил он. Девушка кивнула. — Вас зовут… — Людмила… — Людмила Петровна, — сказал Бугаев, словно провёл какую-то черту между тем лёгким трёпом, который был ранее, и серьёзной беседой, которой предстояло начаться сейчас. — А меня зовут Семён Иванович Бугаев. Я старший инспектор уголовного розыска. — Капитан достал удостоверение и протянул Людмиле. — Она взяла его и стала внимательно разглядывать. Потом вернула, покачав головой. — Ну и дела. Что-то случилось? — Нет, Людмила Петровна. Я должен был проконсультироваться с вашим отцом… — Папа будет часов в девять вечера. А я не медик. Совсем по другой части… Бугаев посмотрел на неё вопросительно. — Учусь в институте Герцена. — Людмила Петровна… — Не называйте меня так официально, — попросила девушка, чуть капризно нахмурив брови. — Люда, в вашем доме бывал Олег Барабанщиков… — А… а… Этот хлюст! Я всегда говорила, что он плохо кончит. — Она пристально посмотрела на Бугаева. — Но вы! Неужели тогда вы всё так ловко разыграли, чтобы… — Лицо у неё сделалось совсем по-детски обиженным. — Если я начну вам говорить про совпадения, вы мне не поверите, — грустно сказал Семен. — Не поверю. Таких совпадений не бывает. Бугаев пожал плечами. — Что же случилось с Барабанщиковым? — Он умер. — При загадочных обстоятельствах? — Вы читаете много детективов? — В руки не беру. Предпочитаю романы про любовь. «До чего же хороша, — думал Бугаев, глядя на девушку. — Даже сердитая». — Люда, будем считать, что разминка закончена. — Что-что? — Это у нас на совещаниях бывает — соберёмся, попикируемся, а потом за дело. — И у вас совещания бывают? Бугаев улыбнулся примирительно и склонил голову набок. — Простите. Я готова ответить на все ваши вопросы… Когда через час Бугаев вышел из квартиры Федоровых, он знал, что Олег Барабанщиков собирался с одним своим приятелем ехать в Москву по очень важному делу. По возвращении он обещал подарить Люде французские духи и принести пару старинных книг. «Используешь в своей дипломной работе и будешь оставлена в аспирантуре». Вот что сказал Люде хаусмайор Барабанщиков. Люда утаила от Бугаева только одну деталь — фраза не кончалась на «аспирантуре», а имела продолжение: «И выйдешь за меня замуж». Зато она сообщила Бугаеву, что приятель Барабанщикова имел «Волгу», чему Олег очень завидовал. Кроме того, в записной книжке Семёна прибавилось два телефона — один Людин, домашний, другой — её папы, служебный. Однако разговор с Людиным папой не добавил ничего нового. Люда знала о Барабанщикове значительно больше, чем её отец, известный в городе хирург.17
— Вас кто ко мне послал? — Михаил Игнатьевич Новорусский, управляющий строительным трестом, смотрел на капитана Бугаева строгими немигающими глазами. Да и весь он, сухой, поджарый, был напряжён, словно только одно и делал в жизни — отваживал докучливых посетителей. — Интересы дела, — сдержанно улыбнулся Бугаев, ожидая, когда Новорусский пригласит его сесть. — Это вы мне бросьте, молодой человек. — Михаил Игнатьевич не скрывал раздражения. — Мне красивые слова не нужны. Кто вам дал мои координаты? Почему вы считаете приличным допрашивать меня о каком-то никому не известном человеке? — Может быть, вы предложите мне сесть? — вежливо спросил Бугаев. — Садитесь. — Новорусский резким движением указал на стул. — Только у меня времени в обрез. Завтра уезжаю в Москву, готовлю доклад на коллегию министерства. — Он засунул руки в карманы и остановился перед капитаном. — Вопрос у меня простой, — начал Семен. — Что вы можете рассказать об Олеге Анатольевиче Барабанщикове? О его образе жизни, о знакомых? — А скажите мне, пожалуйста, товарищ… — Бугаев, — подсказал капитан. — Товарищ Бугаев. — Новорусский сделал ударение на «е». — У вас есть разрешение на разговор со мной? И почему мне не позвонил ваш начальник, Селиванов? Мы с ним не первый год знакомы. — Михаил Игнатьевич, я могу дать вам телефон полковника Селиванова. — Бугаев вытащил из кармана записную книжку. — Вы ему позвоните. Может быть, у него появится желание побеседовать с вами в управлении? — У меня уже не будет времени навестить его, — пробормотал управляющий и сел, положив руки на стол и сцепив пальцы. «Тоже мне, хмырь болотный, — со злостью подумал Семён, — ни слова просто так, один выпендрёж». — Я начну с того, что Барабанщикова я практически не знаю. — Новорусский расцепил пальцы и стукнул костяшками левой кисти по столу. Словно точку поставил. — Я с ним встречался несколько раз. Очень скользкий тип. — Он снова ударил костяшками об стол. — Могу я узнать о цели ваших встреч? — Это сугубо личные дела. Я не намерен их обсуждать. — Хорошо, — согласился Бугаев. — Барабанщиков приходил к вам домой или на работу? Может быть, вы встречались с ним где-то в другом месте? — Он приходил домой. Никогда не задерживался… Минут пять, не больше. — Он приезжал на машине? Михаил Игнатьевич пожал плечами. — Его никто не сопровождал? — Нет. — Он не рассказывал вам о своих клиентах, о знакомых? — Товарищ Бугаев, у меня создаётся впечатление, что вы слабо представляете себе, с кем имеете дело. — Я сегодня полдня беседую с клиентами хаусмайора Барабанщикова, — зло сказал Семен и подумал: «Накапает на меня этот директор, как пить дать накапает». — С клиентами кого? — Странно было видеть управляющего озадаченным. — С клиентами заурядного доставалы. Кому что. Одному — импортные сигареты, другому — старинную мебель, третьему — шипованную резину. А уж вам-то, Михаил Игнатьевич, стыдно было иметь дело с прохвостом. — А вы нахал. — В голосе Новорусского появились стальные нотки, но Бугаева уже понесло: — Не думаю, что останется безнаказанным потворство спекулянту, — сказал он сердито. — Хотя бы моральное… — Только без угроз, — сказал Михаил Игнатьевич, до металл из его голоса куда-то пропал. — Я вам ответил на все ваши вопросы. Подробнее могла бы рассказать жена, но она сейчас в отпуске, в Кисловодске. — Когда в последний раз приходил к вам Барабанщиков? — Он приходил… Он приходил… — задумался управляющий. — Жена улетела двадцать восьмого августа вечером, Барабанщиков был утром. Да. Утром. Принёс… — Новорусский спохватился. — Он что-то принёс по просьбе жены. С тех пор я его не видел. Вам достаточно этого? — Вы никогда не слышали от Олега Анатольевича о его приятеле, у которого есть «Волга»? — О машинах мы с ним как-то разговорились. — На лице Михаила Игнатьевича появилось выражение, слегка напоминавшее улыбку. — Я люблю автомобили. У нас, правда, нет личного автомобиля. Двухсменная служебная… Много объектов. «Небось один объект — рынок», — подумал Бугаев. — Но машины я люблю. Барабанщиков жаловался, что никак не может приобрести «Волгу». «Жигули» не престижны! — заявил он. — Представляете, для него «Жигули» не престижны! — Михаил Игнатьевич снова улыбнулся. — И взахлёб рассказывал о своих знакомых, у которых есть «Волги». — Вы не помните, кого он называл? — с надеждой спросил капитан. — Да я, собственно, и слушал-то невнимательно. У него столько знакомых — Олег Анатольевич любит козырнуть громкой фамилией. По-моему, какого-то артиста называл. Очень известного. Потом лётчика. Да, больше всего его задевало то, что «Волгу» приобрёл какой-то мастер. — Мастер? — Да, мастер. Не то на заводе, не то в каком-то ателье. — Подробнее не помните? — Нет. Бугаев поднялся. — Что, всё это… — Новорусский неопределённо покрутил рукой, — действительно будет как-то обобщаться? — Он тоже встал из-за стола и медленно пошёл к двери, а сам внимательно смотрел на Бугаева. Сколько раз капитану приходилось видеть в людях эту резкую перемену, как только появлялась опасность огласки. И как паршиво он себя чувствовал в таких случаях, как гадко становилось на душе. «Уж лучше бы хамил до конца, — подумал он об управляющем. — Не стал бы разговаривать вовсе, выгнал. И то легче было бы». — У нас сейчас задача другая, — хмуро ответил он. — Но выявленный материал всегда обобщается. — Любопытно, любопытно. Я всё-таки позвоню Селиванову. Как вернусь из Москвы. Уже на пороге Бугаев сказал Михаилу Игнатьевичу: — А вы даже не поинтересовались, что с Барабанщиковым стряслось. — Это меня не касается, товарищ Бугаев, — не моргнув глазом ответил управляющий трестом и захлопнул за капитаном дверь.18
— И что же украли у моего покровителя Николы-угодника? — спросил Николай Николаевич, удобно развалясь на заднем сиденье «Волги». — Ничего. — Как это ничего? В последний момент грабителей обуяло раскаяние? — Вор, похоже, был один. Совхозный сторож нашёл его в церкви на полу. Без сознания. По дороге в больницу он умер. Новицкий присвистнул: — Есть всё-таки бог на свете! — Вот такие пироги, — задумчиво сказал Корнилов. — Вы что, клюквенника пожалели или скорбите, что не смогли его допросить? — Человек всё же… Новицкий неопределённо хмыкнул. Машина миновала Среднюю Рогатку, неслась по Киевскому шоссе. Николай Николаевич приподнялся с сиденья, взглянул на спидометр и сказал недоверчиво: — Вот она, справедливость. Ехал бы я с такой скоростью, у меня отобрали бы права… Шофёр засмеялся: — Да ведь вы, Николай Николаевич, сами от своих прав отказались! — Он ещё издевается. — Ты, Саша, и правда, не гони, — строго сказал Корнилов водителю. — Не на пожар. — А я ведь тебе, Игорь Васильевич, жизнью обязан, — примирительно сказал Новицкий. — Не продай тогда машину — как пить дать угрохался бы. Рассеянный я стал, ну просто божье наказание… Да, кстати, иконы остались в церкви? — Участковый говорит — все целёхонькие. Я ведь и сам первый раз туда еду. — Первый раз? — подозрительно спросил Николай Николаевич. — Откуда же ты знаешь, что иконостас там старый? Тоже участковый сказал? Он у вас что, специалист по древнерусскому искусству? Корнилов засмеялся. — Он у нас просто хороший мужик. Симпатяга. А про иконостас это я домыслил. — Домыслил! — Новицкий покачал головой, хотел что-то ещё сказать, но в это время загудел зуммер телефона. Корнилов снял трубку. Дежурный по уголовному розыску докладывал, что экспертиза установила подлинные номера «Жигулей», найденных у деревни Лампово. Машина украдена в Москве, числится в розыске уже два года. — Да, попался вор, — покачал головой Корнилов. — Ничего своего — «Жигули» украдены у одного человека, документы на машину — у другого, пистолет, сдаётся мне, тоже чужой… — И пистолет при нём был? — удивился Новицкий. — Был. Ты, кстати, Николай Николаевич, посмотри, — подполковник протянул художнику фотографию погибшего. — Может, видел когда. Среди вашего брата немало всяких барыг отирается. — Да, ходят, к сожалению, по ателье. То иконы предложат, то бронзу. — Новицкий внимательно рассматривал фотографию. — Красивый был мужчина. Кого-то он мне напоминает… — чуть отодвинул от себя фото, прищурился. — Нет, пожалуй, мы не встречались. — Он вернул карточку подполковнику. По обе стороны дороги замелькали утонувшие в густых, начинающих желтеть садах, домики. — А вот и Выра! — радостно сказал Новицкий. — Сейчас покажу домик станционного смотрителя. Несколько лет назад восстановили… Вот он. Вот! — Николай Николаевич показал Корнилову на красивый, какой-то очень уютный дом, рядом с которым стояли полосатый верстовой столб и старинный фонарь. — Я, между прочим, подарил сюда старинные подсвечники. Восемнадцатый век. Сейчас таких и в комиссионном не купите. Машина начала притормаживать. На перекрёстке надо было сворачивать налево, к Сиверской. — А может, заскочим в Батово? — попросил Николай Николаевич. — Тут всего километра три. Хороший мужик там живёт. Борис Фёдорович. Шофер посмотрел на Корнилова. — Нет, Николай Николаевич! — возразил Корнилов. — Дело не ждёт. Мы с тобой как-нибудь на выходные сюда приедем. — На служебной машине? — На электричке. — Хотите быть святее папы? Другие-то начальники ездят на служебных. — Чёрт с ними! Пусть ездят, — сердито отрубил Игорь Васильевич. — А я не буду. Новицкий захохотал: — Ну и ну! «Пусть ездят»! Тоже мне, называется блюститель порядка! Да ты первый должен бороться с теми, кто использует служебные машины. — Не лови на слове. Должен, конечно, — виновато усмехнулся подполковник. — Только мне своих уголовников хватает. — Опять ты не прав! — Новицкий смотрел на Корнилова с интересом, по-доброму улыбаясь. — Не прав, не прав, настырный ты человек, — слабо отмахнулся подполковник. — Люблю допечь ближнего, — засмеялся Николай Николаевич и, увидев, что машина свернула к Сиверской, с огорчением проворчал: — Значит, к Борису Фёдоровичу не поедем. А хороший мужик. Помогал собирать всякую утварь для домика смотрителя. Порассказал бы нам многое. Его мать ещё Владимира Набокова помнит. У него тут рядом имение было. А дядя, Рукавишников, в селе Рождествено имением владел. В шестнадцатом году умер, оставил в наследство племяннику четыре миллиона. Недолго тому попользоваться пришлось… Они поехали по узкой асфальтированной дороге. Справа желтело жнивье с большой скирдой соломы, слева лежала низина и невидимая сейчас река Оредеж, вдали — пологий зелёный холм с небольшой деревенькой. «А когда-то эта дорога была замощена крупным булыжником, — вспомнил Корнилов, — и мы с матерью тряслись по ней в сорок первом на переполненной беженцами полуторке. А впереди поднимались клубы дыма. Там горела Сиверская». Совсем недалеко отсюда, в маленькой деревушке Грязно, Корнилов жил на даче летом сорок первого года. Ему было тогда десять лет. События того лета врезались в память на всю жизнь. Как-то Игорю Васильевичу попалась на глаза книга о йоге. Выполняя одно из упражнений, помогающих обрести власть над своим телом, человек должен был мысленно перенести себя в такое место на лоне природы, где он чувствовал бы себя беспредельно раскованным и счастливым. Прочитав эти строки, Корнилов задумался. Куда, в какой райский уголок мог бы перенестись он, если бы вдруг последовал учению индийских стоиков? И не придумал ничего лучшего, кроме небольшой зелёной поляны на берегу тихой реки Оредеж. Неяркое, в какой-то лёгкой облачной пелене солнце. Пахнет сосной, недавно скошенной, подсыхающей травой, водорослями. Монотонно бубнит маленький ручей, впадающий в реку. Время от времени лениво всплеснёт рыба. И как тихий, убаюкивающий фон ко всему этому миру звуков — ровный, неумолчный шум старой мельничной плотины, скрытой за речной излучиной. …Они только что вылезли из воды и лежат на горячем песке: Игорь Корнилов, Вовка Баринов и Натка Голубева. Игорь на вершине блаженства — впервые он переплыл реку, нарвал жёлтых, только-только начавших распускаться кувшинок и принёс Наташе. Вовка Баринов чуть-чуть обижен. Он тоже влюблён в маленькую деревенскую кокетку Натку, но плавать ещё не научился и выполнить её просьбу не смог. Теперь у него вся надежда на белую магию своего новенького, сверкающего никелем велосипеда, единственного на всю деревню. Натке этот велосипед предоставляется по первому требованию. Ровно через две недели за Вовкой и его бабушкой приедет на легковой автомашине отец и увезёт в Ленинград. Велосипед прикатит Игорю тётка Мария, у которой снимали дачу Бариновы, и скажет: — Володя тебе подарил. Просил передать. В пять минут собрались, не было времени забежать попрощаться. Совсем недавно, во время позднего чаепития, мать, рассказывая Оле, жене Корнилова, про то лето, вдруг сказала: — О покойниках плохо не говорят, но Виктор Евграфович в сорок первом подло с нами поступил… — Ты о чём, мама? — удивился Игорь Васильевич. — Я тебе, Игорек, никогда не говорила, вы ведь с Володей и после войны дружили. Когда Баринов уезжал забирать Володю из деревни, я ведь на окопах была. Под Колпином. А его ещё раньше просила — поедешь за сыном, и моего забери. Нет, не забрал. Место в машине под вещи берёг. Да разве их сбережёшь, вещи-то! Людей сберечь не смогли. И Виктор Евграфович, и отец Корнилова погибли на фронте. Мать вырвалась за Игорем в самый последний момент — они уезжали с Сиверской последним поездом. Не посади их до станции какой-то сердобольный шофёр в битком набитую полуторку, остались бы они под немцем. Уже после войны, разговаривая с людьми, которые воевали в тех местах, Игорь Васильевич узнал, что через час после их отъезда немецкие мотоциклисты примчались на станцию. Последний пассажирский поезд, на котором они уехали, ещё стоял у платформы и пассажиры штурмовали вагоны, а немцы уже ходили по домам на окраине Сиверской и в Белогорке, опознавая переодетых красноармейцев по стриженым головам. Дарёный велосипед Корнилов оставил Натке. Ей уезжать было некуда. Отец воевал на фронте, мать больна. Летом сорок пятого Корнилов снова приехал в Грязно. Деревня выглядела заброшенной, несколько домов сгорело. Сгорел и дом Голубевых. Ни Наташи, ни её матери Корнилов не нашёл. Их, как и половину других жителей, немцы угнали на Запад. Через несколько лет он встретил Натку Голубеву на областной комсомольской конференции. Они поженились, когда Корнилов закончил юрфак, и лето провели в Грязно, купаясь в обмелевшем Оредеже, загорая на красивой поляне с чудным названием Дунькин угол. «Как всё это было давно, — с грустью думал Игорь Васильевич. — Столько воды утекло в холодном Оредеже, а память хранит эти дни, да, именно, дни — не годы, не месяцы. Эти счастливые тёплые дни». И ещё он подумал о том, что сколько раз бывал в тех местах, а ни от кого из местных не слышал о том, кто обитал здесь до революции. С Наташей они прожили только пять лет. Она погибла от руки бандита, когда Игорь Васильевич работал в посёлке Рыбацкое инспектором уголовного розыска…19
Участковый инспектор Мухин ожидал их при въезде в деревню. — Знакомьтесь, старший лейтенант, — сказал Корнилов, когда Мухин сел в машину рядом с Николаем Николаевичем. — Художник Новицкий, лауреат Государственной премии. К вам, в Орлино, наверное, не часто такие знаменитости заглядывают? Мухин пожал протянутую художником руку и смутился, не зная, что ответить подполковнику. — Он у нас большой специалист по древнерусской живописи, — продолжал Игорь Васильевич. — А вот сейчас в сомнении. Говорит, не может в Орлинской церкви старинных икон быть. — Так ведь я, товарищ подполковник, с чужих слов. Может, и врут люди. — Ну-ну! Зачем же так — не могут врать все люди разом. — Вот по этой улочке, — сказал Мухин шофёру, когда машина подъехала к перекрёстку. — Там дорога, правда, неважная. Никак сельсовет не раскачается. — Похоже было, что Мухин остро переживал за плохую дорогу. — Грузовики в распутицу всё разбухали, а летом времени не нашли, чтобы подправить. — Верующих у вас много? — поинтересовался Николай Николаевич. — Нет, товарищ Новицкий. Старухи только. — А молодёжь все сплошь атеисты? — улыбнулся художник. — Да не то чтобы атеисты. Ездят иногда девчонки в Сиверскую церковь. Там поп красивый. А вот мужики — нет. — Пьют небось мужики, — проворчал Корнилов. Наверное, чтобы занять паузу, Мухин улыбнулся и сказал: — Был у нас тут в соседней деревне, в Лампове, один мужик — верующий. Пров Семьенов. Старовер. У них там молельный дом. Так и он перестал к службе ходить. С ним такая история приключилась. Семьенов в пожарке на дружногорском заводе работает. Придет со смены, отсыпается. А в молельном доме в колокол как ударят! Бьют без умелости, ровно в набат. Семьенов, конечно, вскочит, как шальной, и на улицу! Где горит? Так привыкнуть к ихнему колоколу и не смог. Просил баб, найдите нового старосту. Да где его нынче найдёшь? Вот и стал дядя Пров атеистом. Николай Николаевич расхохотался. — И ушёл из староверов? — Ушёл. А в Сиверскую, в православную, говорит, ездить далеко. — Мухин сдержанно улыбался, довольный, что развеселил художника. — А вот и церковь наша, — он посерьезнел, нахмурился. — Тут всё и произошло. Нахмурился и Новицкий. Когда они вышли из машины, художник сказал: — Эх-эх-эх, товарищ начальник, до чего же вы тут довели это сооружение. Ведь ещё года три-четыре — и развалится храм. Конечно, не бог весть какой архитектурный памятник, но красиво как поставлен в парке. И озеро вдали блестит. — Вы Мухина-то не расстраивайте. — Корнилов вздохнул полной грудью, подставив лицо ласковому осеннему солнцу. — Лучше потеребите товарищей из Общества по охране памятников. — Если бы у них одна эта церковь была! Объектов много, а денег… — Новицкий сделал красноречивый жест. — Ладно. Давайте делом займёмся, — сказал подполковник. — Кто нам церковь откроет? — Сторож совхозный, Баланин. Да вот и он. — Участковый инспектор показал на согнутого недугом старика, стоявшего в сторонке, под раскидистой липой. — Прохор Савельич! — крикнул он. Старик не спеша подошёл, поздоровался. Глянул снизу вверх на Корнилова. Подполковник отметил, что глаза у старика были совсем молодые, синие, не выцветшие. «Оттого, что он всё время вниз, в землю смотрит, что ли?» — подумал подполковник. — Чем могу? — спросил Баланин. — Храм отворить? — Открой, дядя Прохор, пожалуйста, — попросил Мухин. — Товарищ подполковник из Ленинграда приехал, с милиции. А товарищ Новицкий — художник. Прохор Савельич скосился на Новицкого. Губы его расплылись в улыбке. — Знаем, знаем, — сказал он. — У меня дома две картинки ваших висят, Николай Николаевич. Репродукции. — Он быстро открыл амбарный замок, растворил дверь. — Две картинки? — обрадовался Новицкий. — Вот не ожидал. Польщён, знаете ли. А какие? — он остановился на пороге церкви и заинтересованно смотрел на старика. — «Лужская степь» и «Веранда». — Прохор Савельич посторонился, пропуская в церковь Корнилова и участкового инспектора. — «Веранда», знаете, там, где рябина на столе. — Рябина на веранде! — растроганно сказал Новицкий. — Я её больше всех люблю. Вы меня, Прохор Савельич, к себе не пригласите? Так захотелось посмотреть, как она, моя рябинка, в деревенском доме выглядит. Подлинник-то Русский музей купил, да что-то давно не выставляли. — Рад буду, заходите. И дочке подарок. Она у меня в Суриковское мечтает поступить. — Отчего же в Суриковское? — удивился Новицкий. — У нас свой институт есть, Репинский. Не хуже. — Николай Николаевич! — позвал Корнилов. — Ты в Орлино зачем приехал? Своё самолюбие потешить или уголовному розыску помочь? — Идите, идите, — тихо сказал старик. — Начальник у вас, сразу вижу, человек серьёзный. Мы с вами, если время будет, заглянем ко мне. Тут рядом, за парком. Молочком деревенским угощу. — Он зажёг свет, а сам остался у порога. — Ну, что скажешь, Николай Николаевич? — спросил Корнилов, когда художник остановился у иконостаса. — Руки-ноги бы обломал хозяину, который погубил эту красоту, — тихо сказал Новицкий, хмуро разглядывая потемневшие, облезшие от дождей и плесени иконы, давно облупившуюся позолоту разрушенного временем и непогодой иконостаса. Баланин приглушённо кашлянул. — Спору нет — иконостас-то постарше церкви. Это я вам сразу могу сказать. Без экспертов. Конечно, не пятнадцатый век и не шестнадцатый… Да что же гадать… Надо смотреть внимательно, кое-что снять, на свет божий вынести. — Мне ещё отец рассказывал, — подал голос Баланин. — В Селище в прошлом веке, в тот год, когда Пушкин погиб, церковь сгорела. А иконы мужики вынесли. Успели. Церковь в Селище восстанавливать не стали. Иконы церковный староста хоронил — Илья Степанов Кисочкин. Отец так говорил. А когда этот храм построили, Кисочкины иконы сюда передали. — Вот и мне мать так же рассказывала, — обрадованный поддержкой, вставил участковый уполномоченный. — Да-а, — вздохнул Новицкий. — Дела и случаи. Какой-нибудь ящик мне, что ли… Хочу вот верхнюю достать. Мухин взял ящик из большой кучи, поставил перед иконостасом. Новицкий оглянулся на сторожа. Тот кивнул. Пока художник вынимал икону, Мухин показал Корнилову на то место, где лежал на полу брезент. — Здесь, товарищ подполковник, мы и нашли его. Мелом обрисовали… — Подождите, Владимир Филиппович, — остановил Корнилов. — Сейчас художник возьмёт икону, пойдёт на солнышко. А у нас с вами свои дела. Новицкий, услышав это, сказал: — Не доверяете мне свои секреты. — Сказал, казалось, шутливо, но Игорь Васильевич уловил в его голосе нотки обиды. — Да что ты, Николай Николаевич, какие тайны?! Мы только пошепчемся со старшим лейтенантом немного. Пока ты занят. Я тебе потом всё доложу. Когда Новицкий ушёл, участковый осторожно поднял брезент. Меловой силуэт был нарисован не слишком умело. Человек скорее походил на птицу, широко раскинувшую крылья, и от этого рисунок казался более зловещим. Около маленького эллипса, изображавшего голову, всё ещё темнело большое пятно. Подполковник, задрав голову, долго всматривался в зияющую дыру разрушенного купола. Голубое небо было подёрнуто, словно изморозью, неподвижной плёнкой перистых облаков. — Залезать тут нелегко, — сказал Мухин. — Не пробовали? — Нет. Они вышли из церкви в парк. Новицкий со сторожем сидели поодаль от церкви на брёвнах. Художник сосредоточенно колдовал над иконой. Увидев Корнилова, он крикнул: — Игорь Васильевич, мы вам не нужны? А то удалимся на пару часиков. — Удаляйтесь, — махнул рукой подполковник. — Только не дольше. Где вас искать? Новицкий посмотрел на сторожа. Тот сказал: — Ко мне заглянем. Филиппыч-то знает. Тут рядышком, за парком, у прогона. Корнилов с Мухиным обошли вокруг церкви. Всё заросло крапивой, лопухами. — Вот и лестница, — показал Владимир Филиппович. — От скотного двора он её принёс. — А где этот скотный двор? — За парком. Не то чтобы далеко, а с километр будет. Корнилов нагнулся, попробовал поднять лестницу. Она была тяжёлой. «Интересно, — подумал он, — как же этот парень тащил её один?» Он поднял лестницу за середину. Лестница была длиннющая, и подполковник с трудом удерживал её, слегка балансируя. Бросив лестницу, он сказал участковому: — Может, я такой слабосильный… Старший лейтенант подошёл, тоже поднял. — Тяжеловата. От скотного двора её на весу не принесёшь. Волочил, наверное. — Вот то-то и оно. Искали след? Мухин виновато развёл руками. — Пошли, — сказал Корнилов. — Показывайте дорогу. Они внимательно, шаг за шагом, осмотрели весь путь — от скотного двора до церкви. Нигде не было даже намёка на то, что здесьволочили лестницу. Только у самого скотного двора, на земле, вытоптанной коровами и ещё не засохшей после дождей, была заметна слабая бороздка. Словно бы человек не справился со своей ношей и несколько метров протащил её по земле. — Могучий мужик покойник? — спросил Корнилов. — Да нет, товарищ подполковник. Жидковат, на мой взгляд. Интеллигентного сложения. Игорь Васильевич усмехнулся. Они вернулись к церкви. — Ну ладно, допустим, принести лестницу у него пороху хватило. А поднять вверх? — Подполковник внимательно разглядывал стену. — Смотрите, на штукатурке царапин не видно. — Двое было? Корнилов пожал плечами. — Не будем гадать. Давайте-ка заберёмся наверх. Они подняли лестницу, прислонили к стене. Но было сразу видно, что до купола она не достанет. — Придётся поднимать повыше, — сказал Корнилов. Они осторожно, метр за метром, подавали лестницу вверх. Когда, по прикидке подполковника, с последней перекладины уже можно было бы перелезть на купол, лестница стояла к стене под острым углом, почти вертикально. «Неосторожное движение, — подумал Игорь Васильевич, — и можно опрокинуться». — Ты, Владимир Филиппович, держи лестницу покрепче. Неровен час, уронишь начальство. За работой незаметно он перешёл с участковым на «ты». Когда подполковник полез вверх, лестница слегка вибрировала. «Ночью, наверное, не так боязно, — подумал он. — Не видно, что под ногами». С последней перекладины можно было, подтянувшись за изогнутую железяку каркаса, перебраться на кирпичную основу купола. Корнилов, придерживаясь за лестницу, неловко снял пиджак и, крикнув Мухину: — Держи, Владимир Филиппович, — кинул вниз. Распластавшись, словно ковёр-самолёт, пиджак упал прямо на подставленную участковым руку. Наверху, на поросших мхом, травой и крошечными берёзками кирпичах валялась ещё не развёрнутая верёвочная лестница, одним концом привязанная к железному пруту разрушенного купола. Корнилов внимательно осмотрел узел и осторожно, не развязывая, снял его с прута. На внутреннем краю купола большой кусок мягкого, словно бархат, зелёно-рыжего мха был содран, обнажив слой земли. Когда Корнилов слез на землю и протянул старшему лейтенанту лестницу, Мухин покраснел. — Мох там наверху, — сказал подполковник, не обращая внимания на смущение участкового, — как на болоте. Нога у Барабанщикова, наверное, соскользнула. Вы, когда церковь осматривали, не нашли кусок мха? — Нашёл, товарищ подполковник, — краска медленно сходила с его загорелого лица. — Подумал, что с ящиками занесли. — У вас что, клюкву на болоте в ящики собирают? — пошутил Игорь Васильевич и тут же пожалел. Участковый совсем расстроился. — Не огорчайся, Владимир Филиппович, ты своё дело сделал. А за чужие огрехи не переживай. Это ваши гатчинские сыщики, наверное, высоты боятся! Или поленились. — Он отряхнул брюки, надел пиджак. Крикнул водителю, читавшему в машине: — Саша, никто на связь не выходил? Тот мотнул головой. — Давай мы с тобой, товарищ участковый, посидим на брёвнышках, умом пораскинем. Похоже, всё-таки один человек здесь орудовал. — А как же машина? — спросил Мухин, усаживаясь рядом с подполковником. — Сама за два километра уехала? — Ты рассказывал мне, что девчушка со своим кавалером эту машину у церкви видели? Участковый кивнул. — Ну а тот, кто на машине приехал, он что, слепой? Он ведь тоже ребят видел. И решил от греха подальше машину спрятать. Зачем ей тут маячить, когда он станет по лестнице лазить? Это раз. А два — когда я по лестнице лез, то царапины на стене всё-таки увидел. Это снизу мы их разглядеть не смогли. Значит, парень поднял и прислонил лестницу к стене, как полегче было, невысоко, а потом двигал её вверх. Ну и третье — самое важное… Я мог бы и раньше подумать об этом, но на месте всегда начинаешь лучше соображать. Реальнее всё себе представляешь. Самое главное — пистолет. Пистолет у Барабанщикова в кармане остался. Знал о нём сообщник? Если был такой? Конечно, знал. Вместе ведь на дело собирались. Так что же, знал и нам оставил? Пистолет-то — первая улика! Из него человека убили. И сообщник уходит, про него позабыв? Так не бывает. — Я, товарищ подполковник, рассуждал так: один из них вниз обвалился, на окрик не отзывается, вытащить его невозможно, второй и сдрейфил. Сгоряча сел в машину, а когда отъехал, то сообразил, что с ней не сегодня-завтра попадётся. И бросил. — А ключи-то от машины в кармане у Барабанщикова нашли, — улыбнулся Корнилов. — Про это ты забыл, товарищ Мухин? С лестницей-то ему ничего не стоило вниз спуститься. Проверить, жив ли сообщник, оружие забрать. И уехать. На машине. И бросил бы он её где-нибудь подальше. Чего ему на ночь глядя пешком топать, в электричках мелькать. Мог бы даже доехать на машине и до города — и концы в воду. А ещё лучше — поставить её около хозяйского дома и права из «бардачка» забрать. Вот уж тогда мы вряд ли узнали бы, кто тут у вас разбился. — Слишком уж умный преступник у вас, товарищ подполковник, получается, — сказал Мухин и покраснел от своей смелости. Корнилов расхохотался: — Это ты верно подметил, Владимир Филиппович. Но уж такая у меня привычка. За дураков я их никогда не считаю. Правда, и без курьёзов не обходится. Искали мы как-то одного рецидивиста, только что вышедшего из колонии и уже взявшегося за старое. Сидим, рассуждаем с ребятами в управлении и так и эдак. Как бы он повёл себя в одном случае, в другом, домысливаем за него. А он, пока от нас в лесу скрывался, использовал в одном большом деле справку, которую ему в колонии выдали. Можешь себе представить? Всё в этой справке — фамилия, имя, отчество, по какой статье осуждён… Они долго смеялись, а потом Корнилов сказал серьёзно: — Но вообще-то, Владимир Филиппович, преступника никогда нельзя в дураках числить. В два счёта просчитаешься. Вернулись Новицкий и Прохор Савельевич, Корнилов спросил у сторожа: — В последнее время никто к вашей церкви не проявлял интереса? — Было. Нынче прямо поветрие какое-то. По домам шастают, у старух иконы торгуют. Тьфу, проклятые! — Он зло сплюнул. — И ко мне наведываются. Покойника-то я не припомню. Не видал. А разные другие заходили. «Открой, Савельич, храм, дай поглядеть, нет ли чего интересного!» — Показывали? — Если серьёзные люди — показывал. Чего не показать? А шантрапе от ворот поворот. Эти всё на рубли норовят мерять. — А из серьёзных что за люди приходили? — Из города приезжали. Художник один со студентами. Лихачёв фамилия. — Юрий Никитич! — сказал Новицкий. — Знаю, знаю. В Репинском институте руководит мастерской портрета. Хороший художник. — Обстоятельный гражданин, — подтвердил сторож. — Я им всё показал. Один учёный ещё был, запамятовал фамилию. В позапрошлом годе раза два Михаил Игнатьевич захаживал. Дачник орлинский. Теперь большой начальник по строительству стал. Не приезжает боле. А раньше у Маруси Анчушкиной избу снимал несколько лет подряд. — Михаил Игнатьевич? — насторожился подполковник. — Михаил Игнатьевич… — Это имя ему было знакомо. — А фамилию его не помните? Баланин покачал головой: — Нет. Прямо напасть какая-то! Нету памяти у меня на фамилии. Имена всю жисть помню, а фамилия для меня ровно пустой звук. — Застанем мы эту Марусю, если сейчас подъедем? — Её в любое время застанешь. Вроде меня калека. Хромоножка. Весь день на огороде торчит. Фамилия Марусиного дачника была Новорусский. — Интересный дед Прохор Савельич, — рассказывал Новицкий, когда они возвращались в Ленинград. — На вид-то совсем простяга, а умница. Льва Николаевича Толстого всего прочитал. И ведь с чего начал? Со статей. Я, Игорь Васильевич, честно признаюсь, больше двух страниц толстовских богоискательств прочесть не могу. А старик одолел. Потом и за прозу взялся. Он сам-то верующий. И решил проверить, в чем у Льва Николаевича с верой разлад вышел… Корнилов вполуха слушал Новицкого, а сам думал о Новорусском. Что это? Простое совпадение? В клиентах у Барабанщикова состоял, «Волгу» имеет, к Прохору Савельичу в церковь наведывался, иконами поинтересоваться. Правда, два года назад. Ну и что? Он вполне мог хаусмайору рассказать об этих иконках. Не специально наводить, а так, между прочим. Помянул как-нибудь в разговоре, а хаусмайор намотал себе на ус. Потом бы Аристарху Антоновичу втридорога сбагрил. «Это всё мелочи, мелочи, — останавливал себя подполковник. — Настоящий преступник никогда часто не мелькает, не засвечивается. Да и потом человек всё-таки заметный, управляющий трестом. Чего у него общего с этим жульём? Общее-то, пожалуй, есть, — остановил себя Игорь Васильевич, — доставала общий, тёмная личность, спекулянт. Коготок увяз…» … — У него дома в шкафу довоенное собрание сочинений Толстого стоит, все девяносто томов. Представляешь? — Николай Николаевич осёкся и с укором сказал: — Да ты никак спишь, милиционер? А я распинаюсь… — Не сплю, Николай Николаевич, — улыбнулся Корнилов. — Слушаю тебя внимательно. — Слушаешь! — недовольно проворчал Новицкий. — Я тебе про такого интересного старикана рассказываю, а ты… Спит, окаянный. Ну о чём я сейчас говорил? — Про Толстого. — Про какого Толстого? Про Льва, Фёдора, Алексея Николаевича или Алексея Константиновича? — Про Константиновича, — схитрил Корнилов. — Ладно, суду всё ясно; зуб золотой, сапоги «Джимм» — два года! Продолжай спать. — Это откуда ты про сапоги «Джимм» знаешь? — Тебе не понять! Ты никогда шпаной не был. — А ты был? — Был. Василеостровским шпанёнком. А стал знаменитым художником. Встречаясь друг с другом, они любили вот так попикироваться, поддразнить друг друга, скрывая за этим грубоватым поддразниванием искреннюю теплоту отношений. — Честно говоря, я Алексея Константиновича больше всех из Толстых люблю, — сказал Новицкий. — Понимаю, Лев Николаевич — титан, глыба, но чувству не прикажешь… Алексею же Константиновичу я одного только простить не могу — как это он написал про Россию: «Страна у нас богатая, порядку только нет»? — Что, разве неправильно? — В том-то и дело, что неправильно! Ведь не об этом порядке в летописи шла речь! — серьёзно сказал Новицкий. — Когда князь Гостомысл умер, порядка в наследовании не было. Сыновей у него не было! Вот и обратились к славянским князьям с острова Рюген, которые были женаты на Гостомысловых дочках, — приходите княжить, страна у нас богатая, а наследовать престол некому. А вы, дескать, Гостомыслу родня, раз на его дочерях женаты. Интересно? — Интересно, — согласился подполковник. — Это ты сам придумал или прочитал где? — Прочитал. Ты что ж думаешь, я только холсты мажу да водку пью? Корнилов знал, что Новицкий пил мало. Ссылался на язву, но Игорь Васильевич подозревал, что это просто удобный повод лишний раз отказаться от выпивки. Он и сам при случае ссылался на больные почки. — Ты, кстати, этюды собирался писать, — спросил он. — Я портрет Баланина сделал. Пастелью. Ему и подарил. Характерный дед. Я к нему на неделю скоро приеду. «Эх, — подумал Игорь Васильевич, — счастливый человек. Понравилось ему у старика, приедет на неделю. Рыбу половит, этюдами займётся. Да и грибы, наверное, пошли. А мне — утречком к девяти, а когда домой, никто не знает. — И он снова подумал о Новорусском: — Жаль, что я не видел его. Трудно рассуждать о действиях человека, ни разу не посмотрев ему в глаза. Как только это сделать потактичнее?» — Игорь Васильевич, а как зовут этого горе-коллекционера икон? — спросил вдруг Новицкий. — Аристарх Антонович Платонов. — Аристарх, Аристарх… — задумчиво повторил Новицкий. — Редкое имя. И красивое. Я знаю несколько серьёзных коллекционеров, но про Аристарха не слыхал. И что, у него хорошая коллекция? — Иконами вся квартира увешана, а хорошая или нет — какой я ценитель! — Это ты брось! Каждый человек с мало-мальски развитым художественным вкусом отличит подделку от произведения искусства. — И милиционер? — хитро усмехнулся Игорь Васильевич, но художник не заметил его усмешки и сказал серьёзно: — В вашем министерстве даже студия художественная есть. Я года три назад на выставке побывал — очень неплохие работы видел. Молодцы милиционеры. — Он задумался на мгновение и тут же, словно вспомнив о давно мучившем его вопросе, спросил: — Послушай, Игорь Васильевич, а как же так получается — этот Аристарх, ценитель прекрасного — и вдруг в чужой дом залез? — Об этом тебя бы следовало спросить. — Нет, правда. Кажется, взаимоисключающие начала: тяга к прекрасному и безнравственные поступки?! — Если бы знать, на чём основана эта тяга к прекрасному, — задумчиво сказал подполковник. — А то ведь и так бывает — один гонится за модой — его тщеславие одолело, другой решил, что так удобнее свои капиталы прирастить, третий вообще «коллекционирует» всё, что плохо лежит. А ещё скажу я тебе, Николай Николаевич, ты только не осуждай меня за примитивизм, эстетическое развитие не может восполнить пробелы в нравственном воспитании. А у нас часто пытаются одно другим подменить. Художественная самодеятельность, кружки по интересам. Каких только студий для молодёжи не организуют и считают, что этого достаточно, чтобы выросли хорошие, честные люди. Нет, дорогой товарищ художник. Этого мало. Помнишь автомобильное дело? Один из участников шайки был мастер спорта. А девица… — как её звали?! — Он на секунду задумался. — Лаврова! Помогала фальшивые документы готовить. А в свободное время пела в ансамбле. — Это ж капля в море! Единицы! — Я и не говорю, что таких людей много. Но есть! Несколько лет назад обокрали музыкальный магазин в пригороде. Так ворами оказались подростки из самодеятельного джаза при Доме культуры. — Корнилов покосился на Николая Николаевича и спросил: — Что молчишь? Не нравится тебе моя доморощенная теория? Ну вот. И начальству моему не нравится. Говорят, что я недооцениваю роль эстетического воспитания в формировании коммунистической нравственности. А откуда возьмётся эта нравственность, если парня дома не воспитали? С самого раннего детства. Если он в школе слышит одно, а дома другое. А ещё хуже — когда слышит одно, а видит другое. Отец ему говорит — воровать нельзя, а сам по вечерам собирает цветной телевизор из ворованных деталей. — Он в сердцах хлопнул кулаком по колену. — Ладно! Разговорился я. — Да уж, редкий случай, — засмеялся Новицкий. — Из тебя обычно слова клещами не вытянешь. Значит, по-твоему, этого Аристарха в детстве плохо воспитывали? — Всё сложнее, всё сложнее, — сказал Корнилов, отрешённо вглядываясь в раскинувшееся вдоль дороги поле с голубой каймою леса на горизонте. Два трактора пахали землю. В огороде у одинокого домика девочка в красном платье жгла картофельную ботву. Неожиданно подполковник повернулся к Новицкому. — Знаешь, мне о человеке много говорят детали. Не слова, не характеристики. Не лицо, хотя я считаю, что в теории Ломброзо много верного. А вот незначительная деталь может вдруг открыть самое сокровенное в человеке. Самое характерное, самое глубинное. Особенно, если человек в это время наедине сам с собой. Возьмём того же Платонова. Мне наш инспектор рассказал. Когда Аристарх залез в дом к Барабанщикову, снял со стены и положил в «дипломат» иконы, то огляделся, открыл бар, выпил стакан коньяка. Лежали в баре сигареты американские. Он и эти сигареты взял. Есть за этим характер? — Да уж, — покачал головой Новицкий. — Большой эстет товарищ Аристарх. Остальную дорогу до города они ехали, не проронив ни слова.20
У хаусмайора Барабанщикова была обширная клиентура. Уже два дня сотрудники Корнилова занимались разговорами, а список всё разрастался и разрастался. В нём красовались фамилии нескольких актёров, поэта-сатирика, директора Дворца культуры, инженеров. В поле зрения милиции попали бармен из интуристской гостиницы и заведующий секцией большой аптеки. С ними предстоял ещё особый разговор — подполковник считал, что именно через этих людей Олег Анатольевич доставал для своих клиентов импортные сигареты, джин, виски и дефицитные лекарства. Многие из «подопечных» хаусмайора имели автомашины, несколько человек — «Волги». По разрешению прокурора, осторожно, чтобы не обидеть владельцев, инспекция ГАИ проверила отпечатки протекторов этих «Волг». Ни один не совпал с парголовскими. Да и никто из владельцев этих автомашин не вызывал особого подозрения. Проверку провели только затем, чтобы, по выражению Семёна Бугаева, «закрыть тему», не беспокоить людей ещё раз. Но до сих пор сотрудники уголовного розыска не могли напасть на след владельца «Волги» — мастера из безвестного ателье. Кроме Новорусского, никто из клиентов хаусмайора больше о нём не упоминал. Мать и сестра Барабанщикова, приехавшие из деревни на похороны, о делах Олега Анатольевича вообще понятия не имели и друзей его не знали. Корнилов попросил сотрудников обзвонить клиентов Олега Анатольевича и попытаться выяснить, не прибегал ли кто-либо из них к помощи покойного при шитье костюмов или починке телевизоров. Правда, это была та область бытовых услуг, где люди вполне могли обойтись без посредничества услужливых ловкачей. — Предупреждаю. В общении с этими людьми у вас одно оружие — вежливость, — напутствовал подполковник инспекторов, строго глядя на Семёна Бугаева. Новорусский позвонил-таки Селиванову и пожаловался на то, что капитан якобы разговаривал с ним грубо. Правда, когда Селиванов предложил ему написать жалобу, управляющий трестом отказался. И даже пробормотал нечто маловразумительное о молодости Бугаева и нежелании портить ему карьеру. Корнилов в разговоре с Селивановым взял Семёна под защиту, но сейчас, на совещании, посчитал нужным для профилактики сказать: — Наскоком ничего не добьёшься. Человек замкнётся, ощетинится… Или испугается так, что всё забудет. — Такого, как Новорусский, если не испугаешь, так ничего не добьёшься, — себе под нос пробормотал Бугаев, но подполковник услышал и с укоризной покачал головой. — По части такта и вежливости вы, капитан, самое слабое звено в аппарате уголовного розыска. — Да вежливым я был, товарищ подполковник. Аж самому противно. — В голосе Семёна слышалась обида. — Ладно, ладно, Бугаев, — примирительно поднял ладонь Игорь Васильевич. — Я знаю, что за рамки вы не выходили, но прошу быть ещё осторожнее. «Если бы я не намекнул этому управляющему о моральной ответственности, никогда бы я и не узнал о мастере из ателье», — подумал Бугаев и попросил: — Только пускай звонит Новорусскому кто-нибудь другой. — Вы будете звонить, — отрезал подполковник.— Товарищ Бугаев, у меня только и забот, что заниматься воспоминаниями о вашем Барабанщикове, — сердито сказал Новорусский, выслушав вопрос капитана. — Проблему считаю исчерпанной. — И повесил трубку. «Наверное, намылили ему в Госстрое шею за то, что плохо строит», — со злорадством подумал Семён. Не дало результатов повторное обращение сотрудников и к остальным клиентам. Правда, жена актёра Солодовникова сообщила Володе Лебедеву, что хаусмайор помог ей сшить каракулевую шубу в скорняжной мастерской на Московском проспекте. Даже назвала мастера-скорняка — Павла Аркадьевича Гиревого. Когда Лебедев приехал в ателье, то оказалось, что Гиревой год назад ушёл на пенсию. — Вы не скажете, — спросил Лебедев у заведующей ателье, маленькой пухлой, словно моток шерсти, женщины, — у Павла Аркадьевича есть личная машина? — Личная автомашина? — Заведующая ателье так удивилась, словно лейтенант спрашивал о персональном самолёте. — Помилуйте, Гиревому восемьдесят лет. Он и на пенсию ушёл потому, что трясучка его одолела. — И никогда не было? — на всякий случай поинтересовался Лебедев. — И не было. У него восемь внуков. Когда поздно вечером Игорь Васильевич в очередной раз просматривал записи бесед сотрудников с клиентами Барабанщикова, он обратил внимание на то, что в трёх из них шла речь о помощи, которую оказывал Олег Анатольевич в автомобильных делах. Устраивал машину без очереди на ремонт, на техосмотр, помогал достать шипованную резину и запчасти. «Ну, запчасти и резину он мог доставать в магазине, — подумал Корнилов. — А остальное на станции обслуживания. И на след Аристарха Антоновича Бугаева навели на станции обслуживания. Там ведь тоже мастера есть. А Новорусский мог ошибиться, сказав, что слышал о мастере из ателье». Корнилов снял трубку, набрал домашний номер Бугаева. Длинные гудки свидетельствовали, что капитан по вечерам дома не засиживался. «Жаль, — подосадовал Игорь Васильевич. — Сейчас бы мы с Семёном пораскинули пасьянс». Подполковник не любил, когда непредвиденные обстоятельства заставляли его бездействовать. Он посмотрел на часы — было половина девятого. Корнилов встал, подошёл к открытому окну. На улице уже темнело, но фонари ещё не зажглись. Город утонул в густой сиреневой полутьме. Воздух был тёплым и сухим, что редко бывает в сентябрьские дни в Ленинграде. Игорь Васильевич позвонил жене, спросил: — Может, пройдёмся? — И я хотела тебя пригласить, — весело отозвалась Оля. — Такая погода чудная. — Хорошо! Я выхожу. — Он положил трубку. У них была традиция — если Корнилов заканчивал работу не слишком поздно и Оля не дежурила в поликлинике, то он выходил с Литейного пешком. Всегда по одному и тому же маршруту. По Кутузовской набережной к Кировскому мосту. Жена шла навстречу, с Петроградской. Чаще всего они встречались у Летнего сада. Иногда даже спорили, где встретятся сегодня. Игорь Васильевич хитрил — вышагивал побыстрее и поджидал Олю недалеко от горбатого мостика через Фонтанку… Корнилов шёл по набережной и думал о бригадире Платонове со станции обслуживания. «Что же получается, в разговоре с Бугаевым он даже не смог вспомнить фамилию Барабанщикова, направил Семёна к Аристарху. А ведь по делу получается, что с Барабанщиковым он должен был быть хорошо знаком. Хаусмайор на эту станцию машины своих клиентов пристраивал. И на ТО, и в ремонт. Не мог он миновать Платонова. Может быть, когда приехал Бугаев, Платонов испугался, что все эти „пристройки“ обнаружатся. И среди них — левая работа? — Он поморщился, словно раздавил во рту клюквину. — Как это я раньше об этом не задумывался? Но почему Платонов назвал Аристарха Антоновича? Догадывался, что рано или поздно всё обнаружится, и решил отделаться полуправдой? И оттянуть время? На что? Чтобы пошарить на даче у хаусмайора? Или он был уверен, что у Аристарха мы ничего о хаусмайоре не узнаем? Откуда такая уверенность? Хорошее знание психологии? Или он о связях Аристарха с Барабанщиковым такое знает, что нам и не снилось? — В этой цепочке всё складывалось логично и слишком гладко, а такая гладкость подполковника всегда настораживала. — Пока ещё мало оснований подозревать человека. Но проверить, детально проверить эту версию тоже нужно». Они встретились с Олей у Летнего сада. — Ты, Игорь, совсем рассеянным стал, — сказала жена. — Иду навстречу, улыбаюсь, а он смотрит в упор и не видит! Какие заботы одолели? Корнилов виновато улыбнулся. Когда они пришли домой, он снова позвонил Бугаеву. На этот раз капитан отозвался. — Семён, у этого бригадира Платонова с тэо есть «Волга»? — Есть, Игорь Васильевич! — радостно отозвался Бугаев. — Я об этом сегодня тоже подумал. — Поздно подумал. — Ездил на станцию. Взглянул одним глазом на машину. Серого цвета, почти новая, но вот протекторы… — Ты что, брал отпечатки протекторов? — насторожился подполковник. — Нет, Игорь Васильевич. Я законы знаю. Только взглянул издалека — протекторы старые, изношенные, а в Парголове отпечатки совсем как от новых. Только если человек на станции техобслуживания работает, поменять резину для него — раз плюнуть. — Я всегда тебя сообразительным считал. — Этот Платонов, хоть и бригадир, но с машинами дело имеет. Как в хоккее — играющий тренер. Наверное, его хаусмайор имел в виду, когда Новорусскому о мастере с «Волгой» говорил. Может, попросим у прокуратуры разрешение на произведение обыска? — Не торопись! — Корнилов повесил трубку. Весь вечер Платонов не выходил у него из головы.
…Последние год-два Игорь Васильевич вдруг почувствовал, что здоровье у него стало никудышным. Первым звоночком была бессонница. Долгие годы находящаяся в состоянии наивысшего напряжения нервная система предъявила ему свой счёт. Раньше, даже после сложного розыска, после опасной операции по задержанию Корнилов приходил домой, ужинал и, отдохнув полчаса, мог засесть за разработку нового дела, за доклад, с которым предстояло выступать. Теперь он ловил себя на том, что иногда по часу, по полтора сидит перед телевизором, который ещё недавно считал общественным злом. Сидит, плохо вникая в происходящее на экране. По-прежнему он хорошо засыпал, едва коснувшись головой подушки. Но после двух — обязательно после двух, даже если он ложился в час, — Игорь Васильевич просыпался и по нескольку часов лежал с открытыми глазами. В голову чаще лезла чепуха, мелкие неприятности, воспоминания о том, что забыл кому-то позвонить, не предупредил кого-нибудь из сотрудников о предстоящей командировке. И позвонить и предупредить было ещё не поздно и завтра, но ночью Корнилову эти мелкие неурядицы казались непоправимыми. Иногда он начинал прислушиваться к тому, как бьётся сердце. Он никогда не был мнительным, но теперь вдруг начинал ощущать, как сердце постепенно ускоряет свой ритм. Игорь Васильевич начинал считать пульс. Тихонько, чтобы не разбудить жену, он вставал, шёл на кухню, где висел маленький, год от года заполнявшийся пузырьками и таблетками шкафчик с лекарствами, отсчитывал тридцать капель валокордина, наливал воды из-под крана, выпивал и, усевшись за стол, принимался за первую попавшуюся книжку. Часто по ночам Корнилова мучили сомнения о том, правильно ли он поступил, закручивая очередной розыск, не взял ли он на подозрение ни в чём не повинных людей, не повредят ли этим людям его подозрения. Обладая такими редкими качествами, как дар предвидения, обострённая интуиция, Корнилов не то чтобы не доверял своим способностям, но постоянно держал их в узде, осаживал сам себя. Старался никогда не отрываться от полученных в ходе розыска фактов. Наверное, эта раздвоенность тоже не лучшим образом отзывалась и на его здоровье, и на его характере, но поступать иначе он не мог. Он не мог похвастаться, что за всю свою долгую работу в уголовном розыске не делал ошибок. Первые годы ошибки делал чаще, но так как он был молодым работником, занимал невысокие должности, то люди, работавшие рядом, его более опытные товарищи, его руководители помогали ошибки исправлять. Даже просто не позволяли некоторые из них совершать. С годами, с опытом ошибок у Корнилова стало очень мало. Но уж если он их допускал, то исправлять их было значительно труднее. Теперь и к опыту, и к должности Корнилова доверие неизмеримо выросло. Его слова, его действия пользовались в Управлении уголовного розыска непререкаемым авторитетом. Но в характере Корнилова имелась счастливая — счастливая для людей, с которыми ему приходилось соприкасаться, — особенность: чем большей властью облекал его закон, тем труднее для него было каждый раз принимать решение. Но особенно мучительны были терзания в, часы бессонниц, когда вспоминал он одно, казалось бы, из самых простых своих дел, обернувшееся трагедией. Было это лет пятнадцать назад. Старший инспектор уголовного розыска Корнилов недавно получил звание капитана…
Игорь Васильевич проснулся за минуту до того, как должен был зазвонить будильник. Протянул руку, привычно щёлкнул выключателем настольной лампы и зажмурился. Подумал: «Зря я согласился ехать на охоту. Спал бы в тёплой постели. Впереди два выходных…» Он не успел помечтать о том, чем занялся бы в свободное время, в этот момент будильник тихо звякнул, предупреждая, что сейчас последует громкое простуженное дребезжание. Корнилов вскочил с кровати и нажал кнопку будильника, чтобы упредить это дребезжание и не разбудить мать. Вещевой мешок, ружьё и патронташ он собрал с вечера. Мать оставила ему в термосе кофе. Быстро умывшись, Игорь Васильевич сделал бутерброд, налил в чашку кофе. Кофе простоял ночь в термосе, сделался безвкусным, немного остыл, а Корнилов любил горячий. И он, предчувствуя, что все эти два дня его ждут сплошные неудобства, ещё раз пожалел о том, что затеял эту поездку на охоту. Но уж очень соблазнительно звучало: охота на медведя! Игорь Васильевич никогда на медведя не охотился, да и вообще за последние годы ни разу не брал ружья в руки. Три дня назад Корнилову позвонил его приятель Василий Плотников. — Игорь, ты когда-нибудь ходил на медведя? — спросил он. — С рогатиной? — Будешь острить, так и умрёшь, ни разу не поохотившись, — оборвал Игоря Васильевича Плотников. — Тут мы собрались небольшой компанией… Есть одно место в «газике». — И далеко? — спросил Корнилов. — Далеко. За Бокситогорск. Всего километров триста… — И, почувствовав, что его приятель сомневается, Плотников сказал: — Дело стоящее. Есть лицензия. Егерь ещё с осени взял берлогу на контроль… — А что?! — оживился Игорь Васильевич, представив вдруг заснеженный лес, огромный костёр и тёмную тушу зверя на снегу. — А что? — повторил он. — Почему бы и не поехать? Что за народ собирается? — Колю Евсикова ты знаешь, — сказал Плотников, — да ещё один его приятель. Инженер с «Электросилы». Евсикова Игорь Васильевич встречал несколько раз у Плотникова и не очень жаловал. Он производил впечатление человека, когда-то давшего клятву быть обязательно остроумным и свято эту клятву выполнявшего, несмотря на то, что все остроты у него были заезженные, анекдоты или старые, или совсем не смешные. Коля Евсиков, которому, кстати, было уже лет сорок, ни слова не говорил просто так — обязательно с присказкой, обязательно с каламбуром. В компании, которая время от времени собиралась у Плотникова, к Евсикову уже привыкли и, едва он начинал какой-нибудь очередной свой каламбур, хором его подхватывали. …Так и не допив кофе, Игорь Васильевич надел старенький короткий тулупчик, волчью мохнатую шапку, подхватил рюкзак и ружьё и тихонько прикрыл за собой дверь. В лифте он взглянул на часы — было половина пятого. «Ну, товарищ Корнилов, вы делаете успехи!» — усмехнувшись, подумал Игорь Васильевич. Он мог засидеться за работой далеко за полночь, но утром в выходной любил поспать. «Газик» уже стоял перед подъездом, окутанный белыми клубами морозного воздуха. Плотников, сидевший за рулём, распахнул дверцу. Игорь Васильевич устроился рядом, обернулся, поздоровался с Колей Евсиковым. — А это Владислав Сергеевич… — сказал Плотников, кивнув на третьего мужчину в новеньком ватнике, подпоясанном патронташем. — Он у нас главный медвежатник! — засмеялся Евсиков. — Завидев Славку, все медведи медвежьей болезнью болеют. — Ну, с богом! — сказал Плотников, и они покатили по пустынному белому городу. Что-то в этом Владиславе Сергеевиче показалось Корнилову знакомым. «Может быть, у Евсикова встречались? — думал он. — Нет, не встречались. Я хорошо помню всех его гавриков». Раза два Игорь Васильевич поворачивался к Плотникову, о чём-то спрашивал его, а сам ненароком взглядывал на Владислава Сергеевича, но в машине было темно. Рассмотреть черты лица не удавалось. У него возникло ощущение, словно не сам человек был ему знаком, а только глаза, о которые он будто споткнулся, когда пожимал Владиславу Сергеевичу руку. «А-а, впереди ещё два дня, успеем разглядеть друг друга», — решил он и попытался задремать. Но сидеть было неудобно, мешал вещевой мешок, стоящий в ногах. Да и дорога, как только выехали за город, оказалась скользкой, плохо почищенной. Машину трясло, заносило на поворотах. То и дело приходилось хвататься за железный поручень над дверцей. «Лихая голова, — подумал Игорь Васильевич о Плотникове. — Загонит он нас в канаву». Но говорить ему ничего не стал. Василий мог спокойно выслушать любые замечания, кроме замечаний в адрес его умения водить автомобиль. Часа через три Корнилов уже так устал — и от неудобного положения, в котором сидел, и от тряски, и, главное, от того состояния полудремоты, полубодрствования, когда ежесекундно засыпаешь и ежесекундно же просыпаешься, что перестал обращать внимание на то, как ведёт Плотников машину. — Николай, — попросил Игорь Васильевич Евсикова, — ты бы хоть рассказал чего… Пару анекдотов поновее. Но Евсиков не отозвался. — Он уже третий сон видит, — тихо сказал Владислав Сергеевич. — Сил набирается… «И голос этот я уже слышал», — подумал Игорь Васильевич. Часов в девять посветлело. Но декабрьский рассвет был тусклым, больным — не то раннее утро, но то ранний вечер. Евсиков проснулся, когда они подъезжали к какому-то посёлку. Заметив скопление грузовиков около унылого, из белого кирпича построенного домика, он скомандовал: — Вася! Тормози. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? — Нет, братец, до тех пор, пока не уложим мишку, — сухой закон! — сказал Плотников. — А я, как тебе известно, за рулём не пью даже пиво. Первый этаж здания и впрямь оказался столовой. Там было шумно, парно, как в бане. Несмотря на предупреждение снимать верхнюю одежду, люди сидели за столиками в тулупах и ватниках, в шапках. Плотников поставил Владислава Сергеевича в очередь на раздачу, сам нашёл свободный столик, сложил на поднос и отнёс в посудомойку грязную посуду. Игорь Васильевич выбивал в кассе чеки. Один Евсиков сидел за столиком без дела, меланхолически разглядывая новые, разрисованные чашками и ложками занавески на окнах. Через считанные минуты на столе стояли тарелки с пюре и котлетами, белесый кофе и бутерброды — на кусочке чёрного хлеба две кильки и кружок яйца. — Ну, Вася! — восхитился Игорь Васильевич. — Ты у нас прирожденный организатор. Недаром тебя избирают на руководящие посты в месткоме. Еда, правда, оказалась из рук вон плохая — пюре синее, котлеты безвкусные, но зато кофе, хоть и был сварен не то из желудей, не то из овса, обжигал губы. — Эх, такая закуска пропадает, — с сожалением сказал Евсиков, отправляя в рот бутерброд с килькой. — Ничего, Коля, — ободрил Плотников. — Ты ещё возьмёшь своё. На медвежьем сале знаешь какая вкусная свежатинка будет! — Сальце, мясце… — начал Евсиков. — …Витамин цэ. Это мы, Коля, знаем, — улыбнулся Владислав Сергеевич. Улыбка у него была добрая, словно чуточку виноватая. Будто бы он подшучивал над Евсиковым и тут же извинялся за это. «Нет, пожалуй, я его никогда не встречал», — подумал Корнилов. Но тут Владислав Сергеевич снял шапку, и у Корнилова словно пелена с глаз спала. Он узнал этого человека, узнал продолговатую, огурцом, голову. Владислав Зайцев! «Ну и дела. В хорошую компанию я попал! На медвежью охоту… Да как же это может быть? С тех пор когда этого субчика судили, прошло не так много времени. — Он прикинул, выходило не больше четырёх лет. — А ведь его приговорили к десяти. Неужели убийцу выпустили досрочно? За хорошую работу?» Ошеломлённый своим открытием, Корнилов никак не мог решить, что ему делать. Остаться здесь или на рейсовом автобусе возвращаться в Ленинград? А что сказать Плотникову? Как всё объяснить? Ехать на охоту? С этим убийцей? С подонком, которого он четыре года тому назад целую неделю выслеживал по всей Ленинградской области? И Василий тоже хорош! Не знает, с кем имеет дело! А если… Но это «если» он не успел даже выразить в форме мысли. Осталось только смутное ощущение опасности — в этот момент Плотников озабоченно посмотрел на часы и быстро поднялся из-за стола: — По коням, братцы, по коням! — В поход, в поход, медведь не ждёт! — пропел Евсиков. Они гурьбой тронулись на выход, увлекая за собой Корнилова, не давая ему сосредоточиться, принять решение. Еще несколько минут, и «газик» уже мчался по белой, укатанной дороге, среди припорошенного снегом елового леса. Ветер чуть раскачивал огромные ели, и сверху то и дело осыпались снежные комья, разбиваясь о ветви в пыль, создавая новые обвальчики. Ветер нёс снежные облака прямо на дорогу, под колёса «газика». Игорь Васильевич сидел словно в оцепенении, спиной ощущая взгляд Зайцева. Конечно, он его тоже узнал. Никаких сомнений не может быть! «Нет уж, нет! Увольте! Что это за охота. На охоту ходят с друзьями! Как я с ним сяду рядом у костра? Как буду есть из одного котелка? — твердил себе Игорь Васильевич. — Нет! В Бокситогорске сяду на поезд. Скажу — заболел, сердце жмёт…» Но он понимал, скажи так, подумают, что испугался медведя. Ходить на берлогу — дело непростое, вот и сдрейфил. Старший инспектор угрозыска. Это ему не домушников брать. Первый Плотников так подумает. Не скажет, но подумает. А Евсиков растреплет на весь город. Так и не решился Игорь Васильевич уехать. Но охота была испорчена. С какой-то тягостной апатией Корнилов выполнял — именно выполнял! — всё, что положено на охоте, — продирался вслед за егерем к берлоге по глубокому, по пояс, снегу, стоял с ружьём на изготовку там, где велел егерь, без тревоги и без любопытства приглядываясь к небольшой дыре в снегу, над которой время от времени возникало лёгкое облачко морозного пара. Когда растревоженный шестом егеря мишка с рёвом вылетел из берлоги, Корнилов выстрелил нехотя и спокойно, почувствовав, что попал в светло-бурое пятно на груди мишки. Ему даже почудилось, что он услышал глухой шлепок своей пули. И тут же он подумал о Зайцеве. Как, с какой мыслью взрослый мужчина стрелял из ружья в забравшегося в сад мальчишку? …Когда дело было сделано, охотники столпились вокруг уткнувшегося мордой в снег зверя. — Эх, фотоаппарат не взяли! — посетовал Евсиков… Егерь достал большую финку и опустился перед тушей на колени. — Дайте мне, — попросил Зайцев. Егерь обернулся и посмотрел на Плотникова, словно спрашивая у него разрешения. — Да не испорчу я шкуру, — усмехнулся Зайцев. — Если что не так буду делать, скажите. — Он стал на корточки рядом с егерем, взял у него из рук финку и застыл на несколько секунд над тушей, словно примериваясь и рассчитывая, с чего начать. Потом провёл рукой по шкуре, разводя шерсть, и осторожно надрезал… Игорь Васильевич смотрел, как ловко орудует Зайцев финкой, и чувствовал, как у него по спине бегают мурашки, словно это ему приложили к телу холодную сталь. — Ловко, — с одобрением сказал егерь. — Приходилось свежевать? — А чего тут особенного? — не отрываясь от дела, откликнулся Зайцев. — Барашков резал, кроликов. Когда хозяйство ведёшь, чем только не приходится заниматься… — Правда твоя, — согласился егерь. — Хозяин всё должен уметь. — И, обернувшись к Плотникову, сказал: — Уважаю. Если человек к какому делу приспособлен, не зря живёт. — Да уж, да уж! — как-то не очень искренне пробормотал Плотников, словно чувствовал свою вину за то, что не приспособлен ни к какому житейскому делу. «Знал бы ты, каких дел этот умелец наделал! — зло подумал Игорь Васильевич. — А ведь выглядит каким тихоней!» Евсиков обламывал сухие сучья у ёлок, выдирал из снега сухостой. Складывал для костра. Неожиданно низко над лесом пронеслась тетеревиная стая. Сделав большой круг, птицы с шумом расселись на берёзы метрах в пятистах от охотников. С деревьев посыпались хлопья снега. — Эх, была не была! — азартно воскликнул Плотников, схватил ружьё и пошёл прямо по целине в сторону тетеревов. — Не догоню, так хоть согреюсь! — хохотнул ему вдогонку Евсиков, но Плотников только отмахнулся. — Если вы пойдёте в обход, — сказал Игорю Васильевичу егерь, — он может на вас их нагнать. — Попробовать? — Корнилов с сомнением смотрел, как медленно продвигается Плотников, утопая в снегу по пояс. — А вы по дороге, — махнул рукой егерь. — По санному следу. Только к медвежьей печёнке не опоздайте… Игорь Васильевич вынул из патронташа два патрона с тройкой, зарядил ружьё и пошёл не торопясь по дороге. Он не прошёл и ста метров, как услышал, что его кто-то нагоняет. Он обернулся и увидел спешащего Зайцева с ружьём… «Интересно, — подумал Корнилов. — Уж не поквитаться ли он собрался со мной? Только так не бывает, на глазах у всех. Теперь уже не свалить на неудачный выстрел». Но неприятное чувство всё же осталось. И спину холодило, как утром. — Я тоже решил попробовать! — сказал Зайцев. — Не возражаете? А то, знаете, ещё неизвестно, попал я в медведя или нет. А тут всё-таки проверю себя. Не разучился ли стрелять… Им не повезло. Они подошли к берёзам, на которых расселись тетерева, раньше, чем Плотников. Птицы с шумом снялись с деревьев и полетели на Василия. Гулким эхом прокатился по лесу выстрел… — Попал, — сказал Зайцев и посмотрел на Игоря Васильевича, ожидая, наверное, что тот спросит, почему он так решил. Но Корнилов не спросил. Очистив от снега ствол поваленной сосны, он сел, разрядил ружьё. Зайцев сел рядом. Несколько минут молчали. — Вы меня узнали? — наконец спросил Игорь Васильевич. Зайцев усмехнулся и посмотрел в сторону, на белое, словно отороченное елями поле, не то большую поляну, не то озеро, скрытое подо льдом и снегом. Корнилову стало неловко. Смешно даже подумать, что можно забыть человека, который выследил тебя и арестовал. — Мне как Евсиков сказал, что товарищ из милиции с нами поедет, так я сразу почему-то про вас подумал, — сказал Владислав Сергеевич. — Спрашиваю фамилию, оказывается, так оно и есть — Корнилов. Ну как чувствовал! — Он крутанул головой и непонятно усмехнулся. — А когда же вас… — Игорь Васильевич замешкался, подбирая необидное слово. — Когда же вы на свободу вышли? — Давно. Три года назад. А вы что? Ничего не знаете? — спросил как-то простодушно. — Да нет… — сказал Корнилов. — На суде я хоть не был, но слышал, что вам серьёзный срок дали. — Сейчас он вдруг вспомнил: кто-то говорил ему, что адвокат Зайцева собирается подать апелляцию. Потом Корнилова, как всегда, захлестнули другие дела, он уже не думал о Зайцеве. Зайцев, глядя на Игоря Васильевича в упор своими пронзительными глазами, сказал: — Городской суд отменил приговор… За отсутствием доказательств. «Как же так? — подумал Корнилов. — Все доказательства были налицо. Ружьё, из которого убили мальчонку в саду Зайцевых, принадлежало Владиславу Сергеевичу. Женапоказала, что вечером Зайцев взял ружьё с собой в маленький домик-времянку, где часто ночевал, явившись домой пьяным. После убийства Зайцев скрылся. Прятался по лесам. Соседи по даче показали, что Зайцев давно грозил мальчишкам расправой за то, что они воровали яблоки из его сада. Как же так?» — Не великий подарок — отсутствие доказательств, — продолжал Зайцев. — Но всё-таки на свободе лучше. На свободе хорошо, — повторил он ласково и опять посмотрел на белое поле. «Да уж, совсем не подарок! — подумал Корнилов. — Подозрение-то остаётся! И почему они так поступили? В народном суде всё было доказано! Яснее ясного…» Но всё-таки ему стало неприятно и чуть-чуть обидно оттого, что очевидные доказательства, которые он с таким трудом собирал по крупице, не были приняты во внимание. Зайцев хотел ещё что-то сказать, но в это время совсем недалеко раздался выстрел, потом ударил дуплет. Игорь Васильевич вскочил, стараясь рассмотреть, что происходит. Огромная стая тетеревов с шумом пронеслась у них над головами. С ёлок посыпался снег. Зайцев выстрелил навскидку, но опоздал, птицы были уже далеко. А к ним шёл румяный, весёлый Плотников, держа в поднятой руке огромного косача… Больше они с Зайцевым на эту тему не разговаривали. А вернувшись с охоты, Корнилов узнал, что история с убийством мальчика имела продолжение… Через три месяца после того, как Зайцев вышел на свободу, в прокуратуру пришла его жена и призналась в том, что из ружья стреляла она. Пока муж спал пьяный во времянке, в сад залезли мальчишки. Она решила их попугать, взяла ружьё и в полной уверенности, что патроны заряжены солью, как не раз говорил Зайцев, выстрелила на шум…
21
— На одних подозрениях далеко не уедешь. — Корнилов оглядел собравшихся на очередную оперативку сотрудников группы майора Белянчикова. — Все эти логичные построения, которыми мы сейчас занимались, логичны только в нашем воображении. Мы ищем владельца «Волги», приехавшего за несколько часов до пожара в Парголово и перелезшего через забор рядом с дачей Барабанщикова… И на этом основании подозреваем и Платонова со станции обслуживания, и кандидата филологических наук Озерова. — Он усмехнулся. — И кое-кого ещё. Почему только не взяли на заметку жену актёра Солодовникова? У них ведь тоже «Волга»! А если владелец «Волги» — какой-нибудь пока неизвестный нам человек, на поиски которого мы потратим уйму времени и сил, — никакого отношения к пожару не имеет? Мы окажемся на пустом месте. — Вот если бы та тётка номер автомашины запомнила! — сказал Бугаев. — И этого было бы мало. — Корнилов стоял на своём непреклонно. — Много у нас косвенных… — Он замолчал, подбирая слово. — Нет, не улик. Подозрений много, а это не улики. Если мы с этим к прокурору выйдем — донос получится, дорогие товарищи. Так анонимки стряпают, а не серьёзные обвинения. — Товарищ подполковник, — тихо сказал Белянчиков. — Но мы же не только из-за «Волги» вышли на Платонова и Озерова. Бригадир Платонов вместо того, чтобы дать нам адрес хаусмайора, которого он, конечно, хорошо знал, направил нас к своему однофамильцу Аристарху… — Испугался, что поймают на левых работах, — ответил подполковник. — Надо, кстати, попросить ОБХСС провести там проверку. — А с Озеровым вообще всё сложнее, — продолжал майор. — Работал вместе с убитым Рожкиным, имеет «Волгу»… — А это древнее Евангелие, что мы нашли в «дипломате» у Аристарха, наводит на некоторые мысли, — вставил Бугаев. — Озеров-то постоянно со старинными книгами и рукописями дело имеет. С Аристархом знаком. Почему Аристарх, как попугай, твердит, что видит эту книгу впервые? — Вы же знаете, что книга не институтская, — сказал Корнилов. Он посмотрел на Лебедева. Старший лейтенант сидел грустный. За время совещания не проронил ни слова. — Лебедев, ты чего сегодня отмалчиваешься? — Как это я, товарищ подполковник, упустил из виду, что Озеров и Рожкин были сослуживцами! — с огорчением ответил старший лейтенант. — Тогда и беседу с Озеровым по-иному следовало строить. — Упускать это не следовало. Но, может быть, всё получилось и к лучшему. Лебедев посмотрел на шефа с недоумением. — Вспомни ты про Рожкина, ты бы уж наверняка его фамилию в разговоре упомянул. Спросил бы, например, не обслуживал ли Барабанщиков и Рожкина? Или ещё что спросил. А этого пока делать не следует. Если Озеров никак в деле не замешан, его и пугать незачем. А если замешан — тем более. Ты напрасно не сказал ему, что Барабанщиков погиб. Напрасно! Вот тут он, может, задумается. Всем остальным клиентам ведь говорил? Лебедев кивнул. — Думаешь, они после наших бесед не обмениваются впечатлениями? Старший лейтенант вдруг хлопнул ладонью по лбу: — Вспомнил! Знал Озеров, что Олега Анатольевича нет в живых. И проговорился. А спохватившись, расстроился. А я-то гадал, почему такая перемена в настроении. То руку тряс пять минут, то вдруг: «честь имею». Он, товарищ подполковник, всё про экономию времени мне вдалбливал. Вот, дескать, Барабанщиков берёт мою машину и везёт на техосмотр. А когда прощались, извинился, что разговор на лету, между совещаниями. Все будущие дни расписаны — командировки, советы, а в субботу ремонтом машины заниматься придётся. Ремонтом машины! Понимаете? Был бы Барабанщиков под рукой, не болела бы о машине голова! — Любопытная деталь, — задумчиво сказал Корнилов. — Любопытная. Не совсем искренен с нами товарищ Озеров. — А кто из всех этих клиентов с нами искренен? — проворчал Бугаев. — Все темнят. Никому не хочется признаваться, что с прохиндеем дело имели. Все хотят чистенькими выглядеть. А о том, что пользовались услугами преступника, сразу забыли. — У хаусмайора соответствующая среда обитания была, — усмехнулся Корнилов. — Клиентов у него хватало. Но подозревать всех, искать улики против каждого мы не имеем права. Залезем в такие дебри! — Он помолчал немного, чувствуя скрытое несогласие участников оперативки. — Давайте посмотрим на дело пошире. С другой стороны. Зачем поджигают дома? Склады, магазины? Если отбросить ревность, злобу, зависть… Какая может быть зависть или ревность к мёртвому? — Правильно, — согласился Белянчиков. — Тут другим пахнет. — Дымом тут пахнет, — не удержался и сострил Бугаев и понюхал рукав пиджака. — Дом поджигают, чтобы что-то скрыть. Следы преступления, недостачу… Чтобы скрыть улики, если их нельзя унести или уничтожить! Тот, кто поджёг дом Барабанщикова, скорее всего искал и не нашёл какие-то улики, которые, как он знал, находятся там и могут его скомпрометировать. Скомпрометировать, если их найдём мы. — Корнилов встал, прошёлся по кабинету. — После гибели хозяина из этого дома были вынесены Аристархом Антоновичем три иконы. Причём, как подтвердилось, принадлежащие ему. Старинное Евангелие… — Вот-вот! — опять подал голос Бугаев. — Старинное Евангелие и билет на «Стрелу», — продолжал подполковник. — И от того, и от другого Платонов открещивается. А мог бы, наверное, сказать, что и книга принадлежала ему. — Да просто боится, что кто-то признает, что книга принадлежала Барабанщикову, — заметил Белянчиков. Корнилов, казалось, не услышал реплики. — Считаю, что следует срочно перелопатить пожарище в Парголове. Чтобы ни один гвоздь не остался незамеченным и неисследованным. Это раз. А второе… — Он посмотрел на Бугаева, потом на Лебедева. — Вам нужно внимательно проанализировать протокол обыска в доме Барабанщикова и постараться поточнее вспомнить всё, что вы там видели. После того как Корнилов отпустил сотрудников, к нему заглянула Варвара, секретарь управления. — Игорь Васильевич, у городского аппарата Новицкий. Подполковник взял трубку. — Ну и чинуша ты, милиционер! — с укором сказал Николай Николаевич. — Ладно бы я от безделья звонил, узнать, не решил ли ты кроссворд в «Вечерке»! Так ведь в кои веки раз выдался случай помочь милиции, а ты трубку не желаешь брать… — У меня, Николай Николаевич, такое срочное дело в этот момент решалось… — Все дела у тебя срочные, — проворчал Новицкий. — А я тебе сюрприз приготовил. — Вспомнил мужика на фотографии? Новицкий немного помолчал. Потом сказал: — Ты, брат, как болгарская ведунья. С тобой надо поосторожнее. И его вспомнил. Только сюрприз не в этом. Я встретился с Иваном Даниловичем Савиным, он заведует отделом древнерусского искусства в музее, показал ему фотографии иконостаса из Орлинской церкви. Догадайся, что он сказал, раз уж ты такой ясновидец? — Не могу, Коля. Это уже не по моей части. — То-то же, — удовлетворённо сказал Новицкий. — Савин подтвердил, что этот иконостас спасли во время пожара в Селище, в соборе. Для нового собора он оказался мал, и его передали в Орлино. Ему цены нет, этому иконостасу. Ты что, действительно ничего об этом не знал? Или морочил мне голову? — Не знал. Подумал только: чего же человеку рисковать жизнью, лезть в церковь через разрушенный купол ради не имеющих ценности икон? Логично? — Логично, — согласился Новицкий. — Иван Данилович собирается съездить в Орлино. Посмотреть. Как ты, не возражаешь? — Я тут ни при чём. Пускай едет. Если иконы представляют большую ценность, так их в музей надо забрать. — Ты что же, мне вчера не поверил? — обиделся Николай Николаевич. — Я тебе сразу сказал — семнадцатый век. — Ты лучше скажи про фотографию, — попросил Корнилов. — Я из-за нее ночь не спал. — Совесть замучила? — С какой ещё стати? Не совесть, обида! Ведь всегда считал, что зрительная память у меня выдающаяся. Художник я или нет?! А тут… Когда ты мне его показал, я даже и не сомневался: лицо совсем незнакомое. А домой приехал, лёг спать, а он у меня перед глазами, мёртвый. И что-то уже мерещится знакомое. Ну, думаю, значит, видел когда-нибудь. Смерть ведь так человека изменяет! К утру вспомнил. Приходил этот человек ко мне в мастерскую, когда я «Волгу» купил. Спрашивал, не нужна ли мне финская шипованная резина. И предложил, когда потребуется, помочь с профилактикой, с ремонтом. Адрес оставил. Продиктовать? — Не надо, — сказал Корнилов. — Когда твой Савин в Орлино съездит, ты меня с ним сведи, ладно? А адресок Барабанщикова ты, значит, записал? На всякий случай? — не удержался и съязвил Игорь Васильевич. Новицкий сердито засопел в трубку и сказал: — Ладно, Василич, до завтра.22
Вечером в кабинет к подполковнику пришли Белянчиков и Бугаев. В руках у Семёна был пакет, перевязанный толстой белой бечёвкой. Капитан молча положил его на большой стол, за которым проводились совещания, и стал развязывать. — Хороший сюрприз мы там разыскали, — сказал Белянчиков. Корнилов почувствовал, что в кабинете противно запахло мокрой золой. Подполковник подошёл к Бугаеву и с интересом стал следить за тем, как Семён осторожно разворачивает какую-то полосатую выгоревшую ткань. — Старый чехол от машины использовали, — сказал Юрий Евгеньевич. — В сарае нашли. Бугаев наконец развернул пакет, и Корнилов увидел раздавленный, полуобгорелый «дипломат». Такой же, как у Аристарха Антоновича, и три закопчённые иконы в «дипломате». — Просто двойник какой-то, — удивился подполковник. — А старинного Евангелия нет? — Нет, — ответил Бугаев. — Зато вот здесь, — он осторожно отогнул оставшуюся целой часть крышки, — есть надпись… На ткани чёткими печатными буквами было выведено:«Платонов А. А. Зверинская улица, 33, 6».— Так получилось… — не выдержав молчания, развёл руками Аристарх Антонович. — Когда я пришёл и увидел, что Олег повесил мои иконы на стенку, я разозлился. Тут и жуку ясно, что он присвоил! В отместку я взял его иконы. Три штуки… Подумал, что потом заплачу его родственникам. В мой «дипломат» шесть икон не влезли. И я стал искать, куда бы ещё положить. Увидел такой же «дипломат»… — И где же вы его увидели? — поинтересовался Игорь Васильевич. — Он был заперт в бюро. — Платонов виновато улыбнулся. Первый раз с тех пор, как — Корнилов его увидел. Правда, и обстоятельства не располагали к улыбкам. — А где лежат ключи, я знал. «И ещё знал, где ключи от бара», — подумал Игорь Васильевич, вспомнив рассказ Бугаева о том, как Аристарх Антонович пробавлялся коньячком. — Это был «дипломат» Барабанщикова? — Не думаю. Он всегда со спортивной сумкой таскался. «Адидас», знаете? Очень вместительная. — Платонов подумал немного, пожал плечами. — А может, и его?! Этот «дипломат» Барабанщиков мне доставал, и Озерову тоже… — Какому Озерову? — Филологу. Я вам называл его. Георгию Степановичу. — А ещё кому-нибудь из знакомых он доставал такие «дипломаты»? — Если не врал, то мне и Озерову. Говорил, два последних у знакомого директора перекупил. Но мог и наврать. У него бывало. Чтоб лишнюю пятёрку получить. — И что же было дальше? — спросил подполковник. — Когда я выходил из дома, меня задержали… — Куда же делся ваш «дипломат»? — Понимаете… — смутился Платонов. — Я очень испугался, когда товарищи… меня… увидели… Темно, пустой дом. Я побежал, наткнулся на кого-то, упал с крыльца… Ну и… — Говорите, говорите, — подбодрил подполковник. — Совершенно машинально я сунул один «дипломат» под крыльцо. Там была дырка. Совершенно машинально… «Недооценил я этого типа, — подумал Корнилов. — На его месте не каждый сообразил бы так ловко отделаться от опасного груза». — Почему же вы сунули под крыльцо свой чемоданчик? — Я же говорю — машинально. Я даже не помнил, в каком из них лежали мои иконы, в каком — иконы Барабанщикова. — Поразительное совпадение, — покачал головой Игорь Васильевич. — Вы только в одном ошиблись, зачем же свои иконы в чужой «дипломат» засунули. Платонов жалко улыбнулся. — А что лежало в чужом «дипломате», когда вы взяли его из бюро? — Какие-то старинные рукописи и эта книга… — Евангелие? — Ну да. Рукописи я выложил в бюро, а книгу оставил. — Почему же выложили рукописи? Чтобы освободить место для икон? — Чужие рукописи. Они ведь, наверное, на учёте… А книга могла пригодиться. — Аристарх Антонович, а билет на «Стрелу»? Он был в чемодане? — Не знаю. В отделение для бумаг я не заглянул. Торопился. — Как бы вы, Аристарх Антонович, облегчили себе участь, если всё это рассказали сразу, — сказал Корнилов. — И как бы сократили наш путь к истине.
23
«Ему слишком многое придётся потерять», — подумал Корнилов, вышагивая по пустынному парку. Первые жёлтые листья, нападавшие за ночь, шуршали под ногами. Неяркое утреннее солнце чуть пригревало спину, лёгкие волны сизого дыма расползались по аллеям — где-то рядом, за кустами, жгли костёр. — Слишком многое… Если дом поджёг Озеров, то он будет отбиваться до последнего. Голыми руками его не возьмёшь! Когда Корнилова мучил какой-нибудь нерешённый вопрос, он любил вот так пройтись один, вдали от людей, от уличной сутолоки. Любил, если позволяло время, сесть на электричку и выехать за город. Не очень далеко — в Лисий Нос, в Александровку, и пройтись по лесу. Но долгого одиночества он не выдерживал. Ему нужен был собеседник, скорее даже слушатель, на котором он проверял бы свои суждения. С годами научившись разбираться в своём характере, подполковник с сожалением замечал за собой такое непостоянство, но избавиться от него не мог. «Неужели Озеров поджёг дом только потому, что не нашёл там своего „дипломата“? И боялся, что его найдём мы?! — Корнилов знал теперь содержимое этого маленького чемоданчика как свои пять пальцев… — Три иконы Барабанщикова, положенные в чемодан Аристархом Антоновичем, Евангелие, билет на „Стрелу“, на второе сентября, маленький листок в клеточку, согнутый пополам, использованный как закладка в книге. На листке размашистым почерком странный буквенно-цифровой набор: ОФ 45 113 614… Чего больше всего боялся Озеров? Рукопись-то он, наверное, нашёл в бюро. Чего же ещё? Билет на поезд? Думал, найдём билет и выясним, кто его покупал? — Подполковник усмехнулся. — В этом случае он сильно преувеличил наши возможности. Пробовали. Ничего не получилось. Если бы билет выдали из брони, тогда успех гарантирован. А из свободной продажи… Ищи ветра в поле. Ну а потом, даже если билет покупал Озеров? Что это доказывает? Ровным счётом ничего. Купил и отдал Барабанщикову. Скорее всего Озеров боялся за книгу, за редкую книгу. Но вот парадокс — казалось бы, найти владельца редкой книги несложно. А библиофилы разводят руками». Об этом Евангелии знали только то, что оно принадлежало знаменитому книжнику Хлебникову. И откуда оно вдруг снова появилось на свет божий, никто даже предположить не мог. «Скорее всего привезли из-за границы, — сказал Корнилову Феликс Демьянович Уточкин, один из старейших ленинградских библиофилов, приглашённый в Главное управление для экспертизы. — Часть библиотеки Хлебникова ещё в прошлом веке была вывезена на Запад его племянником Полторацким». Корнилов проверил — за последние три года Озеров за границу не выезжал. Правда, ему могли эту книгу привезти, но в таком случае о ней, наверное, знали бы и в институте, на службе Георгия Степановича. «Книга украдена? Какой бы ценной она ни была, поджог дома — преступление более серьёзное, чем кража книги. Так рисковать из-за нее? В конце концов, мы же нашли чемодан! Как теперь доказать, что он принадлежит Озерову? Мало ли в городе людей с такими „дипломатами“? — Корнилов вдруг почувствовал волнение, ещё неосознанное, подспудное волнение, предчувствие того, что он нащупывает в этой мутной, илистой воде твёрдый грунт, спасительную переправу. — Так, так, так, товарищ сыщик, думайте, думайте, — прошептал он, радуясь. — Надписей, инициалов на этом „дипломате“ нет — значит, с этой стороны Озеров опасности не ждал. Но его сослуживцы, соседи, жена знали, какой чемоданчик у него имеется. И наверное, знали какие-то индивидуальные приметы „дипломата“? Если бы это был, допустим, Олин подарок и я не хотел её расстраивать? Купил новый, точно такой же!» Корнилов остановился посередине аллеи и оглянулся, отыскивая телефонную будку. Ничего похожего поблизости не было. Он быстро зашагал по направлению к Крестовскому мосту. «Там домик сторожа, там, наверное, есть и телефон», — подумал Игорь Васильевич. Пожилая сторожиха даже не взглянула на удостоверение, которое подполковник предусмотрительно, на случай, если откажет, протянул ей. — Звони, миленький, звони, — сказала она доброжелательно. — От него не убудет, а двушек-то не напасёшься. Корнилов раскрыл записную книжку, нашёл домашний телефон Лебедева. И уже когда набирал номер, ему пришла в голову ещё одна интересная мысль, но он не успел додумать её до конца — Лебедев уже снял трубку, сказал меланхолично: — Слушаю… — Володя, это я, Корнилов. — Здравия желаю, товарищ подполковник, — почему-то обрадовался старший лейтенант. — Ты когда с Озеровым встречался, не заметил, «дипломат» у него был или нет? Лебедев помолчал немного. Потом сказал медленно: — Был, товарищ подполковник. Я ещё подумал: чего он ко мне с «дипломатом» вышел? Ведь снова к себе в кабинет возвращался. Боялся, что кто-то из сотрудников туда залезет? — Какого цвета «дипломат»? — Коричневый. Такой же, как мы у Аристарха изъяли. Небось им всем хаусмайор доставал. — Молодец. Соображаешь, — сказал Корнилов. — В некоторых деталях ошибаешься, но направление верное. На службу не опоздай. — Он повесил трубку и полистал записную книжку. Раскрыл её и несколько секунд внимательно разглядывал в частую мелкую голубенькую клетку страничку, словно ожидал, что на ней вот-вот появится ответ на мучивший его вопрос. «Похоже, что тот листок тоже из записной книжки», — прошептал он. — Записать чего надо? — спросила сторожиха, оторвавшись от вязанья. — Карандашик могу дать. — Спасибо, — улыбнулся подполковник. — Обойдусь без карандаша. Ещё разок позвоню. — Он захлопнул книжку, сунул её в карман. Номер диспетчера гаража Корнилов знал наизусть. Уже в машине, по пути в управление, он подумал: «А всё-таки Озеров сглупил. Нелегко было бы нам доказать, что „дипломат“ с билетом и книгой принадлежит ему. У страха глаза велики…»24
Корнилов посмотрел на часы. Было ровно десять. И в этот момент в динамике раздался голос секретаря: — Товарищ подполковник, к вам пришёл Георгий Степанович Озеров. — Пусть заходит, — как можно спокойнее отозвался Игорь Васильевич, а сам подумал, чуточку волнуясь: «Какая точность. Показная бравада или жизненный принцип?» — Здравствуйте. — Озеров остановился в дверях, и Корнилов отметил коричневый «дипломат» у него в руке. — Здравствуйте, Георгий Степанович. Проходите смелее, не стесняйтесь. Озеров сел в кресло, поставил чемоданчик рядом. — В последние дни замечаю пристальный интерес к своей особе: — Он улыбнулся, неестественно широко растянув губы. — Есть у нас к вам интерес. Не буду скрывать, — серьёзно, не отзываясь на улыбку, не подыгрывая, сказал подполковник. — И это всё из-за Алика Барабанщикова? — На его лице, имевшем какие-то неуловимые птичьи черты, промелькнула лёгкая гримаса сожаления. «Если я буду ходить вокруг да около, — подумал Корнилов, — я ничего не добьюсь. Этому человеку есть что терять, он будет выкручиваться до последнего…» — Сам по себе Барабанщиков для нас уже ясен… — Но меня, надеюсь, ни в чём плохом не подозревают? — Георгий Степанович, с разрешения следователя, я сейчас допрошу вас. — Допросите?! — удивлённо сказал Озеров и склонил голову чуть набок. — Да. Допрос будет записан на магнитную ленту. — Корнилов щёлкнул переключателем. Озеров пожал плечами, словно бы говоря: записывай, мне всё равно. Но подполковник уловил еле заметную перемену в посетителе — Озеров сразу как-то собрался, исчезла напускная вальяжность, хотя глаза по-прежнему излучали доброжелательность. — Когда вы купили ваш «дипломат»? — «Дипломат»? — удивился Озеров. — Вот этот? — Он поднял чемоданчик с пола и показал подполковнику. — Да. Этот. — Давно. Точно не помню. Года два назад. Мне достал его Барабанщиков. У него точно такой же. — Вы ничего не путаете? Может быть, этот «дипломат» у вас совсем недавно? — Я ничего не путаю, — отрезал Озеров. — А в чём дело? — Георгий Степанович, — жёстко сказал Корнилов. — Вы купили этот чемодан три дня тому назад. Взамен оставленного вами в доме Барабанщикова… — Вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите? — начал Озеров. Лицо у него стало бледным. Подполковник предостерегающе поднял руку. — Выслушайте меня до конца спокойно. Вы купили этот чемодан три дня назад. Из новой партии. «Дипломат» чешского производства, их не было в Ленинграде больше года. Можно проверить. — Игорь Васильевич потянулся к чемодану. Озеров беспрекословно отдал его. Корнилов щёлкнул замком, поднял крышку и показал на маленькую шёлковую полоску, вшитую в подкладку: — Вот, видите, здесь несколько цифр, по которым торговые эксперты подтвердят мои слова. Вы поторопились восполнить потерю, Георгий Степанович. Покрасовались с чемоданом перед Лебедевым. И даже пришли с ним ко мне. Эта демонстрация вам серьёзно повредила… Озеров сидел не двигаясь, сцепив руки так сильно, что побелели пальцы. — От кого вы узнали о гибели Барабанщикова? — А он разве погиб? — деревянным голосом спросил Озеров. Корнилов усмехнулся. — Вы неосторожно себя ведёте, Георгий Степанович. Сказали нашему сотруднику, что хаусмайор всегда возил ваш автомобиль на тэо, и тут же сослались на то, что в субботу едете на станцию техобслуживания сами… Почему же сами? Да потому, что вы уже знали, что Барабанщикова нет в живых. — Он помолчал, с интересом присматриваясь к Озерову. — Так кто же сказал вам о его смерти? Озеров молчал. Теперь его бросило в жар. Очки его чуть запотели, он снял их и стал совсем похож на птицу. Чуть припухшие верхние веки наползли на закатившиеся красноватые глаза. Корнилову вдруг показалось, что Георгию Степановичу стало плохо, но Озеров провёл рукой по лицу и пристально посмотрел в глаза подполковнику, словно хотел узнать, а что ещё, какой сюрприз поднесёт ему этот человек. — Не хотите отвечать? Подумайте, — спокойно сказал Корнилов. — У вас, Георгий Степанович, есть два пути: первый — всё рассказать начистоту. Этот путь самый короткий. И самый лёгкий для вас и для следствия. Второй путь — от всего отказываться. Ждать, пока вас не припрут к стенке уликами… Озеров молчал…25
Бесконечные, тягучие беседы с клиентами хаусмайора Барабанщикова, когда одни из них, начиная испытывать запоздалый стыд за столь сомнительное общение с ординарным жуликом, выкладывали о нём всё, что знали, другие, щадя своё самолюбие, ограничивались односложными ответами на вопросы о практических выгодах, полученных от этого общения, наконец-то стали приносить свои плоды. Так бывает у исследователя, который долгие дни и недели следит за показаниями приборов, разносит их по графам рабочего журнала, строит графики, и однажды картина поиска предстаёт перед ним во всей своей прекрасной обнажённости. События ускоряют свой бег, застывшее, казалось, ещё недавно время словно срывается с цепи. Так произошло и с делом хаусмайора. Всё сходилось на долговязой фигуре Георгия Степановича Озерова. Требовалось только собрать улики, удовлетворившие бы следователя, судей, которым в будущем предстояло решать судьбу Озерова, а самого Георгия Степановича заставившие бы поднять руки. Или, если он не склонен к подобному проявлению эмоций, молча опустить голову. Но сделать это так же непросто, как и отыскать преступника.В НТО Главного управления провели по просьбе Корнилова тщательную почерковедческую экспертизу странички из записной книжки. Сравнили почерк, которым была сделана непонятная для сотрудников запись, с почерком Озерова и убитого Рожкина. Оказалось, что запись сделана Рожкиным.
Заместитель директора института, в котором работал Озеров, согласился принять Корнилова немедленно. — Третья, комната на втором этаже, — сказала вахтерша. «А Озеров работает в шестой, — вспомнил подполковник. — И тоже на втором этаже». Он поднялся по лестнице, ступени которой за долгие годы были истоптаны тысячами посетителей, и прошёлся по коридору. Комната заместителя директора находилась рядом с лестницей. Игорь Васильевич прошёл мимо, разглядывая номера на дверях, остановился у той, на которой красовалась маленькая бронзовая табличка с номером шесть. За дверью слышались голоса. Подполковник постучал. — Войдите, — раздалось из комнаты. Он узнал голос Озерова и распахнул дверь. Георгий Степанович сидел за небольшим канцелярским столиком, заваленным книгами. За двумя другими столами сидели женщины. Одна молодая, какая-то бесцветная, другая — пожилая яркая брюнетка. Увидев Корнилова, Озеров насторожился и начал отодвигать стул. Наверное, хотел встать. — Простите, а товарищ Трофимов где сидит? — спросил подполковник. — Вы прошли. Виталий Иванович находится в третьем кабинете, — ответила брюнетка приятным грудным голосом. Корнилов поблагодарил и закрыл дверь, успев заметить растерянность на лице Озерова. «Волнуйтесь, Георгий Степанович, переживайте. Может быть, это поможет вам принять важное решение или сделать необдуманный шаг, — подумал Корнилов. — Вы должны знать, что уже горячо. Мы уже рядом, мы не спим». — Вы товарищ Корнилов? — спросила сухонькая седая старушка в маленькой приёмной. — Виталий Иванович вас ждёт. Кабинет у Виталия Ивановича оказался таким же крошечным, заваленным книгами, папками. На окне в обычном графине стоял букет белых и чёрных гладиолусов. Крупный, кряжистый мужчина лет пятидесяти, с копной чуть вьющихся светлых волос вышел из-за стола, протянул руку: — Трофимов. Показал Корнилову на единственное поистёршееся кожаное кресло возле маленького столика с мраморной столешницей. Сам сел за стол. Сказал, кивнув на книжный шкаф: — Книги и архивы скоро вытеснят из этого дома людей. На одной свободной стене висела старинная гравюра с изображением наводнения в Петербурге, на другой — огромная стеклянная табличка с надписью: «Курить строго воспрещается». — За время моей работы в институте представитель милиции впервые в этом кабинете, — сказал Виталий Иванович. — А я здесь уже пятнадцать лет. Что-то стряслось серьёзное? — А разве после убийства Рожкина никто в институт не приходил? Трофимов нахмурился. — Да, приходили. Я знаю. Но сам был в экспедиции. Корнилов вытащил из кармана конверт, извлёк страничку из блокнота, протянул заместителю директора. — Виталий Иванович, эта запись ничего вам не говорит? Трофимов взял листок, внимательно прочитал, посмотрел на оборот листка. — Не очень понятная запись… Что имел в виду писавший? Какой архив? Если наш, то у нас всегда стоят впереди буквы ЛИ — Литературный институт. В Пушкинском доме П и Д — Пушкинский дом… А здесь… — Значит, всё-таки архив? — быстро спросил подполковник. — Конечно! О и Ф — означают «общий фонд». Первые три цифры, наверное, номер описи. Потом номер дела, номер листа. Если, конечно, речь идёт об архиве. — А если человек делает запись для себя? — сказал Корнилов. — Для памяти, так сказать. Зачем ему писать первые две буквы Л И, он ведь их так знает… — А кто писал? — Рожкин. — Рожкин? Николай Михайлович? Значит, это наш фонд. Правда, он работал и в других архивах. В ЦГАЛИ, в Литературном музее. — Можно посмотреть, что скрывается за этим номером в вашем архиве? — Конечно. — Виталий Иванович что-то написал на маленьком твердом листке, встал из-за стола, открыл дверь в приёмную. — Мария Михайловна, — позвал он секретаря. — Очень прошу вас истребовать эту папку. — Трофимов протянул ей листок. — Вы думаете, знакомство с архивом поможет вам в вашей работе? — спросил он, вернувшись на своё место за столом. Корнилов пожал плечами. — Так, так, так… — быстро пробормотал Трофимов. — Интересно. Очень интересно. А почему вы заинтересовались только этой папкой? Ведь у Рожкина в его бумагах осталось, наверное, немало таких записей? Он всё время работал с архивами. — Убийца не тронул ни деньги, ни документы Рожкина. Дорогие часы, подарок вашего института, остались на его руке. Пропала только записная книжка. Несколько дней назад мы нашли этот листочек, вырванный из неё. — Корнилов тронул рукой страничку. — Один этот листок в клеточку с записью. Можем ли мы пройти мимо папки, номер которой написан здесь рукою убитого? — Так, так, так. — Теперь в скороговорке Трофимова сквозила тревога. — В высшей степени любопытно. В высшей степени! Вы не курите? — вдруг обратился он к подполковнику. — Курю. Но у вас такие объявления. — Игорь Васильевич кивнул на табличку «Курить строго воспрещается». — Да, да! Запреты, запреты. У нас же всюду бумаги. Архивы. Ценнейшие архивы. Но мы закроемся. — Виталий Иванович хитро улыбнулся, достал из стола пачку «Столичных», маленькую пепельницу, повернул в двери ключ. — Мария Михайловна постучит. Они с удовольствием закурили. — Виталий Иванович, а что вы можете сказать об Озерове? — спросил Корнилов. — Вы и с ним знакомы? — удивился Трофимов. — Немножко. — Георгий Степанович способный учёный. В двадцать семь защитился. У него уже была готова докторская, но… — Виталий Иванович поморщился. — Озеров стал разбрасываться, занялся кладоискательством. — Кладоискательством? — удивился подполковник. — Не в прямом смысле. Хотя при известном допуске. — Трофимову явно не нравилась тема «кладоискательства» Озерова. — Он стал искать пропавшие библиотеки. Библиотеку Ивана Грозного, которая якобы спрятана в Александрове Владимирской области, библиотеку Демидова. — Трофимов помолчал, раздавил в пепельнице сигарету. — Ничего плохого в этом нету. Я сам в молодости мечтал отыскать библиотеку Грозного. Но Озеров стал манкировать научной работой, два года подряд не выполнил план. Мы как-то поставили вопрос на учёном совете, предложили Георгию Степановичу провести летом экспедицию в Александрове, привлечь студентов. Мы даже на это пошли. Он не захотел. Сказал, что массовость погубит дело. А получается, что он губит себя… В дверь осторожно постучали. — Прячьте сигарету, — шепнул Виталий Иванович. Корнилов загасил окурок, положил в пепельницу. Трофимов спрятал пепельницу в стол, разогнал какой-то папкой дым и только тогда открыл дверь. На пороге стояла Мария Михайловна: — Виталий Иванович, шестой папки на месте нет. — Кто с ней работает? — Никто не работает. — Мария Михайловна, ну куда же она могла деться? — Трофимов говорил тихо, но в его голосе явно чувствовалась тревога. — Что говорит Герман Родионович? — Герман Родионович крайне обеспокоен. Он… — Мария Михайловна не успела договорить. В кабинет вошёл пожилой сухощавый мужчина. Наверное, от волнения на щеках у него горели пунцовые пятна. — Виталий Иванович, — чуть заикаясь, громко сказал он. — У нас чепе, пропала шестая папка. Нет, нет! Это исключено, — мотнул головой мужчина, заметив, что заместитель директора хочет возразить. — В другое место она попасть не могла. Пропала также опись и формуляр из картотеки… — закончил он убитым голосом. — Герман Родионович, что могло быть в этой папке? — тихо спросил Трофимов. — Там были письма Жозефины Наполеону. — Чёрт знает что такое! — Виталий Иванович посмотрел затравленно на Корнилова, словно тот был виноват в пропаже, открыл стол, вытащил пепельницу и, уже не таясь, закурил. Мария Михайловна и Герман Родионович молчали. — Садитесь, Герман Родионович. Закурите. — Трофимов толкнул сигареты на середину стола. — Спасибо, Мария Михайловна, вы свободны. Герман Родионович достал сигарету, закурил. Руки у него дрожали. — Это товарищ Корнилов с Литейного, — Виталий Иванович кивнул головой в сторону подполковника. — Из Управления внутренних дел, — уточнил Игорь Васильевич, потому что на Литейном, четыре, они размещались вместе с Комитетом госбезопасности. — Герман Родионович заведует у нас архивом, — сказал Трофимов. — Никак не могу прийти в себя. Письма Жозефины! Куда их там засунули?! — Их никуда не засунули, — медленно, чуть ли не по складам выдавил Герман Родионович. — Их украли. Товарищ Корнилов ведь недаром к нам приехал. — Вы что, знали об этой пропаже? — с удивлением и с надеждой воскликнул заместитель директора, обернувшись к подполковнику. — Нет. Не знал. Но у меня есть листок, на котором рукою покойного Рожкина была записана эта шестая папка… — Рожкина? — встрепенулся заведующий архивом. — Рукою Рожкина? Да, да! Николай Михайлович работал с этой папкой. Он брал её за несколько дней до смерти. Он же занимался войной двенадцатого года… — А кто ещё работал с этими документами? — спросил Корнилов. — Ну-у… — Герман Родионович смешно помахал перед собою руками, словно хотел отыскать ответ в струйках сизого табачного дыма. — Озеров работал. Ну, этот из праздного любопытства. Считает, что в переписке французов, воевавших в России, можно найти упоминание о том, где затопили подводы из разграбленной Москвы. — Давно брал Озеров эту папку? — Разве упомнишь, — сказал обиженный таким вопросом заведующий архивом. Но похоже было, что памятью он обладает отменной, потому что тут же добавил: — Думаю, что в апреле. В конце апреля. — Вот и спросим сейчас Георгия Степановича, на месте ли были в то время письма Жозефины. — Виталий Иванович снял трубку и набрал трёхзначный номер. — Алла Семёновна? Здравствуйте. Это Трофимов. Попросите Георгия Степановича заглянуть ко мне. Корнилов услышал, как густой женский голос ответил: — Георгий Степанович ушёл. Он плохо себя чувствует. «Наверное, брюнетка», — машинально подумал Игорь Васильевич. — Давно ушёл? — Только что. Трофимов повесил трубку. — Пять минут назад заходил ко мне в архив живой, здоровый, — проворчал Герман Родионович. — Он был у вас в архиве, когда туда пришла Мария Михайловна? — Корнилов даже подался в сторону заведующего архивом. — Пришла за шестой папкой? — Да. — Извините, Виталий Иванович. — Подполковник встал. — Мне нужно позвонить. — Пожалуйста. — Трофимов пододвинул ему один из аппаратов. — Этот городской.
…Трубку снял Белянчиков. — Юрий Евгеньевич, возьми с собой Лебедева и срочно на квартиру Озерова. Пулей! Если его ещё нет, подождите. Я попрошу у прокуратуры разрешение на обыск… Корнилов положил трубку и посмотрел на часы: было без пяти два… В четырнадцать часов двадцать минут он был уже в своём кабинете на Литейном, 4. В четырнадцать тридцать Корнилову позвонил Белянчиков и доложил, что в квартире Озерова на звонок никто не отзывается. — Ждите, — сказал подполковник. В четырнадцать тридцать пять прокурор дал разрешение на задержание Озерова и проведение обыска в его квартире. Бугаев, к этому времени уже выяснивший место работы Елены Дмитриевны, супруги Озерова, и дожидавшийся в кабинете подполковника окончания его разговора с прокурором, молча поднялся с кресла и направился к двери. У подъезда его ждала оперативная машина, чтобы ехать за Еленой Дмитриевной — обыск в квартире Озеровых хотели провести в её присутствии. На первом этаже, в просторном зале дежурного по городу, оператор передавал во все отделения милиции при вокзалах и в аэропортах подробные приметы Озерова. Работники Госавтоинспекции получили указание задержать автомашину «Волга» цвета «антрацит» с номерным знаком 14–59 ЛЕШ, а её владельца доставить в Главное управление. «Как бы этот тип не натворил ещё глупостей, — с тревогой подумал Игорь Васильевич, когда в пятнадцать тридцать дежурный по городу доложил ему, что никаких сведений о разыскиваемом ещё не поступило. Подполковнику почему-то показалось, что Озеров может решиться на самоубийство. — Разве мыслимо пережить момент, когда коллеги и ученики станут свидетелями твоего позора в зале суда? — Но, подумав так, Корнилов невесело усмехнулся. — Хорошо, что у вас в голове, товарищ милиционер, хоть изредка мелькают такие мысли. Можете не спешить с увольнением в запас. Только Озерова вы скорее всего переоценили». В пятнадцать сорок дежурный позвонил снова и доложил, что Озеров задержан на Московском вокзале. Георгия Степановича арестовали в тот момент, когда он доставал из багажного автомата небольшой, жёлтой кожи чемодан. В чемодане лежали несколько чистых рубашек, пижама, галстук, электробритва «филиппс» и множество мелочей, без которых не отправляется в дорогу человек, привыкший к комфорту. Кроме того, там был фирменный институтский конверт с девятьюстами двадцатью долларами двадцатидолларовыми купюрами и тонкий портфельчик с пожелтевшими от времени бумагами и несколькими инкунабулами. Среди бумаг — подлинных бумаг! — подписанный императором Петром Алексеевичем мирный договор со шведами, письма канцлера Горчакова поэту Тютчеву. — А где же письма Жозефины? — поинтересовался Корнилов, когда Озерова привели к нему в кабинет. Георгий Степанович не ответил. Он рассеянно смотрел в окно, на зеленые и коричневые ребристые крыши домов, где давно уже отслужившие свою службу печные трубы напоминали бессрочных часовых, расставленных каким-то сумасшедшим разводящим. — Они у вас? Дома? — с тревогой спросил подполковник. — Нет. Не у нас. Не дома, — совсем тихо, почти шёпотом ответил Озеров и неожиданно закричал, стуча кулаком по костлявому колену: — Проклятая шпана! Шпана! Шпана! Он взял их у меня, чтобы переснять, а через неделю принёс эти доллары! — А почему письма Жозефины оказались у вас? И Петровский договор? И письма Горчакова? Почему? Озеров посмотрел на подполковника с тоской: — Вам знаком запах старых книг, запах архива? А древние рукописи? Вы держали их в руках? Листали? — Корнилову показалось, что Георгий Степанович вот-вот разрыдается. — Нет, нет, это может понять только такой книжный червь, как я… — А Николай Михайлович Рожкин понимал? — спросил Корнилов. Озеров вздрогнул. — Вы думаете… я? Колю? — Он обнаружил пропажу писем Жозефины? Георгий Степанович кивнул. — И вы сказали об этом Барабанщикову? Снова молчаливый кивок. — И после этого не считаете себя убийцей? — Коля дал мне три дня, чтобы я вернул письма в папку. Но я хотел иметь хотя бы копии. Хотя бы копии… Чтобы лежали всегда под рукой, рядом, в моём шкафу. А эта шпана… — Я вам не верю, Георгий Степанович, — тихо сказал Корнилов. — Хотите прикинуться библиоманом? А доллары? Вам не архивная пыль была нужна, нет. Вы хотели превратить её в золотую. Неужели всех ваших знаний не хватило на то, чтобы понять, на что вы подняли руку?
Машина остановилась у светофора. Корнилов рассеянно смотрел в окно. На улице было многолюдно. У зелёного, наспех сколоченного лотка стояла очередь. Продавали арбузы. «А я в этом году ещё не попробовал, — подумал Игорь Васильевич. — Собраться бы как-нибудь в Астрахань, пожить на бахче, поесть арбузов вдоволь…» Уже загорелся зелёный, и машины медленно тронулись, когда подполковник наткнулся взглядом на большую красную вывеску: «Строительный трест 700». «Новорусский здесь заправляет делами. Может быть, зайти самому? Не ждать, когда Бугаев опять пикироваться с ним начнёт?» Подумав так, Корнилов попросил водителя: — Саша, развернись. Заедем в стройтрест. В просторном коридоре, отделанном дубовыми панелями, было пустынно. Около двери с табличкой: «Управляющий. Приём по личным вопросам в четверг с 15 до 18», висело большое объявление: «6 сентября профсоюзное собрание. Материальные и моральные стимулы нашего труда. Докладчик — управляющий трестом товарищ Новорусский М. И.». Корнилов прошёлся по коридору. Из-за дверей красного уголка доносился шум. Подполковник приоткрыл дверь. На небольшой трибуне стоял немолодой, загорелый мужчина в тёмно-сером костюме. — Мы, Полина Владимировна, вернёмся к вашему заявлению. Но твёрдо обещать, что до конца года вы получите квартиру, я не могу. В зале зашумели. — Я не хочу выглядеть болтуном, — чуть повысил голос мужчина. — Лучше мы назначим срок подальше, а квартиру дадимпораньше, чем наоборот. Его слова встретили с одобрением. — Есть ещё вопросы к Михаилу Игнатьевичу? — спросил председательствующий, молодой, широколицый парень. — Нету! — выкрикнул кто‑то из зала. — Собрание считаю закрытым, — быстро сказал председатель. Его слова потонули в шуме отодвигаемых стульев, в гуле голосов. — Михаил Игнатьевич! — остановил Корнилов управляющего на подступах к его кабинету. — Подполковник Корнилов из Гувэдэ. Можно вас отвлечь минут на пятнадцать? Новорусский сердито вскинул голову, пристально взглянул на подполковника. Какую-то долю секунды он медлил, словно оценивая, стоит ли принимать Корнилова. Наконец, решившись, показал на дверь. — Прошу. — И, обернувшись к секретарю, сказал: — Ко мне никого не пускать. В кабинете они молча сели друг против друга за большим, накрытым зеленой скатертью столом. Новорусский закурил. — Михаил Игнатьевич, несколько лет подряд вы снимали дачу в деревне Орлино. — Да. Снимал. — Нам стало известно, что вы бывали в старой Орлинской церкви. Интересовались иконами? — Вы бы мне сразу сказали, в чём дело? — устало попросил Новорусский. — А то будем ходить вокруг да около… — Я не в прятки пришёл к вам играть, — рассердился Корнилов. — Отвечайте на вопрос. Новорусский как-то обречённо вздохнул и с силой раздавил сигарету в пепельнице. — Да. Ходил в церковь. Интересовался иконами. Просил сторожа показать мне их. Потом приводил жену… — Рассказывали Барабанщикову про иконы? — Рассказывал. Рассказывал! Чёрт бы побрал этого Барабанщикова! Чего он еще натворил? Меня уже неделю донимают вопросами об этом человеке. — Барабанщиков полез в церковь за иконами. Упал и разбился насмерть, — сказал Корнилов. — Кто же мог подумать, что он вор! — Михаил Игнатьевич достал новую сигарету. — Не только вор, Михаил Игнатьевич, но и убийца. В прошлом дважды судимый. Не так давно застрелил учёного. И знаете почему? Новорусский молчал, исподлобья глядя на Корнилова. — Потому что другой учёный… — подполковник брезгливо поморщился. — Нет, нет, что я говорю?! Какой учёный? Просто клиент Барабанщикова, оказавшийся родственником ему по духу, стал сбывать через него иностранцам ценнейшие для нашей истории документы и рукописи из архива. А когда честный человек поймал его за руку и потребовал всё вернуть, этот клиент рассказал о грозящей опасности своему фуражиру… Убийце. Новорусский подавленно молчал. Корнилов поднялся. Посмотрел на управляющего с сожалением. — До свидания, Михаил Игнатьевич. — До свидания, — тихо, не поднимая головы, отозвался Новорусский. Он щёлкнул изящной зажигалкой. Прикурил. Корнилов заметил, что рука его дрожала.
1980
АНОНИМНЫЙ ЗАКАЗЧИК Роман
Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю: по великому праву первого встречного. Первый встречный — это человеческая совесть.Виктор Гюго

1
Ночь была душная, и Колокольников почти не спал. Нудно гудели комары. От них не спасали ни марля, набитая на окно веранды, ни приторный одеколон «Гвоздика», которым Леонид Иванович, просыпаясь каждые полчаса, мазал себе шею и лоб. Часа в два пошёл ленивый дождь. Мерно барабанили по железной крыше редкие капли, собирались в струйки и гулко стекали по желобу в пустую бочку. Колокольников почувствовал, что наконец-то засыпает, но скоро надо было вставать — он твёрдо решил выехать сегодня на залив, на рыбалку. Полежав ещё немного, он осторожно, чтобы не разбудить жену, оделся, взял приготовленный с вечера свёрток с едой и вышел на крыльцо. Поёжившись от охватившей его сырой прохлады, Леонид Иванович натянул на голову капюшон, взял из сарайчика вёсла и удочки и двинулся по лесной тропинке к заливу. С нарастающим гулом набирала от станции скорость первая электричка. «Или последняя?» — усмехнулся Колокольников, вспомнив, как однажды он приехал на дачу этой электричкой после встречи с друзьями и долго доказывал жене, что торопился именно на последнюю электричку, а она сердилась и говорила, что он совсем отбился от рук и позволяет себе приезжать первой утренней электричкой. Снова стало тихо, и Колокольников услышал, что впереди кто-то идёт. «Николай Николаевич меня опередил, что ли? — подумал он. — Вот ведь, злодей, и не предупредил!» Николай Николаевич, его приятель по рыбалке, снимал на лето дачу рядом, метров на триста подальше, в глубине леса. Колокольников прибавил шагу, но человек впереди шёл быстрее. Было слышно, как грузно перепрыгивает он через кочки и сосновые корни. Шум идущей по шоссе машины заглушил шаги. «Ну вот, на шоссе-то я тебя и перехвачу», — улыбнулся Колокольников в предвкушении того, как выговорит Николаю Николаевичу за отсутствие рыбацкой солидарности. В это время раздался глухой удар, а потом резкий скрип тормозов. Ночной лес утробно ухнул, повторив эти звуки, и затих. В наступившей тишине Колокольников услышал, как резко хлопнула дверца машины, и понял, что случилось несчастье. Бросив вёсла и удочки, он побежал к шоссе, повторяя: «Ну что же он летит не глядя, ну что же он летит…» В том, что несчастье произошло с соседом, Колокольников не сомневался. Он выскочил из кустов на шоссе слишком поздно. Белая машина, — Леонид Иванович машинально отметил, что машина белая, «Жигули», и что у неё погашены огни, — уходила за поворот. Тёмным пятном на мокром асфальте распластался человек. Колокольников бросился к нему и чуть не упал, наступив на блестящий металлический предмет. Нагибаясь к лежащему, он ещё подумал: «Вот ведь как стукнул, подлец, машина чуть не развалилась». Это был не Маслеников. На асфальте лежал большой, грузный мужчина. Колокольникову показалось, что пострадавший — негр, но он тут же понял свою ошибку. Лицо было тёмно-багровым от удара. «Надо его перевернуть», — решил Колокольников и взялся за мокрый плащ, запоздало вспомнив, что в таких случаях до приезда «скорой» и милиции лучше всё оставить на своих местах. «А если он жив? Пусть умирает?» Он с трудом перевернул человека на спину, опустив, почувствовал неестественную мягкость, словно это был не человек, а набитый тряпьём манекен. Ни стона, ни звука. Ни единого толчка пульса. Леонид Иванович долго держал остывающую руку в надежде, что сможет уловить хоть слабое биение пульса, но человек был мёртв. «Какая же сволочь!» — со злой тоской подумал Колокольников об удравшем водителе. — Сволочь! Сволочь! — повторил он громко и оглянулся. Шоссе было пусто. Ни машин, ни людей. Метрах в двух от потерпевшего в траве валялся маленький чемоданчик. Видать, от удара он отлетел в сторону и раскрылся. В чемоданчике, каждый в своём гнезде, лежали аккуратно разложенные инструменты. «Наверное, какой-нибудь слесарь-водопроводчик», — решил Колокольников. Он встал с мокрого асфальта, закрыл чемоданчик… Ближайший телефон был в санатории «Приморский», в километре от места аварии. Колокольников подумал о том, что хорошо бы оставить кого-нибудь здесь… Но до дому идти так же, как и до санатория, других дач поблизости не было. Пока он раздумывал, поглядывая в ту сторону, откуда пришёл, ему почудились шаги на тропинке. — Эй! Есть тут кто-нибудь? — крикнул он громко. Никто не отозвался, и Колокольников, ещё раз взглянув на мертвеца, побежал по шоссе к санаторию, на ходу роясь в карманах в поисках «двушки». «Двушки» не оказалось, и он тут же вспомнил, что и «скорую» и милицию можно вызвать без монетки. Первым он набрал милицейский номер. «Милиция», — тут же отозвался приятный девичий голос. — На пятьдесят пятом километре Приморского шоссе человека сбили, — сказал Колокольников. — Соединяю, — деловито сказала девушка. С минуту в трубке были длинные гудки, потом уже отозвался мужской голос: — Дежурный отделения ГАИ… Выслушав Колокольникова, дежурный спросил: — Кто говорит? Назовитесь! Колокольников назвал себя. Потом прибавил: — Я живу на Лесной, сто двадцатая дача. — «Скорую» вызывали? — Нет ещё. — Сами вызовем, — сказал мужчина. — Сейчас выезжает патрульная машина. Колокольников повесил трубку, вышел на шоссе и медленно побрёл назад. Машин на шоссе не было. Он подходил уже к повороту, за которым всё произошло, когда сзади послышался шум приближающегося автомобиля. Колокольников отступил к обочине, оглянулся и увидел милицейский «уазик». Он замахал руками, «уазик» затормозил, сидевший справа милиционер открыл дверцу. — Это я вызывал милицию, — сказал Колокольников. — Далеко? — спросил милиционер. — Рядом. За поворотом. Милиционер обернулся, сказал кому-то сидящему на заднем сиденье: — Подвинься, Буряк. Возьмём гражданина. Это «возьмём гражданина» не понравилось Колокольникову. Усаживаясь на продавленное сиденье, он подумал с обидой: «Вот и старайся, бегай по дождю, вызывай милицию, а они тебя „гражданином“». Но подумав так, он тут же застыдился: «Милиция-то тут при чём? Разве для милиции я бегал?» И острой болью кольнула жалость к погибшему. Вот ведь как бывает, ночь, тишина, даже птицы спят, не летают, а человек выскочил из кустов не раньше и не позже, а именно в тот миг, когда по шоссе проносился единственный автомобиль. Ну, догони Колокольников мужчину, перекинься с ним парой слов, и автомобиль проскочил бы мимо. Или водитель вдруг решил бы закурить, полез за сигаретой, раскурил её и непроизвольно сбавил скорость, а человека на шоссе уже нет, успел перебежать… — Вы водитель? — прервал его размышления милиционер. Теперь Колокольников уже разглядел три звёздочки на его погоне. — Водитель? — не понял Колокольников. — Ну да?! Виновник наезда — вы? — Да что вы! Я на рыбалку шёл. И вдруг удар… — Рыбалка — дело хорошее, — мечтательно произнёс мужчина в штатском, сидевший рядом с Колокольниковым на заднем сиденье. Тот, кого называли Буряком. — Притормаживай, Федя, — сказал старший лейтенант шофёру и повернулся к Колокольникову: — Ну, так где это произошло? — Вот! — протянул руку Леонид Иванович, показывая на шоссе. — Именно здесь. Вот он… — Последние слова его словно повисли в воздухе. Шоссе было пусто. Ни погибшего, ни чемоданчика… — Что за чёрт! — выругался Колокольников. — Это же место! — он оглянулся назад, увидел знакомый поворот. — А может, не доехали? — Он сказал так на всякий случай. Он знал, что не мог ошибиться, что именно здесь произошло несчастье. — Федя, подъехай ещё чуток, — приказал старший лейтенант. Они проехали метров триста. Лес тут был реже, совсем другой, справа сквозь сосны синел залив. Ужо светало. — Да что я! — в сердцах сказал Колокольников. — Каждую кочку тут знаю — столько лет живу! Там же, конечно, там, где я сразу показал. От наших домов тропинка на шоссе выходит. Я на ней вёсла и удочки оставил. Шофёр молча, теперь уже не дожидаясь команды начальства, развернулся. Никто не проронил ни слова. Колокольников показал, где остановиться, первым вылез из «уазика». Накинув плащи, выбрались из него старший лейтенант и Буряк. Леонид Иванович подошёл к тому месту, где узкая тропка выныривала из густых кустов на асфальт. — Вот она, дорожка! Он шёл впереди — я его слышал. Потом удар, я побежал, а машина уже к повороту приближается. — Какая машина? — спросил старший лейтенант. — «Жигули». Белые «Жигули». Огни, подлец, погасил. Номер было не разглядеть… — А модель? Колокольников пожал плечами: — Я в них не очень разбираюсь. — Ну, а дальше что? — с ехидцей спросил Буряк. — Пока голову искали, ноги встали и пошли? — Да что вы! Так не шутят! — растерянно сказал Колокольников. Он был совсем сбит с толку. Куда действительно мог подеваться этот человек? — Ты, Буряк, полегче. Для шуток — время слишком раннее, — спокойно сказал старший лейтенант и уставился на Колокольникова. — Вот здесь он лежал. Здесь, — показал Леонид Иванович. — Я побежал, опустился на колени. Лицо… — он безнадёжно махнул рукой. — Пульса не было. — Колокольников вспомнил про чемоданчик и рассказал милиционерам. — Чемоданчик, чемоданчик, — проворчал старший лейтенант, — куда человек подевался?! Вас как зовут? — спросил он неожиданно. — Леонид Иванович. — Вы не обижайтесь, Леонид Иванович, а может быть, вам всё это… — он покрутил рукой, — показалось? Колокольников хотел сказать в ответ какую-нибудь резкость, но вместо этого горько усмехнулся: — Действительно, можно подумать невесть что. — Вот именно, — значительно сказал старший лейтенант. — У нас, конечно, разные случаи бывают. Произойдёт наезд на человека, а он вскочит, отряхнётся — и бежать. Шок. А потом окажется — весь переломан. Месяцами в больнице лежит. Бывает и по-другому… — Он опять впился своими жёлтыми глазами в Колокольникова, словно хотел убедиться, можно ли ему доверять. — Вы, может, думаете, что я пьян? — обиделся Леонид Иванович. — Не думаем, но… — Милиционер пожал плечами. — Всяко бывает, — вставил Буряк. — Иной раз такого наслушаешься! — и добавил: — Но вы на свой счёт не принимайте. — Давайте ещё раз по порядку, — сказал старший лейтенант. — Откуда вы на шоссе вышли? Колокольников сошёл с обочины в канаву, показал на просвет среди зарослей. — Ну-ну! — подбодрил его милиционер. — А потерпевший? Он где лежал? — Я выскочил… — Колокольников в два прыжка преодолел канаву и остановился. — Он лежал там… Где вы стоите. Я кинулся к нему. — Тут он вспомнил, что чуть не упал, наступив на какую-то железку, и наклонился, разглядывая асфальт. — Железка здесь валялась, наверное, из чемоданчика выпала… — Где же ваша железка? — спросил Буряк. — И железки нету, — пожал плечами Колокольников. — Да ведь какие-то следы должны остаться? Кровь? Старший лейтенант вздохнул: — В такой дождь? Ладно, — наконец решился он. — Сейчас кусты обшарим. — И, повернувшись к Буряку, кивнул на машину. — А ты с отделением свяжись, пускай они обзвонят больницы. Может, пока товарищ бегал до санатория, потерпевшего кто-то подобрал да в больницу отправил. Буряк забрался в «уазик», стал дозваниваться по радиотелефону. — Ну, показывайте, Леонид Иванович, откуда вы шли, — попросил старший лейтенант. Колокольников спустился с шоссе, пошёл по тропинке первый. Старший лейтенант двинулся за ним. — Тут я и шёл от дома. Услышал удар — вёсла и удочки сюда бросил. — И опять, как на шоссе, встал как вкопанный — ни вёсел, ни удочек не было. Он нагнулся, пошарил в траве, раздвинул кусты — ничего. Прошёлся дальше по тропинке. Вёсла и удочки словно корова языком слизнула. — Д-а-а… — многозначительно крякнул старший лейтенант и, видя растерянность Леонида Ивановича, добавил: — С удочками вы потом разберётесь. Давайте пострадавшего искать. За кустами, на шоссе послышался шум подъезжавшего автомобиля. Скрипнули тормоза, хлопнула дверца. — «Скорая» приехала, — сказал старший лейтенант. Он рванулся было к дороге, но тут же остановился и махнул рукой: — Ладно, Буряк им всё объяснит. Часа два они прочёсывали окрестности, расспрашивали дачников. Никто не слышал ни скрипа тормозов, ни удара. Никаких следов сбитого машиной человека не было. Когда они снова подошли к «уазику», Колокольников расстроенно сказал: — Так же не может быть! Ведь мёртвый он был, мёртвый. — Был да сплыл. Подождём, может, сам объявится, — ответил старший лейтенант. «Объявится!» — Колокольников вспомнил тёмное от удара, словно расплющенное лицо сбитого мужчины и с тревогой спросил: — Что же теперь делать? Старший лейтенант молча пожал плечами и, забравшись в машину, захлопнул дверцу, а Буряк, высунувшись из «уазика», тихо, со злостью бросил: — Была б моя воля, посадил тебя на неделю за ложный вызов. «Уазик» умчался, а Колокольников в полной растерянности остался стоять на обочине. — Посадил бы за ложный вызов… — прошептал он сердито. — Тоже мне, пень порядочный! Лишний раз его потревожили! Да если б напрасно. «Что же они, решили, что я шутки шучу?! — с запоздалой обидой подумал Колокольников. — Зря тут бегаю под дождём!» Он вдруг почувствовал, что промок до нитки — не спас и старенький капитанский плащ. Мокрые штаны прилипали к ногам, в ботинках хлюпало. — Не-е-ет, я вам больше не помощник, — пробормотал Колокольников. — Дудки! Надо скорее домой, в тепло. Он прошёл метров сто по шоссе, до тропинки, которая вела к посёлку. По дороге уже мчались машины, большие пригородные автобусы стремительно катили по асфальту, оставляя за собой облака выхлопных газов, перемешанных с мелкими капельками воды. На том месте, где он оставлял вёсла и удочки, Колокольников задержался ещё раз, ощупал каждый куст, а вдруг они с лейтенантом недоглядели? «Собаку надо было бы пустить, — подумал Колокольников, выбираясь на тропинку из мокрых зарослей. — Она бы нашла». Но мысль о собаке, ищущей удочки, и самому ему показалась вздорной, и Колокольников с каким-то даже удовлетворением подумал: «Не моя забота! Не хотят, пусть не ищут. Потом всё равно откроется, и будет этот Буряк иметь бледный вид». Он был особенно зол на Буряка, наверное, за угрозу. «Ничего-ничего, — думал Колокольников, чуть-чуть разогреваясь от быстрой ходьбы. — Ничего-ничего! Удочки куплю новые. С первой получки. Пока — из берёзы вырежу. Вёсла вот жаль. Но тоже ничего. Кажись, у Николая Николаевича в сарае какое-то старенькое веслишко валяется. А сейчас приду домой, в тёплую постель нырну. Валюша мне чайку горячего даст… Э-э, да что чайку — после такой встряски можно и водки! А Буряк пускай злится, пускай думает, что я его разыграл…»Валентина ещё спала. Услышав, что открылась дверь, она спросила сонным голосом: — Лёня, ты? — Я, маманя. — Чего так быстро? Клёва нет? — Ещё какой клёв! — бросил Колокольников. — Такого клёва у меня за всю жизнь не было. — Лодку, что ли, украли? — Валентина никак не хотела верить в удачный клёв. Её многолетний опыт говорил совсем о другом. Колокольников скинул с себя мокрую одежду, натянул пижамные штаны, Валентинин махровый халат. Жена наконец совсем проснулась и спросила озабоченно: — Ты почему так суетишься? Стряслось что? Колокольников не ответил. Он достал из буфета бутылку водки, налил полстакана, потом отломил от буханки корку хлеба, положил на неё кусок сыра. В кургузом халатике, со стаканом в одной руке и бутербродом в другой, он появился перед женой. Увидев его в таком одеянии, да ещё с лохматой мокрой головой, Валентина ахнула: — Перевернулся?! Дурашливо постучав зубами о стакан, Колокольников выпил водку и, жуя бутерброд, принялся рассказывать. Время от времени жена перебивала рассказ Колокольникова, переспрашивала, возмущалась удравшим водителем. Она никак не хотела верить, что попавший под машину мужчина умер. — Откуда ты знаешь? Ты что, врач? — Я же пульс щупал, — доказывал Колокольников. — Переворачивал мужика. — Не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут — мертвеца переворачивал. Наверняка мужчина очухался под дождиком и ушёл. Не переживай зря! — Нет, — мотал головой Колокольников. — Это видеть надо. Раз увидеть — и никаких сомнений. — Он уже согрелся, выпитая водка теплом разлилась по телу, слегка кружила голову. — С этим мужиком всё ясно. Но милиция! Милиция меня удивила! Даже протокола не оформили. — И хорошо, что не оформили, — успокоила его жена. — Составили бы протокол — по следователям бы месяц ходил, доказывал, что не приснилось. Лёня! — вдруг словно что-то вспомнив, сказала она. — Какие у тебя вёсла пропали? — Как какие? Мои. — Их же у тебя на прошлой неделе украли. Сам вчера сказал, что с камней ловить будешь. — Сказал, сказал… — нахмурился Колокольников. Вёсла у него действительно украли. Прямо из сарайчика. Но он попросил плотника из посёлка, и тот за червонец выстругал ему новые. Жену он до поры до времени в эту операцию не посвящал, чтоб не ругала за непредвиденный расход. Валентина и так считала, что он тратит на свои рыбацкие прихоти слишком много денег. — А я-то, дура, уши развесила, — засмеялась Валентина. — Рассказываешь мне байки. Как только сразу не сообразила? — А я-то, а я-то! — передразнил жену Колокольников. — Я-то тебе дело говорю. Такое не придумаешь… — Не расходись, не расходись, — попробовала успокоить его жена. — В следующий раз поскладнее придумай. А то — человека машина сбила! Удочки и вёсла украли! В огороде бузина… — Валентина улыбнулась. — Этот твой мертвец небось и прихватил удочки с вёслами? — Тьфу! — зло бросил Колокольников, вышел из комнаты и лёг на веранде, на стареньком скрипучем диванчике. Но заснуть так и не смог.
Старший лейтенант Орехов, тот, что приезжал вместе с Буряком по вызову Колокольникова, в восемь утра сменялся с дежурства. Сидя перед раскрытой книгой регистрации происшествий, он мучился над вопросом — как записывать в неё ложный вызов на пятьдесят пятый километр? Казалось бы, такое простое дело — приехали на место происшествия, а происшествия никакого не оказалось — ни машины, ни трупа, никаких следов. Одни разговоры. Можно бы и записать категорично: ложный вызов. Тем более они с Буряком провели все положенные в таких случаях действия — осмотрели место, указанное заявителем, обзвонили больницы, облазали вдоль и поперёк все кусты. Чего бы ещё?! Но Орехов был человеком осторожным, ему и впросак не хотелось попасть — чем чёрт не шутит, вдруг наезд всё-таки был? Тем более что сам лейтенант готов был верить Колокольникову, но боялся показаться простаком. — Алексей, ты чего над книгой колдуешь? — вывел Орехова из глубокого раздумья Буряк. — Давай быстро, есть машина до Сестрорецка. Упускать попутную машину лейтенанту не хотелось, и он, решившись наконец, написал: «При выезде на место происшествия не было обнаружено ни потерпевшего, ни следов наезда. В ближайшие больницы пострадавших в автодорожных происшествиях не доставляли. Работа со свидетелем будет продолжена». «Тут комар носа не подточит, — с удовлетворением думал Орехов, усаживаясь в машину рядом с Буряком и ещё одним инспектором ГАИ. — Съезжу завтра для очистки совести к этому Колокольникову, порасспрошу ещё. Случись что — дело не закрыто, работа проводится…»
Поднялся Колокольников часа в два. Они словно сговорились с женой и об утреннем происшествии даже не упоминали. Сыну, поинтересовавшемуся рыбалкой, Колокольников сказал, что удочки украли. Они мирно пообедали, разговаривая о всякой всячине — о том, что отпуск кончается, не за горами сентябрь, сыну Володьке в школу, нужна новая форма, из старой вырос. После обеда втроём сходили на залив, выкупались. Переходя шоссе, Леонид Иванович хотел было показать Валентине место, где машина сбила человека, но удержался, подумал: опять с вёслами привяжется. Да и Володьке незачем об этом знать. Он парень впечатлительный. От взгляда на асфальт, где ещё совсем недавно лежал сбитый мужчина, у Колокольникова опять сделалось неспокойно на душе. «Нет, этого дела я просто так не оставлю», — подумал он. Ближе к вечеру он сходил к своему соседу по даче, режиссёру драматического театра Грановскому. Леонид Иванович знал, что Грановский дружит с одним из работников милиции. Он даже видел пару раз этого высокого, хмуроватого человека, когда тот приезжал на воскресенье к Грановскому. Звали его Игорь Васильевич, а фамилии Колокольников не помнил. — Так дорожные происшествия не по его части, — сказал Грановский, выслушав рассказ Леонида Ивановича. — Корнилов в уголовном розыске работает, воров да убийц ловит! — Вот и хорошо, — кивнул Колокольников. — Тут тоже убийца… Грановский хотел возразить, но Леонид Иванович засмеялся и, положив руку ему на плечо, сказал: — Всё понимаю. Не его епархия. Но я у тебя видел этого Корнилова, он мне понравился — серьёзный мужик. На него, видать, положиться можно. Вот ты меня и сведи с ним. Завтра же. — Это правда, — согласился Грановский, — положиться на него можно. Отвезу тебя завтра к нему, а там сами разбирайтесь. Возвращаясь от Грановского, Леонид Иванович подумал, что неплохо бы изложить всё, что он видел, письменно и идти к Корнилову с готовой бумагой. Силу бумаги Колокольников знал хорошо. Он работал в патентном бюро научно-исследовательского института и почти всё своё рабочее время отдавал изучению всяческих прожектов, присланных в бюро, и ответам на письма. А уж если какой-нибудь изобретатель сам приходил в бюро, то с ним всегда было проще. Во-первых, за долгие годы Леонид Иванович уже мог безошибочно отличить серьёзного изобретателя от настырного прожектера. А во-вторых, отделаться от рискнувшего заявиться в патентное бюро человека было, как говорится, делом техники. Поговорили, разошлись, и не надо ломать голову над обтекаемыми формулировками письменного отказа. Отказывать же приходилось многим. Из ста изобретателей восемьдесят оказывались на поверку фантазёрами. Дома Колокольникову не сиделось. Хотелось пройтись по дюнам вдоль залива, посмотреть, много ли рыбаков выехало на вечерний лов. В стороне Кронштадта на позолоченной ряби залива и впрямь темнело десятка полтора тёмных точек. «На Восточной банке ловят, — с завистью подумал Колокольников, прикрывая глаза от закатного солнца. — Кучно встали. Наверное, клёв хороший». Свежий ветерок наносил от воды запах водорослей, рыбы. К этому примешивался лёгкий привкус дымка — мальчишки жгли костёр из сухого плавника. — Эх, сорвалась моя рыбалка, сорвалась, — шептал Леонид Иванович. Вид спокойного залива, лёгкое шипение волны, окатывающей гранитные валуны, всегда действовали на него умиротворяюще. «Нет, Валентина не права, — думал он. — Удочки мои и вёсла „жигулёвец“ прихватил. Тот, кто наехал. Решил, что они принадлежат попавшему под машину мужику. Ну, и чтобы уж никаких следов — вместе с трупом в машину закинул. Вот ведь как всё продумал, подлец! — Колокольников даже покачал головой, дивясь тому, какая стройная картина складывается в его голове. — Дождина хлещет, на шоссе ни машин, ни людей. Решил, наверное, что потерпевший на рыбалку шёл, а раз с вёслами, значит, на лодке, значит, в залив собирается податься. В залив на час не ходят. Считай, что целый день человека могут не хватиться. Да… Ловко, ловко всё сложилось. Ловко. А когда хватятся, что пропал человек, никому и в голову не придёт, что его машина сбила. И может гулять подлец спокойно и ничего не бояться». От сознания того, что где-то по белу свету будет гулять безнаказанно преступник, у Колокольникова испортилось настроение. Как и большинство скромных простых людей, он всегда очень остро чувствовал несправедливость, был чуток к чужому горю, неделю мог ходить расстроенным из-за того, что увидел по телевидению какой-нибудь кошмарный несчастный случай или очередную жертву итальянских террористов. По песчаным дюнам Леонид Иванович дошагал до большой гряды валунов, уходившей метров на сто в залив. Здесь, в маленьком затончике, ютилось несколько лодок, в том числе и крашенная в голубой цвет плоскодонка Колокольникова. Лодки были прикованы цепями к огромному старому бую, на три четверти занесённому песком. Но это не спасало от того, что время от времени какая-то из них бесследно пропадала. Или транзитные хулиганы, сделав ночью привал у гряды, выламывали из лодок сиденья на костёр, а то и сжигали всю лодку. Убедившись, что на этот раз никакое стихийное бедствие не постигло тихую гавань, Колокольников вышел на шоссе. Молодой крупный мужчина в потёртом кожаном пиджаке разгребал на обочине гравий и сухие листья толстой палкой. Леонид Иванович остановился — мужчина рылся как раз на том месте, где произошло несчастье. «Из милиции, что ли, прислали? — подумал Колокольников. — Если так, то молодцы. Зря я о них плохо подумал». Он подошёл к мужчине и поздоровался. Увлекшийся своими поисками, тот вздрогнул от неожиданности и резко обернулся к Колокольникову. Круглое его лицо было испуганное и злое. — Чего надо? — спросил он недружелюбно. — Ничего, — пожал плечами Колокольников. — Я просто хотел предложить вам свою помощь. Вы ведь из милиции? — Иди ты! — Глаза у мужчины стали белые от злости. Леонид Иванович отпрянул. Ему показалось, что человек этот сейчас размахнётся и ударит его палкой. — Придурок! Я здесь деньги потерял, — прошипел он и, повернувшись к Колокольникову спиной, быстрыми шагами пошел прочь. «Никакой он не милиционер, — приходя в себя, с опозданием догадался Колокольников. — А если нет, то чего он тут искал?» — Эй! Постойте! — крикнул Леонид Иванович. От волнения голос у него сорвался на фальцет. — Постойте! — Он пошел следом, но мужчина вдруг круто свернул в лес. «Там он меня и прирежет, — подумал Колокольников и остановился. — Да и как я его один задержу?! Может, он снова придёт?» Колокольников вернулся к тому месту, где рылся мужчина, и спрятался в кустах. «Здесь он меня не заметит, — решил он. — А мне всё видно. Надо его хорошенько запомнить». Наблюдая за дорогой, он стал вспоминать мужчину, его лицо, волосы, костюм. И ужаснулся от того, что ничего не мог вспомнить. Только белые от ярости глаза и толстую палку. По шоссе проносились машины, с весёлым гомоном прошла большая группа молодёжи. — А я буду купаться! — упрямо бубнила высокая стройная девица. — Всё равно буду! — Колокольников не слышал, что говорила ей подруга, но девица всё твердила: — Буду, буду! Буду купаться! У тропинки, ведущей к поселку, остановилась чёрная «Волга». Из машины вышел ещё один сосед Колокольникова, профессор Пашаев. У Леонида Ивановича мелькнула мысль — позвать Пашаева и вместе догнать того мужика с палкой. Но тут же он подумал, что мужика давно и след простыл, а Пашаеву надо будет объяснять всё сначала, а объяснять Колокольникову не хотелось. — Завтра в восемь, дорогой! — сказал Пашаев шофёру. Хлопнула дверца. Заиграла музыка. Наверное, шофёр включил радиоприёмник. Машина развернулась и, набирая скорость, помчалась к Ленинграду. Пашаев прошёл совсем рядом с Колокольниковым — можно было протянуть руку и схватить Омара Ахмедовича за широкую штанину. — Тьфу, забыл в кабинете сейф закрыть! — неожиданно выругался профессор и остановился в нерешительности. Но машина уже ушла. А Пашаев, покряхтывая, — ишиас, видать, разгулялся, — направился к даче. «Я тебе про сейф когда-нибудь напомню», — усмехнулся Колокольников. Мужик не появлялся. «И не придёт! — решил наконец Леонид Иванович. — Наверняка шофёр. Тот, что сбил человека. А я его милицией спугнул. — Колокольников от кого-то слышал или читал, что преступников тянет на то место, где они совершили преступление. — Этого не просто потянуло! — сердито подумал Леонид Иванович. — Он тут искал что-то. Проверить хотел, не забыл ли чего впопыхах утром?» Уже не таясь, Колокольников выломал ольховую палку и вышел на дорогу. Но палка не пригодилась — солнце ушло за вершины сосен, на дорогу легла сиреневая тень, и он с трудом разбирал, что там выгребается из-под палки на ещё не просохшем песке обочины. Колокольников положил палку рядом — на всякий случай — и, став на корточки, принялся метр за метром разглядывать песок. Иногда он просто ощупывал землю, отбрасывая жухлые листья, окурки, пробки от бутылок. Он даже нашёл три копейки, но монета была старая и позеленевшая. Наконец на песке что-то тускло блеснуло. Колокольников протянул руку и поднял новенькое сверло. «На эту штуку я наступил утром, — обрадовался он. — Конечно! И чуть не растянулся! Вот вам и подтверждение. Свёрла — не пробки от бутылки, просто так на дорогах не валяются». Он повертел сверло в руках — оно было совсем новое — и, спохватившись, положил во внутренний карман пиджака. «Зря я его полапал, может, следователь там какие-нибудь следы рассмотрит», — подумал Колокольников и пошагал к дому.
2
В городе уже несколько недель стояла жаркая погода. Ночью с залива ветер наносил низкие рваные тучи. Косой дождь стремительно стегал по нагретым за день крышам, по размякшему асфальту и тут же испарялся. Сизый туман смешивался с дымами ТЭЦ, с бензиновыми парами и плавал над улицами, пока раннее солнце не осаживало его мелкими капельками на неуклюжих скамейках в парке, на гранитных парапетах набережных. Капельки тут же высыхали, и вместе с ними исчезало всякое воспоминание о короткой ночной прохладе. Никогда ещё за последние дни Евгений Жогин не чувствовал себя настолько свободно и беззаботно, как сейчас. А это субботнее утро показалось ему особенным. Проснувшись, он долго лежал не открывая глаз, сладко потягиваясь, ощущая всем телом, как чисты крахмальные простыни, как податлива и пружиниста широкая постель. Из кухни доносился приглушённый дверями шум воды, позвякивание посуды — Люба готовила завтрак, стараясь не потревожить мужа раньше времени. Уже месяц, как он вернулся из заключения. Всё это время Евгений радовался вольной своей жизни, наслаждался возможностью в любой момент, хлопнув дверью, выскочить на шумную улицу, пройтись, беззаботно подставив лицо солнцу в толпе, не обращающей на него никакого внимания и потому так приятной ему. Но где-то в подсознании, независимо от него самого и даже большую часть времени никак не проявляя себя, гнездился ледяной мокрый страх. Да, да, именно мокрый, потому что, просыпаясь вдруг среди ночи, Евгений покрывался ледяной испариной. Так же бывало, когда, оставшись один дома, он ложился на диван, включал старенький телевизор и, позабыв всё на свете, переживал чужие актёрские страсти на экране и в это время раздавался резкий, пронзительный телефонный звонок. Телефон успевал прозвонить несколько раз, прежде чем Евгений понимал, что это не сигнал подъёма или тревоги, и, ощущая на спине испарину, хватался за трубку, выдавливая из себя хриплое «слушаю». Сегодня он проснулся от того, что солнечный зайчик, отражённый большим старинным трюмо, прочертив свой утренний путь по давно выцветшим обоям, скользнул по подушке и остановился на лице. Тяжёлый трамвай, противно скрипя на повороте, прополз мимо дома. Трюмо задрожало, чуть слышно звеня. Словно подхваченный сквозняком, заметался и солнечный зайчик. Жогин открыл глаза и тут же зажмурился. «Ну и спал я сегодня, — подумал он с удовлетворением и улыбнулся. — Ни одного сна не видел». И подумав так, вдруг понял, что не будет больше ледяного, сковывающего страха, когда среди ночи он вскакивал весь в холодном поту, потревоженный кошмарными снами из той, тюремной жизни. Лучик наконец переместился с его лица на подушку, потом на тёмную спинку деревянной кровати. И снова затрепетал, как жёлтый берёзовый листочек на ветру — мимо дома грохотал очередной трамвай. «Дрожи, дрожи, — снисходительно усмехаясь, подумал Евгений. — Мы своё отдрожали. Нам теперь конвойный не указ. И пахан нас не пошлёт вместо себя парашу выносить!» Он отсидел три года — шесть месяцев, пока шло следствие и суд — в «Крестах» на Арсенальной набережной, два с половиной — в колонии на Севере. Отсидел ровно половину того срока, который определил ему народный суд, и освобождён, как было написано в выданной ему справке, «за примерное поведение и хорошую работу». Спроси его сегодня, жалел ли он, что, поддавшись уговорам одного из дружков по весёлым выпивкам на стадионе — они оба «болели» за одну и ту же команду, — по долгим сидениям после матчей в шумной, пропахшей кисловатым запахом пива и неистребимым духом вяленой рыбы пивной, взялся изготовить инструмент для вскрытия сейфа, Женя, не задумываясь, ответил бы: «да». Но не потому, что горько раскаивался, став соучастником ограбления заводской кассы. Что понял всю трагедию превращения честного человека в преступника. Жогин не научился ещё задумываться над такими истинами. Как маленький ребёнок, схватившийся за горячий утюг, усваивает, что делать этого больше нельзя — будет больно, — но объяснить почему — ещё не в силах, так и он каждой клеточкой своего существа, навсегда, на всю жизнь понял, что годы, проведённые в тюрьме и в колонии, — вычеркнутые из жизни годы. Кто знает, может быть, выздоровление для некоторых начинается именно с таких простых истин? Во всяком случае, Жогин вернулся из колонии с твёрдым убеждением больше уже никогда назад не возвращаться. Не последним аргументом в этом решении стала и жена Любаша, все три года ожидавшая его и поддерживавшая письмами и передачами. …За завтраком Любаша спросила: — Женя, тебе в понедельник когда выходить? — Во вторую смену. — Он улыбнулся. — Понедельник — день тяжёлый. С утра лучше поспать… Жена задумалась, смешно шевеля пухлыми губами — подсчитала, сколько дней осталось. — Давай съездим к маме, — закончив свои подсчёты, сказала Люба. — Я возьму на понедельник отгул — у нас получается три дня. Тёща Жогина, Анна Васильевна, жила в маленькой деревушке в Псковской области. Ехать к ней надо было часа три с половиной автобусом да потом километров семь от шоссе пешком или попутной машиной. — Нет, Любаша, — мотнул головой Жогин. — Не поедем. — Почему? Время есть. Она тебя так давно не видела. — Вот пару месяцев на заводе повкалываю, тогда и поедем, — сказал он ласково, но твёрдо. Люба хотела что-то возразить, но вдруг смутилась и посмотрела на мужа долгим, задумчивым взглядом, порозовела. — Ну, конечно, Женя! Конечно, так лучше. Я-то, дура, не сообразила… Выходные дни они провели весело и беззаботно. Встав пораньше, отправлялись гулять по городу, ездили на Острова, ели шпикачки в чешском баре. Сходили в кино. Бродили по набережным Невы без всякой цели. И Евгений всё рассказывал и рассказывал жене, как он жил «там», рассказывал без утайки, подробно, освобождаясь от прошлого, словно напрочь забывал его, выкидывал из головы. Но так уж устроена жизнь, что счастье и радость никогда не бывают безоблачными. Стоит только забыться, как судьба тут же напоминает тебе о том, что день сменяется вечером, что кроме света есть и тень, а течение жизни подвержено своим закономерностям, когда за полосой везения следует серия неудач. И потому-то нередко, перед тем как преподнести человеку горькую пилюлю, судьба посылает ему знак — у него вдруг появляется, чаще всего неосознанная, мысль — как здорово всё у меня складывается! Увы, всё меньше и меньше людей умеют распознать этот намек судьбы. Так же, как до поры до времени не чувствует человек, что вдруг в повседневной сутолоке появляется первый сбой в ритме ещё совсем здорового сердца. Но если бы люди всегда были счастливыми, человечество, возможно, могло и поглупеть.…Однажды вечером, когда Люба ушла на смену, а Жогин лежал на диване с книжкой, зазвонил телефон. Евгений спокойно отложил книгу в сторону, не спеша всунул ноги в шлёпанцы, подошёл к телефону, стоявшему в прихожей, и, сняв трубку, привычно спросил: — Але? — Евгения Афанасьевича, — спросил молодой мужской голос. — У телефона, — лениво ответил Жогин. — Женя, привет тебе от Лёвы Бура, — весело сказал звонивший. И спина у Жогина сразу покрылась ледяным потом. Лёва Бур, пожилой «специалист» по сейфам, признанный в лагере пахан, сидел с ним в одной колонии. — От Лёвы Бура! — повторил мужчина, не дождавшись ответа Жогина, и Евгений понял, что говорит не Бур, а кто-то другой, значительно моложе. Да и не мог говорить сам Лёва — когда они вместе вышли из колонии, Бура оставили на три года на поселении в Архангельской области. Таким был приговор суда. Евгений это хорошо помнил. Бур сказал ему на прощанье: «Не вороти нос от старых друзей, салага. Может, ещё и сведёт судьба». Жогин тогда промолчал, а Лёва усмехнулся и, наклонившись к уху, прошептал, чтобы не слышали другие заключённые: «Таких, как мы с тобой, умельцев — на всю Европу не больше пяти сыщется. Без нас, кирюха, ни одно крупное дело не обойдётся…» — Спасибочки за добрую весть, — выдавил наконец из себя Жогин. — С прибытием его… — С прибытием… — ворчливо сказал собеседник. — Для его встречи ещё оркестр не готов! Не знаешь, что ли? — И без всякого перехода спросил: — Ты один? Говорить можешь? — Один. А с кем говорить-то? С телефоном-автоматом? — сдерзил, приходя в себя от первого испуга, Евгений. — Будет время, познакомимся. Коля меня зовут, — дурашливым голосом сказал мужчина. — Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй… Знаешь такого. — И зашептал: — Дело есть. Крутое. Некогда Лёву дожидаться, такой случай раз в три года выпадает. Инструмент нужен. Ты ведь уже пахать начал. — Нет, — твёрдо ответил Жогин. — Не могу. Сейчас занят. Опоздал ты с заказом… — Он не мог, просто испугался вот так прямо взять и сказать, что не хочет знать никаких Буров, никаких заказов. Что он завязал, завязал навечно со всей этой кодлой, со всеми их делами. Его собеседник по-своему понял намёк на «занятость» и разочарованно протянул: — Жа-аль… А мы-то рассчитывали. Может, через неделю? — Не могу. В цеху всего неделю. Мастер всё время над душой стоит. Не знаю, как первый-то «заказ» выполню. — Ну, бывай, — быстро сказал собеседник. — Позвоню ещё. Может, надумаешь? — И повесил трубку. Настроение у Жогина испортилось надолго. «Разыскали, суки! — думал он зло. — Хоть в другой город уезжай. Это небось Лёвина работа. Он меня запродал. — Потом Жогин вспомнил весёлый, молодой голос звонившего. — Не похож он на урку. Не похож! Не тот разговор. Может, милиция проверяет? А я, дурак, уши развесил. Про „заказ“ баки забивать стал! Нет, только не милиция, — тут же успокоил себя Евгений. — Небось какой-нибудь фрайер». Когда пришла жена, он, по традиции приготовив к её приходу ужин и сидя напротив нее за маленьким кухонным столом, рассказал о звонке. Люба сначала нахмурилась, а потом махнула рукой: — Ничего! Позвонили и умылись. Ещё позвонят — отбрешешься. — Она подошла к мужу, села к нему на колени и обняла за шею: — Мы с тобой теперь, Женечка, вдвоём. Отобьёмся. — Раз уж они знают, что я на завод пошёл, кто-то им сообщил. Может, и у нас в цеху какая шпана околачивается. — К тому времени и Бур этот растреклятый появится. О тебе и думать забудут.
3
Ещё с утра Борис Дмитриевич Осокин сказал жене, что после работы он поедет на дачу. Следующий день был у него свободен от консультаций и приёмныхэкзаменов в институте, и Осокин решил провести его на природе: сходить за грибами, собрать на участке поспевающую клубнику. Он любил, когда выдавалась возможность, побыть в одиночестве, без суеты, без пустых, ненужных разговоров, знать, что не услышит телефонных звонков. Жене он говорил шутя: короткая разлука — лучший тоник для супружеской жизни. Последняя консультация у вечерников закончилась в десять. Осокин позвонил домой, но жены не было — зная, что муж едет на дачу, она поехала на Васильевский навестить мать и ещё не вернулась. Осокин поговорил с дочерью. Алёне было шестнадцать, она перешла в десятый класс музыкальной школы, прекрасно играла на рояле, знала французский и вообще постоянно радовала родителей. — Мама сказала, чтобы ты привё банку варенья, — сказала Алена. — Черничного. Там на крышке написано. И не забыл собрать клубнику. Осокин хмыкнул: — Вы бы с мамой о ней так помнили, как я! — И банку огурцов из подпола, — добавила дочь. — Принято к исполнению! — шутливо отрапортовал Борис Дмитриевич. — А у тебя никаких заказов? — Нет, папочка, никаких. Вот когда приедешь… — Алёна таинственно понизила голос: — Тогда… тогда будет заказ. — Говори сейчас, пока я добрый. — Нет уж. Сейчас не скажу, а то испугаешься и не приедешь. — Ого! Значит, что-то серьёзное?! — удивился Осокин. — Это мы ещё посмотрим. Он повесил трубку, спустился по широкой институтской лестнице вниз, сел в машину и тоже, как и жена, поехал на Васильевский остров, но только не к тёще, а к своему приятелю Коле Рогову, такому же одержимому страстью собирательства человеку, как и он сам. Борис Дмитриевич, несмотря на свой далеко не юношеский возраст, коллекционировал значки. Их у Осокина было уже за шесть тысяч, но стоило ему услышать про какой-то новый значок, Борис Дмитриевич мог мчаться не только на окраину города, в Гавань, как он поступил сейчас, а даже на край света. Относился он к собиранию значков со всей серьёзностью. Собрание Осокина хорошо знали городские коллекционеры и считали одним из самых основательных. Когда устраивались какие-нибудь выставки, — а они в наше время устраиваются очень часто, — Бориса Дмитриевича всегда приглашали выставиться, и он делал это с большим удовольствием. Экспонировал самые редкие значки, в свободное время постоянно дежурил у стенда, давал объяснения и консультации. Даже тому, что он хорошо знал французский язык, — и помог овладеть им своей дочери, — Осокин был обязан значкам. Когда у тебя такая богатая коллекция, поневоле возникают связи и с иностранными собирателями. То интуристы придут на выставку, и среди них окажется заядлый коллекционер, то кто-то из знакомых приведёт приехавшего в командировку иностранца поглазеть на огромную стену в квартире Осокина, сплошь завешанную значками. Потом завязывается переписка, обмен дубликатами. Короче, без языка не обойтись. Даже в институте, где Борис Дмитриевич преподавал политэкономию, собирательство создало ему некий ореол, потому что время от времени о коллекции Осокина писали то в «Вечерке», то в молодёжной газете, а один раз даже в журнале «Наука и жизнь». И в этих заметках о его собрании употреблялись ласкающие слух эпитеты: «строго систематизированная», «научная», «глубокая» и прочие другие. Кто в детские и юношеские годы не был коллекционером? Не собирал марки, монеты, открытки, маленькие календари, минералы или даже складные ножи? Трудно представить себе не переболевшего этой детской болезнью мальчишку. Страсть эта могла не коснуться разве уж какого-нибудь заядлого шалопая, предпочитавшего стрелять из рогатки по воробьям и играть в пристенок, чем охотиться за новой маркой. Но проходят годы, и по разным причинам повзрослевшие собиратели чаще всего забывают о своих коллекциях. Лишь немногие, не лишённые, наверное, известного педантизма и одержимости, остаются верны им всю жизнь. Николай Петрович Рогов, к которому заехал Осокин, посулил ему в обмен на три значка с изображением животных, — а Рогов именно такие значки собирал — только с козлами, собаками и прочими представителями фауны, — значок добровольного пожарного общества Сейшельских островов. Обмен состоялся к обоюдной радости, потом Азалия Васильевна, жена Рогова, поила их прекрасным цейлонским чаем. — Вы слышали, Борис Дмитриевич, что обокрали Завьялова? — спросила Азалия Васильевна у Осокина. Завьялов, директор ресторана, тоже коллекционировал значки. Но его собрание было хоть и большим, но малоинтересным. Он собирал значки без разбора, все подряд. Зато славился единственным в своём роде собранием альбомов художников-сюрреалистов. Избранные, к их числу принадлежали и Рогов с Осокиным, были допущены к обозрению этой удивительной коллекции. Реакция Бориса Дмитриевича была однозначной — он сразу же подумал о собрании. — Да! — подтвердил Рогов. — Все альбомы свистнули. А в придачу разные мелочи, — он ехидно усмехнулся, — вроде драгоценностей и мехов жены, видеомагнитофона и прочей ерундистики. — А значки? — Значки не взяли. У Бориса Дмитриевича отлегло от сердца. — Не успокаивайся, не успокаивайся! — сказал Рогов. — Залезли опытные воры. Знали, что брать. Кому нужны завьяловские значки? Только дилетантам, мальчишкам, начинающим собирательство. — Ты не прав, — не согласился Осокин. — У него много хороших значков. — Ну и что? Нет системы, нет научной основы. Если хочешь — вся коллекция его значков для отвода глаз. Чтобы создать реноме коллекционера. Главное-то альбомы и книжечки. Знаешь, сколько он в них вложил? — Дураки воры, — сказал Борис Дмитриевич. — Книги почти все на иностранных языках. Они не смогут продать эти книги. Сразу попадутся. — Да они и не будут продавать. Оставят себе и будут любоваться картинками. Даже Азалия Васильевна рассмеялась: — Коля! Что ты говоришь — воры оставят книги себе?! Пополнят свою библиотеку! Где ты видел таких воров? — Мама, я, слава богу, ещё ни разу не видел ни одного настоящего вора. Ходить в суды у меня нет времени — но я же не в безвоздушном пространстве живу?! Читаю, слышу, что говорят! Вся беда в том, что воров развелось слишком много… — Да уж, — кивнул Осокин, — что ни день — кого-нибудь обворовали. А милиция… — Прости, Боря, — перебил его Рогов. — Я не закончил мысль. Так вот — воров слишком много, и воруют теперь не только для того, чтобы потом продать украденное скупщику и неделю жировать на малине. Воруют — и пользуются ворованным сами… Они ещё поговорили на эту острую тему, а потом уединились на кухне за шахматами. Когда Борис Дмитриевич взглянул на часы, было уже два. Рогов осторожно, чтобы не разбудить давно уснувшее семейство, проводил Осокина до дверей и подождал, пока тот спустится по тёмной лестнице вниз. Разговор о ворах придал мыслям определённое направление. — Коля, привет! — негромко крикнул Осокин, благополучно миновавший три тёмных этажа. Рогов закрыл на все запоры дверь и пошёл в спальню к своей Азалии. А Борис Дмитриевич сел в машину, минуты две прогревал мотор и поехал к Приморскому шоссе. Перед разведённым Тучковым мостом ему пришлось подождать минут двадцать. Несмотря на позднее время, у моста скопилось много машин — такси, да и личных машин было немало. Осокин любил ездить по ночному городу. Прямые, свободные улицы, спокойное, без дёргания движение. Без заторов, без нервотрёпки. Из-за чуть приспущенного бокового стекла лицо обдувает свежий ветерок. Лишь изредка на проезжей части возникает одинокая фигура с протянутой рукой или даже загулявшая парочка, больше всего в этот момент мечтающая о домашнем уюте, а потому готовая заплатить любые деньги, только бы их доставили по назначению. Борис Дмитриевич старался никого не подвозить. Подрабатывать таким путём он считал неприличным, да, по правде говоря, и побаивался. Во время ночных поездок его никогда не покидало чувство уюта, чувство удовлетворённости, что ли. Если холодно — можно пустить в салон чуть-чуть тёплого воздуха. Ровно шумит мотор, зелёным спокойным светом освещена приборная панель, а запоздалые неприкаянные пешеходы только придают твоему комфорту определённую остроту… Борис Дмитриевич выехал на Кировский. Впереди сомкнутым строем медленно шли поливалки — пришлось сбросить скорость. За Ушаковским мостом поливалки поехали прямо, а Осокин, дождавшись, когда загорится зелёная стрелка светофора, свернул налево, на Приморское шоссе. Из-за поливалок машин на шоссе поднакопилось, и к Лахте неслась уже целая колонна. Какой-то лихач на светлой «Волге», вырвавшись на левую сторону, обогнал колонну, но когда Осокин проезжал пост ГАИ при въезде в Лахту, с этим лихачом уже беседовал инспектор. «Ну что, братец, съел? — усмехнулся Борис Дмитриевич. — Не считай себя самым умным!» Тысячи комаров и мошек роились в тугих лучах фар. «Надо будет, как приеду, сразу помыть машину», — подумал Осокин. Отмывать присохших к лобовому стеклу и радиатору насекомых было делом нелёгким и хлопотливым, а Борис Дмитриевич относился к своим «Жигулям» очень бережно и содержал в большом порядке. За Солнечным он ехал один. Несколько крупных капель ударили в ветровое стекло, и тут же машина въехала в полосу дождя. Остро запахло хвоей, свежестью, начинающими вянуть травами. Мысли у Бориса Дмитриевича разбегались — он с удовольствием думал о том, что день у него свободный, есть время пойти за грибами. Потом ему вспомнилась украденная коллекция Завьялова, и он покачал головой. От Завьялова почему-то проложился в сознании мостик к одной симпатичной девушке, с которой он познакомился недавно на выставке. Звали девушку Мариной, они уже дважды встречались, даже ужинали как-то в ресторане «Горка», и Борис Дмитриевич думал о том, что пора ускорить события. Судя по всему, Марина отнесётся к этому благосклонно. «Вот была бы сейчас со мной Марина…» — мечтательно подумал Осокин, и в это время из кустов, в двух метрах от радиатора, выскочил навстречу машине человек. Глухой удар бампера о живое тело раздался раньше, чем нога надавила на тормоз. Осокин почувствовал, что машину заносит на мокром асфальте, и инстинктивно стал отпускать тормоз, чтобы не перевернуться…4
Корнилов принял Леонида Ивановича радушно. Усадил в глубокое мягкое кресло у маленького столика, сам сел в такое же кресло напротив. Вынул из кармана пачку сигарет, зажигалку. Молча подвинул Колокольникову. Когда Леонид Иванович закурил, полковник сказал: — А я вас помню. Когда бы ни приезжал к Грановскому, всегда вы с удочками мне навстречу попадались. Но без рыбы. Не слишком балует Финский залив рыбаков? — Вы в неудачное время приезжали, — смутился Колокольников. — Скоро вот судак пойдёт… — он махнул рукой. — Ну да что я вас отвлекаю! Дело у меня и так какое-то несерьёзное. Может быть, и не по вашей части… — Он внимательно посмотрел в лицо Корнилову, стараясь уловить хоть тень недоверия или снисходительности. Но глаза у полковника были серьёзные и внимательные. Совсем успокоившись, Леонид Иванович подробно и обстоятельно рассказал Корнилову обо всём, что произошло вчера на шоссе. Когда Колокольников закончил рассказывать, Игорь Васильевич встал и, не проронив ни слова, прошёлся по кабинету. Потом подошёл к столу, сказал по селектору: — Варя, соедини меня с Сестрорецким ГАИ. И попроси зайти Бугаева. «Да, мужик серьёзный, — проникаясь доверием к полковнику, подумал Колокольников. — Зря словами не бросается». Он и сам не жаловал болтунов. В присутствии краснобаев всегда сникал и замыкался. От любителей поговорить у него болела голова. В кабинет вошёл темноволосый, смуглый мужчина. Моложавый, подтянутый, даже чуть-чуть франтоватый. — Вызывали, товарищ полковник? — Знакомься, майор. — Корнилов показал на Колокольникова. — Леонид Иванович интересные вещи рассказывает… — Бугаев, — протянул руку майор. В это время в динамике раздался голос секретаря: — Игорь Васильевич, дежурный из Сестрорецкого ГАИ у телефона. — Семён, — кивнул Корнилов на телефонный аппарат. — Переговори. Выясни, что они знают о происшествии на Приморском шоссе. Какие меры предприняты? Бугаев снял трубку, а полковник снова сел в кресло напротив Колокольникова. Сказал: — Не волнуйтесь, Леонид Иванович. Сейчас мы во всём разберёмся. Кстати, не хотите сигару? Кубинские чекисты в гости приезжали, подарили коробку. — Нет. Крепкие они очень, — отказался Колокольников. — А я иногда балуюсь. Колокольников разговаривал с Корниловым, а сам поглядывал на Бугаева, пытался уловить по выражению его лица, что там нарассказывают ему сестрорецкие гаишники. Наконец майор закончил разговор и положил трубку. — Рассказывай, Сеня, — попросил Корнилов. — Чего узнал? Бугаев пожал плечами: — Говорят, что был вызов на происшествие, но пострадавшего и никаких следов наезда не обнаружили… — Больницы обзванивали? — Обзванивали. Даже в Ленинград позвонили. Считают, что ложный вызов. — Да как же ложный вызов! — горячо воскликнул Леонид Иванович. — Что я, разве на сумасшедшего похож?! Всё своими глазами видел! — Не волнуйтесь, — Корнилов дотронулся рукой до ладони Колокольникова. — Всё встанет на свои места. Лучше уточним некоторые детали… Колокольникову показалось, что Бугаев посмотрел на него с недоверием. — Вот вы говорили про чемоданчик, — продолжал Корнилов. — Он тоже пропал? — Всё пропало. Как корова языком слизнула. — Что было в чемоданчике? — Инструменты. — Колокольников сердито покосился на майора, который смотрел скучающими глазами в окно и тихонько барабанил пальцами по облезлой обивке кресла. — Какие-то слесарные инструменты. Наверное, мужик этот был водопроводчик. — Куда же мог идти водопроводчик среди ночи? — спросил Бугаев. — Ты, Семён, подумай, прежде чем вопросы задавать, — строго сказал Корнилов. — А если он работает где-нибудь в санатории, в котельной? Там ведь не как в уголовном розыске, не в девять работу начинают. Майор вдруг улыбнулся, и Колокольников увидел, что улыбка у него добрая, мальчишеская. — В угрозыске, товарищ полковник, работа зато никогда не кончается… — Ладно, — примирительно сказал Корнилов. — Надо поручить местным товарищам проверить всех, кто в посёлке может по роду профессии с инструментами ходить… Бугаев вынул из кармана маленький блокнот, шикарную паркеровскую авторучку и что-то записал, не удержавшись от комментария: — Теперь, Игорь Васильевич, столько халтурщиков развелось… Машины чинят, крыши кроют, ограды на кладбищах делают… — В посёлке люди на виду. Каждый знает о своём соседе всё… Можно выяснить. Кстати, Леонид Иванович, расскажите подробнее, что за инструменты лежали в чемоданчике? — Ну… такие все блестящие. Каждый в своём гнезде… Потом свёрла… Да вот же! — он вдруг вспомнил про сверло, лежащее в кармане, торопливо вытащил, развернул платок. Сверло медленно покатилось по полированной поверхности стола. — Хотел первым делом показать, — виновато улыбнулся Леонид Иванович, — да заговорился. Я его потом нашёл. Увидел, что мужчина там один на обочине шарит… Корнилов осторожно взял сверло и стал внимательно разглядывать его наконечник. Потом показал Бугаеву. По тому, с каким интересом они рассматривали его, Колокольников понял, что находку сделал непростую. — Леонид Иванович, — Корнилов поднялся, — мы сейчас устроим небольшой эксперимент. — Он посмотрел на часы. — У вас ещё найдется минут тридцать? Колокольников кивнул. — Прекрасно. Мы вас потом домой на машине отправим. А сейчас заглянем к нашим криминалистам. Кое-что вам покажем, — он весело посмотрел на Бугаева. В научно-техническом отделе пожилой лысоватый крепыш разложил на большом столе несколько чемоданчиков и самодельных поясов с инструментами. Все чемоданчики были разные — новенький «дипломат», скромные, ничем не примечательные чемоданчики, с которыми ходят в баню, один с чуть закруглёнными углами. Колокольников вспомнил, что до войны у них был такой чемоданчик, который почему-то называли «балеткой». — Раскрой, Николай Михайлович, — сказал Корнилов крепышу. Теперь Леонид Иванович всё понял. Перед ним лежали наборы воровских инструментов — разных размеров, сделанные топорно и мастерски, некоторые так даже похожие на инструменты из зубоврачебного кабинета, тёмные и хромированные, маленькие и громоздкие, они аккуратно покоились в кармашках или специальных пазах. — Ну и ну! — только и покачал головой Колокольников. — Попробуйте отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели, — попросил Игорь Васильевич. — Или, наоборот, отложите то, чего не было в том чемоданчике. — Будет сделано! — весело согласился Колокольников. Он чувствовал, что сейчас это ему удастся. Минуты две он стоял, молча разглядывая все эти пока непонятные ему приспособления. Потом закрыл глаза и даже прикрыл их ладонью. Кто-то, наверное опять Бугаев, нервно барабанил пальцами по столу. Это мешало Леониду Ивановичу, но он напрягся и услышал мерно сеющий по кустам дождь, жёсткий шорох шин удаляющейся машины. Ему показалось, что он даже почувствовал запах мокрой хвои. И на мгновение представил себе валяющийся на асфальте чемодан и ряд неправдоподобно сверкающих в это раннее дождливое утро инструментов. Открыв глаза, он быстро стал вытаскивать из всех чемоданчиков большие и маленькие инструменты, откладывать в сторону. — Товарищи! — обиженно сказал Николай Михайлович. — Мы же потом не разберёмся. — Разберёмся, разберёмся, — успокоил его полковник. Он так и впился в эту растущую горку. Многие инструменты были одинаковые, но Колокольников откладывал и дубликаты. Наконец он остановился. Ещё раз внимательно оглядел внутренности чемоданов. Потом повернулся к Корнилову и, улыбнувшись своей извиняющейся улыбкой, сказал: — Ну вот, Игорь Васильевич… Отобрал что-то похожее. — Очень похожее! — удовлетворённо сказал Корнилов. — Набор для вскрытия сейфов. Ты понял, Бугаев? Ну и Леонид Иванович! Ну и мастер! С ним можно любую кассу брать. Все рассмеялись, и Корнилов дружески обнял Колокольникова за плечи. Они зашли ещё на несколько минут в кабинет к Игорю Васильевичу, оставив Николая Михайловича в одиночестве рассортировывать свой «инструментарий». Поговорили о том, что лето слишком жаркое, в городе не продохнуть, и о том, что от ночных дождиков никакой пользы нет, одна влажность. Леонид Иванович пригласил Корнилова к себе на дачу, порыбачить. — Приглашение принимаю, — сказал полковник. — Места в Зеленогорске красивые. Теперь уж если приеду к Грановскому, вас не миную… А Бугаев, я думаю, зачастит в ваши края. — Конечно, — обрадовался Колокольников. — Порыбачим. Организуем шашлык… — он умолк на полуслове, с запозданием уловив интонацию Корнилова, посмотрел внимательно на него и спросил: — Думаете, это серьёзно? Не просто наезд, как выражается старший лейтенант Орехов? — Серьёзно. Инструменты-то вы опознали. И сверло… Непростое сверло. Такие свёрла на особом учёте. — Он нахмурился и мягко, но решительно сказал: — Большая к вам просьба, Леонид Иванович. Не занимайтесь больше никакими розысками. — Он улыбнулся. — Очень хорошо, что вы нашли это сверло. Но ведь в случае чего ни один суд не примет его, как вещественное доказательство. — Почему же? — удивился Колокольников. — Да потому, что заинтересованная сторона скажет во время судебного процесса: может быть, свидетель и не находил ничего на месте происшествия, а сверло принёс из дома. — Этак всё можно отмести! — сердито проворчал Колокольников. — И никому не верить! — Нужно верить, — Корнилов почувствовал, что разговор на эту тему может приобрести затяжной характер, а ему хотелось поскорее начать действовать. — Нужно верить, — повторил он. — Но от слова, сказанного в суде, зависит судьба человека. И поэтому слово следует подкрепить объективными доказательствами. А Колокольников не торопился уходить. Ему было интересно сидеть в этом просторном кабинете и вести задушевную беседу с опытными сыщиками, которые никак не бравировали своей опытностью, а разговаривали с ним на равных. — Знаете, Игорь Васильевич, в жизни бывают случаи, когда нет никаких других доказательств, кроме честного слова… — Вы меня извините, Леонид Иванович, — прервал Корнилов, — но случай, ради которого пришли вы к нам, требует от нас максимальной оперативности. Сутки уже упущены… Так что извините! — он поднялся из-за стола, протянул Колокольникову руку. — Да, да, конечно, — смутился Леонид Иванович и поспешно вскочил. — Я вас в это дело втравил и сам же отвлекаю разговорами. — Он ответил на дружеское рукопожатие и, виновато улыбаясь, сказал: — Спасибо. Ещё раз извините. — Телефоны наши у вас есть. Если что — сразу звоните, — попросил полковник. — И никаких расследований. Обещаете? — Конечно. — Колокольников пожал руку Бугаеву и направился к дверям. Корнилов отметил, что Колокольников сутулится. И костюм сидит на нём мешковато. — Леонид Иванович, — сказал он ему вдогонку, — как что-нибудь прояснится, я вам позвоню. А сейчас садитесь в приёмной и подробно опишите всё, что видели. И все приметы человека, шарившего вечером на месте происшествия. Колокольников обернулся и согласно кивнул. Как только за ним закрылась дверь, Корнилов сел в кресло перед маленьким столиком и сказал задумчиво: — Дело, Семён, непростое. Бугаев улыбнулся: — Я, Игорь Васильевич, ещё с университета помню ваши слова: «Простых дел в уголовном розыске, товарищи студенты, не бывает». — Помнишь? — хмуро сощурился Корнилов. — Неужто? Это когда я у вас практику вёл? — Так точно. И ещё помню: «В уголовном розыске не только голова, но и ноги должны работать». — Помнить-то помнишь, да что-то на практике плохо мои советы применяешь, — полковник усмехнулся и оборвал воспоминания: — В этой истории достоверно известно, что третьего августа, около четырёх часов утра, на пятьдесят пятом километре неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего. — Получившего неизвестно какие повреждения, — сказал Бугаев. — Правильно. Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что нам ещё известно? — На месте происшествия пропали удочки и вёсла Колокольникова. Бугаев любил такие быстрые и острые беседы у полковника, беседы, которые велись перед тем как составить план розыскных мероприятий, помогали чётче представить положение дела, взвесить всё «про» и «контра» и не упустить ни одной мелочи. — Вот эти удочки… — поморщился Корнилов. — И вёсла, — добавил майор. — Стал бы виновник катастрофы совать их к себе в машину? — Вот именно, — согласился Корнилов. — Когда происходит такое несчастье — сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, — даже закоренелый подлец может растеряться. Допустим, водитель возвращается и берёт пострадавшего в машину. Зачем? Один — чтобы доставить в больницу, другой — чтобы скрыть преступление. Но с ходу сообразить, что надо забрать ещё и вёсла с удочками?.. — Но ведь логика в рассуждениях этого инженера есть, — сказал Бугаев так, словно не он ещё десять минут назад скептически качал головой, когда Колокольников высказывал свои предположения. — Трудно нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста. — А может быть, никакого автомобилиста и не было? Бугаев удивлённо уставился на полковника. — Я хочу сказать, что не было наезда, — спокойно продолжал Корнилов. — Этого человека, — взломщик он или нет, мы пока точно не знаем, — кто-то подстерёг на шоссе и избил… Или даже ранил… — А «Жигули», которые видел Колокольников? — Проезжала машина, водитель заметил лежащего человека, затормозил, хотел помочь, но потом испугался и уехал. — Прихватив удочки и вёсла? — Дались тебе эти удочки! — сердито бросил Корнилов. — Если хочешь знать, эти удочки могли прихватить случайные прохожие. Какие-нибудь рыболовы вроде Колокольникова. То, что их пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ещё ничего не доказывает. — Я и хочу сказать, что в этом деле пока ничто ничего не доказывает. — Кроме того, что мёртвый человек на дороге всё-таки лежал! — сказал Корнилов. — Допустим, что он взломщик… Бугаев согласно кивнул. — Мог его сбить случайный проезжий? — полковник нарисовал на листке бумаги квадратик и написал: «Случайный проезжий». — Не исключено, — сказал Семён. — Но могли и свои. Повздорили из-за чего-то… — Перед тем как идти на дело? В такие моменты счёты не сводят, — возразил Корнилов, но всё-таки нарисовал ещё один квадратик и написал: «Свои». — Случайный проезжий, Семен, самая перспективная версия. Но вот тут-то начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать. А потом испугался и вернулся. Погрузил тело в машину и увёз в неизвестном направлении. Бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро… Это одно направление. Второе — сбил и не возвращался. А у погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, и в это время подошли дружки… — И унесли на кладбище? — усмехнулся майор. — Похоронить? Если это дружки, которых мы имеем в виду, то похороны не в их традициях. Чемодан бы забрали, а погибшего бросили. — А может быть, они подумали, что он ещё жив? И в больнице проболтается? — возразил Игорь Васильевич. — Он мог быть жив и в самом деле, Колокольников не врач… Корнилов вздохнул: — Ты прав, что сомневаешься. Но давай посомневаемся и в другую сторону, — он усмехнулся, покачал головой. — Наверное, нельзя сомневаться в разные стороны, а? Бугаев промолчал. — Так вот — дружки посчитали, что он жив. Раз! Он был слишком заметной фигурой. Для нас. И они испугались: найдут труп, приедет милиция, то да сё. Выяснение личности. Вдруг поинтересуются пальчиками. А пальчики о многом расскажут. Им же хотелось, чтобы всё тихо-спокойно. Два! — Интересно, товарищ полковник, — с наигранной меланхолией сказал Бугаев и даже вздохнул. — Чего интересно? — Дело вообще интересное. Чисто теоретически. Наверное, может в «Следственную практику» попасть. Только на нас уже столько висит! Грубо, зримо, как говорится. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет. Корнилов нахмурился. — Я, товарищ полковник, чувствую, что вы это дело мне хотите поручить, и ничего против не имею. Но ведь происшествие автодорожное — пускай им и занимаются те, кому положено. А у меня, — загнул один палец Бугаев, — ограбление в Стрельне… — Не трудись, — остановил его Корнилов. — Сейчас ты загнёшь все пальцы. После того как Колокольников разобрался в инструментах, я считаю, что он дал объективную картину. Значит, погибший… — Или пострадавший, — вставил Бугаев. — Или пострадавший, — согласился полковник, — это не меняет дела — опытный взломщик. Не новичок. Ты сам знаешь — такие наборы теперь редкость. А значит, готовилось преступление. — Увидев, что Бугаев хочет возразить, Корнилов остановил его. — Всё, Семён, прения сторон закончены. Делом заниматься надо. На сегодня задача такая — поиски «Жигулей» белого цвета, проезжавших около половины четвёртого через Зеленогорск по Приморскому шоссе. Этим займётся Белянчиков. Ты предупреди все сберкассы и предприятия Сестрорецкого и Ждановского районов, чтобы были более внимательны. Улучшили охрану. И главное — запроси данные, кто из известных «медвежатников» вышел в последнее время из заключения. Кто может, предположительно, быть сейчас в городе. Бугаев ушёл. Полковник достал из сейфа папку с ежедневными сводками происшествий. Внимательно перечитал их за весь последний месяц. Никаких ограблений или попыток ограбить кассы предприятий или сберегательные кассы в сводках не значилось. Он отложил папку. Недовольно подумал о разговоре с Бугаевым. «Не слишком ли я миндальничаю с сотрудниками? Все со мной спорят, доказывают свои точки зрения». Полковник был человеком мнительным, знал это хорошо, но ничего поделать с собой не мог. И вдруг ему пришли на память слова, прочитанные недавно в одной из книг — он только никак не мог вспомнить в какой, — «мы заслуживаем уважения лишь постольку, поскольку умеем ценить других».5
Бугаеву хотелось представить, как шёл погибший из посёлка к шоссе в четыре часа утра. Он позвонил в Зеленогорск участковому инспектору и попросил, чтобы тот его встретил на пятьдесят пятом километре. — В четыре утра? — переспросил инспектор. — Голос у него был мягкий, молодой. — Я не ошибся? — Нет, не ошибся! — не желая вдаваться в подробности, коротко ответил Бугаев. …Семён попросил шофёра высадить его на пятьдесят четвёртом километре, а сам пошёл не спеша на встречу с инспектором пешком. За редкими соснами виднелся залив. Тихий, словно придавленный густым слоем тумана, висевшего в метре над зеркальной поверхностью. Лишь изредка доносился свист крыльев и тяжёлый всплеск — утки уже вылетели на кормёжку. Ни одна машина не проехала по шоссе, ни один человек не встретился на пути. Инспектора Бугаев заметил издалека. В стороне залива, среди дюн, на толстом бревне, наверное выброшенном морем, сидел человек и смотрел на залив. «Не иначе как он, — решил Семен. — Кто ещё по доброй воле будет рассиживаться здесь в такую рань?» Майор пересёк шоссе, перепрыгнул неглубокую, заросшую густой травой канаву и пошёл по вязкому, сыпучему песку. Песок чуть скрипел под ботинками, и сидевший на бревне обернулся. Увидев Бугаева, он встал и двинулся навстречу. Так и сошлись они среди песчаных дюн, оставив за собой прямые стежки осыпающихся следов. — Товарищ майор? — спросил инспектор и, не дожидаясь ответа, протянул руку. Бугаев пожал её и кивнул. — Он самый. Бугаев Семён Иванович. — Лейтенант Аникин, — представился инспектор. — Павел Сергеевич. — Заливом любуетесь? — Да, товарищ майор, — вздохнув, ответил инспектор. — Я им всегда любуюсь. В любую погоду, — и тут же добавил, пряча улыбку: — В свободное от службы время. Инспектор понравился Семёну. Был он молод, высок, держался очень естественно, без суеты. — Тут у вас где-то есть тропинка с пятьдесят пятого километра в посёлок? — сказал майор. — Знаете её? — Знаю, — кивнул инспектор. — Я по ней и пришёл. Вы, наверное, в связи с этим случаем? С заявлением Колокольникова? — Слышали об этом? — Да. Замначальника просил меня навести справки о Леониде Ивановиче. — Он поднял руку, приглашая Бугаева пойти. — Тут рядом. Видите просвет в кустах? — Вижу. Ну, и что вы о нём узнали? — Бугаев пропустил вперёд Аникина, сам тронулся за ним, ступая след в след. — Приличный мужик. Интеллигентный. Инженер. Рыбак заядлый. — Последнее вы к достоинствам или к недостаткам относите? — усмехнулся майор. — К достоинствам. Когда-то сильно пил. Даже лечился от запоя. — А теперь и в рот не берёт? Аникин обернулся и весело посмотрел на Бугаева. — Берёт. И это, товарищ майор, я тоже к достоинствам отношу. Боюсь тех, кто слишком крепко завязывает — срываются легко. — Правильно! — поддержал его Семён. — Я тоже так считаю. — Этот Аникин был ему симпатичен. На шоссе инспектор показал место, где, по словам Колокольникова, он нашёл сбитого автомобилем мужчину. — Ничего удивительного, — сказал Аникин. — Тропинка, видите, прямо на шоссе выскакивает. Да ещё поворот. Хоть и не крутой, а видимость хуже. Особенно если человек спешил… — В это время кто же по лесу сломя голову бегает? — засомневался Бугаев. Инспектор пожал плечами. — Ну, что ж, двинулись, — предложил Бугаев и первым сошёл с обочины на тропинку. Тропинка была узкая, но хорошо утоптанная. Корни от сосен перекрестили её вдоль и поперёк. Бугаев несколько раз споткнулся и вспомнил, как в детстве ездил по таким тряским тропинкам на велосипеде. Только сейчас он услышал с шоссе шум первой машины. Это был даже не шум, а какое-то жужжание. Так может жужжать только машина ранним утром или ночью на пустой дороге. «Почему, интересно? — подумал майор, но как следует объяснить этого не мог. — Днём машины шумят приглушённо, не так резко». — Откуда по этой тропинке мужик мог идти? — спросил Семен. — Скорее всего, из посёлка. — Участковый инспектор вдруг нагнулся и сорвал в траве небольшой подберёзовик на длинной тонкой ножке. — Я все эти тропинки хорошо знаю. Со станции сюда незачем идти, есть дорога покороче. Этот мужик не местный, или дачу тут снимал, или в гостях у кого-то был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами сложнее. — А что же, дачники не прописываются на лето? — поинтересовался Бугаев. — Порядок ведь есть. Аникин вздохнул. — Если дачниками заниматься, то ни на какое другое дело меня не хватит. Они вышли на небольшую поляну, где стояло несколько засыпных финских домиков. Участковый показал на небольшой, выкрашенный красивой тёмно-вишнёвой краской домик. — Колокольников здесь дачу снимает. У старухи одной. — Начальник мой считает, что вёсла и удочки Колокольникова просто кто-то украл, — сказал Бугаев, рассматривая домик. Среди молодых берёз домик выглядел симпатично. — И что с происшествием на шоссе это не связано. Вы бы, лейтенант, проверили такой вариант. Поинтересовались бы в посёлке, мальчишек порасспрашивали. Они всё знают. — Хорошо, товарищ майор, — кивнул Аникин. — А с проверкой гостей и дачников дело сложное. Есть у нас подозрение, что те, у кого этот мужчина гостевал, могут и не признаться. Если только хорошо знали его. — Вот как? — удивился участковый. — У вас есть данные о нём? — Не данные, — поморщился Бугаев, — а пока только подозрения. Похоже, что в своём чемоданчике носил он набор воровских инструментов. А честный человек в четыре утра с таким багажом по лесу разгуливать не станет. Но проверять всё равно надо. Дружинников привлечь придётся. — Значит, искать надо дом, из которого ранним утром ушёл мужчина средних лет с маленьким чемоданчиком? — спросил Аникин. — Про чемоданчик упоминать не надо. Если повезёт и выясним про мужчину, с чемоданчиком разберёмся. Метров через сто они вышли на асфальтированную дорогу. Начался сам посёлок, но осталось ощущение, что всё ещё идёшь по лесу — дома стояли хоть и плотно друг к другу, но все в осадку, среди сосен и густых зарослей сирени. Незаметно было ещё признаков жизни, только где-то в глубине посёлка не переставая горланил хрипатый петух. — Я думаю, что сначала надо проверить тех, кому уже приходилось иметь с законом дело, — сказал Бугаев, с удовольствием разглядывая аккуратные, один к одному, домики. Здесь они были уже не такие хлипкие, как тот, где обитал Колокольников. — Есть у вас такие? — Хватает, — махнул рукой участковый инспектор. — Только за последний месяц двое из заключения вернулись. — Что за люди? — Один — торговый работник… Вот, кстати, слева видите домик? Бугаев посмотрел туда, куда показал Аникин, и присвистнул. За невысоким палисадником красовался двухэтажный, с огромными окнами дом из тёмного обливного кирпича. Четырёхскатная крыша была покрашена тёмно-зелёной краской. «Как памятник архитектуры», — подумал майор и сказал: — А кирпич-то дефицитный, частнику такой не продают. — А что директору мебельного магазина дефицит?! Что ему фондовые материалы?! Знаете, Семён Иванович, — вдруг с горечью сказал Аникин. — У нас в доме газ проводили, кусок оцинкованного железа потребовался для вентиляционной трубы. Я все магазины строительных материалов объездил — нигде нет. «И не ищите, — продавцы говорят, — фондовый материал». А этот голубчик себе всю крышу оцинкованной жестью покрыл. — Так ведь и посадили, — усмехнулся Бугаев. — Посадили, да только за другие делишки. И даже дом не смогли конфисковать. Он его на деда записал. — С этим всё ясно. Он хоть и в тюрьме посидел, а воров, наверное, пуще честного человека боится. А ещё кто из заключения вышел? — Молодой парень. Герман Алексеев. За драку сидел. Полтора года. — С ножичком? — Так точно. — Этого надо проверить. Молодёжь в колонии такого поднабраться может… — Да. Вот меня и мучает вопрос — что хуже: посадить парня за драку, за хулиганство и через год-полтора получить вполне оформившегося бандита или простить на первый раз. «А он философ, этот участковый, — с некоторым разочарованием подумал Бугаев. — Интересно, как он в работе? Дело делает или только философствует?» И спросил с ехидцей: — А вы, лейтенант, как же с оцинкованным железом вопрос решили? Аникин понял и рассмеялся. — Товарищи выручили. Шепнули, где дом на слом идёт, так я оттуда старую водосточную трубу привёз. Они вышли на небольшую площадь. Среди цветника стоял бюст Ленина. Пожилая женщина выкладывала из цветов дату: «Пятое августа 1982 года». — Первый живой человек, — сказал Бугаев и посмотрел на часы. — От центра посёлка до шоссе — двадцать одна минута, а где ваша контора? Посидим, картину битвы нарисуем. А там, может, ты и кофейком меня угостишь? — Могу и кофейком, — улыбнулся участковый. — Озябли, наверное? — Да нет, не замерз. Я вот шёл и думал — какое хорошее время — раннее утро. Воздух какой! Отравить ещё не успели. Лейтенант промолчал. Только подумал: «Вам бы, товарищ майор, каждое утро в пять или шесть вставать да в город на работу ездить, как многие поселковые…»…В маленьком кабинетике участкового было тепло и уютно. Чистый, до блеска натёртый пол, новые стулья, идеальный порядок на крошечном письменном столе, на стене — цветная фотография в рамке: поле спелой пшеницы, а за полем — маленькая деревушка в полукружии радуги. Даже сейф в этом кабинете не выглядел как символ бюрократической власти. Он был покрашен светло-серой краской, а на нём стоял в красивой вазочке букет засушенного спелого овса. «В этом кабинете, наверное, и люди чувствуют себя спокойнее. И держатся откровеннее», — думал Бугаев, глядя, как лейтенант заваривает кофе в кофеварке. Когда Аникин поставил чашки с кофе на журнальный столик, Семен спросил: — Это вы сами всё так разделали? — С помощью дружинников. — Нет, дружище, здесь не дружинники, здесь наверняка дружинницы постарались. — И дружинницы тоже, — подтвердил участковый. — В нашем посёлке парней-то неоткуда взять. Знаете, Семён Иванович, — неожиданно перевёл он разговор, — что меня сейчас больше всего волнует? Двойная мораль. «Сюда бы моего шефа, — подумал Бугаев и улыбнулся, — они бы на эту тему поговорили». Корнилов не раз затрагивал этот вопрос на совещаниях. — Вы не смейтесь, Семен Иванович, — сказал Аникин. — Возьмите тех же Казаковых. Из кирпичного дома. Я вам показывал. Бугаев кивнул, отхлебнув кофе. — У них трое детей. Представьте, кем они вырастут?! В школе им говорят о честности и порядочности, о наших прекрасных законах, дома ведь их тоже, наверное, воровать не учат. Не убий, не укради, говорят. Но дети-то видят, что отец ворует, покупателей грабит. А есть ещё одно семейство, Рюхиных. Мать на мясокомбинате работает. Каждый день колбасу таскает. А дети смотрят. Любит она своих детей? Любит. Ещё как! Я с ней не раз беседовал. А кем они вырастут? Во что верить будут? Бугаев молчал. — Молчите, товарищ майор? Считаете, что я утопист? «Я бы тебе кое-что похлеще мог про двойную мораль рассказать», — подумал Бугаев, начиная потихоньку раздражаться от философских пассажей инспектора. Он был по натуре человек деятельный, горячий. В тех случаях, когда знал, что его вмешательство, его энергия помогут делу, бросался очертя голову и работал самозабвенно. Но жизнь научила его не ставить перед собой неразрешимые задачи. И не тратить слов там, где он не мог помочь делом сам и не мог убедить сделать это дело других. И сейчас он не нашёл, что ответить участковому. Только пошутил мрачно: — Утопист от слова «утопиться». Они молча допили кофе, и Семен сказал: — Давайте, «утопист», займёмся делом. Для начала составим список людей, с кем надо побеседовать в первую очередь. В том числе выберите тех, кто занимается слесарными работами. Может быть, есть и такие, кто ремонтирует автомобили. Лейтенант открыл свой шикарный сейф и достал две толстые большие тетрадки в чёрных коленкоровых обложках… Через час они составили три списка — в одном, самом коротком, было семнадцать фамилий людей, которых следовало проверить в первую очередь. Это были вернувшиеся из заключения, спившиеся тунеядцы, люди, имевшие приводы в милицию. Во втором — те, о ком были сведения, что они пускают жильцов, и в третьем — те, кто имел дело с обработкой металлов: слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Их Бугаев насчитал больше пятидесяти. — Привлекай, Павел Сергеевич, дружинников, — сказал он участковому. — Я попрошу в райотделе парочку оперативников. — А сроки? — Чего я тебе про сроки буду говорить? Чем скорее, тем лучше. Только по совести. Аникин кивнул. — Вы тоже пойдёте? — А куда ж я денусь? Пойду. Давай мне пяток адресов из первого списка. Пока участковый писал, Бугаев вдруг вспомнил женщину, выкладывающую из цветов сегодняшнюю дату. «Вот кого надо спросить в первую очередь, — подумал он. — И прикинуть, кто ещё так рано встаёт». — Павел Сергеевич, — остановил он Аникина, — подожди писать. Есть одно соображение… Участковый поднял голову от бумаги. — Знаешь пословицу — кто рано встаёт, тому бог подает? — спросил Семен. — Нет, — мотнул головой лейтенант и улыбнулся: — Это вы про нас? — И про нас тоже. Но сначала про них, — Бугаев показал на списки. — Надо прежде всего спросить тех, кто встаёт в посёлке раньше всех. — В четыре вряд ли кто встаёт… — Вряд ли, вряд ли! А тётку ты видел, что с цветами занималась? — Видел. Она, наверное, случайно так рано поднялась. Может, какие-то дела заставили. — Ладно, гадать не будем, — строго сказал Бугаев. — На станции билеты когда начинают продавать? Когда у кассиров смена? Шофёры и кондукторы автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают. — Да откуда у нас поливалки… — начал было Аникин, но осёкся. — Нет, и правда, одна поливалка у нас есть. — То-то же. Если поднапрячься, ещё кого-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят! — И, заметив, как Аникинсвёл в гармошку лоб, весело сказал: — Да не морщи ты лобик! А то состаришься рано.
Ещё через три часа пожилой неразговорчивый кочегар Устинов из санатория «Приморье» рассказал Бугаеву, что видел позавчера рано утром средних лет мужчину с маленьким чемоданчиком. Приметы этого мужчины сходились с теми, что сообщил Колокольников. Каждое слово из кочегара приходилось вытягивать клещами. Сказав, что столкнулся с мужиком почти нос к носу, Иван Андреевич только пожал плечами на вопрос Бугаева, в каком месте это произошло. — Да в посёлке ж. Иду — и он шагает. А где?.. — он хмурился, напрягая память. — Нет, не помню. Вроде бы закурил я тогда. Затянулся, гляжу, мужик навстречу идёт. И тоже курит. Пришлось Бугаеву объясняться с ним, как с маленьким. — Иван Андреевич, — вкрадчиво говорил Семен, — вот вышли вы из калитки… — Нету у нас калитки. — Ну, ладно. Калитки нет. Но из дома-то вы вышли? На улицу. Вы ведь на Железнодорожной живёте? — На Железнодорожной, — меланхолично кивал Устинов. — Вышли вы на Железнодорожную улицу… — Нет, на Морскую вышел. Мне по Морской ближе. По тропке через сад. — Прекрасно. На Морскую, — радовался Бугаев и рисовал на листочке прямые линии. — Вот так они проходят, Морская и Железнодорожная? Правда? — Правда, — соглашался кочегар. — Здесь наш дом, — ткнул он пальцем в план. От пальца кочегара на бумаге осталось чёрное пятно. «Очень даже наглядно», — подумал Бугаев и продолжал шаг за шагом двигаться вместе с Иваном Андреевичем по Морской улице на встречу с неизвестным мужиком. Оказалось, что встретились они на пересечении Морской и Песочной. Неизвестный с чемоданчиком шёл по Песочной в сторону Приморского шоссе. Это уже было кое-что. Хоть и с большим трудом, но майору удалось выудить из Устинова ещё некоторые подробности. Мужчина шёл быстро и, как показалось кочегару, слегка прихрамывая. Лицо загорелое, «сурового вида», как выразился Иван Андреевич. Одет он был в тёмный костюм и кеды. Кроме «сурового вида», других примет кочегар не вспомнил. Когда Бугаев с Аникиным вернулись в комнату участкового и прикинули по плану посёлка, то выходило, что неизвестный мог идти только от одного из девяти домов, расположенных на дальнем от центра отрезке Песочной улицы. Сектор поисков значительно сузился.
6
Из девяти подлежавших проверке домов на Песочной улице два уже значились в составленных Бугаевым и Аникиным списках. Один принадлежал пенсионерке Зинаиде Васильевне Блошкиной, сдававшей несколько комнат жильцам, другой — слесарю-водопроводчику Тагиеву. Аникин торопливо переписал на маленькую бумажку адреса, покачал головой и улыбнулся. — Чего веселишься? — заинтересованно спросил Семен. — Знакомая бабуля, Блошкина. Две недели назад заходил к ней, обещал штрафануть за то, что жильцы без прописки живут. Так ведь такая притвора! И сердце у неё колет, и печенка ноет. Раз пять капли принимала, пока со мной разговаривала. Клялась и божилась, что ни одного человека без прописки не пустит. — А ты спросил, кто живёт? — поинтересовался Бугаев. — Спросил. — Аникин безнадежно махнул рукой. — У неё разве добьёшься толкового ответа? — Он встал, спрятал бумажку с адресами в карман. — Пошли, товарищ майор? Бугаев, сидя в кресле, потянулся и почувствовал, что хочет спать. Лейтенант заметил и сказал: — Может, я один схожу? А вы часок вздремнёте? — Издеваешься, что ли? — Семён с трудом сдержал зевок и тряхнул головой. — Это всё ваш воздух. Слишком озонистый. Мне бы сейчас у выхлопной трубы подышать. Они вышли на улицу. Машина, на которой Бугаев приехал, стояла теперь рядом с домом. Шофёр спал, надвинув лохматую серую кепку на глаза. — Пешком пойдём? — спросил майор у Аникина. — Как скажете. Тут недалеко. — Тогда пешком. Незачем нам внимание привлекать. Бугаев подошёл к машине, открыл дверцу. Шофёр вздрогнул и проснулся. Щегольская кепка съехала на затылок. — Кемаришь, Саша? — усмехнулся Семен. — Наше дело такое, — сказал шофёр, поправляя кепку. — Начальство на связь выходило? — Нет, — шофёр посмотрел на радиотелефон. — Молчит. Что, Семён Иванович, едем? — Нет. Мы с участковым ещё прогуляемся по посёлку. Сейчас на Песочную улицу пойдём. Если что срочное — там разыщешь. — Он обернулся к лейтенанту. — Какие дома? — Сорок первый и сорок третий. — Соседи?! — удивился Бугаев. И сказал шофёру: — Подъедешь, гудни. Шофёр кивнул. Они пошли по пешеходной асфальтовой дорожке, проложенной через сосновую рощу. Деревья росли здесь густо, тянулась к свету молодая поросль, и домов почти не было видно. Только слышались крики и весёлый гомон детей, звуки музыки. Ветерок наносил горьковатый запах чуть подгорелой каши. — Пионерский лагерь? — спросил Бугаев, прислушиваясь к напоминавшим детство звукам. — Детский сад. У нас каждое лето не посёлок, а республика ШКИД. И детсады и лагеря. — В голосе Аникина слышались недовольные нотки. — Работёнки подваливает — один сбежал, другой заблудился. Да родители ещё… — А что родители? — Ну как что?! Приедет в воскресенье папаня дитё проведать, встретит другого папаню… А третьего найти — пара пустых. — Вот ты про что! Пьют, значит? Лейтенант пожал плечами и вдруг сказал со злостью: — Я бы этих пьяниц! — И показал крепко сжатый кулак. — Здоровенный у тебя кулак, — подмигнул Бугаев лейтенанту. — Да нет, я серьёзно… Побывал недавно в одном интернате. Для дебильных детей. Там такого шума не услышишь. — Аникин кивнул в ту сторону, где за соснами гомонил детский сад. — Забор двухметровый. А дети! И дебилы, и уроды. Как в кошмарном сне. Главврач мне рассказывал — большинство в пьяном грехе зачаты. Два парня… — Хватит тебе, Павел Сергеевич, душу травить. Лейтенант обиженно замолчал. Бугаеву стало неловко за свою резкость, и он сказал: — Потом мне как-нибудь доскажешь. А сейчас забивать себе голову уродами не время. У нас свои уроды. Почище этих, — и добавил уже совсем примирительно: — Я, знаешь, не могу отвлекаться. Как что-то в голову засядет — я, как паровоз… Некоторое время они шли молча. Потом Бугаев сказал: — А зря ты, Павел Сергеевич, у этой Мышкиной жильцов не проверил прошлый раз. — У Блошкиной, — поправил Аникин. — Ну, у Блошкиной. Какая разница? Аникин засмеялся. — Блошкина — это феномен! — Ты чего заливаешься? — Сами увидите! Извините, товарищ майор. А ну её, эту Блошкину. С ней греха не оберёшься. Остальную дорогу они опять молчали. И только перед большим двухэтажным домом Аникин остановился и сказал тихо: — Её дом, Блошкиной, — и кивнул на густые заросли сирени в отдалении. — А там домик Тагиева. — Пойдём в этот, — хмуро сказал Бугаев, разглядывая сильно обветшавший дом Блошкиной. Похоже, что строили его ещё до революции. Весь он был вычурный, с балкончиками, с двумя башенками, с остатками ажурных деревянных кружев под крышей. Но старые брёвна кое-где подгнили и были залатаны кусками фанеры, полосками жести. — Ничего себе домина, — проворчал Бугаев под нос, поднимаясь вслед за участковым на зыбкое деревянное крылечко. — Он что же, весь твоей Блошкиной принадлежит? — Весь, Семён Иванович, — Аникин постучал в дверь и, обернувшись к майору, хотел ещё что-то добавить, но дверь тут же раскрылась, и выглянула невысокая круглолицая старуха. — Здравствуйте, гражданка Блошкина, — поздоровался Аникин. Старуха прищурилась подслеповато, но Бугаеву показалось, что она и так всё хорошо видит. Глаза у неё были с хитринкой. — Милиционер, никак? — Участковый инспектор Аникин. — Слышу слышу, Аникин. Меня, кроме вас, никто гражданкой не называет. — Она прищурилась теперь на Бугаева: — А этот чернявый с вами, не врач? — Старший инспектор Бугаев, — молодцевато, с некоторым даже наигрышем представился Семён, пропустив мимо ушей слишком уж фамильярный эпитет. — Проходите, милые, проходите, — пригласила Блошкина, распахивая дверь. — На веранду проходите. Да поосторожней ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой. Как и я, старая, рушится… Аникин, видать, уже бывал на этой веранде, потому что пошёл уверенно по темному коридору. Старуха шла следом и сетовала сокрушенно: — Ай-яй-яй. Не врач, значит! А я-то решила — врач. — Да зачем вам врач, Зинаида Васильевна? — спросил Бугаев. — Ух ты! И по имени-отчеству знаешь? — удивилась Блошкина. — Серьёзный человек. На огромной веранде стоял старинный, красного дерева овальный стол и четыре стула. Стулья тоже были очень приличные, но все совершенно разные. — Садитесь, милые, садитесь, — ласково пригласила старуха. — Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмёт и жмёт. — Она раскрыла маленький дубовый шкафчик, висевший на стене, и Бугаев увидел великое множество пузырьков, баночек и пакетиков с лекарствами. — А ты, миленький, спрашиваешь, зачем мне врач? — Блошкина ловко накапала в красивую, с сиреневыми лилиями рюмочку капель, плеснула туда воды из графина и выпила. Потом села и, уже не щурясь, посмотрела внимательно сначала на Бугаева, потом на Аникина. — Болею я, молодые люди, болею. Недолго мне осталось. А вы с чем пришли? По моему заявлению? — Нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах, — сказал Аникин, но старуха словно и не слышала его вопроса. — Я уж месяц как заявление написала. Про автобус. До остановки-то мне, старухе, два километра идти… — Зинаида Васильевна, — мягко сказал Бугаев, — автобус — это не по нашей части. Скажите, кто у вас снимает сейчас комнаты? — Как это не по вашей части? — удивилась Блошкина. — Аникин-то мне в прошлый раз говорил — «милиции, ей до всего дело есть. Милиция, она с любым беспорядком борется», а если до автобуса два километра идти, какой же это порядок? — Ну хорошо, хорошо, — согласился Бугаев. — Аникин разберётся с автобусом. Завтра разберётся. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно. — Важно? Ох! — она схватилась за сердце. — Такая я трусиха. Сердце прямо падает. Может, врача бы вызвать? — Она с испугом посмотрела на лейтенанта. — Аникин, вы знаете, где тут телефон? Прошлый раз вызывали… — Она шагнула к Бугаеву и, неожиданно качнувшись, стала оседать. Семён едва успел её подхватить. — Аникин, что это она? — испуганно прошептал майор. — Сердце, может, захолонуло, — с бабкиной интонацией, задумчиво, но почему-то очень спокойно сказал Аникин. — Да ты чего не шевелишься? — возмутился Семён. — Я так и буду её держать? — он словно бы со стороны вдруг увидел себя держащим в руках пухлую старушку, от которой пахло сердечными каплями, луком, чем-то жареным — не то котлетами, не то картошкой. — Может, на диванчик её положить? — предложил Аникин. — Клади куда хочешь, — прошипел Бугаев, — только забери её у меня. Ну?! — он слегка качнул старушку к участковому. — Да поскорей же! Может, инфаркт? — Мы её сейчас в больницу отправим. В Ленинград, — спокойно сказал Аникин. — На вашей машине… Бугаев почувствовал, как напряглось вдруг тело Блошкиной, и наконец понял — ничего страшного с ней не случилось и что участковый ведёт со старухой одним им понятный поединок. — Но ты пока хоть возьми бабусю. А я шофёра позову… — Не надо, — подала голос Блошкина и, приоткрыв один глаз, посмотрела на Аникина. — Мне уж получше. Посади, посади в кресло-то, — тут же повысила она голос, обратясь к Бугаеву. — Что я тебе, куль с овсом? Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть. Семён чуть не выругался вслух. Участковый придвинул самый красивый стул, и Бугаев опустил на него Блошкину. — Ох, милые! — Старушка вздохнула и перекрестилась. — Никак, дых появился. Ну, думала, совсем конец старухе. — Голос у неё стал сладенький, елейный. — Может, всё-таки в город, в хорошую больницу отправить? — сдерживая улыбку, спросил участковый. — В город, в город… — проворчала Блошкина. — За домом кто смотреть будет? Ты, что ли? Всё растащут, разнесут… И варенье ещё не сварено. Надо было нашего доктора вызвать, Глобуса. — Не знаю я никакого Глобуса! — покачал головой Аникин. — Знаешь! Толстый такой. В кабину «скорой» не умещается. — Ну, хватит! — негромко, но строго сказал Бугаев, досадуя на то, что оказался втянутым в этот спектакль с болезнью. — У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Про вашего Глобуса потом с участковым инспектором поговорите. Ему это, наверное, интересно. Аникин покраснел. — А сейчас скажите, кто снимает у вас комнаты? Наверное, Блошкина поняла, что с этим чернявым, как она окрестила Бугаева, шутки плохи. — Сейчас тетрадку свою принесу. — И вышла с веранды, пробубнив себе под нос: «Ишь, распоряжается. Тоже мне командир». — Да, бабуся… — с ехидцей сказал Бугаев. Аникин промолчал. — Откуда у неё дом такой большой? — Профессорская вдова. Физик, что ли, муж у неё был, — вяло отозвался Аникин. — Лет пятнадцать как умер. Заслуженный человек, а бабка на жильцах зарабатывает. Добро бы нуждалась, так ведь за мужа пенсию большую получает… — Артистка, — осуждающе сказал Семён. Прошло пять минут, десять. Блошкина всё не возвращалась. Аникин сказал с беспокойством: — Что она там, уснула? Или теперь по-настоящему сердце схватило? Ведь бабке сто лет в обед. — Взгляни. Аникин пошёл с веранды в дом. Было слышно, как он кричал в коридоре: «Зинаида Васильевна! Где вы?» Хлопнула одна дверь, вторая. И через минуту Бугаев услышал торопливые шаги по зыбким половицам. «Что-то случилось», — подумал он и вскочил со стула. Аникин раскрыл дверь и сказал с порога: — Товарищ майор, украли у неё тетрадку. С регистрацией. — Врёт небось, — Бугаев никак не мог простить Блошкиной её фокуса с обмороком. — Точно украли. Сейчас она правду говорит. — Что хоть за тетрадка-то? — поинтересовался Бугаев. — Домовая книга. По всей форме. Блошкина вести-то вела её, только в милицию на прописку не носила. Старуха, растерянная, даже напуганная, сидела в маленькой кухне. На столе перед ней лежал целый ворох старых бумаг — жировок, чеков, описаний и технических паспортов купленных лет тридцать назад телевизоров и велосипедов. И прочего, давно, наверное, пришедшего в негодность и выброшенного инвентаря. Увидев Бугаева, она сказала, разводя веснушчатыми руками: — Кому моя тетрадка понадобилась? — Может быть, в другое место засунули? — спросил Аникин. — Здесь она у меня, голубушка, лежала. С кухни никогда её и не выносила. — Ладно, не в книге дело, — сказал Бугаев, — вы ведь и без книги своих жильцов, наверное, помните? — Помню, — кивнула Блошкина. — Чего мне их не запомнить. — Назовите, — попросил Бугаев и подумал с досадой: «Всего-то и дел — на одну минуту, а завязли на целый час!» — Валя Терехова на втором этаже в кабинете живёт. Продавщица наша, из гастронома. Аникин утвердительно кивнул: — Знаем такую. — Тоська… — Блошкина сморщилась, напрягая память, и повторила: — Тоська, забыла фамилию… Ездит из города. В мансарде живёт. И Дмитрий Николаевич, пенсионер. Дачник. Живёт только летом. — Сколько ему лет? — спросил Бугаев. — Вроде меня, сморчок. — Блошкина кивнула на окно. Бугаев и Аникин увидели в саду благообразного старика с белой головой, сидевшего на скамеечке с книгой в руках. — А может быть, кто-то в последние дни к вам в гости приезжал? Или к вашим жильцам? — поинтересовался Аникин. — Мужчина какой-нибудь? — Нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську её ухажёр тоже позабыл. Две недели как нету. — Понятно, — сказал Бугаев, теряя сразу всякий интерес и к Блошкиной, и к её жильцам, и к нескладному старому дому. — Кто же мою книгу украл? — спросила Блошкина и с надеждой посмотрела на Аникина. — Вы милиция. Поискали бы. — Некогда, некогда, Зинаида Васильевна, — отмахнулся Аникин, устремляясь вслед за Бугаевым к дверям. — Некогда! — сердито бросила Блошкина. — Я сейчас заявление напишу и принесу к вам в отделение. Будешь искать как миленький. Идя по шаткому коридору, Бугаев вдруг подумал о том, что не догадался выяснить у старухи ещё одну деталь, и круто развернулся, чуть не сбив семенящую следом Блошкину. — Бабуся, а никто не съехал от вас в последние дни? — Господи, твоя воля! — испуганно отшатнулась Блошкина. — С ног ведь, леший, собьешь! — Ну, так как? Никто не съезжал? — повторил Бугаев. — Шил один бука два месяца. И съехал как нелюдь, даже не попрощался. — Когда съехал? — Когда, когда… Третьего дня съехал. — Старушка засомневалась. — Или четвёртого? — Днём съехал? — спросил Семен, уже предчувствуя ответ. — Ночью ему приспичило. Ушёл и записки даже не оставил. — Не прихрамывал? Старуха пожала плечами: — А кто его знает? Я не присматривалась. — Она задумалась. Потом сказала: — Может, и припадал на одну ногу. А может быть, мозоль натёр новыми ботинками. Он, помню, коробку «скороходовскую» выбрасывал. — Ну и ладно, — сказал Бугаев, успокаиваясь. Он был готов теперь простить Блошкиной всё её представление, потерянную домовую книгу и непрописанных жильцов. — Сядем теперь рядком да поговорим ладком. А то остановились посреди коридора, доски здесь гнилые, того и гляди, рухнем. Ведь рухнем, Зинаида Васильевна? — Можем, — Блошкина ещё не могла понять, почему это у чернявого милиционера так резко переменилось настроение. — Пойдём опять на веранду, что ли? — поинтересовалась она. — Зачем на веранду? — весело сказал Бугаев. — Пойдём в ту комнату, где ваш беглец жил. Там вы ещё никого не поселили? — Нет. Не поселили. Вот тут его комната, рядом с кухней. Бугаев обернулся. Оказалось, что Аникин стоит как раз перед обитой чёрным дерматином дверью сбежавшего жильца. — Там не закрыто, — сказала старуха. Аникин толкнул дверь и пропустил в комнату Бугаева. Следом вошла Блошкина и остановилась у порога как вкопанная. — Ой! — прошептала она испуганно. — Обокрали! — И схватилась за сердце, готовясь снова упасть в обморок. — Не надо, Зинаида Васильевна, — проникновенно сказал Бугаев. — Не надо, миленькая. Не падайте. Давайте посидим. — Он взял Блошкину за локоток и усадил на тревожно скрипнувшую, незастеленную кровать. А сам сел на табуретку и огляделся. Комната была небольшая. Кровать, громоздкий, красного дерева платяной шкаф с раскрытыми дверцами, две табуретки, небольшое зеркало. — Что же у вас украли? — спросил Аникин. — Как что? — старуха обвела комнату взглядом. Остановилась на шкафу с раскрытыми дверцами. — Из шифоньера всё вынуто. И чемодана Николая Алексеевича нет. Да, и ещё… — она опять огляделась. — Ничего здесь нет. А раньше было. — А чьи вещи? — поинтересовался Семен. — Его вещи, но… — Она не нашлась, что сказать, и растерянно посмотрела на Аникина. Бугаев подумал: «Ты небось надеялась, что жилец неожиданно съехал, а вещи тебе достанутся». — Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу Николаю Алексеевичу… Как его фамилия? — Не помню. У меня на фамилии память плохая, — сказала Блошкина. — А вещи его пропали. Мои вот остались, — она потрогала постель, на которой сидела. — А может быть, он сам эти вещи забрал? — спросил Бугаев. — Тайком? — догадалась старуха. — Так чего ему таиться? Плату он мне на месяц вперёд отдал?! Да вещи ещё вчера вечером были на месте… Бугаев прошёлся по комнате, заглянул в открытый шкаф. Всюду было пусто. Только обрывки газет, куски проволоки… «Фантастика, — подумал Семен. — Если это тот самый дядя, то, значит, он остался жив. Но почему тайком?» Следующие два часа, проведённые в доме Блошкиной, словесный портрет постояльца, нарисованный Зинаидой Васильевной, а главное, упоминание ею о маленьком потёртом чемоданчике с инструментами, в который она однажды из любопытства заглянула, с неоспоримостью свидетельствовали о том, что бабкин постоялец Николай Алексеевич и сбитый на шоссе мужчина — одно и то же лицо. Блошкина больше не падала в обморок, не хваталась за сердце, не капала себе капли. Почувствовав, что дело серьёзное и от неё многое зависит, Зинаида Васильевна старалась рассказать всё, что знала. Николай Алексеевич появился у неё в доме в июне. В какой день, Блошкина точно не помнила. Показал он ей свой паспорт, и Блошкина занесла в свою домовую книгу все данные из этого паспорта. — А как же? — сказала она. — Вдруг у него и денег нет? Поживёт неделю, и ищи ветра в поле. Такие у меня тоже бывали, а по паспорту человека разыскать можно, да и сам он знает, что оприходован. Блошкина так и сказала: «оприходован». Но вспомнить, что за данные о Николае Алексеевиче она вписала в книгу, старуха не смогла. И фамилию не вспомнила. Постоялец рассказал ей, что работал на Севере, теперь решил обосноваться в Ленинградской области, поближе к городу. «Куплю домик, привезу семью», — говорил он. Человек он спокойный, пил в меру. Раза два-три отсутствовал по неделе. Приезжали к нему и знакомые. Но только мужчины. Женщин в дом не водил, но однажды Блошкина видела Николая Алексеевича выходящим из ресторана «Олень» с молодой девицей. Зинаида Васильевна девицу эту знала, потому что каждый месяц получала из её рук в сберкассе пенсию. Бугаев поинтересовался друзьями постояльца. — Серьёзные люди, — сказала Блошкина. — Только помоложе, чем Николай Алексеевич. И знаете… — Она помолчала, словно пыталась поточнее воскресить их в своей памяти. — Другого круга люди. Николай-то Алексеевич — простой мужик. Да и сероват. А эти — нет! И одеты модно. «Бабка-то умненькая, — думал Бугаев, приглядываясь к Блошкиной. — Разговорилась — теперь и на профессоршу похожа. А ведь как опростилась со своим хозяйством. Прямо шут гороховый». Криминалист, вызванный майором из управления, взял, где только было можно, отпечатки пальцев, а сам Бугаев, увидев у Блошкиной в углу на веранде большую сетку с пустыми бутылками, поинтересовался, нет ли там принадлежащих Николаю Алексеевичу. Оказалось, что три большие бутылки из-под портвейна старуха взяла из его комнаты. Водку же пила Тоська со своим кавалером и тихая Варя Терехова, продавщица из гастронома. Нужные бутылки были осторожно изъяты из сетки и бережно упакованы. Пока Бугаев занимался всеми этими делами, участковый вышел в сад и подсел к старичку пенсионеру Дмитрию Николаевичу, читавшему потрёпанную книгу. Но ничего путного из этой беседы не получилось. Дмитрий Николаевич недавно пережил инфаркт, говорил с трудом, с большими паузами и почему-то с неохотой. Про хромого бабкиного жильца Дмитрий Николаевич сказал только: «А-а! Этот ворюга… Я с ним и словом не перемолвился». На вопрос Аникина, почему он считает Николая Алексеевича ворюгой, старик только плечами пожал и долго сидел молча. А когда Аникин уже встал со скамейки, собираясь распрощаться, старик вдруг выпалил: — Да это с первого взгляда видно. Как Зинаида Васильевна таких типов к себе пускает? Уже на следующее утро из дактилоскопического хранилища сообщили, что среди многих других «пальчиков», обнаруженных на бутылках и принадлежащих неизвестным лицам, есть отпечатки пальцев Льва Александровича Котлукова, по кличке Бур, много раз судимого за ограбления и в июне нынешнего года вышедшего из колонии и находящегося на административном поселении в Архангельской области. Свою кличку Котлуков получил за редкое в наши дни умение вскрывать сейфы.7
Осокин пережидал в лесу до полудня. Его то трясло, то било мелкой дрожью от озноба, то бросало в жар, и начинало нещадно колотиться сердце. Он пугался, считал пульс и пугался ещё больше. Ему казалось, что сердце сейчас не выдержит, произойдёт непоправимое. И здесь, в лесу, вдали от людей, ему никто не поможет. Потом он достал из сумки бутылку коньяка, сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. Сидел на заднем сиденье расслабившись, безучастно глядя на большого дятла, долбившего сухую ёлку рядом с машиной. «Ну и что? Ну и что? — думал он вяло. — И в тюрьме люди живут. Большой срок мне не дадут, всё-таки человек с незапятнанной репутацией, известный в своём кругу. Возьму хорошего адвоката. Будут общественные защитники… Нет, нет! Правильнее пойти самому в милицию, — остановил себя Осокин. — Нечего паниковать. Самое большее, что мне предъявят, — оставил человека без помощи. Да ведь и в милиции люди, поймут, что от испуга я перестал соображать. А пришёл в себя и сам явился. Сам! — Он все больше и больше успокаивался. — Даже если и судить будут! Совсем не обязательно, что в тюрьму посадят. Сейчас на стройки посылают. Как это у них называется… — Осокин наморщил лоб, вспоминая. — Условно-досрочно-освобождённые… А могут присудить платить по месту службы… — И тут его словно током ударило — он почувствовал, как всё тело покрылось испариной. — Зимой у него защита! Защита на соискание учёной степени доктора экономических наук. Соискатель — условно-досрочно-освобождённый Борис Дмитриевич Осокин? Абракадабра! А представление на заслуженного работника культуры, которое послали в исполком? Тоже псу под хвост? — Он вздохнул. — Другое хуже. Если у этого человека семья, маленькие дети — меня заставят платить пенсию до самого их совершеннолетия. Или старушка мать…» Он вдруг очень ярко, словно наяву, представил кладбище и могилу, в которую опускали гроб со сбитым человеком. И скорбные глаза старухи матери увидел, и испуганных молчаливых детей. «А я о своей защите, о докторской! — почти с ненавистью к себе подумал Борис Дмитриевич. — Виноват — и отвечать буду, и платить…» Дятел, теперь совсем обнаглев, долбил ёлку, Спустившись вниз — протяни руку из машины — можно достать. Яркий, гладенький, пёрышко к пёрышку, словно маслом смазаны, дятел показался Осокину не ко времени праздничным и самодовольным, и он с раздражением нажал клаксон. Дятел улетел. «Еленке же на будущий год в консерваторию поступать! — с тоской подумал Осокин, и снова чувство безысходности охватило его. — Это значит, уже сейчас надо начинать суетиться. И чтобы школу с медалью окончила — тут без меня ничего не сдвинется. Знаю я их школу — у кого из родителей весу да амбиции больше, у того и медаль в кармане. В крайнем случае аттестат с отличием… А консерватория? Будет со мной декан Геня Павлов после суда разговаривать? Чушь собачья! Ой, как не ко времени, — почти простонал Осокин. — Как не ко времени! А может быть, тот мужик живой? Это я с перепугу решил, что насмерть? Может, жив? Да вины-то моей нет — выскочил как угорелый навстречу машине. А где свидетели? Кто поверит? — И тут он горько пожалел о том, что удрал. — Трус, трус, — твердил Борис Дмитриевич. Твердил не со злостью, не с горечью, а с сожалением, словно бы смотрел на себя со стороны. Словно бы думал о каком-то близком ему человеке, которого он не в силах ни осудить до конца, ни простить, а лишь сожалеет о его беде. — Рано или поздно — всё равно попадусь, — думал он. — Начнут искать… — Борис Дмитриевич стал вспоминать, кто мог его видеть. В Солнечном, около отделения ГАИ, никого не было. В Лисьем Носу ехало сразу машин двадцать — целая колонна. Но всё равно будут искать машину с вмятиной на радиаторе. Пойдут на станции техобслуживания, проверят мастерские… Если бы я мог отремонтировать сам! — подумал он с сожалением. — Надо отыскать мастера-частника. Какого-нибудь умельца. Машину оставить в гараже на даче, пускай он на даче и отремонтирует. — Но тут же Борис Дмитриевич отверг эту мысль. — Милиция тоже не лыком шита, знает, что виновник на СТО не сунется, будет искать умельца. А что я скажу дома? Соседям? Друзьям? Наехал на дерево? Тогда почему не иду в ГАИ, не получаю страховку? — Он вдруг насторожился. Что-то в этой тягучей череде невесёлых рассуждений царапнуло его сознание. Какой-то лучик надежды блеснул. — Наехал на дерево… А почему, собственно, и не наехать? И не надо будет бояться объяснений, тайно ремонтировать машину. — Осокин воодушевился. — Наехать на дерево — так просто. Даже подставить себе синяк или шишку на лбу. — Лёгкая улыбка мелькнула на его лице. — Жаль машину? А себя не жаль? Мудро, мудро, Боря! — похвалил он себя. — Даже выпитый коньяк здесь на пользу. Да, выпил! Кстати, надо хлебнуть ещё! За ваше здоровье, Борис Дмитриевич. Такая идея. — Он глотнул большую порцию. — Пусть проверяют, пусть лишают на год прав. Я и так теперь долго не смогу сесть за руль. Только зачем же об дерево? — Мысль его лихорадочно пульсировала. — В лесу, недалеко от того места? Без свидетелей? Надо на виду у всех, в городе! Стукнуть другую машину! Не рассчитал, не предусмотрел! А этот, другой водитель? Он что, сумасшедший?! Так резко затормозил у светофора! Всегда виноват тот, кто сзади? Виноват, но тот, кто впереди, тоже не должен лихачить! Ссора, ГАИ, акт. Неосторожно ездите, товарищ Осокин! Может быть, проверить на алкоголь? Пожалуйста! Не страшно, не страшно! Какая мелочь — лишение прав? А может, обойтись и без этого? Сколько я выпил? Три глотка? Смешно». Осокин ликовал. Он чувствовал себя заново родившимся……Место, где проспект Энгельса пересекается со Светлановским и Мичуринским проспектами, шофёры окрестили «чёртовым пятачком»: уж очень много понавешено здесь светофоров и дорожных знаков, разобраться в которых не так-то просто. Поневоле задумаешься и начнёшь соображать, какому знаку повиноваться. С одним из таких «задумавшихся» водителей, молодым усатым толстячком, беседовал недалеко от перекрестка инспектор ГАИ лейтенант Волков, когда раздался резкий скрежет тормозов и почти одновременно один за другим два гулких удара. Волков оторвал взгляд от новеньких водительских прав провинившегося толстячка. Перед светофором, воткнувшись одна в другую, застыли три машины: «Волга» и два «жигулёнка». Два водителя уже вылезли из своих машин и пытались открыть дверцу «Жигулей», попавших в «коробочку». Видно, дверь у машины заклинило. Наконец водитель сообразил, что есть ещё и другая дверца, и выбрался через неё. Молча, сосредоточенно принялись разглядывать водители свои машины. На тротуаре, напротив места аварии, уже скапливались любопытные пешеходы. — Видите, молодой человек, к чему приводит излишняя задумчивость? — меланхолично сказал автоинспектор толстяку, уже который раз вытиравшему платком потеющий лоб. — Целое чепе! — Он понимал, что надо поскорее идти на место происшествия, но никак не мог решиться: отпустить с миром этого потеющего толстяка или сделать дырку в его талоне предупреждения. Инспектора раздражала и молодость нарушителя — «ведь лет двадцать, не больше, сукину сыну, — думал он. — А тоже мне! На собственной шестой модели разъезжает!» — и первоначальная дерзость нарушителя, так быстро перешедшая в заискивающую любезность, с которой он вымаливал себе прощение, тоже раздражала его… — Ладно, — наконец решился автоинспектор. — Техпаспорт и талон тебе отдаю, а за правами заедешь в отделение. — Товарищ инспектор! — жалобно начал толстяк… — Сам видишь, некогда! — отмахнулся инспектор. — Лети отсюда соколом. Не то заработаешь прокол. — Он круто повернулся и зашагал к перекрёстку. Когда инспектор подошёл к месту аварии, водители столкнувшихся автомашин, наверное, уже прикинули, во что им обойдётся ремонт, и с завидным красноречием предъявляли друг другу претензии. Особенно усердствовал высокий молодой брюнет в модной кожаной курточке. — Так могут ездить только пьяные! — кричал он, обращаясь к пожилому водителю чёрной «Волги», стоявшей первой у перекрёстка. — Вы только подумайте, товарищ лейтенант!.. — бросился он к Волкову. — Тормозит, как будто один на дороге! Водитель «Волги» молча пожал плечами. Он был спокоен. Инспектор, скосив взгляд на его автомобиль, сразу понял причину спокойствия: у «Волги» повреждения были небольшие: помят бампер, стенка багажника, левый стоп-сигнал. Да и машина к тому ж была государственная. Больше всего пострадали белые «Жигули», оказавшиеся в середине, — сильно помята решётка радиатора, правое крыло, разбиты подфарники. Смят багажник. — Ваш автомобиль? — спросил Волков у молодого крикуна. — Моя машина, — мрачно отозвался третий участник столкновения. Чувствовалось, что он переживает больше всех — лицо у него было бледное, вымученное, прядка влажных волос прилипла к большому лбу. «Да, братец, — подумал Волков, — попотеешь с ремонтом. Хорошо, если застрахована». Уловив сочувствие инспектора, мужчина сказал: — Теперь хоть в металлолом. Хорошо, сам цел остался. Лихо затормозил товарищ! — и кивнул на водителя «Волги». — Дистанцию соблюдайте, — спокойно сказал Волков. — И машины целы будут, и головы. — И добавил уже строго официально: — Документы прошу! Все отдали ему документы молча, только мужчина в кожаной курточке, роясь в своей «прикованной» к запястью сумке-портмоне, не переставал громко возмущаться: — Безобразие! Просто хулиганство! Так ездят только пьяные. «Хорош гусь, — подумал инспектор. — Мало того что сам виноват, не затормозил вовремя у светофора, так ещё хочет своего коллегу заложить». — Машины на ходу? — спросил он водителей. Шофёр «Волги» кивнул. У крикуна мотор тоже сразу завёлся. Только белые «Жигули» пришлось брать на буксир. Поставив машины у обочины и попросив разойтись любопытных, инспектор сел в «Волгу» и, посадив рядом всех участников аварии, принялся составлять протокол… Когда протокол был составлен и в него внесены все повреждения, полученные автомашинами, Волков дал всем подписать его. Кадымов, шофёр «Волги», и Осокин, владелец особенно пострадавших белых «Жигулей», подписали протокол безропотно. Осокин только вздохнул. Вздохнул так тяжело, что инспектор пожалел его и сказал: — Да не горюйте. Найдёте хорошего мастера, он вам так отлудит, лучше новых будут. Тем более, страховку получите… Один Пётр Викторович Вязигин долго отказывался ставить свою подпись, требуя, чтобы Волков записал в протоколе, что от удара у него пошёл «кузов». — Это вам пусть эксперт в Госстрахе пишет, — сердито сказал Волков. — Они там во все тонкости вникают. Сказав «вашей вины, товарищ, нет», он отдал Кадымову права, а документы Осокина и Вязигина положил в свою сумку. Потом полистал записную книжку. — Завтра в районное ГАИ, к десяти часам. В комнату разбора. Прошу не опаздывать. Когда они вылезли из «Волги», инспектор кивнул на осокинские «Жигули» и спросил Кадымова: — Не отбуксируете товарища? — Могу, — без особой охоты согласился шофёр. И спросил Осокина: — Вы где живёте? — На Чайковского. — Подходит. Цепляйте трос.
Осокин засуетился, доставая из багажника трос, и, почувствовав свою суетливость, заставил себя двигаться медленнее, спокойно прикрутил трос, сел в машину, включил фары. Кадымов обернулся узнать, готов ли он. Осокин тихонько нажал на клаксон. Они медленно тронулись. И тут только Борис Дмитриевич почувствовал, как сквозь нервное напряжение, сквозь усталость где-то в глубине его души запели победные трубы…
8
«Неужели Лёва Бур появился на горизонте? — думал Корнилов, слушая доклад Семёна Бугаева о квартиранте старушки Блошкиной. — Только живой или мёртвый?» Теперь рассказ инженера Колокольникова о маленьком чемоданчике потерпевшего — полковник не хотел, да и просто не мог пока считать человека, сбитого автомашиной на Приморском шоссе, погибшим — приобретал высокую степень достоверности. Всё выстраивалось логично: Лев Котлуков вышел из заключения в июне и сразу поселился у Блошкиной. Паспорт на имя Николая Алексеевича с неизвестной фамилией у него, конечно, чужой. Липовый или краденый. Пять лет Котлуков по приговору суда не мог проживать ни в Ленинграде, ни в его пригородах. Во всяком случае, под своей фамилией. И если Лёва Бур отправился куда-то ночью с набором инструментов в чемодане, не может быть двух мнений о цели его прогулки. Только вот последующие события никакой логике не поддавались. — Дружки его ухлопали, товарищ полковник! — Бугаев приехал из Зеленогорска возбуждённый и не мог минуты спокойно сидеть на месте. То и дело вскакивал и начинал нервно расхаживать по кабинету. Корнилову наконец надоели его метания. — Семён, хватит бегать! Мелькаешь, голова кружится. Бугаев сел: — Если бы я, Игорь Васильевич, курил так же много, как вы, я бы тоже сидел спокойно… — А ты закури, — миролюбиво предложил Корнилов. — Сигару. Помогает сосредоточиться. — Он всех угощал дарёными кубинскими сигарами, но редко кто отваживался воспользоваться его предложением. Бугаев же взял из красивой коробки сигару и засунул в нагрудный кармашек. — На досуге закурю, — сказал он, отвечая на недоумённый взгляд полковника. — Досуга у тебя, Семён Иванович, может и не быть, — заметил Корнилов. — А пока порассуждаем… — Я уже говорил — могла произойти ссора… — Могла, могла. — Корнилов поднял руку. — Но сейчас посиди молча и послушай начальство. Бугаев улыбнулся: — Значит, рассуждать будете вы? Корнилов не обратил на его улыбку внимания. — Отпечатки пальцев Котлукова обнаружены и на бутылках и в комнате. Но откуда у тебя такая уверенность, что у старухи Блошкиной жил именно он? Заметив, что Бугаев хочет возразить, полковник остановил его: — Возражения потом. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам постояльца. И до сих пор разгуливает где-нибудь по городу… — Он же ещё хромает, — не вытерпел Бугаев. — Котлуков-то хромой, — подтвердил Корнилов. — А вот про постояльца бабуся надвое сказала — не то прихрамывает, не то новыми ботинками пятку натёр. По твоим же словам. — Да бабка могла и не обратить внимания. — Такая бабка, какой ты её мне расписал, ничего не упустит. Короче, дело ты в посёлке ещё до конца не довёл. Надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. По всем правилам. И Блошкиной предъявить, и её старику дачнику, и кочегару… — Корнилов задумался. — И, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают — тогда уверенность будет стопроцентная. — Он улыбнулся погрустневшему Бугаеву и сказал: — А вообще-то, Семён, у меня такое предчувствие, что ты прав, Лёва Бур это. Но предчувствия нас уже не раз подводили. Полковник откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и с удовольствием закурил. — О чём-то, Сеня, я ещё позабыл тебе сказать. Какую-то мелочь, детальку упустил, но уж очень важную… — Вот память — подсказывает — забыл, а что именно, не выдаёт. Рыбы, наверное, мало стал есть, фосфора не хватает. — А чего же вы? Рыба в магазинах есть. Марокканские сардины, такие красивые баночки. — Для фосфора, Сёмен, свежая рыбка нужна. Об осетрине не говорю, а вот хотя бы тресочки. Ну да ладно о рыбе, — резко оборвал он себя. — Пофантазируем про наши дела. Лёва Бур идет ночью с инструментом на операцию. Против этого ты не возражаешь? — Нет! — Каждому младшему инспектору в нашем управлении известно, что такие «специалисты», как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Но шёл Котлуков не к электричке, а на шоссе, где первый автобус отходит в сторону Ленинграда в пять сорок, — полковник взглянул на лежащую перед ним справку, — а в сторону Зеленогорского вокзала в шесть десять. Можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине… — Игорь Васильевич! — не вытерпел Бугаев. — Да я об этом же и говорю! — Ты бы какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пил, — чуть поморщившись, тихо сказал Корнилов. — А если была заранее спланирована и разработана операция — зачем же дружкам ухлопывать Котлукова? Человека, на чьи руки они рассчитывали? Бугаев промолчал. — Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убить после ограбления. Да и в любое время могли убить! Но ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправились со своими дружками таким способом? С помощью «Жигулей»! Они бы нашли что-нибудь попроще. Рассыпается твоя версия. — Теперь мне можно, товарищ полковник? — смиренно попросил Бугаев. — Валяй! — благодушно отозвался Корнилов. — Всё, что вы сказали, правильно. Насчёт способов. Если это уголовники. Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Блошкина мне говорила, что к нему разные люди захаживали. Но чаще всего — интеллигентные. — Может быть, твоя Блошкина каждого прилично одетого уже интеллигентным считает? — Она, между прочим, профессорская вдова, — сказал Бугаев и насупился, вспомнив, как держал эту пахнущую котлетами вдову, упавшую в обморок посреди веранды. — Ну, может, тут я лишку хватил, — поправился он. — Блошкина просто насчёт людей другого круга обмолвилась. Дело не в этом — Котлуков мог связаться с какими-нибудь фрайерами… — Когда ты отучишься от жаргона! — неодобрительно покачал головой Корнилов. — Мог же, Игорь Васильевич? — Мог. — Ну вот. А для них легче человека на машине сбить, чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться. — Второй день ты мне об этом твердишь, — устало сказал Корнилов. — Да зачем они перед операцией стали бы с ним расправляться? Другого времени не нашли? — Не нашли! Повздорили неожиданно. Испугались чего-то! — Бугаев воодушевился. — И заметьте ещё одну деталь — все вещи Котлукова у старушки Блошкиной вынесли. Все! И домовую книгу украли. Хотите узнать зачем? — Вот поэтому я и не хочу считать Котлукова погибшим. — Нет, Игорь Васильевич, это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи — Блошкина тревогу подняла. Может, и не сразу, но подняла. Был человек — и нету. Пришла бы в милицию, как миленькая пришла! Не рискнула бы вещи себе взять. У меня, честно говоря, сначала мелькнуло сомнение, но потом почувствовал — старушка не дура. И начались бы в милиции вопросы да расспросы. Кто, почему, куда делся… — Чудак ты, Семён, — перебил майора Корнилов. — Почему же? — подозрительно спросил Бугаев. — Своими руками собственную версию разрушаешь. Бугаев смотрел на полковника с недоумением. — Да если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть? Все вещи вынести, найти домовую книгу и следов не оставить? Не слишком ли сложно? — Сложно. Всё в жизни сложно, — сказал Бугаев, и Корнилов улыбнулся. Когда майор не мог чего-то объяснить, он всегдаподпускал тумана. Сослуживцы хорошо знали про этот его грех и частенько подсмеивались. Заметив улыбку Корнилова, Семён смутился и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. Потом спросил: — А вы как объясняете пропажу трупа? — Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму, — вздохнул Корнилов. И сказал с нажимом: — Трупа ли? — Колокольников так убедительно всё описал… — День назад ты ему не очень-то верил. Уши у Бугаева порозовели: — Зачем вы так? Я верил, но сомневался. А теперь сомнения отпали. — Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Мало ли? Шок, потерял сознание, под дождиком пришёл в себя. Если это Бур, то он предпочтёт где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. Во-вторых, его могла сбить случайная машина. Мы ведь уже говорили об этом… — И так могло быть, — без особого воодушевления согласился Бугаев. — Если какой-нибудь подонок наехал… Со страху и смылся… — Молодец. Наконец-то начинаешь смотреть пошире, — усмехнулся Корнилов. — Необходимо всерьёз за автомобилистов взяться. Искать «Жигули», сбившие человека. Белянчиков один может полгода проверять, а тут по всем статьям выходит — дело серьёзное. — Он встал, вышел из-за стола. Поднялся и Бугаев. — И ещё об одном я подумал: если у Котлукова сообщники вроде него самого и дело крупное задумано, их его смерть не остановит… Нового «специалиста» искать будут. Как ты думаешь, будут? — Будут, — убежденно сказал Семён. — После того как проведёшь опознание в посёлке, займись взломщиками. Полистай нашу картотеку. Прикинь, к кому вместо Бура могли обратиться грабители за помощью. Много времени это у тебя не займёт, таких монстров осталось немного. Раз-два — и обчёлся… — И вот ещё вспомнил про «мелочь», что в голове засела! Эта девушка… Ну та, с которой старуха предполагаемого Лёву Бура у ресторана «Олень» видела. Ты с ней поговорил? — Поручил участковому. — Напрасно поручил, — сердито отчеканил полковник. — Да ведь Аникин… — Бугаев хотел сказать, что участковый человек хоть и молодой, да опытный. И людей в посёлке лучше знает. Но Корнилов не дал ему договорить. — Пять раз подумать надо было перед этим. Девушка-то в сберкассе работает. В сберкассе! А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может быть, они в сговоре были. А твой Аникин к ней с вопросами: что да как? Где познакомились? Бугаев подавленно молчал, понимая, что совершил непростительную промашку. Обрадовался, что бутылки с «пальчиками» отыскались, и поторопился в управление. А про девчонку-кассира надо было самому разузнать. Вдруг и правда наводчица? Он лихорадочно соображал, как можно поправить дело. Посмотрел на часы и сказал с затаённой надеждой: — Товарищ полковник, Аникин ещё не успел с ней встретиться! Наверное, не успел… Корнилов смотрел на Бугаева вопросительно. — Сейчас пятнадцать минут третьего. Сберкасса закрыта на обед. Участковый собирался подойти туда к открытию. Ну, знаете, посмотреть на девчонку со стороны, приглядеться, а потом уж разговоры разговаривать. Если… — Твоё счастье, если успеем! — не дав договорить Семену, Корнилов нажал на клавиш внутренней связи. — Слушаю, Игорь Васильевич, — отозвалась секретарь. — Срочно Зеленогорскую милицию. Срочно! Начальника, дежурного, кто подойдёт! Бугаев редко видел своего шефа таким взволнованным. Несколько минут они сидели молча. Корнилов вытащил из пачки сигарету, взял в зубы, но не закурил. С улицы, даже через закрытые окна, доносился грохот ползущих по Литейному трамваев, характерный воющий звук набирающих скорость троллейбусов. «Как шумно здесь, — подумал Бугаев. — А ведь обычно не замечаем…» — Игорь Васильевич, Архангельский из Красногвардейского района, — раздался в динамике голос секретаря. — Пусть звонит позже. Ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Что у них там, не отвечает никто? — Линия занята. — Варин голос умолк и тут же снова ворвался в накалённую тишину кабинета: — Зеленогорск, Игорь Васильевич. Дежурный. Корнилов рывком схватил трубку с аппарата. Несколько секунд слушал молча. По-видимому, дежурный докладывал ему по всей форме. — Сберкасса далеко от вас? — наконец спросил он. — Так, так. Пять минут езды. Сколько на ваших часах? На моих тоже… Бугаев невольно скосил взгляд на свои часы. Стрелки показывали двадцать пять минут третьего. — Срочно пошлите человека… Да нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идёт Аникин. Да ваш, ваш Аникин, участковый! Нужно предупредить его, чтобы в сберкассу нос не совал. Пусть идёт к вам в отдел и срочно позвонит мне. Нет. Ничего не случилось. Ничего. Выполняйте. Вы мне лично за это ответите. Поняли? Он повесил трубку. Сказал: — Успеют, наверное, — и засмеялся. — Как бы они твоему Аникину наручники не надели! — и тут же, погасив улыбку, спросил: — А он точно в сберкассу пойдёт? Не будет кассиршу у дома встречать? — Точно, товарищ полковник. В сберкассу, — кивнул Бугаев. — Ладно, Семён, заказывай фотографии Котлукова. Кстати, если найдут карточки его бывших подельцев, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов — зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, и если он там ничего не напортачил, сам в Зеленогорск поеду. — Сами? — удивился Бугаев. — Угу. Только я хочу не с девчонкой-кассиром повидаться, а с заведующей сберкассой. И с постовыми, которые там дежурят. Не надо девчонку пока трогать. Но глаз с неё не спускать. — Понял, товарищ полковник, — кивнул Бугаев. — Надо бы ещё людей в группу привлечь. — Надо. Сегодня вечером соберёмся, составим план розыскных мероприятий. Бугаев ушёл. И по тому, как он подчёркнуто спокойно, ни разу не обернувшись, прошёл от стола до двери, как деликатно прикрыл её за собой, Корнилов почувствовал, что Семён обижен за выговор. «Не красна девица, — усмехнулся полковник. — При его-то опыте такие просчёты недопустимы. — Но тут же он подосадовал на себя за то, что погорячился, не сдержал раздражения. — Когда-то я умел это делать помягче, даже с шуткой. И понимали меня не хуже, чем сейчас, и не обижались… Что-то со мной творится в последнее время? Возраст, что ли? Стал замечать за людьми то, на что раньше и внимания не обращал? Тогда это ещё не так и страшно. А может быть, стал нетерпим и раздражителен?» На душе у Корнилова было муторно, ему вдруг захотелось вернуть Бугаева и объясниться с ним, но он тут же оборвал себя — ещё чего надумал! Встал из-за стола, засунув руки в карманы брюк, сердито прошёлся по кабинету. Затем сел в старое удобное кресло у журнального столика и, вытянув ноги, потянулся. Кресло сердито скрипнуло, тонко зазвенела стальная пружина. Сколько раз хозяйственники предлагали Корнилову поменять мягкую мебель — два кожаных кресла и диван — в его кабинете! Его даже Селиванов, начальник управления уголовного розыска, стыдил не однажды — чего ты за эту рухлядь держишься! Кожа облупилась, пружины скрипят. Посетителей постеснялся бы. Что подумают коллеги? Но Игорь Васильевич видел, что коллеги, время от времени наезжающие для обмена опытом работы, очень любят посидеть в его креслах. Если не опаздывают на очередной приём или на увеселительное мероприятие. Старые кресла удивительно располагали к откровенному разговору. К тому же за пятнадцать лет, пока Корнилов ревностно оберегал их, мебель в кабинете у Селиванова поменяли два раза. Дизайнерам-мебельщикам почему-то никак не удавалось сочетать современные формы стульев и кресел с долговечностью. Совсем недавно в кабинете начальника появились финские кожаные диван и кресла, удивительно похожие на те, что стояли у Корнилова, такие же массивные и прочные. Игорь Васильевич намекнул начальнику ХОЗУ, полковнику Набережных, что теперь не стал бы возражать, если ему поставят такую же мебель, как Селиванову. Но оказалось, что завезли и расставили по другим кабинетам… «Непростое дело. Непростое, — в который раз уже мысленно повторял Корнилов. — Над какой же кассой тучки сгустились? Не над той ли, где знакомая Бура работает? А может, это случайное совпадение. Или просто разведка. А брать хотели другую. Какую только? Предупредить, пожалуй, надо ещё раз всех. И сберкассы, и предприятия. Это, конечно, вызовет у людей нервозность, но не предупредить нельзя. И запросить следует, не было ли каких подозрительных происшествий вокруг касс. Вот ведь как всё обернулось! — Он с теплотой вспомнил о Колокольникове. — Сколько мужику пришлось доказывать, что он не сумасшедший и не сказочник. А мог бы плюнуть, и дело с концом. Надо будет всё-таки наказать тех ребят из зеленогорской милиции. Чтобы на будущее повнимательнее были». Он закурил и с удовольствием затянулся. Вспомнил, как рассказывал ему Грановский, что в кино запретили снимать человека с сигаретой. «Ну-ну, боритесь, — усмехнулся полковник. И снова его мысли вернулись к Леониду Ивановичу Колокольникову. Что-то беспокоило Корнилова в этой связи. Но что? — А-а! Человек на месте катастрофы! Чего он там разыскивал? Сверло, найденное потом Колокольниковым?» Теперь, после того как из дома, где обитал Лёва Бур, исчезли его вещи и домовая книга, этот человек на шоссе воспринимался совсем по-новому. Если он из той же шайки? И пришёл за маленькой деталью из чемоданчика Льва Котлукова — за сверлом с наконечником из алмазной хрустки, перед которым не устоит ни один сейф. «Надо Колокольникова предупредить, — подумал Корнилов. — Пусть будет поосторожнее». Дома у Колокольникова телефон молчал, а на работе сказали, что он выйдет только через неделю. Корнилов спросил секретаршу, не звонили ли ещё из Зеленогорска. Оказалось — не звонили. Он посмотрел на часы. Выло ровно три. «Сейчас Аникин уже предупреждён, спешит в отделение. Минут через пять позвонит…»9
Колокольников заметил того типа у билетной кассы. Очередь стояла небольшая — человек семь. Между Леонидом Ивановичем и парнем было всего двое мужчин. Ошибки быть не могло — парень тот самый, что шарил на месте аварии на пятьдесят пятом километре. Только вместо потёртой кожанки на нем был модный тёмно-синий пиджак и светлые брюки. «Пижон, — подумал Колокольников. — А машину-то, наверное, в ремонт отдал. Теперь приходится общественным транспортом пользоваться». Леонид Иванович оглянулся, пытаясь отыскать в зале постового, но, как назло, милиционера не было видно. «А чего мне милиционер, — решил он, — попадётся такой, как Буряк… Я лучше узнаю, куда едет этот хмырь, а потом Корнилову позвоню. А ведь как ни вспоминал тогда в милиции его лицо — ничего примечательного вспомнить не мог, — огорчился он. — Волновался, наверное. А лицо-то у него какое непривлекательное — носик маленький, в небо смотрит. Нахальный носик. Уши, как звукоулавливатели. — Колокольников придирчиво рассматривал парня, осторожно выглядывая из-за широкой спины мужчины, стоявшего прямо перед ним. — Да и ноги у стервеца подкачали. Кавалерийские ноги. Штаны вот ничего, модные, ухоженные. Стрелки, словно только что из-под утюга». Он так увлёкся своими ядовитыми рассуждениями, что чуть было не пропустил мимо ушей название станции, до которой парень брал билет. Уловил только последний слог — «град» и обрадовался. «Значит, Ленинград, значит, по пути. Времени много не потеряю…» До отхода электрички оставалось ещё минут десять, и Колокольников, купив в киоске пачку сигарет, с удовольствием закурил, пристроившись за углом ларька, и наблюдал, как расхаживает по перрону этот здоровый парень. Неторопливо, заложив руки за спину, ни на кого не обращая внимания, чуть наклонив набок голову. «Задумался, стервец, — решил Колокольников, — заели, наверное, тебя невесёлые мысли. Боишься, что подойдёт товарищ в форме или в штатском и спросит: „Ваши документы, гражданин“…» И тут Леонид Иванович вспомнил вдруг предупреждение Корнилова — ни в коем случае не впутываться ни в какие розыски. В случае чего — звонить ему. И участковый инспектор Аникин специально приходил к нему — о том же предупреждал. «Что ж делать? — с сомнением подумал Колокольников. — Звонить сейчас — через пять минут электричка, уедет этот тип, и привет! Да и лишние все эти предосторожности… Боятся, что я его спугну? Да я к нему ближе чем на сто метров и не подойду. Только адрес узнаю…» Успокаивая себя, Леонид Иванович между тем внимательно оглядывал, пассажиров на платформе, людей, стоящих на привокзальной площади у автобусных остановок, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. И увидел пожилого, с красным, испитым лицом мужика, которого все в посёлке знали как Костю — без отчества и без фамилии. Иногда за глаза величая ещё и «Мордой». «Ненадёжный человек», — подумал Колокольников, но времени на раздумье уже не оставалось, и он, сбежав по ступенькам с платформы, дёрнул Костю за рукав: — Константин, ты куда? — Пивка хочу кружечку взять. А потом домой. С ночной я. — Вот и хорошо, — обрадовался Леонид Иванович. Константин жил совсем недалеко от его дачи. — Пиво отменяется, бери такси, — он вынул трёшку из кармана, — и поезжай к моей жене. Скажи ей — только запомни точно — я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. Пусть она тут же позвонит в милицию, Корнилову. Чтобы нас на Финляндском встретили. Электричка — пятнадцать десять. Запомнил? Константин испуганно кивнул. — Запомнил, запомнил, — он оглянулся. — Такси-то не видать. — Да возьми частника. Самосвал какой-нибудь, — нетерпеливо бросил Колокольников. — Тут езды-то на рубль — на остальные пивка попьёшь. — Он тревожно оглянулся на платформу. Электричку уже подали, и пассажиры устремились в вагоны. Мелькнула в толпе и знакомая фигура парня. — Смотри! — дёрнул Леонид Иванович за рукав Константина. — В синем пиджаке… Здоровый амбал… Это он. Запомни. И давай быстрее, Костя. Быстрее! — крикнул Колокольников и побежал на платформу. Он едва успел вскочить в первый попавшийся вагон, как двери с грохотом закрылись и поезд мягко тронулся. В этом вагоне парня не было. Колокольников не спеша пошёл по составу и уже в тамбуре следующего вагона увидел его. Парень курил, стоя у дверей, и рассеянно следил за проносившимся мимо сосновым лесом. В тамбуре было ещё несколько человек, и когда Леонид Иванович проходил мимо, парень даже не обернулся. Колокольников прошёл почти через весь вагон и сел неподалёку от других дверей. Устроился так, чтобы ему был виден вход в тамбур, где курил парень. Парень скоро вошёл в вагон и сел спиной к Леониду Ивановичу. Колокольников отметил, что сделал он так не специально, а потому, что там было единственное свободное место. «Ничего, ничего, — подумал Леонид Иванович, — я тебя на чистую воду выведу! Ишь какой модный да чистенький. Другой бы после такого несчастья и бриться позабыл». Под мерный стук колес он вспомнил тот день, когда всё случилось, распластанное на дороге мёртвое тело, и злость на этого спокойного, сидящего как ни в чём не бывало убийцу с новой силой закипела в душе Колокольникова. «На Костю только плохая надежда, — сетовал он. — Напутает чего-нибудь или трёшку пропьёт. Ну и ладно. Сам обойдусь». Он не боялся этого парня, даже если тот и узнает его. Только вспомнил вдруг его белые от бешенства глаза. В тот раз, на шоссе. Пустые глаза. Кроме бешенства, в них ничего не было — ни мысли, никакого выражения. «Может, и не зря товарищ Корнилов меня предупреждал, — мелькнула у Колокольникова мысль. — Они с такими типчиками дело часто имеют. Ну, ничего, отобьюсь, коли надо». Потом он подумал о жене: «Такую жену, как Валентина, поискать! Сколько она со мной возилась, когда я запоем мучился. И ведь выдернула из болота. За шкирку! А как с Володькой они дружат!» Колокольников размягчился от воспоминаний. И неожиданно ему пришла мысль — а вдруг с ним что-нибудь случится? Да ведь Валентина с ума сойдёт. А Володька? О нём и думать страшно. Только он ещё мальчишка, время вылечит, а Валентине-то каково? Всю жизнь одной куковать — бабы нынче долго живут. — Он поднял голову, посмотрел в конец вагона. Парень был на месте. «Тьфу, чёрт! — выругался он про себя. — Понесло же меня на лирику из-за этого прощелыги! Живы будем — не помрём…» Колокольников пожалел, что не взял с собой никакой книги и не купил в киоске газету. Он припомнил не один кинофильм, где сыщики следили за злодеями, время от времени выглядывая из-за развёрнутой перед глазами газеты. Но, увы, газеты не было. Парень сидел к Леониду Ивановичу спиной и даже, как ему показалось, мирно подремывал. Колокольников совсем успокоился и позволял себе время от времени взглядывать в окно. Потом он разговорился с соседом, ехавшим с рыбалки, — от его брезентовой куртки остро пахло свежей рыбой, и Леонид Иванович спросил, как улов. Сосед сокрушённо вздохнул: «Одни ерши. За всё утро только трёх подлещиков взял…» Электричка приближалась к Удельной. Колокольников забеспокоился, как бы парень не выскочил здесь. На Удельной всегда выходит большая часть пассажиров. Но парень сидел, не делая попыток подняться.…На Финляндском вокзале их никто не ждал. «Сплоховал Костя, — с досадой подумал Колокольников. — Вот и доверься». Но ничего страшного не произошло: они спокойно, — и парень и Колокольников, — прошли с потоком пассажиров к метро, спустились вниз. Леонид Иванович сел в вагон рядом, так что парень всё время был у него в поле зрения. «Парень как парень, — подумал даже Колокольников. — Не бежит, не скрывается. Вон даже с девушкой симпатичной заигрывает». Вышел парень на станции «Площадь Восстания» и пошёл по переходу на Василеостровскую линию. Здесь двигалась такая толпа, что Колокольников потерял парня из виду. От волнения и растерянности он весь взмок и почти бежал, расталкивая пассажиров. Не было парня и на платформе. «Уехал, уехал! — твердил Леонид Иванович, мечась от одной стороны отправления к другой. — Не мог же я вперёд его прибежать?!» И неожиданно чуть не столкнулся с ним нос к носу. Хорошо, что народу было как сельдей в бочке, так что парень на него не обратил внимания. И опять они ехали в соседних вагонах метро. И вышли на станции «Василеостровская». Теперь Колокольников уже не решился идти за парнем на близком расстоянии. Парень пошёл по Среднему проспекту, в сторону Первой линии. Надолго задержался в радиомагазине. Пару раз пройдясь мимо большой витрины и скосив глаза, Леонид Иванович видел, что он выбирает себе большой магнитофон-кассетник, расспрашивает о чём-то продавца. Вышел он из магазина минут через сорок. И без покупки. «Тоже мне покупальщик, — подумал Колокольников, следивший за парнем теперь уже с противоположной стороны проспекта. — Небось и денег-то на такой магнитофон не наскрёб». А парень, дойдя до Второй линии, зашёл в телефонную будку и долго разговаривал. Потом, не вешая трубку, нажал на рычаг и опустил ещё монету. Но на этот раз, по-видимому, абонент отсутствовал. Парень вышел из будки, пересёк Средний и скрылся в узком, как щель, Соловьевском переулке. Совсем рядом с переулком, у трамвайной остановки прогуливался милиционер, и у Колокольникова шевельнулась мысль — а не подойти ли к нему да не рассказать, ради чего он уже несколько часов таскается за этим молодым пижоном. Но пока объясняешь, пижон может исчезнуть, а ведь дело-то уже, похоже, сделано… Наверняка в этом переулке он и живёт. Леонид Иванович подошёл к угловому дому, здесь как раз находился гастроном, и прямо у дверей с лотка продавали египетские апельсины. Народу толпилось много, и, не рискуя быть замеченным, Колокольников выглянул из-за угла. Парень был уже метрах в ста, шёл не оглядываясь, спокойно. И так же спокойно, не оглядываясь, свернул в подъезд большого серого дома. «Ну вот, голуба, теперь-то мы знаем, где вы обитаете». Колокольников пошёл по переулку, чтобы заметить номер дома и подъезд, куда зашел парень. Судя по тому, что на уровне второго этажа дома сохранилась старинная надпись: «Фризе Эмилия Александровна», со времени революции его ни разу не ремонтировали. Леонид Иванович осторожно открыл массивную чёрную дверь подъезда, надеясь хоть приблизительно определить, на каком этаже остановился лифт. Но лифта в доме не было. Колокольников сделал несколько шагов по пропахнувшему кошками и отсыревшей штукатуркой подъезду. Прислушался. И в это мгновение его ударили сзади по затылку. Удар был такой стремительный и сильный, что Леонид Иванович не успел даже вскрикнуть.
10
Приехав в зеленогорскую милицию, Корнилов прежде всего заглянул к начальнику — Петру Андреевичу Замятину, своему старому знакомому и партнёру по шахматам. По странному капризу судьбы они почти каждый год отдыхали в одно и то же время и в одном санатории — пили водичку в Ессентуках. Там-то и разыгрывались у них многочасовые шахматные баталии, не имевшие, кстати, продолжения по возвращении из отпуска. Пётр Андреевич был года на четыре моложе Корнилова, но выглядел старше. То ли излишняя полнота давала себя знать, то ли какая-то простецкая манера держаться, едва уловимая опрощённость. Корнилов мысленно называл это отсутствием внутренней собранности и часто с сожалением замечал её следы у многих работников, долгие годы прослуживших в области. И это совсем не зависело, откуда родом человек — выдвиженец из местных или присланный из города. И даже, как много раз убеждался полковник, совсем не свидетельствовало о том, что такие люди хуже работают. Просто у Корнилова было твёрдое убеждение: человек, внутренне собранный, способен быть более чутким к делу. У Петра Андреевича сидел пожилой майор, докладывал какое-то дело, листая исписанные размашистым почерком страницы большого блокнота. Он даже не обернулся на стук хлопнувшей двери. Увидев входящего в кабинет Корнилова, Пётр Андреевич радостно улыбнулся, поднял в приветствии руку. — Потом, потом, Посохин, — остановил он майора. — Через часик зайдёшь, продолжим. Майор огорчённо посмотрел на начальника, хотел что-то сказать, но Пётр Андреевич нетерпеливо махнул рукой и повторил: — Через часик. Не видишь, начальство приехало? Майор обернулся и, увидев Корнилова, вскочил: — Здравия желаю, товарищ полковник. Корнилов поздоровался. Лицо майора было ему незнакомо, но тот, наверное, встречал его на совещаниях в управлении. Майор, засунув свой блокнот в карман, поспешно вышел из кабинета. Пётр Андреевич, улыбаясь, оглядел Корнилова, почти восхищённо покачал головой. — Ну-ну, товарищ начальник, — остановил его Корнилов, — не старайтесь показать, что с каждым годом я выгляжу всё моложе. Вы вот, например, живя среди лесов и парков, мало дышите воздухом. Цвет лица у вас бледноватый. — Давай, давай, сыпь комплименты, — смеялся Пётр Андреевич. — У тебя это здорово получается. — Я — человек правдивый. Режу правду-матку в глаза, — усмехнулся полковник. У них уже вошло в традицию подтрунивать друг над другом при встречах — сказывались совместные хождения по врачебным процедурам в санатории. — Что-нибудь серьёзное? — спросил Пётр Андреевич, когда, обменявшись несколькими фразами о здоровье домашних, они уселись друг против друга. — Аникин тебя ждёт. — Да всё об этом происшествии на пятьдесят пятом километре, — ответил Корнилов, поудобнее усаживаясь. Пётр Андреевич недоумённо пожал плечами. — Странная история. Я подробно расспросил сотрудников, которые выезжали на место происшествия: ни человека не нашли, ни следов! Больницы все проверили… — Знаю, знаю, — сказал Корнилов. — Только всё обернулось посерьёзнее, чем инспекторы ГАИ себе это представляли. — И он подробно рассказал Петру Андреевичу о том, что удалось выяснить. Замятин несколько минут сидел молча, насупившись, постукивая друг о друга костяшками сжатых кулаков. — Ты уверен, Игорь Васильевич, что у вдовы профессора Блошкина такой матёрый преступник жил? — спросил он наконец. — И что под машину Бур угодил? И что сверло, которое нашёл Колокольников… — Пётр Андреевич, — перебил Замятина Корнилов, — столько вопросов сразу. Давай по очереди. У Блошкиной сейчас наш сотрудник. Да ты, наверное, знаешь, Семён Бугаев. Проводит опознание по фотографий. Так что минут через двадцать будем знать точно. — Он достал пачку сигарет, посмотрел вопросительно на Петра Андреевича. — Кури, кури. Сам Замятин за всю свою жизнь ни разу сигареты в рот не взял. — Но насчёт Лёвы Бура у меня сомнений нет. Это он у тебя под боком по чужому паспорту проживал. И под машину скорее всего он угодил. Я-то думаю, случайно. А там уж одному господу известно. И знаком Лёва был с одной местной жительницей — кассиром сберкассы… — Интересно, — с расстановкой произнёс Пётр Андреевич. — Интересно! — с иронией повторил Корнилов. — Это Лёве Буру, наверное, с кассиршей было интересно… — Интересно то, — с нажимом сказал Замятин, — что ночью третьего августа в нашей сберкассе испортилась сигнализация. Дважды патрульная машина выезжала. Мы даже милицейский пост там оставили… — Та-а-к… — рука Игоря Васильевича с зажигалкой замерла на полпути к сигарете. — И что же случилось с сигнализацией? — За день до этого был штормовой ветер. Около сберкассы, на старой липе, сломало большой сук… — А он упал, — подхватил полковник, — на провода сигнализации? — Тебе уже доложили? — удивился Замятин. — Кто мне докладывал? — раздражаясь от слишком спокойного тона коллеги, сказал Корнилов. — Если я узнаю, что известный взломщик ночью выходит из квартиры с полным набором инструментов, а в пяти километрах находится сберкасса, где работает кассиром его приятельница, попробуйте убедить меня, что сигнализация в этой сберкассе выведена из строя штормовым ветром! — У нас не было сведений о Буре… — Ладно, — полковник махнул рукой и наконец прикурил. — С этим ты разберёшься позже. Вызови сейчас Аникина. Он как раз и должен был повидаться с этой кассиршей. Только я подумал и решил — преждевременно. А вдруг?.. — Да, чём чёрт не шутит… Правильно решил. Хочешь, чтобы мы понаблюдали за ней? — Хочу. И ещё хочу сейчас встретиться с её заведующей. — Знаю такую, — сказал Замятин. — Женщина, как говорится, приятная во всех отношениях. — Он улыбнулся. — И финансовый работник прекрасный. Серьёзная баба. — Аникин меня к ней и проводит… — К ней и я тебя проводить бы мог, — бодро начал Замятин, но тут же лицо его омрачила неприятная мысль. — Эх, нет! Я не смогу — несколько дач у нас в районе обокрали. Когда ты пришёл, майор мне докладывал как раз об этом. Надо закончить разговор. А так бы проводил — мы с Зоей Петровной в одном доме живём. Замятин снял трубку телефонного аппарата: — Коровкин, Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдёт. Участковый инспектор Аникин понравился и Корнилову. Хорошее открытое лицо, прямой взгляд. Он представился без подобострастия и без залихватской развязности, чего так не терпел полковник. Игорь Васильевич пригласил его сесть. — Озадачили мы вас сегодня? — спросил он, внимательно разглядывая лейтенанта. — Да, честно говоря, — кивнул Аникин. — Я специально к сберкассе пораньше пришёл. Думал Рогозину на улице перехватить. Чтобы у других сотрудников пересуды не возникли… — Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась у него вымученная. — Что-нибудь не так получилось? — спросил Корнилов. Он почувствовал за этой улыбкой мучавшее Аникина беспокойство. — Колокольников пропал, — тихо сказал участковый, побледнел и непроизвольно так сжал сцепленные пальцы, что они хрустнули. — Что значит пропал? — спросил Корнилов. Аникин молчал, собираясь с мыслями. — Павел Сергеевич! — подал голос Замятин. — Ты чего молчишь? — Сейчас, товарищ начальник… Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет. — Да, может, ещё рано плакать-то? — усомнился Корнилов. — Сегодня днём Колокольников встретил в Зеленогорске на вокзале мужчину. Того, который на месте катастрофы потерянное сверло искал… Мужчина ждал электричку на Ленинград. Колокольников тоже взял билет и поехал за ним. — Откуда это известно? — спросил Корнилов. — Он рассказал на вокзале одному знакомому, просил, чтобы тот сообщил жене. Пока, мол, они до города доедут, в Ленинграде милиционеры их уже встретят. А знакомый — болван! — не выдержал Аникин. — Зацепился за пивной ларёк, да только к вечеру и вспомнил. Корнилов посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Спросил Аникина: — Какой электричкой они ехали? — Пятнадцать десять. — Домой в Ленинград жена звонила? — Несколько раз звонила, не отвечает телефон. Жена всех знакомых на ноги подняла. — Никаких примет этого человека Колокольников своему знакомому не передал? — Он незаметно показал ему этого человека… Только знакомый… — Аникин безнадёжно махнул рукой. — К утру, может, проспится. А может, и нет. Пьян в стельку. Корнилов вспомнил свой разговор с Колокольниковым, когда тот никак не мог выдавить из своей памяти ни одной существенной приметы подозрительного мужчины, и подумал: «А встретил — сразу узнал. Иначе не поехал бы за ним». — Что, хотите делайте, а этого пьянчужку через час на ноги поставьте! — разозлился Корнилов. — Пригласите врачей! Они знают, как с алкашами обращаться. Нашатырь, пару клистиров… Понятно? — Понятно, товарищ полковник, — сказал Аникин. — Пётр Андреевич, распорядись вызвать в отделение «скорую». Лейтенант меня сейчас к завсберкассой проводит и вернётся. И пусть едет с врачами к свидетелю. Адрес-то знаете? — Так точно. — Скоро сюда подойдёт Бугаев. От профессорши вашей… — От Блошкиной, — напомнил Замятин. — Вот-вот! Введите его в курс дела. Пускай позвонит на Литейный. Поднимет ребят на поиски Колокольникова. Машину для него найдёте? — Найдём, — кивнул Замятин. — А то пускай меня дождётся, — Корнилов тяжело поднялся с кресла. — Поехали, лейтенант.11
— Вот её дом, — показал Аникин на стоящее в осадку жёлтое четырёхэтажное здание с эркерами. — Квартира семь. Третий этаж. Живёт с мужем и дочерью. — Проедем метров сто, — попросил Корнилов шофёра. — Чтобы не маячить перед окнами. «Волга» остановилась у небольшого скверика рядом с почтой. Корнилов попросил шофёра: — Отвези лейтенанта в райотдел и вернёшься. Жди на том же месте. — Он ещё хотел сказать Аникину, чтобы позвонили, если будут новости, — наверняка у заведующей сберкассой есть телефон, — но машина уже тронулась. Корнилов досадливо махнул рукой, но тут же подумал: «Ладно, долго я здесь не задержусь…» Дверь ему открыла девушка лет двадцати. У неё было узкое лицо, тонкий, чуть раздвоенный на самом кончике нос, русые волосы, уложенные копной на затылке. Вот только цвет её больших глаз он не успел разглядеть — в прихожей было темновато. — Вам кого? — спросила девушка. — Я хотел бы видеть Зою Петровну. — Пожалуйста, — девушка посторонилась, пропуская его в прихожую. — Проходите. — И крикнула негромко: — Мама, к тебе. Она пошла вперёд по небольшому коридорчику, открыла дверь в просторную, со вкусом обставленную комнату. Корнилову это сразу бросилось в глаза. Даже несмотря на то что в комнате стоял полумрак — лиловый августовский вечер уже заглядывал в окна. Высокая стройная женщина с такой же копной волос на затылке, что и у дочери, только совсем седых, стояла у стола и вынимала из сумки коробки с зубной пастой, баночки с кремом и, как показалось Корнилову, ещё какие-то чисто женские предметы обихода. Видимо, по дороге с работы она зашла в магазин. Обернувшись и увидев в дверях мужчину, Зоя Петровна ойкнула и смахнула все свои коробочки и баночки снова в сумку. — Извините, бога ради. Я думала, кто-то из соседок. — Она протянула дочери сумочку: — Таня, возьми, потом разберёшь. Там кое-что и для тебя. — И спросила: — А вы по какому делу? — Зоя Петровна, — сказал Корнилов, — мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Ваша дочь не обидится? — Он повернулся к Тане, внимательно разглядывающей содержание материной сумочки. — Ну что вы, что вы! — не поднимая глаз на Корнилова, сказала дочь. — Я испаряюсь… — Садитесь, пожалуйста, — предложила Зоя Петровна и подвинула Корнилову стул. — Может быть, зажечь свет? — Нет, нет, — запротестовал он. — Ещё не темно. Я должен представиться: полковник Корнилов из уголовного розыска. Женщина села напротив на другом конце стола. Внимательно посмотрела на полковника. В её поведении, во всех её действиях не чувствовалось тревоги, и это было приятно Корнилову. — Я вас слушаю. — Зоя Петровна… — начал Корнилов и тут вдруг вспомнил всё: огромную коммунальную квартиру на Пятой линии Васильевского острова, большую холодную комнату, в которой жили они с матерью в голодную зиму сорок первого, и слабые звуки рояля, доносившиеся из-за стены. Там вместе с больной тёткой жила его сверстница Зоя Лапина, как две капли воды похожая на дочь этой милой интеллигентной женщины, сидевшей сейчас напротив него в едва освещённой рассеянным светом комнате. «Неужели?» — подумал Корнилов и почувствовал, как упругой волной сдавило ему грудь. Но он тут же справился с собой и повторил: — Зоя Петровна, разговор, который мы сейчас с вами поведём, должен остаться между нами. И главное — человек, о котором я вас сейчас спрошу, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему, отношении… — Хорошо, товарищ Корнилов, — тихо ответила женщина и посмотрела на него уже с тревогой. — У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна… — Да, работает. Вернее, работала… — Она уволилась? — Нет ещё. Формально ещё работает. Дорабатывает. Она подала заявление три дня назад. Существуют сроки. Вы знаете… Корнилов кивнул. — Но в порядке исключения я обещала отпустить её раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на её место уже есть… «Сколько же мы не виделись с тобой, Зоя?» — думал Корнилов, глядя на сидящую перед ним немолодую, ох какую немолодую, но всё ещё обаятельную женщину. Зою Петровну, похоже, больше всего волновали не вопросы, которые задавал ей этот сухощавый, подтянутый, со вкусом одетый милиционер, а его неожиданные и долгие паузы и слишком уж пристальный, изучающий взгляд. Корнилов понял её беспокойство и вдруг очень по-доброму улыбнулся. Улыбка у него была, как показалось Зое Петровне, даже чуть виноватая. — Вы не смущайтесь, Зоя Петровна. Иногда сам ругаю себя за эту милицейскую привычку разглядывать человека… Простите. Зоя Петровна пожала плечами. — А что вы ещё хотели узнать о Кате Рогозиной? — Всё. Всё, что вы о ней знаете… И хорошее и плохое. И даже чуть больше. Что вам ваше женское чутьё подсказывает. Заведующая сберкассой растерянно посмотрела на Корнилова. — Да, да. И женское чутьё может помочь. Не к протоколу, конечно. — Как же он был рад видеть перед собой Зойку Лапину, свою первую детскую любовь, свою подругу по шумным играм в их огромной квартире. Был рад даже за то, что неожиданная встреча с ней заставила его вспомнить и радостные годы предвоенного детства, и горькие дни блокады. Но эта женщина, сидевшая сейчас перед ним, встревоженная, сосредоточенная, не узнавала его. Её мысли были здесь, в сегодняшнем дне, в делах сберкассы, которой она заведовала, в делах её сотрудниц. И Зоя Петровна лихорадочно мучилась над вопросом, чем же могла привлечь внимание милиции, уголовного розыска Катя Рогозина. — Я начну с её поступления на работу? — наконец спросила Зоя Петровна. — Конечно, — кивнул Игорь Васильевич. — Рогозина проработала у нас два года. Как раз через неделю исполнилось бы два года. Такое совпадение… Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе. С хорошими характеристиками. Это можно посмотреть в личном деле… — Да, да. Может быть, завтра кто-нибудь подойдёт к вам… — Работала неплохо. — Зоя Петровна задумалась. — Не могу сказать, что образцовый работник — были и замечания. Иногда нагрубит клиенту, иногда опоздает с обеда. Но это — дело житейское. А вот по части денег — ни одной жалобы. Никаких финансовых огрехов… Корнилов внимательно слушал Зою Петровну, изредка делая заметки на сложенном вчетверо листке бумаги, а мозг сверлила мысль: «Она подала заявление три дня назад. Три дня назад. В тот день, когда сбит автомашиной Лев Котлуков, её знакомый. Случайное совпадение или?..» — Где жила Рогозина? — Снимала комнату в Зеленогорске. Недалеко от сберкассы. У нас тяжело с жильём. Особенно у нас, у финансовых работников. Нам почему-то дают в последнюю очередь. Кстати, Катя сказала, что надеется найти в Ленинграде работу с жильём. — Не думаю, чтобы там было проще, — задумчиво сказал Корнилов. — Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление. — Кассиром или просто на стройку? — Кассиром, конечно. — Её друзья, подруги? — спросил Корнилов. Ему мешало сейчас то, что он разговаривает не с абстрактной заведующей сберкассой, а с давно знакомым и когда-то близким ему человеком. Хотя этот человек настолько занят сейчас ответами на его нелегкие вопросы, что даже не догадывается, кто эти вопросы задаёт. Даже не пытается внимательно вглядеться в его лицо. А может быть, он так изменился? Так постарел, что в этом сильно поседевшем, суховатом и, что говорить, мрачноватом человеке невозможно узнать шумного и скорого на выдумки и проказы соседского мальчишку? — Подруги у неё были, — продолжала рассказывать Зоя Петровна. — Но на стороне. В сберкассе Катя самая молодая. Остальным уже к пятидесяти. Одна на пенсию собирается. Так что интересы у них известные — дом, семья, магазины… А Катя незамужняя. — И никогда не была? Зоя Петровна развела руками: — В анкете она не написала. А в душу лезть к человеку… Я не расспрашивала. Может, кто-то из сотрудниц и знает. — Зоя Петровна, теперь попрошу вас быть очень внимательной, — тихо сказал Корнилов. — Три дня назад, во вторник… Накануне того дня, когда Рогозина подала вам заявление об уходе, вспомните всё, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь. — Да всё, как обычно… — нерешительно сказала заведующая сберкассой. — Никто не опоздал… — Вы пришли первая? — Да. — Сигнализация, пломбы — всё было в порядке? — Сигнализация не работала, — упавшим голосом произнесла Зоя Петровна. — Почему? — Когда я уходила вечером, всё было в порядке. Ночью, часов в двенадцать, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, к сберкассе выехала оперативная машина. Оказалось, что упал большой сук и оборвал провода… Тогда оставили на всю ночь у дверей милицейский пост. Утром я пришла на час раньше, милиционер дежурил у дверей… «Этому милиционеру повезло, — подумал Корнилов. — Если бы Лёва Бур не попал под автомобиль, милиционера бы убили и втащили в сберкассу». — Зоя Петровна, — спросил он. — А почему провода? Разве к сберкассе не подведен кабель? — Целая история, — вздохнула Зоя Петровна. — В прошлом году рыли котлован под фундамент нового дома, повредили телефонный кабель и сигнализацию. Перебросили временную связь по воздуху. Я устала писать докладные… Зазвонил телефон. Зоя Петровна встала, взяла трубку. — Вас, товарищ Корнилов… Звонил Замятин. — Бугаев тут тебя дожидается, — доложил Пётр Андреевич. — Признала Блошкина Бура. И старичок постоялец признал. — И спросил уж совсем по-свойски: — Ужинать не собираешься? А то я сейчас подъеду, от Зои Петровны тебе только в другую парадную перейти. — Да нет, отложим до спокойных времен, — вздохнул Корнилов. — Знаю, чем бы твоя Мария угостила. Но сам видишь… Алкоголика, кстати, привели в чувство? — Приводят, — поскучневшим голосом ответил Замятин. — Поторопи их, поторопи, Пётр Андреевич, — попросил полковник. — А пообедаем в следующий раз. Такие вот пироги… — Он повесил трубку. — А я тебя узнала, Игорь, — с удивлением и с радостью сказала вдруг Зоя Петровна. — Узнала. Только сейчас узнала. Когда ты про пироги сказал… Дверь в комнату отворилась. Вошла Зоина дочь. — Мама, ты же голодная! — сказала она недовольно. — Давно пора ужинать. Может быть, и наш гость проголодался. И почему здесь так темно? — Она щёлкнула выключателем, и засветились все пять рожков простенькой люстры. Таня с удивлением посмотрела на мать. Та сидела, подперев щёку ладонью, с отрешённым, отсутствующим выражением лица и слабой, еле заметной улыбкой. И глаза у неё повлажнели, словно густой туман оседал в них, грозя выпасть росою. — Что-нибудь случилось? — испуганно спросила Таня и перевела взгляд на Корнилова. По-видимому, выражение его лица не предвещало никаких неприятностей, и девушка успокоилась. — Я приготовила ужин. Принести сюда? — Танечка, если вас не затруднит, принесите нам по стакану чая, — попросил Корнилов. — У нас ещё на пять минут секретов, а потом я уезжаю. — Мама пьёт чай из своей любимой чашки, — кокетливо сказала Таня, окинув Корнилова быстрым внимательным взглядом и, видимо, вполне одобрив его. — Маме в любимой чашке, — засмеялся Корнилов. — Я, кстати, тоже люблю из чашки. Зоя Петровна, встряхнув головой, словно отогнав нахлынувшие воспоминания, сказала: — Таня, это Игорь Васильевич Корнилов. Помнишь, я тебе рассказывала… До войны мы жили в одной квартире на Пятой линии. Игорь — «такие пироги». Который ходил по карнизу пятого этажа. — И писал тебе стихи про любовь? — спросила Таня. Корнилов засмеялся и почувствовал, что краснеет. Таня сделала перед ним лёгкий реверанс. — Ладно, ладно. Ухожу. — Она уже пошла из комнаты, но с порога обернулась и спросила: — Сколько же вы не виделись, друзья детства? — С сорок четвёртого, — ответил Корнилов. — После того, как твою маму увезли из детского дома к каким-то родственникам. — К деду! — сказала Таня. — Мама, ведь тебя увезли к дедушке? В Хабаровск? Зоя Петровна кивнула. Они сидели молча, пока Таня не принесла на подносе чайник и две чашки, сахарницу и вазочку с печеньем. Когда она ушла, Корнилов спросил: — Ты никогда не ходила в эту квартиру? Зоя Петровна покачала головой. — А я ходил. Один раз из любопытства, а другой — служба заставила. Помнишь дядю Мишу? Мы его чернокнижником звали? — Помню. — Его библиотеку украли. Самые ценные книги. Вот мне и пришлось заниматься. — Корниловгрустно улыбнулся. — Только он меня не признал. Как и ты сначала. — Ему ведь уже лет восемьдесят. — Да, сейчас было бы около того. Но десять лет назад он умёр. Через месяц после кражи. Не перенёс старик. И книги ведь мы нашли. На третий день… — А ты помнишь, Игорь, Епишкина? — спросила Зоя Петровна. — Как он крупу из банок на кухне отсыпал? А когда голод начался, у Любавиных карточки украл. — Поверишь ли, Зоя, когда мне приходится со всякой сволочью разговаривать, — он усмехнулся недобро, — из моих клиентов мне всегда лицо этого Епишкина вспоминается. И как сандружинницы Любавиных весной из квартиры увозили… А… — он досадливо махнул рукой. — Что мы с тобой всё о печальном? — Он посмотрел на часы. Было уже пятнадцать минут девятого. — А на приятное и времени не осталось. — Корнилов встал из-за стола. — Зоя, прошу тебя, как договорились — никому ни слова. И Рогозиной — никакого намёка. Сыграй. Я помню, в детском доме у тебя в самодеятельности хорошо получалось. Если будет к месту, поинтересуйся, не подыскала ли она себе работу. Позвони. — Он написал на клочке бумаги свой служебный телефон. Хотел написать домашний, но не на писал. — Если меня не будет, секретарь мне передаст. Это очень серьёзно! Она пошла его провожать. — Дочка у тебя красавица. Я как увидел её — сразу вспомнил Зою Лапину. Кстати, а сейчас у тебя какая фамилия? — Лапина, — ответила Зоя Петровна. — Мы так с мужем договорились. После войны все друг друга разыскивали, я и подумала — так моим родственникам будет проще. Если кто захочет разыскать. Таня вышла из кухни. — Я тоже хочу с вами проститься, Игорь… — Васильевич. — Игорь Васильевич. Очень рада была с вами познакомиться. — Танины слова опять прозвучали кокетливо, и мать с удивлением покосилась на неё. — Вы к нам ещё заедёте? Корнилов посмотрел на Зою Петровну. Она молчала, но и в её больших глазах он почувствовал вопрос. — Обязательно заеду, — сказал Игорь Васильевич.…В райотделе Бугаев играл в шахматы с Петром Андреевичем. Оба выглядели усталыми, серыми. Рядом с шахматной доской стояли стаканы из-под чая, на листе белой бумаги лежало полбатона. «Не ушёл Пётр к домашним разносолам, — тепло подумал Корнилов. — Дождался». А вслух сказал: — Давно мог дома быть, жену в кино сводить успел. Я у вас тут афишу видел: «Укол зонтиком». Французская комедия. Обхохочешься. — А вы её видели, товарищ полковник? — с удивлением спросил Бугаев. — Люди говорят, — смущённо буркнул Корнилов. — Мы сейчас едем, а к тебе, Пётр Андреевич, одна просьба — выяснить досконально, почему отключилась сигнализация в сберкассе? Завтра пришлю толкового эксперта. Но только чтобы ни одна живая душа об этом не знала. Ты, твой начальник розыска, наш эксперт. И если надо — можешь с Лапиной советоваться. — Всё понял, Игорь Васильевич, — серьёзно сказал Замятин. — Лапина серьёзная баба, правда? — Правда. А Рогозина у неё увольняется. Хочет в городе работу искать. Проверьте её связи в Зеленогорске. И тоже чтобы комар носа не подточил. Если за ней кто-то кроме Лёвы Бура стоит, они прохлаждаться долго не будут.
…Всю дорогу до Ленинграда ехали молча. Бугаев дремал на заднем сиденье, а Игорь Васильевич рассеянно глядел на мелькавшие в лесу дачи, на внезапно открывшиеся просветы среди сосен, за которыми серебрился залив и светились прерывистой цепочкой дальние огоньки Кронштадта. И перед глазами у него стояло лицо Зои Лапиной, той, давней Зои с Васильевского острова. Вернее, лицо её дочери Тани… …В блокаду Зоина тётка умерла в январе сорок второго, и Вера Сергеевна, мать Игоря, удочерила девочку. Корнилов хорошо помнил то время. Зоя перебралась к ним в комнату — тёткин труп так и пролежал до весны на кровати, прикрытый зелёным байковым одеялом. Первое время они боялись ходить в «ту» комнату, но пришло, время, и нужда заставила — сначала взяли оттуда стулья, маленький ломберный столик для «буржуйки». Потом стали таскать подшивки старых журналов, книги. Однажды, вытаскивая из письменного стола ящики и вываливая их содержимое прямо на пол, Корнилов увидел небольшой револьвер в тонкой замшевой кобуре. Замша была золотистая и мягкая. Корнилову даже показалось, что она тёплая. Расстегнув перламутровую кнопку и вынув револьвер, он замер от восхищения — тёмный воронёный металл отливал синевой, а ручка была перламутровая и напомнила ему мамин театральный бинокль. — Оставь! — сказала Зоя. — Это папин. Тётя все время хотела бросить его в Неву — боялась, что когда-нибудь его найдут и нас всех арестуют. И папу тоже. — Что ж не бросила? — Жалела. Папе его подарили, когда он работал в Китае. За храбрость. — И боялась, и жалела! — засмеялся Корнилов и тут же осёкся, обернувшись на зловещий силуэт лежащей на кровати мертвой Зоиной тётки. Он спрятал револьвер в карман и показал Зое кулак: — Чтоб матери ни слова! Они эвакуировались в июле. Кроме других документов требовалась справка санэпидстанции, и вместе с матерью они пошли в баню на углу Среднего и Пятой линии. Корнилову пришлось идти вместе с Зоей и матерью, — в бане были «мужские» и «женские» дни. Они попали на «женский», а день просрочки мог надолго задержать их отправку. Как ни странно было ему сейчас вспоминать, он совершенно не испытывал тогда ни стеснения, ни стыда! В густом пару, в гулком грохоте цинковых шаек, в гуле голосов у Игоря чуть-чуть кружилась голова не то от слабости, не то от сладкой истомы и блаженства, охватившего его, когда мать нежно водила мочалкой по исхудавшему, почти бесплотному телу. Зоя сидела напротив, безвольно опустив руки. Она намылила свои густые русые волосы, и, наверное, на большее у неё не хватило силы. Она не была такой исхудавшей, как Корнилов — молодая, почти развившаяся девушка с полной грудью. Уже потом, после войны, Игорь Васильевич слышал от одного известного медика, что некоторые люди, умирая от голода, совсем не выглядели как дистрофики… Несколько лет Корнилова преследовало видение, сопровождаемое звуковыми галлюцинациями: шум бьющей из кранов воды, гулкое эхо женских голосов и нежная, обессиленная девочка с опущенными руками, сидящая напротив него и временами исчезающая — то ли в клубах пара, то ли из-за того, что он сам на секунды терял сознание… Мать посадила их на Московском вокзале в старенький вагон пригородного поезда, с трудом помогла затащить два больших чемодана и несколько узлов с вещами. Обошла весь вагон в поисках попутчиков, которые помогли бы ребятам перетащить вещи на Ладоге. Но в вагоне сидели одни дети и старики. — Управляйтесь, ребята, сами, — сказала она, едва сдерживая слёзы. — И друг без друга — никуда. Вместе прочнее. Да и там тоже люди живут — без помощи не оставят. — Она расцеловала их обоих. Шепнула Зое: — Я запросы послала, может, и разыщутся твои родные. Саму её не отпустили с завода. Предприятие было огромное, каждый человек на учёте. …Корнилов хорошо помнил, как через неделю пути они остались совсем одни в незнакомом уральском городе. Три дня прожили в детприёмнике, а потом молодой, вечно подмигивающий мужчина, которого все звали дядя Коля — эвакуатор детприёмника, привёз их и ещё десятка три ребятишек на маленькую станцию, откуда надо было ехать на подводах в детский дом, затерянный в глухих пермских лесах. Приехали они на станцию ночью, никаких подвод ещё не прислали, и пришлось ждать в пустом, холодном зале. Вокруг дяди Коли увивались три довольно взрослых парня. Корнилову шепнул один из таких же, как и он, эвакуированных из Ленинграда ребятишек, что это «урки», уже не раз бегавшие из разных детских домов. И дяде Коле поручили спровадить их в очередной, подальше от станции. Парни эти вели себя сначала довольно смирно, но потом откуда-то достали самогона и вместе с дядей Колей устроили пирушку. Захмелев, эвакуатор сказал мечтательно: — Гармонь бы мне сейчас. Сыграл вам, заморыши, согрелись бы сразу. Зоя, сидевшая рядом с Корниловым, обернулась к нему и шепнула: — Игорь, у нас же… Он не успел возразить ей, как Зоя крикнула: — Дядя Коля, у нас с Игорем аккордеон есть. Поиграйте… Этот аккордеон был Зоин, но когда мать собирала их в дорогу, не разбирала, что чьё, и складывала вместе вещи, которые потом можно было бы продать или обменять на продукты. — Давай, девочка, аккордеон, — обрадовался дядя Коля. Вместе со своими молодыми прихлебателями он подошёл к ребятам. Зоя сдёрнула с футляра сшитый матерью из старого одеяла чехол, расстегнула футляр… Вздох изумления непроизвольно вырвался у всех, кто сгрудился вокруг ребят. В этом холодном, заплёванном зале ожидания будто стало сразу светлее — отделанный розовым перламутром, аккордеон выглядел здесь словно чудо. — Ну и вещь! — восхищённо прошептал дядя Коля. — За него и взяться-то боязно. — Он осторожно провёл не очень чистой своей ладонью по перламутру, и Корнилову показалось, что в этом месте всё потускнело. «Не видать нам больше аккордеона», — мелькнула у него мысль. Дядя Коля наконец достал инструмент из футляра, надел ремень на плечо, тихонько развернул мехи. Нежный слабый стон, не успев родиться, утонул в морозном воздухе зала ожидания. Тогда дядя Коля рванул мехи с силой и, приклонив голову к аккордеону, заиграл что-то весёлое, задиристое. Все столпились вокруг. Ожили тусклые ребячьи лица, кто-то уже непроизвольно притопывал ногой, кто-то раскачивался в такт музыке всем телом. А дядя Коля всё играл и играл. Весело подмигивал ребятам, приглашая двигаться, танцевать. Он играл и вальсы, и танго, и какие-то сложные, не известные Корнилову пьесы. И даже так любимый им «Этюд для Элизы», с которого Зоя ещё до войны начинала свой урок музыки. Звуки рояля, на котором она играла, были слышны по всей квартире и всегда вызывали у него лёгкую грусть. — Что ты муру всякую пилишь? — сказал эвакуатору один из парней. — Врежь что-нибудь нашенское. Чтобы за душу брало. Дядя Коля понимающе подмигнул и улыбнулся, показав золотой зуб. И как-то сразу, без перехода, заиграл: «С одесского кичмана…», потом «Мурку». Потом заунывную песню про Чеснока и васинских парней. Откуда-то появилась еще бутылка самогона. Дядя Коля прервался на минуту, чтобы опрокинуть стакан. И снова играл. Но теперь уже только протяжные и заунывные песни. К Зое подсел один из блатных парней, усмехнулся, покровительственно сказал: — А ты ничего, деваха. Я не разобрался сразу. Завязалась платком, как бабка… У тебя, может, ещё чего фартового среди шмуток есть? — Нету ничего, — сердито ответила Зоя, уже понимая, какую беду навлекла на себя и на Игоря, вытащив свой шикарный аккордеон. — А если подумать? — усмехнулся парень. Усмехнулся совсем по-доброму, без угрозы. Только глаза у него были бегающие. Корнилов больше всего напугался этих глаз. — Нет, нету. Мы вот с братом вместе едем. У нас ничего интересного для вас больше нет. — Этот, что ли, брат? — оглянулся парень на Корнилова. — Этот. — С ним мы поладим, — лениво сказал парень. И теперь уже в его голосе чувствовалась угроза. — Может, всё-таки посмотрим? — не отставал он. — Пощупаем ваши уголки. И тебя заодно пощупаем. Кровь прилила Корнилову к лицу. — Да я тебе… — Голос у него сорвался, как у молодого петуха. — Дядя Коля! — пронзительно крикнула Зоя. Музыка резко оборвалась. — Чего там? — спросил эвакуатор недовольно. Парень трусовато отодвинулся от Зои. — Чего он пристаёт? — уже спокойно сказала Зоя. — И чемоданы раскрыть хочет. — У-у! — тихо прошипел парень и тут же улыбнулся дяде Коле: — Шуток не понимает. Дистрофичка! — Садись-ка рядом, — зло сказал эвакуатор. Парень с наглой улыбкой лениво отошёл от скамейки, на которой сидели Зоя с Игорем. Дядя Коля ещё поиграл немного. Потом убрал аккордеон в футляр и сказал: — Подремлем, ребятки, минут шестьсот. Утром небось приедут за нами. Больше ребята своего аккордеона не видели. Подводы пришли к станции только к полудню. Дядя Коля ругался с извозчиками, помогал ребятам рассаживаться с узлами на телегах. Почему-то получилось так, что Зое и Игорю надо было грузиться на разные подводы. Они запротестовали. Зоя расплакалась, и дядя Коля посадил их вместе. Лесная дорога была разбита, колеса вязли в грязи по ступицу. Несколько раз делали остановки. Распоряжался всем уже не дядя Коля, а старый мужчина, воспитатель из детского дома, куда они ехали. Ребятам дали поесть — по кружке холодного молока да по большой шаньге — круглой лепёшке с картошкой. Во время одной из таких остановок к подводе, где ехали ребята, подошли три парня. — Эй вы, дистрофики, — тихо сказал один из них — Корнилов узнал голос того, который приставал к Зое ещё на станции. — Гоните ваши узлы. Пикните — пришью. Корнилов осторожно вынул из кармана своего осеннего пальтишка маленький револьвер, семейную реликвию Зоиной семьи, и взвёл курок. Сколько раз, ещё в Ленинграде, когда никого не было дома, он вынимал из тайника эту любимую свою игрушку и любовался ею. То высыпал маленькие патроны из барабана, то осторожно засовывал их в гнёзда, взводил курок и целился в воображаемого врага — этим врагом всегда был человек со зловещим фашистским знаком на каске и с чёрными усиками, как у Гитлера, над тонким змеиным ртом. — Долго я ждать буду! — прошипел парень. И Корнилов выстрелил наугад в темноту. Выстрелил, не думая о последствиях, о том, что его ждёт. Его трясло, то ли от холода, то ли от внезапно нахлынувшего бешенства. Он снова видел перед собой эту проклятую каску и тонкий змеиный рот. Кто-то закричал. Заржали и вдруг понесли лошади. — Эй, эй! — завопил мужской голос. Корнилов узнал голос возницы. Услышал быстрые, чавкающие по глинистой дорожной каше шаги бегущего человека. — Стой, родные! Стой! — кричал он. И кони, наверное, узнали голос своего хозяина. Остановились. Прибежали учитель с дядей Колей. — Молчи! — успел шепнуть Корнилов Зое. У него была мысль швырнуть револьвер в лес, в темноту, но вместо этого он сунул его в сено, на котором они сидели. — Что тут произошло? — спросил воспитатель. — Кто-то стрелял, — сказала Зоя. — Кто стрелял? Откуда? — испуганно крикнул дядя Коля. — Из лесу. Как просвистит над головой! — соврал Корнилов. — Кто ж тут может стрелять? — Может, дезертир какой? — предположил возница. — У нас тут месяц назад милиция поймала одного. В землянке жил. И ружьё имел. Обоз потихоньку тронулся. Словно почувствовав что-то, дядя Коля сел на подводу, где ехали Зоя с Игорем, но ни о чём не спрашивал. Молчал всю дорогу. Когда ночью они наконец добрались до места — старинного пермяцкого села, в котором размещался детский дом, среди их команды недосчитались троих. И у многих ребят недоставало вещей — то узла, то чемодана. — Такая дорога, — проворчал дядя Коля. — Одни ухабы, все кишки растрясло. Немудрено было и узлы растерять. — А дети? — спросил воспитатель. — Куда девались три парня? Надо же поиски организовать. — Ищи ветра в поле, — усмехнулся эвакуатор. — Эти уже по три побега имеют. Я думал, они ещё из поезда слиняют. Навязывают всякую шантрапу. Ворьё. А Корнилов был уверен, что и эти парни и дядя Коля — одна шайка-лейка. Куда бы он тогда пристроил их аккордеон? Ведь ещё на станции он положил футляр с аккордеоном на одну из подвод, а сейчас остался с потёртым портфелем. О том, попал он или не попал в грабителей, Корнилов тогда особенно не задумывался. Только горевал, что револьвер свой в сене уж не нашёл. Дорога и впрямь была тряская. Где-нибудь и выпал он в осеннюю грязь… Месяца через три в их детдоме снова появился дядя Коля. Привёз очередную партию ребятишек. Наткнувшись в коридоре на Корнилова, он круто развернулся и хотел было улизнуть, боялся, наверное, что Игорь спросит его про аккордеон. Но Корнилова интересовало совсем другое. Набравшись смелости, он окликнул дядю Колю, и тот нехотя остановился. — Новеньких привезли? — как ни в чём не бывало спросил Корнилов. — Ленинградцы есть? — Есть. Трое. — А те? Что по дороге прошлый раз сбежали? Эвакуатор усмехнулся, обнажив свой золотой зуб. — Вон тебя кто интересует… Кентора блатная. Взяли их на станции с ворованными вещами. Теперь уже их не детский дом ожидает. Другой дом, паря. — Всех троих взяли? — спросил Корнилов, и этим выдал себя дяде Коле с головой. Тот внимательно, словно впервые увидел, оглядел Корнилова злыми, с прищуром глазами и подмигнул по привычке. — Здоровьичком, значит, ихним интересуешься? Ну, смотри, паря, смотри. Не столкнись с ними где-нибудь нос к носу. — Он, не прощаясь, повернулся спиной и пошёл по своим делам. …Через два дня, когда дядя Коля уже уехал, в детский дом пришёл милиционер и долго сидел в кабинете у директора. Потом туда вызвали Корнилова. Директриса Викторина Ивановна молча показала ему на стул. Корнилов сел. — Этот, что ли? — спросил милиционер. Викторина Ивановна кивнула. — Мальчик, у тебя оружие есть? — спросил милиционер. — Какое оружие? — глядя в пол, ответил Корнилов. — Огнестрельное, — рассудительно сказал милиционер. — Из которого стрелять можно. Наган, например, или обрез. А может, мелкокалиберка. — Нету у меня ничего. — А говорят, есть. — Кто говорит? — тихо спросил Корнилов, холодея от мысли о том, что могла проговориться Зоя. — Люди говорят. Письмо написали в милицию, что ты пистолет прячешь. Зачем он тебе, мальчик? Фашист от наших мест далеко, это в Ленинграде мог бы пригодиться, а здесь ни к чему. — Милиционер говорил рассудительно, по-доброму, словно угадывая мысли Корнилова. Слёзы против воли вдруг закапали у него из глаз, и он уже хотел всё рассказать, но испугался — а вдруг дядя Коля соврал ему и он всё-таки не промахнулся. — Ну ладно, ладно, — ласково сказал милиционер, — не плачь. Все вы, дистрофики, такие чувствительные… Он, как и тот подонок, назвал Корнилова дистрофиком, но столько сочувствия было в его словах, что теперь уже Игорь разревелся по-настоящему. — Ну ладно, ладно, — милиционер встал, положил ему на плечо тяжёлую руку. — Не реви, не реви. Отдохнёшь у нас на свежем воздухе, на шанежках да на молочке, и повеселеешь. А обыск я всё же сделать должен, — обернулся он к директрисе. — Пускай малец покажет, где постель и вещи. — Вещи в бельевой хранятся, — сказала Викторина Ивановна. — Ну вот и хорошо. Они пошли вместе, и милиционер дотошно прощупал матрас и подушку на койке Корнилова, заглянул под кровать, в тумбочку. В бельевую позвали и Зою — вещи-то были их общие. Викторина Ивановна сама открыла чемоданы, разворачивала перед милиционером каждую вещичку. Его внимание привлёк набор десертных серебряных ножей. Ручки у них были расписаны чернью, да и вообще ножи походили на маленькие кинжальчики. — Это уже непорядок, — сказал милиционер. — Это холодное оружие. — Для фруктов ножички, — Викторина Ивановна взяла один, любовно провела по рисунку длинными пальцами, потом легко согнула лезвие. — Видите? Им и курицу не зарежешь. Серебро. Гнётся. — Под вашу личную ответственность, — насупившись сказал милиционер и ушёл, на прощанье взъерошив отросшие после стрижки в санпропускнике Игоревы волосы. Они хотели укладывать все вещи назад, в чемодан и узлы, когда Зоя вдруг сказала: — Давай разложим отдельно. Твои и мои. Так проще. Корнилов даже не нашёлся, что ответить. Стоял соляным столбом и смотрел то на Зою, то на Викторину Ивановну. Ему казалось, что раздели они сейчас весь свой багаж — и жизнь пойдет совсем по-другому. Тоже разделится, разбежится по сторонам. И дружба разделится. — А надо ли, Зоечка? — спросила директриса. — Так удобнее, — сказала Зоя. — Игорева мама обещала разыскать моего дедушку. А может, папа найдётся. Вдруг срочно придётся уезжать? Викторина Ивановна сердито передёрнула плечами. — Ну, делитесь, делитесь. — И, вынимая из узла пальто или платье, спрашивала: — Это чьё? — Моё, — говорила Зоя. И правда, почти все вещи были из имущества её тетки. — Моё. Моё. Моё, — монотонно звучал Зоин мягкий голосок. — Да твоё-то здесь есть что-нибудь? — вспылила Викторина Ивановна на Корнилова. — Стоишь как истукан. Язык проглотил? — У меня в том чемодане коллекция марок, — показал Корнилов на большой коричневый чемодан. — И чемодан мамин. — Чьей мамы? — горестно спросила директриса. — Она ведь теперь у вас общая. Она ведь и Зоечку удочерила. — Моей мамы, — ожесточился Корнилов. И вспомнил ещё про большой микроскоп, лежащий в одном из тюков. Микроскоп, правда, был из Зоиной комнаты, но уж очень ему нравился. Он и засунул-то его тайком от матери. — Микроскоп ещё мой! И мамин платок пуховый. — Больше вспомнить он ничего не мог и так и остался бы со своими марками и микроскопом, завязанными в материнский пуховый платок, если бы Викторина Ивановна не ожесточилась и, уже не спрашивая Зою, не покидала на его сторону кое-что из вещей. Потом, когда Зоя через три месяца действительно уехала, разысканная дедом, эти тряпки Корнилову очень пригодились — весной было очень голодно, и он время от времени ходил с кем-нибудь из своих новых друзей-детдомовцев в соседнюю деревню, выменивая вещи на тёплые караваи хлеба, на большие замороженные круги молока — самого вкусного лакомства детдомовской поры. Уехала Зоя, и распалась их временная семья. Осталась только до сих пор хранимая Корниловым справка: такие-то, брат и сестра, направляются в эвакуацию из города Ленинграда… И на всю жизнь запомнил Игорь Васильевич урок с маленьким револьвером в замшевом футляре. «Маленькая красивая игрушка — а ведь на волосок, на волосок я был от того, чтобы совершить непоправимое», — часто думал он, особенно остро переживая эту давнюю историю, когда приходилось брать какого-нибудь молодого преступника, имевшего при себе оружие…
…Приехав домой, Корнилов сразу же позвонил в управление. Белянчиков дожидался его звонка. — С Колокольниковым ничего не прояснилось? — спросил Игорь Васильевич. — Ничего. Провели работу на трассе, на Финляндском. Никаких чепе. — А как с поисками автомашины? — вздохнув, поинтересовался Корнилов. — Есть идеи, Игорь Васильевич. Завтра доложу. — Хорошо бы вместо идей была машина, — грустно пошутил полковник. — Ты, Юра, валяй домой. Отдыхай. Завтра жду тебя к половине девятого… Белянчиков позвонил Корнилову в первом часу ночи. На Васильевском острове, в подъезде одного из старых домов, нашли тяжелораненого Колокольникова. Состояние у Леонида Ивановича было критическое — кирпичом разбита голова. Большая потеря крови. — Сколько же он там пролежал, в этом подъезде? — сердито сказал Игорь Васильевич. — Врачи говорят — не менее шести часов. Подъезд тёмный. На эту лестницу всего две квартиры выходят. Один из жильцов пошёл поздно вечером собаку прогулять, она и привела его к потерпевшему. Под лестницей лежал… — И никаких следов? — спросил полковник, понимая, что за шесть часов там все затоптали. — Пока никаких. Служебную собаку пустили, да какое там… «Эх, Леонид Иваныч! — с горечью подумал Корнилов, вешая трубку. — Не послушал ты моего совета…»
12
Поиски автомобилиста, сбившего человека на пятьдесят пятом километре, Корнилов назвал «операцией просеивания», а Белянчиков окрестил её «испытанием на выживание»; кроме станций технического обслуживания, «левым» ремонтом автомашин занимались в таксомоторных парках, в больших кооперативных гаражах и сотни «умельцев» в городе и области работали у себя дома. — Если не попаду в больницу после этой проверки, — мрачно сказал Юрий Евгеньевич Бугаеву, с силой хлопнув ладонью по огромной кипе бумаг, высившихся на его столе, — значит, я ещё здоровенький! С ума не сойду. — Чего это ты расхныкался? — без особого сочувствия к жалобе своего товарища спросил Бугаев. Он заскочил в отдел всего на полчаса — справиться, нет ли каких-нибудь новых данных об известных угрозыску взломщиках. Никаких особых сюрпризов ему не преподнесли. Добавили только к трём «специалистам» по сейфам, которых он сейчас разрабатывал, ещё одного — три месяца назад вышедшего из заключения Евгения Афанасьевича Жогина, пятьдесят второго года рождения, бывшего слесаря-инструментальщика судостроительного завода. Жогин получил срок за то, что участвовал в ограблении заводской кассы. Собственно, участие его заключалось только в том, что он изготовил первоклассные инструменты для вскрытия сейфа. Но эта деталь больше всего и заинтересовала Семёна. И сейчас он сидел за своим свободным от бумаг стареньким письменным столом и, рассеянно слушая жалобы Белянчикова, ожидал звонка из управления исправительно-трудовыми учреждениями. Ему не терпелось узнать, в какой колонии отбывал свой срок заключения этот Жогин, а вдруг вместе с Лёвой Буром? — Пришлось поднять всех участковых инспекторов, — продолжал жаловаться на свою судьбу Белянчиков. — Сотни по две дружинников в каждом районе привлекли. Я уж не говорю о том, что сам объехал станции обслуживания и крупные гаражи… — Какая самоотверженность, — притворно вздохнул Семён. — Ты, наверное, не высыпаешься? Юрий Евгеньевич, привыкший за долгие годы к иронии Семёна, никак не среагировал на его замечание. — На станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился? — поинтересовался Бугаев. — И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал? — Зря ехидничаешь, — спокойно отозвался Белянчиков. — В государственном автохозяйстве всегда найдётся любитель «левых» заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. И поставит ему украденные у государства запчасти. — Логично, логично, — сказал Бугаев и, вздохнув, покосился на молчавший телефон. Времени у него, так же как и у Белянчикова, было в обрез — Корнилов дал им обоим на поиски трое суток. Вторые сутки катастрофически шли на убыль. — Кстати, Женя, — вдруг оживился он, — а ты проверял конторы Госстраха? Белянчиков рассмеялся. — Ты считаешь, что, угробив человека, водитель поедет в Госстрах требовать компенсации за помятый бампер или разбитую фару? — А что? Оказался какой-нибудь жлоб. Я, например, знаю случай… Что это за случай, Бугаев не успел рассказать. Зазвонил телефон. Он схватил трубку. Сказал, сдерживая нетерпение: — Майор Бугаев. Это был звонок, которого он ожидал. — Беру бумагу. — Бугаев вытащил из кармана блокнот. — Записываю. — Он писал быстро, блокнот скользил по полированной поверхности стола, и Семён прижал его локтём. Время от времени он подавал реплики: — Так, так, так. Очень интересно… — Наконец, сказав своё любимое «Спасибочки, девонька, дай бог тебе хорошего жениха», он положил трубку и посмотрел на Белянчикова повеселевшими глазами. — Имеем шанс, Юра! Этот Жогин рубил лес в Архангельской области вместе с Лёвой Буром. — Он стремительно поднялся со стула, засунул блокнот в карман. — Привет труженикам застолья! — он помахал Белянчикову рукой. — Ищите да обрящете! А я поехал на Васильевский. Милый моему сердцу Евгений Афанасьевич обитает на Пятнадцатой линии… — Около дверей Бугаев остановился. — А ведь Колокольникова тоже на Васильевском обнаружили… — От Соловьевского переулка до Пятнадцатой линии… — начал Юрий Евгеньевич. — Не так уж и далеко, — прервал его Бугаев. — Уж не думаешь ли ты, что преступники выжили из ума и прячут жертвы у себя под кроватями? — Он усмехнулся. — Да, длительное чтение докладных, написанных инспекторами ГАИ и участковыми, губило и не таких, как ты, титанов мысли. Белянчиков погрозил ему кулаком. Уже открыв дверь, Семён задержался и, обернувшись к Юрию Евгеньевичу, сказал: — Запроси-ка ты ещё соседей. Хотя бы Новгород и Псков. Он мог и туда на ремонт податься.…Из сотен рапортов и справок Белянчиков отобрал прежде всего те, где речь шла о ремонте белых «Жигулей». Таких случаев оказалось несколько, но ни на одном автомобиле не обнаружили повреждений, характерных при наезде на человека. Технические эксперты ГАИ, проверившие эти «подозрительные» машины, дали своё твёрдое заключение. Белянчиков не исключал и того, что человек, совершивший наезд, просто поставил свои «Жигули» в гараж или накрыл брезентом и ждёт, когда улягутся страсти. Тут-то и оказали неоценимую помощь привлечённые к операции дружинники — вместе с милицией они в присутствии владельцев проверили все индивидуальные гаражи, все открытые и закрытые автостоянки, попросили владельцев показать машины, укрытые брезентом или плёнкой. В двух гаражах-сарайчиках давно не заглядывавшие туда владельцы с изумлением обнаружили отсутствие своих автомобилей. В районных управлениях завели уголовные дела об угоне. Но украдены были «Запорожец» и «Волга». Вскоре после ухода Бугаева в кабинет заглянул Корнилов. — Ну что, оперативные данные не радуют? — спросил он, увидев скучное лицо Белянчикова. Они работали вместе почти двадцать лет и вне служебной обстановки да и в управлении, оставаясь наедине, всегда переходили на «ты». — Не радуют, — кивнул Юрий Евгеньевич. — Кажется, все лазейки перекрыли… — он показал на стул: — Может, присядешь? Но Корнилов не сел. Вынул из кармана сигареты, закурил и прислонился к столу, за которым только что сидел Бугаев. — Все лазейки не перекроешь. Не хватит милиционеров к каждой лазейке приставить. — Мы дружинников привлекли. — И дружинников не хватит, — грустно сказал Корнилов. — Какие же у тебя идеи? — У Бугаева идея. На первый взгляд бредовая, — проворчал Белянчиков. — А я подумал — стоит использовать. — Что же за идея у нашего Сенечки? — Поработать с Госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию повреждений, прежде чем страховку выплачивать… Корнилов засмеялся. — Бугаев всерьёз считает, что есть люди, предпочитающие сесть на скамью подсудимых, чем лишиться страховой премии за вмятину на радиаторе? — У него даже есть на этот случай какая-то байка. Только он не успел мне её рассказать. Выяснил, что вместе с Лёвой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года три назад на судостроительном кассу брали? Корнилов кивнул. — В тот раз этот Жогин весь инструмент изготовил. Вот Семён и рванул по адресу. Справки наводить… — Это уже что-то конкретное, — сказал Корнилов. — Значит, Бугаев советует обратить внимание на Госстрах? — Теперь в его словах не было иронии. — Госстрах… — повторил он. — Можно и проверить. И с их специалистами посоветоваться. Они через свои руки столько битых машин пропускают. — А если предположить… — начал Белянчиков, но полковник не дал ему закончить фразу. — А если предположить, что мы имеем дело с умным… — Корнилов поправился, — с хитрым человеком? Он вместо того чтобы где-то тайком ремонтировать машину, возьмёт и разобьёт её ещё сильнее? — Да, я об этом же и хотел сказать! — обрадовался Белянчиков. Корнилов поднял руку: — Тихо, Юра! — И продолжал, не замечая ставшего обиженным лица майора: — Но разобьёт он её, конечно, не особо рискуя. Тихонько наскочит на дерево. Или на фонарный столб… Вызовет инспектора ГАИ. Составят они акт. Потом и в Госстрах можно ехать. — Не на дерево! Не на дерево! — запальчиво сказал Белянчиков. — Там свидетелей не будет, а ему лучше со свидетелями! Трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться? — Моя идея плодотворная? — спросил строго Корнилов, но глаза у него смеялись. Теперь он заметил, что Белянчиков обиженно хмурится. — Наша идея, Юра. — Плодотворная, — всё ещё хмурясь, ответил майор, но голос у него отмяк, потеплел. — А Бугаев узнает — скажет, что это его идея. Дескать, я про Госстрах подсказал, вы от Госстраха танцевать начали и наткнулись на плодотворную идею. — И ещё назовёт это по-научному — ассоциативное мышление, — улыбнулся Игорь Васильевич. — Бугаев у нас умница. — И сказал задумчиво: — Что-то он нам с Васильевского острова привезёт? — Взглянув на часы, Корнилов заторопился. — С чего начинать теперь, знаешь? — Надеюсь, что знаю. Корнилов хмыкнул: — «Надеюсь». «Надежды — это сны бодрствующих», — сказал один классик. Смотри не проспи самое важное! Когда полковник ушёл, Белянчиков позвонил в ГАИ и попросил дать ему подробную сводку об автоавариях в городе и области за третье, четвёртое и пятое августа. «Тут подстраховаться нелишне, — подумал он. — Этот деятель мог и переждать день-два». Потом он попросил дежурного по угрозыску обзвонить межрайонные конторы Госстраха, запросить сведения от них. «Даст ли улов новая сеточка? — подумал он. — Может, ещё раз перечитать все эти справки? — Белянчиков неприязненно посмотрел на ворох бумаг. — Я в них искал одно, а другое мог и пропустить!» Он взялся за верхний листок и тут же бросил его. Подумал о конторах Госстраха. Не раз приходилось ему слышать сетования автовладельцев на то, как долго иногда приходится дожидаться результатов оформления аварии в этих конторах. «Надо послать туда людей, — решил Белянчиков. — Обзвонить управления внутренних дел, где расположены эти конторы, чтобы завтра до двенадцати все сведения были у меня». Юрий Евгеньевич взялся за телефонную трубку и поморщился, подумав о том, сколько новых бумаг прибавится на его столе. И, как окажется, совсем ненужных. Но не мог же Белянчиков знать, что сводка из ГАИ, которую положит перед ним секретарь управления уголовного розыска Варя Алабина, едва он закончит последний разговор, сразу выведет его на след преступника… Ещё несколько дней тому назад, когда Колокольников рассказал Корнилову о происшествии на пятьдесят пятом километре и события не приобрели такой драматической окраски, Юрий Евгеньевич, просматривая сводку происшествий за третье августа, был приятно удивлён, что на дорогах города и области произошло так мало аварий. Всего три. В Киришах пьяный водитель на самосвале сломал забор у собственного дома, на Московском проспекте государственная «Волга» сбила женщину. Женщина была доставлена в больницу «с лёгкими телесными повреждениями». И на Светлановской площади столкнулись у светофора три легковых автомобиля. Никто из водителей не пострадал. Ни одно из происшествий не заинтересовало тогда ни Белянчикова, ни Корнилова, — их внимание было приковано к Приморскому шоссе. Теперь Белянчикова сразу привлекла авария на Светлановской площади. Три автомашины. Государственная «Волга», «Жигули» третьей модели и «Жигули» первой модели… Белянчиков выписал все данные. Номера машин, фамилии водителей: Кадымов, Осокин и Вязигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ. «Интересно, разбор происшествия в ГАИ уже провели? — подумал Белянчиков. — Если провели, так можно уже сегодня кое-что выяснить…» Юрий Евгеньевич взялся за телефон. Позвонил дежурному ГАИ Выборгского района. Номер был занят. Раздражаясь, он набирал снова и снова. «Что у них там за болтун дежурный?» Белянчиков уже хотел звонить начальнику, когда наконец в трубке раздались длинные гудки. — Дежурный Выборгского ГАИ, — доложил спокойный баритон. — Майор Белянчиков из ГУВД беспокоит, — сказал Юрий Евгеньевич, сдерживаясь, чтобы не сделать замечание. — Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? — Волков у телефона, — доложил баритон. «Значит, всё будет в порядке», — подумал Белянчиков. Он верил в удачу и в хорошее предзнаменование. — Лейтенант, третьего августа на Светлановской площади не вы оформляли столкновение автомашин? — Так точно. Я оформлял. — А разбор проводили? — Проводили. Капитан Ивакин с ними разбирался. — А вы присутствовали на разборе? — Был, товарищ майор, — в голосе Волкова теперь явно чувствовались недовольные нотки. — Один из нарушителей пожаловался на мою необъективность. Теперь, значит, и к вам обратился! Только чего же он в уголовный розыск? — Вот что, Волков, — сказал Белянчиков, — сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по аварии и пулей ко мне. Триста тридцать восьмая комната. Майор Белянчиков. Запомнили? — Запомнил, — хмуро отозвался Волков. — Только начальник уже домой уехал. Комната разборов опечатана… — Он явно волновался, не понимая, что ещё мог написать на него молодой усатый пижон. А в том, что это были его происки, лейтенант не сомневался. Белянчиков почувствовал состояние инспектора и сказал, непроизвольно переходя на «ты»: — Да не паникуй ты, не паникуй. Никто на тебя не жаловался. У нас тут свой интерес, мы на твою помощь надеемся… Минут через сорок инспектор Волков уже предстал перед Юрием Евгеньевичем. Это был высокий, широкий в плечах лейтенант с красивой копной русых волос. — Ну, здравствуйте, Волков! — улыбаясь, поднялся навстречу инспектору Белянчиков. — А я по телефону разговариваю и думаю — какой баритон красивый. — Да что вы, товарищ майор… — смутился Волков. — Напугали вы меня. Я чуть было не осип. — Все протоколы с вами? — переходя на деловой тон, спросил Белянчиков. Лейтенант кивнул. Они сели. Волков достал из «дипломата» тоненькую серую папку, положил на стол. «Вот как мы теперь живём, даже инспекторы ГАИ у нас с „дипломатами“ щеголяют, — подумал Юрий Евгеньевич. — Хорошо хоть во время дежурства на перекрёстках без них обходятся». — Он пододвинул к себе папку. Раскрыл. — Нет. Сначала расскажите всё сами. Протоколами потом займёмся… Волков докладывал обстоятельно, с подробностями, Юрий Евгеньевич лишь изредка перебивал его, уточняя детали. …Все три машины ехали по проспекту Энгельса, в направлении к центру города. Чёрная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» тёмно-синие. — Больше всего, товарищ майор, белый «жигулёнок» пострадал. Тот, что в «коробочку» попал. Он и виноват больше — надо дистанцию соблюдать. Тем более когда к перекрёстку подъезжаешь… «Белые „Жигули“, — отметил Белянчиков. — Ещё одна ниточка». — Дождя не было? — Нет. Дождь ночью прошёл. А с утра солнышко припекало… Асфальт сухой. — А водители нервничали? Этот, например… — Белянчиков пробежал глазами протокол. — Осокин? С белых «Жигулей»? — Расстроился очень. Лица на нём не было. В металлолом, сказал, мою карету теперь. Да это с пылу с жару, как говорится… Я осмотрел — у него сзади лонжероны даже не пошли. Поменяет левое крыло, крышку багажника… — А спереди? — Спереди посильнее досталось. Своим ходом он уже уехать не смог. Его водитель «Волги» на буксир взял. Белянчиков внимательно прочитал список повреждений белых «Жигулей» и «Волги». «Экспертиза сумеет разобраться, где старые, а где новые повреждения, — подумал он. — Если только машины уже не отремонтировали. „Жигули“‑то вряд ли, а вот государственную „Волгу“ могли починить». — Всё произошло у вас на глазах? Волков огорчённо развёл руками: — Я одного нарушителя воспитывал в это время. Тут же, на перекрёстке. Сначала услышал, а уж потом увидел, товарищ майор. А в чём дело, если не секрет? — Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе. Волков кивнул: — Слышал. Была такая ориентировка. — Ничего не показалось вам странным в этой аварии? — Да нет. Чего ж тут странного? В нашем деле каких только аварий не насмотришься, — ответил инспектор и задумался, припоминая тот яркий солнечный день и гулкий удар от столкновения автомашин. — А как вели себя нарушители на разборе? — Вязигин всё жаловался. И на водителя «Волги» и на меня. За необъективность. — Инспектор усмехнулся, едва заметно скривив тонкие губы. Усмешка получилась у него злая. «К такому попадёшь, — подумал Белянчиков, — он спуску не даст». И спросил: — А на что жаловался этот Вязигин? Какие у него претензии? — Всё шумел — «Так ездят только пьяные!». — Значит, он на Осокина жаловался? — Я ж вам докладываю, товарищ майор, он на всех жаловался. И на меня тоже, — сердито сказал инспектор. Видимо, это последнее обстоятельство казалось ему особенно несправедливым. — Ну, а водитель «Волги»? — Кадымов? Его вины нет. Спокойно остановился у светофора. Резкого скрипа тормозов я не слышал. — Но он-то что-нибудь говорил на разборе? Инспектор снова задумался. — А ведь знаете, товарищ майор, Кадымов очень важную фразу сказал, — Волков пристально смотрел на Белянчикова. — Очень важную. — И Юрий Евгеньевич почувствовал, что инспектор начал о чём-то догадываться. — Он сказал, что, увидев жёлтый, начал тормозить ещё издалека. И несколько секунд стоял у светофора. А «жигулёнок» ехал далеко сзади. Кадымов в зеркало его видел. И видел, что он скорость скинул, притормозил. И всё-таки стукнул! «Деликатно врезался», — сказал Кадымов. — Насколько я понимаю, если бы Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился? И «Волга» больше пострадала? Правильно я излагаю? — спросил Белянчиков. — Всё правильно, — согласился инспектор. — А если он хотел скрыть старые повреждения, то ему достаточно было и слегка тюкнуться. Только если серьёзную экспертизу провести… — Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Белянчиков; он опять взялся за протокол. — Значит, Осокин Борис Дмитриевич, — записал он в блокнот, — проживает по улице Чайковского, дом одиннадцать, квартира тридцать четыре, кандидат наук, преподаёт в институте. — Белянчиков задумался, вспомнив про Лёву Бура, про нападение на Колокольникова. «Что-то не очень вписывается кандидат наук в эту компанию».
…Когда утром следующего дня невыспавшийся, но, как всегда, прекрасно выбритый майор Белянчиков шёл на доклад к своему шефу полковнику Корнилову, в его записной книжке имелась масса информации о Борисе Дмитриевиче Осокине. Информации самой разной — и непосредственно относящейся к событиям последних дней, и просто характеризующей с разных сторон кандидата, и даже вовсе не относящейся к делу. Например, сведения о том, что Осокин — хорошо известный в городе коллекционер значков. Юрий Евгеньевич был человеком педантичным, о чём знал каждый его сослуживец по Главному управлению. И даже кое-кто из начальства в министерстве. Одни начальники считали его педантизм достоинством, другие — недостатком. И каждый в зависимости от этого и оценивал его. Кстати сказать, усамого Белянчикова мало было свободного времени, чтобы задумываться над такими сложными проблемами, как отношения начальства к его персоне. Да и педантом он себя не считал. И когда кто-нибудь из товарищей отпускал по этому поводу очередную шутку, Юрий Евгеньевич огрызался: «У нас в управлении только один педант, — говорил он, — Сеня Бугаев. Каждую неделю в парикмахерской свою причёску подправляет». В одном Юрий Евгеньевич был уверен непоколебимо — люди, чьё плечо, а не локоть он чувствовал рядом постоянно, его сослуживцы, были одновременно и его друзьями. В том числе Бугаев, лелеющий свою красивую причёску, и полковник Корнилов, с которым Белянчиков спешил поделиться сейчас важной и даже не слишком важной информацией. Самым серьёзным фактом, установленным майором, было то, что гражданин Осокин имел дачу на Карельском перешейке, на берегу Финского залива. И ездил он всегда на свою дачу по Приморскому шоссе. Через Репино и Зеленогорск. На беленьких «Жигулях», попавших третьего августа в аварию на «чёртовом пятачке» Светлановской площади. Юрий Евгеньевич не забыл рассказать Корнилову и о том, что поздно вечером прогулялся по улице Чайковского и заглянул под брезент, укрывавший одну из автомашин у дома одиннадцать, где проживал Осокин. Этой автомашиной, судя по номерному знаку, и оказались его «Жигули». — В ГАИ, Игорь Васильевич, он всё оформил, получил две справки: для ремонта и для Госстраха. И даже послал в Госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика ещё не приглашал… Я, может, и поторопился, но попросил установить на улице Чайковского наблюдение. За машиной, конечно. Не ровен час, приедет «техничка», увезёт в ремонт. — Не поторопился, — сказал Корнилов. — Но всё, что ты узнал об этом Осокине… — Он в сомнении покачал головой. — Да, в затылок не выстраивается… — В затылок? — удивился полковник. — В какой затылок? — В затылок к Лёве Буру и его компании. Не из той колоды этот Осокин. Корнилов покачал головой: — Скажешь тоже! А ведь и правда не выстраивается. Хотя с кем только возиться не приходится! Помнишь дело с литературным архивом? Тоже ведь учёный попался! Человек образованный — не всегда человек честный. Знаешь, кто это сказал? — Не знаю кто, но правильно подметил. — Достоевский. И ещё сказал: «Наука не гарантирует в человеке доблести». Но тут я с ним, пожалуй, не соглашусь. Настоящая наука и доблесть — понятия неразделимые. Посмотреть бы на этого Осокина. Ты, случайно, фотокарточки его не достал? Не то чтобы полковник всерьёз считал, что можно определить порочные наклонности человека, разглядывая его лицо, запечатлённое на фотографии. Он не был последователем Ламброзо, хотя и разделял некоторые моменты его теории. Фотография помогала Корнилову понять человека, почувствовать какие-то черты его характера, представить, как он будет вести себя на допросе. И всегда, если к тому представлялась возможность, Игорь Васильевич, перед тем как встретиться с человеком лицом к лицу, старался повнимательнее рассмотреть его фотографии. — Фотокарточки я его не достал. Но если тебе так хочется, можешь послать кого-нибудь в институт — он красуется на Доске почёта. Важнее другое, — Белянчиков был явно доволен собой. — «Волга», в которую воткнулся Осокин, ещё не ремонтировалась. Я позвонил в «Ленавтотранс» — это их машина — и всё выяснил. И предупредил, чтобы они хранили её как зеницу ока. В смятом виде. Так что экспертизу можно провести на высшем уровне. — Человек на Доске почёта, а мы экспертизу проводить будем, дознание. А если иметь в виду покушение на жизнь Колокольникова, то и санкцию на арест просить придётся, — задумчиво сказал Корнилов. — Ничего страшного. Заметив недоумённый взгляд полковника, Белянчиков нахмурился. — Я про экспертизу говорю. И про дознание. А там видно будет. — Можно создать вокруг человека такой барьер подозрительности, что он не скоро очухается. — Что ты предлагаешь? — Начать со встречи, — Корнилов подумал и уточнил: — Начать с допроса. Я попрошу разрешение у следователя и допрошу Осокина. Кое-что, конечно, выясним предварительно. Но незаметно. Белянчиков посмотрел на полковника вопросительно. — Ты займись «Волгой». Потолкуй ещё с водителем. Попроси в научно-техническом отделе изучить характер повреждений, сделать снимки. Когда дойдём до белых «Жигулей», то забот у нас уже будет меньше. А некоторые детали об Осокине я поручу выяснить Володе Лебедеву.
13
Судя по вывеске, в ЖЭКе был неприёмный день. «Кто-нибудь да отыщется», — подумал Бугаев, открывая скрипучую дверь. В коридоре тускло горела единственная лампочка. Семён с трудом разбирал таблички, прибитые на кабинетах. Подёргал закрытую дверь управляющего, постучал в бухгалтерию. Постоял, прислушался. За дверью без таблички гулкие капли шлёпали по воде. Семён дернул на всякий случай и эту дверь. Она тоже была на замке. «Вот люди, — рассердился он. — Даже на уборную запор приделали». Он уже хотел уходить, когда услышал весёлые женские голоса. Они раздавались из той части коридора, куда не доставал скупой свет лампочки. Бугаев осторожно двинулся по тёмному коридору, ориентируясь на голоса. Нащупал ручку и распахнул дверь в большую светлую комнату. Около зеркала, висевшего на стене, темноволосая девушка примеряла красивый кружевной лифчик. Другая, стоявшая спиной к Семёну, помогала застегнуть его. — Здравствуйте, гражданки! — весело сказал Бугаев. Темноволосая испуганно ойкнула и скрестила на груди руки. Вторая, не оборачиваясь, сердито сказала: — Куда вы лезете? Не видите, что у нас обед? — Не вижу. — Валентина, дай кофточку, — раздражённо попросила темноволосая. — Что же ты дверь не закрыла? Та, которую назвали Валентиной, сдёрнула со спинки стула голубую кофточку, протянула подруге. И обернулась к Бугаеву: — Что вы стоите?! Раздетых баб не видели? Она была постарше темноволосой. Крашеная блондинка лет тридцати, с бесцветным усталым лицом. — А я по делу, — нахально сказал Бугаев. Темноволосая уже натянула кофточку и застёгивала пуговицы. — У нас же обед, — сказала она примирительно и, заметив висевший на стуле лифчик, наверное ее старый, схватила, спрятала за спиной и показала майору язык. Бугаев подмигнул ей и озабоченно посмотрел на часы. — Обед ваш давно кончился, уважаемые гражданки. — Он сказал это наобум, потому что, заходя в контору, не обратил внимания на часы обеда. — Ну и что же, что кончился? — сказала Валентина, усаживаясь за один из письменных столов. — Сегодня неприёмный день. Правда, Галя? — А у меня дело срочное. Вы кем, девоньки, тут служите? — Вы скажите, что вам нужно? — скучным голосом попросила темноволосая. — Справку получить. Устную, — сказал Бугаев. — От паспортистки или от управляющего. Я из милиции. — Управляющего нет. А паспортистка — это я. Бугаев прошёл на середину комнаты. Показал на второй, пустовавший стол. — Ваш? Темноволосая кивнула. На столе лежало несколько полиэтиленовых пакетов не то с колготками, не то с чулками. Бугаев сел на стоявший у стола стул и показал паспортистке на её место за столом: — Присаживайтесь, не стесняйтесь, Галочка. Девушка покачала головой и усмехнулась. — Вот какие нынче милиционеры ловкие, — сказала Валентина. — Не успел войти — уже «девоньки», «Галочка». Смотри, Галина, справка-то ему, наверное, только одна нужна — твой адрес и телефон. — Какая догадливая, — продолжая разговор в том же шутливом тоне, так часто выручавшем его, сказал Бугаев. — А разрешите поинтересоваться, кем вы здесь числитесь? — Это моя подруга, — ответила за блондинку паспортистка. — Позвонила из «Пассажа», французские лифчики дают. Взяла на мою долю. — Прекрасное качество — дружба. Но дружба — дружбой, а служба… Товарищ Валентина, вам придётся на время покинуть нас, — обратился он к блондинке. — У нас с вашей подругой секретный разговор… — Заметив на лице Валентины сомнение, он добавил: — Через пятнадцать минут вернётесь. Сохранность купленных в «Пассаже» товаров гарантирую. — Вот болтун, — сказала, вставая со стула, блондинка. Уже с порога обернулась: — А он ничего, симпатичный. Телефончик можешь ему дать.Когда она ушла, Бугаев протянул паспортистке удостоверение. Галина мельком взглянула на него, спросила: — Чего же вы хотите? — В доме семнадцать, в сороковой квартире живёт Евгений Афанасьевич Жогин… Паспортистка открыла сейф, достала большую потрёпанную книгу. Молча полистала. — Вот, — она подвинула раскрытую книгу Бугаеву. — Жогин Евгений Афанасьевич, его жена Люба… Жогин недавно вышел из заключения. — Где они работают? — Там написано, — она показала на книгу глазами. — У вас это получится быстрее, — попросил Бугаев. Паспортистка, чуть хмуря брови, снова взялась за книгу. — Жогин работает на судостроительном заводе. Слесарь. А жена на фабрике Урицкого. На табачной, — добавила она. — Участковый инспектор сейчас в отпуске, — сказал Бугаев, задумчиво разглядывая красивое лицо девушки. Она не выдержала его взгляда, опустила глаза, и губы у неё чуть шевельнулись, затаив удовлетворенную улыбку. — Порасспросить мне некого. А вы, Галя, ничего о Жогиных сказать не можете? — Любу я хорошо знаю. Она несколько лет у нас лифтёром работала. А как мужа посадили — перешла на табачную фабрику. Чтобы зарабатывать побольше. Душевная женщина. — По-видимому, ей показалось, что одной душевности для Бугаева маловато, и она добавила: — Очень порядочный человек. Пока мужа не было, ни с кем не путалась… — Ну, а в последнее время как? После возвращения Евгения Афанасьевича? — А что «как»? — Галя пожала плечами. — Я не знаю. Видела однажды Любу — по-моему, она счастлива. — Жогин не пьёт? — Не знаю. К нам никаких сигналов не поступало. Не знаю, как вы считаете… — она подняла наконец глаза и посмотрела на Семёна, — у себя в милиции, а Евгений — человек неплохой. Другого бы Люба ждать не стала. — Аргумент серьёзный, — согласился Бугаев. — Интересно, сейчас кто-нибудь из них дома? — Вот уж не знаю. А вы позвоните. — Паспортистка показала на телефон. — Нет, не буду их пугать звонками. Неожиданно интересней, — он улыбнулся, и Галина покраснела. Наверное, вспомнила про своё переодевание. — А вам, кстати, сколько лет? — спросил Бугаев. — Что-то вы мне говорили по поводу долгих лет знакомства с Жогиной? — Лет мне уже много, товарищ Бугаев, — сказала Галя, — но по службе вам, наверное, это знать не обязательно. — А телефончик свой дадите? — Дам! — в её голосе прозвучал вызов. — Служебный. Домашнего у меня нет. Бугаев записал телефон и фамилию. Фамилия у Гали была забавная — Ворожейкина. …Блондинка с независимым видом прогуливалась у входа в ЖЭК. Увидев Семена, она проворчала: — Наконец-то! — и ринулась в дверь. «Никакая она не подруга, — подумал Бугаев, — обыкновенная спекулянтка. Имеет своих клиентов и приносит им дефицитное барахло. Кому домой, кому на службу. И обирает таких девах, как Галя».
…Жогин был дома. Когда Бугаев позвонил в квартиру, то услышал, как женский голос крикнул: «Женя, открой, звонят». Неторопливые мужские шаги протопали в прихожей. — Кто здесь? — голос был не слишком ласковым. — Майор Бугаев из милиции, — сказал Семен будничным тоном. Дверь открылась. Хозяин хмуро смотрел на Семёна, ожидая, что он скажет. — Евгений Афанасьевич — это вы? — Я, — Жогин был крупным мужчиной. На большой, с залысинами, голове пробивались блёстки седины. Он выглядел явно старше своих тридцати лет. — Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить… — Это что-то новое в работе милиции, — сказал Жогин и посторонился, впуская Семёна в прихожую. — Раньше меня не спрашивали… — Кто там, Женя? — спросил из ванной женский голос. — Из милиции. По тому, как в ванной стало тихо, было понятно, что там насторожились. — Проходите в комнату, — пригласил Жогин. Комната была небольшой, метров шестнадцать, просто обставленная — трёхстворчатый шкаф для одежды, большая тахта, круглый стол, накрытый бархатной скатертью. И несколько хорошо сохранившихся венских стульев. Жогин молча показал Бугаеву на один из этих стульев и сел сам. — Слушаю вас, — он рассматривал Бугаева хмуро, исподлобья, словно пытался дознаться, с чем пожаловал сотрудник милиции. — Вот мои документы, — Бугаев протянул Жогину удостоверение. Тот взял красную книжечку, внимательно прочитал всё, что было там написано. Молча вернул. — А вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один — мне известно, что в колонии вы находились вместе с Львом Котлуковым. В июне Котлуков был выпущен, но с определённого ему приговором места жительства уехал… Дверь в комнату осторожно открылась, и вошла невысокая, худенькая женщина. Семёну бросились в глаза её красные руки — видно было, что она стирала. — Здравствуйте, — сказала женщина. Семён встал, поклонился слегка. — Здравствуйте. Лицо у женщины было тревожное, но решительное. «Какие глазищи большие, — подумал Бугаев. — Чем-то она похожа на мою маму». — Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем… — сказал Жогин. — Вот и поговорим, — Люба села на тахту и строго посмотрела на мужа. — Вы не стесняйтесь, разговаривайте. У нас с Женей секретов нет. Я про него всё-всё знаю. «Хорошо это или плохо? — соображал Бугаев. — Не попросишь же её вон. А может, выйти с Жогиным прогуляться?» — Не стесняйтесь, — сказала Люба. — Говорите, Евгений от меня всё равно ничего не скроет. «Пусть слушает, — решился Семён. — Если она такая хорошая, как паспортистка говорила, то не помешает. И муж при ней врать не будет». — Да вопрос-то всего один у меня, Любовь… — Бугаев вопросительно взглянул на Любу. — Любовь Андреевна, — подсказала она. — А меня зовут Семён Иванович. Один вопрос, Любовь Андреевна. Месяц назад вышел из заключения Лев Котлуков, по кличке Бур… — Ах, этот… — сердито сказала Люба. — …И уехал без разрешения из посёлка, где ему было предписано жить, — продолжал Бугаев. — Вот мы и пустились в розыски. Родственников у Котлукова нет. Решили поспрашивать у тех, кто отбывал вместе с ним заключение. Евгений Афанасьевич, не давал о себе знать Лёва? — Нет, не давал, — тихо ответил Жогин и посмотрел на жену. — Ты, Женя, скажи, раз уж товарищ сам пришёл, — сказала Люба и, повернувшись к Бугаеву, пояснила: — Сам-то он не появлялся, Котлуков. А дружок какой-то от него звонил. — Не знаю, чего и делать, — вздохнул Жогин. — Мы уж с Любой решили уехать. На Север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут. — Кто же звонил? — осторожно, стараясь не выдать волнения, спросил Бугаев. — Шут его знает?! Мужик какой-то. По голосу — молодой. Привет от Лёвы передал… — Чего хотел? — Известно чего. Опять та же волынка — инструмент, доля… — Почувствовав, что Бугаев ждет подробностей, Жогин продолжал: — Я отказался… — Семён Иванович, соврал Женя им, — перебила Люба мужа. — Сказал, что взял уже один заказ. — Иначе бы не отвязались. Да и так!.. — Евгений Афанасьевич махнул рукой. — Вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал. Да я чувствую, товарищ начальник, — неожиданно вспылил Жогин, — звонит фрайер какой-то. Который тюрьмы не нюхал. Шестёрка. По телефону грозит. Посмотрел бы я на него, когда носом к носу встретились. — Опять о том же просил? — Ну да! Не решился я сразу отказать. Сказал — подумаю. А чего думать? Может быть, вы помогли бы нам завербоваться?! — он с надеждой посмотрел на Семена. — Когда он будет ещё звонить? — На субботу встречу назначил. «Суббота, суббота… Послезавтра вечером… А сегодняшний день уже кончается, — лихорадочно думал Бугаев. — Позвонить Корнилову? По телефону всего не скажешь. Сюда ему приходить нельзя — вдруг они квартиру под наблюдением держат?» — Семён Иванович, — спросила Люба, — ну как, поможете вы нам? — Конечно, поможем. Подумать только надо, как… Подумать… Он вам где встречу назначил? — В ресторане «Адмиралтейский», — хмуро сказал Жогин. — Ну и хорошо… — рассеянно ответил Бугаев, думая о том, согласится ли Корнилов с его внезапно родившимся планом. — Давайте я для начала позвоню одному хорошему человеку. — Пожалуйста, — Жогин встал. — Телефон у нас в прихожей. Показав Бугаеву, где телефон, Евгений Афанасьевич вернулся в комнату и плотно затворил за собой дверь. Семён набрал номер Корнилова. И, на счастье, полковник оказался у себя…
…Они встретились в скверике на углу Большого проспекта, и Пятнадцатой линии. Бугаев подробно изложил свой план полковнику. Игорь Васильевич слушал молча, никак не показывая своего отношения. Только изредка останавливал Семёна, уточнял детали. Правда, это совсем не означало, что предложение майора ему нравится — он мог дотошно выспрашивать мельчайшие подробности, о чём-то спорить, предлагать свои варианты, а в конце концов заявить: «Нет, дорогой Семён Иванович, план твой никуда не годится». И в доказательство сослаться на какую-нибудь мелочь, которая, на первый взгляд, и отношения-то к разговору не имела. Но Корнилов умел увидеть обстоятельства дела с самой неожиданной стороны. Увидеть и показать своему собеседнику, что это как раз та мелочь, которая в будущем может сыграть роковую роль. За годы работы с Корниловым Бугаев хорошо изучил своего шефа и никогда не брался заранее предсказывать его решение. — Да… Сложную задачку ты мне задал. — Полковник поднялся со скамейки и, сделав едва уловимый знак шофёру оставаться на месте, предложил: — Давай пройдёмся немного. — Словно прогулка могла помочь принять решение. Некоторое время они шли молча, потом Корнилов сказал: — Домой к Жогину они вряд ли придут. И звонят, конечно, с автомата… Бугаев знал, что Игорь Васильевич не ждёт от него ответа. — Так что если бы мы попросили разрешения подежурить у него в квартире, результат был бы — ноль. Предложить ему согласиться на изготовление инструмента? Проследить за тем человеком, который придёт на встречу с Жогиным? А если это ни во что не посвящённый связной? Ты прав, это пассивная позиция. Значит, ввести в дело своего человека? — Не вообще своего, а меня, — не выдержал Бугаев. — И чем скорее, тем лучше. Мы вот с вами, товарищ полковник, прогуливаемся, а Жогину, между прочим, может быть, опять звонят. Корнилов искоса взглянул на майора. Неодобрительно покачал головой. А потом вдруг задал ему неожиданный вопрос: — Ты ему веришь? Жогину-то? Сердцем веришь? И, заметив, как нахмурился Бугаев, засмеялся: — Что, Сеня, хочешь сказать — при чём тут сердце? А на что же ещё в таком случае можно положиться? Если со здравым смыслом подойти — трудно Жогину поверить. Недавно вышел из заключения — раз. Не он к нам пришёл рассказать о звонке, а ты к нему нагрянул. Не нагрянул, так бы мы в лучшем случае ничего и не узнали. А в худшем — изготовил бы Жогин этим бандитам всё, что они просят. А может быть, и сам в дело вошёл… Так? — А знаете, Игорь Васильевич, — задумчиво сказал Бугаев, — насчёт сердца-то вы, пожалуй, правы. Я вот на них на обоих посмотрел — на Жогина и на его жену — им обоим я бы доверился. Хотя прежде всего у меня расчёт на то, что он у нас под контролем будет… — Ну ладно, — перебил его Корнилов. — Расчёт расчётом, а предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости… — Надо в новостройке. Там никто никого не знает. Если проверять начнут, многого не разнюхают. — Правильно, Семён, — одобрил Корнилов. — Сейчас приеду в управление, займусь твоей жилплощадью. Хорошо бы в Гавани. Там много домов сейчас сдаётся. Попросим недельки на две-три квартиру. Машина у тебя есть… — Номера сменить надо. — У тебя небось приметные номера? — усмехнулся полковник. — С нулями? Чтобы инспекторы ГАИ не слишком беспокоили? — Игорь Васильевич, я ж на своей машине и по служебным делам разъезжаю… — Ладно. Номера сменим. Только не рано ли планы строим? Согласится твой Жогин? Для него ведь это тоже рискованное предприятие.
Когда Бугаев вернулся в квартиру Жогиных, там вкусно пахло тушёным мясом. — У нас обед готов, Семен Иванович, — сказала Люба, открывая майору дверь. — Покушайте с нами? — Глаза у нее были тревожные. — Нет, Люба. Времени мало. Вот если стакан чаю? Она тут же принесла в комнату чай, поставила розетку с вареньем, конфеты в простенькой стеклянной вазочке. Бугаев отхлебнул глоток чаю и почувствовал себя неуютно — Жогины смотрели на него выжидательно. — Вы просили, чтобы я помог вам, — сказал Семён. — А я, нахал, хочу просить у вас помощи. У вас, Евгений Афанасьевич… — Какой же? — глухо спросил Жогин. — Чтобы подсадную из меня сделать? Я в такие игры не играю. — Да подожди ты, Женя, — остановила его жена. — Выслушай Семёна Ивановича. — Я и так слушаю, — сердито сказал Жогин. «Ну, что ж, — с огорчением подумал Бугаев. — Хуже было бы, если бы он согласился, а потом струсил или, не дай бог, двойную игру сыграл. По крайней мере, честно». — Да нет, чего же слушать? — пожал он плечами. — Дело это добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы — думаю, что в два-три дня всё устроится. В управлении кадров одного северного треста наш товарищ работает. Пенсионер. Ни разу не отказывал. А с вашей-то квалификацией! — Семён Иванович, — тихо сказал Жогин, — не могу я, поймите. Это я знаю, что ушёл навсегда! Они же меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёву Бура! «Про Лёву Бура я могу ему и сказать, — решил Бугаев. — Может быть, и на Север он завербоваться хочет, потому что Котлукова боится». — Лёвы Бура нет, — Семён снова взялся за чай. Зачерпнул ложечкой варенья. Варенье было вишнёвое, без косточек. Бугаев посмотрел на Любу: — Моё любимое. Я думал, что так вкусно только моя мама варит. Люба расплылась в улыбке. Жогин напряжённо смотрел на Бугаева и молчал. Его состояние, видимо, почувствовала и Люба. Повернувшись к мужу, она спросила: — Женя, ты что? — Лёвы в Питере нет? — в голосе Жогина чувствовался такой пристальный интерес, что Бугаев теперь не сомневался: больше всего он боится Лёвы. — Льва Котлукова совсем нет. Он умер. — Ха… Лёва Бур просто так умер? — Просто так никто не умирает… — Семён хотел сказать, что одни умирают от болезней, другие от старости, третьи от несчастных случаев, но Жогин перебил его: — Вот и я о том же — Лёва Бур просто так умереть не мог. — Евгений Афанасьевич, — Бугаев не удержался и положил в рот мармеладину. Всё-таки с утра ничего не ел. — А какая вам разница, от чего умер Котлуков? Его нет. В этом всё дело. — Женя, а может, теперь-то ты и помог бы им? — она кивнула на Бугаева. — Теперь-то, а? — повторила она со значением. Чувствовалось, что она боялась Лёвы Бура ещё больше, чем муж. — Ведь если ты им поможешь, — продолжала она горячо, — то ведь и с тебя всё спишется. Всё, что было. И забыть можно будет на вечные времена. И никто больше приходить к тебе не будет. Не будет справки наводить про всех этих подонков. «Вот режет, — с интересом слушал Семён Любу. — Логика хоть и женская, а доходчиво». — Вы что, и правда Котлукова боялись? — спросил он. Жогин бросил на него короткий взгляд исподлобья и не ответил. Спросил сам: — Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держат? Для этого заказ нужно брать. А я-то думал, чего это они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются! — От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно — познакомить меня с кем-то из них. Инструмент — это уже моя забота. Так что «подсадной» не вы будете, а я. Жогин с удивлением смотрел на Семёна. — Да как же я вас сведу? Я и сам его ни разу не видел. Только по телефону. Бугаев ободряюще кивнул: — Об этом мы с вами быстро договоримся. Главное, улыбайтесь почаще да не держитесь так напряжённо…
14
Бугаев вошёл в ресторан слегка расхлябанной походкой человека, который знает, что он уже пьян, но всеми силами старается доказать окружающим обратное. Старик гардеробщик сидел у барьера и что-то торопливо ел из белой мисочки, запивая чаем. В пустом гардеробе одиноко висела его старенькая фуражка с потемневшим золотым околышем. — От щедрот шеф-повара? — спросил Семён и дурашливо подмигнул гардеробщику. Старик равнодушно отмахнулся от него и продолжал невозмутимо поглощать еду. Бугаев остановился у большого зеркала. «Ничего себе рожа, — ухмыльнулся он удовлетворённо. — Только вот проборчик мой ни к чему». В это время дверь в зал открылась, и в вестибюль вышел крупный мужчина с красным потным лицом. — Где тут заведение? — спросил он у гардеробщика. Старик молча показал ему вилкой на портьеру в углу. Бугаев демонстративно поплевал на ладони и стал приглаживать волосы, стараясь избавиться от пробора. В оставленную приоткрытой дверь была видна часть зала, и Семён сразу же заметил в дальнем углу сидевшего боком к дверям Жогина. Рядом с ним, лицом к выходу, сидел молодой парень. «Похоже, пришёл один», — отметил Бугаев. Слегка качнувшись, он повернулся от зеркала и пошёл в зал. На эстраде рассаживались оркестранты. Бугаев остановился у дверей и огляделся, отыскивая свободный столик. Краем глаза он успел заметить Володю Лебедева, сидевшего за столиком в углу с какой-то молодой парочкой. Откуда-то сбоку возник высокий мужчина в лоснящемся чёрном костюме. Наверное, метрдотель. — Желаете поужинать? — спросил он Бугаева. — Желаю. — Вы один? Или ожидаете друзей? — Или, — сказал Бугаев. — Хочу крепко поужинать. Но друзей не ожидаю. Метрдотель подвёл Семена к пустому столику, снял с него карточку с надписью «столик заказан». — Прошу вас. Сейчас подойдёт официант. Семён сел вполоборота к столику, за которым расположились Жогин с парнем. Парень был невзрачный, тусклый, с плоским лицом. Если бы не мягкая рыжинка в волосах да прыщи, едва прикрытые пушком бакенбардов, его внешность плохо поддавалась бы описанию. Пока Бугаев тоном загулявшего пижона выспрашивал у официанта, чего бы ему заказать повкуснее, да требовал хорошего коньяку, а официант вежливо объяснял, что хороших коньяков сегодня нет, он с удовлетворением почувствовал на себе взгляд жогинского соседа. «Клюй, рыбка, большая и маленькая. Лучше бы большая, но что-то по морде не похоже». Оглушающе, так, что задребезжали фужеры, грянул оркестр. Потом пухлый певец в серебристом костюме вяло спел две цыганские песни. Официант, почувствовав, что его клиент горит желанием гульнуть, развернулся довольно быстро. Нашлась и бутылка марочного коньяка. Низко склонившись к Семёну, официант шептал ему, одновременно ловко раскладывая на столе закуски: — Попросил у буфетчика. Коньяк из его энзе. Только для вас. И боржомчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимание… Слушая вполуха шёпот официанта, Бугаев начинал тревожиться, думая о том, что время идёт, а Жогин сидит за своим столиком, словно истукан, даже головы не повернёт. Может, не видит его? Молоденькая, с приятной доброй мордашкой певичка запела любимую песню Семёна про то, как кружатся над городом жёлтые листья. «Не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь, не уйдёт, казалось, лето, а теперь…» — А теперь, а теперь! — подпел негромко Семен. С соседнего столика на него шикнула полная блондинка, но в это время певичка, задорно пританцовывая на эстраде, прибавила темп: «…Листья жёлтые над городом кружатся». Оркестр грянул громче. Посетители начали вставать из-за столиков и потянулись к небольшому пятачку перед эстрадой. Танцевать. — Семён Иванович! — услышал Бугаев голос Жогина и обернулся. Жогин приветственно махал ему рукой. — Жека, кирюха! — с неподдельной радостью крикнул Бугаев. — Давай сюда! Жогин посмотрел на своего соседа и развёл руками, словно бы говоря: неудобно, я тут не один. — Давайте оба! — силясь перекричать оркестр, позвал Бугаев. Но Жогин, наверное, не расслышал и только ещё раз развёл руками. Семён видел, как парень, наклонившись к Жогину, быстро спросил его о чём-то. Наверное, поинтересовался, что ещё за знакомый тут выискался. Жогин начал объяснять, и по его жестам Бугаев понял, что характеристику он выдаёт ему самую лестную. «Ну, артист, — подумал Бугаев. — Разыгрывает всё как по нотам». Он всегда считал, что тюрьма и колония из любого человека делают артиста. Не могут не делать, потому что в заключении каждый час, каждую минуту, лавируя между тюремным начальством и прожжёнными, способными на всё рецидивистами, человек вынужден лицедействовать. И всегда, когда Семёну приходилось иметь дело с побывавшими за колючей проволокой людьми, держал он в голове это казавшееся ему немаловажным обстоятельство. За что не раз получал замечания от Корнилова, считавшего, что настоящего человека никакая тюрьма не превратит в лицедея. «Настоящие люди в тюрьму не попадают», — всегда говорил в свою защиту Семён. Но он был молод и задирист. И не имел такого опыта, как его непосредственный начальник. «Пока гремит оркестр, самое время для знакомства, — решил Бугаев. — Под шумок это лучше получается». Он взял бутылку коньяка в одну руку, блюдо с рыбным ассорти — в другую и, слегка пошатываясь, направился к столику, за которым сидели Жогин с рыжим парнем. — Господа, — сказал он, излучая добродушие и желание угостить ближнего, — когда гора не идёт… Женя… Ты знаешь, к кому не идёт гора? — Знаю, Семён Иванович, — улыбнулся Жогин. — Вы присаживайтесь. Мы с дружком тут сбежались накоротке. По рюмке принять. Не видались давно. По тому, как заинтересованно скосился парень на Бугаева, Семён понял, что Жогин успел рассказать о нём главное. «Косись, косись, — подумал Семён. — А мы тебе пока ноль внимания». И, обернувшись, отыскав глазами официанта, небрежно взмахнул рукой: — Милый, не сердись на меня. Друга встретил. Благодетеля. Обслужи за этим столиком, — попросил он, когда официант подошёл. Тот сочувственно кивнул. — Закусочка у вас есть. И коньячку на первый раз хватит. А как шашлыки? Три? — Конечно, три! — сказал Бугаев. — Жека, как твой кирюха? Язвой желудка не страдает? Ему шашлык врачи не запретили? По тому, как у парня зарделись уши, Бугаев понял, что попал в точку и мысленно выругал себя. — Как, Вася? — не слишком смело спросил Жогин парня. — Ударим по шашлычку? Семён Иванович — свой человек. Парень посмотрел на часы, потом на Бугаева. Помедлил с ответом, словно сомневался, стоит ли затеваться. Потом сказал: — Можно и по шашлычку. Бугаев стал разливать коньяк, но парень прикрыл свою рюмку ладонью. — Не буду мешать, допью водку. — Голос у него был красивый, бархатный. Располагающий. Когда он говорил, Бугаеву почудилось, что перед ним два разных человека. Так разителен был контраст бесцветного, плоского лица и красивого голоса. — Как ты меня, Женечка, выручил, — сказал Семён, когда они выпили. И обнял Жогина. — Женька — золотая ручка! — обернувшись к парню, восхищённо поцокал языком и объяснил: — Мотор у моей старой лайты починил. Да как! Был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, пять лет по мне скучала… — он насупился, словно понял, что сказал лишнее, и строго посмотрел на парня. Тот сидел спокойно, только пальцы правой руки у него двигались, разминая хлебный мякиш. «Похоже, и ты срок имел», — подумал Бугаев. Жогин вздохнул. Сказал с сожалением: — А теперь, Семён Иванович, на работе так прижали, что нужной железки не возьмёшь без разрешения, не то чтобы… — Я, значит, у тебя последним клиентом оказался? — усмехнулся Бугаев. — За это выпить надо. Вот ведь подвезло мне! Парень со злостью запустил хлебным катышем под ноги танцующим. — Ты, Жека, бросал бы заводскую пахоту. В какой-нибудь ширпотреб устроился, — сказал Бугаев. — Телевизоры ремонтировать. Или сейфы. — Он захохотал, а Жогин насупился. — Молчу, Жека, молчу, — примирительно сказал Бугаев. — Вольному — воля, спасённому — рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет, ты закон знаешь, старыми корешами не брезгуешь. — Он опять сурово посмотрел на парня. Тот усмехнулся и пожал плечами, словно бы соглашаясь с Семёном. — А то, что прижимать сейчас стали — пройдёт, — продолжал Бугаев. — Вспомни, как у нас… — он словно бы хотел сказать: «у нас в зоне», да вовремя поостерёгся постороннего, только заговорщицки подмигнул и взялся за бутылку. Водки уже не было. Семён хотел налить парню коньяку, но тот снова прикрыл ладонью рюмку. Бугаева всё время настораживало молчание парня, незаметное, исподтишка, приглядывание и особенно лёгкая снисходительная ухмылка, время от времени кривившая его тонкие бескровные губы. Семён никак не мог понять — то ли парень не верит всей его трепотне, то ли просто подсмеивается над загулявшим человеком. — А я, Жека, новой хатой обзавёлся, — сказал Семён, с аппетитом принимаясь за шашлык. — С твоей лёгкой руки кооператив приобрёл. Пришлось, конечно… Сам понимаешь! И телефон теперь есть. Позвони мне завтра-послезавтра. Я ведь ещё у тебя в должниках хожу, — он вынул из пластмассового стаканчика пачку бумажных салфеток и написал номер. — Семён Иванович, — вдруг тихо спросил Жогин, — а вы не могли бы вернуть мне… тот набор, что я для вашей лайты сделал? А, Семён Иванович? Тугрики у меня все целы. Хоть завтра готов привезти, куда скажете. И долг ваш спишется… Бугаев видел, как напрягся рыжий. Хоть и опустил глаза, словно примериваясь, в какой кусок шашлыка воткнуть вилку. — Да ты что? — удивился Семен. — Анаши накурился? Может быть, покаяться решил и в цехком отнесёшь? Или ещё куда подальше? — Теперь он уже не пытался играть в жмурки с рыжим парнем. Просьба Жогина оправдывала его ярость. — Тише вы, Семён Иванович, — умоляюще посмотрел на него Евгений. — Официант так и крутится вокруг нас. — И пусть крутится! — отрезал Бугаев. — Должен крутиться, когда люди гуляют. А ты… — Да сдуру это я, — оправдывался Жогин. — Не подумал. Выкручусь. Не берите в голову. Хотел дяде подарить ко дню рождения. Он у меня любит по металлу работать, хоть и пенсионер. А день рождения скоро… Ну, чёрт меня за язык дёрнул. Выкручусь я. — Эх, и шашлычок! — вдруг повеселев, сказал парень. — Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Под этот шашлычок можно и коньяку пригубить. — Давно бы так, — хмуро пробурчал Бугаев и налил ему коньяк в фужер, а на протестующий жест рыжего сказал: — Да в рюмке водкой весь аромат перебьёт. Они выпили, и Семён сказал уже чуть подобревшим голосом: — Ну, Жека, ну, Жека… — Женя — кореш свойский, — защитил Жогина рыжий. — Зря ты, Семён Иванович, на него бочку покатил. Пошутил человек… «Ишь ты, запомнил, как зовут, — подумал Семен. — Наверное, и телефон запомнил». И тут же увидел, как рыжий взял верхнюю салфетку из пачки, на которой Бугаев записал номер телефона для Евгения, деликатно вытер ею губы и, сложив вчетверо, незаметно подсунул краешком под тарелку. Первым поднялся рыжий. — Женя, не хочешь прогуляться? — спросил он Жогина. — Куда? — не понял тот. — В гальюн. Жогин кивнул и тоже поднялся. Когда они, пройдя нетвёрдой походкой между столиками, скрылись за дверью, Бугаев увидел, что салфетка, которую рыжий подсовывал под тарелку с шашлыком, отсутствует. «Не понадеялся на свою память, — почему-то с удовлетворением подумал Семён. — Забрал салфетку. Я так шарик нажимал, что, поди, на всей пачке телефон пропечатался». Оркестранты сделали перерыв. Трое из них сели за столик, стоявший у самой эстрады, и, о чём-то оживленно споря, стали закусывать. Певичка, исполнявшая песню про жёлтые листья, прошла мимо Бугаева в конец зала. Певичка и вблизи не разочаровала его — как ни странно, но на милом лице не было заметно никаких следов косметики. Только волна пряных духов, перебивая запах шашлыка, накатила на Семёна, когда девушка поравнялась с его столиком. Бугаев откинулся на спинку стула и обвёл зал глазами. Лебедев смотрел на него с тревогой. Наверное, беспокоился, не исчезли бы рыжий с Жогиным. Семён, словно щурясь от яркого света люстры, прикрыл глаза: «Всё в порядке. Наверное, рыжий, выспрашивает обо мне у Жогина, — подумал он. — Что, дескать, за птица? Клюй, рыбка, клюй, большая и маленькая…» Но соседи не возвращались. Теперь и Бугаев начал тревожиться. Послать Лебедева посмотреть, что там происходит? У них была на этот случай договорённость — стоило Бугаеву приспустить галстук и расстегнуть ворот рубашки как Лебедев пошёл бы на разведку. Но в это время в зал вошёл Жогин. Вид у него был растерянный, и Семён понял, что случилось что-то непредвиденное. Жогин сел за столик. Глаза смотрели совсем трезво. Будто он и не выпил ни рюмки. — Семён Иванович, не придёт он… В это время подошёл официант. Принёс кофе. — А ваш товарищ? — поинтересовался он. — От кофе и от мороженого наш товарищ отказался, — улыбнулся Бугаев. — Мороженое вы не заказывали, — сказал официант, заглянув в блокнот. — Этого не может быть. Мороженое с клюквенным вареньем — моя любимая еда. Официант не стал спорить и удалился за мороженым, состроив кислую мину. — Он всё про вас спрашивал, — быстро зашептал Жогин, но, Семён, улыбаясь, оборвал его: — Женя, спокойно. Мы же с тобой гуляем. Что нам расстраиваться из-за слинявшего барбоса?! Жогин через силу изобразил улыбку. — Вот сейчас нам коньяк не помешает, — сказал Бугаев и налил по рюмке. — В профилактических целях. «Ничего, на улице Белянчиков с ребятами дежурит, чёрный ход из кухни во двор под наблюдением, — лихорадочно соображал Семен. — Ребята его не упустят, доведут до квартиры». Он взялся за галстук, чуть-чуть спустил узел, расстегнул верхнюю пуговицу. Лебедев встал из-за своего столика, улыбаясь, что-то сказал своим соседям — наверное, что сейчас вернётся, и вышел из зала. Семён представил, как он закурит в вестибюле, потом выйдет на улицу и, посмотрев на часы, недовольно оглядится, словно сердясь на опаздывающую приятельницу. Коньяк и правда подействовал на Жогина успокаивающе. Щёки у него снова порозовели, он даже съел ещё кусок шашлыка, хотя Бугаев и видел, что нож и вилка в руках у Евгения слегка дрожат. — Я ему сказал, как мы договорились, — тихо начал рассказывать Жогин. — Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал всё и говорит: «Это мне не интересно». А расспрашивал, дескать, потому, что не любит с незнакомыми пить. «А тебе — три дня сроку, не будет инструмента — заказывай панихиду». — Не дрейфь, Женя, — ласково сказал Бугаев. — С нами не пропадёшь. Как вы с ним расстались-то? Он ушёл из ресторана? — Иди, говорит, к своему кирюхе, а я домой потопаю. А за стол пускай кирюха заплатит. — Ну и… — Кивнул мне на дверь, я и пришёл к вам. — А рыжий в вестибюле остался? — Остался, Семен Иванович. Просто стоял. И смотрел, как я к дверям шёл. Я в дверях оглянулся, а он мне ручкой сделал. — Кто-нибудь был ещё в вестибюле? — Какие-то две девчонки у зеркала причёсывались. — Та-а-к, — задумчиво сказал Бугаев. — Кирюха, сказал, заплатит? — Да что вы, Семён Иванович, я ведь тоже при деньгах… — по-своему понял слова Бугаева Жогин. — Я не об этом, — Бугаев мучительно перебирал в памяти все свои действия, все слова, которые говорил за столом. Пытался понять, не насторожил ли чем рыжего. — Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова? — Ни слова, — эхом отозвался Жогин. — И про то, что за деньги я тебе ещё должен, ничего не спрашивал? — Нет. Ничего не спрашивал. Только как зовут, где познакомились. Знает ли Лёву Бура. — Знаю ли? — переспросил Бугаев. — Или «знал ли»? Жогин наморщил лоб, вспоминая. Потом твёрдо сказал: — Знает ли. — Ладно, — Бугаев взялся за кофе. — Нам суетиться нельзя. Может, у рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушёл и ушёл, нам-то что! Сейчас допьём кофе. — Он увидел официанта, несущего две вазочки с мороженым. — Мороженое съедим. — Он сделал красноречивый жест пальцами. — Подсчитаем убытки, шеф! — Всё готово. — Официант тут же положил перед Бугаевым листок. Мельком взглянув на счёт, Семен вытащил пятидесятирублёвку и сказал: — Сдачи не надо. Подумал: «Половину, больше мне не оплатят».…Они вышли в вестибюль вместе, минут пять разыгрывали перед старичком гардеробщиком и солидным швейцаром сценку любви и дружбы. — Женя, помни, — упрямо долдонил Бугаев, — я твой должник. Что верно — то верно. Сегодня я, завтра ты. — Так, обнявшись, они и вышли на улицу. Причём Бугаев не забыл сунуть в руку швейцара рубль. Такси, в котором дежурил Белянчиков, стояло на другой стороне улицы. «Что же они, не сели на хвост рыжему?» — с недоумением подумал Семён. Прощаясь, он шепнул Жогину: — Сегодня попозже позвоню. Если будет кто посторонний, скажешь: ошиблись номером, а потом сам позвонишь… Бугаев прошёл до улицы Маяковского, свернул налево. Огляделся. Улица была пустынна, только вдали по другой стороне шла подвыпившая компания молодёжи, вразнобой выкрикивая слова давно устаревшего на Западе шлягера: «Мани, мани, мани…» «Что они, кроме „мани“ других слов не знают? — со злостью подумал Бугаев. — Выучили бы как следует, раз уж так по-английски петь приспичило!» Уже совсем стемнело. Прохладный ветер нёс по тротуару пыль, смешанную с сажей. Впереди притормозила машина. Мигнула фарами. Бугаев перешёл через улицу, ещё раз огляделся. Ничего не привлекло его внимания. Он не спеша двинулся к машине…
…Оказалось, что рыжий парень из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с чёрного хода. — Не мог же он сквозь землю провалиться? — рассердился Бугаев, выслушав своих товарищей. — Конечно, не мог — согласился Белянчиков. — А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. — Он взглянул на часы. — Через пятнадцать минут ресторация закрывается. За чёрным ходом я тоже наблюдение оставил. — Может, ещё один выход есть? — сказал задумчиво Бугаев. — Да ведь не пойдёшь расспрашивать. — Почему? — спросил Белянчиков. — Если он так внезапно растворился в этом шалмане — не исключено, что и дружки у него там имеются. — Может, ты и прав, — согласился Юрий Евгеньевич. Машина, скрипнув тормозами, круторазвернулась. — Куда сейчас? — спросил Бугаев. — Шеф в управлении дожидается, — сказал Белянчиков. — Раз пять на связь выходил. Всё спрашивал — как там наш Сенечка? Не перебрал? — Да ну тебя! — рассердился Бугаев. — Посидел бы ты там, повыламывался! — Из меня актёр никудышный, — усмехнулся Белянчиков. — Да и лицо после первой рюмки малиновым становится. А ты и сейчас как огурчик, с виду не подумаешь, что весь вечер пропьянствовал. Перегарчиком, правда, попахивает. — Он дурашливо принюхался. — И шашлычком. Да вы гурман, Семён Иванович! — Ну давай, давай! — вздохнул Бугаев. — Мели, Емеля… Выслушав доклад Бугаева, Корнилов, по привычке теребя пальцами мочку уха, спросил Белянчикова: — Юрий Евгеньевич, а вы не могли упустить из виду этого парня? Не проскочил он в толпе? — Нет, — твёрдо сказал Белянчиков. — Это исключено. Я его с ног до рыжей головы рассмотрел, когда он ещё Жогина поджидал у ресторана. При дневном свете… — Вот-вот, — ухватился Игорь Васильевич за эти слова майора. — При дневном свете… Рыжая голова… А ночью все кошки серы. И на голову можно кепарик надеть. Кстати, в потёмках рыжего от шатена и не отличишь. — Товарищ полковник, — с обидой сказал Белянчиков, — я за свои слова отвечаю. Из подъезда ресторана этот тип не выходил. — Понимаю, что ты его не пропустил. Ты, Юра, зря сердишься, — совсем по-домашнему вздохнул Корнилов. — Но куда-то же он делся?! — Остался в ресторане, — сказал Бугаев. — Я в этом уверен. Но расспрашивать никого не стал — ни швейцара, ни гардеробщика. — Правильно сделал, — кивнул Игорь Васильевич. — Вот только пальчики его надо было исхитриться и достать. — Не рюмку же с собой забирать?! — проворчал Бугаев. — У нас детективы даже преступники по телевизору смотрят. Нагляделись, как сыщики отпечатки пальцев добывают. Бокальчик ненароком заденут… Ах, извините! И осколочки в платочек. А то и целый стакан в карман запихают. Корнилов засмеялся: — Что-то вы, братцы-ленинградцы, раздражительными стали. Время, что ли, позднее? — Он посмотрел на часы. — Да… Уже новый рабочий день начался. Кстати, Юра, — обратился он к Белянчикову, — позвони дежурному, пусть снимут посты у ресторана. Теперь уже бесполезно людей там держать. Белянчиков снял трубку прямого телефона. — Чайку бы сейчас, — мечтательно произнёс Бугаев. Белянчиков не выдержал и, прикрыв трубку ладонью, прошептал: — Нахал. Весь вечер кейфовал в ресторане… — Договорить он не успел — отозвался дежурный по городу. Юрий Евгеньевич передал просьбу отозвать людей, наблюдавших за рестораном. — Времени в обрез, — сказал Корнилов. — Через четыре дня на стройкомбинате, куда устроилась Рогозина, выдача зарплаты. Кассиры привозят сразу все деньги, а зарплату выдают два дня. Почти половина остаётся в сейфе на ночь. Можно, конечно, попросить их привезти деньги в два приёма… — Он задумался. — Даже нужно бы. Но если Рогозина их наводчица, то сразу поднимет тревогу. И опять ищи ветра в поле… — А если о том, что привезут половину денег, будет знать только главный бухгалтер? — высказал предположение Белянчиков. — Да как ты скроешь это в маленьком коллективе бухгалтерии? Люди начнут нервничать, вести себя неестественно, — запротестовал Корнилов. — Вот если договориться с банком… Чтобы те, сославшись на отсутствие денег, выдали только половину… Нет, и это не годится! Всё равно полезут. Не в этот, так в следующий раз. И какие бы мы там засады ни устраивали, риск для работников комбината есть. Не можем же мы там месяцами торчать. Правда, пока никаких подтверждений, что Рогозина была в сговоре с Буром, нет. Характеристики со всех прежних мест работы хорошие. Семья в Краснодаре приличная. Лёва Бур мог познакомиться с нею, чтобы иметь возможность побольше разузнать о сберкассе… — Жаль, что на Семёна не «клюнули», — сказал Белянчиков. Бугаев усмехнулся: — Ну почему же не клюнули? Телефончик мой рыжий прижал. — Чего же ты молчишь! — рассердился Корнилов. — Теперь мы их заставим клюнуть! Присутствующие с интересом уставились на полковника. — Чего смотрите? Дело простое — надо Жогина из игры изъять. Отправить в командировку. В больницу положить. Вот-вот, лучше в больницу… — Корнилов рассуждал, всё больше и больше воодушевляясь. — Сердечный приступ. Жена ночью вызывает «скорую». В таких случаях человек лежит в реанимации. Один. Под строгим врачебным контролем. У неизвестных пока нам грабителей опять номер с инструментом провалится. Таких умельцев, как Лёва Бур да Жогин, не сразу найдёшь. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семёну Бугаеву… — он внимательно посмотрел на Семёна. — Если Бугаев только не пережал в ресторане. Не переусердствовал, Сеня? — Будьте спокойны, товарищ полковник, — подал голос Бугаев. — Всё было взаправду, лучше чем в кино. — А если сейчас тебе этот рыжий звонит по телефончику? — с ехидцей спросил Белянчиков. — Решил проверочку устроить. Что ты ему завтра скажешь? Что начальник отделения ночное заседание проводил? — Скажу, что заблудился и пришлось у знакомой девушки переночевать. — Ладно, ладно! — повысил голос полковник. — Хватит пикироваться. Я тебя, Юрий Евгеньевич, не узнаю. Вы что, с Семёном ролями поменялись? Он ведь у нас штатный балагур, а не ты. Белянчиков помрачнел. Посмотрел на полковника пристальным, немигающим взглядом: — Да что-то, Игорь Васильевич, неспокойно на душе, муторно. У меня всё из головы этот Колокольников не идёт… Выдюжит он или нет? — Белянчиков встал, прошёлся по кабинету, нервно сцепив пальцы. — Ведь за что на него, в сущности, напали? Хотели убить?.. Ну, заметил подозрительного типа. Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но за это же не убивают! Уйти от такого «преследователя», как Колокольников, — проще пареной репы. Захотел рыжий парень из ресторана смыться — профессионалы его не устерегли! А тут от Зеленогорска до Соловьевского переулка неискушённый мужик бандита довёл! — Или бандит неискушённого мужика привёл туда, где ему удобно было с ним расправиться, — сказал Корнилов. — Тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали его труп в машину. А раз так, то считали, что Колокольникову известен и номер машины. — Правильно, — согласился Бугаев. — И от машины они, скорее всего, сразу же избавились. Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них — самая подходящая фигура. Подарок судьбы. — Не будем гадать, — Корнилов стал собирать лежавшие перед ним бумаги, давая понять, что ночное бдение заканчивается. — О том, что произошло с Колокольниковым на пути из Зеленогорска на Васильевский остров, мы сможем узнать только тогда, когда он придёт в себя. Но, похоже, это будет не скоро… А время не ждёт. Ловить бандитов надо поскорее. Завтра с утра Белянчиков займётся Жогиным. Продумай, Юрий Евгеньевич, как следует, в какую больницу его положить. Как охранять и его и жену. Сам видишь — с кем дело имеем! А ты, Семён, сиди в своей новой квартире, звонка жди. Ну, конечно, не затворничай. Веди себя естественно. Вечером на часок, на два опять в «Адмиралтейский» заверни, ты же у нас человек денежный. Кассу недавно «взял». И звони, как договорились, трижды в день. И сразу, если что-то новенькое появится. Всё. — У вас в приёмной, что ли, переночевать? — задумчиво сказал Белянчиков, когда они выходили из кабинета Корнилова. — Да, наверное, в диване клопы есть. Но никто на его шутку не ответил…
15
Корнилов всегда очень тщательно готовился к допросам. К трудным допросам. Нет, он не старался предугадать, как может повести себя человек, с которым предстояло беседовать, и не продумывал заранее все вопросы, которые собирался ему задать, не обременял себя придумыванием уловок, которые помогли бы ему выявить то, ради чего этот допрос состоялся. Некоторым его сослуживцам казалось, что он проводил допросы и беседы с подозреваемыми вопреки теории, которую когда-то изучил на юрфаке. Но они ошибались. Опыт подсказывал полковнику, что теория хороша только до известных пределов — личность человека гораздо богаче, чем любая теория. И поэтому Корнилов считал поведение человека непредсказуемым. Он знал, что оно зависит порой от мелочей, в которых сам человек может даже не отдавать себе отчёта — от того, как он выспался, от обиды, которую причинил ему сосед по камере, от известий, полученных с воли, от того, светит ли солнце или небо затянуто тучами. Но к тому моменту, когда полковник шёл к человеку, с которым предстояла беседа, или этот человек сам приходил к нему, вызванный повесткой, или его приводил на допрос конвойный, Корнилов хотел знать о нём как можно больше. И собирал эти сведения по крупицам. Черты характера и отношения в семье, увлечения, отношение к нему друзей и его — к друзьям, круг сослуживцев… Всегда было трудно предугадать, какие порой малозначительные детали о человеке он поручит выяснить своим сотрудникам. Старшего лейтенанта Лебедева совсем не удивило задание Корнилова узнать, давно ли водит Борис Дмитриевич Осокин автомашину, сколько автомобилей у него уже было, попадал ли в аварии, нарушал ли правила езды? Необходимость таких сведений не вызывала у Лебедева никаких сомнений. Даже просьба порасспросить о том, как Осокин относится к своему автомобилю — аккуратист, по воскресеньям драящий её замшей, или безалаберный неряха, по полгода не открывающий капот. Лебедев, хоть и не очень чётко, но представлял себе, как сможет воспользоваться шеф такими сведениями. Но вот зачем потребовалось Корнилову выяснить — бережливый ли человек Осокин или транжира, — Володя Лебедев так и не понял. Хоть и смог отыскать для шефа такую информацию. Правда, с большим трудом. Допросить Осокина Игорь Васильевич решил у него дома. В привычной для Бориса Дмитриевича обстановке. Да и побитые «Жигули» стояли рядом с подъездом. Следователь, который вёл дело, дал согласие на то, чтобы допросить Бориса Дмитриевича, и на то, чтобы провести техническую экспертизу его автомобиля. Осокин был дома один. Когда он открыл дверь, Корнилов, несмотря на то что в прихожей было темновато, сразу вспомнил этого приятного, с мягкими манерами человека, и почувствовал, что хозяин тоже узнал его. — Корнилов. Из уголовного розыска, — представился Игорь Васильевич. — Я вам звонил по поводу наезда… — Да, да, — закивал Осокин торопливо Игорю Васильевичу, широким жестом показав куда-то в глубь квартиры. — Проходите, пожалуйста. — И в этот момент увидел позади полковника ещё двух человек — Лебедева и эксперта. — Вы не один? — Борис Дмитриевич насторожился. — У нас есть разрешение провести осмотр и техническую экспертизу вашей автомашины, — сказал Корнилов. — Давайте сначала займёмся ею. А потом мы с вами побеседуем… — Он сделал паузу и добавил, чтобы уж не было никаких недомолвок: — Следователь поручил мне допросить вас. Осокин пожал плечами. Хотел что-то спросить, но не спросил. Молча похлопал рукой по карманам, вытащил ключи, протянул Корнилову. Ключи были на красивом брелоке, по форме похожем на серебряный рубль. Корнилов с интересом покрутил брелок в руке. На сильно потёртом кружке был изображён бегущий мужчина, а по периметру написано: «В здоровом теле здоровый дух». — Мы обязаны сделать осмотр машины в вашем присутствии, — сказал Игорь Васильевич, возвращая Осокину ключи. На лице Бориса Дмитриевича появилось страдальческое выражение: — Осматривать перед самым домом? Что соседи подумают! — А что они могут подумать? — ободряюще усмехнулся Корнилов. — Ещё одна комиссия оценивает причинённый машине ущерб! — Ну, что ж, пойдёмте, — вяло согласился Осокин. Он уже вышел на площадку и хотел захлопнуть дверь, но в нерешительности остановился. — У меня на кухне газ не выключен. Чайник стоит. Корнилов кивнул. Борис Дмитриевич вошёл в квартиру, демонстративно оставил дверь нараспашку и тут же вернулся, погасил в прихожей свет, и они неторопливо спустились по лестнице вниз. Осокин сдёрнул с «Жигулей» чехол, открыл дверцы, хотел поднять капот. Корнилов остановил его: — Откройте багажник. Борис Дмитриевич раскрутил алюминиевый провод, которым наспех, кое-как была прикручена после аварии крышка багажника. — Николай Михайлович. Наш эксперт, — кивнул Корнилов на Коршунова. — Он, с вашего позволения, осмотрит всё в багажнике. Осокин пожал плечами. — Приступайте, — сказал Корнилов. Методично, предмет за предметом, вынимал Коршунов содержимое багажника и раскладывал на брезенте. Лебедев помогал ему доставать запаску, инструмент, раскладные стульчики, коробки и прочее «снаряжение», без которого не обходится почти ни один автомобилист. Корнилов стоял в стороне и следил за действиями своих сотрудников. — Вы меня узнали? — спросил у Игоря Васильевича Осокин. Корнилов кивнул и заметил, как порозовели у Осокина щеки. Но Борис Дмитриевич тут же справился со своим смущением и взглянул Корнилову прямо в глаза. — Вы не подумайте ничего плохого. На рыбалке я потерял записку с вашим адресом.…Это была старая история. Корнилов последним поездом приехал на Варшавский вокзал с Сиверской, где гостил несколько дней у матери и брата. Метро уже не работало, такси шли в парк. Корнилов «проголосовал», и какой-то сердобольный частник остановил рядом с ним свой «Москвич». — До Кировского не подбросите? — попросил Игорь Васильевич. Шофёр кивнул на сиденье рядом с собой. В руках Корнилова была удочка. Удобнейшая из удочек — разборная, из трёх частей — лёгкая бамбуковая удочка, которую он очень любил. В дороге они разговорились с водителем о рыбалке. Звали водителя Борис Дмитриевич. Он рассказал, что едет сейчас на дачу. Завтра к нему заглянет старый приятель, они тоже пойдут ловить рыбу на заливе, да только удочкой для приятеля он не успел запастись. — Могу одолжить, — сделал широкий жест Корнилов. — Но с отдачей. Это моя любимая… Самая добычливая. Водитель обрадовался. — Вот уж не знаешь, где найдёшь… — сказал он с искренней благодарностью. — Послезавтра я вам её завезу. Когда они остановились, переехав Кировский мост, Игорь Васильевич нацарапал на клочке бумаги свой адрес и телефон и с лёгким сердцем передал водителю. У водителя было мягкое интеллигентное лицо, добрые глаза. Они попрощались. Корнилов вылез из машины и зашагал через сквер к себе домой. И даже не оглянулся на «Москвича». Чтобы не обидеть нового знакомого подозрением. Борис Дмитриевич мог подумать, что он хочет запомнить номер его автомашины… — Правда, товарищ Корнилов, — тихо сказал Осокин. — Я потерял ту записку. Поверьте мне. Я бы тотчас вернул вашу удочку. «Неужели и моя фамилия, и имя сразу же улетучились из вашей головы? — хотел сказать Корнилов. Но не сказал. Только подумал: — Мне с ним долгие беседы беседовать, ещё решит, что из-за удочки придираюсь. Чёрт с ней, с удочкой. Может, и правда позабыл. Клёв хороший начался — всё позабудешь». Он беспечно махнул рукой: — Ерунда. Не думайте об этом! Удочка — то удочка! — Всё равно неприлично, — поморщился Осокин. — Из-за таких мелочей люди теряют веру друг в друга. «Хороший заход, — подумал полковник. — Умница, Борис Дмитриевич. Для человека, который знает, что за ним ещё и серьёзное преступление числится, совсем неплохо». Воспоминание об истории с удочкой настроило Корнилова на лёгкий иронический лад, и он даже подумал о том, что допрашивать Осокина нужно именно вот так — легко и непринужденно, может быть, даже чуть-чуть иронично. Он постарался припомнить коллекционеров, с которыми приходилось иметь дело, и сделал вывод, что эту категорию людей природа почему-то обделила чувством юмора. А может быть, это только ему такие попадались? — Товарищ Корнилов! — вывел полковника из задумчивости голос Осокина. — А ведь та удочка у меня до сих пор цела. На даче. — Прекрасно, Борис Дмитриевич, — улыбнулся Корнилов. — Будет повод заехать к вам на дачу! — Конечно! — Да я шучу. Столько лет прошло… — Он прикинул в уме. Выходило не меньше десяти. И видели друг друга не больше получаса в голубом сумраке белых ночей, а поди ж ты — запомнил. Узнал с первого взгляда. Я-то не в счёт — это мой хлеб, а вот товарищ доцент… Зрительная память у него отличная. И сказал, давая понять Осокину, что тема с удочкой исчерпана: — Удочки у меня уже получше есть, да только со временем туго. Поколдовав над пустым багажником, Коршунов попросил Осокина сложить все вещи назад, а сам начал снимать отпечатки пальцев на «Жигулях». Лицо у него было сосредоточенное и сердитое — отпечатков было много, а Корнилов приказал собрать все. «А хоть бы и сто! — сказал он Николаю Михайловичу ещё в управлении, когда они собирались к Осокину. — Мне все нужны». Улучив момент, когда Осокин, склонившись над багажником, аккуратно раскладывал своё барахлишко, Корнилов вопросительно посмотрел на Коршунова. Тот отрицательно покачал головой. В багажнике и салоне он искал следы крови. Если Осокин, вернувшись за сбитым им мужчиной, увёз его на своих «Жигулях», эти следы должны были остаться. …Через полчаса Коршунов и Лебедев закончили свою работу. — Поезжайте, — кивнул полковник на «Волгу», — и сразу пришлите назад. Когда сотрудники уселись в машину и шофёр уже включил мотор, Игорь Васильевич поднял руку, прося задержаться, Лебедев открыл дверцу, вопросительно глядя на шефа. — Скажите в НТО, чтобы экспертизу на кровь сделали молнией. А «пальцы»… — он сделал короткую паузу. — Да вы сами знаете. В первую очередь пускай сравнят с отпечатками Котлукова. — И, склонившись совсем близко к старшему лейтенанту, чтобы не услышал Осокин, дал ему ещё одно задание. — Есть, товарищ полковник! — бодро отрапортовал Лебедев, и Корнилову показалось, что в голосе у него прозвучали озорные нотки. «Ты бы ещё рот до ушей разинул, — с неудовольствием подумал он, — каждый дурак догадается, что мы тут театр разыгрываем». К «театру Корнилова», который, как правило, был экспромтом, сотрудники давно привыкли и восхищались, как удачно он находил моменты для маленького представления, всегда рассчитанного на то, чтобы настроить подследственного на определённый лад или заронить в его душу искру тревоги, которая во время допроса мешала бы ему сосредоточиться, отвлекала от заранее разработанного метода защиты. Всё, о чём он сказал сейчас Лебедеву, предназначалось для Бориса Дмитриевича Осокина. Лебедев с Коршуновым и так твёрдо знали свои обязанности. Машина уехала. — Ну, что ж, Борис Дмитриевич, — сказал Корнилов, приглядываясь к посуровевшему лицу Осокина. — Если не возражаете, поднимемся к вам. Побеседуем. — Прошу вас, — показал Осокин на двери подъезда. На лбу у него, над переносьем обозначились две резкие морщины. Осокин провёл его в свой небольшой кабинет, одна стена которого была заставлена книжными шкафами, а на другой, на обтянутых разноцветным бархатом картонах, красовались значки. На каждом картоне, как понял Корнилов, отдельная страна. Картонных этих прямоугольников, напоминающих абстрактные картины, было так много, что Игорь Васильевич даже не попытался их сосчитать. Они сели друг против друга в удобных, чуть жестковатых креслах перед большим, инкрустированным разными породами дерева, журнальным столиком. Корнилов видел как-то в мебельном магазине такие гарнитуры — два кресла, маленький диванчик и журнальный стол. Кажется, арабские. Жене гарнитур очень понравился, но стоил он так дорого, что Игорь Васильевич взял Олю под руку и увёл из магазина… — Борис Дмитриевич, — сказал Корнилов почти весело, — допрос — дело официальное. Есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить… Он упомянул об ответственности за дачу ложных показаний, посвятил Осокина в его права и обязанности, дал расписаться на бланке. И спросил неожиданно: — Борис Дмитриевич, у вас есть карты Ленинграда и Ленинградской области? Осокин смотрел на него с удивлением. — Ну, обыкновенные карты. Вы же автомобилист. Изъездили небось все окрестности за грибами да на рыбалку. — Есть, конечно, — наконец-то сказал Осокин и, встав с кресла, подошел к письменному столу. Выдвинул один из ящиков, вынул целую пачку потрёпанных карт. Начал перебирать их. — Вот! Есть и город и область, — он бросил на журнальный столик пакет. Корнилов осторожно развернул новенькую карту Ленинграда и, кое-где уже стёршуюся на сгибах, карту области. — А поновее нет? — Нет. Да к этой я уже привык, — ответил Осокин. — Ну, что ж, и такая сгодится, — кивнул Корнилов. Это была его маленькая тайная страсть — разглядывать карты. Угадывать за сотнями всевозможных мелких значков, за едва различимой разницей тонов окраски знакомые деревушки и домики лесников, болотца с небольшими озёрами, на которых ему когда-то удавалось ловить рыбу или охотиться. — Давайте, Борис Дмитриевич, повторим по этой карте ваше путешествие в ночь со второго на третье. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на «чёртовом пятачке»… — Он покачал головой: — До чего удачно окрестил народ это местечко! Действительно, чёртов пятачок! Осокин слушал Корнилова со смешанным чувством — ему казалось, что этот пожилой полковник, опытный, наверное, человек, просто разыгрывает его. Но за таким розыгрышем, за непринуждённостью, почти весёлыми его разглагольствованиями наверняка кроется скрытая угроза. И эти слова про «пальчики» неведомого ему Котлукова… Что они означают? И кто такой Котлуков? Может быть, сбитый им мужчина? Может быть, жена и права — он не так уж и пострадал и запомнил номер его «Жигулей»? И милиционеры всё уже давно знают, только решили поиграть с ним в кошки-мышки. Корнилов ткнул карандашом в один из коричневых квадратов на улице Чайковского. — Насколько я разбираюсь в географии — мы сейчас здесь? Осокин согласно кивнул. — Выехали вы из дома… — Нет. Из института. В десять закончилась консультация у абитуриентов. Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелю. На Васильевский остров. — Из института… — повторил Корнилов, выискивая на карте институт. — Значит, отсюда, — он ткнул карандашом в пересечение нескольких проспектов, где в маленьком кружке алела буква «М» — метро «Технологический институт». — А где живёт ваш приятель? — На Косой линии. Дом восемнадцать. Номер квартиры вам тоже нужен? — Эта история с картой начала раздражать Бориса Дмитриевича, хотя он твёрдо решил сохранить спокойствие и доброжелательность. — Да. И номер квартиры. И фамилия вашего друга. И сколько вы у него пробыли… Но только давайте не будем торопиться, Борис Дмитриевич. Побеседуем спокойно, обстоятельно. Это поможет и мне и вам. Время у нас есть. — Он взглянул на часы — было без четверти четыре. …Со стороны могло показаться, что сошлись два приятеля, давно не видевшие друг друга, и один рассказывает другому о своей недавней поездке на Карельский перешеек. От внимательного наблюдателя, правда, не ускользнула бы одна деталь: у рассказывающего не чувствовалось обычного в таких случаях энтузиазма, так украшающего любой рассказ о путешествии. Даже о таком недалёком. Осокин говорил спокойно, иногда пускался в подробности, мало интересовавшие Корнилова, но полковник не останавливал его, лишь изредка задавал вопросы: в какое время проехал пост ГАИ в Лахте? Не встретилась ли на пути от Солнечного до Зеленогорска патрульная милицейская машина? Но он даже не спросил Бориса Дмитриевича о самом главном — не видел ли он на пятьдесят пятом километре человека? Не выскочил ли кто неожиданно из кустов? Корнилов не задал пока ни одного из тех вопросов, которых так боялся Осокин. Зато спросил неожиданно: — У вас, Борис Дмитриевич, на каком бензине «жигулёнок» бегает? — На семьдесят шестом. Мне поставили прокладку… — И, с вызовом посмотрев на Корнилова, добавил: — Это не преследуется законом? — Да как вам сказать… Если не покупать за бесценок государственный бензин у водителей грузовиков, то не преследуется. — Слава богу! — демонстративно вздохнул Осокин. — Я заправляюсь только на бензозаправочных станциях. — Кстати, а почему у вас в багажнике не было канистры с бензином? — Перестал возить с собой. Напугал приятель — сказал, что в случае аварии может загореться. — Вряд ли, — усомнился Корнилов. — Перестраховщик ваш приятель. Все возят с собой канистры. — И быстро, без всякого перехода, спросил: — А где вы заправлялись в ту ночь? Или в то утро? — Нигде. До нашей дачи — семьдесят. Обратно я ехал Верхне-Выборгским шоссе. Этот путь подлиннее, но ведь бак-то на четыреста километров рассчитан. — Борис Дмитриевич, — ласково сказал Корнилов, — вы же умный человек. Неужели вы так плохо о нас думаете? Осокина бросило в жар. Он только сейчас вспомнил, что хмурый дотошный эксперт, осматривая его «Жигули», включал зажигание. Значит, видел, что бак был почти полон. «Дурак, — выругал он себя, — чего я стал врать? Почему растерялся? Это ж такая глупость — скрывать, сколько было бензина! Да хоть сколько! Мало ли заправочных станций на трассе!» И тут же понял, что запутывается всерьёз: заправочных станций действительно было мало. На том пути, который он показал по карте полковнику, всего три. На одной из них он и заправлялся рано утром. Его машина была в то время на стоянке единственной. И женщина, заправлявшая его «Жигули», могла заметить вмятину на радиаторе. Могла запомнить, что клиент нервничал. А он и правда очень нервничал. Поспорил с ней о чём-то… — Значит, всё-таки заправлялись? — добродушно сказал Корнилов. Его не покидало весёлое, ироническое состояние, которое он почувствовал, узнав в Осокине ночного автомобилиста из далёкого прошлого. — Забыли, наверное. Но теперь, мне кажется, вспомнили. Значит, помните и на какой станции заправлялись? «Станции три, — лихорадочно думал Осокин. — Проверить легче лёгкого. Сейчас надо говорить правду». И спокойно, глядя прямо в глаза Корнилову, ответил: — В Зеленогорске. — А в какое время? Полковник, так медлительно и добродушно обсуждавший поначалу ночную поездку Осокина, вдруг вцепился в него словно клещами, не давая времени обдумать ответ. — В семь. Может быть, в семь с минутами, — Осокин назвал правильное время и, только уже назвав, понял, что и на этот раз поступил правильно. — А на даче у вас есть гараж? — Есть, — сказал Осокин, догадываясь, каким будет следующий вопрос Корнилова. Но полковник спросил у Бориса Дмитриевича совсем не о том, держит ли он, как всякий запасливый автомобилист, пару канистр с бензином в своём гараже. — Чем вы занимались пятого августа? — спросил Корнилов, как будто неожиданно потерял всякий интерес к поездке Осокина. — Что вы имеете в виду? — Просто, хотел знать, как проводят свободное время преподаватели вузов. У вас ведь сейчас отпуск? — Да нет. Консультации для заочников… С первого принимаю экзамены… — Осокин пожал плечами. — Но бывают и совсем свободные дни. — А пятого? Что делали пятого? Осокин задумался. — Борис Дмитриевич, — попросил Корнилов, — постарайтесь вспомнить всё поточнее. С кем встречались, время… Меня интересуют даже мелочи — кого встречали, выходя из дома? Кому звонили? Кто звонил вам? И всякий раз старайтесь припомнить время. Указать его поточнее. Я понимаю, это нелегко, но иногда маленькая деталь всё ставит на свои места. Например, полуденная пушка. — Пушка? — удивился Осокин. — Ну, конечно. Петропавловская… Пальнёт, поневоле вспомнишь о времени. Борис Дмитриевич улыбнулся. Первый раз с начала их беседы. — Да, уж Петропавловская не даёт нам забыть о времени. Даже счастливым. Только в новых районах её уже не слышно. — А вы в тот день куда-то ездили? В новый район? — Нет. Не ездил. Сейчас я постараюсь всё рассказать по порядку. Утром мы встали поздно. Около девяти. У жены был библиотечный день. В десять она поехала в «публичку». В газетный зал. На Фонтанке, знаете? Корнилов кивнул. — А ко мне приехал мой аспирант. Часа три мы занимались его диссертацией… — Поточнее, Борис Дмитриевич. Время, фамилия аспиранта… — Да, да! Понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю, — он снова улыбнулся открытой, подкупающей улыбкой. «Ну вот, Борис Дмитриевич, теперь ты совсем другой человек, — подумал Корнилов. — Куда подевалась твоя скованность? Где осторожность и взвешенность в ответах? Теперь тебе нечего скрывать! Можно говорить правду. Насколько легче говорить правду. И не бояться проговориться! Не напрягать своё серое вещество, чтобы удержать в уме детали, которые ты уже скрыл или придумал, и чтобы согласовать их с новыми, которые ещё предстоит придумать. Придумать или скрыть. Как это трудно говорить неправду…» Осокин рассказывал быстро и уверенно. Иногда, вспоминая что-нибудь новое, о чём забыл упомянуть раньше, извинялся и уточнял подробности. Делая беглые записи на листе бумаги, Корнилов почти не сомневался, что всё рассказанное Осокиным верно. Весь день пятого августа, час за часом, можно будет перепроверить показаниями свидетелей, подтвердить фактами. Корнилов уже не сомневался и в том, что к нападению на Колокольникова Борис Дмитриевич не имел никакого отношения. И ещё он удивлялся, что этот эрудированный и, похоже, умный человек не чувствует, что выдаёт себя с головой, показывая теперь свою наблюдательность и цепкость памяти. Эмоциональная разрядка — Корнилов нередко использовал в своей практике такой приём. Но чаще всего этот приём срабатывает, когда имеешь дело с людьми ограниченными, малоразвитыми. … — В шесть я зашёл за женой в библиотеку, и мы поехали в гости. На Гражданку. У её сестры день рождения. Вернулись домой поздно. Не помню точно. Был, как говорится, изрядно подшофе, — Осокин вопросительно посмотрел на полковника, давая понять, что добавить ему больше нечего. — Спасибо, Борис Дмитриевич, — поблагодарил Корнилов. — Всё очень чётко и убедительно. Приятно иметь дело с умным человеком. — Он помедлил и добавил, внимательно вглядываясь в Осокина, чтобы не пропустить, какой эффект произведут его слова: — А вот когда вы рассказывали о своей поездке на «Жигулях» за город, я огорчился. Подумал, что память у вас плохая… Осокину удалось справиться с собой. Лицо его не залило краской, как в тот раз, когда он понял свою первую ошибку. Только глаза сверкнули яростно. Но Борис Дмитриевич тут же опустил их и уязвлённо сказал: — Как прикажете понимать ваши слова? — Как шутку. Как шутку, Борис Дмитриевич. Вы не обижайтесь. А что касается пятого числа, то могу вам объяснить, в чём заключался мой интерес. — Он сделал нажим на слово «заключался». — Во второй половине дня, где-то между четырьмя и шестью часами, был тяжело ранен инженер Колокольников. Свидетель катастрофы на пятьдесят пятом километре… — Ну, знаете ли! — возмутился Осокин. — Подозревать меня в покушении на убийство?! Это… это… Чёрт знает что такое! Ну и дожили же вы, Борис Дмитриевич! — Осокина прямо распирало от сарказма. — Зачислены в убийцы! Позор! — Зачем же вы так? — остановил его Корнилов. — Вас никто не обвиняет в покушении на убийство. На этот день вы дали мне исчерпывающий ответ. Я вам верю. Хочу только предупредить — какие-то детали мы уточним, поговорим с теми людьми, которых вы назвали. Но так что никто ни о чём не догадается… — Безобразие! Хамство! — всё больше и больше распаляя себя и озлобляясь, твердил Осокин. — До чего докатились… — Простите, Борис Дмитриевич. Поберегите нервы. Мы ещё не всё выяснили по поводу вашей поездки на дачу. Уточним некоторые детали, но прежде я должен позвонить… Осокин молча показал на телефонный аппарат. Корнилов набрал номер научно-технического отдела, попросил Коршунова. — Что нового, Николай Михайлович? — На лобовом стекле «пальцы» Котлукова нашли! — выпалил эксперт. — Ошибки быть не может? — Какая ошибка! Отпечатки хоть и смазанные, но от всей ладони. Его после удара, наверное, на капот подняло. Вот и приложился. Редкий случай… — Понятно, — сказал Корнилов, не желая в присутствии Осокина задавать вопросы и ожидая, о чём ещё доложит ему эксперт. — Бурые пятна в багажнике, как я и думал, ничего общего с кровью не имеют. Кажется, всё… — Передайте мою просьбу: пусть пришлют сюда наши «Жигули». Только обычные, не фирменные. — Он положил трубку и снова сел в кресло напротив Осокина. — Мы уже так долго беседуем, — иронично сказал Осокин, — что вы, наверное, проголодались? — Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич. Аппетита нет. — Тогда чай? — Скажите, Борис Дмитриевич, — не ответив на вопрос о чае, спросил Корнилов, — у вас на даче есть огород? — Ну и вопросы вы задаёте! — удивился Осокин. — Самые неожиданные. Да. Есть небольшой огородик. Клубника, петрушка, морковь… Всякая ерунда. Сажаем больше для того, чтобы в земле покопаться, душу отвести. — Вас жена в тот раз ничего не просила с дачи привезти? — Не просила, — ответил Осокин и тут же вспомнил, что дочь говорила ему про варенье. — А может, и просила, да я забыл. Во всяком случае, ничего не привёз. — Он с сожалением подумал о том, что заранее не условился с женой об этой мелочи. Но это не страшно. Даже если и просила, разве есть люди, никогда ничего не забывающие? — А вы позвоните жене, — предложил Игорь Васильевич. — Уточните, давала она вам поручение или нет? — Позвонить? Сейчас? — Ну да! Разве сложно? — Да нет… — Осокин медленно поднялся с кресла, подошёл к телефону, лихорадочно соображая, чем может грозить этот звонок. «А если набрать другой номер, спросить Осокину, там ответят — не туда попали, а я скажу Корнилову, что жены на работе нет? А потом мы договоримся с ней. А если он не поверит? И позвонит сам?» Он думал об этом, автоматически набирая номер, готовый в последний момент сделать ошибку на седьмой цифре. Но набрал точно. — Антонину Романовну, — сухо попросил Осокин, услышав в трубке бархатный голос младшего редактора Волковой. — Осокина! К телефону! Твой благоверный, — крикнула Волкова и уже тише добавила: — Даже не поздоровался. Сердитый. — Боря, ты? Что-нибудь случилось? — спросила жена. Голос у неё был тревожный. — Ничего особенного, — стараясь говорить спокойно и непринуждённо, ответил Осокин. — У нас дома товарищ из уголовного розыска. — Он посмотрел на Корнилова и попытался даже улыбнуться, но улыбка вышла у него жалкая. — Задаёт мне много странных вопросов… — Осокин услышал, как жена охнула. — Спрашивает, что ты просила привезти меня с дачи? — У меня об этом только что спрашивал молодой человек… оттуда же… В чём дело? Может быть, дачу обворовали? — Эту фразу жена сказала явно для тех, кто сидел с нею в комнате. — Нет, не обворовали, — ответил Осокин, и им вдруг овладела такая вялость, что нестерпимо захотелось лечь на диван и лежать с закрытыми глазами. — Так что ты просила меня привезти с дачи? — совсем тихо повторил он свой вопрос. — Я передала тебе через Алёну про банку варенья… — Она не успела договорить. Осокин бросил трубку. — Я устал, — сказал он полковнику. — Может быть мы сделаем передышку? Нельзя же допрашивать целый день! Корнилов посмотрел на часы, согласно кивнул. — Да. Заговорились. Уже больше двух часов. Может, и лучше сейчас прерваться. У меня была одна задумка… — Он встал, подошёл к окну. Выглянул на улицу. Рядом с чёрной «Волгой» уже стояли обычные, ничем не напоминавшие милицейскую машину, бежевые «Жигули». — Я хотел попросить вас проехать вместе с нами по маршруту, которым вы ехали третьего августа. Чтобы можно было по ходу дела кое-что уточнить. Побывать у вас на даче, поговорить с соседями, заехать на ту заправочную станцию, где вы заправлялись. Да мало ли мелочей можно уточнить в дороге? Ведь подозрение на вас лежит серьёзное. Я даже подумал, что вы сами сядете за руль, и потому попросил подъехать наши «Жигули». Но раз вы устали, давайте всё отложим. — Пожалуйста, отложим, — сказал Осокин. — Всё это для меня так непривычно, я очень устал… — Завтра рано утром вас устроит? — спросил Корнилов. — Часиков в шесть? Пока мало транспорта? — В шесть так в шесть. Корнилов протянул Осокину руку, чуть задержал его вялую руку в своей: — Борис Дмитриевич! У вас есть время подумать. С вами произошло несчастье. Пока вы сделали всё от вас зависящее, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств, чтобы несчастье стало серьёзным уголовным преступлением. Не надо трусить, не надо увязать всё глубже и глубже. Осокин, не проронив ни слова, осторожно высвободил руку. — Как только мы начнём проверку фактов, которые вы мне сейчас привели, вы… — Корнилов поморщился, подбирая слова помягче, — запутаетесь окончательно. — Я не стану вам ничего отвечать. — В голосе Осокина появились упрямые нотки. — Вы меня подозреваете, вы и доказывайте. Я никого не сбивал! И ещё эти подозрения в нападении на свидетеля! Просто смешно. И страшно. За вас страшно — вы можете наделать непоправимых ошибок. А этот раненый свидетель?! Как он мог обо мне сказать, когда я никого не сбивал! — Он про вас ничего и не говорил. Он видел на шоссе сбитого насмерть мужчину и удаляющиеся белые «Жигули»… Осокин напрягся и мертвенно побледнел. — Но он не разглядел номер, — развёл руками полковник. — Какой же он свидетель! — крикнул Осокин. Корнилов вздохнул: — Вы видите, я от вас ничего не скрываю. Не буду скрывать и того, что на лобовом стекле ваших «Жигулей» эксперты обнаружили отпечатки пальцев сбитого человека.
…Когда на следующее утро сотрудники милиции во главе с Корниловым подъехали к дому Осокина, тот уже ждал их у подъезда. Погода была хмурая, с залива дул сильный ветер. То и дело начинал накрапывать дождь. Борис Дмитриевич был в плаще с высоко поднятым воротником. Выглядел он усталым и невыспавшимся. Выходя из кабины, Корнилов машинально поднял голову и посмотрел на окна четвёртого этажа. В двух окнах рядом виднелись женские фигуры. Игорь Васильевич успел заметить, что одна из них совсем тоненькая, с пышной копной волос на голове. «Наверное, дочь, — подумал полковник. — А рядом — жена. Вот для кого трагедия». Борис Дмитриевич сел за руль «Жигулей». Корнилов расположился рядом, а Коршунов и Лебедев — сзади. — Поехали прямо к дому вашего друга, махнул рукой полковник и, обернувшись к Коршунову сказал: — И хронометраж оттуда начнём. Город был ещё пустой. Редкие машины, одинокие пешеходы. До Лахты они доехали за полчаса. Осокин вёл машину хорошо — спокойно, без рывков, чувствовалось, что он опытный водитель. Но, проехав Ольгино, он вдруг притормозил и, съехав на обочину, остановил машину. — Нет, — сказал он совсем тихо. Сказал скорее самому себе, а не спутникам. — Дальше я не поеду. Моя дочь права. Лучше пройти через всё это и остаться самим собой. «Вот так, — ревниво подумал Корнилов. — Не я, а дочь нашла к нему верный подход. — И сам себя успокоил: — Ну и прекрасно! Мы тоже не зря поработали. Через два часа ему бы всё равно пришлось признаться. Но только что с его признания? Трупа-то нет!» — Давайте немного отдохнём, — попросил Осокин, повернув бледное лицо к Корнилову. Полковник кивнул. Он чувствовал, что Борис Дмитриевич вот-вот разрыдается. Коршунов и Лебедев остались в машине, а Корнилов с Осокиным перебрались через канаву и пошли по мягкой лесной тропинке. Уже лежали на тёмно-зелёном мху первые жёлтые листья. Ветер раскачивал верхушки сосен, наносил полосами мельчайшие, словно пыль, капли дождя. Осокин шагал молча, ссутулившись. — Не промокнем? — спросил Корнилов. — А? — словно очнулся от забытья Борис Дмитриевич. — Не промокнем? — повторил Корнилов. Осокин провёл рукой по мокрому лбу и виновато улыбнулся. — Я иду и думаю про тот случай… Про удочку. Корнилов протестующе поднял руку, но Борис Дмитриевич сказал: — Не останавливайте меня. Я понимаю, это глупо вспоминать о том случае, когда тебе угрожает тюрьма, но не могу не думать. Бумажку с вашим адресом я потерял. Но адрес-то помнил. И сейчас помню. И всё время собирался приехать к вам, вернуть удочку. Приехать с бутылкой коньяка. Вот, дескать, как поступают интеллигентные люди… И всё не ехал, не ехал. То одно, то другое. Какие-то мелочи мешали. А потом как-то подумал: чего я потащусь с этой грошовой удочкой? Кого удивлю? Да и зима наступила. — Он замолчал. Остановился. — Пойдёмте назад. — Пойдёмте, — Корнилов с сожалением посмотрел на светлевшую сквозь стволы сосен поляну. Казалось, что над поляной не было ни туч, ни дождя. — Вот и сейчас… — волнуясь, сказал Осокин. — С этим наездом… Первое, что хотел сделать, когда пришёл в себя, ехать в милицию. А потом вспомнил, что предстоит защита докторской. Что дочери надо помочь поступить в консерваторию. Корнилов хотел сказать: «А дочь, оказывается, рассудила иначе», — но перебивать Осокина не стал. «Пусть высказывается. В конце концов, облегчив душу, человек перестает бояться. Ему тогда и решение легче принимать». Однако Борис Дмитриевич больше не сказал ни слова. Они молча дошли до шоссе, молча сели в машину. Теперь уже на заднее сиденье. «Жигули» вёл Лебедев…
… — Он выскочил из кустов навстречу машине. Словно подкарауливал меня, — сказал Борис Дмитриевич, когда они приехали на Литейный, в Главное управление, и Корнилов, включив магнитофон, начал допрос. — Тормозить было поздно, хоть я и пытался. Машину понесло юзом. Я еле выправил её и хотел остановиться. И в это время увидел, как из кустов выскочил второй мужчина… Я струсил и дал газ…
16
Несмотря на то что Бугаев добрался до своей «казённой» квартиры часа в два ночи, проснулся он рано. Большой дом ещё только заселялся. Многие жильцы, прежде нем въехать в новые квартиры, делали ремонт. Приходили с утра пораньше, циклевали полы, сверлили стены для карнизов, стругали, колотили. «Нет, утренний сон и квартира в новостройке — понятия несовместимые», — подумал Бугаев, проснувшись от дикого завывания циклевочной машины где-то прямо над ухом. Несколько минут он лежал, не открываяглаз, прислушивался к тому, как клокочет жизнь вокруг его квартиры. Только за стеной справа было тихо. «Наверное, будущим счастливчикам ещё не вручили ордер», — подумал Семен. Счастливчиками он считал всех, кто получил в этом новом доме квартиры с видом на залив. Бугаев любил свой город, любил Васильевский остров, на котором он родился и прожил свою жизнь — ходил в детский сад, учился в школе, а потом на юрфаке университета, помещавшемся тогда в неуютном, много лет не ремонтированном Меншиковском дворце. Но больше всего он любил Неву и залив. Ещё в детстве часами бродил по набережным — выходил из своего дома на Седьмой линии и шёл по бульварчику к Неве. Мимо кинотеатра «Форум», мимо Андреевского рынка, мимо красивого, отделанного коричневой плиткой дома, в котором помещалась аптека и сохранилась с дореволюционного времени чёткая надпись: «Т-во профессора доктора Пеля и сыновей». Напротив Академии художеств, у сфинксов, он всегда спускался по гранитным ступенькам к воде и подолгу наблюдал, как закопчённые буксиры тянут вверх по течению медлительные тяжёлые баржи. Любил Бугаев звонкие весёлые ледоходы, когда большие льдины прямо на глазах рассыпались на тысячи похожих на сосульки прозрачных иголок и вода от этого становилась густой и маслянистой. Любил огуречный запах только что выловленной корюшки, которую рыбаки черпали в ящики прямо со дна остроносых смолёных лодок. Когда несколько лет назад Семёна хотели перевести на работу в Москву, в Управление уголовного розыска Союза, он наотрез отказался. Не хотел расставаться с Невой, не представлял себе жизни вдали от бесконечной, то искрящейся на солнце, то отливающей свинцом глади залива. Когда он рассказал о своих терзаниях Белянчикову, Юрий Евгеньевич усмехнулся: «Блажь, романтика. Такую причину отказа назовёшь — засмеют». А Корнилов отнесся к отказу Семёна сочувственно. Он и сам не мыслил свою жизнь вдалеке от Ленинграда. Да к тому же знал, что такие способные оперативники, как Бугаев, встречаются не часто. …Семён вскочил с раскладушки — ему, как человеку, только что поселившемуся в новой квартире, да ещё, по легенде, недавно возвратившемуся из заключения, не полагалось на первых порах обзаводиться приличной полутораспальной кроватью. Как не полагалось иметь и множество других необходимых серьёзному человеку в хозяйстве вещей. Ощущение временности, неустроенности должно было броситься в глаза каждому, кто вошёл бы в эту квартиру. Пустые бутылки из-под пива и водки, привезённые им из дома, а частью перекупленные у изумлённого приёмщика стеклотары, неумолимо свидетельствовали о наклонностях хозяина. Окна глядели прямо на залив. Семён вышел на балкон и осмотрелся. Территория дома была ещё не благоустроена, кучами лежал строительный мусор, щебень. Но старик уже разравнивал у подъезда землю граблями, копал неглубокие ямки. Рядом лежал большой пучок кустов с укутанными в мешковину корнями. За вздыбленной бульдозерами землёй, за незасыпанными, но уже заросшими травой траншеями рабочие приводили в порядок набережную. Автокран укладывал гранитные плиты. Мужчина в оранжевой каске отмашкой руки показывал крановщикам место для плит. В ожидании, когда подвезут асфальт, стояли два больших жёлтых катка, и несколько мужиков, собравшихся в кружок, разговаривали, наверное, о чём-то смешном. Время от времени до Бугаева доносились раскаты хохота. Пахло дымком, горячим асфальтом, краской, но через все эти запахи большой городской стройки ветер наносил порывами с залива лёгкий запах вянущих водорослей. «Сейчас бы кресло на балкон поставить и сидеть полдня, наслаждаясь, — помечтал Семен и усмехнулся. — А кто мне мешает? Самое подходящее время — на службу спешить не надо. Сделаю сейчас гимнастику, позавтракаю и стульчик на балкон поставлю». С гимнастикой он спуску себе не давал никогда — с университетских времён внушил себе, что это так же неизбежно и так же необременительно, как чистить зубы. После завтрака он сделал контрольный звонок в управление. Корнилова на месте не было, Варвара, его секретарша, сказала, чтобы он звонил Лебедеву. — Жогина положили в больницу, — сказал Володя. — Шеф поднял нас с Белянчиковым в шесть утра. Ему пришла идея, чтобы «инфаркт» Евгения Афанасьевича рано утром произошёл. Перед работой. Сказал, что утром это правдоподобнее. Ему виднее. — В голосе Лебедева чувствовалась ирония. Видать, ранняя побудка его не особенно вдохновила. — У шефа жена медик. А может, так и лучше — утром многие видели, как «скорая» приезжала… — А как сам-то Жогин к этому отнёсся? — спросил Бугаев. Он теперь чувствовал себя ответственным за его судьбу. — Ничего. Жена перепугалась. Думала, мы хотим его арестовать, а чтобы соседи не догадались, под видом «скорой» приехали. Ну, а когда сказали, что она несколько дней вместе с ним проведёт, поверила. — В какую больницу положили? — В военно-медицинскую академию. — Он помолчал немного. — Шеф просил передать — держи ухо востро. В ближайшие дни могут к тебе наведаться. — А от рыжего никаких новостей? — спросил Бугаев. — Не удалось выяснить? — Да что вы, Семён Иванович! — искренне удивился Лебедев. — Ещё и девяти нету. — И правда что, — засмеялся Семен, взглянув на часы. — А мне тут в одиночестве кажется, что неделя уже прошла. Ты, Володя, свяжись с районным отделом, пусть они тебе участкового инспектора пришлют. С того участка, куда ресторан входит. Он многое может знать. — Свяжусь, Семён Иванович! — пообещал Лебедев. — А вам — ни пуха! — К чёрту! — привычно ответил Бугаев и положил трубку. «Значит, Жогин в больнице, жена рядом с ним. Я, естественно, кроме того, что телефон не отвечает, не знаю ничего другого. Пойти к Жогину домой, где соседи могут мне сообщить про больницу, я могу не раньше, чем через день-два. В нашем „обществе“, — он вздохнул, — заботу проявлять не спешат. Особенно когда телефон вдруг перестаёт отвечать. Мало ли что там у человека стряслось? А вдруг на квартире засада? Кто же голову совать в петлю будет? Значит, высовываться мне пока рано. Потом, при случае, можно и проявить осведомлённость. Сослаться, например, на какого-нибудь соседского мальчонку. Спросил, дескать, у него — куда дядя Женя из восьмой квартиры подевался?» …Пока Бугаев разговаривал с Володей Лебедевым, пока расхаживал по комнате, размышляя о том, как себя держать, если всё-таки на него «поставят», прохлаждаться на балконе ему расхотелось. Он был человеком живым, подвижным, его всегда тяготило ожидание. Из десятка изречений, оставшихся в памяти после сдачи экзамена по латыни, он чаще всего повторял: «Вдвойне даёт тот, кто даёт скоро». «Юре Белянчикову здесь сидеть, — в который уже раз подумал Бугаев. — Он человек уравновешенный, сидел бы, продумывал варианты». Но Белянчиков в уголовном розыске проработал уже чуть ли не двадцать лет, среди уголовников был фигурой известной. Мог напороться на какого-нибудь крестника. А Володя Лебедев был ещё совсем молод. Взгляд на ряды пустых бутылок под кухонным столом направил мысли Бугаева в определённое русло. «Что делает утром прощелыга, вроде меня, крепко погулявший накануне? Идёт к ближайшему пивному ларьку и поправляет сильно подорванное здоровье. А к одиннадцати заглядывает в винный магазин — неприлично, чтобы в таком доме стояли только пустые пыльные бутылки. Пора наконец действовать, — подумал Семен. — Пора знакомиться с окрестными жителями, с любителями побалагурить у пивного ларька». Решение начать «нормальную» жизнь немного разрядило его — даже такая жизнь всё-таки означала движение. А движение и было для Бугаева жизнью. Когда Семён вышел из дому, старик всё ещё копался в земле. У него и удобрение было приготовлено — два больших пакета аммофоски лежали рядом с лейкой и граблями. — Не рано сад сажаете, дедушка? — спросил Бугаев. — Рано никогда не бывает — только поздно, — буркнул дед. Выглядел он не таким уж и дряхлым, как показалось Бугаеву с балкона. Высокий, костистый, с загорелым лицом, старик «тянул» лет на семьдесят, не больше. — Кусты-то не приживутся, — подзадорил его Семён. Старик промолчал. — Или вы секрет какой знаете? Тогда мы тут под вашим руководством такой сад засадим! — мечтательно сказал Бугаев, словно бы и впрямь стал одним из жильцов этого светлого дома на заливе. — Как же, засадите! — откликнулся дед. — Шпанят своих понавезёте, они тут дадут шороху вашему саду. — Да ведь вы-то сажаете? — удивился Семён. — Не боитесь? Лиха беда — начало! — Сажаю у себя под окнами. Вона они, на первом этаже. И буду стеречь, на солнышке посиживать. Мне хватит. А вы можете хоть розы до самого залива садить. С фонтанами. — Он вдруг хихикнул и, посмотрев на капроновую авоську, в которой бугрились пустые бутылки, добавил: — Ты небось не в молочный магазин собрался, сажальщик. Садочки, цветочки… Стол будете ставить, так подальше от моих окон. Рядом всё равно не дам играть! — Какой стол? — с недоумением спросил Бугаев. — Для костяшек. Таких, как ты, забойщиков уже вселилось несколько. Через пару дней снюхаетесь. — Эх ты, дед, садовая голова! — только и нашёл что ответить Семён и, вздохнув, пошёл по неровной тропинке через пустырь. К торговому центру. Бутылки позвякивали в сумке, и он, чувствуя, что дед провожает его насмешливым взглядом, готов был запустить их куда-нибудь подальше. Но только, качая головой, шептал со смешанным чувством разочарования и злости: «Ну дед! Не дед, а куркуль!»17
Осокин выглядел подавленным. Застывшие голубые глаза смотрели безучастно, лицо было плохо выбрито. Да и костюм он надел помятый. У Корнилова, понимавшего, что Борису Дмитриевичу сейчас не до своей внешности, мелькнула всё-таки мысль — а не играет ли Осокин чуточку «на публику»? Перечитав свои показания, Осокин подписал их и вздохнул: — Ну вот, подписал себе приговор. — До приговора ещё далеко, Борис Дмитриевич, — сказал Корнилов. — А-а-а!.. — отмахнулся Осокин. — Этот приговор главный, — он пододвинул полковнику листок с показаниями. — Придётся ещё всё-таки съездить на место. В присутствии понятых показать, откуда выскочил человек, где вы остановились… Борис Дмитриевич поморщился. Потом спросил: — Что хоть это за мужчина? Я видел только, что не молодой… — В мае пятьдесят лет исполнилось. Котлуков Лев Алексеевич, по кличке Бур. — По кличке? — брови у Бориса Дмитриевича поползли вверх, и Корнилов впервые за время разговора увидел, что глаза у него ожили. В них появился огонёк интереса. — Он что же, уголовник? — Недавно вышел из заключения. Осокин некоторое время сидел молча, сосредоточенно обдумывал услышанное. «Уж не надеется ли он, что за уголовника ему могут смягчить наказание? — подумал Корнилов. — А что скажет, когда узнает, что тело ещё не найдено?! Да-а, юридический казус… Но скрывать от него мы ничего не имеем права». — А у погибшего есть родители? — спросил наконец Осокин. — Нет, Борис Дмитриевич. И детей тоже нет. Так что гражданского иска к вам не последует. И есть ещё одно обстоятельство, о котором я должен поставить вас в известность: тело сбитого вами Котлукова пока ещё не найдено. — То есть как это «не найдено»? — Когда приехала милиция и «скорая помощь», вызванная Колокольниковым, тела уже не было. — Значит, он остался жив?! — В голосе Осокина смешались удивление и надежда. — Колокольников, тот дачник, что наткнулся на тело, дал показания, что человек был мёртв. Мы проверили все больницы и поликлиники. Никаких следов. — Но куда-то он ведь делся? — У нас есть предположение, — сказал Корнилов, — но это пока только предположение. Служебная версия. — Так… — Борис Дмитриевич закрыл лицо ладонями и опять долго молчал, а когда отнял ладони, Корнилов поразился перемене, произошедшей с Осокиным. Перед ним был энергичный мужчина с пытливыми, требовательными глазами, и даже его плохо выбритые щёки уже не казались плохо выбритыми, а просто чуть отливали синевой. — Та-а-к, — повторил Борис Дмитриевич, и в его голосе к горьким ноткам прибавились нотки плохо скрываемого возмущения. — Значит, весь этот сыр-бор из-за какого-то уголовника?! Допросы, психологический нажим… — Какой же психологический нажим, товарищ Осокин? — спросил Корнилов, дивясь метаморфозе, только что совершившейся у него на глазах. — Вы что же, не считаете психологическим нажимом ваше требование повторить мой маршрут? — Все наши действия проводились в строгом соответствии с законом, — очень спокойно сказал Корнилов, опасаясь, что выход из состояния апатии может вылиться у Осокина в истерику. Но Осокин его не слушал. Горько поджав губы, он продолжал: — Боже мой, весь сыр-бор из-за уголовника! Уголовника который к тому же исчез! Товарищ Корнилов, вы понимаете, сколько нам пришлось пережить за эти дни? И мне, и жене с дочерью… — Понимаю, — кивнул Корнилов. — Каждый на вашем месте чувствовал бы то же. Каждый честный человек. Осокин метнул на него злой взгляд и тут же отвёл глаза. — И что, собственно, изменилось, Борис Дмитриевич? Почему вы так разволновались, узнав, что потерпевший — бывший уголовник? Преступление-то вы совершили. — Преступление? Это ещё надо доказать! Произошёл несчастный случай. Где у вас доказательства, что человек умер? Погиб? — Преступление уже в том, что, сбив человека, вы оставили его без помощи. Скрылись. Милиция потратила много времени и сил, чтобы разыскать вас. И вы сами признали это. — Нет, я просто не в силах вас понять! — вскричал Осокин, глядя куда-то поверх головы Корнилова. Фраза прозвучала у него так патетически, так ненатурально, что Корнилов не сдержался и усмехнулся. Но Борис Дмитриевич не заметил его усмешки. Он уже видел и слышал только себя одного. — Я не могу понять того, что милиция, как вы говорите, тратит силы и время ради какого-то уголовника! Допросы, горы исписанной бумаги — и ради чего? — Он помолчал, смешно сложив губы в трубочку, а потом спокойно сказал, покачав головой: — Я отказываюсь от своих показаний. Отказываюсь от своего признания. И никакой суд не вынесет человеку приговор, если нет жертвы. А её нет. Нет вашего уголовника. — Он даже повеселел и смотрел теперь на Корнилова с каким-то петушиным вызовом. — Скажете, что вас насильно заставили подписать всё это? — Корнилов положил руку на протоколы. — У нас есть магнитная лента допроса. А может быть, вы, умный, интеллигентный человек, заявите, что вас били в милиции? Некоторые забубённые рецидивисты идут и на такую чудовищную ложь. Но ведь судят не на основании заявлений, а на основании доказательств. А доказательства у нас есть. Отпечатки пальцев сбитого вами Льва Котлукова на лобовом стекле ваших «Жигулей»… — У вас нет самого Льва, — с торжеством сказал Борис Дмитриевич. — Этот Лев посчитал за лучшее где-нибудь отлежаться, чем попадать в руки милиции. Даже в качестве жертвы несчастного случая. — Мы его найдём, — пообещал Корнилов. — Найдём его труп. — Желаю успеха. А теперь, я надеюсь, вы не будете меня задерживать? — Осокин встал. — До суда мерой пресечения в отношении вас следователь избрал подписку о невыезде, — сказал Игорь Васильевич. — Такую подписку вы дали ещё раньше… Так что задерживать вас у меня оснований нет. — Значит, до суда? Если суд состоится. Только я ещё со школьной скамьи помню — у нашей Фемиды повязки на глазах нет! Она с открытыми глазами судит. — Осокин поклонился, молча взял подписанный Корниловым пропуск и вышел, забыв притворить за собой дверь. «А он ушёл чуть ли не героем, — подумал полковник. — Будет считать теперь, что избавил общество от преступника! И можно не мучиться угрызениями совести. Но перед законом равны все. И разве от того, что твоей жертвой стал уголовник, рецидивист, уменьшилась твоя вина? Нет, Борис Дмитриевич, нет… — Корнилов вдруг вспомнил про тот случай с удочкой одолженной им Осокину. — А вот я бы на вашем месте, гражданин Осокин, вернул бы долг! Ну, что же, что это было давно? Вспомнили же вы об этом? Только вам теперь не до удочки! Сначала были напуганы до потери сознания, теперь озабочены, как уйти от ответственности. И ведь можете ускользнуть! Можете! Если мы не доберёмся до бандитов и не найдём труп Котлукова, суд может оправдать вас за недостатком улик. А если найдём… Ох, непросто будет пройти вам снова весь путь к признанию. Непросто!»18
Прошли два дня, а долгожданного звонка всё не было. Время от времени, чтобы не создалось впечатление, что он кого-то ждёт, Бугаев ходил в ресторан, просиживал там по нескольку часов. Исподволь приглядывался к официантам, к метрдотелям. Отпускал при случае весёлую шуточку. Если официанткой была молодая женщина, заводил ни к чему не обязывающий, пустой флирт. Бугаеву хотелось проверить, есть ли в ресторане ещё один выход — кроме главного и чёрного хода во двор, откуда завозили на склад и на кухню продукты. Но Корнилов категорически запретил ему совать нос в подсобные помещения. Сказал: «Без тебя найдётся кому этим заняться». И вскоре, во время одного из своих контрольных звонков, Семён узнал от полковника, что такой выход есть. Старинный дом, первый этаж которого занимает ресторан, имел два двора-колодца. В один двор выходил чёрный ход, а в другой несколько зарешечённых окон из подсобных помещений. Окна можно было открыть. В жаркие дни сотрудники ресторана — кастелянша, шеф-повар, работники бухгалтерии этим постоянно пользовались. Но в тот поздний час, когда ушёл из-под наблюдения рыжий парень, ни кастелянши, ни бухгалтеров в ресторане уже не было, комнаты их были заперты и опечатаны. — Значит, шеф-повар у него знакомый? — спросил Бугаев. — Интересуемся, Сеня, интересуемся, — ответил Игорь Васильевич. — Твой друг Белянчиков на два фронта разрывается, пока ты книжечки почитываешь. — Какие книжечки? — обиделся Бугаев. — Вы когда-нибудь видели у рецидивистов книжечки дома? — Да, — согласился Корнилов, — у них, с литературой напряжённо. Если только они книжками не промышляют. Но всё равно отдыхай. Я думаю, эти дни придётся у тебя из отпуска вычесть… — Игорь Васильевич! — Посмотрим, посмотрим, — усмехнулся полковник. — Если операция пройдёт удачно, может быть, и засчитаем их рабочими днями. Бугаеву хотелось расспросить полковника подробнее о том, как идут дела в управлении, но Корнилов сказал: — Ладно, Семён, меня начальство вызывает.…Рыжий парень позвонил ночью. Накануне вечером Бугаев сидел в ресторане, пришёл в квартиру поздно и, приняв душ, лёг спать. И сразу уснул, что в последнее время случалось с ним не часто. Телефонный звонок резко прозвучал в полупустой комнате. Раз, второй, третий… Бугаев слышал звонок, но никак не мог сначала понять — во сне звонит телефон или наяву. Ему снился какой-то красивый цветной сон, и в этом сне он, развалившись в удобном шезлонге в парке, на берегу моря, тоже слышал, как звонит телефон, стоявший рядом на плетёном столике. И тянулся рукой к телефонной трубке, ожидая услышать мягкий ласковый женский голос. Проснувшись наконец окончательно, он стремительно соскочил с раскладушки и, натыкаясь на стулья, подбежал к аппарату. «Наверное, кто-то ошибся номером», — подумал он, снимая трубку, и, сдерживая волнение, спросил недовольно: — Кто? — Семён Иванович? — спросил мягкий баритон, и Бугаев сразу узнал голос рыжего парня. — Семён Иванович спит по ночам! — грубо ответил Бугаев. — Чего надо? — Семён Иванович, не серчай, — ласково, словно уговаривая ребёнка, попросил баритон. Наверное, рыжий знал, что Бугаев вечером был в ресторане, и думал, что он пьян. — Это Василий. Нас с вами как-то Женя в «Адмиралтейском» знакомил. Помните? — Мало ли кто меня с кем знакомил, — сбавляя тон, сказал Бугаев. — Если все начнут меня по ночам будить… — Мне Женя срочно нужен, — перебил его рыжий. — Позарез. — Не знаю я никакого Жени, — сказал Бугаев. — Ошибся ты, парень. — И повесил трубку. Но телефон тут же снова зазвонил. — Семён Иванович, да ты меня вспомнишь — в «Адмиралтейском» Жогин нас познакомил. Ты ещё угощал нас шикарно. Коньяк «Отборный» заказывал… — Он замолчал, ожидая ответа. — Кого я только не угощал… — пробормотал Бугаев, но уже примирительно. — Вроде голос мне твой знаком. Рыжий, что ли? — Рыжий, — добродушно хохотнул парень. — Теперь вспомнил? — Вспомнил, как ты смылся в тот раз. — Не сердись, Семён Иванович. По телефону не объяснишь. А выпивка за мной! Так что с Женей? Семён, конечно, прекрасно понимал, что рыжий и его дружки уже всё знают. И про Женин инфаркт и про больницу. И не Жогин ему сейчас нужен, а он, Семён Иванович, с его набором инструментов и машиной. Но какой же вор или бандюга, прошедший предварительное заключение в «Крестах» или в «Матросской тишине», прошедший долгие, выматывающие допросы у следователя, замиравший при каждом слове прокурора и защитника в судебном заседании, когда призрачная надежда на снисхождение судей то гасла совсем, то разгоралась с новой силой и в конце концов оставалось одно тупое равнодушие и обреченность, какой же блатной, испытавший на себе всё это и отсидевший от звонка до звонка свой срок в колонии, мог расколоться, услышав по телефону голос едва знакомого человека? — Не знаю я никакого Жени, — повторил Бугаев спокойно. — А вот от выпивки не откажусь, если ты решил мне поставить. — Хоп! — удовлетворённо сказал рыжий. — Завтра и поставлю. Ты где живёшь? — В справочном всё знают, — отрезал Бугаев. Парень засмеялся. — Ты, Семён Иванович, крутой мужик. Завтра утром позвоню. — Я сплю долго, — буркнул Бугаев, но парень, не дослушав, повесил трубку. «Ну, Сеня, — прошептал Бугаев, подойдя к окну и вглядываясь туда, где темнел залив, — начинается работа». Далеко в заливе медленно двигались красный и белый огоньки. Наверное, шёл в порт большой корабль. Снова зазвонил телефон. Бугаев снял трубку и рявкнул от души: — Чего надо? — Можно Веру? — спросил женский голос. — Ушла в баню! — отрезал Семен и положил трубку. Его проверяли. Его проверяли — не стал ли он названивать куда-нибудь после разговора с рыжим. Заснул он только под утро, когда совсем рассвело. Но в девять — контрольный срок его звонка в управление — проснулся словно по будильнику. Взялся за телефон. Корнилов, как всегда, был уже в управлении. — Состоялось, Игорь Васильевич, — сказал Семен вместо приветствия. — Ночью позвонили. Думаю, что сегодня встретимся. — Понял, Сеня, — в голосе полковника чувствовались удовлетворённые нотки. — Диктуй им свои условия. Поезжай на машине — пускай убедятся, что ты на колёсах. Место встречи выбери людное. Пошлём за тобой «хвоста». Чемоданчик с инструментом возьми с собой. Спрячь под сиденье. Не исключено, что в твоё отсутствие они к тебе в квартиру наведаются. — Могли бы давно это сделать, — сказал Бугаев. — Надеялись на Жогина. Бережёного бог бережёт.
…Они договорились с рыжим встретиться у Гостиного двора. Со стороны Думы. — Там есть где машину поставить, — сказал Семён. — Я сегодня на колёсах. — А как же выпивка? — ехидно спросил рыжий. — Для хорошей выпивки колёса не помеха. Рыжий расхохотался. Площадь между Гостиным двором и Думой, за усечённым портиком Руска, была удобна тем, что большая автостоянка давала возможность сотрудникам, приехавшим вслед за Бугаевым, расположиться, не привлекая ничьего внимания. Но и рыжий получал преимущество — в любой момент мог нырнуть в метро или смешаться с нескончаемым людским потоком, обтекающим Гостиный двор, скрыться в торговых залах. Бугаев поставил свой старенький «жигулёнок» рядом с большим запылённым автобусом. У автобуса был псковский номер, и Семён подумал: «Псковичи в Ленинград за товаром приехали». Напротив, с думской стороны, остановилась зелёная «Волга». Он заметил её, когда выезжал от дома на Наличный проспект. И пока ехал к месту свидания, то время от времени видел зелёную «Волгу» в зеркале заднего обзора. Машина шла за ним на приличном расстоянии. «Чего это они такую приметную прислали? — подумал Семен. — Я таких зелёных „Волг“ у нас в управлении не видел». До встречи с рыжим оставалось ещё минут семь, и Бугаев, заперев машину, прошёл несколько шагов в сторону Невского. Там всегда продавались жареные пирожки с мясом. Вокруг двух, как на подбор, плотных, с загорелыми лицами продавщиц толпился народ. Семён вынул из кармана мелочь и пристроился в очередь. Люди ели пирожки тут же, стоя под арками Гостиного двора. Промасленные бумажки, в которые продавцы заворачивали пирожки, валялись около урны на тротуаре. Чуть поодаль несколько женщин в цветастых платках что-то горячо обсуждали. Прислонённые к стене, лежали их покупки — тугие сетки с оранжевыми апельсинами, большие свёртки, из которых выглядывал голубой шёлк ватных одеял. — И на меня пару горячих, — раздался за спиной Бугаева знакомый бархатный голос. Семён лениво повернул голову. «Вот, сволочь, незаметно подошёл. Небось караулил уже». Рыжий был в сером берете. От этого плоское лицо его показалось Бугаеву ещё более плоским и бесцветным. — Угощаю, — усмехнулся Семён, оглядывая парня. На рыжем была надета замшевая курточка на «молнии» и синие вельветовые брюки. «Не отстаёт от моды, — подумал Бугаев. — А в прошлый раз, в ресторане, я так его бесцветную рожу старался изучить, что даже не запомнил, в чём он был одет». Он купил шесть пирожков и три протянул парню. Тот молча взял их, но есть не стал. А Бугаев тут же с аппетитом откусил полпирожка. — А я думал, вы и завтракаете в ресторане, — сказал парень. Он снова перешёл на «вы». Наверное, по телефону ему разговаривать было проще. — Много будешь думать, скоро состаришься, — пережёвывая пирожок, ответил Бугаев. — Пойдём в тачку, пожуём. Тут все ноги отдавят, — попросил рыжий. «Он видел, как я приехал, этот рыжий, — отметил Семен. — Рыжий, рыжий, конопатый, — вспомнил он детскую присказку, — стукнул бабушку лопатой… Этот стукнет и дедушку. Да он не такой и рыжий…» В машине парень снял берет и сунул в карман. Его волосы были и правда с еле заметной рыжиной. А ведь и в ресторане в первый момент он не показался Семену очень рыжим. «А вот окрестил „рыжим“, — думал Бугаев, — и пошёл он у меня за „рыжего“». Они молча жевали пирожки, выжидая, кто начнёт разговор первым. — А запить у вас нечем? — спросил парень. Бугаев кивнул на «бардачок». Рыжий открыл его. Хмыкнув, с удовлетворением вытащил бутылку пива. Там лежала ещё большая, «долгоиграющая» бутылка «Столичной». — Запасливый вы мужик, Семён Иванович, — улыбаясь, сказал парень и зубами открыл пробку с пивной бутылки. У Бугаева по спине пробежали мурашки, так бывает, когда по стеклу чиркает ножик. — Никогда не знаешь, чем день кончится, — сказал Семен. — Не бегать же ночью за таксистами. В это время пыльный псковский автобус отъехал, выпустив из выхлопной трубы тучу тёмного и пахучего дизельного дыма, и Бугаев увидел тёмно-серую «Волгу» и за рулём Сашу Углева, одного из лучших водителей управления. Саша читал, уткнувшись в какой-то журнал, а Володя Лебедев, следивший, наверное, за «Жигулями» Бугаева из толпы, пока их разделял автобус, садился на заднее сиденье. «Так вот они где пристроились! А зелёная „Волга“?» — пронеслось в голове у Бугаева, и он сказал сердито: — Ну, ладно, помолчали, и будет! У меня сегодня дел невпроворот. Я за свою жизнь в молчанку уже наигрался… — Есть серьёзный разговор, Семён Иванович. — Парень нахмурился, словно хотел придать себе выражение значительности, и посмотрел на часы. — Так не тяни резину. — Один мой кореш потолковать хочет… — Почувствовав, что Бугаев собирается возразить, парень торопливо добавил: — Серьёзный мужик. Поладите с ним — в прогаре не останетесь. Это почище, чем ваши колхознички… — Ну, Женя, сявка! — пробормотал сквозь зубы Бугаев. — Я-то думал, он человек, а не баба трепливая. Попляшешь ты у меня! По «легенде» Семён гулял после того, как ограбил колхозную кассу. Рыжий хотел что-то сказать, может быть, о том, что Жогин пропал, только махнул рукой. — Поехали, Семён Иванович? — Поеду. Но прежде с Жекой поговорю. Я тебя второй раз вижу, а третьего может уже не быть… — Вы за кого меня держите? — усмехнулся парень. — Кто тебя знает. Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду в ресторане поверил, что тебя папа с мамой Васей нарекли? Рыжий нерешительно улыбнулся, не найдясь, что ответить. «Интересно, сколько же ему лет? — думал Семен, искоса поглядывая на нервничающего парня. — Такая рожа, что можно и двадцать дать, и двадцать пять. На скопца похож. И никакой он не блатняк, просто „работает“ под бывалого. Нахватался блатных словечек…» — Вася не Вася?! Разве в этом дело? — наконец сказал рыжий. — Я-то у вас паспорт не спрашиваю? А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал. — Он вытащил пачку «Стюардессы», нервно закурил. — В больницу? — недоверчиво спросил Семен и, проследив, как парень выдвигает пепельницу, отметил с удовлетворением: «Теперь у меня твои пальчики останутся. Только вряд ли они найдутся в нашей коллекции». — В больницу, — подтвердил рыжий. — Я у соседей спрашивал. Утром что-то с сердцем случилось. На «скорой» увезли… — Жаль. У него «фанерка» и в колонии шалила. — Фанерка? Бугаев в первый раз услышал в голосе парня искреннюю нотку. Удивление. Семен постучал себя по левой стороне груди: — «Фанерка». Тонкая «фанерка», — и сказал, словно решился наконец: — Поедем, что ли, к твоему кирюхе? — Поедем! — обрадовался парень. Видно, ему строго наказали без Семёна не возвращаться. — Он нас на Васином острове ждёт. На набережной, напротив садика. — Соловьевского, что ли? — Ну да. Обелиск там стоит большой… Бугаев включил зажигание, осторожно отъехал от тротуара, свернув направо, в полуметре от оперативной «Волги». Саша Углев, вытянув шею, сердито проводил глазами «Жигули» Бугаева, словно боялся, что они ненароком заденут его автомобиль. Уже выехав на Невский, Семён обернулся — зелёная «Волга», стоявшая на думской стороне, тоже тронулась. «Ребята её, конечно, приметили. Ещё на Наличном. Неплохой улов для начала». Потом его мысли перескочили к месту встречи. Опять Васильевский, и рядом — Соловьевский переулок, где напали на Колокольникова. Неужели кто-то из них там живёт? «Следить» около дома? Глупо! А место встречи с умом выбрали — наблюдение сразу будет заметно. И ещё на одну деталь обратил внимание Бугаев: рыжий Вася город знает плохо. Не смог даже назвать, что за садик. — Эх, жалко Женю! — вздохнул Семён. — А в какую больницу его увезли? — Соседи не знают. «Значит, до завода вы, ребята, не добрались. Это хорошо. Иначе бы вам там сообщили про академию». — Лёву Бура надо будет отыскать, — задумчиво сказал Семён. — Он Женю уважал. Рыжий промолчал. — Ничего, может, оклемается! Правда, Вася? — Семёном овладело нервное возбуждение, как бывало всегда, когда он чувствовал, что события вот-вот должны развернуться, что в воздухе повеяло опасностью. — А в зоне ты, Вася, никогда не был, нашёл кому голову морочить! Я вот к тебе присмотрелся — думаю, что детдомовский ты парень… Рыжий было насупился, но не сдержался — улыбнулся. И улыбка получилась у него искренняя и чуть виноватая. — Это точно, Семён Иванович, десять лет в детдоме прокантовался. — Пел там небось в хоре? Или солистом? Голос у тебя, попы услышат — в семинарию определят. — Покосившись на парня, Семён увидел, как зарделось его плоское лицо. Они уже проехали Дворцовый мост и ждали, когда дадут левый поворот на Университетскую набережную. — Откуда вы всё знаете? — недоверчиво спросил парень. В голосе его всё ещё проскальзывали настороженные нотки, но Семён чувствовал, что начал завоёвывать расположение рыжего. Когда хотел, он умел это делать быстро. На светофоре зажглась стрелка левого поворота. Они выехали на набережную. Бугаев посмотрел в зеркало — зелёной «Волги» сзади не было. Не было и серой оперативной машины. «Наверное, зелёная пошла через мост Лейтенанта Шмидта, — решил Бугаев, — а наши двинулись за ней». И сказал: — Пройдёшь с моё, тоже знать будешь. После первой отсидки профессором станешь… Рыжий хмыкнул презрительно. Бугаев от души расхохотался. — Зря хмыкаешь. Думаешь, это мы, лопухи потёртые, попадаемся? А ты всех умнее, до тебя уголовка не доберётся? Ну, насмешил! Женя мне говорил, что ты с Лёвой Буром знаком. Свидишься с ним — от меня привет передай и возьми у него интервью. Сколько раз он зону топтал. А Лёва ас. — Я живым не дамся, — хмуро сказал рыжий, и Бугаев понял, что у него есть оружие. — У садика припаркуйте. — Он показал рукой, где Бугаеву остановиться. — Что я, сумасшедший? — проворчал Семён. — Знак видишь? — Там и правда висел знак «стоянка запрещена». — Сейчас за угол сверну, а ты сходишь за своим «кирюхой». Нечего нам тут отсвечивать. — Он просил туда подойти, — в нерешительности сказал рыжий и показал на набережную. — Если у нас кто «на хвосте» — сразу видно будет. — Кроме этой зелёной «Волги», — указал Бугаев на знакомую машину, уже стоявшую тут же, около Академии художеств, — «на хвосте» у нас никого нет. Если это мильтон — значит, «хвост» за тобой… — Не мильтон это, — усмехнулся рыжий. — И я так думаю. Топорная работа. С Наличного за мной увязалась. — Точно! — восхищённо сказал рыжий. — Это мы вас там ждали. С кирюхой. — В такой машине только на ярмарку ездить, — съязвил Бугаев. — Расцветочка яркая, что надо. Издалека видно. Парень рассмеялся: — Да это мы на один день у знакомого взяли. Ему какой-то актёр в ремонт привёз, а сам на неделю уехал. — И, покачав головой, сокрушённо сказал: — Ну, я пошёл за другом. Будет мне от него, да разве с вами сговоришься? Переждав поток машин, он бегом пустился через дорогу, на набережную, где был широкий спуск к воде и где «кирюха» их, наверное, дожидался. Глядя, как парень перебегает дорогу, Бугаев подумал: «Попадись сейчас милиционер — остановит за нарушение. Первым делом — документики. Кто да что? Если документы не в порядке — можно и погореть».
…«Кирюха» оказался молодым, лет тридцати, красивым мужчиной. Только рот его Бугаеву не понравился, вернее, губы — резко очерченные и красные. Словно обведённые помадой. Внешне он был спокоен, но когда вместе с рыжим проходил мимо «Жигулей» и слегка кивнул, показывая, чтобы Семён проехал дальше, Бугаев увидел в его взгляде бешенство. Рыжий хмурился. Видать, ему досталось на орехи. Семён подождал, пока они прошли метров триста, и поехал следом. Ни Лебедева, ни оперативной машины не было видно. «Машину, наверное, поставили со стороны Первой линии, — подумал Семен. — А Володя в саду». Когда он проезжал мимо рыжего и его приятеля, рыжий обернулся и поднял руку. Бугаев притормозил. Рыжий подбежал к машине, открыл дверцу. Шепнул: — Подвёл ты меня, Семён Иванович. Потом повернулся к «кирюхе», махнул рукой, приглашая в автомобиль. Дескать, «левак» согласен. Подвезет куда надо. Рыжий сел сзади. Его сердитый приятель буркнул: — Привет! — и сел рядом с Семёном. — Куда изволите? — ернически осведомился Бугаев. — Покатаемся немного, а потом на набережную. К пристани… — Пристаней много, — уже сердито сказал Семён, давая понять, что разговаривать с ним нужно поласковее. — К Тучкову мосту. Там удобно. Бугаев свернул со Второй линии на Большой, на Первую. Снова с ветерком проехал мимо Соловьевского садика. Рыжий всё время оглядывался назад. Оперативная «Волга» мелькнула только один раз и словно растворилась в потоке автомашин. Когда Бугаев остановился около пристани, красногубый обернулся к рыжему. Тот мотнул головой, удостоверяя, что слежки не было. Быстрая езда, наверное, успокоила сердитого пассажира. Он улыбнулся Семёну и, протянув руку, примирительно бросил: — Хоп! Теперь давай знакомиться…
19
Утром у Корнилова собрались Белянчиков, Лебедев и Алабин — начальник угрозыска Василеостровского района, когда-то служивший под началом полковника. Игорь Васильевич накануне вечером позвонил ему. Сказал: — Что-то, Василий, в твоём районе часто мелькают наши «подопечные». Не у тебя ли на Острове гнездо себе свили? Приезжай, подключайся… — Вот, знакомьтесь. — Полковник бросил на стол веером пачку фотографий. — Во всех ракурсах. Наши ребята постарались. — А у этого самая наглая рожа, — ткнул пальцем Белянчиков в то фото, на котором Бугаев стоял в очереди за пирожками. — Да он же на Семёна Бугаева похож! — сказал Алабин. — Неужели? — притворно удивился Юрий Евгеньевич. Все рассмеялись. Алабин смутился, взял фотографию в руки. — Что-то есть общее. Резкость здесь, что ли, плохая? — Ну-ну, с резкостью всё в порядке. Может быть, тебе очки пора надевать? — усмехнулся Корнилов. — Смотри, Алабин, а вдруг неспроста у тебя в районе бандюги обосновались? Может, слушок пошёл, что у тебя зрение притупилось? — И постучал костяшками пальцев по столу, давая понять — разминка закончена. — Кое-что уже прояснилось, — Корнилов взял фото, на котором рыжий парень выходил из машины Бугаева, стоявшей у решётки Соловьевского сада. — Молодой субъект, назвавшийся Бугаеву Васей, на самом деле — Николай Осокин, шестьдесят второго года рождения. Родился в Сочи. Мать умерла, когда ему было семь лет. Попал в детский дом. — Игорь Васильевич заглянул в лежащую перед ним справку. — Про отца ничего не известно. Закончил ПТУ. В армии не служил. Что-то по медицинской части. Прописан временно у своей тётки на Малом проспекте Петроградской стороны. Он ли тётку разыскал, она ли его, выяснить пока не удалось. Тётка на пенсии. Участковый инспектор отзывается о нём хорошо. — А как этот участковый познакомился с Осокиным? Такие знакомства обычно не по-доброму начинаются… — Как, как ты сказал! — вдруг насторожился полковник. — Николай Осокин? — Это вы сказали, Игорь Васильевич. — Я, я сказал! — нетерпеливо согласился Корнилов. — Но когда ты говоришь, это звучит убедительнее. Этот коллекционер, на которого мы целую неделю потратили… Тоже Осокин. Борис Дмитриевич! — Он снова внимательно вгляделся в фотографию рыжего парня. — Вы думаете?.. — Белянчиков взял со стола несколько фотографий. Бегло взглядывал, передавал по одной Лебедеву. Алабин с недоумением следил за товарищами. Он об Осокине ничего не знал. — Нет, не похож. Совсем не похож, — сказал Юрий Евгеньевич. И Лебедев согласно кивнул: — Тот симпатичный мужчина. Благообразный. А у этого физиономия — не приведи господи! Уж я на него нагляделся. — Тоже мне аргумент нашли — физиономия не понравилась, — рассердился Корнилов. — Совпадение интересное, — усмехнулся Лебедев, — у этих Осокиных. А какое отчество у парня? — Надо проверить. Возьмёшь это на себя. — Он задумался на секунду. — На чём мы остановились? Ах, да! Откуда инспектор рыжего знает? Когда парень к тётке приехал, она к участковому за содействием обратилась — по поводу прописки. Ну, а потом он пару раз с тёткой встречался, спрашивал — как племяш? — Тёток послушать… — подал голос Белянчиков. — Бугаев, кстати, сказал мне, что парень, похоже, влип в эту историю по недоразумению. Держат его за «шестёрку», на побегушках. И отпечатков его пальцев ни в нашем, ни в центральном дактилоскопическом бюро нет. А второй… — Корнилов вздохнул. — Трудный случай. Восемь лет назад проходил по делу о мародёрстве в Московском крематории. Тогда он в преступной группе на побегушках был… — По кличке Студент, что ли? — спросил Белянчиков. — Вот-вот! Студент. Только какой он студент! Из института его за пьянство с первого курса выгнали, он устроился в крематорий. Полгода проработал, а успел немало натворить. В прошлом году вышел из колонии. На пять лет лишён права проживать в крупных городах. Местом жительства ему определён Котлас… Белянчиков, сосредоточенно о чём-то думавший, перебил Корнилова: — Вспомнил! Райко! Райко его фамилия. Я ведь когда-то читал обвинительное заключение по этому делу. — Хвалю, Юра, — с едва уловимой иронией сказал Игорь Васильевич. — Память у тебя прекрасная. Зовут его Райко Михаил Данилович. Но где он обитает, нам пока установить не удалось. Если бы у наших сотрудников ещё к хорошей памяти и прыти побольше было, мы бы уже арестовали его. Чуёт моё сердце, что он тут самый главный. Лебедев виновато опустил голову. Пока Райко вёл переговоры с Бугаевым, рыжий, поймав такси, съездил к Соловьевскому садику, пригнал оттуда зелёную «Волгу». Через полчаса Райко сел в эту «Волгу» вместе с рыжим, высадил его на Среднем проспекте, а сам, завернув на Шестую линию, заехал во двор шестьдесят третьего дома. Лебедев знал, что двор этот проходной, и послал Углева к подворотне на Пятой линии. Райко же во втором дворе остановился перед воротами гаража, открыл замок, загнал в гараж машину и закрыл ворота уже изнутри. Больше его Лебедев не видел. Наверное, Райко ушёл через парадную, выходящую на улицу. Удалось узнать, что гараж принадлежит слесарю, ремонтировавшему актёрскую «Волгу», и что из гаража есть вход в его квартиру. Имеет ли этот слесарь отношение к преступной группе, предстояло ещё выяснить. — А сколько всего человек в группе, не удалось установить? — спросил Алабин. — Троих мы знаем, — ответил Корнилов. — Райко, Осокин и неизвестный нам мужчина, за которым ехал из Зеленогорска Колокольников. Судя по его описанию и по тому, что рассказал пьянчужка, которому Колокольников показал мужчину на станции, ни на Студента, ни на рыжего он не похож. Двое под вопросом — шеф-повар ресторана, через комнату которого ушёл Осокин, и слесарь, ремонтирующий зелёную «Волгу». Студент сказал Бугаеву, что в налёте, кроме Семёна, будут участвовать трое. Кто третий — будущее покажет. Во всяком случае, и повара, — он заглянул в свою бумажку, — Олсуфьева Кирилла Степановича, и слесаря Пыжова надо постоянно держать под наблюдением. Это твоя задача, — полковник обернулся к Алабину. — Бугаев, по плану Студента, должен привезти группу на своих «Жигулях» к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои десять тысяч и — до свиданья. — Ого! — сказал Белянчиков. — Что-то я в такую щедрость не верю. — И Бугаев тоже не верит. И правильно делает. Скорее всего, от него захотят отделаться…Но не раньше, чем он им сейф откроет. А вот где этот сейф — Студент даже намёка не сделал. — В управлении, где работает Рогозина? — высказал предположение Лебедев. — Вряд ли. Дополнительная проверка показала, что девица она честная. Скорее всего, даже не подозревала, зачем Бур с нею познакомился. — А увольнение? — Что ж, разве в жизни не бывает совпадений? — задумчиво сказал Корнилов. — Семён поставил им условие, — продолжал он, закурив, — чтобы не было никакой пальбы, никаких «мокрых» дел. Он, мол, дорожит своим здоровьем… Но оружие у них есть. Даже у рыжего. Вопросы? — Полковник внимательно оглядел своих сотрудников. Сколько операций они закручивали в этом кабинете, горячо обсуждая каждую деталь, нещадно споря, даже ссорясь иногда! Корнилов не любил соглашателей, а если иногда ошибался, приглашая нового сотрудника, что бывало не часто, но всё-таки бывало, «соглашатель» не задерживался в управлении. Люди, что сидели сейчас вместе с ним за покрытым зелёным сукном, немного старомодным столом, со следами бессчётных чаепитий, были дороги полковнику. Он знал их достоинства и недостатки, их привычки. Знал, чего от них можно ожидать, а чего нельзя. Чего ждать от упрямого скептика Белянчикова, которому Игорь Васильевич верил, как самому себе, от скромного на совещаниях, но цепкого в деле Лебедева, которого всегда следовало хвалить чуть-чуть больше, чем он того заслужил, — в этом случае Володя мог совершать чудеса. И Вася Алабин, проработавший с Корниловым всего четыре года и ставший теперь начальником угрозыска большого района, был дорог полковнику. И отдал-то он Алабина из управления только потому, что Василий шёл на повышение, а в таких случаях Корнилов никогда не мешал. Многих не было сейчас за этим столом — в угрозыске, как любил говорить полковник, надо работать и ножками. Но больше всех ему не хватало сейчас майора Бугаева — одного из самых толковых своих сотрудников. И самого горячего спорщика. Корнилову сегодня было мало скептицизма Белянчикова, рассудительности Алабина, — требовались «шальные» и «бредовые» идеи, на которые был мастер Семён Бугаев. «Товарищ полковник, — обычно говорил майор, — а мне вот какая бредовая идея в голову пришла…» И начинал с увлечением развивать эту идею, которая могла и вправду оказаться «бредовой», но действовала на всех присутствующих, как искра на фитиль зажигалки, как тёплый дождь на поникшие от засухи посевы. Семён умел высекать искры, будить воображение, увлекать. Корнилов же умел направить разбуженное воображение в нужное русло, умел быстро ухватить полезные идеи и отказаться от бесплодных. Он умел и любил работать с талантливыми людьми. А это, как ни покажется странным, довольно редкое качество руководителя. — Наверное, надо в первую очередь заглянуть в старое дело, по которому Студент проходил, — сказал Белянчиков. — Определить его «подельцев». Все ли ещё сидят или кто-нибудь, кроме него, вышел. А вдруг это неизвестный нам третий? — Запрос на Петровку и в министерство я сделал. Просил срочно, — ответил Корнилов. — А если арестовать Студента и рыжего как только они выйдут на связь с Бугаевым? — спросил Лебедев. — Знать бы, что на встречу с Семёном пришел Райко, надо было брать, — с сожалением сказал Корнилов. — И его и рыжего. Да кто ж мог предположить, что такая опасная птица залетела? И кто знал, что мы её провороним… — Он снял трубку внутреннего телефона. Спросил: — Варя, от Бугаева нет вестей? Как позвонит, сразу соедини. — Положив трубку, сказал, отвечая на вопрос Лебедева: — Конечно, будем задерживать. Дальше тянуть нечего. Вдруг они решат без Семёна обойтись? — Игорь Васильевич, — встрепенулся вдруг сосредоточенно чертивший домики на листе бумаги Белянчиков, — а если фото Студента и Осокина той старухе показать? — Какой ещё старухе? — Блошкиной, — улыбнулся Белянчиков, вспомнив рассказ Семёна Бугаева о том, как старуха падала в обморок к нему на руки. — У которой Лёва Бур комнату снимал! — Так, так, так… — заинтересовался полковник. — Это она говорила, что к Лёве интеллигентные люди ходят? — Она. — Покажем. В розыске Студента она нам не поможет, но если опознает, цепочку мы замкнём. Что у нас осталось ещё? Тётка рыжего? Но с ней встречаться нельзя. Участковый говорит — она в своём племяннике души не чает… Как ни предупреждай — может рассказать ему. Из лучших побуждений. А если не расскажет, так насторожится. Он и сам поймёт…20
В эту ночь Бугаев долго не мог заснуть. Беспокойно ворочался на скрипучей раскладушке. Зажигал свет — пробовал читать купленный в газетном киоске журнал и ловил себя на том, что, перевернув страницу, уже не помнит, о чём там шла речь. Возвращался назад, по нескольку раз перечитывал один и тот же абзац и никак не мог сосредоточиться. Снова и снова вспоминались ему события отошедшего дня, мелькание знакомых и незнакомых лиц, удивительное ощущение, которое испытывал уже не один раз, но которое всегда неприятно волновало — ощущение раздвоенности, когда приходилось скользить равнодушным взглядом по лицам своих близких товарищей и встречать в ответ такие же безучастные взгляды, понимая, какое напряженное внимание кроется за ними. А потом кружить на машине по городу, путать следы, стараясь в то же время, чтобы твои товарищи их не потеряли. И ощущать рядом тёплое плечо врага… Семён задремал. Но в это время с залива раздался резкий гудок. Бугаев открыл глаза, протянул руку к выключателю ночника, нажал, посмотрел на часы. Было без четверти четыре. Он поспал минут десять. Густой короткий гудок повторился. Семён поднялся, вышел на балкон. Начинало светать. Залив затянуло плотным туманом. У воды туман, сливаясь с ночной теменью, стоял тёмно-лиловой стеной, а выше был слегка подкрашен рассеянным светом встававшего солнца. Могучий гудок повторился ещё и ещё. Ему ответили дискантом другие оттуда, где, укрытый туманом, находился порт. Бугаев представил, как медленно, на самом малом ходу двигается теплоход, как мерно и уютно работает машина и, чуть шипя, пенится у форштевня балтийская вода. Поёживаясь от предутреннего холодка, он снова улёгся в постель и с удовольствием потянулся. «Вот сейчас я засну», — подумал Бугаев и не заснул. Вспомнил о том, что рассказал ему полковник про рыжего парня, усмехнулся. «Я-то сразу понял, что ты не Вася. Но вот что ты не просто Николай, а Николай Осокин… Такого сюрприза не ожидал!» Он стал перебирать в памяти всё известное о рыжем. Выходило, что ничего серьёзного об Осокине-младшем он не узнал. Никаких фактов, одни ощущения. «А участковый инспектор нашим ребятам сразу гору фактов выложил. Всё правильно. У него факты, у меня — ощущения, но, может быть, мои ощущения важнее его фактов. Зарываетесь, майор, зарываетесь, — остановил он себя. — Участковый тоже встречался с рыжим, у него тоже, свои ощущения. Хорошие, наверное, ощущения, раз он ни в чём не засомневался. Но главное в том, что с рыжим Колей участковый встречался как с добропорядочным молодым человеком, племянником одинокой тётушки, которая на старости лет обрела помощника… И скоро его потеряет. А я встречался с рыжим, зная, что он состоит в шайке, которая собирается ограбить кассу, на счету которой уже есть одно покушение на убийство. Я смотрел на рыжего совсем другими глазами… — Но тут Бугаев вспомнил, как улыбнулся рыжий, когда он предложил ему в машине бутылку пива. — Ха, каждый улыбнётся, когда его угощают пивом! — хмыкнул он, понимая, что не прав, что улыбки бывают у людей разные. У рыжего улыбка была добрая. — А как насторожился парень, когда я ему сказал про тюрьму? „Живым не дамся!“ Детская бравада. Он ещё непуганый сопляк. Никогда не сидел. Это я правильно подметил. Здесь мои ощущения меня не подвели. А вот рожа противная, с дурацкими баками… Баки он, может быть, отрастил, чтобы свои прыщи прикрыть, а лицо?.. — Он повернулся на бок, закрыл глаза. — Спать, спать, Семён Иванович!..» Но плоское лицо рыжего стояло у него перед глазами: «Теперь-то уж он точно влипнет!» — с этой мыслью Бугаев наконец-то заснул. И проснулся он с мыслью о том, что судьба рыжего предрешена. «Теперь он влипнет. И научится воровскому жаргону, которым так неумело пытался щегольнуть. И ещё многому научится. Тому, что пострашнее любого жаргона». Он занимался своими обычными утренними делами, а мыслями время от времени возвращался к рыжему. Лёгкое чувство досады владело им, словно и он, Бугаев, был виноват в грядущей трагедии Николая Осокина. «Как его в это дело затянули? — думал он. — Случай, недоразумение, дурные наклонности? Для мальчишки, не знавшего отца и воспитывавшегося без матери, любой повод годится. Прямая-то дорожка одна, а кривые разве сосчитаешь? Его бы, как Жогина, в больницу на время спрятать! — усмехнулся Семен. — А потом бы разобрались. А что? — думал он. — Если без иронии?.. В больницу, конечно, нельзя — тут и жуку станет ясно, что дело нечистое, а посадить на десять суток за мелкое хулиганство или ещё за что-нибудь… Нет, арестовать его — значит поставить под удар всю операцию. Бандиты насторожатся. Уедут из города. И начнут всё снова. И найдут ещё какого-нибудь рыжего. Не рыжего, так брюнета… — Бугаев вздохнул. — Выходит, положение для тебя, рыжий безвыходное…» Позвонил Корнилов. Спросил: — У тебя что нового? — Тихо. Ни звонков, ни гостей… — Хорошего мало, — сказал полковник таким тоном, словно сам Бугаев был виноват, что преступники ему не звонят. Потом добавил потеплевшим голосом: — Колокольников в себя пришёл. Белянчикову разрешили свидание. Ни рыжего, ни Студента Леонид Иванович не признал. Говорит, что мужчина, за которым следил, был покрупнее. И «морда ящиком». Попробуем составить фоторобот… — Игорь Васильевич, — поинтересовался Семён. — А как эта версия про сыночка с папочкой? — Не подтвердилась. Отец у рыжего умер. Фамилия у него материнская. Но где-то гуляет и сын Бориса Дмитриевича. От первого брака. Как только ему восемнадцать исполнилось, отец и помощь ему прекратил, и всякую связь с ним…21
Третьего, неизвестного, Бугаев увидел ровно через десять минут после того, как повесил трубку и подошёл к своим «Жигулям». В машине, на переднем сиденье вальяжно развалился рыжий с сигаретой в зубах. А на заднем маячил какой-то здоровенный тип в потёртой кожаной курточке. «Вот уж действительно „морда ящиком“», — подумал Семен, неприязненно разглядывая его круглую физиономию. И сузив глаза, зло спросил у рыжего: — Что за штучки? — Семён Иванович, не сердись! — рыжий как-то сразу сжался под взглядом Бугаева и смотрел на него заискивающе. — Мы тебе несколько раз звонили — всё занято и занято. Подумали, деваху какую-нибудь клеишь по телефону… Студент опять звонит тебе, а мы отдохнуть решили… — Он вдруг вытянул шею и посмотрел в сторону. Бугаев тоже повернул голову и увидел идущего от соседнего дома Студента. Там была единственная телефонная будка… — Рассказал бы я тебе, как один фрайер на моих нарах захотел однажды отдохнуть, — сказал Семен, — да времени нету. Дела зовут. Давайте выкатывайтесь… — У нас тоже дела, Семён, — услышал Бугаев примирительный голос Студента у себя за спиной и почувствовал на плече его руку. — Сядем, перекинемся парой ласковых. Бугаев нехотя сел в машину, обернулся на мордатого. Тот по-свойски подмигнул ему. — А это что ещё за красюк? — спросил Семен. Студент расхохотался. — Это Гордеич. Его не боись! Свой в доску. «Ну вот, — подумал Бугаев. — Кажется, все в сборе. Не сегодня ли всё состоится?» На сиденье рядом с Гордеичем он заметил большой чёрный портфель. — По какому поводу сбор? Студент посмотрел на часы, оглянулся по сторонам. — Дымком, Сеня, запахло. «Лайту» мы пару раз брали у знакомого фрайера. Зелёную «Волгу». — Как же, как же, помню! — усмехнулся Семён. — Приметная карета. Вы бы ещё у пожарников взяли. Красную. Студент сердито зыркнул на Бугаева. — Не время собачиться. Сейчас там каша заварилась — гаишники токовище затеяли. Говорят, на «лайте» дважды под красный свет проехали. А хозяин «лайты» в отъезде. Знакомому в починку оставил. То да сё. Забрали они «Волгу». — Боишься, что знакомый расколется? По тому, как напряжённо слушали разговор рыжий и Гордеич, Бугаев понял, что они все боятся этого. — Может, и не расколется, — хмуро сказал Студент. — Только бы сама «лайта» не раскололась. Менты неспроста притопали… Я, Сеня, не то чтобы под красный, под жёлтый свет ни разу не проехал, — и пристально посмотрел на Бугаева. Семён выдержал взгляд и спокойно спросил: — Ну, так что? Разбегаться по сторонам будем? — Без тугриков далеко не убежишь, — ответил Студент. — Сейчас мотанем за город. Прихватим одну кассу. Мы её давно обложили. «Ловко, — пронеслось в голове у Бугаева. — Мне даже не позвонить в управление. Хотя ведь нужны инструменты. Поднимусь и позвоню… — Но тут же он вспомнил, что инструменты с прошлого раза оставил в машине под сиденьем. — А эти гаврики наверняка уже обшарили салон». — У вас-то всё подготовлено… — усмехнулся он. — А меня вы спросили? Если я уж с девушкой сговорился? — Простит тебе девушка, когда подаришь ей пару зеленёньких. Доля твоя — десять косых. Как условились…22
«Имею ли я право вынести им приговор? — подумал Бугаев. — И привести его в исполнение?» Голова у него была ясная, и даже волнение, которое он испытывал с того момента, как увидел в машине рыжего и Гордеича, прошло. Он вёл машину осторожно и чётко, но то был словно и не он, не Семён Бугаев, а некий автомат. Как автопилот в самолёте. А настоящий Семён Бугаев видел своего двойника со стороны и, наблюдая за ним краешком глаза, только контролировал его, а сам думал и думал. Времени на принятие решения оставалось совсем мало. — Сейчас вертанёшь направо, — подсказал Студент. — Нечего нам у поста ГАИ отсвечивать. — Дорогу хорошо знаешь? — спокойно спросил Бугаев и подумал: «Последняя надежда лопнула». Он рассчитывал, что машину «засекут» на посту ГАИ. Корнилов наверняка перекрыл все выезды из города. — Приходилось однажды утюжить. Припоминаю. Эту грунтовую дорогу, по которой пылили одни самосвалы, Семён тоже знал. Года два назад ездил с группой на окраину брать в полуразвалившемся бараке бежавшего из заключения уголовника. Дорога была тряская, пыльная. — Тут немудрено и гвоздь в колесо схлопотать, — проворчал Семён. — А пылища! Выберемся на шоссе грязные, как чушки. — Вот и хорошо, — засмеялся Студент. — Ты сейчас тормозни. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю приобрели. — Он смеялся нервным, ненатуральным смехом, и Бугаев с удовлетворением подумал: «Трусишь ты, падаль. Чувствую, трусишь. А твои помощнички рта не открывают. Наверное, уже в штаны наложили». Он притормозил, осторожно съехал с дороги на пожухлую пыльную траву. Большая ворона, устроившись на брошенном строителями бетонном кольце, долбила клювом пустой пакет из-под молока. Одной лапой она смешно придерживала пакет. Умные чёрные глаза смотрели на вылезшего из машины Бугаева сердито. А когда вслед за Семёном выбрался рыжий, ворона бросила пакет и улетела. «Может, они меня хотят тут и кокнуть?» — подумал Семён. Но тут же усмехнулся — время было неподходящее: по дороге то и дело проносились грузовые машины. — Ну давай, что ли, откручивай! — хмуро сказал рыжий и бросил на землю два стареньких, тронутых коррозией номера. — Не запряг, не нукай, — оборвал его Бугаев и, открыв багажник, достал инструменты. Студент и Гордеич о чём-то тихо разговаривали. Семён дал один ключ рыжему и показал на передний номер: — Ты меняй этот, а я сзади… Крышку багажника он оставил открытой, надеясь хоть что-нибудь услышать из разговора в салоне. Но не смог разобрать ни одного слова… Поменяв номер, Бугаев подошёл к рыжему. У того ключ соскочил с гайки, и он ободрал себе кожу на костяшках пальцев. Слизывая кровь, рыжий проворчал: — Дал бы хоть рукавицу… — Ах, мы такие нежные! — усмехнулся Бугаев. Он ещё и раньше приметил, что руки у рыжего мягкие, с нежной кожей. Парень метнул на Семена злой взгляд и взялся отворачивать вторую гайку. Руки у него дрожали. «Сейчас бы затеять драку, — подумал Семён. — Место только неподходящее. А так бы сбежались люди. Нет, тут нельзя. Прикончат они меня и выйдут из-под контроля». Но чтобы вывести рыжего из себя, всё-таки сказал: — Рука бойца дрожать устала… — Ну и отворачивай сам! — Парень швырнул ключ об землю и поднялся. — Подумаешь, задавала! Это «задавала» прозвучало так по-детски, так непосредственно, что Бугаев рассмеялся. Рассмеялся весело, по-доброму, и рыжий, только что глядевший зверем, тоже улыбнулся. И сунул опять в рот ободранные пальцы. «Эх, парень, не удалось тебя вовремя отшить, — в который уж раз подумал Семён. — Теперь уж обратного пути нет». — Ну вот, — сказал Студент, когда они снова выехали на дорогу. — Теперь мы «скобские». Тебе, Семён, хорошая «отмазка»… — Заметив, что рыжий ободрал руку, он как-то злорадно усмехнулся, словно вид пораненных пальцев сообщника доставил ему удовольствие. — Ничего, Николаша, злее будешь. — Студент впервые при Бугаеве назвал рыжего настоящим именем. Впереди виднелся железнодорожный переезд. Когда они подъезжали к нему, зазвонил дребезжащий звонок и замигали красные сигнальные огни. Идущий впереди самосвал проскочил, чуть не задев за шлагбаум. Пожилая дежурная в оранжевой спецовке сердито погрозила вслед самосвалу кулаком. Бугаев затормозил, остановился. — Не ко времени, — проворчал Студент, поглядывая на часы. — Без пятнадцати два я уже должен войти в сберкассу… — Я сейчас! — Бугаев выскочил из машины и подбежал к дежурной. — Мамаша, ты не пугайся, — зашептал он тихо. — Сделай вид, что показываешь мне дорогу… Там, в машине, бандиты. Когда мы проедем, запиши номер и позвони в милицию. — Он видел, как побледнела женщина, и ободряюще улыбнулся. — Не робей. Передай привет от Семёна. А теперь показывай, где мне выехать на асфальт? Наконец-то женщина поняла, что от неё хотят. — Сейчас прямо, милый. — Она подняла руку, повернулась к Семёну вполоборота. — Проедешь бетонный завод, свернёшь налево… — Семён услышал сзади шаги. Кто-то из его спутников не выдержал, подошёл проверить. — А там уж и сами увидите. Шоссейка рядом. — Спасибо, мамаша, — поблагодарил Семён, и его слова потонули в грохоте проходящего товарняка. Тётка подняла флажок. Бугаев обернулся. Рядом стоял Студент. — Спросил, где сворачивать, — сказал Бугаев. — Я и сам знаю, — сердито бросил Студент. — Сказал же! — Мало ли что сказал. Тут такая стройка, в неделю может всё измениться. Товарняк прошёл. Тётка открыла шлагбаум. «Только бы она не побежала сразу в свою будку звонить, — подумал Бугаев. — Могут догадаться». Но дежурная всё сделала правильно. Пока машина осторожно проезжала через переезд, тётка стояла у будки до тех пор, пока её не заслонили идущие сзади грузовики. «Умница, — похвалил её Бугаев, — небось ничего не спутает…»…Когда «Жигули» скрылись в потоке автомашин, дежурная быстро прошла в будку. Сняла трубку телефона. Ей уже не раз приходилось звонить в милицию — жаловаться на злостных нарушителей. У неё и телефон был записан на бумажке и положен под стекло на тумбочке. Она взглянула на номер, но чуть помедлила его набирать. «А может быть, это розыгрыш?» — засомневалась она, но тут же решительно начала крутить диск. Вспомнила долговязого мужика, вставшего за спиной у того, кто просил её позвонить в милицию. Вспомнила его неприятное, одутловатое лицо с красными, словно подкрашенными губами. Номер не отвечал. Тогда дежурная набрала 02. — Милиция слушает! — сразу же отозвался женский голос. — Миленькая, — сказала дежурная. — Это с Комендантской, с переезда говорят. Проезжала мимо меня легковая машина… Так шофёр успел мне шепнуть, что в машине бандиты. — Ваша фамилия? — спросила телефонистка. — Евдокимова. — Номер машины не записали? — Запомнила я его, милая. Ноль три девяносто девять… — А буквы? — Только две первые помню — «П» и «Е». Шофёр-то спрашивал, как на шоссе попасть. — Значит, ехали из города? — уточнила телефонистка. — Из города, из города. Просил от Семёна привет передать. — Спасибо, — сказала девушка и повесила трубку. Дежурная некоторое время стояла в растерянности, слушая, как из трубки несутся короткие гудки. «Как же теперь быть-то? — думала она. — Поймают этих проклятущих или нет? Так и не узнаю». В это время зазвонил сигнальный зуммер. С соседней станции вышел поезд. Дежурная повесила трубку и пошла его встречать…
…Корнилов сидел рядом с дежурным по городу и поэтому уже через несколько минут узнал о звонке с переезда. — Подал весточку, Семён. Молодец! — Он подошёл к плану города. Дежурный показал указкой туда, где на западной окраине пересекались две линии — тоненькая змейка грунтовой дороги и жирная — железнодорожная. Скользнув указкой вдоль тонкой линии, дежурный сказал: — Они выскочат на шоссе через три километра после поста ГАИ. Корнилов посмотрел на часы. — Уже давно выскочили. Где следующий пост? — На сорок третьем километре. — Срочно передайте, чтобы подготовились к встрече, — сказал Корнилов и тут же досадливо махнул рукой: — Нет, нельзя это делать! Они все вооружены. Нельзя ставить под удар Бугаева! Передайте, чтобы пропустили. Дежурный подошёл к пульту. «Куда они, почему из города? — думал Игорь Васильевич. — Ведь нападение на кассу должно быть ночью. В городе… — И вдруг его осенило. — Решили напасть на зеленогорскую сберкассу!» — Передал, товарищ полковник, — от пульта вернулся дежурный. Глядя на раздваивающуюся нитку шоссе, он сказал задумчиво: — Могут ведь и на Приозерск свернуть… — Могут, Геннадий Сергеевич, — согласился Корнилов. — Они всё могут. Но едут в Зеленогорск. Брать сберкассу. Дежурный пожал плечами. — А если нет? Если в Выборг? А там граница, — тревожно сказал он. — Зеленогорск, Зеленогорск! — пробормотал Корнилов. — Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу. — Он перевёл взгляд на карту области. — Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ? Свернут налево по бетонке на Зеленогорск? Вот что, не будем гадать: передайте во все управления и отделения милиции, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? Пятнадцать минут второго… А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу. Сошлются на ревизию. — Он представил себе, как перепугается его старая знакомая Зоя Петровна. — И запросите все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ — пусть немедленно сообщают о «Жигулях» с псковским номером ноль три девяносто девять. И чтобы никакой самодеятельности…
Корнилов слушал, как дежурный по городу отдавал чёткие и лаконичные приказы, как повторяли их операторы у пультов, а сам всё думал о том, почему бандиты поехали за город. Не ошибся ли он, предположив, что они хотят «брать» зеленогорскую сберкассу? А вдруг у Бугаева провал? И его просто-напросто увозят из города, чтобы где-нибудь разделаться с ним в глухом месте? Нет, тогда бы он не сидел за рулём, не смог бы подойти на переезде к дежурной. Псковские номера… Заранее приготовили! Ноль три девяносто девять. В сумме двадцать один. Счастливый номер. Вот тебе и счастливый номер — нагрянули, видать, к Бугаеву так, что он из дома и позвонить не смог!
23
…Бугаев вёл машину и думал, на какой же вариант ему решиться? Останавливаться и врать, что мотор не в порядке, было бесполезно. Студент прекрасно знает машину и тут же во всём разберётся. Махнуть неожиданно в канаву? Неизвестно, кому повезёт. Семёну нужна была гарантия, что эти трое не продолжат свой путь без него… — Значит, я захожу первым, — в голосе Студента появилась неприятная хрипота. Наверное, сел от волнения. — Предъявляю аккредитив. Без пяти два одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед. Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу… «Нет, — зло думал Бугаев, прислушиваясь к голосу Студента, — никуда твой Гордеич не ввалится. И ты, сволота, никому свой аккредитив не предъявишь. Это уж точно. Тётка с переезда уже давно позвонила, шеф поднял на ноги местную милицию, предупредил сберкассу. Он ведь тоже догадался, что едем мы по старому адресу. Но без стрельбы не обойтись. Хорошо, если решат задерживать машину на подъезде. В городе в эти часы на улицах народу полно…»…Часы в комнате дежурного по городу показывали тринадцать тридцать. С трассы только что поступило сообщение, что «Жигули» с псковским номером повернули на Зеленогорск… До обеденного перерыва в сберкассе города оставалось полчаса. Зоя Петровна закрыла двери и вместе с кассиром торопилась обслужить последних клиентов — пожилого мужчину и старушку, пришедших за пенсией. В комнатке рядом с операционным залом дежурили два сотрудника. Никакой таблички с надписью «закрыто» на дверь сберкассы не вывешивали — по расчётам Корнилова, кто-то из бандитов должен выйти из машины, чтобы поинтересоваться, почему сберкасса закрыта. Его возьмут у дверей. И Бугаеву будет легче. Рядом со сберкассой остановился хлебный фургон, шофёр которого, сотрудник уголовного розыска, был готов в любую секунду тронуть свою машину с места и прижать «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы. Уже готовились перекрыть выезды из города, пригнав несколько тяжёлых самосвалов, а машины с Белянчиковым, Лебедевым и Алабиным, то и дело включая сигнальную сирену, мчались по Приморскому шоссе. Уже остались позади Сестрорецк и Репино. До центра города оставалось десять минут езды…
…Бугаев ничего этого не знал. И когда они спокойно миновали пост ГАИ на въезде в Зеленогорск, с сожалением подумал о том, что бандитов, наверное, решили задерживать в городе, у сберкассы. Он гнал от себя мысль, что дежурная на переезде не позвонила в милицию. Но не считаться с такой возможностью не имел права. Успокоился он только после того, как увидел небольшой автобус «пазик», мчавшийся следом, как только они свернули с Выборгского шоссе в сторону Зеленогорска. В автобусе был только шофёр. Бугаев узнал водителя управления, Сашу Углева. В выгоревшей голубенькой шапочке с большим козырьком, в тельняшке с обрезанными рукавами, он спокойно восседал за рулём и флегматично смотрел вперёд. На автобус обратил внимание и Студент, время от времени оборачивающийся назад. — Вот прицепился! Всё время жмёт за нами. Гордеич тоже обернулся. Сказал, нервно зевнув: — Не боись. Менты на таких обшарпанных не ездят. Там всего только шофёр — и тот в тельняшке. — Он коротко хохотнул, довольный своей шуткой, и спросил у Бугаева: — Семён, ты на сколько идёшь? — На шестьдесят. Видал, знаков понавешали? Того и гляди, на «командира» с локатором нарвёшься. — Вот! — удовлетворённо сказал Гордеич. — И в «пазике» шеф так же рассуждает. Пойдёт на обгон — нарвётся на дырку… «Там, наверное, на полу несколько оперативников устроилось», — подумал Семён. — Ну, хоп! Проверим наши игрушки, — сказал Студент. Бугаев услышал, как он расстегнул замок своего чемоданчика, зашуршал газетой. Лязгнул затвор обреза. Потом раздался характерный щелчок — Студент загнал обойму с патронами. Вытащил из-под ремня пистолет «ТТ» и рыжий. Провёл по нему ласково рукавом, передёрнул затвор. — Ты, Студент, наш уговор помнишь? — сердито сказал Бугаев. — Я в «мокром» деле не участник. — А куда ты теперь денешься? — засмеялся Студент. Теперь, когда у него на коленях лежал заряженный обрез, он стал смелее, увереннее в себе. — Я-то знаю — куда. Высажу вас и поеду восвояси. — Он нас высадит! Фрайер, чистюля. Получишь пару горяченьких под лопатку. Бугаев почувствовал у затылка холодок металла. — Сиди, не рыпайся, — ласково сказал Гордеич. — Подумаешь, законник какой нашёлся! Пять минут страха — и на два года обеспечен! «Интересно, что за оружие у этого болвана? Маленький ломик, что ли? — Бугаев на секунду оглянулся, но Гордеич уже убрал свою железку и только улыбался дурацкой улыбкой. — Нет, пострелять вам не удастся». Семён сжал зубы и посмотрел в зеркало. «Пазик» шёл не отставая. Впереди ехал оранжевый МАЗ. «Эх! — подумал Бугаев. — Подставиться бы сейчас под этот утюг. Забыли бы и про деньги, и про маму родную! Только ведь, если живым останусь, скажут — самосуд устроил!» Впереди, наискось перегородив шоссе, стоял, чуть наклонившись, огромный фургон «Молдплодоовощ». Кабина его, будто отломившись, нырнула в канаву, и десятка полтора людей пытались помочь шофёру вытолкнуть её на асфальт. Машина ревела, выпуская клубы дыма, колёса бешено крутились, «стреляя» комьями земли. Несколько грузовиков и три легковые машины стояли в ожидании, когда можно будет проехать. — Эх, чёрт возьми! — со злостью прошипел Студент, когда Бугаев притормозил. — Через пять минут будет поздно! Автобусик, который ехал за ними, остановился рядом. Шофёр несколько раз гуднул и высунулся из кабины. — Чего гудишь! — крикнул один из тех, кто помогал трайлеру. — Вылезай, поможешь! А вы чего глазеете? — Он махнул Бугаеву, призывая на помощь. — Может, через канаву? — спросил Студент. — Пойди взгляни! — Гордеич, быстро! Гордеич, повинуясь приказу, выскочил из машины и подбежал к канаве. — Ну, как? — крикнул Бугаев. — Можно проехать? Гордеич пожал плечами. — Сейчас посмотрим, — Бугаев включил первую скорость и осторожно подвёл машину к канаве. Канава была неглубокой, но Семён видел, что «Жигули» застрянут в ней обязательно. — Ну? — с надеждой спросил Студент. — Попробую. Только придётся вам подтолкнуть… — Быстро, быстро, Сеня, — прошептал Студент, выскакивая из «Жигулей». Рыжий тоже вылез и встал на канаве, приготовившись толкнуть, если машина застрянет. Несколько шофёров, помогавших трайлеру, подошли к «Жигулям» Бугаева. — Ты что, трехнулся? — крикнул один из них Семёну, сдававшему машину назад для разгона. «Трехнулся!» — усмехнулся Бугаев, с радостью осознавая, что главное оружие — обрез Студента — остался в машине. Когда передние колёса «Жигулей» уже выбрались из канавы, Семен заглушил мотор, и машина скатилась назад. Бугаев завёл мотор и до конца выжал скорость. Мотор взревел. Задние колёса на больших оборотах уходили всё глубже и глубже в землю… Он снова заглушил мотор и вылез из машины. К Студенту, внимательно приглядываясь, шёл высокий мужчина. — Гражданин, ваша фамилия не Райко? — Иди ты… знаешь куда! — крикнул Студент и замахнулся на мужчину. Тот перехватил его руку, хотел завести за спину, но Студент вырвался и, прошипев «пшёл вон!» — кинулся к машине. — Семён Иваныч, влипли, — шепнул рыжий. — Никак, Студента опознали?.. — и вытащил из кармана пистолет. Бугаев наотмашь ударил ребром ладони ему по руке. Пистолет отлетел в траву. Рыжий со стоном прижал руку к груди. Семён свалил парня прямо в грязь канавы… Гордеич бежал к лесу. Несколько милиционеров, выскочивших из «пазика», гнались за ним. Бугаев увидел, что Студент, распахнув заднюю дверцу «Жигулей», вытаскивает обрез. «Что же они упустили эту сволочь? — подумал Семён. — Он же такого сейчас натворит!» Но выстрелить Студенту не удалось. Один из шофёров — тот, что обругал Бугаева, когда он собирался перемахнуть через канаву, с размаху двинул его монтировкой.
Когда Бугаев вместе с одним из местных сотрудников угрозыска вёл всхлипывающего Николая Осокина к милицейской машине, стоявшей на обочине, трайлер уже освободил шоссе и уехал. Два автоинспектора, помахивая своими жезлами, торопили притормаживавших поглазеть на происшествие шофёров. Не давали им останавливаться. С пугающим воем проехали, одна за другой, две «скорые помощи». — Ну и задал ты нам работёнки! — с укором сказал Белянчиков, приоткрыв дверцу машины и вглядываясь в бледное, перепуганное лицо рыжего. — Я не хотел… — еле слышно прошептал Николай Осокин, приняв упрёк майора в свой адрес. Бугаев усмехнулся и развёл руками…
24
«Чего они парня рыжим окрестили? — подумал Корнилов про своих сотрудников, разглядывая молодого Осокина. — Каштановые волосы. Лицо только неказистое. Ну, ничего, со временем выправится, прыщи пройдут». И тут же он поймал себя на мысли, что условия, для того чтобы выправиться, у парня будут не слишком хорошие. Николай Осокин сидел, не поднимая головы. Мягкие и длинные его пальцы всё время сплетались и расплетались, и полковник вспомнил рассказ Бугаева о том, как в ресторане за столом рыжий мял хлебный мякиш. «И я его тоже рыжим, — поймал он себя на слове. — Прилепится к человеку кличка — не хочешь, а назовёшь». — Ну, что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями, теперь и поговорить можно, — сказал он. Голова рыжего опустилась ещё ниже. — Разговор будет у нас долгий. Устанешь, подумать тебе захочется, скажи. Сделаем перерыв. Но на первый вопрос ты должен ответить немедленно. — Да, — выдавил из себя парень и наконец-то поднял голову. — Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур? — Знал. Парень именно так и сказал: «Знал». — Вы должны были встретиться с ним третьего августа ночью на Приморском шоссе? Опять кивок. — Место встречи? — Пятьдесят пятый километр. — В какое время? — В три. Но мы опоздали. Спустило колесо, ставили запаску… — И что же? Рыжий молчал. — Как произошла ваша встреча? Парень облизнул сухие губы. — Мы… Корнилов ждал спокойно. Узнав, что рыжий был на месте встречи с Лёвой Буром, он теперь не сомневался, что сейчас узнает и о том, куда пропал труп Котлукова. — Мы подъехали, а он уже мёртвый… На дороге. Лицо всё чёрное. — Рыжий снова облизнул губы. — Это не мы. Честное слово, не мы. — Что же вы сделали? — Я испугался. Сказал — рвём когти, а Студент и Гордеич его в багажник засунули — и ходу… — Без тебя? — Нет, как же без меня? Со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали. А потом вернулись за чемоданом с инструментами. Сначала в потёмках его не нашли… — А потом нашли? — Нет, не нашли. Мужик там один лазал. Он, видать, и прибрал к рукам. — А вы его? Рыжий вдруг всхлипнул. Вытер ладонью глаза. — Гордеич. Я только сегодня утром узнал. Этот мужик за Гордеичем увязался. Он и завёл его в тёмный подъезд… — Как зовут этого Гордеича? Рыжий пожал плечами: — Гордеич и Гордеич… — Имя? Фамилия? — Не знаю. Корнилов вздохнул. Отпечатков пальцев этого Гордеича не было ни в одной картотеке. Он не числился ни в розыске, ни среди пропавших без вести. — Ладно. О Гордеиче потом. Сейчас с Котлуковым закончим. Место можешь показать? — Где зарыли? — Да, где зарыли… — сказал Корнилов и подумал о том, что эти люди даже своих не хоронят, а просто зарывают. — Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Мягче копать было. А то ведь корни в лесу… — Стоп! — сказал Корнилов и выключил магнитофон. — Остальное расскажешь потом. Сейчас поедешь, покажешь место. …Когда в сопровождении Белянчикова и Лебедева рыжий вышел из кабинета, полковник подумал: «Ну вот, Борис Дмитриевич, теперь мы найдём труп сбитого вами Льва Котлукова. Недостающее звено в цепи доказательств…»25
Колокольников прошёл десяток шагов вдоль залива по влажному, плотному песку, и у него слегка закружилась голова. То ли от свежего, напитанного мельчайшими брызгами воздуха, то ли от слабости. Всего неделю назад он выписался из больницы. Валентина не хотела отпускать его одного, но Леонид Иванович настоял на своём. Ему хотелось побыть в одиночестве. Накануне над Балтикой пронёсся сильный шторм. Своим крылом он зацепил и Финский залив. На берегу, выброшенные волной, валялись доски, разбитые ящики. Сорванный с якоря большой оранжевый буй тоскливо гремел, когда обессилевший пенистый вал поднимал его и тут же опускал на камни. Чуть подальше, метрах в пяти от берега, плясали на мелкой волне дохлые окушки. «О камни их побило, что ли? — подумал Колокольников. — На мелководье. Хорошо, что плоскодонка моя уцелела». Он прошёл ещё несколько шагов в сторону соснового леса и сел на скамеечку. Голова перестала кружиться, и Леонид Иванович вдруг ощутил удивительную, приятную лёгкость и безотчётно улыбнулся. «Чего это со мной? — подумал Колокольников. — Ветром всю хворь выдуло? Надо же! Наозонился!» Большой белый пёс уселся недалеко от скамейки и преданно смотрел на него. Мокрая шерсть на нём свалялась и висела клочьями. — Ну что, барбос? Потерялся? — сказал Колокольников ласково. Почувствовав участие, пёс тихонько заскулил. Леонид Иванович вынул из кармана пальто полиэтиленовый пакет и достал из него бутерброд с сыром. — На! — показал он бутерброд собаке. — Иди, пожуй! Пёс снова заскулил, но подойти боялся. «Эх, наверное, дачники оставили, — с жалостью разглядывая собаку, решил Колокольников. — Потешились лето, поигрались, а в городскую квартиру везти не захотелось». Он поднялся со скамейки и пошёл к собаке. Пёс нехотя встал и отошёл на несколько шагов. Леонид Иванович присел на корточки, протянул еду. Пёс помедлил и наконец приблизился. Деликатно взял с ладони Колокольникова бутерброд и, улегшись на мокрый песок, принялся торопливо есть… Колокольников ещё долго сидел на скамеечке, рассеянно прислушиваясь к шуму сосен, сливающемуся с шорохом накатывающих по песчаному дну волн. Какой-то мужчина сел с ним рядом. Леонид Иванович даже не обернулся, испугался, что мужчина заговорит, нарушит его покой. И вдруг увидел, что у ног мужчины стоит маленький потёртый чемоданчик. Колокольников не спутал бы его ни с одним другим — это был тот чемоданчик. С пятьдесят пятого километра. — Откуда он у вас? — резко обернувшись к мужчине, спросил Колокольников. — Чего, чего? — не понял мужчина. — Чемоданчик у вас откуда? — повторил вопрос Леонид Иванович. Он узнал этого человека, только никак не мог вспомнить, как его зовут. Жил мужчина в посёлке, и они не раз встречались. Иногда даже рядом рыбачили. — Ах это вы! — мужчина тоже узнал Колокольникова. — Что-то давно вы в Залив не выходили? — Вы мне про чемоданчик скажите, — зло, с расстановкой прохрипел Колокольников, чувствуя, что снова начинает кружиться голова. — А что? — испугавшись, пробормотал мужчина. — Ваш чемоданчик? Могу вернуть. Я его и правда нашёл. На шоссе… А кому отдашь? Не объявление же в лесу вешать? — Он заискивающе улыбнулся и пожал плечами. — А удочки и вёсла вы тоже нашли в тот день? — Какие удочки? Какие вёсла? Ты это брось! Как тебя… Колокольников, что ли? Вспомнил. В сто двадцатой даче живёшь! Ну? Чего уставился? Чемоданчик нашёл! С инструментом. Отдам я тебе, если твой. Сегодня же отдам! А вёсла и удочки… Не видал! — Неужели тебе даже не икнулось ни разу! — со злостью сказал Колокольников, встал и пошёл прочь. — Постой! — крикнул мужчина. — Постой, Колокольников! Верну я тебе твой чемоданчик. — Он кинулся было вдогонку за Леонидом Ивановичем, но бездомный пёс, безучастно дремавший рядом со скамейкой, вдруг вскочил и, злобно рыча, кинулся ему наперерез.
1983
Жаренов А. Кладоискатели

МНОГОТОЧИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
Судьба свела меня с этим человеком за несколько часов до его смерти. Ах, если бы знать… Мы говорили по делу, не стремясь преодолеть барьера одних деловых отношений, речь шла о публикации в «Смене» повести «Фамильная реликвия», о том, что и как надо бы доделать в рукописи, но доделывала повесть уже вдова… Боже, почему мы всегда так заняты, куда-то спешим, поглощены заботами, которые не дают приблизиться друг к другу, ведь это так просто — приблизиться: люди же говорят меж собой, — что за беда, будто незнакомые, — люди же!.. Признаться откровенно, без реверансов задним — и запоздалым! — числом, короткий наш разговор с Анатолием Александровичем Жареновым склонил чашу весов в его пользу. Повесть нравилась, правда, требовала доработки, к тому же автора в журнале не видели в лицо, прислал он рукопись по почте с краткой запиской — как-то уже отвыкли мы от такого, — не настаивал ни на чем, не требовал и, скажем так, беспокойного отношения не создавал, отношение было спокойное, а раз так, были колебания. Разговор наш тот начался вяловато, но вдруг в какой-то миг стало стыдно: вот человек, который ничего не требует, он просто написал хорошую повесть, нужны доделки, так и что! Я умолк, слушал человека, которого видел впервые, и услышал достоинство, увидел серьезность, увидел прямоту… Пусть простит меня читатель этой книги за подробности нашей первой и единственной встречи. Пусть не осудит строго — не мало ли прав у меня, чтобы писать предисловие к этому томику. Наверняка наберется немало людей, знавших Анатолия Александровича как следует. И я отношусь к тем, кто знал его меньше остальных знавших. Но я берусь за это предисловие не из нескромности. Из чувства долга. Из чувства долга перед хорошим человеком и талантливым писателем. Из чувства совестливости, что знал его мало, хоть мог бы знать и побольше. Надобно снять шляпу перед одним из тех скромных российских писателей, что живут вдали от столицы, работают кропотливо и совестно, приумножая достоинства отечественной словесности, не суетятся, не говорят громкоголосо о себе и от этого ничуть уже не становятся, не становятся меньше, незначительней. Известность ведь дело условное, иной известный’ и многократно изданный стоит едва ли одной тоненькой книжечки другого неизвестного литератора, которой суждено жить во времени и пространстве, тогда как творения «многотомщика» забудутся прежде его собственной смерти… «Родился 30 августа 1922 года в городе Угличе, здесь учился, окончил десятилетку в 1940 году, — сообщает Антонина Ивановна Жаренова, мать писателя, пережившая сына. — Осенью 1940 года был призван в действующую армию, откуда вернулся только после окончания войны. С фронта писал мне: «Мама, можешь поздравить, меня приняли в партию». И он до конца жизни был коммунистом. После окончания войны, осенью 1945 года, Толя вернулся в родной город Углич, где поступил на работу в редакцию местной газеты литературным сотрудником. Работники редакции до последнеговремени считали его своим товарищем. Обо всех его творческих успехах писали на страницах газеты. В 1949 году редакция газеты и горком партии как способного работника направили его на учебу в Горьковскую партийную школу — учиться на журналиста. После окончания школы работал на Камчатке ответственным секретарем областной газеты «Камчатская правда», затем работал в Липецке. Родной город он никогда не забывал, часто приезжал ко мне. В его произведениях много образов взято с жителей нашего города, моих и его знакомых (особенно в «Обратной теореме»). В «Фамильной реликвии» описывается альбом с пастушком, он до сих пор у меня хранится. Последний раз я проводила Толю 14 декабря 1975 года, а 17-го случилось непоправимое». В Анатолии Александровиче теперь, спокойно разобравшись в его небогатом наследии, меня очень привлекает… несостоявшееся. Как будто не положено так говорить о писателе, судить требуется написанное, писал же Анатолий Александрович в жанре детектива — с этого начал. Всего-навсего проработал он пять лет на положении профессионала, в 1971 году вступив в члены Союза писателей. Опубликовал роман «Яблоко Немезиды», повести «Частный случай» и «Обратная теорема», еще один роман — «Парадокс великого Пта». Вот все, что увидело свет при его жизни. Словом, Анатолий Александрович был вроде бы приверженцем детектива. Тому доказательство — эта книга. Но вот что интересно. Детективы Жаренова написаны так, будто они вовсе и не детективы. Его книги серьезны, реалистичны, он не допускает расхожих приемов, так часто дискредитирующих этот жанр. Он, кажется, совсем другим делом занят. Его интересуют характеры, их исследование… Его интересует социальная сфера, в которой живут его герои. Лично меня в «Фамильной реликвии» это привлекло в первую очередь. После смерти Анатолия Александровича, неожиданной и драматической, происшедшей в поезде по дороге домой, в городок Новозыбков, я много раз мысленно пытался воссоздать его психологический и творческий портрет и всякий раз испытывал чувство неудовлетворенности. Что-то не сходилось. Не получалось из Жаренова только «детективщика» при всем уважении к этому жанру. Что-то оставалось в тени. Потом я получил письмо от Софьи Иосифовны Пашковой, вдовы писателя, в котором прочел очень важные строки. «Возможно, в литературе, — написала мне она, — точнее, в тех жанрах, в которых он работал, не раскрылись полностью его способности… В последние годы он настойчиво думал о социальном романе. Судьбы тех, кто пришел с войны, их ответственность перед невернувшимися и живущими, перед собой — вот что его волновало». Это письмо послужило ключиком к моему пониманию личности Анатолия Александровича Жаренова. И я призываю читателя, после того как он перевернет последнюю страницу этого первого посмертного сборника, обратить взгляд в туманную — теперь навсегда — даль несбывшихся замыслов писателя. В Жаренове категории «человек» и «писатель» были слиты воедино и сплавлены намертво. Никаких раздвоений. И здесь я, человек, не знавший Анатолия Александровича в быту, хочу предоставить слово его вдове, которая по моей просьбе, специально для этого моего предисловия написала несколько строк, которые и сама Софья Иосифовна, а я с ней полностью согласен, называет несомненно субъективными. Хочу лишь только заметить, что субъективность — весьма достойное человека свойство. «Главные черты характера — скромность и порядочность, предельная честность и в мелочах, и в самом серьезном. Если пообещает, непременно сделает. Но чаще делал, не давая обещаний. Был он человеком несколько замкнутым, немногословным. На сближение с людьми шел трудно. Поэтому обычно в новом коллективе к нему поначалу относились настороженно. А по прошествии времени за ним неизменно устанавливалась репутация самого порядочного человека. Так было всюду, где мы с ним работали. Анатолий Александрович был человеком широко, я бы сказала, энциклопедически, образованным. У его отца была библиотека (отец умер еще до войны), так будучи учеником средней школы, Анатолий Александрович сумел эту библиотеку пополнить. Главным содержанием жизни его всегда была работа. А последнее время вообще работал без отдыха, словно чувствовал, что ему мало отмерено… Работа была не только главным содержанием его жизни, но и главной его радостью. Был он гостеприимен, щедр. Охотно шел на помощь людям. Но сам старался не быть никому обязанным, никого ничем не обременял. Это было его непременным правилом и в личной жизни, и в деловых отношениях. При всей своей деликатности, мягкости (он многое умел людям прощать), был он не только принципиальным, в истинном, высоком смысле этого слова, но и отважным. Он мог, если был убежден, что прав, выступить на собрании и сказать прямо, без уверток, что он думает по самому «скользкому» вопросу, не заботясь о том, что его точка зрения противоречит иным взглядам. Говорил всегда кратко, четко, определенно. И при этом никакой крикливости, аффектации. Спокойно, доказательно, аргументированно. Был непримиримым противником демагогии. Он остро чувствовал чужую боль. Любил животных. Бродячие псы всегда получали от него подачки под нашими окнами. У нас был Барс, восточноевропейская овчарка. После чумки — осложнение — начались припадки. Болел девять месяцев. Все наши старания вылечить ни к чему не привели. Барса разбил паралич. Три дня он лежал в столовой, не мог умереть, мы только переворачивали его с боку на бок да промывали пасть. А Анатолий Александрович сидел в спальне, и губы у него подергивались. Барс был членом нашей семьи». Что ж, на этом можно и оборвать. Поставить точку. Но точку поставить невозможно. Даже закончившаяся жизнь хорошего человека имеет продолжение в других — в его близких, а в данном случае — ив его читателях. Поэтому вместо точки я ставлю многоточие. В качестве же прекрасного многоточия судьбы Анатолия Александровича Жаренова надо взять строки из его биографии… Он был фронтовик. Прошел войну от «а» до «я» — с 1941 до 1945 года. Человек, прошедший войну и взявший перо, чтобы сказать свое слово, не может сказать его всуе. Слово это звучит, оно с нами. В нем и заключено многоточие человеческой судьбы…
ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА История одного расследования
Назарову часто снится один и тот же сон. Ему видится, как из-за леса выныривает самолет. Огромная белая птица, оставляя за хвостом черный шлейф дыма, с ревом проносится над болотом и исчезает за деревьями. Один за другим раздаются два взрыва… И в ту секунду, когда наступает тишина, Назаров просыпается, ощупывает влажную от пота рубашку, вздыхает, щелкает выключателем ночника. Затем сует ноги в шлепанцы и, стараясь не шуметь, выходит из спальни. Вслед ему слышится женский голос: — Ты куда, Виктор? — Спи, Лиза, — шепотом отвечает Назаров. Он подходит к окну. На подоконнике стоит аквариум. В большой стеклянной коробке, вяло подрагивая плавниками, гуляют черно-красные пузатые рыбешки. Назаров тупо наблюдает за ними и минут через пять возвращается в спальню. Сегодня он меняет маршрут: в спальню идти не хочется, и Назаров направляется на кухню. Долго пьет воду, долго курит, пока сигарета не начинает жечь пальцы. В голове колотится мысль: «Неужели это никогда не кончится? Никогда?» Вторая сигарета успокаивает. Он бросает окурок в раковину умывальника и закрывает за собой дверь. Снова останавливается перед аквариумом в пустой комнате пустого дома, который со вчерашнего дня уже не принадлежит ему. Продано все, что можно. Остался аквариум, книжная полка, старый платяной шкаф с плохо закрывающимися дверцами, стол и стул. Да еще в спальне кровать с тумбочкой, ночник и будильник. Вчера Лиза сказала ему, что и на эти вещи нашлись покупатели. Утром они явятся сюда, чтобы забрать то, что осталось. И не знает Назаров, радоваться ему или огорчаться. Впереди — длинная дорога, новая жизнь. И не знает Назаров, будет ли она новой. Ведь этот проклятый сон с самолетом никуда не уйдет, останется с ним до последнего дня. Надеется Назаров, что убежит от него, что в другом месте обретет покой. Надеется и боится… Этот город перестал ему нравиться. Этот город за последние годы стал похож на лицо человека, решившегося на сложную пластическую операцию. Все здесь взрыто, сдвинуто с привычных мест, все топорщится, расползается. Рядом с древними одноглазыми домишками тянутся вверх девятиэтажные великаны. То, что было раньше окраиной, оказалось в центре. А бывший центр стал походить на окраину. Время-хирург располосовало старый районный городишко, но швы еще не зажили, и пока из-под пластырей и бинтов не видно, каким же будет его новое лицо. «И это бы еще ничего», — думает Назаров. Но в городе стало слишком много людей. Слишком много. Поэтому и собрался он уезжать… Назаров тяжело вздыхает и подходит к дверям спальни. Будильник показывает три часа. Три! Пора будить Лизу…Глава первая
Телефон зазвонил в половине седьмого. Шухов ругнулся про себя, выключил пылесос и шагнул через кучу книг к столику с аппаратом. Из кухни выглянула Люся. Через плечо у нее свисало посудное полотенце. Шухов встретился взглядом с женой, мотнул головой и поднял трубку. Звонил Кожохин. Люся теребила кончик полотенца и слушала. — Да, — говорил Шухов. — Да, я. Привет, Кожохин… Что у тебя?.. Где?.. А может, обойдешься без меня? Воскресенье ведь… Он разговаривал с Кожохиным и морщился недовольно. Вот ведь невезение какое. Опять не удастся привести в порядок книги. Скоро полгода, как семья следователя переехала на новую квартиру, а книги, как сложили их штабелем вдоль стены, так и лежат, мешая Люсе проводить в жизнь планы благоустройства шуховского быта, лежат, пылятся, может, даже портятся. Это больше всего беспокоит Шухова. Он очень дорожит библиотекой, которую собирает уже лет пятнадцать. За это время накопилось несколько тысяч томов сочинений людей, где-нибудь когда-нибудь побывавших и описавших потом то, что им довелось увидеть. Шухов шутит, что эти книги заменяют ему туристские поездки: и интересно, и для кармана не накладно. В старой квартире он держал свою любимую коллекцию на простеньких стеллажах из кое-как выструганных досок. В новой такие стеллажи выглядели бы уродливо. Поэтому Шухов несколько дней назад пригласил мастера. В субботу заказ наконец был выполнен. Шухов расплатился с мастером, а в воскресенье встал пораньше, чтобы почистить книги и расставить наконец по полкам. Наскоро позавтракав, он вооружился пылесосом и взялся за работу. И вот… — Значит, не обойдешься, Кожохин? Ну ладно, присылай машину… Шухов опустил трубку на рычаг и грустно сказал жене: — Вот так, Люся. На «Нарыве» убийство. И Кожохин смущен, говорит как-то непонятно. Люся обвела кислым взглядом стопки книг на полу и вздохнула. Шухов пошел одеваться. На ходу, не то оправдываясь перед ней, не то убеждая себя, добавил: — Думаю, Кожохин перестраховывается. Ну что там может быть сложного, на «Нарыве» этом дурацком? «Нарывом» в милиции называли улицу, косо отходящую от главной магистрали города. Начиналась она каменной аркой под шестиэтажным домом возле трамвайной остановки, а кончалась оврагом, по которому тек ручеек, бывший когда-то речкой Тополевкой. Официально улица именовалась Тополевской. Внешне она выглядела вполне благопристойно, этаким зеленым оазисом внутри бетонного массива. Домики с голубыми ставнями, с палисадниками и огородами, сбегавшими к оврагу, с петухами, кричавшими по утрам, с собаками и телятами, гревшимися на солнышке в летние дни, могли бы умилить любого почитателя привольной сельской жизни. И уж никогда бы такому человеку не пришло в голову обозвать сию буколическую картинку нарывом. Но милиционер, впервые произнесший это слово, был философом, смотревшим в суть вещей. А последняя заключалась в том, что на «Нарыве» жили особенные люди. Лет шесть назад улица Тополевская была крохотным переулком. Потом город, разрастаясь, дошагал до нее, вобрал в себя и прошел мимо. Бывшие коренные жители частью уехали, частью устроились на заводы, получили новые квартиры. Дома свои они продали. И вот покупатели-то этих домов составляли теперь основной контингент населения Тополевской улицы. Разные это были люди. Разные по внешности, по профессиям, склонностям. Но психология у них была в общем-то одинаковая. Домовладельцы и огородники, ослепленные страстью приобретательства, словно бежали по жизни наперегонки, толкаясь, царапаясь и кусаясь, боясь, как бы чего-нибудь не упустить, не прозевать. Они окружали свои огородики заборами из колючей проволоки, заводили овчарок. Один индивидуум додумался даже пропускать через изгородь электрический ток. И однажды, когда его жена пошла за морковью для супа, забыл выключить ток. Женщина повисла на проволоке. Шухов вел дело и поражался, как можно дойти до жизни такой. В другой раз на «Нарыве» произошел не менее чудовищный случай. Рубщик мяса на рынке, владелец сливового садика, застрелил из двустволки проходившего мимо студента, который сорвал с ветки пару ягод, чтобы угостить девушку. Не так уж редко на «Нарыве» вспыхивали пьяные драки, частенько кончавшиеся очень печально. Вопрос о сносе «Нарыва» раза два дебатировался на сессиях горсовета. Но до дела все как-то не доходили руки: не так-то просто расселить по городу целую улицу. Да и овраг смущал: трудно тут построить что-нибудь путное. Кожохин, беседуя с Шуховым по телефону, в детали происшествия особо не вдавался, намекнул только, что он испытывает некоторое затруднение. Усаживаясь в машину, Шухов спросил у шофера, молодого круглолицего парня: — Что там? — Обходчика какого-то зарезали, — с готовностью откликнулся шофер. — Дом подожгли. Соседи галдят. Старик там чудной, тарахтит, как погремушка. Добивается, чтобы дом ему, значит, отдали. Купил он вроде этот дом у убитого. Ну а самого-то обходчика таксист обнаружил. Не то чтобы самого, а пожар увидал. Убитый-то такси заказал, на поезд, что ли, двинуть хотел. Ну а таксист, значит, дым из форточки видит, огонь тоже. Он и пожарников вызвал. У него, значит, радио в машине. Позвонил диспетчеру парка, та — на ноль-один. Ну, значит, дом спасли, не сгорел дом. Кто-то, выходит, хотел убийство прикрыть, да не успел… И шофер ударился в предположения. Шухов его не перебивал. Попытался вообразить неизвестного старика, таксиста, который вызвал пожарников, но ничего не получилось: перед глазами мельтешило что-то совсем уж несообразное, кивало головой и тянуло пронзительным голосом бесконечное «значит». — Не пойму что-то, — сказал Шухов шоферу. — Кто хотел убийство прикрыть? Шофер бросил взгляд на непонятливого собеседника и начал снова: — Он, значит, не знал, что обходчик такси заказал. Свалил бумагу на кровать, керосин из канистры вылил и поджег. А таксист тут как тут, значит. — Ладно, — сказал Шухов, и шофер обиженно замолчал. Машина выехала на главную улицу, мимо побежали разноцветные витрины магазинов, стеклянные кафе с названиями, почерпнутыми из астрономического атласа. Минут через пять автомобиль свернул под арку. Начинался «Нарыв». У дома стояла толпа. Какая-то не в меру голосистая бабенка кричала на ухо старухе в темном клетчатом платке: «Обходчика. Говорю, обходчика убили». Серьезный милиционер у калитки осаживал любопытных. Посреди улицы, возле красной машины, пожарники свертывали серые шланги. Шухов вылез из автомобиля и хмыкнул. Он сразу увидел старика, о котором говорил шофер. Широкополая шляпа ядовито-зеленого цвета украшала его голову. На тощем теле, как на пугале, висел старый коричневый пиджак. Кончики лацканов торчали вперед козьими рожками. Ярко-синие брюки, видимо, плохо держались без ремня, и старик ежесекундно поддергивал их. На сухом, остром лисьем лице, покрытом сеткой склеротических жилок, тускло светились прозрачные, как льдинки, глаза. Когда Шухов проходил мимо него, старик говорил милиционеру: — Дом-то мой аль нет? Семь тыщ я платил аль не я? А кто меня теперича от убытка отведет? И ежели не хочу горелое брать… Милиционер легонько оттеснил старика от калитки, пропуская Шухова. На крыльцо вышел Кожохин, протянул руку, улыбнулся невесело. На его скуластом лице, в карих глазах явственно читалась растерянность. Шухов подумал, что был несправедлив к Кожохину: перестраховкой тут, кажется, не пахло. Улыбка Кожохина показала ему, что в деле возникла некая загвоздка, которая сбивает с толку молодого следователя. — Сюда, Павел Михайлович. — Кожохин предупредительно распахнул дверь. — Только аккуратней, не запачкайтесь. Закоптело тут все к дьяволу. Я на кухне устроился. Опергруппу и понятых отпустил, труп отправил на экспертизу, а сам сел подумать. Неувязочки тут разные… — Что это за обходчик такой? — спросил Шухов, окидывая взглядом комнату, служившую, вероятно, гостиной. Мебели здесь почти не было. Раскрытый платяной шкаф, в нем набросана кучей мокрая одежда. На столе чемодан с открытой крышкой. На спинке стула серый пиджак. Пол в лужах, в грязи, усеян осколками стекла. Черные от сажи стены. — Железнодорожник, что ли? — Монтер городских электросетей Назаров, — ответил Кожохин и, увидев, что взгляд Шухова задержался на осколках стекла, добавил: — Аквариум у него тут на подоконнике стоял. А зачем разбили его — непонятно. Так сказать, загадка номер один. — Разве есть и другие номера? — спросил Шухов, заглядывая во вторую комнату. — Я насчет загадок. — Есть, — откликнулся Кожохин. — Первосортные, должен сказать. В спальне пожар наделал больше бед. Мрачно чернела обуглившаяся кровать. На ней обгоревшие мокрые книги. Шухов придвинулся, осторожно перебрал их, полистал, пожал плечами. В голове мелькнуло: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Попробуй вот скажи. Сименон, Достоевский, Полевой, Ильф и Петров. Странный ассортимент. Что роднит этих писателей? Что привлекало в этих книгах Назарова? А приобрел он их, видно, недавно: книжки почти новенькие. — Зачем ему телефон? — Шухов кивнул на аппарат, стоявший на прикроватной тумбочке. — Обходчик же, — подчеркнул Кожохин. — Могли ночью вызвать на повреждение. — Да-да, — сказал Шухов. — Я не подумал. Ну что ж, пойдем поговорим, Иван Петрович. Шофер твой мне уже кое-что доложил. Новый, смотрю, у тебя шофер, молодой, любознательный. Версии разрабатывает. — Интересуется, — сказал Кожохин. — Так вот. Из вещей тут еще будильник был. Я его тоже на экспертизу отослал. Мало ли что. Они вышли на кухню. Шухов сел на табуретку. Кожохин устроился рядом, сдвинул на край стола протоколы, заговорил, медленно роняя слова: — Два дня назад Назаров продал дом старику Комарову. Видели его? Шухов кивнул. — Импозантный старикан. — Комаров тут на «Нарыве» фигура, — сказал Кожохин. — Богатый старик, держит пасеку. Медом торгует на базаре. Собрался сына женить. Вот и купил дом. Сделку они с Назаровым оформили как полагается. Деньги Назаров взял наличными. Семь тысяч рублей. Странно, правда? Кто сейчас такие суммы берет наличными? Ну вот, Комарову Назаров сказал будто бы, что из дома съедет в понедельник. А в субботу вечером вдруг заказал такси на воскресенье — на четыре утра. Говорил я с диспетчером парка. Машину они послали как обычно, минут за пятнадцать до назначенного часа. Девушка эта, диспетчер, перед тем как отправить такси, позвонила Назарову. Он ответил, что уже встал и будет ждать машину на улице. Таксист подогнал автомобиль к дому без нескольких минут четыре и увидел пожар. Пока тут ничего странного нет. Правда? — Пожалуй. И потом, я это слышал, — сказал Шухов. — Таксист вызвал пожарников… — А они нас, когда увидели труп. В кармане пиджака, что на стуле висит, мы нашли билет на поезд в четыре тридцать до Сочи. Похоже, что Назаров укладывал чемодан, когда его убили. Денег в доме не обнаружили. Кожохин порылся в бумагах, лежащих на столе. — Теперь слушайте внимательно, — сказал он. — Начинаются странности. Соседи, которых я спросил, говорят, что к Назарову ходила женщина. Некая Лиза Мокеева. Работала она киоскершей «Союзпечати» в ларьке на Красноармейской. — Работала? — Вот-вот. Выяснил я, что она уволилась в тот день, когда Назаров продал дом. Сегодня в четыре тридцать тем же сочинским поездом уехала до Харькова. Ее квартирная хозяйка видела билет. — Ну-ну? — В пять утра я позвонил на первую же крупную станцию. Дежурный следующей сообщил, что Мокееву с поезда сняли. У нее в чемодане оказалась пачка банкнотов. Семь тысяч. Я выслал туда машину. — Что же тут странного? — А то, Павел Михайлович, — хмуро сказал Кожохин, — что без пятнадцати четыре Лиза Мокеева была на своей квартире. Назаров в это время был еще жив. — Н-да, — крякнул Шухов. — Это что же получается? — Получается то, — тихо сказал Кожохин, — что Назарова убили зря. Если, конечно, хотели взять деньги. Или… — Что? — Или деньги тут ни при чем. И Мокеева тоже. — Действительно, — протянул Шухов. — Ну что ж, подождем эту Мокееву. — Подождем, — уныло произнес Кожохин. — Но на этом, к сожалению, загадки не кончаются.Три часа. Пора будить Лизу. Или не тревожить, подождать еще минут пять? Если она будет торопиться, укоротятся эти надоевшие вопросы, недоуменные взгляды. «Виктор, почему ты так спешишь?» Почему? Как он может ответить на этот вопрос? В городе стало много людей. И ему все чаще снится падающий самолет. Разве это ответы? Это страх, который поселился в его душе и от которого некуда деться. Ночью он приходит во сне. Днем заставляет оглядываться. Нет, Лизе он об этом не скажет никогда. Это его страх. Страх-расплата. И хорошо, если только страх. Назаров прислонился лбом к холодному оконному стеклу. Темнота за окном испугала его. Он резко откинул голову, увидел свое отражение. Впалые щеки, пятна вместо глаз. «Как у трупа», — мелькнула мысль. Он задернул шторку, посмотрел на часы. До чего же медленно движется время. Прошло всего полминуты. «Будить? Подождать?» Почему он так нервничает сегодня? Сборы виноваты. Продажа дома. Жизнь выбилась из размеренной привычной колеи. Жизнь… Видел ли он ее? «Жил-был у бабушки серенький козлик…» В четыре, наверное, опять припрется старик Комаров. Как купил дом, так и ходит словно заведенный. Не спится ему. «Дом-то мой теперича». В сберкассе удивился, увидев, что Назаров положил деньги в карман. «Ты, парень, смелый, гляжу. Аль не боишься? Семь тыщ ведь». Старый жлоб. Чучело. Зачем ему, такому старому, деньги?.. «Вздумалось козлику в лес погуляти». Кому это вздумалось? Комарову? Или Назарову? Придет Комаров и станет шаркать ногами по комнатам, стенки выстукивать. «Грибка я, парень, боюсь. Жучки тоже есть. Домоеды. И венцы у твоей избы надо править». И смотрит пронзительно, словно все понимает. Лиза тоже стала смотреть особенно. Ладонь под щеку — и глядит, будто спросить чего хочет, да не решается. А ведь спросит когда-нибудь. Спросит… Еще полминуты отщелкал будильник. Тик-так, тик-так. И в самолете тогда все что-то щелкало. «В лес погуляти». Привязалась эта песенка дурацкая. А какого толстолоба он тогда поймал. Килограммов пять, не меньше. Забыл рыбину на берегу, медведям досталась. Или это огонь трещал в самолете? Хотя почему в самолете-то? Не было уже самолета, когда Назаров подобрался к месту катастрофы. Плавали на болоте обломки. Да белое крыло лежало в стороне. И сбоку летчикова голова скалилась. Страшно! А от того — другого — парня ноги с задницей остались и сумка брезентовая. Видно, на себе ее держал. И все-таки тикало тогда что-то. Тик-так, тик-так. Как будильник. Тик-так. И кусок жизни назаровской отвалился, как крыло от самолета. Восемь лет испуга на две секунды радости променял. В запале все делал, в бреду каком-то горячечном. А может, жило в нем это? Таилось, момента поджидало. «Вздумалось козлику в лес погуляти». Думалось! Родиться бы ему девчонкой, глядишь, и жизнь пошла бы иначе. Случай… Все — случай. И это случай, и он случай, игрушка, каприз природы, ошибка матери. Сейчас у него уже не осталось ненависти к ней. Высохла ненависть, коркой жесткой покрылась. А ведь была: звериная, безотчетная. Когда сообразил, что и мать его ненавидит, когда догадался, за что… Рано он узнал это чувство. Сперва не понимал, мал был, недогадлив. Чувствовал все время ее тяжелый взгляд. Всегда, с той поры, как только стал помнить себя. Даже во сне чувствовал. Вздрагивал, просыпался. Как сейчас… А понял все гораздо позднее… Назаров закрыл глаза и прислушался к тиканью будильника, к сонному дыханию Лизы. И поплыл перед его взором маленький волжский городок на крутом берегу. Золотые маковки церквей, деревянные домики, как затейливые игрушки, древний парк над рекой. Городок его детства и юности. Тик-так… Тик-так… У местного адвоката была дочка-красавица. В шестнадцатом году окончила гимназию. В семнадцатом началась революция. Налаженный адвокатский быт полетел в тартарары. Дочка-красавица пошла работать в библиотеку. Она наизусть знала Надсона, Майкова и Фета, но не имела понятия о том, как добывается хлеб насущный. Надсон об этом не мог рассказать. Тик-так… Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый прошумели над городком, а она все еще читала Надсона. Старый адвокат умер. Мебель красного дерева, ломберные карточные столы, драгоценности, фарфор разнесли из квартиры бородатые мужики. Взамен они давали мешки с мукой. Она пекла из этой муки лепешки и плакала над томиками стихов. И грезила о необыкновенной любви. В двадцать первом в городок приехал на короткие гастроли симфонический оркестр из столицы. Она ходила на все концерты, садилась во второй ряд и упивалась Гайдном и Вагнером. Черный фрак молодого дирижера, его белое интеллигентное лицо пробуждали у нее в мозгу какие-то туманные образы, ассоциировались со стихами о безысходности, о соловьиных трелях в липовых аллеях, о белом платье блоковской Невесты. А угрюмая музыка Вагнера будоражила кровь, звала к решительным поступкам. Дирижер заметил красивую девицу из первых рядов и как-то после концерта подошел к ней. Потом был темный парк без соловьев, жадные руки, расстегивающие платье, и холодная трава. Понять она так ничего и не смогла, разве только то, что Надсон и Майков лгали ей, лгали так же бесстыдно, как и дирижер, показавшийся ей вначале волшебником, а затем просто мерзавцем. Она сочла себя обкраденной. Праздника любви не состоялось, и она перестала посещать концерты. Да и дирижер вскоре уехал, забыв о приключении, о глупой экзальтированной девице. Тем и закончилась необыкновенная любовь. Но плод мимолетного романа уже зрел у нее под сердцем и в двадцать втором появился на свет. У мальчика была странно большая голова с заметной вмятиной на темени и маленькое, какое-то старушечье лицо. Сначала она боялась на него смотреть, потом привыкла, смирилась с его существованием, с криком, с пеленками, с укоризненными взглядами родственников. Смирилась, но сама внутренне сжалась, затаилась. Она сразу подурнела после родов. Красивые черты лица обострились, взгляд стал бегающим, губы она теперь поджимала. Миловидная женщина вдруг преобразилась. Она по-прежнему работала в библиотеке. Однако ничто уже ее не занимало. Она перестала читать стихи, разорвала свои обширные знакомства, уединилась, замкнулась, стала равнодушной ко всему окружающему. Тик-так… Назаров взглянул на циферблат. Прошло три минуты… Конечно, она ненавидела его всегда. Потому что он волею случая оказался сколком с того человека, который, как думала она, испортил ей жизнь. Он не был внешне похож на отца. Сперва он рос уродливым хилым ребенком. Годам к четырем выправился, вмятина на темени стала незаметной под волосами. Но мать все равно не любила его, и он не ощущал никогда ее ласки. Мать одевала его, кормила, следила, чтобы мальчик был чистеньким и сытым. Но все это делалось без внутреннего тепла, без вдохновения, без доброты. Боль, пронизавшая ее существо в тот вечер в парке, осталась в ней, с ней, около нее. Чтобы хоть как-нибудь отомстить дирижеру за эту боль, она подала в суд на алименты. И однажды удивленный дирижер, к тому времени уже имевший некоторую известность, получил исполнительный лист. Он чертыхнулся, изругал себя последними словами, но платить стал исправно. Ей этого показалось мало, она захотела приехать к нему с сыном, написала письмо, в котором между строк ярким факелом пылала ненависть и к дирижеру, и к сыну, и ко всему миру. Но письмо почему-то осталось неотправленным и попалось на глаза сыну, которому было уже четырнадцать лет. Все, что неосознанно улавливалось чуткой детской душой, все вдруг открылось, приобрело определенные очертания и беспощадную ясность. В нем стала закипать ненависть к матери, к ее пустому взгляду, ровному бесстрастному голосу, поучениям и советам. Он стал хуже учиться, хотя и был способным мальчишкой. В наследство от дирижера он получил руки и сметливую голову. Починить часы, выточить какую-нибудь хитроумную штуковину для него не составляло труда. Однажды он собрал радиоприемник из деталей, которые сделал сам. Покупать пришлось только лампы. Мальчишки со всей округи обращались к нему за помощью, когда им требовалась техника вроде самострелов и поджигалок. Сверстники не восхищались его умением, они принимали это как должное, как нечто само собой разумеющееся. Мальчишеская компания жила по своим детским законам, которые не давали права на преимущество талантливым рукам и уму. В этом мире ценились рост, сила и ловкость. А Витька Назаров был слабоват физически. Его поколачивали, несмотря на технические заслуги, его забывали иногда пригласить в лес, на реку. До истории с письмом он не усматривал в этом трагедии. Теперь эта история сыграла роль кривого зеркала, в котором он вдруг увидел себя со стороны. И мутная волна ненависти к сверстникам захлестнула его, потащила, ударила… Петька Рыжков, конопатый коренастый здоровяк и забияка, был признанным вожаком во дворе. Он был единственным обладателем велосипеда, на котором изредка великодушно давал покататься избранным счастливцам. Однажды Витька Назаров нижайше попросил у него высочайшей милости. Петька, занятый в этот день подготовкой удочек, равнодушно отказал. Витька разозлился. Через неделю Петька сумел наехать на камень и сделал на переднем колесе восьмерку. Он приволок велосипед и предложил Витьке исправить повреждение. Витька сочинил такое же равнодушное лицо, какое было у Петьки когда-то, и отказался. Петька, недолго думая, расквасил Витьке нос. Размазывая кровь по лицу и всхлипывая от бессилия, Витька взялся за починку. Мечты о мести навели его на мысль поднести Петьке некий сюрприз. Восьмерку Витька исправил, но кое-какие детали от велосипеда оставил у себя в кармане. Счастливый Петька выехал со двора, благополучно добрался до дому и поставил велосипед в сарай. На другой день он поехал в город и чрезвычайно удивился, когда увидел, что переднее колесо вдруг оторвалось от машины и понеслось по дороге вполне самостоятельно. Впрочем, долго Петьке удивляться не пришлось, ибо нос его уже вспахивал асфальт. Туповатый Петька не сумел связать происшествие с тем, что произошло накануне. На нос ему наложили в клинике скобки, а велосипед опять чинил Витька. Завинчивая гайки, он тайно злорадствовал. Тик-так… Истекла четвертая минута. Его не мучили угрызения совести после истории с велосипедом. Изуродованный Петькин нос напоминал ему только о том, что и он, Витька, может иногда оказаться победителем, оставить за собой право на последнее слово. Он не задумывался над тем, что уж очень поганым было это право. Поганым и стыдным. Ему было важно, что оно снимало с него ощущение беспомощности, создавало иллюзию превосходства над другими. Больше всего он любил досаждать матери. Прятал куда-нибудь ключи от квартиры и с наслаждением наблюдал, как мать, торопясь на работу, бегает по дому с растерянным лицом, заглядывает в ящики, в кастрюли, шарит даже в помойном ведре. В зимние вечера он незадолго до ее прихода вкладывал в электрические патроны мокрые бумажки. Лампочки гасли одна за другой, как только бумажки подсыхали. Витька заявлял, что они перегорели, и отказывался готовить уроки при свете керосиновой лампы. Мать кидалась в поисках выхода к соседям; а он ложился спать и принимался придумывать новые пакости, одну изощренней другой. У мальчишек, пользовавшихся изделиями Витькиных рук, вдруг стали взрываться поджигалки. Это были уже опасные штучки, но он не прекращал ими заниматься, пока не произошло несчастье. Один из пацанов лишился глаз. Витька перепугался, нервное потрясение оказалось настолько сильным, что он заболел и два месяца провалялся в постели. Он ушел из восьмого класса, не закончив школу. Год жил на иждивении матери, потом поступил на курсы электромонтеров… Назаров взглянул на будильник. Это был старый механизм со звонком наверху. По циферблату бежала секундная стрелка. Тик-так, тик-так, тик-так. На кровати, разметавшись во сне, лежала Лиза. Ей было жарко, на верхней губе выступили бисеринки пота, одеяло одним углом сползло на пол. Назаров отвернулся к окну, переступил с ноги на ногу, стараясь не шуметь. Ему вдруг захотелось спать. Спать, чтобы не думать ни о чем, не вспоминать, не бередить душу. Сейчас он разбудит Лизу, она уйдет, и он ляжет, зароется лицом в подушку… Хотя нет, спать нельзя. Нельзя потому, что его ждет еще дело, которое он должен сделать сегодня, до того, как припрется старик Комаров. Не сможет Назаров спать в это утро, некогда ему спать. Тик-так… Тик-так… Три часа пять минут.
Глава вторая
— Фото Назарова тебе не попадалось? — спросил Шухов. Кожохин вынул из-под бумаг дешевую базарную проволочную рамку со стеклом. Шухов с минуту рассматривал портрет, затем аккуратно положил на стол. Вздохнул. Был человек, и нет его. Убили человека. — Два окурка свежих мы тут обнаружили. — Кожохин кивнул на раковину. — Его сигареты, обломки спичек в кончики воткнуты. Была, говорят, у него такая привычка. Чтобы табак в рот не попадал. — А ты, что же, хотел чужие окурки найти? — Да нет. Просто факт констатирую. Курил человек ночью. — Будто сам не куришь. — Бывает, — сказал Кожохин. — Когда не спится. — Ну вот, и ему не спалось. А почему не спалось? Где та веревочка, Иван Петрович, за которую дергать надо? — Поищем, — откликнулся Кожохин. — Вы что сегодня делать хотели? — С книжками возился. — Да, — задумчиво произнес Кожохин. — Билеты вот еще смущают. На один поезд у Мокеевой и Назарова были взяты билеты. На одно число и в разные вагоны. Странно? — Ты не торопись, — сказал Шухов. — Ты о главном думай. — Не пойму я, где оно, это главное. Все утро думаю. Аквариум вот расколотили. Зачем? — Старика Комарова хорошо прощупал? — Скользкий он. Шухов взглянул на часы. — Мокееву-то к тебе доставят? — спросил он. Кожохин кивнул. — Так, может, пока суд да дело, мы навестим старичка? Тут ведь уже ничего все равно не высидишь. А с Комаровым побеседовать необходимо. Как-никак лицо заинтересованное. Старичок пугалом торчал на пчельнике среди голубеньких ульев. Заметив гостей, он двинулся им навстречу, размахивая руками и что-то бормоча под нос.
— Видик у него любопытный, — усмехнулся Шухов. Они подождали старика у крыльца. Комаров с ходу затянул слышанную уже Шуховым песню про горелый дом и убытки от пожара, которые, по его мнению, обязано покрыть государство. Кожохин нетерпеливо прервал его излияния, и старик перестал причитать. Его глазки-льдинки вопросительно уставились на Шухова. — Веди в горницу, дед, — сказал Кожохин. — Разговор к тебе есть. Шаркая ногами по ступенькам, Комаров поднялся на крыльцо. В сенцах долго вытирал башмаки о половик. Шухов и Кожохин последовали его примеру. В обширной кухне у недавно выбеленной русской печи гремела ведрами крупнотелая старуха, жена Комарова. Комаров повесил свою широкополую зеленую шляпу на гвоздь. Шухов с интересом стал рассматривать печку, заглянул на полати, с которых гирляндами свисали остатки лука. Потом взял в руки ухват на длинной палке. Комаров с женой следили за его действиями, не скрывая любопытства. Кожохин понимающе улыбнулся: нечасто сейчас попадаются на глаза эти ставшие уже музейными штуки. — Редкая вещь, — сказал Шухов, повертев ухват. — Люське бы его показать. Никогда ведь не видела. — А и покажи, — откликнулась старуха. Она громыхнула заслонкой, взяла ухват, сунула его в раскрытый зев печи и легко вытащила оттуда ведерный чугун с каким-то варевом. — Н-да, — крякнул Шухов. Старик и Кожохин уже прошли в горницу, он двинулся за ними. В просторной комнате с темными иконами в углу главное место занимала высокая железная кровать со взбитыми подушками, с кружевами, подзорами и еще с какими-то занавесочками на спинках. Напротив — диван. Посредине комнаты круглый стол, накрытый ковровой скатертью, стулья с гнутыми спинками расставлены возле свободных стен. Над кроватью — фотографии под стеклом. Комаров — молодой, усатый — сидит. Рядом, положив ему руку на плечо, стоит жена. Голый мальчик, задрав одну ножку, лежит на животе. Снова Комаров и жена. Мальчику уже лет пять. Он сидит на коленях у матери в матросском костюмчике. Еще какие-то лица. «Живут, как в тридцатые годы», — подумал Шухов, усаживаясь и еще раз обегая взглядом комнату, лакированный красный платяной шкаф, витую этажерку с безделушками на полках, сундук, окованный блестящими железными полосами. Задрипанный вид хозяина всей этой благодати давно канувших в Лету времен плохо гармонировал с обстановкой квартиры. Шухов подумал, что старику лучше подошла бы приказчичья поддевка и мягкие сапоги гармошкой. Может, и есть они у него, хранятся где-нибудь в нафталиновых глубинах сундука, пересыпанные для верности еще и махоркой. Может, надевает их старик в бессонные ночи и бродит призраком по дому, вспоминая то, что было и быльем поросло. Впрочем, чушь все это. Давно приспособился старик к современности. Медом торгует. Деньги на сберкнижке держит. Телевизора, правда, в квартире нет. Но и до этого дойдет. Сына вот женить надумал. А что это за существо, сын его? Где он, кстати? Комаров поправил фитиль в лампадке, перекрестился истово и уселся на кончик стула, ожидая вопросов. Кожохин переглянулся с Шуховым. — Говорите, Павел Михайлович, — сказал он. — Я еще утром набеседовался. Шухов провел ладонью по узорчатой скатерти, разглаживая невидимые складки, прикинул, с чего лучше начать разговор, и спросил, как бы между прочим: — Назарова давно знаете? — А зачем мне его знать? Жил себе и жил… Ты мне скажи вот: за горелое кто платить будет? Аль самому мне прикажешь? Тут рублей на пятьсот ремонту будет. — Заладила сорока, — буркнул Кожохин. Шухов укоризненно взглянул на него. Кожохин умолк. — Насчет оплаты я вам ничего не скажу, — заметил Шухов. — Это не наша компетенция. Мы с вами говорим как со свидетелем по делу… — Это как? — визгливо перебил его старик. — Какой я вам свидетель? Вы меня сюда не впутывайте. Никаких делов ваших знать не знаю и знать не хочу. Разговора не получалось, Комаров увиливал от прямо поставленных вопросов, божился, кричал, требовал деньги на ремонт купленного дома, ругал милицию, недвусмысленно давая понять Шухову, что им с Кожохиным пора бы удалиться из его апартаментов. Шухов уже начал подумывать о том, что они зря теряют время, что старик им не помощник, пока одно оброненное Комаровым слово не заставило его насторожиться. И не столько само словечко, которое было всего-навсего рядовым матерным, сколько интонация, с какой его произнес старик. Словечко-то пустышка, конечно. Так, бранная характеристика Назарова. Но тон! Какой тон! Словно вдруг приоткрылся плотный занавес, и Шухов на секунду увидел актера, снявшего маску, чтобы вытереть потное лицо. Нет, не зря пришли они сюда, в эту горницу, пропахшую лампадным маслом. Старик Комаров знал о Назарове больше, чем говорил. Шухов встал, подошел к кровати, ткнул пальцем в фотографию мальчика в матросском костюмчике. — Сын? — Ну? — спросил старик, щурясь на следователя. — И что теперича? — Где он? — Нету, аль не видишь? — Так куда он делся? Ведь он с тобой живет. Ночевал где? — Дома ночевал, — спокойно ответил старик. — А куда утром ушел, не ведаю. На кухне вдруг что-то загремело, и в дверях возникло разгневанное лицо старухи. — Да что же это ты брешешь, старый греховодник? — запричитала она. — Напраслину на нас возводишь. В лес ушел Митька, по грибы. Еще до свету ушел. Старик подпрыгнул на стуле, откуда только прыть взялась, закричал, забрызгал слюной, пошел на жену, размахивая руками. Она выдержала натиск, продолжая стоять в дверях несокрушимой крепостью. Шухов понял, что скандалы здесь — дело привычное, ждал терпеливо, не вмешиваясь. Кожохин смотрел на эту сцену с каменным лицом, слушал. И по мере того как услышанное усваивалось, лицо его делалось все сердитее. Когда супруги выдохлись, Кожохин открыл свой чемоданчик, достал бумагу и предложил хозяевам повторить показания. — Говорить будете по очереди, — строго сказал он. — И чтобы тихо. Да, старик купил дом для сына. Дмитрий собрался жениться поздно. Ему уже под сорок. Мужик он тихий, хозяйственный, работает слесарем в горкомхозе. В четверг старик с Назаровым оформили сделку. А разговор о купле-продаже дома состоялся давно, может, месяц, может, полтора. Давал ли Назаров объявление о продаже? Нет, не давал. Пришел к Комарову, спросил будто просто так: «Слыхал я, Лек-сеич, что ты сына женишь. А я вот уезжать надумал. Дом не купишь?» Старик осмотрел хоромину, сторговались на семи тысячах. Заплатив деньги, Комаров забеспокоился: Назаров выпросил у него три дня фору для сборов, а мало ли что может за три дня случиться. Вот и случилось. Каждый вечер и каждое утро Комаров навещал Назарова, приглядывал за домом. Сегодня припоздал чуть: Митька в лес собрался, будил его, уж больно сын спать горазд. Во сколько будил? Да часа в четыре, как раз перед светом. Почему сразу не рассказал об этом Кожохину? Боялся, что затаскают по милициям, поди докажи, что не верблюд: Назаров ведь деньги за дом в карман положил. Семь тыщ. Долго ли до греха. — Будем брать Митьку? — спросил Кожохин, когда они садились в машину. Шухов завозился на сиденье, устраиваясь поудобнее, и ответил вопросом на вопрос: — А сам-то ты как считаешь, Иван Петрович? — Не верится, — вздохнул Кожохин. — Хотя формальные основания вроде есть. Алиби уМитьки отсутствует. Но ведь это ни о чем не говорит. И мотивов тоже не видно. — Да, мотивов с этой стороны не видно, — согласился Шухов. — А может, удрал уже Митька? — предположил Кожохин. — Поглядим, — лаконично произнес Шухов. — Машину за ним послать надо, конечно. Кстати, ты заметил, что у Комарова телевизора нет? — Какое это имеет значение? — Вот и я думаю: какое? На всем «Нарыве» антенны торчат, а у Комарова и Назарова нету. — Сродство душ, что ли? — хмыкнул Кожохин. — Вы уж больно далеко забираетесь, Павел Михайлович. — Черт его знает. Мало мы еще знаем пока. Ползаем в темноте. Окурки собираем. Помолчали. Шухов вытащил сигарету, повертел ее в пальцах. Сказал: — Комарова ты правильно определил. Скользкий он, верно. Юлит, запутывает. На Митьку тень, по-моему, он сознательно набрасывал. Знал, что старуха не выдержит, вмешается. Уверен он, что с Митькой все в порядке. Я так думаю: Митька этот ни сном, ни духом не подозревает о происшествии. Он действительно ушел по грибы. А вот старик чего-то опасается, поэтому и крутит. Может, дела у него с Назаровым были тайные. Мы ведь и о Назарове ничего не знаем. Обходчик. И все. — Да нет, — возразил Кожохин. — Знаем, что жил здесь восемь лет. Что приехал с Дальнего Востока. Не судим. Не пьет. — Не пил, — поправил Шухов. — На кой черт нам все эти «не», когда мы не можем внятно сказать ни одного «да». — Мокеева скажет, — проворчал Кожохин… И вот она сидит перед Шуховым, испуганная, ошеломленная, ничего не понимающая. В синих глазах блестят слезы. У нее привлекательная внешность, сильные маленькие руки, красивая фигура. На взгляд лет тридцать. По паспорту — тридцать пять. — Имя, отчество, фамилия? — Елизавета Петровна Мокеева. — Место работы? — Я не работаю, уволилась. — Почему? — Уезжаю. К сестре в Харьков. Железнодорожный билет лежит на столе перед Шуховым. Он куплен еще в прошлый понедельник в кассе предварительной продажи. Тут же паспорт, трудовая книжка. Пачка банкнотов. В паспорте значится, что Елизавета Петровна Мокеева замужем за Мокеевым Эдуардом Васильевичем. — Ваш муж живет в городе? — Мы разошлись с ним. — Он сейчас в городе? — Да. Я ушла от него три месяца назад. Квартиру оставила ему. — Когда вы познакомились с Назаровым? — Два месяца назад. — При каких обстоятельствах? — Он покупал у меня газеты. Разговаривали. Потом пошли в кино. — Давно он покупал у вас газеты? — Месяца два. — Ваш муж знал Назарова? Секундное замешательство. Спокойный ответ: — Нет, не знал. — Вы поссорились с мужем? — Нет, просто ушла. С ним трудно жить. Он… — Что? — Ну, я ему не нужна. Он увлечен какой-то ерундой. Изобретает что-то. Квартиру загадил. Магнитов натащил разных. На балконе телескоп стоит… — Как муж отнесся к вашему уходу? — А зачем вам это нужно? Не все ли равно как? По-моему, даже не заметил, что я ушла. — Хорошо. Вы утверждаете, что Назаров отдал вам деньги сегодня утром. Почему именно сегодня? Почему этого нельзя было сделать раньше и взять аккредитивы? — Он… Он хотел выписать аккредитивы. Но потом… — Не торопитесь. Расскажите подробнее. — Ну, мы в пятницу пошли в сберкассу. Вышли к остановке. Ждем трамвая. И тут Виктор вдруг говорит: «Мне что-то нехорошо». И предложил вернуться. А в субботу днем я занималась стиркой, готовилась к отъезду. Пошла к Виктору, когда сберкасса уже закрылась. Утром он отдал мне деньги. — С какой целью Назаров это делал? — Я должна была присмотреть дом. Виктор сказал, что приедет позднее. — Когда он собирался выехать? — Мы вместе покупали билеты. Он взял на понедельник, на завтра. Сказал, что должен еще заехать в Курск, к родственникам. Обещал через неделю встретиться. Шухов мысленно чертыхнулся. У Назарова в нагрудном кармане пиджака лежал билет до Сочи. Пиджак висел на спинке стула. Билет был на поезд в четыре тридцать. В воскресенье. И вчера он заказал такси на четыре утра.
Три часа пять минут. В доме сонная тишина. Только будильник тикает. Назаров не разбудил Лизу в назначенное им самим время. Решил: пусть еще поспит несколько минут, не стал входить в спальню, пристроился в неудобной позе у стола: стул стоял неловко, а двигать его он не хотел. Через открытую дверь поглядывал на Лизу, на циферблат будильника. Бежит секундная стрелка, бежит по кругу, создавая иллюзию движения. И так же бегут мысли Назарова. Все время по кругу, все время возвращаясь к одной и той же исходной точке. И представляется Назарову, что жизнь его тоже попала в кольцо, из которого нет выхода. Уедет он, и кольцо переберется с ним вместе. Кольцо ли? Стена глухая. А ведь думал о счастье. Бежал к нему. А оно от него убегало. Всегда. Сколько помнил себя. …Он встретил слепого в сороковом году. Того слепого мальчишку, который пронзительно кричал, когда ему выжгло глаза взрывом паршивой поджигалки. Четыре года Назаров боялся этой встречи, четыре года за версту обходил дом, где жил слепой. Думал: знает слепой, ждет своего часа только. Потом, с годами, понял, что напрасен его страх: не может слепой знать ничего. Если бы знал, так давно бы указал на Витьку. Доведись его судьба Витьке, так ни на секунду не задумался бы, отомстил бы. А слепой молчал. Значит, не знал. Поняв это, Назаров захотел посмотреть на слепого, прикинуть, как калеки устраиваются, чем живут. Любопытно это было ему. Он знал, что слепой работает в механической мастерской ВОС. Мать как-то упомянула о нем: приходил в библиотеку. И Назаров стал ходить по тем улицам, где, по его предположению, легче встретить слепого. На третий день это и произошло. Он увидел слепого издали. Тот шел, легонько постукивая палочкой по стенам домов. Темные очки закрывали изуродованные глазницы. Шел он быстрой летящей походкой, помахивая палочкой. И если бы Назаров не знал его, то и не заподозрил бы, что перед ним человек с вечной ночью в глазах. «Освоился, — подумал Назаров и сглотнул слюну. — Ишь как мчится. И не споткнется». Он дернул слепого за рукав, остановил. — Витька? — спросил тот удивленно. — А я думал, что ты в армии. Куда ты делся вообще? — Работаю, — сказал Витька, отводя взгляд от черных очков. Ему вдруг показалось, что слепой и не слепой вовсе, что он притворяется, а на самом деле видит Витьку насквозь, что знает он все про поджигалку с испорченным стволом; знает и молчит, ждет до поры, чтобы выбрать момент и ударить побольнее. С трудом удержался, не сорвался с места, не побежал. — Работаю, — выговорил снова, боясь встретиться глазами с черными очками, хотя и был уверен, что слепой не может видеть его побледневшего лица. — А в армию меня не взяли. По здоровью, — добавил он, сообразив, что надо что-то говорить, не молчать только, не выдавать своего испуга. Слепой не заметил волнения. А может, вид сделал, что не заметил. Заговорил о дружках-товарищах, о девчонках знакомых, о работе своей. Потом заторопился, сказал, что опаздывает: кружок какой-то там у них собирается, а он староста. Пригласил Витьку заходить прямо домой, адрес напомнил. Руки вот только почему-то не протянул, повернулся, пошел в сторону, помахивая да постукивая палочкой. Вечером Витька валялся в кровати и все раздумывал: почему слепой не подал руки? Решил, что, наверное, обычай такой у них, у незрячих: неудобно невесть куда в темноту руку совать, обыкновенному человеку смешно показаться может. Решил так и успокоился: не знает ни о чем слепой, не догадывается. Через несколько дней потянуло его снова к слепому. Пришел. Мать проводила Витьку в комнаты. Подивился на толстые огромные книги. Потом чай пили, болтали. Попозднее явилась соседская девчонка, темноволосая, с красивым строгим лицом и карими добрыми глазами. Познакомились, назвалась Аней. Слепой при ней сразу как-то обмяк, застеснялся. «Любит, — подумал Витька про него, безмерно удивляясь своей догадливости и поражаясь в то же время этому открытию. — Да как же это он? На что ему надеяться? Болван безглазый». Но шли дни, и Витька убедился, что слепой пользуется взаимностью. Девчонка заканчивала техникум, слепой говорил, что она скоро станет медсестрой. Про себя он молчал, но Витька видел, что и он возится с книжками, ходит на лекции. Тянется! Живет! И чувствует себя счастливым, чего про себя Витька сказать не мог. У Витьки слепой стал вызывать злобу. У Витьки были о счастье свои понятия. Он твердо верил воспоминаниям матери о сладком адвокатском житье в былые годы, когда она пускалась в рассказы о балах и нарядах, о гостиных, сверкающих позолотой, об обедах на серебре с осетриной от самого Елисеева, об ужинах с картами, о красивых женщинах в шуршащих шелковых платьях. Он знал, что у адвоката денежки водились. Когда ему было пятнадцать лет, Витька вбил себе в голову, что адвокат спрятал где-нибудь в доме клад. Он лазил на чердак, выстукал стены, отодрал в одной из комнат половицы, разрыл землю в подвале, однако ничего не нашел. Через год страсть кладоискательства прошла, но в мозгу прочно и тревожно осел золотой туман. — Что бы ты сделал, — спросил он как-то слепого, — если бы клад нашел? Слепой не понял сразу. Потом сказал задумчиво: — Отдал бы. — Кому? — чуть не закричал Витька. — В мастерскую. Купили бы два новых станка. — Почему два? — Ну, три. Это еще лучше. Витька с сожалением посмотрел на него. Слепой не видел его взгляда. — А я бы… — начал Витька, но задохнулся, умолк. Черные очки выжидательно уставились на него. «Стекла, — подумал Витька. — Это только стекла». Через месяц они уже не встречались. И виноват был опять Витька. Он так и не отвык от своей любви к мелким пакостям. Увидев на улице Аню, увязался за ней, стал расспрашивать про слепого, удивлялся его работоспособности и жажде жизни, заставил Аню пооткровенничать. А подойдя к калитке, повернул девушку к себе, засмеялся и в упор бросил: — Как же это ты с ним, а? С незрячим-то? Мыкаешься ведь, а? У Ани задрожали губы, на глаза навернулись слезы. — Дрянь, — тихо сказала она. — Я давно поняла, что ты дрянь. И ушла. А он стоял у калитки, глядя ей в спину, и усмехался странно. Тогда он не понимал, что это зависть. Тогда ему было только восемнадцать лет… Он не знал, что такое любовь, ни в восемнадцать, ни в двадцать пять, ни в сорок шесть. Мать могла бы сказать, что он не знал любви никогда, начиная с первого часа своего рождения. Однако его привлекала физиологическая сторона отношений между мужчиной и женщиной. Тайные желания раздирали душу и ум. Да и тело требовало своего. Он хотел бы обладать всеми женщинами. Но ему почти ничего не доставалось. В юности Назаров относил это отсутствие женского интереса к своей персоне, это равнодушие, с которым женщины проходили мимо него, к особенностям своей внешности. Он не любил смотреть на свое отражение в зеркале, потому что зеркало показывало ему отнюдь не киногероя. Он хотел бы походить на Кторова — экранного кумира тех времен. Холодное стекло бесстрастно заявляло, что его внешность не несет в себе демонических черт. И хотя он не любил свое отражение, но любил себя. И поэтому злился на женщин, которые, как он думал, избегают его из-за того, что очень высоко себя ценят. Назаров ошибался. С самого детства он был уверен, что жизнь с ним обошлась жестоко. А жесток был он. Как-то, когда он разговаривал со слепым о смысле жизни и о счастье, тот заметил, что все разнообразие человеческих отношений, в сущности, можно свести к несложной формуле. «Ты нужен людям, пока отдаешь, — сказал слепой. — Когда начинаешь только брать, ты перестаешь быть членом общества и теряешь право на уважение». Слепой добавил, что и в любви так. А Назаров считал, что не так. Он не верил слепому. Откуда у слепого может взяться мудрость? Из толстых книг с выпуклыми буквами? Чушь. Назаров тоже читал книги. Но книжные прописи не укладывались в сознании, не соотносились с жизнью, которой он жил. Слепой был дураком. Он не искал кладов, не мечтал о красивых костюмах, о ресторанах, в которых молчаливые подтянутые официанты подносят денежным клиентам осетрину на серебряных тарелках и, угодливо изгибая спины, ждут чаевых. Слепой, он и есть слепой. Правда, Назарова смущала любовь Ани к слепому. Он не понимал, за что можно любить урода. А выглядел слепой счастливым. И Аня тоже. Со слепым он решил больше не встречаться. Слепой, по мнению Назарова, был исключением из правила. Теперь Витьку манил парк. В парке над Волгой по вечерам горели фонарики над танцплощадкой. Духовой оркестр гремел медью. Кружились пары. Знакомились. Влюблялись. Бродили по затемненным липовым аллеям, целовались, клялись в вечной верности. Назаров ходил сюда, покупал билет на танцплощадку, смотрел, как кружатся пары под фокстрот «У самовара я и моя Маша». Но вскоре ему надоело бесцельное стояние, и он пригласил на танго сероглазую смешливую девчушку, которую приметил накануне. Так начался его первый роман. Девчушка как-то легко потянулась к нему. Назаров показался ей интересным парнем, занятным собеседником. Он умел рассказывать разные смешные истории; подарил какую-то чудную брошку, которую сделал сам из куска серебряного венчика, отломанного от иконы из материнского киота. Дней через пять они перестали ходить на танцы, целовались в темных уголках, болтали о разной милой чепухе. Потом было то, что казалось девчушке любовью, а Назарову — счастьем обладания. А еще через несколько дней она спросила: — Почему ты стал так груб со мной? Поводом послужил ее вопрос о матери Назарова. Он сказал, чтобы она не лезла к нему с глупостями. — Все вы кошки, — сказал он зло. — Ты что, воображаешь, что я женюсь на тебе? А она и в самом деле вообразила. Она ждала, когда он познакомит ее со своей матерью. И спросила об этом. Он же грубо обозвал ее кошкой. — Уйди, — сказала она. — Ты мне противен. — Подумаешь, — ответил он и ушел, чувствуя себя победителем. Фонарики над танцплощадкой по-прежнему светились манящими огнями. И ему казалось, что все осталось по-прежнему. Кроме того, что он стал ощущать себя сильнее. А вечером, стоя перед зеркалом, он увидел в своем отражении нечто такое, что даже ему понравилось. Он понял в этот вечер, что жизнь гораздо проще, чем он себе воображал. Слепой врал: брать можно было без отдачи. Война не опалила его жгучим крылом, пронеслась над ним черной птицей. Четыре года он вертелся в тылу, в автобате, чинил машины. На фронт его не посылали по той же причине, по какой в свое время не взяли в армию. Врачи находили у него туберкулез. Процесс затухал на время, потом приходили обострения. А после войны болезнь совсем заглохла, хотя особых стараний к лечению Назаров и не прилагал. Он не вернулся к матери. В сорок пятом автобат был переброшен на Дальний Восток. Там Назаров демобилизовался, там и остался. Хотелось подзаработать. Завербовался в леспромхоз, устроился электромонтером. Платили здесь хорошо, и он завел сберкнижку. Рассчитывал за несколько лет поднакопить деньжат. Мечтал по ночам о том, что через какое-то время станет богатым, считал, складывая в уме трехзначные цифры. Злился, что денег будет все-таки мало. Жил скучно, одиноко и тихо. Работал, правда, на совесть, начальство его уважало и отмечало. Но он-то знал, что дело не в совести. Просто работа давалась ему легко, без усилий. Он и на работе ухитрялся не отдавать всего себя… Три часа десять минут. Назаров спохватился, сорвался с места и быстро прошел в спальню. Позвал тихонько: — Лиза, пора. — Уже? — сонно спросила женщина, сбрасывая одеяло. — Да, пора. Он смотрел, как она одевается, и думал о том, что опять останется в одиночестве со своими мыслями. Ему очень не хотелось, чтобы она уходила. Очень… Но ему надо было, чтобы она ушла сейчас. Ибо его ждало дело, которое требовало уединения.
Глава третья
— Значит, вы утверждаете, что Назаров брал билет до Курска на понедельник? Шухов внимательно смотрит на женщину. Она выдерживает его взгляд. Она даже как будто не понимает этого вопроса. Тогда Шухов достает другой билет, тот, который лежал в кармане пиджака в на-заровской квартире, но медлит, не показывает ей. Ему приходит в голову еще вопрос. — А вы не заметили, куда Назаров положил купленный билет? Где он был, когда вы уходили сегодня утром? Женщина задумывается. Шухов видит, что она мучительно соображает, в чем тут дело. Она еще не примирилась с тем, что ее Виктора больше нет, что случилось нечто страшное. А ее спрашивают о каком-то билете. Ей надо ответить, где лежал этот билет. Шухов видит, что ее снова душат слезы, что она борется с ними. — В нагрудном кармашке пиджака, — наконец вспоминает она. Да, он лежал там, этот билет. Она видела его, когда перевешивала пиджак Виктора с одного стула на другой. Виктор, ложась спать, накинул пиджак на ее платок. Утром она сняла его, повесила на другой стул. И видела картонку, торчащую из кармашка. Конечно, это был билет. — Кто убил Виктора? — глухо спрашивает она. Шухов не отвечает, задает свой вопрос: — Чем вы объясните вот это? — Он бросает на стол билет, который лежал в кармане убитого. — У Назарова мы нашли билет до Сочи. — Я… Я не знаю, — теряется женщина. — Неужели он меня обманывал? Зачем же он дал мне столько денег? «Да, — думает Шухов. — Да. Странно все это, очень странно». — Уточните, когда вы вчера пришли к Назарову? — По-моему, в девять вечера. Было уже темно. Было уже темно. А в семь Назаров заказал такси. Перед Шуховым лежит бумага, на которой записан разговор Кожохина с диспетчером автопарка. Кожохин. Припомните с самого начала вашу беседу с клиентом. Он позвонил вам в субботу вечером? Диспетчер. Да. Заказ принят в семь часов. Кожохин. Что он говорил? Диспетчер. Назвал фамилию. Адрес. Номер телефона. Попросил прислать машину к четырем часам утра в воскресенье. Сказал, что поедет на вокзал. Кожохин. Дальше. Диспетчер. Без четверти четыре я позвонила клиенту. Кожохин. Вы сами звонили? Диспетчер. Да, я. По графику я дежурю с шести вечера субботы до шести утра воскресенья. Кожохин. Итак, вы позвонили? Диспетчер. Без четверти четыре. Он поднял трубку, сказал: «Назаров у телефона». Я сказала: «К вам вышла машина номер 24-23». Он сказал: «Спасибо. Буду ждать на улице». Еще один протокол. Показания шофера такси. «Я, водитель такси N 24-23, Иван Тихонович Загоруйко, подал машину к дому N 18 по улице То-полевской в воскресенье в четыре часа. Клиент, уже предупрежденный диспетчером по телефону, сказал, что будет ждать такси на улице. Я прибыл на место ровно в четыре часа. Клиента не было видно, а из форточки валил дым…» «А из форточки валил дым», — подумал Шухов. Выходит, что Назаров обманывал Мокееву в этой истории с поездами. Но цена? Семь тысяч! Или Мокеева сейчас обманывает Шухова. Но не верится в это, не может Мокеева обманывать. Весь шуховский опыт протестует против такого предположения. И тут же ему приходит в голову другая мысль. Опыт. А что такое, в сущности, опыт? Каждый из нас накапливает свой личный жизненный опыт. Мы опираемся на него, действуем сообразно с ним, поучаем других исходя из собственного опыта, которым гордимся, как хорошо подогнанной одеждой. Мы несем багаж своего опыта по жизни, пополняем его. А бывает, и останавливаемся. Считаем, что хватит. И тут мы становимся нетерпимыми к чужому мнению: оно кажется нам неверным, потому что противоречит нашему. Мы перестаем мыслить, начинаем мешать окружающим, а думаем, что они мешают нам. Полезный груз опыта превращается в гири, которые только оттягивают руки. Но мы этого уже не хотим ни понять, ни признать. Очень похоже на старость, и часто этот процесс сопутствует ей. Но это не старость, а некий психологический барьер, потолок, выше которого сумеешь подняться только тогда, когда поймешь, увидишь его, осознаешь. Грош цена шуховскому опыту, если он сейчас ошибается в Мокеевой. Конечно, она не убийца. У нее есть алиби. Он даже готов поверить, что Назаров сам вручил ей семь тысяч рублей. Что подтверждает ее слова? Бесспорное алиби. Во-первых, Кожохин выяснил, что она ушла из дому, когда Назаров был еще жив. Для того чтобы вернуться, у нее не было времени. Это во-вторых. Без четверти четыре Мокеева была у себя на квартире. Деньги были у нее. Стоп! А если не у нее? Если ей отдал эти деньги кто-то другой? Мог убийца вручить ей деньги на вокзале? Да, это могло быть. И тогда вся история выглядит иначе. Не было никакого билета до Курска. Назаров продал дом, собрался ехать в Сочи. Мокеевой он никаких денег не давал. И вся игра. Мокеева — эпизод в жизни Назарова. Он ей сказал «адью». А она захотела воспользоваться деньгами. Последняя ночь. Ссора! Назаров курит, нервничает. Мокеева уходит рано. У нее уже все задумано. После ее ухода в квартиру к Назарову входит убийца. Удар ножа. Хотя нет. Без четверти четыре Назаров еще жив, укладывает чемодан, разговаривает по телефону. Ну что ж, убийца мог знать о заказанном такси, а мог и не знать. Скорее всего не знал. Он пришел без десяти четыре, убил Назарова, забрал деньги и поджег дом. Конечно, он не знал о такси. Иначе поджог теряет смысл. Все укладывается в версию? Кажется, все, если отбросить старика Комарова… Если отбросить… Значит, побоку психологические нюансы? А если Мокеева говорит правду? Если был билет до Курска? Кстати, и Комарову Назаров сообщал о том, что освободит дом в понедельник. Комарову тоже верить нельзя? Но ведь не могли же сговориться Комаров с Мокеевой? Уж очень неправдоподобно выглядело такое предположение. «А в семь Назаров заказал такси». Против этого факта не попрешь. Билета в Курск могло не быть. Билет до Сочи лежал в нагрудном кармашке пиджака. Мокеева разошлась с мужем три месяца назад. Через месяц встретила Назарова. Муж Мокеевой? Еще одна фигура. Почему Мокеева смутилась, когда Шухов спросил, знал ли ее муж Назарова? «Нет, тут надо подразобраться». Шухов нажал кнопку под столом. — Мы продолжим разговор попозже, — сказал он Мокеевой. И позвонил Кожохину. — Нашли Митьку? — спросил он, когда они встретились. — Нет еще. — Ну ладно. Пока суд да дело, надо маленькую проверочку устроить. Тут еще одно лицо выплывает. И Шухов рассказал Кожохину о допросе Мокеевой и о ее муже, с которым он не прочь познакомиться. — Поедем к нему? — лаконично спросил Кожохин. — Да, поглядим, что это за изобретатель… Есть люди, которые, доживая до преклонного возраста, не приобретают права на уважение окружающих. Никто из соседей, например, не знает полного имени такого человека. Его до седых волос зовут уничижительно ласково Колей или Леней, обращаются с ним подчеркнуто фамильярно, словно с несмышленышем; знакомые беззастенчиво пользуются его простодушием, за услуги, оказанные им, расплачиваются не благодарностью, а смешком. Когда такой человек попадает в веселящуюся компанию, то по молчаливому сговору присутствующих избирается мишенью для острот. Шуточки разного калибра сыплются на его голову как из рога изобилия, а он только ухмыляется молча или хохочет вместе со всеми над своей неполноценностью. Его еще в детстве убедили, что он не такой, как другие, что у него мозги «с заскоком». А «заскоком» может быть что угодно, выходящее из привычного ряда, любовь к животным или страсть к изобретательству. Родители обычно считают его бестолковым, мальчишки, заметив изъян в его поведении, отмечают это обстоятельство метким липким прозвищем. Когда он становится постарше, то парни, рисуясь перед красивой девушкой на танцульке, обязательно покровительственно хлопают Колю или Леню по плечу, предлагая ему сделать что-нибудь такое, чего Коля или Леня сделать заведомо не может. Девица при этом кокетливо хихикает, поглядывая на парня, достоинства которого выигрывают в ее глазах от сравнения с Колиными или Лениными недостатками. Эдуард Мокеев был таким человеком. Шухов понял это, как только бросил взгляд на обстановку квартиры, на лицо изобретателя. И он подумал: «Похоже, сюда мы приехали зря». — Мокеев? Это какой Мокеев? Эдя, что ли? — спросила женщина, выносившая из подъезда ведро с мусором. — Господи, так бы и говорили. А то — Мокеев. Какой такой Мокеев? А Эдя — эвон он. В третьем подъезде квартира, на втором этаже. Рядовая однокомнатная квартира выглядела странновато даже для привычных, казалось бы, ко всему следователей. На том месте потолка, где полагалось быть люстре, висела огромная железная гребенка. В углу — гора журналов и книг. Шухов сразу вспомнил свою неприбранную библиотеку. Над кроватью, прямо над изголовьем, торчал рогатый, со стальной просинью магнит. На письменном столе в беспорядке громоздились разного калибра линзы, обрезки медных трубок, аккумуляторы и еще какие-то приборы. Тут же стояло несколько граненых стаканов, опоясанных железными кольцами. Сбоку от кровати — небольшой верстачок с тисками, инструментами, мотками проволоки. Хозяин, бритоголовый, не старый еще человек, в роговых очках, одетый в вылинявшую гимнастерку, заправленную в брюки, вопросительно оглядел гостей и скороговоркой произнес: — Если вы насчет электроэнергии, то пришли напрасно. Да. Я плачу исправно. В этом отношении у меня все в ажуре. Напрасно, напрасно. — Мы из прокуратуры, — перебил его Кожохин. — Не понимаю. — Человек смешно вздернул плечи. — Я для вас не представляю интереса. Так что это напрасно. Вот разве паспорт, — вдруг спохватился он, кинулся к столу, захлопал ящиками, нашел темную книжечку, близоруко заглянул в нее и торжественно произнес: — Нет, не просрочен. — И вновь принялся повторять полюбившееся, видно, словечко «напрасно». — Чем вы тут занимаетесь? — с любопытством спросил Шухов, рассматривая странную окраску стен. Одна из них была как будто покрыта пылью. Две другие пестрели обычными цветочками наката. Зато четвертую словно покрыли сажей. Он подошел к черной стене, потом поглядел на гребенку под потолком и сообразил, что квартира превращена в гигантский работающий конденсатор или что-то в этом роде (Шухов не силен был в электротехнике). Пыль электризовалась и оседала на одной из стен. «Ничего себе пылесосик», — усмехнулся Шухов. А продолжавший недоумевать Эдя разъяснял тем временем, что его занятия непредосудительны, опасности для окружающих не представляют и он просто не может понять, чем обязан визиту товарищей. «Глупости какие-то, — подумал Шухов. — Эдя этот». И бросил взгляд на Кожохина. Тот едва заметно качнул головой, словно соглашаясь. Но уходить они не торопились. Хоть и чудной парень Эдя, но нужно было и порасспросить его кое о чем. — Что вы делали сегодня утром? — спросил Шухов. — Утром? Когда утром? — Ну, так часа в четыре? — А что, — забеспокоился Эдя. — Соседи жаловались? В четыре часа я обычно подвергаю свой организм воздействию магнитного поля. Популярно? Включаю рассеиватель, — он указал на гребенку, — и ложусь в кровать. У них, видите ли, иногда слышится шум. Стенки тонкие, дом панельный. «Чушь какая, — мелькнуло в голове у Шухова, — подумать, что этот человек — убийца. Нет, надо закругляться». — А он здорово шумит, рассеиватель ваш? Эдя щелкнул выключателем. Раздался тонкий свист, постепенно перешедший в ровный гул. В стенку, ту, которая была почернее, застучали. Эдя смутился. Шухов улыбнулся. Кожохин незаметно для Эди покрутил пальцем у виска. — Мешает им, понимаете, — сказал Эдя. Когда они транзистор крутят, я не стучу. Шухов резонно заметил, что они, наверное, делают это днем. И потом, вообще баловство с электричеством в квартирах запрещено. Эдя разразился длинной тирадой, из которой явствовало, что его занятия опасности для окружающих не представляют, расход электроэнергии не превышает обычной нормы, положенной для бытовых приборов, а лаборатории в его распоряжении нет, так что вот… приходится. Затем он перешел к существу дела, рассказал, что его работы имеют важное значение, что он на грани открытия, которое перевернет все представления о магнетизме. Он предложил Шухову выпить стакан намагниченной воды. Тот покачал головой. «Напрасно, — сказал Эдя. — Ваши сосуды очистились бы от холестерина». — «А зачем вам телескоп?» — спросил Шухов. «Это хобби, — сказал Эдя. — Может ведь быть у человека хобби?» Из дальнейшего разговора выяснилось, что Эдя работает счетоводом на хлебозаводе, что жена от него ушла, потому что не хотела спать под магнитом. «А Назарова вы случайно не знаете?» — спросил Шухов. Эдя ответил, что не знает, но если он писал что-нибудь о магнетизме, то Эдя хотел бы об этом услышать. Шухов ответил, что, насколько ему известно, Назаров этими вопросами вряд ли интересовался. Кожохин во время этого содержательного разговора молча сидел на табуретке, играя скулами. А когда они распрощались с изобретателем и вышли на площадку, сказал: — Неудивительно, что его жена бросила. Он же определенно чокнутый… — Одержимый, — поправил Шухов. — Я встречал таких людей. Обычно они изобретают велосипеды. Но… всякое бывает. — А вы уверены, что в четыре часа он был дома? — Проверь, — лаконично ответил Шухов. — Позвони к соседям. — И стал спускаться по лестнице, решив окончательно выкинуть Эдю из головы. Кожохин все-таки позвонил. Брякнула цепочка, дверь приоткрылась, Кожохин произнес несколько слов. Дверь открылась пошире, послышался чей-то возмущенный тенорок. Через минуту Кожохин нагнал Шухова и молча пошел рядом. — Убедился? — спросил Шухов. — Ну и вшивое дельце нам досталось. Закорючки какие-то. Вместо людей монстры. Я, знаете, жрать хочу. Башка уже кругом идет. Зря мы отпустили машину. Они свернули на бульвар. Под деревьями дымились кучи опавших листьев. Город чистился, готовясь к зиме. Дворники жгли листья, чтобы они не гнили где попало, не загрязняли асфальт. Шухов слышал, что это вредит деревьям. Может быть, это было и так. А может, и не вредит. Он хотел подумать о листьях, чтобы отвлечься от мыслей о странном деле. Но эти мысли не уходили. «Монстры», — сказал Кожохин. А кто же еще? Ангелы убийств не совершают. Убивают монстры. — Что ж, — сказал он Кожохину. — Я тоже не против чего-нибудь съесть. Но сначала забегу в прокуратуру. Мокееву надо отпустить домой. Говорить, с ней сейчас не о чем. Лиза Мокеева за эти часы успела как-то странно измениться. Лицо осунулось. В глазах появился сухой блеск. Она поднялась навстречу Шухову и тихо сказала: — Я должна признаться, что обманывала вас. Шухов удивленно поднял брови. Только этого еще не хватало. Если она сейчас признается в убийстве, то что же это значит? — Да, — звонко произнесла женщина. — Я не все сказала. Он следил за мной. — Кто? — вырвалось у Шухова. — Муж. Последние дни он каждое утро крадучись провожал меня до самой квартиры. Я ведь уходила от Виктора рано, затемно. Киоск открывать надо было в шесть часов. И каждый день я видела мужа, следовавшего за мной по пятам. «Вот так так», — подумал Шухов и мысленно чертыхнулся, вспоминая роговые очки Эди, стакан с намагниченной водой и железную гребенку под потолком.Три часа двадцать минут. Один. Лиза ушла. Единственная женщина, к которой Назаров относился не так, как к другим. Ушла… Стук ее каблучков еще отзывался в ушах. Стук каблучков и щелчок английского замка на входной двери. Лиза ушла, и снова дремотная утренняя тишина стала окутывать его теплым невесомым одеялом. — Значит, договорились, — сказал Назаров. — Конечно, Витя. Она причесалась, смотрясь в оконное стекло. Зеркало уже было продано. — Поешь что-нибудь. Там, на кухне, есть колбаса. — Ладно, обойдусь. Я и так, кажется, толстею. — Ну пока, — сказал Назаров, притягивая ее к себе. Она на секунду прижалась к нему, торопливо поцеловала. Щелкнул замок. Простучали каблучки за окном. Тишина. Три часа двадцать минут… Единственная женщина, которую он, кажется, полюбил. За что? Почему? Может, пришло время и ему полюбить. Как поздно и как несправедливо!.. И опять длинной вереницей потянулись назойливые, ненужные воспоминания. В них не было места тому основному, что составляет обычное содержание жизни человека. И он ведь, как и все люди, трудился, делал что-то, возможно, даже полезное. Но он никогда не задумывался об этой стороне жизни. Его хвалили, ему поручали сложные работы. И он выполнял их и получал благодарности. Однако точно так же можно было благодарить робота, бесчувственный механизм, которому недоступны радости творческого труда. Назаров, в сущности, и действовал как робот. И в его воспоминаниях не откладывалось то, что относилось к работе. Зато мелочи, какие-то совершенно ненужные мелочи, прочно оседали в голове. Однажды он на охоте промазал по зайцу. Услужливая память до сих пор донесла разочарование, которое он испытал в тот момент. Руки помнили, как дернулось ружье после выстрела, глаза видели удирающего зверя, который, как показалось тогда Назарову, и удирал-то с каким-то торжеством, словно зная, что у охотника нет во втором стволе патрона… Годы в леспромхозе летели, как курьерские поезда. Ни станций, ни полустанков. За окном его квартиры билась большая жизнь, а он не видел ее, не ощущал, не хотел принимать. Раз в полмесяца он приходил в сберкассу, выписывал приходный ордер, а вечером складывал в уме трехзначные цифры и шептал: «Мало». Он даже не знал толком, зачем ему нужно много денег. Назаров имел возможность хорошо одеваться, накопленной суммы хватило бы, чтобы съездить на курорт. Но это было не то. А «то» он представлял в тумане. «То» оборачивалось иногда давно виденной картинкой из иностранного иллюстрированного журнала. Красивая женщина стояла возле длинного лимузина, бесстыдно задрав ногу на крыло. «То» приходило иногда в сонном мареве, когда и понять и запомнить, что же оно такое, не представлялось возможным. Оставалось только приятное ощущение и знание, что давалось оно, это ощущение, ему за деньги. А денег было мало. Их не хватило бы Назарову, чтобы начать счастливую жизнь.

В тридцать пять у него случился еще роман. Как-то вечером к нему забежала соседка по бараку. «Нет ли спичек?» И остановилась в дверях, разглядывая его, затараторила о чепухе. «И что же вы все один да один?» Он знал ее, встречал каждый день в столовой, слышал, что бабенка легкая, доступная. Дома увидел впервые. В шелковом халатике, с голыми руками, она показалась ему привлекательной. Назаров ощутил вдруг, как побежал холодок по спине. «А что, если она неспроста пришла? И не за спичками?» Пригласил присесть. Согласилась, села на стул, заговорила. «В кино бы сходили». — «Что-то нет настроения». «Обнять бы ее», — подумал Назаров. Но побоялся: а вдруг ошибается он и женщина не за тем пришла? Противно будет, если оттолкнет. А она поднялась со стула, подошла поближе, спросила: «Что это у вас в углу, шкура, что ли, медвежья?» — «Шкура», — сказал он и затаил дыхание, чувствуя, как она прижалась грудью к спине. Не выдержал, обернулся, притянул податливое тело… Стали встречаться по ночам. Однажды он сказал: — Что ты во мне нашла? Полюбила, что ли? — Да нет, — хихикнула она. — Любопытен ты мне. Живешь как-то не так. Не пьешь. — Замуж захотела? — Он постарался вложить в эти слова побольше сарказма. — Ну-у, — недоуменно протянула она. — Какой из тебя муж? — А что? — Да так. Ненастоящий ты. Он задумался над ее словами. Хотел понять. Допытывался. Она смеялась, объяснять не хотела, легко уходила от ответов. Это сердило его. — Мало тебе, что ли? — спрашивала. — Хожу ведь к тебе. Чего еще надо? А через месяц сказала: — Нет, не соображу никак. — Что? — Да вот почему ненастоящий ты. Может, ты вор? — Дура! — Нет, правда. Есть что-то за тобой… — Что же? Она подумала, потрепала его по волосам. Медленно произнесла: — Или убил кого? А? Ты скажи. Доносить не пойду. Заинтересовал ты меня. Он вывернулся из цепкого объятия, замахнулся было, но, поглядев в ее смеющиеся, все понимающие глаза, разжал кулак. Встал с кровати, щелкнул выключателем и заходил по комнате. Она смотрела на него из-под руки, щурясь от света. — Почему ты так подумала? — спросил Назаров. — Не знаю, — просто сказала она. — Вот смотрю на тебя и думаю, что ты прячешь что-то в себе, таишься. Зверь вроде в тебе сидит. И молчит, ждет чего-то. Может, часа своего ждешь? А? Не пьешь вот ты. Почему все мужики пьют, а ты нет? Больной, что ли? — Дура ты, — сказал он уже спокойно. — Воображаешь невесть что. Много сладкого жрешь. Вредно это для бабы. Поняла? На следующую ночь она не пришла. Он подождал, подождал да и плюнул. Стороной услышал, что нашла себе другого мужика. Однако странные ее слова запомнил. Имя забыл. Слова помнил: чудными уж больно они ему показались тогда, эти ее глупые слова, задели что-то в душе, разбередили, потревожили. Тогда!.. Верно, видно, говорят, что у баб второе зрение имеется. Выходит, и Лиза такая же. Да нет, Лиза никогда не задавала ему глупых вопросов. Поглядывать только стала внимательно. И старик Комаров тоже. Сволочь старик. Кулак бывший, поди. Липнет как муха к навозу. Нет, шалишь, старый жлоб. Бери дом, пользуйся. Сели в него своего Митьку с молодой женой. Не добраться тебе до Назарова, уедет Назаров, только его и видели. Со страхом уедет. Со сном проклятым. Два года еще как-нибудь отмучается. А потом? Будет ему потом пятьдесят. И ничего ему уже тогда не понадобится. Пролетела жизнь, как самолет над лесом, и сгорела без дыма, без пламени. «Остались от козлика рожки да ножки». От козлика, которого и не было никогда. Видимость одна. Туман. «Ненастоящий». Баба та как в воду смотрела. Дрянная бабенка, а вот увидела, раскусила, своим бабьим умом дошла. Предугадала. А до нее кто был? Слепой? Нет, слепой — болтун. Ничего он не знал, не ведал. Аня? Ушла в калитку, ссутулившись. «Дрянь». Прилипает вот такое на годы. И не отмоешь, не вытравишь никакой кислотой. Кажется, видимость, пустяки, слова. А живут эти слова в нем… Видимость! Мать во всем виновата. Мать! Не писал ей уже двадцать лет. И она не искала его. Не нужен он ей был. И никому вообще не нужен. Будто и не было Назарова. Видимость, оболочка, пузырь мыльный… «К черту!» Назаров резко поднялся со стула, заходил по комнате. Три часа двадцать пять минут. Как медленно идет время. И делать ничего не хочется, хотя сделать надо многое. Пока Комаров не явился. Вот паяльник надо бы поискать. Куда он его задевал? Впрочем, ни к чему паяльник, можно обойтись зубилом. А что он, собственно, так заботится о Комарове? Не убьет ведь его Комаров, если и допрет до дела. Или убьет? Старик хлипкий. Не справится. Митьку напустит? Ерунда. Поймают враз Комарова, не сумеет покрыть преступление, обелить себя. А убить Комаров, пожалуй, может. Митька — нет. Митька — мужик тихий, обстоятельный. Работяга. Не в отца пошел. Год назад Назаров видел старика на базаре, когда ходил аквариум покупать. Побродил по птичьему рынку, где топтались торговцы, поставляющие любителям рыбок корм, птиц и клетки. Послушал писк канареек, воркотню голубей, посмотрел на ежа, которого продавал какой-то мальчишка. Ручной совсем был еж, к любому на руки лез. Но Назарову еж был ни к чему. Договорился он насчет аквариума и всех приспособлений. Купил, сложил все в мешок и недолго побродил по мясным рядам. Заглянул и в угол, где за столами возвышались продавцы меда в белых халатах. Комарова увидел: торчал старик с краю, шевелил лопаточкой в ведре, деловито прятал зелененькие бумажки куда-то в глубину своего одеяния, чуть ли не на пузо под штаны. «Убьет запросто», — подумал Назаров, вспомнив эту сцену, а потом сберкассу, когда ему пришлось чуть не силком вырвать из рук старика пачку сотенных — плату за дом. Тянул и чувствовал, как тот напрягается, не хочет отдавать, словно отрывают от его тела куски живого мяса. «Ненастоящий». Еще что-то болтала та бабенка в промежутках между поцелуями. О жадности, кажется, говорила. Назарова жадным называла. — Думала: больной ты. Да нет, ошиблась. Ты жадный. Деньги копишь, наверное. — Ничего ты не понимаешь, больной я. — Может, и больной. Только это еще не все. Груз у тебя на душе вижу. — Цыганка ты? — Смеешься. Какая я цыганка? Много ли все-таки накопил? — Все мое. — Нет, ты жадный. Мало тебе. Ты приходи завтра обедать в столовую. Бесплатно подам. — Дура! — Жалко мне тебя. Не люблю, а жалко. Шкуру медвежью для чего держишь? — Уеду отсюда, продам подороже. — Врешь. — Может, и вру. Тебе вру. Нарочно. Не врал. В самом деле подумывал увезти шкуру, содрать за нее. Да так и оставил там, торопился уехать, чуть сберкнижку не бросил. Спохватился вовремя, снял свои накопления, аккредитив выписал. А то черт знает что люди могли бы подумать. Она ему не верила. Наваливалась грудью, дышала жарко в лицо. — Ты скажи мне, скажи. — Иди ты! — Почему живешь как худая скотина? Почему с людьми не водишься? — Ты разве не человек? — Я женщина. Ты бы раз хоть выпил с кем. Или со мной. Я, когда выпью, веселая делаюсь. Да и на тебя бы поглядела. Открылся бы ты мне. — Отстань, банный лист! — В передовиках ходишь. Хвалят тебя. А ведь обманываешь? — Уйди, надоела. — Нет, ты скажи, что на душе у тебя. Убил, да? Бегут секунды, ползут минуты. В ушах звучит назойливый шепот. Несется над лесом самолет. Стучат Лизины каблучки под окном. Сладко жмурится где-то поблизости старик Комаров. А откуда-то изнутри, из глубины сознания, поднимается горячий шепот: — Убил, да? Тикает старый будильник на столе. Бежит по кругу секундная стрелка. Не выскочить ей из круга никогда. И так же по кругу бегут мысли Назарова, торопятся, спешат. Но заколдован круг утренней тишиной. Только один голос и слышится в ней: — Убил, да? Три часа тридцать минут…
Глава четвертая
В понедельник Шухов послал весь свой опыт к чертям. Опыт — отличная штука до тех пор, пока не превратится в шоры на глазах. Когда опыт начнет руководить поступками и мыслями человека, заставит этого человека верить только своим ощущениям и убеждениям, тогда этому опыту надо сказать «прости». Опыт не приемлет неожиданных поворотов. Они обрушиваются на него, как гроза на крынку с молоком. И молоко скисает, превращается в простоквашу. Шухов знал цену косвенным доказательствам и относился к ним соответственно. В деле Назарова косвенных доказательств было достаточно. Но в этом деле имелось одно обстоятельство, от которого нельзя было просто отмахнуться. Это деньги, семь тысяч рублей. В арсенале шуховского опыта было накоплено немало похожих случаев, когда деньги играли главную роль. И сейчас он не мог сбросить со счетов психологию корысти,которая часто толкает людей на преступления. Но проклятые семь тысяч никак не хотели вписываться ни в одну из версий, сколько он их ни придумывал. Была жертва — Назаров. Был мотив — семь тысяч рублей. Очень основательный мотив. Очень убедительный. Были подозреваемые — Мокеева, Комаров, сын Комарова и с некоторых пор муж Мокеевой — чудаковатый Эдя. Последний, правда, ни в какие ворота не хотел лезть. Шухов немедленно раздражался, как только мысль об Эде приходила в голову. Экспертиза не внесла в дело ничего нового: «Назаров убит между тремя и пятью часами утра». Орудие убийства не найдено, значит, убийца унес нож с собой. Предположение о том, что обходчик решил кончить жизнь самоубийством, не годилось. Это глупое предположение возникло на секунду у Шухова, и он тут же отругал себя. «От безнадежности, что ли?» — мелькнула мысль. Про будильник эксперт сообщил, что это старый механизм, но с удивительно точным ходом. На будильнике обнаружили отпечатки пальцев Назарова. Больше ничего. Были изучены осколки аквариума. На них никаких отпечатков не оказалось. Полусожженные книги Шухов попросил доставить к нему в кабинет, полистал еще раз, пожал плечами. От книг воняло керосином. Вот и все. Следы на полу в квартире интереса не представляли, ибо не было их, этих следов: пожарники потрудились на славу. О Назарове в характеристике с места работы отзывались весьма положительно. Трудовая книжка — в порядке. В ней записано несколько благодарностей. Уволился Назаров по собственному желанию. Говорили о нем, правда, как-то общо: «Монтер хороший…», «Золотые руки — починит, что хочешь…», «Как человек? Да кто его знает? Неплохой вроде человек, замкнутый немного, но уважительный…», «Он как-то больше сам по себе…», «Непьющий, поэтому и не водился ни с кем…», «Поговорите с Петровым…». Петров, громоздкий мужчина с обветренным лицом: — О Назарове? Что сказать? Заходил он ко мне. Коробку как-то мастерил, железа просил. Когда? Да с год уже будет. Еще чего? Право, не знаю. Курили мы с ним иногда, беседовали. О чем? Да о пустяках. О погоде, о болезнях. Он мне еще рецепт дальневосточный дал от ревматизма. «Иголки, — говорит, — в уксусе раствори и мажься». — Мазались? — Пробовал. — Ну и как, помогло? — Да кто его знает. Может, и помогло. — Странностей за ним не водилось? — За Назаровым-то? Нет, не замечал. Тихий мужик был. И врагов-то у него не должно бы быть. А поди вот. Убили. За что человека убили? Ума не приложу… Но семь тысяч рублей были в руках у Мокеевой. Семь тысяч не букет цветов… — Вы утверждаете, что ваш муж следил за вами. На чем основываете вы свои подозрения? — Кто же еще? Вот именно. Кто же еще будет в темноте бродить за любовницей обходчика, как не ревнивый муж? А он не показался Шухову ревнивым. Ему вообще наплевать, этому Эде, на жену и ее дела. Или не наплевать? Тогда Шухова надо, как рваный носок, выбросить в мусорный ящик. Не разобрался он в Мокееве. Да и с Назаровым нет ясности. Восемь лет в городе жил тихий человек — обходчик Назаров. На девятый собрался куда-то ехать. Продал дом — и привет. Продал дом… Продал дом… Зачем ему понадобилось продавать дом? Мокеева на этот счет толком ничего не смогла объяснить. Надоело ему, видите ли, в нашем городе жить. Скучно стало. В конце концов, может, и нет в этом поступке ничего особенного. Наскучило человеку на одном месте жить, захотел сменить обстановку. Странно тут другое: сам Назаров. На работе о нем отзываются как-то неопределенно. Соседи тоже. Старик Комаров, правда, не удержался, брякнул словечко, но тут же споткнулся, прикусил язык. И вытянуть что-нибудь из Комарова не представляется возможным: крепкий орешек этот старик, не раскусишь. Размышления Шухова прервал телефонный звонок. В трубке зарокотал голос Кожохина: — Поговорить надо, Павел Михайлович. — Что-нибудь новое? — Да как сказать. Оно вроде старое, но на новый мотив. Кожохин зашел минут через десять. Сел, не снимая пальто. Вытащил сигарету. — Комаров номера откалывает, — сказал он, выпуская струйку дыма через нос и следя за облачком. — Всю ночь около милиционера просидел. — Что-что? — не понял Шухов. — Да около же назаровского дома. Явился с вечера, уселся на крылечко, заявил постовому, что дом теперь ему принадлежит и он его вроде сам охранять должен. Не доверяет милиции, и все такое… — Ну? — Ну и просидел. Байки рассказывал. Со светом спать ушел. — Н-да, — протянул Шухов. — Историйка. Между прочим, Мокееву я отпустил. Прокурор не дал санкции на задержание. Говорит, оснований мало. Взял подписку о невыезде. Да я и сам вижу, что оснований мало. Никаких, словом, оснований нет. — А деньги? — Деньги? Деньги в сейфе лежат. — Да не о том я. — И я не о том, Иван Петрович. Назаров действительно брал билет до Курска. Кассирша опознала Мокееву. Сказала, что вместе с ней был Назаров, описала его. Ошибки быть не может, потому что внешность у убитого уж очень характерная, запоминающаяся. — Но мы-то нашли билет до Сочи. Он что, второй раз в кассу приходил? — Тут я тебе не помощник. В Сочи сейчас едут сотни людей. Может, он и приходил второй раз в кассу. — Что же, кассирша Назарова во второй раз не приметила? — Во-первых, она там не одна. Во-вторых, этот вопрос открыт. — Дела… — Кожохин раздавил сигарету в пепельнице, вздохнул. — Надо думать, что дальше предпринимать будем, — сказал Шухов. — Главное, по-моему, Назаров. Не знаем мы ничего о Назарове. Получается так: жил человек, работал, а чем дышал, о чем мечтал, неизвестно. Я вот почитал показания и увидел пустоту, общее место. Чувствуется, что, пока мы эту пустоту не заполним, толку не будет. Запросами, сам понимаешь, тут не отделаешься. Видимо, надо съездить кое-куда. — С начальством говорили? — Говорил. Начальство согласно. Командировку хоть сейчас выпишут… Шухов проводил Кожохина до аэродрома. Выпили в буфете по кружке пива. Шухов поглядел, как самолет оторвался от взлетной полосы. Остаток дня просидел над бумагами, которых уже накопилось порядочно. Во вторник ему доложили, что старик Комаров опять сидел возле дома, калякал с милиционером, подсчитывал убытки от потерь. — Ну что ж, — сказал Шухов. — Поглядим, что из этого выйдет. Подумал, все ли сделано? За Мокеевой наблюдают. Раз. За изобретателем Эдей — тоже. Два. Комаров на виду. Три. Его сын Дмитрий? Произвел на Шухова хорошее впечатление. Явно не понимал в воскресенье, зачем он потребовался милиции, когда его нашли в лесу. Собирал грибы. И набрал уже полную корзинку к тому часу, когда его увидели. Человек, совершивший убийство, вряд ли способен с таким усердием искать грибы. На отца Дмитрий похож только внешне. Характер, видимо, мягкий, покладистый. Манера держаться — приятная. Говорит неторопливо, толково, спокойно. «В мать удался», — подумал Шухов, вспоминая дебелую старуху с ухватом. — Назарова хорошо знаете? — Да нет. Батя с ним больше беседовал. У меня другая компания. — Заходил к вам Назаров? — Редко. Батя сам к нему путешествовал. Почти соседи ведь. — Чего так поздно жениться надумали? — Пришлось так, выходит. Еще вопросы. Еще. И еще. Вопросы, имеющие отношение к делу и не имеющие к нему никакого отношения. Спокойные ответы, прямые, без уверток. Никаких нюансов. Однако алиби у Дмитрия нет. Алиби есть у Мокеевой. У ее мужа алиби непрочное. Да и Мокеева утверждает, что Эдя следил за ней. Только в утро убийства Мокеева мужа не видела. В утро убийства, сказала Мокеева, никто за ней не шел. А соседи Эди говорят, что в четыре часа эта штука на потолке Эдиной квартиры гудела во всю ивановскую. Однако соседи говорят, что эта штука гудит ежедневно, регулярно, в одно и то же время. Мог Эдя включать ее и уходить? Мог, конечно. За Эдей ведь никто не следил. Шухов задумчиво полистал дело, порядочно распухшее ко вторнику. Взгляд упал на фамилию Загоруйко. «А что это еще за личность?» Вспомнил: шофер такси, первый свидетель по делу, случайный человек. Впрочем, так ли уж случайный? В парке пассажирского автохозяйства Шухову показали старичка вахтера, дежурившего в ночь с субботы на воскресенье. Старичок носил благообразную бородку клинышком, часто поглаживал ее во время разговора. «Рассказать про ночь?» Нет, он не спал, как можно спать? Загоруйко — тот спал. «Да, вот тут на диванчике». Вечером шофер попросил разбудить его без двадцати четыре. Старичок аккуратно выполнил просьбу. Загоруйко, как поднялся, позвонил диспетчеру. Вахтер помнил этот разговор. О чем говорили? «Привет, Галочка, как живется?.. А мы уже готовы. Звони клиенту… Выезжаем». Вот и весь разговор. Во сколько вышла машина из гаража? Да, может, минут через пять после этого. Четырех еще не было, во всяком случае. Девушка-диспетчер подтвердила слова старичка. «Правильно, Загоруйко позвонил без двадцати четыре». Она тут же набрала номер клиента, сообщила ему номер машины, включила рацию, связалась с шофером. Они еще поболтали немного по радио. А через несколько минут Загоруйко встревоженно произнес: «Слушай, Галя, в доме-то что-то горит. И клиента не видно. Звони скорей пожарникам». — Это было в четыре часа? — спросил Шухов. — Да. Раньше он и не мог подъехать к дому. Без пятнадцати четыре Назаров был жив. В четыре — мертв. Загоруйко подогнал машину к дому около четырех. Может, он что-нибудь видел? Теперь, когда следствие располагает более обширными данными, есть смысл еще раз потолковать с этим таксистом. А вдруг? Загоруйко явился точно в назначенное время. — Садитесь, Иван Тихонович, — пригласил его Шухов, незаметно разглядывая шофера и пытаясь определить, что же представляет собой этот человек. На вид лет сорок, но хочет казаться моложе. Одет аккуратно, спортивно. Черные усики, пустоватые наглые серые глаза. «Фат, — подумал Шухов. — Наверное, любит красиво выражаться». И не ошибся. Загоруйко о себе говорил только во множественном числе: «мы». «Мы подали машину…», «Смотрим, огонь в окнах…», «Галочке — по рации». — Постарайтесь вспомнить что-нибудь еще, просил Шухов. — Не видели ли людей на улице? — Людей не видели, — готовно откликнулся Загоруйко. — Давно работаете в автохозяйстве? — С полгода. Как приехали в город. — Женаты? — Нет, мы не женаты. По пословице. — То есть как это по пословице? — Женатый живет как собака, умирает человеком. Холостой — наоборот. Ну и мы — наоборот. В отделе кадров автохозяйства Шухов просмотрел анкету Загоруйко. Для себя объяснил: «На всякий случай». Алиби таксиста выглядело бесспорным. И вопросы ему Шухов задавал больше для проформы. Хотелось также убедиться в том, что Загоруйко и Назаров понятия не имели друг о друге. Анкета таксиста оказалась безукоризненной. Все в ней было ясно. Правда, Загоруйко произвел на Шухова неприятное впечатление. Но ведь не в любви им объясняться. Биографию же Загоруйко Шухов сравнил с назаровской. Скрупулезно проверил, не пересекались ли в каких-нибудь пунктах жизненные пути Назарова и Загоруйко. И, проверив, убедился: нет, нигде не пересекались их тропинки. На Дальнем Востоке Загоруйко не был. Службу проходил на Севере. Работал потом в Брянске, Орле и Могилеве. Назаров в этих городах не жил никогда. Могли, конечно, быть случайные встречи. Но верилось в это с трудом, а точнее, и вовсе не верилось. В четверг Шухов получил телеграмму из волжского городка, родины Назарова. Кожохин писал: «Кое-что выяснилось. Вылетаю в леспромхоз». Три часа тридцать минут… В ушах звучит вопрос… Колотится, звенит: — Убил, да? Да, убил! Убил себя, убил свою жизнь. Израсходовал и выбросил, как портянку. Не выскочил из заколдованного круга. Пробежало счастье мимо, прогукало, обхохотало лешацким хохотом, хвостом щетинистым по губам шмякнуло. Подавился Назаров своим счастьем. Не отхаркнуть теперь его, не выплюнуть… Летом в тайге раздолье. Брал летом отпуск — и в лес. По тайге бродил, счастливый корень женьшень искал. Большие деньги, слыхал, за корешок этот можно получить. Летом люди на курорты ехали, путевки доставали, а он на подножный корм. С ружьишком навострился управляться. По буреломам бродил, глазами по сторонам искал: не сверкнут ли где остренькие листочки зонтиком. По вечерам у костра валялся, с комарами, с мошкой воевал, думал: вот бы над лесом этим хозяином быть. Раз повезло: калужину на мелководье застрелил. Отвез икру в город, продал. Торговал и опасался: засекут, посадят. Однако сошло. Прибавилось чуток капиталов на книжке. Медведя как-то случайно порешил. Мясом две недели питался. Остатки выбросил, а шкуру сохранил. Завидовал соболятникам: много денег зашибают. Но зимой охотиться не мог: зимнего леса боялся, морозов боялся, да и на зимнюю снасть денег жалко было. — Жадный ты, — говорила та бабенка в леспромхозе. — Бедно живешь, — сказала Лиза, когда в первый раз вошла к нему в дом. — Откуда богатству-то быть? — развел он руками. — А я слышала, кто с Дальнего Востока приезжает, у того денег куры не клюют. — Может, у кого и не клюют. А я вот только домишко сумел купить. — Что же так? — Да вот так. Остальное проел за восемь лет. А ты как, бедного не полюбишь? Засмеялась, прижалась крутым боком. — Полюблю, наверное. Погляжу вот на тебя получше. Я ведь всю жизнь бедных да некрасивых голубила. — От мужа-то чего ушла? — Умным он хочет быть не по разуму. Не смогла. Тепла в нем нет, одни рассуждения. А как жить с рассуждениями-то? Маета одна. Ты к нему с лаской, а он телескоп строит. — У меня тоже тепла немного осталось, — сказал Назаров и подумал, что врет, что у него никогда и не было тепла. Только злость да зависть. Но Лиза словно и не заметила лжи. Да и он за восемь лет одиночества в этом городе истосковался по женской ласке. Устал от мыслей своих, от снов, мечтаний бесплодных. Ничего не заметила в нем Лиза. Ничего не поняла. Правда, в последние дни поглядывать странно стала. Неужели это заметно? Почему же другие не видят? Почему никто не кричит: вот он, голубчик, ату его? — Или ты вор? Или убил кого? Комаров! Вот кто чует Назарова. Ходит вокруг да около, как волк возле теплого хлева. Но руки коротки у Комарова. Не дотянуться Комарову до Назарова, не ухватить. С Лизой легко и трудно. Вся она на виду, кажется, что насквозь светится. Хитрости никакой. Назарову иногда хочется быть откровенным с Лизой, но что-то не пускает, прилипает язык, когда доходит дело до щекотливой темы. О себе он ей рассказывал мало. Больше отмалчивался. Зато про мать не стеснялся. Про взгляд материн, пугающий, ненавидящий. Как просыпался ребенком и жмурил глаза испуганно. Про письмо ее к дирижеру рассказал, как нашел его, как понял, откуда что идет. — Бедный, — говорила Лиза. — Страшно-то как, поди, было. — Через всю жизнь пронес, — вздохнул Назаров. — Но ведь и ее понять можно, — говорила Лиза. — Женщина пострадала из-за негодяя. — А я виноват? — Не пишешь ей? Хочешь, я напишу? — Ты? Зачем? — Помирю вас. Объясню. Женщины это умеют между собой. — Сгорело все, Лиза. Не стоит. — Или съездим к тебе на родину. На Волгу страсть хочется поглядеть. Молчал Назаров. Ни да, ни нет не говорил. А хотелось и ему на Волгу посмотреть. Жив там слепой или нет? Про слепого Лизе тоже рассказал. Кроме главного. Получилось так, что слепой сам был виноват. Пожалела Лиза слепого. Спросила: — Дружил с ним? — Дружил, — соврал Назаров. Он чувствовал, что ему все труднее лгать Лизе, прикидываться. Какие-то изменения происходили в нем. В ее обществе он обмякал, становился разговорчивее, податливее. Думал, что годы виноваты, от старости это, наверное. Раньше он злился на всех, тайно радовался чужой боли. Теперь это стало проходить. Он даже посочувствовал в душе Эде Мокееву, брошенному мужу. Потянуло его однажды взглянуть на Эдю. И, повинуясь безотчетному любопытству, выбрал время, когда Лиза работала, пошел к дому, сел на лавочке напротив — дожидаться, когда Эдя с работы пойдет. Дождался. Эдя торопливо прошел мимо. Назаров поглядел ему вслед. Хотелось окликнуть, но удержался. Что он Эде скажет? С Лизой поделился, не смог от нее утаить. — Не утерпел, — сказала она. — Ну и что теперь? — Да ничего. Человек как человек. Очки носит. — Машина, а не человек, — сказала Лиза сердито. — И не ходи ты больше туда. — Ладно. Нужен он мне… Заметил, что старик Комаров приглядывается к Лизе. Как-то остановил тот ее, забормотал что-то, руками замахал. — О чем беседовали? — спросил Назаров настороженно. — Смешной старикан, — сказала Лиза. — Меду предлагал. А ты чего взъерошился? Или не в ладах? — В ладах. Только ты плюнь на него. Сволочь он. Предложил Лизе уйти с частной квартиры, к нему перейти. Пообещала, но не торопилась. Присматривалась. Теперь вот уехать надумал. Он, Назаров, сам предложил. — А куда торопиться, Виктор? Чем тут плохо?.. Устал Назаров от дум. Закрыл глаза и задремал незаметно. Увидел: идет к нему Комаров в зеленой шляпе, покачивается, в руке котелок с медом несет. — Угостить тебя, парень, хочу по-свойски. — Катись к дьяволу, старый хрен. Смеется Комаров, котелок протягивает, в нем мед кипит, ярится, пузырьки в нем, как в шампанском, поднимаются. И видит Назаров, что не мед это, а золото расплавленное, горячее. И замерло все в Назарове, не может оторвать взгляда от котелка. А старик смеется, трясет головой, руку вперед тянет. Вот уже через весь двор протянулась жилистая рука, котелок прямо перед самым назаровским носом качается. Не выдержал искушения Назаров, захотелось золота хлебнуть. Ложку из-за голенища выхватил, зачерпнул, в рот сунул. Потекло золото по жилам, не обожгло, но чувствует: застывать стало. И вот уже не может Назаров ни рукой, ни ногой шевельнуть, затекло тело золотом, набрякло, каменным стало. Удивился Назаров: ведь ложку только и выпил. И вдруг откуда-то сбоку Лизино лицо выплыло. В мохеровом платочке красном, глаза смеются. Кивает Лиза Назарову: пей, мол, еще. Губы шевелятся у Лизы, а слов нет. А Комаров и ей ложку сует, капли с ложки падают на землю, шипят. И старик шипит: — Трудовой медок. На-ка, не бойся. Хочет крикнуть Назаров: «Не пей, Лиза, отрава это. На всю жизнь отрава!» Но не может: залило золото глотку, колом холодным в горле стоит. Выпила Лиза, сморщила лицо, отвернулась от Назарова. И голос вдруг появился у нее: — К Эдьке пойду, — сказала она. А Эдька — вот он, сидит над чертежом, шепчет: — Вижу, все вижу. Телескоп у меня знатный, золотой телескоп. Купи его, Назаров. Ты же можешь. Ты все можешь купить, что захочешь. Возьми телескоп, отдай Лизу, я ее в магнит превращу. Молчит Назаров, пробка в горле мешает. А Комаров ему уже вторую ложку в рот вливает, приговаривает: — Убил, да?.. Вздрогнул Назаров, очнулся, вывалился из забытья. Секундная стрелка успела только один круг пробежать. Давно заметил: утренние часы медленно тянутся. Сон вспомнил, усмехнулся: «Чудно». Не боялся таких снов Назаров. Потел только, когда самолет горящий во сне видел, летчикову голову оторванную. И яви боялся Назаров, взглядов чужих, пристальных, внимательных, спрашивающих. Не любил в кино ходить, без дела по городу шляться. Лизу отговаривал: «Ну, что там в кино смотреть? Давай лучше дома посидим, посумерничаем». Когда на поезд билеты покупать собрались, Лиза удивилась: — Почему не вместе? — В Курск надо съездить, — сказал Назаров. — Родичи там у меня, давно не видел. — Ну как хочешь, — обронила Лиза. Обиделась, наверно. Наврал ей опять. Никаких родичей в Курске не имелось. Нельзя им вместе ехать. Не должна еще Лиза знать его тайну. Рано. А почему рано? До каких пор он будет врать ей? Всю жизнь? «Ненастоящий». Восемь лет он ненастоящий? Или всегда был таким? Хитрил. В детстве это чаще удавалось: хитрить и подличать. У мальчишек была игра — под плот нырять. Кто дольше просидит. Он был послабее всех, высиживал секунд десять. Страшно было держаться за ослизлые зеленоватые бревна, пулей вылетал из воды под ребячий гогот: «Слабак!» Как-то ему повезло: уцепился за бревна с выщербинами, голова в щели поместилась, рот наружу вылез. Дышать стало можно, а сверху незаметно. Обрадовался, просидел целую минуту. Вынырнул героем, а тот парнишка, что до этого случая рекорды ставил, рассердился, полез в воду да и захлебнулся. Мужики его из-под плота вытаскивали чуть не час. Потом этот пацан Витькину дыру нашел. Били его компанией. Тогда и стал он поджигалки портить, стволы у них насекать изнутри, чтобы наверняка взрывались опасные игрушки. Лизе врал. Рассказывая о детских годах своих, выставлял себя на первый план. До того завирался, что сам себе верить начинал: метилось — так оно и было. А было-то совсем не так. Плохо было, подло, скверно, как в воде под плотом, обросшим мхом, под тяжелым черным плотом, закрывающим воздух и солнечный свет. Женьшень он так и не нашел. Десять лет каждый отпуск проводил в лесу. Но не мелькнул корень жизни зеленым зонтиком, не показался. Кто-то говорил, что только хорошему человеку дается в руки этот корень. Не верил Назаров, посмеивался. А вот и не дался. Другое далось. Летел над тайгой самолет, ревели моторы предсмертным воем, жирный дым стлался над деревьями, лопались взрывы, трещало пламя над болотом. Да на берегу быстрой светлой речки бился, хлестал хвостом по траве толстолоб, выловленный Назаровым, забытый напрочь, оставленный на земле. Потому что коснулся руки Назарова легкий красный листочек, принесенный ветром с болота. Потому что повернулись мысли Назарова круто в сторону от вытаращенных рыбьих глаз. Ахнул Назаров, закричал дико и кинулся к горящему самолету, полез по кочкам навстречу мертвой летчиковой голове, которая теперь усмехается ему в страшных липких снах. Не понял он тогда этой усмешки, не догадался, восемь лет понадобилось, чтобы осознать: зеркалом была мертвая голова. А еще раньше таким же зеркалом были черные очки слепого. Не идет время, стоит на месте, хоть и бежит секундная стрелка по циферблату. По кругу, по кольцу, оборот за оборотом делает стрелка на часах. Кольцами сигаретного дыма скользит жизнь, тает в воздухе. Одно кольцо. Другое. Третье. Черные очки слепого — кольцами. Мертвые глаза летчика — кольцами. И большим последним кольцом — Лизино лицо в окружье красного мохерового платка. Задремывает Назаров… А минуты бегут, догоняя одна другую, стрелки все вперед ползут. И не стоит время, тоже идет вперед… Три часа тридцать четыре минуты…Глава пятая
Вслед за телеграммой пришло письмо от Кожохина. Прочитав его два раза, Шухов решил, что Кожохин настроен излишне оптимистично. Прояснилось немного: биография Назарова, вернее, та ее часть, которая относилась к детству, обрела рельефные черты. Кожохин постарался: письмо изобиловало подробностями, иногда довольно любопытными. Особенно выделил он свою встречу со слепым лектором, бывшим однокашником Назарова. Часть разговора Кожохин приводил дословно: — Вы уверены, что он это сделал нарочно? — Конечно. Взорвавшуюся поджигалку я сохранил. Понять, что Назаров над ней потрудился, не составляло труда. Но я видел, что он сильно переживает этот случай. И молчал. Витька ведь долго в больнице провалялся. Потом мне показалось, что он изменился к лучшему. Мы с ним иногда встречались, разговаривали. А когда я сообразил, что Назаров остался прежним, он из города уехал. Вскоре началась война. — Почему он это делал? Ведь поджигалки взрывались не только у вас. — Сейчас я, пожалуй, могу объяснить. Он завидовал. Слово «завидовал» Кожохин подчеркнул. «Думаю, что в этом суть, — писал он дальше. — Назаров ощущал себя не таким, как все. Мне тут насказали разного. Писать долго. Полагаю, однако, что ключ к его характеру я ухватил правильно. Странной была встреча с его матерью. Создалось впечатление, что ей совершенно неинтересна судьба сына. Двадцать лет, а может, и больше, они не переписывались. Она даже не знает, где он жил. Но об этом расскажу на словах. Потом. Главное же вот в чем: она показала мне чудное письмо, которое получила семь лет назад. Пересылаю его. Боюсь, что мы не там искали убийцу Назарова. Привет. Кожохин». Письмо, названное Кожохиным «чудным», гласило: «Уважаемая мама Виктора Назарова, Дарья Федоровна! Не будете ли вы столь любезны сообщить адрес Вашего сына Виктора, с которым мы разминулись случайно на дорогах, по которым все ходим. Если это не трудно, черкните пару слов с адреском Виктора Иванову Сергею Ильичу в Курск на Главпочтамт до востребования. Очень хочется повидать его». Слово «Курск» Кожохин тоже подчеркнул, намекая этим на билет, который Назаров покупал вместе с Мокеевой. «Сколько в Курске Ивановых? — подумал Шухов. — Сто? Тысяча? А с этими инициалами? Сколько их было семь лет назад? Нет, не та ниточка, хотя попробовать дернуть и можно». Следствие все равно уныло топталось на месте. Новых фактов не прибавлялось, Шухов оперировал старыми, строил версии, отбрасывал их, выворачивал наизнанку. Иной раз у него получались стройные, логические цепочки, но обязательно какое-то звено немедленно отклеивалось, не хотело становиться в ряд. Старик Комаров по-прежнему дежурил около дома. Остальные подозреваемые ничем особенным себя не проявляли. Шухов ежедневно разговаривал с кем-нибудь из них, скрупулезно выискивал противоречия в показаниях, но не находил и поэтому злился. Письмо Кожохина дало пищу для размышлений и повод для действий. Конечно, вся эта затея с розыском Иванова могла свободно кончиться ничем. Но лучше заниматься делом, чем гадать на кофейной гуще. Шухова утешало еще и то обстоятельство, что этот Иванов должен быть реальным человеком: получить письмо «до востребования» без документа, удостоверяющего личность, нельзя. Но как найти Иванова среди тысяч других? В адресном столе не обрадуются, получив шуховский запрос. Назаров стал виднее, осязаемее. Рос подлецом и вырос-таки им, наверное. Сподличал, возможно, с этим Ивановым и получил по заслугам. И может, прав Кожохин: не там ищем убийцу. Но где его искать? В Курске? Пока мы тут возились с Мокеевой, он благополучно отбыл восвояси. Он даже мог бы, пожалуй, успеть на поезд. Без четверти четыре Назаров был жив. В четыре — мертв. У убийцы оставался резерв — тридцать минут. Вполне возможно добежать до вокзала. А если и невозможно, так ему незачем было торопиться. Поезда ходят три раза в сутки. Поезжай в любое время. А деньги ему назаровские ни к чему. «А что, если принять во внимание этого фантастического Иванова? — подумал Шухов. — Тогда картина резко изменится!» Он достал лист бумаги, на котором было записано: «1. Мокеева. Ушла от Назарова в три часа пятнадцать минут. Алиби подтверждено квартирной хозяйкой. Сговор с мужем не исключен. Деньги (семь тысяч рублей) обнаружены у Мокеевой. 2. Мокеев Эдуард. Утверждает, что с Назаровым незнаком. Проверить его слова не представляется возможным. Говорит, что в утро убийства был дома. Алиби сомнительное: шум машинки, который слышали соседи. Жена уверяет, что Мокеев несколько дней подряд следил за ней по утрам. В воскресенье она его не видела. Мотивы? Возможны два: сговор с женой или тщательно скрываемая ревность. В последнем случае показания Мокеевой о слежке приобретают смысл. 3. Старик Комаров. Алиби отсутствует. Возможный мотив? Полная неясность. Ведет себя подозрительно (ночные бдения у дома), но все это легко можно объяснить старческими причудами. Жаден. Биография далеко не безупречная, но в последние годы ни в чем предосудительном не замечен. Утверждает, что с Назаровым никаких дел, кроме купли дома, не имел. Однако что-то Комаров от следствия утаивает. 4. Дмитрий Комаров. Алиби отсутствует. Мотивов явных нет. Производит впечатление порядочного человека. С Назаровым, по показаниям соседей, не был связан ничем. 5. Иван Тихонович Загоруйко, шофер такси. Алиби подтверждено вахтером гаража, диспетчером таксопарка. Сговор с Мокеевой, а также с диспетчером и вахтером абсолютно исключается. Впечатление производит неприятное. Видимых мотивов и поводов для убийства нет. С Назаровым в прошлом не связан. Неясные обстоятельства: билет до Сочи, найденный в кармане у Назарова. Пожар. Разбитый аквариум». Прочитав записи, Шухов добавил к ним следующее: «6. Иванов. Мотив — месть. Улика — письмо. Алиби не выяснено». Да, картина менялась. Теперь, если зачеркнуть все первые пять пунктов, оставалось только одно противоречие. Муж Мокеевой следил за ней. Впрочем, и этому Шухов находил объяснение. Мокеева в темноте свободно могла ошибиться и принять за мужа другого человека, того же самого Иванова. «Не там ищем», — написал Кожохин. Ищем, ищем… А следил Иванов-икс. Мы ищем, он следит… Что-то в этом есть. Мы ищем — он следит… Он ищет — мы следим… Да, в этом что-то есть. Он ищет. Семь лет назад он искал Назарова. Допустим, что он искал его на протяжении всех семи лет. А как он это делал? Да и делал ли? Что-то больно фантастичная картина рисуется. Обедал Шухов без аппетита. Жевал вроде и не котлеты, а назойливую мысль об этом Иванове-иксе, который ищет Назарова в течение семи лет и настигает в момент, когда тот продает дом, чтобы удрать из города. И тут Шухова стали одолевать сомнения. Хорошо, допустим, что Назаров собрался удирать. Но был ли смысл обманывать Лизу Мокееву? Не было. А он отдает ей семь тысяч рублей и покупает билет в Сочи. На кой черт все это делается? Лизе он говорит, что едет в Курск, а сам собирается в Сочи. Нет, в этой путанице с билетом решительно невозможно разобраться. Да и на какие шиши Назаров собрался ехать в Сочи? Выходит, у него имелись еще деньги. Куда же они девались? Хотя это просто. Деньги мог сцапать этот Иванов-икс. А как же он все-таки искал Назарова? Семь лет назад написал его матери. Ответа не последовало. Тогда? Что он предпринял тогда? И тут вдруг мысль пришла. Простая, как яйцо. Шухов обругал себя за недогадливость. Жена едва сумела уговорить его допить компот. Он даже не стал звонить в адресное бюро, пошел туда сам. — Вот что, девушки, — с порога начал он. — Я ищу Назарова Виктора Васильевича, 1922 года рождения. — Пожалуйста, Павел Михайлович, — улыбнулась старшая. Покрутила барабан, заглянула в книжку. — Вам на бумажке адрес написать? — Не стоит, — сказал Шухов. — Но предположим, вы написали этот адрес на бумажке. Что дальше? Девушка удивилась: — Как что дальше? Идите и беседуйте с адресатом. Шухов уточнил вопрос: — А у вас не остается никаких следов о спрашивающем? — Нет. Хотя… В тех случаях, когда поступают иногородние запросы, могут сохраниться письма. — Вот-вот. — Шухов, помрачневший было, стал оттаивать. — Давайте поглядим, не сохранилось ли каких писем насчет этого самого Назарова. — Это непросто, — сказала старшая. — Важно это, — подчеркнул Шухов. — Я позвоню вам. Но за результат не ручаюсь. Далеко не все сохраняется. Она позвонила на следующий день. — Вы везучий, Павел Михайлович. Был запрос о Назарове. В феврале этого года. Интересуется Иванов Сергей Ильич из Курска. Пишет, что потерял старого фронтового товарища. — Адрес — до востребования? — осведомился Шухов. — Нет, есть и улица, и дом, и квартира. Все как положено. — Цветы за мной, — пообещал Шухов. — Продиктуйте-ка мне адресок этого Сергея Ильича. Вечером он звонил в Курск. Утром пришел ответ: «Сергей Ильич Иванов умер в апреле текущего года». Шухов даже застонал от огорчения. Здание версии, которое он начал было сооружать, развалилось, не поднявшись от фундамента. Иванова не стало. Возник икс. Поразмыслив, Шухов тем не менее решил не снимать с повестки дня вопрос об этом Иванове. Как бы там ни обстояли дела, Иванов все-таки при жизни настойчиво интересовался Назаровым. За семь лет он наверняка сделал не один запрос. Теперь требовалось выяснить, какую цель при этом Иванов преследовал. Надо было съездить в Курск и на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он отдавал себе, правда, отчет в том, что вся эта история с Ивановым может не стоить выеденного яйца. Но чем черт не шутит! Пока же Шухов ограничился немногим: до принятия окончательного решения о поездке он запросил из Курска анкетные данные Иванова. Странное дело, размышлял он, возвращаясь домой. На первый взгляд тривиальное убийство из корыстных побуждений. Копнули поглубже — жертва преступления далеко не невинная овечка, а полноценный подлец. Неизвестно, что еще привезет Ко-жохин, но уже и того, что он написал, достаточно, чтобы задуматься. «Не там ищем». Может, и не там. В самом деле, почему Мокеева оказалась в поле зрения следствия? Потому, что у нее обнаружили семь тысяч рублей? Деньги большие. Но это еще ни о чем не говорит. А старик Комаров? Подозрительно ведет себя? Чушь какая-то. Эдуард Мокеев? Да он просто чудак. Следил за женой? Померещилось ей, и вся недолга. Комаров Дмитрий? В лес ходил утром? Бред свинячий. Разве это повод для подозрений. А Загоруйко? Мне не понравился. Первый свидетель? В каждом деле есть первые свидетели. Как же, проверить захотелось. Ну и проверил. Себя теперь проверь. «Не там ищем». Но где же все-таки это «там» находится? Этот вопрос не давал ему спать. Ворочался, выходил курить, смотрел в темное окно, думал. Но в голову лезло все не то. Подумал о книгах, которые читал Назаров. Надо их повнимательней полистать. Аквариум? Главная загвоздка. Почему он оказался разбитым? Стоял в стороне, на подоконнике. Назарова же зарезали в сенцах. Без борьбы, одним ударом ножа. Похоже, что убитый знал, кому открывает дверь. Этот икс был ему знаком. И ножа не нашли. Второпях, может, убийца кокнул аквариум. Да нет, не похоже. Керосин он лил на кровать не торопясь. Тоже какая-то ерунда. Почему именно на кровать? И зачем вообще этот пожар был нужен? Допустим, убийца — Комаров-старший. С какой стати ему дом жечь? Купил для сына, свадьбу играть собирался. Да вся психика старика дыбом встала бы. Жечь дом! Разве для того, чтобы скрыть следы убийства? Но в таком случае надо было и труп на кровать тащить. В первую очередь. А он что сделал? Аквариум разбил, керосин на кровать вылил, предварительно туда еще книжки с полки побросал. И времени на все — десять — пятнадцать минут. Кожохин — молодец. В первый же час на эту несуразицу обратил внимание. Но толку что? Нелепые действия убийцы так и не находили объяснения. Шухов не однажды пытался поставить себя на место убийцы. Вот он подходит к дому. Стучится в дверь. Назаров окликает человека, убеждается, что это не посторонний, и открывает ему, не опасаясь, не ожидая беды. Убийца взмахивает рукой. Назаров падает. Убийца проходит мимо трупа, находит канистру с керосином. Впрочем, искать ее не нужно, она стоит тут же, в сенцах. Затем этот человек начинает совершать алогичные поступки: сваливает книги на кровать, обливает их керосином, поджигает, разбивает аквариум в соседней комнате и исчезает. Над этой бессмыслицей они с Кожохиным думали не раз. И всегда попадали в тупик, из которого не находили выхода. Сначала они предположили, что расчет убийцы был простым и ясным. Он хотел скрыть следы преступления, услышал шум машины и удрал. Но идиотская организация поджога, аквариум сводили их предположения к нулю. — Может, аффект? — говорил Кожохин. — Исключается, — отрицал Шухов. — Даже заведомо сумасшедший этого не станет делать. — Ну а если? — осторожно настаивал Кожохин. — Мы бы тогда не ковырялись в этой абракадабре, как жуки в навозе, — парировал Шухов. — И вообще я терпеть не могу сослагательного наклонения. Если бы да кабы… Во всей этой бессмыслице должна быть и есть мысль. Я уверен: убийца знал, что делал. Мы же чего-то не додумываем. Не хватает у нас ума. Потом Кожохин уехал. Шухов в который уже раз перебирал в уме гирлянду фактов, версий и догадок, пока одна мысль не приковала его внимание. Позавтракав, он решил сходить на Тополевскую, чтобы на месте проверить то, что пришло в голову ночью. На крылечке горелого дома сидел милиционер и кормил булкой лопоухого, похожего на медвежонка щенка. В соседних домах шла обычная жизнь. Ребятишки стайкой бродили по грядкам, с которых убирали капусту, находили крупные кочерыжки, смачно хрупали, изредка бросая любопытные взгляды на страшный дом. Шухов поздоровался с милиционером, щенок в момент обслюнявил ему брюки и замахал коротеньким хвостиком в ожидании награды. Не получив ничего, он отбежал к милиционеру. Шухов открыл дверь. Запах гари еще не выветрился из комнат. Лужи высохли. Осколки аквариума все так же блестели на полу. Шухов наклонился, собрал их в кучу и, достав из кармана рулетку, принялся обмерять каждый в отдельности. При этом он придерживался определенной системы. Обмер занял с полчаса. Шухов устал сидеть на корточках. Результаты вычислений он записал в блокнот. Потом отдохнул на стуле в кухне, выкурил сигарету и двинулся на колхозный рынок. Там походил среди продавцов разной живности, поговорил с некоторыми и только тогда отправился на службу. Минут через сорок раздался телефонный звонок. Шухов поднял трубку. — Павел Михайлович. — Дежурный тихо посмеивался. — Тут к вам пришли. С аквариумом. Рыбками решили побаловаться? Пропустить? — Пропустить, — без улыбки сказал Шухов. И пробормотал, кладя трубку: — Теперь надо попросить сюда Лизочку Мокееву. Что-то она мне скажет?Три часа тридцать четыре минуты… Красный листочек прикоснулся к руке. Обомлел Назаров, обмер на секунду, не понимая, что творится. Новенькая, хрустящая, казалось, вся прозрачная, лежала на его ладони десятка, упавшая с неба. Ойкнул Назаров, вскочил на ноги, глянул вокруг. Со всех сторон ветер мел к его ногам ассигнации. Неслись, как в сказочном сне, зелененькие, красненькие, летели над землей, планировали в воду и плыли корабликами. Закричал Назаров, рыбину на берегу оставил. Кинулся Назаров собирать деньги, комкать, в карманы запихивать. И вспомнил: самолет. Оттуда ведь прилетел денежный дождь, туда бежать надо, пока не сгорело свалившееся с неба богатство. Побежал. Бросил все свое имущество на берегу. Двух бумажек не стоило его добро вместе с толстолобом, бьющимся на траве. До болота добрался, запрыгал по кочкам, как по подушкам, летел, как на крыльях, не чуя ног, не замечая вокруг ничего, пока не обдало лицо жаром, пока не услышал треск пламени. Запомнил только: тикало там что-то. Остальное некогда было разглядывать. Стащил рубашку с потного тела, швырял в нее пачки сотенных, как карточные колоды. Считал: одна, другая, третья. По сто бумажек в пачке. Накидал пятьдесят штук, опомнился, перевел дух. Огляделся вокруг с опаской: а вдруг видит кто? Но кто там мог увидеть Назарова, разве зверь какой. Да и звери, наверное, разбежались от взрыва. Сам как зверь был. Остальное все, что там было, в огонь покидал. Понимал: замести следы надо. Придут скоро люди сюда, комиссии разные работать начнут, изучать причины катастрофы, считать остатки, соображать, а не унесли ли отсюда толику. Обратно к берегу бежал, оглядывался, не прилетел ли уж кто. Но тихо было в лесу. Всхлипывали только болотные кочки под ногами у Назарова, тонули, потом выпрямлялись, стояли, по-прежнему омытые водицей, свеженькие, будто не тронутые. Скрыло болото следы Назарова. А огонь покрыл недостачу. Распрямилась трава на лугу, осталась на ней, правда, темная полоска, но и та с первой росой пропала. Собрал Назаров свои пожитки на берегу, в лодку покидал. Толстолоба в реку бросил. Потом жалел: пригодилась бы рыбина, все-таки еда. Но не до рыбы было тогда Назарову. Торопился, следы свои заметал, хотелось, чтобы все чисто было. Знал: есть опытные следопыты: по головешке от костра догадаются, кто тут ночевал. Осмотрелся: ничего не осталось на берегу. Краснела лишь десятка, случайно прилипшая к кусту. «Пусть ее», — подумал. Оттолкнулся, уплыл, растворился в наступившей ночи. К утру отмахал километров пятьдесят вниз по течению. Нагрузил лодку камнями, затопил в глубоком месте. Затемно дошагал до райцентра, постучался к знакомому охотнику. Соврал, где был. Но тот и внимания не обратил. Пожил у охотника дней пять, потом на попутной машине вернулся в леспромхоз. Слухи о пропавшем самолете доехали туда вместе с ним. Далеко стоял леспромхоз от места гибели самолета. Страх стал наползать исподволь, незаметно. О самолете в леспромхозе поговорили недолго: поахали бабы, потрепались мужики, может — день, может — два. И жизнь пошла своим чередом. А Назаров все прислушивался: не сболтнет ли кто о работе комиссии, не удастся ли ему узнать, чем дело кончилось. Сам разговоры заводить боялся: а ну как-нибудь ненароком кто-нибудь поинтересуется, где был Назаров да что делал в те дни, когда самолет разбился. Опасался также, что выдаст его выражение лица. Томился неизвестностью этой, беспокоился.

Нервничать стал. Стука в дверь ждал. Показалось как-то, что участковый в его сторону косо поглядывает, следит вроде. Обходить его стал стороной. Однажды ночью сон увидел: падает самолет, дым за ним и деньги летят. Проснулся: рубашка мокрая, в ушах голос пронзительный звенит: «Или ты вор?» Вор! Всю жизнь к этому шел. Наматывался клубок да и намотался. Случай? Нет, все законно. Не мог Назаров иначе поступить. Случай случаем, но, попадись Назарову что-нибудь другое в таком же роде, мимо не прошел бы. Готов был к этому. «За что боролись?» Когда рубашку с тела рвал, пачки в нее пихал, о чем думал? О счастье? О том, что повезло? В бредовом полусне что виделось? Осетрина на серебряном блюде? Дом над морем? И длинный лимузин. На подножке стройная женская нога. Многое виделось. Тени во фраках, бальные платья, свечи, лакеи из материных рассказов. Бред, мираж. А в жизни — восьмилетка незаконченная, какие-то дурацкие курсы, черные очки слепого. И работа без вдохновения. Туман. В тумане лицо школьного учителя математики: «Дети, теоремой мы называем такие рассуждения… Если в теореме заключение сделать условием, а условие заключением, то первая будет прямой, а вторая обратной… Дети, если верна прямая теорема, то это еще не значит, что верна и обратная ей…» Если ты всю жизнь считаешь, что в деньгах счастье… Если ты, наконец, крадешь их, добываешь… «Дети, если верна прямая теорема, если в деньгах счастье…» Нет, это уже говорит не школьный учитель. А кто? Слепой? Слепой никогда не увлекался математикой, он был слабаком. У Витьки же были способности. Витька щелкал задачки как белка орешки. Только он никому не давал списывать. Он хотел, чтобы из всего класса у него одного было записано в тетрадке правильное решение. «Дети, если верна прямая теорема…» Прямая, может быть, верна. С обратной вышел конфуз. Краденые деньги не дали Назарову счастья. А ведь ему всегда хорошо даваласьматематика… Три часа тридцать пять минут… Красные листочки несутся по ветру, опаляют мечтой о немыслимом счастье. Синий лимузин мчится к морю, которое Назаров видел только на картинках. Загорелые тела на пляже. Смуглые красивые женщины. И не надо ничего делать. Ничего. Только то, что захочется, только то, что привидится ленивому воображению, размягченному солнцем мозгу. «Дети, это еще не значит, что верна и обратная ей…» Восемь лет потребовалось на то, чтобы это осознать. Школьные прописи часто доходят до сознания с большим опозданием. Опыт поколений, зафиксированный в школьных истинах, выглядит скучно, невыразительно. Его надо прочувствовать на своей шкуре, перевести в собственный опыт, тогда он станет осязаемым, зримым, весомым. Но сплошь и рядом это приходит поздно, как к Назарову. Он всю жизнь хотел стать лучше других, а стал хуже. «Дети, если верна прямая…» Он старался не раздумывать особенно, на что истратит деньги, когда придет время. С самого начала Назаров определил точный срок, когда он сможет разменять первую сотенную из полумиллиона. Ждать надо было десять лет и еще один день. Он должен был сжаться на десять лет, спрятаться поглубже от посторонних глаз, от чутких ушей. Он слышал, что есть так называемый срок давности, после которого поиски украденного прекращаются. Уточнить, так ли это, он боялся. Уточнить можно будет, когда истекут десять лет, когда никто уже не будет заглядывать в списки с номерами пропавших ассигнаций. Он решил выкинуть эти десять лет из жизни. А потом… Однако тут воображение отказывало. Оно помогало ему в детстве изобретать подлые штучки, гадить. В юности — ненавидеть. В зрелости — ждать. Ему казалось, что у него богатое воображение. Он ошибался. Он мог хорошо соображать — и только. Поэтому он так легко и решился на десять лет добровольного несения тяжкого креста. Постепенно он понял, насколько тяжким был этот крест. А когда к этой ноше присовокупилась другая, не менее тяжелая, Назаров почувствовал себя совсем уж плохо. В его жизнь вошел человек, который узнал про деньги. Три часа тридцать шесть минут… Кружится секундная стрелка, бегут воспоминания. По кругу, по раз установленному маршруту. И не свернуть с него, не сойти. Остановиться бы, сесть на травку у обочины дороги да глядеть на пробегающие мимо машины. Как тогда… — Эй, дядя, чего губы развесил? Устал? Садись, подвезу. Тебе куда? Сибирь. Вьется асфальтированная лента, бежит под колеса. Шофер, грузный парень в синем комбинезоне, помалкивает, ждет первых слов от случайного пассажира. Назарову не хочется говорить. Три дня назад он наконец уволился из леспромхоза. Целый год терпел, потом решился. Упрятал свои пожитки в чемоданчик, снял с книжки сбережения — девять тысяч накопилось за пятнадцать лет. Усмехнулся: чуть не забыл сберкнижку эту. Сверток с сотенными в дорожный мешок сунул, на станцию пешком пришел. Купил билет, в купе зашел, все как положено. Четвертая полка ночью свободной была. А утром проснулся — и обмер: сидит напротив милицейский лейтенант, с попутчиками беседует. Глянул на него мельком, отвел глаза. Просидел Назаров как каменный полдня на полке, ждал — встанет мильтон, руку на плечо положит… Но обошлось только испугом. Три станции мелькнули за окнами: не встал милиционер, болтал с каким-то командированным. На четвертой поднялся Назаров с полки своей нижней, подхватил мешок с чемоданом и ринулся прочь из вагона. Опомнился, когда километров двенадцать от станции по шоссе протопал. Сел у дороги, вытер потный лоб рукавом: никто за ним не гнался. Машины мимо шли, не задерживались. Один грузовик скрипнул тормозами. — Так куда тебя грузить, мужичок? — осведомился шофер после пятиминутного молчания. — Да на первой станции. — Чего пешком пошел, денег нет, что ли? — Есть деньги. Так уж вышло. К брату надо было сходить. — А, вон оно что. Разговор не вязался. На станции Назаров поблагодарил водителя, вскинул мешочек свой на плечо, пошел бродить по городу. Пообедал в чайной, на вокзал поплелся. До вечера толкался в очереди за билетом. Купил, задумался, что дальше делать. Сосед по очереди, чернявый остродицый тип, выбился из толпы, подобрался к Назарову, стукнул по мешку ладонью, спросил негромко: — До Москвы? — Ага, — откликнулся Назаров, отворачивая мешок подальше от незнакомца. — Ночевать-то есть где? — А тут, наверное, — махнул рукой Назаров, указывая на лавки вокзальные. — Попутчики ведь мы, — сказал остролицый. — Может, до гостиницы дотопаем? Все веселее вместе ночь коротать! — А когда Назаров засомневался, есть ли в гостинице номера свободные, успокоил, сказал, что для него это не проблема. По дороге спросил: — С Оки, что ли? Окаешь здорово. — С Волги, — машинально сказал Назаров и назвал городок, в котором родился. Ох, как жалел потом об этом. В гостинице болтливый человек сказал Назарову: — Давай ксиву твою. Сейчас мы это дело провернем. Отдал паспорт Назаров. Вторую глупость совершил. Чернявый заглянул в документ: «Назаров, значит? Ну а я Иванов, Сергеем звать. Считай, знакомы». Понес документы к окошечку, поболтал с девчонкой, запросто оформил номер на двоих. Поужинали в ресторане. Иванов четыреста граммов водки заказал, селедку, салат какой-то. — Я не пью, — сказал Назаров. — Чего так? — удивился Иванов. — Болен. Туберкулез у меня, — соврал Назаров. Иванов не сказал ни слова, но удивился вроде, хмыкнул пьяно. Мешок свой Назаров на ночь под голову умостил. Утром на поезд сели. Как сейчас помнит Назаров… Ровно в три часа тридцать семь минут…
Глава шестая
Кожохин возвратился из командировки посвежевший, но невеселый. В ответ на вопросительный взгляд Шухова развел руками. — Пустой номер, — сказал только, подсел к столу, вытащил из кармана пачку сигарет и принялся ее распечатывать. — А конкретнее? — спросил Шухов. — Текучесть кадров, — сказал Кожохин, закуривая. — За восемь лет там все переменилось. Покопался я в делах архивных, со старожилами потолковал. Не помнят в леспромхозе Назарова. Кое у кого, правда, фамилия на слуху. Но интересного мне мало сообщили, черт его знает: работал человек пятнадцать лет, а памяти никакой по себе не оставил. — Значит, ничего? — В документах — да. Показали мне там женщину одну. Любовь вроде у нее с Назаровым была. Побеседовал с ней. Занятная была в молодости баба, заводная. Сейчас постарела, остепенилась. Замужем. Говорила сперва, что о Назарове ничего не знает. Бодягу какую-то плела. Это когда я к ней на квартиру пришел. А на другой день явилась в гостиницу — глаза любопытные, чувствую, мнется, спросить что-то хочет. — Ну? — Спросила: «Или убил кого Назаров?» Я вижу — разговор налаживается. Да нет, говорю, его убили. Усмехнулась, покачала головой: «Добился, значит, Витя, заработал». Я ей: «Извините, уважаемая, загадочки для мужа оставьте, а тут дело серьезное». Потолковали мы этаким манером минут пять. — Не тяни, — нетерпеливо бросил Шухов. — Да что тянуть-то, — сказал Кожохин. — Она, видишь ли, в чем-то подозревала Назарова. А в чем — сама не понимала. Ненастоящим он ей показался. Так и сказала: «Ненастоящий». Вот и разбирайся теперь. Поди гадай. Не пил. Чудным ей казалось, что он непьющий. Одним словом, таинственная женская логика… Пьет мужик — плохо. Не пьет — тоже нехорошо. — Н-да. Про Иванова я тебя не спрашиваю. — Не было там такого, — сказал Кожохин. — Вот его анкетка. Полюбуйся. — Шухов протянул листок через стол. Кожохин прочитал, хмыкнул. — Личность! — Да. Заметь: из тюрьмы он вышел восемь лет назад. Раза четыре за свою жизнь привлекался за аферы. Сообразительная сволочь была. Последняя его проделка одна чего стоит. — Это какая? — Да вот. Писал письма родственникам умерших людей, требовал с них долги, которые будто бы покойники делали. Суммы небольшие, а если все сложить, нахапал порядочно. — Вот гад! — После отсидки вернулся в Курск и восемь лет честно работал. Так, во всяком случае, там считают. А на самом деле, как я выяснил, все эти годы искал Назарова. Нашел. Но добраться до него не сумел, смерть помешала. — И кто-то другой прикончил Назарова, — сказал Кожохин. — Можно предположить связь: Назаров — Иванов — икс-убийца, — продолжил свою мысль Шухов. — Я было подумал, что местью дело пахнет. А потом эту версию отбросил, занялся загадкой разбитого аквариума. Ты вовремя явился. Сегодня посмотрим, что из этого выйдет. Я жду Мокееву. — Все-таки аквариум. Я, между прочим, тоже о нем думал. Да только без толку… На окне стоял аквариум. Копия того, разбитого. Сквозь стекло были видны черно-красные рыбешки, сновавшие взад и вперед. Шухов остановился посреди комнаты, рядом с Лизой Мокеевой. Кожохин наблюдал за ними от двери. Женщина неохотно переступила порог этого дома. Она похудела, осунулась, выглядела усталой. Когда Шухов вызвал ее, Лиза Мокеева спросила: — Разве вы еще не арестовали Эдика? — Нет, — сказал Шухов. Женщина в упор взглянула на него. В ее глазах читалось недоумение. — Значит, не он? — с трудом выговорила она. Шухов переложил папку с протоколами с правой половины стола на левую и встал. — Мне уже надоело задавать вам один и тот же вопрос, — сказал он. — Но я его все-таки задам еще раз. Почему вы вбили в голову, что муж следил за вами? Ведь вы не видели этого человека вблизи. Как вы могли узнать его в темноте? Учтите, мы ставили опыт. В три часа с минутами на указанном вами расстоянии даже хорошо знакомые люди не могли распознать друг друга. У вас особенное зрение, да? — Он был моим мужем. — Резонно, ничего не скажешь. — Шухов сунул в рот сигарету, зажег, ткнул спичку в пепельницу. — Да ведь на таком расстоянии видно только темное пятно. Смутное, расплывчатое пятно. Понимаете? Абсолютно никаких деталей. Столб это или человек — различить невозможно. — Вам лучше знать. — Хорошо. Покончим пока с этим. Мы пригласили вас сегодня еще раз для того, чтобы вы помогли решить один вопрос. Вы помните аквариум, который стоял на окне у Назарова? Узнаете его, если увидите? — Да, я часто кормила рыбок. Помню. И вот они перед копией аквариума. Шухов спрашивает: — Похож? — Нет, это не тот. — Тот был разбит. Но мы постарались сделать точную копию. — Этот непохож. — Мокеева смотрит внимательно, качает головой. — Не пойму, но тут что-то не так. Тот был другой. Камни вроде не так лежали… — Камни на дне те же, — говорит Шухов. — Камни? — задумчиво повторяет Мокеева. — Камни? А, поняла, — оживилась она. — Здесь очень мало песка на дне. Раньше было больше. — Мы собрали весь песок с пола. — Нет, его было больше. Много было. — Так? — Шухов проводит пальцем черту на стекле. — Нет, повыше. Еще выше. Палец поднимается на двенадцать сантиметров от дна. — Теперь, кажется, так, — говорит женщина. Мокеева уходит. Шухов провожает ее до двери, возвращается, останавливается перед Кожохиным. На лице улыбка и вопрос: «Ну как? Что ты мне скажешь?» — Конечно, — говорит Кожохин. — Учтите, однако, что глазам Мокеевой доверять нельзя. С мужем она что-то путает. — В этом случае можно. Коробку, которую мастерил Назаров, помнишь? А книги? Я и с книгами разобрался. Они-то меня и навели на верную мысль. — Насчет книг не слышал. — Знаешь, эти книги мне все время не давали покоя. А вчера я понял тенденцию. Назаров в последнее время покупал и читал только такие произведения, в которых рассказывается о людях, заполучивших неожиданно крупные суммы нечестным путем. Его увлекала, видимо, психология их поведения. Он строил аналогии… — Сравнивал, — подхватил Кожохин. — Ты гениален, — засмеялся Шухов. — И вообще мы умные ребята. — Но деньги-то тю-тю. — Во-первых, неизвестно, деньги ли. Во-вторых, мне кажется, что они совсем не «тю-тю». — Не улавливаю, — сказал Кожохин. — Это, конечно, пока домыслы чистейшей воды. Но, думается, обоснованные. Как ведет себя старик Комаров? Жадный старик, упрямый. Сидит каждую ночь на крылечке около милиционера. Только что зарплату не просит. Предлог, так сказать, официальный у него имеется: дом стережет, не доверяет. Мало ли что? А вдруг опять пожар? Однако, если разобраться, предлог этот липовый. Комаров ведет себя глупо, даже с точки зрения самого Комарова. А он ведь не глуп. В чем же дело? Вот давай и вообразим, что старик Комаров видел, как убийца вышел из дома. Что в руках у этого икса? Та самая коробка, которую он вытащил из аквариума. В коробке — ценности или деньги. Старик Комаров — тип хитрый. Он не хуже той женщины из леспромхоза давно раскусил Назарова. А может, и подследить сумел когда-то. Короче говоря, икс деньги или ценности прячет в районе дома. Комаров это дело засекает. У него появляется мыслишка попользоваться. Но намерение свое ему не удается выполнить. К дому подкатывает такси. Шофер поднимает тревогу. — Смело, — сказал Кожохин. — Логики много только. И излишки перетягивают. — Не понимаю. — Какой смысл старику сидеть возле милиционера? Он же знает, что преступник не придет, пока дом охраняется. — А вдруг? Учти, что старик предпочитает доверять своим глазам. Может, он выжидает момента, когда милиционер отлучится. — Пойдем дальше, — сказал Кожохин. — Рассуждать так рассуждать. Почему икс не унес коробку? Зачем поджег дом? — Этого я не знаю. — Шухов погрустнел. — Это самое слабое место в моей гипотезе. Но проверить ее нужно. Обязательно нужно. — Как? — Надо подумать. До сих пор мы считали: сыр-бор горит из-за семи тысяч, в доме нечего искать. Поэтому и топтались на одном месте. — Не сказал бы, — заметил Кожохин. — Осматривали все тут довольно тщательно. Шухов обвел взглядом комнату, пошел к двери. На крыльце задержался, оглядел двор. — Ты меня извини, — сказал он Кожохину. — На крышу ведь не заглядывали? — Пожарники там работали, — сухо ответил Кожохин. — И я слазил. Поинтересовался. — Ну, не сердись. Не время сейчас в бутылку лезть. — Взгляд Шухова рассеянно скользил по двору, на котором росло два чахлых дерева да стояла покосившаяся уборная, прислоненная к глухому забору; на мгновение остановился на пустой собачьей будке, потом на бочке для воды, на аккуратно сложенной поленнице. Не на чем было задержаться взгляду, ничто не останавливало внимания: ну, где тут можно что-нибудь спрятать? В землю закопать? Некогда было убийце в земле ковыряться. За спиной слышалось ровное дыхание Кожохина. Он тоже смотрел во двор. Потом сказал: — Обыск назначим? — Ни в коем случае, — откликнулся Шухов. — Меня не оставляет ощущение, что этот икс наблюдает за происходящим, ждет своего часа. — В телескоп, — усмехнулся Кожохин. Шухов недовольно отмахнулся. Саркастически заметил: — Это ты оставь на будущее. Когда задумаешь писать детективный роман, используешь для сюжета. — Нет, кроме шуток. Вы поглядите на город. Видите? — Вижу. Интересно, сколько отсюда по прямой до Эдиного дома? Километра два? — Может, и два. В телескоп — метров тридцать. Во всяком случае, он, наверное, хорошо различает ваше вдохновенное лицо. Вы над такого рода гипотезой не задумывались? — Ерунда, — уверенно сказал Шухов. — Послушайте, Павел Михайлович. А что, если эта коробка давно зарыта у старика Комарова в подполье? Дом он поджег для отвода глаз. Вы руки его видели? Такие у него, понимаете, самостоятельные руки. Крепкие, жилистые. — Ты забыл об Иванове, — буркнул Шухов. — В эту версию он не укладывается. — Ему в нее не надо укладываться, — сказал Кожохин. — Одного Комарова хватит за глаза. Представьте, что они оба подбирались к Назарову, только с разных сторон. Иванов не успел, помер. А старику удалось. — Да, — вздохнул Шухов. — Очень возможно, что ты прав. Но мне моя версия нравится. — Вашими бы устами, — сказал Кожохин. Они продолжали стоять на крыльце, перебрасываясь фразами, глядели на двор, на соседние дома, прикидывали, где можно спрятать гипотетическую коробку так, чтобы она была под руками в любой момент. — Эта баночка, — заметил Кожохин, — довольно размерная. — Да. Аквариум у него был просторный. И высокий. Соображал Назаров, ничего не скажешь. Кожохин заглянул в бочку для воды. Шухов укоризненно заметил: — Не торопись. Ну тебя к дьяволу. Испортить все легко можно. — Ладно, не буду, — виновато улыбнулся Кожохин. — Но что делать? — Придем вечером, когда стемнеет. Старика Комарова надо на это время убрать. Вызовем его в отделение на предмет уточнения кое-каких деталей. И коробка нашлась. Шухов мог торжествовать: его версия подтвердилась. Железная коробка мирно покоилась на крыше уборной, прикрытая тряпкой. Со двора эту вещь увидеть было нельзя, ибо покатая крыша мешала обзору. Кожохин тихо выругался, снимая коробку. Уж очень просто все оказалось. Шухов взвесил коробку на ладони. — А все-таки мы гениальные ребята, — сказал он. — Рановато радоваться, — хмуро заметил Кожохин, когда в присутствии многочисленной комиссии, созванной по этому случаю, коробка была вскрыта и глазам собравшихся предстали пятьдесят свеженьких пачек, в каждой из которых насчитывалось по десять тысяч рублей. — Банк он ограбил? Вроде такого у нас не водится. Задачка? — Эта задачка для ученика седьмого класса, — сказал на другое утро Шухов. — Нам надо свою решать. Смотаюсь-ка я в Курск. Самое время сейчас. Вернулся он через день. Зашел к Кожохину. — Ну как? — спросил тот. — Подтвердилось с Ивановым? Или опять дырка в бублике? Шухов положил на стол фотографию. — Узнаешь? — Что за черт? — воскликнул Кожохин, вскакивая со стула. — Этого не может быть. Он перевернул фото: «На память о Ялте». Ругнулся, снова перевернул, рассматривая лица на карточке. — Нет, вы все-таки объясните. — А чего объяснять? — спросил, в свою очередь, Шухов. — По-моему, и так яснее ясного. Кожохин бросил фото на стол. Поднял. Поднес к глазам. На него по-прежнему смотрели два улыбающихся лица. — Нет, это никуда не годится, — только и произнес он. — Еще как годится, — сказал Шухов, пряча фотографию. — Эта карточка и мне по мозгам ударила. У Иванова папаша живой оказался. Глухой как пень. И кажется, немножко того, заговаривается. Я уж было совсем отчаялся. Папаша мне про сына толкует, а я слушаю да по сторонам поглядываю. Ну и вдруг увидел эту фотографию на стене. Смотрю и глазам не верю. На обратном пути в самолете сидел и все думал: в чем же тут фокус? В общих чертах уяснил, как развивались события. Кстати, коробку вы сохранили? — Должно быть. А что? — Как что? Это сейчас единственная вещь, которая поможет уличить убийцу. Доходит? Его только с поличным можно брать. Улик-то у нас фактически нет. Да, чуть не забыл. Охрана дома ведется? Не сняли? — Нет. — Отлично. — Но как? — простонал Кожохин. — Растолкуйте вы мне. Не могу я сообразить ничего. Когда же был убит Назаров? Ведь без четверти четыре он был жив… — Растолкую, — пообещал Шухов. — А может, ты сам догадаешься? А?Три часа тридцать семь минут… Поезд мягко тронулся с места. Глухо стукнули буфера. Иванов повертелся в купе, сбегал к проводнице, пожаловался на усталость, попросил поскорее принести постель. Назаров как сел, положил руки на мешок, так и не двинулся с места. У него болела голова. Ночью спал плохо, все поглядывал на соседа по номеру, встал рано. Иванов же суетился, как стрекоза, заговаривал, смеялся беспричинно. Наконец уселся, раскрыл свой чемоданчик, вытащил колбасу, сыр, бутылку водки, водрузил все это на столик, предварительно сбросив с него лампу, позвал: — Давай, Витя, подкрепимся малость. Он уже звал его Витей. Назаров обращался подчеркнуто вежливо: «вы». По имени не называл, приглядывался, пытался сообразить, что за попутчик ему достался. Гадал: не то свой в доску, не то себе на уме. Похож вроде на уголовника. А в общем, черт его знает. От сыра не отказался. Покопавшись в своем чемодане, вытащил банку консервов, вяленую рыбку. Положил на стол: — Закусочка вот. Иванов налил полстакана, поднял, повертел перед носом, губами почмокал: — Твое здоровье, Витя. Выпил одним глотком, понюхал корочку, принялся рыбку раздирать. Назаров сосал сухой сыр, сидел, привалившись к мешку спиной, глядел на летящие кусты за окном. Лениво думал: «Плохо, что вдвоем в купе. Выйти куда понадобится: как быть? Мешок с собой тащить? Глупо, на подозрения наведет. В гостинице уже раз сглупил: догадался, дурак, под голову сунуть». Думать думал, а знал твердо: не расстанется с мешком, не оставит его. Пусть что угодно воображает попутчик. Пусть хоть за ненормального считает. Не бросит Назаров то, что досталось ему, что с неба свалилось, на горящих белых крыльях прилетело. Дернулась, стукнула дверь, отъезжая в сторону. Проводница белье внесла. Брала рубли, головой качала, на водку поглядывая. Иванов ухмылялся, балабонил что-то. К пяти часам утихомирился. Пиджачок сбросил, на крючок повесил. Ботинки под лавку затолкал. Завалился в брюках под простыню, захрапел. Назаров подождал минут десять, поднялся, бочком пробрался к двери. Мешок нес с собой. Нажал на ручку, отодвинул дверь тихонько, выглянул в коридор. Быстро в туалет сбегал, вернулся, улегся. Иванов бормотнул во сне, отвернулся лицом к стенке, задышал ровно. В девять проводница чай представила. В вагоне движение началось. К окнам пижамники прилепились, курили, брились. Двери то и дело открывались. В туалет длинная очередь выстроилась. Иванов в соседнее купе закатился, в карты играть сели там, зашумели, устраиваясь, потом затихли. В обед Иванов забежал на минуту, зыркнул глазами по купе, водку оставшуюся сцапал и опять к соседям надолго подался. Назарову сказал только: — Ты не заболел, Витя? — Да нет, — ответил Назаров и отвернулся к окну. — Ну и ладно. Ложась спать, Иванов внимательно оглядел попутчика и сказал, будто продолжая обеденный разговор: — Чего грустить-то? Домой ведь едешь. Не в тюрьму… Три часа тридцать восемь минут… Не в тюрьму? В тюрьме, наверное, легче. Думать не надо, бояться ничего не надо. Дыши себе в окошечко зарешеченное, на уголок неба голубого поглядывай. Не сидел в тюрьме Назаров, не знает он о тюрьме ничего. А вот сумел сам себе тюрьму устроить. В собственном доме с голубыми ставенками. Чем не тюрьма, только что без решеток. Лизу вот еще встретил. Не то полюбил, не то так просто, скуку мужскую отводит. Аквариум завел. Не для рыбок, для денег. Лежат они на дне, песочком присыпаны. Над ними рыбки плавают, хвостами шевелят. К стенкам подплывают, глаза пучат, носами стекло пробуют. Прозрачные стенки, да твердые, не выскочить рыбкам на волю. Чем не тюрьма? Свету много, вода есть, корму Назаров дает им навалом. И богатство тут же, на дне, лежит. Полмиллиона. А жизнь к пятидесяти подкатывает. «Дети, если верна прямая теорема, это еще не значит, что верна и обратная ей». Как решить эту теорему? Как Лизе сказать? «Куда ты торопишься, Виктор?» К самолету разбитому он торопился. Отделаться от Иванова торопился. А сейчас куда спешит? Страшно стало. Старика Комарова бояться начал: подозревает что-то хрыч. Лизы боится: не проболтаться бы. Людей сторонится. Много их ходит мимо. А что за люди, неизвестно. Не у всех ведь черные очки, как у слепого. Домой, сказал тогда Иванов. Подумалось: нет у него дома и не было никогда. Иванов все допытывался, куда Назаров подаваться решил. Соврал, сказал, что на Волгу, к матери, едет. И правильно сделал: вон ведь как с Ивановым этим проклятым дело повернулось. А тут и с Комаровым что-то неладное выходит. Заявится сегодня вдруг старик Комаров да и скажет: «А ну-ка, парень, подвинься». Что делать останется Назарову? «Или убил кого?» Нет, не убил никого. А мог бы, пожалуй. Давно уже ту черту перешел, что людей от убийц отделяет. Не знал только, где она пролегла, та черта, не ведал, когда переходил. Баба-то леспромхозовская эвон еще когда свой вопрос задавала. На лице, значит, это написано. В глазах, наверное, стоит. А с Лизой загадка. Два месяца живет с ним, и ничего, молчит, вопросов глупых не задает. Неужто не поняла? Или таится? Вдруг и она знает про деньги? Да нет, собирается сейчас Лиза в Харьков, как договорились. И забот у нее почти никаких нету. Дал ей Назаров пачку — на дом, сказал. Семь тысяч. Что это за деньги — кот наплакал. Их Назаров на Дальнем Востоке заработал за пятнадцать лет беспорочной трудовой жизни. Пятьсот тысяч ей бы показать. Распаять коробку, сорвать обертки да кинуть по квартире. «Видишь, какой к тебе муж идет!» И в глаза заглянуть при этом: что там? Мелькнет ли то, что у Назарова мелькало, когда в зеркало смотрелся? Пустое, холодное, блестящее. И жаркое, как огонь в камельке. Это потом он привык, притерпелся, равнодушно пачки сотенных перебирал, когда перепрятывать приходилось. А часто перепрятывал, пока не догадался аквариум соорудить. Сначала в печке держал, потом к зиме здешней первой под пол уложил. Да все метилось: бросается в глаза половица покалеченная. И боялся: как придет кто в дом, так Назаров на то место поглядывает, где деньги лежат, не может взора оторвать. Теперь хорошо устроился. На аквариум поглядывать при ком угодно можно. Как там рыбки живут? Не пора ли подкормить? И никому невдомек, что не нужны рыбки Назарову, что на деньги он взгляды бросает, справиться с собой не может. Год пролежали тысячи в подводном царстве. Нынче срок приспел, вынимать их надо. Опять будет мучиться, от чужого глаза прятать, дрожать. Как от Иванова прятал тогда. Да не уберег, уследил Иванов воровским глазом своим. На четвертый день поймал он Назарова, когда тот сверток из мешка вынул, пачки потуже перевязывал: растрепалась упаковка в дороге. — Ты, Витя, инкассатор, что ли? Оглянулся, диким криком захлебнулся, деньги к груди прижал. Уследил Иванов все-таки, сумел незаметно в купе забраться. Стоит, ухмыляется, руку протягивает. — Да ты не пугайся, — сказал будто ласково, а сам смотрит нехорошо: к деньгам, как к магниту, тянется. Отпрыгнул Назаров, мешок за спину спрятал, а сказать ничего не может: в горле комок какой-то застрял, никак не проглотит. — Сколько увел? — деловым тоном спросил Иванов. — Да ты что, очумел совсем от радости? — Уйди, — прохрипел наконец Назаров. — Уйди, а то зашибу ненароком. — Ну, это еще мы будем поглядеть, — сказал Иванов спокойно. — Давно я приметил, что не в себе ты, Витя. И мешочек бережешь, как здоровье свое драгоценное. Думал, гостинцы какие везешь в столицу нашу распрекрасную. Балычком свою матушку хочешь попотчевать. Или икоркой красненькой. И смотри-ка, угадал почти. Ну так как, говорить будешь? — закончил он жестко, будто приказал. — Не обязан, — выдавил Назаров. — Да ведь это как сказать. Мне, может, и не обязан. А вдоль этой линии милицейских отделений как сельдей в бочке понапихано. Там что скажешь? Дипкурьером представишься? Рожа у тебя не дипломатическая, не поверят. И мешочек не такой, в каком меморандумы доставляют. Поезд стал замедлять ход. Замелькали пристанционные постройки. «Уйду сейчас, — подумал Назаров. — Остановится поезд — и уйду». Но не ушел. Иванов спиной к двери встал, ножичек вынул, поигрывает. И вдруг ручка у двери дергаться стала. Иванов ножик в карман, отодвинулся. В купе новый пассажир ввалился. Иванов засуетился, затормошил Назарова. «Пойдем, Витя, на вокзал сбегаем, коржиков купим, яичек». Потащил Назарова из вагона. «А мешочек-то оставь, товарищ за ним приглядит. Вы уж, пожалуйста, мы в момент обернемся». И понял Назаров, что сила на него наехала, не вырваться теперь, не отбояриться. Пошел за Ивановым. Тот и в самом деле к ларьку повел, коржиков купил, бутылку пива. В вагон вместе вошли, а в тамбуре остановился Иванов и попридержал Назарова за локоток: — Поговорим. — Не о чем, — отрубил Назаров. Однако чувствовал: что скажет ему Иванов, то и будет. Понял, что настигла его, видно, судьба и не отступит, как ни просись. — Откуда деньги? Рассказал Назаров про самолет. «Подкрепление в банк везли, значит, — сообразил Иванов. — После-реформенные денежки». И деловито осведомился: — Сколько загреб? — Пятьсот тысяч. — Ого, — удивился Иванов. — Везет мне. Недаром еще на вокзале потянуло меня к тебе, Витя. Будто знал. Значит, так: тридцать пачек я себе заберу, тебе двадцати за глаза довольно. Поделим сейчас же, в уборной. — А пассажир? — Что пассажир? Хотя действительно. Неудобно таскать это хозяйство по вагону. В глаза может броситься. Ладно. До Москвы вопрос остается открытым. И до самой Москвы не отпускал Иванов Назарова от себя ни на шаг. В карты играть больше не ходил, водки не покупал, за Назаровым, как за любимой женой, ухаживал. А Назаров пообвыкся, первый страх сбросил, соображать принялся, что можно в этом случае предпринять. Жалко ему было тридцать пачек ни за что отдавать. Планы разные строить начал. Думал: заснет Иванов, а ему исчезнуть незаметно удастся. Не вышло: стерег тот Назарова, как кошка мышкину норку, при каждом слабом ночном шорохе голову вскидывал. Много способов избавиться от Иванова перебрал Назаров, а подходящего все не находилось. На перрон в Москве они вышли вместе. Иванов Назарова чуть не под руку держал. Балагурил, торопил. Назаров резонно возражал: — Народу много. Ну где тут мешок открывать? Враз засекут, и попадемся мы как миленькие, — В скверике сядем, — тащил его Иванов в сторону от площади. Назаров упирался. — Поедем-ка подальше от центра, — говорил он, незаметно ведя Иванова к станции метро. Покрутились они на площади, в метро вошли. Тут Назаров и выказал еще раз свою сообразительность. Разменяли в кассе гривенник, по пятачку в руки взяли, к турникетам подошли. Иванов о подвохе не подумал, сунул монету в щель. Шагнул Иванов вперед, а Назаров, совавший свой пятак в соседний автомат, вдруг круто назад повернул, зацепил мешком какого-то человека, ругательство в спину заработал, но не оглянулся даже, рванул через вестибюль к выходу. Слышал только, кричал Иванов. Набежала на него толпа, и застрял в этой пробке Иванов, завяз, как таракан в тесте. «Догоню! — орал. — Из-под земли выну, гада». Не вынул. Растворился Назаров в московском многолюдстве. На другом вокзале билет купил в первый же поезд, а утром вылез в незнакомом городе. На работу оформился, дом купил, стал свой срок доживать. Жалел об одном: брякнул тогда Иванову о родине своей, волжском городке, и отрезал этим себя навсегда от матери, от старого дома, от детства. Догадывался: искать будет его Иванов, не захочет запросто от даровых монет отказаться. Боялся: вдруг найдет. Так под двойным страхом и жил все эти годы, глядел на белый свет из окошечка с голубыми ставенками, как рыбка из аквариума, думы тяжелые думал, к старику Комарову приглядывался с опаской, сон свой золотой по ночам смотрел, а потом мокрую рубашку ощупывал, курил, перед стеклянной посудиной стоя. И бежали мысли по кругу, по кольцу, из которого не предвиделось выхода. Давно отстучали Лизины каблучки под окном. Кажется, вечность прошла, а секундная стрелка на будильнике все по тому же месту скачет, торопится. Скоро уже и ночь начнет отползать, а Назаров все в той же позе сидит, на стрелки будильника смотрит. Три часа сорок минут…
Глава седьмая
— Парадоксальные вещи иногда лезут в голову, — сказал Шухов. Кожохин поднял глаза от бумаги, которую изучал, и усмехнулся, заметив, что это еще ничего, что бывает гораздо хуже. Например, он плохо представляет себе, как Шухов намерен организовать поимку убийцы. — Подожди, — сказал Шухов. — Дай человеку возможность высказаться. Я подумал об Эдике Мокееве. — Я тоже о нем думал. — Не в той плоскости. — Откуда вы знаете, в какой плоскости я думаю? — Не будем пререкаться, — миролюбиво произнес Шухов. — Парадокс в том, что Назаров и Мокеев вроде разные, далекие люди, на самом деле имеют, несут в себе, что ли, много общих, роднящих их черт. — Та-та-та, — пропел Кожохин. — В такой плоскости я действительно не думал. Но для чего, скажите, пожалуйста, я должен об этом думать? — Для усвоения кое-каких психологических деталей. В будущем может пригодиться. — Ну что ж. Развивайте. Хотя я уже, кажется, догадываюсь. Они оба оказались в силу каких-то причин отъединенными от общества. Ну и, как говорится, и т. д. Мысль не столько парадоксальная… — Сколько примитивная? — быстро произнес Шухов. — Ты это хочешь сказать? — Не только. Я понимаю, что оба они в той или иной степени — жертвы обстоятельств… — Ну и ерунда, — сказал Шухов. — Не жертвы, а творцы обстоятельств. Это во-первых. Во-вторых, оба одержимы. Настолько, что эта одержимость ослепила их. Мир для них перестал существовать. В-третьих… — Оба сошли с ума, — перебил Кожохин. — Нет, застыли, окружили себя паутиной. Как куколки в коконах. И ослепли. — Отсюда мораль: одержимый — потенциальный преступник. Так? Это ваш второй парадокс? — Чушь, — засмеялся Шухов. — Хотя слепая одержимость — вещь страшная. — Не новость, — заметил Кожохин. — Первобытные мыслители, по-моему, это тоже соображали. И отделяли своих шаманов, ставили им шалаши в сторонке от общих пещер. — Не загибай, — хмыкнул Шухов. — Согласись, что все-таки жалко смотреть на человека, потерянного для общества. — Вы об Эдике? — Да. — Ну, он-то как раз этого не считает. Он, как шаман, воображает, что пользу приносит. А нам вот не след забивать голову ерундой. До сих пор план не готов. — Комарова, конечно, убрать надо, — задумчиво произнес Шухов. — Неизвестно, сколько времени пройдет, пока этот тип за коробкой соберется. С другой стороны, как мы ему понять дадим? Я имею в виду типа этого. — С ним просто, — сказал Кожохин. — Охрану снимем — и все. Только вот Комарова как убрать?1 Может, не трогать его вовсе? — Нескладно у нас больно с этим стариканом получается. Шухов зажег сигарету, затянулся, сказал сердито: — Мне вовсе не хочется оказаться в положении той бабы. — Какой еще бабы? — Помнишь, у Зощенко рассказ есть. «На живца», кажется, называется. Про бабу, которая в трамвае на лавке сверток забывала, ждала: не клюнет ли кто? Чтоб, значит, схватить жулика с поличным. Так вот и с Комаровым выходит. Если, конечно, не отвести его от греха. Разница между той бабой и нами только в том, что она не знала, кого вытащит, а мы знаем. — Жалко вам этого паршивца? Он же нас с самого начала за нос водит. — Не те слова, — сказал Шухов. — Мне лично старик не импонирует. Но зачем впутывать в довольно противное дело еще одного человека? Пусть скверного, пусть потенциально подготовленного к тому, чтобы украсть эти проклятые деньги. Комарова попутал бес жадности, как говорят. Не дать ему возможности совершить задуманное — значит сохранить его для семьи. — Да за одни лживые свидетельские показания его под суд отдать надо. — Ну, это ты, извини, не в ту сторону едешь. Переложи руль, не то в берег врежешься. — Почему? — вскинул брови Кожохин. — Потому что старик твердо стоит на своем: «Не знаю, не видал». Против него даже косвенных обвинений не выдвинешь. Это мы с тобой такие умники — догадываемся, что к чему. А факты где? Сидит у дома по ночам? Так он это объясняет вполне убедительно. Остаются в итоге одни психологические нюансы. — Ладно, убедили. — Вот и хорошо. Теперь следи дальше. У нас в наличии есть один-разъединственный способ уличить преступника: взять его с поличным. Другого я не придумал, к сожалению. Наши домыслы и косвенные улики — тьфу. Дунул — и нет их. Фото? Да тебя судья на сто метров не допустит с этим фото. Письмо Иванова матери Назарова? Справка из адресного стола? Какие из этих фактов выводы можно сделать? Да никаких. Ну, искал Иванов Назарова. Ну и что? Тысячи людей ищут друг друга. Фото курортное? Просто случайная встреча этого типа с Ивановым. Понимаешь, что рисковать нам нельзя. Да старик еще путается под ногами. Старик нам, кроме прочего, свободно может карты смешать. Явится одновременно с главным виновником — и весь наш план в трубу вылетит. — Точно, — сказал Кожохин. — Значит, первое дело — старика отодвинуть. — Да, — кивнул Шухов. — Намекнем ему недвусмысленно на кое-какие обстоятельства. Полагаю, этого урока ему до конца жизни хватит. — Думаете, поймет? — Больше чем уверен. — С душком ваша профилактика, Павел Михайлович. — Кожохин укоризненно покачал головой. — Я бы, наверное, все-таки подловил старичка., — Мне его старуха понравилась, — хмыкнул Шухов. — С ухватом она здорово управляется. — Опять парадоксы? — У тебя скверный характер, Иван Петрович. Настырный, как у дятла. Долбишь и долбишь в одну точку. — Так ведь работа такая… — А что с Мокеевой? — спросил Шухов. — Пока статус-кво. Работает в киоске, живет на прежней квартире. — Этот тип возле киоска по-прежнему крутится? — Как заведенный. По два раза в день мимо проходит. Иногда даже нахально газетки покупает. — Ждет? — Да. — Кожохин кивнул. — И удивляется, наверное, нашей медлительности. — Глуп он все-таки, — сказал Шухов. — Не находишь? — Как вам сказать? Когда дело начинали, не находил. Кроссворд знатный он нам поднес. — И тем не менее он. глуп, — упрямо произнес Шухов. — Задним числом мы все умные. Вы, я вижу, на минорный лад настраиваетесь. Рановато. — Спать хочется, — сказал Шухов, потягиваясь. — Возня эта надоела до чертиков. — Размагнитились? К Эде сходите, он вас подправит. — К Эде я не пойду. Значит, так. Комарова предупреждаем. Мокеева должна исчезнуть из киоска на время. Это будет сигналом для убийцы. Откроем ему дорогу, так сказать. Теперь давай план засады разработаем. С планом они кончили быстро. Члены оперативной группы получили задания. Охрана дома снята. Пустую коробку Шухов водворил на прежнее место в первую же ночь. Кожохин инсценировал арест Мокеевой, он же беседовал со стариком Комаровым. Хитрый старикан, как и предполагал Шухов, крепко струхнул, когда ему намекнули, что было бы неплохо, если бы он поменьше шарил глазами по крышам дворовых построек. — А чего? — начал было он. — Дом-от мой аль нет? — Дом-от твой, — передразнил его Кожохин. — Вот и возись в нем, ремонтируй. А по двору по ночам не шляйся. Понял? Уборной пока тоже не пользуйся. — А чего? Кожохин строго посмотрел на старика. Тусклые ледяшки Комарова, казалось, не выражали ничего. Но Кожохин все-таки понял: знает хрыч, видел он утром убийцу. Но не скажет об этом никому и никогда. Подумал: «И такую сволочь спасаем!» — Ну как? — спросил его Шухов. — Уяснил старичок ситуацию? — Уяснил, — буркнул Кожохин. — Даже денег на ремонт не потребовал. — И то харч, — усмехнулся Шухов. — С Мокеевой в порядке? — В порядке. Отвез я ее к сестре своей. От объяснений воздержался. — Ну? — Все как задумано. Одно смущает: три дня прошло, а толку нет. Вдруг он решит суда дожидаться? — Не вытерпит. В доме ремонт идет. Он же это видит. Мало ли что может случиться? Надумает Комаров уборную рушить — и пропали денежки. Он это понимает. Мираж золотой ему покоя не дает. Придет, не волнуйся. Прошло пять дней, а он не появился. Теперь и Шухова стали одолевать сомнения. Все ли сделано правильно? Кожохин, встречаясь с ним, обменивался пустопорожними фразами. Оба, словно сговорившись, молчали о главном, которое волновало все больше. Первым не выдержал Кожохин: — Арестуем его. Расколется на допросе — и вся недолга. Фото покажем. Убедим, одним словом. — Улик нет, — вздохнул Шухов. — Отопрется. — Билет в Сочи, — напомнил Кожохин. — Это не то, — отмахнулся Шухов. — Алиби разрушим. — Чушь. Без его признания ничего не докажешь. Не подкопаешься. — Неужто так прочно? — А ты как думаешь? — Сделаем еще попытку? Вдруг что-нибудь прояснится. — Испортим только все. Надо ждать. — Штучка, — сказал Кожохин. — В жизни бы никогда не подумал, что может такое дело достаться. — В жизни еще и не такое бывает. Я, между прочим, все время думаю: не допустили ли мы где ошибки? — Ну? — Вроде все чисто. — Значит, он суда ждет. Чтобы наверняка. — А я думаю, что он просто трус. Жадная, трусливая дрянь. Он и деньги сразу не унес, потому что струсил в последний момент. — Нож тем не менее не бросил. — С ножом проще. Он, когда обратно уходил, мог нож в землю воткнуть. И еще ночь миновала, не принеся никаких новостей. И еще несколько дней прошло в томительном ожидании. Убийца появился на десятые сутки, перед рассветом. Он медленно прошел по спящей Тополевской улице, прошел не оглядываясь, не торопясь. Постоял у назаровского дома, опершись рукой о штакетник, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом оторвался от изгороди, двинулся дальше по улице. Тявкнула собака в соседнем дворе. Он ускорил шаг. Серая тень надолго скрылась в овраге. Кожохин уже стал думать, что убийца больше сегодня не появится. Но темная фигура вынырнула вновь. На этот раз человек шел быстро. У дома он уже не остановился, растворился в темноте. Кто-то из сидевших в засаде вздохнул. Послышался шепот: «Неужели не придет?» Кожохин тихо шикнул: «Молчи». Минут через пять человек вернулся. Скрипнула решетчатая калитка, он скользнул во двор, решительным шагом направился к уборной, снял с крыши коробку… Два ярких луча вонзились ему в лицо. Клацнул затвор фотоаппарата. Строгий голос сказал из темноты: — Стоять на месте! Но человек не захотел стоять. Он ойкнул, выронил коробку, рванулся в сторону… И забился в сильных руках. Кожохин поднял ненужную уже теперь коробку и через огороды двинулся к машине, стоявшей на соседней улице. Убийцу, обмякшего, растерянного, подвели к другой. Двое сели рядом с ним. Третий сел к Кожохину. Хлопнули дверцы, взвыли моторы. — Свяжитесь с дежурным, — сказал Кожохин шоферу. — Пусть позвонит Шухову. — Что передать? — спросил шофер, включая рацию. — Да вот это самое и передайте. Три часа сорок минут… Бежит секундная стрелка по белому кругу, отщелкивая время. Сидит Назаров, думает свою тягучую думу… Мчится по городу машина, останавливается на углу. До назаровского дома отсюда минута ходьбы. Вылезает из машины человек, делает первый шаг… Три часа сорок одна минута. Стук в дверь. Знает человек, ждущий за дверью, что не спит Назаров. Знает он, как ответить на вопрос: «Кто там?» Все у этого человека продумано, все рассчитано до секунды. А может, не все? Бежит стрелка. Назаров слышит стук, идет открывать. В голове ворочается недовольная мысль: «Рано приперся старый черт».Человек стоит за дверью, ждет вопроса: «Кто там?» «Телеграмма», — скажет он и назовет фамилию матери Назарова, чтобы не испугать, чтобы все задуманное сошло гладко. Но дверь открывается без вопроса. «Все равно», — мелькает мысль у того, кто за ней… Короткий взмах рукой. Недоуменный, полный боли взгляд Назарова, стук тела, падающего на пол. Нож — в чехольчик, припасенный заранее. Руки должны быть чистыми. Взгляд на тело. Не шевелится Назаров. Кончились его размышления, кончилась никому не нужная жизнь, которую он истратил вхолостую, гоняясь за золотым миражем. А теперь вот над его телом стоит второй, которому тоже видится золотой мираж. Три часа сорок одна минута… Убийца перешагивает через неподвижное тело, надевает перчатки, подходит к телефону, набирает номер. В трубке слышится мелодичный женский голосок. — Привет, Галочка, как живется? — бодро говорит убийца. — А мы уже готовы… Звони клиенту… Выезжаем… Он кладет трубку на рычаг. Ждет. Бежит секундная стрелка по циферблату, нервы напряжены до предела. Звонок. Убийца засовывает в рот вынутый из кармана кусок хлебного мякиша, глухо говорит в трубку: — Назаров у телефона… Спасибо, буду ждать на улице. Вчера вечером он тем же голосом заказал от имени Назарова такси. Три часа сорок пять минут… Быстро ходит убийца по комнатам. Аквариум — вдребезги. «Только бы не забрызгаться». Коробку — аккуратно к выходу. Пусть постоит рядом с трупом. Книги с полки — на кровать. «Лучше гореть будет». Из платяного шкафа извлекается чемоданчик, небрежно ставится на стол. «Чего в него покидать? Ага, рубашку, еще что?» Взгляд на пиджак: «Не забыть про билет. Где он его держит? Здесь? Ага. На-ка тебе до Сочи. А этот куда? В Курск? На кой черт он собрался в Курск? Так куда же его деть? Да пусть горит… Теперь канистру». Жирной струей льется керосин на кровать, на книги, на пол. Чиркает спичка. Дверь на замок, коробку с деньгами — на крышу уборной. «Никто не допрет. Возьмем потом». Три часа сорок девять минут… Теперь скорей к машине: «Нож? А, хоть так». Удар каблуком, орудие убийства исчезает в земле. Пустынна Тополевская, спит улица. Только старик Комаров, прижавшись к забору, пялит свои изумленные стекляшки на человека, спрятавшего что-то на крыше уборной. Он еще думает, что это Назаров прячет: трудно в предрассветной тьме различить человека. Он еще думает, не двигаясь с места, а к дому уже подъезжает такси. Шофер, девять минут назад включивший радио, болтает с диспетчером. Четыре часа… «Слушай, Галя, дом-то горит…» Четыре часа… Инсценировка окончена… — Так, — говорит Шухов. — Вы предупредили вахтера гаража, чтобы он разбудил вас без двадцати четыре. С вечера подвели часы. И фактически встали в три часа тридцать минут. Как вам удалось обмануть вахтера? — А у него не было часов. Он по моим будил. — Затем вы сделали вид, что звоните диспетчеру. На самом же деле позвонили только из квартиры убитого. Точно без двадцати четыре? — Может, с минуту разница была. — Признаете ли вы, Загоруйко, что, готовя преступление, вы рассчитывали свалить вину за убийство на Мокееву? — Не все ли равно? — глухо отвечает Загоруйко. — Мне алиби было нужно. — Вы следили за Мокеевой? За Назаровым? — Да. Знал, что они уезжать собираются. На стол ложится фотография. Два улыбающихся лица. «На память о Ялте». — Когда познакомились с Ивановым? — В конце февраля. В Ялте. Он узнал, что я собираюсь работать в этом городе, и стал меня уговаривать. — Вы знали, что за птица Иванов? Знал ли он? Догадывался сперва. Но он и сам готов был стать такой же птицей. Он очень хотел красиво пожить. «Надоело крутить баранку», — пожаловался как-то Иванову. Тот пьяно вытаращил глаза: «А хочешь помогу?» — «Как?» — «Добрый я теперь стал, — сказал Иванов. — Постарел, подобрел, руки слабнут. А то я бы тебе показал кукиш в кармане». Он захохотал. Потом резко оборвал смех. «Вот так. Я тебе подскажу, как золотую рыбку поймать». На другой день, уже трезвый, Иванов продолжил разговор: «Куманька одного знаю. Видел я, как он аквариум чистил. Адресок его долго доставать пришлось. Сотню писем, наверное, по стране пустил, фронтовым дружком представлялся. Очень уж крепко он в печенки мне въелся. Съездил недавно туда, посмотрел: живет куманек. Походил я возле дома, поприкидывал, как мне лучше его за жабры взять. И совсем было надумал, как деньги взять, да несчастье со мной случилось: сердечный приступ в гостинице приключился, в больницу лег. Вот и пришлось отложить операцию. А теперь ты мне нужен. Не бойся. Выпотрошить его раз плюнуть. Будет молчать. А это самое главное». — Опасно, — сказал Загоруйко. — Брось. Я тебе подскажу, как оформить. Мозги у меня, слава Богу, работают. Только не вздумай отрываться. Влипнешь. В марте этот разговор был. А в апреле умер Иванов. Инфаркт. И слова его оказались пророческими. Влип Загоруйко. Соблазнил его легкий куш, заворожила золотая мечта, затуманила. На мокрое дело пошел. Шухов ведет допрос. В протокол ложатся слова, складываются в скупые фразы. Где-то на Тополевской бродит старик Комаров. Жалко старику, что не узнал даже, какие вещи в коробке на уборной лежали. Большой цены, наверное, раз человек на убийство решился. Жалко старику: могли ведь и ему достаться. Страшно старику: чуть не попался на крючок. И жалко и страшно. Бродит призраком по двору в пиджаке своем несуразном, в зеленой широкополой шляпе, шевелит губами, шепчет. А что шепчет, не разобрать. Шухов ведет допрос. Первый допрос убийцы. Будут еще. Но главное уже ясно. За окном встает осенний неяркий рассвет. Подступает усталость. Надо кончать. Кожохин собирает бумаги. Говорит задумчиво: — Одного мы так и не узнаем. — Чего же? — лениво откликается Шухов. — Да вот: зачем Назаров в Курск собирался? — А к чему нам это? — Для полноты картины. — Ну, она и так ясна. Просто Назарову надо было на время оторваться от Лизы, чтобы деньги вынуть из аквариума. Он и надумал в Курск поехать. Не к Иванову же в гости он собирался. — А может, и он Иванова искал? — Ну, это ты уж слишком. А я спать хочу. Хватит умствовать. Пошли, что ли? — Пошли, — сказал Кожохин. — Я тоже не прочь вздремнуть часиков двенадцать.
ФАМИЛЬНАЯ РЕЛИКВИЯ
История другого расследования
Часть первая
— Вы что же, хотите впутать меня в эту историю с мертвецом?
Он швырнул недокуренную сигарету в угол. Окурок подкатился под тонконогий столик, на котором лежал старинный альбом для фотографий, и оказался в опасной близости к комку бумаги. Мне это не понравилось: я пришел сюда вовсе не затем, чтобы тушить пожары. А еще больше мне не понравилась фраза о мертвеце. И я шагнул к столику, намереваясь наступить на горящую сигарету и заодно полистать альбом, но из этого ничего не вышло. В моей голове вдруг что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту…
Он швырнул сигарету, он встревожился, когда я заговорил об альбоме, этот молодой человек в синих джинсах и с локонами до плеч. Он был высок, тонок, немного женствен. Может, это локоны делали его таким. А может, он еще не успел оформиться в мужчину, хотя лет ему было уже за двадцать пять. Впрочем, это не мешало Вите Лютикову претендовать на звание современного Дюрера или Тициана. Я сразу смекнул, что имею дело с гением, хотя вообще-то до Вити Лютикова мне не доводилось общаться с гениями, бывать в их жилищах и мастерских. Гении обычно проходят по другим ведомствам. Кроме того, мне было известно, что наш Заозерск еще не явил миру ни Сурикова, ни Пикассо. Но вряд ли это обстоятельство следовало брать в расчет: гений мог родиться в любой момент. «И кто знает, — думал я, увидев последнее Витино творение, — кто знает, может, он уже родился…» Называлась Витина картина несколько неожиданно: «Спроси ее». Сначала я даже не понял, кого нужно спрашивать, потому что увидел на полотне только веник, сляпанный из разноцветных пятен. Потом, приглядевшись, стал различать девицу. Посажена она была столь ловко, что я мог одновременно лицезреть ее улыбку анфас и тугой ситцевый зад. Загадочная поза не давала мне покоя до тех пор, пока я не сообразил, что художник заменил позвоночник девицы винтом и искусно задрапировал его цветастым платьем. От этого винта и закрутился наш разговор. Витя снисходительно растолковал мне, что винт — это прогресс, движение вперед от той статичной мазни, какой баловались разные назарейцы, кубисты и импрессионисты. Этот юноша бледный развернул передо мной потрясающую картину эволюции живописи от примитивного двумерного пещерного рисунка к перспективе, пространству, а затем ко времени. «Винт в спине девицы, — сказал Витя, — и есть попытка всадить убегающее время в холст». Здесь я, честно говоря, кое-чего не сумел понять, видимо, потому, что думал о другом; но главное тем не менее постиг: Витя на четвертом измерении не остановится. В его, пользуясь словами поэта, горящем взоре пылали отблески вселенских катастроф. И еще тревога… Нет, я не хотел впутывать его в историю с мертвецом. Но повел себя неосторожно: повернулся спиной к двери тогда, когда этого делать не следовало. Конечно, всего не предусмотришь. Однако, как справедливо заметил мой начальник Бурмистров, мозги даны человеку, чтобы ими шевелить, а если я, Зыкин, воображаю, что это привилегия мыслителей, то тут я глубоко заблуждаюсь. В чем-то он прав. Шорох за дверью я слышал, но его происхождение ассоциировалось у меня с Витиными домочадцами. Я не знал, что Витя уже несколько дней живет в доме один, что его родители гостят у знакомых в соседнем городе. И потом меня отвлек альбом, этот толстый альбом, похожий скорее на причудливую шкатулку или ларец. Четыре латунных шарика, хитроумно пришлепнутые по углам нижней крышки, играли роль ножек. В верхнюю крышку неизвестный мастер вмонтировал овальное стекло. Из-под него таращил наивные карие глазенки пастушонок в нарядном зеленом кафтане и тирольской шляпе с пером. Переплет альбома был обтянут коричневой тисненой кожей, створки снабжены металлической пряжкой-застежкой, обрез позолочен. Альбом поражал своей чопорной монументальностью; ему было, по-моему, лет сто, не меньше, но выглядел он на удивление новеньким, словно время обошло его стороной. Я смотрел на альбом, и мне что-то мерещилось. Что-то зыбкое, туманное, но определенно связанное с другим местом, другой квартирой, в которой я был накануне визита к Вите, и с другим человеком…
Фамилия человека была Астахов. Родился он в Москве накануне Великой Отечественной войны; там же окончил художественное училище. В Заозерске Астахов несколько лет работал в театре, оттуда ушел ретушером в газету, а с год назад уволился из редакции и ударился в отхожий промысел — стал украшать колхозные Дома культуры и клубы копиями полотен мастеров и панно собственного изготовления. Водились у него деньги, водились приятели, была женщина. В пятницу, 17 мая, Астахов проводил свою возлюбленную в Крым. Лира Федоровна Наумова взяла очередной отпуск в музее, где работала младшим научным сотрудником, и отбыла в «Массандру». Субботу Астахов провел дома, а в воскресенье ушел куда-то с утра и вернулся лишь вечером. Вернулся вдрызг пьяным и из собственной постели без пересадки отправился на тот свет. Причиной смерти, как было сказано в заключении патологоанатома, явилось отравление бытовым газом. В протоколе осмотра места происшествия указывалось, что «ручка правой горелки газовой плиты находится в положении «включено», что в том же положении «зафиксирована ручка духовки». Левая горелка была выключена, а на конфорке «обнаружен зеленый кофейник без крышки, покрытый коркой засохшей кофейной гущи». В переводе на обычный разговорный язык это могло означать, что пьяный Астахов решил вскипятить кофе, но не уследил за ним. И когда жидкость полилась через край, он, вместо того чтобы снять кофейник с огня, принялся крутить ручки. И вертел их все подряд, пока огонь не погас. Затем лег спать, не заметив, что два крана на плите остались открытыми. Газ тек всю ночь, заполнил однокомнатную квартиру и где-то под утро потек на площадку. Жильцы всполошились часов в пять, опергруппа прибыла в половине шестого вслед за аварийной службой горгаза. Несчастный случай… Никаких данных, опровергающих это предположение, эксперты не получили. Другие же версии казались слишком хитроумными, чтобы быть верными. Волновали они лишь одного человека — нашего стажера Петю Саватеева. «Проще было снять кофейник с огня, — рассуждал он, — а не крутить ручки. Есть рефлексы, — говорил он, — которые никакая выпивка не может отшибить. Ни один пьяный, — утверждал он, возвратясь ночью домой, не станет искать выключатель света в кармане, а будет шарить рукой по стене…» Ну и так далее в таком же роде. Словом, недорого стоили они, эти Петины умозаключения. Было три часа дня. К этому времени астаховская квартира опустела. Уехали эксперты, фотограф и врач. Труп увезли еще раньше. Ушел Бурмистров. Мой начальник — принципиальный противник механизированного передвижения: машиной пользуется лишь в исключительных случаях. Однако усиленные занятия ходьбой не помогают ему обрести спортивную форму. А может, он к этому и не стремится, не знаю. Он ушел. Рассосались любопытные, с утра толпившиеся у подъезда. В квартире остались мы с Петей Саватеевым да еще понятые, томившиеся на стульях, стоящих рядком у стены. Я дожидался возвращения следователя прокуратуры Лаврухина, который снимал показания с соседей Астахова. Петя вопросительным знаком торчал за моей спиной, рассуждая на тему: убийство — самоубийство — несчастный случай, и мешал мне думать о более приятных вещах. Меня мучил голод, а Петю комплекс Шерлока Холмса. Взаимопонимание было, таким образом, исключено, и Петя, сообразив это, удалился на кухню. Звонка он не услышал, и поэтому впустить в квартиру, а затем и в дело Валентину Григорьевну Цыбину судьба предоставила мне. У Вали была фигурка гимнастки и прическа, о которой я не могу сказать ничего, кроме того, что она шла Вале. На ней было светлое платье неопределенного цвета, и оно тоже шло Вале. С ее плеча на длинном ремешке свисала черная сумка, формой своей напоминавшая месяц на ущербе. Увидев меня, Валя сделала большие глаза, отступила на шаг и удивленно спросила: — Простите, но я хотела бы видеть Николая Ивановича… — Заходите, — предложил я. Она несмело переступила порог прихожей. По ее лицу пробежала тень: я понял, что она почувствовала что-то неладное. — Николай Иванович дома? Я провел ее в комнату и сказал: — Нет, а вы кем ему приходитесь? Понятые завозились на стульях. Из кухни выскочил Петя. Валя недоуменным взглядом обвела комнату, понятых, Петю, потом обратилась ко мне: — Что здесь случилось? — Вы не ответили на мой вопрос, — напомнил я, бросив предостерегающий взгляд на Петю, так как уловил, что он уже раскрыл рот, чтобы сообщить гостье, что именно здесь, по его мнению, происходит. — Что? — спросила она растерянно. — Что я не ответила? Я повторил вопрос. — Никем, — сказала Валя. — Никем я ему не прихожусь. Просто мы знакомы с Лирой… И я… Простите, но вы так странно спрашиваете… И почему здесь все засыпано пудрой? — Это не пудра, — возразил я. — Ответьте, пожалуйста, кто вы и зачем сюда пришли? Она ответила. Она сказала, что работает завлитом в театре, что хорошо знакома с подругой Астахова Лирой Федоровной, что подруга два дня назад уехала в отпуск: а вчера, в воскресенье, ей позвонил Астахов и попросил зайти. Они назначили время и вот… — О чем он хотел говорить с вами? — Не знаю. — Валя пожала плечами. — Сказал, что ему со мной необходимо поговорить. И все… Я посмотрел на нее в упор. Валя не смутилась. — Н-да, — протянул я многозначительно. — Так мы ни до чего не договоримся… Валя снова пожала плечами и повернулась к дверям. Она явно не желала договариваться о чем-либо со мной. Но я не смог расстаться с ней так скоро, у меня было много вопросов к Вале, и я встал на ее пути. — Подождите, — сказал я сердито. — Человек, которого вы хотите видеть, умер сегодня ночью… — Умер? — повторила она недоуменно. — Как это — умер? — Обыкновенно, — буркнул я. — Умер. — Ужасно, — сказала Валя. Теперь ей расхотелось уходить. Она села на стул и сложила руки на коленях. Так, говорят, сидят в классе прилежные ученицы. И Валя повела себя, как и подобает прилежной ученице. Она без запинки ответила на все мои вопросы. Она была на вокзале, когда Астахов провожал Лиру в Крым. Нет, она не заметила ничего странного. Проводы были веселыми, Астахов шутил, говорил, что скоро сам поедет в Крым. С вокзала Валя и Астахов уехали разными автобусами. Нет, они ни о чем серьезном не говорили. Звонок Астахова в воскресенье удивил Валю. Нет, она решительно не представляет, о чем хотел говорить с ней Николай Иванович. — Мы ведь едва знакомы, — заметила Валя задумчиво. — Кто еще провожал Лиру Федоровну? — Никто… Так вот и тек этот разговор — долгий и довольно скучный. Не много он нам дал. Валины показания косвенно подтверждали версию о несчастном случае. Самоубийством в астаховской квартире уж никак не пахло. На инсценировку несчастного случая картина тоже не была похожа. Но тем не менее в этой смерти была одна загадка, которую нам не удалось разгадать ни в тот день, ни в последующие: мы не смогли установить, с кем и где пил Астахов в воскресенье. Ответить же на этот вопрос было необходимо. Поэтому Лаврухин поручил мне заняться поисками таксиста, который привез Астахова домой. Найти шофера удалось довольно легко. Он рассказал, что взял Астахова на остановке возле ресторана «Центральный». Художник, по выражению водителя, «подошел на бровях», с трудом выговорил адрес и все пытался рассказать что-то смешное, но что именно, понять было невозможно. — Сильно косой он был, — сказал водитель. — Старушку какую-то поминал. Не то пил он с этой старушкой, не то хоронил ее… В ресторане я тоже узнал немного. Бородатый швейцар и гладкий, словно только что отутюженный метрдотель знали Астахова по прежним посещениям. Но вечером в воскресенье он в ресторане не появлялся. «Утром был, — сказал метрдотель, — завтракал в обществе молодого человека, тоже художника. Сидели недолго, минут тридцать, спиртного на столе не было. Молодой человек ушел первым. Астахов четверть часа спустя». Да, на дорожке, которая привела меня утром во вторник к Вите Лютикову, не стояло никаких предупреждающих знаков. Некому было их поставить за ночь. Валя Цыбина, впрочем, могла бы это сделать. Но она не захотела…
Новый Пикассо жил на иждивении папы-бухгалтера и мамы-экономиста в довольно милом особнячке на окраине Заозерска. Чадолюбивые родители отдали ему под мастерскую крытую веранду позади дома. Предварительно ее слегка переделали: часть крыши и стена, выходящая в сад, были застеклены. На веранду можно было попасть как из комнат, так и со двора. Я прошел со двора, не заходя в дом. Витя стоял перед мольбертом, раздвинув ноги циркулем, и мыслил. Мое появление было встречено без энтузиазма, поэтому, чтобы создать дружественную атмосферу и достигнуть взаимопонимания, я начал разговор издалека, с пристрелочных фраз об искусстве и о жизни вообще. Пока предметом обсуждения была девица с винтом и живопись четырех измерений, Витя вел себя снисходительно-величаво. Он крепко верил в свою предназначенность. Он был чужд сомнениям, но в мою задачу и не входило поселять их в Витиной душе; я пришел к нему затем, чтобы задать несколько вопросов, не имеющих отношения к искусству, и не ждал никаких сюрпризов, называя Вите фамилию Астахова. Не ждал и поэтому чуть-чуть растерялся, когда он швырнул сигарету под столик… Он швырнул сигарету, а у меня в голове что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту… Когда я открыл глаза, то увидел расчерченное в крупную клетку голубое майское небо. В голове не меньше сотни гномиков стучали молоточками по звонким наковальням, и я вынужден был опять закрыть глаза. Открыв их через минуту, я вновь увидел клетчатое небо. Оно мне кое о чем напомнило… Попытка поднять голову и оглядеться не удалась: гномики, засевшие в башке, сразу осатанели. Я подтянул ставшее непомерно тяжелым тело к стене, оперся на нее спиной. Сидеть так было неудобно, но встать на ноги не хватало сил. Наконец гномики немного притихли. Только в затылке осталась тупая ноющая боль, да по шее ползло что-то липкое и теплое. Я уже знал что. Справа от меня на полу виднелось красное пятно. Некоторое время я тупо созерцал его, потом перевел взгляд на столик. Альбома там не было. Я подтянулся повыше и, цепляясь руками за стену, встал на ноги. Голова кружилась, но на ногах я почувствовал себя увереннее, хоть и не понимал, на кой черт эта уверенность мне сейчас нужна. Вторичного нападения вряд ли можно было ожидать, все плохое, что могло случиться со мной в этом доме, уже случилось. Меня еще никогда так жестоко не били по голове. Это чертовски неприятно, когда тебя ни с того ни с сего лупят по голове. Но еще неприятнее сознавать, что ты что-то прошляпил. Пока я знал только одно: я прошляпил человека за дверью. Над головой назойливо ныла муха. Я прогнал ее, и она улетела к опрокинутому мольберту и уселась почистить крылышки на щеку девицы с винтом. «Спроси ее»… Да, Зыкин, не ждал ты сюрпризов и трагических глаз… Я постоял с минуту, прислушиваясь к тишине и соображая, что делать дальше. Машинально открыл дверь, ведущую в дом. О Вите я в этот момент не думал. А он был тут, совсем рядом. Несостоявшийся Пикассо лежал навзничь посреди комнаты, служившей, вероятно, гостиной, — лежал, раскинув руки и разметав русые локоны по желтому полу. Увидев его, я даже не удивился. Гномики, бесновавшиеся в голове, не позволяли мне ни удивляться, ни вообще оценивать происходящее. Я постоял в тупом недоумении, потом опустился на колени. Подцепил руку Вити у запястья. Пульса не было. Заглянув ему в глаза, я понял, что дело дрянь, что Витя уже пересек ту границу, около которой я только что побывал. Оставив Витю, я вышел на крыльцо. Улочка выглядела пустынной. В пыли, на самой дороге, нежились куры, разомлевшие от жары. В доме напротив шла стройка. На таких тихих окраинных улочках всегда кто-нибудь строится. Люди, обитающие на окраинах, сплошь и рядом не удовлетворены своим жилищным положением, их раздирают желания жить шире, и они то и дело хватаются за топоры и пилы, чтобы раздвинуть стены родовых или благоприобретенных гнезд. Чернявый мужичок средних лет прилаживал оконную раму. Он охотно откликнулся на мой призыв и, загребая пыль сапогами, перебрался через дорогу. Окинув меня подозрительным взглядом, мужичок собрался было потолковать на отвлеченные темы; но я был к этому не расположен и, показав ему удостоверение, спросил, где ближайший телефон. Мужик ткнул растопыренной пятерней куда-то в конец улицы и уставился на меня в ожидании пояснений. Они не замедлили последовать и привели мужичка в состояние растерянности. — Это что же выходит? — осведомился он, рассматривая меня. — Уже вышло, — заметил я. — Ты понял, что нужно сделать? — Напиши номер, — сказал он. — А то еще забуду ненароком. Я нацарапал номер на клочке от пачки сигарет и протянул бумажку мужичку. — Скажешь, Зыкин ждет… Скажешь, что все очень серьезно… Скажешь… — Ладно, — пообещал чернявый. — Скажу уж… — И ни с кем не болтай, — предупредил я. — Позвонишь, сразу шагай обратно. Разговор к тебе есть… Он ушел, а я стал думать, как ко всему этому отнесется Бурмистров. От него не отобьешься лукавой фразочкой о том, что от случайностей никто не застрахован. Странно, что я об этом думал в то самое время, когда за спиной у меня лежал мертвый Витя Лютиков. Странно, но я думал об этом. И еще об альбоме. Я вспомнил, что мне мерещилось, когда я смотрел на этот альбом. В квартире Астахова на прикроватной тумбе валялась раскрытая книжка в черном коленкоровом переплете. Старинная книжка с оторванным титульным листом. Неизвестный мне автор повествовал о приключениях какого-то капитана Хватова, который шлялся по городам и весям далекой Индии в паре с ручным гепардом и не то искал, не то старался забыть свою возлюбленную. Попутно он пугал местных раджей и делал еще что-то, что трудно было понять с маху. Да и не нужно было, вероятно, потому что ни капитан Хватов, ни его гепард явно не стыковались с тем, что произошло в квартире Астахова. А вот книжка и альбом стыковались. В книжке вместо закладки лежала фотография с картонной подложкой. Со снимка смотрела красивая женщина, а надпись на подложке извещала, что дама эта снималась в фотоателье В. Е. Коркина в С. — Петербурге, на Невском проспекте. Увидев альбом, я подумал о фотографии… Мужичок вернулся минут через десять и присел рядом со мной на крылечке. — Ты не заметил, — спросил я, — кто выходил отсюда? — Работал я, — сказал он, подумав. — Но вроде девка какая-то выбегала. — Давно? — Да, может, с час будет. Или меньше чуток… Работал я… — Ты вспомни хорошенько, — попросил я. — Может, знаешь ее… Нужно это, понимаешь? — Чего ж не понять. Только не глядел я… Пробежало что-то, это верно, помню. А знаю не знаю, этого не скажу. Ходят к нему всякие. И девки, бывает, ночуют. Он помолчал, потом спросил осторожно: — Можно, я на Витьку погляжу? — Наглядишься еще, — пообещал я. — Родителей его знаешь? — Здороваемся… Люди как люди. Без рогов… — Давно они тут? — Годов двадцать. Витьку-то, покойника, я вот таким помню. Он показал рукой, каким он помнит Витьку. Отзывался он о Витьке как-то пренебрежительно. — Тебе, я смотрю, парень не сильно нравился… — Нехорошо, конечно, про мертвого, — сказал он задумчиво. — Но струи в нем не было. Я вот, к примеру, знаю, что ежели дом леплю, так он и мне, и детям моим нужен. А Витька как цветочек рос. Лютик, одним словом. Ты меня понимаешь, инспектор? — Не так чтобы, — признался я. — Лучше не объясню. Ну, вот с капустой такое случается. Кочан не завяжется — она и попрет в лист… Точь-в-точь, как волосатики нонешние. Все у них в волос уходит, все соки. Потому и худые. Замечал, поди?.. Я усмехнулся. — Значит, по-твоему, Витя в лист рос? — Ну да. Не пойму только, почему убили его… За так ведь не убивают. — Бывает и за так, — сказал я. — На улице бывает, в драке пьяной тоже. А тут его, видать, кокнули с соображением, потому что и тебе заодно приложили. Выходит, запутался в чем-то Витька. А в чем он, цветик этот, мог запутаться, я и ума не приложу. С другой стороны, ежели ты к нему пришел… Не зря ведь пришел… Хитрый мужичок от рассуждений незаметно подкрался к вопросам. Отвечать на них у меня не было охоты, да если бы и была, нечего мне было сказать мужичку. А Витю он, кажется, понимал. Его оценки не противоречили моим мимолетным впечатлениям. И в то же время… «За так не убивают»… — Ночуют, говоришь, тут, — сказал я. — А родители как? Не препятствуют? — Так ведь это когда бывает. — Он прищурился и косо глянул на меня. — Это когда их дома нету… — Сегодня, например… — Не знаю, — неохотно ответил мужик, затаптывая окурок. Я понял, что он врет, но не стал настаивать. Я не удовлетворил его любопытства — он платил той же монетой. Или просто не хотел мужик ни на кого наговаривать. — Про девку не вспомнил? — поинтересовался я. — Работал я, — сказал мужик сердито. — Леший ее вспомнит… Может, то и не девка была, а вовсе парень… Он замолчал. В конце улицы показалась машина. Гномики в моей башке стучали молоточками.
Производственная травма оказалась не настолько серьезной, чтобы надолго вывести меня из строя. Но несколько дней я все-таки провалялся в постели. Друзья навещали меня, принося служебные новости и кулечки с лакомствами. Жена ухаживала за мной, поила чаем и вела разговоры о разводе. Она говорила, что ее утомляет житье рядом с опасностью, не уточняя, впрочем, что при этом имеется в виду. Мне казалось, что я лично не представляю для нее опасности; а если меня когда-нибудь стукнут по голове чуть сильнее, то это, с одной стороны, будет чем-то напоминать развод, а с другой — никто из нас не гарантирован ни от дорожной катастрофы, ни от рядового падения с лестницы. Эта примитивная логика до нее почему-то не доходила. Мы мило препирались, а в перерывах я читал научно-фантастическую книжку, где герой последовательно превращался из мужчины в женщину, а потом снова в мужчину. Звали его не то Тыр, не то Мыр, но это в общем-то было не так и важно. Наконец все это мне надоело: и беседы о разводе, и научная фантастика. Дождавшись в одно прекрасное утро ухода жены, я выбрался из постели и с помощью двух зеркал изучил свой затылок. Царапина на шее подсохла, а небольшая припухлость под волосами была почти незаметна. Били меня неким эластичным предметом, а рану на шее я заработал, уже падая на пол — ударился об угол столика. Относительно эластичного предмета, как мне доложил Петя Саватеев, в среде наших экспертов состоялась небольшая дискуссия, однако единого мнения выработано не было. Орудием убийства мог быть как железный прут, засунутый в резиновый шланг, так и что угодно другое, вплоть до дубинки. Предполагалось, что убийца Вити принес этот предмет с собой. Витины родители по крайней мере утверждали, что в доме ничего подобного не было. Об альбоме они тоже не имели понятия. Но каких показаний можно было ждать от этих людей? Им надо было прийти в себя, успокоиться хоть немного. Криминалистическая экспертиза тоже мало что дала. Следов разных, мужских и женских, в доме Лютиковых было навалом. Отпечатков пальцев — куча. Но какие из них принадлежат убийце, и принадлежат ли — пойди разберись. Ко всему прочему альтернатива «парень или девка». Чернявый мужичок запутался окончательно, а других очевидцев найти не удалось. В распоряжении следствия оказался некий загадочный предмет — маленький золотой кружочек, на котором с одной стороны был изображен воин с копьем, а на другой выцарапана надпись: «С любовью А. В.». Кругляшок этот выпал из кармана Витиных джинсов, но имел ли он какое-нибудь отношение к делу или нет, можно было только гадать. Лаврухин проконсультировался у директора местного музея Максима Петровича Сикорского. Золотая бляшка на языке археологов называлась брактеатом и представляла собой односторонний оттиск с монеты согдийских времен. Такие оттиски находят при раскопках могил зороастрийцев, манихейцев и прочих сектантов доисламского периода. Находят их в оссуариях, глиняных сосудах, куда зороастрийцы складывали кости своих покойников. Сообщив Лаврухину эти сведения и заметив попутно, что в фондах заозерского музея ни оссуариев, ни брактеатов не имелось, Сикорский удалился восвояси. Петя Саватеев, присутствовавший при разговоре, немедленно заявил, что он готов лететь в Среднюю Азию, чтобы лично переворошить могильники древнего Пенджикента, а заодно все музеи Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Но Лаврухин холодно отверг Петино начинание, и Петя обиделся. С этой обидой, прикупив к ней коробку мармелада, он и явился ко мне. «Юмор какой-то, — сказал он, разрывая ленточку на коробке. — Ежу понятно, что золотишко краденое. Старик не желает понимать очевидные вещи». Он ждал сочувствия. Он его не дождался, хотя и съел весь мармелад. Поняв, что разговора о вещах очевидных у нас не получится, Петя перешел к вещам менее очевидным и попытался дедуктивно разрешить вопрос: почему меня стукнули один раз, а Витю измолотили до смерти? «Тут обязательно должен быть смысл», — говорил он, округляя свои и без того круглые и карие, как у пастушонка на альбоме, глаза. Я успокоил Петю, подтвердив, что смысла тут действительно вагон и маленькая тележка. Ушел он от меня сытый и морально удовлетворенный. Проводив Петю, я подумал, что и впрямь пора выздоравливать.
Бурмистров критически оглядел меня и приветственно погремел черным пластмассовым стаканчиком с карандашами. Есть у него такая привычка — греметь стаканчиком. И вскользь поинтересовался: — Закрыл больничный? Я кивнул и присел на свое любимое место — у окна. В кабинет плыла совсем не майская жара в смеси с запахами бензина и расплавленного асфальта. Внизу, под окном, чихал и плевался мотор катка: заозерский горкомхоз торопился отрапортовать об успешном завершении месячника по благоустройству. В чахлом скверике напротив управления мальчишки играли с лопоухим щенком. Неподалеку от них скучала на зеленом сундучке мороженщица в белом халатике. Вдали, за деревьями, золотились луковицы церквей. — Надумал что-нибудь, пока лежал? — Саватеев надумал. Сожалеет, что меня не прикончили. Бурмистров покосился на меня и посоветовал не тянуть с рапортом. — Оправдываться можно? — спросил я. — В разумных пределах. Лицо у него было в этот момент кислое, и я подумал, что неприятности не закончились для меня ударом по голове. Так оно в общем и вышло. Бурмистров в сущности-то мужик добродушный и покладистый. Но то, что произошло со мной в Витиной мастерской, выходило за рамки его понимания, и он сообщил это мне в подобающих случаю выражениях, а потом и поинтересовался, что же я все-таки надумал, пока лежал. Я промямлил что-то насчет альбома и той фотографии, которую мы обнаружили в квартире Астахова. Бурмистров прищурился. — И что же? — спросил он. Я закусил губу и посмотрел в окно. Мотор внизу чихнул в последний раз и заглох. Чубатому мотористу надоело, видимо, возиться с упрямым механизмом, и он, вытерев руки ветошью, вразвалку двинулся через улицу в сквер. Там бухнулся на траву возле продавщицы мороженого, и они весело заговорили. Слов я не слышал, но догадаться, о чем разговор, было нетрудно: в сквере расцветала любовь. — И что же? — повторил Бурмистров. — Ничего, — сказал я, отворачиваясь от окна. — Альбом перекочевал от Астахова к Лютикову, а третье лицо… — Ну, ну, — буркнул Бурмистров не то поощрительно, не то иронически. — И третье лицо… — Похоже на шантаж, — сказал я, подумав. — Н-да, — протянул Бурмистров. — Немного… Тобой, между прочим, Лаврухин сегодня интересовался. Жить, говорит, без Зыкина не могу. Я ему Петра придал, а он говорит — мало. Девушка у него на примете есть, твоя знакомая, кстати… Нет желания прогуляться на свидание? И я пошел на свидание. Я прошел через сквер мимо синего комбинезона и белого халатика. Они нахально обнимались, и я подумал, что халату сегодня не миновать стирки. Под навесом на автобусной остановке томился Петя Саватеев. Увидев меня, он страшно обрадовался и опрокинул на мою многострадальную голову целый ушат новых умозаключений. Возражать не хотелось, и я не особенно огорчился, когда Петя укатил по своему маршруту. Петя уехал на почту, чтобы потолковать там об отце той самой Лиры Федоровны, которая за два дня до гибели Астахова отправилась отдыхать в «Массандру». Поскольку эта женщина оказывалась важной свидетельницей, в Ялту был послан запрос. Ответ был таким, что… В общем выяснилось, что Лира Федоровна уехала из Ялты, не прожив в «Массандре» и одного дня. Прибыла она туда утром в понедельник, а вечером вызвала такси и покинула город. Шофера разыскала ялтинская милиция. Он сказал, что метрах в трехстах от «Массандры» в машину сел еще пассажир, худощавый брюнет среднего роста. Остановить машину попросила сама женщина, когда увидела этого человека. Высадились они в Симферополе, на вокзале. Что было дальше, шофер не знал, о чем говорили пассажиры в дороге, ответить не мог, потому что беседовали они очень тихо. А на столике в палате, отведенной Лире Федоровне, лежала телеграмма, текст которой гласил: «ЗАОЗЕРСКА — ЯЛТУ — НАУМОВОЙ — ВОЗВРАЩАЙСЯ — НИКОЛАЙ УМЕР — КАЗАКОВ». Но она в Заозерск не возвратилась. Астахова хоронили без нее. С телеграммой же выходило вообще черт знает что. В ней было обозначено время отправления: понедельник, три часа дня. Получалось, что в три часа дня папа Лиры — Федор Васильевич Казаков — уже был осведомлен о смерти Астахова. Я в это время впускал в астаховскую квартиру Валю Цыбину, а Казаков отправлял телеграмму дочке, по мужу — Наумовой. Заозерск не какой-то там заштатный поселок, в котором новости разносятся чуть ли не мгновенно. Заозерск — город с трехсотпятидесятитысячным населением. Случайность? Едва ли… Вероятнее всего кто-то поспешил известить Казакова о смерти Астахова. Петя Саватеев на этот счет придерживался особого мнения, но его предположение о том, что «сам Казаков свободно мог…», было чересчур смелым и скоропалительным. Об этом я и сказал Пете на автобусной остановке. Попутно я посоветовал Пете не уподобляться счетно-решающему устройству, запрограммированному на разгадывание кроссвордов. Но боюсь, что он меня не понял. Мальчик он неглупый, однако, мне кажется, излишне восторженный. Впрочем, все мы в свое время были мальчиками… Петя уехал. Я постоял с минуту, раздумывая, ждать автобуса или нет. И пошел пешком. Улица вывела меня к парку. Отсюда я поднялся по широкой лестнице на Театральную площадь. На весь путь ушло с четверть часа, и я оказался на площади одновременно с «Икарусом», который, прежде чем забраться в гору, огибал ее со стороны озера. На просторной площади, кроме массивной глыбы театра, стояло еще одно сооружение — стеклянный кубик кафе «Космос». Гора, правда, была не столь высока, чтобы человек мог ощутить прикосновение к космосу, но обзор с нее открывался прекрасный. Заозерск с Театральной площади просматривался насквозь. Старая часть города летом тонула в зелени, новая выставляла напоказ длинный проспект с магазинами, ателье и киосками, где продавалось все, начиная от газет и капусты и кончая желтыми плюшевыми мишками. Я свернул к «Космосу» и, мельком взглянув на часы, нажал локтем стеклянную дверь. Посетителей в кафе было немного. А очередь двигалась медленно: юная кассирша путалась в ценнике, и у меня было время кое о чем поразмышлять. Думал я о предстоящем свидании с Валей Цыбиной. Она оказалась не только подругой Лиры Федоровны, но и приятельницей Вити Лютикова. Наткнувшись на это обстоятельство, Лаврухин счел необходимым побеседовать с Валей. Разговор был долгим, но не принес удовлетворения ни следователю, ни свидетельнице. Валя была расстроена, отвечала на вопросы вяло и неохотно и решительно ничем не помогла следствию. Тем не менее в деле появилась одна маленькая подробность. Валя отсутствовала на работе, когда случилось прискорбное происшествие в мастерской Вити Лютикова. Лаврухину она сказала, что бегала в это время в магазин за какими-то модными колготками. Когда она ушла, Лаврухин поднял трубку и позвонил в магазин. Ему сообщили, что модные колготки были проданы тремя днями раньше. Он собрался было вызвать Валю снова, но тут вдруг выскочила эта история с телеграммой, и Лаврухину пришлось срочно заняться папой Лиры Федоровны. Папа — актер на пенсии, бывший комик, а теперь просто старый толстый мужчина с одышкой и склеротическим румянцем на дряблых щеках, прочитал текст дважды, пожал плечами и сообщил Лаврухину, что никакого отношения к этой телеграмме он, Казаков, не имеет, что покойника, которого зовут Николай, не знает и о пребывании своей дочери в «Массандре» не осведомлен. «У Лиры давно своя жизнь», — сказал он Лаврухину и добавил, что последний раз виделся с дочкой чуть ли не год назад. «Что ж так?» — полюбопытствовал Лаврухин. «Да так уж», — сказал папа, вздохнув. Он явно не испытывал желания вдаваться в детали, а Лаврухин не стал настаивать. Папа вышел из кабинета, задумчиво помахивая тяжелой тростью с резиновым набалдашником, одного взгляда на которую нашему Пете оказалось достаточно для того, чтобы прийти к мысли, что «сам Казаков свободно мог…». Лаврухина же трость не занимала, его интересовала телеграмма, и он попросил Бурмистрова направить Петю на почту… Я был уполномочен повидаться с Валей.
Она пришла, когда я выбивал гуляш и кофе. Платье на ней было другое, сумка та же. Она узнала меня и коротко кивнула. Я галантно осведомился, что желает заказать дама. Она пожелала куриный бульон, гуляш и компот. Пока мы таскали на пластиковый столик тарелки, я разглядывал Валю и нашел, что со дня нашей первой встречи в ее облике произошли кое-какие перемены. Лицо стало суше, голубые глаза словно бы потемнели. Я не отношу себя к числу тех, кто при встречах со знакомыми радостно восклицает: «А вы сегодня что-то плохо выглядите», — и поэтому не выразил Вале соболезнования. Причина мне была известна, а все остальное я намеревался выяснить в предстоящей беседе. Я продумал, как поведу ее, эту беседу, с чего начну и чем закончу. Но Валя опрокинула мой план. Она молча ела бульон. Без аппетита ела. Потом отодвинула тарелку и спросила: — Скажите, зачем вам нужен какой-то альбом? Я чуть не выронил вилку. — Альбом? — Я так поняла, что вас интересует альбом. А мне ужасно надоели эти глупые вопросы-допросы. — С чего вы взяли, что меня интересует альбом? — Не вас лично, а вообще. — Она пожала плечами. — Кто-то мне звонил от вас. Вчера… Я ошеломленно глядел на нее. Того, о чем она говорила, не должно было быть. Звонить ей от нас никто не мог. В моем сознании мелькнула физиономия Пети Саватеева, но я отогнал это видение. Петя был дисциплинированным малым, и вряд ли стал бы совать свой шерлок-холмсовский нос туда, куда совать его было не положено. Петя был горазд на умозрительные построения, но действия свои всегда согласовывал. И если это был не Петя, то… — Вопросы-допросы, — повторила Валя, принимаясь за гуляш. — Что он говорил мне об альбоме, о каком альбоме, почему об альбоме? Она задала еще пяток недоуменных вопросов, в которых повторялось слово «альбом». Существо же дела было в том, что вчера ей позвонили из милиции и попросили уточнить, что конкретно говорил ей Витя о старинном альбоме для фотографий. Человек, который звонил Вале, подчеркнул, что это крайне важно. — Это действительно важно, — сказал я. — Надеюсь, вы… Валя дернула плечиком. — Я просто положила трубку. — Не сообщив ничего? — А что я могла сказать? Что в жизни не видела никакого альбома? Поймет и так… — Я в этом не уверен. — В чем? — вяло поинтересовалась Валя. — В том, что вас поняли правильно. Следовало ответить. — Вот я и ответила… Вам… Сейчас. Чудной это был разговор. Мы вроде бы понимали друг друга, хотя и говорили о разных вещах. Я думал о том, что если она говорит правду, то ее еще ждут неприятности. Кому-то здорово не хотелось, чтобы этот альбом ходил по рукам, чтобы внего заглядывали чужие любопытные глаза. И может, прав умный мальчик Петя Саватеев, ища смысла в ответе на вопрос, почему меня не прикончили? Было над чем задуматься… О чем думала Валя, я не знал. Скорее всего она решила поставить под нашей беседой точку, потому что, порывшись в сумочке, вытащила рублевку и положила ее на край стола. — Благодарю, — сказала она, поднимаясь. Вы платили, а я не люблю ходить в должниках. — Я тоже, — сказал я, выгребая из кармана мелочь. — Подождите, сейчас получите сдачу. Я положил рядом с рублем двугривенный, а монетку-двушку всунул в теплый Валин кулачок. Потом, отвечая на ее удивленный взгляд, указал на телефон, висящий в углу. И сказал, близко заглянув в красивые синие глаза: — Позвоните к себе на службу. Скажите, что задержитесь. У вас, по-моему, не строго с табельным учетом. Придумайте какой-нибудь предлог. Ну, допустим, чулки дефицитные в продажу выбросили… Вздрогнула она при упоминании о чулках или мне это только показалось?
Читателям иллюстрированных еженедельников иногда предлагаются загадочные картинки. Нарисована, скажем, улица, а под рисунком подпись: что тут изображено неправильно? Садись и разгадывай: может, светофор не на месте подвешен, а может, вообще перспектива искажена. Такую вот картинку с искаженной перспективой мне и поднесла Валя. Дошло это до меня, правда, не сразу. Мы успели уже порядочно отойти от кафе, когда у меня в голове задребезжала мыслишка: а почему, собственно? Почему этот охотник за альбомом с таким запозданием спохватился проверять степень Валиной осведомленности? Вале я верил: звонок был. Но почему только вчера, почему не неделю назад? Тут я сказал себе «стоп». Я сказал себе «стоп», а поскольку мы с Валей подошли в это время к полосатой скамейке, то я сказал «стоп» и Вале. Слова при этом были произнесены другие, но суть не изменилась: мы сели. Валя расправила платье на коленях, я вытащил сигарету, и мы с минуту помолчали. Валя задумчиво смотрела на озеро, а я курил, ожидая, когда она соберется с мыслями. По дороге к скамейке мы успели кое о чем побеседовать, и я не могу сказать, что это был легкий разговор. Валя упрямо уходила от ответов на вопросы, которые я ей задавал. К скамейке мы подошли крайне недовольные друг другом и со стороны, наверное, были похожи на поссорившихся влюбленных. — Не понимаю, — сказала она, когда молчать стало уже неприлично, — чего вы от меня хотите? — Правды. Были вы у Лютикова в понедельник? — Нет, я же твержу вам это целый час. Она преувеличивала: разговаривали мы всего минут тридцать, включая обед. Но я не стал спорить. Не люблю спорить с женщинами, когда они не правы. Из таких споров выходишь обычно измочаленным. И я осторожно подкатил к Валиным ногам шар, на котором было начертано имя Лиры Федоровны Наумовой. — Папа у нее с приветом, — сообщила Валя. — По паспорту еще смешнее: не Лира, а Велира. Означает — Величие Разума. — Лира, между прочим, тоже не находка. — Да. Но в конце концов ко всему привыкаешь. — Это верно, — согласился я. — А как вы подружились с Лирой? Она ведь намного старше вас. — Только на семь лет. Да и не дружим мы. Просто у нас с ней часто совпадают оценки, взгляды… А это что, тоже допрос? — Если хотите — да, допрос, — сказал я честно. Она пощелкала замком сумки и бросила на меня косой взгляд. Потом заговорила о Лире. Говорила осторожно, выбирая выражения. Познакомились они с год назад. Лира тогда была замужем. Жили они в доме родителей Лиры, пока не поссорились. Это случилось вскоре после знакомства Вали с Лирой. Ссора была похожа на взрыв: переругались все: муж поцапался с женой, жена с родителями. Муж умчался куда-то в Караганду, а Лира перебралась к Вале. О причинах скандала она не распространялась. Валя на откровенность не навязывалась, поэтому, в чем там было дело, не знает. У Вали Лира жила с полгода, потом появился Астахов. Она ушла к нему, но почти все свои вещи оставила на квартире у Вали. — Странно, — заметил я, вспомнив, что задавался уже подобным вопросом на квартире Астахова. Все мы задавались этим вопросом: и Бурмистров, и Лаврухин, и я. Ничто в астаховской квартире не намекало на женщину. Кто-то из соседей назвал тогда Лиру «приходящей любовницей». Бурмистров по этому поводу съязвил: «Времена меняются — приходящую любовницу ныне найти легче, чем приходящую домработницу». — У вас неприятная манера допрашивать, — сказала Валя. — Словно вы хотите… — И замолчала. — Да, — подбодрил я ее. — Словно я хочу… — Это некрасиво, — сказала Валя. — Вы все пачкаете своими прикосновениями. Все… — А убивать красиво? — спросил я сердито. — Выгораживать убийцу красиво? — Выгораживать? Как вам не стыдно?.. — Стыдно должно быть вам. Вы с самого начала вводите следствие в заблуждение. Зачем вы солгали Лаврухину про чулки? Почему не сказали честно: да, я была в понедельник у Лютикова; да, я сказала ему про Астахова… Почему? Я заставил Валю признаться в том, что она таки навещала Витю Лютикова в понедельник. Правда, эти запоздалые признания ничего не прояснили, только еще больше запутали и без того запутанное дело. Да, Валя рассказала Вите про смерть Астахова. Витя был поражен, долго молчал, словно обдумывая что-то, потом сказал: «Лучше бы ты туда не ходила». Валя удивилась, но Витя ничего не стал объяснять. Они поужинали. Часов в восемь Витя похлопал себя по карманам и, сказав, что у него кончились сигареты, побежал в магазин. Вернулся минут через тридцать, был явно чем-то доволен и все время повторял: «Надо же так». От Валиных вопросов отмахивался, обещал рассказать обо всем позднее. Утром во вторник она ушла от него, так и не узнав ничего. — Когда вы вышли из дома? — В десять. И опоздала на работу. Опоздала и придумала сказку про чулки. И повторила ее Лаврухину. Как все просто. Ушла от Вити в десять, а минут через пятнадцать после ее ухода к Вите пришел я. Где же находился в это время чернявый мужичок? Работал? Меня он проглядел. Но Валю-то наверняка заметил… — Вы никого не встретили на улице? — Я ушла через мастерскую. В саду есть тропинка… Торопилась и выбрала дорогу покороче. — Н-да… — Что вам непонятно? — Да нет, все ясно. Так… Но кто-то мимо мужичка протопал. Ясности не было. Поубавилось даже, если принять на веру слова мужичка о девке, которая вроде мимо него пробегала. Валю он не мог видеть: она выбрала тропинку покороче… Все мы выбираем тропинки покороче. Тропинки, которые ведут к цели. Где же моя тропинка? — Альбома вы не видели? — Господи, опять этот альбом… А ведь альбом был. В десять пятнадцать он лежал на столике. В десять, когда уходила Валя, его не было. Кто его принес в эти пятнадцать минут? Может, девушка, которую видел мужичок. А унес убийца? А может, убийца и принес его, а увидев меня, спрятался за дверью. И можно ли верить Вале? «Солгавши единожды…» Надо бы ее порасспросить про Витю… «Лучше бы ты к нему не ходила», — сказал Витя своей подруге накануне того злополучного вторника. «Вы что же, хотите впутать меня в эту историю с мертвецом?» — сказал он мне утром. А мужичок-философ заметил: «За так не убивают». За что же убивают? За «историю с мертвецом»? Выходит, была какая-то история… Когда же она началась? Не тогда ли, когда Лира Федоровна познакомилась с Астаховым? — В музее Астахов подрядился что-то рисовать, — рассказывала Валя. — Ходил туда каждый день. Лира им увлеклась… Увлеклась, но вещички свои предусмотрительно хранила у подруги. И, уезжая в отпуск, не оставила в астаховской квартире даже сломанной расчески. Да, эти двое, видимо, не собирались вить гнездо… — Как Витя относился к Астахову? — Никак… У них не совпадали взгляды на искусство. У них не было ничего общего. Витя считал Астахова типичным халтурщиком. Держались они как малознакомые люди, встречались крайне редко. Ничто их не связывало… Но в воскресенье они завтракали вместе в ресторане… И в воскресенье Астахов позвонил Вале и попросил ее о встрече… Что же он хотел ей сказать? — Не знаю, — сказала Валя. — Помню: была удивлена. Он никогда не звонил мне… — Как это выглядело? — Что? — Его слова… — Слова? — Она задумалась. — Он извинился, потом сказал… Сказал, что Лира забыла передать ему какое-то письмо… — Вы мне об этом не говорили. — Мне нечего было сказать. Никакого письма я не нашла. Об этом я и хотела сказать, когда пришла к Николаю Ивановичу. А там были только вы… — Он что же, просил вас принести ему это письмо? — Нет. Николай Иванович сказал, чтобы я поискала письмо… Какое-то старое письмо или записка. Он сказал, что ее очень важно сохранить… — Он не говорил, чье это письмо? — Нет. Дал только понять, что ни к нему, ни к Лире письмо не имеет отношения. «Найдите его, Валя, — сказал он, — и успокойте меня. Письмо надо обязательно сохранить до приезда Лиры». Я обещала сделать это и спросила, куда ему позвонить. Он сказал, что позвонит мне сам, но в понедельник у меня был выходной. Я ему сказала об этом. Он подумал и спросил: «А ко мне вы не сможете зайти?» — Весьма странная просьба, — заметил я. Валя согласно кивнула. — Тогда я так не думала. Но вы сказали, что я выгораживаю убийцу, и я поняла, что должна рассказать… — Вите вы говорили об этом? Она покачала головой. — Нет. Я ведь не нашла письма. И потом… — Да… Она смущенно потеребила ремешок сумки и после непродолжительной паузы тихо сказала: — Витя мог неправильно понять меня… — Он ревновал вас к Астахову? — Не к Астахову… Но вообще… Понимаете?.. Понять было бы нетрудно, если бы не расходились Валины слова с мимолетной фразой чернявого мужичка о том, что ходят к Вите всякие, что «бывает, и девки ночуют». Множественное число употребил мужичок. Мог он, конечно, и преувеличить, этот философствующий мужичок, но… У наших ног плескалось озеро. Мелкие волны набегали на песчаный пляж и откатывались назад, оставляя после себя лишь пенные брызги и мокрую полосу. Откуда бежали волны, из какой глубины? В детстве мне наше озеро казалось бездонным. Но в детстве ведь и пять метров — неизмеримая глубина.
Я не стал провожать Валю. Она была достаточно взрослой, чтобы найти дорогу самой. Кроме того, я чувствовал, что мое общество ей изрядно надоело: все хорошо в меру. Мы и так о многом переговорили, коснулись даже нумизматики, потому что я вспомнил о брактеате, который выкатился из кармана Витиных джинсов. Сам Витя, по словам Вали, нумизматикой не увлекался. А вот бывший муж Лиры Федоровны был любителем. Лира сама как-то говорила Вале об этом. Меня тут же осенила гениальная догадка: я вспомнил худощавого брюнета из Ялты. Но Валя сказала, что Василий Петрович Наумов скорее толстый, чем худой, и не брюнет, а шатен. Астахов нумизматикой не увлекался. Зато Астаховым увлеклась Лира Федоровна… А Лирой Федоровной, по слухам, увлекался директор музея Максим Петрович Сикорский. Валя его никогда не видела, но Лира говорила… Я тоже не встречался с Максимом Петровичем Сикорским. Но я подумал, что он, наверное, большой специалист, раз ему удалось с первого взгляда назвать тот самый кругляшок-брактеат. И не только назвать, но и сообщить целую кучу сведений об этой вещичке. Когда мне было лет четырнадцать, в нашем музее были экспозиции «Природа нашего края» и «Стоянка первобытного человека на озере Дальнем». Стоянка, помню, будоражила наши мальчишеские умы. Нам импонировало семейство обезьяноподобных неандертальцев, сидевших вокруг костра и обсуждавших, вероятно, подробности последней охоты на мамонта. Мы тоже были не прочь поохотиться на мамонта, но еще больше нам хотелось завладеть кремневым ножом, который лежал возле костра. Однако старичок директор был бдительным человеком и повесил на витрину довольно увесистый замок. Нам это не понравилось, мы возненавидели старичка и решили ему насолить. Месть была изощренной: мы набрали в известковом карьере с десяток каменных плиток, нацарапали на них загадочные рисунки, вымочили плитки в воде, высушили и торжественно поднесли старичку, заметив вскользь, что нашли камни в том самом стойбище на озере Дальнем. Старичок засуетился, записал нас в друзья музея, а плитки выставил, снабдив табличкой «Письменность первобытного человека». Мы упивались какое-то время своей изысканной местью, мы ждали каких-то событий, но ничего не происходило: фальсификацию никто не заметил. Может, потому что уж очень грубой она была, а может, потому что в те первые послевоенные годы горожан мало занимали музейные дела. Да и мы сами вскоре забыли об этом… Неисповедимы пути ассоциаций, что бы там ни говорили психологи. Какие синапсы замкнулись вдруг в моем мозгу? Почему потускнели и отдалились воспоминания о золотой мальчишеской поре, а на смену им выплыло нечто совсем другое, никакого решительно отношения не имеющее ни к моим воспоминаниям, ни к разговору с Валей? Не знаю. Однако выплыло. Выплыло медицинское заключение о смерти Астахова, в котором фигурировало словечко «ром». Ром пил Астахов в свой последний вечер на этом свете. Мы не смогли установить, где и с кем он его пил. Мы установили только, что в Заозерске рома в магазинах не было. Оставалась самая малость — найти этого человека, у которого ром был. Но малость эта лежала на другом краю пропасти, перепрыгнуть которую представлялось, невозможным. А мне вдруг привиделся мостик — этакая шаткая дощечка, ведущая в туманную даль. Дощечкой этой были слова таксиста, привезшего пьяного Астахова домой. «Не то он со старушкой пил, не то старушку хоронил…» Очень уж мне хотелось зацепиться за что-нибудь. И зацепился ведь. Да только не с той стороны.
Часть вторая
— Баба, друг, куда хошь заведет, только поддайся. А ты, значит, интересуешься? Лысый коротышка подмигнул мне и погрузил лицо в пивную кружку. Пил он жадно, как лошадь, дорвавшаяся до ведра с водой после длинного прогона. И лицо у него было лошадиное, вытянутое, странно не соответствующее короткой фигуре. Но мне было не до физиогномических тонкостей. Лысый интересовал меня как источник информации. А открыл лысого Лаврухин, открыл, как в свое время Леверье открыл планету Нептун, не на небе, а в бумагах. Упоминания о лысом мелькали в показаниях астаховских соседей. Сперва Лаврухин подчеркнул их красным карандашом, а потом послал меня искать этого коротышку… Коротышку я нашел. Нашел в пивной. И в этой же пивной обнаружил, что за мной кто-то следит… Лысый подмигнул и погрузил лицо в пивную кружку. Я сказал, что ничем особенно не интересуюсь, просто так уж вышло. Заговорили мы об Астахове, которого оба знали — он как художника, а я… — Значит, по линии страхования ты? — осведомился лысый, наверное, в третий раз. — По линии, — кивнул я. Не обязательно было представляться лысому по всей форме. Не вынес бы он этого, замкнулся бы, не разговорился. А со страховым агентом почему не потолковать. Можно его и другом назвать, и пивком побаловаться, раз уж произошла такая нечаянная встреча в пивном павильоне, куда лысый ходил как на работу, а я пришел, чтобы эту самую нечаянную встречу организовать. Дело застряло на мертвой точке. Мы не понимали дела. О Пете Саватееве и о себе я даже и говорить не хочу. Люди постарше и поопытнее — Бурмистров, например, и Лаврухин, который вел следствие, тоже недоумевали, откуда что пошло. На всякий случай были проведены некоторые изыскания в области статистики смертей старушек за эти дни в нашем городе. Предполагалось, что альбом мог перекочевать от некой абстрактной пока старушки к Астахову, а от него — к Вите Лютикову. Версию о том, что какая-то старушка состоит или состояла в родстве с Астаховым, пришлось, правда, сразу отвести, потому что, родственников у Астахова в Заозерске не было — ни близких, ни дальних. У него вообще не оказалось никаких родственников. Мать и отец погибли во время войны. Дедушка и бабушка покинули этот свет в пятидесятых годах. Так вот и случилось, что с десяти лет Астахов воспитывался в одном из московских детдомов. В Заозерске Астахов оказался случайно — поехал по распределению работать в театр после окончания художественного училища. Все в его биографии было ясно и понятно. До какого-то момента был понятен и он сам. Неяркое дарование никогда, по всей вероятности, не доставляло ему горьких минут. Художники, с которыми Астахов общался, характеризовали его как человека беззаботного, легкомысленного. «Типичный халтурщик…», «Наплевист…», «Философия потребителя…». И вот: старушка — ром — альбом — Астахов. Недолго, впрочем, пришлось мне поиграть этой цепочкой. В то злополучное для Астахова воскресенье в Заозерске не хоронили ни одной старушки. Хоронили в пятницу, как раз в тот день, когда Астахов провожал Лиру Федоровну в Крым. Только эта старушка не имела отношения к Астахову. Давным-давно, если двадцать лет подходит под это определение, Мария Дмитриевна Каронина работала костюмершей в театре. И уже тогда была старушкой. Я не нашел человека, который помнил бы ее молодой. О своей юности Мария Дмитриевна рассказывала мало и путано. Это были никчемушные рассказы о благотворительных балах, на которых она танцевала и даже завоевывала призы. Я видел эти призы — потемневшие мельхиоровые кубки, перешедшие по наследству к племяннице Карониной, женщине суровой и немногословной. По ее мнению, Мария Дмитриевна давно уже выжила из ума, и смерть для нее явилась благодеянием. Но было видно без подзорной трубы, что смерть Карониной явилась благодеянием прежде всего для племянницы, которая заполнила вакуум, образовавшийся в доме, пустив квартирантов на бывшую теткину жилплощадь. Я не стал спрашивать племянницу о том, пила ли старушка ром. Про альбом я, конечно, спросил. Альбома племянница не видела. Об Астахове не слышала. Лютиковых не знала никогда. Фамилии Наумовых и Казаковых были для нее пустым звуком. Но старушка-то покойница работала когда-то в театре. И Казаков работал в театре. И Астахов тоже. В разное, правда, время работали там Казаков и Астахов. Могли и не знать друг о друге… А могли и знать…Лысый облизнулся и выразительно посмотрел на пустые кружки. Я принес по третьей. Новый мой друг сдул пену от края и сказал: — Пиво здорово мозги просветляет. Иной раз в башку столько туману набежит… А пивка хватишь, и развиднение получается. У тебя как? — Да так, — сказал я неопределенно. — Вот я и говорю, что так, — обрадовался лысый. — Отходит туман, и человека уважать начинаешь, потому как светлым делается человек. Ты, значит, по линии страхования? — спросил он в третий раз и добавил глубокомысленно: — По линии — это хорошо. Только ведь твоя линия от смерти его не отвела. — Не отвела, — согласился я. — Вот я и говорю, что зря он это… — Что? — Да вот так — раз, и в ящик. Ну, ушла… Ну и черт с ней… Пиво нынче дефицитное, это да. Сегодня выбросили — завтра нет. А любовь… Правильно я говорю? Суждения моего собеседника не несли отпечатка оригинальности, и я к ним особенно не прислушивался. Но мне надо было установить, на чем базируется уверенность лысого в том, что Астахов покончил жизнь самоубийством, и покончил «из-за бабы», как утверждал мой новоявленный друг. Слова лысого вступили в противоречие с тем, что было уже известно нам об отношениях Лиры Федоровны и Астахова. На столе у Лаврухина пухла папка, в которой накапливались сведения об этих людях. Показания соседей и знакомых Астахова, а также сослуживцев и подруг Лиры Федоровны, включая Валю Цыбину, были непротиворечивыми: Лира и Астахов никогда не ссорились, были дружны — не жизнь, а сплошной пейзаж Левитана, солнечный такой, безмятежный. Вот только вещички свои Лира не торопилась перетаскивать на квартиру Астахова… — Нынешняя баба, друг, теперь как, — болтал между тем лысый. — Теперь она в машину влезть норовит. Первое дело это для нее… Я вот помню… моя бывшая все телевизор оглаживала. Подберется к нему и этак ручкой, ручкой. Как мужика гладила — честное пионерское. И в глазах у нее, понимаешь, выражение особое застывало. Не мог я на это спокойно смотреть. Равнодушия к этому у меня нет, как у некоторых… Однако терпел. Пока она, значит, с телевизором обнималась, терпел. Понимаешь? А потом сосед мой Васька «Москвича» купил. Ну и ушел я, не выдержал. Потому что вижу: как утро, так она к забору и «Москвича» этого глазами гладит… Я и сказал: «Гладь, — говорю, — стерва. На зарплату свою фельдшерскую тебе его не иметь. Соблазняй, — говорю, — Ваську, ежели сможешь». Только куда ей, стать не та. Понимаешь? А у этой не так, ну, у той, которая с Колькой-покойником; у той, понимаешь, все на месте и ничего не трясется. И личико свеженькое… Да только все равно дурак он… Он называл Астахова фамильярно Колькой-покойником. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Меня он стал величать другом с первой минуты знакомства и сразу же перешел на «ты». Он и с Папой Римским повел бы себя точно так же, этот ханыга с выцветшими голубыми глазами, и Папе Римскому он стал бы рассказывать о том, как ушел от жены, как бросил работу, как прибился к пивному павильону, стал бы жаловаться на «обстоятельства жизни», плакаться в жилетку и искать виноватых и трепаться, трепаться, трепаться… И все-таки что-то соединяло его с Астаховым. В протоколах об этом говорилось скупо и невнятно. Ничего почти не говорилось в протоколах — не было в них сперва ни фамилии лысого, ни имени, ни прозвища. Были лишь глухие упоминания о том, что за неделю до смерти приходил к Астахову не то бывший портной, не то сапожник, что видели его будто бы и в день смерти Астахова: толкался он среди любопытных во дворе, а как услышал о том, что отравился газом художник, только его и видели. Когда Лаврухин вплотную заинтересовался этим «не то сапожником, не то портным», выяснилось, что фамилия его Дукин. И оказался он не сапожником, не портным, а спившимся столяром-краснодеревщиком, которому, как мне удалось выяснить после четвертой кружки пива, Астахов заказал раму для какого-то своего высокохудожественного панно. Дукин заказ выполнил, но Астахов почему-то забирать раму не спешил. Тогда мастер пошел к Астахову сам. Это было за неделю до смерти художника. — Громоздкая рама-то, понимаешь, — говорил он. — Два на полтора. Да и пятнадцать целковых тоже деньги. А рама у мамаши жилплощадь загородила. Я ведь от Верки к мамаше ушел, свой домик у нее, еда какая-никакая, мамаша, одним словом. И с этой стороны, я тебе, друг, скажу, я женщину уважаю. Как мать, понимаешь? Его опять повело не туда, и я внес предложение выпить еще по кружечке. — Это можно, — сказал лысый, оживляясь. — Это, друг, завсегда можно. Я дал ему рубль, и Дукин отправился к стойке. Ходил он долго: в павильон набежал народ. А когда вернулся, я спросил осторожно: — Значит, говоришь, из-за бабы он? Дукин одним большим глотком выдул пол кружки, чмокнул с присвистом и бросил отрывисто: — Ну… О чем речь… И снова припал к кружке. Потом начал рассказывать, как он ладил раму, как Астахов прибегал к нему справляться о ходе работы, как совался под руку с рулеткой, потому что казалось ему, что Дукин малую ошибку в измерениях допустил. Он говорил, а я слушал и не слушал, потому что именно в этот момент как-то остро ощутил, что мы с Дукиным стали объектом чьего-то пристального внимания. Такое чувство появляется, когда тебе долго смотрят в спину. И хоть умные люди говорят, что все это чепуха, я расхожусь во мнении с умными людьми. Я видал однажды, как забеспокоился поросенок, когда почувствовал, что его собираются резать. Правда, со мной совсем недавно произошло нечто другое: в Витиной мастерской я не ощутил присутствия незнакомца и схлопотал из-за этого удар по голове. Но, может быть, мое шестое чувство обострилось после этого удара, кто его знает, только я вдруг понял, что за нами в павильоне кто-то наблюдает. Дукин толковал о том, как не пришел в один прекрасный день к нему художник, не пришел и на второй, и на третий, а Дукин уже сладил раму и жаждал получить поскорее свои пятнадцать целкашей. Дукин толковал, как он пошел проведать заказчика, а я вертел головой, разглядывал посетителей пивного павильона, пытаясь сообразить, кто же это интересуется нами; но напрасно вертел я головой — все мужички были заняты пивом, и не было среди них ни моих знакомых по уголовному розыску, ни каких-либо подозрительных демонических личностей. Пока я разбирался в своих ощущениях, Дукин уже добрался в неторопливом рассказе до дома, в котором жил Астахов, спросил у соседей номер квартиры и остановился перед дверью. Надавил кнопку — не задребезжал звонок. Хотел постучать легонько, а дверь сама подалась, распахнулась, словно приглашая войти. Но он не вошел, задержался на пороге. — Разговор, понимаешь, уж больно веселый у них шел. Она ему, слышу, тарантит: «Ухожу», — говорит. А он ей: «Погоди, Лирочка, все будет как ты хочешь». А она вроде уже ничего не хочет, тютелька в тютельку, как Верка моя бывшая: говорит — не хочу, а сама глазищи уставит, и все нутро ейное через этот взгляд наружу выворачивается. Осьминог какой-то, а не баба, честное пионерское. И эта таким же макаром, значит. А я ее еще в глаза не видел, голос только слышу — ну прямо Веркин голос, когда Верка меня жить учила. Слушаю я ее голос, не Веркин, а той, ну, которая уходить собралась, стою, понимаешь, и думаю: «Все вы, — думаю, — на одну стать». Думаю, а самому интересно. Про раму даже забыл и пятнадцать целкашей, которые получить хотел, тоже из головы выскочили. Родным, понимаешь, повеяло, наболевшим. Они, значит, беседуют, а я стою как тень, порог переступить не хочу, потому что интересно. Разве думал я тогда, что беседа ихняя таким концом повернется. Колька-художник мне крепче казался, веселее, а тут на тебе… Он пожевал губами, покосился на пустую кружку. — Да, таким вот макаром. Мы с тобой тут вот пивком прохлаждаемся, а Колька в раю с Бога портрет рисует. Их беседу я тогда не дослушал. Не по себе как-то стало, дверь тихонько прикрыл, постучал как положено и в квартиру зашел. Они вокруг стола стоят. Бабенка книжку какую-то черную в руках вертит и злой бедой на художника глядит. А он ну ровно джейран малахольный: морда в тоске, того и гляди на колени бросится. На меня посмотрел как на пустое место. «Тебе чего надо, Дукин?» — спросил. Я говорю: «Присылай машину за рамой, готова рама». А бабенка книжку швырнула и глядит. С него на меня, с меня на него. Ждет, значит. Он говорит: «Ладно, Дукин, иди погуляй пока, в субботу заберу заказ». Ну и не забрал. Я субботу подождал, воскресенье подождал, а в понедельник опять к нему поперся. Приезжаю — перед крыльцом толпа, на крыльце мильтон, как на трибуне, объясняет, значит, чтобы граждане расходились… Он задумчиво пощелкал желтым ногтем по краю кружки, но я сделал вид, что намека не понял. Пора было закрывать кредит Дукину, а самого его передавать, как эстафету, Лаврухину, потому что наступило время задавать ему вопросы. Но все «как», «что» и «почему» лежали вне компетенции страхового агента, каковым я был для Дукина, а час кончать маскарад еще не пробил. Я оставил мужика в павильоне размышлять над пустой кружкой в ожидании нового кредитоспособного собеседника, а сам пошел составлять вопросник для Лаврухина. На Заозерск между тем опускался вечер, теплый летний вечер с музыкой в парке над озером и другими вечерними городскими удовольствиями. Вечер настраивал на лирический лад, и, может быть, поэтому мне впервые пришло в голову, что в деле, которым мы занимаемся, любовь играет далеко не последнюю роль. А может, на эту мысль натолкнула меня афиша кинотеатра «Спутник», приглашавшая горожан на односерийную «Только любовь». По моим наблюдениям, несчастная любовь обычно растягивается на две серии, счастливая укладывается в одну. Значит, эта «Только любовь» была счастливой. И Дукин плел про любовь. Про несчастную любовь. Но Дукин видел только кусок одной серии, поэтому Дукину нельзя было верить на слово. Он не врал, Дукин. И все-таки то, что он услышал, стоя в дверях астаховской квартиры, можно было толковать по-разному. Напутал что-то спьяну лысый Дукин. Не был Астахов «малахольным джейраном», совсем другим человеком рисовался он нам по материалам дела, и никто из нас не считал его способным на такой поступок, как самоубийство по причине несчастной любви. Что-то тут было не так, не вязалось что-то, не сходилось, не складывалось. Не вязалось, не сходилось, не складывалось… Я повертел в руках тетрадочный листок в косую клеточку и снова уставился в разбегающиеся фиолетовые строчки. Лира Федоровна Наумова писала:
«Уважаемый Максим Петрович! Я хочу сказать Вам, что решила уволиться из музея и навсегда покинуть Заозерск. Думала я об этом давно, но никогда Вам не говорила. Может быть, потому, что Вы всегда хорошо ко мне относились. Вы поймете меня. Я думаю, что так лучше. Извините и прощайте. Заявление об увольнении прилагаю. С уважением Л. Наумова».
Ни даты, ни обратного адреса. Круглый ростовский почтовый штемпель на конверте свидетельствовал, что письмо было отправлено 31 мая. Странное письмо, если подумать, если учесть все обстоятельства, если соотнести это письмо с событиями, которые ему предшествовали. Если соотнести… 31 мая Лира Федоровна была в Ростове. 31 мая она написала Сикорскому, вложила в конверт заявление об увольнении с просьбой выслать трудовую книжку в Москву «до востребования», заклеила конверт и бросила его в почтовый ящик. Сегодня было уже 3 июня. Я положил письмо на стол и взглянул на Сикорского. Передо мной сидел человек, о котором я слышал, что он был неравнодушен к Лире Федоровне, но она предпочла ему Астахова. Мне Сикорский показался довольно интересным мужчиной, в меру зрелым, в меру элегантным. Наружность у него была располагающей, лицо крупной лепки, из тех лиц, которые нравятся неглупым женщинам. А судя по тому, что я знал о Лире Федоровне, она была далеко не глупа. И в то же время… — Трудовая книжка у вас? — спросил я, хотя и знал, что задаю праздный вопрос. — Письмо пришло сегодня, — сказал Сикорский. — И я сразу позвонил вам… Да, он сразу позвонил нам. Вернее, он позвонил Лаврухину, а я оказался под рукой у следователя. Лаврухин только что отпустил Дукина и попросил меня сличить его показания с моими впечатлениями об этом человеке. Дукин ответил на все те вопросы, которые вертелись у меня в голове во время нашей приятной беседы за кружкой пива, но задавать которые я тогда остерегался, потому что они выходили за пределы компетенции страхового агента. Да, Дукин ответил. Но в итоге перед нами повис новый вопросительный знак. Чепухой оказалась вся эта история с рамой. А может, не чепухой? Свои панно художник продавал без рам. И не осталось после Астахова ни одного полотна. Но ведь нашел же он Дукина и заказал ему раму для несуществующей картины. Зачем? А может быть, и не рама вовсе понадобилась Астахову… Может, рама была просто предлогом для знакомства. Может, Дукин ему зачем-то понадобился. Хотя сам Дукин ни сном ни духом не чуял зачем? Клялся он, что и понятия не имел ни о каком Астахове, что художник сам пришел к нему и никаких разговоров, кроме как о раме, не вел. Или врал Дукин? Опять мы на всех парах влетели в какой-то тупик. Лаврухина это, впрочем, не смущало. Пока я читал протокол, он полировал стеклышки своих очков, потом нацепил их на мясистый нос и задумчиво пробормотал: «Отсутствие информации тоже информация». Он хотел развить эту глубокую мысль, но зазвонил телефон. И мне пришлось срочно отправляться в музей. Он, как и в дни моего отрочества, по-прежнему размещался в бывшей церкви. Только все в ней было непохоже на то, что смутно помнилось мне с той поры, когда я ходил в «друзьях музея». Время стерло «письменность первобытного человека» и разметало костер охотников на мамонта, когда-то ярко горевший в алтаре. Со стен и потолка была смыта побелка, и взору сегодняшнего посетителя открывались картины, на которых в хронологической последовательности была запечатлена библейская история сотворения и грехопадения человека. Каждый рисунок настенного божественного комикса сопровождался соответствующей цитатой из первоисточника. В музее было прохладно. По звонкому полу, выложенному из крупных чугунных плит, гулко цокали каблуками экскурсанты. Пестрая стайка интуристов, увешанных фото и кинотехникой, обсуждала кульминационный эпизод композиции. Им было весело смотреть на крутобедрую Еву и раскормленного на бесплатных харчах Адама, которые убегали из райских кущ под гневные возгласы рассерженного Бога. У Адама был довольно глупый вид: он еще не успел оценить размеры постигшей его катастрофы. Ева мчалась на шаг впереди Адама, бежала, скрестив руки на груди, словно неосторожная купальщица, у которой хулиганы стащили одежду, не оставив даже носового платка для прикрытия наготы.

Картина наглядно подтверждала ключевую мысль Дукина о том, что «баба, друг, куда хошь заведет, только поддайся». И я должен признаться, что в те дни эта мысль казалась мне чуть ли не пророческой. Правда, Лаврухин все время твердил, что «в деле должна быть межа, отделяющая любовь от уголовщины», но где она, эта межа, проходит, Лаврухину было неведомо. Иногда он подолгу рассматривал фотографию Лиры Федоровны, вздыхал, бормотал: «Черт знает что», — и прятал снимок в пластиковую папочку, где в числе прочих документов лежала еще телеграмма, которая очень занимала Лаврухина. Папа Лиры Федоровны по-прежнему отвергал свое авторство, а девушка, принимавшая телеграмму, не обратила внимания на подателя. Машинописный текст телеграммы наводил на некоторые размышления, но, когда Петя Саватеев внес предложение поискать машинку, Лаврухин только хмыкнул и посоветовал Пете поберечь этот сюжет для детективного романа. «Почему?» — спросил Петя. «А потому, — сказал Лаврухин, — что нам и так известно: телеграмму послал человек, который знаком с этой женщиной, который знал даже, куда она уехала. Допустим, мы нашли машинку. Стоит она, скажем, в театре или в музее. Что дальше?» — «Сузится круг поисков», — сказал Петя. «Он и так неширок, — задумчиво произнес Лаврухин, — да вот только тем ли фонарем мы его высвечиваем?» Я вспомнил все это, когда Сикорский показал мне письмо Лиры Федоровны. Было заметно, что оно удивило его и даже неприятно поразило. Может, неожиданностью своей, а может, имел Сикорский виды на Лиру Федоровну, может, смерть Астахова пробудила в нем надежды: ведь любил он эту женщину. И письмо намекало на какие-то отношения между директором и сотрудницей, на отношения, выходящие за рамки служебных. Но где тут кончалась любовь и начиналась уголовщина? Поди разберись. С одной стороны, казалось, что все поступки Лиры Федоровны были продиктованы желанием убежать, скрыться. С другой же… С другой — передо мной лежало письмо, которое это желание перечеркивало. Если, конечно, она сознательно не запутывала следы.
Сикорский открыл сейф и подал мне сиреневую книжечку. Выражение лица у него было хмурое. — Отдела кадров у нас, как видите, нет, — сказал он. — Все приходится делать самому. Я полистал трудовую книжку Лиры Федоровны и положил на стол рядом со старинной бронзовой чернильницей. Директор выдержал паузу и спросил прямо: — В чем вы ее подозреваете? Я усмехнулся. — Подозревают ревнивые мужья, Максим Петрович. А мы расследуем. — Не вижу разницы, — бросил он угрюмо. — Ну и напрасно, — заметил я. — Нашему брату эта разница иногда боком выходит. — Вот как… — Да уж так, можете поверить мне на слово. То ли он поверил мне, то ли мое замечание о ревнивых мужьях изменило ход его мыслей, не знаю. Только от его угрюмой раздражительности не осталось и следа. Он даже попробовал улыбнуться. Улыбка вышла кислой, и он заметил, что это от меня не ускользнуло, так же как и смена настроения. — Да-да, — сказал он. — Не ожидал… Не подозревал… Конец фразы он произнес с нажимом, желая, видимо, дать мне понять, что никогда не сомневался в Лире Федоровне, что не возникало у него никогда сомнений в честности этой женщины, что смешно считать ее замешанной в каком-то грязном уголовном деле с убийством… Не ожидал… И письма в форме «отказа с приветом» не ожидал Сикорский… Что ж, понять его было можно. Но меня не волновала тема тысяча первого романа о неразделенной любви. Сугубо прозаические вопросы толпились в моей голове. Такие, например, как прописка и выписка. Думал я и о вещичках, которые Лира Федоровна держала на квартире у Вали Цыбиной. Пришло, пожалуй, время взглянуть на эти вещички. Вещички… Вещи… Тряпки… Барахло… Зимнее пальто с норковым воротником, а может, шубка, выкроенная из пятерок, откладываемых из невеликой зарплаты младшего научного сотрудника, шубка, которая дорога не ценой даже, а тем, что хорошо сидит; тем, что она привычна; тем, что она есть. Не так-то просто женщине расстаться с вещью, с тряпкой, с барахлом. Ева бежала из рая нагая, но она знала, что Адам ее оденет, потому что яблоко познания было уже съедено. А хватит ли денег на барахло у худощавого брюнета, которого Лира Федоровна посадила в такси, удирая из «Массандры»? И кем он был, этот худощавый брюнет — Адамом или змеем-искусителем? Если верить письму, решение об отъезде «навсегда» женщина приняла задолго до смерти Астахова. Значит, яблочко познания было съедено много раньше. Не в тот ли день, когда Дукин явился на квартиру к Астахову? Дукин… Почему запутался в этом деле Дукин? Худощавый крымский брюнет. А не мог ли этот брюнет послать Лире Федоровне телеграмму о смерти Астахова, а потом сесть в самолет и… Нет, вряд ли… Телеграмма была принята на почте в три часа дня, а брюнет подсел в такси к Лире Федоровне где-то около шести вечера. За три часа можно, конечно, долететь от Заозерска до Симферополя. Но до Ялты уже не успеть. Даже на такси… Раньше… Что-то произошло раньше событий, о которых нам было известно. И встреча Лиры Федоровны с брюнетом была запланирована раньше. И бегство из Заозерска тоже было намечено раньше… Бегство?.. От кого? От Астахова? От Сикорского? Или от того, кто убил Витю Лютикова? Где же все-таки кончалась любовь и начиналась уголовщина?
— Не ожидал… Не подозревал… Сикорский передвинул бронзовую чернильницу на край стола, потом возвратил ее на место. Он нервничал. Письмо Лиры Федоровны выбило его из привычной колеи — так нужно было понимать его жесты, его слова и интонацию, с какой эти слова произносились. А я не понимал или не хотел понимать. Что-то все время мешало мне. Лишь потом, через много дней, я сообразил, что именно. Тогда же мне казалось, что я просто не верю Сикорско-му, не верю его словам, не верю в то, что он «не ожидал», наконец, не верю в то, что женщину можно любить как картину, не ища взаимности. Профессия делает из нас как скептиков, так и психологов. И скептики ошибаются чаще в оценках людей и поступков, чем психологи. В тот день во мне сидел скептик. Рядом с чернильницей стояла бронзовая пепельница-избушка. Я приподнял крышку домика и спросил: — У вас курят? Сикорский кивнул. — Любопытные вещи делали наши предки, — заметил я, пощелкав ногтем по домику-пепельнице. — Почему вы их не экспонируете? — Не имеют художественной ценности. Ширпотреб. Не думаю, что наши потомки станут экспонировать в своих музеях пластмассовые мыльницы или футляры от безопасных бритв. — Но в них может быть и иная ценность. Старинные вещи передают колорит эпохи… — Для колорита хватает того, что экспонируется. Музей — это система, а не склад антикварных вещей. Плохая или хорошая, но система. — Он вздохнул, словно сожалея о чем-то, и, хлопнув ящиком стола, вытащил пачку сигарет. — Да, система, — повторил он. — А я вот собирался бросить курить… И спросил, как бы мимоходом: — С чего это вы вдруг заинтересовались технологией музейного дела? — Да так, к слову пришлось, — сказал я. — Любопытство профана. Ну и еще… Старичка одного вспомнил. Сидел тут на вашем месте лет двадцать пять назад старичок боровичок с бородкой клинышком. Я у него в «друзьях музея» по ошибке числился. У него какая-то другая система была. Он, разумеется, не верил в первородный грех: прикрыл его покрывалом побелки. Замазал, так сказать, Евино преступление, окутал его меловым туманом, скрыл от глаз общественности. Действовал он, безусловно, из лучших побуждений. Я сделал паузу, сунул окурок в пепельницу-избушку и посмотрел на Сикорского. Он не проронил ни слова. Курил, слушал. — Да, — сказал я. — Побуждения у старичка, конечно, были самые наилучшие. И систему свою он считал единственно правильной. А так как любая система требует последовательности, то он, сказав «а», подумал и о «б». Царские врата за ненадобностью были сняты и разобраны, а в алтаре зажжен костер, вокруг которого старичок усадил неандертальцев. И стало ясно, что человек произошел от обезьяны, что никакого первородного греха не было… Я опять сделал паузу. — Но прошло время, и он снова открылся. Подвела доморощенного атеиста-дарвиниста система. Да и побелка, как вы понимаете, штука ненадежная. Рано или поздно она осыпаться начинает. Сикорский взял со стола трудовую книжку Лиры Федоровны, взвесил ее на ладони, подумал и, не раскрывая, положил перед собой. — А знаете что, — сказал он, и в его серых глазах мелькнули лукавые огоньки. — Старичок ваш не был ни атеистом, ни дарвинистом. Вы его фамилию помните? Фамилию старичка я знал. Да и о нем самом кое-что мне было известно. Кое-что. И это кое-что наводило на мысль о необходимости поинтересоваться личностью старичка боровичка поглубже. Но Сикорскому знать об этом было вовсе не обязательно. Да к тому же сейчас мне надо было другое — потихоньку, исподволь подвести его к мысли о том, что ему не избежать неприятных объяснений, что волей-неволей ему придется признаваться в своих чувствах к Лире Федоровне. К неизбежности разговора о Лире Федоровне и Астахове намеревался подвести я Сикорского. А старичок, давний предшественник его на директорском посту, был не атеистом-дарвинистом, а кладоискателем. Это я уже знал. И был он одержим идеей поиска сокровищ какой-то княгини Улусовой, которая в семнадцатом году удрала не то во Францию, не то в Италию, а сокровища свои почему-то оставила в Заозерске. Но где оставила, никто не знал. Не знал этого и старик Бакуев, но был уверен — оставила. И верил — найдутся ценности, а о нем, о Бакуеве, напишут в местной газете. Но не пришлось писать. Не обрел Бакуев ни славы открывателя, ни процентов со стоимости клада. Помер Бакуев, только легенду о себе оставил. Да и она вскоре была забыта.Впрочем, когда я Сикорскому намекнул, что атеист-дарвинист, кажется, занимался еще и поисками какого-то мифического клада, то в ответ услышал: — Вот именно, мифического. А когда я упомянул о легенде, которая оказалась забытой, директор музея постучал кончиком уже второй сигареты по столешнице и усмехнулся. — Да, забылись легенды, — заметил он. — Хотя, как бывает всегда в таких случаях, у старичка нашлись последователи. Эти истории о кладах вообще как-то странно действуют на людей. Хочется, знаете ли, искать, искать, искать. Вот и у вас, я вижу, наготове миллион вопросов. — Пока только один, — сказал я. — Вам тоже хотелось искать? — Ну, что вы. — Он улыбнулся мне, как улыбаются ребенку. — Последователи Бакуева камня на камне не оставили от его теории. — Не было сокровищ? — Княгиня не заезжала в Заозерск. Она транзитом проследовала через Польшу, Германию и обосновалась в Италии. Умерла она в Венеции в тридцатых годах. — А сокровища? — спросил я, потому что вдруг блеснул на миг желтым светом перед моими глазами золотой кругляшок, называемый брактеатом, тот самый кругляшок, который был обнаружен в кармане Витиных джинсов. Блеснул и со звоном покатился в сторону от княгини Улусовой и от сокровищ ее, ибо не золотом и не алмазами были эти сокровища, не тот характер был у них, и не вписывалась в них золотая бляшка. — Богатое собрание персидских миниатюр, — сказал Сикорский. — Тринадцатый и четырнадцатый века. Описания или каталога не имелось, поскольку собрание было частным. Но по кое-каким высказываниям современников княгини можно составить представление — коллекция была уникальной. — Была? — Видите ли, в чем дело. Род Улусовых прекратился на этой княгине. А сама она закончила, как принято говорить в подобных обстоятельствах, свои дни в психиатрической клинике. Так что нет никаких оснований полагать, будто коллекция сохранилась. — А у Бакуева были основания? Сикорский неожиданно засмеялся. — Имейте в виду, — сказал он, — что разговор о Бакуеве затеяли вы сами. И если теперь эта история лишит вас аппетита и сна, то я не виноват. — Как-нибудь перебьюсь, — пообещал я. — Ну-ну, — хмыкнул он иронически. — Бакуев появился в Заозерске сразу после войны. Он был из той породы людей, которые хватаются за любое дело. Иногда они изобретают велосипеды. Иногда берутся опровергать Эйнштейна или Ньютона или требуют запатентовать сконструированный ими вечный двигатель. Роднит этих людей то, что они, задумывая что-то, всегда исходят из неверных посылок. Так вышло и у Бакуева. Неудачник-недоучка… Неизвестно где, от кого и когда он узнал о существовании коллекции. В Заозерск он приехал уже одержимый идеей кладоискательства. И немедленно кинулся разыскивать родственников княгини, в доме которых она будто бы останавливалась… — И что же? — Да ничего, — сказал Сикорский с усмешкой. — Я же говорил вам о неверных посылках. Улусовы никакими нитями не были связаны с Заозерском. Выяснилось это, конечно, позднее. Как и то обстоятельство, что княгиня, удирая от революции, в Заозерск не заезжала. Достаточно бросить взгляд на карту, чтобы убедиться: логика против Бакуева. Из Москвы в Рязань через Архангельск не ездят. И потом — какой смысл был оставлять ценности в России? — Звучит убедительно, — сказал я. — Но… — Представьте себе, есть и «но». — Любопытно. — Бакуев умер, кажется, в пятьдесят седьмом году. В одночасье, как говорится. Так вот, когда сотрудники музея пришли на квартиру, чтобы, так сказать, отдать последний долг покойному, то обнаружили… Догадываетесь что? — Догадки не лучший метод, — заметил я. — Но, как говорят, исходя из вышеизложенного, вероятно, какое-нибудь доказательство пребывания княгини в Заозерске. — И да и нет, — сказал Сикорский. — Скорее «нет», впрочем. Словом, на столе у Бакуева лежал обернутый в бумагу портрет молодой женщины. Исполнен он был в манере Гейнсборо, но нетрудно было понять, что кистью водила рука дилетанта. Кто-то высказал предположение, что юная особа и есть сама княгиня Улусова. Потом это подтвердилось. — Ну и что? — А то, — веско произнес Сикорский, — что до сих пор неизвестно, откуда взялся у Бакуева этот портрет. — Он мог просто привезти его в Заозерск. — Наумов так не считал… Трах! Это было не хуже удара по голове. Вот оно куда подкатилось! Наумов… Бывший муж Лиры Федоровны, о котором мне было известно… Да ничего фактически мне не было известно… Муж, укативший год назад в Караганду. Муж, который был… Кем же он был? Доцентом, что ли? Преподавал историю в пединституте. Ну да, историю. И еще, кажется, увлекался нумизматикой. А теперь получается, что он и поисками сокровищ княгини Улусовой увлекался, пока не произошел скандал в семействе Казаковых. Вот так диалектика. Все в этом деле связано: и любовь и уголовщина. Или есть между ними межа? Сикорский сделал вид, что не заметил моего замешательства. — Да, Наумов, — сказал он задумчиво. — Я вам говорил, кажется, что у Бакуева нашлись последователи. После его смерти директором музея был назначен Ребриков Петр Иванович. Он тут навел некоторый порядок. Погасил первобытные костры, добился ассигнований на строительство специального павильона для краеведческого отдела. Словом, сделал много. Когда я в шестьдесят пятом принимал от него дела, здесь все было в ажуре. Улусовской коллекцией Ребриков не интересовался, но портрет предполагаемой княгини показал Наумову, с которым был дружен. И Наумов загорелся. Работу он провернул колоссальную, но с отрицательным результатом. Я протянул руку к трудовой книжке Лиры Федоровны. Мне захотелось кое-что уточнить. — Не трудитесь, — сказал Сикорский. — Все правильно. Лира Федоровна поступила на работу в шестьдесят четвертом и в том же году вышла замуж. — А почему они разошлись, вы не знаете? Он этого не знал. А может, не хотел говорить. Занимательная наша беседа как-то сразу увяла, когда речь зашла о Лире Федоровне, и я счел необходимым ее прекратить. Надо было кое-что осмыслить и кое-что проверить. Я чувствовал — фамилия Наумов накоротко замкнула какие-то проводки в деле. И я… Да, я растерялся, словно ослеп на время. Нужно было привыкнуть к темноте, чтобы что-то увидеть.
Я спустился по широким церковным ступеням на щебеночную дорожку, рассекавшую небольшой густо-зеленый дворик на две равные части, и вышел на улицу. На противоположной ее стороне стоял сверкающий стеклами красно-голубой огромный автобус. В него, оживленно болтая, грузились интуристы. Я не силен во французском, но по некоторым отрывочным словам можно было понять, что они уже успели забыть о лицезрении первородного греха. Мимо меня, шумно дыша, промчалась к автобусу худенькая дамочка в коротких белых штанишках. Она протрусила к кабине водителя и рассерженно воздела к небу кулачки. В салоне раздался дружный вопль иноплеменной стаи. Дверь, словно нехотя, открылась, дамочку схватили за руки, и автобус, взвыв мотором, укатил в сторону Театральной площади. Около меня вдруг возник Петя Саватеев. — Мадонна в трусиках, — сказал он голосом музейного гида. — Канун эпохи сексуальной революции. — А ты откуда, собственно, взялся? — поинтересовался я, не реагируя на остроумную Петину реплику. Петя потряс чугунную ограду, около которой мы стояли, и сказал обреченно: — Все то же. Вопросы и ответы про незнакомого брюнета. Юмор какой-то. Следственные действия Лаврухина Петя явно не одобрял. Пете хотелось искать убийцу, а Лаврухин заставил его перетряхивать биографию Лиры Федоровны на предмет отыскания в ней анонимного брюнета. — Машинку надо искать, — сказал он. — Не понимаю, почему он не хочет искать машинку? Петя поднял блуждающий взор к церковным окнам: — Может, она тут стоит, Александр Егорович? — Не стоит она тут, — сказал я. — Успокойся. — А я в театре посмотрел, — задумчиво произнес Петя. — Шрифт не тот, мелкий. — Ну вот видишь, — сказал я. — Теперь тебе остается только одно — пиши заявление в Министерство обороны. — Это как? — Да так. Проси пехотную дивизию. Прочешет она город, глядишь, и отыщется машинка. Петя вежливо посмеялся. А я подумал, не рассказать ли ему про княгиню Улусову, но решил воздержаться, поберечь Петины нервы. У него впереди была еще добрая половина рабочего дня. Да и у меня тоже…
Вечером я напросился в гости к Вале Цыбиной… Дверь открыла моложавая женщина лет пятидесяти с гаком. Величину гака я не сумел установить, но профессию угадал — Валина мама была учительницей. По удивленному взгляду, которым она меня встретила, я понял, что представители сильного пола редко переступают порог этой тихой обители. Валя с мамой жили вдвоем. Я было подумал, что моложавая учительница изумится еще больше, узнав, кто я, но ошибся — Валя держала маму в курсе событий. Обыкновенная двухкомнатная квартира выглядела пустоватой. Может, потому, что мебель была низкой. Может, потому, что на стенах почти ничего не висело. А приглядываться к тому, что висит на стенах, меня научил Бурмистров. Он даже термин такой придумал «стенная психология». Произносил он его всегда с усмешкой. Однако начальник мой был убежден, что внимание к тому, что висит на стенах в квартире, помогает в какой-то мере постичь, с кем мы имеем дело: с накопителем или мотом, с эпигоном или оригиналом, с верхоглядом или глубокой натурой. — Без допусков тут, конечно, не обойтись, — рассуждал Бурмистров все с той же усмешкой. — Моя мерка не шаблон, но, если ее применять разумно, учитывать разные привходящие обстоятельства, стены квартиры могут многое рассказать о ее хозяевах даже тогда, когда сами они к откровенности не расположены. Словом, Бурмистров научил меня приглядываться к тому, что люди вешают на стены в своих квартирах. И мне кажется, что ковры, картины, фотографии, иконы или рыболовные сети, которыми кое-кто опутывает свой быт, — все это ключики к замкам характеров, к тому, что с небольшой натяжкой можно назвать внутренним миром человека. А на стенах комнаты, в которую я вошел с Валей и ее мамой, почти ничего не висело. Почти. Здесь была только большая фотография стоящего на хвосте дельфина. Он улыбался. Я сел так, чтобы видеть его лукавую улыбку. Дельфин мне очень понравился. Валина мама сказала, что приготовит чай, а Валя уселась против меня, подперла щеку кулачком и стала ожидать вопросов. Настроение у нее было минорное. Я вскользь поинтересовался, не писала ли ей Лира. — Нет, — сказала Валя. — Да и зачем? Ее «зачем» прозвучало вполне естественно. В нем слышалось искреннее недоумение. Действительно — зачем? Лира, уезжая в «Массандру», не предупреждала Валю о том, что будет писать ей. И вообще у них нет никаких обязательств друг перед другом… Зачем?.. Зачем я ее об этом спрашиваю? В кухне гремела чайной посудой Валина мама… С зеленоватой стены на меня смотрел смеющийся дельфин… Где-то в этой квартире, в пропахшей нафталином темноте шкафа хранились вещи, на которые мне хотелось взглянуть. Вещи… Вещички… Барахло… В комнате с дельфином платяных шкафов не было. Был диван, на котором сидел я, был стол, возле которого примостилась Валя. С потолка свисала хрустальная люстра в форме кристалла. Был еще застекленный книжный стеллаж; в углу, у окна, растопырил черные ножки телевизор. Полгода назад в этой квартире жила Лира Федоровна. Жила без прописки, как выяснилось. Штампик о выписке в ее паспорте был поставлен без малого год тому… Тогда она известила паспортный стол о том, что намеревается ехать в Караганду. С мужем… Но муж уехал, а она осталась в Заозерске… И вот теперь… — Она никогда не говорила вам, что собирается покинуть Заозерск? — Нет. Но почему вы об этом спрашиваете? Разве она?.. — Да, она прислала письмо. Хочет уволиться с работы… — Что же она пишет? Когда приедет? — По-моему, она не намерена возвращаться. Валя задумчиво смотрела на меня. Но я мог бы поручиться, что меня она не видит. Молчание длилось долго. Минуту, может, две. Наконец, Валя тряхнула головой, словно пробуждаясь ото сна, и сказала: — Понимаю. Вы подумали о ее вещах. — Я кивнул. Она пожала плечами и встала. Мы прошли во вторую комнату. Здесь стояла кровать, два платяных шкафа, высокое зеркало. Над кроватью висела картина. Я узнал ее сразу. Девица с винтом врезалась в мою память на всю жизнь. Я улыбнулся ей, как старой знакомой, хотя, честно говоря, улыбаться мне не хотелось. Потом я поглядел на Валю. — Никогда бы не сказал, что это — вы. — Мама говорит то же самое. Но он рисовал меня. Витя всегда отступал от натуры. Он считал, что главное — это внутренний мир… — Чей? — Художника, творца… Его видение, его призма, через которую он познает радугу мира… — Тогда все ясно, — сказал я. — Радуга мира — это, конечно, здорово. Жаль только, что вашей маме она недоступна. Валя кинула на меня быстрый взгляд и тихонько вздохнула. Может, ей тоже стало жаль свою маму, может, для вздоха был другой повод, не знаю, но о картине мы больше не говорили. Вещи, вещички, барахло заслонили от меня эту картину, а вместе с ней и внутренний мир покойного Вити Лютикова, ту самую «призму», через которую он пришел к девице с винтом. И заслонили надолго… А вещи, что ж… Пальто и платья, кофточки и сапожки, юбки и блузки — всего понемножку, но на два больших чемодана вполне хватило бы. Когда Валя выдвинула ящик с бельем, я поднял руки. — Достаточно. Мы вернулись к дельфину. На столе исходил паром чайник. За столом сидела Валина мама. — Валюша, это правда, что Лиру ищет милиция? — спросила она, игнорируя мое присутствие. — Правда, — сказал я. — Ужасно, — сказала мама, теперь уже обращаясь ко мне. — Такая приличная женщина. Никогда бы не поверила… — А чему? — невинно спросил я. — Ну как же. — Валина мама даже удивилась. — Вы ведь ищете… Сообщив это, Валина мама одарила меня неодобрительным взглядом. Причина стала мне ясна после того, как она произнесла несколько сумбурную речь в защиту прав гражданина и закончила ее требованием предъявить ордер на обыск. Я ответил в том смысле, что готов похлопотать, если Валина мама считает, что процедура обыска доставит ей удовольствие. «Но мне казалось, — заметил я, — что вопрос этот можно было решить, не прибегая к крайним мерам, и что именно поэтому я пришел к ним в дом не как официальное лицо, а как добрый знакомый, причем после предварительной договоренности о визите с Валей». Валя при этом сказала: «Да, мама, да», — и мама немедленно сменила гнев на милость: я был торжественно приглашен «откушать чаю». Разговор за столом, естественно, вертелся вокруг Лиры Федоровны. Говорила, впрочем, преимущественно мама, а Валя сидела задумчивая. Когда чаепитие закончилось и мама унесла посуду на кухню, Валя сказала: — Женщины совершают иногда очень странные поступки… — Вы имеете в виду Лиру? — Не только. Не знаю, поймете ли вы то, о чем я подумала. — Я постараюсь, — пообещал я шутливо. Но Валя шутить была не расположена. Она окинула меня долгим взглядом, потом посмотрела на дельфина, словно прося у него совета. — Женщина всегда чего-то ждет, — сказала она после непродолжительной паузы. — От жизни, от любви. Ее почти никогда не удовлетворяет существующее положение вещей. Очень часто это просто неосознанное ожидание, совершенно безотчетное. Она объясняет себе его иногда неустроенностью быта, еще чем-нибудь… Иногда даже не пытается объяснить… Но ждет всегда. — В общем, «Сказка о рыбаке и рыбке», — сказал я. — Нет, — сказала Валя. — Скорее о Золушке и Принце. Только с той разницей, что обретенный Принц перестает быть таковым. — Занятно вы рассуждаете. Валя пожала плечами. — Я знала, что вы меня не поймете, — сказала она равнодушно. — Понять нетрудно, — возразил я. — А вот принять… Разве в мире нет счастливых женщин? — Может быть, и есть, — сказала Валя. — Но не все женщины откровенны, как я. Считайте, что вам повезло, вы услышали искреннее признание. Я хотела вам помочь… — Помочь? — Да. Вы же хотите понять Лиру. Вы пришли посмотреть на ее вещи. Вы знаете, что вещи могут многое рассказать о своем владельце. Кроме того, вы хотели убедиться, стоят ли эти вещи того, чтобы человек о них беспокоился. Я угадала? — Вполне. — Но я не все показала вам. — Чтобы помочь, так сказать. Это мне нравится, — заметил я саркастически. Валя сарказм игнорировала. Она смотрела на дельфина… Я тоже посмотрел на дельфина… И когда я стал кое-что понимать, Валя сказала: — Это ведь только в сказке Принц дарит Золушке хрустальные башмачки. И только в сказке он ищет Золушку. В жизни может быть и наоборот — почему бы самой Золушке не поискать исчезнувшего Принца? — Она искала? — Она молчала, — сказала Валя. — Но я видела, что она ждала. Когда она жила у меня, эта фотография висела у нее над кроватью. Потом она приходила поглядеть на нее. — Значит, Астахов… — Астахов? — Валя как-то странно усмехнулась. — Для Лиры он был чем-то вроде лекарства от неврастении. — Да, — протянул я. — Откровенно, ничего не скажешь. — Вините себя, — сказала Валя. — Помните скамейку над озером? Вы тогда требовали от меня предельной откровенности. Я намекала вам, что копаться в чужом белье просто неприлично. Но вы оказались настойчивым человеком. Что ж, сегодня я предоставила вам такую возможность. А вы опять чем-то недовольны. — Вашу аллегорию о Золушке и Принце к делу не подошьешь. — А я и не хочу, чтобы вы ее подшивали, — сказала Валя, подчеркнув голосом последнее слово. — Почему? — Потому что не хочу. Я не могу утверждать: «У Лиры кто-то был… До замужества… До Астахова…» Не могу, потому что не знаю. — Я, между прочим, вас за язык не тянул. — Ах, оставьте, — сказала Валя. — И позвольте вам не поверить. Вы, как акула, ходите возле меня по кругу. Вам кажется, что я что-то скрываю, чего-то недоговариваю. Лира решила уволиться, уехать, и вы идете ко мне и требуете от меня объяснений. А мне нечего сказать. Нечего… Но ведь вас такой ответ не удовлетворит. Вам опять будет казаться, что я что-то утаиваю… Лира не явилась на похороны, а объясняться должна я. Она куда-то умчалась, а вы идете ко мне. Найдите ее в конце концов. Вы же умеете это делать. Или врут романисты и журналисты, когда пишут о ваших подвигах? Она помолчала недолго, потом вздохнула: — Хотя… Зачем это все? Я поднялся с дивана и снял дельфина со стены… Перевернул фотографию… Надписи на обороте не было… Дельфин хорошо смотрелся со стены, и я вернул его на прежнее место. — Романисты не врут, — сказал я Вале. — Но они пишут романы, а мы с вами живем. Романисту в принципе известно, куда идут его герои, а книгу жизни пишет сама жизнь. Мы, конечно, найдем Лиру. Это, в общем-то, вопрос времени. Мне показалось, что с вашей помощью поиск можно ускорить. Я ошибся. Бывает и такое. Ну а что касается акулы… — Я не хотела вас обижать. — Понимаю, — сказал я. — Мысль об акуле вам внушил дельфин. — А вам? — спросила она. — Вам он ничего не внушил? — Служба не позволяет, — сказал я, решив, что Вале совсем не обязательно знать о том, какие мысли владели мной в этот момент. Валин Принц и худощавый брюнет из Ялты уж очень ловко слились в одно лицо. Золушка нашла Принца, и этим следовало объяснять все ее странные поступки. На первый план снова выступала любовь, а уголовщины будто и не было. Сказав много, Валя, в сущности, не сказала мне ничего… И Сикорский мне ничего не сказал… И пивопивец Дукин, воткнувшийся в дело, как палка в колесо… И десятки других людей, которые тоже что-то говорили, а потом подписывали свои показания, которые садились, вставали, улыбались, морщились, удивлялись; которые злились, что их отрывают от работы по пустякам, или, наоборот, отводили душу, перемывая косточки ближним своим. Десятки людей — и пухлая пустота папок на столе у Лаврухина. Я вышел от Вали, когда часы показывали одиннадцать. Валина мама просила заходить, но голос ее звучал сухо, а глаза смотрели холодно. Я в общем-то понимал ее. А вот с дочкой, как думалось мне, все обстояло сложнее. Мне показалось странным, что за весь вечер Валя не задала мне того вопроса, какой я, будь на ее месте, задал бы обязательно. Я, еще собираясь к Вале, придумал ответ на него, но вопроса не последовало. Валя не спросила, почему мы так упорно занимаемся Лирой Федоровной. Больше того. Она отнеслась с полным пониманием к моему желанию узнать о Лире побольше. Правда, при этом она заметила, что я обращаюсь не по адресу, что о Лире должна рассказать сама Лира. Но сказка о Принце, которого ждут, была выдана мне ведь не за хорошее поведение. Или Валя и в самом деле хотела помочь мне и поэтому поделилась своими сомнениями. Или она знала о Лире что-то такое, что, по ее мнению, мне знать не полагалось, но поскольку я был настойчив и вел себя как акула, учуявшая мясо, то надо было срочно заткнуть акулью пасть подходящим к случаю суррогатом. Точно так же поступил со мной и Сикорский. Не желая беседовать о Лире, он ведь и о старике Бакуеве заговорил лишь после моего намека о поисках какого-то клада этим атеистом-дарвинистом. Да и о княгине Улусовой он, собственно, сказал лишь то, что я уже знал. Я медленно шел по темной улице — Валя жила далеко от центра, в новом районе города, где все еще было вздыблено, — шел мимо куч строительного мусора, мимо неподвижных бульдозеров, притаившихся подобно допотопным чудовищам; шел, старательно отыскивая дорогу среди ям, каких-то канав, прорытых поперек проезжей части; шел, поругивая Валю, но думая не о ней, а о своей жене, о своей семье. Если Валя права, думал я, то и у моей жены есть какой-то Принц, который совсем не похож на меня, который вообще ни на кого не похож, какой-то бесплотный призрак, которого и нет вовсе, и черт его знает, что он такое: не то ожидание с большой буквы, не то томление по несбывшемуся, не то мечта о каком-то недостижимом, но возможном счастье. И если Валя права, то этого счастья я своей жене не смогу дать никогда — между нами стоит Принц и будет стоять всегда, потому что такова уж женская психология, потому что Принц обретенный уже не Принц, а муж, которого надо кормить, на которого надо стирать и у которого дьявол знает какой ужасный характер, дрянная профессия и вообще он не сахар, а совсем наоборот. А почему бы и мужу в таком случае не помечтать о Принцессе? Я остановился возле штабеля теса, спрятавшись от ветра, зажег сигарету. Кто-то, шедший сзади, тоже остановился. Хрустнула щепка, зашуршала, осыпаясь в канаву, земля. И стало тихо… Я мгновенно забыл о Принцессе. И подумал о Вале. Потом я вспомнил пивной павильон, коротышку Дукина и то мимолетное ощущение взгляда в спину, которое показалось мне тогда просто игрой воображения. Я никому не сказал об этом — ни Лаврухину, ни Бурмистрову. Не сказал потому, что не поверил своим ощущениям, своему шестому чувству, которое, в сущности, и не чувством было, если разобраться, а так — чем-то средним между интуицией и способностью прогнозировать, чем-то подсознательным. После удара по голове я все время ощущал, что хожу рядом с преступником. Убийца Вити Лютикова знал меня, а я его нет. Я обогнул штабель остро пахнувших смолой досок и замер, прислушиваясь. Тишина, темь… Померещилось, что ли? Или стоит сзади меня испуганный ночной прохожий? Боится нечаянной встречи с неизвестным. Валя? Но какой смысл Вале следить за мной? Нет в этом никакого смысла. Так кто же там стоит, в темноте? Прохожий? Или убийца? Подманить его не удастся. Он уже понял, что я его почуял. Если я пойду вперед как ни в чем не бывало, вряд ли он клюнет. И я пошел назад… Он тоже пошел назад… Я побежал… И он побежал… Я понимал, что эта ночная погоня среди куч строительного мусора, машин и груд кирпича обречена на провал. У него было преимущество знания. Он знал, куда бежит, он знал дорогу. А я бежал вслепую, мне приходилось часто приседать, чтобы увидеть мелькавшую на фоне неба темную фигуру преследуемого, чтобы хоть как-нибудь сориентироваться… Через пять минут все было кончено. Неизвестный исчез. Я вернулся к дому, в котором жила Валя. Окна квартиры на втором этаже еще светились. Я поднялся на площадку и позвонил. Открыла Валя. На ней был тот же брючный костюм, на ногах красные домашние тапочки. — Вы? — Голубые глаза смотрели холодно и отчужденно. Дыхание было ровным. Впрочем, это еще ни о чем не говорило: у меня оно тоже выровнялось. — Кажется, я забыл у вас свой блокнот. Коричневая книжечка… — Вы его не вынимали, — сказала Валя, пристально глядя на меня. — Спасибо, — сказал я. — Похоже, вы правы; я его не вынимал. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — сказала Валя. И дверь захлопнулась. «Кто же это был?» — раздумывал я, шагая мимо неподвижных бульдозеров и куч строительного мусора. Свет во многих окнах уже был погашен, и дорогу отыскивать стало еще труднее. Убийца Вити Лютикова знал меня, и он был в городе — он не стремился никуда удирать. Тут все логично. Мы об этом не раз говорили с Лаврухиным. Удрав, преступник сразу выдал бы себя, потому что он не был человеком со стороны, каким-то заезжим гастролером или бывшим уголовником. «Не та компания подобралась, — рассуждал Лаврухин, постукивая кончиками пальцев по стопке папок со свидетельскими показаниями. — Согласен со мной, Зыкин?» Я только коротко кивал в ответ. Не вписывались в эту компанию «иксы» со стороны, ходил убийца Вити Лютикова среди фигурантов дела, ходил и, быть может, посмеивался. Хотя… Тот же Лаврухин считал, что убийство Вити больше смахивает на акт отчаяния. В тупике оказался убийца, когда увидел, что я потянулся к альбому. И еще шутил Лаврухин, поддразнивал: «Может, и не было альбома, может, помстился он тебе, Зыкин?» Но ведь звонил кто-то Вале Цыбиной, интересовался альбомом… Вале… Опять Валя… «Спроси ее». Я ее спрашивал. Она отвечала. Она говорила, что выбрала тропинку покороче, ушла через сад. А не мог убийца ее припугнуть? Принц… Она жила с Витей, а мечтала о Принце, который вдруг оказался убийцей. А может, не он ее припугнул; может, увидев его над трупом Вити, она испугалась и убежала. Или убийца испугался? И это меня спасло. Но почему же она не закричала? Потому что Принц? Да нет, не годится. Через неделю убийца позвонил Вале и спросил про альбом. Принцу ни к чему было спрашивать…
Осторожно открыв своим ключом дверь, я вошел в темную квартиру. В кухне на плите стояла сковородка, накрытая крышкой. На столе под полотенцем я обнаружил стакан кефира, хлеб, сыр. Рядом лежал раскрытый том Драйзера. Это могло означать только одно — жена ждала моею прихода. Я жевал остывшую жареную картошку и без любопытства, автоматически глядел в книжку. «Американская трагедия». Клайд Грифитс. Клайд Грифитс обвинен в убийстве. Клайд Грифитс, так страстно жаждавший красивой жизни. Но злоключения Клайда не волновали меня. Я жевал холодную картошку и уныло думал о том, что дела мои плохи. Немного дал мне сегодняшний вечер. Совсем немного…
Часть третья
— Каково, а?.. Преступница!.. Моя дочь — преступница! Ты слышишь, Томочка? Почему ты молчишь, как валаамова ослица? Федор Васильевич Казаков ртутным шариком катался по комнате. Его жена сидела в кресле, уставив отрешенный взор куда-то вверх. Бывший актер, о котором до этой встречи я знал только со слов Лаврухина и Пети Саватеева, оказался на удивление подвижным и довольно крепким стариком, несмотря на нездоровую полноту и мешки под глазами. А Томочка была худенькой, этакой субтильной старушкой с букольками, присыпанными серым пеплом прожитых лет. Федор же бегал молодцом и рыкал, словно лев в пустыне. И одышка не мучила. И трость ему вроде бы и не нужна была. В углу стояла трость. Черная лакированная трость с резиновым набалдашником. Я ее даже в руках подержал. Нет, не похоже было, что гуляла эта трость по чужим головам. «Но ведь и другую палку можно было взять в руки», — думал я, глядя на трость, на Казакова, на его Томочку… А Казаков витийствовал…Да, витийствовал Федор Казаков — другого слова тут, пожалуй, и не подобрать. Петя Саватеев, правда, употребил более современную формулировку. «Старик любит выступать», — сказал он. Я бы добавил к этому, что старик еще любит играть в «перевертыши». Сознательно или бессознательно, не знаю, но он отбирал у слов и понятий смысл, присущий им изначально; он опрокидывал этот смысл, искажал, и в результате получалось что-то чудовищное, иногда глупое, а иногда и вовсе кощунственное. Валаамова ослица прославилась тем, что однажды заговорила, а Казаков спрашивал: «Почему ты молчишь, как…» Фраза: «Моя дочь — преступница!» — в устах Казакова звучала гордо, он произносил ее так, как если бы говорил: «Моя дочь — космонавт!» Валя Цыбина как-то обмолвилась, что отец у Лиры с «приветом». Но это было слишком прямолинейное и примитивное определение. Лаврухин считал, что Казаков «заигрался», что сорок лет ежевечерних перевоплощений не прошли для него бесследно. Актер вошел в образ, сотканный из обрывков ролей, из черточек характеров; Казаков не был ни Фальстафом, ни Тартюфом, ни Шмагой, но в нем было что-то и от Фальстафа, и от Тартюфа, и от Шмаги, и от десятков других персонажей, жизнью которых он жил на сцене. И от каждого он оставил что-то себе, оставил безотчетно, бездумно; просто оно само сначала впечаталось в мозг, а потом растворилось в личности Казакова. Федор Казаков витийствовал. А Томочка, Тамара Михайловна, старушка с седыми буклями, молчала. Порой мне казалось, что и она далеко не все понимала в происходящем. Но ей было легче: Томочка знала, где кончается актер и начинается муж. Я был) лишен этого преимущества, хотя и не завидовал Томочке: одно дело — смотреть спектакль в театре и совсем другое — жить в спектакле. Томочке приходилось жить. И Лирочке когда-то тоже, думал я, следя за эволюциями Казакова, который снова начал бегать по комнате и кричать… А Тамара Михайловна молчала. Томочка, Тамара Михайловна, старушка с седыми буклями. В юности она тоже стремилась на сцену, но не вышло из нее ни инженю, ни великой трагической актрисы. Родилась Лирочка. В сороковом году родилась Лирочка-Велирочка. А в сорок первом началась война, и театр в Заозерске перестал функционировать. Муж ушел на фронт, а Тамара Михайловна выучилась стучать на машинке. И так и стучала до пенсии, до седины в буклях, и под этот стук умирали в ней и Дездемона, и Мария Стюарт, умирали не воплощенные, не открытые, не сыгранные. Так думал я, так мне казалось. Может быть, я неправильно думал, может, все обстояло не так, может, все было проще — без вздохов, сожалений и слез. Но когда Тамара Михайловна была Томочкой, ей очень хотелось сыграть Дездемону. Об этом она сказала сама, сказала, когда я рассматривал афиши, которыми были обклеены стены гостиной. Афиш было много, они назойливо мельтешили в глазах, они вызывали внутренний протест, потому что они превращали стены жилья в некое подобие забора; они кричали, кричали каждая о своем, мешали, противоречили, отрицали друг друга, спорили друг с другом. И в то же время эта красочная разноголосица сплеталась в некий рисунок, всматриваясь в который внимательный наблюдатель мог бы увидеть много интересного. Я уже не говорю о том, что в афишах, как в зеркале, отражалась история нашего городского театра. Любопытно было бы проследить, например, за тем, как из года в год менялся репертуар. Но так как я не был театроведом, то я этой целью не задавался. Я просто смотрел, смотрел и слушал, что мне говорила Тамара Михайловна. Мне пришлось с полчаса слушать ее и глядеть на афиши, потому что самого Казакова не было дома, когда я пришел; а мне нужен был он или по крайней мере я думал, что именно он нужен мне. Я так и сказал Тамаре Михайловне, и она повела меня в гостиную и стала показывать афиши и говорить о театре, о своих несбывшихся желаниях, о Дездемоне, которую ей когда-то хотелось сыграть, но сыграла Дездемону не она, а какая-то Надеждина. Тамара Михайловна даже показала мне эту Дездемону — Надеждину, она показала мне также и другие фотографии, только себя она не показала, потому что роли у нее были маленькие, проходные, а вот у Надеждиной роли были что надо, отличные роли, чего нельзя сказать о самой Надеждиной, пустой в общем-то женщине и бездарной актрисе. Я слушал и не слушал Тамару Михайловну. Я смотрел на ее изрядно потертое временем лицо и думал о том, что есть чувства долговечнее любви. Здорово ненавидела Тамара Михайловна эту Надеждину. Она пронесла свою ненависть через годы, и чувство ее не только не замутилось, оно сверкало, как кристалл, в лучах воспоминаний. Я слушал и не слушал Тамару Михайловну. Мне не было дела до ее неудач, до той самой Надеждиной. И невдомек мне было, что именно в этот момент передо мной приоткрывалась шкатулка с семейными тайнами. Невдомек мне было, что стоило только покопаться в ларце, и я бы понял, кто убил Витю Лютикова и почему, собственно, возникло темное дело, которым мы занимались. Мне бы почитать афиши, мне бы послушать Тамару Михайловну, посочувствовать ей, позволить ей утонуть в воспоминаниях… И может быть, тогда произнесла бы она заветные слова, и я пришел бы к Лаврухину с ключом в руках. Но, может, и не произнесла бы она заветных слов. Это сейчас мне кажется, что стоял я рядом с разгадкой. А тогда… Тогда я просто дожидался Казакова. Мне хотелось взглянуть на него. Посмотреть на выражение его лица… Прикинуть, способен ли он бегать в ночное время по умеренно пересеченной местности… Мне показалось, что он способен. А выражение лица… Что ж, оно мне ни о чем не сказало… Сначала на его лице было написано негодование. Он догадался, кто я такой. Он швырнул палку в угол, шариком прокатился по комнате и закричал: — Что, телеграмма? «Да, сэр, я все это сделал. Вот я и ответил». Из какой пьесы он выдернул «сэра», мне было неведомо. О телеграмме я его не спрашивал. Поэтому и изумился неожиданному признанию. Старик, до сих пор отрицавший причастность к телеграмме, вдруг заявил о своем авторстве, да еще с какой-то торжественностью. Было чему удивиться. Ведь я впервые встретился с Казаковым и еще ничего не знал о его привычке ставить все с ног на голову. Впрочем, удивление не помешало мне поинтересоваться, из какого источника сведения о смерти Астахова поступили в распоряжение Федора Васильевича в тот самый день, когда случилось это прискорбное происшествие. Федор Васильевич моментально прекратил кружение по комнате и грозно спросил: — Что? — В телеграмме говорилось, что Астахов умер, — сказал я. — Откуда это стало вам известно? — Что? Откуда? Послушай, Томочка, он спрашивает — откуда? Он ничего не понимает, каково, а? И Федор Казаков снова начал бегать по комнате и кричать, что мы надоели ему с этой проклятой телеграммой, надоели, надоели, надоели… Надоели, как… Тут он споткнулся, не найдя подходящего сравнения, приостановился и буркнул: — Вот так. — А как все-таки? — поинтересовался я. — Посылали вы дочери телеграмму или нет? Упоминание о дочери подействовало на него, как красная тряпка на быка. Казаков простер длань и продекламировал: — Моя дочь?.. Каково, а?.. Преступница!.. Моя дочь — преступница! Ты слышишь, Томочка? Почему ты молчишь, как валаамова ослица?.. Томочка молча смотрела в потолок, всем своим видом показывая, что ей крайне нежелательно уподобляться валаамовой ослице. Ей, видимо, было известно, что любая попытка внедриться в монолог мужа, прервать его обречена на провал. И она благоразумно не вмешивалась в разговор, который, впрочем, и разговором нельзя было назвать, потому что Казаков не давал мне и слова сказать, а когда я все-таки умудрялся вставлять реплику или вопрос, то в ответ получал лишь пренебрежительный взгляд. Казаков вскрикивал: «Ты слышишь, Томочка?» — и все начиналось снова: беготня, шум, мелодекламация. Я ушел от Казаковых, не выяснив и сотой доли того, что хотел узнать, ушел с чувством, которое, может быть, и нельзя было назвать подозрением, но уверенность в том, что от меня хотели скрыть нечто важное, такая уверенность у меня появилась. Так я и доложил Лаврухину, едва переступив порог его кабинета.
Лаврухин примерял новые очки. Оправа была позолочена, стекла соединялись не только обычной дужкой, но и какой-то странной перекладиной. — Как вторая ручка у чайника, — заметил Лаврухин, трогая пальцем перекладину. — Но красиво. Ты не находишь? — В ней нет целесообразности, — сказал я, усаживаясь. Мне было жарко, воротничок рубашки лип к шее, и вообще после разговора с Казаковым я чувствовал себя идиотом. — А может, мы ее просто не замечаем? — предположил он задумчиво. — Ну-ка повтори, что там тебе старик нажужжал. Я повторил. — Да, — проворчал Лаврухин. — Значит, мы по-прежнему не знаем, почему дочь ушла из семьи, почему разбежалась с мужем… Придется, видно, тащить сюда доцента Наумова. Кстати, и о коллекции княгининой потолкуем. Я вот все думаю, чего ради Сикорский заговорил с тобой об этой княгине… — Не он со мной, а я с ним заговорил о княгине. Ну и к тому же ему очень не хотелось говорить о Лире Федоровне. А меня, как понимаете, воспоминания детства одолели, старичка Бакуева вспомнил. Ну и пошло слово за слово. — Выходит, ты его спровоцировал? — Можно и так сказать… Но учтите, выложил он, в общем, то, что мы уже знали. И после того, как я ему кое-что выдал из нашего запаса для затравки. — Да-а-а, забавное дельце. — Лаврухин снял очки, положил их перед собой, полюбовался и снова нацепил на нос. — Весьма. С одной стороны, мелодрама сплошная — разводы, любовь неразделенная, то да се… С другой — убийство, бегство и даже слежка. Ну зачем, скажи на милость, следить-то за тобой, Зыкин? Кино какое-то, честное слово. — Скрытая целесообразность, — хмыкнул я. — Вторая ручка у чайника. Лаврухин промолчал. Я подумал и решил, что будет совсем неплохо, если я поделюсь с ним кое-какими мыслями по поводу этой самой слежки. Мне пришлось углубиться в историю вопроса, вспомнить свой давний разговор с Петей Саватеевым, когда он допытывался, почему все-таки меня не отправили на тот свет вместе с Витей. Он искал смысла, но мне тогда Петины рассуждения казались чересчур отвлеченными, несерьезными и даже чуть-чуть глуповатыми. А сейчас я был почти уверен, что он попал в самую точку. — Это как же? — спросил Лаврухин. — Очень просто, — сказал я и объяснил, что если бы меня убили тогда, то о существовании альбома знал бы только господь Бог. А поскольку Лаврухин является атеистом, то он этого свидетеля на допрос не потащил бы. И призрак альбома не фигурировал бы сейчас в качестве наводящей детали в этом, как только что выразился уважаемый Павел Иванович, забавном дельце. Нашел бы он в кармане у Вити золотую бляшку, и пошло бы следствие… — В общем, не знаю, куда бы оно пошло, — сказал я. — А бляшку эту, между прочим, мог и убийца всунуть Вите в карман. — Ну, это еще не факт, — сказал Лаврухин. — Это еще доказать надо. Но мысль у тебя любопытная. — На авторство не претендую, — сказал я скромно. — Идея целиком Пети Саватеева. — Значит, ты считаешь, что убийце помешали, — произнес Лаврухин задумчиво. — У меня тоже мелькало что-то такое, но в связи с Цыбиной. А она в этот вариант не влезает. Да, в этот вариант Валя Цыбина не влезала. Ее не пускало время. Когда я пришел к Вите в мастерскую, было десять с четвертью. Стукнули меня минут через пятнадцать, а Валя в десять сорок уже была на работе. В десять сорок у входа в театр Валю встретил главный режиссер и, поглядев на часы, упрекнул за опоздание. За десять минут от дома Лютиковых до театра можно было добраться только на машине. А это маловероятно. Мы согласились, что совсем уж фантастикой отдает и от другого варианта, в котором Вале отводилась роль убийцы. Женщина она, конечно, хладнокровная и спортивная. Кроме того, любит сказки рассказывать. Но в этом варианте она оказалась в цейтноте. — Если, конечно, отбросить машину, — сказал я. — И любовь, — сказал Лаврухин. — Ты говоришь, что она повесила Витину картину над кроватью, так? — Так. — Н-да, — протянул Лаврухин. — Значит, говоришь, убийце помешали. Намеки такие в деле имеются. Кто-то вроде из дома выбегал: то ли девка, то ли парень. Но куда же оно делось, это существо? Все Витины дружки-приятели передо мной прошли — и никаких подтверждений. — Я подтверждение, — сказал я. Лаврухин усмехнулся. — Не подтверждение, а допущение. И спаситель твой предполагаемый тоже допущение. Ты из чего исходишь? Альбом — важная наводящая деталь. Но ведь пока она нас ни на что не навела… — Все впереди, — бодро возразил я. — Может, еще и наведет. Но бодрость моя была наигранной, и поэтому фраза прозвучала фальшиво. Я знал, что на допущениях далеко не уедешь. И Лаврухин знал…
Портрет княгини сохранился неважно — краска на углах облупилась, но лицо можно было рассмотреть. Приятное молодое лицо с налетом некоторой таинственности или задумчивости. Печальное даже лицо, если вглядеться повнимательней. И почему-то оно показалось мне знакомым. Словно мы с княгиней Улусовой встречались когда-то, да вот забыли об этом и теперь смотрим друг на друга и вспоминаем — она с печалью, а я с любопытством. Когда портрет доставили в кабинет Сикорского, он установил его на стол рядом с бронзовой избушкой-пепельницей и сказал, улыбаясь: — Ну вот… Продолжать фразу он не стал, но мне все было понятно и так. «Ну вот, — прочитал я его улыбку, говорил же я вам, что спать не будете и аппетит подернете». В кабинете, кроме нас с Сикорским, сидел доцент Наумов. Прямо с аэродрома мы с ним поехали в управление, посидели у Лаврухина, потом пообедали и отправились в музей. Доцент Наумов выглядел, как справедливо заметила в свое время Валя Цыбина, скорее толстым, чем худым, и был шатеном, а не брюнетом. Вежливый, корректный человек, он сначала выразил легкое недоумение по поводу вызова, а потом, когда я в нескольких словах обрисовал ему ситуацию, кивнул понимающе и сказал, что всегда готов помочь, только он не знает, к сожалению, какого рода помощь он может оказать следствию. Я этого тоже не знал и поэтому предоставил инициативу Лаврухину. Павел Иванович поступил просто: извлек из сейфа три предмета — книжку с приключениями капитана Хватова, фотографию неизвестной дамы, которая была обнаружена нами в книжке, и золотую бляшку, называемую брактеатом. Все вещи Лаврухин разложил на столе и попросил Наумова поделиться снами впечатлениями от этих раритетов. Доцент полистал книжку и, произнеся слово «дешевка», отложил ее в сторону. Фотографию он рассматривал несколько дольше, но в конце концов пожал плечами и заметил, что скорее всего в заведении Коркина снималась какая-то санкт-петербургская мещаночка. Брактеатом Наумов занялся в последнюю очередь. Полюбовался всадником, изображенным на лицевой стороне, и между делом прочитал нам популярную лекцию об оссуариях и зороастрийцах, словом, о том, о чем мы уже слышали от Сикорского. Потом он перевернул бляшку. И у него сразу вытянулось лицо, едва он увидел надпись: «С любовью. А. В.» Наумов прошептал: «Неужели?» — и посмотрел сперва на меня, потом на Лаврухина. Посмотрел так, будто его кровно обидели, оскорбили. Да, такой взгляд был у Наумова, когда он шептал свое «неужели?». Лаврухин поиграл очками, ожидая новых ело» от доцента, но Наумов этих слов не произнес. — Знакомая вещичка? — полюбопытствовал Лаврухин. Наумов положил брактеат на книжку и отрицательно качнул головой. — Нет, — сказал он уныло. — Эту вещичку я не видел никогда. Он подчеркнул слово «эту». Лаврухин спросил осторожно: — Тогда что же? Доцент Наумов погрузился в задумчивость. Его лицо стало похоже на лицо человека, готовящегося к прыжку в водоем, глубина которого ему неизвестна. Наконец он прыгнул… — Мне знакомы инициалы, — сказал он. — Но и только… — Расскажите, — предложил Лаврухин. — И желательно поподробнее. Но Наумов не торопился вдаваться в детали. — Я видел эти инициалы на портрете княгини Улусовой. Вы слышали что-нибудь о Бакуеве? — Мы о Бакуеве слышали. — Тогда вам должно быть известно, что накануне смерти Бакуев где-то раздобыл портрет юной княгини, исполненный неизвестным художником. — Почему — накануне? — спросил Лаврухин. — Бакуев был вздорным стариком, — сказал доцент, подумав. — Но он был общительным человеком. Так по крайней мере характеризовали его те, кто знал. Жил он в общем-то скверно, не заботясь об удобствах. Имущества у него никакого, в сущности, не было. Стол, железная койка, пара табуреток да два солдатских котелка. Ну и еще бумаги. Он переписывался с музеями, архивами и с частными лицами. Чего там только не было. Я видел даже… Наумов вдруг засмеялся. — Невозможно поверить, — сказал он, — но я читал его заявку, которая называлась «О добыче серебра из человеческих волос». Бакуев вполне серьезно предлагал организовать сбор волос в парикмахерских страны на предмет извлечения из них серебра химическим путем. В этом весь Бакуев. Но вот что удивительно. В своих предположениях и проектах он всегда отталкивался от вероятного. Вздор начинался уже после. В посылках Бакуева легко можно было найти рациональное зерно. Он не тащил свои прожекты с потолка, но превращал в абсурд все, к чему прикасался. Наумов умолк на секунду, и я воспользовался паузой. — А Сикорский говорил мне, — возразил я, — что Бакуев всегда исходил из неверных посылок. — Сикорский — рационалист, — сказал Наумов, нахмурясь. — У него холодный ум скептика. Но мы, кажется, отвлекаемся. — Да, — кивнул Лаврухин. — Мне тоже это кажется. — Вопрос в том, — сказал Наумов, — что считать верной посылкой? И как к ней относиться. Добыча серебра из волос — абсурд. Но следы серебра в волосах обнаружить легко. Бакуев исходил из верных посылок, но пришел к неверным выводам, так считал Наумов. Это, впрочем, не помешало Бакуеву раскопать где-то портрет княгини. Он был общительным человеком и не делал тайны из своих поисков. Он чуть не каждый день бегал в редакцию местной газеты и делился с сотрудниками своими открытиями. Над ним посмеивались, его не принимали всерьез. А он искал. Он бы и портрет, пожалуй, притащил в газету, он раззвонил бы о находке, он бы кричал о ней на всех перекрестках. Но… — Он умер от радости, — сказал Наумов. — Бывает, что люди умирают от радости. Лаврухин усмехнулся. Он знал, что и не такое бывает. А Наумов неторопливо рассказывал: — Бакуев явился в Заозерск по следам княгини Улусовой, которая будто бы заезжала в город перед тем, как покинуть Россию. Нам же известно, что она сюда не заезжала и никакими родственными узами с Заозерском не была связана. Однако Бакуев был уверен в противном. Какими-то неведомыми путями к нему в руки попала часть переписки княгини с одной из ее подруг. Датированы письма были 1912, 1914 и 1917 годами. Три письма. В двух первых обычная женская болтовня, перечень светских новостей, а третье было какое-то отчаянное. И послано оно было, судя по содержанию, уже с границы. И вот в нем-то и упоминался Заозерск. Улусова писала, что покидает родину с тяжелым чувством, что она растеряна, уничтожена, раздавлена… Наумов сделал паузу, потом продолжил: — Короче говоря, в письме была фраза: «Ты знаешь, Натали, что все мое осталось в Заозерске. Все, что представляет для меня ценность, я оставила там. Поняла я это только сейчас. Как жаль, что ничего нельзя вернуть». — Эти письма сохранились? — спросил Лаврухин. — Не знаю, — медленно произнес Наумов. — После смерти Бакуева все его бумаги были переданы в музей. Там я и знакомился с ними. — Ну а эта Натали? — поинтересовался Лаврухин. — Бакуев с ней не встречался, часом? — Он искал ее в Москве, но Натали была уже на кладбище. Попала под бомбежку в сорок первом. — Да, — пробормотал Лаврухин, постукивая пальцами по столу. — Иных уж нет, а те далече… Наумов вздохнул. Глаза у него были добрые, собачьи глаза, бархатные. Влажный бархат. А губы твердые, решительные, резко очерченные. И сухие. «А ведь он волнуется», — подумал я, заметив, что доцент изредка проводит по губам кончиком языка. Лаврухин это тоже заметил. Но причина волнения была нам не ясна. Может быть, доцент волновался потому, что впервые оказался в кабинете следователя. Может, повод был другой. Он начал нервничать, когда разговор зашел о письмах княгини к этой неведомой Натали, которая жила когда-то давно, так давно, что, казалось, ее и не было вовсе, что ничего не было — ни княгинь, ни коллекций. А если что и было, так оно давно поросло кладбищенской травой. Казалось… — А вы? — усмехнулся Лаврухин. — Что толкнуло вас в ряды последователей этого старичка? И почему вы отказались от поисков? — Возможно, потому, что я был молод и глуп тогда, — сказал Наумов задумчиво. — А отказался… Отказался, когда убедился в безнадежности предприятия. Теперь же… — Он помолчал недолго. — Теперь я начинаю убеждаться в обратном. Наумов указал глазами на золотую бляшку. — Вы все-таки поясните нам, — медленно произнес Лаврухин, — в чем тут дело? Насколько я понимаю, все эти вещи к коллекции княгини отношения не имеют. Так же как и портрет. — Вещи — да, — сказал Наумов. — Но инициалы на брактеате… Они указывают на человека, который имел отношение к княгине. И видимо, этот человек занимал в ее жизни немалое место. Кто этот «А. В.»? В свое время я пытался это установить, но безуспешно. Сейчас я склонен предполагать какую-то романтическую историю… Я демонстративно вытащил из кармана пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. Я постарался щелкнуть погромче. Я был сыт по горло романтическими историями. «Только их, романтических историй полувековой давности, не хватало», — думал я, старательно окуривая Лаврухина. Но оказалось — не хватало…
Я рассматривал портрет княгини. Буковки «А. В.» на полотне отсутствовали. Облезла краска с углов портрета, облупилась. И писем княгининых в музее не было. Сикорский мобилизовал весь свой немногочисленный штат на розыски этих писем. Но увы. Не пришлось мне увидеть ни писем, ни бакуевского трактата об извлечении серебра из волос. И в описях бакуевские бумаги не числились. — Странно, — сказал Сикорский, когда последняя из искавших — хмурая женщина в сатиновом синем халате — доложила ему, что «серой папочки нигде нет». — Странно, — повторил он. — У нас никогда ничего не похищали. Он стоял посреди кабинета, сосредоточенно вглядываясь в портрет. А Наумов, как мне показалось, приободрился, услышав о пропаже документов. В музей он шел неохотно. Он, правда, согласился отправиться туда, когда Лаврухин выступил инициатором похода за руном, как он выразился, подразумевая, вероятно, бакуевский трактат о волосах. Аргонавтом был назначен я. И ясно видел: что-то не нравилось нашему гостю из Караганды в идее этого похода, но что именно, я не знал, хотя предположение на сей счет у меня имелось. Я полагал, что Наумову не хочется встречаться с Сикорским. Ведь между ними стояла Лира Федоровна. И хоть оба они были оставлены в дураках, поскольку Лирочка-Велирочка предпочла им сперва Астахова, а потом анонимного брюнета или сперва брюнета, а потом Астахова, тем не менее у Наумова и Сикорского были причины если не враждовать, то просто дуться друг на друга. Так я понимал это. Потом, правда, выяснилось, что я не все понимал, но тогда мне казалось, что я рассуждаю правильно. Впрочем, это не помешало мне наблюдать за Наумовым и заметить, что его обрадовало исчезновение бакуевских бумаг. Он сделался общительным, повеселел, от его унылого настроения не осталось и следа. Зато помрачнел Сикорский. Он даже накричал на своих сослуживцев, которым, как он выразился, ничего нельзя доверить, которые спят на ходу… Ну и все такое прочее. Все, что обычно говорят в таких случаях руководители проштрафившимся подчиненным. Прав он был или нет, трудно судить. В описях-то серая папочка не значилась. Она как бы и не существовала вовсе. Я намекнул Сикорскому на это обстоятельство, но он понял меня буквально и сказал, что папочка существовала, он ее видывал не раз, и Наумов ее видывал, и даже работал с нею, а то, что она не числится в описях, то тут его вины нет: документы поступили в музей, когда директорствовал Ребриков, и занести их в опись тоже должен был Ребриков. Но Ребриков этого не сделал, вероятно, потому, что не придал серой папочке никакого значения. — А инвентаризации? — спросил я. — Разве их после Ребрикова не было? — Отчего же, были, — ответил Сикорский равнодушно. — Но я подписывал готовые акты. Создавались комиссии, в них входили представители управления культуры… — Занятно, — сказал я, пытаясь представить, как воспримет эту новость Лаврухин. — А вы не помните, когда видели эту папочку в последний раз? Сикорский потер лоб и надолго задумался. Наумов смотрел на портрет. Я тоже бросил на него взгляд и во второй раз подумал, что где-то я с этой женщиной встречался. Но так как это было практически невозможно, то я постарался выкинуть дикую мысль из головы и повернулся к Сикорскому. — По-моему, — сказал он медленно, — эта папка попадалась мне на глаза совсем недавно. С месяц назад, возможно. Что-то мы делали в запаснике. Он вышел на минуту и вернулся с той самой хмурой женщиной. Она уже успела снять пыльный халат и предстала теперь перед нами в мешковатом зеленом платье. — Вероника Семеновна, — сказал он строго. — Вот этот товарищ, — Сикорский кивнул в мою сторону, — из уголовного розыска. Его интересует, давали ли вы ключи от запасника Астахову, когда он у нас работал? Вряд ли Сикорский был телепатом. Но сориентировался он правильно. Он предугадал мой вопрос. Правда, у меня было два вопроса, потому что я сначала спросил бы о Лире Федоровне. Я спросил бы, не давала ли ключи Астахову Лира Федоровна? Оказалось — не давала. Ключами ведала Вероника Семеновна, которая глядела на меня не то чтобы испуганно, но как-то странно глядела, с какой-то потаенной опаской, что ли, и я подумал, что чувство это вызвано вовсе не тем, что Вероликой Семеновной заинтересовался уголовный розыск. Вероника Семеновна уже давала показания Лаврухину. Но то были другие показания. В них говорилось о Лире Федоровне; тогда не было речи ни о ключах, ни о серой папочке. Сейчас вопрос ставился конкретный. И ответ на него последовал тоже конкретный. — Астахов держал кисти и краски в запаснике, сказала Вероника Семеновна. — А ключи? — нетерпеливо произнес Сикорский. — Ключи вы ему давали? — Я открывала и закрывала дверь. Я никогда… Вероника Семеновна всхлипнула, не докончив фразы. Что ей оставалось делать? Ходил в музей милый веселый человек — художник. Рисовал портреты передовиков для краеведческого отдела. Шутил, комплименты делал Веронике Семеновне, хоть любил, правда, другую женщину. Вероника Семеновна понимала — другая женщина помоложе была, ей и карты в руки. Да и детки у Вероники Семеновны, и муж. Но все-таки приятно, когда тебе по утрам комплименты говорят. И хмурость твоя, и озабоченность повседневностью словно в сторону уходят после комплиментов. И цвет лица лучше становится. И причесываешься ты дольше обычного, и думаешь, что и имя у тебя красивое — Вероника… Да, Вероника Семеновна, открывали вы дверь запасника, художник по утрам краски брал, а по вечерам обратно ставил. И лежала в том запаснике серая папочка, наполненная бакуевским вздором, о котором все давно и думать забыли. Лежала, пылилась. В архив ее не отправили, потому что вздор. И в описи не занесли. По этой причине или до какой другой? Инвентаризации ежегодные проводились. А папочка лежала себе, и никто ее не замечал. Чудное дельце, если подумать. Папка-невидимка. Хотя… Почему невидимка? Наумов с ней работал, Сикорский с месяц назад видел. Значит, не погребена была папка, на поверхности лежала. А ключи от запасника у Вероники Семеновны были. Хранительница… Допустим, стащил эту папку Астахов. Допустим, что показала ему ее Лира Федоровна. Или рассказала про нее. Про мужа своего бывшего рассказала, про то, как муж клад княгинин искал. И про то, как искать перестал. Мало ли какие сказки рассказывают нынешние Шехерезады своим калифам. Приходящие Шехерезады. Приходящие вкусить лекарства от неврастении, приходящие с Принцем в голове и с пустым сердцем… Нет, не сходятся концы с концами. Не тот калиф. И Шехерезада-Лира не похожа на соучастницу. Отделяй, Зыкин, любовь от уголовщины, ищи границу, беседуй с Вероникой Семеновной, выясняй, Зыкин, обстоятельства исчезновения серой папочки, сходи в запасник, осмотри его, составь протокол и подшей к делу. Чепуха какая-то получается у тебя, Зыкин. Сначала исчезает альбом, который тебе захотелось полистать, теперь вот папка с документами, которые никому не были нужны, да вдруг понадобились. Что ты, собственно, ищешь, Зыкин? Что ты хочешь от Вероники Семеновны, от Сикорского, от Наумова, от Лиры Федоровны, наконец? Кто-то ходит за тобой, Зыкин, кто-то от тебя убегает. Казаков перед тобой скоморошничает, Дукин в друзья набивается, Валя Цыбина про Золушку и Принца сказки рассказывает… А может, все дело в Лире? Вот только где она? Ждут ее в окошечке «до востребования», на К-9, ждут, когда она заглянет, попросит проверить, нет ли корреспонденции для Наумовой. Ждут ее… Ищут… Что же получается у тебя, Зыкин? Не версия ли? Симпатичная версия складывается у тебя в голове, Зыкин. Не видел ты, Зыкин, правда, никогда персидских миниатюр, но ты же неглупый человек и представляешь, что это за штука и сколько эти миниатюры могут стоить. А если и не представляешь в полном объеме, так спроси. И Наумов и Сикорский назовут тебе цену коллекции, они-то уж ее знают; знают, сколько нулей надо поставить после единицы, — может, четыре, может, пять. А пять нулей после единицы — это не фунт изюму, такое и по золотому займу за один раз не выиграешь. За эти пять нулей можно и вещички бросить, вещички, нажитые за время беспорочной службы, за эти пять нулей можно и трудовой книжкой пожертвовать, а для отвода глаз письмо в почтовый ящик бросить, и заявление об увольнении подать. Отвечайте мне «до востребования», а я тем временем… Да, симпатичная версия, но лезут в нее трое. Это как минимум. Один — здесь, два — там. Там — брюнет и Лира, а здесь — убийца, который должен замести следы. Но не слишком ли большая на него падает нагрузка? Пожалуй, слишком. В таком случае не годится твоя версия, Зыкин. Громоздкая она, неуклюжая, усложненная. И Астахов с Лютиковым в нее не хотят помещаться. Как-то проще все должно быть. А княгиня в Заозерск не приезжала. И предметы, которые нашлись в квартирах Астахова и Лютикова, и портрет музейный, и предметы, которые не нашлись, альбом, скажем, — все это указывает не на княгиню, а на какого-то «А. В.» На княгиню указывает лишь портрет, который этот «А. В.» написал. Но написал — это одно, написал — не значит вручил. И бляшка золотая, которая «С любовью», не обязательно должна была в руки княгини попасть. Мало ли кому эту самую любовь адресовать можно. И выходит в итоге, дорогой товарищ Зыкин, что предположение твое о единице с пятью нулями трансформируется в большой вопросительный знак. — Вероника Семеновна, вот акты инвентаризаций, вот ваша подпись. Объясните, как случилось, что в них нет упоминания об этой папке с документами? — Инвентаризации производились по описям. Мы их брали за основу и сопоставляли с наличием. — И что же? — Не знаю. — Но вы знали о существовании этих документов? — Их не было в описях. Но я знаю… — Почему эта папка не попадалась на глаза членам инвентаризационных комиссий? Неужели никто никогда о ней вас не спрашивал? — Никогда. — Вы не находите, что это выглядит… Ну не совсем естественно, что ли? Вы лично эту папку когда-нибудь держали в руках? — Держала. — Заглядывали в нее? — Все заглядывали. Товарищ Наумов тоже. — Астахов этой папкой интересовался? — Нет, никогда. — Лира Федоровна? — Со мной она об этом не говорила. — Кто имел доступ в запасник? — Все. Только… Только ключи всегда со мной. И я… — Да. — Я несу персональную ответственность за сохранность фондов. В запаснике есть очень ценные вещи… — Тем не менее Астахов складывал там краски… — Он попросил разрешения. Так было удобнее. Не надо бегать через двор. Кроме того, в сарае было холодно, надвигалась зима. Надвигалась зима… Астахов возник на горизонте Лиры Федоровны зимой. А за полгода до этого Лира Федоровна рассорилась с мужем. Серая папочка тогда лежала на месте. Наумов с ней работал открыто. Но чья-то рука заботливо оберегала эту папочку от взглядов членов инвентаризационных комиссий, кому-то не хотелось, чтобы папка попадала в описи. Ну-ка, Зыкин, тряхни хронологией. После Бакуева за музейный штурвал взялся Ребриков. Было это в пятьдесят седьмом. Ребриков — друг Наумова. И это, кажется, все, что пока о нем известно. Все ли? Ребриков был толковым организатором. Систематик. Это он смыл побелку с первородного греха. И это он толкнул Наумова на поиски княгининой коллекции. Систематик. Почему же он, этот систематик и аккуратист, не запротоколировал серую папочку? Считал ерундой? Может, и так. Но зарубить этот вопрос на носу тебе, Зыкин, нужно. И Ребрикова поискать нужно. Потому что началась эта мистика с папкой при Ребрикове. Ни Лиры Федоровны, ни Сикорского, ни тем более Астахова здесь тогда не было. Был Наумов. А Вероника Семеновна была?

— Сколько лет вы работаете в музее, Вероника Семеновна? — С пятьдесят седьмого года. «Значит, была»… Так, Зыкин. Кажется, наступила пора сказать «пока» Веронике Семеновне, пожать руку Сикорскому и отправляться отсюда с Наумовым, который явно настроен потолковать с тобой. Наедине потолковать, без свидетелей. Он умный мужик, этот Наумов, он смекнул, куда я шагнул, когда заинтересовался трудовым стажем Вероники Семеновны, сообразил, что этим вопросом я и к нему адресовался. Но чему он обрадовался, когда услышал о пропаже бакуевских бумаг?..
— Я не переношу насмешек, — сказал Наумов, когда мы уселись на скамью в сквере, отойдя от музея шагов на триста. Портрет княгини, завернутый в газету, лежал между нами. Наумов потрогал сверток и бросил на меня испытующий взгляд, проверяя, видимо, впечатление. Я сказал беспечно: — Это свойственно всем. — Я их не переношу, — повторил он. — Я понимаю шутку, я принимаю легкое подтрунивание, но я не выдерживаю холодной язвительной насмешки. Я не могу встать выше, я взрываюсь. — Вы не одиноки, — заметил я равнодушно. Я никак не мог взять в толк, зачем он говорит мне это. Я ждал от него других слов, я еще думал о Веронике Семеновне, о серой папке и о странном поведении доцента, испытавшего нечаянную радость, когда Вероника объявила о том, что «папочки нигде нет». Мне понадобилось некоторое усилие, чтобы сообразить, что Наумов завел вовсе не абстрактный разговор, что своей короткой фразой о нетерпимости к насмешкам он уже объяснил мне все: и нежелание идти в музей, и последующую смену настроения. Но понял я это лишь спустя время. Я, к примеру, сразу догадываюсь, о чем идет речь, когда жена, придя домой на обед, объявляет с порога, что сегодня у нее «страшно много работы». На ее языке это означает, что посуду придется мыть мне. Но то жена, с ней мы как-никак привыкли обходиться без переводчика. А с человеком, которого ты увидел впервые, этот номер не проходит. Не прошел он и с Наумовым, понимать которого я стал лишь тогда, когда он заговорил о Лире Федоровне. Заговорил, впрочем, не сразу. Сначала он рассказал мне кое-что о Ребрикове, который, по неточным данным Наумова, жил сейчас в соседнем областном центре. Наумовская оценка не разошлась с той, какую дал Ребрикову Сикорский. Это был Человек, Который Умеет Налаживать Дело. Не будучи сам узким специалистом, Ребриков тем не менее умел создавать ситуации, в которых узкие специалисты могли работать с полной отдачей. Он был способен вдохнуть душу в самое, казалось бы, безнадежное предприятие. Так вот и случилось, что музей, влачивший прежде жалкое существование, при Ребрикове преобразился. В музее прочно поселилась История. Оказалось, что у Заозерска интересное прошлое и что жили в городе интересные люди. Об этом, конечно, было известно и до Ребрикова. Но то были, как выразился Наумов, распыленные знания. Теперь они стали концентрироваться в музее… Разговор стал мне надоедать. Я вытащил сигарету и начал неторопливо разминать ее, наблюдая за юрким воробьем, который целился поклевать табачные крошки, но никак не мог решиться подобраться к моим ногам. — Я понимаю, — сказал Наумов. — Предисловие затянулось. Но думаю, вам будет полезно узнать, как случилось, что мы с Ребриковым заинтересовались княгиней. Так. До сих пор вопрос трактовался однозначно — интерес представляла не княгиня, а ее коллекция. И не для Ребрикова, а только для Наумова, поскольку Ребриков коллекцией не интересовался. А тут вдруг: «Мы с Ребриковым». — Я не оговорился, — сказал Наумов. — Да, мы с Ребриковым. Или, чтобы быть точным, Ребриков заинтересовал меня. Все началось с фресок… — С каких фресок? — недоуменно спросил я. — С церковных фресок, — сказал доцент, — с живописного рассказа о сотворении и грехопадении человека. — Божественный комикс? — Да, — усмехнулся Наумов. — Комикс… Комикс… Он повторил последнее слово несколько раз, словно хотел обкатать его, потом заметил: — А вы наблюдательный человек. — Благодарю. — Нет, в самом деле, — продолжал доцент без улыбки. — Безвестный художник восемнадцатого века был гениальным человеком… Я вздохнул обреченно. — Послушайте, — сказал я. — Восемнадцатый век. Не слишком ли далеко мы уехали? Он считал, что не слишком. Он растолковал мне, что фрески в нашем музее — явление уникальное, поскольку на них представлена обнаженная натура; что нужна была большая смелость, чтобы отойти от традиций, от плоской иконописи к объемному изображению, да еще улыбнуться при этом, улыбнуться умно, тонко, не оскорбляя чувств верующих, но и предоставляя им полную возможность оценить юмор ситуации, в какой оказались Адам и Ева после вкушения яблочка познания… Наумов выбрался из темноты столетий в наш благоустроенный двадцатый век в тот момент, когда я затаптывал в песок третий окурок. Там, в сумраке, остался неизвестный художник. А здесь вновь возник Ребриков. В пятьдесят седьмом году Ребриков прочитал студентам института, в котором учился Наумов, лекцию об истории Заозерска и попутно сделал сообщение об открытии фресок. У Ребрикова родилась мысль смыть побелку. А замазывал фрески вовсе не Бакуев, замазаны они были еще в двадцатые годы. Церковь в ту пору использовалась под зерносклад. — Музей перевели в это здание сразу после войны, — сказал Наумов. — Ну а Бакуеву, как вы знаете, было не до фресок. Мне тоже было не до фресок, но я твердо решил дать Наумову возможность выговориться и поэтому терпеливо выслушал рассказ о том, что когда была смыта побелка, то оказалось, что фрески двухслойные, что Адам и Ева выплыли из мелового тумана не обнаженными, а одетыми; но одежда была очень непрочной; что портной, который ее шил, был парнем смекалистым и употребил для драпировки фигур специальные краски, легко смываемые, ибо понимал, что к чему и что почем… Я терпеливо выслушал все и спросил: — Ну и что? — Меня это заинтересовало, — сказал Наумов. — Словом, Ребриков увлек меня… — Сделал вас «другом музея»… — Это плохо? — спросил доцент, уловив в моей реплике иронию. — Нет, почему же, — сказал я. — Это не плохо, но несколько отдает самодеятельностью. — Другого выхода не было, — сказал Наумов. — Приезжие специалисты потолкались в музее, поспорили, покричали и… Только их и видели. Они-то понимали, насколько трудна задача. Ну а мы уразумели это позднее, когда стали поднимать архивные материалы, искать имя художника… — Подождите, — прервал я его. — Все это очень интересно, конечно, и ваш энтузиазм, и благородные побуждения можно только приветствовать, но… Он улыбнулся, поднял прутик и начертил им на песке две буквы: «А. В.». — Вот что мы нашли, — сказал Наумов, поигрывая прутиком. Они переворошили горы бумаг. Они искали имя художника, но не нашли ничего, кроме глухих указаний на то, что фигуры на фресках были задрапированы вскоре после их написания по распоряжению синодальных властей. Они искали имя творца фресок, а нашли только инициалы «А. В.», разбросанные там и сям на документах. Этот «А. В.» имел привычку помечать таким способом интересующие его места. Сначала они не обращали внимания на это своеобразное нотабене, но так как оно назойливо лезло в глаза именно там, где встречались упоминания о фресках, то они стали кое о чем догадываться. — Он прошел по тем же следам гораздо раньше нас, — сказал Наумов. — Понимаете? Не понять было бы трудно. Какой-то неизвестный «А. В.» шел по следам вовсе уж неизвестного художника, жившего в восемнадцатом веке. Только мне-то это понимание было вроде ни к чему. От «А. В.» нити тянулись к портрету княгини, к золотой бляшке и обрывались. От «А. В.» тянулись и другие нити, тянулись в восемнадцатый век и тоже обрывались. Это был другой роман… — Но, может быть, ему удалось, — высказал осторожное предположение доцент. — Может быть, — флегматично отозвался я. Может быть, этому «А. В.» и удалось проникнуть в тайну, запрятанную в глубине столетий. Но нам-то от этого не легче. Правда, по Наумову, выходило, что он наткнулся на «А. В.», копаясь в архивных документах. По моим же сведениям все это выглядело несколько иначе, и я сообщил об этом доценту. Реакция была неожиданной. Наумов умолк на секунду, стегнул по скамейке прутиком, который продолжал держать в руках, и бросил отрывисто: — Всем им казалось, что я клад ищу. И Веронике этой, и Сикорскому, и даже… И даже моей жене. И даже его жене… Лирочке-Велирочке, которую в пятьдесят седьмом году никому бы не пришло в голову назвать Лирой Федоровной. В пятьдесят седьмом студент Наумов даже и не знал, что живет в За-озерске девочка Лирочка, девочка-десятиклассница, девочка с рыженькими косичками, которые она укладывала венцом вокруг головы. В тогдашней ее жизни были у Лирочки две заботы — срезать косички и не срезаться на приемных экзаменах в Московский университет. Косички она срезала сразу после выпускного вечера в школе. А в августе срезалась и на экзаменах в Москве. На будущий год она повторила попытку и опять потерпела неудачу. В пятьдесят девятом Лирочка поставила планку на более низкую отметку — подала заявление в Заозерский пединститут. Эту высоту она взяла. А студент Наумов в том далеком пятьдесят девятом готовился стать аспирантом. В свободные от занятий часы он рылся в архивах. Разрешение имелось — помог, конечно, Ребриков. Любил он всем помогать, этот Ребриков. Студент Наумов стал аспирантом. Студентка Лирочка пока еще никем не стала. И пути их пока еще не пересеклись. А время отщелкивало годы. Шестидесятый, шестьдесят первый, шестьдесят второй, шестьдесят третий… Аспирант Наумов за эти годы успел сдать кандидатский минимум и стал доцентом Наумовым. Студентка Лирочка готовилась к выпуску. Она была не прочь остаться в аспирантуре, но от нее это не зависело. Студентке Лирочке была уготована другая будущность — ей предстояло стать сельской учительницей. Ах, как ей этого не хотелось… В шестьдесят четвертом, накануне выпуска, Лирочка обратила внимание на доцента Наумова. Произошло это не в институте, а на квартире у Казаковых, куда доцента Наумова привели бакуевские бумаги… У меня были неверные сведения. Так, по крайней мере, заявил доцент. Все эти годы — с пятьдесят седьмого по шестьдесят четвертый — бакуевские бумаги вкупе с портретом княгини лежали в музее без движения. Насколько было известно Наумову, ими никто не интересовался. До весны шестьдесят четвертого, до теплого апрельского дня, который Наумов запомнил. В этот день Ребриков завел его к себе в кабинет и сказал: «Смотри». И Наумов посмотрел. Сначала в печальные глаза княгини, потом на улыбающегося Ребрикова, потом проследил за пальцем директора, которым тот указывал на уголок портрета. В уголке чернели буквы: «А. В.». А на столе лежала серая папочка. Ребриков вручил ее Наумову, присовокупив лаконично: «Чем черт не шутит. Полистай эту абракадабру». — Бакуев вел какой-то своеобразный дневник, — сказал Наумов, поигрывая прутиком. — Последняя запись бросилась мне в глаза. «Сход, к К. Акт. театра. Год рожд. дев. пятый». Была и дата. Запись эту он сделал за два дня до смерти. Доцент для наглядности изобразил запись на песке у наших ног. — Что бы вы сделали на моем месте? — спросил он. Я засмеялся. — Наверное, сходил бы к К. В этой записи довольно много информации. — И она толкуется однозначно, не правда ли? — Пожалуй, — согласился я, всматриваясь в косые буквы на песке. — Впрочем, если учесть то, что мне известно про Бакуева… — Вы допускаете иные толкования? — Кто знает? — пожал я плечами. И равнодушно выслушал рассказ Наумова о том, как он, изучив списки личного состава театра по состоянию на пятьдесят седьмой год, нашел в этих списках пять актеров, чьи анкетные данные соответствовали данным, на которые указывала запись в дневнике Бакуева, и в их числе актера Казакова, 1905 года рождения; как отправился к нему на квартиру, чтобы поговорить с ним о портрете княгини, и как ушел не солоно хлебавши, потому что Федор Казаков был Федором Казаковым и, может, не совсем последовательно, но весьма доходчиво разъяснил незадачливому искателю, что он, Казаков, не имел чести быть знакомым ни с княгиней Улусовой, ни с загадочным «А. В.». А о каком-то там Бакуеве я слыхом не слыхал. Казаков и тогда любил «выступать». Ошеломленный доцент спасся бегством, оставив на поле сражения новую велюровую шляпу, о которой вспомнил лишь на лестнице. Он потоптался на площадке первого этажа в раздумье, потом махнул рукой и вышел на улицу. Шляпу принесла на другой день в институт Лирочка-Велирочка и ближе к вечеру вышла на дорожку, по которой доцент Наумов хаживал ежедневно после занятий. Наумову эта дорожка не нравилась, хоть и вилась она между стройными тополями и была во всех отношениях удобной дорожкой; не нравилась потому, что ходил Наумов по ней на частную квартиру, которая, если разобраться, и не квартирой была, а просто «углом». Вот на этой дорожке и встретила доцента Лирочка-Велирочка, встретила и остановила, а затем медленным Движением бережно вынула шляпу из сумки, произнеся при этом какие-то слова, которые доцент забыл, но, вероятно, это были щучьи слова, те самые — «по моему велению, по моему хотению», — ибо после этих слов Наумов тоже произнес какие-то слова, среди которых было и «спасибо», но не оно было главным, оно не ставило точку под диалогом, а в том, что диалог начался, Наумов уже не сомневался. Не сомневалась и Лирочка… Очень не хотелось Лирочке ехать в деревенскую школу. А доцент в шестьдесят четвертом году был скорее худым, чем толстым. В общем, он выглядел не хуже других, хоть и не гнался за модой и был с «бзиком», поскольку тратил свой досуг на копание в каких-то там архивах. Но в тот теплый апрельский вечер он забыл о тайне столетий, ибо другая тайна властно поманила его, вечная тайна, нетайная тайна, которая лучилась из глаз Лирочки-Велирочки, умненькой студентки-выпускницы, хорошенькой девушки, интересной даже, что и не преминул отметить доцент после двухчасовой совместной прогулки. В конце недели Лирочка-Велирочка решила, что момент наступил, и, осторожно высвободившись из объятий доцента, сказала: «Мы могли бы пожить и у нас». И была свадьба, которую сыграли в новеньком еще тогда кафе «Космос». Свадьба как свадьба, со всеми положенными процедурами, из которых Наумову почему-то запомнилась наиболее утомительная — ожидание торжественного ужина, — когда они с Лирочкой стояли у стеклянных дверей, встречая гостей. Скучные это были часы, скучные не только для Наумова. Снаружи толпилась стайка юнцов, которые приходились кому-то родственниками, но кому, было неизвестно ни жениху, ни невесте. Юнцы сосредоточенно курили, подчеркнуто не обращая внимания друг на друга. Внутри, возле длинных столов, заставленных снедью, цветами и бутылками, бродили приглашенные мужчины постарше, из тех, кто пришел точно к назначенному часу. Их жены чинно сидели на стульях, поставленных рядком у стойки, и шептались о чем-то, поглядывая на жениха и невесту, похожих на манекены, какие можно увидеть в витринах салонов для новобрачных. Три часа этой витринной жизни были платой за поцелуи над сонным озером, за апрельские звезды, за теплые руки любимой, за то, что было, и за то, что должно быть впереди. А впереди Наумова поджидало нечто непонятное.
Утром, перед тем как отправиться к Лаврухину, который сказал, что будет занят до двенадцати, я решил зайти к Бурмистрову. Я не видел его уже несколько дней и, захватив портрет, поехал в управление, рассудив, что мой начальник как раз тот человек, который отнесется ко мне и моим затруднениям с должным пониманием. В этом смысле с ним мог сравниться разве только Петя Саватеев, но он, к счастью, не встретился мне ни в коридоре, ни в нашем с ним кабинете, куда я забежал, чтобы пополнить запас сигарет. Я поставил портрет перед Бурмистровым и заметил вскользь, что лицо на портрете мне кого-то напоминает. — Неплохо было бы и вспомнить, — ворчливо произнес мой шеф, погремев стаканчиком с карандашами. — Стараюсь, — сказал я, усаживаясь у окна. Я и в самом деле старался, но ничего из этого не выходило. Так бывает, когда вдруг забываешь какое-нибудь слово. Ты чувствуешь его, оно где-то близко, вот-вот ты его вспомнишь, но оно не дается, ускользает. Ты злишься, напрягаешь память — и добиваешься противоположного результата. Потом, когда оно тебе уже не нужно, это слово неожиданно всплывает на поверхность сознания. — Ну-ну. — Бурмистров отвел глаза от портрета, откинулся в кресле и сцепил руки на животе. — Так что там у тебя? Я вкратце изложил повесть о знакомстве доцента с Лирочкой. — Попался мужичок на крючок, — усмехнулся Бурмистров. — А вот это не совсем так, — возразил я. — То есть? — прищурился Бурмистров. — В твоей интерпретации все именно так и звучит. — Значит, фальшиво звучит, — сказал я. — Есть нюансы. — Ты давай, Зыкин, все-таки поаккуратней насчет нюансов. Ближе к фактам. — К ним и двигаюсь. Была у них любовь. Обоюдная, так сказать. Конкретнее если, то Лирочке этот доцент тоже нравился. Может, сперва она и воображала себя жертвой обстоятельств, может, даже лукавила, но все это ушло. — Чаруса, — буркнул Бурмистров. — Знаешь, что это? — Наслышан. — Зачем же лезешь? — Затягивает, проклятая, — признался я со вздохом. — Ну ладно, Зыкин, — сказал Бурмистров, бросив выразительный взгляд на часы. — Ты ведь не про любовь рассказывать ко мне пришел. — Как знать. По Наумову выходит, что его занятия княгиниными делами и Лирочкина любовь связаны одной веревочкой. Произнеся эту неуклюжую фразу, я углубился в созерцание знакомого заоконного пейзажа. Бурмистров сидел полузакрыв глаза и покусывал губы. Наконец он спросил: — А ты как считаешь? — Надо подумать. — Ну что ж, попробуем. — Про любовь не упоминать? — Воздержись по возможности. — Значит, так, — сказал я. — После свадьбы Наумов перетащил свои пожитки к Казаковым. Родители не препятствовали, пожалуй, даже были рады, что дочка обрела приличного мужа и осталась у них под крылышком. Молодоженам выделили комнату. Вскоре Лирочка закончила институт, но в городских школах ей места не нашлось. На помощь пришел Ребриков, и Лирочка стала работать в музее. В шестьдесят пятом Ребрикова сменил Сикорский. В музее все осталось статус-кво. Лирочка, разумеется, тоже. И тут завязался узелок. Если коротко, то так: по непроверенным данным любовь Сикорского к Лирочке последствий не имела. — В каком смысле? — В том, что она его не любила. — Так. Едем дальше. — Что ж дальше. Все шло и дальше тихо-мирно, благопристойно. Наумов работал в институте, продолжал копаться в архивах. Все шло тихо-мирно, пока однажды Лирочка не заявила мужу: или княгиня, или она. — Когда заявила? — Незадолго до семейного скандала. Наумов как раз выбился на второй круг гонки за неизвестным художником. Короче говоря, он вернулся к тому, с чего начинал — к бакуевским бумагам, к той самой записи: «Сход. к К.». Он носился с этой шарадой как курица с яйцом и не замечал, что атмосфера в доме накаляется. Он заметил это, когда стало уже нечем дышать. — Ну-ну, — подбодрил меня Бурмистров. — Он пожелал объясниться с Лирочкиными родителями, — сказал я. — Но объяснения не получилось. Теща молча покинула комнату. Тесть, по обыкновению, прокричал отрывок из какой-то пьесы, а Лирочка… Нет, все-таки любовь была. — Вычеркни ее пока… Ближе к фактам. — Факты иссякли, — сказал я. — Остались эмоции. Наумов стал замечать, что сотрудники музея при встречах с ним как-то странно ухмыляются… А Лирочка плакала по ночам и говорила, что им надо уехать, уехать, уехать… — Но уехал он… — Да, — сказал я. — Уехал он. Договорились, что Лирочка двинется вслед, как только он устроится. В Караганде, кстати, живут его родители. — Были письма? — спросил Бурмистров. — Два или три. Лирочка писала, что готовится к отъезду. Но… Я замолчал, потому что дальше простиралась область догадок. Бурмистров взялся за стаканчик с карандашами. Тряс он его на этот раз особенно долго и сосредоточенно. А потом задал вопрос, до смысла которого я добрался не сразу. — Слушай, Зыкин, — спросил он, — А ты не поинтересовался у доцента: этот Ребриков не брюнет, часом?
Часть четвертая
— Выйду я… Не могу на это смотреть… Петя Саватеев рванул ворот рубашки и, как-то странно сгорбившись, выбежал в коридор. В палате остались я, коренастый врач со щегольскими черными усиками, пожилая сестра, проводившая Петю понимающим взглядом, и девушка, лежавшая на койке. В больницу ее доставили во вторник, 21 мая. По всем данным, эта девушка была моей предположительной спасительницей.Петя убежал, а я остался, хотя делать мне в палате было как будто и нечего. Я стоял и смотрел на ту, которая в тот далекий уже вторник помешала убийце расправиться со мной, смотрел в ее лицо и думал о том, что теперь вот она по какой-то странной иронии судьбы мешает мне схватить убийцу. И не столько она, сколько то, что с ней произошло. Еще я думал о Вале Цыбиной, которая повесила над своей кроватью картину, названную «Спроси ее». И еще я думал о Вите Лютикове, который на поверку оказался просто пакостным мальчишкой, потому что если бы он не был им, то ему не пришло бы в голову придумать это издевательское название, ему не пришло бы в голову сказать Вале, что это он ее рисовал, что это он самовыражался. И не болтал бы он о «радуге мира», и не мнил бы себя гением, которому дозволяется все. А что, собственно, все? Что он хотел получить от жизни, «цветик этот», по выражению чернявого мужичка-философа? И что свело его с Астаховым? «Спроси ее…» Ее не спросишь. Тело двадцатилетней девушки, а голова… В голове не осталось почти ничего. В теле зрела новая жизнь, и было этой новой жизни от силы три месяца. Так сказал врач. Он сказал также, что девушка испытала сильное нервное потрясение. Какое именно, врач не знал. И родители девушки не знали. Мы не сказали им, какое. В этом не было смысла, поскольку убийца Вити Лютикова, так напугавший девушку, еще гулял на свободе, и мы не имели понятия, с какой стороны к нему подобраться. То, что девушка оказалась на месте преступления в тот злополучный вторник, можно было считать случайностью. Девушке захотелось повидаться со своим мальчиком. Может быть, они даже договорились о встрече, может быть, эта встреча была намечена на вечер понедельника, но все испортила Валя, которая с квартиры Астахова ринулась к Вите, чтобы сказать ему… Она была ошеломлена смертью Астахова и побежала к Вите поделиться новостью. И осталась. И Витя был вынужден отменить встречу с девушкой, может быть, позвонил ей, а Вале сказал, что бегал за сигаретами. И все его: «Надо же так», и «Лучше бы ты к нему не ходила», и его задумчивость — все это легко объяснялось. И столь же легко объяснялась надпись на картине, надпись — ответ на Валины недоуменные вопросы о том, что с ним случилось. «Спроси ее», — вывел он на бумажке и прилепил эту бумажку к портрету, прилепил, думая о том, какой он умный и какой шутник. Да, все объяснялось, но ничего не доказывалось.
А усики у врача, как у молодого Чаплина. — Скажите, доктор, это безнадежно? Глупый вопрос. Никому в мире, наверное, не задают столько глупых вопросов, сколько задают их врачам. Но они привыкли. И этот врач привык. Он не ушел от вопроса, но и не ответил на него прямо. Он сказал, что в истории медицины зафиксированы аналоги, ончто-то еще сказал, потом умолк и мрачно уставился в пол, покрытый светлым пластиком в крупную клетку. «Спроси ее»… Была у нас такая мысль — спросить. Она зрела давно, еще с того дня, когда чернявый мужичок-философ выдвинул альтернативу — «девка или парень». Но должно было пройти время, чтобы эта мысль стала вопросом, сперва вопросом-предположением, а потом вопросом, который Лаврухин назвал «явно недоработанным». Случилось это вскоре после того, как в кожаном кресле у лаврухинского стола посидела Лира Федоровна, чье загадочное исчезновение доставило нам столько хлопот. Нельзя сказать, что они были совсем пустыми, наши хлопоты. Что-то все-таки привезла с собой эта женщина, какие-то узелки распутала. Но, развязывая одни, она тут же завязывала другие. При этом создавалось странное впечатление. Казалось, что не по своей воле завязывает она эти узелки, казалось, что сама она и есть тот главный узелок, казалось, что весь клубок лишь на нем и держится. И в то же время у меня крепло убеждение, что Лира Федоровна об этой своей роли не только не имеет решительно никакого представления, но даже и не догадывается. Полдня она давала показания. Полдня мы дышали запахом ее духов, полдня Лаврухин записывал ее рассказ. Неделя ушла на проверку того, что поддавалось проверке. И все сошлось. Понимания, правда, не прибавилось.
Человеческий глаз устроен так, что видит не все предметы, находящиеся в поле зрения в данный момент. Те из них, которые оказываются в зоне так называемого «слепого пятна», словно бы исчезают. Нечто подобное произошло и в случае Лиры Федоровны. На какое-то время она попала в зону «слепого пятна» следствия. Бурмистров взглянул на дело под другим углом, и мы обнаружили, что женщина никуда не исчезла и брюнет был в поле нашего зрения… И тем не менее… Такая вот штука — это «слепое пятно». Мы знали, что они стоят рядом; мы даже соединяли эти фигуры прямой линией, но… Я не хочу умалять заслуг своего шефа, он человек прозорливый, он первый сказал «а», но замечу все-таки, что следствие уже вплотную подошло к Ребрикову, он стал необходим следствию как свидетель. Здесь впору бы порассуждать о случайностях и закономерностях, о причудливых совпадениях, с которыми сталкиваются люди нашей профессии, но, наверное, нового слова я не скажу. Случай нельзя предвидеть. Заходя в вагон в Заозерске, я не думаю о том, что через несколько остановок в этот же вагон поднимется мой старый приятель, с которым мы не встречались лет девять. Лира Федоровна, уезжая из Заозерска в Крым, не думала о встрече с Ребриковым. Но она не особенно удивилась, когда в купе появилось это семейство: Лира знала, что Ребриков живет в соседнем городе. И Ребриков не поразился, и жена Ребрикова, а их мальчишка и подавно. Конечно, не обошлось без восклицаний, неизбежных в таких случаях, не обошлось и без взаимных расспросов, в ходе которых выяснилось, что Лира Федоровна оказалась на перепутье, что ей не сильно повезло в личной жизни, что есть у нее мыслишка о кое-каком переустройстве этой самой жизни. Дознание вела жена Ребрикова в те часы, когда муж гонял пульку в соседнем купе, а сын торчал у окна в коридоре. Рассказ Лиры Федоровны о своей замужней жизни, а также об астаховском периоде, как мы потом установили, не изобиловал подробностями; но женщины быстро сумели понять друг друга, и жена Ребрикова заключила, что «Лирочка глубоко несчастна». Затем последовали конструктивные предложения, к выработке которых был привлечен Ребриков. Существо их в конце концов вылилось в вопрос: «А почему бы вам не поехать с нами?» Семейство не желало моря — «эта вечная толчея и многолюдство». Семейство желало осваивать горный степной Крым — «это заманчиво». У семейства были две палатки. «Вот увидите, как будет хорошо». И Лира Федоровна сдалась. Она не знала только, как быть с путевкой. Ребриковы тоже этого не знали. В сущности-то Лира Федоровна ничего не теряла — путевку ей дали профсоюзную. Но она решила выяснить вопрос до конца, и поэтому, когда поезд пришел в Симферополь, Лира Федоровна, оставив чемодан на попечение Ребриковых, отправилась в Ялту. Договорились, что она вернется к двум часам дня. В три Ребриков позвонил в «Массандру», не добился толку и сел в такси. А Лира Федоровна, зная, что из Симферополя они должны отправиться только вечером, повела себя несколько легкомысленно. Она осмотрела Ялту, в которой не бывала раньше, сходила на пляж и где-то около пяти вступила в переговоры с администрацией санатория относительно путевки. Переговоры оказались безуспешными, и Лира Федоровна, махнув на это дело рукой, пошла к телефону, чтобы вызвать такси, поскольку чувствовала, что уже опаздывает. Ребриков в это время подъезжал к Ялте. Лира Федоровна, сделав заказ, сидела у телефона, ожидая сообщения из диспетчерской таксопарка, когда Ребриков снова позвонил в «Массандру». Она сняла трубку. Ребриков сказал: «Прекрасно, буду ждать вас поблизости». Так вот и возник в деле худощавый брюнет. А через полчаса после отъезда Лиры Федоровны пришла телеграмма о смерти Астахова. Дежурная нянечка, не знавшая о том, что Лира Федоровна, огорченная неудачными переговорами насчет путевки, отбыла, не прощаясь, отнесла депешу в палату и положила на столик. А так как склейки на бланке не было, то нянечка не сочла предосудительным предварительно ознакомиться с текстом. И на другой день поспешный отъезд Лиры Федоровны получил исчерпывающее объяснение. Сама же она встречала утро того памятного мне вторника в Бахчисарае. Девять дней Лира Федоровна осматривала с Ребриковыми мечети, пещерные города, а на десятый компания вернулась в Симферополь, а оттуда направилась в Ростов. За девять дней они успели обсудить кое-какие организационные вопросы, касающиеся будущей Лирочкиной жизни. Лирочка призналась, что хочет, очень хочет и давно хочет работать по специальности. Музей ей надоел, ей все там обрыдло, ей снится светлый, чистый класс и детские головки, склонившиеся над партами. «Если бы Петр Иванович помог…» И Петр Иванович решил помочь. Ему для этого не потребовалось даже ломать свои планы. У супругов время отпуска было точно рассчитано: сначала Крым, потом Ростов. В Ростове Ребриков должен был оставить жену и сына у тещи до конца отпуска, а сам собирался слетать в Москву по каким-то там делам. Он только спросил Лирочку, устроит ли ее Подмосковье. Лирочка сказала, что она об этом могла только мечтать. «Ну и прекрасно, — сказал Ребриков. — Живите пока тут, а я позвоню». 31 мая они прилетели в Ростов, и Лирочка написала в Заозерск. Ребриков на другой день двинулся в Москву, наказав женщинам ждать его звонка, и они стали ждать. Но телефон молчал: добыча вакансии Лире Федоровне оказалась трудным делом даже для Ребрикова. Лирочка забеспокоилась, не поторопилась ли она объявить о своем желании «навсегда покинуть Заозерск». Впрочем, это беспокойство не шло ни в какое сравнение с тем, какое охватило ее, когда в дом пришел вежливый молодой инспектор уголовного розыска города Ростова с предложением проводить Лиру Федоровну Наумову к месту ее прежнего жительства.
Поглядеть на Лиру Федоровну сбежалось пол-отдела. Но Бурмистров легким мановением руки рассеял любопытных и препоручил женщину моим заботам. Она оказалась довольно симпатичной особой, в меру пышненькой и в меру стройненькой. Кожа у нее была молочно-белой, как обычно бывает у рыжих, но без всякой предрасположенности к веснушкам. Даже крымский загар не пристал к этой коже, настолько белой она была. Синие глаза, гораздо синее, чем у Вали Цыбиной, миловидное лицо с чуть-чуть вздернутым носом. На фотографии она выглядела хуже. Пока мы добирались до прокуратуры, Лира Федоровна задала мне несколько вопросов, смысл которых сводился к примитивному: «Что случилось?» Я, помню, еще удивлялся этому: мне казалось, что карты у нее в руках. И к Лаврухину я ее вел именно за тем, чтобы получить ответ на тот самый вопрос. Внешняя сторона крымской эпопеи Лиры Федоровны нам была известна в общих чертах со слов Ребрикова. Но телеграмма по-прежнему оставалась темным пятном: мы не знали, что Лира Федоровна ее не получила. Поэтому, когда после соблюдения всех необходимых формальностей Лаврухин попросил Лиру Федоровну объяснить, почему она не откликнулась на призыв, содержавшийся в депеше, я счел эту просьбу вполне естественной. А она удивилась. Удивилась и посмотрела на нас взглядом, в котором ясно читался вопрос. Сказать, что известие о смерти Астахова поразило ее, значит, не сказать ничего. Лаврухин схватился за графин. Мне послышалось, что он, наливая воду в стакан, пробормотал свое любимое «черт знает что», но так как минута была явно не подходящей для брани, то, я думаю, слова были произнесены другие. Лира Федоровна от воды отказалась. — Он умер, — медленно выговорила она. — Вы сказали, что он умер? — Мы считали, что вам это известно, — ответил Лаврухин, пощелкав ногтем по стакану, который поставил так, чтобы он был под рукой. — Нет, — сказала Лира Федоровна. — Нет… Как все это странно… Я не могу понять… Лаврухин показал ей телеграмму. Лира Федоровна долго разглядывала бланк, потом сказала: — Папа… Вот уж не думала. — Ваш папа утверждает, что он не посылал этого сообщения, — сказал Лаврухин. — Но… Я не понимаю… — Скажите, как бы вы поступили, получив телеграмму? — поинтересовался Лаврухин. Он задал этот вопрос словно бы между прочим. Но я знал его отношение к телеграмме, знал, что она не дает ему покоя давно. Телеграмма была фактом, в котором заключался недоступный пока для нас смысл. И чем дальше забирались мы в дебри этого дела, тем загадочнее выглядела история с телеграммой. — Я приехала бы, конечно, — сказала Лира Федоровна. И в ее голосе явственно прозвучала обида. — И вас не удивила бы подпись подателя? Вам бы не захотелось ничего выяснить? — Не знаю, — призналась Лира Федоровна со вздохом. — Может быть, я позвонила бы папе. Или Вале. Потому что… Понимаете, в это невозможно поверить. Она имела в виду смерть Астахова, но Лаврухин решил уточнить. — Во что? — спросил он. Лира Федоровна не ответила. Помолчала недолго, потом сказала: — Я хочу знать, зачем меня привели сюда. — По-моему, я уже объяснил это вам, — сухо заметил Лаврухин. — Вы привлечены в качестве свидетеля по уголовному делу. Вы должны отвечать на те вопросы, которые сочтет нужным задать следователь, и говорить только правду. Сообщив это, Лаврухин выдержал паузу, чтобы дать возможность Лире Федоровне оценить серьезность момента, затем, сбавив на полтона официальность, пояснил, что вопросы, которые он намерен задавать ей в ходе беседы, могут показаться и неожиданными, и даже не совсем деликатными, но он надеется на взаимопонимание, ибо считает, что Лира Федоровна — женщина умная, что ей не надо растолковывать азбучные истины, что он ждет от нее помощи, помощи и еще раз помощи. И тут же, не давая ей опомниться, снова круто повернул к телеграмме, спросив Лиру Федоровну, кому до отъезда в Крым она сообщила о своем желании «навсегда покинуть Заозерск». На первый взгляд этот вопрос вроде и не имел отношения к телеграмме, но я — то знал, что имел. В телеграмме было всего три слова: «Возвращайся — Николай — умер». Как будто ничего особенного. Но Лаврухину давно бросилось в глаза словечко «возвращайся». Оно выглядело, в общем-то, лишним. Его можно было бы объяснить торопливостью отправителя, но такое объяснение не выдерживало самого поверхностного критического анализа. От телеграммы за версту несло железной продуманностью. И то, что текст был отпечатан на машинке, и то, что автор укрылся за фамилией Казакова, а в этом мы уже почти не сомневались, — все свидетельствовало о том, что человек, отправляя депешу, предвидел некие отдаленные последствия. При этом представлялось сомнительным, что, идя на почту в понедельник, анонимный корреспондент Лиры Федоровны думал о вторнике. Если этим корреспондентом был тот, кто убил Витю Лютикова, то он воздержался бы посылать столь подозрительную телеграмму. А поскольку он ее все-таки послал, то, значит, в три часа понедельника он еще не планировал убийства. Или телеграмму отправил кто-то другой, к убийству Вити Лютикова отношения не имеющий. Однако в любом случае человек этот не желал показывать своей причастности к авторству. Чего-то он опасался. Здесь начиналась зыбкая зона предположений и догадок. «Лейтмотив телеграммы, — говорил Лаврухин, — призыв к возвращению. Отправитель, — говорил Лаврухин, — был действительно взволнован, узнав о смерти Астахова. Но думал он, сочиняя телеграмму, не столько о том, что Астахов умер, сколько о том, что эта смерть снимает некие барьеры между Заозерском и Лирой Федоровной, барьеры, о существовании которых анонимный автор телеграммы был осведомлен. И он поспешил сообщить об этом женщине. Смерть Астахова не огорчила его, а обрадовала, — говорил Лаврухин. — Поэтому он незаметно для себя и начал телеграмму словечком «возвращайся»…» Лаврухин поморщился, когда Лира Федоровна сказала, что своей задумкой о перемене места жительства она ни с кем не делилась. Она не стала отрицать, что мысль эта зрела давно, но зрела подспудно, не оформляясь в четкое желание, которое побуждало бы к действию. Да, ей надоел Заозерск, но бросить все и уехать просто так, куда глаза глядят, Лира Федоровна не решалась, на такой подвиг она не считала себя способной. Она ждала случая. И дождалась, встретив Ребрикова… — Но незадолго до отъезда в Крым вы поссорились с Астаховым, — сказал Лаврухин. Синие глаза не выразили удивления столь глубокой осведомленностью. Они смотрели спокойно и, я не побоялся бы сказать, равнодушно. Лира Федоровна кивнула. — Да, — сказала она. Лаврухин снял очки и принялся старательно протирать стеклышки. С минуту продолжалось молчание. Лира Федоровна провела рукой по платью, разглаживая видимую ей одной складку, и вопросительно взглянула на меня. Я мысленно подбодрил ее, но моя мысль до женщины, видимо, не дошла, ибо она явно не собиралась развернуть короткое «да» в более содержательный ответ. — У вас как будто не было намерения узаконить отношения с Астаховым? — Да. — Не можете ли вы объяснить… — Объяснить? — Она поглядела на Лаврухина так, словно хотела сказать: «Ах, какие глупости вы говорите, вы же взрослый человек, пожилой человек, может, даже отец семейства. Неужели вы, дожив до такого возраста, не уяснили себе, что жизнь сложна и любовь сложна, что не сводятся чувства к четырем действиям арифметики, что есть еще алгебра и высшая математика, что есть и то, что вообще не поддается исчислению. А вы хотите, чтобы я с помощью сложения и вычитания объяснила вам…» — Что объяснить? — спросила она после паузы. — Ну вот хотя бы, — сказал Лаврухин, выдвигая ящик стола и доставая оттуда повесть о капитане Хватове. — Не можете ли вы сказать, почему из этой книжки вырван титульный лист? Вы ведь ее держали в руках, когда сообщали Астахову о своем намерении уйти от него. Сложное часто оборачивается очень простым. Эту великую истину я усвоил еще в институте, а потом жизнь неоднократно подтверждала ее. Но бывает и ложная простота. Тебе кажется, что ты уже добрался до сути, понял все, как вдруг выясняется, что ты ошибся, что все не так, и простое вновь становится сложным. Лира Федоровна телеграммы не получала. Это подтвердилось. Но происхождение телеграммы осталось необъясненным. Лира Федоровна вспомнила, что книжку она действительно держала в руках… Впервые она увидела ее в день ссоры с Астаховым, когда в дом приходил какой-то смешной человек, которого Астахов проводил через минуту без всяких разговоров. Насколько она помнит, титульный лист в книжке был. На обороте листа имелась запись, строчки четыре или пять. Нет, она ее не читала, было не до этого, да и почерк у писавшего был неразборчивый. Второй раз Лира Федоровна видела книжку в день отъезда. В руки она ее не брала, поэтому сказать, был ли титульный лист по-прежнему на месте, она не может. Никаких других необычных вещей вроде альбома, брактеата и фотографии, изготовленной в заведении Коркина в Санкт-Петербурге во времена оны, Лира Федоровна в квартире Астахова не видела. Фамилия Дукина ей ни о чем не говорила. На вопрос о том, известно ли ей, что Астахов интересовался княгиней Улусовой, Лира Федоровна ответила отрицательно. Все остальное касалось любви, сводилось к любви, объяснялось любовью. В алгебру своих отношений с Астаховым Лира Федоровна не вдавалась. А в рамках двух первых действий арифметики все выглядело просто. Сначала Астахов показался ей достойным внимания. Но вскоре она поняла, что человек он пустой, ненадежный. Возникшее было чувство быстро выродилось в повинность. Она поняла, что ошиблась, но лямку тянула и старалась не показывать окружающим, насколько все плохо, противно и неустойчиво. Собираясь в отпуск, она высказала Астахову то, что думала. Он был ошеломлен, хотел что-то объяснить, но тут некстати притащился Дукин. Астахов вытолкал его и потом, уже спокойно, сказал Лире Федоровне, что она может поступать как ей хочется. «Я тебя провожу», — сказал он. «Зачем?» — спросила она. «Да так, на всякий случай», — ответил он. Последнюю неделю перед отпуском Лира Федоровна прожила у Вали. В день отъезда попросила ее приехать на вокзал. Сама навестила Астахова, забрала кое-какую косметику, которая оставалась в квартире, заказала такси. На вокзале Астахов вел себя так, как будто ничего не случилось, был весел. А когда уже надо было выходить из купе, сделал вид, что целует Лиру Федоровну, и прошептал ей на ухо: «А ты штучка… Но запомни, все будет по-моему». Что сие означало, Лира Федоровна не поняла. Это была даже не алгебра. От загадочной фразы, шепотом произнесенной Астаховым, повеяло высшей математикой. А с мужем, сказала Лира Федоровна, она порвала потому, что узнала: Наумов ей изменял с Вероникой Семеновной, хранительницей серой папочки. Я вытащил из холодильника кусок мяса и уставился на него, раздумывая о том, как поступить: порезать на ломтики и поджарить или сочинить какое-нибудь архивкусное кушанье. Жена пропадала на педсовете — она, как и Валина мама, учительница, только работает в другой школе и Валину маму не знает. Когда она пропадает на педсовете, я обязан заботиться о себе сам. Но сегодня у меня не было настроения проявлять заботу ни о себе, ни о своем желудке. Я мог бы, конечно, подумать о подруге жизни и порадовать ее, порывшись предварительно в кулинарной книге, но я знал, что восторгов не будет. Моей подруге жизни чуждо гурманство, она предпочитает есть простую, обыкновенную пищу. Обыкновенную… Есть что-то в этом словечке… Обыкновенно… Как ты живешь, человек?.. Обыкновенно… Обыкновенность разлита вокруг тебя, как аморфная масса. Тебе тепло в ней, уютно. Твоя жизнь течет размеренно: от звонка будильника утром до вечернего чаепития перед экраном телевизора. Ты ворчишь, когда в твою обыкновенность врывается нечто неприятное извне, ты пугаешься, если это болезнь, радуешься, если это любовь. Но в любом случае обыкновенность разрушается, в любом случае ты начинаешь совершать поступки. Лира Федоровна начала совершать поступки год назад. До этого ее жизнь текла размеренно, в привычной колее. Она любила мужа, хоть и притупилось уже взаимное удивление. Она благосклонно относилась к ухаживаниям Сикорского, хотя и не любила его. Она понимала его, но и давала ему понять, что ответа не будет. Все шло обыкновенно, пока однажды… Однажды утром, придя на работу, Лира Федоровна нашла на своем столе письмо. Какая-то «уважающая Вас» сообщала Лире Федоровне, что ее муж «встречается с другой женщиной». Лирочке он говорит, что ищет клад, а на самом деле… «Раскройте глаза, уважаемая, — торжественно вещало письмо, — и вы увидите, что этот «клад» сидит рядом с Вами». Рядом с Лирой сидела Вероника Семеновна. Хмурая, озабоченная женщина, обремененная семьей. Лира Федоровна взглянула на нее через стол и пожала плечами. Письмо было для нее поистине как гром среди ясного дня. Кроме того, самолюбие Лирочки было жестоко уязвлено: «Как, с этой?..» Лира Федоровна сердито тряхнула головой, разорвала письмо на полоски и швырнула обрывки в мусорную корзину. Мужу она не сказала ни слова. И «глаз раскрывать» тоже не стала, ибо считала это унизительным. Через несколько дней Лирина мама отозвала дочку в свою комнату и со словами: «Что это?» — вручила ей лист бумаги с машинописным текстом. «Это» было в общем-то тем же самым, правда, с некоторыми вариациями. Тамаре Михайловне предлагалось «выкинуть этого мерзкого человека из дома» и объяснить дочке, что «она смешна». Лира Федоровна заплакала и сказала, что это ложь, ложь, ложь… Тамара Михайловна погладила дочку по голове и заметила, что жизнь сложна, но и «такой дурочкой» тоже быть нельзя. «Дыма без огня не бывает», — сказала Тамара Михайловна. И Лирочка задумалась. Ночью она спросила мужа, намерен ли он и дальше заниматься княгиней. Он сказал: «Да». «Брось», — сказала она. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего, — сказала она. — Я не хочу никаких кладов». Он удивился, хотел что-то объяснить, но Лирочка не стала слушать, уткнулась в подушку и заплакала. Все-таки она любила его. Она не следила, куда он ходит по вечерам. Она старалась не выходить из себя, когда разговаривала с Вероникой Семеновной. Она старалась также не обращать внимания на ненормальную обстановку, которая стала складываться в доме. Только по ночам она плакала и говорила, что им надо уехать, уехать, уехать… Он уехал. Лира Федоровна собиралась последовать за ним. Она буквально уже сидела на чемодане, когда Тамара Михайловна сказала, что она бы на месте Лирочки поступила иначе. «Почему, мама?» — спросила Лира Федоровна. «Он насмехался над тобой, — сказала Тамара Михайловна. — И я не уверена, что ваша жизнь теперь склеится. Он дрянной человек, он опять будет изменять тебе». — «Это была ложь, мама, — сказала Лира Федоровна. — Я не верю этим письмам». — «Напрасно, — сказала Тамара Михайловна. — Я сама видела их вместе». — «Ты, мама? Ты что же?.. Ты следила?» Тамара Михайловна грустно кивнула. «И тебе не стыдно, мама? — спросила Лира Федоровна. — Да как же ты могла?» И был большой шум в доме Казаковых. Может, была и истерика. Лира Федоровна не вдавалась в детали, когда рассказывала нам это. Она сказала только, что ушла к Вале, а Наумову послала письмо, смысл которого сводился к двум словам: все кончено. Про это письмо Наумов мне не говорил. Да, по Малинину и Буренину, история Лиры Федоровны укладывалась в арифметическую задачу. Но ведь дело-то, дорогой товарищ Зыкин, из ряда вон. Дело-то одним концом окунулось в восемнадцатый век, если, конечно, поверить Наумову. А в двадцатом на больничную койку легла девушка, которая совершенно случайно оказалась свидетельницей убийства. Сколько надежд возлагали мы на эту свидетельницу! Сколько времени ухлопал Лаврухин на то, чтобы найти ее! «С Римкой он встречался», — сказал наконец белобрысый румяный парень. С Римкой — и все. Бегала Римка с какой-то подружкой на танцплощадку в парк. Римка — и все. С Римкой ушел Витя с танцевального помоста, а куда ушел, парень не знал. И о продолжении знакомства парень тоже не знал. Таился Витя от дружков-приятелей, не хотелось ему, чтобы Валя о Римме узнала, потащил Римму в четвертое измерение. Называй ее теперь как хочешь: Римка или Римма — не откликнется. Так что поблагодарить тебе, Зыкин, за спасение от смерти практически некого. То, что загулял Витя с Римкой тайком от Вали, — это же так обыкновенно. И Наумов изменял Лире Федоровне вполне обыкновенно. А где же та точка отсчета, с которой начинается необыкновенное?
Дверной звонок дзенькнул, когда я, покончив со скромным ужином, ковырял спичкой в зубах, размышляя перед книжной полкой о том, что неплохо было бы сейчас почитать что-нибудь старинное, тягучее, с пространными диалогами; что-нибудь глупенькое — с картонными страстями, стыдливыми признаниями и рыцарскими поступками благородных героев. Дзенькнул звонок. И был он какой-то неуверенный. Жена моя открывает дверь своим ключом. Знакомые жмут на кнопку так, что трезвон идет по всей квартире. А тут робкое трень — и молчок. Двое ждали меня на площадке. Незнакомый мужчина и знакомая женщина. На мужчине была клетчатая рубашка, серые брюки и пыльные ботинки. Женщина жалась за его широкой спиной, но я тем не менее сразу вспомнил зеленое платье, в котором видел ее однажды. Впрочем, в другом платье, я ее и не видел никогда. Лаврухин встречался с ней чаще, а я больше думал о ней. Даже сегодня думал. Мужчина улыбнулся мне и по-простецки сказал: — Не хочет идти. Не хочет — и все. Ну, я и повел сам. — Заходите. Я открыл дверь пошире, и они зашли. Мужчина шагнул первым. Женщина неуверенно двинулась за ним. На диван они сели рядышком. Он по-прежнему улыбался. Она как-то боязливо смотрела на меня. Мужчина легонько ткнул ее в бок и сказал ласково: — Говори, Веруня, ну… Он не называл ее Вероникой. И он часто употреблял междометие «ну». Может быть, от смущения. Я заметил, что чувствовал он себя неуверенно в непривычной обстановке. Улыбка была чуть растерянной. И глаза. Но глаза у него были честные, а лицо из тех, какие принято называть открытыми. Он говорил, а Вероника Семеновна молчала. Он сообщил, что зовут его Григорием Андреевичем, что работает он на машиностроительном заводе мастером; что парнишка ихний учится в седьмом классе, а в этой школе работает моя жена, а парнишка как раз в ее классе; что по этой причине им известно и о моем существовании, да и не только по этой: Веруня вот сказала, что приходил я в музей, сказала только сегодня, сказала со слезами, и это Григория Андреевича сильно огорчило, потому что не знал он, что Веруню уже несколько раз допрашивали. Только сегодня узнал и сразу же решил идти ко мне. Они бы пошли в прокуратуру, но время позднее, никого там, наверное, нет, а дело у них важное, неотложное просто, но лучше пускай о нем сама Веруня доложит, ей сподручнее, так как он в ее работе несильно разбирается… Много он успел сказать, а Вероника Семеновна сидела словно воды в рот набрала. — Говори, Веруня, ну… — Никаких инвентаризаций у нас не было никогда, — сообщила она чуть слышно. Для меня это не явилось новостью. О механике так называемых инвентаризаций нам рассказал Ребриков. Акты составлялись, но ни с чем не сопоставлялись. Комиссии назначались, но никто из членов даже не заглядывал в музей. Все было формалистикой в крайнем ее выражении. Как повелось когда-то, так и велось. И велось бы, не пропади случайно серая папочка, которую Ребриков в свое время не включил в опись, так как не до папочки было — выбивал тогда он финансы для постройки павильона краеведения. Я смотрел на Веронику и думал, что чужая душа — потемки, и я никогда не пойму, почему Наумов предпочел ее Лире. Я бы на его месте не предпочел. Медно-мраморная Лира в лимонном платье и с глазами, подобными василькам в спелой ржи, и Вероника, хмурая Вероника, Веруня — гусыня, да простит мне это словцо ее муженек. Возможно, если скинуть с нее лет пятнадцать… Но ведь анонимки посыпались год назад. Что-то не так тут, неправильно что-то. — Акты готовила я, — сказала Вероника Семеновна. — И виновата одна я. — Эта ваша откровенность похвальна, — заметил я. — Но думаю, когда дело дойдет до распределения, вам все не достанется. Поделиться придется, Вероника Семеновна. — Видишь, Веруня, что получается, — вмешался муж. — И я говорил… Ну… Ты же не одна. Товарищ Зыкин правильно рассуждает. Вероника Семеновна приложила к глазам платочек. «Чувствительная ты больно», — подумал я сердито и сказал: — Вы только за этим пришли? — Нет, нет, — заторопился Григорий Андреевич. — За этим что ходить… Ты говори, Веруня, ну… И Веруня заговорила. Всхлипывая, путаясь в словах, она заговорила о серой папочке. Она сказала, что видела эту папочку в последний раз уже после смерти Астахова. Это было важное показание. И Вероника Семеновна понимала, насколько оно важно. Оно свидетельствовало прежде всего против нее — недаром же она столько времени стойко утаивала от следствия то, что сейчас выложила мне. Оно, кроме того, если Вероника Семеновна говорила правду, бросало зловещую тень на сотрудников музея, начиная от директора и кончая сторожем. А если она лгала?.. Или ошибалась? — Назовите дату, — сказал я строго. — И сообщите об обстоятельствах. Она вдруг покраснела и сконфуженно поглядела на мужа. Он мягко положил руку ей на плечо и, хмыкнув, подмигнул мне: — Ладно, чего уж там… Говори, Веруня, все говори, как есть, ну… И она рассказала. В среду, 22 мая, у Григория Андреевича был день рождения. На вечер ждали гостей. Веруня ухлопала на подготовку к этому событию весь вторник. Этот день в музее выходной. Утром в среду супруги оглядели закуски и решили, что все в порядке, неплохо бы подбросить на стол соленых грибков. День был базарный, и Вероника Семеновна, отправляясь на работу, сунула в сумку литровую банку. А крышку забыла. Грибы были благополучно доставлены в музей. Банку Вероника Семеновна отнесла в запасник, поставила на окно и прикрыла серой папочкой, которую сняла с бамбуковой этажерки. Уходя домой, она кинула папку на прежнее место. — Кто-нибудь может это подтвердить? — спросил я. Супруги переглянулись. — Никто, — сказала Вероника Семеновна. Она успокоилась немного, перестала плакать, только нервно комкала платочек. Я посмотрел на нее внимательно и спросил без обиняков: — Кого же вы подозреваете? — Я… Я об этом не думала… — Значит, двадцать второго мая папка лежала на этажерке, — сказал я. — Десятого июня ее там не было. Восемнадцать дней, Вероника Семеновна, так? Она молча кивнула. — Запасник в эти дни вы открывали? — Нет. — Ключ, естественно, всегда при вас? — Да. В сумочке. — А сумочка? Она снова заплакала. Она плакала, а муж улыбался. Мужу все это казалось пустячком. Эко дело, подумаешь. Ну, оставляла Вероника Семеновна сумочку на столе, бывало, и без присмотра. Так ведь свои люди рядом, сослуживцы. Ну акты там какие-то переписывала, не сверяя наименований с наличием. Так ведь маленький винтик Веруня-то. Посолиднев люди подмахивали эти самые акты не глядя. Следствие обманывала Веруня? Ну что же, это плохо, конечно, нельзя обманывать. Но осознала она это, сама пришла и все как есть рассказала. Повинную голову и меч не сечет. Понимай, товарищ Зыкин… Ищи, Зыкин, начало того конца… Хочешь, поверь Веронике Семеновне, — проверь. Только вот беда — не поддается проверке вся эта история с серой папочкой. А показание важное, если Веруне поверить. Я проводил их, потом позвонил Лаврухину. — А ведь это хорошо, Зыкин, — сказал он, выслушав меня. — Что именно, Павел Иванович? — Да то, что ее муж приводил. Ты чувствуешь, откуда ветерок? Я чувствовал.
Утром Лаврухин меня напутствовал: — Ты постарайся поосторожнее, Зыкин. Все-таки старушка, то да се… Сбоку заходи, сбоку… — Ладно, — сказал я. — Провожу от молочной до ядома, потом — к Дукину. На улице было как на улице. Я влился в поток прохожих и, не торопясь, пошел к дому Казаковых. Я знал, что в эти минуты Тамара Михайловна отправляется в молочный магазин. Много я всего знал о людях, так или иначе втянутых в орбиту дела, об их привычках, об их ежедневных маршрутах, обо всем том, что укладывалось в понятие «обыкновенность». Обыкновенность текла, как река, широкая, тихая река с медленным течением. Река меня не интересовала. Меня занимали острова, разбросанные там и сям. Река обыкновенности, наталкиваясь на них, бурлила и пенилась, ее течение ускорялось, и я никак не успевал разглядеть, что же там такое было, на этих островах. К молочному магазину мы с Тамарой Михайловной подошли почти одновременно, только с разных сторон. Сухонькая старушка в дымчатом платье шмыгнула, как мышка, в дверь, которая тяжело грохнула. Она грохнула еще раз двадцать, и я успел придумать не меньше трех способов ликвидации этого грохота, пока не увидел наконец снова Тамару Михайловну. «Стариков надо жалеть, — думал я, догоняя Тамару Михайловну и отбирая у нее авоську с бутылками. — А тех, кому не повезло в жизни, особенно. И Лаврухин толковал о том же самом. Но толковать — одно дело. А вот в данном случае…» Тамара Михайловна семенила, я шагал рядом, помахивая авоськой, и балагурил обо всем понемножку: о дверях, которые того и гляди могут задавить человека, о погоде, которая в этом году удалась, и о прочих пустячках, о каких принято болтать при случайных встречах на улице с малознакомыми людьми. До дома было не меньше трехсот метров, и я мог позволить себе небольшую разминку, да и Тамару Михайловну следовало подготовить к тому главному вопросу, ради которого и была предпринята эта короткая прогулка. Вопросик был и простой и неприятный одновременно. Надо было выяснить, не сохранила ли Тамара Михайловна той самой анонимки, в которой ей рекомендовали вытурить зятя из квартиры. Женщины обычно хранят всякую ерунду — от увядших роз первой любви до почтовых квитанций и поздравительных открыток полувековой давности. Мы вправе были ожидать, что анонимку Тамара Михайловна сберегла. А нам важно было заполучить это письмо, потому что здесь мы столкнулись, пожалуй, как раз с тем случаем, когда анонимка становится документом. До сих пор мы слышали только слова. Словам можно было верить, но и не верить тоже было можно. А с анонимкой можно было и поработать. Это не телеграмма из трех слов. Это произведение, из которого мог выглянуть автор с присущей ему манерой письма, со своей лексикой и со своей грамматикой. Лаврухин советовал заходить сбоку. Я точно следовал его указаниям и осторожно подводил Тамару Михайловну к вопросу об анонимке. И не моя вина, что мы споткнулись на половине пути, споткнулись на ровном месте, да так крепко, что Тамара Михайловна чуть не села на тротуар. Мы были еще далеко от анонимки, я только подбирался к разговору о Лире, ее имя еще не было названо. Тамара Михайловна толковала что-то про Казакова, про его причуды, я слушал и поддакивал, не забывая при этом легонько подталкивать старушку к предмету, который меня интересовал, к той точке отсчета, которая виделась мне исходной, к тому центру, из которого, полагал, начала раскручиваться спираль всех последующих событий. Разговор шел о самых, казалось бы, невинных вещах. Старушка толковала о том, что ее супруг скучает по театру, что другие актеры его возраста, да и постарше, все еще играют, а вот Казакову пришлось уйти на пенсию, потому что у него прогрессирующая близорукость, которая и раньше ему мешала, которая у него с детства, такой, знаете ли, редкий медицинский случай, а очков он никогда не носил, было бы смешно надеть на Шмагу, например, очки, что бы из этого вышло? Я сказал, что из этого действительно ничего бы не вышло, но заметил, что подобная близорукость случай не такой уж и редкий, и рассказал Тамаре Михайловне про одного своего знакомого, имея в виду Лаврухина, который без очков не видит дальше собственного носа и, случается, проходит на улице мимо жены, не узнавая ее. «Но Лаврухин оптимист, — прибавил я, — он говорит, что близорукий человек живет в мире, населенном прекрасными женщинами и симпатичными мужчинами. Тем не менее он не пренебрегает очками, которые позволяют ему видеть мир таким, какой он есть на самом деле». Разглагольствуя так, я прикидывал величину оставшегося до дома отрезка пути и сочинял фразу, которая перебросила бы нас поближе к анонимке; поэтому не сразу заметил, что моя болтовня оказывает на Тамару Михайловну какое-то странное воздействие. Перемену настроения я уловил, когда старушка вдруг остановилась и голосом, в котором слышалось напряжение готовой лопнуть струны, спросила: — Что вы хотите этим сказать? — Хочу сказать, что ему надо выписать очки, — беспечно бросил я, удивляясь бледности ее лица. — Что с вами, Тамара Михайловна? — Жарко, — пробормотала она со слабой улыбкой. — Я не переношу жары. Она беспомощно оглянулась. Ей захотелось присесть. Но подходящего места не было, и она медленно пошла к дому, до которого оставалось не больше пятидесяти метров. Разговор наш сразу иссяк, и я понял, что сегодня до анонимки мне не добраться. Я довел женщину до подъезда, поднялся на третий этаж и у дверей квартиры отдал авоську. Моя рука потянулась к звонку, но Тамара Михайловна сказала, что муж еще спит и лучше его не будить, и я опустил руку. А Лиры здесь не было, это я знал. Лира остановилась у Вали. — Может быть, вызвать врача? — Нет, нет, — заторопилась Тамара Михайловна. — Это пройдет. Очень жарко на улице. Ключ дрожал в ее руке.
К Дукину я поехал на автобусе. Дукин жил в том же районе города, что и Валя Цыбина. Жил он у матери. Дом стоял на тихой улице, примыкавшей к тому пустырю, где я не так давно упражнялся в беге по умеренно пересеченной местности. Я и тогда знал, что Дукин и Валя живут по соседству, но этому обстоятельству мы не придавали особого значения: Валя не подозревала о существовании Дукина, а Дукин не знал ничего о Вале. Их дороги не пересекались, их разделял пустырь, забитый стройматериалами, изрытый ямами, пустырь, через который никто не ходил. Однако же тянулась через этот пустырь некая незримая нить, на одном конце которой находился Астахов, а на другом — Дукин. И были две подружки — Лира и Валя; одна из них жила поблизости от Дукина, а другая жила с Астаховым. И у обеих подружек, по нашему мнению, имелся некий неприкосновенный запас сведений, делиться которыми они с нами не хотели. Мы смутно догадывались, что Астахов что-то искал. Исчезновение серой папочки из музея недвусмысленно намекало, что художника занимала княгинина коллекция. Но после того как меня навестила Вероника Семеновна, возникли сомнения. Лаврухин был склонен думать, что Вероника Семеновна говорила правду; она действительно видела эту папку уже после гибели Астахова. А молчала потому, что боялась. Боялась признаться потому, что, узнав о механике инвентаризаций, мы потащим Веронику Семеновну за ушко да на солнышко, и выплывет на свет Божий ее тайная связь с Наумовым. Боялась бросить тень на коллектив, на себя лично и на тех деятелей из управления культуры, которые, не глядя, подмахивали акты инвентаризаций. Но ее честный разумный муж рассудил, что если уж надо отвечать, так пусть отвечают и те, кто молчаливо попустительствовал «всяким разным безобразиям», как он выразился, когда сидел на моем диване. И он заставил жену рассказать все. Ее показания и породили у нас некоторые сомнения относительно Астахова. Получалось, что папка с бакуевскими бумагами ему была не нужна, что он шел в своих поисках (а в том, что он что-то искал, мы были почти уверены), что он в своих поисках шел иными путями, минуя бакуевские записки, если искал коллекцию; или он искал вовсе не коллекцию, а нечто такое, о чем мы вообще не имеем представления. И в этом случае коротышка Дукин оказывался весьма важной фигурой в деле. Но была тут одна закавыка — не знал Дукин, что от него нужно было Астахову. Не рама ведь для несуществующего полотна. Выпытывал скорее всего что-то Астахов у Дукина, да так хитроумно, что тот и не догадывался об этом. Да, загадочки, думал я, сидя в автобусе. Тамара Михайловна — тоже вот. «Что вы хотите этим сказать?» — «Хочу сказать, что ему надо выписать очки». Ну что тут такого, в этих словах? А старушке стало дурно. «Что вы хотите этим сказать?» Да ничего решительно. Не успел я сказать то, что хотел. Но откуда же взялась «эта бледность лица»? Думай, Зыкин, думай, может, до чего-нибудь и додумаешься. «Что вы хотите этим сказать?» Что?.. Дукин жил в небольшом домике, сложенном из красного кирпича. Когда-то он был оштукатурен и побелен, но десятилетия и непогода сделали свое дело, и сейчас дом выглядел заброшенно. Зато зеленая крыша влажно блестела свежей краской, и поэтому дом напоминал оборванца, напялившего на голову новую шляпу. Метрах в двухстах за домом протекал ручей, который назывался Брульяшкой. Этимологией этого слова я никогда не интересовался, я и на улице этой побывал только однажды, хоть и родился и вырос в Заозерске. Улицы моего детства располагались в противоположном конце города. Сюда же я наведался в тот день, когда возникла необходимость приватной беседы с Дукиным. Дом тогда был на замке, но какой-то словоохотливый сосед посоветовал сходить в пивной павильон, который находился неподалеку. Сегодня я тоже заглянул в голубую постройку. Дукина там не было, и я направился к нему домой. На стук отозвался пронзительный голос, расслышал я лишь два слова: «выгоню» и «пьяница». Потом дверь широко распахнулась, и передо мной предстала разгневанная женщина. Она в общем-то была похожа на Дукина, если, конечно, позволительно так говорить. Правильнее было бы сказать, что Дукин похож на нее. Но я еще понятия не имел, что коренастая женщина, возникшая на пороге, и есть мамаша. Сначала я подумал, что вижу его сестру. Но внешность обманчива; случается, что и сыновья выглядят старше своих матерей, и чаще всего это случается, когда сыновья выпивохи. — Чего надо? — сердито осведомилась женщина. На ее оголенных руках сохли хлопья мыльной пены, блузка выбилась из-под юбки, пластиковый цветастый фартук топорщился, а с раскрасневшегося лица еще не сошло то выражение, которое появляется на лицах женщин, когда они вступают в сражение, в просторечии именуемое «большой стиркой». — Дукин нужен, — сказал я, придавая голосу ту же интонацию, какая прозвучала в вопросе. — Кончился Дукин, — отрубила женщина, предпринимая попытку поймать ручку двери. — Нету Дукина. — Как это — кончился? — ошеломленно спросил я. — А так, что для вас он все равно как покойник. Лечение ему я объявила. — Ну, это для кого как, — сказал я, сообразив, в чем тут дело. — Для меня вы уж сделайте одолжение, воскресите покойничка-то. — А кто вы такой есть? — спросила она, не двигаясь с места. — Из милиции я. — Из милиции? — протянула мамаша. — Врешь, поди. Какая такая милиция ему запонадобилась. С бутылкой, чай, пришел? Я молча показал ей удостоверение. — Гляди-ка, — сказала она недоверчиво. — И впрямь из милиции. Да что ж он натворил, соколик мой? — вдруг заголосила она. — Да где это видано, чтобы к нам милиция приходила? — И тут же, без всякого перехода закричала: — Мишка! Мишка, чтоб тебе провалиться, иди сюда, окаянный. В глубине дома послышался шум, и вскоре в дверном проеме показалась лысая голова Дукина. Голова узнала меня и подмигнула. Дукин явно одобрял мою находчивость (он ведь по-прежнему принимал меня за страхового агента), а женщинадопрашивала его с пристрастием: ей сильно хотелось узнать, где это Мишка «нахулиганничал», да так, что «милиция вот пришла». Я успокоил ее, и был наконец впущен в дом. Внутри было чистенько, прохладно и, я бы сказал, уютно: хозяйство здесь держали в порядке. Полы были чисто вымыты и застланы ковровыми дорожками; ковры висели над кроватями; солнечные лучи играли с посудой в буфете; непременный телевизор был накрыт занавесочкой, на которой вышитые гладью зайцы грызли морковку; с икон в переднем углу гостиной свисали иссиня-белые рушники. С улицы дом казался неказистым и маленьким, но внутри было довольно места и для просторной кухни, и для трех комнат, и для нескольких чуланчиков, двери которых выходили в относительно широкий коридор. Дукинская мамаша желала знать, какое такое дело привело милицию в ее дом. Но в кухне кипело белье, и ей надо было за ним присматривать. С великим сожалением она оставила нас в комнате с телевизором. А Дукин, подмигнув, проворно прикрыл дверь, потер руки и прошептал с вожделением: — Ну, друг, ну даешь… Я выдвинул стул на середину комнаты и сел на него верхом. — Лечат, значит, тебя, Дукин? — Неделю, будь она, — сказал он, облизываясь. — Честное пионерское… Понимаешь, друг? Разула, раздела и никого не допускает. Я внимательно взглянул на него и засмеялся. На Дукине были надеты женская кофта с рюшечками и пижамные штаны, почему-то кончавшиеся у колен. Обут он был в тапочки, которые кто-то метко окрестил: «Ни шагу назад». Но и вперед в них далеко тоже уйти было нельзя. — Крепкая у тебя мамаша, Дукин. — Крышу вот ей покрасил, — сказал он обреченно. — А ей что? Она сто лет проживет и не охнет. Так-то вот, друг. Ну, ты давай, понимаешь… От ее квасов у меня в брюхе бурление происходит. Понимаешь? Если бы я ее не уважал… Как мать, понимаешь? — Понимаю, — сказал я. — Но не помогу я тебе, Дукин. Обманул я тебя, ты уж прости. — Не принес? — Не принес, сам пришел. — А на кой хрен ты пришел? Ты мне кто? — Поговорить надо, Дукин, — пояснил я. — По серьезному делу поговорить… — Да ты что? Ты в сам деле мильтон? Я кивнул. Он задумчиво посмотрел на меня и пробормотал: — То-то, понимаешь, к прокурору меня вызывали. Мамаша не знает, а то бы тут был тарарам… Он сел на стул и подозрительно покосился на меня. — А это не он ей присоветовал? Дукин выразительно потряс ногой. Я с трудом подавил смех и сказал: — Нет, не он. — Характер у меня, понимаешь, поддающийся, пожаловался Дукин. — От жены ушел, а от мамаши не могу. Да и некуда уйти-то. — Он поскреб лысину в раздумье и облизал губы. — А может, ты сходишь, а? И надо-то всего чуток. Для взаимного уважения, понимаешь? Тут оно все рядом, на нашей Дворянской. — На Дворянской? — Ну… Это сейчас она имени 8 Марта. А до революции тут дворяне проживали, понимаешь? Так ты сходи, друг. Брульяшку перешагнешь — тут тебе и есть все. — Погоди, Дукин, — отмахнулся я от заманчивого предложения. — Путаешь ты что-то. Дворянская в центре была. — Ну, — буркнул он. — И эту Дворянской звали. Нищие дворяне жили, понимаешь? Дурачком, наверное, показался я Дукину. Ведь в любом представителе мужской половины человечества видел он прежде всего собутыльника. Философия Дукина сводилась к примитиву: все хотят выпить, да не у всех деньги есть. А если у тебя в данный момент нет ни денег, ни штанов, надев которые можно удрать от мамаши, и если к тебе пришел человек в штанах и, видимо, при деньгах, — так не все ли равно, кто он такой, этот человек. А с этим ты уже однажды просветлял мозги пивком. Так, может, он тебя и сейчас выручит — и сбегает, и принесет, и угостит. Все хотят выпить, да не у всех деньги есть. И Дукин с эгоизмом пьяницы агитировал меня и никак не мог взять в толк, почему я не спешу в магазин, который тут, близехонько, только Брульяшку перешагнуть, почему я вместо этого вдруг заинтересовался какими-то нищими дворянами, жившими Бог знает когда на улице 8 Марта, — не мог взять этого в толк Дукин. А я чувствовал себя рыболовом, который долго-долго сидел над омутом в ожидании клева, истомился, отчаялся и вдруг увидел — шевельнулся поплавок. И сразу все забылось — улетучилась вялость, подобрался рыболов, ничего не осталось для него в мире, кроме поплавка, косо уходящего в воду. Во многих старых русских селениях можно услышать легенду о том, как, проезжая через город (посад, поселок, деревню), императрица Екатерина обронила ненароком в местный ручей некую ценную вещичку. Где камушек, где колечко, где табакерку. Если верить преданиям, сыпались из нее драгоценности, как горох из дырявого мешка, и так это всегда ловко выходило, что падали они из кареты не на твердую землю, а обязательно в ручьи. И тогда объявлялись водолазные работы особого назначения, которые, как правило, успеха не приносили. Аквалангов-то еще не было. Мелиораторов тоже. Поэтому вода в ручьях стояла высоко, не каждому удавалось до дна достать. А матушка-царица на следующем перегоне, может, от расстройства снова что-нибудь в воду роняла. В Заозерске у нее с подола скатился бриллиант. Однако тут местные эпроновцы не ударили в грязь лицом, выловили камень. И в честь этого события был переименован ручей — окрестили его Брильянтовым. Но так как слово оказалось трудным для произношения, то с годами оно видоизменилось. И стал ручей называться Брульяшкой. А местных эпроновцев благодарная царица повелела возвести во дворянство. Всех поголовно. Да, шевельнулся поплавок, пошел в глубину. И хоть не знал я, что там, внизу, но уверен был — не коряга, на которую течением нанесло крючок. Нищие дворяне… Не посадские мужички, возведенные растеряхой-императрицей в дворян-однодворцев, не эпроновцы, добывшие камушек со дна Брульяшки… Обнищавшие дворяне жили тут, отторгнутые от «общества», выброшенные за борт. В насмешку, видно, назвал народ эту улицу Дворянской. Официально же именовалась она Песчаной слободой. Так и писалось везде — Песчаная слобода. Сказочку рассказал мне Дукин. Но пока рассказывал он ее, думал я не о царицыных драгоценностях. И не о дворянах даже. О старике Бакуеве думал я. Говорил мне Наумов, что в бакуевской папочке лежал план Заозерска, старинный план. С ним сверял свои маршруты по городу одержимый кладоискатель. И была помечена на том плане красной карандашной чертой Дворянская улица. Дворянская, да не та. А вот Астахов на ту угадал… — Давно здесь твоя мамаша живет, Дукин? — Сам спроси, — посоветовал Дукин, шаркая тапочкой по полу. На длинном унылом лице его стыла безнадежность. Стал понимать Дукин, что поход через Брульяшку, видать, нынче не состоится. — Спрошу еще, — пообещал я. — А ты пока покажи, где раму Астахову ладил. — Милиция она и есть милиция, — обреченно произнес Дукин, сползая со стула. — Честное пионерское. Разве это жизнь? — Он поддернул пижамные полушорты. — Ты вот можешь, а я нет. Это справедливо? Ты моей мамаше указание дашь? — Какое указание? — А такое, что я не в тюрьме. Нельзя человека штанов лишать, понимаешь? Человек как лебедь, он летать обязан. Он сокрушенно махнул рукой и зашаркал к двери. В кухне что-то громыхнуло, и в дверном проеме возникла мамаша. — Куда еще? Мамаша не доверяла даже милиции. Дукин, не удостоив ее ответом, потянул дверь соседнего с кухней чуланчика, который оказался и не чуланчиком вовсе, а вполне приличной столярной мастерской, достаточно просторной и даже светлой, ибо имелось тут окно, выходящее в кухню. У одной из стен располагался верстак, возле другой высился штабель новеньких посылочных ящиков. Я понял, что наткнулся на источник доходов Дукина, но не стал смущать его вопросами типа «откуда дровишки?»; я сделал вид, что не заметил ни ящиков, ни фанеры, которая, как мне былЪ известно, могла произрастать только в одном месте, на мебельной фабрике; я не заметил этого и заговорил об Астахове; мамаша стояла в дверях, засунув руки под фартук, и чутко прислушивалась к беседе, которая носила несколько однообразный характер, ибо на все свои вопросы я получал односложное «нет». Мне хотелось знать, как вел себя Астахов в доме, не высказывал ли желания что-нибудь осмотреть, бывал ли во дворе, в какие комнаты заходил, о чем говорил… Но ничего особо любопытного я не услышал, если не считать одной маленькой подробности. Покидая дом, Астахов каждый раз выходил на середину улицы, останавливался и разглядывал здание с фасада. Потом пожимал плечами и отправлялся к трамвай ной остановке. — На жестянку пялился, — сказал Дукин. — Жестянка там над окном висела. С завитушками, понимаешь? — А куда делась? — Ветром, поди, сдуло. Ржавая она была, насквозь проеденная. — Нарисовать можешь? Он взял с верстака толстый карандаш и на обрезке фанеры вычертил овал. Поместил в овал восьмерку, перечеркнул ее двумя вертикальными линиями, подумал и приделал к восьмерке хвостик. Полюбовался, почесал карандашом лысину и пририсовал к цифре еще один хвостик, теперь уже слева. Так что же все это значило?
Часть пятая
— Будьте здоровы. Рад, что это маленькое недоразумение уладилось… Сикорский остановился возле чугунной церковной ограды и протянул мне руку. Если он, произнося последние слова, и погрешил против грамматики, то на это вряд ли стоило обращать внимание. Недоразумение действительно уладилось — серая папочка с бакуевскими бумагами нашлась. Она, собственно, и не исчезала, как выяснилось. Ее плохо искали. Когда же кто-то из членов Инвентаризационной комиссии, назначенной по нашему настоянию, отодвинул бамбуковую этажерку от стены (этажерка мешала ему добраться до высокой плоской картонной коробки с какими-то старыми транспарантами), когда он ее отодвинул, то Вероника Семеновна тихо ойкнула и, конечно, тут же заплакала, на этот раз от радости. Но почему Веронике Семеновне не пришло в голову заглянуть под этажерку в тот день, когда она плакала от огорчения? Сикорский пожал мне руку и вернулся к текущим делам. Недоразумение уладилось. «Я ведь, кажется, говорил вам, что у нас никогда ничего не похищали», — сказал он мне, вручая серую папку. Завалилась она под этажерку, затерялась на время, а потом вот нашлась. Могла бы и не найтись… И недоразумение переросло бы в подозрение. Но, слава Богу, все уладилось. И что же не нравится тебе, Зыкин? Почему ты не спешишь перелистать бумажки? Или ты думаешь, что не обнаружишь в папке бакуевского трактата о волосах, княгининых писем, чего-нибудь еще? Не думаешь ведь ты так, Зыкин? Можешь быть уверен: все там на месте, все в целости. Всего-навсего маленькое недоразумение… Да, дельце, ничего не скажешь. Дельце, сотканное из улик, которые, в сущности-то, никого не уличают. Хотя постойте, один вопрос, Вероника Семеновна: алиби у вас на утро того вторника есть? Ходили по магазинам, закупали то да се… Выходной в музее был… Выходной… А директор ваш, Сикорский Максим Петрович, в то утро на совещании сидел. В то утро, когда меня по голове неизвестным эластичным предметом шмякнули. Наумов в Караганде был, Лира Федоровна Бахчисарай осматривала. Тут все железно. С Валей Цыбиной вот не все в порядке. Очень уж близко от места преступления Валя находилась. А Казаков спал. Он всегда в это время спит — рефлекс, ничего не попишешь, актеры в сдвинутом дне живут. Даже когда на пенсию уходят. У всех занятия были, у Дукина тоже. Он, по слухам, с утра в голубом павильоне засел. Только вот утро-то в павильоне в одиннадцать часов начинается. Такие пироги, Зыкин. У всех занятия были, кроме Вали Цыбиной. И к Вите Лютикову никто из этих лиц, кроме Вали Цыбиной, не имел никакого касательства. Зато на Лиру Федоровну, как на веретено, многие нити накручивались. Год назад Лира Федоровна по собственной инициативе, если отбросить анонимки, порвала с мужем. Порвала в тот момент, когда Наумов стал подбираться к какому-то К. Потом на сцене появился Астахов, и странным образом история повторилась. Астахов кинулся очертя голову что-то искать. И как только это случилось, Лира Федоровна, опять же по собственной инициативе, порвала с ним, а сам он умер. Если отбросить анонимки… Если отделить любовь от уголовщины… Да только не отделяется она, скрутилось все жгутом — не расцепишь, не разорвешь…— Та самая папка? — спросил Наумов, закрывая за мной дверь номера. Он жил в гостинице анахоретом, почти никуда не ходил, отчасти потому, что Лаврухин посоветовал ему не торопиться с возобновлением старых знакомств, отчасти потому, что и сам Наумов не испытывал желания встречаться с заинтересованными лицами. Мы знали, что и его никто не навещал; однако он не скучал в одиночестве: люди, подобные Наумову, умеют применяться к обстановке, и там, где другой не находил бы себе места, изнывая от безделья, доцент чувствовал себя как рыба в воде. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на толстую рукопись, от которой я оторвал Наумова и на которую, пока я усаживался в низкое кресло у стола, он поглядывал с видимым сожалением. — Та самая, — сказал я, опуская папку на пол. — Произошло маленькое недоразумение, Василий Петрович. Ее просто плохо искали. — Так-так. — Доцент сел на стул против меня. — Маленькое недоразумение. Он внимательно смотрел на меня. Я сказал: — Идя к вам, я думал о природе некоторых недоразумений. Ну вот, например. Вы почему-то умолчали о последнем письме Лиры Федоровны, о том письме, которое явилось причиной разрыва. Оно сохранилось? Оно не сохранилось. Доцент считал и считает сейчас, что его личная жизнь не представляет интереса для потомков. Поэтому он письмо выбросил в тот же день, когда оно было получено. — Н-да, — протянул я. — Людям свойственно ошибаться. Как видите, вашей личной жизнью живо интересуются современники. Содержание письма вы не забыли? — Глупое письмо, — сказал он, подумав. — Недомолвки, намеки на некие известные мне обстоятельства. Мне предлагалось понять, что… — Он помолчал недолго. — Что я в чем-то виноват… Помню, что мне это письмо показалось несколько странным, Лире всегда была свойственна откровенность, а тут… Словом, я был удивлен и раздосадован. — Почему же вы не захотели объясниться? — А вы бы захотели? Вы, простите, когда-нибудь получали такие письма? — Не приходилось. — Ну так о чем же говорить… А я знал, что за ней ухаживал Сикорский. — Но теперь-то вы знаете, что все произошло не так. Вы задумывались над этим? — Да, конечно. — Василий Петрович, — спросил я напрямик, — может, есть необходимость потолковать про «известные обстоятельства»? Задавая вопрос, я смотрел в его глаза. Но ничего в них не мелькнуло, ничего решительно. Не мелькнуло, не сверкнуло. Спокойно смотрели карие глаза, спокойно и несколько недоуменно. — Не понимаю, чего вы добиваетесь, — хмуро произнес доцент. — Какого ответа ждете… — Честного, конечно, — улыбнулся я. — Вам не приходило в голову, что, намекая на «известные обстоятельства», ваша жена имела в виду женщину, которая… Ну и тэ дэ и тэ пэ, как говорится. — Я никогда не давал ей повода думать так… — Не давали повода или не было женщины? — Не было женщины. Не было… А Тамара Михайловна (я снова встречался с ней) утверждала, что женщина была. Тамара Михайловна сообщила мне, что адресованный ей меморандум она сожгла, ибо «ни к чему хранить эту мерзость», хоть и была «эта мерзость» правдой чистейшей воды. Тамара Михайловна с давних пор имеет обыкновение гулять по вечерам в городском парке. Год назад во время одной из таких прогулок она сама видела бывшего зятя с «той женщиной». Тамара Михайловна могла, впрочем, и заблуждаться, и просто лгать. Мог лгать и Наумов. Но как бы там ни обстояло с анонимками, вопрос о том, была ли связь у Наумова с Вероникой Семеновной или не было ее, представлялся стержневым. Если женщина была, то скандал в семействе Казаковых истолковывался однозначно, а все, что из него вытекало, превращалось в рядовую житейскую историю. Если женщины не было, если анонимки являлись чьей-то выдумкой, а слова Тамары Михайловны о том, что она сама видела, — ложью, то это означало, что истинная причина разрыва Наумова с Лирой Федоровной лежала совсем не в том месте, на которое указывали нам заинтересованные лица.

Я склонялся ко второму предположению. Не потому, что Наумов был мне симпатичен. И не потому, что испытываю инстинктивное недоверие к анонимкам. В последние дни я стал снова задумываться над словами шофера такси, который в то давнее воскресенье привез пьяного Астахова домой. «Не то он со старушкой пил, не то старушку хоронил»… Хоронил… И эти два «не то». Не разобрался водитель в пьяной болтовне, пропустил слова Астахова мимо ушей, не вник в смысл. Ну что же, Зыкин. Кони встали, что же дальше? Хоронил… Не Тамару ли Михайловну «хоронил» Астахов? Не справлял ли он в то воскресенье тризну над разверстой могилой, в которую сам угодил ненароком? А копать ямку начал Наумов. А может, и не он даже, может, старичок Бакуев первым схватился за лопатку. «Сход. к К.». Вот тебе и «сход.»… Сходил да и помер Бакуев. В одночасье. От радости, говорят… Бакуев помер, Наумов сделался нежелательной персоной в семействе Казаковых, Астахов газом отравился. И плюс ко всему Витя Лютиков. Остановись, Зыкин, нет дальше дороги, некуда твоей упряжке бежать. Да, помнишь, Петя Саватеев говорил тебе как-то, что и «сам Казаков свободно мог»… Мог… И телеграмму Лире он мог послать… Зачем только ему понадобилось текст на чужой машинке печатать? Дома у Казаковых своя машинка стоит: Тамара Михайловна из нее малую добавку к пенсии выколачивает. Свою ведь подпись на бланке ставишь. Зачем же к дяде бежать?
Наумов наклонил красный стеклянный кувшин над стаканом. То ли рука у него дрожала, то ли движение было резким, не знаю, но вода выплеснулась на стол и растеклась лужицей в угрожающей близости к рукописи. Доцент отодвинул бумаги на край стола, выпил воду, вернул стакан на поднос и сердито уставился на меня. — Гнусный фарс, — пробормотал он. — Какая женщина? Сегодня вы женщину придумали, а завтра станете обвинять меня в убийстве… — До этого не дойдет, Василий Петрович, — сказал я. — Тут у вас стальное алиби… — Вот именно, — хмуро произнес доцент. — Алиби у меня стальное. Это, знаете ли, как-то утешает… Он нехорошо усмехнулся. — Да, — продолжал я. — Такие вот пироги, Василий Петрович. Алиби у вас несомненное. Но хоть круть-верть, хоть верть-круть, а дыма без огня, как утверждает ваша бывшая теща, не бывает. Как это ни парадоксально звучит, но к убийству вы имеете некоторое отношение. — Я отказываюсь понимать вас… — Есть такая штука, — сказал я, — которая называется тайной следствия. Поэтому я не могу сообщить вам тех сведений, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Скажу только: вопрос о том, была ли у вас женщина, я не с потолка снял. Вы по-прежнему отвечаете на него отрицательно? — Безусловно, — хмыкнул доцент. — А вы хотели бы услышать положительный ответ? — В этом случае, — сказал я, — некоторые факты получили бы объяснение, а поступки — мотивировки, которые можно было бы счесть убедительными. Отрицая женщину, вы автоматически разрушаете показания свидетелей и одновременно превращаете себя в персонаж, крайне занимательный для следствия. — Не понимаю. Я не стал углубляться в детали. Дознание — процесс активный, двусторонний; так сказать, с обратной связью. Наши поступки и наши слова, когда мы ведем дознание, вызывают сплошь и рядом ответные действия. Намекни я на анонимки — Наумову, чего доброго, захотелось бы поговорить с женой и тещей, а это в мои расчеты не входило. Поэтому я оставил вопрос открытым, а серую папку протянул доценту. — Во-первых, проверьте, все ли тут на месте… — А во-вторых? — спросил он, кладя папку на стол. — Вы говорили, — сказал я, — что неприятности в семье начались вскоре после того, как вы вновь вернулись к дневниковой записи Бакуева: «Сход. к К. Акт. театра. Год рожд. дев. пятый». Он кивнул. — Но ведь «после этого» еще не значит «вследствие этого». Для Казаковых не было новостью ваше толкование текста. С этой записи, собственно, и началось ваше знакомство с семейством. Так? — Так, — сказал доцент. — Девять лет вы жили в семье, девять лет занимались этой историей с княгиней, и все тихо-мирно. Никому не было дела до вашего хобби. Что же случилось? — Точки, — пробормотал доцент. — Меня стали смущать точки. — Какие точки? — Запись состоит из трех предложений. «Сход. к К.» — «Акт. театра». — «Год рожд. дев. пятый». Два последних как бы дополняют первое. Получается, что К. — это актер театра девятьсот пятого года рождения. Все ясно и довольно недвусмысленно. Правильно? — Да. Но К. могла быть и женщиной?.. — Это не важно, — сказал доцент. — Я задал вопрос: зачем нужна столь подробная расшифровка? Бакуев делал запись для себя. Когда вы, допустим, собираетесь кого-нибудь навестить и делаете пометку в блокноте, вы пишете: «Сход. к К.» — и этим ограничитесь. Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову дополнять подобную запись анкетными данными, если в этом нет настоятельной необходимости. Таковой у Бакуева, по-видимому, не было, поскольку К. только для нас с вами К., а для Бакуева за этой буквой стояло вполне конкретное лицо, известное ему лицо, фамилию которого он не опасался забыть. В противном случае он не поленился бы записать ее полностью. Конечно, Бакуев был весьма оригинальным мыслителем, и это нельзя сбрасывать со счетов. Но все-таки… Может быть, в этих трех предложениях содержится больше информации, чем представляется на первый взгляд? — Например… — Можно допустить, что речь идет не об одном человеке. Возможно, Бакуев намеревался сходить к какому-то известному ему К., чтобы поговорить с ним об актере театра, о котором Бакуеву было неизвестно ничего, кроме года рождения. — Вы с кем-нибудь обсуждали эту мысль? — Как вам сказать? Во всяком случае, тайны я из нее не делал. Но… — Да. — Видите ли, в чем тут дело. Такое толкование текста сразу лишало поиск смысла. К. мог оказаться кем угодно, он мог вообще не иметь никакого отношения к театру. А актеров и актрис девятьсот пятого года рождения было столько… Наумов махнул рукой, не докончив фразы. — Сколько же было актеров и актрис? Он усмехнулся. — Только в пятьдесят седьмом году в труппе насчитывалось около двадцати человек девятьсот пятого года рождения. А если к ним приплюсовать тех, которые работали раньше, то… Словом, затея выглядела бессмысленной. Ведь даже из тех двадцати в городе на сегодня осталось только несколько человек. Кроме того, я не имел понятия, о чем с ними говорить, что спрашивать. Это было ведомо Бакуеву. — А вы не пытались подойти к проблеме с другой стороны? Скажем, от того же Бакуева, от его связей и знакомств? — Я подумывал об этом. Но начались нелады в семье… Впрочем, он не только подумывал, он кое-что делал. Поскольку доцент считал, что портрет княгини имеет какое-то отношение к К., а до К. ему добраться не удалось, то он обратился к биографии Бакуева. Жизнь старика предстала перед Наумовым длинной цепью из географических названий и профессий. Кем он только не был — телеграфистом и парикмахером, счетоводом и экспедитором, почтальоном и электромонтером… Я насторожился, когда Наумов упомянул, что Бакуев два года работал администратором театра. Доцент назвал соседний город и годы: с тридцать девятого по сорок первый. В сорок первом Бакуев ушел на фронт. Демобилизовался он в сорок пятом по ранению: осколок мины угодил в предплечье. Подлечившись в госпитале, Бакуев получил белый билет и отправился в Заозерск. И сразу попросился в музей. Из музея удобнее было идти к цели. Запросы на музейных бланках выглядят убедительнее писем частного лица. Это было понятно. Но Наумов считал, что Бакуева привели в Заозерск письма княгини к некой московской Натали, письма, которые Бакуев будто бы где-то раздобыл. А из содержания этих писем вовсе не вытекало, что княгиня имела в виду коллекцию. Что-то еще было известно Бакуеву, что-то такое, о чем он при всей своей общительности умалчивал. Бакуева не спросишь. В серой папочке на этот счет тоже никаких указаний не имелось. Не имелось в ней указаний и на того таинственного «А. В.», который, по мнению Наумова, был связан какими-то узами с княгиней и который совсем не занимал Бакуева. Зато Бакуев живо интересовался актером или актрисой девятьсот пятого года рождения. Театр — музей — театр… — А не был ли Бакуев знаком с Казаковым? Сам Казаков это отрицает, но… — Вы хотите сказать, что он еще до войны?.. — спросил доцент. — Бывал в Заозерске, — сказал я. — И что-то слышал о княгине? — О коллекции, — поправил я. — Бакуев ведь искал коллекцию. Доцент вздохнул, потер ладонью лоб и пожаловался: — У меня в голове все перепуталось. Надо подумать. Я предоставил ему эту возможность. Мне тоже следовало подумать, ибо в моей голове путаницы было не меньше.
— Принес что-нибудь, Зыкин? Лаврухин положил фото Лиры Федоровны на стол и посмотрел на меня отсутствующим взглядом. — От Наумова ничего, — сказал я. — А оттуда вот. Я вынул из портфеля голубовато-желтую бумагу и протянул листок Лаврухину. Словечком «оттуда» я заменил название учреждения, которое навестил после разговора с Наумовым. Оно начиналось со слов «бюро инвентаризации жилого фонда», а чем кончалось, я не запомнил. У меня идиосинкразия к длинным названиям. Бумага именовалась «купчей крепостью», и в ней содержались сведения о человеке, на поиски которого Наумов потратил свои молодые годы. Для доцента этот документ представил бы несомненный интерес. Но прежде чем показывать купчую Наумову, нужно было оценить ее значение для следствия. В купчей сообщалось, что: «Лета 1898, январь, в третий день, коллежский секретарь Алексей Аркадьев сын Васильев продал с. — петербургскому мещанину Петру Ферапонтову сыну Филиппову дом свой в Заозерске, в Песчаной слободе, близь ручья; каменный, одноэтажный с принадлежностями, как-то: кухнею, двумя кладовыми, двумя сараями и двумя летним и зимним погребами и двором; мерою под тем его двором земли длиннику двенадцать сажен, поперечнику шесть сажен; в межах оный двор, идучи во двор, на правую сторону двор штабс-капитана Ивана Петрова сына Пестрикова, а по левую руку двор седельного мастера Семена Голованова; и взял он, Алексей Васильев, у него, Петра Филиппова, за тот свой дом денег двести рублей. К той купчей, вместо его, продавца, по его прошению, губернский регистратор Данила Андреев сын Моисеев и свидетели: подканцеляристы Федор Григорьев сын Быков, Николай Семенов сын Смагин, копиист Ми-хайла Абакумов сын Мефодьев, руку приложили». Если же учесть, что следствие к этому времени уже располагало данными о том, что таинственный «А. В.» имел отношение к Песчаной улице (ведь не просто так, по наитию, я пошел в это самое бюро инвентаризации жилого фонда), если учесть, что мы уже знали, где искать его следы, то догадаться, что коллежский секретарь Алексей Аркадьевич Васильев был не кем иным, как тем самым загадочным «А. В.», не составляло труда. Конечно, им мог оказаться и его папа, потому что инициалы указывали как на того, так и на другого. Но, как бы там ни было, «А. В.» превращался из анонима в конкретное лицо. На эти инициалы, если вдуматься, намекал и дукинский овал с перечеркнутой восьмеркой. Рисунок Дукина напоминал попытку ребенка изобразить льва, которого он видел в зоопарке. Грива и хвост с кисточкой — вот что запомнилось ребенку. Эти детали он и выделил на своем рисунке. Лев не получился. Но признаки зверя угадывались. Нечто в этом роде представлял и рисунок Дукина. Буква «В» выглядела как восьмерка, а буква «А» превратилась в две вертикальные линии. На овальной жестянке буквы сплетались в вензель. Его и разглядывал Астахов. Разглядывал и словно в чем-то сомневался. Сомневался… И не потому ли позднее Астахов потерял интерес и к Дукину и к дому, в котором он жил. И к раме для картины. Рама эта была наскоро придуманным предлогом для знакомства. Не более. Три раза Астахов побывал у Дукина, а потом словно забыл и о нем и о раме. — Так, — сказал Лаврухин, изучив купчую. — Так. А коллежский секретарь — это что? Должность или чин? Ты интересовался? Я интересовался, поэтому вопрос не застал меня врасплох. — Чин, — сказал я. — Десятый класс, на единицу ниже титулярного советника. Лаврухин отложил купчую и пробормотал: — Он был титулярный советник, она — генеральская дочь. Возможна такая ситуация? — Описывалась классиками, — подтвердил я. Только… — Что только? Я продолжил цитату, изложив существо дела своими словами. — Ну а если не прогнала? — спросил Лаврухин. — Какие тут возникают варианты? — Самые разные. От преступления и до… Медицина тогда, кажется, еще не все могла… — В этом смысле да. Но ведь чушь все это, Зыкин, если подумать. Годы прошли, десятки лет. Если и было «ничье дитя», так и оно давно в могиле. Не та подоплека у дела, не та… — У «ничейного дитяти» тоже дети могли быть, — сказал я. — А где они? — хмыкнул Лаврухин. — Генеалогия всех фигурантов — вот она. — Он похлопал рукой по стопке папок. — До третьего колена. — Живых, — сказал я. — И мертвых тоже. Не всех, конечно. Но… А ты о ком думаешь? — У Бакуева занятная биография, — сказал я. — И заварушка с коллекцией с него началась. — Не было у Бакуева ни детей, ни чертей, — проворчал Лаврухин. — Скажи лучше, что с купчей будем делать? Может, Наумову покажем? Он повертел в руках фото Лиры Федоровны, прислонил его к чернильнице, потом взялся за купчую. Свернул листок трубочкой, посмотрел сквозь нее на фотографию, затем разгладил ладонью бумагу и придавил к столешнице тяжелым мраморным пресс-папье. Я молча следил за его манипуляциями. Мне хотелось понять, что они означают, но понять было затруднительно, и я решил подождать объяснений. Наконец Лаврухин медленно произнес: — Расползается дельце-то, Зыкин. Не уходим ли мы с тобой от убийства? — Прокурор говорит? — спросил я. — Намекает. А у нас с тобой, Зыкин, не на все вопросы ответы есть. — Еще бы, — хмыкнул я. — Если бы они были… Лаврухин посмотрел на меня долгим взглядом, странно посмотрел, как на незнакомца. И сказал: — А вопрос такой, Зыкин. Не мешало бы нам узнать, где был Лютиков в тот последний вечер Астахова. Подумай: вопросик-то не простой.
Да, вопросик был что надо, ничего не скажешь. Вырастала из него целая версия. Логичная, стройная, потрясающая своей простотой и безжалостно отсекающая от дела все то, что до сих пор представлялось существенным и важным. Она была настолько проста, что не хотелось в нее верить. Где был Витя в тот далекий воскресный вечер? Не с Астаховым ли? Нет, он, конечно, не помогал Астахову покидать этот лучший из миров. Астахов ушел из него самостоятельно, на этот счет у нас не было сомнений. В дактилоскопию не верил Петя Саватеев. Но у него был сильно развит комплекс Шерлока Холмса, и ему очень нравились собственные умозаключения. У меня же был опыт, и я доверял заключениям экспертов. На ручках газовой плиты и на кофейнике, кроме астаховских, ничьих других отпечатков пальцев не было. Витя не убивал Астахова. Но пить с Астаховым в тот вечер он мог. Утром они позавтракали вместе, а вечером пили… Сообщники… Ох, как не хотелось мне верить в эту версию, в такую простую и такую чудовищную, если подумать. Если подумать о Вале Цыбиной, девушке с голубыми глазами и с фигуркой гимнастки, интеллигентной, умненькой Вале Цыбиной, которая так хорошо рассказывает сказки о принцах и золушках, которая рассуждает о «радуге мира» и которая повесила над своей кроватью картину… Картину, о которой мне не хотелось думать. Сообщники… Трест кладоискателей, распавшийся со смертью Астахова. Или чуть раньше. Лира-то раньше уехала. А трое остались. И что-то произошло между пятницей и воскресеньем. Альбом? Альбом-ключ… Они заполучили ключ… И вдруг глупейшая смерть Астахова. В его квартире — милиция… Если подумать… Если вспомнить нашу первую встречу с Валей на квартире Астахова, ее невнятные объяснения тогда и потом, когда мы сидели с ней на скамейке над озером. Какое-то письмо, которое будто бы понадобилось Астахову… Все ложь… Все было не так. В понедельник, незадолго до трех, Витя и Валя пришли к Астахову. Во дворе еще толпились любопытные. Услышав, что Астахов умер, Валя отправила Витю на почту, а сама вошла в дом, чтобы узнать… Телеграмму Витя отстукал на машинке и подписал чужой фамилией. Для подстраховки, на всякий случай… А во вторник к Вите пришел я. Валя спряталась за дверью… Хлюпик Витя начал болтать… Но Валя-то вылеплена из другого теста… Если подумать… А потом она выдумала звонок из милиции. Ей хотелось определиться, узнать, как мы относимся к альбому, который она унесла из мастерской… Время? Может быть, ей повезло — попалось такси… И за мной следила она… Зачем только? Скорее всего мне просто померещилась слежка. Ведь потом не было прецедентов… Стройная схема вырисовывалась, четкая, как чертеж. Только вот Лира никак не укладывалась в нее. Ни в эту схему, ни в другие. Недаром Лаврухин глаз не спускал с фотографии этой женщины. А версия? Что ж, версия требовала разработки. Я открыл дверь, пропустил Лиру Федоровну вперед, и мы вошли в квартиру, где все дышало нежилью и запустением. Пахло пылью. Пыль лежала на полу, на столе, на приземистом буфете, на стульях. Женщина зябко передернула плечами и быстро прошла через комнату к окну. Я заглянул в кухню: там все было так, как и много дней назад. Плита была закрыта газетой, на маленьком столике валялся заплесневевший кусок хлеба. Лира Федоровна отвернулась от окна и сказала: — Вам не следовало этого делать. Господи, зачем я согласилась прийти сюда… Голос ее дрожал, а в синих глазах… Нет, не знаю, что я увидел в синих глазах… Только не слезы. Но мерзость запустения подействовала на женщину. — Это вызвано необходимостью, — сказал я. — Здесь, как вы видите, все оставлено так, как было. Вещи на прежних местах, ничто не потревожено, ничто не унесено, кроме нескольких предметов, которые были нужны следствию. Посмотрите внимательно: нет ли в квартире чего-нибудь такого, чего, скажем, не было тогда, когда вы уезжали. Не появились ли тут новые вещи, не исчезло ли что-нибудь. Привел-то я ее сюда с другой целью, но знать ей это было необязательно. Мне нужно было порасспросить Лиру Федоровну кое о чем, и сделать это лучше всего было здесь, в астаховской квартире. — Пыль, — сказала она. — Мне теперь будет сниться эта пыль… — Он сам убирал квартиру? — спросил я. — Он ничего не умел… Ничего такого… — Кто же мыл полы? Вы? — Я. — А до вас? — Он платил какой-то женщине из соседнего подъезда. Я не знаю ее… — Осмотрите, пожалуйста, все… Загляните в шкаф… Она нерешительно потянула дверцу, а я задумался о женщине из соседнего подъезда… Вот ведь как… Надо было увидеть пыль, чтобы додуматься до вопросов, которые никому из нас в свое время не пришли в голову. Пыль… Пыль… И он не умел ничего такого… Но ты-то, Зыкин, подкован на этот счет… Ты знаешь, что пыль копится быстро. А Лира Федоровна ушла от Астахова за неделю до отъезда в Крым… Пыль… Пыли не было в квартире, когда ты, Зыкин, впервые вошел в нее… Так, еще одна недоработка… Женщина из соседнего подъезда. Лира Федоровна закрыла шкаф. — Я хочу уйти, — сказала она. — Неужели вы не понимаете… — Мы еще не закончили осмотр. — Но это же ужасно… — Ужасы остались позади, — заметил я флегматично. — Вы не оставили намерения уехать из Заозерска? В синих глазах мелькнуло удивление. — Нет. — Давайте присядем на минутку, — предложил я, смахнув пыль со стульев астаховским пиджаком. — Вы и сейчас уверены, что ваш муж поступил… Ну, скажем, некрасиво… — Не знаю, — сказала она, оправляя платье на коленях. — Поздно об этом говорить. — Мы нашли то, что искал ваш муж… — А что он искал? — спросила она равнодушно. — Клад? — Нет. Клад искали другие. Вот он, например. Я кивнул на кровать. Она не повернула головы, не изменилась в лице. Казалось, эта тема ее вовсе не занимала. Но Вале она об этом разговоре расскажет. И вот тогда-то может что-нибудь произойти… — У вас нет желания встретиться с мужем? — Нет. — Мне кажется, что вы никогда не придавали серьезного значения анонимкам. — Это упрек? — Нет, вопрос. Почему вы не захотели объясниться с мужем? — Можно мне не отвечать? — Как хотите, — сказал я, подумав, что вот сейчас можно неназойливо, как бы между прочим сообщить Лире Федоровне, что следствие близится к концу, только обстоятельства сложились так, что… В прошлом году, например, нам пришлось закрыть дело потому, что преступник погиб под машиной в тот день, когда его собирались арестовать. Преступление замкнулось, так сказать, само на себя, и судить стало практически некого. Я намеревался рассказать еще о некоторых любопытных случаях, а потом туманно, как бы невзначай, не сообщая ничего конкретного, намекнуть Лире на нечто, намекнуть так, чтобы она могла сделать определенные выводы. Короче говоря, я собирался дать понять Лире, что и она и Валя вне подозрений… А потом… Потом посмотреть, как они поведут себя. Но момент наступил, а я им не воспользовался. В голосе Лиры Федоровны я уловил какие-то новые нотки… Словно на миг что-то приоткрылось передо мной. И это «что-то» заставило меня забыть о прежних намерениях. Надо было срочно проверить то, что возникло в ощущении, а потом оформилось в четкую мысль. — Как хотите, — повторил я. — Если вам трудно… — Муж не пожелал объясниться. Я расценила его молчание как признание вины. — Это понятно. Но сначала были анонимки… — К чему сейчас сотрясать воздух. Анонимщик не достиг цели. Она думала о Сикорском. Или предлагала мне подумать о нем. Но если бы автором писем был Сикорский, то после отъезда Наумова он должен был, так сказать, активизироваться. Этого не произошло. Директор музея не предпринимал попыток к сближению ни до разрыва Лиры с мужем, ни после. Не было смысла ему затевать этот спектакль. — Может быть, цель и была в том, чтобы поссорить вас с мужем? — Это глупо, — рассердилась она. — То, что вы говорите, — глупо… — Почему? — Просто глупо — и все. Это было уже нечто. Нет, это было совсем не глупо — то, что я говорил и о чем она думала. Думала сейчас и думала тогда… Если бы она об этом не думала, она не сказала бы, что это глупо. — Ваша мать, — поинтересовался я, — она одобряла ваш брак с Наумовым? Синие глаза широко распахнулись. — Вот как, — протянула она изумленно. — Одобряла или нет? — Я… Нет… Я не понимаю. — А мне думается, что вы знали это всегда… — Что я знала? Я поднялся со стула и стал разглядывать часы, висящие на стене. Часы были старинные, в черном футляре и с латунным маятником. Маятник не качался, стрелки показывали четверть двенадцатого. Я открыл застекленную дверцу и качнул маятник. Уголком глаза я следил за Лирой Федоровной. Она с минуту сидела неподвижно, затем встала и подошла к зеркалу. Поправила волосы, помедлила и сказала не то мне, не то своему отражению: — Неужели я знала это всегда? — Разве не так? — спросил я. — Нет, — сказала она, продолжая смотреть в зеркало. — Нет, конечно. Как я могла знать то, чего не было… Она словно убеждала себя в чем-то. А я стоял перед часами и пытался сообразить, что к чему. Ну хорошо: Тамара Михайловна не одобряла брак дочери. А что же дальше? Лира… Все нам о ней известно, начиная от момента рождения и кончая сегодняшним днем. Все или почти все. И однако, чего-то не хватает. — Мать никогда не намекала вам, что зять ей неприятен? — Господи, какая чепуха, — вздохнула она. — Нет… Нет… И нет. А в моих ушах звенело: да, да, да… Но темны были эти «да», как лес ночью. Незнакомый лес. И чувствовал я, что вывести из этой чащобы меня Лира Федоровна не сможет. Даже если бы и захотела. Самому надо было искать дорогу.
И все же не зря мы немножко подышали пылью. Вспомнила Лира Федоровна один любопытный эпизод не эпизод, но что-то вроде. Разговор у нее с Астаховым занятный состоялся недели за три до отъезда в Крым. Сидели они в том самом стеклянном кафе «Космос», на Театральной площади. Веселый весенний дождь хлестал по стеклам, но настроение у Лиры было муторное. В ожидании официантки (кафе по вечерам переходило на ресторанный режим) Астахов о чем-то болтал. Лира не слушала его, делала из бумажной салфетки голубя и думала о своей неустроенной, какой-то неуютной жизни. Работа в музее не приносила удовлетворения, квартиры не было, а главное — не было цели. Что-то сломалось в ней после разрыва с мужем и ухода из семьи. Почувствовала она это не сразу. Сначала казалось, что все еще образуется, что кто-то подойдет к ней, возьмет за руку и выведет из тумана. Кандидатом в поводыри был Сикорский, но она испытывала к нему какое-то странное чувство, которое не могла объяснить себе. Оно не было антипатией. Может быть, она и пошла бы к нему, если бы он был порешительнее. Может быть… Однако он молчал, и она не могла понять почему. Он был мягок с ней, заботлив — и только. Шумный, веселый Астахов, появившись в музее, как-то сразу привлек к себе ее внимание. Через месяц она поняла, что ошиблась. Ей стало страшно. Ей было уже тридцать четыре. И в тридцать четыре у нее не было ни семьи, ни квартиры, ни любви. Красивая бездомная кошка — и все. Но красота преходяща, а жизнь может оказаться длинной — и это тоже было страшно. Сидя в кафе, она думала о том, что ей не везло всегда. Она не умела выбирать. Еще когда ездила в Москву сдавать экзамены в университет, в нее влюбился худенький смешной мальчик. Она презрела эту любовь. А незадолго до ее замужества мальчик прислал Лире фото дельфина и письмо, в котором рассказал, что работает на научно-исследовательском судне, что объездил весь земной шар и что он очень жалеет… Она порвала письмо, а фото смеющегося дельфина сохранила. «Себе назло», — призналась она мне. Однажды Лира рассказала об этом мальчике Астахову. Он выслушал рассказ равнодушно и, как ей показалось, забыл… Впрочем, это только она решила, что забыл. Потому что в кафе он неожиданно вспомнил тот давний разговор… Она сделала голубя, прикрепила к нему хвост и положила бумажную птицу возле вазочки. К столу подошла официантка, заученным движением вынула из кармашка передникаблокнотик, нацелилась в него карандашиком. Взгляд ее равнодушно скользнул поверх голов клиентов и уперся в плафон на потолке. Астахов притушил сигарету и заметил, что им не мешает выпить. «Под дождь», — пояснил он и поднял глаза на Лиру. «Давайте, граждане», — тусклым голосом поторопила официантка. «Сейчас дадим, — хмыкнул Астахов. — Лира, что для тебя?» — «Только коньяк», — сказала официантка. «Согласен, — кивнул Астахов. К нему лимон». — «Лимонов нет», — сообщила официантка. «Сбегай на угол, — посоветовал Астахов. — Там только что ящик открыли». Официантка совет игнорировала. Когда заказ был сделан, Астахов спросил Лиру: «Ты чего куксишься?» Она не ответила. Он засмеялся и спросил: «А что нам пишут из Бриндизи?» Она не поняла. И тогда Астахов напомнил ей о мальчике с дельфином. Она удивилась. Мальчик был в прошлом, и все дороги к нему были давно закрыты. Но Астахов не отставал. В течение вечера он несколько раз возвращался к этой теме и в конце концов выпытал у Лиры кое-какие подробности о мальчике, который только для нее, впрочем, оставался мальчиком, а на самом деле… Конечно, она ничего о нем теперь не знала… Все было много лет назад, и все быльем поросло… «Зачем это тебе?» — спросила она. «Да так, — сказал он. — Попытка ревности». Она сухо заметила, что он мог бы найти другой объект, ей хотелось позлить его, но он только посмеялся и сказал, что настоящий мужчина ревнует тогда, когда замечает, что женщина начинает оглядываться и сравнивать то, что было, с тем, что есть. Нынешний день его не волнует, сказал он. Как знать, возразила она, и на этом разговор кончился. В тот вечер она поняла, что никогда не любила его, что все было ложью, которую выдумала она сама. В тот вечер она увидела, что у него толстые губы и слишком большой рот, что смеется он как-то противно, что на виске у него бородавка, а пальцы чересчур коротки. Она видела это и раньше. В кафе она об этом ПОДУМАЛА.
Женщине из соседнего подъезда было лет пятьдесят. Звали ее Полиной Евстафьевной, а фамилия у нее была какая-то странная — Кандараки. Ее собственная фамилия, поскольку муж звался Федоровым Поликарпом Ивановичем. А обретался этот Поликарп Иванович где-то на Дальнем Востоке, не то сезонничал на путине, не то ворочал бревна на лесосплаве, я так и не понял — где он все-таки был. На стене висела увеличенная фотография молодого Поликарпа. Еще висел на стене ковер. И на полу лежал ковер. И два свернутых в трубки ковра высовывались из-под железной голубой кровати с никелированными шишечками. В прихожей на полу стояли сомкнутым строем трехлитровые банки с вареньем, а на них лежал еще один ковер, о который я споткнулся, когда входил в квартиру. Федоровы-Кандараки явно предпочитали ковры всему тому, что изобрело человечество для удовлетворения своих насущных бытовых потребностей. На столе, накрытом ковровой скатертью, стоял графин с розоватой жидкостью и стакан, от которого исходил аромат вишневой настойки. Сама Полина Евстафьевна была высокой женщиной и казалась худощавой, хотя худой ее назвать было нельзя. Угловатая она какая-то была. — Ты на меня не гляди, — сказала она, изучив мое удостоверение. — Чего на меня глядеть. Не краденая. Я, может, тоже Кольку жалею. Она присела к столу и скрестила руки на груди. — А кто еще его жалеет? — поинтересовался я. — Платил он хорошо, — сказала она. — При деньгах всегда был. Как же не пожалеть. Баба-то, поди, плачет. Я на своего тоже кидаюсь. А помрет ежели… Она поджала губы и прикоснулась к графину. Поймав мой взгляд, убрала руку и сердито сказала: — Ладно, чего уж там. Говори, зачем пришел? — Полы вы у него мыли? — Мыла. Подрядил меня он и во второй раз. Да вот… «По старой дружбе, — говорит, — Полина Евстафьевна…» Пришел, смеется… «Уехала, — говорит, — моя подруга. Так вы, — говорит, — Полина Евстафьевна, по старой дружбе…» Пятерку за раз выкидывал… — Когда приходил? — Да в пятницу… В аккурат с вокзала. Я сразу и пошла. Он на кровать с ногами завалился, альбом какой-то чудной листал. А я с ведром, значит. Грязи было… Она принялась рассуждать о том, что Кольку она уважала, ибо платил Колька не в пример нынешним, а вот позвали ее как-то окна мыть к инженеру, который напротив, так она и не пошла, потому что какой интерес к нему идти за два рубля… У нее муж есть, вот приедет скоро уж, а при живом муже вроде и грех за два рубля руки обдирать. Колька — дело другое. Колька пятерку за визит клал и еще конфеты дарил, пока подруги не было. Потом она все в свои руки забрала: и поломытье, и приборочки, рыжая бабенка-то, а рыжие, известное дело, все жадные. Полина Евстафьевна вообще судила о людях только с одной-единственной точки зрения, кто сколько дает за услуги. И в другое время я бы, наверное, проявил к этой женщине больше любопытства, потому что интересно было бы добраться до истоков ее психологии, потолковать о коврах и о бравом Поликарпе, которого, я ничуть не сомневался в этом, именно она загоняла каждый год на Дальний Восток на раздобычу монеты, хотя для чего ей эта монета была нужна, сама она, вероятно, толком не знала. Она жалела мужа, скучала в его отсутствие, прикладывалась к графинчику с розовой жидкостью, но наступала весна, и муж вновь отправлялся на заработки. Словно в Заозерске не было места, где бы он мог работать. Детей у этой четы не было, заботиться было не о ком, кроме себя. Но и о себе Полина Евстафьевна не умела заботиться — заслонила ей белый свет серая сберкнижечка, да вот ковры еще. Хобби. Да, в другое время было бы любопытно все это понять. Но выплыл передо мной альбом с пастушком на обложке, и отошла на второй план Полина Евстафьевна с коврами и розовой жидкостью… Альбом… Не ошибся, выходит, я тогда. Перекочевал альбом от Астахова к Лютикову… В пятницу листал его Астахов, пока Полина Евстафьевна полы мыла. Листал, карточками любовался. И еще сказала женщина из соседнего подъезда, что смеялся чему-то Астахов, когда листал. Ногой даже дрыгал от удовольствия. Полина Евстафьевна не утерпела, заглянула через плечо, но смешного ничего не увидела. Домики были на карточках, не современные, не такие, как теперь строят… Хозяйские домики, нашла словечко Полина Евстафьевна… Хозяйские, о три окна. Потом, когда она с полами закончила и тряпки в ванной повесила, Колька «спасибо» ей сказал, гонорар вручил только что не в конвертике и рюмочку налил. И опять «спасибо» сказал, над своей подругой посмеялся. Она, сказал, на это дело по два часа тратит и сильно мучается. А выпил рюмку и о жизни высказался. Бывают, сказал, в жизни злые шутки, а бывают и приятные. Бывает, сказал, что далеко ищешь, а оно близко лежит. Да вот не знаешь, что оно рядом, и ходишь как дурак вокруг торбы. Ее развязать надо, а ты дыру высматриваешь. — Так и сказал? — спросил я. — Может, чуток и не так. А тебе зачем это знать? — Много мне нужно знать, Полина Евстафьевна, — сказал я, глядя в ее черные блестящие глаза и думая о том, что фамилия ее странная — Канда-раки — с буквы «К» начинается. — Что же, в альбоме только дома и были? — Этого не скажу… — Вы сами-то, Полина Евстафьевна, откуда родом? — Заозерская я, тутошняя. А чего тебе? — Фамилия у вас вроде греческая. — Может, и греческая. Дед мой, сказывали, заморского урождения. А отец тутошний. Кандараки. Сколько лет ей было в пятьдесят седьмом? Тридцать? А Бакуеву? Под шестьдесят подкатывало. Когда я у него в «друзьях музея» числился, было ему около пятидесяти. Подержанным человечком он тогда выглядел, а может, мне это казалось только — для мальчишки ведь и тридцать лет — старость. Впрочем, зачем мне эти сведения? Надо на Кандараки не через время смотреть, а через пространство. Но это, кажется, уже смешным становится. Во всяком случае, скажи я Пете Саватееву о своих теперешних мыслях, он наверняка будет хохотать да, пожалуй, посоветует: «Поинтересуйся у жены, Зыкин, не к ее ли папе Бакуев «сход.» собирался». Ведь у моей жены девичья фамилия тоже на К — Колесова. Но почему эта Полина Евстафьевна из поля зрения следствия выпала? Тоже глупый вопрос, Зыкин. Не тот вопрос. А почему Валя Цыбина в это поле попала? Потому что к Астахову пришла? Да нет, не в понедельник, так во вторник мы проявили бы к Вале вполне законный интерес. Пространственные связи… Ну что ж, Зыкин. Попробуй поискать на дорожках, которые, возможно, когда-то и пересекались. Начни с Кандараки, хоть, может, и смешно это. — Ужин подогревать? В проеме кухонной двери мелькает красно-желтый халат моей жены. — Валяй, — говорю я. Часы показывают девять. Наумов сегодня вряд ли позвонит — поздно. Мы подключили его к делу. Впрочем, точнее, он сам подключился, как только ознакомился с купчей. Он так ей обрадовался, так долго тряс мне руку и все удивлялся, как это мне удалось… Доценту казалось, что мы уж очень легко, вроде играючи, вытащили на свет того самого Аркадьева сына. Он пожелал самолично взглянуть на дукинское обиталище, но я сказал ему «тссс». Тогда Наумов бросился к телефону и вызвонил из Караганды неделю отпуска за свой счет. Другую неделю выделили ему мы. В конце концов он все-таки был необходим следствию. Сейчас Наумов рылся в архивных недрах города Заозерска. Одновременно были сделаны запросы и в другие города. Договорились, что об успехах или неудачах доцент будет сообщать мне по вечерам. Но, видимо, он решил о неудачах не сообщать, поскольку звонков не было, хотя со времени начала операции под кодом «А. В.» прошло уже три дня. В кухне гремят кастрюли, шумно льется вода из крана. Я закрываю блокнот с вопросами, на которые пока нет ответов, и иду ужинать. Мы тоже не сильно преуспели за эти три дня. Была женщина из соседнего подъезда, был разговор с Лирой Федоровной — вот, пожалуй, и все. На сковородке шипит мясо, под чайником бьется голубой венчик пламени. Жена режет хлеб и косится на меня. — Мясо из супа. Ты не возражаешь? Возражать бесполезно: все равно ничего другого не будет. Мясо из супа — это маленькая семейная тайна. Кто-то когда-то сказал, что в каждой семье есть тайны. Наша семья не составляет исключения, но тайны нашей семьи мне известны. Последний разговор с Лирой Федоровной окончательно убедил меня, что есть тайна и у семейства Казаковых. Тайна, о которой даже Лира не имеет представления. Но как проникнуть в эту тайну, мне неведомо. Мясо из супа не подают посторонним людям. Мясо из супа хозяева едят сами. — Ты похож на сомнамбулу. Скоро будешь натыкаться на мебель. — Возможно… — Где ты пропадаешь целыми днями? У моей подруги жизни начались каникулы. Ей скучно. — Постигаю женскую психологию, — говорю я уклончиво. — Разве убийца, которого вы ловите, — женщина? Подгорелые кусочки супового мяса хрустят на зубах. Жена не успела с ужином, потому что стирала… Может быть, убийца и женщина, думаю я. А может, и нет. В сущности-то, это нам неизвестно, хоть и есть версия, в которую укладываются многие факты. Но версии лукавы. «Как грабли, — заметил как-то Лаврухин. — Держишь в руках — инструмент. Попадут под ноги — береги лоб». — Не знаем мы убийцу… — А за что его убили, этого мальчика? Есть более занятный вопрос: чем его убили? В заключении экспертизы речь идет о «твердом, по-видимому, эластичном предмете, с неярко выраженной ребристой поверхностью, наподобие гофрировки». Чудной, наверное, предмет, если он попал на квартиру к Лютиковым вместе с альбомом. Лютиковы по-прежнему утверждают, что из дома не пропало ничего. Конечно, эту ребристую штуковину мог принести убийца… Конечно… Дорого бы я дал, чтобы узнать об этом предмете хоть что-нибудь… — Мальчик был плохо воспитан. Между прочим, он числился выпускником твоей школы. — Ну так что? — Ничего. Констатация факта. Он мог учиться и в другой. — Что ты хочешь этим сказать? — То, что ему начали переплачивать еще в школе. Вы ведь боретесь за стопроцентную успеваемость. И случается, даете человеку больше, чем он на самом деле заслужил. Жизнь в конце концов ставит все на свои места, отбирает неотработанные авансы. А это очень болезненный процесс. Тяжело расставаться с иллюзиями. У человека возникают конфликты с обществом. — Но за что? Ну а за что? Мне это в принципе понятно, хотя вопрос поставлен и не совсем точно. Витю убили потому, что я пришел к нему не вовремя. И все… Заявись я на час позднее, он скорее всего остался бы жив. Как потом стала бы складываться его жизнь, неизвестно. Плохо, вероятно, стала бы складываться, поскольку мальчик по уши завяз в долгах у этой самой жизни. Но убийства не произошло бы. Помешал я. Мне захотелось полистать альбом, и все полетело кувырком. В общем, убили его из-за меня. Это неприятно сознавать, и говорить об этом своей подруге жизни я не намерен. Поэтому я наскоро допиваю чай и молча ухожу из кухни. Жена бросает на меня недоумевающий взгляд. Но уж лучше казаться чуть-чуть странным, нежели признаваться в том, о чем даже думать не хочется.
Часть шестая
— Помнится, эта фамилия уже фигурировала… На листке, вырванном из блокнота, три фамилии. Лаврухин, конечно, имеет в виду первую. Кроме фамилий, там есть даты. Они пока Лаврухина не занимают, но всему свое время. В целом же листок представляет собой краткую справку-записку, которую сочинил я. «Домовладельцы: с 1897 по 1940 — Каронины, с 1940 по 1954 — Зайцевы, с 1954 — Лютиковы». Эти сведения я получил в бюро инвентаризации жилого фонда. И пошел я туда опять не только потому, что нас серьезно заинтересовали показания женщины из соседнего подъезда. А именно та их часть, где речь шла о «хозяйских домиках», разглядывая изображения которых в альбоме, Астахов сильно веселился. К этому добавилось еще кое-что. И весьма существенное.Три фамилии. Между первой и третьей пространственная связь: Каронины и Лютиковы жили в разное время в одном доме. — Что мы знаем о Карониной? — спросил Лаврухин, выбрасывая из шкафа на стол нужную папку. — Так… Каронина Мария Дмитриевна. Родилась в 1883, умерла в 1975 году. Жила в Заозерске. Портниха. С 1934 по 1954 работала костюмершей в театре. Все? — На благотворительных балах танцевала, призы мельхиоровые брала, дочь приемную имела. — Еще? — Во время войны театр не функционировал, — уточнил я. — Был перерыв в стаже. — Весьма, — буркнул Лаврухин. — Можно бы и побольше знать. — Побольше мы узнали сегодня, — заметил я. — Да-а, — протянул Лаврухин. — Знал бы где упасть… — Пытался, — сказал я. — Месяц назад беседовал с племянницей, кое с кем из театра. Говорили, что старушка давно головой страдала. — Кто говорил? — Племянница. Суровая женщина. Доверяет только Богу. — А в театре? — Двадцать лет, как она оттуда ушла. И думать о ней забыли… — Казаковы ее должны помнить, — задумчиво произнес Лаврухин. — Вероятно. Лаврухин почесал затылок и засмеялся. — Вот ведь чудасия, Зыкин. Вроде есть какие-то связи, а вроде и нет. — А вдруг она та самая К.? — И что же? — Она умерла за три дня до пятницы. А в пятницу ее хоронили. И Астахов какую-то старушку поминал. Альбом тоже вот… — Ты это про что? — Про дом… Старый дом, мало ли… — В доме, дорогой мой, эксперты трудились. Мы там облазили все — от погребов до чердака и сараев. Семьдесят семь лет домику-то. Ремонтировали его не однажды, наверное. Если и есть тайник, так сделан он капитально. Понимаешь? Я понимал. Если бы альбом был извлечен из тайника, находящегося в доме, из тайника, капитально оборудованного, то должны были остаться следы вскрытия. И они-то уж не прошли бы мимо внимания экспертов, которые искали орудие убийства, тот самый предмет с неярко выраженной ребристой поверхностью. Не было, по-видимому, тайника в доме Лютиковых, как не было его и в доме Дукина. Да… Есть связи или нет их?.. И что за характер у этих связей? И какой тайник тебе мерещится, Зыкин? Что за надобность — прятать альбом в тайник? Странно все это, очень странно. Потому что прятали все-таки где-то этот альбом… Прятали. И людей убивали.
Иконостас у племянницы Карониной шикарный. Я еще прошлый раз его заметил. И антикварную скатерть на круглом столе, и лампу десятилинейную с розовым тюльпаном-абажуром, не лампу, а прямо радость неизбывную для какого-нибудь нынешнего собирателя старины, украшающего свой быт такими вот штучками, любящего поиграть на контрастах и поболтать о том, что уходит в небытие исконное… — Нефедова Анна Филипповна? Острый, цепкий взгляд из-под густых бровей. Лицо, как топор, узкое, только что не из стали, но твердостью выражения напоминающее металл. Суровая женщина. На вид лет пятьдесят пять, по паспорту на два года больше. Руки лежат на столе, спокойные, уверенные руки с набухшими венами. — Да, я. — Каронина Мария Дмитриевна приходилась вам?.. — Теткой. — По какой линии? — По материнской. Матери моей сестра старшая. — Каронина — ее девичья фамилия? — Ее… — А по мужу? — Не было мужа. Полюбовников не знаю. — Были полюбовники? — У кого их нет… Что раньше, что теперь. А что надо-то? Если бы я знал, что мне надо… Но что-то ведь надо, Зыкин? — Почему она продала свой дом в сороковом году? — Эка что вспомнили. Я тогда только замуж вышла, а ей, поди, за полвека перевалило. Какая такая причина была?.. Умом она поврежденная… — А к вам она когда переехала? — Да после войны. Мой с фронта не пришел. Я и сказала: чем по людям шататься, переходи ко мне. От Бога чтобы не было стыдно. Она и перешла. Картинки навесила, призы свои понаставила. — Какие картинки? — спросил я, потому что про призы мне было уже известно. Призы Каронина завоевывала на балах во времена оны. — Карточки… Брат у нее двоюродный был, погиб где-то в Азии. Любила она его. Потом девка не девка, барышня скорее… Из благородных. Эта в красках была. Сама-то тетка Маша тоже из благородных. Так, может, подруга какая… — Сохранились карточки? — Где там. Говорю, поврежденная была. Взяла и спалила все. — Когда? — Давно. Годов двадцать, поди. Я ведь до нее не касалась. Ход у нее свой был. Перед смертью все письмо писала, это знаю. Видно, было на душе что-то. А может, от повреждения ума… Дочка у нее была приблудная. Снарядом убило. В театре работала. — Сколько лет было дочке? — Году в пятом, что ли, родилась… — А фамилия? — Ее и была фамилия. Тетки Машина. Каронина, значит. Пиши, Зыкин, вникай, отделяй плевелы от зерен, не спотыкайся на крутых поворотах. Сплетается из твоих вопросов и ответов суровой женщины некая причудливой вязки сеточка, в которую вот-вот что-то попадет. И вроде не так уж и сурова эта суровая женщина. И на вопросы отвечает точно, хоть и не любит распространенные предложения. Тары-бары не разводит. — Почему она сожгла фотографии? Боялась кого-нибудь? — Кого бояться-то? От после войны эвон сколько лет она у меня жила. И все сама с собой, оттого и повредилась. Пока шить могла, бабы захаживали. Той — то, этой — это. Потом уж никто не бывал. — Письмо она отправила? — Я и в ящик опускала. В апреле было, помню. Постучала она в стенку: «Снеси, — говорит, — Анна». Ноги у нее не действовали. Ну я и бросила. — Кому письмо, не помните? — А никому. В музей… Говорят, есть искусство задавать вопросы. Спорить не буду, но разговор с племянницей Карониной показал мне и еще кое-что. Должно пройти время, необходимое для того, чтобы созрела база для вопросов. Бусы без нитки еще не бусы, их можно сколько угодно пересыпать из коробки в коробку, но вещью они станут только тогда, когда их нанижешь на нить. Этой работой можно заниматься даже в темноте, на ощупь. Когда я говорил с племянницей Карониной впервые, у меня не было в руках нити. Я спрашивал ее и о Казаковых, и об Астахове, и о многом другом, что казалось мне важным тогда. Тогда я бродил в темноте. И сейчас еще не видно было просвета, но сейчас я держал в руках нить, на которую нанизывал бусы-вопросы. Я еще не видел ее, эту нить, но я ее ощущал. И крепла во мне уверенность.
В фойе театра было тихо, пустынно и сумрачно. Я остановился в раздумье. Мне нужна была Валя Цыбина, но ее кабинетик на втором этаже был заперт. Руководство тоже отсутствовало. Мы с женой редко ходим в театр. Последний раз были здесь зимой. С тех пор я заходил в театр лишь по служебным делам и в фойе не заглядывал — все разговоры велись в кабинетах на втором этаже. Сегодня мне пришлось спуститься в фойе. Еще входя сюда, я подумал, что тут произошли какие-то перемены. Когда глаза привыкли к полумраку, я понял, какие именно: помещение готовили к ремонту и со стен были сняты портреты актеров. Портреты, портреты… Эта мысль почему-то не оставляла меня. И лишь потом пришло воспоминание. Я вспомнил то, что тревожило меня уже давно, что не давалось, пряталось в подсознании, а теперь вдруг выплеснулось. Конечно, я добрался бы до портрета этой актрисы и без воспоминаний. Но с ними было как-то приятнее. Все-таки сам, все-таки догадался, хоть на двадцать минут, но опередил события. Примерно так и подумал я тогда, когда пришла Валя Цыбина. Портрет уже был извлечен на свет, и я смотрел на ту, которая когда-то здесь играла Дездемону, на ту, которую так не любила Тамара Михайловна, на ту, которая была так похожа на княгиню Улусову. Я видел ее на афишах в доме Казаковых, на афишах и на фотографиях. Но там она была в гриме и в костюмах прошлых эпох. Там я ее не узнал. Там ее было невозможно узнать. На этом портрете она была сама собой… — Что вы тут делаете? — спросила Валя. — Да вот, разглядываем, — сообщил я неопределенно. Валя смотрела на меня холодным взглядом. Неужели и она о чем-то догадывалась?
На втором году замужества за князем Улусовым, когда ей не исполнилось еще и двадцати лет, княгиня встретилась с заозерским дворянином Алексеем Аркадьевичем Васильевым. С этого момента и пошел отсчет. Впрочем, нет. Все началось несколько раньше: в тот день, вероятно, когда Алексею, Аркадьеву сыну, пришло в голову заняться установлением личности творца фресок, которыми любуются ныне посетители нашего краеведческого музея. Подробности погребены во времени. Но мы с Наумовым уверены, что все произошло именно так. Мы с двух сторон шли к истине, мы подняли те документы, которые возможно было поднять, а там, где это невозможно было сделать, в ход пускалось воображение. В общем-то это была тривиальная история, правда подсвеченная романтикой поиска. Алексей Васильев был немного художником, немного чиновником и очень много мечтателем. Чиновником он был по необходимости, а мечтателем — по натуре. В Заозерске было много грязи и много церквей. В соседнем доме жил штабс-капитан Пестриков, солдафон и прожигатель жизни. Папа Аркадий неделями пребывал в запое и в конце концов отдал Богу душу. Отпевали его в той церкви, которая потом стала музеем. Может быть, тогда Алексей Васильев впервые обратил внимание на фрески. В опустевшем доме было холодно и тоскливо. А через забор на молодого человека поглядывала широкоскулая дочка седельного мастера Голованова. Она в общем-то симпатяшкой была. Бегали за ней окрестные кавалеры… Она и сейчас еще подходит к забору и смотрит на дом слезящимися глазами. Двух мужей схоронила дочка седельного мастера… Но тянет ее что-то к забору. Красивый был мальчик Алеша Васильев. Не такой… Непонятный… Другой… Продан был дом… В 1898 году. Уехал Алеша Васильев, коллежский секретарь. В Петербург уехал… В Академию художеств поступать. А там подрастала будущая княгиня Улусова. Пансион… Романы Жорж Санд… И папа, страстно желавший привести в порядок свои запутанные финансовые дела, мечтавший о выгодной партии для дочери. Ох, уж эти мечтатели… Нет, не стар был князь Улусов. Монокль носил, усы носил и кое-какие регалии. Иного рода регалии выделяли Алешу из толпы. И юная княгиня это заметила. Были на Руси такие княгини, которые умели замечать кое-что. Графиня Ростопчина зашла как-то в церковь Московского университета (было это накануне похорон Н. В. Гоголя) и заметила студента юридического факультета, который рисовал покойного писателя. Портрет был литографирован. Так был признан художник Рачинский. А ведь это очень много значит — получить признание, пока ты молод. Алеша Васильев был художником. В Заозерском музее сейчас выставлены семь его картин. Но в ту пору он еще не успел получить признания. Он вообще не успел получить его. Оно пришло к нему после смерти. Точнее, к его имени. А тогда… Тогда он был беден, безвестен, молод, полон сил и благородных порывов. Их соединило искусство и разъединила любовь. Когда родилась девочка, князь Улусов находился на японской кампании, при штабе генерала Куропаткина. Почти год княгиня провела в имении своей московской подруги Натали. Она умчалась туда в великом испуге задолго до родов. Оттуда через год с небольшим девочку взял отец и отвез в Заозерск к своей двоюродной сестре — Марии Дмитриевне Карониной. Маша жила в доме с сестрой, которой было лет десять. Родители умерли, оставив детей почти без средств к существованию, когда Маше только-только стукнуло двадцать. Остался дом да мельхиоровые кубки-призы как тоскливое напоминание о балах, ярких свечах и галантных офицерах из местного гарнизона. Любимый двоюродный братец с дочкой оказался неожиданной находкой, ибо вместе с девочкой в дом вошли деньги. Княгиня была состоятельной грешницей. Каронина удочерила ребенка. Молва нарекла ее кровной матерью. И потекли годы… И не попала бы никогда в милицейские протоколы эта житейская история начала века, если бы не встретились в семнадцатом году княгиня и ее возлюбленный «А. В.». Они встречались и раньше, но эта встреча была последней. Он приехал в Москву из Заозерска, она из Петербурга. И в доме Натали княгиня сказала… Хотя, как я могу знать, что именно она сказала? Я могу только предполагать, конструировать, восстанавливать. «Мир рушится, Алеша, — сказала, наверное, она. — Но все возродится. Я прошу, чтобы ты сохранил то, что я не хочу брать с собой. Оно должно остаться здесь. Там оно будет пущено в распыл». Может быть, она произнесла другие слова. Но ЭТО она Алеше вручила. ЭТО было коллекцией. А портрет ее Алеша оставил у себя. Может, хотел дочери показать, кто знает… Так что в Заозерск княгиня не приезжала. Алеша появился ненадолго однажды и исчез навсегда. Погиб в схватке с басмачами в Средней Азии. Оттуда в двадцатом с оказией брактеатик прислал. «С любовью А. В.» На том и закончился первый период этой истории. Второй начался в тридцать девятом…
Я присел на скамейку в скверике поблизости от музея. Надо было идти к Лаврухину, а я не торопился. Меня тревожило смутное ощущение чего-то недоделанного, недоговоренного. И я решил подождать конца рабочего дня, мне захотелось встретиться с Вероникой Семеновной вне музейных стен и вообще вне всяких стен. Стены иногда угнетающе действуют на психику. Я не имею в виду клаустрофобию. Это уже болезнь. Но замкнутое пространство, по-моему, иногда плохо действует на людей с расшатанной нервной системой. А у Вероники Семеновны с этой системой явно было не все в порядке. В своем рассказе о печальной княгине я забежал далеко вперед. В тот день, когда я сидел в скверике, ожидая Веронику Семеновну, мы еще многого не знали. Мы не знали о коллекции, мы еще думали, что произошла некая ошибка, что преступник или преступники погнались за миражем. Мы ломали головы, отыскивая связи между тем, что произошло с княгиней, и тем, что нам было известно о семье Казаковых. Казалось, что нет тут и не должно быть никаких связей, даже имманентных. То обстоятельство, что Тамара Михайловна когда-то давно испытывала, мягко выражаясь, далеко не дружеские чувства к Карониной-Надеждиной, еще не говорило ни о чем. Тамара Михайловна, кстати, и не скрывала этих своих чувств. Дочь княгини, ставшая актрисой, загородила, как считала Тамара Михайловна, ей путь на сцену. Ну и что? Но Тамара Михайловна очень неодобрительно относилась к браку своей Лирочки с Наумовым. Лирочка удивилась, нет, она возмутилась, когда я высказал это предположение. А потом сказала: «Неужели я знала это всегда?» И у меня не осталось сомнений: да, она это знала. Я даже подумывал, что Тамара Михайловна самолично приложила немало усилий к тому, чтобы разбить этот брак во что бы то ни стало. Я не особенно удивился бы, узнав, что и анонимки — дело рук Тамары Михайловны. Старушка решилась на отчаянный шаг. Но почему? «Загадочки», — думал я. И этот, в сущности, пустой разговор с Тамарой Михайловной по пути из молочной к дому. «Что вы хотите этим сказать?» — «Хочу сказать, что ему надо выписать очки». Ну и что тут такого, в этих словах? А старушке стало дурно. «Что вы хотите этим сказать?» Да ничего решительно. Не успел я сказать то, что хотел. Но откуда взялась «эта бледность лица»? Наумов мог, конечно, не нравиться ей… Однако причина лежала где-то глубже. Что-то копилось, чтобы потом катапультироваться, вылиться в скандал, который разметал в разные стороны супругов и отбросил дочь от семьи. Случилось это, когда Наумов стал приближаться к разгадке бакуевской записи о «К». В то время Ка-ронина еще была жива. Каронина могла о чем-то проболтаться… О чем же? О чем-то таком, что непосредственно касалось Лирочки? Смешно, Зыкин. Каронина перед смертью отправила письмо, адресованное в музей. Но ведь в музей… Просто в музей, а вовсе не Лирочке… Не настолько же она была «повреждена в уме», чтобы забыть имя той, кому писала. С этими мыслями я пришел в музей. С ними и вышел. Не скажу, что мое появление обрадовало Сикорского, впрочем, я давно привык к тому, что встречи со мной далеко не у всех вызывают оживление на лицах и желание похлопать меня по спине, произнося при этом что-нибудь вроде: «Привет, старик, где тебя столько времени черти носили?» У каждой профессии своя специфика. Моя тоже имеет некоторые особенности. И хоть я не люблю щеголять словами «гражданин», «дознание», «подпишите показания», тем не менее мне иногда кажется, что собеседник, прежде чем начать разговор, тщательно проверяет, все ли пуговицы его костюма застегнуты. Вот и на этот раз. Мне показалось, что, увидев меня, Сикорский как бы подтянулся, собрался внутренне. Но, может быть, мне это только показалось… Он протянул руку и, посмеиваясь, сказал: — Зачастили вы к нам… Мы стояли перед картиной, изображавшей сцену искушения. Змей, похожий на пожарный шланг, протягивал Еве яблочко. Бородатый Бог бродил вдали. Ева опасливо косилась на старика, но желание вкусить от неизведанного было сильнее страха. Рука тянулась к плоду, который змей держал в зубах. — Не так уж чтобы очень, — сказал я. — Инвентаризацию провели? — Все в ажуре. Да иначе и быть не могло. Он посмотрел на меня осуждающе, словно подозревал в том, что я думал иначе. — Маленькое дельце, Максим Петрович, — сказал я. — Что вы делаете с письмами? — С какими письмами? — Которые получаете. — Очень странный вопрос. Читаю, вероятно. А что вы делаете с письмами? — Тоже читаю. Но я говорю не о личных письмах. — Не понимаю. — Я хотел бы получить представление о порядке прохождения почты в музее. Б каждом учреждении существует установленный порядок движения корреспонденции. Вот пришел почтальон… Теперь понимаете? Он посмотрел на меня, как двоечник на доску, на которой написано уравнение с тремя неизвестными. Потом перевел взгляд на Еву. — «Вот пришел почтальон», — повторил он мою фразу. — Да, я вас слушаю. Я рассердился. Образованный человек, а корчит из себя идиота. — И что же происходит дальше? — Да-да, конечно, — спохватился Сикорский. — Простите, я немного отвлекся. Вам интересно знать, как проходит почта? У нас порядок простой: все складывается на стол к Веронике Семеновне. — А потом? — Потом она разносит… — Кто вскрывает письма? — Она обычно. Кроме личных, конечно. — Письма регистрируются? — Безусловно. Я пожелал взглянуть на книгу регистрации корреспонденции. Мне ее показали. Того письма, которое я хотел найти, в книге не числилось. Ни в марте, ни в апреле, ни в мае в музей не поступало письмо от Карониной. Я не поверил книге, в которой вообще трудно было разобраться, и попросил сами письма. Я сверил поступление с наличием. Расхождений не было… Я просмотрел письма… И хоть я не представлял себе, о чем должно было говориться в ТОМ письме, я бы его все равно узнал, почувствовал, догадался… Того письма не было. — Чудеса, — сказал я Сикорскому. — Прямо-таки потрясающие чудеса. — А что вы ищете? — Ищу то, не знаю что, — сообщил я, глядя на Веронику Семеновну, и попросил ее просмотреть записи в книге. Все ли они сделаны ее рукой? Она посмотрела. — Да, — сказала она. И никаких следов подчистки. Ответов было два, нет, пожалуй, три. Впрочем, в третий верилось слабо. Племянница Карониной говорила правду — письмо она отправляла. Эта женщина была не из тех, которые любят выдумывать. Да, ответов было два. Или письмо не дошло… Или Вероника Семеновна его не зарегистрировала. Но, может, существовал и четвертый ответ?
Она вышла последней. Постояла на высоком каменном крыльце, дожидаясь, пока сторож кончит возиться у дверей с замком, потом сошла на дорожку и направилась на улицу. Я дал ей отойти метров на сто пятьдесят и двинулся вслед по другой стороне. Вероника Семеновна всем цветам предпочитала зеленый. Она опять была в зеленом платье, правда, другого фасона. Я не представлял себе, как бы она выглядела, скажем, в желтом, но зеленый ей явно не шел. Ей надо бы носить что-нибудь пестренькое, оно бы контрастировало с выражением ее лица и компенсировало бы хмурость. Но таинственна женская психология, неисповедимы поступки. Она зашла в два продовольственных магазина, потом свернула в переулок. Я знал, что она должна пройти мимо небольшого пруда, окруженного тополями, и выйти на тесную площадь, к автобусной остановке. У пруда я окликнул ее. Вероника Семеновна оглянулась и остановилась. В глазах ее ясно читалось: «Ну что вы ко мне пристали?» — Присядем на минутку, — указал я на скамейку. С тополей летел пух, сбивался в комки, которые медленно перекатывались по земле. Посреди пруда, на островке стоял гипсовый мальчик с веслом. На берегу какой-то парнишка поджигал грязно-серые шары тополиного пуха. Они вспыхивали и исчезали. Я подозвал мальчишку, отобрал у него спички и зашвырнул в пруд. — Как вы думаете, что он сейчас сделает? — спросил я Веронику Семеновну. — Купит спички, — сказала она равнодушно. — Мальчишки упрямы. — Взрослые тоже иногда ведут себя как упрямые мальчишки, — заметил я. — Вам решительно нечего мне сообщить? — Я хотела бы понять вас. — Вы говорили нам как-то, что считаете Лиру Федоровну порядочной женщиной. Что это значит? — Я думаю, что она не способна на подлость. — Как она вела себя по отношению к вам? — Нормально, по-моему… — Вам известно, почему она порвала с мужем? — Ходили разные слухи. Говорили, что он… — Вас это никак не касалось? — А почему оно должно меня касаться? — Вы знакомы с родителями Лиры Федоровны? — Мне уже задавали этот вопрос. Нет, не знакома. Федора Васильевича я видела на сцене театра. А Тамара Михайловна несколько раз заходила в музей, когда Лира работала у нас. — Что ей надо было в музее? И когда она приходила в последний раз? — Не знаю, что ей было надо. Они разговаривали во дворе. А когда? Кажется, в прошлом году, незадолго до того, как им разойтись… Я говорю о Лире… — И с тех пор вы с Тамарой Михайловной не встречались? — Может быть, на улице… Да… Кажется… — Вы разговаривали? Здоровались? — Я никогда с ней не разговаривала. Просто раскланивались. — Лира Федоровна получала какие-нибудь письма? Личные? Служебные? — Нет, по-моему. Хотя… Но это было давно… Вероятно, с год… Какое-то письмо я клала ей на стол. — У вас отличная память, Вероника Семеновна… — Как у всех. Мне показалось, что Лира расстроилась, прочитав письмо. — Вас это не заинтересовало? — Я не любопытна. — Вас удивляют мои вопросы? — Да. — Что вы думаете о Наумове? — Он всегда казался мне порядочным человеком Я считала, что он любит Лиру. — А сейчас? — Не знаю. Я никого не хочу осуждать. — Как вы отнеслись к тому, что Лира Федоровна сошлась с Астаховым? Я слышал, что были другие прогнозы на этот счет. — Астахов был красивым мужчиной. И не робким. А прогнозов никто не строил. Максим Петрович понимает, что Лира… Вероника Семеновна не договорила и покосилась на меня весьма неодобрительно. Конечно. Все они там порядочные люди. А я вот хочу узнать, должен — в какие такие тартарары письмо Карониной провалилось. Не верю, что не дошло оно до рук Вероники, женщины с отличной памятью, женщины, которая никого не желает осуждать и ни в чьи дела не вмешивается. А может, воздержаться пока от вопросов? В апреле это было, Вероника Семеновна… В апреле… Вы за своим обшарпанным столом сидели… А Лирочка — напротив. И вот пришел почтальон…
Да, гнусная это была история, и финал у нее оказался не менее гнусным. Замкнулось преступление само на себя. Суток не прошло после памятной беседы у пруда — и все кончилось. Но прежде чем это случилось, мы успели поднять целый пласт… Нет, не почвы, а мусора, дерьма, отбросов. И легла четкая межа, отделившая любовь от уголовщины. Впрочем, о любви тут говорить как-то вроде и неудобно. Наумов довольно остроумно заметил, что «все произошло на гормональном уровне». Возможно, он и прав… Утром из командировки вернулся Петя Саватеев. И утром же в прокуратуру была вызвана Тамара Михайловна. Сухонькая старушка с седыми букольками поднялась по лестнице и села в кресло у стола Лаврухина. В глазах у нее стыла смертная тоска. Поняла старушка, что серьезного разговора не избежать, что всплывет грязная тайна, которую она желала бы унести в могилу, надеялась, что обойдется все, усилия к этому прилагала, ва-банк даже пошла — дочке развод с мужем устроила. Как все-таки живуча ненависть… Да и страх тоже. — Когда вы вышли замуж, Тамара Михайловна? — В тридцать пятом году. — Где жили? Такой, кажется, простой вопрос, а додумались мы до него с великим трудом. Где жили? Да мало ли где могли жить люди… Не все ли равно? Сегодня человек живет на одном месте, завтра на другом, эка важность. В тридцать пятом году ведь дело было — сколько воды утекло. — На частной квартире. — Назовите хозяев. Глубокое кресло у Лаврухина в кабинете, но не утонешь в нем, если даже и очень хочется. — У Карониной. Пять лет прожили молодые супруги у «портнихи из благородных». Как приехали в Заозерск, как стали работать в театре, так и приютила их костюмерша. Денег немного брала, а дом большой, места хватало. Старуха одна жила, дочка ее приемная — Лена Надеждина — к тому времени замуж вышла и к родителям мужа перебралась. Томочка с Леночкой в театре встречались. Но дружбы не было: какая уж там дружба, когда Леночка в признанных Джульеттах и Дездемонах ходила, а Томочку главреж держал на ролях типа «кушать подано». Леночке аплодировали. А Томочке после каждого спектакля хотелось ей глаза выцарапать. Есть такая категория в людском многообразии — завистники. Не могут они равнодушно сносить чужие успехи, вечно считают себя несправедливо обойденными. Таким вот червячком и Томочка была. Она жаждала аплодисментов бурных, восторженных. И решила она ухватить жар-птицу за хвост. Стала к главрежу присматриваться. Методику разработала… А какая уж тут методика. Все наперед известно. Главреж был русым молодцом с зычным голосом и грубыми повадками. Что могла сделать Тамара Михайловна? Только разве в своем амплуа выступить — «кушать подано» произнести. Произнесла. Главреж не отказался. Но поскольку он точно знал, где проходит граница между искусством и действительностью, то он их и не путал. Скорого повышения Томочке не предвиделось. Этот скоротечный, ординарный роман не укрылся от зорких глаз наблюдательной костюмерши. Томочка испугалась. Дойдет слух до мужа, что будет? Казаков человек вспыльчивый, импульсивный, всего ожидать можно. Началась для Томочки пора испытаний. Стала она старуху обхаживать, улещивать. А сердце сжималось от ненависти. Потом наступил час торжества…
Натали Гончаровская, бывшая наперсница княгини Улусовой, впервые побывала в Заозерске в тридцать восьмом году. Приехала по просьбе княгини, которая, похоронив мужа, продолжала жить в эмиграции. Она покидала родину, как писала той же Натали в семнадцатом году, с тяжелым чувством. Обстоятельства тогда оказались сильнее ее, и она им покорилась. Княгиню мучила ностальгия. И в тридцать восьмом она написала Натали, ставшей к тому времени Натальей Владимировной Гончаровской, корректором одного московского издательства. В письме были разные «что». Что с Алешей, что с дочерью, что с коллекцией? Натали навестила Каронину и все, что смогла, разузнала. Томочка в том году еще только собиралась принести себя в жертву искусству. Вторично Натали появилась в Заозерске в сентябре тридцать девятого. Томочка дочитывала последнюю страницу своего романа. Главреж не оправдал ее надежд. Томочке хотелось умереть, но это желание уступало другому, более сильному — сначала, по мнению Томочки, должны были умереть те, кто причинил ей зло. Она желала скорой смерти Дездемоне — Надеждиной, главрежу, старухе Карониной… В тот вечер, когда Натали Гончаровская вошла в дом, Томочка сидела у окошка. Сначала она не обратила внимания на высокую черноволосую женщину, потом ее заинтересовал разговор: стенка, отделявшая комнату Казаковых от хозяйской половины дома, была достаточно тонкой. Гостья сказала: — Она хочет, чтобы ценности были переданы государству. — Ничего не знаю, — сказала Каронина. — Не мое дело. — Но послушайте, — возразила гостья. — Кто вам дал право распоряжаться чужим имуществом? — Чтобы меня посадили? — визгливо закричала Каронина. — За Алешкины грехи в тюрьму приглашаешь? Ей хорошо — за границами-то командовать. Сама удрала, а теперь — имущество. Нет никакого имущества. Было, да сплыло. — В прошлом году вы говорили другое. — А кто слышал? — Я слышала. — Доносить пойдешь? — Как вам не стыдно?.. — укоризненно произнесла гостья. — Все можно объяснить. Вот ее письмо. Наконец я… — Дай-ка мне письмо! — потребовала Каронина. — Что вы делаете? — воскликнула гостья. — Инету, — донеслось до Томочки, и она поняла, что Каронина бросила письмо в печку. — Нету и не было. Доноси иди… Кто тебе поверит, что клад был? — Вы… — гневно сказала женщина. — Вы подлая трусливая тварь. Княгиня тяжело больна, она вот-вот умрет. Воля умирающей священна. — А я живу, в тюрьме слезы лить не хочу. — Я должна поговорить с ее дочерью… — Нету у нее дочери. Моя дочь. Она рожала, а я страдала. Грех приняла, свою жизнь сломала. — Вам деньги платили. — Де-е-еньги, — протянула Каронина. — Она вильнула хвостом — и все деньги, В Алешкину память я все делала. Они долго молчали. Затем Каронина сказала: — Уходи. Соберусь помирать — все отдам. Мне чужого не надо. А до этого у нас с тобой разговора не будет. И дочку не тревожь. Она не знает ничего. Не калечь ей жизнь. Женщина прошла мимо окна и растворилась в вечернем сентябрьском тумане. Томочка встала и открыла дверь в коридор. Улыбнулась и без стука вошла в комнату Карониной. Старуха сидела у печки. — Тебе чего? — подняла она голову. Томочка улыбалась. — Подслушивала? — спросила Мария Дмитриевна. Томочка кивнула. — Ну и молчи, — сказала старуха. — А то вот шепну муженьку кое-что — и вся недолга. Поняла? Томочка снова улыбнулась. Старуха пожевала губами и медленно произнесла: — Надумала я дом продавать. Нам с тобой теперь под одной крышей душно будет. Подыскивай пока местечко. А ежели брякнешь что, пеняй на себя. Казаковы съехали через два месяца, в ноябре. В феврале сорокового года Каронина продала дом. В марте родилась Лирочка-Велирочка. Потом началась война. Погибла Натали Гончаровская — дежурила на чердаке, зажигалка угодила в голову. Шальная пуля нашла Лену Надеждину, когда актриса выступала перед бойцами в прифронтовом лесу под Смоленском. А Казаков вернулся к своей Томочке. Лирочке шел шестой год. Острый глаз мог бы уловить в чертах лица рыженькой девочки сходство с русым молодцем — главрежем. Но нужен был острый глаз, а Казаков был близорук. Да и уверен он был, что Лирочка — его родная дочь. Зато Тамара Михайловна опасалась. Так и жила с опасениями, которые переросли в страх, когда в жизнь дочери вошел Наумов. Каронина была жива. Тамара Михайловна боялась, что старуха, впавшая в маразм, может выболтать ее тайну. И решила этого не допустить. — Я вас прошу, — сказала она Лаврухину. — Муж не должен ничего знать. Это его убьет. — Поздно вы спохватились, — сказал Лаврухин жестко. — Вы все сказали? — Все. — Вы никому не сообщали о коллекции княгини? — Никому. — Вы хорошо помните слова Карониной: «Соберусь помирать — все отдам»? Ведь прошло столько лет. — Я этого не забуду никогда. — Почему ваша дочь ушла из дому? — Она… Она сказала: «Я хотела бы тебе поверить, мама. Но я вижу, что ты лжешь. Я уйду и не вернусь до тех пор, пока ты не скажешь, что скрываешь». Сказать этого я ей не могла. — Она ни о чем не догадывалась? Ничего не могла сообщить Астахову? — Нет. Каронина умерла, и я успокоилась. Лирочкина связь меня не интересовала. Я даже не знала об этом, пока… Пока к нам не пришли вы. Потом со мной стали говорить об анонимках. И я поняла, что вы что-то подозреваете. Но я все рассказала сейчас. Все… Обещайте мне… — Нет уж, увольте, — сказал Лаврухин. — Мы обещаниями не привыкли разбрасываться. А когда дверь за Тамарой Михайловной закрылась, он оглядел нас с Петей Саватеевым и протянул: — Н-да, ребятушки. Это, кажется, меняет дело. Поворот оверштаг придется выполнять, заблудился наш кораблик маленько. Он преувеличивал. Кораблик наш плыл туда, куда надо. Просто дело было на редкость запутанным. Прошлое перепуталось с настоящим, любовь — с уголовщиной, нелепое и смешное — с тонкой расчетливой игрой, в которой наш противник допустил всего несколько незначительных ошибок. А кораблик следствия шел верным курсом. Не так споро, как нам хотелось бы. Но к цели. И поворот оверштаг вовремя был выполнен, еще за несколько дней до моего разговора с Вероникой Семеновной у пруда с гипсовым мальчиком. Все шло как надо: и наружное наблюдение было установлено, и доказательства собирались. Преувеличивал Лаврухин. Петя Саватеев тоже, наверное, так думал. Петя привез из командировки ворох самых разных сведений и был горд и сдержан. Не совался под руку с умозаключениями и вообще был мало похож на того Петю, который чуть больше месяца назад ел мармелад, сидя возле моей кровати, и рассуждал об «очевидных вещах». Я считаю, что его распирало осознание своей полезности. Собственно говоря, Тамара Михайловна вела бы себя менее откровенно, если бы перед Лаврухиным не лежал блокнот Пети Саватеева. Он сделал, в сущности, то же самое, что когда-то проделал Бакуев: описал окружность, в центре которой стояло имя Натали. Но Бакуев был незадачливым искателем и, кроме того, крайне нетерпеливым человеком. Из верных посылок, как правильно заметил Наумов, Бакуев делал неверные выводы. Пете было и труднее и легче. Труднее потому, что время поглотило многих из тех, с кем Бакуев мог говорить непосредственно. Легче потому, что Петя видел перед собой четко очерченную цель. С Бакуевым, впрочем, нам до сих пор не все ясно. Несомненно одно — он знал о коллекции, но из каких источников, остается тайной. Скорее всего он был знаком с кем-то из окружения Натали. Женщина не делала особого секрета из того, что ей было известно. Она только не называла имен. Старики и старушки, с которыми встречался Петя, помнили кое-что из ее рассказов о княгине и о коллекции, о любви коллежского секретаря, помнили они и о поездках Натали в Заозерск. Видимо, эти легенды дошли до ушей Бакуева году в сороковом или сорок первом. И надо было быть Бакуевым, чтобы взяться за почти безнадежное дело. Встретиться до войны с Натали ему не удалось. А когда он, вернувшись с фронта, ринулся к ней — Натали уже не было в живых. Ему отдали письма княгини — детям Натали они не были нужны. Из обрывков легенд, которые он услышал, Бакуев заключил, что в Заозерске живут какие-то родственники княгини. И он бросился искать этих родственников. Он искал их на бывшей Дворянской — где же еще? Он ухлопал на поиски чуть не десять лет. Не найдя никого и ничего, Бакуев снова отправился в Москву и, вероятно, на этот раз сумел-таки кое-что разведать, потому что он заинтересовался дочерью княгини. К пятьдесят седьмому году он нашел Каронину. Он пришел к ней не со стороны «А. В.», о котором не знал, а со стороны его дочери. Он «сход. к К.». Старуха была поставлена перед фактом и не стала почти ничего отрицать. Да, была у княгини дочь; да, воспитывала ее она, Мария Дмитриевна. Портрет? Да, это портрет ее, княгини. Бакуев хочет взять его? Пожалуйста! Но никакой коллекции нет, старуха об этом ничего не знает. Мало ли что люди могут болтать. И Бакуев ушел. Он не отстал бы от старухи. Смерть помешала ему закончить поиск. Но каким все-таки упорством обладал человек!
И вот — финал. Мы не ожидали, что развязка наступит так быстро. Словно лопнула вдруг струна, которую долго натягивали. С дефектом была струна. Со скрытым дефектом. Вот и не выдержала напряжения. Тамара Михайловна ушла в половине одиннадцатого. В одиннадцать задребезжал телефонный звонок. Лаврухин снял трубку. Мы с Петей собирались выйти покурить в коридор, но Лаврухин резко взмахнул рукой, и мы остановились у двери. — Что? — каким-то звенящим голосом спрашивал он. — Не выходил из дома?.. Это точно?.. О чем я думал в тот момент? Не помню… Во всяком случае, не о том, что вот и покончено с этим запутанным делом. Не было у меня повода думать так. Лаврухин положил трубку. — Быстро в машину, Зыкин. Петя, звони Бурмистрову. Кажется, дело дрянь. В машине он спросил меня: — Ты не наговорил лишнего? Я обиделся. — За кого вы меня принимаете? — Какого же черта тогда? — проворчал он. И замолчал. Мы миновали Театральную площадь, проехали мимо приветливых окон ресторана «Центральный» и минуты через три остановились возле цветочного магазина. Наискосок, через улицу виднелся серый четырехэтажный дом с красными балкончиками. И тут же подошла вторая машина. Трое остались в ней. Бурмистров выбрался на тротуар и подошел к нам. — Ты не паникуешь, Павел Иванович? — осведомился он хмуро. Лаврухин пожал плечами. — Пошлем дворника, — сказал он. — Нам туда соваться нельзя. Дворник вернулся минут через пятнадцать. Выражение его лица явственно свидетельствовало, что соваться нам туда уже было можно. Да, струна лопнула. Он покончил с собой, когда понял, что выхода нет, что бегство ему не поможет, что бегство будет только отсрочкой возмездия, не больше. Вряд ли он догадывался о том, что за ним установлено наблюдение, установлено еще в тот день, когда мы узнали о письме Карониной, адресованном в музей. Он кое-что сообразил, когда я заинтересовался порядком прохождения почты в музее. Он знал, что у нас нет никаких улик против него, но он знал и то, что мы можем их найти. Он понял это после разговора со мной. — Опять со мной… Но кто мог предполагать, что струна лопнет и преступление замкнется само на себя? А я еще намеревался в свое время рассказать Лире о таких случаях. Тогда мы еще раздумывали о Лире и Вале, тогда у нас была хитроумная версия, которая вбирала в себя столько всего, что казалась единственно верной. Лира разбила эту версию, рассказав мне о мальчике с дельфином. И она же подсказала, сама о том не ведая, куда нам нужно идти. Хорошо, что я не заговорил с ней тогда: мог бы прослыть провидцем. Он покончил с собой… И он оставил письмо. Он написал его мне. «Я жалею о том, — писал Сикорский, — что не убил вас, Зыкин. Я не успел вас убить — сначала в меня вцепился струсивший хлюпик, потом помешала его новая пассия. У меня не оставалось времени — еще несколько минут, и мое алиби лопнуло бы. Для всех я был на совещании. Там мне должны были вручить почетную грамоту, я обязан был явиться к моменту вручения. Мне ее вручили, Зыкин; в вашей записной книжке, наверное, отмечен этот знаменательный факт — вы ведь проверяли алиби всех сотрудников музея. Я жалею, что не убил вас, но ненависти к вам не испытываю… Не повезло… Я всегда числился у жизни неуспевающим учеником. Мои сверстники давно занимают высокие должности, а я прозябаю в каком-то заштатном музее. Мне никогда не везло. Те, кого хотел бы полюбить я, любили других, те, кого я ненавидел, не обращали на меня внимания… Жизнь шла мимо меня, Зыкин, она проходила мимо в пестром облике беззаботных интуристов, преуспевающих идиотов, в облике всех тех, кому везло…» И вот в музей пришло письмо Карониной. Вероника Семеновна, как обычно, зарегистрировала почту и отнесла все в кабинет Сикорского. Регистрировала письма она весьма оригинальным способом: записывала в книгу первые слова послания и ставила на нем входящий номер. Некоторые письма прочитывала, но вообще-то предпочитала предоставлять эту работу директору. Пусть разбирается, что к чему. Не ее это дело… Это письмо было написано человеком, привыкшим к иголке, а не к перу. Кроме того, старуха, как правильно отмечала ее племянница, была «повреждена в уме». Только при внимательном чтении можно было понять, что речь идет действительно о чем-то важном. В последних строках старуха приглашала кого-нибудь навестить ее. Сикорский пожал плечами, но к старухе все-таки сходил в тот же день. Он был настроен скептически, а старуха была полубезумной. Она бормотала об «Алешкиных миллионах», о какой-то «похоронке», чему-то смеялась. Потом вытащила из-под изголовья кровати грязный фанерный ящичек и, заявив, что он сам найдет дом, потребовала оставить ее в покое, поскольку она «знать ничего не знает». Он вернулся в музей и в своем кабинете вскрыл ящик. Там был альбом, несколько книг, кожаный кошелек, в котором лежал золотой кругляшок и какой-то длинный болт толщиной в палец. Болт был засунут в брезентовый чехольчик. Сикорский задумчиво перелистывал альбом, когда к нему в кабинет заглянул Астахов. «Что это?» — спросил художник. «Алешкины миллионы», — усмехнулся Сикорский. «А ведь болтик тут не зря положен», — медленно произнес Астахов. Они поглядели друг на друга. Сикорский не любил Астахова. Причиной была Лира Федоровна. Но в этот момент мысли о Лире отошли на второй план. В этот момент они поняли, о чем думают оба… Они не знали тогда, о каких миллионах говорила старуха. В их головах ни старуха, ни вещи, полученные от нее, не ассоциировались с княгининой коллекцией. Имя «Алешка» им тоже ни о чем не говорило. Сикорский полистал книги. На оборотах титульных листов были надписи, сообщавшие о том, что книги принадлежали Алексею Аркадьевичу Васильеву. Одна из них повествовала о похождениях капитана Хватова, три других являлись сочинениями В. Даля, казака Луганского. Кто такой Алексей Аркадьевич Васильев, ни Астахов, ни Сикорский не имели понятия. Золотой брактеат намекал на существование какой-то заозерской Голконды. Болт в порыжелом брезентовом чехле тоже наводил на размышления. «Это надо разжевать», — сказал Астахов, подкидывая на ладони золотой кружочек. Потом он положил бляшку в карман. «А книжку почитаю», — заявил он, кивнув на повесть о капитане Хватове. Сикорский оставил у себя болт, альбом и остальные книги. Так была достигнута договоренность. Произошло это 20 апреля. Уходя из музея, Сикорский заглянул к Веронике Семеновне и вскользь поинтересовался, читала ли она утреннюю почту? Она ответила отрицательно. Но вопрос ей запомнился. На другой день Сикорский возвратил Веронике Семеновне все письма, полученные накануне. Листка с каронинскими каракулями среди них не было. Взамен был положен другой листок под тем же входящим номером, но с иным текстом, сочиненным Астаховым. Текст открывался теми же словами, что и письмо старухи. Трест кладоискателей приступил к работе. О княгине они еще не думали. Через несколько дней Астахов вышел на Дукина. На титульном листе повести о капитане Хватове, кроме имени владельца книги, была указана и улица. Найти бывшую Песчаную слободу не составляло труда. На доме висела жестянка с вензелем «А. В.». Все вроде сходилось, но кладоискателей одолевали сомнения: в альбоме не имелось фотографии этого дома. А сумасшедшая старуха, отдавая альбом, утверждала, что «дом тут». В альбоме был старый Заозерск. Здесь были и портреты. Но половина альбома была занята фотографиями улиц, церквей и особняков. Который же? Они терялись в догадках и не знали, что предпринять. Идти вторично к старухе Сикорский не решался. А Голконда манила. Астахов стал даже подумывать о сбыте еще не найденного сокровища. Он вспомнил мальчика с дельфином, о котором ему как-то рассказывала Лира. Мальчик мог пригодиться — он плавал в чужих морях. Сикорский поглядывал на интуристов, приходивших в музей полюбоваться первородным грехом. Интуристы тоже могли пригодиться. Десятого мая Лира крупно поговорила с Астаховым. Во время разговора она держала в руках книгу о капитане Хватове. Астахову показалось, что она заинтересовалась надписью на титульном листе. Когда Лира ушла, он вырвал этот лист и сжег. Тринадцатого мая Сикорский отправился к старухе за дополнительными разъяснениями. У дома стояла машина «Скорой помощи». Врач что-то говорил суровой племяннице, окруженной толпой сердобольных соседок. Сикорский понял, о чем шла речь, и прошел мимо, не останавливаясь. Семнадцатого мая Астахов обнаружил, что исчезло старухино письмо, которое он таскал с собой. Он решил, что письмо взяла Лира. «А ты штучка», — сказал он ей на вокзале. Разъяснять смысл этой фразы он не стал, потому что не был уверен в справедливости своего подозрения. В этот же день он забрал альбом у Сикорского, чтобы «покумекать над ним», как он выразился. Он «докумекал». Ему пришло в голову вытащить все фотографии из гнезд. На оборотной стороне одной из них было написано: «Боров. Вторая вьюшка. Снять кирпичи». Клад существовал. Астахов дрыгал ногами, удивляя Кандараки, мывшую пол. Когда она ушла, он напился и плясал на фотографиях, разбросанных по полу. Потом собрал их и растолкал по местам. Одна карточка осталась валяться возле кровати. Утром в субботу он сунул ее в книжку о подвигах капитана Хватова. Восемнадцатого мая он пришел в музей, и они с Сикорским обсудили ситуацию. Дом с кладом был Астахову знаком. И Витя Лютиков был тоже знаком. Альбом Астахов оставил у Сикорского. Девятнадцатого мая утром Астахов пригласил Витю в ресторан и намекнул на выгодное дельце. Витя поинтересовался, не опасное ли оно? Астахов сказал, что опасности никакой нет, но зато будет много удовольствия. «На, подержи, — засмеялся он и перебросил Вите через стол золотой брактеат. — Можешь оставить на память, — добавил он. — А вечерком загляни по этому адресу, обговорим детали». Он назвал адрес Сикорского, и они расстались. Потом Астахов звонил Вале. Его беспокоило исчезнувшее письмо. Ему хотелось выяснить, не рассказывала ли что-нибудь ей Лира. Он уговорил Валю зайти к нему в понедельник. Вечером кладоискатели встретились на квартире Сикорского. Пили ром, который незадолго до первомайских праздников Сикорский привез из Москвы. Астахов снова напился и на этот раз так, что земной шар со всеми закопанными, замурованными и утопленными кладами выкатился у него из-под ног. Они намечали произвести выемку во вторник. Витины родители были в отъезде. Сикорский должен был прийти с совещания, Астахов со своей квартиры. В понедельник Астахов не появился в музее. Сикорский забеспокоился и в обеденный перерыв поехал к нему. Еще не дойдя до подъезда, он все понял. Альбом и болт лежали у него в портфеле, и он подумал, что в сущности-то ничего не потеряно. Потом он подумал о Лире. Ему захотелось сообщить ей о смерти Астахова, и он зашел на почту. Но, взяв в руки бланк, задумался. Астахов говорил ему об утраченном письме и о своих подозрениях. Он ушел с почты, постоял в раздумье на улице, затем двинулся к располагавшейся неподалеку редакции газеты. Там его знали. Он прошел по коридору, заглянул в машинописное бюро. В комнате никого не было — машинистки ушли на обед. Он вставил бланк в машинку и напечатал текст телеграммы. Подписывать ее своей фамилией он не решился: мало ли что. Какое-то мгновение он сомневался: Лира не ладила с родителями, — затем подписал телеграмму. Откуда ему было знать, что, отстукивая фамилию Казакова, он отстукивал одновременно и свой смертный приговор? Он отнес телеграмму: часовой механизм мины включился, чтобы сработать через «отмеренный судьбой промежуток времени». Это собственные слова преступника — он считал, что коварная судьба подбросила ему мысль подписать депешу именем Лириного отца. Он вообще все хотел свалить на судьбу, даже убийство. Утром во вторник он убежал с совещания — не сиделось, хотелось самому сообщить Вите о смерти Астахова и сказать, чтобы тот не пугался. Альбом и болт он держал при себе, в портфеле. Он пришел к Вите. Было десять часов. Валя Цыбина только что ушла. Витя уже знал все об Астахове, Витя трусил и скулил. Сикорский вынул из портфеля альбом и, положив его на столик, стал успокаивать парня. Он говорил о том, что милиции ни за что не добраться до клада и до Вити, что у Астахова не осталось ничего, что бы могло навести на след; он говорил, а Витя смотрел сквозь застекленную стену веранды в сад и повторял, как попугай, одну и ту же фразу: «Надо же так». И увидел меня… Сикорский подхватил портфель и спрятался за дверью. Он задохнулся от ярости, сообразив, что парень вот-вот проболтается. В портфеле лежал болт в чехольчике. И когда я шагнул к альбому, этот болт опустился на мою голову. Витя закричал и повис на Сикорском. Они покатились с веранды внутрь дома. И там Сикорский, оторвав от себя парня, измолотил его до смерти. А в дом вбежала девушка. Сикорский был страшен в эту минуту. Он пошел на девушку, намереваясь прикончить и ее, но вдруг остановился. Девушка тихонько смеялась. Он посмотрел ей в глаза — и понял. Затем он взглянул на часы. В одиннадцать ему должны были вручить почетную грамоту. Алиби! Он сунул болт в портфель, бросил туда же альбом и ушел через сад. Брактеат остался в кармане Витиных джинсов. Девушка смотрела вслед убийце и смеялась. Потом она убежала…
Ни в день убийства, ни через неделю Сикорскому не приходило в голову, что они наткнулись на княгинину коллекцию. Некогда ему было задумываться об этом. Лира не откликнулась на телеграмму, не явилась на похороны Астахова. Он не понимал почему. Он позвонил Вале, он не боялся, что она узнает его по голосу, — Валя никогда не разговаривала с Сикорским, слышала о нем только от Лиры. Он задал ей вопрос про альбом. Валя ничего не сказала, повесила трубку. Это его насторожило. Он навел справки о той девушке, она лежала в больнице. С этой стороны опасаться было нечего. Но в руки следствия попал брактеат. Сикорский струхнул. Этот след мог привести нас к дому Дукина. Он еще не знал, что Дукин уже обнаружен нами. Он пошел на улицу 8 Марта. И увидел, как я входил в павильон. Это уже была прямая опасность — он не имел понятия, о чем говорил Астахов с Дукиным. А тут еще Лира Федоровна прислала заявление об увольнении. Это было странно и необъяснимо. Я заговорил с ним о Бакуеве. Это тоже показалось ему странным. И, рассказывая мне о незадачливом искателе, Сикорский вдруг что-то заподозрил. Портрет княгини хранился в запаснике. Посвящать в свои дела Веронику Семеновну было нельзя. В его сейфе еще со времен Ребрикова лежали какие-то ключи. Один из них подошел к двери запасника. Все остальное проделать было легко. На портрете княгини стояли инициалы «А. В.». Сикорский пришел в ужас. Повинуясь первому побуждению, он сколупнул краску с уголка портрета. Бакуевскую папку он взял с собой. Но была еще жестянка на стене дома Дукина. Он решил уничтожить и этот след. На улицу имени 8 Марта он пришел в тот час, когда я уходил от Вали Цыбиной. Он сорвал жестянку с вензелем и бросил ее в яму на пустыре. Он не следил за мной. Просто наши дорожки пересеклись в тот вечер. Потом они стали пересекаться все чаще. «Мне не надо было брать эту проклятую папку, — писал он. — Но я хотел окончательно убедиться, что мы нарвались на княгинин клад. Я убедился в этом. Я стал понимать, что вы, Зыкин, приглядываетесь ко мне. Вторая моя ошибка — возврат папки на место. Мне казалось, что я обеляю себя. Когда же я увидел вас, стоящим в раздумье у церковной ограды, я сообразил, что переиграл. Я всегда опаздывал, Зыкин. Я опоздал убить вас. И, пожалуй, только об этом и жалею. Теперь вы стоите перед моим трупом. Смотрите на него, любуйтесь…» — Вот сволочь, — пробормотал Лаврухин, бросая письмо на стол. — Кто бы мог подумать… Сикорский повесился в кухне на веревке, укрепленной на газовой трубе. На столе стояли две бутылки из-под водки. Бурмистров листал альбом, Петя Саватеев вертел в руках болт, пытаясь умозрительно постичь его назначение. — Мне не следовало заговаривать с ним о письмах, — сказал я. — Чушь все это, Зыкин, — возразил Лаврухин. — Он вон еще когда понял, что влип. На него твоя физиономия действовала. — А где письмо Карониной? — спросил Лаврухин. — Потеряли, наверное, — откликнулся Бурмистров. — Астахов этот был безалаберным субъектом. Ну что же, будем клад изымать? Через два дня Наумов уезжал домой. — Почему вы обрадовались, когда услышали о пропаже бакуевских бумаг? — спросил я. Он смутился, потом признался, что просто ему было приятно видеть мрачную физиономию Сикорского. Наумов сказал, что этот человек всегда был ему антипатичен. И Лире тоже. Что-то в нем не нравилось им, но что, они не понимали. — Лучше поздно, чем никогда, — сказал я. — И все-таки мне надо было задать этот вопрос тогда же. — Тогда я вам на него ответил бы иначе. Вот так. Если бы Валя Цыбина в день нашей первой встречи назвала имя Вити Лютикова, то он сейчас был бы жив. Она не захотела. Что же, я ей тоже ничего не скажу. Я не скажу о картине, которая висит у нее над кроватью, я не скажу, почему убили Витю. Возможно, она обо всем догадывается… А может быть, я ошибаюсь. Но ей я ничего не скажу.
Перед самым отъездом Наумова мы зашли с ним в музей, чтобы еще раз взглянуть на фрески. Клад был извлечен. Коллекцию луноликих красавиц с газелями, печальные глаза которых напоминали глаза княгини Улусовой, Алеша Васильев замуровал в основание печного борова. Тайник был устроен капитально и хитроумно. Нужно было снять верхнюю вьюшку, затем разобрать часть кладки внутри борова. Под кирпичами лежала железная плита с отверстием посредине. В это отверстие завинчивался болт и превращался в своеобразную ручку. Плиту таким образом было легко поднять, и под ней открывался тайник. И красавицы и газели хорошо сохранились. Но меня они не волновали, мне почему-то неприятно было смотреть на них. От этих красавиц пахло кровью, страданиями и еще черт знает чем, как иногда говаривает Лаврухин. Каждая картинка была обернута в бумагу. Листки были исписаны. Чернила выцвели, бумага пожелтела. Но Наумов сразу узнал почерк Алеши Васильева. Судя по всему, это были листки из его дневника. У Наумова зародилась надежда обнаружить в этих записях хоть какие-нибудь указания на то, где искать имя гениального художника-самоучки, жившего в восемнадцатом веке.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО
История третьего расследования
I. Клочья
Он вошел в дом и закрыл за собой дверь. Щелкнул замок. Человек постоял с минуту, прислушиваясь к тишине, потом медленным усталым движением снял плащ, сбросил тяжелые мокрые ботинки и сунул ноги в войлочные тапочки. Шагнул в кухню, рука машинально потянулась к выключателю, но он тут же отвел ее. Вышел в прихожую, принес толстый пакет, перетянутый резинкой, и положил его на пол возле печки. Подошел к окну, задернул поплотнее штору. Чиркнула спичка. Сухая лучина вспыхнула сразу. Он поглядел на разгорающееся пламя, вынул из белого шкафчика бутылку и рюмку. Наполнив ее, погрел в ладонях и медленно выпил. Затем придвинул табуретку к пылающему печному зеву и взялся за пакет.
Резинка первой полетела в огонь. Человек развернул пакет. На свет появилась рукопись. В глазах запрыгали буквы, складываясь в слова: «Когда-то сотни тысяч лет назад вся территория нашего края была покрыта ледниками». Он не стал вчитываться в текст, снял верхний лист и отправил его в огонь. Бумага вспыхнула, свернулась в черный невесомый комочек, который мгновенно раскалился докрасна и распался в серый прах, в золу, в ничто. За первым листком последовал второй, за ним третий, четвертый, пятый… Горела бумага. И вместе с ней горели мосты в прошлое; горело то, что невозможно было забыть, то, что хотелось стереть, уничтожить, развеять по ветру; то, что мешало жить…
Бумажные мосты легко жечь…
Отца уже не было дома, когда Славка проснулся. Поглядел на часы и даже присвистнул — десять. И ложился вроде не поздно — не было еще двенадцати, когда вернулся из клуба. На столе ждал ужин, дверь отцовской комнаты была закрыта — знак, чтобы его не тревожили. Славка без особого аппетита уничтожил холодную яичницу, запил ее молоком и завалился в постель. Хотел было почитать Франса, но толстый зеленый томик быстро вывалился из рук. «Скучновато писал мастер слова, — лениво подумал Леснев-младший, гася свет, — а может, не в нем дело, не в мастере слова, а во мне… Во всяком случае, Люська, подбрось я ей эту мыслишку, непременно сказала бы, что дело во мне: она любит меня воспитывать…» Люськой зовет ее Леснев-младший потому, что ей это нравится. «Людочку» она терпеть не может — слишком сладко, а «Люся», по ее мнению, звучит чересчур сухо. Вчера, впрочем, он величал ее Людмилой Павловной. Вчера они немного поцапались. Повод был ничтожный, но Люська что-то вообразила, и они расстались, как любит выражаться Славка, без вздохов, поцелуев и молитв. В таких случаях в причинах разобраться невозможно, решил он, и не стал доискиваться, откуда что пошло. Говорили о Сашке. Люська восторгалась его целеустремленностью, а Славка, кажется, не к месту засмеялся. Ну и задымил костерок. Раздумывая, вставать или еще поваляться, Славка последил за солнечным зайчиком, который тихонько подбирался к посуде в буфете, потом сбросил одеяло и прошлепал босиком в кухню. У отца приличный домик, но кое-каких удобств недостает. Нылка, хоть и украшена городскими светильниками, похожими на очковых змей, вставших на хвост, — поселок в основном деревянный, одноэтажный. Историю свою Нылка ведет со времен никонианского раскола. Сюда, в леса, бежали приверженцы протопопа Аввакума, спасаясь от преследований официальной церкви. Но, прожив, как любит выражаться Люська, несколько сот лет в духовном инбридинге, староверы за последние десятилетия крепко изменились. Попадаются, правда, еще здесь благообразные старички в чудных картузах. По праздникам они бьют поклоны в моленной, а по субботам парятся до седьмого пота в курных банях на огородах. Есть и такие, что едят только из персональной посуды, но и эти могикане успели привыкнуть к телевизору и не умеют обходиться без электричества. «Из-за Сашки поцапались, вот еще…» — досадливо поморщился Славка, вспомнив вчерашнюю размолвку с Люськой. В прошлом году Сашка копался в раскольничьих книгах, которыми с помощью межбиблиотечного абонемента его снабжала Люська. А нынче увлекся чем-то другим, но чем именно, непонятно. Чудной он парень, Сашка Мямлин. У родителей приличная квартира в Калуге, а он, как приехал после культпросветучилища в Нылку, так и застрял тут. Должность незавидная — заведующий Домом культуры, образования явный недохват, живет в развалюшке у глухой бабки на краю поселка и доволен. В двадцать семь можно бы и поумнее быть, и о перспективе подумать. Где-то я его, впрочем, понимаю, рассуждал Леснев-младший. Может, поэтому и тянет меня иногда к нему. А вот батя мой с некоторых пор Сашку не одобряет. Перешел ему дорогу Сашка, увел у бати из-под носа Анечку Спицыну, брюнеточку-экономисточку с сушильного завода. Батя ей шоколадки и цветочки дарил, с работы до дома за три километра провожал и совсем было этой весной собрался предложение сделать, а Анечка вдруг свою любовную лодку к Сашке погнала. И батя совершенно испортился. Пять лет после смерти матери жил спокойно, а теперь… Да что тут говорить, скрутила старичка безответная любовь не хуже подагры. Вот с такими мыслями вышел Леснев-младший из дому. На крыльце сохли отцовские ботинки. Рядом стояли резиновые сапоги. Славка вдел в них ноги и сходил в конец двора к деревянной будочке, предназначенной для известных нужд. Потом потолковал через забор с соседом. Тот ладил машину, именуемую в просторечии тачкой. Покурили и поговорили о тачке. Этот механизм был нужен соседу для транспортировки сена из стога, который возвышался за огородом. А сено требовалось корове, которая, как выяснилось, сжирает массу корма, а молока дает мало. У соседа были свои трудности. У Славки — студента-медика — свои. И он подумал, что с удовольствием одолжил бы у соседа тачку, чтобы погрузить на нее свои трудности и отвезти куда-нибудь подальше. Да вот не поместятся они, пожалуй, на тележку, надо понадежнее транспорт искать. Такой причем, чтобы на этом возке и для Люськи место нашлось. Если говорить честно, Славка в общем-то из-за нее, Люськи, в Нылку приехал. И в прошлом году из-за нее приезжал, и в позапрошлом. Отец к его наездам стал с некоторых пор относиться довольно прохладно. Сначала Славка не понимал почему. Потом сообразил, что целится Леснев-стар-ший сына молодой мачехой обеспечить и одновременно опасается. Задумай Славка в Нылке осесть и на Люське жениться, отцу пришлось бы потесниться, а ему это совсем ни к чему, он планировал все хоромы целиком в распоряжение Анечки предоставить. Нынче сделал даже крупный шаг по пути устранения противоречий между городом и деревней — переоборудовал кладовку в ванную комнату. Стенки выложил белым кафелем, в кухне установил водогрейную колонку, устроил слив местного значения, словом, благоустроился. Реконструкцию Леснев-старший производил, конечно, не столько для себя, сколько для Анечки. Но она пренебрегла.
Летом и ближе к осени Нылка пахнет уксусом. И стар и млад по утрам вооружаются лубяными корзи — «нами и бегут в лес, благо он окружает поселок со всех сторон. Возвращаются нагруженные рыжими лисичками, ядреными белыми, блестящими влажными маслятами. В середине дня вся эта масса грибов валится в котлы на грибоварочных пунктах. Вот тогда-то и поднимается над Нылкой уксусный дух. В детстве Славка любил ходить в лес. Потом появились другие интересы. Но в это ясное, теплое утро ему вдруг захотелось пробежаться по старым местам. Прикинул, кого пригласить в компаньоны, и остановился на Сашке. Днем ему в Доме культуры делать нечего. Ну а если не удастся уговорить, можно сходить и одному, не заблудится. Корзину решился не брать, чтобы не смешить Нылку: здесь за грибами выходят затемно. Нашел кошелку и двинулся по длинной улице. Торопиться особенно было некуда, и Славка минут пять поболтал о том о сем с сослуживцем отца — кассиром сушильного завода Выходцевым. Старичок орудовал миниатюрными грабельками в палисаднике перед домом. Увидев Леснева-младшего, он аккуратно повесил грабли на штакетник, и они потолковали о цветах, о погоде, о болезнях. Старик больше нажимал на болезни, пожаловался на почки, которые ослабли, и еще на что-то, но Славка особенно не прислушивался и не запомнил всего перечня выходцевских хворей. Поинтересовался только, почему Евгений Васильевич не на работе, не вышел ли, часом, на пенсию. Но тот сообщил, что до пенсии ему трубить еще целый год, а сейчас он просто в отпуске. Он снова взялся за грабельки, а парень пошел дальше и до самого Сашкиного жилища больше ни с кем не разговаривал. Дал только сигарету Грише-дурачку. Этому мужику около сорока. В юности из него вышел бы классный баскетболист, да вот… Не может Гриша ни читать, ни писать, ни слова выговаривать. Возили его когда-то по больницам, потом отступились. Так и остался Гриша поселковым дурачком. Бродит, высматривает, где люди собираются яму копать; и уж если наглядит, от этого места его никакими силами не прогнать. Встанет около ямы столбом, смотрит, и лицо у него в этот момент делается каким-то просветленным, что ли. Словно ждет, что вот вынут люди сейчас из ямы что-то такое, что позарез Грише необходимо, без чего жизнь не в жизнь. Нылкинцам его поведение не сильно нравится, потому что Гриша ни одни похороны не пропускает. А кому приятно, когда человек, хоть и чокнутый, ухмыляется, стоя над разверстой могилой. И прогнать его невозможно — мужик сразу звереет, а кулаки у него подходящие, свяжешься — наплачешься. В разное время разные люди пытались как-то объяснить Гришины странности. Но объяснения не доказательства, предполагать можно что угодно, а истина все равно оставалась наглухо запечатанной в Гришиной голове. Если она есть, конечно, эта истина. Сашка считает, что есть. Он не был бы Сашкой, если бы думал иначе или хотя бы жил в ладу с логикой. Но у него с этой особой, по мнению Славки, сильно запутанные отношения. Недели две назад Леснев-младший застал его за странным занятием: Сашка накопал ямок на бабкином подворье, накидал в них разных предметов, вплоть до ассигнаций, прикрыл все это землей, позвал Гришу и стал извлекать добро из ямок. Гриша, ясное дело, радовался, лопотал что-то на своем тарабарском языке, заглядывал в ямки, но к вещам, которые появлялись на свет, относился с явным безразличием. Он несколько оживился, когда Сашка выкопал собачью цепочку. Гриша схватил ее, накинул Сашке на шею, поплясал вокруг изумленного парня, а потом… В общем, этот психологический эксперимент чуть не закончился генеральным побоищем: не будь Славки рядом, Гриша, пожалуй, задушил бы Сашку этой цепочкой. «Мне казалось, в Нылке только один дурак, — сказал Леснев-младший, когда они присели на завалинку отдышаться. — Что это за идиотские опыты?» Мямлин долго молчал, потом сказал: «Ты этого не поймешь». — «А ты, ты-то сам понимаешь?» Сашка вздохнул, покачал головой. «Очень мало, — признался он. — И я тебя попрошу: не говори никому об этом опыте. Мне кажется…» — «Что кажется?» — спросил Леснев. «Да нет, ничего. — Он улыбнулся каким-то своим мыслям. — Может, я ошибаюсь, может, тут что-то другое». — «Но чего ты добивался?» Мямлин удивился: «Как то есть чего? Хотел узнать, можно ли с Гришей поговорить». — «Ну и как? — осведомился Леснев. — Узнал?» Сашка помолчал, потом задумчиво произнес: «Поторопился я, надо было другую цепочку взять». На этом и увяла эта содержательная беседа молодых людей. Однако Славка дал слово никому не говорить о том, чему пришлось быть свидетелем. Но в голову эта картинка запала. Да и кому такое не западет в голову? В тот день, правда, Лесневу-младшему все это представлялось очередным Сашкиным «бзиком», не больше. Потом он стал думать иначе.
Глухая бабка дремала на солнышке, сидя на крылечке своей хаты. Славка поставил кошелку на землю и спросил, дома ли квартирант. Осведомляться пришлось во весь голос, но бабка только потрясла головой, повязанной двумя ситцевыми платками, и сердито сказала, что Сашка «с ночи не показывался». Парень поинтересовался, как нужно понимать эту загадочную фразу, и после серии наводящих вопросов выяснил, что нынешней ночью в бабкином доме произошло некое непонятное событие. Часов у бабки нет, поэтому сказать, когда квартирант возвратился, она не могла. Она спала на своей половине, слышать ничего не слышала, поскольку давно туга на ухо, однако о том, что ночью Сашка приходил домой, знала. О его появлении бабку всегда извещали половицы. Доски колебались, и в такт шагам квартиранта колебалась бабкина кровать, хоть Сашка и старался ступать поаккуратнее и раздевался в темноте, чтобы не тревожить хозяйку. В эту ночь он, едва войдя в дом, включил электричество. Бабка заявила, что парень был пьян и не иначе как в стельку, потому что учудил такую штуку, за которую голову оторвать и то мало. Когда бабка встала утром и собралась идти к корове, то обнаружила, что дверь ее комнаты не открывается. Подумала было, что «нутряной замок» сломался, — такое случалось, но вскоре сообразила, что дело не в замке, что просто Сашка задвинул щеколду со стороны своей комнаты, оставив бабке лишь один выход — через окно. Она долго стучала в дверь скалкой — квартирант не отзывался. Спустив на парня всех чертей, обитающих в пекле, бабка полезла в окно. Она намеревалась устроить ему веселенькое пробуждение, но из этого ничего не вышло — Сашки в доме не оказалось. Возле крыльца подсыхала лужа. Она напомнила Лесневу-младшему о том, что ночью шел дождь. Напрашивалось разумное объяснение: Сашка гулял с Анечкой и дождь загнал влюбленных под крышу. Что касается щеколды, то тут раздумывать не о чем. Сашка довольно рассеянный субъект, он просто забыл про щеколду. А если учесть Анечку, которая была рядом и, так сказать, усугубляла своим присутствием эту рассеянность, то оставалось лишь посочувствовать бабке и отправляться в лес. Вместо этого Славка обошел бабку и поднялся на крыльцо. Что толкнуло его зайти в дом, он потом никак не мог объяснить. Пошел — и все. Постоял какое-то время на пороге, затем шагнул в комнату. Все здесь вроде выглядело как всегда. Над кроватью висели фотографии. Снимков было много, но все на один сюжет — кругом лес, а в центре Анечка. На столе в обычном беспорядке валялись книги, на подоконнике стояла коричневая кастрюлька, накрытая листом бумаги. В углу синел старенький плащ. Нового нигде не было видно. Оглядевшись, Славка заметил, что исчезло зеленое нейлоновое пальто, которое Сашка за неимением платяного шкафа держал в том же углу под занавеской. Занавеска была на месте, а пальто не просматривалось. Заглянуть под кровать было секундным делом. Красного клетчатого чемодана, в котором Сашка хранил свою нехитрую движимость, будто и не было там никогда. — Что же это такое? — пробормотал Славка растерянно, глядя на бабку, стоявшую безмолвно в двери. Бабка вопроса не услышала. — Говорят, английская королева нашими грибками интересуется, — сообщил Миша Востриков. Он выговаривал слова медленно, по-деревенски. Они выкатывались из его рта, словно ядра, округлые, весомые, гладкие. А выпуклые коричневые глаза внимательно ощупывали лицо собеседника, проверяя реакцию. Собеседник, гость — следователь Степан Николаевич Кириллов — был занят обсасыванием куриной ножки, поэтому к сообщению о вкусах английской королевы отнесся равнодушно. Да и далековато от Нылки жила королева и к теме разговора следователя с участковым инспектором никакого отношения не имела. Следователя интересовало совсем другое: он хотел знать, что говорят в Нылке о Мямлине. — Разное болтают, — сказал участковый. — С Анютой эту историю связывают. Только я думаю, что это разговор нелепый. — Что за Анюта? — Экономистом она на сушильном. Любовь у Мямлина с ней будто бы расстроилась. Кириллов положил обглоданную косточку на тарелку. Мишина жена протянула накрахмаленный рушник. Но вытирать жирные пальцы об эту хрустящую белизну следователю показалось святотатством, и он, не обращая внимания на протестующие возгласы хозяев, пошел в кухню. Намыливая руки, подумал, что, может быть, и не такой уж нелепый этот разговор о поссорившихся влюбленных. Правда, они с Мишей еще не успели ни о чем толком поговорить: гостеприимный участковый потащил Кириллова от автобусной остановки к столу, а за столом беседа завертелась вокруг грибков да тарелок. Впрочем, пока дошло до грибков, Мишина жена, как выяснилось, учительница, успела немало рассказать о Нылке: о лесах, каких нигде нет; о цветах, которые только здесь и растут; о соловьях, которые поют в Нылке совсем не так, как в других местах. Говорила она так, что все время хотелось спросить словами чеховского Жигалова: «А тигры у вас в Нылке есть?» «И я бы нисколько не удивился, услышав положительный ответ», — подумал Кириллов с усмешкой. Уж очень горячо нахваливала Наталья Ивановна поселок, в котором родилась и выросла. Так и катался мячиком застольный разговор о том о сем, пока Миша не подкатил его к Анюте, а от Анюты возвратившийся из кухни Кириллов погнал его дальше, к обстоятельствам, сопутствовавшим таинственному исчезновению заведующего Нылкинским Домом культуры. Мямлин сбежал. К этой мысли склонялся Миша. Он уже переговорил с Анютой и с ее подругами, допросил приятелей Мямлина, и стала перед ним вырисовываться некая версия. — Анюта в тот день, — сказал он, — ключей от сейфа не того… Ну в общем в сумке своей необнаружила. А накануне она кассу у Выходцева приняла. Старик в отпуск пошел. В ящике на ночь деньги оставались. Могло, допустим, ограбление готовиться? Молодежь нынче неустойчивая. — Почему оставались деньги? — Порядок у них такой, — сказал Миша. — Для Леснева Андрея Силыча, главбуха ихнего, инструкций вроде и не существует. По правилам они обязаны зарплату в один день выдавать. А они процедуру растягивают. В первый день зарплату выдают, а на другой грибовары приходят: им на пунктах наличность нужна. На ночь тысячи три обычно остается. — Значит, это система? — И соблазн, — вздохнул Миша. Наталья Ивановна внесла розовые чашки и стала расставлять чайную посуду на столе, прислушиваясь к разговору. Кириллову показалось, что она хочет что-то сказать, но она лишь молча поправила сбившуюся скатерть и вышла из комнаты. Следователь проводил ее взглядом, отметил уверенную походку и подумал, что эта женщина знает себе цену. «А может, это профессиональное, — мелькнула мысль. — Когда двадцать или тридцать пар глаз смотрят тебе в спину, поневоле научишься не просто ходить, а выступать». Миша тем временем продолжал рассуждать: — Говорит, ключи потеряла. А ведь, если подумать, трудновато их из сумки выронить. Три ключа на кольце: упадут — зазвенят. Дырок в сумке у Анютки не отмечено. А около нее в тот вечер один Мямлин наблюдался. Плохого, конечно, я про Александра ничего сказать не могу. Но бывает всякое. Это «всякое» и ложилось в основание версии, простой и ясной. Мямлин выкрал ключи у Анюты, чтобы передать их некоему сообщнику. Но неожиданно устыдился и второго шага к преступлению не сделал. Ключи он гипотетическому сообщнику не отдал, и ограбление, таким образом, не состоялось. А сам Мямлин решил бежать, поскольку опасался мести сообщника. Да и совесть его, наверно, замучила. Изложив все это, Миша вытащил из кармана пачку «Явы», вытряхнул сигарету и, неторопливо размяв ее в пальцах, зажег. Наталья Ивановна поморщилась, заметив, что муж положил спичку на чайное блюдце, и поставила перед ним пепельницу. Потом протянула саркастически: — Вот уж не думала…
Миша на своей версии не настаивал. Не было намеков на то, что кто-то собирался покуситься на кассу сушильного завода. Да и Мямлин, как выяснилось после горячей защитительной речи Натальи Ивановны, не водил знакомств с подозрительными личностями и вообще не был способен на преступные действия. «Мальчик он тихий, скромный, — сказала Наталья Ивановна, — увлекается краеведением, кажется, даже мечтает написать историю поселка». В этом Кириллов убедился, когда посидел в тесном кабинетике директора Дома культуры под плакатом, призывавшим вступать в ряды ДОСААФ, и изучил содержимое письменного стола. Три ящика были заполнены репертуарными сборниками. Их следователь оставил без внимания. Четвертый был набит старыми журналами и вырезками из газет. Тенденция в общем-то была ясна. На увлечение парня краеведением, кстати, указывали и книги в квартире Мямлина, А здесь, в кабинете, в верхнем ящике стола еще лежал листок бумаги с несколькими строками машинописного текста. Под заголовком «Времена далекой старины» шла фраза: «Когда-то сотни тысяч лет назад вся территория нашего края была покрыта ледниками». После точки снова следовало «когда», и на этом текст обрывался. Видимо, два «когда» подряд не понравились автору, и он выдернул лист из машинки. Больше в столе не было ничего, если не считать тонкой собачьей цепочки: Кириллов показал ее Мише. Тот пожал плечами, и они вышли из клуба. Предстоял разговор с Анютой. Жила она на хуторе, который здесь назывался по-эстонски Мызой. Ударение Миша ставил на последнем слоге. Кириллов попытался было его поправить, но участковый засмеялся и сказал, что все нылкинцы произносят «Мыза». Откуда взялась эта Мыза в старообрядческом поселке, ни Миша, ни его жена не знали. Дорога на Мызу начиналась сразу за сушильным заводом и пролегала через сосновый лесок. Справа тянулось болотце, слева возвышались бугры, похожие на огромные муравейники. Болотце было покрыто кустарником. Бугры густо заросли сосняком. По этой дорожке Мямлин провожал Анюту домой, по этой дорожке он возвратился и в ту ночь, чтобы забрать чемодан и скрыться в неизвестном направлении. Сушильный заводик работал, но в конторе был выходной. Заводом, впрочем, это предприятие можно было назвать лишь с большой натяжкой. Это было старое, приземистое, длинное здание, окруженное потемневшими от времени сараями. Сушили здесь лук и грибы, картофель и морковь, поэтому пахло от завода, как от кастрюли с грибным супом. Контора — одноэтажный дом барачного типа — выходила фасадом на дорогу. У крыльца стоял велосипед. А на крыльце сидел пожилой мужичок с бородкой клинышком. На поясе у него висела кобура, а в руке мужичок держал стакан с чаем. Завидев участкового с незнакомцем, он накрыл стакан блюдечком, ловко перевернул и поставил рядом с собой. И Кириллову вспомнился базар в Баку, горки зелени на прилавках и около них опрокинутые таким же манером стаканы с чаем. — Нифонтов, — сказал Миша, когда они отошли от конторы. Нифонтов был последним, кто видел Мямлина в ту ночь. По времени, таким образом, получалось, что Мямлин ушел с квартиры где-то после двух часов. Но куда ушел Мямлин, было совершенно непонятно. Кассирша на вокзале, знавшая всех нылкинских жителей наперечет, сказала Мише, что парень ни ночью, ни утром билета не покупал. Такие же сведения поступили и с автобусной станции. Таксисты, ночевавшие в поселке, пассажира с красным клетчатым чемоданом не видели. Это, конечно, еще ни о чем не говорило — уехать из Нылки можно было и на попутном грузовике, и на частной машине. Не обязательно было и самому покупать билет. Смущало другое. Непостижимой казалась сама неожиданность и поспешность отъезда. Кириллов еще не вник как следует в дело, возбужденное через две недели после загадочного исчезновения Мямлина. К следователю поступил официальный запрос из Нальского управления культуры. Двенадцатого августа Мямлин должен был выступать на семинаре в Нальске с докладом об опыте внедрения в жизнь новых советских обрядов в Нылкинском Доме культуры. Но в Нальск он не приехал. На семинаре не был. Когда в Нальске стало известно, что Мямлина нет и в Нылке, послали запрос его родителям в Калугу. Ответ оттуда пришел не сразу. Квартира была на замке, а родители вместе с младшим братом Сашки — двенадцатилетним Антоном — отдыхали в деревне под Угличем. Как выяснилось, ни в Калугу, ни в деревню под Угличем Мямлин не приезжал. Родители Сашки прислали в Нальск телеграмму с требованием выяснить, что случилось с их сыном. Последнее письмо они получили от него за три дня до отъезда из дому. В нем сын сообщал, что отпуск ему дают в конце августа и он приедет домой. Поэтому Мямлины быстренько отправились в деревню, чтобы к приезду сына быть дома. Вот, пожалуй, и все, что знал Степан Николаевич Кириллов об этом деле, выезжая в Нылку. Очень немного было ему известно и о самом Мямлине. Но по мере накопления фактов и сведений он все меньше и меньше верил в предположение о бегстве. Не в Мишину версию о несостоявшемся ограблении, а в сам факт отъезда. Не на поспешное бегство указывали данные, имевшиеся в распоряжении следствия, а на поспешную инсценировку этого самого бегства. И все-таки Степан Николаевич, следователь опытный и в годах, едва не попался на крючок… Да, тигров в Нылке не было, но другие не менее свирепые звери водились. Множественное число тут, конечно, ни при чем — зверь был, по-видимому, один, однако он так ловко запутал следы, что у охотников стало двоиться в глазах. Он все учел: и ситуацию, и обстоятельства, и поведение заинтересованных лиц, и даже психологию следователя. У него было два месяца, чтобы все учесть и продумать. Шестьдесят дней он соображал, как сделает ЭТО. Но логика подвела его. Он пытался предугадать, как развернутся события после того, как он сделает ЭТО. И предугадал почти все. Почти… — А вот и Мыза наша. Миша поддел ногой сосновую шишку, валявшуюся на дороге. Лес расступился. Впереди, метрах в трехстах, виднелся двухэтажный дом из красного кирпича. Вокруг него домики поменьше. От опушки леса до Мызы простиралось картофельное поле. За домами текла неширокая речка. — Курорт, — сказал Миша. — До войны тут детдом размещался. Теперь рабочие с сушильного живут. Народ новый. Из старожилов только Спицыны, как присохли. В его голосе прозвучала какая-то странная нотка. — А в чем дело? — поинтересовался Кириллов. — Не любят в Нылке Спицыных. «Иродовым племенем» зовут. Теперь, конечно, не так, старики поумирали, а молодым ни к чему. Но поселок ведь. Если что прилипнет, считай, навечно. Родительские грехи и детям и внукам долго отрыгаются. — Были грехи? — Не библейские, конечно, не в том масштабе. Да и Ирод юбку носил. Погубила, говорят, Анюткина бабка детишек из этого вот детдома. Над семейством с тех пор и повисло проклятье. — Как же это? — Эвакуация была, — хмуро откликнулся Миша. — Ребят с Мызы почти всех увезли. Осталась группа малолеток. И бабенка эта с ними — заведовала она тогда детдомом. К утру им должны были фургончик подать. А потом, недели через две, партизанский связной обнаружил мертвых детишек в лесниковой избушке. Отсюда километров тридцать. Завезла, видно, и бросила. Были вроде свидетели, которые видели, как она их по той дороге везла. Сама будто бы за шофера сидела. А в Нылку уже немцы входили. После войны по округе слух пошел — видели эту женщину где-то на юге. Ну а как на самом деле было, знает, наверное, одна она. Если жива, конечно. — Искали ее? — Было дело. Да тем и кончилось, — ответил Миша и двинулся вперед. Картофельное поле осталось позади. Теперь они пересекали просторный двор. Здесь шла обычная воскресная жизнь. На веревках, протянутых между деревьями, сушилось белье. Откуда-то из-за угла, скрытого от взоров простынями и пододеяльниками, доносился стук костяшек домино. На скамейке у детской песочницы сидели женщины. Одна с книгой, другая проворно шевелила спицами, остальные без дела. Но все: и та, что держала в руках книгу, и та, что со спицами, — проводили внимательным взглядом участкового инспектора и незнакомца, пока они не нырнули в узкую щель между двумя сараями. Щель эта вывела их прямо к крыльцу аккуратного бревенчатого домика с резными оконными наличниками. Дверь открыла Анюта. Родителей дома не было. Она предложила гостям стулья, а сама села на диван. В комнате было тесновато, от мебели веяло стариной. Здесь стояли два комода, красный и черный. На черном лежали раковинки, стеклянные шарики и какие-то стеклянные же брусочки. На красном центральное место в композиции из разных безделушек занимал портрет молодой женщины, — в чертах лица которой угадывалось сходство с Анютой. «Мать», — решил Кириллов. Но, бросив взгляд на Мишу, понял, что ошибся. И еще он понял, что Спицыны в вину бабки не верят и что, по всей видимости, между этим семейством и старожилами Нылки существуют некие сложные взаимоотношения. Анюта оказалась девицей молчаливой. Держалась она спокойно, настолько, насколько можно быть спокойной в такой ситуации. Была она красива, эта полненькая смугляночка. Она понимала, что красива, но она «не высовывалась», как образно выразился Миша, когда они вышли от Спицыных. Беседа с ней затянулась, но ничего нового Анюта не сказала. Она недоумевала — и только. Но она часто, Кириллову показалось даже, что чересчур часто, повторяла одну и ту же фразу: «Мне он ничего не сказал». В этом назойливом рефрене он уловил некий подтекст, до которого так и не сумел добраться. Он заходил с флангов и с тыла, но всюду натыкался на глухую стену, от которой вопросы отскакивали, как целлулоидные шарики. Не то она сожалела о чем-то, не то укоряла Мямлина, который должен был сказать ей нечто важное, но вот не сказал — то ли забыл, то ли не захотел. Ничего не сказал… Ушел и исчез в августовской ночи. А пришел два месяца назад, в начале июня. Тоже было воскресенье. Пришел на Мызу, походил вокруг каменного дома, зачем-то по стене ладонью похлопал. Анюта с книжкой на скамейке возле песочницы сидела. Мямлин подошел к ней, поздоровался, присел рядом. «Хорошо у вас тут», — сказал. Разговорились, потом в кино вместе пошли. Был он в тот вечер рассеян, словно думал о чем-то своем, на Анютины вопросы отвечал невпопад. Она даже обиделась. Но вскоре все изменилось, все пошло ладом, как у всех, как всегда, как в хороших песнях поется. За Анютой в те дни главбух Андрей Силыч Леснев ухаживал. Но, узнав про Мямлина, отошел бухгалтер в тень, стушевался. Заслонил его Мямлин, на второй план отодвинул. И вдруг ушел. Не сказал ничего, не написал ничего. Странно, если подумать… Если подумать о сложных отношениях семьи Спицыных с нылкинскими старожилами. Ничего не сказал… «А может, спрашивал Мямлин?» — подумал Кириллов. — Анна Семеновна, один деликатный вопрос: Мямлин когда-нибудь интересовался прошлым вашей семьи? — Нет. — Не было разговоров на эту тему? — Нет, никогда…
Люська лежала на спине, запрокинув лицо к небу, грызла травинку и следила за бегущими облаками. При этом она каким-то образом ухитрялась следить и за Славкой, потому что стоило ему взглянуть на нее, Люська тут же это уловила и села, прислонившись к теплому срубу колодца. Место у колодца — их самое любимое место на нифонтовском дворе. Когда Славка приходит, Люська вытаскивает из сараюшки старое одеяло, и они ложатся загорать. Между делом они обсуждают кое-какие проблемы личного характера. Она села, а Славка встал и взялся двумя руками за тяжелое позеленевшее ведро. — Смотри не простудись, — предупредила Люська. — Папа до сих пор кашляет. — Как же это его угораздило в такую жару? — Так же вот как и тебя. — Она выплюнула травинку и дернула парня за ногу. — Сядь. Ты был у следователя? Леснев-младший был у следователя. Когда он туда шел, то думал, что его будут расспрашивать о Сашке. Но с самого начала разговор повернулся на сто восемьдесят градусов, и каким-то странным образом персона самого Славки выдвинулась на первый план. Ему это активно не понравилось. А когда Кириллов стал осторожно подбираться к Люське, он вообще вышел из себя и наговорил ерунды. — Ну что же ты, — сказала Люська. — О чем вы говорили? — Обо всем понемногу. Официально зарегистрировано, что я не был на Луне, не играю в футбол и не люблю глупых вопросов. — Я давно говорила, что ты отрицательный тип. — Подожди денек. Он тебе еще не прислал повестки? — Мне? Люська округлила глаза. У нее очень интересные глаза. Серые и еще с темным ободком вокруг радужной. Редкие глаза. Неземные какие-то. — Тебе, — кивнул он. — Но что я ему могу рассказать о Саше? — А он тебя про него и не спросит. Его, по-моему, интригует твое инопланетное происхождение. — Что? На ее «что» у Славки не было ответа. Ему как-то не приходило в голову поинтересоваться, откуда, собственно, взялась Люська. Он считал ее коренной жительницей Нылки. Дом Нифонтовых был для него домом Нифонтовых, а старик Нифонтов стариком Нифонтовым. Все это: и дом и старик — существовало для него изначально. И дом и старик в его сознании составляли неразрывное целое с Нылкой. В доме жила Люська. Она тоже была неразрывно связана с Нылкой. И еще с библиотекой, в которой работала. Три года назад он, приехав на каникулы к отцу, забрел от нечего делать в библиотеку и увидел серые космические глаза… Он их и раньше видел, с Люськой учился в одной школе. Но она шла на два класса позади, и ее глаза не казались тогда ему космическими. А в библиотеке вдруг показались. Конечно, если бы они виделись почаще, он бы, наверное, и знал о ней побольше. И не ошеломили бы его вопросы Кириллова, очень, между прочим, аккуратные вопросы, замаскированные, правда, рядовым человеческим любопытством, но совсем не простые, если попытаться поглубже вникнуть в них, проанализировать. — Вот уж не думал, что ты девочка с тайной, — сказал Леснев-младший Люське. Она как будто не удивилась. Сидела в каком-то странном оцепенении, вперив взгляд в пространство, словно решала некую сложную задачу, а решение не давалось, ускользало. — В самом деле, Люська, — продолжал он. — Почему я никогда не видел фотографии твоей матери? Или старик прячет их в сундуке? — Их нет, — сказала она. — Все сгорело… — Расскажи. — Если бы я знала, — сказала Люська. — Папа не любит вспоминать это: мама погибла во время пожара, а меня успели спасти. Вот и все. Было мне тогда полтора года. — Это было здесь? — В Баку. Здесь жила папина мать. Мы и приехали. Она снова замолчала. Теперь надолго. Потом тряхнула головой и пробормотала: — Невероятно. — Что? — спросил он машинально. Люська посмотрела на парня как на незнакомца и сказала: — Понимаешь, Славка, я, наверное, действительно девочка с тайной. Саша тоже хотел посмотреть мамины фотографии.
— Невозможно представить. Андрей Силыч Леснев кинул на Кириллова быстрый взгляд и тут же опустил его в чашку. Чай главбух сушильного завода пил жидкий. Степан Николаевич отметил про себя, что в доме участкового инспектора этот напиток ему нравился больше: Наталья Ивановна умела заваривать и не жалела заварки, однако критиковать жиденький главбуховский чай вслух счел излишним. В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят, а в этом и тем более следовало помалкивать, ибо не все в этом монастыре было понятно. Он прислушивался к словам, которые произносил Андрей Силыч, присматривался к самому Андрею Силычу и к жилищу Андрея Силыча. Жилище было на должном уровне. Трех комнат с просторной кухней и самодельной ванной для пожилого вдовца, может, было и многовато, но следователь уже был наслышан о матримониальных планах Андрея Силыча и поэтому ничему особенно не удивлялся: ни фарфоровому изобилию в серванте, ни белым, словно только что из магазина, кастрюлям, кастрюлькам и кастрюлечкам на кухне. Дом ждал хозяйку. Впрочем, Андрей Силыч отлично управлялся с хозяйством и без женской руки: уж очень все было вылизано в доме. Но не скажешь же об этом Андрею Силычу. Оскорбился бы он, хоть и доходил в аккуратности своей до педантизма. Когда Кириллов большой любитель рыться в чужих книгах — неловко всунул какую-то брошюрку на полку, Андрей Силыч немедленно навел порядок: поставил книжку на место и слегка постучал по корешкам остальных, подравнивая их строй. Меблировка комнат в доме Андрея Силыча была выдержана в современном малогабаритном стиле. Сам он тоже хотел казаться современным и даже молодым, хотя было ему наверняка за пятьдесят. Красавцем Леснева-старшего назвать было бы затруднительно: он был сутуловат, да и глаза — маленькие, прозрачно-голубые, чересчур близко посаженные к носу — не украшали в общем-то заурядную внешность Леснева-старшего. Тем не менее недостатки не очень выпирали: главбух умело компенсировал их удачно скроенной одеждой и выглядел поэтому вполне на уровне. Сына дома не было. Кириллов, собственно, так и рассчитывал — прийти, когда его не будет дома. Парень мог помешать. А Степану Николаевичу хотелось потолковать с Андреем Силычем о кое-каких деликатных вещах. Треугольник Леснев — Анюта — Мямлин хоть и был намечен пунктирно, тем не менее сбрасывать его со счетов не следовало. «Невозможно представить», — сказал Андрей Силыч, когда от разговоров на отвлеченные темы они перешли непосредственно к обсуждению происшествия. Он пил чай мелкими глоточками и, поигрывая серебряной ложечкой, сообщил между прочим, что Нылка — поселок невеликий, что все люди тут на виду, что плохого человека от хорошего отличить можно запросто. «В основном же, — сказал Андрей Силыч, — живут в Нылке люди хорошие». К ним он причислил и Мямлина, человека молодого, быть может несколько инфантильного, но в целом положительного, насколько это известно Андрею Силычу. Лично с Мямлиным Андрею Силычу беседовать не приходилось, и все представления об этой фигуре у него, так сказать, визуальные. Поэтому Андрей Силыч просто не понимает, чем он может помочь товарищу Кириллову в его разысканиях. — Так уж и ничем? — спросил Кириллов, отставляя в сторону недопитую чашку. — Невозможно представить, — готовно откликнулся главбух. — Почему же невозможно, — возразил следователь. — Очень даже возможно, Андрей Силыч. По некоторым данным можно, например, судить, что в ту ночь Мямлин вернулся к себе не один. Вам, вероятно, известно, на чем основывается это суждение? — А вы юморист, — хохотнул Андрей Силыч. — Не знаю, право, что и делать — смеяться или оскорбляться. — По-моему, вы уже решили, что делать. — Да, я смеюсь… Но как вы могли подумать? Чтобы я… Нет, невозможно представить. — Вы никогда не разговаривали с Мямлиным? — Я не мог бы унизиться до этого, — хмуро произнес Андрей Силыч. — Неужели вы не понимаете? — Может быть, и понимаю, — сказал Кириллов. — И вы не делали попыток объясниться с Анной Семеновной? Бухгалтер медленно покачал головой. — Зачем? Все ушло. Давайте лучше прекратим этот разговор… Да, кажется, эта Анюта оставила у него царапину на сердце. — Хорошо, — согласился Кириллов. — Но есть один вопрос: вас не смущало прошлое этой семьи? Женитьба на Анне Семеновне, будем говорить прямо, могла ведь как-то повлиять… — На мои отношения кое с кем? Безусловно. Но я, знаете ли, не верю… — Есть основания? — Да нет. Просто невозможно представить… Я помню Анну Тимофеевну… Вот так! Значит, Анюте дали бабкино имя. Следователя все больше и больше занимала та старая история, мрачная история, непонятная, каким-то странным образом пробившаяся вдруг в нынешний день. Она неожиданно всплывала в разговорах, которые даже не касались непосредственно Анюты. В его блокноте была дважды подчеркнута красным карандашом фамилия «Нифонтов». Вахтер, оказывается, несколько раз толковал о чем-то с Мямлиным на крылечке конторы. Нашелся свидетель — некто Чуриков, известный всей Нылке пьяница, который клятвенно заверял, что «слышал собственноручно»: говорили Нифонтов с Мямлиным об Анютиной бабке, тихо говорили, но Чуриков-то понял — другого «ирода» в поселке отродясь не было. Удивило это Чурикова. Потому что забыта была та история, и бабка была забыта, и имя ее было давно предано забвению. Сам Чуриков знал о той истории не больше участкового инспектора Миши Вострикова. Да и вообще, кто что знал? Все — с чужих слов, через десятые руки. Поэтому и относился серьезный и основательный Миша к ней, к этой истории, как к легенде. Поди сейчас разберись, что выдумали, а что было на самом деле. Но вот «слышал собственноручно» Чуриков, слышал — и баста. И пополз по Нылке слушок, в который вплелась еще одна легенда, совсем уж несообразная, но интригующая, волнующая воображение именно этой несообразностью своей. Стоял будто бы в давние времена на месте нынешней Мызы большой купеческий дом. Владел им известный миллионщик Рузаев. Владел, но не жил никогда. А перед смертью приехал в Нылку с молодой женой. Незадолго до революции приехал, захотелось поклониться родным местам — из старообрядцев был купец. И помер вскоре после приезда. А умирая, наказал молодой жене, чтобы похоронила его тут же, в усадьбе. И чтобы на грудь ему положила не то Библию, не то Часослов в обложке из чистого золота. А из могилы чтобы вывела провода и протянула бы их к себе в спальню, а над кроватью чтобы звоночек электрический установила: сомневался вроде старичок, что умирает, вот и подстраховывался на всякий случай. Жена приказание исполнила, но натура ее впечатлительная не выдержала — сбежала она из этого дома, и следы ее затерялись. После революции стали дом под жилье приспосабливать и решили, что покойнику негоже под окнами находиться. Памятник черного мрамора сняли, а останки купца единоверцы перенесли на кладбище, и выяснилось, что никаких намеков на существование линии связи с тем светом не было: ни в могиле, ни в доме проводов не нашли. Ни Библии, ни Часослова в золотой обложке тоже не обнаружилось. Что в этой легенде было правдой, что выдумкой, определить представлялось невозможным: все было так давно, что если что и было, то оно давно быльем поросло: утонули факты в наслоениях из домыслов, перед которыми здравый смысл отступал. Но это было еще не все. На мифический звонок с того света наматывалась, как на шпульку, история гибели детдомовских ребят. Оказалось, что погибли не все восемнадцать — один выжил. Оказалось, что мальчик этот вырос и остался в Нылке, остался на амплуа поселкового дурачка, поскольку дурачком он был от рождения. Оказалось, что мальчик этот (тогда ему было лет пять) пользовался особым расположением Анютиной бабки (тогда тридцатилетней женщины), ходил за ней по пятам и часто оставался в квартире на попечении Семена, десятилетнего сына Анны Тимофеевны. Муж ее погиб на озере Хасан. В детдоме, которым заведовала Анна Тимофеевна, работала судомойкой ее старуха свекровь, в сорок первом году ей было за шестьдесят. Эвакуироваться старуха не захотела. А Анна Тимофеевна, увозя ребятишек с Мызы, сына своего оставила ей. Впоследствии этот факт был соответствующим образом истолкован. Примерно так же был истолкован и другой факт. Тот самый партизанский связной, обнаруживший трупы ребятишек в лесниковой избушке, никогда не обнаружил бы их, если бы не наткнулся на Гришу-дурачка, лежавшего без сознания под крылечком. Дверь была заперта. Парень взломал замок и увидел картину, которая бросила его в дрожь. Дети погибли в домике без пищи и воды. А Гриша лежал возле лужи, это его и спасло. В округе долго судили-рядили по поводу происшедшего, мнение было единодушным: «Пожалела, курва, своего любимчика, снаружи оставила». А в поведении любимчика стали выявляться странности. Сначала их не замечали, потом умы наблюдательные и пытливые принялись подыскивать им объяснения. В таких случаях всегда оказывается, что чем объяснение фантастичнее, тем охотнее ему верят. Гриша любил смотреть, как копают ямы, — все ясно: значит, к этому зрелищу он приучен. Приохотила же его к такому времяпрепровождению, конечно, Анютина бабка. Вспомнили: видели ее частенько с лопатой в детдомовском дворе. Будто бы яблони сажала. Но какие уж там яблони… Могилку рузаевскую отыскивала, золотые корочки хотела раздобыть… В этой точке и стыковались две легенды, от которых можно бы попросту отмахнуться, если бы не… Если бы не было намеков на то, что эти легенды занимали воображение таинственно исчезнувшего Мямлина. Расспрашивал Мямлин нылкинских старожилов и о черном памятнике, и о лесниковой избушке. Расспрашивал, записывал. Только давно все это было, еще зимой. К лету вроде интерес к этому делу потерял, бросил свои занятия. То ли понял бесполезность поисков, то ли нашел некую зацепку, поворотный пункт, из которого вышел на новую дорожку. В этой связи крайне любопытными представлялись показания Чурикова, который «слышал собственноручно…». Следователь навел справки о Нифонтове и с изумлением обнаружил, что в биографии старика вахтера далеко не все ясно и понятно. Когда Кириллов спросил Мишу Вострикова, не знает ли он, почему Нифонтов, в прошлом квалифицированный буровой мастер, вдруг оставил без видимых причин высокооплачиваемую работу в Баку и приехал в Нылку, Миша пожал плечами и сказал, что «была какая-то трагедия в его личной жизни». Не то он неудачно женился, не то были еще некие обстоятельства, о которых Нифонтов предпочитал не распространяться, но, кажется, его жена покончила с собой и спалила дом, в котором Нифонтовы жили в Баку. При этом едва не погибла дочь Нифонтова. «Говорили, — сказал Миша, — что баба его сошла с ума, а сам он с тех пор будто ушибленный». И к этому-то вот «ушибленному» человеку вдруг пошел Мямлин, пошел с разговорами о делах, казалось бы не имеющих отношения к Нифонтову. И было это совсем недавно. А к Анюте Мямлин пришел два месяца назад. Но Анюте он не сказал ничего…
— Я помню Анну Тимофеевну, — сказал Андрей Силыч. — Конечно, это все мальчишеские впечатления, мне было что-то около девятнадцати, когда началась война. Что тут происходило во время эвакуации, не знаю, я уже был в армии. Но я не верю молве. Невозможно представить. Это была добрая женщина. Не понимаю, как случилось, что ее превратили в чудовище. Вы еще не говорили с Евгением Васильевичем? — С вашим кассиром? Нет, а что? — Да ничего особенного. Это ведь он видел ее в Баку. — В Баку? — Да. Это было в пятьдесят втором. Выходцев ведь не всегда был кассиром. Он знал и лучшие времена. Если бы не болезнь, Евгений Васильевич жил бы сейчас в столице, заправлял бы отделом в Министерстве финансов, не меньше. Умнейший человек. Но хроник… — В каком смысле? Андрей Силыч улыбнулся. — Не в том. У него что-то с легкими. Что-то аллергическое. Город ему противопоказан. Началось это после войны. Он какое-то время крепился, не хотел бросать работу в Нальске, в промбанке, объездил чуть ли не все морские курорты страны, но ничего не помогло. И когда умер его отец, врач, между прочим, Евгений Васильевич вернулся в Нылку. — Почему «между прочим»? — Я не совсем точно выразился. Его отец, хотел я сказать, между прочим, тоже страдал этой болезнью. Так что, видимо, она наследственная. — Мы, кажется, отвлеклись… — Да, я говорил, что Евгений Васильевич видел Анну Тимофеевну в Баку. Он сидел в вагоне. Поезд тронулся, и в это время он обратил внимание на женщину, стоявшую в стороне от толпы провожающих. Она кому-то махала рукой. И Выходцев узнал ее. Она мало изменилась, выглядела молодо, только на щеке виднелся чуть приметный след от шрама, которого раньше не было. — И… — И все, — сказал Андрей Силыч. — Вы что же, не верите Выходцеву? — Он мог и ошибиться. Андрей Силыч задумчиво пощелкал ногтем по чашке. Кириллов глядел мимо него, в окно. На Нылку опускался вечер. Мимо дома шло стадо коров. Черно-белая буренка отделилась от стада и, опустив рогатую голову, двинулась навстречу женщине, поджидавшей ее у ворот напротив с куском хлеба в руках. «Деревня, — подумал Кириллов. — Деревня, про которую давно сказано, что все тут на виду, что все друг друга знают как облупленных. А вот поди ж ты, раскрути катушечку, распутай бабкин клубок. Да что там — распутай. Ты найди его сначала, сообрази, куда он завалился, этот клубочек — под кровать или, может, куда подальше». — Андрей Силыч, — сказал Кириллов, проводив взглядом буренку. — Мы только что говорили о событии двадцатипятилетней давности. А вы помните все так, как будто Выходцев вчера явился из Баку. Этот уплывающий перрон, лица и женщина со шрамом. Понимаете, о чем я? — Это и было вчера. — Что было? — Евгений Васильевич вспомнил про шрам вчера. Мы… — Простите, нельзя ли по порядку. Он был у вас вчера? — Нет, я пошел к нему. Этот мальчик, вы понимаете, о ком я говорю… Мое имя как-то связывают с ним. Вы тоже… — Он безнадежно махнул рукой. — Ладно, не буду… Это же Нылка, тут обсуждают каждый твой шаг, многое причем толкуется превратно. Иногда услышишь такое, что просто невозможно представить… Он помолчал, пытаясь, видимо, что-то представить, но убедился, что это невозможно, и сказал: — Мне захотелось поговорить с умным, непредубежденным человеком. — Вы так уверенно говорите о нем? — Двадцать лет ведь немало, не правда ли? — Немало, — согласился Кириллов, подумав, что Андрей Силыч то ли забыл, то ли не пожелал объяснить, почему ему вдруг захотелось нанести визит «непредубежденному человеку». А потом и вопрос такой задал, но Леснев опять ушел от прямого ответа, заменив его дифирамбами Выходцеву. — Андрей Силыч, — сухо прервал Кириллов его излияния. — Мы не сдвинемся с места, пока мне не станут ясны побудительные причины… Я готов вам поверить, что Евгений Васильевич — прекрасный человек, отзывчивый человек и тэ дэ и тэ пэ. Но ведь вы к нему не за сочувствием ходили, у вас была цель. И, как я понимаю, вечер воспоминаний был устроен именно ради этой цели: вам необходимо было поговорить с Выходцевым о той женщине из детдома. Вам нужно было убедиться… В чем, Андрей Силыч? Он глухо пробормотал: — Евгений Васильевич мог ошибиться… — Ну так что же? Вам-то это зачем понадобилось? Андрей Силыч молчал.
Они так и не сдвинулись с места. Весь последующий разговор был нагромождением из «невозможно представить», и Кириллов ушел ни с чем. Многое как было, так и осталось непонятным, необъясненным. Встреча эта понимания не прибавила. «Это неправда, что следователи любят запутанные дела», — досадливо думал Кириллов по пути в гостиницу. Они любят рассказывать, как они распутывали запутанные дела. А вот о делах, которые им не удалось распутать, они предпочитают помалкивать; о том, как они балдели, сталкиваясь с фактами, которые не поддавались объяснению, с уликами, которые уличали невинных людей; словом, о том, что принято называть издержками производства. Степан Николаевич Кириллов считал, что он, в общем-то, не составляет исключения, и, шагая от домика главбуха, вяло думал о том, что ему ужасно надоела нылкинская гостиница с коммунальными услугами во дворе, с пружинной звенящей кроватью и с храпящим соседом по номеру. Сегодняшний разговор с Андреем Силычем убедил его окончательно, что он, — Кириллов, человек обреченный. Даже обильные обеды, которые давала в его честь Наталья Ивановна вот уже неделю, не очень-то утешали. Да и неудобно ему было перед Натальей Ивановной. Но деться было некуда: столовую нылкинские общепитовские деятели закрыли на ремонт, а ресторан пока еще едва поднялся от фундамента. Вот такие трудности. Вот о них-то и размышлял Степан Николаевич, неторопливо шагая по темной улице. На тумбочке в номере около его кровати лежал пакетик с пряниками, а на столе стоял графин с водой, в которую можно было эти пряники макать. Андрей Силыч, правда, напоил его чаем, но попросить у главбуха, скажем, баранью котлету или жареной картошки Кириллов не мог — служба не позволяла. «Невозможно представить»… Да нет, представить-то как раз было можно. Уже прочесывались окрестные леса, уже были посланы запросы в Баку и другие города страны, уже поднимались архивные дела двадцати- и тридцатилетней давности, уже высвечивался круг, в котором вырисовывались причастные к делу лица. Одно за другим. И все они, как мотыльки, летели на лампочку, которую то ли по неосторожности, то ли сознательно включил Мямлин, скромный парень, увлекшийся краеведением. Включил и исчез. Как же ему удалось добраться до выключателя? И что толкнуло его? Кириллов постоял у дверей гостиницы и пошел прочь. Прочь от пряников и навстречу такому приключению, какое не привидится, пожалуй, и в дурном сне. Погруженный в свои невеселые размышления, он шел и шел просто вперед, без определенной цели. Давно осталась позади центральная улица, которую здесь почему-то все называли Невским, хотя в самом-то деле у нее было более прозаическое название — Коммунальная; свернул в незнакомый переулок, потом в другой. Здесь было потемнее, чем в центре. Окна многих домов слабо сияли призрачным голубоватым светом — нылкинцы смотрели телевизоры. Гуляющей публики не было видно. Лишь кое-где над лавочками возле ворот белели старушечьи платочки или угадывались очертания уединившихся парочек. Пьяного он встретил в конце короткой улицы, упиравшейся в лес. Человек стоял, прислонившись спиной к каштану, и Кириллов увидел его только тогда, когда поравнялся с деревом. Степан Николаевич узнал его. Пьяным был Гриша-дурачок. Он отделился от дерева и, помахивая обрывком веревки, описал около Кириллова окружность.

Резко пахнуло спиртным. У Гриши была довольно зверская физиономия и телосложение кулачного бойца. В Нылке говорили, что Гриша субъект абсолютно безобидный, что за всю свою жизнь он никому не причинил зла, но кто может поручиться за пьяного… А это был не просто пьяный, перед носом Кириллова тряс веревкой идиот, которого кто-то напоил допьяна. Гриша долго кружился, потом выпустил веревку, бросился на колени и стал совершенно по-собачьи разгребать землю руками. Потом припал губами к ямке и замер. В груди у него что-то клокотало. И Кириллов вдруг понял, что он плачет. Бледный серпик луны, выбившийся из-за туч, освещал эту странную сцену. За спиной скрипнула калитка. Вышла женщина. — Испугал он вас? — спросила она Кириллова и пояснила: — Он всегда так — как выпьет, так и начинает страдать. — Зачем же вы позволяете ему пить? — Так ведь не углядишь. Мужики нет-нет да и поднесут стопочку. А ему много и не надо… — И долго он страдать будет? — Нет. Сейчас вот веревочку зароет и успокоится. Он ведь тихий…
II. Нити
Он стоял в толпе. Чтобы лучше видеть, он выбрал место повыше, влез на сухую болотную кочку. Он мог и не делать этого, потому что знал… Если бы кто-нибудь бросил сейчас взгляд на его лицо, то не исключено, что этот кто-то мог бы призадуматься. Но на него никто не смотрел. Хмурые взгляды людей были прикованы к трупу. Убийца старался на него не глядеть. Он слушал. Он вслушивался в отрывочные реплики, которыми обменивались оперативники, он анализировал их, оценивал. Ему хотелось понять, о чем они думают. Он не понял ничего: оперативники были скупы на слова. На траве лежал мокрый красный клетчатый чемодан. На траве лежали связки из обрезков дюймовых водопроводных труб. И то, что было не так давно человеком, тоже лежало на траве. А то, что давно уже перестало быть человеком, стояло на сухой болотной кочке и пыталось сообразить, все ли оно сделало правильно. Оно умело соображать…В предчувствия можно верить и можно не верить, но никуда от них не денешься. Бывает так иногда: что-нибудь случится, и человек думает: «Знал ведь я, куда оно повернется, догадывался». Кажется, это называется вероятностным прогнозированием. Мозг оценивает наличную информацию и делает соответствующий вывод. Сознание при этом за всем процессом не успевает, ему достается только конечный результат. И человек говорит: «А знаете ли, я ведь это предчувствовал». Кое-кто называет это интуицией, кое-кто относит к таинственным явлениям человеческой психики, но, как бы там ни обстояло с терминологией, о наличии самого явления спорить не приходится: каждый с ним сталкивался. О том, что Мямлин убит, Кириллов и Востриков подозревали еще в те дни, когда следствие только начиналось. Они, правда, не говорили об этом вслух, меньше всего им хотелось выступать в роли оракулов или ясновидящих и щеголять друг перед другом своей проницательностью. Профессиональная проницательность, как правило, должна базироваться на точных фактах. А таковых в то время не было. Их, впрочем, не имелось и в ту минуту, когда слово «убит» было наконец произнесено. Это произошло, когда Миша однажды явился в гостиницу к Кириллову и хмуро сказал: «Проверил все: не мог он уехать, разве только пешком ушел». — «Глупо пешком-то», — возразил Кириллов. «Да уж куда глупее», — кивнул Миша. «Что же выходит?» — спросил Кириллов. «Искать надо», — сказал Миша. Искать труп… В Нылке сотни домов, сотни дворов с погребами и надворными постройками. Нылка окружена лесами и болотами. Где искать? Да и может, все-таки жив Мямлин, может, эти ни на чем в общем-то не основанные домыслы, если отбросить предчувствия, — просто плод разыгравшегося воображения? Кириллов представил себе поисковиков, бродящих по дворам со щупами в руках, стайки детей, которые неизбежно будут сопровождать каждый их шаг, косые взгляды нылкинцев. Он представил себе все это и сказал: «Начнем с окрестностей, а с поселком подождем, может, что-нибудь еще прояснится». Однако к тому дню, когда труп был обнаружен, почти ничего не прояснилось. Прояснения стали намечаться после экспертизы. Мямлин был убит выстрелом в затылок. Тело его было притоплено в неглубоком болотце, мимо которого проходила дорога на Мызу, примерно в полутора километрах от сушильного завода. Поблизости был найден и чемодан. Грузом служили связки из обрезков водопроводных труб. Кириллова поразила аккуратность, с которой были сделаны эти связки, чем-то напоминающие фашины. Каждая была перетянута тремя полосками из проволоки, намотанной ровными плотными рядами. Прямо-таки патологическая аккуратность. И Кириллов сразу вспомнил Андрея Силыча, вспомнил, как он постукивал по корешкам книг, но тут же отогнал эту мысль: уж очень дикой она показалась ему тогда. Выдвинутая когда-то Мишей Востриковым версия о готовящемся ограблении кассы сушильного завода отпала — ключей от сейфа в карманах Мямлина не оказалось. Однако факт их пропажи по-прежнему оставался необъясненным. В чемодане Мямлина среди рубашек, галстуков и прочих носильных вещей лежала размокшая рукопись, начинавшаяся словами: «Когда-то сотни тысяч лет назад вся территория нашего края была покрыта ледниками». В рукописи было сто двадцать две страницы. Титульный лист отсутствовал. Рукопись была не окончена. На сто двадцать второй странице сверху было лишь несколько строчек. Текст обрывался фразой: «О книгах и газетах наши селяне не имели никакого понятия, их читали только в том одиноком доме на Мызе, да еще, может…» Судя по всему, автор еще не добрался до двадцатого века. Но сейчас Кириллова мало занимало содержание мямлинского труда, он о другом подумал, когда увидел чемодан. Получалась какая-то чепуха. Получалось, что Мямлин все-таки собирался проститься с Нылкой в ту ночь. Выходило, что, проводив Анюту, он наскоро сложил вещи, предварительно изолировав старуху хозяйку, и, возможно, вдвоем с убийцей отправился вновь по той же самой дороге, по которой незадолго до этого возвратился в Нылку. Возникал вопрос: зачем? С какой целью была предпринята эта прогулка, окончившаяся трагедией? Если он хотел уехать, то на Мызу идти было незачем: Мыза — тупик. Если убийца сумел каким-то образом заманить Мямлина на эту дорогу, то вроде бы ни к чему было тащиться в такую даль с чемоданом. Тут, правда, возникали варианты. Убийца мог доставить чемодан к болотцу после расправы, чтобы, так сказать, придать достоверности версии отъезда. Где же в таком случае оставался чемодан? На квартире у Мямлина? Но глухая бабка отметила только одно полотрясение. Да и ключ от входной двери в бабкин дом лежал в кармане у Мямлина. Это, впрочем, можно было не принимать в расчет — убийца мог притопить труп и после похода за чемоданом. Однако бабке следовало доверять — старухи спят чутко. И если она утверждает, что пол трясся один раз, то это, видимо, так и было. Значит, чемодан находился вмомент убийства в другом месте. Не на сушильном ли заводике? Не в конторе ли, на крылечке которой сидел вахтер Нифонтов, человек со странной биографией… Нифонтов, который сказал, что видел в ту ночь Мямлина дважды… А должен был видеть трижды… Мямлин проводил Анюту, вернулся домой, взял чемодан и опять направился по этой тропинке мимо конторы сушильного… И была еще пуля. Стреляли в Мямлина из нагана. В Нылке было зарегистрировано четыре нагана. Один из них висел на поясе у Нифонтова в ту ночь. Нити тянулись к сушильному заводу…
— За беспорядок простите, — сказал Выходцев, открывая дверь. — Отправил, видите ли, супругу на курорт, а сам маюсь. — Что ж вы не вместе? — спросил Кириллов, хоть знал, какое последует объяснение. — Привязан я болезнями… Он не закончил фразу, махнул рукой и повел гостя в дом. Особого беспорядка в квартире не было заметно, но чувствовалось, что многие вещи находятся не на своих местах. Выходцев был или рассеян, или ленив. «Скорее последнее», — подумал Кириллов, приглядываясь к «непредубежденному человеку», который, по словам Андрея Силыча, мог бы «пойти далеко», да вот не пошел, помешало нечто генетически-аллергическое, нечто такое, против чего медицина пока бессильна. О медицине здесь напоминали книги, толстые корешки которых золотились сквозь стекла низкого старинного книжного шкафа. Книг было много, но рыться в них Кириллов не стал. Один его мудрый приятель как-то заметил: «Если хочешь быть здоров, не читай журнал «Здоровье» и — вообще держись подальше от подобной литературы». Кириллов, конечно, был бы рад воспользоваться этим ценным советом, но, увы, — специфика работы не всегда позволяла следовать ему. Читать кое-что приходилось. По необходимости, разумеется. Здесь такой необходимости не было, и следователь довольно равнодушно скользнул взглядом по золоченым корешкам. Выходцев предложил гостю стул, и они сели возле круглого стола, покрытого клеенкой. — Вас не удивляет мой визит? — спросил Кириллов. — Нет, — ответил хозяин и добавил рассудительно: — Я отлично все понимаю. Говорил Выходцев так, как говорят заики, растягивая слова. Но заикой он не был. Губы Евгений Васильевич слегка выпячивал, светло-серые глаза смотрели на собеседника снисходительно. Впечатление складывалось такое, словно он давно и прочно уверовал во что-то, чего не замечают окружающие, не замечают просто по своей природной глупости. Но простить им это можно, не они же виноваты, а природа. И Евгений Васильевич снисходит к этим вот природным недостаткам. Снисходит, понимает, готов даже посочувствовать. И жену супругой называет. Не то иронизирует, не то… — Хочу услышать ваше мнение, Евгений Васильевич, — сказал Кириллов. Выходцев оттопырил нижнюю губу и задумался. Видимо, он не был готов к такому вопросу. Ждал более конкретного разговора. И поэтому слегка растерялся. — Что я могу сказать? — наконец произнес он. — Кудахтать не буду. Махать руками тоже. Мальчик этот мне не родня. Печально, конечно, что такое в нашей жизни случается… Возможно, я рискую показаться вам сухим человеком, но я привык мыслить рационально, с цифрами в руках. Привержен к статистике… Вероятно, произошло неминуемое. Да вы и сами скорее всего так думаете. Кириллов думал не совсем так, но в данном случае это не имело значения. Главное было в том, что Выходцев, кажется, не притворялся. — В чем же виноват, по-вашему, этот мальчик? — Позвольте, — удивился Евгений Васильевич. — Почему виноват? Так сложились обстоятельства. Собираясь на прогулку в лес, я ведь не могу знать, что под каким-то кустом наткнусь на змею, которая меня ужалит. — Вы сказали — неминуемо… — Я, видите ли, не любопытен. Но уши не затыкаю… Нылка возбуждена. И версий, как выражаются юристы, придумано предостаточно. Все они, как вам известно, сходятся в одной точке — мальчик прикоснулся к чему-то взрывоопасному. Прикоснулся неосторожно. А в таких случаях… — К чему-то? — Я версий не изобретал. Каюсь… — А ваш главбух? Евгений Васильевич вздохнул и сокрушенно покачал головой. — Он обеспокоен, и это легко понять. Стариковская любовь… И все так осложнилось… — С чем же приходил к вам Андрей Силыч? — С коньяком, — усмехнулся Выходцев. — А кроме? Он опять оттопырил нижнюю губу и задумался. — Честное слово, не знаю, — сказал он после минутной паузы. — Может быть, у него возникли какие-то предположения. Иначе к чему бы воскрешать событие четвертьвековой давности… Он был так настойчив, что я даже усомнился: ее ли видел тогда в Баку… — Как вы относитесь к тому, в чем обвиняют Анну Тимофеевну Спицыну? — Ни так, ни этак. Хотя… — Да. — После того, что случилось, волей-неволей начинаешь задумываться. — И… — Да ведь из моих окон далеко не увидишь. — Евгений Васильевич покашлял в кулак. — И память, знаете ли, вещь хрупкая, крошится с возрастом, осыпается. Вчерашний день иной раз забываешь. А тут тридцать пять лет почти. Старики любят болтать: «Как сейчас помню». Я врать не буду — не помню я, какой была эта женщина. Помню смутно внешность ее цыганистую. Анюта наша прямо копия бабки. Это к слову. Но не может ли, скажем, в потомках характер повториться? Мне вот аллергия по наследству досталась. Анюте — внешность. А девица она замкнутая, молчаливая, скрытная. Про бабку толкуют, что она сильно самостоятельная была. И Семен Спицын — мужик с гонором. Если вы его видели… Кириллов его видел, только не ставил в связь с этой историей. Семен Спицын работал технологом на сушильном и был громоздким мужчиной с трубным голосом. Характер у него, по выражению Миши Вострикова, был «сногсшибательным». Оценки людям Семен выставлял прямые и нелицеприятные. Того же Выходцева он называл «мухомором с губами», Андрея Силыча — «червивым обабком». И вообще вся Нылка рисовалась Семену лесом, в котором наряду с благородными росли грибы несъедобные, а то и вовсе ядовитые. Выходцев еще довольно мягко назвал Семена «мужиком с гонором». Но Кириллов сначала не понимал, зачем Выходцев завел этот пустой разговор о предках и потомках. Следователю он показался просто старческой болтовней. Однако вскоре выяснилось, что все далеко не так просто, что Выходцев, где обиняком, а где многозначительными умолчаниями, подводил Кириллова к мысли о том, что Семен Спицын имеет-таки отношение к преступлению. Степан Николаевич, размышляя об Анюте и Мямлине, как-то привык думать, что парень пришел к Анюте не из-за Анюты, что только потом, спустя время, он увидел в ней девушку, за которой можно поухаживать, увидел, что она красива, и понял, что она ему нравится. А если все было не так? Если он сблизился с Анютой потому, что она ему понравилась? Если он ничего не искал? Совершенно случайно Мямлин сблизился с семьей Спицыных и столь же случайно вдруг проник в некую тайну, которую семейство тщательно оберегало от людских глаз. Анюта могла о ней и не знать. Знал отец. Но что же это за тайна, цена которой оказалась эквивалентной человеческой жизни? С другой стороны, Семен Спицын непохож на человека, способного на продуманное преступление. Семен натура импульсивная. Он не стал бы, готовясь к убийству, столь тщательно вязать аккуратные фашины из трубок. У него просто не хватило бы терпения, да и не додумался бы никогда Семен Спицын до такого. При его силе, при его темпераменте… Да он схватил бы любую железяку потяжелее, которых, кстати, в окрестностях завода было, как говорится, навалом. И в то же время… Бывает всякое… Но уж очень странно выглядели эти связки из обрезков труб. Очень…
Люди обычно плохо спят в непривычных, новых местах. В гостиницах, например, или в чужих квартирах. Следователь Кириллов спал как убитый в любой обстановке, даже после ужина из пряников с водой. Может, к этому его приучила жизнь в доме, под окнами которого день и ночь гудят машины. А может, так уж устроен его организм: есть же индивидуумы, не знающие, что такое морская болезнь. Поэтому, когда Миша Востриков стал трясти Степана Николаевича за плечо, он не сразу открыл глаза. Трудно было расстаться с приятным сновидением. Кириллов забыл, о чем оно было, но, во всяком случае, не о деле. Дело не навевало на него приятных снов. — Вы меня извините, — сказал Миша, — но тут вот заключение пришло. Кириллов вскрыл конверт. Заключение было кратким и ясным. Экспертиза установила: пуля, убившая Мямлина, вылетела из ствола нагана, который в ту ночь висел на поясе вахтера Нифонтова. — Такие вот дела, — сказал Степан Николаевич, протягивая бумагу Мише. Миша дважды неторопливо прочитал текст, положил листок на тумбочку и почесал в затылке. — Не ждал, что ли? — спросил Кириллов, выпрастывая ноги из-под одеяла. — Чудно как-то, — сказал Миша. — Из старообрядцев старичок. Вроде бы… — Что? — Да кто его разберет. Улика неопровержимая… — Ну, это еще положим. Это еще не улика. Наводящая деталь пока. А почему «вроде бы»? — Да говорят, у старообрядцев убийство — грех. — Не всему верь, что говорят, — заметил следователь наставительно и пошел умываться. Миша полез в карман за «Явой». Когда Кириллов вернулся, он дымил, сосредоточенно уставясь в потолок. Пепел с сигареты Миша стряхивал в кулек с остатками пряников. — Да нет, Степан Николаевич, — сказал он. — Какая уж тут наводящая деталь. Наган не сигаретка, не одолжишься. Он притушил окурок и присоединил его к пряникам. — Это верно, — согласился Кириллов, разматывая шнур электробритвы. — Наган не сигаретка. — И труп хорошо спрятан был, — задумчиво произнес Миша. — У Нифонтова велосипед всегда при себе. Могли они, допустим, инсценировку отъезда сообразить… — Думаешь, был сообщник? — Кто его знает. Ключи-то Анюта все-таки потеряла. — Ладно, ладно. Про Спицыных я у Выходцева наслушался. Ты мне про чемодан лучше скажи… — Так ведь не было, кажется, у Мямлина причин для отъезда. А по дорожке той он каждый вечер путешествовал. Ну и подстерегли его. — А потом за чемоданом съездили? Миша кивнул. Да, это упрощало картину. Если, конечно, у Мямлина и в самом деле не было причин для отъезда. — Надо, наверное, миноискатель доставать, — сказал Миша. — Может, и найдутся ключики… Ключи от сейфа снова выходили на первый план, правда, теперь уже в новом качестве. Если окажется, что ключи потеряны вблизи от места преступления, то, значит, туманные намеки старика кассира на причастность Спицыных к убийству придется разворачивать в рабочую версию. Впрочем, в любом случае Спицыными надо заниматься. И Нифонтовым надо заниматься. Пуля — это факт. Только торопиться не следует… Подождать надо ориентировку из Баку. С этим Нифонтовым вообще нет никакой ясности… — Ну что ж, — решил Кириллов. — Поезжай за миноискателем. И попробуй разобраться с трубками. Откуда они, и все такое прочее… — С Нифонтовым как? — спросил Миша, поднимаясь со стула. — Пока молчок. Не наступило еще время. Наган верни в контору. Подразобраться кое в чем надо. Проклятые трубки не давали Кириллову покоя… Когда Люська сказала Лесневу-младшему, что Сашка интересовался фотографией ее матери, он еще ни о чем не подумал. Но когда он увидел мертвого Сашку, в голове словно соскочила какая-то пружинка. Нет, понимать он еще ничего не понимал, однако встревожился. И именно в эту пору сомнений и смутных догадок его вызвал Кириллов. Лицо у следователя было пасмурное. — Ну как, студент, — спросил он хмуро, — на Луне побывали? Они сидели в бывшем Сашкином кабинете. В фойе какая-то дева из самодеятельности звонко пела про миленочка, который сделал что-то там не так. Кириллов с минуту послушал, потом встал, прикрыл дверь поплотнее и чему-то усмехнулся. — Не понимаю, зачем я вам понадобился, — уныло промолвил Леснев-младший. — А дело простое, — миролюбиво ответил Кириллов, хлопнул ящиком стола и вытащил оттуда ту самую собачью цепочку, которую Сашка когда-то закапывал. Он положил цепочку перед собой и посмотрел на Славку вопросительно. Тот молчал. — С глухими старухами говорить тяжело. Но вы-то почему? Без двух минут врач… Взрослый человек… Вы меня удивляете, Леснев… Что Славка мог ему ответить? Что давал слово Сашке? Это прозвучало бы глупее некуда. — Я не знал, что это вас интересует. — Н-да, — протянул Кириллов, — удобная формулировочка, ничего не скажешь. Он поднял цепочку и стал накручивать ее на палец. Когда Леснев-младший закончил рассказ о Саш-кином «психологическом эксперименте», Кириллов бросил цепочку на стол и спросил: — Мямлин так и сказал: «Хотел узнать, можно ли с Гришей поговорить?» Это его точные слова? — Точные. — Интересное кино. А это возможно? Как вы считаете? По мнению Славки, это было невозможно. Да и Сашка, как ему казалось, вкладывал в слово «поговорить» какой-то другой смысл. Славка намекнул на это Кириллову, и он тут же вцепился в эту мысль. Он засыпал Славку вопросами, и к концу разговора Леснев-младший отупел настолько, что уже ничего не соображал. Он не понимал повышенного интереса следователя к Грише-дурачку. Он не видел никакой связи между убийством Сашки и его попыткой «поговорить» с Гришей. Славка совсем перестал понимать Кириллова, когда он от Гриши стал незаметно подбираться к нему, Славке. Кириллов интересовался, крепко ли Славка спит, что читает, когда собирается уезжать и какие планы строит на будущее. Потом он вдруг ни с того ни с сего принялся расхваливать Люську. Он, оказывается, навестил библиотеку, изучил Сашкин формуляр и между делом вел с Люськой беседы, касавшиеся, как понял Леснев-младший, и его. Но почему же Люська не сказала ему об этом? Все это было странно, если не сказать больше. Все это Славке не нравилось…
От клуба до библиотеки было рукой подать — только перейти улицу. Славка перешел ее и открыл дверь. Возле прилавка торчали два пацана. Наконец они ушли. — Нам надо поговорить, — сказал он Люське. Она пожала плечами, округлила свои космические глаза и даже приоткрыла рот, словно приготовилась к поцелую. Но у парня было другое настроение. — Что все это значит? — спросил он. — А что именно? Ты встал не с той ноги, да? — Нам надо поговорить. — Это я уже слышала. Поговори, если тебе хочется. — О чем тебя спрашивал следователь? — О книгах, которые читал Саша. — И больше ни о чем? — Ты сегодня какой-то определенно ненормальный, — засмеялась Люська. — Взъерошенный, сердитый… Что случилось? Если бы он знал — что… Но что-то случилось. Что-то стало вползать между ним и Люськой. Надо было быть полнейшим кретином, чтобы не понимать, что Кириллов подбрасывал свои вопросики не из простой любознательности. Его крайне занимали отношения Леснева-старшего и Нифонтова. Прямо об этом Кириллов не высказывался, но Славка-то не Гриша-дурачок. Он сумел даже заметить, что Кириллов как будто удивлен тем, что отношения эти не выходят за рамки служебных, что их с Люськой семьи никогда не общались домами. Он словно бы не верил, что их с Люськой дружба и любовь начались со случайной встречи в библиотеке. По Кириллову выходило, что они с Люськой должны были еще в глубоком детстве играть в одной песочнице в те часы, когда их родители мирно занимались чаепитием. Как будто главбух и вахтер по меньшей мере коллеги или члены какого-то «клуба по интересам». Все это было бы смешно, если бы не был убит Сашка, парень, с которым Леснева-младшего, по его мнению, в общем-то, ничего и не связывало. Славка не удивился бы особо, если бы Кириллов начал расспрашивать его о взаимоотношениях отца и Сашки. Он, быть может, не стал бы даже возмущаться, если бы понял, что следователь ставит убийство в зависимость от этих отношений. На то он и следователь. Славка-то знал, что его папаша похрапывал в своей постели в то время, когда какая-то сволочь стреляла в Сашку. Но Кириллов и словом не обмолвился об Анюте. Он чего-то другого добивался, и Славка не мог понять, чего именно. — Так о чем все-таки он с тобой говорил? — спросил парень. Люська потушила улыбку и сказала жалобным голосом: — Ужасно. Ты не представляешь себе… Саша ведь ходил сюда чуть не каждый день. — Это я знаю. Я хочу… — Я хочу, я хочу, — передразнила Люська. — Если хочешь знать, мы и о тебе говорили. — Да? — Да. И не изображай из себя расстроенного носорога. Я могу подумать, что ты что-то скрываешь от меня. А ему казалось другое. Он решил, что она что-то утаивает от него. Она и смеялась как-то ненатурально. И задумывалась во время разговора. Старалась казаться беспечной, но он видел, что ее что-то угнетает. Она не просто сожалела о Сашке, она еще о чем-то думала. А Кириллова интересовал не столько Сашкин формуляр, сколько его с Люськой разговоры о Сашке. Он приходил в библиотеку с рукописью, которую нашли в чемодане у Сашки. Она и явилась поводом, воспользовавшись которым, Кириллов заставил Люську вспомнить их размолвку накануне той злополучной для Сашки ночи. В библиотеке, кроме Люськи, работали еще две женщины. Одна из них — Мария Александровна, старушка с усиками — подрядилась перепечатать начисто Сашкину балладу о Нылке. Договариваться с ней Сашка приходил буквально накануне своей гибели. Обычно-то он делал эту работу сам. Но печатал он медленно, одним пальцем. А тут ему приспичило закончить перепечатку в несколько дней. Люська слышала, как он толковал с Марией Александровной, и вечером сказала Славке о том, что «Саша, кажется, написал книгу». Произнесла она эту фразу, конечно, в присущей ей манере, с оттенком этакой гордости за Сашку. Она вообще натура восторженная, скепсиса в Люське на ломаный грош не наскребешь. Ну и выдала она это все так, словно не Мямлин приходил договариваться с машинисткой, а по меньшей мере Карамзин или Ключевский. Леснев-младший и высказался тогда в этом смысле, поскольку кое-что, вышедшее из-под Сашкиного пера, ему приходилось читывать. Сашке он о своих суждениях насчет его творчества не докладывал, не хотелось расстраивать, а Люське сказал, чем и навлек на свою голову ее гнев. Кириллов, конечно, вцепился в Люську и выудил из нее все подробности их маленькой ссоры. И тут же, между прочим, поинтересовался, не заметила ли она чего-нибудь необычного в поведении отца утром после убийства. Люська вскинула на него свои космические глаза — в них светилось недоумение. — Что ж может быть необычного? — ответила она вопросом. — Ведь не думаете же вы, что он… — и добавила: — Он пил много воды. Прямо из колодца. Даже простудился. А больше ничего необычного не было, — закончила она насмешливо. Но Кириллов насмешки не принял. Добродушно рассмеялся, сказал Люське какую-то любезность и стал допытываться у Марии Александровны, что говорил Сашка, как говорил, что сказал о рукописи, как ее назвал, долго спрашивал, может, полчаса, и, казалось, сильно огорчился, поняв наконец, что старушка ни на один его вопрос не может ответить. Ничего такого Сашка Марии Александровне не сказал. Договаривался предварительно, да к тому же и спешил куда-то. Сказал только, что нужно срочно перепечатать триста страниц и что принесет работу завтра, тогда все и объяснит. Но назавтра он не пришел. «Вся эта ерунда с рукописью, казалось бы, не должна меня занимать, — размышлял Леснев-младший. — То, что делал Сашка, меня не касалось. Я не знал, правда, толком, в чем заключалось его хобби, но в том, что оно меня не касалось, я был уверен». После разговора с Люськой его уверенность поколебалась. Он ушел из библиотеки со странным чувством. Словно проснулся в темной комнате, в которой кто-то поменял местами все вещи. Комната была знакома, вещи тоже, но интерьер стал другим, и он заблудился, перестал понимать, где находится. Сразу за Нылкой дорога нырнула в лес. Сначала от опушки рядом с машиной бежали сосенки-коротышки, потом они уступали место соснам-великанам. Эти великаны расступились у поляны, на которой когда-то стояла та самая лесникова избушка. Расследование приостановилось. Допрашивать Нифонтова без сведений из Баку Кириллов не хотел. Сведения почему-то задерживались. Он уже был уверен, что корни этой истории с Мямлиным уходят глубоко и отыскивать их надо где-то на уровне сорок первого года, если не глубже. А это занятие совсем не из легких. Архивов по Нылке, в сущности, не было, все сгорело во время войны. Память старожилов сохранила по большей части только легенды. Но было одно обстоятельство, которое утешало Степана Николаевича. Он твердо уверовал в то, что Мямлин до чего-то докопался. Оставалось, кажется, совсем немного — выйти на его следы или, говоря проще, найти тех людей, которые дали любителю-краеведу кончик от бабкиного клубка. В том, что Анютина бабка вольно или невольно запутала этот клубочек, он уже не сомневался. Но люди эти не находились. Следователь обошел полпоселка и не обнаружил даже намеков на то, что кто-то подтолкнул Мямлина к разгадке детдомовской истории. Не Гриша же. К Грише Мямлин пришел уже после того, как… А вот тут-то и терялись все следы. Это было странно и необъяснимо. Это, кроме того, наводило на размышления о том, что Мямлин, ни о чем не подозревая, пообщался со своим будущим убийцей. Наивный паренек, увлеченный своими рукописаниями, он, не думая и не гадая, встревожил какого-то человека, которому давно уже казалось, что все в прошлом, что все покрылось пылью времени. «Прикоснулся к чему-то взрывоопасному», — сказал старик Выходцев. Но вот к чему? Рукопись, найденная в чемодане, на этот вопрос не давала ответа. Да и, как выяснилось, это была не та рукопись. Кириллов восстановил почти с хронометрической точностью день Мямлина накануне трагедии. Он был заполнен ничем не примечательными встречами, разговорами и поступками. Полчаса Мямлин провел в библиотеке, где договорился с машинисткой-надомницей о перепечатке трехсот страниц. В рукописи из чемодана было только сто двадцать две страницы. Трехсотстраничная бесследно исчезла. Кириллов поговорил с дочкой Нифонтова, симпатичной блондинкой, умненькой и открытой. Она вспомнила, что Мямлин сказал: «Теперь можно будет посылать на консультацию». Она сказала, что отлично помнит эти слова. Вечером она и Леснев-младший сумели даже повздорить по этому поводу. Девушке не понравилось пренебрежительное отношение студента к Мямлину; Леснев что-то съязвил, она рассердилась и ушла домой одна. Со студентом, волею случая оказавшимся первым свидетелем по делу, следователь уже встречался несколько раз. Этот долговязый парень не вызывал у него особых симпатий. Вел он себя заносчиво, сидел развалясь, закуривал, не спрашивая разрешения. Вопросы Кириллова казались ему оскорбительными и, может быть, даже глуповатыми. Уж не вообразил ли он, что его подозревают в чем-то предосудительном. Впрочем, Степан Николаевич действительно подозревал. Подозревал, что парень этот может оказать неоценимую помощь в расследовании. Беда была только в том, что ни Леснев-младший, ни Кириллов пока не знали, в чем именно эта помощь должна выразиться. Один раз Славка уже оправдал надежды Кириллова, рассказав об играх Мямлина с Гришей-дурачком. Но может быть, даже наверняка, это было не все. Крепла у следователя непоколебимая уверенность, что этот парень знает и еще что-то: факт, намек — словом, что-то, имеющее самое прямое отношение к делу. Он был близок к семье Нифонтовых, он мог случайно узнать что-то такое, что ему казалось незначительным, не заслуживающим внимания пустячком, вроде собачьей цепочки. Впрочем, в те дни и самому Кириллову эта цепочка казалась пустячком в ряду других улик. Да и не становилась она в ряд, выпадала из него. В самом деле, предположение, что Гриша-дурачок, сговорившись с Нифонтовым, убил Мямлина, ни в какие ворота не лезло. Семен Спицын? Какие-то таинственные сообщники? Все это никуда не годилось. «Наган не сигаретка», — сказал Миша Востриков… Он повторил эти слова, когда они с Кирилловым садились в машину, чтобы отправиться к месту давней трагедии. Предложил эту поездку Кириллов, Миша же вообще был против нее. По его мнению, выходило, что смотреть там решительно не на что. От лесниковой избушки, сказал Миша, не осталось «ни рожек, ни ножек»; кордон вот уже скоро двадцать лет как перенесен в другое место, да если бы он даже и не был перенесен, все равно эта поездка не даст никаких результатов. Словом, Миша явно не одобрял эту затею. Не одобрял он и медлительность Кириллова в отношении Нифонтова, которого следовало бы, как он считал, арестовать. В машине они детально обсудили этот вопрос, но к единому мнению так и не пришли. Каждый остался при своем. Родилась, правда, еще одна версия, подкупавшая своей простотой и исходившая из Мишиной посылки, трактовавшей о том, что «наган не сигаретка». Нифонтов мог совершить убийство в одиночку, без сообщников. Он подстерег Мямлина в пустынном лесу, застрелил его, оттащил труп в сторону, потом съездил за чемоданом. Проделать все это можно было часа за полтора. Кто мог заметить отлучку вахтера с поста? По ночам возле конторы, кроме него, никто и не бывает. Те, кто живет на Мызе, в Нылку по ночам почти никогда не ходят. Парни и девчата с Мызы, которых можно пересчитать по пальцам, бегают, конечно, в Нылку по вечерам, но это обычно бывает по субботам и воскресеньям. Нифонтову все это было, разумеется, прекрасно известно, и он воспользовался обстоятельствами. — Вот только ключи, — сказал Миша. — Не лезут они никуда… Ключи пока не находились. Мишины упражнения с миноискателем оставались лишь упражнениями… Миша притормозил перед поваленным деревом и бросил машину вправо, в объезд. Дорога как-то незаметно сошла на нет, только по просвету между стволами можно было догадаться, что она когда-то тут проходила. Наконец впереди показалась большая поляна, поросшая мелким осинником. Поляну окружали высоченные мачтовые сосны. От старого лесного кордона действительно не сохранилось «ни рожек, ни ножек». С трудом отыскали место, где стояла избушка. — Почему перенесли кордон? — спросил Кириллов. — Из-за воды, — лаконично ответил Миша. — То есть как? — Родничок тут был. — Миша махнул рукой куда-то в сторону леса. — Иссяк он, ну и все дела… Пробовали колодец рыть, ничего не вышло — ушла вода… «И все дела», — грустно подумал Кириллов, разглядывая едва приметный красный бугорок — все, что осталось от русской печки, когда-то обогревавшей хату. Потом перевел взгляд на «газик», стоявший метрах в трехстах. — А куда вела дорога? — В Нальск можно было проехать. — На восток? — Да, — подтвердил Миша, рассеянно поглядывая по сторонам. — По шоссе покороче, но, говорят, ездили и так… Пока кордон стоял… Потом забросили дорожку… — И сколько отсюда до Нальска? — Километров тридцать пять набежит. — А по шоссе? — По шоссе от Нылки полсотня. Разница равнялась пятнадцати километрам. Совсем небольшой крюк. Но почему та женщина выбрала более длинную дорогу? Неужели все делалось с умыслом? Неужели дети были заранее обречены? Каким же чудовищем надо быть, чтобы решиться на такое? И какой во всем этом был смысл? — Да, загадочная история получается, — вздохнул Миша. — Как с той кошкой. — С какой кошкой? — С моей, — сказал Миша. — Мы тогда в Нальске жили. Он затоптал окурок и стал неторопливо рассказывать про кошку. Это была, по его словам, во всех отношениях замечательная кошка. Но все ее достоинства смазывались, как считал Миша, одним существенным недостатком. Кошка излишне активно заботилась о продолжении рода. Сама она, конечно, придерживалась на этот счет другого мнения. И поэтому всегда удивлялась, когда замечала, что произведенные ею котята куда-то внезапно исчезали. Наконец ей надоело удивляться, и в один прекрасный день, ощутив, что пришла пора рожать, кошка покинула квартиру. Отсутствовала она месяца три. — А потом нашлась, — сказал Миша. — Что же тут загадочного? — Будет и загадочное, — пообещал Миша. Кошку нашли в подвале. Подвал был разбит на отсеки по числу квартир. Один отсек считался ничейным. Чтобы он не смущал ребятишек, которые любят такого рода таинственные места, на дверь ничейного отсека был повешен замок. Там и обнаружили кошку. И не просто под замком, а еще и в сундуке, под крышкой. Сколько времени она там провела и как там оказалась, установить не удалось. Но сидела, вероятно, давно, поскольку от кошки остались фактически шкура да кости. Впрочем, она еще была способна мяукать. — А ключ от этого отсека у нас в кухне висел, — сказал Миша. — Ну и как же? Распутали эту историю? — Спросить было некого, — сказал Миша. — А кошка молчала. — Н-да, — протянул Кириллов. — Спросить действительно некого. Это ты по какому случаю аллегорию сочинил? — Почему аллегорию? Был факт. Да, был факт. Был факт, который не поддавался объяснению. А кошка молчала. Но не сама же она полезла в сундук… Посадили ее туда… Посадили…
Телефон заливисто зазвонил в четвертый раз. Кириллов дернул головой, отмахиваясь от звонка, как от назойливой мухи. Три раза на протяжении последних пяти минут он высовывал руку из-под одеяла, хватал трубку, произносил неизменное «да, да», но в ответ слышалась только бравурная музыка, под аккомпанемент которой бодрый баритон предлагал встать на коврик у окна и по счету «раз» приступить к выполнению упражнения из комплекса утренней гимнастики. Коврика в номере не было. За окном хлестал дождь. В комнате было сумрачно. И Кириллов поплотнее натягивал одеяло. Телефон заливисто зазвонил в четвертый раз. «Пошел к черту», — сказал Кириллов и нехотя высунул руку из-под одеяла. Радиобаритон куда-то исчез. Голос телефонистки деловито сообщил: — Говорите, Баку на проводе. И тут же в трубке зарокотало: — Привет, Кириллов… Хусаинов говорит… Ты меня помнишь еще? Вопрос был праздный. Знали они друг друга больше двадцати лет. Когда-то давно жили в одной комнате в общежитии. Потом, как это случается с людьми, которые остаются верными своей профессии на всю жизнь, встречались не раз на семинарах, совещаниях. А года полтора назад вот так же, по одному делу, пришлось вместе работать. После обмена обычными в таких случаях вопросами: как семья, как дети, Хусаинов сообщил: — Запрос твой ко мне поступил. — Поэтому и тянул? — осведомился Кириллов. — Для старого дружка… — Ты в Баку бывал? — поинтересовался Хусаинов. Это был тоже праздный вопрос. Хусаинов отлично помнил их недавнюю встречу в Баку. Поэтому он, не дожидаясь ответа, спросил: — Строительство видел? — Ну… — нетерпеливо подтолкнул его Кириллов. — Того района, где твой подопечный жил, давно нет. Ясно? — В принципе да. — Ну если ты такой понятливый, то сообразишь и все остальное. — Ничего не узнал? — Ты плохо обо мне думаешь. Хусаинов — человек. Он все узнал и бумагу послал. Потом тебя искать стал. Погода у тебя какая? Хорошая? — Дождь… — Я вот и думаю, что тебе срочно плащ нужен. Торопился. С соседями бывшими толковал, дело одно листал. Проходил тот мужичок по скверному делу. Только краем прошел, не коснулось оно его. Понимаешь? — Не так чтобы… — Бумага придет — поймешь. Но там он чист, учти. — Учел, — сказал Кириллов и подумал, что если Нифонтов и там был замешан в деле об убийстве, то все это, вместе взятое, начинает приобретать некую определенную окраску. Но ему не пришлось долго раздумывать, потому что Хусаинов немедленно выдал второй сюрприз. — Теперь о жене, — сказал он. — Жена сбежала в пятьдесят первом. — Постой, постой. Как это — сбежала? — Не знаешь, как жены сбегают, да? Он хохотал, но Кириллову было не до смеха. — А пожар? — растерянно пробормотал он. — Она же сгорела… — Ты ужасный человек, Кириллов, — сказал Хусаинов. — Ты все время обо мне думаешь плохо. С бывшими соседями я говорил? Говорил. Уважаемые люди. Знают — не было пожара, никто не горел. Мужик из-под следствия вышел, а она ему хвост показала. К девчонке нанял женщину. Приметная особа — со шрамом на щеке. Люди помнят, уважаемые люди. С полгода ходила, потом он уехал… — Фамилия? — простонал Степан Николаевич в трубку, услышав про шрам. — Чья фамилия? — Ну этой, которая со шрамом. Кормилица или как… — Фамилию не знаю, — сердито сказал Хусаинов. — Ходила — знаю, фамилию — нет. — Узнать можешь? — Нет, ты все-таки ужасный человек, Кириллов, — сказал Хусаинов со вздохом и положил трубку.
— Нифонтов Павел Сергеевич? Острая, клином бородка. Веки полуопущены, кажется, что он все время щурится. Руки лежат на столе. Пальцы слегка подрагивают. — Да, Нифонтов я. Бумагу от Хусаинова Кириллов получил, но она его не обрадовала. — Уточним кое-что. Вы родились 30 апреля 1917 года? — Да, здесь, в Нылке. Золотое детство следователя не интересовало. Хотя у Нифонтова оно вряд ли было золотым. Дед его и отец кустарями-одиночками были, клещи для хомутов гнули. Парнишку в школу долго не посылали, к своему ремеслу хотели приучить. Но у парнишки были свои интересы. Уехал он в Нальск, там и школу ФЗО кончил по слесарной части. К двадцати трем годам отслужил в армии и в Нылку вернулся. А вскоре и война началась. — Где вы были в конце июля сорок первого? — В Нальске, в военкомате. Все правильно. Двадцать седьмого июля Нифонтов отправился на фронт. А детдом эвакуировали где-то между двадцатым и двадцать пятым, точнее установить эту дату не удалось. Степан Николаевич бросил взгляд на листок бумаги, лежавший перед ним на столе. Это был список тех, кто во время эвакуации детдома в силу разных обстоятельств оставался в Нылке. В списке значились и Нифонтов, и пьяница Чуриков, и кассир Выходцев, и Семен Спицын; Семену, правда, тогда было всего десять лет. А Андрею Силычу Лесневу девятнадцать. Служил Андрей Силыч в том году в армии, а часть, в которой он служил, в Нальске стояла, в пятидесяти километрах от Нылки. Значились в этом списке и другие лица — мужчины и женщины, живые и мертвые. И без вести пропавшие. — Эвакуацию детского дома помните? — Помню. Имущество помогал грузить. С ними и в Нальск уехал. — С первой партией? — Да. — В Нылку после этого возвращались? — Нет. Повестка у меня была. — Как вы оказались в Баку? — После войны часть наша там стояла. Работал на промыслах. Специальность получил. — Женились там? — Там. — Зачем вы выдумали историю с пожаром и самоубийством жены? — Про самоубийство люди выдумали. Я только про пожар говорил. — Зачем? — Дочь у меня. Ну и… — Да?.. — Не хотел, чтобы она про мать плохо думала. — Где сейчас ваша бывшая жена? Вы разведены? — Где, не знаю. Развод она не брала. В бумаге, которую прислал Хусаинов, сообщалось, что Нифонтова Елена Петровна в шестьдесят третьем году была осуждена за спекуляцию дефицитным барахлом на одесском рынке. А двенадцатью годами раньше сам Нифонтов был причастен к делу о спекуляции валютой. Правда, прошел он «по краю», как выразился Хусаинов. Нифонтов был знаком (и довольно коротко) с одним из членов шайки. Сам же он был «чист». И его жена тогда была «чиста». Но вот сейчас, через четверть века после тех событий, стала вырисовываться несколько иная картина, во многом туманная, с неразличимыми еще деталями, но иная. Да, жизнь подбрасывает иногда такие сюрпризы, что даже привычные, казалось бы, ко всяким неожиданностям следователи только недоуменно руками разводят. Именно в таком положении оказался Кириллов, когда читал хусаиновскую ориентировку; вывалился на него оттуда черный мраморный памятник купца Рузаева, а над ухом тихонько дзенькнул тот самый звоночек, о котором следователь и думать забыл. По делу о валютчиках проходила в пятидесятом году пожилая дама — Рузаева Ивонна Ильинична. Подробностей Хусаинов не сообщал, но было ясно, что речь идет о той, которой в свое время умирающий старик купец доверил ответственное дежурство, а она не выдержала и дезертировала с поста. И вот теперь каким-то странным образом та давняя, полулегендарная история оказывалась связанной какой-то незримой ниточкой с событиями, в которых Кириллов обязан был разобраться. Но как найти эту ниточку? Да и есть ли она? Перед следователем сидел Нифонтов, который тоже проходил по делу о валютчиках. Краем проходил… — Почему вы уехали из Баку? — Неприятности. Вы, я вижу, знаете… — Я хочу услышать все от вас. — Нечего мне рассказывать. Я о дочке думал. Не о себе. — Кто ухаживал за дочерью? — Здесь — мать моя, а там… Женщина была. Хорошая женщина. — Знакомая? — Нет, так, со стороны. Платил я ей. — Фамилию помните? Где она жила? — Теткой Дашей звали. Дарья Михайловна, кажется. Фамилией не интересовался. А жила вроде в старом городе, около крепости. — А не путаете вы, Нифонтов? — Не понимаю я, зачем это вам… И не путаю ничего. — Как она выглядела тогда? — Лет на сорок, может. На щеке шрам. Упала она, говорила, на горячий утюг. — Спицыну Анну Тимофеевну помните? — Вон вы куда… Помню, конечно. Тоже хорошая женщина была. — Была? — Так ведь годы. Не понимаю я, о чем вы… — С Мямлиным об Анне Тимофеевне говорили? — Говорили как-то. Не знаю, чего ему надо было. Тоже вот, как вы, все про эвакуацию спрашивал. Сколько машин, да сколько людей во дворе было, да почему сама Спицына с первой партией не поехала, да почему сына оставила… Не ответил я ему ничего, не сумел вспомнить… Не сумел… — Послушайте, Нифонтов. Вы показывали, что в ночь убийства Мямлина видели его два раза. Тогда, когда вы утверждали это, нам не было известно, что Мямлин убит. Теперь мы знаем — его убили на дороге между сушильным заводом и Мызой. Понимаете, что из этого следует? — Я ошибся. Я видел его один раз. С девушкой. — И с чемоданом? — Нет. — Откуда же взялся чемодан? — Не… Не знаю. Может… — Что? — Может, я… Ночь ведь… Темно. — Но Мямлина-то вы разглядели… — Не знаю, не видал… — Мямлина не видели? — Никого не видал. — Что же вы — спали? — Нет, не спал… Никого не видал… На его лице застыло мученическое выражение, пальцы подрагивали. Так кто же сидел перед следователям — запутавшийся в противоречивых показаниях мерзавец или обманутый кем-то человек. Может быть, даже запуганный. Темное прошлое было у Нифонтова, что бы там ни толковал Хусаинов. Всех ли валютчиков взяли тогда? И вообще… А что вообще? Чем можно запугать человека до такой степени, чтобы он ссудил наган для убийства? И почему наган? Кричащая улика… Почему не нож? Почему не железка какая-нибудь? Неужели убийца рассчитывал, что труп не найдут? Такое бывает. И в то же время… «Наган не сигаретка». Не так-то это просто — подойти к человеку и сказать: «Слушай, приятель, я тут убить одного должен, так ты мне наган на часок одолжи». Не только не просто, а пожалуй, и невозможно. В таком случае убийца Нифонтов. Но если он убийца, причем хладнокровный, почему он так легко запутался в показаниях, почему, как только услышал про чемодан, сразу стал отрицать все, что говорил раньше? Ему ничего не стоило соврать, сказать, что видел Мямлина с чемоданом. А он растерялся и заладил одно: «Никого не видал».

Почему же все-таки наган? «И что делать сейчас? — думал Кириллов, наблюдая за Нифонтовым. — Выложить перед Нифонтовым заключение экспертизы? Арестовать? А если убийца не он? Ведь случаются же иногда невероятные, казалось бы, вещи. Не приберечь ли эту улику? О том, что Мямлин убит из нагана вахтера, в Нылке известно пока только троим — мне, Мише Вострикову и убийце. А знает ли убийца о том, что мне это известно? На экспертизе побывали четыре нагана. Все четыре возвращены. В конце концов Нифонтов от меня не уйдет. Есть, конечно, в этом определенный риск: я могу нарваться на неприятности, если с Нифонтовым что-нибудь приключится. Но можно ведь и подстраховаться. Существует же для чего-то наружное наблюдение».
Леснева-младшего разбудили голоса. В комнату вползал тусклый рассвет. Уже побледнел прямоугольник окна, но темнота еще не отступила, не рассеялась. Он взглянул на часы: половина пятого. Голоса были знакомы. Один — бас — принадлежал соседу, второй — гундливый — Чурикову. Они скорее всего собирались за грибами и поджидали кого-то. И от нечего делать болтали. Славка тихо злился, слушая, как сосед долго и нудно долдонил про корову, которая много жрет. Эту тему он может обсуждать часами, было бы только с кем. И пока он уныло басил, Славка успел снова задремать и увидеть сон, наверное, какой-то страшный сон, потому что вздрогнул и открыл глаза. И услышал голос Чурикова: — Вот я и говорю. До Мямлина у него не жизнь была, а малиновый звон. Обставился Силыч, в прихожую я ему лосиные рога собственноручно повесил. Чтобы было куда Аньке-то верхнюю одежду помещать: шляпку там или плащик. Остальную площадь он тоже в ажур привел, ванну даже сгоношил. Вот смеху-то. — Да уж куда уж, — откликнулся сосед. — И я вот говорю, — сказал Чуриков. — Теперь, к примеру, убили Мямлина-то. Выходит, запонадо-бится ванна. Ты как рассуждаешь? — Да ты что? — изумленно пробасил сосед. — Ты — Силыча?.. — А что — нет? Трубки-то я узнал… — Какие трубки? — Которые к телу были приспособлены, вот какие. Он замолчал. У Леснева-младшего по спине пробежал холодок. Но это же невозможно… Отец спал в ту проклятую ночь. Спал? И Славка, в который уже раз, стал перебирать в памяти события той ночи. Они тогда поцапались с Люськой. Он пришел домой до двенадцати. Дверь отцовой комнаты была закрыта. Закрыта… Он поужинал и лег спать. И сразу заснул. А утром? Утром он увидел… В комнате запахло сигаретным дымом: собеседники под окном закурили. А Славка на кровати лежал навзничь, затаив дыхание, и смотрел в потолок. Нет, не потолок он видел, а черные ботинки. Мокрые черные ботинки, висящие на колышках на крыльце… Так вот что все время его тревожило… — Бормочешь ты зря, Чуриков, — сказал сосед. — Стреляли ведь в Мямлина. — Вот и я говорю, — готовно откликнулся Чуриков. — Стреляли. А ты скажи: сподручно ли Силычу, допустим, финку в ход пустить? Он вон какой пиндитный. Брюки что твой топор — острые. На фронте небось не меньше чем взводом управлял. Привык пистолетом помахивать. — Да брось ты… — Чего бросать-то? Мишка — участковый, думаешь, для чего наганы по поселку собирал? Следователь, ясное дело, на Нифонтова грешил. Близко от сушильного, как же… Меня допрашивал… Да не туда он смотрит… — Что ж ты про трубки-то? Сказал? — А на хрена? Я свою фамилию люблю в ведомостях назарплату проставлять, а не в протоколах… Не бойся, не заржавеет… Видал, как оперы эти трубки обряжали, упаковывали? Чуриков сплюнул и круто переменил тему: — Где же этот чертов обалдуй? — Щи, наверное, хлебает. Он в лес на сытый желудок всегда ходит. Как корова моя… — Да, жизнь, — вздохнул Чуриков. — Вот я и говорю: барахтается теперь Силыч, как муха в сметане. А почему? А потому, что глаз положил на молодую. Голоса стали удаляться. Славка продолжал лежать неподвижно. В комнате постепенно светлело. Выступил из темноты угол стола. Как на фото в проявителе, стали прорисовываться контуры кресла, книжной полки, буфета. За окном вставал новый день. А за дверью, в соседней комнате спал отец. Как вчера… За той же дверью… Тот же самый человек… Он, как и вчера, встанет в восемь часов, выпьет жидкого чаю, съест бутерброд, произнесет несколько раз свое привычное «невозможно представить» и уйдет в контору. Как вчера… А сын будет лежать, притворяясь спящим, до тех пор, пока за отцом не закроется дверь. Что же сын будет делать потом?
Леснев-младший встал в половине девятого, дождавшись щелчка замка на входной двери. На столе в кухне белела записка: «В холодильнике есть колбаса». Он решил в холодильник не заглядывать, поискал кофе и вскипятил в литровой кастрюльке. Потом пошел бриться. Прежде чем включить бритву, внимательно всмотрелся в свое отражение, чем-то оно ему не понравилось. Но чем, он так и не понял. Делать ничего не хотелось. Вообще не было никаких желаний, все валилось из рук. «Не бойся, не заржавеет», — сказала эта скотина — Чуриков. Славка представил себе его опухшую ухмыляющуюся рожу, заплывшие свинячьи глазки… Сволочь… И он должен верить этой сволочи? Чуриков — пьяница, дубина и трепач… Но ботинки… Ботинки сушились на крыльце… Ночью шел дождь… У Чурикова не заржавело. «А почему? А потому, что глаз положил на молодую». Совсем недавно Лесневу-младшему это казалось смешным. Трогательные стариковские ухаживания… Ванночка для Анечки… Теперь эта ванночка попадет в протоколы к Кириллову. Не к ней ли он подбирался, когда задавал свои странные вопросы? Этот его интерес к Нифонтову… Копание в прошлом их семей… Что же, неужели Кириллов думает, что Люськин отец дал его отцу наган? Какая-то чушь все это… Бред… Да, это бред… Но почему же он думает об отце как об убийце? Почему? Он рывком открыл дверь спальни. Что он хочет там увидеть, он и сам толком не знал. Увидел широкую кровать, которая стояла здесь всегда… Всегда посреди комнаты… И платяной шкаф, и высокое зеркало… На прикроватной тумбе лежала книжка в красно-черной бумажной обложке. Франсуа Мориак. «Клубок змей». Он бездумно полистал се и бросил на место. Душещипательная книжка с завлекательным заголовком. Чтение для старцев с чистой совестью… «Клубок змей»… «А почему? А потому, что глаз положил на молодую». Почему же он, Славка, не хочет этому верить? И почему ему неприятно находиться в этой комнате, смотреть на эту кровать, на которой когда-то спала его мать, а потом должна была бы спать Анечка?.. И садиться по утрам к этому зеркалу… И мыться в ванночке… И открывать кран, и, может быть, догадываться, что бежит вода по той трубе, часть которой пошла на грузила для Сашки. Страшно думать об этом… Страшно. Да, запоздалая отцовская любовь еще совсем недавно казалась ему только забавной… А теперь?
III. Сеть
Он сидел в лодке. Посудина тенью скользила вдоль берега. Гребец едва касался веслами воды. Потной спине стало холодно, и он накинул на плечи фуфайку. Просунул руки в рукава и окинул взглядом высокий берег. Лес закрывал небо. Пустынный, молчаливый в эти вечерние часы лес. Тревожным казался ему этот лес. Тревожен он был темнотой и чутким, каким-то ощутимым молчанием, которого не нарушал даже ветерок, то ли заснувший, то ли заколдованный тишиной. Неуютным выглядел этот вечерний лес, хоть и был он не велик и не страшен — пролегли сквозь него дорожки и тропы, а где-то совсем рядом притаился поселок; два километра всего, петух закричит — слышно. А может, тем и страшен был лес, что все рядом: и дороги, и поселок, и люди… Главное — люди… Но никто на него не глядел. И уезжать далеко в общем-то было не обязательно. Убийца просто трусил. Он спустил весла и вынул из кармана ключи. Три ключа на кольце… Подержал их недолго, подумал… И уронил в воду… Ключи давно следовало выбросить, но он все не решался. Он думал, что ключи еще могут ему пригодиться… Потом понял, что это опасно… Ключам надлежало исчезнуть навсегда… Так, во всяком случае, рассуждал убийца.В каждом сложном деле всегда возникают так называемые привходящие обстоятельства. В деле, которое вел Кириллов, таким обстоятельством ему казались ключи от сейфа. И чем глубже он зарывался в расследование, тем сомнительнее выглядела эта история с ключами. Они никак не вписывались в дело. Первая робкая Мишина версия о том, что ключи выкрал Мямлин, разрушилась от легкого прикосновения. Вторая попытка найти гвоздик, на который можно было бы повесить эти ключи, тоже ни к чему не привела. Миша обшарил с миноискателем на шее гектара два леса, нашел на полтинник мелочи, старый футляр от часов, немецкую каску и еще много металлолома, но ключей среди этих вещей не было. Да и быть не могло, решил Кириллов, потому что не представлял себе Анюту ни в амплуа пособницы преступления, ни даже в роли немой свидетельницы. Не представлял, не мог вообразить. И упорно отмахивался от сакраментального «всякое бывает». Но все-таки Анюта ключи потеряла. Потеряла в ночь убийства… Совпадение? «Упадут — зазвенят», — сказал Миша. Чтобы ключи упали, надо открыть сумку. Надо ее перевернуть. Или что-то доставать из нее. Но ведь зазвенят… Три ключа. Два больших от сейфа, один поменьше от стола. Упадут — зазвенят. Обязательно. И не заметить этого нельзя, просто невозможно. А сама Анюта не помнит, где она могла их потерять. Не помнит или не хочет говорить… Кириллов размышлял об этом, сидя на старом сосновом пне, неподалеку от болотца, в котором было найдено тело Мямлина. В половине шестого по тропинке, ведущей на Мызу, должна была пройти Анюта. Он ждал ее. Не потому, что намеревался организовать «нечаянную встречу». В этом не было необходимости. Так же как не было нужды ее допрашивать. Есть вещи, о которых лучше всего говорить в неофициальной обстановке, без протоколов и столов, разъединяющих собеседников на того, Кто Спрашивает, и на того, Кто Отвечает. «Нюансики», — как иногда скептически выражается один знакомый журналист. Но он, Степан Николаевич, давно уже приучил себя относиться к этим самым «нюансикам» с должным уважением.
На ней был фиолетовый плащик, на ногах — вишневые туфельки. Смуглое лицо было замкнутым. Она не выразила ни радости, ни досады, ни растерянности, увидев следователя; просто кивнула равнодушно и хотела пройти мимо, но он сказал, что нужно поговорить, и она остановилась. О чем она в этот момент подумала? Во всяком случае, не о ключах, потому что первые же слова Кириллова о них ее удивили. Она не понимала, какое отношение может иметь такое незначительное, пустяковое событие, как утрата ключей, к тому, что случилось с Мямлиным, с Сашей, с парнем, которого она любила и которого потеряла. Ключи она тоже потеряла. Но эти две потери были несоизмеримы и, как она думала, не стояли в одном ряду. Она говорила об этом другими словами, но в конце концов не важно, какие слова мы употребляем, — важна мысль; а мысль была ясна. Ее, сказала Анюта, уже много раз спрашивали об этих ключах. Спрашивал Миша, спрашивали в конторе, да кто только не спрашивал… Просто она невезучая. И все Спицыны невезучие. Так уж им на роду написано — быть невезучей семьей… — Вы преувеличиваете, — возразил Кириллов, — надо реальнее смотреть на вещи. — Но Сашу-то убили, — сказала она. Сказала как-то буднично, просто. И поглядела Степану Николаевичу в глаза. Поглядела спокойно. Только лицо сделалось вдруг каменным, да побелели суставы пальцев, сжимавших ремешок сумочки. Трудно ей давалось спокойствие. — Оставим это, — сказал он мягко. — Чтобы что-то понять, надо знать. А мы еще многого не знаем. Я хочу, чтобы вы помогли нам… Пальцы ослабили хватку. — Я ничего не знаю про эти ключи. Вечером клала их в сумку, а утром не нашла. Вот и все. — Нет, не все. Давайте вспомним тот день… И они стали вспоминать тот день. Вспоминала, конечно, она, Кириллов только подбадривал ее наводящими вопросами. В тот день не произошло ничего из ряда вон выходящего. Утром Анюту предупредили, что Евгений Васильевич уходит в отпуск. Она восприняла это известие без энтузиазма, но и не огорчилась особо. Так велось уже четвертый год: Выходцев уходил в отпуск, Анюта принимала у него кассу. Случалось, как и в этот раз, принимать кассу с деньгами. Выходцев сам ездил в банк, сам раздавал зарплату. Анюта получала ключи в конце рабочего дня. Предварительно они пересчитывали остатки, Анюта, где надо, расписывалась; потом опечатывали сейф и шли по домам. В тот день она пришла в бухгалтерию в четыре часа. К пяти все формальности были завершены, и они втроем — главбух, кассир и Анюта — покинули контору. На крылечке уже сидел вахтер. Все как обычно. — Вы хорошо помните, что клали ключи в сумку? — Да, сумка стояла на столе. — Вы заперли сейф и опустили ключи в сумку? — Да, Евгений Васильевич сам опечатал сейф. — Где вы были в это время? — Стояла рядом. — А где был главбух? — За своим столом. — Никто из вас не выходил из помещения? Я имею в виду время от четырех до пяти… — Нет. — Кто-нибудь заходил в бухгалтерию в этот час? — Нифонтов. Он что-то спросил у Андрея Силыча… Постоял в дверях и ушел. — Постарайтесь вспомнить, что именно его интересовало? — Он… — Анюта задумалась на секунду. — Он спросил… Да, он спросил, долго ли мы будем сидеть в конторе? Ему надо было сходить за водой… — За водой? — Да. Он держал в руках чайник. Нифонтов, когда дежурит, всегда пьет чай. Это Кириллову было известно. — В комнату он не заходил? — Нет. — Она стала догадываться, куда он клонит, и вздохнула, отрицательно покачав головой. — Хорошо, двинемся дальше. Вы вышли из конторы втроем… Вышли и тут же разошлись в разные стороны. Выходцев повернул к своему дому, Андрей Силыч — к своему, а Анюта пошла в клуб. Мямлин был занят на сцене. Она посидела в зале, посмотрела, как идет репетиция. Потом ей захотелось есть. Столовая была уже закрыта на ремонт; она, зная это, сходила в клубный буфет, съела там несколько бутербродов с сыром, выпила стакан какао. Нет, около нее никого не было… Да, сумочку она раскрывала — доставала деньги, но были ли там ключи, не помнит, не обратила внимания. Вынула из сумки кошелек, расплатилась и ушла. Саша уже сидел у себя в кабинете, читал какую-то бумажку. Нет, он ничего не сказал, сложил листок вчетверо, сунул во внутренний карман пиджака, улыбнулся Анюте, и они пошли смотреть кино. Во время сеанса сумку она держала на коленях. И когда они ушли из кино, сумка была у нее в руках. До самого дома… Стоп. Бумажка во внутреннем кармане пиджака… Но ведь никаких бумажек, когда нашли тело, в карманах у Мямлина не было обнаружено. Документы были при нем, а бумажки не было. Нет. — На что была похожа эта бумажка? На письмо? Или?.. Она этого не знала. Текст был машинописный. Но был ли этот листок бланком, или страничкой рукописи, или письмом, она не смогла вспомнить. Да, жаль. Но все равно это был факт. Пока не объясненный, но факт. Кириллов взял его на заметку, и они двинулись дальше. Натурально и фигурально. Натурально они медленно шли по тропинке к Мызе, а фигурально снова подошли к конторе. На следующий день в девять утра Анюта вошла в комнату бухгалтерии. Андрей Силыч был уже на месте. В коридоре толпились грибовары, пришедшие за наличностью. Анюта открыла сумку, потом вытряхнула все ее содержимое на стол, потом растерянно взглянула на Андрея Силыча. «Невозможно представить», — сказал главбух, и они, теперь уже вдвоем, тщательно осмотрели сумку и то, что лежало на столе. Ключей не было. — А печати? — Печати были целы, но я все равно испугалась. Андрей Силыч послал за Нифонтовым и стал меня успокаивать. — За Нифонтовым? — Да, он же слесарь. — И он открыл сейф? Как он это делал? — Ну… Я не знаю… Он пришел сердитый. Выпил стакан воды, потом принес какие-то железки и открыл сейф. — Быстро? — Да. Через полчаса я уже отпустила грибоваров. — Хороший слесарь ваш вахтер. — Да, — сказала она. — Его всегда зовут на тонкие работы. Так, как он, никто не умеет… — Почему же он вахтер? Она кинула на Кириллова косой взгляд и ничего не сказала. — В самом деле, почему? — повторил он. Анюта вдруг резко остановилась и повернулась. Ее лицо снова окаменело. Черные цыганские глаза смотрели в упор. — Так вы никогда не найдете убийцу, — бросила она презрительно. — Ошибаетесь, Анна Семеновна, — спокойно возразил следователь. — Именно «так» мы его и найдем. И знаете что?.. Вы меня убедили… Черные глаза потухли. Плечи безвольно опустились. — В чем? — В том, что ключи вы не теряли… Отреагировала она точно так, как и ожидал Кириллов. Его слова оказались той самой каплей, которая переполнила чашу. То, что она старательно прятала от себя, о чем не хотела думать, выплеснулось наружу. Она ЗНАЛА, что не теряла ключи, она была уверена в этом. Но она не допускала мысли о том, что ключи мог вытащить из сумки ее Саша, парень, которого она любила и который, как ей казалось, любил ее. Когда она узнала, что он исчез, она подумала о ключах, но тут же отогнала эту мысль. Она ждала, что он напишет ей и все выяснится, все встанет на место. Но оказалось, что Мямлин убит. Она не имела понятия, нашли мы ключи или нет. Да она и не думала о ключах. Смерть Саши ошеломила ее, ни о чем другом она не могла думать. А потом вдруг пришел следователь и опять завел разговор о ключах. Сначала она ничего не поняла, потом сообразила, что ключи не найдены, и стала убеждать и Кириллова и себя в том, что смерть любимого и утрата ключей никак между собой не связаны. Кириллову потеря ключей тоже казалась привходящим обстоятельством. Однако по мере того как беседа с Анютой продвигалась вперед, он стал сомневаться: а так ли это? Не закидывает ли он сеточку в пустой водоем, где, кроме ила и тины, нет ничего? А вдруг привходящие обстоятельства — это все то, в чем он так старательно копается, пытаясь связать прошлое с настоящим. А что, если эта история с выстрелом проста, как яйцо? Мямлин и Нифонтов… Первый шантажировал второго… Довел старика до отчаяния напоминаниями о его темной биографии, потом потребовал… Что он потребовал?.. Подвернулся случай — в кассе остались на ночь деньги. Ведь если бы Нифонтов пустил Мямлина в контору, произошла бы рядовая кража — не больше. Изъяв деньги, Мямлин опечатал бы снова сейф, поскольку все приспособления для этой операции лежали в ящике стола, ключ от которого был на связке, закрыл бы комнату бухгалтерии, а утром, встретив Анюту, сумел бы как-нибудь незаметно всунуть ключи в сумку. Доказывай, смугляночка, что твоей вины нет. Вахтер засвидетельствовал бы, что ночью посторонние к конторе не приближались. И вышел бы камуфлет. Но Нифонтов на это дело не пошел. Не выдержали у старика нервы, и он схватился за наган. Все остальное вписывалось в картину преступления. Чемодан — инсценировка. Примитивная инсценировка, проделанная в спешке. Вот только трубки… Да и сам Мямлин. Не тот человек — Мямлин, ох, не тот… И тем не менее… Ключи-то, похоже, все-таки выкрали. Анюта понимала это и молчала… «Мне он ничего не сказал». И смотрела Анюта как загнанная лошадь. — Да, Анна Семеновна, вы убедили меня, повторил Кириллов после некоторого молчания. — Я не хотела в это верить, — призналась она наконец. — Просто уж я такая невезучая… По всем правилам мелодрамы, она должна была бы сейчас всплакнуть. Но глаза ее остались сухими. — Вы и в Нифонтова не хотите верить, — заметил Кириллов. — Не так ли? Она молча кивнула. — Вы никого не хотите обвинять, — продолжал следователь. — Однако от факта ведь не спрячешься, Анна Семеновна. Был факт, и вы это знаете. — Да, — согласилась она печально. — Я это знаю. Теперь ему предстояло переложить руль. И он сделал это. — Но я не думаю, что ключи у вас выкрал Мямлин, — сказал Кириллов. — Правда? — быстро спросила она. — Годится, во всяком случае, как рабочее предположение. Теперь заглянем этой правде в глаза. Где у вас могли выкрасть ключи? Мы исключили Мямлина… Исключим ваш дом… Остается одно место — контора, комната бухгалтерии… И время — от четырех до пяти. Так или нет? Она вздохнула и покачала головой. — Этого не могло быть. Я ни на секунду не выходила из комнаты. И потом… — О «потом», Анна Семеновна, придется думать мне. Я вас попрошу об одном: постарайтесь восстановить в памяти этот час. Все, что вы делали… Где стояли… На что смотрели… С кем говорили и о чем? И еще просьба — о нашем сегодняшнем разговоре никому ни полслова. Понимаете — никому. Не было этого разговора, не встречал я вас в лесу и ни о чем не спрашивал. Молчать вы умеете. — Он усмехнулся. — Полагаю, сейчас это умение пойдет на пользу делу… Она ушла. А он, проводив взглядом фиолетовый плащик, вдруг подумал, что у нее изменилась походка. Легче, что ли, стала или увереннее? А может, ему это только показалось. Мертвые ведь не возвращаются. Но он помог ей сбросить часть ноши с плеч. Она снова поверила в Мямлина. Мертвые не возвращаются; возвращается вера в человека, уходят прочь сомнения, и боль утихает. Ключи от сейфа — ключи к сердцу. Мелодрама… Кто же из трех украл ключи? Выходцев?.. Леснев?.. Нифонтов?.. И зачем? Должен же быть в этом какой-то смысл… Если, конечно, Анюта ключей не теряла.
Вторую бумагу от Хусаинова Кириллов получил на другой день после разговора с Анютой. И в тот же день Хусаинов позвонил в Нылку. Бумага была пространной, с выдержками из протоколов судебных заседаний по делу валютчиков. Все, что касалось Ивонны Ильиничны Рузаевой, было изложено толково и подробно. Но Нифонтов действительно к этому делу не пристегивался. Да и само дело носило, если можно так выразиться, семейный характер. Фигурировали на процессе Рузаева, ее сын, жена сына и два брата этой самой жены. Братья служили в торговом флоте на Каспии, ходили в загранплавания. Хранительницей «золотого запаса» выступала Ивонна Ильинична. На суде она заявила, что драгметалл (в основном червонцы) и некоторое количество ювелирных изделий (колье, кулоны, браслеты и перстни) достались ей по наследству от мужа. Документально этот факт подтвержден не был, но суд этим и не интересовался особо. Экспертиза дала заключение, что драгоценности не краденые, и этого оказалось достаточно, чтобы признать их, так сказать, фамильными. На это, кстати, намекало и происхождение Рузаевой и ее социальное положение до семнадцатого года. Шайка действовала осторожно, с опаской. Драгоценности уплывали за границу, оттуда братья-мариманы везли модную синтетику, а их жены сплавляли ее на черном рынке. Бизнес этот продолжался в течение четырех лет и оставался неразоблаченным так долго лишь потому, что все «дела» вершились в тесном семейном кругу. Но всему приходит конец: один из мариманов попался на глаза кому-то из команды своего судна в иранском порту в момент совершения сделки. И цепочка потянулась, зацепив мимоходом и Нифонтова, поскольку морячок оказался его близким знакомым, чуть ли не приятелем. К тому же Нифонтов был родом из тех же мест, где в свое время обреталась мадам Ивонна. Мадам эта умерла четверть века назад, вскоре после процесса. А заинтересовался ею Кириллов по трем причинам. Во-первых, она родилась в Нальске и некоторое время жила в Нылке. Во-вторых, накануне войны она появлялась в Нальске. И в-третьих, среди драгоценностей, которые она еще не успела реализовать, значилась серебряная обложка от Библии. В легенде о звонке с того света упоминались «золотые корочки», но легенды часто преувеличивают. А тут был факт, установленный экспертами и засвидетельствованный судом. Правда, Кириллов еще не знал, что с этим фактом делать, однако на размышления он наводил. И на довольно серьезные размышления. Он дочитывал бумагу, когда позвонил Хусаинов. — Ну как, Кириллов, — спросил он. — Хусаинов — хороший человек? Почта была? — Была. Но кое-чего в ней не хватает. — Знаю, потому и звоню. Тебе здорово нужна та, со шрамом? — Не получается? — догадался Степан Николаевич. — Не получается. Знаешь что, приезжай-ка ты сам, Кириллов. Сходим туда-сюда, молодые годы вспомним. Попроси командировку у прокурора. — Слушай, Хусаинов. Мне без того шрама — зарез! — отчаянно кричал в трубку Кириллов. — Уверенность мне нужна, понимаешь? И сквозь треск и шумы услышал: — Ладно. Отвлекаешь ты меня, но ладно. Сделаю третью попытку… Во имя дружбы народов. — Спасибо, вот спасибо, — выпалил Степан Николаевич и после недолгого молчания произнес нерешительно: — И знаешь что… — Что? — насторожился Хусаинов. — Ты сам эти выборки читал? — Копии перед носом… — Там упомянут сын Рузаевой. Он жив? — Тю-тю… И жена тоже… — Метрика его нужна. Короче говоря, данные об отце. — Данных нет… — Откуда знаешь? — Дело читал. Подсудимой Ивонне Ильиничне Рузаевой идентичный вопрос задавался на суде. Отвечать она на него отказалась. А ты молодец, Кириллов. Глубоко роешь. Чего только выкопать хочешь? Клад, что ли? — Кости, — ответил Степан Николаевич хмуро. И это было правдой.
Весь день Леснев-младший провалялся в постели с таким ощущением, словно его выпотрошили. Мир потускнел, потерял краски. Казалось, весь мир теперь помещался в голове, а голова была пуста, как футбольный мяч, из которого выпустили воздух. Так он чувствовал себя лишь однажды — в день, когда умерла мать. Ему тогда было восемнадцать. В тот день он решил поступить в медицинский институт. В ту пору горького, безысходного отчаяния он находил утешение только в одном: в исступленной уверенности, что он что-то сможет, что-то такое, что до сих пор было не под силу другим, что он найдет средство справляться с той болезнью, от которой умерла мать, и с другими, перед которыми часто отступают врачи. Сегодня он понимал, как был глуп тогда в своей юношеской самонадеянности. Он и сейчас помнит то чувство ненависти, с каким слушал советы нылкинского терапевта; тот с умным видом втолковывал матери, что ее болезнь — пустяк, а перед отцом распространялся чуть ли не как поп, который, закатывая глаза, бормочет, что «все в руце Божией». Трагедия заключалась в том, что болезнь была действительно пустяковой. Сейчас Славка знаком со статистикой и знает, сколько людей погибает от пустяковых болезней. Тут еще, правда, многое иногда зависит от личности самого больного, от того, на какую почву попадают вирусы. …Чуриковский токсин излился на почву, подготовленную для посева. И случилось то, что должно было случиться. Незадолго до прихода отца с работы Славка Леснев вытащил из холодильника бутылку водки, колбасу и какую-то соленую рыбку. Когда хлопнула входная дверь, в бутылке оставалась ровно одна треть содержимого. «Клубок змей», шевелившийся в его голове, приутих немного, мысли, казалось, обрели стройность, и он почувствовал себя готовым к ответственному разговору. — Невозможно представить, — сказал отец, неодобрительно оглядев натюрморт с бутылкой. — Что происходит? — Об этом я должен спросить тебя, папа, — ответил Славка, наполняя стопки. — Я хочу очень знать, что происходит. — Ты пьешь. Другого я не вижу. Поссорился с девушкой? — Про девушку мы еще поговорим, — пообещал сын. — И вообще нам, кажется, надо поговорить по-мужски, без обиняков и экивоков. Ты не волнуйся, я не побегу никуда и не стану произносить жалкие слова. Просто я хочу понять… Может быть, после этого я уеду. Завтра, например. Отец подсел к столу, повертел стопку и отодвинул ее от себя. Лицо у него было растерянным. И Славка увидел, что он сильно сдал за последнее время. Резче обозначились морщины у глаз, да и сам он как-то поблек, осунулся, обмяк. Но почему же он, сын, заметил это только сейчас? Да, он был занят Люськой, Люськой, Люськой… Отца видел урывками, обменивался с ним несколькими незначащими фразами по утрам, и на этом все кончалось. Отец отодвинул стопку и выжидательно поглядел на сына. А тот сказал: — Хочу все знать… — Невозможно представить. Ты пьян. — Это следствие, — сказал сын. — Причина в тебе, папа. — Интересно, — пробормотал Андрей Силыч, постукивая кончиками пальцев по столешнице. — Кто-то убил Мямлина, — сказал Славка. — Ты не знаешь, кто это сделал? — Ах, вот что… Ходят слухи, что подозревают Нифонтова. Это тебя огорчает? — Ходят другие слухи, — сказал сын. — Называют твое имя. — Что? — То, что ты слышишь. — Невозможно представить. Ты мой сын… Ты неглупый мальчик… Как ты мог подумать? Разве я похож на убийцу? — На убийцах нет предупредительных надписей, — жестко сказал сын. — Почему тебя не возмущают мои слова? — Потому что ты говоришь глупости. — Он вздохнул. — Трезвый ты бы этого не сказал… — Не сказал бы, — признался Славка. — И сейчас мне не хочется верить… Понять надо… — Я тоже хотел это понять. Ты правильно заметил, что на убийцах нет предупредительных надписей… Я… Я много думал об этом убийстве. Все так странно… Еще когда никто ничего не знал, когда этот мальчик просто куда-то исчез, я говорил с Евгением Васильевичем, ты его знаешь. Мальчик в последние дни вертелся возле нашей конторы. Со мной он только раскланивался. Ты понимаешь почему… Я считал, что он… Как бы это выразить?.. — К Анечке бегал, — безжалостно изрек сын, пренебрегая дипломатией. — Пусть так. Но тут было и что-то другое. Он уединялся со Спицыным; слышал я, что он раза два о чем-то говорил с Нифонтовым. Старик после этих разговоров чувствовал себя не в своей тарелке. Мямлин определенно что-то выискивал. И когда он вдруг таинственно исчез, я заподозрил неладное. И пошел к Евгению Васильевичу. Мямлин ведь и ему надоедал. Выходцев подтвердил мои опасения. Мямлин явно раскапывал старую историю, касавшуюся семьи Спицыных. Вот тебе присказка. — А сказка? — спросил Славка, ничего еще не понимая. — Страшная это сказка… Невозможно представить… Семен Спицын весной помогал мне оборудовать ванну. Умелец он не ахти какой, с автогеном обращался по-дилетантски, поэтому осталось много обрезков труб. Они валялись во дворе дней десять. Потом я попросил Семена убрать их, и он погрузил железо на телегу и куда-то отвез. Славка смотрел на отца во все глаза. — И эти трубки? — Да, эти трубки нашли вместе с телом Мямлина, — сказал он. — Невозможно представить. — Ну и сволочь, — сказал сын… — Кто? — Чуриков. — Славка даже засмеялся. — Ведь это он треплется про тебя. Отец вздохнул и пожал плечами. А на Леснева-младшего вдруг снизошло прозрение. Какой же он идиот! Только болвану могла взбрести в голову мысль, что убийца будет прицеплять к телу жертвы свою визитную карточку. Славка налил стопку и выпил ее одним духом. Мир расцветал на глазах. Про ботинки, которые сушились когда-то на колышках, он уже не думал. Он был рад. Ох, как он был рад… Но это была злая радость, в ней было предвкушение отмщения за страдания, которые он испытывал в течение этого долгого-долгого дня. Ему стало тесно в доме, он вспомнил про Люську, про то, что сегодня еще не видел ее… Он выскочил из-за стола, накинул пиджак… И побежал навстречу своей судьбе.
Переговорив с Хусаиновым, Кириллов тут же заказал Нальск и попросил подготовить сведения о пребывании в городе в военные и предвоенные годы Ивонны Рузаевой. Просьба эта энтузиазма у товарищей в Нальске не вызвала, но дело есть дело, и в конце концов они договорились. Потом Кириллов принял трех доброхотов, которые сообщили о своих соображениях относительно личности преступника. Соображения носили преимущественно эмоциональный характер и касались «иродова семейства». Степан Николаевич внимательно выслушал все. Хотя сам он имел на этот счет иные соображения. В одиннадцать пришел Миша с докладом о том, что со стариком Нифонтовым за ночь ничего существенного не произошло. Выкурив сигарету, Миша сказал, что на ужин у них сегодня утка с клюквой и что Наталья Ивановна просила быть обязательно. Кириллов отказываться не стал. Пряники, правда, были уже исключены из рациона, однако и клубный буфет, к которому он пристроился, не больно радовал разносолами. А колесо следствия крутилось, и остановки в ближайшие дни не предвиделось. Следователь накапливал факты и нанизывал их по мере поступления на нить, которую мысленно протянул от Мызы предреволюционных лет к детдому, а от него — к Мямлину. Интуитивно он ощущал существование внутренних связей между такими, казалось бы, далекими и разновременными событиями, какими являлись бегство Ивонны Рузаевой накануне семнадцатого года с Мызы и убийство наивного паренька более чем через полвека после этого бегства. Конечно, в умозрительных построениях Кириллова зияло много прорех в узловых пунктах. Он их отлично видел. Имелись также факты, которые вступали в противоречие со схемой. Однако все это не было главным, Кириллов давно уже пытался выйти на след Мямлина. Он упорно искал ту точку, из которой краевед-любитель отправился в свой трагический путь. Искал и не находил. Не с Анюты же все началось. К Анюте парень пришел уже с какими-то готовыми данными на руках. То, что у них возникло взаимное влечение, было привходящим обстоятельством, не больше. И Гришу-дурачка Мямлин заметил позже. Попытки понять поведение Гриши намекали на то, что Мямлин, как говорится, хватался за соломинку, что он искал и не мог найти аргументы, которые подтвердили бы имеющиеся у него исходные данные. Возможно, он даже не осознавал истинного значения этих данных. Но преступника он перепугал. И вот сейчас Кириллов опасался, что преступнику удалось уничтожить какую-то главную и единственную улику, без которой грош цена всему расследованию. На логических построениях далеко не уедешь. Нужны прямые указания, нужны доказательства. Таким доказательством могла бы быть рукопись, но она утрачена, а тот экземпляр, который был найден в чемодане, ответа на вопрос не давал. Не давали ответа и биографии фигурантов. В поле зрения следствия прочно удерживались три лица — Нифонтов, Леснев и Выходцев. На первого указывали как вещественные доказательства, так и кое-какие детали биографии. На второго — некоторые странности поведения. Третий оказался в Баку как раз тогда, когда там шел процесс валютчиков. Он же видел женщину со шрамом и утверждал, что она и есть Анна Тимофеевна Спицына. А Нифонтов называл другое имя. Это, конечно, могло быть и совпадением. А возможно, кто-то из них и лгал. И наконец, все трое были в конторе, когда у Анюты выкрали ключи. Если, конечно, их выкрали. И если эти ключи имели какое-то отношение к делу… Размышляя об этом, Кириллов держал путь к конторе. В комнате бухгалтерии мебели было немного — два стола, сейф в углу у двери, тумбочка с телефоном и небольшое зеркало на стене. Когда Кириллов вошел, Андрей Силыч щелкал на счетах, Анюта листала какие-то ведомости. Андрей Силыч поздоровался церемонно, Анюта несколько смущенно. Затем Андрей Силыч на правах начальника осведомился, чем он может служить Николаю Степановичу. Николай Степанович сказал, что хотел бы взглянуть на содержимое сейфа. Главбух бросил испуганный взгляд на Анюту, но Кириллов его успокоил, заметив, что это даже не формальность, что никаких протоколов и актов он составлять не собирается. — Вы мне просто покажите, что там хранится, — сказал он. Там хранились ведомости, чековые книжки, бланки поручений, печать, штемпельная подушечка, жестянка с мелочью, рублей на триста ассигнаций, бутылочка с темной жидкостью и… сборник стихов нальских поэтов — тоненькая книжечка в яркой желтой обложке. — Это Сашина книга, — тихо заметила Анюта. — А как она здесь очутилась? — Я принесла, — оказала Анюта. — Любите стихи? — вежливо поинтересовался Кириллов, перелистывая книгу. — Не знаю. Просто взяла почитать. В тот день принесла с собой… Андрей Силыч замер над счетами. Кириллов это уловил и тоже насторожился, хотя совершенно ничего не понимал. Ну, принесла Анюта книжку и оставила в сейфе. Сборник стихов… Принесла и оставила… Книга как книга. Ничего в ней особенного. Стишки… Про березки да сосны… Журавлиные поля… «Хотел бы я потоком быть»… И название придумали — «Зеленое раздолье». Стихов в сборнике было штук шестьдесят. Кириллов прочитал их все. Потом уселся поудобнее на табуретку и прочитал еще раз. — Нравятся? — застенчиво спросила Анюта, когда он возвратил книгу. — Саша говорил, что там есть хорошие. — Угу, — пробормотал Степан Николаевич. — Люблю, знаете ли, про природу. «Хотел бы я потоком быть»….. Андрей Силыч фыркнул и спрятал лицо в носовой платок. Кириллов решил не открывать литературного диспута и откланялся, оставив аудиторию в некотором недоумении. Сам он тоже пребывал в недоумении, хотя одна странная мыслишка и запала в голову после ознакомления с творчеством местных поэтов. Она, собственно, творчества не касалась. Касалась она ключей. Но была эта мыслишка весьма неопределенной, нечеткой какой-то. Ее надо было обкатать, обмять, вогнать в форму. Случайный фактор… Вы идете в кино, покупаете билет и, войдя в зал, обнаруживаете, что на вашем месте сидит человек. Вы вежливо, или не очень, предлагаете ему убраться, а он показывает вам билет на тот же сеанс, ряд и место, что и у вас. Случайный фактор… Есть вещи, которые нельзя предусмотреть. Они врываются неожиданно и, бывает, сводят на нет наши усилия, ломают наши планы. Не были ли ключи этим самым случайным фактором? Не хранил ли Выходцев в сейфе что-то такое, что могло бы навести на след преступника? И когда он сдавал дела, это что-то попалось на глаза… Кому? Лесневу?.. Нифонтову? А может, эта книжка — случайный фактор? Тогда почему она осталась в сейфе?
Выходцев скучал на скамейке возле своего дома. Кириллов присел рядом, и они немного поговорили о погоде, цветах и болезнях. Степан Николаевич давно уже заметил, что кассир любит говорить о болезнях, причем преимущественно о своих. Когда эта тема иссякла, Кириллов спросил напрямик: — Евгений Васильевич, вы не держали в сейфе посторонних предметов? — То есть как? — удивился он. — Что значит — посторонних? — Ну, скажем, коробка с конфетами или фотография. Да мало ли что… — Держал, — сказал он, полез в карман и вынул флакончик с таблетками. — Валидол, — пояснил Выходцев, засовывая флакончик в другой карман. Обиженно выпятил губы и заметил, что он лично не решился бы назвать лекарство посторонним предметом. Кириллов на это замечание не отреагировал, поскольку дань болезням уже была отдана, и перевел беседу в другое русло. Кириллова интересовала женщина со шрамом и даже пока не столько сама она, сколько противоречивые показания о ней. Тут получалась форменная карусель. Предположение о том, что были две женщины с одинаковой броской приметой, что обе они жили в начале пятидесятых годов в Баку, что одна из них помогала Нифонтову ухаживать за ребенком, а вторая именно в это время умудрилась попасть на глаза Выходцеву — предположение это вызывало у него внутреннее сопротивление. Случаются совпадения, но от этого отдавало какой-то искусственностью, что ли. Настораживал и тот факт, что Хусаинову до сих пор не удалось установить личность этой женщины. Интуитивно Кириллов чувствовал, что, взломав этот замок, он откроет дверь и увидит нечто такое, что позволит ему определиться, а может быть, даже и понять, почему, собственно, возникло темное дело, в котором так причудливо сплелось прошлое с настоящим. Но вся загвоздка состояла в том, что у него не было под руками инструмента, который бы годился, чтобы вскрыть этот замок. Проще простого было бы обвинить Нифонтова во лжи. А вот доказать, что он лжет, было нельзя, не располагал Кириллов такими доказательствами. Смущало его и поведение кассира, который после той достопамятной встречи с Андреем Силычем за бутылкой коньяку вдруг пошел на попятную и стал открещиваться от слов, произнесенных им четверть века назад. Тогда он опознал в женщине со шрамом Анну Тимофеевну Спицыну. Сейчас он стал в этом сомневаться. — Но тогда-то у вас сомнений не было, — спросил Степан Кириллович, выслушав длинную тираду о годах, которые подшучивают над памятью. Евгений Васильевич горестно покачал головой. — Тогда не было. — При каких обстоятельствах произошел ваш тогдашний разговор? Вы ведь, насколько мне известно, в те годы еще не работали на сушильном заводе. Да, он поступил на завод в пятьдесят шестом. А разговор о женщине со шрамом состоялся не то в пятьдесят первом, не то в пятьдесят втором. Тогда как раз Выходцев почувствовал, что его аллергически-генетическое заболевание стало обостряться. Асфальт… Он задыхался не только от запаха асфальта, но даже один вид асфальтированной поверхности вызывал приступы удушья. Он уехал из Нальска по совету врачей и поселился в Нылке. В это время умер его отец, дом перешел к супругам Выходцевым, Года три он нигде не работал, чувствовал себя отвратительно, потом устроился на сушильный. А в пятьдесят втором, да, пожалуй, это было именно в пятьдесят втором, он проездом из Баку в Нальск был в Нылке. В Баку он тоже был проездом, даже не покидал вокзала. Так вот, летом пятьдесят второго, буквально в день приезда в Нылку, Выходцев встретил на улице Андрея Силыча. Они поздоровались и разговорились. Выходцев был еще под впечатлением видения, мелькнувшего перед глазами на бакинском перроне, и поэтому сказал: «А знаете, кого я видел?» Андрей Силыч и тогда употреблял свое любимое «невозможно представить». Именно так он и выразился. По Нылке, конечно, пронесся слух: «Ирод объявился». К Выходцеву даже заходил побеседовать вежливый молодой человек, «из органов», как понял кассир. Но тем дело и кончилось, потому что ничего существенного Выходцев к своему рассказу добавить не смог: видел, и все. — Теперь же не знаю, что и подумать, — пожаловался он. А Кириллов не знал, что подумать об Андрее Силыче, который вроде бы ни с того ни с сего предложил кассиру отречься от своих прежних показаний. Вся эта путаница и упорное нежелание заинтересованных лиц объяснить свое поведение, все это наводило на размышления о том, что с этой женщиной необходимо разобраться как можно быстрее. Но зацепки не было: Хусаинов молчал, а предпринять что-нибудь на месте не представлялось возможным. Временами Кирилловым овладевало какое-то тихое отчаяние. Он улавливал внутреннюю логику событий, прошлых и настоящих. Он о многом догадывался, но он не мог ничего доказать. Штормы, сотрясающие человеческое общество, — революции и войны — вздымают не только валы, они выбрасывают на берег и мусор, и пену, и брызги. Купец Рузаев, захлестнутый волной Октябрьской революции, был выдернут из привычной жизни, и ошеломленный, не понимающий ничего, но надеющийся, что все еще образуется, бросился в Нылку, рассчитывая отсидеться в тихом месте, а заодно и спасти кое-какое движимое имущество. Отсидеться не пришлось. Но драгоценности, видимо, ему удалось надежно припрятать на Мызе. И вот в это время с купцом случилось что-то такое, что породило легенду о черном памятнике и звонке с того света, что-то такое, что вымело мадам Ивонну из усадьбы. То, что произошло потом, в общем-то понять было нетрудно. Мадам Ивонна осела в Нальске, ей нужно было во что бы то ни стало выручить драгоценности. Но в доме на Мызе жили люди, он не пустовал ни дня, ни часа. Затем туда вселился детдом. До сорок первого, до начала эвакуации, мадам Ивонна кружила около бывшего своего владения, не имея возможности подступиться к тайнику. Такая возможность появилась в конце июля сорок первого года. И опять здесь случилось что-то. Но что? Можно было только догадываться, что на этот раз мадам удалось вскрыть тайник. Кто ей помог, оставалось тайной. Может быть, Анютина бабка, может, кто-нибудь еще. Кто-то, конечно, был. Кто-то ведь убил Мямлина. А в сорок первом погибли дети. Их просто принесли в жертву золотому тельцу, их просто бросили на лесной дороге… Просто бросили… Вскоре после войны мадам Ивонна появилась в Баку. Через несколько лет возникло дело валютчиков. Так Кириллов представлял себе ход событий. Представлял, как потом выяснилось, правильно. Но сами события и люди, за ними стоящие, были ему не видны. Прошлое скрывалось за плотной пеленой тумана, а в настоящем… В настоящем предстоял ужин у Миши Вострикова.
Зачем в тот вечер Славка Леснев пошел к Люське? Может, все повернулось бы иначе. Может, завтра они стали бы другими и другой получился бы разговор. Может быть… Он пошел к ней. Его распирала радость, и он не сразу заметил, что Люська и глядеть на него не хочет. Когда он пришел, Люська жарила яичницу. Она даже не подняла глаз от сковородки, словно это и не сковородка была, а невесть какая ценность. — Что с тобой? — спросил Славка. — Ничего, — сказала она как-то уж слишком спокойно, по-прежнему не глядя на него. — А все-таки? — Ты хочешь это знать? — холодно осведомилась она. — Разумеется. Может, я сумею помочь… — Ты, по-моему, уже помог, — сказала она, снимая сковородку с огня. — Но я тебя не виню. Ты такой же, как и все. И камень, который ты бросил в папу, не крупнее других. — Я?.. Камень?.. Так вот что вползло между ними. Подозрение. Сначала он подозревал ее в том, что она… А в чем, собственно, он подозревал? Ему просто не понравилось, что она говорила со следователем о нем… Теперь она… Какой-то камень… Когда же это он бросил камень в ее папу? В папу, который, возможно, убил Сашку… — Ты только не оправдывайся, — сказала Люська. — Помнишь, мы лежали у колодца, и ты сказал, что следователя интересует мое происхождение. Я тогда ничего не поняла… — Я и сейчас этого не понимаю. И если ты вообразила… — Откуда следователю стало известно, что в нашем доме нет фотографии моей мамы? — Да ты что? — Ничего. Вчера я говорила с папой и теперь знаю все. А ты поступил, как… — Договаривай, что же ты замолчала… — Как обыватель, — сказала она. — Зачем ты пришел ко мне, к дочери убийцы? Ты ведь веришь всему, что болтают… — Люська, послушай, —начал было он, но слова вдруг застряли в горле. Он хотел рассказать ей обо всем, что произошло, хотел доказать, что он не обыватель, что все так по-идиотски сложилось, хотел что-то объяснить… И может быть, ему удалось бы объяснить ей то, чего он и сам-то хорошо не понимал, может, удалось бы стряхнуть паутину, облепившую их, паутину в которой они оба беспомощно барахтались… Может быть, это удалось бы ему, если бы он заговорил. Но он молчал, он растерял все слова, а Люська смотрела на него холодными глазами и тоже молчала. А когда молчание стало уже невыносимым, она сказала: — Что же ты стоишь? Уходи… И он ушел. Вышел на улицу и медленно побрел к центру Нылки. Постоял у клуба с парнями, о чем-то поговорил, долго и сосредоточенно изучал афишу кино, но так и не запомнил названия фильма. Все, что происходило вокруг, было похоже на дурной сон. Этого не должно было быть, но это было. Был Чуриков, был его отец, была Люська, и был ее отец… Не было только Сашки, который заварил всю эту кашу… Пуля, убившая Сашку, рикошетом отскочила в них с Люськой. Она сказала, что старик Нифонтов признался ей в чем-то. Неужели это ее отец застрелил Сашку? Девочка с тайной… Девочка не хочет верить, что ее отец — убийца. А он вот поверил было Чурикову, поверил сразу, безоговорочно. Поверил в какую-то страшную сказку… Клуб остался далеко позади… Ему казалось, что он идет без цели, просто бродит по улицам наедине со своими путаными размышлениями… Казалось… На самом-то деле цель была… Он не думал о ней, он гнал эту мысль, но он знал, чего ищет… Он искал встречи с Чуриковым, он обходил стороной улицы, где его наверняка не могло быть, он ходил и ходил по тем, где надеялся его встретить. И встретил. Увидел заплывшую нездоровым жиром рожу там, где ей положено было быть. Чуриков выполз из магазина. В руках у него была авоська, из которой торчало темное горлышко посудины, ласково прозванной пьяницами «огнетушителем». Славка подождал, пока Чуриков поравнялся с ним, и спросил: — Помыться не хочешь, Чуриков? Он не понял. Тогда Славка сказал: — Значит, считаешь, что запонадобится ванночка? Так, что ли? — Но-но, — прохрипел Чуриков, отступая и загораживаясь авоськой. И тогда Славка его ударил. Он вложил в этот удар все, что накопилось в нем с утра. Он, наверное, ограничился бы этим ударом, если бы этот пьянчужка не стал защищаться. Плюнул бы и ушел. Но Чуриков бросил авоську, подхватил бутылку и запустил в Славку. Бутылка попала в грудь. Что-то хрустнуло, у Славки перехватило дыхание, на мгновение потемнело в глазах. И это решило все. Анатомия человеческого тела для студента-медика открытая книга. Чуриковское тело в этом смысле не составляло исключения, болевые точки у Чурикова находились в тех местах, где им положено было быть. «За Анечку», — сказал Славка, направляя удар в челюсть. «За ванночку». — И его кулак обрушился на чуриковскую голову. Потом Леснев-младший долго плавал в каком-то красном тумане, вынырнуть из которого ему удалось только тогда, когда он оказался в квартире участкового инспектора. Славка сидел на стуле. А перед ним стоял Кириллов. На столе лапками кверху лежала жареная утка. Из глубины комнаты печально смотрела жена участкового. Сам он говорил Кириллову: — Насилу оторвал… Чуриков — в больнице… Состояние скверное… Ничего не слышит, на вопросы не отвечает… — Синдром оглушенности, — сказала жена участкового из угла. Кириллов смотрел задумчиво. Потом спросил: — Намерены объясняться, студент? — А зачем? — спросил Славка, рассматривая свои руки. Суставы пальцев были разбиты, но боли он еще не чувствовал. — Вы изувечили человека, — сказал Кириллов хмуро. — Он это заслужил. Кириллов переглянулся с участковым. — Все это, — сказал он, вздохнув, — несомненно сыплется из одного мешка. Отрыжка. Что же вы съели, студент, хотел бы я знать… Что он съел? Сплетню, а на десерт получил «обывателя». Но не рассказывать же об этом Кириллову… «Синдром оглушенности»… Как иногда все странно выходит… Он не ответил на вопрос следователя, только вяло поинтересовался: — Меня арестовали? Кириллов усмехнулся и сказал: — В настоящий момент нет. Но суда вам не избежать. — Факт, — подтвердил участковый, усиленно массируя скулу. Под глазом у него расплывалось сине-зеленое пятно. Славка опустил взгляд и пробормотал: — Извините, Михаил Савельевич, я не хотел… — А ты знаешь, Леснев, что это значит — сопротивление при задержании, — проворчал участковый. — Подожди, узнаешь… За что избил Чурикова? — Он знает… — Мы тоже догадываемся, — сказал Кириллов. — Но неужели вы не понимаете, насколько все, что вы сотворили, глупо и бессмысленно? — Может быть, — равнодушно ответил Славка. Какое-то безразличие охватило его. Хотелось уйти, лечь в постель и ни о чем не думать: ни о Люське, которая прогнала его, ни о Чурикове, ни о тюрьме, которая, видимо, была ему обеспечена в перспективе… Синдром оглушенности… — Ладно, — сказал Кириллов. — Идите пока, а завтра подойдите ко мне. — Во сколько? — Часов в десять…
Семен Спицын пришел к Кириллову в гостиницу вечером. Дважды стукнув костяшками согнутых пальцев в дверь номера, он вошел и, густо откашлявшись, произнес: «Здравия желаем». С полудня шел дождь, нудный, монотонный, спорый. В приоткрытое окно тянуло сыростью. Семен потоптался у двери, снял потемневший от воды брезентовый дождевик, попытался пристроить его на вешалку, но плащ сваливался, и Семен равнодушно пнул его сапогом в угол. Потом снял шляпу с обвислыми полями, ладонями пригладил волосы и уселся на стул, упершись толстыми руками в колени. Скользнул безразличным взглядом по комнате и проговорил: — Вот так, значит. — В каком смысле? — полюбопытствовал Кириллов. Семен долго молчал и, наконец, объяснил свое появление: — Вспомнил я один случай. Разговор у нас был с Александром. Может, он вам и без интересу. Но вот, вспомнил… И Семен Спицын рассказал, что вскоре после того, как Анюта познакомилась с Мямлиным, пришел он, Семен, как-то домой с получки, «ну с маленькой». Кириллов с сомнением глянул на него, подумав: «Не с маленькой ты пришел. Вон какой — руки как лопаты, да и видел я, с чем ты приходишь». Но ничего не сказал, ждал, что будет дальше. А дальше Анютин отец рассказал, что в этот вечер в их доме был гость — Александр. — Пил он мало. Так, для блезиру. Кто из нас про Григория тогда помянул, не скажу. Но разговор был. Был разговор. Рассказал я ему, как Григорий мамашу мою любил. Мы ведь с ним вместе росли. И вспомнилось мне… Степан смотрел в угол, туда, где лежал плащ. С него уже натекла лужа. Но Степан смотрел в одну точку, словно не видел ни плаща, ни лужи, ни самой комнаты. — Да, вспомнилось мне, — повторил Спицын, — очень он, Григорий, любил у мамаши на руках сидеть, а мамаша медальон носила, так он им все играл. Заберется на руки и ну вертеть — и к глазам и к уху поднесет. Выделывал… Пробовали отбирать — обкричится, бывало. Мамаша все боялась, что порвет цепочку. Вот оно. Оно? Кириллов слушал, скучным голосом задавал какие-то вопросы, и только чуть сузившиеся зрачки выдавали напряженную работу мысли. Семен рассказал, что на тонкой серебряной цепочке Анна Тимофеевна носила медальон с фотографией мужа. Снимала она его, только когда ложилась спать, да в бане. Толстые руки Семена по-прежнему упирались в колени. Взгляд был неподвижен. Наконец он отвел его от дождевика, посмотрел в лицо Кириллову и ни с того ни с сего спросил: — Ну и так что? Кириллов не ответил. Да и не входило в его планы отвечать на вопросы. Он предпочитал задавать их. И, прикинув время беседы Семена с Мямлиным (она была в начале июля) и «психологического эксперимента» с Гришей-дурачком, проведенного неделей позднее, Степан Николаевич сказал себе «стоп», поблагодарил Семена Спицына за содержательную беседу, учтиво осведомился, как здоровье Анюты, и проводил гостя до лестницы. Три дня назад Кириллов был у Спицыных. Они с полчаса беседовали с Анютой о разных разностях. Степан Николаевич интересовался, много ли молодежи живет на Мызе, кто где работает, куда ходят по вечерам, кроме Нылкинского Дома культуры, кто чем увлекается. В это время и появился Семен. — Здравия желаем… — прогудел он от двери и, не задерживаясь в большой комнате с двумя комодами — красным и черным, — протопал в кухню. Там он долго и шумно мылся, кашлял и фыркал. По всему видно было, выходить к гостю он не торопился. Появился Семен из-за желто-коричневой портьеры, которой был завешен дверной проем в кухню, неожиданно. В правой руке была зажата бутылка со «Столичной», в левой — две стопки. Он молча поставил их на стол. Взглянув сначала на дочь, потом на следователя, одним ловким движением сорвал с бутылки пробку и неторопливо налил в стопки. Затем так же молча и неторопливо одну стопку пододвинул Кириллову, а вторую вылил себе в рот и сразу же снова наполнил. Но пить не стал. А тяжелым, немигающим взглядом долго смотрел в рюмку. Потом, облокотившись на стол, перевел взгляд на Кириллова и произнес: — Ну и так что? И, глядя в эти черные, немигающие сумрачные глаза, Степан Николаевич вдруг решил рассказать Семену о мямлинском эксперименте с Гришей-дурачком. Анюты в комнате не было. Увидев отца с бутылкой в руках, она ушла в кухню. Слышно было, как там несколько раз хлопнула дверца холодильника.

Семен слушал следователя, по-прежнему глядя в рюмку. Потом выпил, крепко вытер губы ладонью и сказал: — Вон, значит, что… В комнату вошла с тарелками Анюта и, расставив их, снова ушла. Кириллову показалось, что девушка намеренно оставляет их вдвоем. А может, просто не хочет продолжать разговор со следователем. Рассказывая Семену о мямлинском эксперименте, Кириллов, собственно, ничем не рисковал. Ведь об играх Гриши-дурачка с веревочкой знала вся Нылка. Но вот почему заинтересовался ими Мямлин, это был вопрос. — Вон, значит, что… — повторил Семен в тот еечер. И больше ничего не сказал. А теперь вот пришел. Вспомнил свой разговор с Мямлиным и пришел. Может, принес ответ на вопрос: почему Мямлин заинтересовался играми Гриши-дурачка. Конечно, если он, Семен, говорил правду. Но ведь не только этот ответ принес Семен Спицын. Если принес. Теперь с новой силой зазвучали другие вопросы: например, почему Гришу так тянет к ямкам? И где искать ответ на этот вопрос? Об этом Семен ничего не сказал. Не хотел? Не знал? И что же еще он знал, Семен Спицын… А может быть, он причастен к делу… Ведь намекал же на Семена кассир Выходцев.
Назначая время Лесневу, Кириллов не подозревал, что сообщает колесу следствия такой сильный толчок, о каком можно было только мечтать. С избиением Чурикова тут не было никакой связи. Степан Николаевич не мудрствовал особо, допрашивая утром студента об обстоятельствах происшествия. Причины были ясны. Было известно и про ванночку, и про то, куда делись отходы от этой самой ванночки. Миша давно установил, что обрезки труб были брошены Семеном Спицыным в лесочке, примыкавшем к забору сушильного завода, и мирно лежали там с самой весны, пока ими не воспользовался преступник. Было известно и то, что Андрея Силыча в ночь убийства Мямлина видели возле клуба. Однако спрашивать Андрея Силыча о том, что он там делал, было преждевременным. Он мог сказать что угодно, кроме правды, он мог сказать и правду, но нечем было ни подтвердить, ни опровергнуть то, что мог бы сказать Андрей Силыч. На помощь сына тоже не приходилось возлагать особых надежд: родная кровь. — Да, Леснев, натворили вы… — сказал Степан Николаевич, когда последний лист протокола был подписан. Славка молчал. Он был подавлен, растерян и даже не старался скрыть обуревавшие его чувства за напускной бравадой. Что-то сломалось в нем. Почему Кириллов сразу вслед за этой мыслью вдруг вытащил из ящика стола неоконченную рукопись Мямлина, он, сколько потом ни раздумывал, так и не смог понять. Странно все-таки устроен наш мыслительный аппарат. Ты о чем-то говоришь, что-то делаешь, а откуда-то из подсознания неожиданно выползает и начинает обретать четкую форму мысль, которая, казалось, никак не могла вытекать из того, что ей только что предшествовало. Позднее, когда Степан Николаевич вновь и вновь перебирал в памяти все происшедшее, он вынужден был признаться себе: да, я не гений… Гений додумался бы до этого раньше. Гений спросил бы: а что, собственно, писал Мямлин? Историю поселка? И ответил бы — да. Да, сказал бы гений. О том, что Мямлин писал историю поселка, свидетельствует, во-первых, текст рукописи, найденной в чемодане, а во-вторых, обширная переписка Мямлина с архивами, музеями и частными лицами. Переписка эта сохранилась, и вы, товарищ Кириллов, ее читали. Вы вникали в характер ответов, которые получал Мямлин. Вы хотели уловить какие-то намеки на то, что Мямлина занимали вопросы, связанные с эвакуацией детского дома. Вы таких намеков не уловили. И вы подумали, что преступник изъял часть переписки, а заодно и уничтожил тот экземпляр рукописи, в котором, как вам казалось, описывались события, имеющие отношение к эвакуации детдома. Так вот, сказал бы гений, вы дурак, товарищ Кириллов. Сколь ни наивен был Мямлин, он никогда бы не потащил в историю сомнительные факты. Это раз. Кроме того, вы, товарищ Кириллов, по какому-то недоразумению упустили из вида еще одно немаловажное обстоятельство — рукопись-то, как вам известно, была у Мямлина готова целиком, он даже договорился о ее перепечатке. А вот все то, что интересовало его в связи с детдомом, все это явно выглядело «незавершенкой». С Гришей-дурачком он ведь так и не сумел объясниться. А теперь, сказал бы гений, поглядите на те сто двадцать две страницы, которые преступник положил в чемодан, изучите внимательно последнюю и задайтесь вопросом: что сей сон означает? Не напоминает ли она ту, которую вы нашли в столе у Мямлина? Там автор запутался в двух «когда» и выдернул лист из машинки. Эта страничка обрывалась фразой: «О книгах и газетах наши селяне не имели никакого понятия, их читали только в том одиноком доме на Мызе, да еще, может…» Наверчено будь здоров. Из такой фразы не скоро выберешься. Не заменил ли эту страничку Мямлин другой? В самом деле: рукопись у него состояла из трехсот страниц. А сто двадцать вторая почему-то не дописана до конца. Не делал же он две закладки… Кириллов оторвал взгляд от рукописи и поглядел на Леснева, о котором, пока вел диалог с воображаемым гением, успел забыть. Сейчас этот парень мог ему помочь. — Вы видели когда-нибудь Мямлина за машинкой? Где он работал? — В клубе обычно, иногда брал машинку домой. Печатал он плохо, давил клопов. — У кого он брал машинку? — В библиотеке. В этом году, по-моему, он вообще к машинке не прикасался. Может, весной, когда меня здесь не было… — Читали? — кивнул Кириллов на рукопись. — Перелистывал, — усмехнулся Леснев. — Давно? — Да нет, не особенно. Чуть ли не в тот день, когда он с Гришей занимался. — Не помните, сколько экземпляров рукописи было у Мямлина? — Отчего же, помню. Два. И еще листочки, которые он повсюду разбрасывал. Графоманская привычка — терпеть не мог забивать ошибки в тексте. А вымарывал тушью, и чтобы обязательно ровненько. — Много вымарывал? — Не сказал бы. В одной главке, правда, он почеркал изрядно. Там, где писал о здравоохранении. Вписывал на место вычерков целые абзацы. Я еще спросил, что так? — И что же он ответил? — Ничего. Отобрал рукопись. — И никак не объяснил? — Ничего не сказал. Так. И Анюте он, Мямлин, ничего не сказал. А вымарывал, значит, что-то в главе о здравоохранении. Что же сие может означать? Ну хотя бы то, что в последнее время он узнал о каких-то новых фактах. Пожалуй, годится как рабочее предположение. Но что же это за факты, о которых он не хотел ничего сказать ни Лесневу-младшему, приятелю все-таки, ни Анюте, которую он любил и которая любила его. Вымарывал что-то в главе о здравоохранении. В этих словах содержался некий намек. Едва уловимый. Но в голове у Кириллова он засел крепко. А Славка тем временем продолжал рассказывать: — Вообще он был странным парнем. Не то блаженным, не то себе на уме… А это важно? — Леснев кивнул на пухлую пачку, которую Степан Николаевич задумчиво перелистывал. Это было очень важно. Чрезвычайно важно. Оно-то и не давалось Кириллову столько времени. «Ох, студент, студент… Почему я раньше не спросил тебя об этом? Не пришлось бы тебе подписывать протоколы, не лежал бы в больнице Чуриков — пьяница, обормот, но ведь человек все-таки… Нет, не блаженненьким был Мямлин и не «себе на уме». Честным парнем был Мямлин… Историю он воссоздавал, историю, и вымарывал он из рукописи свои ошибки. И не свои даже, а то, что ему надули в уши…» — Я хочу спросить вас, Леснев… Только подумайте прежде. Попадалось вам в рукописи упоминания о детдоме? В тех местах, где Мямлин менял текст? — Нет, — сказал он уверенно. — Марал он там, где речь шла о двадцатых годах. Это я точно помню. Что ж, так и должно быть. Если бы не было этих вычерков, преступнику не понадобилось бы уничтожать рукопись. Он ее уничтожил — и на этом попался. Он рассчитывал, что номер пройдет, он ловко это проделал: нашел неоконченную страничку — ту самую сто двадцать вторую, — подложил ее в рукопись, и на ней текст оборвался. Мямлинская работа стала выглядеть незавершенной. Сто двадцать две страницы первого экземпляра легли в чемодан, а остальные вместе со вторым экземпляром он забрал, чтобы уничтожить. Он, наверное, проклинал Мям-лина за то, что тот внес поправки в оба экземпляра. А может, не думал об этом. Он скорее всего не знал, что Мямлин ходил в последний свой день в библиотеку и договорился о перепечатке трехсот страниц. Другое он знал… Знал, что Мямлин печатал сам и никогда никому не показывал свои рукописи. На этом и строил преступник расчеты. На этом и просчитался…
Давно ушел, скрипнув дверью, Леснев-младший. Кириллов задумчиво перебирал листки мямлинской рукописи, но читать не стал. Потом долго сидел, уставясь невидящим взором в страницу, и, подняв телефонную трубку, заказал Баку. Через несколько минут длинная трель звонка разорвала тишину номера. — Хусаинов, ты? — А как же… — Приветствую тебя от лица службы, — бодро пробасил Степан Николаевич. — Понимаешь, тут какое дело… — Теперь в его голосе слышались просительные нотки. — Опять дело? — Да нет, так, пустячок. — И, не дав Хусаинову возразить, Кириллов быстро произнес: — Ты не знаешь, сохранилось свидетельство о смерти старика Рузаева?.. Сохранилось?.. Ты его видел?.. А кто его подписал? — А рахат-лукуму тебе не хочется, э? Помнится, ты его любил. Но ладно, жди… — Я звоню по срочному, — нерешительно пояснил Степан Николаевич. — Жди, — послышалось в трубке. — У нас служба — как часы. — Сквозь шумы и потрескивания до Кириллова доносились обрывки фраз — Хусаинов говорил по другому телефону. Наконец Кириллов услышал: — С тебя причитается. Получай. — И Хусаинов назвал фамилию. Степан Николаевич удовлетворенно хмыкнул. Теперь ему было ясно, кто лгал, а кто говорил правду. Теперь он знал, кто убил Мямлина.
Слово было произнесено, а все остальное, как говорится, было делом техники. Надо было сплести сеть из нитей, которые до сих пор казались для этой цели попросту непригодными. Теперь же, когда в руках Кириллова был крючок, в ход сразу пошли все обрывки. И потянулись дни, заполненные, главным образом, как это ни парадоксально, телефонными переговорами с начальством. Кириллову нужны были люди, много людей, для того, чтобы провернуть некую тяжелую работу, в необходимости которой начальство сомневалось. Следователя раздражало это глухое сопротивление. Кроме того, он и сам не был уверен на сто процентов в том, что работа принесет ожидаемые плоды. Да что там — на сто, он и на пятьдесят процентов не был в этом уверен. Тем не менее он потихоньку плел сеть. Несколько вечеров позанимался с Анютой — он готовил следственный эксперимент, который должен был дать ответ на вопрос о пропавших ключах. Анюта не понимала, чего он добивается, вышагивая вокруг нее с часами в руках и записывая, сколько минут она затратила на пересчет денег и сколько времени ушло на опечатывание сейфа. Но ведь и не нужно было, чтобы она это понимала, потому что в противном случае весь замысел лопнул бы как мыльный пузырь. Распухала папка с поступавшими из разных мест бумагами, содержавшими скудные сведения об Ивонне Рузаевой, ее сыне и о других людях, живших когда-то. Но не вдохновляли Кириллова эти бумаги, не было в них ответа на главные вопросы. И с каждым днем он все отчетливее сознавал, что есть только один способ уличить преступника. Один-единственный. И не о нем ли подумывал Мямлин, когда затевал игры с Гришей-дурачком? Правда, знал Мямлин еще что-то, может быть, даже держал в руках, но оно, это «что-то», видимо, уже не существовало. А дни текли, пока наконец не наступил тот, которого Кириллов ждал…
Следователь с участковым инспектором прибыли на старый кордон, когда солдаты уже очистили поляну от мелколесья. С ними приехал и лесник, коренастый мужик лет пятидесяти пяти, седой, но с лицом румяным, как помидор, и таким же гладким, как помидор. За всю дорогу он вымолвил лишь одно словечко: «Удумали», — зато курил беспрерывно. Курил он какую-то удивительно ядовитую смесь самосада с сигаретным табаком, самокрутки завертывал в палец толщиной, и стреляли они, как поленья. «Ты уж переходил бы на опилки», — сказал Миша, когда уголек из лесниковой самодельной сигареты угодил ему за воротник. Мужик не отреагировал, но, видно, фраза эта его задела, потому что, вылезая из машины, он вроде бы ни с того ни с сего проворчал: «Небось не подожгу». — Доходит, как до того верблюда, — сказал Миша. — Он и за год поляну не разметит. Но мужик, хоть и думал туго, действовал не в пример проворнее. Через час поляна была затянута шнурами, и мужик, по-прежнему немногословно, но толково объяснил, где стояли дом, сарай, погреб, где находился огород, а где сад. Потом уселся в сторонке на пенек и занялся кисетом с гремучей смесью. Солдаты лениво разобрали лопаты. Молоденький, новенький, блестящий, как только что отчеканенная монета, лейтенант деловито осведомился у Кириллова: — Будем начинать? — Пожалуй, — согласился тот, подумав, что нет смысла дожидаться приезда комиссии и экспертов. Будет даже лучше, если они подольше задержатся. Ему уже изрядно надоели недоверчивые взгляды и вопросы типа: «А тут ли, Кириллов? Ведь если что и было, так оно могло быть в любом другом месте». Да, «оно могло быть в любом другом месте». Но было здесь — в этом он уже перестал сомневаться. Он верил в Мямлина. И он поверил в Гришу-дурачка, поведение которого, особенно разыгрываемые им мистерии, стало наконец понятно. Мямлин был первым человеком, разгадавшим то, мимо чего проходили многие умные люди; Кириллов, правда, не знал, что подтолкнуло Мямлина к разгадке. Но то, что он первым увидел в Грише свидетеля давнего преступления, представлялось несомненным. Лейтенант построил солдат и снова подошел к Кириллову. Лейтенанту были нужны указания. — Огород и сад пока исключим, — решил Степан Николаевич, оглядывая поляну, расчерченную шнурами на прямоугольники и квадраты. — Дом и надворные постройки тоже оставьте в стороне. А вот двор… Двор был огромен. Одним концом он примыкал к лесу. Когда-то примыкал. Когда-то был двором… Когда-то тут разыгралась трагедия… Через пять лет после нее в дом вернулся лесник. И прожил в нем около девяти лет… — Миша, позови лесника, — сказал Кириллов инспектору, стоявшему рядом. Румяный старик неохотно сполз с пенька и приблизился, треща самокруткой. Вряд ли он умел читать мысли на расстоянии. Но он был догадлив. — От леса идите, — сказал он. — Помойки там были. Кроме как в помойках нигде не должон быть. Он имел в виду труп. Вернее, то, что могло остаться от трупа. Помойки здесь не чистили. Просто засыпали землей. И они пошли от леса… Это был тяжелый труд, но небесполезный. К пяти часам дня все было кончено. Члены комиссии, прибывшей к этому времени, окружили яму. Заклацал затвором фотограф. В яме лежал скелет, окруженный ржавыми жестянками из-под консервов, осколками бутылок, какими-то истлевшими лохмотьями. Поперек грудной кости, чуть наискось, уходя концами в невынутую еще землю, свисала тонкая черная цепочка. Миша Востриков шумно дышал за спиной Кириллова. Тот оглянулся и тихо сказал: — Доставь-ка сюда Семена Спицына. Побыстрее и без шума. Так, чтобы в Нылке никто ни сном ни духом… Понимаешь? — Понимаю, — сказал Миша. Тайну раскопок надо было во что бы то ни стало сохранить до утра.
IV. Добыча
Он сидел на стуле, отодвинутом к стене. Рядом с ним сидели еще двое. Нифонтов, Выходцев и Андрей Силыч Леснев были приглашены на спектакль в качестве зрителей. Режиссуру осуществлял Кириллов, роли исполняли Анюта и трое незнакомых зрителям мужчин. Спектакль назывался следственным экспериментом. — Задача у нас скромная, — сказал Кириллов, выходя на середину комнаты. — Мы сделаем попытку восстановить ход событий, которые произошли в этой комнате в течение часа в день, предшествовавший убийству. Я попрошу вас, — он кивнул зрителям, — отнестись к делу серьезно и внимательно. Если кому-нибудь из вас покажется, что наши статисты, — он указал на трех незнакомцев, — поступают не в соответствии с тем, что происходило в действительности, прошу вносить поправки. На первом этапе настоящего эксперимента я, как известно, опросил каждого из вас по отдельности. Сейчас мы посмотрим с часами в руках, как эти ваши показания вписываются в общую картину. Прошу, Анна Семеновна. Анюта бросила беспомощный взгляд на Кириллова. Она явно забыла, что ей нужно делать. — Невозможно представить, — пробормотал Андрей Силыч. Выходцев выпятил губы. Он не скрывал иронического отношения к происходящему. Нифонтов смотрел в пол. Кириллов усмехнулся, подошел к открытому сейфу, вынул из него желтую книжку и подал ее Анюте. — Это ведь вы принесли с собой, — сказал он. — Что еще было у вас в руках? — Сумка, — сказала Анюта. — И… И зеркало… — Снимите его. Итак, вы вошли сюда в четыре часа дня. Вы принесли с собой сборник стихов, зеркало и сумку. Кто находился в комнате? — Андрей Силыч и Евгений Васильевич. Один из незнакомцев поднялся и вышел за дверь. Он должен был играть Нифонтова. Двое других сели за столы главбуха и кассира. Кириллов посмотрел на часы и кивнул Анюте. — Смелее, Анна Семеновна. Вы же прекрасно все помните… И пантомима началась. Анюта шагнула к столу, около которого возвышался сейф, положила на край сумку и книжку, потом повесила зеркальце на гвоздик. Из сейфа извлекли пачку ассигнаций, и Анюта стала пересчитывать деньги. Незнакомец, изображавший главбуха, потянулся через стол и взял в руки сборник стихов. Небрежно полистал книжку и вернул на место. Тот, кто сидел за столом Выходцева, тоже заинтересовался творчеством местных поэтов. Анюта считала деньги. Потом она и тот, кто играл Выходцева, склонились над бумагами. Прошло с полчаса. Наконец Анюта собрала со стола все бумаги и отправила их в сейф. Взглянула на книжку и тоже бросила ее туда. Деньги уже были там. Анюта закрыла сейф, опустила ключи в сумку (другие, изготовленные вскоре после пропажи прежних) и поднялась со стула. Тот, кто играл Выходцева, извлек из стола принадлежности для опечатывания сейфа и принялся за работу. Анюта отошла к зеркалу и занялась своей прической. Кириллов, сидевший до этого рядом со зрителями, молча наблюдавшими за происходящим, вдруг поднялся и стал ходить по комнате. В дверь заглянул тот, кто играл Нифонтова. В правой руке он держал зеленый чайник. Он постоял с минуту в дверях, потом повернулся и скрылся в коридоре. Анюта подкрасила губы, подошла к столу, кинула тюбик с помадой в сумку. Щелкнул замок. — Пять часов, — сказал Кириллов, поворачиваясь к зрителям. — Все так и было? Трое молчали. — Невозможно представить, — откликнулся наконец Андрей Силыч. — Не понимаю, чего вы добились… — Сейчас увидите, — сказал Кириллов. — Анна Семеновна, откройте сумку. Она открыла. Ключей в сумке не было. Анюта недоверчиво оглядела сумку, потом вытряхнула содержимое на стол. Ключи исчезли. — Фокусы, — сказал Выходцев. — Глупые фокусы, — возмущенно произнес Андрей Силыч. — Вы что же, хотите сказать, что кто-то из нас выкрал эти ключи? — Эти — нет, — спокойно ответил Кириллов. — А те — да. Как видите, мы убедились, что это было возможно сделать. — Но зачем? — прошептал Андрей Силыч. — Какое отношение эти ключи… — Случайный фактор, — сказал Кириллов. Он сорвал печать с сейфа. Один из незнакомцев — оперативник из Нальска — вынул из кармана ключи и подал ему. Кириллов открыл сейф и достал оттуда сборник стихов. — Вот эта книжка, — сказал он, бросая «Зеленое раздолье» на стол, — эта книжка и есть тот самый случайный фактор. Андрей Силыч, может быть, вы теперь соблаговолите сообщить нам, зачем вы ходили к Выходцеву? Или… Нет, начните уж лучше по порядку. Что вы делали возле клуба в ночь убийства Мямлина?Кириллов знал, что теперь Леснев-старший будет вынужден сказать правду. Он страшился этой правды, он гнал ее от себя, он не хотел ей верить. Кириллову надо было его убедить. И следственный эксперимент затевался, собственно говоря, не столько для того, чтобы что-то доказать, сколько для того, чтобы показать Андрею Силычу, кто украл ключи и для чего это было нужно убийце. И проведен был этот эксперимент довольно-таки эффектно. Когда Анюта отошла к зеркалу, Степан Николаевич стал ходить по комнате и на мгновение загородил от «зрителей» сотрудника, который играл роль Выходцева. Он и вынул ключи из сумки, сделав это так, что никто ничего не заметил. Кроме Выходцева, конечно. Тот-то давно уже догадался, что следователь относится к нему с недоверием. Но тут он промахнулся. Он принял следственный эксперимент за «чистую монету»; решил, что, не имея, в сущности, против него никаких улик, Кириллов пошел на отчаянный шаг, чтобы заставить его признаться в краже ключей, а затем и в убийстве. У Выходцева буквально отвалилась челюсть, когда Кириллов обратился с вопросом не к нему, а к Андрею Силычу. «Добит» же он был следующим тактическим ходом: следователь не дал Андрею Силычу возможности довести рассказ до конца. Едва лишь главбух выпутался из своих «невозможно представить» и заговорил по существу, Кириллов прервал его, сказав, что будет лучше, если Андрей Силыч изложит свои показания в письменном виде. Выходцев успел услышать только несколько слов, из которых мог вывести несложное умозаключение: в ночь убийства Мямлина главбух видел кассира. И кассир сразу полез в карман за валидолом. Нет, он не упал на колени и не стал размазывать слезы раскаяния по дряблым щекам. Он еще пытался сопротивляться. И с ним еще пришлось немало повозиться, прежде чем он понял, что приперт к стене.
Ивонна Рузаева познакомилась с доктором Выходцевым в декабре 1916 года. Купец Рузаев, в то время ему было за шестьдесят, явился в Нылку отнюдь не затем, чтобы поклониться родным местам и тихо скончаться на руках юной жены. Такие мысли не приходили ему в голову. Купец испугался надвигавшейся революции и решил удрать из России. Намеченный им маршрут пролегал через Нылку на Курск, Харьков и дальше, к Черному морю, на белый пароход. Но в Нылке случилось непредвиденное: купца хватил легкий удар. Отнялась нога, и он оказался прикованным к постели. Ивонна рвала и метала. Ее, в общем-то, волновала не болезнь мужа. Она, еще выходя замуж, знала, на что шла, знала, что все люди смертны, а старые люди и тем более. Но супруг, когда они прикатили в Нылку, совершил, как считала Ивонна, огромную подлость по отношению к ней — он спрятал куда-то саквояж с золотишком и драгоценностями, спрятал так ловко, что Ивонна при всей своей сообразительности не могла взять в толк, куда он этот саквояж дел. А Рузаев не только обезножел, он еще и потерял дар речи. В дни, когда он был здоров, дом на Мызе навещали представители тогдашней нылкинской элиты. Теперь визитировал лишь врач Выходцев. Он «утешил» Ивонну, сказав после первого обследования больного, что супруг может прожить неопределенно долго. Ивонна совсем потеряла голову, бродила по дому, тщетно пытаясь отыскать тайник, кидалась на прислугу. Прислуга стала разбегаться. Дом пустел, а за стенами дома бурлила страна. Ивонна понимала, что дорогое время уходит, что не видать ей ни Венеции, ни Парижа; она понимала это, хотела как-то действовать, но не знала как. По вечерам она усаживалась у постели мужа и спрашивала: «Где?» Она сверлила его темными ненавидящими глазами и протягивала к его рукам грифельную доску. Но муж лишь мычал и отталкивал доску. «Отравлю», — шептала Ивонна. «Ты уже мертвый, — говорила она, — почему ты не хочешь дать жить другим? Отдай деньги». Он не отдавал. Она съездила в Нальск и заказала там черный мраморный памятник. Доставили его на Мызу быстро. Ивонна велела сгрузить его перед домом, поближе к окнам. Сама передвинула мужнину кровать и, подсунув ему под голову несколько подушек, сказала: «Смотри… Видишь, это ты. Ты уже там, в могиле. Ты уже высказал свое желание быть там, об этом известно всем в доме. Я постаралась, чтобы об этом знал весь мир. Ты умрешь без покаяния и без причастия. Если же ты отдашь золото, я оставлю тебя в покое». Старик ухмыльнулся в ответ и протянул руку к грифельной доске. «Врешь, сука», — написал он и швырнул доску на пол. Он на что-то надеялся, этот старик. Но он был обречен. Жена изолировала его от людей, шнур от звонка в его комнате протянула к себе в спальню. Пищу ему подавали только при ней. И врач навещал больного только при ней. Ивонна стала приглядываться к врачу. Василий Выходцев был молод. У него были жена и семимесячный сын Евгений. Врач Выходцев мнил себя аристократом духа, хотя особыми талантами не отличался. А в доме у него пахло пеленками и эфиром. Дома громко кричал младенец. В другом доме жила красивая женщина. Он отметил это сразу. Потом он начал замечать, что женщине приятно находиться в его обществе. И он затягивал визиты, пока однажды… В общем, все это произошло довольно банально. Правда, тут был случай особый — эти двое стали не только любовниками, но и сообщниками. О том, что сыр-бор в доме на Мызе горел из-за денег, Василий Выходцев узнал лишь в сорок первом году, когда получил письмо от Ивонны, в котором она впервые сообщила бывшему любовнику о золоте, спрятанном в рузаевской усадьбе. Она поняла, где тайник, лишь много лет спустя, совершенно случайно, когда, копаясь в захваченных из усадьбы бумагах мужа, обратила внимание на план дома, который и раньше попадался ей на глаза, но раньше ей было не до плана. Шел семнадцатый год. После февраля зашумела даже тихая Нылка. В окрестностях поселка стали пошаливать бандиты. Ивонне было страшно в доме, покинутом всеми. Надо было срочно убираться, но тащить с собой неподвижного мужа она не желала. И тогда она решилась. Она выполнила свою угрозу. Она отравила старика, но сделала это руками своего любовника. Она поднесла больному микстуру, которую приготовил ни о чем не подозревавший врач, а потом, когда тело старика дернулось и замерло, она, округлив свои красивые глаза, прошептала: «Боже, Базиль, что же вы наделали, вы же размешали не тот порошок». Она звала его на французский манер — Базилем. И Базиль обмер… И выправил свидетельство о смерти, происшедшей в силу естественных причин. Мадам Ивонна была особой предусмотрительной. Конечно, в другое время все это не сошло бы ей с рук. Но в ту пору никому не было дела до того, что творилось на Мызе. Похоронив старика, Ивонна махнула в Нальск, оттуда, не задерживаясь, перебралась в более отдаленные края и надолго исчезла из поля зрения доктора. Сам он остался в Нылке. Дом на Мызе пустовал недолго. Сначала в нем пьянствовали местные бандиты, потом их оттуда выкурили, потом… Потом стала складываться легенда о черном памятнике, о звонке с того света и о неутешной молодой вдове, которая не выдержала напряженного общения с загробным миром. Внес свою лепту в сочинение этого сюжета и врач Выходцев. Он понимал, что Ивонна обманула его, но что он мог сделать? Комплекс вины мучил его, он стал испытывать по ночам приступы удушья. Спасался опием и сильными снотворными. А у неутешной вдовы рос сын Валентин — его, Выходцева, сын. Через двадцать лет Ивонна снова появилась в Нальске. Мысль о том, что где-то близко, протяни только руку, закопано золото, мысль эта мешала ей жить. И вот как-то, бездумно перебирая бумаги, оставшиеся после мужа, она, в который уже раз, задержала взгляд на плане дома. Нет, там не было никаких крестиков и иных подобных пометок. Просто, рассматривая план, она вдруг поняла, где именно купец мог спрятать саквояж, спрятать быстро и надежно, так надежно, что, если бы даже дом на Мызе сгорел или обрушился, все равно сокровище осталось бы в целости. И самое главное — извлечь его можно было просто, так просто, что Ивонна, вероятно, застонала, поняв это. Не надо было даже входить в дом, подход к тайнику был снаружи. Нужно было только подкопаться на три четверти метра под фундамент, и в стене открывалась неглубокая ниша. Три таких ниши были обозначены на плане. Зачем они были сделаны, Ивонну не интересовало, мало ли бывает архитектурных причуд. И сомнения ее не мучили. Она была уверена, что клад там, в одной из этих ниш, где же еще ему быть? Ведь она в свое время тщательно обшарила весь дом от чердака до подвалов, она даже балки выстукала. Она нашла бы тайник. Она отлично помнила, что саквояж исчез из спальни супруга в ночь их приезда на Мызу, а в эту ночь старик никуда не отлучался надолго. Ей показалось даже, что она точно знает, какую именно нишу использовал купец для тайника. В том месте у стены дома стояла скамья. Она и скрыла следы подкопа. Полчаса нужно было купцу, чтобы закопать клад. А извлечь его можно было и за пятнадцать минут. Приехав в Нальск, Ивонна произвела глубокую разведку. Доктор Выходцев процветал. Жена у него умерла, сын учился в Нальске, овладевал основами науки о финансах. Сам же «аристократ духа» работал в Нылке в больнице и слыл толковым врачом. О нем писали иногда в местной газете. Давнее преступление было забыто, о нем напоминал лишь невроз, от которого доктор по-прежнему спасался опием и снотворными. Модное нынче словечко «аллергия» тогда еще не было в ходу. Да и не аллергия душила доктора Выходцева по ночам. Ивонна ему снилась… И вдруг возникла наяву. В ту пору ей уже исполнилось сорок, ему было около пятидесяти. Она встретила его на набережной в Нальске. Доктор Выходцев возвращался в гостиницу с какого-то совещания. Ивонна подстерегла его на пути. «Зачем?» — спросил он. «Я хочу показать тебе твоего сына, Базиль», — сказала она. Он промолчал. «Я хочу, чтобы Женечка и Валя познакомились, они же братья», — сказала она. «Зачем?» — спросил он. «У меня есть возможность устроить их жизнь», — сказала она. «Нам не о чем говорить, Ивонна, — сказал он. — Будет лучше, если мы сейчас расстанемся и забудем обо всем». — «Ты все-таки подумай, — сказала она. — Есть вещи, о которых забывать нельзя». Это была прямая угроза. Ночью ему привиделся труп старика. Ивонна избрала тактику шантажа для того, чтобы заставить доктора Выходцева поработать на себя. Ни он сам, ни тем более его сын Ивонну не интересовали. Ей нужны были подходы к детдому. О том, чтобы проникнуть на территорию бывшей усадьбы днем, не могло быть и речи. А ночью там торчал сторож. Кроме того, дом на Мызе был уже не «одиноким домом». Он был окружен «собратьями» поменьше. Она не знала, как подступиться к тайнику. А шел уже сорок первый год. Как ни противился доктор Выходцев, Ивонна настояла на своем. Она устроила так, что ее Валечка и его Евгений все-таки познакомились. Евгений стал часто бывать у Рузаевых. Парни не знали о том, что они братья. И уж конечно, не имели ни малейшего понятия о том, какие цели преследовала Ивонна. Она же осторожно, но настойчиво готовила их к выполнению предназначенной им роли. Ее Валентин, впрочем, был уже достаточно нашпигован прописями о том, что «жизнь одна и ее нужно использовать себе во благо», что «не ты для людей, а люди для тебя», — и прочими премудростями из купеческого кодекса. А Евгения Выходцева «аристократ духа» вскормил на идейке «изначальной предназначенности интеллигента» и подобных ей, этикетки на упаковке которых сочинялись в свое время земскими врачами и прочими уездными философами. Так что семена, которые щедро бросала Ивонна, попадали на подготовленную соответствующим образом почву. В июне сорок первого Ивонна написала доктору Выходцеву, чтобы он встретил мальчиков, которые готовы «биться за металл». Это не ее слова, но мысль была именно такой. Она написала доктору, что «они все знают», но им «надо помочь». У доктора глаза полезли на лоб: о металле он не имел представления. «Ты обязан это сделать, Базиль, — писала она, — не только ради нашего прошлого, но и ради их будущего. Если ты этого не сделаешь, я уничтожу тебя — ты потеряешь все: авторитет, уважение, наконец, место. У меня есть возможность доказать, что ты преступник, и доказать так, что меня это не заденет. Да если и заденет, терять мне больше нечего. Я хочу, чтобы ты помнил об этом». Письмо Ивонна написала по-французски, но закончила его постскриптумом из непечатных выражений на родном языке. Не удержалась. Доктор на письмо не ответил. Началась война. Ивонна снова рвала и метала. Мальчики ждали повесток. «Я не хочу, чтобы вы погибли, — сказала как-то Ивонна. — Золото спасет нас, оградит от войны. Вы будете жить. Мы сумеем перебраться за границу. Мы…» Она говорила о четверых, но подразумевала двоих — себя и сына. И когда началась эвакуация нылкинского детдома, Ивонна сказала: «Пора». Мальчики не хотели умирать, мальчики грезили об Австралии.
— Ну так что же было дальше, Выходцев? Выходцев уже не выпячивал губы. Сидел мешком на стуле. Жалкий комок старого мяса и костей, небрежно всунутый в серый костюм… Убийца… — Мы выкопали саквояж с золотом ночью. И пошли на развилку дорог… — Продолжайте… — Саквояж был тяжелый… Думали дождаться попутки, но машин не было… Где-то около пяти утра показался фургончик. Мы остановили его… Анна Тимофеевна сидела за шофера. — Она не сказала почему? — Нет. Сказала только, что торопится. Ей надо было возвратиться за сыном и забрать остатки имущества. — Почему она поехала лесной дорогой? — Потому что… Это мы сказали… — Что вы сказали? — Она должна была ехать по шоссе. Но саквояж открылся… — И она увидела золото? Так, что ли? — Так. Валентин сел за руль, а ее… — Что? — Ее мы оглушили. Она… — Звала на помощь? — Да. Кричала, что мы мерзавцы… Воры… Не хотела ничего слушать… — Потом? — Около избушки Валентин остановил машину. — Вы решили ее убить? — Мы не хотели… Решили связать и оставить в избушке… А она… — Да… — Она стала сопротивляться. Ударила Валентина гаечным ключом… — Кто из вас убил ее? — Он, Валентин. Вырвал у нее ключ и… А тут еще ребятишки… — Что? — Повывалились из кузова… Стали разбегаться… Кричали… Да, все кричали, кроме Гриши-дурачка. Он забился под крылечко, и убийцы его не нашли. Да они его и не искали. Просто не заметили исчезновения мальчонки. Не до него было. А он видел, как они сбрасывали труп женщины в помойку, как закапывали его. Все он видел, Гриша-дурачок. Но он был дурачком, и понимал он поэтому далеко не все. А они торопились. Они были ошеломлены, испуганы. Никто из них не догадался снять медальон с шеи убитой. А через три с лишним десятилетия в случайном разговоре подвыпивший Семен Спицын рассказал Мямлину про Гришу и материн медальон. Мямлин видел Гришины «игры» с веревочкой и раньше. Но раньше Мямлин мало знал, пожалуй, даже ничего не знал. А к тому дню, когда Леснев застал его за проведением «психологического эксперимента», Мямлин многое знал и о многом догадывался… Недаром он так старательно вымарывал из своей «истории Нылки» все упоминания о докторе Выходцеве… «Вот только откуда он это знал, на чем строил свои догадки… Это и предстоит выяснить сейчас», — подумал Степан Николаевич, и обратился к Выходцеву: — Продолжайте. — Мы доехали до Нальска. Машину бросили. — Да. — В город вошли пешком. — Чтобы не привлекать к себе внимания? Дальше. — Когда проходили мимо военкомата, нас увидел Нифонтов. Он стоял у подъезда. — И что же? — равнодушно обронил Кириллов, подумав, вот где скрестились пути этих людей. — Вам не удалось проскользнуть мимо, он окликнул вас и… — Да. Он спросил: «Женя, ты сюда?» Я остановился. У меня была повестка. У Валентина тоже. Но его Нифонтов не знал. Валентин сказал: «Догонишь» — и ушел. — И Рузаевых вы уже больше не встретили. Так? Долго их искали? — Всю ночь. — Когда же поняли, что они вас надули? — К утру. Утром пошел в военкомат. — И возненавидели Нифонтова. Нифонтова, а не Рузаевых. Так? — Их тоже. В ту ночь Рузаевы благополучно выбрались из города. А за границу им удрать не удалось. Об этом Выходцев узнал после войны, вернувшись в Нальск. Самого его от передовой спасло финансовое образование. В начале пятидесятых годов ему стало известно, что Рузаевы обосновались в Баку. Там же жил и Нифонтов. Вряд ли неврозы передаются по наследству. У Выходцева был стойкий благоприобретенный невроз. Он выдумал себе аллергически-генетическое заболевание. Не запах асфальта душил его. Злоба. Злоба душила его. Злоба мешала ему работать. Злоба, а не болезнь гоняла его по морским курортам страны. Он не сразу узнал, что Рузаевы живут в Баку. Он слышал, что «где-то у моря», и искал. А в Баку он действительно оказался проездом. У него уже выработался условный рефлекс — наводить справки. Он и здесь наведался в адресный стол. Но когда узнал, что Рузаевы в тюрьме, и узнал, за что, и услышал фамилию Нифонтова, им овладела злобная радость. Он подумал, что Нифонтов тоже в тюрьме, и ему захотелось навестить жену Нифонтова, сказать фальшивые слова сочувствия и позлорадствовать втайне. Узнать адрес Нифонтова было делом простым. У дома на скамейке сидела женщина со шрамом на щеке. На коленях она держала годовалую девочку. Выходцев спросил женщину, как пройти к Нифонтову. И вот тут-то он услышал… Словоохотливая Дарья Михайловна Синицына (в конце концов Хусаинову удалось найти ее) за словом в карман не лезла. Она сообщила, что у Нифонтова сбежала жена, что сам он на свободе и собирается уезжать на родину. Выходцев был потрясен — как?! И снова сработал невроз. В поезде Выходцев придумал, как напакостить Нифонтову. Приехав в Нылку, он рассказал Андрею Силычу о женщине со шрамом, назвав ее Анной Тимофеевной Спицыной. Может, созвучие фамилий — Спицына-Синицына родило ассоциацию, может, тут действовали другие причины, но, как бы там ни было, чудовищная ложь пошла гулять по поселку. Он намеревался сделать и второй шаг: связать фамилии Спицыны — Нифонтовы одной веревочкой, но испугался, когда женщиной со шрамом заинтересовались следственные органы. Тогда, двадцать три года назад, эта история заглохла. Но неожиданно выплыла вновь после убийства Мямлина. И Кириллов понял, что кто-то из двух лжет — Нифонтов или Выходцев. О том, что лжет Выходцев, следователь догадался, когда Леснев-младший произнес слово «здравоохранение». Этот едва уловимый намек сразу вырос до размеров косвенной улики, когда Степан Николаевич после разговора с Лесневым позвонил Хусаинову и попросил его узнать, не сохранилось ли свидетельство о смерти старика Рузаева. Хусаинов назвал фамилию доктора Выходцева. Это его подпись стояла на свидетельстве о смерти. И тогда стало понятно, кем был убит Мямлин. «Он прикоснулся к чему-то взрывоопасному», — сказал Кириллову как-то, в одну из первых встреч, Выходцев. Он пообщался со своим убийцей, предположил еще в начале следствия Степан Николаевич. — Да, он приходил ко мне, — ровным, бесцветным голосом рассказывал Выходцев. — Скажите, Выходцев, когда вам пришло в голову убить Мямлина? — В июне, когда я узнал, что у него письмо Ивонны к отцу. — Письмо? — Да. Он пришел и стал расспрашивать, кто такой Базиль и о каких деньгах идет речь. Я пожал плечами — ничего не знаю. Но он мне не поверил. Я понял это. — Как попало к нему письмо? — Все бумаги, оставшиеся после отца, валялись у нас в чемодане на чердаке. Я ими никогда не интересовался и не знал, что это письмо отец сохранил. Когда Мямлин пришел к моей жене и спросил, не осталось ли чего в семье, что могло бы помочь ему лучше осветить роль отца в становлении нылкинской медицины после Октября, жена выдала ему ворох разных документов, в том числе и это письмо. Оно было написано по-французски, но с русской припиской. Мямлин нашел переводчика в Нальске… — Во внутреннем кармане пиджака Мямлина была бумажка с машинописным текстом. Это был перевод письма Ивонны Рузаевой к вашему отцу, так, что ли? Выходцев не ответил, только опустил голову. — А сделал его переводчик, телефон которого был записан на обложке поэтического сборника? — Да. Анна Семеновна пришла принимать кассу с этой книжкой. Вот он, случайный фактор. Убийство уже было замышлено, уже в чайник Нифонтова была заброшена доза снотворного, уже был подготовлен шприц с дозой посильнее. И тут Анюта приносит книжечку, на обложке которой (внутри) написано рукою Мямлина: «Перевод с фр. 5-17-25, Селезнев». Перевод с фр. был уже сделан. — Вы выкрали ключи… — Да. Купил в магазине такой же сборник и ночью заменил. Он все предусмотрел. Он уничтожил все улики. Но все было зря… Андрей Силыч запомнил номер телефона и, когда Мямлин исчез, позвонил Селезневу. Тот вкратце пересказал содержание письма. Андрей Силыч задумался. И решил навестить Выходцева «с бутылкой коньяку». Он, кроме того, в ночь исчезновения Мямлина видел Выходцева у клуба. После неудачного сватовства Андрей Силыч приобрел привычку бродить по ночам. Нет, тогда он ни о чем таком не подумал. Но позднее стал подозревать Выходцева. Да, тигров в Нылке не было. Жалкая добыча билась в сетях следствия. — Вы решили воспользоваться оружием Нифонтова? — Выходцев обреченно молчал. — Где вы взяли снотворное? Впрочем… Выходцев признался, что в наследство от «аристократа духа» ему досталась аптечка, в которой имелся изрядный запас опия и сильнейших снотворных. — Я так и думал… — скучным голосом проговорил Кириллов. — А скажите, Выходцев, не оно ли, содержимое этой аптечки, навело вас на мысль о возможности воспользоваться наганом Нифонтова. Ведь другим оружием, не огнестрельным, вы бы не справились с Мямлиным. Кассир молчал. Он чудовищно, смертельно устал. Пот заливал глаза, туманил стекла очков. Он сидел полуслепой, не в силах сделать ни одного движения, снять и протереть очки, вытереть пот. Он был сломлен, уничтожен. И ему теперь все было все равно. — Еще вопрос, Выходцев. Для чего вы вязали фашины из водопроводных труб? Хотели бросить тень на Андрея Силыча? — Я… Я не думал, что пуля попадет к вам в руки… Вот, значит, как. Он рассчитывал, что пуля пройдет навылет. Он не хотел стрелять из прошлого. Он боялся прошлого. Но старенький наган подвел. И «убийства из ревности» не вышло. С тех пор как Степан Николаевич узнал о гибели детей в домике лесника, его не оставляла мысль: кто же эти люди, что решились на такое? Позднее, когда связь этой трагедии с гибелью Мямлина стала для него очевидной, мысль трансформировалась. «Как могли решиться эти люди, этот человек?..» И сегодня, допрашивая Выходцева, он все время искал в его словах, манере говорить, держаться, в жестах, взгляде, каждом движении, оттенке голоса — во всем облике ответ на этот вопрос. Но этот вопрос он не задал Выходцеву. Он искал на него ответ сам. Их ослепил блеск рузаевского клада… Все началось с уроков «аристократа духа» и Ивонны Рузаевой. Впрочем, нет. Раньше. С рузаевского клада и смерти купца. Нет, еще раньше. С брака юной Ивонны со стариком Рузаевым. И тоже нет. Раньше. Раньше все это началось. А потом на все это наслоилось и неравный брак, и скоротечный роман Ивонны с доктором Выходцевым, и смерть купца, Да, много всего было. И были дети. Семнадцать ребятишек. Они погибли от голода и жажды. И была убита гаечным ключом Анютина бабка… Все это было. А кончилось… Кончилось полтора месяца назад на дорожке между Нылкой и Мызой, на безымянном болоте. Сколько людей заплатили жизнью за призрачный блеск рузаевских сокровищ… Сколькими искалеченными жизнями оплачена погоня за этими сокровищами… Вот Выходцев. Более тридцати лет он жил двойной жизнью. Сегодня Кириллов опять вспомнил слова Леснева-старшего о Выходцеве. «Он мог бы далеко пойти, заправлять отделом в министерстве…» Вспомнил и поверил. Да, были у этого человека и способности, и цепкий ум, и сила характера. Были… Но все ушло как вода в песок… Все постепенно, незаметно было разрушено, изъедено ложью, преступными делами и помыслами. И злобой, злобой, злобой… Иссушающей, лютой. Понял ли он, что жизнь его могла бы быть иной — интересной, яркой, умной, деятельной… Понял ли он, что вся жизнь прошла словно в подполье… Понял? Кириллов склонен был считать, что да, понял. Но об этом он решил спросить его завтра. И еще он ему завтра скажет, что, если бы пуля и прошла навылет, все равно убийства из ревности ему, Выходцеву, не удалось бы построить. Ему не удалось бы это. Ведь он стрелял из прошлого… А мосты в прошлое нельзя ни сжечь, ни взорвать, ни обойти.




















Последние комментарии
2 часов 24 минут назад
2 часов 27 минут назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад